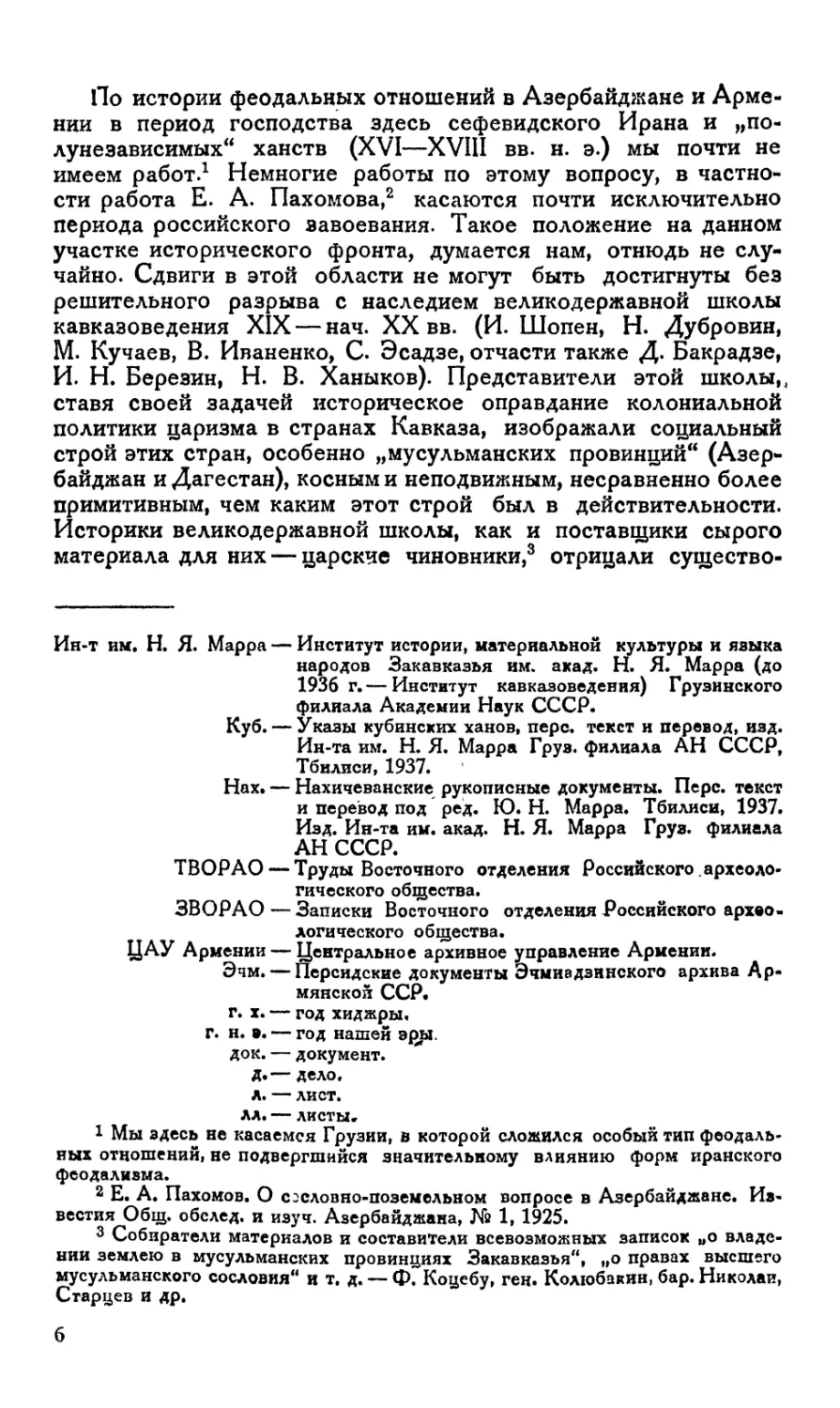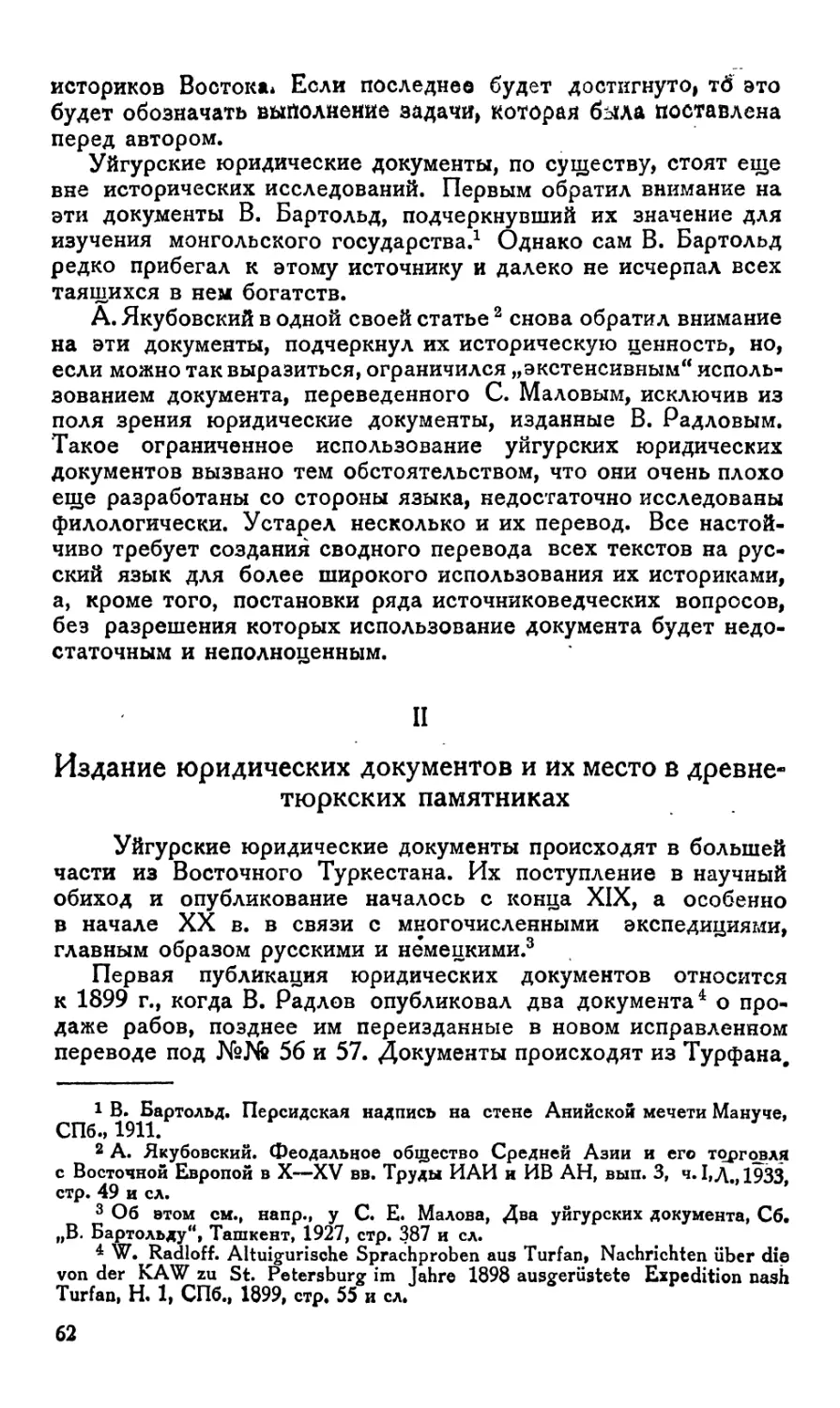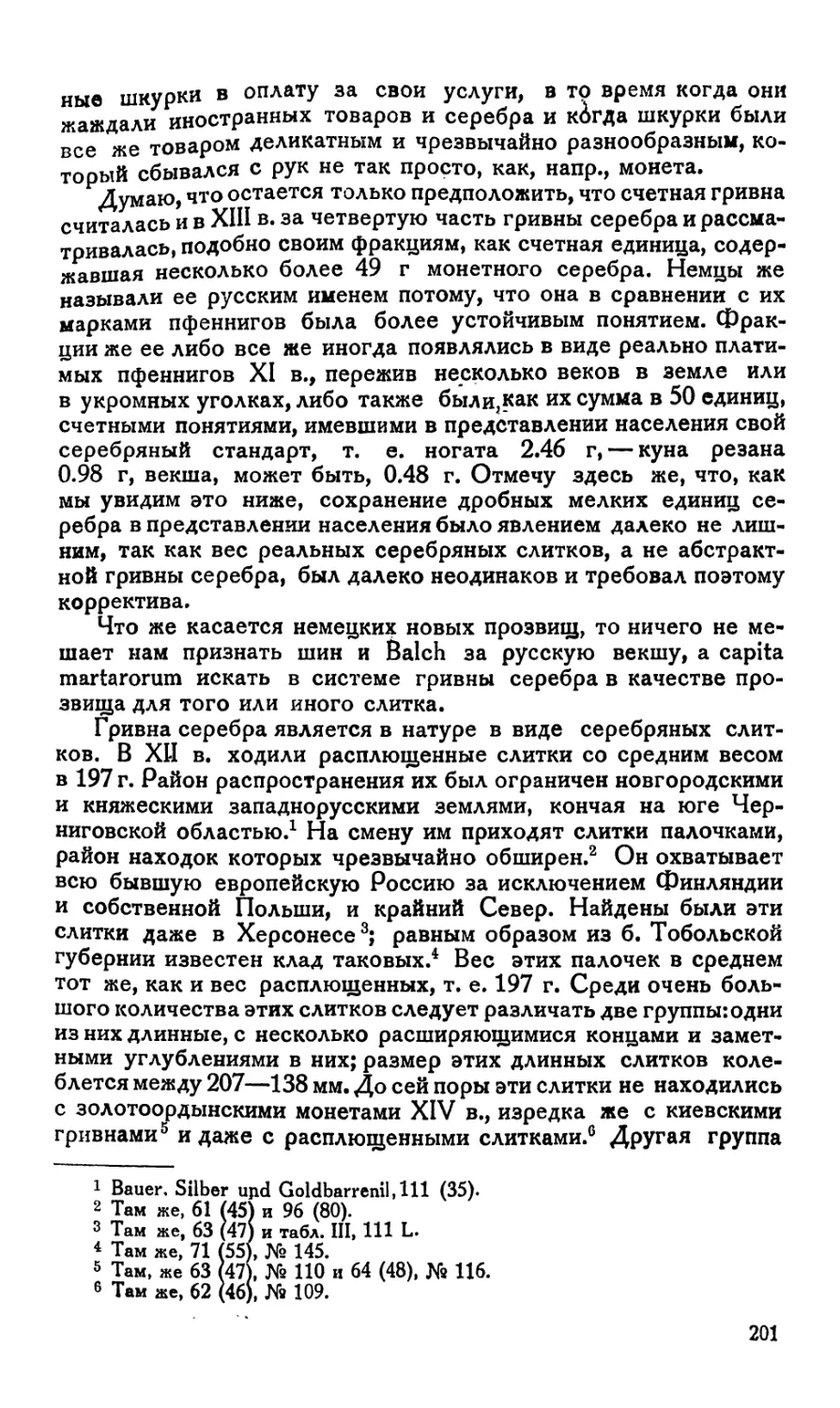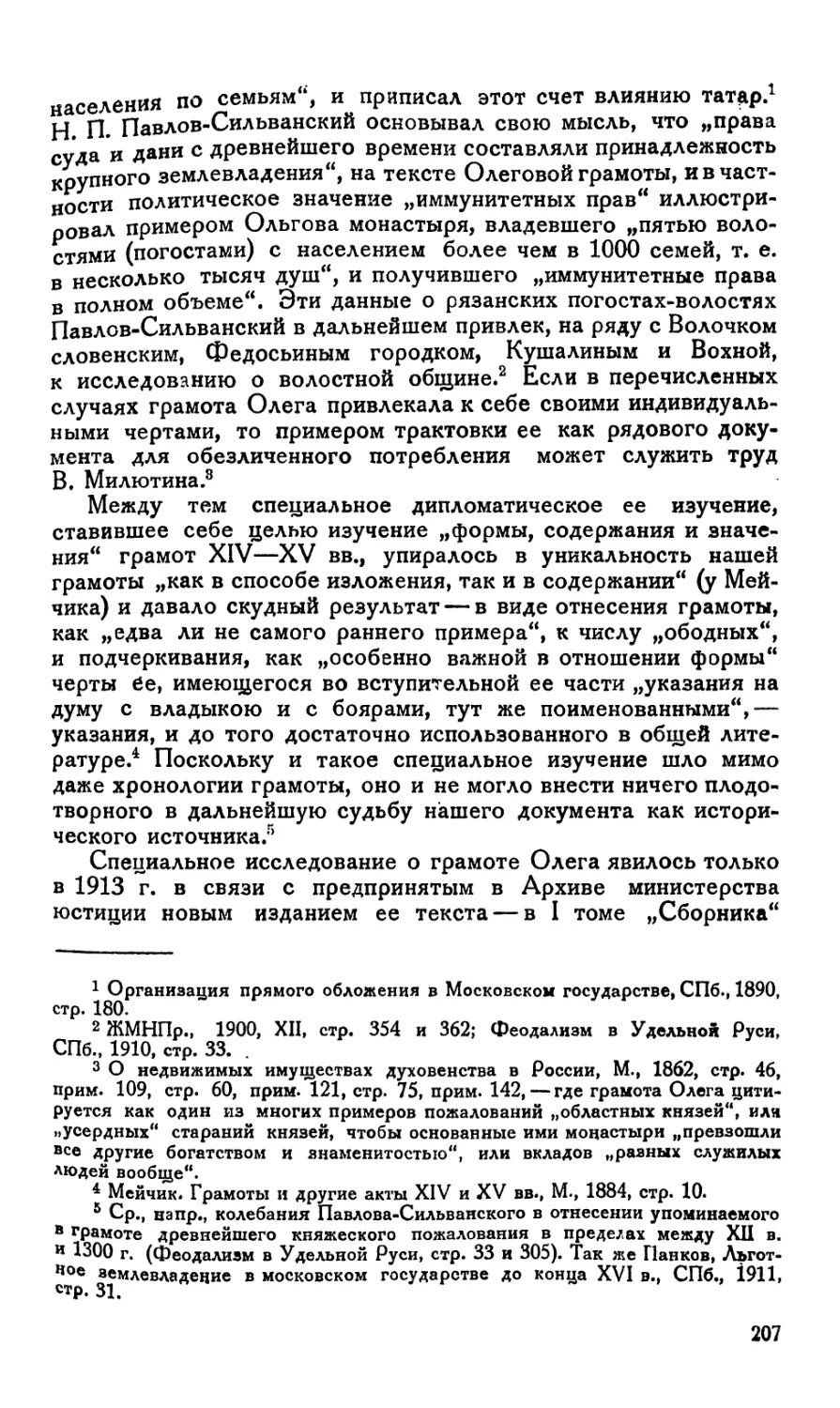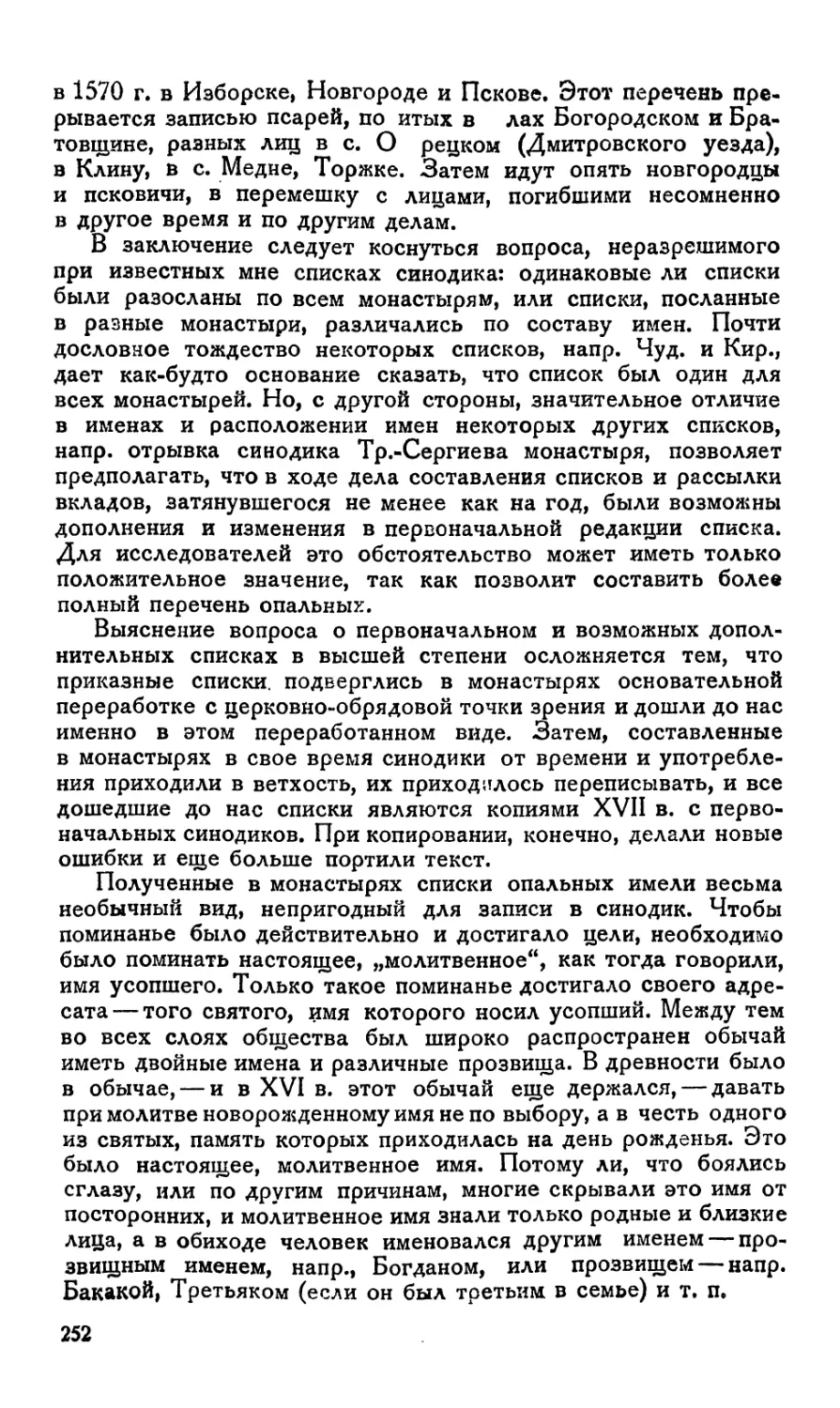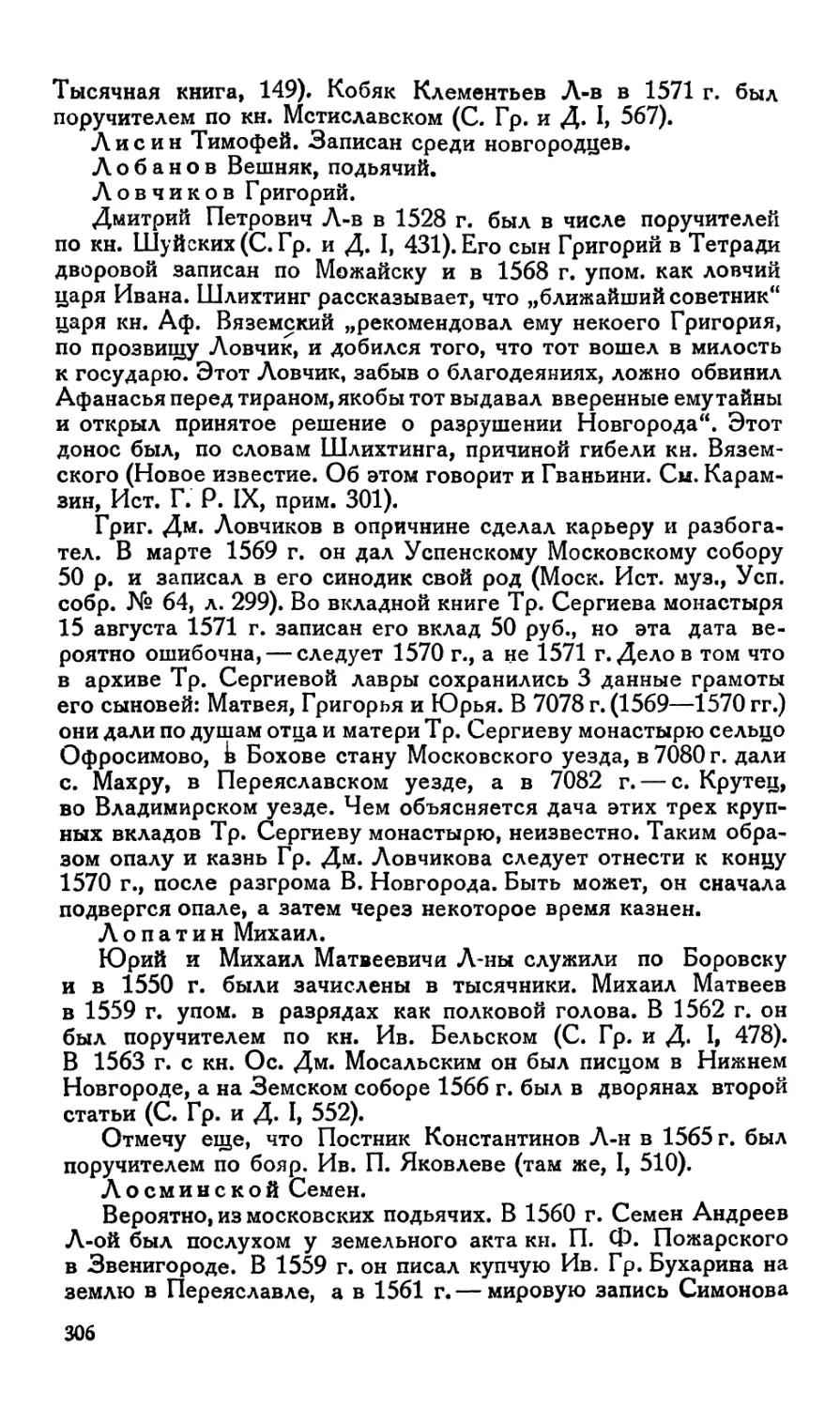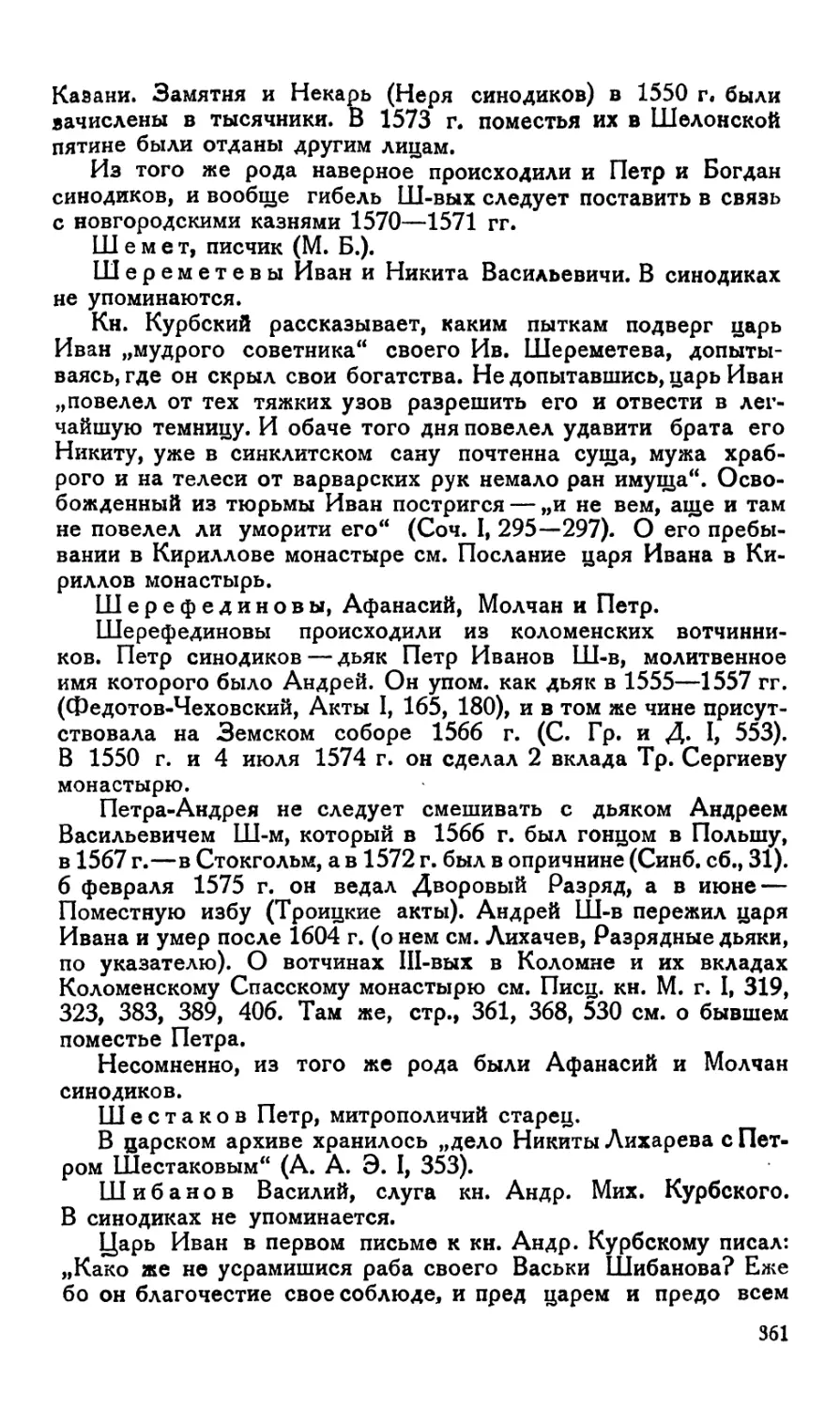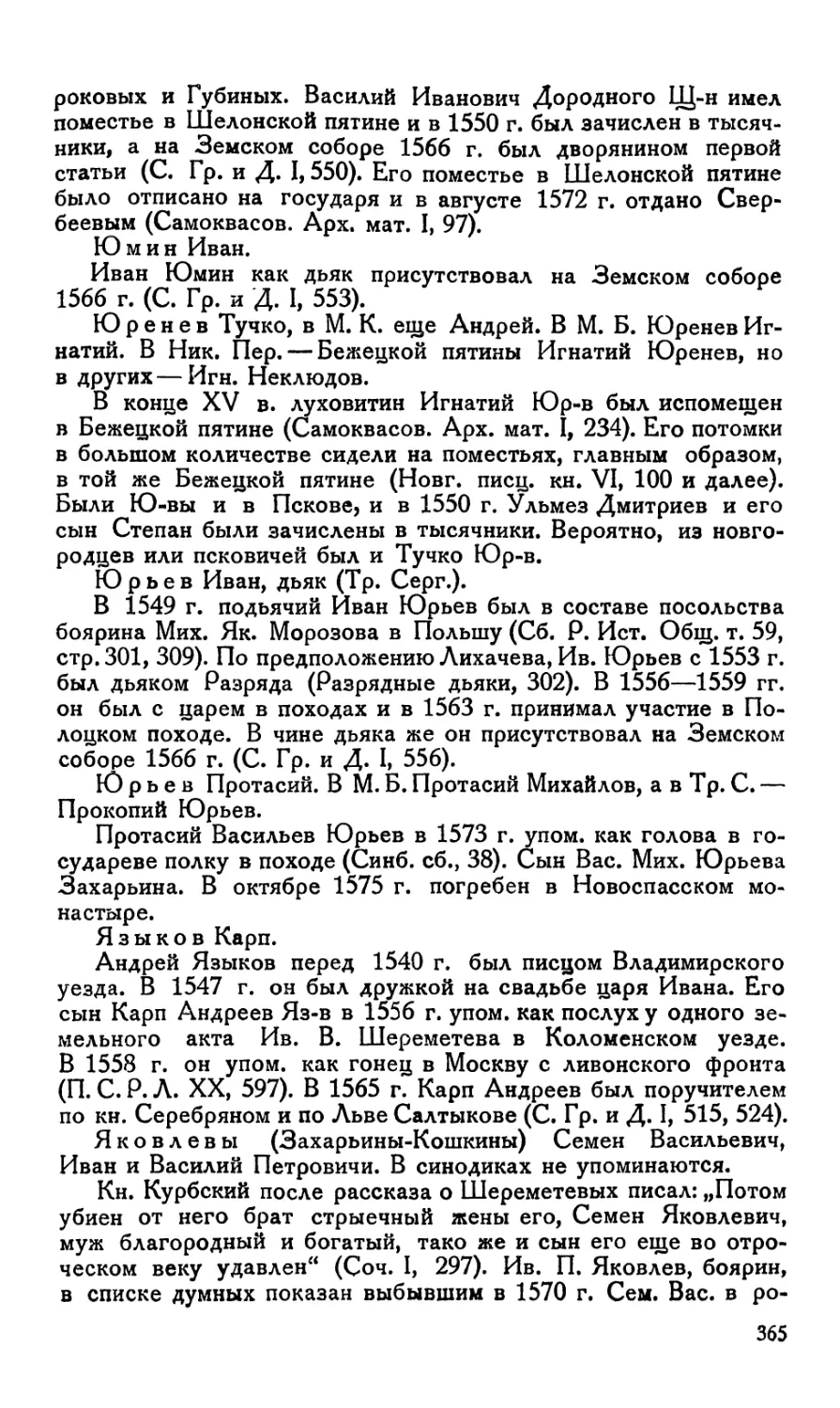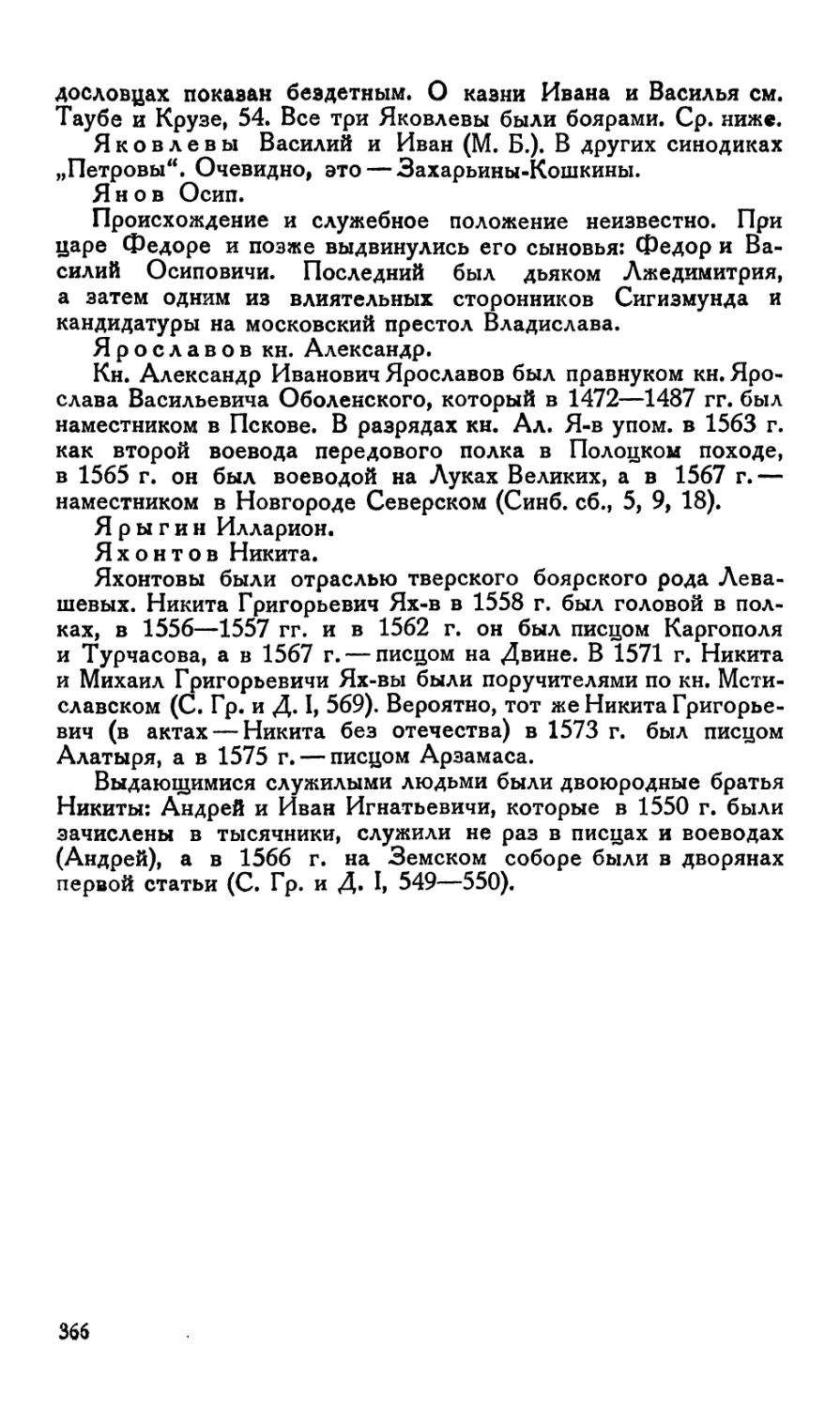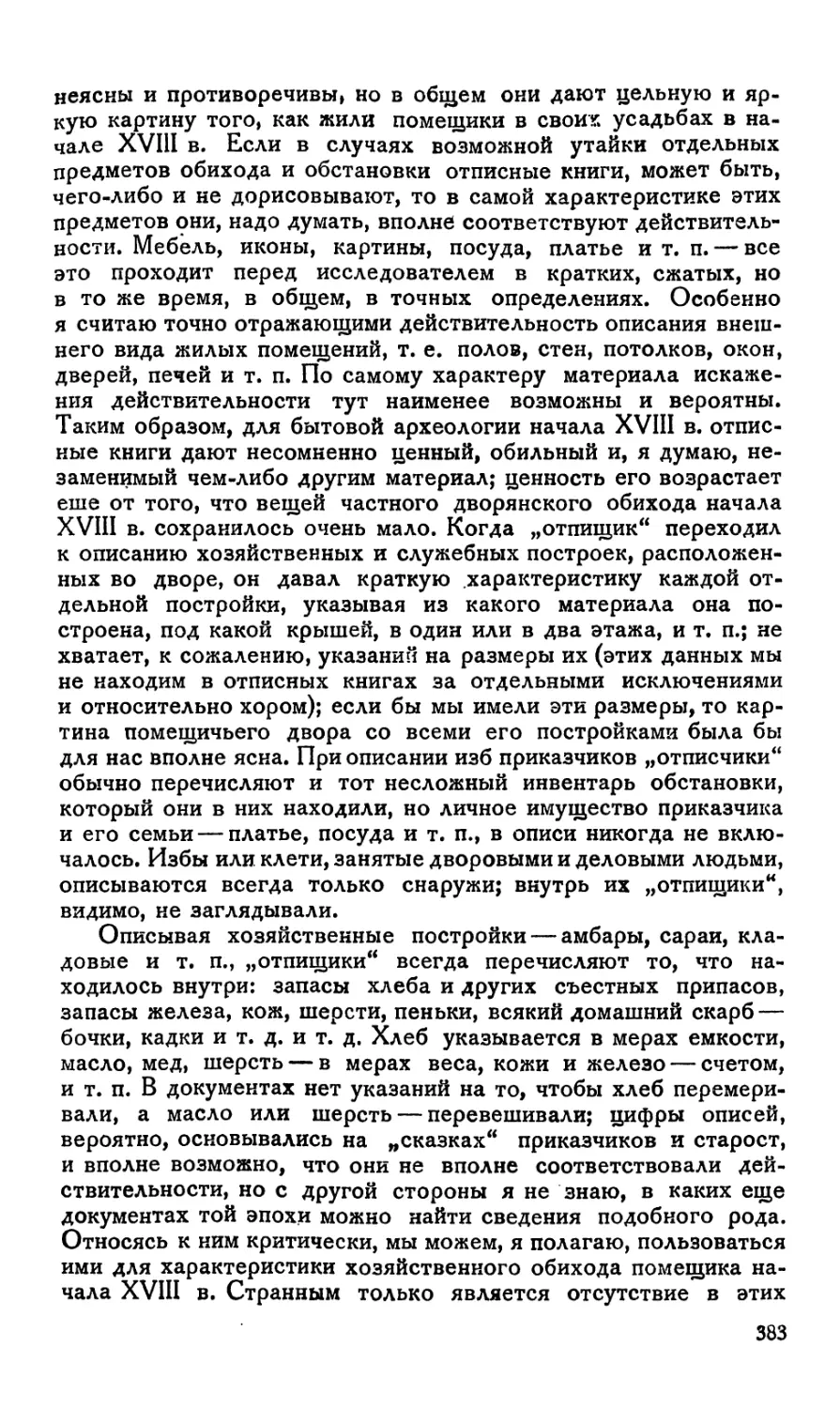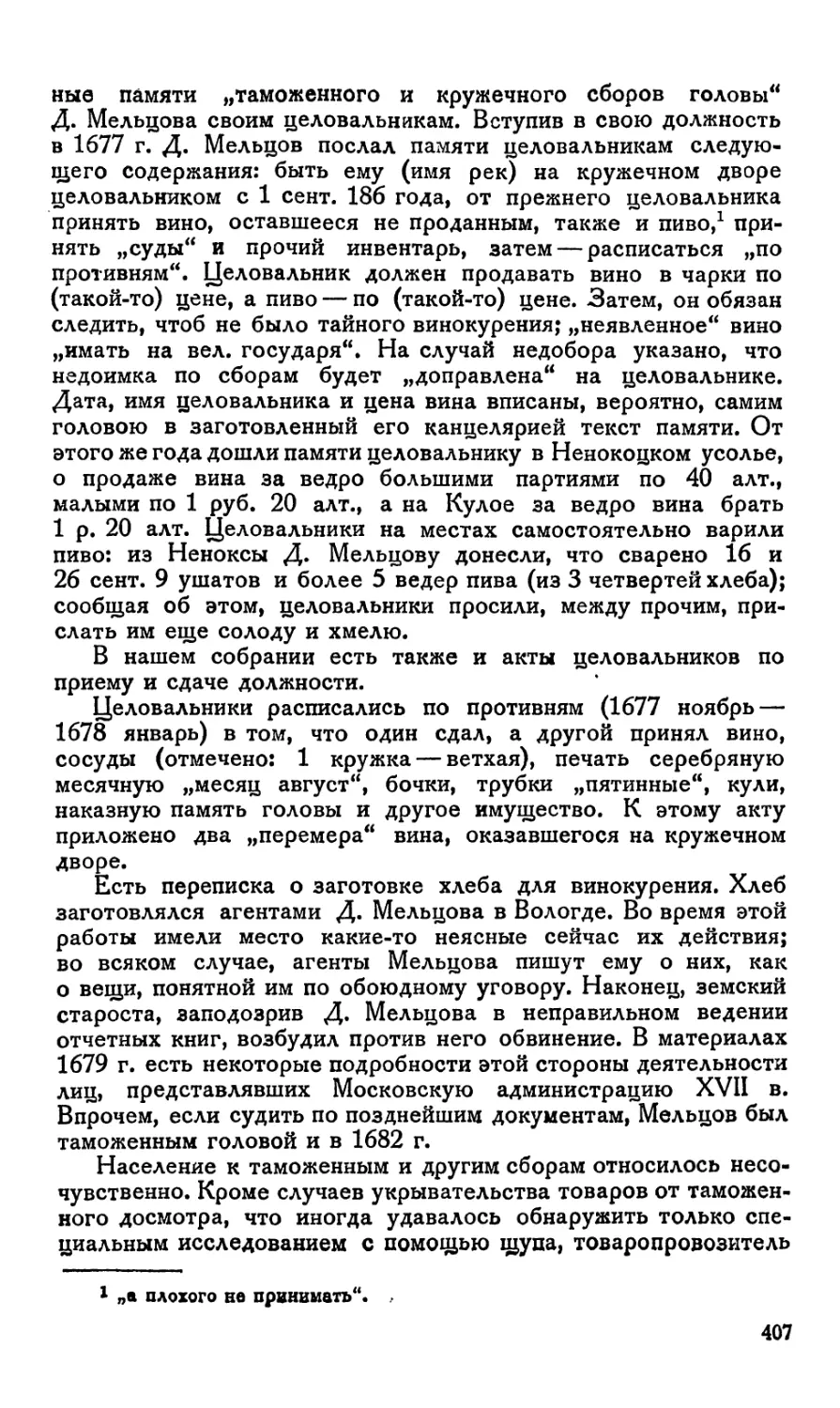Author: Валк С.Н. Греков В.Д.
Tags: статьи источниковедение сборник методологические вопросы виды документов материалов по фондам
Year: 1940
Text
ТРУДЫ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР
ПРОБЛЕМЫ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
СБОРНИК ТРЕТИЙ
Издательство академии наук сссй
МОСКВА . 1940 • ЛЕНИНГРАД
Редакторы издания акад. Б. Д. Греков я С. Н, В а л к
збережено для icropiT - balik2
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
И. П. Петрушевский. Персидские официальные документы XVI — нач. XIX вв. как источник для истории феодальных
отношений в Азербайджане и Армении 5
М. М. Вяткин. „Сказки“ XVIII в. как источник для истории
Казахстана 45
А. Н. Б е рн ш там. Уйгурские юридические документы 61
А. И. Андреев. Труды Семена Ремезова по географии и этнографии Сибири 85
Н. А. Максименко. Московская редакция Русской Правды . . 127
Г. Л. Г еиерманс. Татищевские списки Русской Правды .... 163
Н. П. Бауэр. Денежный счет в духовной новгородца Климента
и денежное обращение в северо-западной Руси в XIII в. . . . 175
Б. А. Романов. Элементы легенды в жалованной грамоте
в. кн. Олега Ивановича Рязанского Ольгову монастырю . . . «205
М. Н. Тихомиров. О Вологодско-Пермской летописи 225
С. Б. Веселовский. Синодик опальных царя Ивана как исторический источник 245
К. В. Сивков. Отписные книги начала XVIII в. как исторический
источник 367
Сообщения
В. А. П архоменко. Следы половецкого эпоса в летописях . . 391
Ю. И. Гессен. Источник одной из статей Уложения 1646 г. . . 394
М. Н. Тихомиров. Крестининский список Русской Правды. . . 398
В. М. Неклюдов. Обзор актов Холмогорской таможенной избы
XVII в 401
Е. Н. К у ш е в а. Об одной дореволюционной публикации документов по истории Средней Азии . . * . 409
3
И. П. ПЕТРУШЕВСКИЙ
ПЕРСИДСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ XVI-НАЧ. XIX вв. КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИСТОРИИ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И АРМЕНИИ1
Двадцать лет социалистического строительства обогатили советскую историографию немалым количеством исследовательских работ. Не приходится доказывать, насколько достижения советской исторической науки, в частности востоковедной истории, значительны. Но то, что сделано в области разработки истории стран Кавказа, отвечает ли задачам, стоящим ныне перед советской наукой? На поставленный так вопрос дать утвердительный ответ было бы невозможно. В особенности это приходится сказать об основных проблемах историографии стран Кавказа: проблемы генезиса, стадиального развития, специфики феодальных обществ этих стран все еще разработаны крайне недостаточно. Это положение сохраняет силу даже относительно таких стран, как Грузия и Армения, историческая литература по которым, казалось бы, насчитывает очень солидное число трудов и представлена именами крупных ученых. Тем более это приходится сказать об Азербайджане, Дагестане, ряде народов Северного Кавказа, научная разработка истории которых началась в сущности уже после Октябрьской революции. И это в то время, как в области тех же проблем истории стран Средней Азии в наши дни сделано много больше; достаточно указать здесь на послеоктябрьские работы по феодальным отношениям Средней Азии акад. В. В. Бартольда, А. Ю. Якубовского, П. П. Иванова и др.
1 Список сокращений
Аз ЦАУ — Азербайджанское центральное архивное уйравлёние.
АКАК — Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Архив главного управления наместника кавказского* Под ред. Ад. Берже, 12 томов, Тифлис, 1866 и сл. гг.
Ерев. — Персидские документы Ереванского архива Армянской ССР.
ИВ АН — Институт востоковедения Академии Наук СССР.
5
По истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в период господства здесь сефевидского Ирана и „полунезависимых“ ханств (XVI—XVIII вв. н. э.) мы почти не имеем работ.* 1 Немногие работы по этому вопросу, в частности работа Е. А. Пахомова,2 касаются почти исключительно периода российского завоевания. Такое положение на данном участке исторического фронта, думается нам, отнюдь не случайно. Сдвиги в этой области не могут быть достигнуты без решительного разрыва с наследием великодержавной школы кавказоведения XIX — нач. XX вв. (И. Шопен, Н. Дубровин, М. Кучаев, В. Иваненко, С. Эсадзе, отчасти также Д. Бакрадзе, И. Н. Березин, Н. В. Ханыков). Представители этой школы,4 ставя своей задачей историческое оправдание колониальной политики царизма в странах Кавказа, изображали социальный строй этих стран, особенно „мусульманских провинций“ (Азербайджан и Дагестан), косным и неподвижным, несравненно более примитивным, чем каким этот строй был в действительности. Историки великодержавной школы, как и поставщики сырого материала для них — царские чиновники,3 отрицали существо-
Ин-т им. Н. Я. Марра — Институт истории, материальной культуры и языка народов Закавказья им. акад. Н. Я. Марра (до 1936 г.— Институт кавказоведения) Грузинского филиала Академии Наук СССР.
Куб. — Указы кубинских ханов, перс, текст и перевод, изд. Ин-та им. Н. Я. Марра Груз. филиала АН СССР, Тбилиси, 1937.
Нах. — Нахичеванские рукописные документы. Перс, текст и перевод под ред. Ю. Н. Марра. Тбилиси, 1937. Изд. Ин-та им. акад. Н. Я. Марра Груз, филиала АН СССР.
ТВОРАО — Труды Восточного отделения Российского археологического общества.
ЗВОРАО — Записки Восточного отделения Российского археологического общества.
ЦАУ Армении — Центральное архивное управление Армении.
Эчм. — Персидские документы Эчмиадзинекого архива Армянской ССР.
г. х. — год хиджры, г. н. в. — год нашей эрь1. док. — документ,
д.— дело, л. — лист, лл. — листы.
1 Мы здесь не касаемся Грузии, в которой сложился особый тип феодальных отношений, не подвергшийся значительному влиянию форм иранского феодализма.
2 Е. А. Пахомов. О сэсловно-поземельном вопросе в Азербайджане. Известия Общ. обслед. и изуч. Азербайджана, № 1, 1925.
3 Собиратели материалов и составители всевозможных записок „о владении землею в мусульманских провинциях Закавказья“, „о правах высшего мусульманского сословия“ и т. д. — Ф, Коцебу, ген. Колюбакин, бар. Николаи, Старцев и др.
6
ваьие феодальных отношений и частного землевладения в Восточном Закавказье (в бывших владениях Ирана и позднее в полунезависимых ханствах) до присоединения к России. Эта тенденция великодержавной кавказоведной истории и ее предшественников — чиновников - „исследователей“ — увязывалась с тенденцией политики царского самодержавия в отношении „мусульманских“ феодалов Азербайджана и б. иранской Армении и с колебаниями этой политики в течение XIX в. Точка зрения великодержавной историографии должна была оправдать проведенные царизмом в 20—30-х гг. XIX в. массовые земельные конфискации у представителей „высшего мусульманского сословия“, примыкавших к враждебным царизму иранской или турецкой ориентациям, равно как и массовую раздачу земель бекам, примкнувшим к российской ориентации, и насаждение новых кадров беков из агентов царских колонизаторов. То и другое царские власти оправдывали утверждением, будто в „мусульманских провинциях Закавказья“ не было признанного законом частного землевладения, а беки были лишь чиновниками, „управлявшими селениями“;1 утверждали, будто здесь до присоединения к России вообще не было никаких законов, — их заменял произвол ханов.2 После долгих колебаний и после неудачных попыток „укоренения“ в Восточном Закавказье „природного российского дворянства“3 царизм с половины 40-х гг. XIX в. решительно стал на путь примирения с „высшим мусульманским сословием“ в целом. Акты 1846— 1851 гг. закрепили за „высшим мусульманским сословием“ владение землями на правах полной собственности и юридически оформили крепостнические порядки в Азербайджане и Армении, существовавшие фактически и до того. Эти акты великодержавной историографией изображались так, как будто царизм облагодетельствовал беков, дав им впервые права, которых у них раньше не было.
Выводы кавказоведов великодержавной школы воскресили, прикрыв их псевдомарксистской фразеологией, сторонники так наз. теории азиатского способа производства. Концепции эти были очень близки к достаточно известным уже, пронизанным контрреволюционными троцкистскими установками, „теориям“, уже разоблаченным в советской научной литературе.
1 Сенатор бар. П. Ган, напр., особенно упорно отстаивал идею, что „беки, как и агалары, не суть владельцы, а только полицейские управители вверенных им деревень“, ЛОЦИА, фонд Кавказского комитета, 1841 г., д. Na 671, *л* 5 и сл.
Na 33 * НаП*>” Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК), т. IX,
10о 8 См. проекты 1833 и 1840 гг., ЛОЦИА, фонд Кавк. комитета, д. Na 2 1834 г., лл. 7—171 и д. Na 15,1837 г., лл. 62—98об.
7
Тенденции и приемы великодержавной историографии все еще не вполне изжиты. И в сравнительно новых работах иногда встречаются следы традиции великодержавной историографии, утверждения, что в Армении и Азербайджане не было крепостничества, и беки были только чиновниками, а не землевладельцами.1 И это после ясных высказываний И. В. Сталина о том, что „Тифлисская, Елисаветпольская, Бакинская губернии до сих пор изобиловали крепостническими татарскими беками и феодальными грузинскими князьями, владеющими огромными латифундиями, располагающими специальными вооруженными бандами и держащими в своих руках судьбы татарско-армянско- грузинских крестьян".2
Местная буржуазно-националистическая историография также стремилась затушевывать существование феодальных отношений и классовых противоречий в XVI — нач. XIX вв.
В отмеченной нами выше работе Е. А. Пахомова выводы великодержавной и местной буржуазно-националистической историографии подвергнуты критике. Однако и эта работа основана, главным образом, на тех же официальных архивных документах XIX в., на которых основывались и авторы великодержавной школы. Между тем, преодоление в полной мере остатков наследия великодержавной историографии едва ли возможно только на почве изучения официальных документов периода господства царизма. Не надо забывать, что материалы эти собирались и зачастую составлялись царскими чиновниками. Не зная местных языков, исторических источников и социальной терминологии, отражая колебания аграрной политики царизма на Кавказе, эти чиновники иногда сознательно, иногда бессознательно путали и извращали собираемые ими сведения и статистические данные. Материалы камеральных описаний, всевозможных „докладных записок", протоколов „бекских комиссий" и т. д. большею частью безнадежно запутаны царскими чиновниками. По этим материалам невозможно, напр., составить правильное представление о соотношении между казенными и частновладельческими землями в „мусульманских провинциях" Закавказья в первые десятилетия владычества здесь царизма: в разных камеральных описаниях (напр. в описаниях бывшего Карабагского ханства 1823 и 1837 гг.), более того, в разных документах одних и тех же годов одни и те же селения именуются то „бекскими", то „государственными, отданными в управление бекам", а владельцы селений (одни и те же лица) именуются то собственниками, то „временно управляющими
1 См., напр., С. Маркосян, Колониальная политика царизма и армяне в XVIII в., Борьба классов, 1936, №11.
2 И. В. Сталин. Контрреволюционеры Закавказья под маской социализма. „Сборник статей“ И, В. Сталина, Партиздат ЦККП(б) Грузии, 1935, стр. 18—19«
внями“. Использование этих материалов как исторического источника по феодальным отношениям стран Закавказья возможно только на основе проверки этих материалов данными местных источников периода до российского
завоевания.
Местные нарративные источники (персидские, армянские, для самого конца XVIII — нач. XIX вв. — в известной мере и азербайджанские) для исследования феодальных институтов в полунезависимых* ханствах Азербайджана и Армении, разумеется, далеко не достаточны, — они касаются социальных отношений лишь мимоходом. Но и нарративные источники были использованы в литературе лишь в незначительной степени, хотя еще акад. В. В. Бартольд указывал на исключительную ценность труда историографа шаха 'Аббаса I — Искендера Мунши— для истории стран Закавказья.1 Что касается документальных источников, то, не говоря уже о том, что лишь небольшая часть их до недавнего времени была опубликована, даже и то, что было опубликовано, также почти не привлекало внимание исследователей. В наши дни слабое внимание к местным источникам является пережитком традиций и приемов великодержавной историографии.2
Основные документальные источники по интересующей нас проблеме — персидские официальные документы XVI — начала XIX вв.: языком официальных актов в закавказских ханствах вплоть до присоединения их к России и даже некоторое время после него оставался персидский; этот язык, непонятный массе азербайджанского так же как и армянского крестьянства, здесь играл роль классового языка феодальной верхушки. Нам кажется уместным подчеркнуть здесь один важный момент —
1 См. В. В. Бартольд, Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира, Баку, 1925, стр. 110, 123. — До настоящего времени мы не располагаем критическим изданием труда Искендера Мунши „Тарих-и 'алем арай-и ’Аббаси“ („Украшающая мир история ’Аббасова“), имеется лишь далеко неудовлетворительное издание 1314 г. хиджры (Техран, литограф, изд. Мирзы Махмуда).
2 Пример недостаточной оценки местных источников мы находим и в одной из совсем недавних работ по истории Кавказа — в оаботе Н. И. Покровского „Источники по истории имамата“ (Проблемы источниковедения, сборник II, изд. Акад. Наук СССР, 1936, стр. 187—234). Автор, говоря об арабских источниках (вернее, о русских переводах их) по истории Шамиля и дагестанского суфизма и мюридизма, считает, что эти источники значительно обесценены тем, что „проникнуты магометанским религиозным духом“ и „страдают отсутствием критического подхода к сообщаемым ими фактам * (стр. 219). Как будто можно требовать от какого бы то ни было исторического источника, чтобы он был чужд идеологии или влияния современных общественных течений (в данном случае — дагестанского „мюридизма“, идеология которого сложилась под.влиянием среднеазиатских мистиков-накш- бандиев, в чем напрасно сомневается Н. И. Покровский)? И как будто науч ный анализ любой идеологии, в частности и религиозной, и критический подход к фактам, сообщаемым источниками, не дело исследователя-мар- коиста?
9
значение этих документов и для истории Ирана. Как ни мало пока изучены феодальные отношения этого периода в Азербайджане и кавказской Армении (входившей в состав Иранского государства), невозможно отрицать, что здесь сложился тип феодальных отношений, довольно близкий к тому типу, который господствовал в Иране. Напротив, в Дагестане и в Грузии мы имеем дело с особыми типами феодализма.
Специфические черты восточно-закавказского типа феодализма можно проследить уже в период монгольского владычества (XIII—XIV вв.): 1) устойчивость сельской общины (обозначавшейся арабским термином джама'ат), общины чаще всего подневольной, зависимой, и в связи с этим известная застойность аграрного строя; 2) незначительные размеры, нередко и полное отсутствие, господских хозяйств у феодалов; 3) распространение разных форм издольной аренды; 4) формы полу- патриархальных, полуфеодальных отношений,1 особенно в среде кочевых племен. Внутри племенных объединений кочевников (тюрк, „иль“, арабизованное множ. число — „илят“) верхушка знати обособилась от массы зависимых людей. Земли, населенные оседлым и полуоседлым земледельческим населением, раздавались сплошь и рядом представителям кочевой знати. Главы кочевых племен (иль-беги, таифэ-баши, абу-л-джамс) — азербайджанских и вообще тюркских и курдских — оказывались династами во многих местных ханствах и меликствах и распорядителями значительной части земельного фонда. Общность специфических черт феодальных отношений в ханствах Азербайджана и Армении очевидна. Вместе с тем персидские фирманы XVI — нач. XIX вв., относящиеся к Закавказью, могут в немалой степени служить источником и для изучения иранского феодализма данного периода, тем более, что архивы Ирана докаджарского периода не сохранились.
Можно выделить две группы персидских документальных источников, относящихся к Закавказью: 1) фирманы иранских шахов и документы, исходившие от центрального правительства Ирана, 2) документы, вышедшие из канцелярий местных ханов. Ценность этих двух групп источников неодинакова.
Фирманы шахов Сефевидов и их преемников (Афшары, Зенды, Каджары) как источник до настоящего времени не встречали достаточно критического отношения со стороны исследователей. Установить значение этих документов как источника по феодальным отношениям можно лишь разрешив вопрос о том, тенденции каких социальных групп (в частности каких групп класса феодалов) отражены здесь. Фирманы Сефевидов, как и труды развившейся в Иране придворной историографии (вакаис нависи), выходили из-под пера слуг и идеологов
1 См. об этом у И. В. Сталина, Марксизм и национально-колониальный вопрос, Партиздат, 1937, стр. 70, 80.
10
Ново-Иранского (Кизилбещского) государстве, иными словами, служило* знати, обязанной своим происхождением государственной службе и связанной интересами с центральным правительством и его аппаратом. Политическая линия Сефевидов может быть понята, если исходить от той исторической обстановки, которая привела их к власти. Мы решаемся здесь высказать— пока в виде гипотезы — мысль, что сефевидско-кизил- башское движение, возникшее в Азербайджане в половине XV в., первоначально было направлено против диктатуры верхушки старой феодальной знати, следовательно, против форм государственности, сложившихся в Иране в период господства сельджуков и монголов.
На первоначальном своем этапе сефевидско-кизилбашское движение выражало,.повидимому, интересы средних и мелких феодалов и отчасти купечества. Сефевиды, видимо, пытались использовать, в целях достижения власти, борьбу крестьян и ремесленников Ирана против старой феодальной верхушки, однако, без большого успеха. Главной опорой Сефевидов, впрочем, были некоторые кочевые племена, боровшиеся против правивших в западном Иране туркменских ханов Ак-койюнлу. В Азербайджане Сефевиды выступали, как жадные и грубые завоеватели. Государство ширванша- хов в северном Азербайджане им удалось завоевать после долгой борьбы в 1538 гв> но прочно они утвердились здесь лишь, после подавления целого ряда восстаний азербайджанцев, к 1553 г.
В созданном после победы кизилбашского движения (1502 г.) Ново-Иранском государстве довольно быстро сложился слой новой феодальной знати, которая одна лишь и выиграла от победы движения, — низшие классы, разумеется, ничего не добились. Ново-Иранская монархия была государством иного типа, чем государственные образования XI—XV вв. (сельджуки, монголы, Тимуриды, туркменские династии). Сефе- видское государство, являясь выразителем интересов феодального класса, в то же время опиралось на купеческий капитал, связанный с международным товарооборотом. В значительной мере Сефевиды выступали в роли организаторов караванной и морской торговли; купцы — персидские, армянские — выступали зачастую в роли их контрагентов. Вместе с тем сефевид- ское правительство стремилось к созданию абсолютного централизованного государства. Новая служилая знать, заинтересованная в сокрушении или, по крайней мере, в обуздании уцелевших (особенно в сев. Азербайджане и прикаспийских областях) остатков старых феодальных владетелей, враждебных Сефевидам и кизилбашам, * боролась против феодальной раздробленности, против монголо-тюркского кочевого права, поддерживала теорию основанного на шариате централизованного абсолютного государства якобы „старо-иранского типа", тра-
1J
*иции которого возводились к эпохе халифата и даже Сасани- дов. Но полностью осуществить задачу создания централизованного государства сефевидскому правительству не удалось. А в конце XVII в. Иран и сопредельные страны пережили тяжелый хозяйственный кризис, отчасти в связи с тем, что транзитная караванная торговля с европейскими странами утратила прежнее значение. Иран пережил новый упадок центральной власти и новую победу феодальной государственной раздробленности, которая, впрочем, и в пору наибольшего могущества Сефевидов никогда не была вполне преодолена.
Отсюда следует, что теория абсолютного централизованного государства никогда не соответствовала в полной мере живой действительности, а с конца XVII — нач. XVIII вв. она превратилась в идеологический пережиток. Однако правительство шахов Ирана упорно держалось за этот пережиток, и централистические тенденции нашли себе отражение и в придворной историографии (вакаи' нависи) и в официальных актах, вышедших из сефевидских канцелярий. Поэтому фирманы и ракамы (указы) шахов Ирана не выражают вполне существовавших в живой действительности отношений. Историк, пользуясь этими фирманами как источником, должен отнестись к ним критически, должен уяснить себе условный характер их терминологии и технических выражений, памятуя, что буквальное истолкование последних равнялось бы наименее точному пониманию их.
В этих документах игнорировалось существование феодальной раздробленности. Указы шахов Ирана, как правило, не упоминали о местных ханах, султанах и других владетельных феодалах. Наследственные местные ханы рассматривались как наместники и чиновники центрального правительства и официально именовались так. Крупнейшие вассалы иранского шаханшаха — цари Картлии или Кахетии — именовались „вали («наместник») Гурджистана (Грузия) картильского" или „вали Гурджистана кахетийского“. Ханы Азербайджана и Армении официально именовались менее почетным титулом наиба (араб, термин, в том же значении „наместника") или правителями (хаким — араб, термин, еще при монголах употреблявшийся в двояком значении — наместника центрального правительства и местного наследственного князя);1 напр., наследственного хана нахчаванского (в нын. Нахичеванской авт. ССР) из азербайджанского полукочевого племени Кенгерлю именовали
1 См., напр., у Хамдаллаха Казвини, Tarikh-e gozide, ed. Gantin, 1.1, texte pers., p. 542, о хакиме Хаджа Садр-ад-дине Абхари, монгольском наместнике Кирмана, рядом с которым упоминается местный князь Мухаммед-шах из династии кара-хитаев Кирмана. Но тот же Хамдаллах прилагает термин „каким“ и к княжеским династиям — Сельджукам Кирмана (ibid., р. 330), атабе- кам Аура (ibid., р. 555) и т. д. — Ср. у Рашид-ад-дина, История Чингиз-хана, изд. И. Березина, ТВОРАО, XV, перс, текст, стр. 136 (об азербайджанском атабеке Узбеке из династии Ильдегизидов).
12
наибом нахчаванским и кенгерлийским“, хана хойского из династии курдских кочевников племени Думбули — „хакимом хой- ским и думбулийским“. Эта условная фразеология упорно удерживалась, и мы встречаем ее и в поздних документах. Уже при Каджарах наследник иранского престола 'Аббас-мирза писал в 1810 г. российскому главнокомандующему в Грузии и Закавказье, ген. Тормасову, об отношениях между иранским правительством и ханом талышским: „ ... Смена начальников в Талыше, назначение их и распоряжение в больших и малых талышских делах до сих пор было от нашего правительства, и в этом смысле Мустафа-хан посредством своей службы иногда назначался туда (в Талыш) начальником, а иногда по причине измены бывал сменяем...“1 В действительности в Иране — не в пример османской Турции— феодальная раздробленность в полной мере никогда не была вполне ликвидирована, и власть местных ханов была неизмеримо больше власти простых чиновников. В частности, талышские ханы, известные по нарративным источникам с XVI в.,2 со второй пол. XVIII в. были фактически независимыми наследственными князьями. Мир-Мустафа-хан талышский (1791—1814 гг. н. э.), сын Кара-хана, правил ханством без перерывов; еще до того, как в 1800 г. он признал себя вассалом России, он мало считался с Ираном и мало заботился о том, признавало ли иранское правительство его „правителем Талыша" или нет.
Сефевиды и Афшары усиленно отстаивали идею (сильно поблекшую при монголах и их преемниках в XIII—XV вв.) государства как единственного собственника земли и неограниченного распорядителя земельного фонда. В начале существования Сефе- видской державы служебная роль этой теории заключалась в том, что она облегчала массовые конфискации земель у старых феодалов — приверженцев свергнутых династией Ак-Койюнлу в южн. Азербайджане, дербендских ширваншахов в сев. Азербайджане и т. д. Позднее (с первой пол. XVII в.), когда процесс обновления состава феодальной знати закончился и новая знать достаточно окрепла, эта теория превратилась в идеологический пережиток. Однако пережиток этот[поддерживался и позднее той группой феодалов, которая была тесно связана с центральным правительством Ирана и его бюрократическим аппаратом, с шахской военной или гражданской службой. Идеология этого слоя знати, далекая от отношений реальной действительности, и отразилась в отмеченной нами группе персидских официальных документов.
1 См. АКАК, т. IV, Кя 1092, стр* 713.
2 См. у Фумини, Тарих-и Гилян, изд. Б. Дорна, Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des Kaspischen Meeres, III Theil, St. ^®Jersburg, 1858, Pers. Text, SS. 24, 28, 32 (о Байяндур-хане талышском, около *560 г. н. э.), 50, 89—93, 190 (об Амирэ-Хамза-ханс талышском, около 1584 г. к сл.) и т. д.
13
Эта теория отразилась и в аграрном законодательстве Сефевидов. Если в XIII—XV вв. известный институт икта' развился в наследственный феод, связанный с пожалованием служилым людям земли, воды и права распоряжения прикрепленными к земле крестьянами (раийятами),1 то в сефевидский период институт тийюля (заменивший икта' еще со времен Тиму- ридов) понимался — по крайней мере официально — в гораздо более ограниченном смысле: фирманы сефевидских шахов понимали под тийюлем только право служилого человека на получение, в виде жалованья2 за службу, доли ренты —налога с определенной местности (в продуктах, деньгами, отчасти и работой), но не право распоряжения землей и ирригационной сетью.
Приведем, в виде примера, выдержку из одного тийюльного пожалования, вполне стандартного по форме и стилю. В фирмане шаха Хусейна от 1122 г. хиджры (1710 г., марта 2 —1711 г. н. э., февраля 18) читаем: „[жалованье] ежегодное3 из статьи [доходов] селения Килоу4 и прочих местностей Дизмара5 6 определено в ежегодное [жалованье] (хамэ салэ) вышеупомянутому (Аллах-Кули-беку). И из повинностей работой (бигар) по приходо-расходной книге Азербайджана подтвердили [за ним те], кои запишут с начала года курицы.* Прежние повинности работой по приходо-расходной книге записаны в танхах7 обладателям государственных ассигновок...“8
Буквальное понимание подобных текстов (вернее, неточных русских переводов их) приводило историков великодержавной школы к утверждению, что беки были не землевладельцами, а только чиновниками, получавшими* долю дохода. Но другие документы того же периода убеждают нас, что если не юридически, то фактически в некоторых случаях (не всегда) пожалование служилому человеку доли ренты-налога означало
1 См. текст указа Газан-хана 1303 г. н. э. у Рашид-ад-дина, рукопись ИВ АН D — 66, лл. 4056—408а; ср. там же л. 3956.
2 Арабск. маваджиб см., напр., в сборнике персидских офи¬
циальных документов („Инша **) Мирзы Махди-хана, техранск. литографиров. изд. 1294 г. хиджры, стр. 77 (указ Надир-шаха на имя мутавади Мирза Риза), стр. 108—109 (указ Надир-шаха о наместничестве Хератском) и др.
3 Хамэ салэ (перс., 4JL<o^*Jb) — технический термин, обозначавший особый вид тийюля, дававший служилому человеку право на ежегодное жалованье под условием удостоверения о действительном присутствии на службе; при продлении требовалось ежегодное возобновление указа о пожаловании.
* Чтение предположительное.
5 В южном (ныне.иранском) Азербайджане.
6 По турецкому двенадцатилетнему звериному циклу.
7 Один из синонимов термина “тийюль“, известный и в Средней Азии.
8 ПАУ Армении, Ереванск. арх.,неописанн. (по описи Инст.им. Н. Я. Марра
Ne 1/3) LcCwo cJ*^°
14
и владение (временное, пожизненное) землей и крестьянами — ра'яйятами (по крайней мере для некоторых видов тийюдя). Такое несоответствие теории и юридической формы с жизненной практикой не трудно обнаружить, сличая друг с другом разные фирманы, ибо аграрная политика Сефевидов не отличалась строгой последовательностью и устойчивостью.1.
Из документальных источников отмеченной нами категории следует упомянуть на первом месте до сих пор неопубликованную серию сефевидских и афшарских шахских фирманов, относящихся главным образом к Армении и отчасти к Азербайджану (главным образом к районам Карабага, Ганджи и к некоторым местностям южн., нын. иранск., Азербайджана), хранящихся в архиве Эчмиадзинского монастыря (Армянской ССР), в общем до 110 документов.2 Наиболее ранний из документов датирован 955 г. х., месяцем зу-л-ка'да (1548 г. н. декабря 2—&L),3 наиболее поздний — 1162 г. х., месяцем мухарремом (1748 г. н. э., декабря 22—1749 г., января 20);4 особое место здесь занимают несколько каджарских фирманов, наиболее поздний из которых датирован 1264 г. х., месяцем шаввалем (1848 г. н. э., августа 31 — сентября 28).5 От XVI в. дошло очень немного документов; большинство их относится к XVII в., большею частью к периоду царствований шахов 'Аббаса II (1642— 1667 гг. н. э.) и Сулеймана (1667—1694 гг. н. э.); к первой половине XVIII в. относится опять-таки немного документов. Незначительное число документов, оставшихся от XVI в., может быть, объясняется тем, что пожалование каждого шаха, как правило, подтверждалось его преемником, издававшим новый фирман, в котором делались ссылки на фирманы предыдущих шахов. Например, фирман шаха Султан-Хусейна, изданный в 1124 г. X., месяце раби' II (1712 г. н. э., мая 8 —июня 5), подтверждает права и привилегии армянских общин со ссылкой
1 ?15#* напР** указ Сефевида Хусейна 1113 г. х. (1701 г. н. э.), опублико- ванныи (перс, текст и франц. перевод) Н. Ханыковым в „Melanges Asiatiques“, тт Vi' р’ ' *-"74. Ср. также более ранние документы: АКАК, т. И, ämo'cSq /1 с£о*3 Ша?а Т?*маспа I на имя владетеля Цахура Ади-Куркулу- г. х (1562г н.э.);там же, № 8, стр. 1087, фирман шаха Аббаса I на имя * вАЯ ЦахУРа Халнль-бека 1052 г. х. (1642 г. н. э.). В прошении эчмиад- сть™ мон£хов ша*у Сулейману 1091 г. х. (1690 г. н. э., Эчм., № 315) кре- яне сел. Ьагаршапат названы подвластными (Лл-о) „этим обездоленным“
. О*т. е. монахам). Ср. также Шереф-намэ, изд. Вельяминова- Жернова, I860, перс, текст, т. I, стр. 324—325.
ных выполи пеРси^*нн[ документов Эчмиадзинского архива, ранее не описан- npH Vovo^T,HeHa В* 5 г. научн. сотрудниками Института им. Н. Я. Маооа
«%ЙоЖГнаин К8Д- НауК СССР- НуМвраЦИЯ 8Т0* описи ■ Дальнейшем
пев 1Э.ЧН- № 3^> ФиРман шаха Тахмаспа I о подчинении армянских епнеко- Закавказья власти католикоса Михаила.
и льготЛ“» № 3/38, Ф“Рман шаха ‘Адиля (из династии Афшаров) о правах « льготах для монастыря Кара-Килисийя. 1 v
5 Эчм., № 3/46.
на указы и фетвы улемов шиитских (богословско-юридические решения) от ша'бана 1023 г. х. (1614 г. н. э., сентября 6 — октября 4), раджаба 1068 г. х. (1658 г. н. э., апреля 4 — мая 3), джумады JI 1069 г, х. (1659 г. н. э., февраля 24 — марта 24), ша'бана 1071 г. х. (1661 г. н. э., апреля 1—29), зу-л-касды 1079 г. х. (1669 г. н. э., апреля 2 — мая 1) и джумады II 1089 г. х. (1678 г. н. э., июля 21 — августа 18); при этом приведено вкратце содержание перечисленных указов. Можно представить себе, что держатели фирманов, имея на руках более поздние фирманы, не слишком старались сберечь очень ранние фирманы, коль скоро они были подтверждены. В фирмане шаха Сулеймана от рамазана 1082 г. х. (1672 г. н. э., января 1—30), подтвердившем права Эчмиадзинского монастыря на владение вакфом1 в селении Вагаршапат,2 3 мы находим изложение содержания вакфной грамоты, составленной в месяце мухарреме 854 г. х. (1450 г. н. э., февраля 14 — марта 15), т. е. еще времени господства туркменской династии Кара-Койюнлу; самой вакфной грамоты, однако, в данной серии документов нет.
Документы эти даны на имя эчмиадзинского армянского патриарха-католикоса, армянских епископов8 и разных лиц, христиан и мусульман, в том числе азербайджанских феодалов, с которыми Эчмиадзинский монастырь заключал земельные или денежные сделки или вел тяжбы. Многие документы состоят из трех частей, писанных на одном большом листе: прошения на имя падишаха, фетвы (богословско-юридического заключения по существу данного вопроса) шиитских богословов и, наконец, шаханшахского фирмана, заключающего в себе резолюцию на прошение.
Все без исключения документы, не исключая и прошений на имя шаханшаха, написаны на персидском языке, хотя можно допустить, что некоторые прошения составлялись армянскими писцами. Большая часть документов написана смешанным почерком— наста'лик с сильными элементами шикестэ; почерк немногих документов — насх, смешанный с шикестэ и отчасти с рик’а. В деталях почерка разных документов мы видим очень большое разнообразие; в некоторых документах4 * * * пунктуация
1 Арабский термин для обозначения имуществ, завещанных религиозным учреждениям, как мусульманским, так и христианским.
2 Во всех документах как Эчмиадзинский монастырь, так и селение Вагаршапат именуются одним именем — Учь-Килиса или Учь-Килисийя (азерб.- греческ. — „Три церкви“ — т. е. Эчмиадзинский собор, церкви св. Гайяны и св. Рипоимин).
3 В разных документах упоминаются еще католикос Гандзасарский (Албанский) и епископы (халифэ) Нахчавана, Гокчн (монастырь на озере
Севан), Шемахи, Гянджи, Барда'а, Загама. Лори, Анабада (ЬАранц Анапат
в Зангезуре?), Ахтабада (Ахпат?), Мигри, Хойя, Сальмаса, Табрива и др.
* Упомянутый фирман шаха Сулеймана 1082 г. х. (1672 г. н. э.) овакфных
правах Эчмиадзицского монастыря, Эчм., № 3/15; вариант того же фирмана —
№ 3/42,
16
шенно отсутствует. Громадное большинство документов — совер кй< j-ja них имеются заменяющие подписи печати иодлда аха>‘ великого садра, шейх-ал-ислама данной области, ШаХЭаа и других сановников. Наиболее распространенные тра- лаоеты шахских печатей — „Хусейн, раб государя страны“1 или 'Аббас, раб его“ (т. е. бога).2 Меньшинство документов — копии; в них место шахской печати отмечено словами „место благословенной печати его священнейшего величества государя“ 3 или просто „место тугры“.4 Подлинность копий удостоверена печатями ереванского или карабагского беглербега (шахского наместника), равно как и ссылками на данные фирманы в других документах.
Что касается языка и стиля документов эчмиадзинской серии, то, не в пример ханским ярлыкам монгольской эпохи, они не отличаются чрезмерной цветистостью и растянутостью, фетвы шиитских богословов изобилуют арабскими техническими выражениями. Как прошения и фетвы, так и фирманы шахов писаны по принятым трафаретам. Любое прошение на имя шаха, будь то и прошение эчмиадзинского католикоса, написано от имени „ничтожнейшего из рабов“,5 просящего о пожаловании „справедливого указа по милости благословенной, благороднейшей, священнейшей, возвышеннейшей главы его величества“,6 и завершается заверениями, что „это деяние (т. е. шахская милость) перед аллахом и посланником аллаха (Мухаммедом) не будет напрасным“.7 Все шахские фирманы начинаются словами: „высочайший фирман последовал о том, что...“ или „указ того, кому подчиняется мир, последовал о том, что...“8 Все фирманы имеют ссылку либо на более ранний фирман аналогичного содержания, либо на фетву шиитских богословов.
1 »^4^5 olio^b Смысл этого выражения заключается в том»
что шахом Ирана признавался зять основоположника ислама Мухаммеда, 'Али, четвертый халиф (656—661 гг. н. э.) и первый шиитский имам; Сефевиды, приписав себе происхождение от 'Али, тем самым признавали себя лишь ег* наместниками (следовательно, и „рабами“).
2 Арабск. ovX**
8 Jä* ; вариантов титула
несколько.
^ ОчА 1^35* JuiLo <4dJl tyX<0 j}\ v>wb j AJJ\ • • •
8 ...A£j\ jUo или
В отличие от этого указы местных вассальных ханов всегда открываются более скромным вступлением: „Высокий указ последовал о том, что...“ v*..a£j\ Наконец, распоряжения чиновников начинаются уж
с°всем скромно: „Постановлено о том, что,. .w (... А&Т jyU).
17
Почти все указы в заголовке снабжены словами „он" (т. е. бог)> и „царство принадлежит богу",1 2 после чего иногда следуют славословия в честь Мухаммеда, ’Али, шиитских имамов, предков царствующей династии, иногда (в фйрманах на имя армянского или грузинского католикоса) и в честь Христа.8
По принятому в XVI—XVIII вв. этикету непосредственное обращение подданного к монарху считалось дерзостью, поэтому прошения писались на имя „рабов его величества";3 равным образом и указы-резолюции на прошения писались также якобы от имени „рабов его величества" или „наместников государя",4 т. е., по сути дела, от самого монарха. Благодаря этому, слова „рабы его величества" превратились в техническое выражение, обозначающее особу шаха (или местного хана).
Фирманы эчмиадзинской серии, как и другие документы, которых мы коснемся ниже, дают возможность установить принятое в Иране титулование разных представителей феодальной иерархии. Беглербега (наместника области), как и местного владетельного хана, именовали „высокосановитым".5 Выражение „прибежище высоты и величия"6 терминологически обозначало титул феодала средней руки. Мусульманские авторитетные богословы-правоведы именовались „людьми блистательного шариата" и „людьми чистейшего закона".7 Любопытно титулование представителей армянского духовенства. В наиболее раннем документе эчмиадзинской серии — упомянутом уже
1 Арабск. и <OJ
2 См., напр., Эчм., № 2/12, фирман шаха ‘Аббаса II от мухаррема 1054 г. X. (1644 г. н. э., марта 10 — апреля 8) о закреплении за Эчмиадзин- ским монастырем прав владения землями и садами в округе Чухур-Са’да (Еревана): „О, Христос (Мессия), да будет спасение над пророком нашим
и над ним" (^U-uJ\ ^
3 Перс.-арабск. — Католикосы в своих прошениях часто употребляют выражение „раб-богомолец" — 0
4 Впрочем, слово „навваб", множ. число от арабск. слова „наиб" (наместник), нередко употреблялось и в значении единственного числа как титул наследника престола и других членов царствующей династии.
3 Араб.-перс. oIäOU, обычно вместе с титулом „прибежище власти и управления, устроение управления" (o^Lo^Lo Uii ^ О^Ьо\
или .UbMUlki). Ср. вариант в фирмане Шаха Аббаса I 1022 г. х. (1613 г. н. э.), Эчм., № 3/9: j aJUMLo Uäi oLo ^
...iXaaa* ^ £ — „прибежище управления и могу¬
щества, устроение управления и благоденствия, высокосановитый Амиргунэ- хан, беглербег чухур-са*дский" (ереванский). Ср. Эчм., № 3/15:
£>\ <^3£^>у£о — „высокодостойный беглербег той
области" (ереванский).
6 О Lb (jljuo j
7 V^vA* <Ja\ , J-VLI
18
нами фирмане шаха Тахмаспа I, 955 г. х. (1548 г н э|-католикоса и епископов называют просто „махрасийяб /Ас XVII в. католикоса титулуют: „цвет священников и монашества, опора христианства“ или „цвет [себе] подобных и [себе] равных, опора христианства“.1 2 Встречается, впрочем, и выражение катликус".3 Сплошь и рядом к католикосу и епископам прилагались почетные прозвания „ходжа" и „халифэ“, прилагавшиеся обычно к представителям мусульманского духовенства; титулом халифэ" в Иране этого периода именовали шейхов (пиров, муршидов), т. е. „старцев"-наставников суфийско-дервишеских орденов (сильсилэ) и их заместителей. В ряде документов католикос, как настоятель Эчмиадзинского монастыря и распорядитель его землями, обозначался арабским термином „мутавали"; так называли лиц, заведывавших вакфами мусульманских религиозных учреждений.
Насколько в официальных персидских документах заметно стремление переносить термины, заимствованные из круга мусульманских религиозных учреждений, и на представителей армянской церкви, видно из того, что выражение „дервишество" прилагалось и к армянскому монашеству.4 Это и вполне понятно: как высшее мусульманское, шиитское, так и высшее
1 Эчм., № 3/48:
*—uo\ „Достоинство махрасийяба учь-килисийского [области]
Чухур-са*декой принадлежит Микайил-махрасийябу“ (католикос Михаил Сева- стийский, 1547—1556 гг. н. э.).
2 ^ oUioVl или iUsiAuU o\X*fr ^ ÖJOJ
Cp. вариант, Эчм., № 2/12: ÖiX**
— „опора халифов христианства, Пилипус-халифэ христианский" (т. е. католикос Филиппос Агбакский, 1633—1655 гг. н. э.).
3 Эчм., Лз 3/42, грузинская форма встречается в ука¬
зах, относящихся к патриарху-католикосу Грузии, см. АКАК, т. I, ч. III, № 6, стр. 72, фирман Надир-шаха от джумады II 1147 г. х. (1734 г. н. э., октября 2Э — ноября 26).
4 См., напр., в фирмане шаха Сулеймана от джумады I 1079 г. (1668 г. н. э. октября 7 — ноября 5), Эчм., № 3/49, о подтверждении прав армянских общин:
>yL j — „Так как та община состоит
из [людей], платящих джизийю (специальный сбор с христиан и евреев) и ра ииятов, то пусть их оставят со спокойным сердцем заниматься земледелием и возделыванием [земли] и дервишеством...“ Монахи в фирманах нередко именуются „черноклобучниками“. Ср. Эчм., 3/42: &ЦJa.
\j Ojy>yo ^
•. «А-*-я^о £>IaU£ j
„Пусть указанный халифэ, удерживая из года в год сборы и доходы и бах- ришку (уменьшительное от бахрэ — доля ренты-налога, следовавшая в казну) о этбго селения, расходует их на содержание себя и прочих священников и Черноклобучников, обитающих в монастыре (букв.: месте поклонения)“. Пожало- вание монахам права удерживать для себя и бахрэ — здесь особая милость.
2*
19
армянское духовенство занимали определенное — и притом довольно сходное — положение в феодальной иерархии. Персидское множественное число от тюркского термина „ака“ 11 „ага“ („господин“) — „акайян“1 получило специальное терминологическое значение высшего мусульманского духовенства вообще.
Лица, принадлежавшие к сословию знати, обозначались арабскими терминами „а'ийян“ — „знатные“ 2 и „нуджаба“ — „благородные“, как и азерб.-персидским термином „бекзадэ- ган“ — „рожденные беками“. Если в фирманах упоминались лица, не принадлежавшие к привилегированным сословиям беков- феодалов или духовенства, их называли просто по имени,— титуловать их не полагалось.3
Что касается содержания, то более половины документов эчмиадзинской серии касаются (целиком или отчасти) аграрных отношений. Здесь мы найдем документы, касающиеся утверждения шаханшахами Ирана прав на владение землями, разрешения судебных тяжб из-за владения землею,4 передачи армянским монастырям права взимать в свою пользу и ту долю ренты-налога, которую полагалось вносить в казну,5 и освобождения от других податей, иначе говоря, налогового иммунитета. В этом отношении интерес документов данной серии заключается в том, что они дают подробный и довольно полный перечень земельных владений Эчмиадзинского монастыря.
Упомянутая грамота Аббаса II 1054 г. х. (1644 г.), напр., перечисляет земли, принадлежавшие Эчмиадзинскому монастырю в окрестностях его на правах вакфа. Здесь заслуживает внимания указание на пути, какими создавались вакфные имения религиозных учреждений. В грамоте говорится, что некий лхрди из единоверцев католикоса с давних пор завещали ему определенные участки земель, сады и мельницы в области Еревана („в стране Чухур-Сад’ской“). Все эти земельные участки,6 перечисленные в грамоте, завещатели „передали [монастырю] Учь-Килисийя на условиях вакфа. И управление ими от отцов и дедов поручили опоре халифов христианства, Пилипус-халифэ
1 Об этом значении см. у Ю. Н. Марра, Документированный персидское русский словарь, вып. I, Тифлис, 1934, стр. 27, под словом lS\
2 о
8 См., напр*, Эчм., № 3/90: ... о^о — „Хаджи Касим
фруктовщик“.
4 В этом отношении особенно характерны два документа, уже упомянутый Эчм„ № 3/15, и Эчм., № 3/24; о нем скажем ниже.
5 Перс, бахрэ, бахра— букв, „часть, доля“. Приведенное термино¬
логическое значение термин „бахра“ имел в районах Еревана (официальное название — Чухур-са'д — „Долина благоденствия“) и Нахчавана. В некоторых районах термин „бахра*4, как и арабск. термин „маль ва джехат“, „мальдже- хат“ 01^4-U, jCo обозначал ренту-налог вообще.
в AäL*, МНОЖ. ЧИСЛО OUJaS
20
тпилтианскому“.1 Что такое завещание в ряде случаев ока- "лось коммендацией крестьянами своих земель церкви, зыва доугого документа, в котором говорится, что все селение Учь-Килисийя (т. е. Вагаршапат) в 854 г.х. (1450/01 г.
э) „кедхудами, медиками,2 земледельцами и хозяевами издольщиков"3 было передано тому же монастырю в виде вакфа. В цитированном нами документе 1054 г. х. (1644 г. н. э.) перечислено 12 участков земли4 с мельницами и садами; при этом приведены некоторые подробности о монастырском хозяйстве. Мы узнаем, напр., что на одном участке, расположенном ниже церкви, засевалось 8 харваров зерна,5 что посреди „земли Садаклу"6 проходило два водных канала,7 что был „участок земли сбоку от [сухого] русла реки, что служит проезжей дорогой для купцов".8 Как известно, Эчмиадзинский монастырь был не только феодальным поместьем, но и занимался торговыми операциями; указание на то, что монастырь был расположен на торговом пути, лишний раз подтверждает это обстоятельство. Еще одним фирманом шаха 'Аббаса II1060 г. (1650 г.)9 за Эчмиадзинским мона¬
стырем было закреплено 20 других земельных участков с каналами, садами и мельницами, на основании письменной справки10 беглербега Чухур-Са'дского (Ереванского) о том, что эти земли издревле были вакфами монастыря. Наиболее ранний из сохранившихся сефевидских фирманов, подтверждающих за Эчмиад- зином права вакфного владения землями, садами, мельницами и каналами, — фирман шаха 'Аббаса I от ша'бана 1023 г. х. (1614 г. н. э., сентября 6 — октября 4), составленный на основании фетвы „богословов имамийских" (т. е. толка 12 имамов,
1 Эчм., № 2/12: ^
МъЛаП у ЬЬ jJ\ О>j*
2 В данном случае оба термина обозначают сельских старост.
3 xfcyio ^ j ^ Эчм., № 3/15; можно
допустить и перевод „хозяевами [и] издольщиками", ср. среднеазиатские документы, приведенные В. В. Бартольдом, ЗВОРАО, т. XV, вып. II—III, стр. 265--267:
4 <^якэ, Эчм., № 2/12.
5 Перс. — букв, „ноша села"; терминологически — в Иране и За¬
кавказье мера зерна разного (для ра?личных местностей) веса, также участок земли, засеваемой 1 харваром пшеницы или ячменя.
7 ^
3 Ibid. хЦ £> \Lw \ Cxtz*}
9 Эчм., Ns 2/11.
21
иначе говоря, шиитского толка).1 В фирмане перечислены многие из тех же земельных участков, что и в более поздних фирманах. В фирмане, в согласии с фетвой, постановлено, что никто не имеет права присвоить в частное владение (мулькийэт) или продать эти вакфные имущества, равно как и расходовать доходы с них не по тому назначению, какое указано завещателем (вакиф).
В нескольких подтвердительных фирманах по тому же поводу прямо сказано, что мутавали (т. е. католикос, как настоятель Эчмиадзинского монастыря), распоряжаясь доходами с вакфов, не имеет права присваивать их в частное владение, продавать и закладывать. Эти правила, однако, не всегда строго соблюдались, как видно из фирмана шаха Сулеймана от раджаба 1096 г. (1685 г. н. э., июня 3 — июля 2), изданного в ответ на прошение католикоса Егиазара Айнтабского (1682—1691 гг. н. э.) о возвращении монастырю вакфов, заложенных католикосом Яковом IV Джульфинским (ЬАкоп Джугайеци, 1655—1680 гг. н. э.) вопрекк шариату. Шах, как обычно, предложил авторитетным шиитским богословам представить фетву по этому вопросу. Богословы признали, что „в указанном залоге правил шариата нет“2 3 и что заложенные имения (амляк), хотя бы они и не были выкуплены, должны быть возвращены монастырю безусловно.
Документы эчмиадзинской серии устанавливают, что Эчми- адзинскому монастырю принадлежали не только вакфы, но и недвижимости на правах мулька, т. е. частного владения. Арабским термином „мульк“, в азербайджанском и армянском произношении „мюльк“, обозначался вид частного владения, не связанный с государственной службой, отчуждаемый и передаваемый по наследству, а также взимавшаяся мулькдаром (владельцем мулька) доля ренты-налога с сидевших на земле мулька крестьян.8 Кавказоведы из великодержавного и местно-националистического лагеря рассматривали мульк (мюльк) как вознаграждение „взамен окладного жалованья чиновникам“.4 * Данные сило условного характера, что мульки (притом именно земля, а не только рента с нее) могли продаваться свободно. Из фир-
1 Эчм., № 3/9 "jJbloJ *.~оЫ ^Ub“.
2 Эчм., № 3/14.
3 Об институте мулька в странах Средней Азии, в общем аналогичном мульку в Закавказье, см. в новой работе П. П. Иванова, Удельные земли Сейнд-Мухаммед-хана хивинского, Записки ИВ АН, VI, 1936, с«гр. 42 и сл.; см. также Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии, Записки ИВ АН. II, 2, 1933, стр. 81—83. Мы касаемся здесь~етоГо вопроса лишь в той мере, в какой это необходимо для характеристики документов как источника^до феодальным отношениям Воет. Закавказья.
4 И. Шопен. Исторический памятник состояния Армянской области. СПб..
1852, стр. 926 и сл.; ср. там же, стр. 1149—1154.
22
шаха 'Аббаса II, изданного в месяце раджабе 1068 г. х, П658 г. н. э., апреля 4 —мая З),1 видно, что эчмиадзинские ' онахи покупали и продавали мульки, и приложенная к фирману шиитских богословов признала эти сделки законными.
^ В виду высказывавшегося не раз буржуазно-националистическими историками утверждения о том, что в „мусульманских странах" будто бы не было частного землевладения и продажи земель, мы решаемся привести из упомянутого документа (фетвы) цитату: „Ученые ислама и благородные факихи... так соизволяют [сказать]: во всяком случае, когда определенная армянская община свои определенные недвижимые имущества2 и движимости продала бы по правилам продажи, признанным исламом, некоему служителю3 определенного места поклонения (т. е. церкви или монастыря), жительствующему в Учь-Килиса, за определенную наличную сумму,. .. упомянутый договор о продаже, что между некиим [служителем] и упомянутой общиной упомянутым путем совершился, будет правилен и законен".4 Приобретенная таким путем земля признавалась владением данного священнослужителя на правах мулька.5 * И в прошении эчмиадзинских монахов шаху Сулейману, приложенном к его фирману, изданному в месяце рамазане 1091 г. х. (1680 г. н. э., сентября 25 — октября 24), читаем, что монастырь владел „немногими0 землями (амляк), садами и мельницами, из коих некоторые— вакфные имущества церкви, а часть куплена на золото этими презренными" (т. е. просителями).7 О мульках, принадлежавших частным лицам, говорит ряд других документов, О нс-
1 Эчм., № 3/12.
2 „Амляк“ (viT!sLo\)f множ. число от „мульк“ («ХХх»), получившее специальное терминологическое значение „недвижимого имущества“ вообще.
3 В тексте — „служителю Халиду“. В шариатской практике
имена Халид, Зейд и некоторые другие приняты как условные обозначения предполагаемых лиц при тех или иных юридических казусах; соответствуют нашему „икс“ или „игрек“.
(sic) S31 Д*ЬчА* jJLi.*?
OvXio jjZsXrt la- £ib~«o Д-ж-jb^o oJüa
.vX-Üb 2
4bid. dJISÜUvJ^
ß Выражения этого отнюдь не следует понимать буквально; это, как и именование авторов прошения „бедняками* (факиран), „обездоленными“ (бичарэган), „презренными“ (хакиран), — лишь условный прием, принятая
этикетом манера, обязывавшая подданного уничижать себя, обращаясь
* падишаху.
7 Эчм., N« 3/5; j\ и^Д^ } OUb ^
33
• t •
коем Мурад-векиле, как о владетеле 1 х/2 Данга1 мулька селения Икавард (т. е. Егвард), и о его тяжбе с Ходжа-Я'кубом Иравани (т. е. католикосом Яковом Джульфинским) из-за владения остальными 41/* дангами мулька того же селения подробно излагает длинный фирман шаха 'Аббаса II, изданный в месяце сафаре 1062 г. х. (1652 г. н. э., января 13 — февраля 10).2
Очень много документов говорит о захвате земель — и частновладельческих, и крестьянских общин, — сильными знатными людьми, главами кочевых племен, шахскими и ханскими сановниками, откупщиками налогов и управителями поместий у знатных людей. Ограничимся немногими примерами. Как видно из фирмана шаха Тахмаспа I, изданного в месяце раджабе 967 г. (1560 г., марта 28 — апреля 26), „сборище захватчиков" завладело пахотными полями (мазра'э), „ограниченными пределами [селений] Кудук-Ангурак и Кырк-Булаг" и водой, принадлежавшими монастырю Кара-Килиса на правах мулька.3 В месяце раб и* I 1079 г. х. (1668 г., августа 9 — сентября 7) ра'ийяты селения Ванккенд, округа Дерэлу-Шамлык близ Нах- чавана, жаловались шаху Сулейману на то, что их земли захвачены.4 Часто шах удовлетворял такие ходатайства и обязывал беглербега ереванского или карабагского обуздать „насильников"5 и оказать „законное содействие и поддержку** просителям. Но для обиженных получить шахский фирман далеко еще не значило добиться действительного восстановления в правах владения. Этому видим доказательство в следующем случае. В месяце раб(и' I 1060 г. х. (1650 г., марта 4 — апреля 2) Туман, наместйик (векиль) католикоса эчмиадзин- ского, жаловался шаху 'Аббасу II на захват селения Битринч „сборищем тюркских кочевников".0 Шах приказал „высокосановитому Кейхосроу-хану, беглербегу чухур-са'дскому", удовлетворить жалобщика. Но, вопреки шахскому указу, селение Битринч так и осталось во власти кочевников,, и уже в месяце раби' II1124 г. (1712 г., мая 8 — июня 5) шах Хусейн, по жалобе католикоса Александра I Джульфинского (Агександрос Джу-
1 Перс, термин „данг || донг“ — Ve часть пахотной земли, Ve Доля воды из оросительных каналов и Ve доля ренты-налога в каждой сельской общице
(джама’ат).
з Эчм., № 3/24.
8 jl, Эчм., К» 3/90.
* Эчм., Mb 3/86.
5 „Мутагаллиба“ — Эчм., Mb 3/75, фирман шаха Хусейна от
месяца pafyf П 1124 г. х. (1712 г. н. э., мая 8 — июня 5) об ограждении земельных участков ра'ийятов эчмиадзинских вакфов от захватов их насильниками.
® Эчм., Mb 3/18. Слово „таракема“, арабизованное
множ. число от „туркман“» было терминологическим обозначением для кочевых азербайджанских („тюркских“) племен вообще#
24
17(У7 1715 гг. н. э.), издал новый фирман о возвращении
гайеци, Уяеизвеетно, оказался ли этот указ более действенным. -гГты земель в ряде случаев совершались при содействии ^ахв п..стительстве местных властей. В жалобе эчмиадзинских ИЛИ хов 1091 г. х. (1680 г.) говорилось, что так как „покойный СеФИ-Кули-хан, бывший беглербег ираванский, был муж жадный и корыстолюбивый“, то некоторые насильники (джам'-и мутагал- либ), возбудив его жадность (взятками?), завладели частью земель, садов и мельниц монастыря.1 2
Приведенных примеров, думается нам, достаточно, чтобы показать ценность данной серии документов для изучения аграрных отношений в сефевидской Армении и Азербайджане. В частности, для истории Эчмиадзинского монастыря как феодального поместья данная коллекция фирманов является главным источником, на ряду с „Джамбром“ — более поздним описанием поместий Эчмиадзина, составленным католикосом Симоном Ереванским (1763—1780 гг. н. э.). и содержащим в основном переводы тех же сефевидских фирманов.
Немало данных содержат упомянутые фирманы для выяснения налоговой системы эпохи. Мы узнаем из них, напр., что христиане в XVI—XVII вв. продолжали платить джизийю —— специальный налог с иноверцев.3 Несколько фирманов касаются пожалования армянским монастырям или подтверждения за ними прав налогового иммунитета, — такие пожалования были особой милостью, но не общим правилом. Наиболее интересный из таких фирманов издан шахом 'Адилем из династии Афшаров в месяце мухарреме 1162 г. х. (1748 г. н. э., декабря 22—1749 г., января 20) для подтверждения привилегий монастыря Кара-Ки- лиса.4 В указе говорится о том, что „по безграничной снисходительности шахской, по беспредельной милости царской к цвету священников и монашества Минасу, халифэ [монастыря] Кара- Килисийя, к его доброй преданности и службе и во внимание к содержанию указов наместников5 [нашедшего] убежище в прощении грехов знаменитого дяди моего6... мы повелели осво¬
бодить и оградить [монастырь] от налогов в диван (казну) такого рода: джизийя и прочие обложения (мутаваджжихат), и поступления (садират), и чрезвычайные повинности ('аваризат), И сбор за пастьбу скота (чобан-беги) и прочие, дабы они свои обложения вместе с доходами с указанных земель расходовали на упомянутую церковь (килисийя, т. е. монастырь) и обита-
1 Эчм., Кя 3/72.
2 Эчм., № 3/15.
3 См., напр., Эчм., Кя 3/49, фирман шаха Сулеймана, изданный в месяце
, джумаде 1 1079 г. (1668 г. н. э., октября 7 — ноября 5).
: 4 Эчм., № 3/38.
6 Навваб, множ* число от наиб, — техническое выражение, означавшее особу государя; см. об этом выше, на стр. 18. в Надир-шах (1736—1747 гг. н. э.).
25
телей ее",1 Сборщикам податей запрещалось „требовать хоть один динар" 2 из доходов3 монастыря. А так как „черноклобуч- ники" (сийях куляхан) монастыря имели обыкновение ездить в разные стороны „ради торговли и прочих дел",4 то таможенным сборщикам по дорогам5 запрещалось „стеснять" монахов, иначе говоря, брать с них пошлины.6
У шаханшахов Ирана были свои основания покровительствовать высшему армянскому духовенству: в эпоху борьбы османской Турции и кизилбашского Ирана за обладание Закавказьем значительная часть армянского духовенства и особенно купечества Закавказья, не в пример части азербайджанских феодалов, держалась иранской ориентации.
Упомянем здесь лишь об одном интересном в этом отношении документе. Католикос Филиппос в прошении шаху 'Аббасу И, приложенном к указу-резолюции последнего от месяца шавваля 1060 г. х. (1650 г. н. э., сентября 27 — октября 25), напоминал о своей постоянной преданности падишахам династии Сефевий- ской в дни вторжения в Закавказье войск „негодногогхонд- кара"7 (т. е. султана Турции), в то время, как многие из знатных людей8 округов Нахчавана и Ордубада пошли по пути мятежа и противления, уговорив турецкого („румского") командующего Му^таза-пашу послать отряд в эти округа. Что во время ирано-
1 Ibid. Coli ^ ^ <*Ла1£о ^ СоиСо
L-J^ ^S> LJL«o
&& ^ V—sLä^ Oj-O ^ ^ 1ио^ I^.C> ^ ^
в) L-JjO ^э1л/в VwJ
2 Ibid. • •. JmO Ц^о
3 Абваб джам'и. О значении этого термина см. у Ю. Н. Марра, Персидский документированный словарь, вып. I, Тифлис, 1934, стр. 40,
4 jy*\ у wCo 2 М> C*j^s£
5 Ibid. ^^1^0
6 Об иммунитете этого периода см. нашу работу „К вопросу об иммунитете в Азербайджане в XVII—XVIII вв.“, Исторический сборник, № 4, 1935, изд. Акад. Наук СССР, стр. 36—73.
7 Эчм., № 3/17: — хондкар-и набакар. В других прошениях
мы встречаем форму ^boU j&JIa. вместо правильного j&xSl^a». Так
обычно в Иране именовали турецкого султана во внутренней официальной переписке (эпитет „набакар“ — „негодный“, „недостойный“, „гнусный“ подобран в рифму к одному из титулов султана „хондкар“); в дипломатической переписке турецкого султана именовали „падишахом, прибежищем ислама, хондкаром румским“. См. Ниша'Мирза Махди-хана, цитир. литогр. издание стр. 57, 85, 90, 99.
8 Ibid. £>U*l
26
в0йн XVI в. часть старых азербайджанских феодалов, грецких в со Времен ширваншахов, была настроена против владычества и активно поддержала Турцию, мы знаем ИраняЬоативных источников (Искендер Мунши, Хасан-бек Румлу, Кини, Шереф-намэ и др.). Но что турецкая ориентация Охранялась среди части азербайджанской феодальной знати и b*XVII в., об этом мы узнаем главным образом из упомяну¬
тых официальных документов.
Ряд других документов касается правового положения армянских общин в Закавказье. В фирмане шаха 'Аббаса И, изданном в месяце мухарреме 1060 г. х. (1650 г. н. э., января 4 — февраля 2), говорится о принятии шаханшахом подношения от католикоса Филиппоса и о том, что постоянным представителем особы шаханшаха при католикосе назначается „спутник прибежища высоты“1 Имамверды-бек, через которого католикосу и следует вести сношения с двором и властями.2 В том же году, в месяце раби I 1060 г. х. (1650 г. н. э., марта 4 —апреля 2) был издан указ о порядке разбора тяжб и споров между мусульманами и христианами Закавказья. Обращение в шариатский (мусульманский духовный) суд признавалось обязательным, если один из тяжущихся был мусульманином, а другой — христианином. Если обе стороны были христианами, им предоставлялось право выбора — судиться у своего епископа или, по желанию, обращаться в шариатский суд.3 Несколько раньше, в месяце са- фаре 1055 г. х. (1645 г. н. э., марта 29 — апреля 26) шахом 'Аббасом II была подтверждена неприкосновенность личности и имущества армян, „часто посещающих богом хранимую страну“, т. е. приезжих армянских купцов, подданных Турции и других государств.4 Шахом Сефи в раби' II 1040 г. х. (1630 г. н. э., ноября 7 — декабря 5) был издан фирман на имя армянской общины города Шамахии (Шемаха) и Ширвана о том, что,- согласно желанию общины и старым обычаям, право посвящения-епископа (халифэ) для Шемахи принадлежит католикосу эчмиадзинскому. Католикосу гандзасарскому (албанскому),5 домогавшемуся этого права, предписывалось не вмешиваться в_отношения между армянской щемахинской общиной и Эчми- адзином.
1 о из
2 Эчм., № 2/8.
2 Эчм., Мё 2/10. Хотя указ дав на имя армянского католикоса эчмиадзнн- ского, речь идет здесь не об армянах, а о христианах вообще.
4 Эчм., № 2/5.
5 Титул католикоса албанского (агванского), сохранявшийся до начала XIX в., — пережиток исчезнувшего Албанского (Агванского) царства и албанской церкви, слившейся с армянской церковью. С XII в. католикос •лбанский проживал в Гандзасарском монастыре в Нагорном Карабаге; в XVII—XVIII вв. католикосы албанские часто выдвигались из армянского Феодального рода Хасан-Джалалян; этому же роду принадлежало меликство Хачсн в Карабаге.
27
В месяце зу-л-хиджже 1053 г. х. (1644 г. н. э., февраля 1Ö — марта 9) шахом 'Аббасом II был издан указ о том, что шаху „было доложено, что некоторые из чиновников и правителей Азербайджана и прочих [областей] противозаконно взимают некие суммы [денег] с тамошних армян, домогающихся должности кедхуды,1 и за наследства с их покойников, под тем предлогом, что они дают разрешение на погребение покойников".2 Эти сборы в указе признавались незаконными и отменялись, так же как и сборы за восстановление или починку старинных мест поклонения (му'абид, т. е. монастырей) и церквей (килисийяха), разрушенных во время румийской смуты (т. е. войны с турками), или от землетрясения, или по другим причинам. Такое восстановление объявлялось делом свободным, и беглербегу азербайджанскому3 предписывалось, „оказав армянам законное содействие, не допускать, чтобы им от кого-нибудь приключилось притеснение йли противозаконие“.4 Указ этот был вновь подтвержден фирманами шаха Сулеймана в месяце джумаде I 1079 г. х. (1668 г. н. э., октября 7 — ноября 5)5 и шаха Хусейна 1111 г. х. (1699/1700 г. н. э.).6 В 1124 г. х., в месяце раби' II (1712 г. н. э., мая 8 — июня 5) тем же шахом Хусейном был издан фирман, на имя католикоса Александра I, подтвердивший шесть указов предыдущих шахов о правах и привилегиях. Подтверждены были указы от ша'бана 1023 г. н. э., (1614 г. н. э. сентября 6 — октября 4) и от джумады II1089 г. х. (1678 г. н. э., июля 21 — августа 18) о праве армян завещать свои земельные владения в виде вакфов Эчмиадзинскому монастырю,7 указ от раджаба 1068 г. х. (1658 г. н. о., апреля 4 — мая 3) о законности производимых армянами сделок по купле-продаже, указы от джумады II1069 г. х. (1659 г. н. э., февраля 24 — марта 24) и от зу.-л-ка'ды 1079 г.х. (1669 г. н. э., апреля 2 — мая 1) о том, дабы, согласно фетве исламских богословов, никто не чинил притеснений зиммиям,8 указ от ша'бана 1071 г. х. (1661 г. н. э.,
1 Персидский термин \ в данном значении, повидимому, — староста
сельской общины или городского квартала (АЛаг*).
2 Эчм., № 2/13: ^ £>U£b ^ JUJU у\
jS Q>\j\ \ j\
2 (возможно и чтение CUsbjb) C^obJLo \ ji
8 Здесь имеется в виду южный (нын. иранский) Азербайджан.
* Там же.
6 Эчм., № 3/49, копия.
6 Эчм., № 3/8.
7 Эчмп № 3/37: ^ ь£ Ц->Ьу
G .oaiob
8 Ibid. Jjbl— общее название немусульман, подданных мусульманского государства, принадлежащих к терпимым мусульманским правом (таариатом) религиям (христианской или иудейской).
38
1—29) о том, что, согласно фетве богословов имамиЙ- ских (ши'итских), дети армян, завещавших свои имущества, церкви в виде вакфа, не могут добиваться возвращения заве-
щанного.
В этом указе, как и в большинстве других, мы встречаем оговорку о том, что власти (в данном случае — беглербег чухур-са'дский, т. е. ереванский) не должны ежегодно требовать возобновления указа.1 Вообще считалось правилом, что каждое шахское пожалование должно было быть подтверждено новым указом его преемника.
Небольшая серия Ереванского архива ЦАУ Армянской ССР содержит 8 чрезвычайно интересных сефевидских фирманов, касающихся пожалований тийюля (род бенефиция, связанного с государственной военной или гражданской службой). Все эти пожалования, как мы отмечали выше, являются пожалованием не земли с крестьянами, а лишь части ренты-налога с той или иной территории. Иногда с одной и той же территории разные доли ренты-налога жаловались различным лицам. Например, фирманом шаха 'Аббаса II, датированным месяцем зу-л-ка'да 1056 г. х. (1646 г. н. э., декабря 9 —1647 г., января 7)2 джизийя с махала (округа) Гуштасф (нын. азербайджанский Курдистан) была пожалована в тийюль „высокодостойному беглербегу карабагскому“, а остальные доходы3 с того же махала пожалованы также в тийюль „прибежищу власти и управления сАббас-Кули-султанум. Фирманы шаха Хусейна на имя разных лиц, датированные 1121 г. х. (1709 г. н. э., марта 13—1710 г., марта I),4 1122 г. х. (1710 г. н. э., марта 2—1711 г., февраля 18),5 1125 г. х. (1713 г. н. э., января 28—1714 г., января 16)6 касаются вида тийюля, извест- ного под именем хамэ-салэ, при котором доля ренты-налога жаловалась только на определенные годы (по тюркскому звериному циклу), причем для получения денег или ассигновки (хавалэ) требовалось подтверждение от начальника пожалованного лица о том, что оно в этот год действительно находилось на службе, в командировке или в разрешенном отпуску. [Как видно из этих фирманрв, тийюли хамэ-салэ жаловались не только отдельным служилым людям, но и целым воинским частям или учреждениям центрального аппарата, напр., артиллерийскому арсеналу (топ-ханэ).7 Тийюльные пожалования последнего вида мы находим и в эчмиадзинской серии фирманов: указом шаха
1 Ibid. >j\s}J >xXs?° A-ILdjA
2 Ерев., № Г/7 по описи Института им. H. Я. Марра*
3 — абваб джами; об этом термине см. выше, стр. 26, прим, 3. * Ерев., № 1/4.
5 Ерев., № 1/3. Цитата из этого фирмана нами приведена выше.
8 Ерев., № 1/5.
7 Ерев., № 1/3.
29
Хусейна, датированным джумадой II 1114 г. х. (1702 г. н. а. октября 23 — ноября 20), сумма в 4 тумана и 5000 динаров табризских была пожалована в тийюль гулямам внутренней службы [дворца] — юзбаши Ака Алихан-беку и прочим.1 Жалованье за .год барса включенного в тот же список умершего старшины2 чапаров (гонцов) Устад-Казима было отдано его наследникам по их просьбе. Пожалование тийюлей — позднее даже земли, а не только ренты, — учреждениям практиковались в Иране даже еще при Насир-ад-дин-шахе (1848—1896 гг. н. э.).3
Интересен один из документов этой серии, датированный месяцем зу-л-када 1115г. х. (1704г. н. э., марта 7—апреля 5),— купчая грамота о продаже сыновьями Али-хана Гуштасфлу и сыновьями некоей Гюль-ага, внучки того же Али-хана, своих долей мулька селения Кушчи. „Мульк из всех шести дангов,— говорится в документах, — селения Кушчи, из селений гушта- сфийских, с четырьмя границами, что обозначены в подлиннике купчей грамотки (кабальчэ), [продали] его милости, прибежищу высоты, мелику Имамверды-беку, сыну прибежища высоты и величия, почтенного доверием [своего] времени, Аллах- верды-бека Гуштасфи, за определенную сумму в 6 туманов табризскими деньгами"...4 Из приведенного текста видно, что продажа мулька означала продажу именно земли, а не только права на .ренту-налог, — в противном случае упоминание о границах территории сельской общины не имело бы смысла. После „законной продажи",5 — сказано в тексте далее,— Аллахверды-бек приобрел право владеть мульком, как владельцы владеют своими недвижимыми имениями.6 О мульке и о споре из-за владения им владельца (малик) с крестьянской общиной (джама'а) говорит и фирман шаха сАббаса I, писанный в месяце зу-л-касда 1029 г. х. (1620 г. н. э., сентября 28 — октября 27).7 Еще одним фирманом этой серии, изданным шахом
1 Эчм., №3/44: ^ Xü Го¬
речь идет об отряде дворцовых гвардейцев-телохранителей.
2 — буквально „белобородый“ (персид.); азербайдж. синоним этого термина — ак-саккал.
3 В работе Н. А. Белгородского, Современная персидская лексика, изд.
Акад. Наук СССР, 1936, стр. 30, прим. 2, упомянут —
тийюль (туюль) артиллерийской конюшни.
4 Ер ев., № 1/8 jl УХл
j oLo оц *£Хл
'KSfryP '*** оЧУ 5* 9 erb** «Xo
0 pjyZ X«\ ^ wjTXJ I это арабское техническое выражение
встречается во всех купчих грамотах, виденных нами.
7 Ерев., № Щ.
30
Аббасом,1 выражена благодарность некоему армянскому медику
тасфийскому 2 за то> что он схватил некиих людей из племени
Унук (?)8 и румийцев (т. е. османских турок), направлявшихся в область Румийскую (в Турцию), и отослал их к высокому порогу (т. е. ко двору шаха 'Аббаса).
Говоря о персидских официальных документах, хранящихся в Армянской ССР, следует упомянуть еще об обнаруженной в 1935 г. в Эчмиадзинском архиве и подготовляемой к публикации Арм. и Груз, филиалами Акад. Наук СССР персидской рукописи, составленной мирзой (личным секретарем) Хусейн-'Али- хана ереванского. Это — сборник копий писем 80-х гг. XVIII в., посланных от имени хана кахетино-картлийскому царю Ираклию II, Ахмед-хану хойскому и думбулийскому, Ахмед- хану марагинскому, Мустафа-хану карадагскому, Ибрахим- Халиль-хану карабагскому и другим владетельным ханам. Сборник этот доныне был совершенно неизвестен исследователям. Научное значение этого источника заключается в обилии данных, рисующих дипломатические связи между феодальными государственными образованиями Закавказья. Как самые письма, так и предисловие к ним написаны крайне тяжелым, претенциозным и безвкусным языком и отличаются многословным и растянутым изложением. Однако, самому автору, судя по предисловию, его труд казался образцом простоты, лаконизма и изящества.
Помимо государственных архивов Армении, немало персидских фирманов и других официальных документов, главным образом сефевидского периода, хранится в рукописном отделении Государственного музея Грузии (г. Тбилиси). Большая часть этих документов относится к находившейся в вассальной зависимости от Ирана Восточной Грузии (царства Кахетинское и Картлийское), но некоторое число документов относится и к Армении, и к ханствам северного (нын. советского) Азер» * 2«А**1 ^Р?Вм 1Д. Фирман не имеет даты, хотя на нем стоит печать шаха Аббаса I, на которой ясно читается 999 г. х. (1590/91 г. н. э.); самый фирман, однако, должен быть датирован более поздним сроком, ибо из текста его ясно, что он был издан после отвоевания Закавказья Ираном у „румийцев“, т. е. османских турок, что совершилось между 1603—1607 гг. н. э. Дата на печати указывает на год, когда данная печать стала прикладываться к актам, о печать после этого употреблялась и в последующие годы, до введения печати нового образца.
2 В тексте ЛLo — Какое армянское
имя следует видеть в имени сказать трудно. Возможно, однако, вслед*-
ствие отсутствия в подлиннике пунктуации, предположить вместо чтение или ^^а — ЬАйкас, т. е. армянское
В таком случае под „меликом гуштасфийским" следует подразумевать hАйказа, армянского мелика округа Кыштаг в нынешнем азербайджанском Курди-
СТане, по р. Акера), бывшего в нач. XVII в. сторонником иранской ориентации.
В тексте 5 <viSV ГVе
31
баЙджана, и даже к южному Азербайджану. Документы эти лишь в 1936 г. были описаны Институтом им. Н. Я. Марра.1
Азербайджанский исторический архив (Аз. ЦАУ) не содержит сколько-нибудь значительного числа сефевидских фирманов; но и из тех, которые сохранились, большинство представлено только казенными русскими переводами XIX в. Разрозненные документы такого рода разбросаны по разным фондам архива. Можно отметить лишь одну значительную коллекцию фирманов иранских шахов и разных местных ханов, выданных на имя армянских меликов Варанды (в Карабаге) из династии Шах- Назарянов.2
Из документов, характеризующих вакф, как вид феодального землевладения, следует отметить серию жалованных грамот на имя шейхов суфийско-дервишеской обители (ханэках) при особо почитавшемся шиитами мазаре (гробнице) Биби-Хейбат, сестры восьмого шиитского имама 'Али-Ризы, близ Баку.3 Серия составилась из копий, снятых акад. Б. Дорном с подлинных документов, представленных в 1261 г. х. (1845 г. н. э.) в Бакинский уездный суд наследниками биби-хейбатских шейхов — ахундом Мирзою Нур-Мамедом и др. — для доказательства своих владельческих прав. Документы эти, повидимому, предназначавшиеся Дорном для публикации, хранятся в рукописном отд. ИВ АН.4 Серия содержит фирманы Сефевидов — шаха Тахмаспа I от мухаррема 954 г. х. (21 февраля — 22 марта 1547 г. н. э.) и мухаррема 963 г. х. (16 ноября —15 декабря 1555 г. н. э.), шаха 'Аббаса I от зу-л-ка'ды 1015 г. х. (28 февраля— 29 марта 1607 г. н. э.), шаха 'Аббаса II от мухаррема 1060 г. х. (4 января — 2 февраля 1650 г. н. э.), шавваля 1064 г. х. (15 августа—12 сентября 1654 г. н. э.), зу-л-хиджжи 1066 г. х. (20 сентября —19 октября 1656 г. н. э.), шаха Сулеймана от раби' II 1078 г. х. (20 сентября —18 октября 1667 г. н. э.); фирманы 1064 и 1078 гг. х. сопровождены изданными одновременно грамотами (мисаль) дивана высокого садра (диван ас-садарэт ал-алийэ); фирман от джумады II 1204 г. х. (16 февраля — 16 марта 1790 г. н. э.), судя по печати, принадлежит Ахмеду II, хану кубинскому, сыну Фатх-'Али-хана, бывшему в то время сюзереном хана .бакинского. Указами за шейхом и „мутавали благословенной гробницы дочери имама, достойной величания
1 Подробности о них см. в след, номере „Проблем йсточниковеде* ния“.
* Аз. ЦАУ, историч. архив, фонд военно-окружного начальника, д. № 14, лл. 341—348; наиболее ранний из документов — указ шаха'Аббаса II 1060 г. х. (1650 г. н. э.) на имя медика Баги, наиболее поздний — Махди-Кули-хана карабагского 1221 г. х. (1805/6 г. н. э.).
3 Нынешний Биби-Эйбатский нефтяной район к юго-западу от г. Баку.
4 ИВ АН, рукописное отд., из архива, III, 584/8. Документы эти были обнаружены весною 1937 г. и указаны пишущему эти строки ст. научн. сотрудником ИВ АН С. Л. Волиным.
почитания, и общиной дервишей“1 закреплялось владение селением Зых близ Баку, шейху уступалось право взимания в свою пользу мальджехата и всех видов податей с садов, посевов пшеницы и хлопка, трех нефтяных колодцев; кроме того дервиши, их работники и крестьяне (амалэ ва ра'айя) освобождались от всех повинностей продуктами (салюфэ) и работой (бигар ва шигар) в пользу дивана и войск; 1000 бара* нов шейха и 500 баранов зависимых крестьян (ра'айя) освобождались от подати за пастьбу (чобан-беги). Документы эти содержат данные относительно порядка наследования биби- хейбатских шейхов, об институте иммунитета (масафи) для вакфных имуществ, о термине „сойюргаль“ как виде пожалования в XVI—XVII вв. Бросается в глаза сходство между техническими выражениями грамот и существом вакфных пожалований Сефевидов мусульманским и христианским (армянским) религиозным учреждениям.
Из опубликованных фирманов иранских шахов можно отметить серию таких указов, писанных на имя наследственных владетелей Илису и Цахура (в сев.-зап. Азербайджане); тексты указов с переводами помещены (вместе с такими же фирманами султанов Турции на имя тех же владетелей) в Актах Кавказской археографической комиссии под ред. Ад. Берже; разумеется, как чтение текста, так и переводы довольно далеки от требований, предъявляемых к строго научным публикациям. По этим фирманам можно судить о порядке утверждения местных владетельных феодалов шахами и о взаимоотношениях между ними. Таково же содержание и трех фирманов Надир-шаха на имя меликов шекинских; тексты даны (весьма плохо воспроизведенные клише фотоснимков персидского текста и русские переводы) в приложении к изданной в Баку на азерб. языке хронике „Родословная шекинских ханов и их потомков“ Хаджи- Сейид-'Абд-ал-Хамида.2 Наконец, говоря об опубликованных документах, надо упомянуть еще о составленном известным историографом Надир-шаха, Мирза Махди-ханом Астрабади (Мазандарани), сборнике (Инша), состоящем частью из копий подлинных документов (фирманов, вакфных грамот, дипломатической переписки с Турцией и Россией), частью из трафаретов документов разного типа и писем.3 Сборник этот не имеет
1 См., напр., в № 3 (фирман шаха ’Аббаса I от 1015 г. х. = 1607 г. н. э.):
2 На9& Seid Obdul Hamid. Saki xanlarb va onlarbn nasilieri, text, ve cylamalar
tyrkcadan cavirani 9. Subhanverdixanov, Вакь, 1930. Фирманы изданы небрежно: к тексту док. № 2 приложен перевод док. № 3, а к № 3 — перевод № 2.
Т л3 ^меется литографированное издание Акаджана ибн-Мухаммед-Риэа нии ИВ**АнХ^>аН* Г Х* — Рукопись „Инша“ имеется в рукописном отделе-
3
Проблемы источниковедения
33
прямого бтношения к Закавказью, и мы на нем останавливаться не будем.
Вторая группа официальных документов, относящихся к Закавказью, — ракамы и та'лики, вышедшие из диванов (канцелярий) местных ханов. Эти документы, как нам кажется, рисуют менее искаженную в угоду ставшей идеологическим пережитком теории и менее условную картину общественных отношений, нежели фирманы шахов Ирана, и потому ценнее последних как источник. Правда, после временного падения власти Ирана в Закавказье (после гибели Надир-шаха в 1747 г. н. э.), полунезависимые ханы Азербайджана и Армении склонны были смотреть на себя как на преемников шахов Ирана. Ханы не отказывались вполне от централизаторских тенденций. Но слабость их сил и узкие масштабы их власти не давали возможности этим стремлениям развернуться. Внутренняя и внешняя политика ханов поневоле определялась интересами поддерживавших их феодальных группировок. Центробежные стремления феодалов, раздробленность государственной власти, рост частного землевладения за счет диванского (государственного), — все эти явления конечно не впервые родились после 1747 г., но именно в этот период в полунезависимых ханствах полнее и ярче развились и оформились.
Эти сдвиги отразились и в актах, исходивших от местных ханов. Правда, и в этих документах (также писанных исключительно на персидском языке) мы иногда встречаемся с терминологией и техническими выражениями, заимствованными у идеологов иранской централизованной монархии. Но здесь эти черты гораздо бледнее, гораздо менее выдержаны, чем в шахских фирманах. Действительные отношения, прайа феодалов, феодальные институты рисуются здесь в менее прикрытой условной фразеологией форме, более близкими к реальной действительности. Язык и стиль этих документов более прост и лаконичен, менее условен, чем в сефевидских и афшарских документах. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить любой из таких документов с любым из документов, напр., упомянутого нами сборника „Инша5“ Мирзы Махди-хана.
Из документов этой группы прежде всего отметим недавно изданную серию документов Нахчаванского ханства.1 В нашу задачу не входит критика данной публикации. Заметим лишь, что чтение текста, проредактированное покойным иранистом Ю. Н. Марром, не может вызвать сомнений. Недостатком издания является то, что специальные термины в русском переводе часто не сохранены, а переданы русскими выражениями, и притом не всегда удачно. Например, выражение „мульк-и хас
1 Пищущий эти строки пользовался вошедшими в публикацию документами в рукописи. Документы писаны смешанными почерками (шикестэ с наста ликом, реже с насхом).
34
ва халяс" — „собственный и очищенный (т. е. обеленный, освобожденный от каких-либо долгов, обязательств и налогов) мульк“ переведено мало говорящим русским выражением особое и чистое имущество“;1 в действительности „мульк“ означал не всякое имущество, но особый вид частного владения недвижимостью и долей ренты-налога.
Документы данной серии, приобретенные Ин. им. Н.Я. Марра у одного из жителей Нахчавана в 1935 г., объединены одним признаком, — все они относятся к территории бывшего Нахча- ванского ханства. Но среди них мы встречаем разнообразные акты: указов хана нахчаванского 7, фирманов Фетх-'Али шаха Каджара 2, указов его сына 'Аббас-мирзы, бывшего наместником Азербайджана—б, прошений на имя шаха — 2, актов о продаже селений и земель (мульков) и оросительных каналов и других юридических актов — 7. Наиболее ранний документ датирован 15 числом месяца зу-л-ка'ды 1058 г. х. (1648 r.t декабря I),2 наиболее поздний — 26 раджаба 1251 г. х. (1835 г., ноября 17).3
Выдающийся интерес представляют документы №№ 1—7, характеризующие отношения между полукочевым племенем Кенгерлю и вышедшей из среды этого племени нахчаванской ханской династией. Документы эти говорят о классовом расслоении племени, о существовании внутри его иерархии знати. Во главе племени стоял сам хан нахчаванский, заместителем которого был векиль — старший из беков племени; ниже располагались султаны, беки, ришсафиды („белобородые“, старшины аймаков — подразделений племени),4 рядовые кочевники (илят), среди которых различались бойцы, несшие постоянную военную службу хану,5 и „работники“1,6 несшие повинности в пользу знатной верхушки. Из одного документа XVIII в. видно, что знатные люди (бекзадэган) захватывали илятов (кочевников) и ра'ийятов (феодально-зависимых крестьян-земледельцев) и насильно обращали их в своих гулямов и мулязимов, т. е. в своих челядинцев и конвойных.7
1 Нах., № 23, текст стр. 128, перевод стр. 130.
Нах., стр. 131 и сл., № 24, акт о продаже Мирза-агой, сыном Мирза- ДжанаЗикрн, Мири^-аге, сыну Дура-хана Билькани, земли Кардаг.
Нах., стр. 105 и сл., № 18, указ Ихсан-хана нахчаванского о пожало- вании Н°уру3.беку двух дангов селения Сураб, что было купленным мульком хана.
4 г\
то зв|ние давалось не только старикам, но и знатной молодежи, см* м стр. 41 и сд^ док# J\f2 ^ указ Кельб-'Али-хана нахчаванского об у верж^ении Мухаммед-султана риш-сафидом колен (<kjbU>) Кечлу и Кемаи. ник Ь^квально »»бойцы за веру“ — газии); племя выставляло 500 всад-
о вь Шл Нах., стр. 32 и сл., № 4, указ Кельб-Али-хана нахчаванского
«рят, затуплении племени в поход. Как видно из указа, „работники“ иногда «призывались в поход.
хане* ™Хм СТР* ^4 и сл*> № 9, прошение ра'ийятов и илятов Нахчаванского ва правителю Ирана Керим-хану Зенду (около 1182 г. х.—176 7/8 г. н. э.). 3*
35
Затем, среди нахчаванских документов видное место занимают документы, касающиеся аграрных отношений. Пожалований тийюля касаются более поздние документы. Здесь мы встречаемся с иной трактовкой тийюля, чем при Сефевидах: в тийюль жалуется не только доля ренты, но и самая земля с сидящими на ней „посевщиками“.1
Мульков и их купли-продажи касаются документы №№ 10,11, 22, 23, 24 той же серии. Опубликование этих документов разбивает созданную великодержавными и буржуазно-националистическими историками легенду о том, будто „в мусульманских странах“ не было частного землевладения и продажи земли. Из документов — не вызывающих сомнений в их подлинности и заверенных в шариатских судах, с печатями казия и ряда свидетелей,— ясно видно, что продажа мулька означала не только уступку одним лицом другому права взимания ренты, но именно продажу земли. В упомянутой купчей 1058 г. х. (1648 г. н. э.) некий Мири-ага купил за 10 туманов табризских землю Кардаг, ограниченную 4 границами: нахчаванской дорогой, пахотным полем Хуртаз, долиной Кушчи-тапэси и перевалом Кучбек.2 Такой же характер носят и другие акты о продаже. Одним из них, заверенным в шариатском суде в месяце раби'И 1065 г. х. (1655 г. н. э., февраля 8 — марта 8) „продал законной куплей прекрасный юноша Мухаммед Бакир... отмеченному следами величия Урус-беку, сыну покойного Сефи-Кули-бека Килляйи, а он купил. .. целиком и полностью две трети одного данга из всех шести дангов селения Хурэмишин из селений ущелья (дерэ) Шахпур...“3 В месяце джумаде II того же года (1655 г. н. э., апреля 8 — мая 6) тот же Урус-бек прикупил еще за 4000 динаров „определенную и очевидную долю из всех шести дангов“ того же селения Хурэмишин „без определения границ“ (т. е. с границами бесспорными и установленными) у некоего Мухам- мед-Хусейн-бека.4 Во всех упомянутых случаях купленные земли именуются мульками.
Следует остановиться еще на одной серии официальных персидских документов — указов ханов Кубы и Дербенда. Серия из 27 ханских указов и 2 та'лик царских комендантов г. Кубы: наиболее ранний из документов датирован месяцем зу-л-хиджжа
1 £2*4^ — термин, который мог иметь значение и „арендаторы-издольщики“. Ibid., стр. 101 и сл. Указ Ихсан хана нахчаванского от раби I 1247 г. х. (1831 г. н. э., августа 10 — сентября 8) о пожаловании „городских земель“ в тийюль Ноуруз-беку.
2 Нах., № 24.
3 Нах., стр. 122 и сл., № 22: j-ЛП
(?) pyy ^ У
4 Ibid., стр, 127 и сл., № 23. ^
36
1117 г. х. (1706 г. н. э., марта 16—апреля 14), а наиболее поздний — месяцем раджабом 1235 г, х. (1820 г* * н. э., апреля 14—- мая 13). Документы эти, собранные, повидимому, случайно царскими властями при разборе владельческих прав тех или иных беков, были обнаружены в Азербайджанском историческом архиве (Аз. ЦАУ, в г. Баку) покойным доц. Абдуллою Субхан- вердихановым и подготовлены к печати упомянутым выше Институтом им. акад. Н. Я. Марра Грузинского филиала Акад. Наук СССР.1 Документы были написаны смешанным почерком— шикестэ-и насх. ч>
Ценность этих документов тем более значительна, что Кубинское ханство, сложившееся в последней четверти XVII в., в один из периодов своего существования (при Фатх-Али-хане, 1759—1789 гг. н. э.) объединило под своей властью добрую половину нынешнего советского Азербайджана, включая Кубу, Дербенд (с 1762 г.), Шемаху, Баку и Сальян на р. Куре; политическое влияние кубинских ханов всегда было велико.
Содержание документов этой серии более однообразно, нежели содержание рассмотренных нами ранее. Указы касаются исключительно земельных и других пожалований и владельческих прав хана и разных его вассалов, а также присвоения ими разных видов ренты-налога. Зато в этой области кубинские документы дают очень богатый материал.
Прежде всего это касается пожалований тийюля; об этом говорится в документах №№ 4, 7, 19, 23, 27 кубинской серии. Как и в нахчаванских документах, здесь в тийюль формально отдаются не только доходы с селений (как в сефевидских фирманах), но сами селения и право управления ими. Об этом читаем в указе Фатх-'Али-хана на имя Хаджи-бека, мелика будуг- ского, от шавваля 1188 г. х. (1774 г. н. э., декабря 5—1776 г., января 2): „Мы соблаговолили пожаловать ему селения Са'дан, Кушчи, Чираг, Уках и Чилган, дабы они, пребывая под его началом, служили бы ему..." 2 В некоторых указах в тийюль жалуются прямо жители (букв, люди —ахали) целых сельских общин, разумеется, с занимаемыми ими землями я угодьями.8 Что здесь шла речь о пожаловании ра'ийятов (крестьян) в личную зависимость — совершенно очевидно. Во второй половине
I о'***»
. i .«ч'А I * u V
АН ссгр3T^Ky^HHCKH* хацов» пеРс* текст и перевод, издан« Груэфилиалим ^илиеи, 1937. — Пишущий эти строки пользовался документами куоинскои серии в рукописи.
* Куб., № 7: у I; с
у СХ&лД Хаджи
ек в этом указе назван тийюльдаром (владетелем тийюля),
См. Куб., № 19, указ Шейх-Али-хана кубинского, изданный в месяце жит^»!! ** г* (1806 г, и, в., января 21 — февраля 19) о пожаловании
щ в тийюль Мухи-ад-дин-беку; № 23, указ Шейх’Али-хана от
Нин К Я Г' *’ г« н* Декабря 2—*30) # пожаловании „жителей селе- кУЛЬял целиком и полностью" (JU^ р (JUt) Ага-беку.
37
XVIII в. так же понимались права тийюльдара и в других полунезависимых ханствах Восточного Закавказья. Приведем для сравнения выдержку из указа Махди-Кули-хана карабагского 1224 г. х. (1809/10 г. н. э.): „Почтенный Ибрахим-Халиль1 и [сельская] община Эфендиляр да ведают, что так как покойный Ибрахим-хан2 пожаловал вас высокопочтенному Рустам- беку, то и мы вас пожаловали ему с тем, чтобы вы отбывали ему службу".3
Указы кубинских ханов перечисляют некоторые виды повинностей основной группы зависимых крестьян — ра'ийятов, т. е. крестьян-общинников, сидевших на своих участках земли. На ряду с рентой продуктами — основным видом ренты в тот период— в некоторой мере применялись и денежные сборы. В кубинской серии документов интересны две расписки, выданные ханским даругой (управляющим имениями хана) Мухаммед- Кули-беком ра'ийятам селения Кильвар4 в приеме от них „бай- рамлыка"— праздничного подношения — деньгами: в 1216 г. х. („в год собаки", 1801/02 г. н. э.) — 8572 туманов табризских,5 а в 1217 г. х. („в год свиньи", 1802/03 н. э.) —140 туманов табризских; любопытно распределение последней суммы: из 140 туманов 100 туманов были переданы в подарок („пишкеш") „рабам его величества" (бандаган-и сали), т. е. по сути дела самому Шейх- 'Али-хану кубинскому, 20 туманов отдано в пишкеш мулязимам, т. е. ханским конвойным-телохранителям, 20 туманов — жене хана („высокой особе" — „навваб-и алийэ").6 Кроме основного вида ренты-налога, носившего в Кубинском ханстве персидское имя „дах-йак"7 (буквально „одна десятая", т. е. десятина с валового урожая), и байрамлыка, в разных документах упоминаются еще „дах-ним (букв, „половина десятины", т. е., сверх 7юва- лового урожая, еще 7го его)> »касим" — мелкое постатейное обложение,8 итлак-дафтари9 — отчисления в пользу ханских канцелярий. Повинности работой (русум-и амалэ ва хидматанэ) упомянуты только в одном документе.10 Но из архивных дел XIX в. известно, что барщинные работы ра'ийятов колебались от 3 до
1 Кедхуда — староста селения.
2 Ибрахим-Халиль-хан Карабагский (1760—1806 гг. н. э.) из династии Джаваншмров, отец Махди-Кули-хана (1806—1822 гг.).
3 Аз.1-ЦАУ, ист. архив, фонд Бакинской бекской комиссии, д. Na 3, л. 546,
4 Жители Кильвара ираноязычны — говорят на татском языке; до недав¬
него времени они числились христианами армянской церкви и потому офи-» циально признавались армянами.
6 Куб., Na 14. в Куб,, №15.
7 Синоним упомянутого уже термина „маль ва джехат“.
8 Куб., Na 7. Как видно из актов периода царского владычества, это обложение включало целый ряд сборов: сбор с садов (баг-баши), сбор за пастьбу скота (чоп-баши), сбор за разрешение крестьянину женить сына или выдать замуж дочь и т. д.
9 Куб., Na 4.
10 Там же.
38
б дней в году, не считая еще так наз. ,/аваризат" — работы на пахотной земле или стройке владельца всем сельским сходом;
ме того, сюда входило предоставление лошадей и перевозочных средств при перекочевках беков на кишлаги и яйлаги (зимние и летние пастбища).1
4 Мульк в кубинских документах упоминается один раз —
указе Шейх-'Али-Хана на имя Аллахверды-бека, изданном в месяце раби' I 1222 г. х. (1807 г. н. э., мая 9 — июня 7).2 Это упоминание во всяком случае доказывает, что эта форма землевладения была известна в Кубинском ханстве, как и в других ханствах, хотя историки великодержавной и буржуазно-националистической школ утверждали, будто мульки существовали только в ханствах Ереванском и Нахчаванском.
В нескольких документах говорится о пожаловании служилым людям зимних и летних пастбищ (кишлагов и яйлагов). В указе Шейх-'Али-хана от мухаррема 1218 г. х. (1803 г. н. э., апреля 23 — мая 22) о пожаловании яйлага Чилик Хейдар-беку употреблено выражение „хаме-салэ“ („ежегодное");3 это, как было сказано, один из видов тийюля (хотя слово „тийюль“ тут не упомянуто), дававшегося взамен годового жалованья за действительную службу.
Три документа кубинской серии касаются института ма'афов, Арабский термин „ма'аф | му'аф" 4 уже в XI в. прилагался к лицам, освобожденным от тех или иных государственных налогов и повинностей.5 В Закавказье XVI—XVIII вв. ма'афами называли как представителей класса феодалов, освобожденных от налогов в диван,6 так и крестьян, освобожденных от всех налогов и повинностей в пользу дивана и частных землевладельцев, взамен обязанности нести военную службу. Документов о ма'афах до нас дошло немало. Но кубинские документы интересны тем, что говорят о коллективном масафстве, пожалованном ханами целой сельской общине (джама'ат) Худад. Впервые эта привилегия была дана сел. Худад еще первым кубинским ханом, Хусейн-ханом (ум. около 1689 г.), построившим в Худаде крепость, служившую до 1735 г. резиденцией кубинских ханов.
См. об этом подробно в изданных в Тбилиси в 1866 г* официальны* „Описаниях" провинций Шекинской, Ширванской и Карабахской, доставленных в 1819—1823 гг., при введении в ликвидированных ханствах царской администрации.
2 Куб., № 22.
8 Куб., № 13.
4 v-ila/o, букв. — „освобожденный, изъятый'4 [от податного обложения]', ”привилегированный"; ему соответствовали термины т—персидский „азад* и монгольский „тархан".
5 См. в сохранившемся отрывке „Истории султана Махмуда* персидского историка XI в. Бейхаки, приведенном компилятором XV в. Хафиз -и Абру, у В. В. Рартольда, Туркестан в впоху монгольского нашествия, ч. I, Тексты, стр. 158.
См. Эчм., № 3/33, фирман шаха Хусейна от раб’и II1124 г. х. (1712 г. *•, мая 8 — июня 5) об освобождении (ма афи) некоторых пахотных земель атоликоса Александра I от налога в диван.
39
Его указала упомянутой серии документов нет, но есть свидетельство (шихадэт-намэ) чиновных людей ханства о том, что это право действительно было пожаловано сел. Худад.1 Затем привилегия эта была подтверждена ханом Ахмедом I; его указ также до нас не дошел, но о нем упоминает указ его преемника, Султан-Ахмед-хана, изданный в месяце джумаде II 1122 г. х. (1710 г, н. э., июля 28 — августа 25) и подтвердивший за сел. Худад права ма'афства.2
Как известно, „мученик" Султан-Ахмед-хан был убит в этом же Худаде в 1711 г. н. э. во время восстания Хаджи-Давуда лезгинами, действовавшими в союзе с „мятежными подданными" (вероятно крестьянами) хана. Но можно думать, что сами жители Худада не принимали участия в восстании, ибо их привилегии были еще раз подтверждены Хусейн-Али-ханом кубинским в месяце зу-л-хиджже 1139 г. х. (1727 г. н. э., июля 20 — августа 18),3 что было бы едва ли возможно, если бы худадцы принимали участие в „цареубийстве".
Приведем отрывок из последнего указа: „Высокий указ последовал о том, что ныне [на основании] указов хакимов — благородных ханов, величайших султанов, знаменитейших правителей, [ныне] обитающих в раю, [нашедших] убежище в помиловании и прощении грехов [богом], Хусейн-хана, Ахмед-хана и достойнейшего из мучеников Султан-Ахмед-хана — да помилует их всех аллах всевышний — относительно освобождения (ма'афи) общины слободы (касаба) Худад... мы соблаговолили постановить числить упомянутую общину, согласно прежним распоряжениям, в числе свободных и старинных ма'афов сей [высокой] стороны (т. е. хана) й защищать и охранять их от [уплат по] ассигновкам (хавалэ) и обязательствам (кабалэ), от итлак дафтари 4 и крестьянских повинностей (такалиф-и раи'йяти), и [чиновникам], укоротив и убрав перья и ноги,5 числить их исключенными по всем статьям".6
1 Куб., № 1, от зу-л-хиджжн 1117 г. х. (1706 г. н. э. марта 16 —апреля 14).
2 Там же, № 2.
3 Там же, Ns 3.
4 См. выше.
5 Т. е. не заводя переписки и не вступая на освобожденную территорию.
То же выражение встречается в иммунитетном дипломе шаха Хусейна 1113 г. х. (1701 г. н. в.), выданном на имя Байяндур-хана карадагского, Melanges Asia- tiques, t. Ill, livraison 1, 1857, texte pers., p. 71—74.
^IaLo
ч\.Г * * 1 r.l . А / •• . . * .. .. Л . 1 ^ . V _ I
40
Особенностью кубинской серии является обилие в ней пожа- ний в личную зависимость бекам не только селений, но ловадельНых людей, без земли. О таких пожалованиях говорится И десяти указах.1 В некоторых указах речь идет о пожаловании бекам и другим лицам ранджбаров. Персидский термин рандж-, бар (буквально, „несущий бремя", „трудящийся") в XVII— XVIII вв.2 в разных ханствах Закавказья имел разное значение (в том числе И крестьянина-издольщика). В Кубинском ханстве он обозначал особую категорию крестьян, занятых работой исключительно в личном хозяйстве феодала. Эти работы и назывались „ранджбарскими обязанностями" (умур-и ранджбари).3 Кадры ранджбаров формировались частью из числа беглецов или пленников из других ханств, уведенных во время набегов и войн.4 Указом хана Ахмеда II от зу-л-хиджжи 1204 г. х. (1789 г. н. э., августа 12 — сентября 9) два ширванца — Малик и Аскер—были пожалованы Хаджи-Челеби-эфенди.5 Ширванцы в Кубинском ханстве могли быть только вольными или невольными переселенцами.
В отличие от ра'ийятов, ранджбары не входили в число чле-» нов сельских общин.6 Владельцы могли переселять их из одного селения в другое по своему усмотрению. Упомянутый документ № 8 и предоставляет Хаджи-Челебк-эфенди право переселить ширванцев куда ему будет угодно — в сел. Алидж или в любое другое селение. Ханские указы, в сопоставлении с архивными документами XIX в., показывают, что ранджбары прикреплялись не к земле, а к личности своего владельца. Иногда (но не всегда) ранджбары освобождались от податей и повинностей в пользу казны (дивана), дабы они со спокойным сердцем усердствовали и старались в [отправлении] ранджбарских работ своему беку,7 иными словами, чтобы он мог усилить эскплоатацию ранджбаров.
В ряде указов говорится о пожаловании людей в личную зависимость, но не говорится, каково было социальное положе-? ние пожалованных. Возможно, что в некоторых случаях речь идет о тех же ранджбарах, хотя они и не названы прямо этим именем.8 В некоторых указах ханы жаловали своих мулязимов в личную зависимость чиновным людям.9 Но из тех же указов
1 №№ 8,10, И, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29.
В более ранних документах нам не доводилось встречать его.
3 Куб., № 24.
* См. об этом АКАК, т. VII, № 373.
* Куб., № 8.
6 См. Аз. ЦАУ, ист. арх., фонд Дербендского военного губернатора, д. Na 19, л. 2, — та'лика Шейх-Али-хана кубинского 1216 г. х. (1801/02 г. н. в.).
7 Куб., № 24.
I Куб., № 17,18, 21, 26.
. 9 Куб., Na 5, указ „Фатх-'Али-хана, изданный в месяце мухарреме 1175 г. х.
(1761 г., августа 2—31) о пожаловании сельской общины Дэдвлу, состоявшей из мулязимов и ра'ийятов и ранее пожалованной „цвету себе подобных*1 Мур- Тааа-Алц-беку, сыну последнего
41
видно, что в ханстве признавалась и зависимость одних членов бекского сословия от других. Так, указом Шейх-Али-хана, данным в месяце джумаде II 1223 г. х. (1803 г. н. э., июля 25 — августа 22), некоему Ильдар-беку1 был пожалован его племянник по сестре Рахим-ага Таги, дабы он, находясь под началом и под властью („дар тахт ва тасарруф“) своего дяди, отправлял ему подобающую службу.2
Другие указы кубинских ханов, не вошедшие в упомянутую коллекцию, как и указы и жалованные грамоты других азербайджанских ханов — карабагских, шекинских, ширванских и талыш- ских, — сохранились в небольшом количестве; они разрознены по разным фондам Исторического архива Аз. ЦАУ, есть они также и в рукописном отделении Музея Грузии. Лишь часть из них сохранилась в персидских подлинниках, часть же лишь в русских казенных переводах. Подробное перечисление их нам здесь представляется ненужным. Больше всего сохранилось указов карабагских ханов из династии Джаванширов: Панах-хана (1747—1760 гг. н. э.), Ибрахим-Халиль-хана (1760—1806 гг. н. э.) и больше всего Махди-Кули-хана (1806—1822 гг. н. э.).3 Их русские переводы, сделанные или проверенные Графом, значительно лучше и точнее других русских казенных переводов. Затем, довольно много указов кубинских ханов, особенно Фатх- 'Али-хана (1759—1789 гг. н. э.), Ахмед-хана II (1789—1791 гг. н. э.) и Шейх-'Али-хана (1791—1810 гг. н. э.) сохранилось в подлиннике, большею частью в поистине ужасающих казенных переводах.4 Почти все они касаются пожалований бекам и служилым людям пастбищ, селений и ранджбаров и по содержанию почти ничем не отличаются от упомянутых уже нами указов местных ханов. Отметим лишь один действительно важный момент, который мы встречаем в указах карабагских ханов,— указание на прикрепление крестьян-ра'ийятов к земле и отсутствие1 права перехода. Об этом говорит, напр., предписание Ибрахим-Халиль-хана карабагского от 1205 г. х. (1790/91 г. н. э.) кедхудам (старостам) селений, принадлежавших вассалу хана мелику варандинскому, — собрать всех беглых ра’ийятов и водворить их в тех селениях, где они жили ранее;5 о том же говорят указы Махди-Кули^хана без даты (о беглых кре¬
1 Тому же Ильдар-беку были однажды пожалованы 2 семейства ранджбаров, см. Куб., № 24, указ Шейх-Али-хана от шавваля 1222 г. х. (1807 г. н. э., декабря 2—30).
а Куб., № 25.
3 Аз. ЦАУ, ист. арх., в фонде Бакинской бекской комиссии, д. №№ 2—3 н в некоторых других фондах,
4 Аз. ЦАУ, ист. арх., фонды кубинского коменданта, дагестанского военного губернатора, кубинского уездного начальника и др.
3 Аз. ЦАУ, ист. арх., фонд вое^но-окружн. начальника, д. № 14, л. 414,
42
стьянах Гандзасарского монастыря)1 и 1238 г. х. (1822 г. н э.).2
Этим мы могли бы и завершить обзор персидских официальных документов, относящихся к Закавказью, Выше уже было сказано, что эти документы — особенно изданные центральным шахским правительством Ирана — не вполне отображают действительные отношения .своего времени, преломляя их сквозь призму идеологии и условного канцелярского языка. Однако без этих документов попытка изучения феодальных отношений в мусульманских" государственных образованиях на территории Азербайджана и Армении XVI—XVIII вв. не дала бы почти никаких результатов: нарративные источники дали бы нам только скудные обрывки пестрой ткани, по которым было бы напрасно пытаться воссоздать весь рисунок в целом. Столь же неудачной была бы попытка ретроспективного исследования феодальных отношений XVI—XVIII вв. на основании материалов закавказских архивов XIX в.: многие из этих материалов безнадежно запутаны царскими чиновниками. Документальные персидские источники поэтому приобретают для данной проблемы значение главного источника; только пользуясь ими, можно с пользой для дела привлечь и современные им местные нарра- тивные источники, и архивные документы XIX в. К этому следует прибавить еще эпиграфические материалы, почти совсем для данного периода не изученные и слабо выявленные, хотя многие из них являются настоящими документами. Не останавливаясь на них, — обзор их мог бы послужить темой для особой статьи, — укажем лишь на две персидские надписи исключительного значения: надпись 1016 г. х. (1607/8 г. н. э.) над порталом соборной мечети (масджид-и джами") в Ордубаде, в Нахча- ванском крае, о пожаловании шахом "Аббасом I прав налогового иммунитета г. Ордубаду3 и надпись 1145 г. х. (1732/33 г. н. э.) на стене мечети в селении Вананд, также в Нахчаванском крае, рисующую тяжелое положение крестьянства, разоренного войнами и междоусобиями.4
Говоря о значении наших документов как источника по феодальным отношениям Воет. Закавказья, заметим, что они позволяют установить еще одну черту специфики этих отношений: исчезновение рабовладельческого уклада внутри феодального общества. Этот уклад несомненно существовал еще в монгольский период (XIII—XIV вв.): приведенные Рашид-ад-дином указы Газан-хана (1295—1304 гг. н. э.) говорят о применении труда
1 Аз. ЦАУ, ист. арх., фонд Бакинской бекской комиссии, д. № 2, л. 293.
2 То же дело, л. 299. О возвращении на места ра'ийятов, ушедших в другие ханства, см. АКАК, т. I, док. №№ 824, 833; т. И, док. JVbJSfe 1350, 1353.
. 3 Приведена в сборнике надписей Н. Ханыкова — Memoires sur quelques
inscriptions musulmanes du Caucase, Paris, 1863, texte pers., pp. 94—96. Есть W французский перевод.
4 Ibid., texte pers., pp. 96—97,
43
„рабов и пленников“ (гуляман ва асиран) при обработке полей владельцев военных ленов (икта')1 и в ханских ремесленных мастерских (карханэ).2 Напротив, документы XVI — нач. XIX вв. ничего не говорят о рабах, занятых в ремесле или сельском хозяйстве. Мы встречаем упоминания о рабах лишь в плане домашнего рабства, но и эти упоминания крайне скудны. Хорошо известно, что в этот период из Абхазии и стран Сев. Кавказа вывоз рабов был обилен. Но их вывозили в Турцию, Иран, в Азербайджане же и Армении их оседало, повидимому, очень немного. По крайней мере в упомянутых документах нам пришлось встретить упоминания о рабах только два раза. Из одного из персидских документов Эчмиадзинского архива3 мы узнаем, что богословы мазхаба (учения) поклонников 12 имамов (т. е. ши'итов) были запрошены, может ли какой-нибудь армянин („армянин Халид") владеть купленным рабом'(гулямом)?4 Последовал ответ (фетва): да, это хорошо известно, но раб в этом случае также должен быть зиммием (христианином или евреем). В цитированном уже нами прошении нахчаванских ра'ийятов Керим-хану Зенду (1749—1779 гг. н. э.) читаем: „Соблаговолили бы пожаловать правосудный указ, дабы отныне ра'ийятов и илятов (кочевников) не обращали в гулямов и мулязимов.5
Всякий гулям, да будет им [тот], кто остался [таковым] от отца или куплен за золото или чужестранец..."6 В полном согласии с нашими документами и европейские путешественники — Стрейс (Struys), Кемпфер и другие говорят о существовании в Воет. Закавказье лишь домашнего рабства.
1 Рукопись ИВ АН D — 66, лл. 4056—408а.
2 Та же рукопись, лл. 416а—417а.
3 Эчм., № 2/16, без даты, повидимому, второй пол. XVII в.
4 Термин „гулям" имел разные значения, но упоминание о покупке говорит о значении „раб".
3 В данном значении: военный слуга, челядинец.
6 Нах., № 9, перс, текст, стр. 65: j CUiLLä ^b^Ä. Ьа» оЦх*
...oOob b oJob^bb owkiU jwu \\
44
М. П. ВЯТКИН
СКАЗКИ" XVIII в. КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
При изучениии истории казахов, не имевших за подавляющее время колониального периода своего существования письменности, исследователь сталкивается с большими трудностями. Эти трудности вытекают из крайней недостаточности и отрывочности материала. Не останавливаясь на данных, содержащихся в опубликованных материалах и исследованиях, которые нуждаются в их критическом освоении, и прежде всего в выяснении источников, которыми пользовались авторы (напр. Пал- лас, Фальк, Рычков и др.), так как далеко не всегда этим источником являлось непосредственное наблюдение, мы остановимся лишь на архивных, еще не опубликованных материалах. Этот материал вообще довольно разнообразен: донесения губернаторов и других официальных лиц петербургскому правительству, переписка местной администрации и членов правительства с ханом и султанами (реже попадаются письма старшин), экстракты, журналы и пр.
Мы в настоящем очерке остановимся лишь на „сказках" лиц, посылавшихся в Орду с официальными, нередко тайными поручениями. Эти „сказки" отбирались у возвращавшихся из Орды лиц обычно в Оренбургской губернской канцелярии. Мы не охватим в этом очерке всех „сказок", а остановимся лишь на „сказках", сохранившихся в центральных архивах и прежде всего в ГАФКЭ, дела которого были детально нами обследованы. Эту оговорку необходимо сделать между прочим и потому, что „сказки" в большом количестве сохранились от 40-х и 50-х годов XVIII в.; начиная с 60-х годов их число заметно падает.
Между тем в донесениях оренбургских губернаторов Давыдова, Путятина, Рейнсдорпа очень часто встречаются ссылки на „сказки", однако сами „сказки" стали прилагаться к донесениям сравнительно с 40-ми и 50-ми годами редко. Очевидно, эти „сказки" следует искать в Оренбургском областном архиве, в фонде Оренбургской губернской канцелярии; ряд таких »»сказок" нами был там обнаружен.
45
С формальной стороны „сказки" однотипны, и с этой стороны анализ их не представляет большого интереса. Формальным признаком этой разновидности документа служит следующий абзац:
„Такого-то года, месяца, числа посыланные в Орду к такому- то, возвратясь, в канцелярии Оренбургской комиссии (позднее Оренбургской губернской канцелярии) объявили". Далее следует текст „сказки", обычно разбиваемый на пункты; завершается „сказка" подписями или лиц, с которых взята „сказка", обычно на татарском языке, или копииста, писавшего текст „сказки", напр.: „К подлинной сказке вместо показанных Лапина и Мансура руку приложил канцелярии Оренбургской комиссии копиист Андреан Черницын".
Иногда сказка сопровождается пометкой: „Регистратор читал" или „с подлинного читал протоколист Степан Иванов". В ряде случаев „сказки" подписывались представителями оренбургской администрации, очевидно отбиравшими „сказку"; так, напр., в 40-х годах XVIII в. часто встречается под „сказками" подпись Петра Рычкова. В отдельных случаях встречаются указания на переводчика, через которого „сказка" отбиралась, напр.: „толмачил толмач Филат Гордеев, в чем он и подписался".1
Таким образом сведения из „сказок" дошли до нас из вторых и иногда из третьих рук (копииста и переводчика),— это общая особенность данной разновидности исторического документа. Ее следует отметить, так как она, очевидно, обязывает к осторожному пользованию „сказкой", так как всегда возможно допустить неточность передачи мысли лица, дававшего „сказку".
Значение „сказок" определяется прежде всего тем, что „сказки" являются первоисточником в изучении истории Казахстана, тем более ценным, что документов, исходящих от самих казахов, мы имеем сравнительно мало и подавляющее большинство из них исходило от очень ограниченных кругов казахских владельцев — султанов и хана. Причем все эти документы писались татарскими муллами условным канцелярским языком, близким к джагатайскому. Сами феодалы прикладывали лишь свои печати.
Нужно иметь в виду, что информация пограничной администрации питалась в основном, по крайней мере в середине XVIII в., сведениями, отбираемыми через „сказки". Донесения местной администрации центральному правительству являлись переложением содержания этих „сказок". Иногда эти донесения дополнялись критическими замечаниями и выводами, определяющими линию колониальной политики. Если эти донесения
1 ГАФКЭ, Коллегия иностранных дел, дела киргиз-кайсацкие, Картон 13, 1746 г., № 3, л. 80об.
46
являются первоклассным материалом для изучения колониальной политики царизма, то для изучения внутренней истории казахов они — документ производный. Первенствующее значение здесь принадлежит „сказке". В данном отношении „сказки" тем более ценны, что исходили в большинстве от лиц по социальному своему положению далеко стоящих и от чиновной царской знати и от феодальной верхушки казахского общества. На самом деле, просматривая список лиц, дававших „сказки" в Оренбургской губернской канцелярии, мы здесь встречаем имена сакмарских казаков Мансура Асанова и Кубека Байназарова, казаков из татар Юсупа Артемьева и Абдуллы Айтова, Бузу- луцкой крепости казака Матвея Арапова. Иногда это были люди, стоявшие на низшей ступени социальной лестницы, напр. Именда Текметов, который находился „вместо кощея" у одного из оренбургских татар. Среди лиц, дававших „сказки", мы находим имя башкира Тюкана Балтасова, калмыка Абида, татарского ученика Михайла Анчухина, крещеного калмыка Гаврила Федорова. Все это представители весьма демократических слоев тогдашнего общества. Или „сказки" отбирались у лиц, принадлежавших к низшему слою служилого люда; к ним относился переводчик Юмангул Гуляев, казачий урядник Ф. Найденов, казачий атаман татарин Смайл, мулла Абдрезя- ков. Только раз встречается имя вахмистра князя Уракова.
Очень редко встречаются имена казахов, напр., сохранилась одна „сказка с доброжелательного киргизца Байбека батыря", хотя устными показаниями казахов, приезжавших на мену или задерживаемых на линии, местная администрация пользовалась довольно широко.
Вполне естественно, что эти лица в своих „сказках" стремились ограничить свои сообщения кругом вопросов, интересовавших местную администрацию. Но то, что они по своему социальному положению стояли далеко от правящей знати, способствовало расширению круга их наблюдений за пределы интересов царской администрации. Они естественно обращали внимание на стороны жизни казахов, близкие их интересам. Их внимание привлекали и бытовые вопросы и вопросы общественной жизни казахов. И эти наблюдения пробивались в их „сказках", вкрапленные обычно в текст иной тематики. Круг наблюдений, отразившихся в „сказках", мог быть тем шире, что многие лица посылались в Орду надолго, другие ранее длительный срок проживали в степи. Например, Иван Лапин, посланный к Абулмамбету Неплюевым, был „выходец из каракалпацкого плену".1 При постоянных сношениях и столкновениях каракалпаков с Казахами он не мог не знать быта казахов. Башкиру Тюкану Балтасеву было „пребывание свое позволено иметь в той Орде для проведывания и сообщения сюда тамошних ведо-
1 КИД, дела х-к, К*. 9, 1743 г., № 3, л. 119.
47
Гостей, под видом якобы житья там, — для отыскания сродников и прочих ево нужд“.1 Князь Ураков был определен „при Абулхаир хане для смотрения на его поступки“.2 Переводчика Араслана Бакметева хан Абулхаир сам задержал в Орде в обиде на оренбургского губернатора Неплюева. Другое обстоятельство, кроме продолжительности пребывания в Орде, которое следует отметить как способствующее расширению наблюдений посланцев, было то, что эти лица проникали глубоко в степь. Например, казак Мансур Асанов ездил с ханом Абул- мамбетом в г. Туркестан и прожил там около года.3
Все это объясняет нам то на первый взгляд странное явление, что информация царской администрации в 40-х годах XVIII в., т. е. в начале укрепления колониального господства царизма в степи, была не хуже, чем, напр., в конце XVIII в., когда нередко, но далеко не всегда, власти ограничивались прилиней- ной информацией.
Правда, на ряду с этими моментами следует отметить и иные, суживающие круг наблюдений лиц, дававших „сказки“. Здесь нужно прежде всего указать на то, что эти лица снабжались обычно специальными инструкциями.
Инструкции по своему содержанию разнообразны. Наиболее часто они сводились к поручениям вести переговоры о выдаче пленных, о даче аманатов или содержали в себе дипломатические поручения, напр., выяснить возможность выступления казахов в случае войны России с Китаем. Нередко встречаются поручения побуждать хана содействовать развитию торга, но никогда не встречается поручений выяснить внутренние классовые отношения в казахском обществе, — очень редко давались поручения выяснить отношения между различными феодальными группировками. Ни разу царское правительство не поднялось до мысли о необходимости представить себе общую картину общественных отношений вассального народа. Инициативу в этом направлении, правда очень редко, проявляли представители местной администрации. Например, в 1759 г. П. Рычков и А. Тевкелев послали в Коллегию иностранных дел обширное донесение, задачей которого являлось дать общую картину „тамошних обстоятельств“, в частности картину социальных отношений казахского общества.4 Но эта попытка явно не удалась. Нужно, впрочем, отметить, что инструкции формулировали поручения так, что открывали возможность расширения круга наблюдений, напр., Кубек Байназаров был послан „к хану, салта- нам, тарханам, старшинам, батырям и народу о сыске, о поимке и о присылке сюда бежавших не поселявшихся на Самаре реке
1 КИД, дела к-к, К. 10, 1744 г., № 4, л. 116.
2 Там же, л. 240;
3 Там же, л. 105.
4 Там же, К. 30, 1759 г., Ка 4, лл. 27—55об.
48
кондуровских татар 25 семей и разведывания тамошних обстоятельств".1 2 Подобные указания встречаются очень часто.
В основной своей массе показания „сказок" освещают вопросы внешнеполитического характера. Но среди таких показаний встречается большое число сведений, очень ценных и с точки зрения освещения вопросов, связанных с внутренней историей казахского общества. Остановимся на ряде показаний. Прежде всего обратимся к показаниям по внешнеполитическим вопросам. Интерес таких показаний выходит за рамки истории Казахстана. Малая и Средняя Орды находились в тесных связях и взаимоотношениях с Джунгарией, Хивой, каракалпаками, Китаем. В „сказках", относящихся к 40—50-м годам XVIII в., наиболее полно освещены взаимоотношения казахов с Джунгарией. Известно, что после войны с джунгарами в 20-х годах XVIII в. Большая Орда подпала под вассальную зависимость от джунгар. Что эта вассальная зависимость воспринималась очень остро казахскими владельцами Большой Орды, показывает, напр., то, что „знатнейший кайсаченин Тюля бий", который „и в Ташкенте более хана владельцем почитается", при свиданйи с ханом Абулмамбетом советовал ему „чтобы на зюн- горских калмык не надеялись, но больше б опасались, ибо де от них добра не будет, от которых в случае утеснения и они, Большой Орды кайсаки, спасения себе найтить не знают, как перекочевкой к Российской же стороне".8 Мы можем понять, чем питалось такое отношение к Джунгарии. Если подданство казахов России в начале 40-х годов имело еще в значительной мере номинальный характер, то подданство Джунгарии было совершенно реально»
Прежде всего это сказывалось в том, что владение той или* иной областью обусловливалось пожалованием этого владения со стороны джунгарского хунтайджи. В начале 40-х годов XVIII в. Хазрет (г. Туркестан) находился во владении султана Сента, сына хана Шемяки, который „не от киргиз-кайсацких владельцев, но от Галдан Чирина к ним определен".3 Когда Абулмамбет прибыл в г. Туркестан и между ним и Сеитом возникла борьба из-за обладания г. Туркестаном, Сеит заявил, что поскольку он „на Туркестанское ханство прежде ево Абул- мамбета вступил и тому же не собою, но определением зюнгор- ского владельца Галдан Чирина, без ведома которого того ханства он, Сеит, и отдать не хотел".4
^пор закончился тем, что обе стороны „согласились на том, чтобы им до определения Галдан Чирина ханствовать тут
1 КИД, дела к-к, К. 14, 1744 г., № 3, л. 269.
2 Там же, К. 10, 1744, № 4, лл. 107об., 108.
Там же, л. 106об.
4 Там же, л. 107.
4
П$о5лемы источниковедения
49
обоим", причем интересно отметить, что это соглашение было принято на собрании в мечети в присутствии „калмыцкого управителя", „кой от Галдан Чирина находится тут для всех их калмыцких дел командиром".1
К сожалению, трудно точнее определить функции этого уполномоченного джунгарского хунтайджи. По всей вероятности это вскользь брошенное Мансуром Асановьш замечание надо понимать так, что не только дела, касающиеся калмык, были изъяты из ведения местного хана и находились в юрисдикции особого доверенного лица Галдан Церена, но полномочия этого „управителя" были более широкими, иначе трудно было бы объяснить его участие в решении вопроса, кому быть ханом в Хазрете. Во всей этой истории для обеих сторон, и для Сеита и для Абулмамбета, представлялось бесспорным, что последнее решение их спора зависит от джунгарского хунтайджи. Мансур, рассказывая все эти события, происходившие в Хазрете, прибавляет, что „он, Сеит, и тем после не удовольствовался и не хотя того Абулмамбета допустить, сам к нему, Галдан Чирину, поехал, а Абулмамбет от себя людей своих послал".2 Решения вопроса джунгарским хунтайджи Мансур не дождался. Не оставляют сомнения содержащиеся в „сказках" показания и в том, что полномочия владельцев, вассалов хунтайджи, были ограничены; это бесспорно в отношении внешних политических отношений. Тот же Мансур рассказывает, что Абулмамбет, отправляя, его, Мансура, обратно в Россию, решил отправить вместе с ним „из туркестанских жителей знатнейшего ходжу Асаллу со объявлением, что туркестанские жители все подданства ея и. в. желают так же, как и оной Абулмамбет хан".
Однако про предполагавшуюся посылку узнал „обретающийся в Ташкенте калмыцкий управитель", запретил эту посылку и при этом „объявил хану, что и тово ему много, яко он без ведома Галдан Чирина в Туркестане до ханства доступил, а то де еще сверх того туркестанским жителям, яко в ево, Галдан Чириновой, власти состоящими, в Россию и посольство чинить хочет, что де он того без воли ево, Галдан Чириновой, допустить не может", и Абулмамбет этому запрещению должен был подчиниться: „чего ради он, хан, принужден уже ево, Мансура, с своими токмо кайсаками отправить", прибавляет Мансур Асанов.3
На казахов, подчинившихся джунгарскому хунтайджи, были наложены материальные повинности. В „сказках" сохранились сведения об отдельных поборах. Так весной в 1744 г. в Хазрет приезжали два раза посланцы от Галдан Церена с требованием дани: и „сожители того города собрав взяли на Гал-
1 КИД, дела к-к, К. 10, 1744 г., № 4, л. 107 об.
2 Там «о, л. 107об.
3 Там же, л. 109об.
50
й Чирина, в оба же приезда пороху ручного и свинцу по ось- мидеся^й по пяти пуд“.1 ЗахмисТр князь Ураков показал, что в Большой Орде калмыцким войском „был побор пансырями“.2
Повидимому, этот побор был не совсем обычным. По крайней мере старшина Тюлебай бий ездил к Галдан Церену и „просил, чтобы те собранные панцыри им возвратить со объявлением, что такой налог ни у дедов, ни у отцов их не бывало“,3 но безрезультатно: старшина „принужден возвратиться ни к чему“. Помимо указаний на такие поборы материальными ценностями есть указания на обязанность казахов поставлять людей для джунгарского войска. Тот же Ураков показал, что джунгарские уполномоченные в Большой Орде „знатных той Орды молодых людей переписали в службу и оставили их с таким приказом, дабы были в поход готовы, якобы под Абулкерим бека“.4 ^
Ураков ничего не говорит, чтобы такая перепись вызвала протесты местного владельца, впрочем, возможно потому, что фактически мобилизации проведено не было.
Но в то же время это указание на наборы людей не единственное. Башкир Тюкан Балтасев показал в своей „сказке“, что Галдан Церен „с Сары Манджею и Ептанем из ташкенцев и кайсаков Большой Орды десять тысяч требовали, но оные к наряду более не обнадежили как в трех тысячах“.5 Выяснение взаимоотношений казахов и джунгар представляет само по себе большой исторический интерес. Но выяснение этих взаимоотношений очень существенно и для истории фактического подчинения казахов царской России. До 40-х го^в „принятие подданства“ было чисто фиктивным, этого не могла отрицать и старая, дореволюционная историография.6
Когда укрепление царистского влияния в казахской степи относят ко времени оренбургского губернатора И. И. Неплюева (1743—1758 гг.), это следует признать справедливым. Но успех колониальной политики, проводимой И. И. Неплюевым, был бы не объяснен без детального выяснения внешнеполитического положения Малой и Средней ОрД. В 1741 г. произошел новый разгром Средней Орды Джунгарией, следствием которого явилось подчинение владельцев этой Орды, джунгарскому хун- тайджи. Один из крупнейших владельцев, Аблай, был захвачен в плен; другие крупные владельцы — хан Абулмамбет, Барак — должны были признать вассальную зависимость от джунгарского хунтайджи и дать ему в обеспечение подданства аманатов. Мы знаем, на основании материала „сказок“, в чем реально
1 Там же, л. 108об.
2 Там же, л. 242.
3 Там же, л. 242об.
4 Там же* л. 242.
5 Там же, л. 120об.
Ср., напр., Крафт, „Принятие киргизами русского подданства“. Изв, Оренб. отд. ИРГО/Оренбург, 1897 г., вып. 12.
4%
51
выражалось это „подданство". Поэтому нам будет понятно то настроение владельцев, настроение подавленности и растерянности, которое ярко отразилось в „сказках". Это настроение было благоприятной почвой для того, чтобы среди казахских владельцев широкой популярностью стала пользоваться мысль об ориентации на Россию. После жестокого разгрома 1741 г. вести самостоятельную политику в области международных отношений казахские владельцы не могли. Это состояние бессилия и растерянности прекрасно отразили „сказки". Возьмем хотя бы пересказ башкиром Тюканом Балтасевым выступления султана Барака на собрании старшин, где Барак „представлял, что сколько до сего при Российской стороне они ни находились, то от оной не только никакого озлобления не видали, но паче многие награждения получали, и жили во всяком покое и по своей воле; а к зюнгорской стороне не успели еще и пристать, то видите де какое от них благополучие является и тако де где им де пользу лучше найтить можно, кроме как токмо от той же Российской стороны",1 или слова Казбек бия Бараку: „видишь де ты какая от зюнгорской стороны опасность, а и с каракалпаками замешались, к тому де слух есть, что и с Российской стороны войска собираются, тако де ежели оные от России подлино пойдут, то куда деваться неведомо".2 Очевидно, что условия укрепления своего влияния в степи были исключительно благоприятны для царского правительства. Они значительно изменились со смертию Галдан Церена (1746 г.). Эту благоприятную для себя обстановку царская администрация сумела использовать лишь в отношении Малой Орды, добившись, после ряда ошибок, значительного усиления своего влияния среди владельцев этой Орды. В отношении Средней Орды эта обстановка использована не была, а после смерти хунтайджи Галдан Церена международное положение владельцев Средней Орды изменилось настолько, что они уже не считали для себя жизненно необходимым искать протектората России. Но рассмотрение относящихся к данной теме вопросов уже выходит за рамки настоящей статьи.
Исключительно богатый материал дают „сказки" по вопросу внутрифеодальных отношений между различными феодальными группировками. В этом отношении большое значение имеет тот фактический материал, который сообщают „сказки" о районах кочевок отдельных феодалов. Донесения местной администрации, когда она сообщала петербургскому правительству данные о районах кочевок, как правило, лишь повторяют сведения, содержащиеся в „сказках". Этот материал в достаточной мере точен и является совершенно незаменимым для выяс-
1 КИД, дела к-к, К. 10, 1744 г., № 4, л. 118* 8 Там же, л. 122об.
52
нения внутрифеодальных отношений. Дело в том, что сведения об этих взаимоотношениях, содержащиеся в донесениях, крайне засорены оценочными моментами, затемняющими или иногда искажающими действительный характер этих взаимоотношений. Зная районы кочевок отдельных „родов", а также кочевок феодалов и их вассальную взаимозависимость, мы можем с достаточной точностью вскрыть степень влиятельности того или иного феодала. В частности, эти сведения позволяют выявить действительную роль хана Абулхаира, исправить те представления о характере Казахского союза в 40-х годах XVIII в., которые исходили из Оренбургской губернской канцелярии и некритически были восприняты русской историографией.1
Не касаясь здесь вопроса о борьбе между различными феодальными группировками, материал по которой довольно значителен, остановимся лишь на одном вопросе, именно — о характере вассалитета, существовавшего в казахском обществе.
Прежде всего возникает вопрос, каков был порядок замещения отдельных владений. Несомненно, что существовало еще старое представление о старшинстве как основании получения звания хана. Когда возник спор, о котором мы писали выше, из-за Туркестанского владения между Абулмамбетом и Сеитом, „Туркестанскими жителями сделано было собрание, причем и они, Абулмамбет и Сеит ханы, были, на котором советовали, чтобы Сеита от ханства отстранить, а быть бы на том ханстве Абулмамбету, затем, что он ево, Сеита, годами старее".2 Так же обосновывал свое право на ханство и сам Абулмамбет, когда говорил, „что он старее ево (Сеита — М. В.), а как дед, так и отцы их на том ханстве сидели".3 Впрочем и народу и Абулмамбету этот довод не казался достаточно основательным, чтобы устранить от ханства Сеита. Если Абулмамбет и аргументировал соображениями старшинства, то лишь „по особливой к нему тутошнего народа склонности". Да и сам народ, ссылаясь на старшинство Абулмамбета, высказал действительные основания, побудившие его требовать смены Сеита, указав на собрании, что „от него, Сеита, они, туркестанцы, надлежащей расправы не имеют, ибо больше пьянствует".4 Но мы уже знаем, что и согласие народа, т. е. старшин, здесь не играло решающей роли. Решающую роль играла воля сюзерена —
мою1 стттлаТАИВаЯСЬ далее на этом вопРосе» позволю себе сослаться на
истории Казахской* ССР“1 казахского союза“- С£ ”МатеРиа** по
Академи* н ’ 2' Готозитсл к печати. Изд. Института истории
Академии Наук.
• I КИД деда к-к, К. 10,1744 г., № 4, д. 107.
? Там же, д. 107 * Там ве.
.53
С этим любопытно сопоставить ту легкость, с какой И. И. Не- плюеву удалось добиться согласия старшин на утверждение царским правительством ханом султана Нур-Али. Сам только что выбранный в ханы султан Нур-Али писал джунгарскому хунтайджи, что старшины, несмотря на выбор „до получения высокоповелительного ея и. в. указу главным ханом ево именовать не будут".1 Едва ли это можно отнести только за счет той растерянности, какая господствовала в Орде после трагической гибели хана Абулхаира: самая форма выхода из внутриполитических затруднений весьма показательна. Очевидно, утверждение султана ханом со стороны сюзерена было делом обычным. Но в этих двух примерах отношения вассальной зависимости осложнялись отношениями внешнеполитическими: г. Туркестан находился под протекторатом Джунгарии, Малая Орда считалась в подданстве России. Однако совершенно тот же принцип господствовал и в области внутрифеодальных отношений. Опять же „сказки" здесь дают достаточно ясные указания. Так Лапин и Мансур Асанов показали, что вместе с ними поехал в Киреевский род хан Абулма'Мбет и „взял с собою сына своего большого Булата, в том намерении, что ево в том роде вместо Эр-Али султана учредить".2 Но и Эр-Али получил это владение через своего отца: „Эр-Али не своим владеет, а по отце ево".3 Правда, со своими претензиями Абулмамбету пришлось обратиться к старшинам рода Кирей. Те отказались сменить владельца, но это их решение опять-таки было обусловлено волей и влиянием хана Абулхаира. По крайней мере после убийства Абулхаира сейчас же потерял Киреевское владение и Эр-Али. Ему пришлось бежать в Малую Орду: старшины поддержки ему не оказали. ,
Башкир же Тюкан Балтасев и в более прямой форме сообщил в „сказке", что „помянутой Барак всех в ево ведомстве состоящих улусных людей разделя под ведомство знатным людям обязал их в том поручительством", т. е., чтобы „к воровству и противностям под российские места из них, кайсаков, отнюдь никого не допускать".4
Этот материал позволяет подвергнуть серьезному сомнению „выборность" владельцев. Очевидно, что феодальный принцип пожалования в жизни возобладал над старым общинным принципом выборности.
В чем конкретно выражались отношения вассальной зави- мости внутри класса феодалов? На этот вопрос „сказки" также дают ряд ценных указаний. Прежде всего власть феодала несомненно была обусловлена поддержкой его вассалов. Это отно¬
1 КИД, дела к-к, К. 16, 1748, Кя 4, л. 340.
2 Там же, К. 9, 1743, № 3, л. 120об.
3 Там же, л. 120об.
* Там же, К. 10, 1744, № 4, л. 118об.
54
сится как к владельцам, так и к их главе, хану. Каждое сколько- нибудь существенное решение всегда принималось на собрании старшин. В случае же столкновения между владельцами вопрос снова переносился на собрание старшин. Указания на это, содержащиеся в „сказках“, исключительно многочисленны. Очевидно., такой порядок решения дел являлся обычным. Здесь мы можем-привести лишь отдельные примеры. Так, когда в 1744 г. вернулся из джунгарского плена султан Аблай, то „по приезде ево, Аблая солтана, на совете обще положили, дабы будущею весною Баранова сына Шигая солтана к Галдан Чирину в аманаты отдать и тем Абулмамбетова сына сменить“.1
Когда султан Нур-Али и старшины Джанбек и Букенбай потребовали от Абулхаира, чтобы он отпустил из плена Ара- слана, посланца оренбургского губернатора, Абулхаир первоначально „к тому не склонился“, но в конце концов должен был объявить, „что он о том будет советовать на перекочевке на другое место вниз реки Иргизу, чего для нарочно соберет биев и старшин, к чему бы и он, солтан, приезжал“.2
Когда хан обходил решения собрания, это вызывало протест со стороны старшин. Так, напр., старшина Джагалбайлин- ского рода Серка Батыр послал своего сынд к хану Абулхаиру с тем, что „ежели он, хан, как народного, так и своего благополучия и покоя желает, тоб их согласию был послушен и означенного находящегося у него переводчика Араслана по требованию отправил ныне обратно в Оренбург“.3 Число таких примеров можно было бы умножить. Здесь видна роль феодального „права совета“, которым старшины крайне дорожили. Одной из причин возмущения старшин ханом Нур-Али в 80-х годах XVIII в. было то, что хан в практике управления отказался признать это право за старшинами.
Труднее определить частные обязательства, которыми характеризовались вассальные отношения. По этому вопросу в „сказках“ мы находим лишь отдельные, случайно брошенные замечания. Приведем некоторые из них.
Среди владельцев рода Найман был Карасакал, называвший себя батыром Шуной. Район кочевок его улусов находился в сфере влияния султана Барака. Указания на вассальные отношения Карасакала в Бараку содержатся в сказке Тюкана Бол- тасева. Тюкан указывает, что Карасакал всячески просился у Барака „для разорения нижних Каракалпак“,4 но разрешения не получил. В 1743 г. Барак потребовал военной помощи у Карасакала. Однако Карасакал „нимало его не послушал и не склонился“.5
1 Там же, дела к.-к» К. 9, 1743 г., № 3, л. 124об.
2 Там же, К. 13,1746, № 3, л. 97об.
3 Там же, л. 79об.
4 Там же, К. 10, 1744, № 4, л. 119.
* Там же, К. 9, 1743 г., Кз 3, л. 123об.
55
Мы можем предполагать, что владелец имел право требовать военной помощи от своего вассала, но фактическое выполнение этого требования зависело от степени влиятельности и силы владельца.
Можно далее предполагать, что сношение между вассалами осуществлялось через посредство стоявшего над ним владельца. Это не подлежит сомнению, когда речь идет о внешнеполитических сношениях. Сношения с Джунгарией осуществлялись через крупнейших владельцев: Аблая, Барака, сношения с царской администрацией осуществлялись по крайней мере в 40-х годах XVIII в. через хана. Султан Айчувак, который был владельцем в поколении Жеты-ру, просил в 50-х годах о разрешении сноситься непосредственно с царской администрацией^ минуя хана. Но сепаратистские тенденции( в действительности изменяли этот порядок и нередко влиятельные владельцы обращались непосредственно к оренбургскому губернатору. Однако и здесь, как и в отношении обязательства военной поддержки, когда вассальная зависимость становилась реальной, право внешнеполитических сношений вассалов ограничивалось не только в принципе, но и в действительности. Мы приводили случай посылки депутатов в Россию ханом Абулмамбетом, неудавшейся в силу протеста джунгарского „управителя". Но и в Малой Орде даже в годы ослабления власти хана Абулхаира (т. е. 1746—1747 гг.) эта привилегия внешних сношений реально сохранилась за ханом. В этом отношении показательны слова Мансура Асанова о радости хана и ханши Попай, когда они узнали о пленении казахов царскими властями, „в таком рассуждении, — поясняет Мансур, — что в выручке тех пленников киргизцы ево уж не минуют, через что де они узнают, как ево, хана, и почитать“.1
То же явление наблюдалось и во внутриордынских отношениях. Тархан Джанбек в 1744 г. „завидовал, что старшины стали от себя письмами переписываться, чего де прежде не бывало“.2
Точно так же с состоянием вассальной зависимости связывалось обязательство охранять имущественные интересы сюзерена. В чем конкретно проявлялось это обязательство, мы не знаехМ, но его существование проглядывает в словах хана Абулхаира, когда он, обиженный тем, что посланцев султана Барака приняли с почетом и одарили в Оренбурге, говорил кн. И. Уракову, „что де их одаривают и к ним подарки посылают, разве де они какие вам верности оказали, или плену много высвободили, или торгов много распространили?“3 Мы, конечно, не закрываем глаза на то, что здесь Абулхаир перечисляет свои службы, в которых была заинтересована царская администрация;
1 КИД, дела к-к, К. 15, 1748 г., Кя 3, л. 48.
2 Там же, К. 10, 1744 г., № 4, л. 122.
3 Там же, л. 242.
$5
мы лишь указываем, что Абулхаир, вассал России, признавал свое обязательство заботиться об экономических интересах России.
Следует указать еще на один момент, связанный с отношениями вассалитета. Мы находим довольно многочисленные попытки хана побудить казахских старшин откочевать с их улусами от пределов России. Эти попытки не привели к реальным результатам. Батыр Серка прямо заявил Абулхаиру, что он де старшина с своим улусом от России отстать никогда не желает",1 а старшины в ответ на призыв хана „не только вдаль не побежали, но еще и ево хана подсмехая говорили, чтоб бежал он, хан, один куда хочет, а им бежать не от кого и некуда".2 Но дело не в том, выполняли или нет старшины требование хана, а в том, что хан мог предъявлять им эти требования. Феодальное право распоряжения кочевками формально признавалось за ханом, реализовать же это право зависело от реальной силы и влияния хана.
Приведенные данные несомненно отражают обязательство вассала руководиться в перекочевках указаниями владельца. Где не только право, но и сила была на стороне феодала, там это право распоряжения кочевьем реально осуществлялось. Отметим, что Галдан Церен, разгромивший в 1741 г. Среднюю Орду, потребовал от владельцев этой Орды не только аманатов, но и подчинения его указаниям в выборе районов кочевок.3 Наконец, едва ли можно сомневаться в том, что на вассалах лежала обязанность мести за своего владельца. Ряд показаний по этому вопросу относится к осени*1748 г. и к 1749 г., после убийства хана Абулхаира. С этим требованием о мести обратился Нур-Али к биям и батырям Алчинского рода, когда сказал им, по свидетельству переводчика Ю. Гуляева: „ежели де вы желаете нам свою верность показать, то и обиду нашу отмстить, а когда же согласиться не хочете, то откажитесь и мы де помощника найтить можем".4 Что здесь нашел отражение старый обычай кровной мести, весьма вероятно, но не надо забывать, что если процесс феодализации идет в направлении превращения общинных полей и повинностей в феодальные, то соответствующие изменения должна были претерпеть и старинные общинные обычаи. В обычном праве казахов еще жив был обычай кровной мести, но здесь, в случае убийства хана, вопрос ставился не о мести за смерть кровного родственника, а о мести вассалов за своего сеньера.
Итак „сказки" содержат ряд указаний, которые позволяют поставить проблему о характере вассальных отношений. Правда,
1 Там же, К. 13,1746, Кя 3, л. 72.
2 Там же, л. 96об.
3 Там же, К. 8, 1741, Кя 4, л. 15.
4 Там же, К. 17, 1748, № 8, л. 31об.
57
эти указания весьма случайны и очень часто смутны, но и они представляют большую ценность для историка. Проблема феодальных отношений в Казахстане сложная и научно не отстоявшаяся проблема. Даже те из историков, которые видят развитую систему феодальных отношений в Казахском союзе еще до момента его возникновения, т. е. до 2-й половины XV в., ке указывают, в чем же конкретно выступали отношения вассальной зависимости. Однако, несмотря на смутность указаний, относящихся к интересующей нас проблеме, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что вассальные связи в середине XVIII в. были непрочны, что сепаратистские тенденции были крайне сильны. Эти тенденции очень ясно высказал султан Батыр, когда на упрек тархана Джанбека, который ему за то „что он в ханы домагается довольно выговаривал и ево в том весьма осуждал", ответил, что если „Нур-Али в ханы выбран, то де кем тот выбор учинен у тех де он и будь, для чего де ему как он действительно ханом учредится, до ево Батыря, а ему де до их, т. е. одной до другой стороны никому ни до чьих уже дела нет, но всяк де собою порознь улусы свои иметь могут".1
Сравнительно незначительны указания „сказок“ на классовые отношения, в частности на формы и методы эксплоатации, существовавшие в казахском обществе. Но этих сведений вообще сохранилось немного, особенно до конца XVIII в. Всякое самое мелкое указание в этой области крайне ценно. И „сказки" такие отдельные указания содержат. Так, Мансур Асанов сообщает очень интересные сведения о том, как султан Эр-Али „отправил ево с прилучившимся тут Барак султанским братом Искандер султаном, кой тут для отъезду ево Баракова сына к зюнгерским калмыкам сбирал с кайсаков баранов, как оных в разных местах ему, Бараку, и поныне сбирает для расплаты в лошадях и верблюдах, коих он, Барак, на съезд оному своему сыну в дом забрал".2 Это указание несомненно конкретизирует наши представления о повинностях, которыми казахи были обязаны владельцам. Очевидно, что на них лежала оброчная повинность скотом в случае отправки сына владельца в аманаты. На них же лежала обязанность платы скотом за долги владельца, очевидно, не во всех случаях, а в особых. Перечислить их не можем, но в частности в случае долгов, вызванных той же отправкой аманатов, погасить эти долги лежало на вассалах, в конечном счете на крестьянской массе. Можно предположить, что такое обязательство возникало лишь в связи с долгами, вызванными выполнением владельцем политических, общественных функций, но не его личной задолженностью. Встречаются указания, подтверждающие постойную повинность. Тот же
1 КИД, дела к-к, К. 16, 1748 г., 354 об.
2 Там же, К. 10,1744 г., № 4, л. 105—105об,
53
Мансур, описывая свое вынужденное путешествие в г. Туркестан вместе с ханом Абулмамбетом, пишет, что „езда была весьма тихая, как он, хан, и всегда ездит, ибо где б какие кибитки ни случилистэ, то, заехав, всегда на ночной ночлег останавливается“.1 В г. Туркестане владельцы собирали в свою пользу ясак, трудно сказать с кого: с местного узбекского населения или с местных казахов.2
Возможно, что на особую форму поборов указывает „татарский ученик“ Михайло Анчухин в своей „сказке“, когда рассказывает, как Абулхаир, в гневе на оренбургского губернатора, посланцев последнего вместе с их кощеями „рассадил всех порознь под караул и для того роздал своим людям в разные кибитки и держал дней с двадцать“.3 К сожалению, Анчухин не указывает, кто же их содержал, владельцы этих кибиток или хан.
Мы остановились на ряде конкретных вопросов истории Казахстана, чтобы показать, что „сказки“ содержат интересный материал не только по истории колониальной политики царизма в Казахстане, но что этот материал позволяет поставить ряд очень существенных проблем по внутренней истории казахского народа, материал тем более ценный, что степень достоверности его очень велика. На самом деле, если мы поставим вопрос о том, как собирались материалы лицами, давшими „сказки“, то нужно ответить, что в подавляющем большинстве случаев эти материалы являлись результатом непосредственного наблюдения их авторов. Мансур Асанов, Кубек и др. рассказывали то, что тот или другой из них „видел и слышал“, часто выходя из круга вопросов, предусмотренных инструкцией, часто впадая в роль повествователя. В роли такого повествователя выступал Кубек, очень подробно передавая, что он видел на собрании старшин в ставке хана Абулхаира. Он прекрасно передал не только содержание переговоров, но и осветил, так сказать, процессуальную сторону принятия решений; в этом отношении его „сказка“ представляет исключительный интерес.4 Иногда сведения, содержащиеся в „сказках“, передавались их автором как слышанные ими от других лиц; но сказки имели официальный характер и от лиц, допрашиваемых в Оренбургской губернской канцелярии, требовалась точность в сообщаемых сведениях. Это отражалось на построении „сказок“; когда сведения передавались на основании слухов, это обычно, но не всегда, огозаривалось. Так, специально не оговорено, но из текста ясно, что сведения об обстоятельствах изгнания из рода Кирей султана Булата, сына Абулмамбета, цередано
1 Там же, л. 106.
2 Там же, л. 107.
8 Там же, К. 13, 1746, Me 3, л. 96.
* Там же, К. 15,1748, Me 3, лл. 128—131.
59
Иваном Лапиным на основании местных преданий. Сведения о намерении Карасакала напасть на каракалпак Тюкан передал со слов Барака, что он, Тюкан, прямо указывает в своей „сказке“. В той же „сказке“ мы читаем, что „о Абулмамбете хане он, Тюкан, слышал, что оной хан в Туркестан поехал, чтоб на ханство сесть“,1 и т. д. Очень часто указывается, от кого те или другие слухи были получены. Иногда в „сказках“ встречаются данные явно ошибочные, например: казах Байбек Батыр сообщает, что „весь же народ единогласно к фамилии Абулхаир хана зело склонны и о смерти Абулхаир хана сожалеют и в отмщение всем же народом согласились Барака салтана до смерти убить или совсем ево искоренить“.2 Но в этом случае легко обнаруживаются неточность и прямая фальшивость такого указания. В подавляющем же большинстве случаев сведения „сказок“ точны и надежны. Круг наблюдений лиц, посылавшихся в Орду, был сужен специальными заданиями местной администрации, но в пределах этого круга и часто выходя, как мы видели, из его пределов лица, дававшие „сказки“, сообщали сведения, собранные путем непосредственного наблюдения за время их часто длительного пребывания в Орде.
Мы, очевидно, в праве считать „сказки“ одним из основных и ценных источников для внутренней истории казахского народа.
1 КИД, КЛО, 1744 г., № 4, л. 120.
2 Там же, К. 16, 1748 г„ № 4, л. 339.
60
A. H. БЕРНШТАМ
УЙГУРСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
I
Введение
Одним из ценнейших источников по истории уйгуров XIII— XIV вв., населявших Восточный Туркестан и ныне частью находящихся на территории Советского Союза (Казахская ССР, Узбекская ССР), а также по истории монгольского государства, являются уйгурские юридические документы. Эти документы, большинство которых было подготовлено к печати В. Радловым еще в 1907 г. и которые вышли из печати только в 1928 г., с дополнениями С. Е. Малова, еще не использованы в востоковедной исторической литературе. Однако невнимание к ним ничем не оправдывается. Правда, издание вышло исключительно малым тиражом (380 экземпляров), но в истории Востока такого типа документы — редкость, а для истории турецких народов — уники.
Юридические уйгурские документы освещают ряд важнейших сторон в истории Китайского Туркестана XIII —XIV вв. Это, главным образом, документы о продаже рабов и об отпуске их на волю, кабальные документы о продаже и аренде земли, об обмене и покупке движимого имущества (напр., бязи, вина и т. д.), прошения крестьянства („челобитные“) в связи с податями, оброком или барщиной, завещания и т. д. Помимо откоше^ ний, непосредственно отраженных документами, последние дают материал для изучения вопросов родового строя, общины и т. п* Представляют особый интерес имена участников и свидетелей сделки, их социальная и этническая принадлежность и т» д.
Настоящая статья не претендует дать обзор всех вопросов, связанных с источниковедческйм изучением уйгурского юриди^ ческого документа. Статья имеет своей целью представить читателю богатство некоторых групп юридических документов и основную, с нашей точки зрения, проблематику источниковедческого порядка для того, чтобы заинтересовать круги
61
историков Востока* Если последнее будет достигнуто, тб это будет обозначать выполнение задачи, которая была поставлена перед автором.
Уйгурские юридические документы, по существу, стоят еще вне исторических исследований. Первым обратил внимание на эти документы В. Бартольд, подчеркнувший их значение для изучения монгольского государства.1 Однако сам В. Бартольд редко прибегал к этому источнику и далеко не исчерпал всех таящихся в нем богатств.
А. Якубовский в одной своей статье 2 снова обратил внимание на эти документы, подчеркнул их историческую ценность, но, если можно так выразиться, ограничился „экстенсивным“ использованием документа, переведенного С. Маловым, исключив из поля зрения юридические документы, изданные В. Радловым. Такое ограниченное использование уйгурских юридических документов вызвано тем обстоятельством, что они очень плохо еще разработаны со стороны языка, недостаточно исследованы филологически. Устарел несколько и их перевод. Все настойчиво требует создания сводного перевода всех текстов на русский язык для более широкого использования их историками, а, кроме того, постановки ряда источниковедческих вопросов, без разрешения которых использование документа будет недостаточным и неполноценным.
II
Издание юридических документов и их место в древнетюркских памятниках
Уйгурские юридические документы происходят в большей части из Восточного Туркестана. Их поступление в научный обиход и опубликование началось с конца XIX, а особенно в начале XX в. в связи с многочисленными экспедициями, главным образом русскими и немецкими.3
Первая публикация юридических документов относится к 1899 г., когда В. Радлов опубликовал два документа4 о продаже рабов, позднее им переизданные в новом исправленном переводе под №№ 56 и 57. Документы происходят из Турфана,
1 В. Бартольд. Персидская надпись на стене Анийской мечети Мануче, СПб., 1911.
2 А. Якубовский. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв. Труды ИАИ и ИВ АН, вып. 3, ч. I,Дм 1933, стр. 49 и сл.
3 Об этом см., напр., у С. Е. Малова, Два уйгурских документа, Сб. „В. Бартольду“, Ташкент, 1927, стр. 387 и сл.
4 W. Radloff. Altuigurische Sprachproben aus Turfan, Nachrichten über die von der KAW zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nash Turfan, H. 1, СПб., 1899, стр. 55 и сл.
62
Несколько позднее, в 1905 г., В. Радлов опубликовал целую серию юридических документов в количестве 23, собранных
A. Грюнведелем из оазиса Идикут-Шари. В частности среди этих документов находится документ 22 с упоминанием имени Токлук Тимура.1 В 1918 г. четыре документа из изданных В. Радловым переиздал Лекок, который считал нужным заявить, что „чтения Радлова большей частью хороши“.2 Издание Лекока ничего существенного не внесло в разработку юридического документа,3 и первенство в разборе и чтении документов оставалось за
B. Радловым. В 1908 г. В. Радлов объединяет все известные ему юридические документы и другие фрагменты уйгурских текстов, происходящие из Восточного Туркестана, в сводной работе „Уйгурские языковые памятники“. Эта работа, имеющая огромное значение для историка как публикация ценнейшего источника, задержалась печатанием до 1928 г., когда она, наконец, появилась в свет.4
Этой работой, пожалуй, кончается первый этап не только в издании, но и в чтении уйгурских документов, целиком и полностью выполненный В. Радловым. Развитие уйгуристики после смерти В. Радлова, работы, в частности, В. Банга в области изучения восточнотуркестанских текстов, а у нас работы
C. Малова в области уйгуристики вообще и изучения юридических документов в особенности, создали возможность более интенсивного изучения юридического документа. Наиболее крупной работой С. Малова, во-первых, являются его дополнения, примечания и словарь к радловскому посмертному изданию документов. Кроме того, им изданы в одной статье документы о рабстве и долговая расписка из Астаны из собственного собрания,5 а в другой — документы из собрания С. Ф. Ольденбурга, происходящие из Безеклика и Чиктыма.6 Здесь наибольший интерес представляют документы о кабальных сделках; особо следует отметить один документ, отмеченный самим автором, как дающий возможность установления точной даты.
1 W. Radloff. Uigurische Schriftstücke, in Text pnd Übersetzung. См. в качестве приложения к отчету: Albert Grünwedel, Benefit über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902—1903, München, 1905; см. также ABAW, 1 KL, Bd. XXIV, 1, Abt.
2 См. A. v. Le Coq, Handschriftliche uigurische Urkunden aus Turfan, 1918, стр. 453.
3 См. рецензию С. Малова на упомянутую статью Лекока в Записках Коллегии востоковедов, Л., 1925.
4 W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler. Materialien nach dem Tode des Verfassers mit Ergänzungen von S. Malov herausgegeben. Leningrad, 1928. В дальнейшем USD. Номер после шифра обозначает номер документа по Шифровке В. В. Радлова.
п 5 ^'м* вышеуказанную статью С. Е. Малова „Два уйгурских документа“. 1 переводы еще двух документов из личного собрания им подготовлены к изда- нию и находятся в печати.
6 С. Е. Малов. Уйгурские рукописные документы экспедиции С. Ф. Ольденбурга, ЗКВ АН, т. I. В дальнейшем ЗКВ и порядковый цомер документа.
63
Характерной чертой в изучении юридического документа сейчас является попытка к установлению более точного содержания социальной терминологии, в чем, надо сказать, окончательных результатов еще не имеем. Почти не двинулось с места и изучение мер длины, емкости и т. п. В словаре С. Малова к последней работе В. Радлова мы имеем попытку некоторых объяснений терминов, особенно в части социальной терминологии.
Уйгурские юридические документы XIII—XIV вв. занимают особое место среди древнетюркских исторических памятников. Наиболее древние тюркские тексты — орхоноенисейские — это намогильные надписи тюркских каганов, которые представляют собой, по существу, краткие летописи. Они дают блестящую характеристику общественных отношений древних тюрок. Несмотря на то, что эти тексты относятся в основной массе к VIII в., они могут оказать ценную помощь в установлении значений социальной терминологии и для более позднего времени.
Из ранних источников истории уйгур следует отметить первую наиболее древнюю группу, написанную еще руническим письмом. Это, во-первых, намогильная стела первой уйгурской династии кагана Моюн Чура, разбившего тюркского кагана Озмыша в 747 г.,1 а также группа документов из Восточного Туркестана IX—X вв., среди которых имеются и первые по времени уйгурские документы юридического характера.2 К источникам этого времени следует также отнести „Книгу предсказаний“ Yrq Bitig — религиозного содержания, в которой имеется любопытный материал по социальной терминологии.3
Наибольшую ценность для изучения общественных отношений уйгур представляет произведение начала XI в. „Кутадгу Билиг“.4 Общественные отношения, отраженные в этом произведении, во многом помогут понять содержание уйгурских юридических документов. Этот первоклассный источник также не использован в должной мере историками. Из всей известной пока литературы древних уйгур этот памятник единственный, который может быть поставлен наряду с юридическими документами при изучений социальной жизни Уйгуристана. Более того, подобно тому, как уйгурские юридические документы необходимы историку для изучения монгольской империи, подобно этому Кутадгу Билиг необходим историку, исследующему предшествующую караханидскую эпоху. Многочисленные тексты,
1 Ramstedt. Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei ISFOug., 1913, XXX.
2 Le Coq. Köktiirkisches .aus Turf an. SPAW, 1909, XLI, V. Thomsen. Ein Blatt in türkischer „Runenschrift aus Turfan. Там же 1910.
3 V. Thomsen. Dr. M. A. Stein’s Manuscripts in Turkish „runic“ script from Miran and Tun-Huang, JRAS, January, 1912, стр. 181—227.
4 W. Radloff. Das Kudatku Bilik des Yusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun, СПб., 1891—1910.
64
главным образом религиозного, в основном буддийского содержания, изданные МйПег’ом,1 В. Банг’ом,2 В. Радловым и С. Маловым3 (тексты, примерно, с XII в. и позднее), имеют для нашей темы интерес по своей насыщенности социальной терминологией, но следует тут же указать, что последняя, особенно в части семейно-родовой, фигурирует в текстах не в точном значении, а чаще всего метафорически, о чем мы будем иметь случай говорить ниже. Вот почему мы сомневаемся в том, что социальную терминологию юридического текста можно было вскрывать на основании, в частности, аналогий с соответствующей терминологией отмеченных источников.
Особняком стоит уйгурский вариант предания об Огуз Кагане, ценность которого огромна для истории тюркских народов, но в значительно меньшей степени для истории собственно уйгур.4
Из этого предельно краткого очерка состояния уйгурских источников по истории уйгур следует, что для характеристики общественных отношений Уйгуристана XIII—XIV вв. исключительное значение имеют разбираемые юридические документы. Однако, поскольку в это время уйгуры находились в системе монгольского государства и его уделов, следует, что в ряде случаев уйтурский документ будет являться источником не только по истории уйгур. Более того, это значит, что для объяснения юридического документа следует искать данных в источниках по истории монгол, т. е. в арабских, персидских и китайских. Таким образом повышается не только ценность его как исторического источника, но и трудность его изучения.
III
Общие черты документов
Рассматриваемые документы обладают одной характерной чертой, сразу бросающейся в глаза: стройность^ и последовательность изложения, указывающие на выработку стандарта, трафаретные формулы и выражения. На это обстоятельство уже обращал внимание С. Е. Малов, который по этому поводу писал: „видно, что время успело уже выработать технические юридические выражения и термины, определения цен, различ¬
1 Müller. Uigurica, Berlin, 1911.
2 Ср., напр., W. Bang und von Gabain, Türkische Turfan-Texte. SPAW, 1929, 1930, 1931.
3 В. Раддов и С. Малов. Suvarnaprabhäsa, Сутра золотого блеска. Bibliotheca Buddhica, текст XVII, вып. 1—6. См. перевод, там же, т. XXVII, вып. I—III.
4 Ср., напр., издание W. Bang und G. Rachmati, Die Legende von Oghux- qagan, SPAW, XXV, Berlin, 1932. Об исторической ценности этой легенды см. нашу статью „Историческая правда в Легенде об Огув-кагане“, Советская етнография, № 6 за 1935 г.
6$
ные сроки, количество процентов и пр., так как все документы следуют этой выработанной общей норме". Сначала имеется дата составления документа (год по двенадцатилетнему животному циклу, месяц и число месяца), в конце документа перечисляются свидетели, бывшие при совершении юридического акта; свидетели при этом тут же, около своих имен, ставят клейма или тамги; упоминается и лицо, писавшее документ. Кроме тамг и взамен их на документах можно видеть еще круглые и четвероугольные печати (китайского образца) совершителей юридических сделок".1 Нужно дополнить эти важные соображения С. Малова указанием, что не только выработались термины, но и цельные выражения; части документа имеют определенную форму. При исследовании текста документа мы и попытаемся установить эти окостенелые элементы текста.
Общим для всех документов является начало документа: год, месяц и число. Этот раздел имеет небольшие отличия. В тех случаях, когда обозначается начало месяца, то имеется термин jaqyya— у ■ii-iayM* букв, „новому“, а когда последние числа месяца — этот термин отсутствует. Таковы следующие примеры:
Toijuz jyl агат ai on jarjyya < ч■■■■■
ч—4#^4АДк.2 Здесь этот термин наличествует, и число нового месяца десятое. В другом документе несколько иной вариант. „Küskü jyl ikinti ai säkiz ^
otuz.3 Термин janyya здесь отсутствует, но и число падает на вторую половину месяца — 28 число. Повидимому, этот термин употреблялся только для обозначения первой половины месяца. Если взять другие документы, доказывается,чтоуже 18число месяца не имеет этой приставки, так, Hanp.,Qom jyl агат ai on säkizkä biz A# s—
Просмотр всех документов привел нас к выводу, что термин janyya употребляется только в тех случаях, когда счет идет до первой половины месяца, возможно, первого десятка дней нового месяца.
Характер исчисления дней в документах старый, т. е. указывается не порядковое число дня, а его место по отношению к первому, второму и третьему десяткам дней каждого месяца.4 Характер счисления дней обычный для древнетюркских яаыков (орхонского, древнекыргызского и уйгурского) и продолжает существовать только среди желтых уйгур, что в свое время отмечал С. Е. Малов.5
1 USD, предисловие, стр. VII.
2 ЗКВ, 1.
8 USD, 51.
4 См. об этом В. Бартольд, Система счйеленпя орхонских надписав в современном диалекте. ЗВО, т. XVII, стр. 171—173.
5 С. Малов. К изучению турецких числительных. Сб. в честь Н. Я. Марра, 1935, стр. 273.
66
В отличие от китайских документов, в которых годовые исчисления были по названиям правлений, что дает возможность устанавливать абсолютно точную дату, в уйгурских документах летоисчисление построено на двенадцатилетнем животном цикле, что почти исключает возможность устанавливать точную дату документа, когда в нем нет упоминаний лиц и общеизвестных исторических эпизодов.
Единственными данными для установления даты являются, кроме стиля документа и палеографии, упоминания двух собственных имен: Угэдэя сына Чингиса (1229—1241) в двух документах и Токлук Тимура (1348—1362) — в одном.
В документе USD, 22, имя Угэдэя фигурирует как личность историческая. О нем вспоминают авторы текста как о прошлом правителе, а не как о современном. Так, текст гласит: Ögädäl qan caqynda Toqluy atlyq Daruya kälip incü baycylarqa qalan käsmisi joq jana.
удешэ уделов fsü&c pm
p* />** ^ w—ав
Это одно из мест документа, где сохранилось имя хана; в таком же духе упоминаются действия предшествующих и последующих ханов. До Угэдэя упоминаются два хана, имя первого частично сохранилось... Buqa qan ^ имя
второго отсутствует. После Угэдэя упоминаются пять ханов, и только от имени второго остались буквы Im qan ....
Полностью еще сохранилось имя Токлук Тимура в 38-й строке USD 22-го... — документа. Здесь он, Токлук Тимур
упоминается как современник документа, который ввел
новые повинности оброчного порядка для покоренного населения. Токлук Тимур правил с 1348 по 1362 г. Можно предполагать, что документ относится к началу его деятельности, когда жители Восточного Туркестана были обложены ясаком.1
О том, что события происходят после всех ханов до Токлук Тимура, свидетельствуют слова документа: Qanlar caqyntyn bärü aqa inilärimiz birlä bayny ätläp öskä alban jasaq tutmajyn... ^ /Ц& >*£**M- v—uu ■fr, jüo рщьа
из которых явствует, что современные документу события происходят после упомянутых ханов, повидимому, сразу в царствование последнего хана Токлук Тимура, в связи с нововведением им в завоеванной области оброка.
Это, пожалуй, единственный из юридических документов, который был датирован В. Радловым.2
1 Справки хронологического порядка о жизни и правлении Токлук Тимура sm.sСтэнли Лэн-Пуль, Мусульманские династии, СПб., 1899, стр. 300.
2 USD, стр. 68« В. Радлов относил его к середине XIV столетия,
5
67
Второе упоминание несколько иного порядка. Здесь Кайтсу Тутунг, продающий сына своего Титсу, обязуется в случае, если проданного монаху Чинтсу сына Титсу кто-либо захочет отобрать, „войску Угэдэя“ и другим дать соответствующее вознаграждение. Здесь „войско Угэдэя—Ögädäi süü
— современное событиям, отраженным в документе. Ясно, что документ должен быть отнесен к промежутку времени между 1229—1241 гг.1 В этот период времени „год собаки“, которым датируется документ, падает только на 1238 г. Таким образом только два документа дают более или менее точную дату событий. Из них второй документ дает наиболее точную дату — 26 день II месяца 1238 г.
В разбираемых нами документах дата иногда встречается не только в начале, но и в конце документа. Имеем в виду документ USD, 114, где две даты. Одна в начале документа:
^ После этой даты идет
но обычному трафарету описание сделки. Однако ^ма сделка произошла позднее, и потому в конце документа снова дата те выражения, которые сопутствуют окончанию продажи. Так, с 15-й строки документа идет следующий текст:
После этого указывается, что продающий получил за свою рабыню 50 сатыров-ярмаков серебра, т. е. цену, оговоренную при продаже в первой части документа. Однако деньги, как следует из текста, были получены только через три дня после завершения сделки.
Заключительной частью документа являются подписи свидетелей. Надо сказать, что изучение имен свидетелей и составителей документа (последние, как правило, оговаривают точное написание им продиктованного) представляют определенный интерес. Дело в том, что подавляющее большинство свидетелей сами уйгуры, подтверждающие правильность составления документа. Составители документа тоже уйгуры, причем большинство продавцов или должников сами пишут эти документы, что говорит об относительно высокой грамотности уйгур. Иногда в качестве писца и свидетелей фигурируют баи и монахи, что возможно прорледить только в том случае, если это отражается в имени, ибо, как правило, все переименованные в документе не имеют титулов, указывающих на их социальное положение.
Несколько слов хочется сказать о терминологии измерений (веса, длины, стоимости и т. д.), которые в документах такого рода играют значительную роль. В документах в качестве мерила стоимости существенное значение имеет бязь; на нее напр., часто обмениваются рабы. Средняя стоимость раба
1 Что уже отмечал С. Малов: Уйгурские рукописные документы экспедж %ии С. Ф. Ольденбурга, ЗКВ, I, стр. 130; ср. стр. 137.
от 100 до 150 кусков, и только в одном случае рабыня менялась на 52 куска бязи. В последнем случае кусок бязи, вероятно, был большой длины, по всей вероятности, вдвое против обычного размера. Кусок бязи, если взять за основу бытовавшие в недавнем прошлом размеры в Таджикистане, это отрез на два халата, в Монголии — на один халат. Если принять последний размер, то в среднем раб менялся за 100—150 халатов. С другой стороны, раб в переводе на деньги стоил в среднем 15 са- тыров серебра, что равно одному ястуку. Это дает нам возможность считать стоимость одного халата в г/2 сатыра серебра (= 1 ярмаку?). Если принять этот путь приблизительного исчисления, то можно вывести примерную реальную стоимость как рабов, так и отдельных предметов. Гораздо труднее на наш взгляд вывести меры длины и емкости, для чего требуются особые исследования, связанные с этнографическим материалом.
IV
Происхождение формы документа
До ХШ в. мы в уйгурских исторических источниках почти не имели документа, тип которого мог быть положен в основу Юридических документов, нами разбираемых. Документ, писанный еще руническим письмом, является здесь исключением, но его структура так отлична от документов XIII—XIV вв., что вопрос об изменении и совершенствовании документа на основании сравнения документов XI и XIII—XIV вв. не может быть поставлен. Для документов XIII—XIV вв. характерны выработанные формулы, которые переводились на уйгурский язык и в отдельных случаях дополнялись элементами, характеризующими местные условия, в которых производилась та или иная сделка. Заимствование определенных юридических норм и приспособление к местным условиям было возможно в силу того, что нормы документа феодального общества уже не были им чужды и они с местными поправками были восприняты уйгурами. Перед нами стоит вопрос о том, какой тип документа лег в основу уйгурского юридического документа.
На этот вопрос в специальной литературе мы имеем уже частичный ответ. Не вдаваясь в подробности структуры документа, С. Малов неоднократно отмечал китаизмы в уйгурских документах, хотя бы в отдельных выражениях. Так, напр., в одном случае он писал: „Выражение «тысяча лет и десять тысяч дней» (т. е. вечно) заимствовано турками у китайцев".1 Неоднократно отмечается, что документы написаны на китайской бумаге, китайской тушью и кисточкой. Вопрос
1 С. Малов. Два уйгурских документа, стр. 396.
69
техники письма, конечно, не является еще доказательством „китаизма“ документа, но все же это штрих весьма характерный.
Помимо бесспорных китаизмов в отдельных частях документа, мы склонны утверждать, что вся структура уйгурского юридического документа является переработкой китайского образца.
Влияние китайской культуры на стиль официальных и частных документов у кочевых племен, составлявших периферию Китая, бесспорно и прослеживается с очень ранней поры. Приведем некоторые, с нашей точки зрения, характерные примеры.
Так, напр., известные памятники орхоноенисейских тюрок — тексты на камнях VIII в. — содержат в ряде случаев такие трафаретные выражения, генезис которых прослеживается еще официальной перепиской гуннов и Китая во II в. до н. э.
Характерна формула обращения к гуннскому шаньюю Модэ со стороны китайской императрицы: ^ jjl iäj jhi ^p,1 t. e. „Небом поставленный сюннский великий шаньюй“. Эта формула найдет себе аналогии в известных тюркских текстах, напр., в тексте Кюль Тегина (справа налево):2 3! что значит5 »Небоподобный, из Неба ставший, Тюркский Мудрый Каган“.
Этой эпистолярной форме, как сообщают китайские источники Ши-Цзи и Цянь-Хань-Шу, научил самих гуннов беглый китаец Чжун Син Юе (ф gft), который предложил гуннскому шаньюю Лао-Шан Цзи Юе $$J), сыну Модэ,
ставшему на престол, формулу — титул в письмах: Эс т
„Небом и землею рожденный, солнцем и луной поставленный сюннский великий шаньюй“.
Откуда появилась эта формула? — навеяна ли она китайскими обычаями и церемониями или создана была в кочевой среде. Можно скорей предположить, что она была заимствована из Китая, учитывая, что Модэ до Лао-Шан’а получал письма с подобной формулой, в то же время как письмо от Модэ, посланное императрице Гао Хоу ( 0}В) > не имеет этой характерной формулы обращения. Письмо Модэ не имеется в Ши-Цзи и приведено только в Цянь-Хань-Шу.4 На основании изложенного мы склонны предполагать, что вышеприведенное выражение из памятника Кюль Тегина — перевод на тюркский язык трафаретной китайской формулы этикета.
1 Ши-Цзи, 13.
2 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль Тегина, ЗВО, т. XII, вын. II— III, Ка —I, стр. 60.
3 Ши-Цэи, 16 у., Цянь-Хань-Шу, 13 г
* Цянь-Хань-Шу, 9 v., 10 г.
70
На сильную китаизацию одного замечательного памятника древних орхонских тюрок — текста Тоньюкука — указывали ряд исследователей, в том числе и издатель самого текста В. Рад- лов.1
Несомненно, что влияние Китая не следует слишком переоценивать. Текст орхонских памятников — творчество древнетюркского народа, живой и увлекательный рассказ с ярко выраженной классовой идеологией. В них прежде всего ценны, конечно, не эти китаизмы, а достоинство текста как оригинальной древнейшей тюркской литературы. Вместе с тем не следует забывать того, что история тюрок и их культуры находилась в тесной связи с Китаем, и нельзя влияние последнего игнорировать.
В ранних памятниках тюркской литературы китаизмы являются частью, встречаются спорадически, относятся, как правило, к немногочисленным эпитетам, т. е. не имеют существенного значения. Таково положение для памятников VIII в. Оно сохраняется и для самых ранних уйгурских памятников типа надписи на Селенгинском камне.2
Однако иное положение с текстами юридическими. Как мы отмечали, уйгурские юридические документы, сильно фрагментированные, мы имеем, согласно датировке Томсена, для IX в. Происхождение — Восточный Туркестан, оазисы Дунь Хуан и Идикут-Шари. Тип документов двоякий: 1) расписки в получении продовольствия китайским военным гарнизоном у местного населения и 2) документ на купленную рабыню.
Расписки, обычно китайских чиновников, в получении поборов с местного, т. е. уйгурского населения,3 хотя написаны на уйгурском языке, но ясно, что это перевод китайского образца. Сличение с подобными расписками, написанными на китайском языке, не оставляет в этом никаких сомнений. Иногда подобного типа документы были вообще двуязычны.
Документ, написанный руническим шрифтом из Идикут- Шари и изданный в свое время Лекок’ом,4 чрезвычайно фрагментированный и трудно читаемый, посвящен продаже рабыни за 100 кусков золота. Структура этого документа отличается от позднейших документов о рабах, которые относятся к XIII— XIV вв. и написаны на уйгурском языке и уйгурским шрифтом. Характерными чертами разбираемого документа является отсутствие китайских выражений о правах владения покупателя
1 W. Radio ff. Die alttürkisehen Inschriften in der Mongolei. Zweite Folge, СПб., 1909.
2 Ramstedt. Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord“Mongolei, JSF Oug.,1913, XXX.
3 V. Thomsen. Dr. M. A. Stein’s Manuscripts in Türkisch „Runic“ script from Miran and Tun-Huang. Journal of the Royal Asiatic Society, January, 1912, стр. 219.
* Le Coq. Köktürkisches aus Turfan, S?AW, XLI, 1909.
71
рабыней „на 1000 лет и 10000 дней“, замененных в документе любопытным выражением: qoly älgintä ol qyzvy ydty..., т. e. „из их рук в руки эту девушку послали(?)“. Упоминание о том, что бег не имеет власти над продаваемой рабыней, также отлично от трафаретных выражений позднеуйгурских документов. Не только отдельные выражения, но и вся структура документа достаточно своеобразны для того, чтобы утверждать о слабом развитии в то время выработанных и стандартизованных форм документа.
В то же время китайский документ Танской эпохи имеет более развитую структуру, не нашедшую своего выражения в уйгурском документе IX в. и прослеживаемую лишь в документах XIII—XIV вв. Это обстоятельство дает возможность для гипотетического пока утверждения следующего порядка. С развитием феодальных отношений в Уйгуристане появляются в IX в. уйгурами вырабатываемые юридические документы, которые характерны своей индивидуальностью и отсутствием строго выработанной структуры и трафаретных выражений. В документе имеется реалистическое описание сделки без таких важных юридических сторон документа, как дата, права купившего и обязанности продавца, подпись составителя и свидетелей. В XIII—XIV вв., в результате развития феодальных отношений, на их основе был воспринят китайский образец документа.
Почему вопрос структуры и формы документа особо нами подчеркивается? Дело в том, что развитие классовых отношений в обществе уйгур Восточного Туркестана и тип отношений, прослеживаемый по документам, не дают нам права говорить о каком-либо особо высоком этапе феодальных отношений. Характерен тот факт, что документы фиксируют в большинстве своем натуральный характер сделок внутри общины, т. е. свидетельствуют о слабом развитии денежных отношений внутри общины. Правда, имеется, и не мало, документов, свидельствую- щих о нужде в серебре, в деньгах, но обязательство по займам, продажа земли и рабов и т. д. в основе своей являются безденежным натуральным обменом, и проценты вносятся, как правило, не деньгами, а продуктами производства.
Вторым свидетельством этому является тот факт, что в крайне немногочисленных документах, рисующих формы эксплоатации крестьянства, последние выступают за барщину против оброков и податей, и барщина является основным типом внутриобщинной и поместной эксплоатации. Отсюда следует, что внутри собственно уйгурского населения социально-экономические отношения были таковы, что норма обычного права неписанного (это мы покажем ниже) была ближе, чем официальные отношения, зафиксированные в документе, которые отражают отношения более высокоразвитого общества и менее всего рассчитаны на нормы обычного права. Вместе с тем ки¬
72
тайская форма документа получает широкое распространение в Восточном Туркестане и в переработанном виде была усвоена уйгурами. Это усвоение объясняется историческими причинами, а именно тем, что 1) уйгуры были уже обществом феодальным и в принципе им был не чужд тип феодального документа Китая, 2) распространением издавна китайской культуры в этих областях, во всяком случае с эпохи старшей династии Хань (206 до н. э. — 23 н. э.), 3) сильно развитой бюрократией монгольской империи, у которой в большом количестве были писцы китайцы (и сами уйгуры); у монгол же, в восточных областях их империи, китайская культура, конечно, господствовала.
Эти условия способствовали тому, что в создании официального, хотя бы и фиксирующего частную сделку уйгурского документа сильно сказалось влияние Китая. Китайские юридические документы, отражающие частные сделки, крайне немногочисленны. Как уже выше отмечалось, для Сунской и Юаньской эпох мы их почти не знаем. Кое-что времени Танской династии найдено в Восточном Туркестане. Основная часть была найдена Штейном1 и переведена Шаванном.2 Не загружая нашу статью построчным сличением китайских и уйгурских образцов, укажем, что во всех своих основных частях документы по форме идентичны. Различие их проходит обычно в разделах о правах покупателя и обязанностях продавца.
Сходство архитектоники документов — исключительное.
Те же составные части, те же начало и конец документа, та же последовательность. '
К изложенному хотелось бы добавить еще один факт из более позднего времени. Мы имеем ввиду двуязычные китайско- уйгурские документы, повидимому, Минской династии.3 Это препроводительные уйгурского посла к китайскому двору с предоставлением дани. Китайская часть документа — типично канцелярский язык, уйгурская часть — дословный, исключительно буквальный, перевод. Буквальность перевода доходит до того, что некоторые термины китайского текста передаются и в уйгурском эквиваленте и фонетически передается сам иероглиф. Так, напр., в китайском тексте первого документа (по J. К1ар- roth’y) имеется иероглиф Ц? — „ван“ со значением „надежда“, в тексте его следует переводить „мы надеемся“. В уйгурском
1 См. A. Stein, Ancient Khotan, Oxford, 1907, t. 1, Appendix, A. Chinese Documents from the Sites of Dandan Uilig, Niyu and Endere. Translated and Annotated by Ed. Chavannes.
2 См также Ed. Chavannes, Les documents chinois decouverts par Aurel Stein, Oxford, 1913.
3 Документы в количестве 15 по рукописям ИВ АН подготовляются проф. С. Е. Маловым совместно с нами к печати. Три документа изданы были J. Klaproth’oM, Abhandlung1 über die Sprache und Schrift der Uiguren, стр. 29—30. Перевод китайской части документов был сделан Amiot.
73
тексте он передается термином ynajat — — „надежда"
и, кроме того, дается в уйгурском письме его китайское произношение МЙДД-, „von,". Такого типа биномы, парные слова, в уйгурском тексте, т. е. перевод китайского иероглифа и его произношение, несомненно свидетельствует о том, что не уйгурский, а китайский подлинник лежал в основе этих документов. Этому доказательство и парные слова уйгурского текста и несколько нарушенный синтаксис уйгурского текста в угоду буквальности перевода с китайского. Таково подчинение уйгурского документа китайской структуре и для более поздней эпохи, чем наши документы XIII—XIV вв.1
Сказанное не исчерпывает всей аргументации, возможной при дальнейшей критике текста отдельных уйгурских юридических документов, но достаточно для того, чтобы указать на влияние китайских норм в выработке стандарта уйгурского юридического документа.
Сказанное о происхождении формы документа не исчерпывает всей суммы вопросов источниковедческого порядка и высказано в порядке привлечения внимания исследователей к этому важному вопросу.
V
Основные типы документов
Для характеристики типов документов со стороны их содержания остановимся на некоторых группах документов. Мы рассмотрим их и со стороны содержания и со стороны структуры: это нам важно как средство для выделения из документа того, что отражает действительные отношения в уйгурском обществе соответствующего времени. Разбираемые нами ниже группы документов не исчерпывают всей суммы вопросов, ими отраженных.
В основу рассмотрения мы положили документы, отражающие формы эксплоатации в древнеуйгурском обществе. Наиболее древней формой эксплоатации среди уйгур было рабство. К документам, характеризующим рабство, относятся, напр., USD 16, 51, 56, 110, 116 и др.
Как и все документы, они начинаются с даты. Как выше отмечалось, один из них относится к 1238,г.
Этот документ точно датирует связанные с ним еще два документа. Кроме этого, палеография документа, его стиль и язык позволяют датировать и другие документы. На этом основании В. Радлов датировал документы XII—XIV вв., хотя, строго говоря, для XII в. мы никаких точных данных не имеем. Во всяком случае, на основании упомянутого выше документа можно определенно утверждать об институте рабства для
1 Характерно, что в некоторых уйгурских документах [22] имена ханов выносятся за поле основного текста, подобно тому, как это делается в китайских с именами императоров.
74
Восточного Туркестана для XIII в. во времена монгольского владычества.
Вторая часть документа включает имя лица, продающего раба, и мотивы продажи. Все документы о продаже рабов пишутся от лица, продающего раба. Указания на имена продаваемых рабов и покупателей, равно как и цена раба (стр. 69) составляют третий раздел документа.
Четвертая часть содержит условия купли-продажи.
После этого идут части, посвященные правам купившего и обязанностям продавшего.
Права купившего, составляющие пятую часть документа, обычно даются чрезвычайно трафаретно. Здесь указывается, что купивший может властвовать над рабом „1000 лет и 10000 дней“ и распоряжаться им по собственному усмотрению вплоть до продажи другому лицу.
Обязанности продавшего по существу выражаются двумя частями документа — шестым и седьмым.
В шестой части, иногда отсутствующей, говорится о том, что после продажи раба никто не может на него посягать, причем вначале идет перечисление родственников, а в седьмой — указывается, что в случае, если раб незаконным путем будет отобран у покупателя, продавец обязан возместить ущерб вдвойне тоже рабами.
В восьмой части идут подписки свидетелей сделки.
В девятой — расписка продавца, удостоверяющая правильность составления документа.
Остановимся несколько подробнее на шестой части документа. В ней сосредоточены те данные, которые позволяют восстанавливать социальную обстановку, родовые и общинные взаимоотношения в уйгурском обществе XIII—XIV вв. Она посвящена потере прав продавца, его родственников и посторонних лиц над проданным объектом. Эта часть в некоторых документах (51, 56, 61) отсутствует. В тех документах, где этот раздел наличествует, на первом месте идут перечисления родственников в определенном порядке. На первом месте стоят упоминания старшего брата или дяди (напр. ауа. — USD 16, äkä USD — 57, äci — USD —110, 116—1), после них указываются младшие братья — ini, в строго выдержанном порядке. Этот порядок, на наш взгляд, обусловлен принципом наследства: те-лица, которые по закону майората являются ближайшими претендентами на продаваемого раба как будущие наследники, перечисляются в тексте в первую очередь.
Принцип майората как системы наследования достаточно хорошо известен среди тюркских народов, и он оказался запечатленным и в окостеневшей формуле документа. Однако вслед за этими перечислениями идут ссылки либо на родственников, либо на сообщинников. Так, в документе 16 указывается urluy и özlük. В документах 110 и 114 указываются сообщинники qadas.
75
Термин qadas происходит от термина „qat— бок" и суф¬
фикса парности äs. Нам кажется, что и практика употребления этого термина и его этимологическое значение дают возможность утверждать, что это обозначение сообщинника. Иное значение этому термину дал недавно В. Банг, который считает, что термин обозначает брата и даже „родственников через женитьбу младшего брата".1 Такое значение этого термина В. Банг выводит из одного уйгурского текста — Sutra SäkizYük- mäk. Однако В. Банг был здесь введен в заблуждение религиозным содержанием текста, в котором эта терминология употреблена метафорически. Терминам qa qadas в китайском переводе соответствовали иероглифы j=| ^ ßfa в значении
„почтительных старших и младших братьев". Из уйгурского контекста следует, что там речь идет не обязательно о кровных родственниках. Так, напр., строфы текста начинаются словами: „ög* qafy qa qadas, künqul. ..",2 т. e. „мать и отец, братья и рабы". Определенно выдерживается упоминание трех типов общественных отношений семьи (мать и отец), род — община (qa qadas) и рабы (qul küi^). Во всяком случае, на основании текста, изданного В. Бангом, нельзя утверждать, что термин qa qadas обозначает только братьев и их родственников, тем более, что потомство — сын и дочь (oyul и qyz) — отмечаются другими терминами.3
Такое различие в указании на претендентов либо по линии родовой, либо по общинной, вызвано, по всей вероятности, конкретной обстановкой, где происходит сделка. Если продающий связан со своим родом и сделка происходит в районе, где его род живет, то там на первом месте фигурируют родственники; там, где род продающего представлен незначительно или не занимает сколько-нибудь влиятельного положения, там документ предусматривает притязания сообщников qadas, из родственников указывается только на наследников äci и ini.
Далее указываются возможные претенденты по линии государственной власти. Так, в документе 57 начинается перечисление с десятника, сотника и т. д~# бега и жены, посланников (повидимому хана) и т. д. Характерно, что порядок здесь обратный, т. е. начинается с низших чинов и затем переходит к высшим. Здесь документ отражает феодальную администрацию с низшего звена к высшему. Опять же это не случайно. Фактическое подчинение феодальной администрации, при которой первым грабителем населения является находящийся в общине десятник, послужило основанием тому, что в числе первых возможных претендентов документом упоминаются самые мелкие,
1 W. Bang*. Dr. А. von Gabain und Gr. D. K. Rachmati. Türkische Turfan- texte, VI, Das Buddhistische Sutra Säkiz Yükmäk, SPAW, 1934, X.
2 Там же, стр. 21.
3 Там же, стр. 24.
76
но зато ближе всего стоящие к продавцу чины феодальной лестницы.
Среди перечисленных по линии феодальной лестницы вызывает некоторое удивление упоминание „(бега и) жены“ — bäg ä§i чгф* Мне кажется, что здесь следует все-таки принимать
перевод В. Раллова. В самом деле „bäg äsi“ следует переводить как „товарищ бега“, где äsi — „Друг, товарищ“ с притяжательноместоименным суффиксом III лица. Вряд ли столь большое значение имела „жена бега“, вряд ли ее происки имели бы такое большое значение, что это следовало бы оговаривать в документе. Речь идет здесь о тех, кто, заручившись поддержкой бега, задумает завладеть проданным рабом. Бег являлся, конечно, самой высшей властью для общины, ибо он являлся ее господином. Достаточно указать на ряд документов, где к бегу обращается ущемленное в правах крестьянство.
Вместе с тем не следует забывать того факта, что в эпоху монгол главная хозяйка дома в сфере хозяйственных отношений имела большое значение. Монгольские хатун пользовались в этом отношении чрезвычайно большой свободой и правами. Однако тот факт, что в XIX в. женщина не признается полноправным свидетелем на бийских судах, даже у кочевников, заставляет нас усомниться в том, что в XIII—XIV вв. ее власть была и юридически настолько сильной, что это следовало оговаривать в документе.
Из вышесказанного следует, что шестая часть, несмотря на явления „бюрократизации“, „схематики“, отражает конкретную обстановку, локальные черты, социальное положение продавца, в известной мере и иерархическую систему феодального управления, т. е. является, таким образом, для историка наиболее ценной частью документа.
Отличными от документов, связанных с продажей рабыни и рабов, являются документы, фиксирующие кабальные сделки.
Здесь наибольший интерес представляет документ, изданный С. Маловым.1 Однако этот документ стоит в тесной связи с документом о том же субъекте и между теми же лицами уже не на кабальную сделку, а на адоптацию, усыновление. Поэтому мы считаем возможным и, более того, необходимым рассматривать известные нам документы кабального характера совместно с документами по усыновлению. Оба документа происходят из Безеклика. В частности, документ об усыновлении, в котором упоминается имя Угэдэя, как мы показали выше, датирован 1238 г. Однако документ об усыновлении, по всем данным, был заключен позднее, чем первый контракт об отдаче сына в услужение. Но первый документ был заключен в год свиньи месяца арама сроком на три года. Первый год свиньи до 1238 г. падает на * 61 С. Малов. Уйгурские рукописные документы експедиции С. Ф. Ольден-
6Урга, стр. 131—133.
77
1226 г., к которому й должен, по всей вероятности, относиться первый документ. В этом году был заключен договор на принятие неким Чинтсу сына Кайтсу Тутунга-Титсу в качестве слуги для исполнения домашних работ сроком на 3 года за 10 сатыров серебра. Сумма небольшая, вызванная, вероятно, и малолетством Титсу и тем, что купивший его Чинтсу обязан был предоставлять ему одежду, а по истечении трехлетнего срока выдать меховую одежду. В других документах, которые нам известны, где идет речь об отдаче в кабалу, — несколько иные условия. Некто Кедир отдает своего сына Болмыша в услужение Тутуну Камбукту за пол-ястука серебра (что равно 25 сатырам).1 Камбукту имеет полную власть над Болмышем и обязан его полностью содержать, т. е. права и обязанности купившего те же, что и в первом документе. Существенная разница заключается в том, что в первом случае оговаривается срок службы, в то время как во втором он отсутствует. Этим, вероятно, вызвано и увеличение платы, которую получил продающий своего сына Кедир — 25 сатыров серебра вместо 10 сатыров серебра, которые получил Кайтсу. В свою очередь следует отметить, что продажа раба оценивалась еще выше, и самая низшая цена рабыни, которую мы знаем (в переводе на деньги),— это! 47 сатыров серебра.2
Следует отметить, что кабальные документы два раза датируются: в начале, как и всякий другой документ, и в конце снова повторяется дата получения обусловленной стоимости, снова скрепленная свидетельскими показаниями. Такое повторение дат характерно только для кабальных документов.
Условия кабалы чрезвычайно тяжелые. По существу кабала мало чем отличается от рабства, особенно когда она заканчивается так наз. усыновлением. В отличие от документов, посвященных продаже в рабство, вместо обычной фразы, что купивший имеет власть и силу „на 1000 лет и 10000 дней", т. е. навечно, так наз.
/Лт
(„Над этой рабыней Булат на 1000 лет и 10000 дней силу-власть пусть имеет"),3 в документе о кабальной сделке фигурирует выражение, „ограничивающее" только время тех же неограниченных прав) и отсутствует указание на право купившего свободно распоряжаться судьбой купленного человека. Его права лаконично переданы фразой:
1 USD, док. 51.
2 Там же, док. 116.
3 Там же, док. 56.
79
„Над этим Болмышем Камбукту Тутунг силу (власть) пусть имеет".1
Как уже выше указывалось, продолжением кабального типа сделки является отдача в усыновление. Эта адоптация отличается от продажи навечно в рабство тем, что в документе оговариваются „права" усыновленного на получение наследства наравне с законными сыновьями.
Так, в документе 3 из Безеклика2 идет речь о продаже двумя братьями их младшего брата Антсу, которого они отдают в качестве сына некоему Туйнак Силаванти за 20 сатыров серебра. Последний обязуется принять купленного в качестве сына: „Я же, Туйнак Силаванти, (завещаю): после моей смерти (после меня) все, что будет в моем домохозяйстве из моих одежды и пищи, разделив поровну с моим сыном Самбоду, (оба они) пусть получают".3 Любопытно, что здесь цена „проданного в усыновление" примерно та же, как и в документе 51, и опять вполовину меньше, чем стоимость раба.
Такое соотношение цен не случайно и является, по нашему мнению, отличием документа кабального характера от документа, фиксирующего продажу в рабство. Другим существенным отличием кабального документа от документа о продаже раба является, как правило, оговоренная в документе обязанность купившего содержать принятого в услужение человека, предоставлять ему пищу и одежду, и обязательство усыновленного выполнять все работы беспрекословно. Характерной чертой является также и то обстоятельство, что отдаваемый в кабалу — либо сын, либо младший брат, в то время как продаваемые в рабство всегда выступают под определенной терминологией (qul, qara-bas, kiln,, kisi и т. п.).
Особый интерес представляют документы, отражающие институт incü (*асш). Сюда относятся три документа USD, 21, 22, 25. Институт incü представляет собой, по всем данным, форму барщины. Слово это обозначает личную собственность — „наследство", „приданое".4 Этот термин был встречен в армянской надписи на городской стене. Относится это упоминание ко времени Абу Са'ида-Бахадур-хана, „монгольского правителя Персии (1316—1336)".5 В. Бартольд дает объяснение термину инджу в следующих словах: „Принадлежность территории к удельным имениям и личная зависимость отдельных людей от членов царствующего дома одинаково обозначалась термином „инджу".6 Трактовку термина incü мы имеем и в работе
1 USD, док. Л1.
2 С. Малов, у к. соч., стр. 138 и сл.
3 Там же, стр. 139.
4 USD, стр. 272.
5 В. Бартольд. Персидская надпись на стен# Анийскей цеч#ти Манучв, СПб., 1911, стр. 1.
• В. Бартольд, ук. соч., стр. 27,
79
Б. Владимирцова. Объясняя институт inje, он пишет: „Под этим названием понимались люди, которых выделяли владельческие роды в приданое за девушкой их рода: они уходили в род ее мужа и становились, следовательно, его подчиненными, попадая, очевидно, в положение, близкое к тому, в котором находилось unagan bogol".1
Уйгурские документы дают полное основание утверждать, что под этим термином в уйгурском обществе понималась барщина и не только в уделах членов царствующего дома. Так, из документа USD 21 явствует, что крестьяне работали в садах, являющихся incü бега, и себя они также называют incü. Работая на incü, они категорически отказываются нести какие бы то ни было подати и оброки, поскольку они работают на виноградниках incü.
Bu küntin son, bu Altun Qara qa qalan, qurut, tütün, qapyn näkü mä alys biz tilämäz biz
w /-e»*
„С этого дня после этот Алтун Кара (бег. — А. Б.) с нас пусть не спрашивает калана, курута, тутуна, капына и других поборов".
Отказом от уплаты подати и оброков при выполнении обязанностей по inöü являются по существу и документы USD 22 и 25. Из них особо следует отметить одно место документа USD 22, когда подающие жалобу крестьяне заявляют на имя Токлук Тимура, что они несогласны сверх incü еще платить ясак, так как при всех предшествующих ханах тот, кто был занят на inöü в качестве садовника, не платил калана.
Документы об incü чрезвычайно важны для историка потому, что характеризуют определенную форму общественных отношений, а, кроме того, благодаря документу USD 22 дают возможность датировать второй половиной XIV в. попытку монголов, помимо барщины, вводить более совершенные формы феодальных повинностей в виде продуктовой, возможно, и денежной ренты. На этот факт, отмеченный документом, в свое время обратил внимание В. Бартольд.2
Значительной группой документов являются заемные документы. Предметы займа обычно — продукты питания, масло, вино, кунджут и мн. др. Характерная черта этих документов та, что все они заключены в первой половине года, чаще всего весной. В них указывается, для чего берется данный предмет, с какими процентами его возвратят осенью, т. е. после сбора урожая. Как правило, указывается величина процента „по обычаям народа" и кто явится ответчиком в случае смерти должника. Как и все документы, они начинаются с даты и заканчиваются подписями и печатями должника, иногда и свидетелей, которых* * 81 Б. Владимирцов. Общественный строй монголов. Л., 1934, стр. 68.
8 В. Бартольд. Персидская надпись... стр. 30.
80
кстати сказать, в долговых квитанциях обычно чрезвычайно мало, один-два. Наконец, следует указание, кем написан документ. Обычно, если документ написан не участником сделки, а посторонним лицом, то обязательно наличествуют свидетели.
Приведем тип документа.
Küskü jyl altync ai on janyya, Man,a, Qaisytuqa tüskä küncit, kärgfäk bolup, Al-Tämirtin bir köni küncit altym. Küs iki köni küncit bärür man. Bärmätin käcürsär man äl jan,ynca tüsi birlä bärür [man]. Bärkincä bar joq bolsar man inim Qusuqnyn, täkilär birlä köni bärsünlär. Tanuq Qarpaq, tanuq Bürkäk. Bu nysan mänin, ol. Man Qaisytu özüm bitidim.
„В год мыши, шестого месяца, десятого нового, мне Кайсыту под проценты, в кунджуте необходимость имея, у Эль Темира один (мера веса) правильно кунджута я взял. Осенью я правильно отдам два (мера веса) кунджута. Если, возвращая, просрочу я, то по обычаям народа вместе с процентами дам я (кун- джут). Если до возвращения (взятого и процентов) я умру, мой младший брат Кусук вместе с родственниками правильно пусть отдадут. Свидетель Карпак, свидетель Бюркек. Это печать моя. Я, Кайсыту, сам написал".
Два момента в такого рода документах особо интересны, помимо выше отмеченных. Это указания на закон, действующий в массе уйгур, — обычное право. В самом деле, вместо ссылок на законы государства (иапр., на законы китайские), или на ясу Чингиса, здесь высшим авторитетом признается „обычай народа" (^еъ^аь по которому и будет определен размер возна¬
граждения кредитору в случае просрочки платежа. Несомненно, что отражение в документе ссылки на „обычай народа" свидетельствует лишь об исключительно сильной роли родо-общинной организации, выступающей в юридических документах под терминами либо äl (&**), либо budim (^ft^gj).
С другой стороны, любопытна и форма ответственности младшего брата и родственников. Выше мы уже отмечали роль последних при совершении сделок, в частности при покупке- продаже раба. Тот же принцип и здесь, с той лишь разницей, что там они перечислялись в роли ближайших претендентов, здесь — в качестве ближайших ответчиков. Сопоставление этих обстоятельств дает все основания утверждать об исключительно сильной роли родового строя, распад которого естественно задерживался сохранением и общинных отношений.
Заемный документ, имевший, вероятно, наибольшее распространение в сделках внутри общины, больше всего и наиболее лаконично отразил уровень развития общественных отношений уйгур XIII—XIV вв.
Среди известных документов есть сравнительно большая группа своеобразных „челобитных", связанных с протестом крестьян против тех или иных поборов или взысканий. Тип
б
Проблемы источниковедения
81
документа в таких случаях вариирует. Метод аргументации —* ссылка на старину, перечисление предшествующих правителей, при которых те или иные нововведенные мероприятия не проводились. В таких документах обычно содержится наибольшее количество фактов социально-экономической истории.
Разбирать все данные такого рода документов (напр., док. 14, 22 и т. д.) мы в силу ограниченных размеров настоящей статьи не будем. Отметим наиболее интересные вопросы, которые представлены этими документами.
Так, напр., в документе 14 мы сталкиваемся с протестом ряда общин через своих представителей против платежа ряда податей, так как, будучи должны некоему Кара Тойону за взятую у него бязь, они выделили из своей среды человека, который будет работать в его хозяйстве; они обязуются возвратить бязь, но при условии, чтобы на время работы у Кара Тойона выделенного ими человека, все они были освобождены от поборов.
В этом документе мы имеем факт выступления крестьян от имени общины — äl, что отражает ее положительное значение в условиях феодализма.
Мы имеем также свидетельство о барщинных работах в хозяйстве феодала (по всей вероятности, имеется в виду монастырь). Для истории Востока эти факты имеют особое значение, так как вопрос о барщине и вообще феодальных формах эксплоатации в востоковедной литературе абсолютно не разрешен, и такого типа свидетельства исключительно ценны. Наконец, мы здесь имеем перечисления податей в натуре, заслуживающие особого внимания. Надо отметить, что типы поборов исключительно многообразны и их содержание далеко еще неизвестно. Большинство названий податей происходит от названия продукта, с которого взимается побор, таковы, напр., Qurut — взимание с продуктов скотоводства, Tütün — буквально с дыма — кибитки. Qabyn от слова „мешок“, вероятно, зерновые, As basyq (14, 88, 112)1 — подать с еды, alban jasaq (26) — дань, Zäkät— налог в пользу бедных (2), Salyy (2, 14, 25, 30) — распространенный тип налога или повинности, имевший место и в Золотой Орде, Qabyn (14, 21), повидимому, с хлопка или зерновых, Qanlyq (38) специально в пользу хана, Qopcur (39,53,54,69,88) — подать, упоминаемая и Рашид-ад Дином. В. Бартольд в согласии с Катрмером высказывал соображения в пользу того, что „Копчуром... называли пастбища и налог с пасущихся стад, в размере 1°/о“*2 Qolus (80), также упоминаемый в ярлыках Золотой Орды, Salyy qulyy (30) — подозреваем, что это тип подушной подати, абсолютно неизвестная подать Täzik (88), и т. д.
1 В скобках номера документов.
2 В. Бартольд. Персидская надпись,.. j стр. 32.
82
Перечень податей можно найти и выбрать из словаря С. Малова, приложенного к изданию документов В, Радлова. Над этой терминологией еще предстоит большая и кропотливая работа в связи с уточнением содержания каждого термина. Из приведенного нами материала ясно, что большинство повинностей шло в натуральной форме. Помимо общегосударственных податей (qanlyq, salyy и др.), подати, в основной массе, были, по существу, видом оброка крестьянина своему сеньеру. Характерно, что оброк сосуществует на ряду с барщиной и, как показывает документ USD 22, крестьяне противопоставляют барщину оброку и податям. Последнее обстоятельство, подчеркиваемое рядом документов, подсказывает нам мысль о том, что в эту эпоху хозяйство уйгур было всецело натуральным и незначительно товарным, чем только и можно объяснить противопоставление барщины оброку.
Необходимо отметить и тот факт, что отмеченные документами виды повинностей и поборов нашли в своем большинстве отражение в собственно монгольской системе взимания ренты. Тесная связь между уйгурскими документами и монгольскими ярлыками исключительно ясна и показывает лишь, что уйгурский юридический документ абсолютно необходим для всякого историка монгольской империи и ее улусов.
В рассматриваемых нами документах, очень условно называемых „челобитными", получила очень широкое освещение и сама, неоднократно упоминаемая, община.
Община, как выше отмечалось, вообще фигурирует под двумя терминами: äl и budun. Некоторые упоминания о ней в данной группе документов представляют особый интерес. Так, напр., в документе USD 14 община выступает под двойным термином äl-budun. Имеем в виду следующее выражение: Türlük ulus baslap äl budunqa —
„Разные улусы возглавляя от союза племен (общин)..."1 Или там же: Bu nysan biz bitiktäkicä atlyy äl budunnyn, ol. Män Barca-Turmys bitikci älkä budunqa üc qata incqä aiytyp bitidim. £&* чаиоь £** ytt'feO* pG v*—^
pa* p*
„Эта печать нашей общины, которая в этой грамоте именуется. Я, Барча Турмыш, писец, от моей общины, три раза внимательно выслушав все, это написал". Затем следуют свидетельские подписи. Эти места, по нашему мнению, достаточно показательны для вывода о том, что термин äl-budun обозначает общину.
1 USD, док. 14, стр. 16—18.
6*
83
В документе 77 аналогичного порядка любопытны упоминания общины „budun". Здесь она фигурирует с весьма характерными эпитетами, напр., cyyai budun „бедная
община".1
Документ 77 не оставляет сомнений в том, что термин „budun" в юридических документах выступает как синоним общины. Кроме того, особенно в 77 документе, ясно выступает крестьянство в положении зависимых, вероятно, крепостных, что нашло свое отражение в специальной терминологии qalan О4*4*)- Так, напр., мы имеем такого типа фразу: „бедным крепостным общинникам..." рь /*^£9 члС?
В самом деле здесь не просто qalan budun, a qalancy, т. е. связанный постоянно с каланом народом. Известно, что суффикс су является показателем имени действующего лица, и в данном случае мы имеем это образование от слова qalan, что буквально значит подать, повинность.
В 77 документе термин qalan выступает не в роли натуральной или денежной подати. Qalan здесь фигурирует в качестве обязанности производить земледельческую работу для определенной группы людей. Не случайно здесь qalan выступает и с суффиксом принадлежности 1уу, указывающим на определенное положение людей, обязанных нести эту повинность. В связи с тем, что в разбираемом тексте крестьяне в той или иной степени связаны с выполнением работы quvaq — что
буквально значит „ярмо", „тягло" (?) и т. д., мы утверждаем, что qalan обозначает не просто подать, для чего у нас меньше оснований, а зависимую, закрепощенную часть крестьянства, для которой qalan есть обязательная форма работы.
Мы ограничим себя этой краткой иллюстрацией типов документов, не останавливаясь на арендных договорах, завещаниях, имеющих особый интерес для изучения в частности семейного права, расписках сборщиков податей, по которым можно установить продукцию сельского хозяйства на других частных документах, имеющих характер временных расписок, замены утерянных документов и т. п.
Приведенная характеристика некоторых типов документов со стороны их содержания показывает, что уйгурский юридический документ является, несмотря на заимствованную структуру и некоторую окостенелость формы, ценнейшим источником для истории собственно уйгур и даже для изучения экономики монгольского государства, ибо уйгуры в истории последнего и, в частности, в его государственной организации сыграли в свое время далеко не маловажную роль.
1 USD, док. 77, стр. 130.
84
А. И. АНДРЕЕВ
ТРУДЫ СЕМЕНА РЕМЕЗОВА ПО ГЕОГРАФИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ XVII—XVIII вв.
I
Изучение прошлого Сибири и ее народов началось еще в конце XVII в., но несмотря на двести с лишком лет, которые отделяют нас от того времени, когда работал историк сибирских народов — Семен Ульянович Ремезов, прошлое их известно нам все же плохо. В значительной степени такое положение дела объясняется тем, что до сих пор не только не выявлены основные источники для изучения этого прошлого, но и те из них, которые известны, не подверглись критическому обследованию. В трудах историков Сибири XVIII—XX вв. ее состояние до похода Ермака нашло слабое освещение. Тот период ее, который относится ко времени после походов Ермака, т. е. с 80-х годов XVI в., еще требует во многом дополнительного исследования в виду того, что основной источник для этого времени — летописные повести о завоевании Сибири, такназ. Есиповская, Строгановская и Ремезовская летописи, а равно многочисленные летописные повести, без достаточного основания относимые к распространенной и краткой редакциям Есиповской летописи, на ряду с некоторыми другими летописными повестями о завоевании Сибири, оставшимися вне общепринятой классификации их, все еще ждут своего исследователя. Если перейти затем к группе сибирских летописных сводов XVII— XVIII вв., то положение здесь еще более трудное, так как, по непонятным причинам, эти летописные своды не вошли в издание Археографической комиссии, названное „Сибирские летописи", целиком заполненное . именно повестями о завоевании Сибири, причем ни один из летописных сводов в этом издании не напечатан. Сибирские же летописные своды, имеющиеся в других изданиях, напечатаны так ненаучно, что пользоваться ими, без предварительно критического обзора этих источников, крайне трудно и рискованно. Богатейшие документальные материалы о Сибири, взятые из сибирских архивов и впервые введенные в научный оборот Г. Ф. Миллером
85
в 1750 г., издавались случайно. Наследство Г. Ф. Миллера — собранные им копии сибирских архивов за XVI—XVIII вв.,— остается мало известным исследователям. Следует заметить, однако, что при всем богатстве их документы учреждения, ведавшего Сибирью в XVII—XVIII вв., — Сибирского приказа, которые особенно привлекали к себе внимание с 90-х годов XIX в., не дадут многого, что ценно для историка, интересующегося историей отдельных народов, и что можно извлечь преимущественно из местных архивов, часть коих сохранена в упомянутых выше копиях Г. Ф. Миллера. Историческая география и этнография народов Сибири за XVI—XVIII вв. пока также слабо разработаны, хотя материалов для них сохранилось немало.
Задача советской науки — изучение прошлого народов Сибири — возможна только в результате привлечения всех групп источников, которые указаны выше.
Настоящий этюд посвящен одной из неразработанных групп источников — географических и отчасти этнографических материалов и трудов Семена Ремезова, известного прежде всего своей „Историей Сибирской". Но Ремезов является в то же время географом и этнографом Сибири, и его труды в этой области особенно интересны для нашего времени.
II
Биография Семена Ремезова до недавнего времени заключала немного фактов: мы знали, что он был тобольский дворянин, живший в конце XVII в., автор „Истории Сибирской" и „Чертежной книги 1701 г."; годы его рождения и смерти были неизвестны. На основании его „Истории", написанной неизвестно когда, изображали обычно Ремезова типичным писателем XVII в., закончившим свою деятельность в начале следующего века, когда была представлена им в Сибирский приказ „Чертежная книга Сибири 1701 г." и составлена переписная книга Тобольского уезда 1710 г. Если не отмечать попыток дать генеалогию сибирских служилых людей Ремезовых за XVII в., то изложенным, в сущности, ограничивались наши сведения о Семене Ремезове как писателе XVII в., которому в его исторических и географических работах помогали его сыновья: Леонтий, Семен, Иван и Петр.1
На основании найденных мною материалов, о которых скажу далее, мы можем значительно дополнить эти скудные известия о Семене Ремезове. Сохранилась „выписка" Сибирского приказа о службе деда и отца Семена Ремезова, а равно его самого, составленная в 1698 г.; копия ее имелась в семье Ремезовых,
1 Биографические сведения о Семене Ремезове в Русск. Биогр. слов., том „Рейтерн-Рольцберг“, СПб., 1913, стр. 48—50 (статья И. Соколова). Cp. С. В. Бахрушин. Очерки по ист. колонизации Сибири в XVI и XVII вв., М„ 1928, стр. 17 и сл., 169,180.
86
и сам он и его дети дополнили эту выписку известиями после 1698 г.
Как уже догадывались исследователи, Ремезов был младшим представителем фамилии Ремезовых, тобольских служилых людей XVII в. (его дед Меньшой [Моисей] и его отец Ульян служили также в Тобольске). Семен Ремезов был „верстан в чин из неверстанных детей боярских“ в Тобольске в 1681 г., надо полагать, в возрасте 18—20 лет, значит, он родился около 1663 г. Год его смерти в продолжении выписки не указан, но в „Служебной чертежной книге“ семьи Ремезовых, откуда извлечена мною эта выписка, имеются об этом косвенные указания. В ней приведен перечень сибирских архиереев, оканчивающийся Иоанном Максимовичем, скончавшимся в июле 1715 г.; в перечне, писанном рукою Семена Ремезова, проставлен затем год 7224-й (1715—1716 г.), когда должен был начать свое служение новый митрополит, но имя его так и осталось невписанньш, как полагаю, потому, что автор перечня уже не видел этого митрополита,1 — из этого делаю заключение, что Семен Ремезов умер в последние месяцы 1715 г. За время с 1681 г., когда он был поверстан в дети боярские, и по 1715 г. в выписке о службе Ремезова записано много фактов его служебной деятельности. Но наше внимание останавливается главным образом на тех, которые связаны с его работой, как он сам ее обозначает, „сверх служеб“. Оказывается, эта последняя началась в 202 г. (1693—1694 г.)2 тем, что Ремезов „написал выносную часовню для поставле- ния на реке Иртыше иорданного освящения воды“, а в следующем 203 г. „сверх служеб, сработал, сшил и написал мастерски конным и пешим полкам седмь камчатых знамен...“ Этими работами живописца и знаменщика началась затем деятельность Семена Ремезова „чертещика“: составителя чертежа части Сибири, чертежа каменного Тобольска, чертежа всей Сибири и др., а равно чертежных описаний к ним и разных других работ, которые были выполнены им на основании приговора Сибирского приказа 10 января 1696 г.
Этот приговор напечатан в „Полном собрании законов“, III, № 1532, под названием „боярского приговора“, но, как видно из текста его, является приговором Сибирского приказа, „боярина князя Ивана Борисовича Репнина с товарищами“. Он состоял в следующем: решено было „послать великих государей грамоты во все сибирские городы, велеть всем сибирским городам и с уезды... написать чертежи на холстине, и сколько верст или дней ходу город от города, также и русские деревни
1 Им был тот же Филофей Лещинский, о котором в росписи имеется весьма злая характеристика; указ об его вторичном назначении был получен в Тобольске осенью 1715 г. (Буцинский. Крещение остяков и вогулов при Петре Великом, Харьков, 1893, стр. 76).
2 В выписке ошибочно стоит 204 г.; верную дату см. в Древц. Росс. Вивл., HI. ивд. 2-е, стр. 286—287*
87
и волости и ясачные волости от того города, и на каких реках те городыиуезды и ясачные волости стоят, и то описать на чертеже именно". Далее, тот же приговор заключал особое постановление, которое выполнить надлежало в Тобольске: „а в Тобольску велеть сделать доброму и искусному мастеру чертеж1 всей Сибири и подписать внизу, от которого города до которого сколько верст или дней ходу, и уезды всякому городу определить, и описать, в котором месте какие народы кочуют и живут, также с которой стороны к порубежным местам какие люди подошли". Приказ мотивировал необходимость производства всех этих работ тем, что „в Сибирском приказе сибирским городам чертежей нет и ведать не по чему". В заключении приговора отмечалось, что чертежи следовало сделать тотчас, „безо всякого мотчанья" и прислать затем в Москву, причем указывался размер этих чертежей: „а те чертежи... велеть сделать мерою в длину трех аршин, в ширину дву аршин..., а большой всей Сибири чертеж сделать в вышину трех аршин, а поперег четырех аршин".
III
Задуманная работа не являлась чем-то новым: и до 1696 г. предпринимались работы по составлению чертежа всей Сибири и чертежного описания к нему того же типа, какой требовал приговор 1696 г. Такими являются, напр., чертежи всей Сибири 1667 и 1673 гг., к которым приложены соответствующие чертежные описания.2
1 В „Поли. собр. зак.“, III, стр. 213 ошибочно в этом месте: „чертежей“ исправлено по тексту в конце того же приговора: „а большой всей Сибири чертеж“
2 Чертеж 1667 г. напечатан в „Матер, для ист. картографии России и Сибири“ В. А. Кордта, серия II, вып. I, по плохой копии, оказавшейся в Швеции; по копии Ремезова он воспроизводился трижды в трудах Л. В. Багрова (см. ниже); другая ремезовская копия имеется в упомянутой „Служебной чертежной книге“ Ремезовых. Описание к чертежу 1667 г. напечатано в сборнике А. А. Титова „Сибирь в XVII в.“, М., 1890, стр. 23—38, но, как уже отмечено Н. Н. Оглоблиным (Источники „Чертежной книги Сибири“ Семена Ремезова, СПб., 1891, стр. 11—12), кроме Румянцовского списка, по которому напечатано описание, имеется более полный текст того же описания в столбце 867 Сибирского приказа; такой же более полный текст найден мною в рукописи N» 376 Эрмитажного собрания Гос. Публ. библ., лл. 5об.— 21об. (Рукопись № 376 представляет копию 1791 г. рукописи № 181 б. Моек, духовной академии, описанной неполно и неточно в предисловии к „Сибирским летописям“. СПб., 1907, стр. XXX—XXXIV).—Чертеж всей Сибири 1673 г. считается утерянным, но Л. В. Багров (Карты Азиатской России, Пгр., 1914) видит его в том чертеже Сибири, который хранился в б. Военно-ученом архиве Главного штаба (отд. VII, № 342) и на который впервые обратил внимание И. И. Лаппо в своем „Отзыве о труде г. Кордта — Материалы по истории русской картографии. Вторая серия. Вып. I...“ (Юрьев, 1908, стр. 16—21); Л. В. Багров воспроизводит этот чертеж в упомянутой работе на стр. 13. Чертежное описание 1673 г. печаталось трижды: впервые в „Российском магазине“ 1791—1792 г., т. I, стр. 403—415, затем во „Времен. Общ. Ист. и Древн. Рос.“, III (1849), и, наконец, в сборнике А. Титова „Сибирь в XVII в.“, стр. 39—54 (о рукописях этого описания см. ниже).
В8
Новым было то, что чертежи уездов предписывалось составить на местах, а „грани уездов“ должны быть намечены в Тобольске. Новым являлось и то, что в Тобольске предполагалось составить описание сибирских и порубежных народов, которое отсутствует в чертежных описаниях 1667 и 1673 гг.
Как выполнялся приговор 10 января 1696 г. в сибирских городах, кто сочинял чертежи на местах, и когда они были закончены — неизвестно,1 но в отношении Тобольска мы располагаем определенными сведениями.
Выполнение всего того, что относилось на долю Тобольска как главного города Сибири, было возложено в том же 1696 г. в апреле на Семена Ремезова, который, как мы знаем теперь, был известен уже как художник и знаменщик. Надо думать, что чертежное дело Ремезов изучал на практике и составлял свои чертежи, примеряясь к тем образцам, которые имелись в Тобольской приказной палате. В предисловии к чертежной книге 1701 г. он указывает некоторые из чертежей, которыми он пользовался: им назван общий чертеж всей Сибири 1667 г., или „Годуновский“, как он именует его в другом месте, и, кроме того, упоминает восемь чертежей 192—204 гг, города Тобольска („лист 1“), которые предшествовали его девятому чертежу, составленному в 1699—1700 гг. Но надо думать, что в той же Тобольской приказной палате имелись и некоторые другие чертежи, о которых Ремезов не упоминает, или же они ему мало пригодились. Во всяком случае, в 1696 г. он приступил к работе, не имея еще того богатого собрания чертежей, которое позднее, в 1698 г., он нашел в Сибирском приказе.
О той большой работе, которую ему пришлось проделать в 1696 и следующем 1697 г., Ремезов рассказывает в предисловии к „чертежу земли Тобольского города“ („лист 2“ „Чертежной книги Сибири 1701 г.“). Грамота Сибирского приказа была получена в Тобольске 17 апреля 1696 г., и тогда же Ремезову было поручено „написать самым добрым мастерством на холстине чертеж трех аршин, двух поперег“, т. е. того размера, какой приказ предписывал делать во всех сибирских городах, но не чертеж всей Сибири, для сочинения которого в Тобольске не было еще материалов. Для собирания материалов для чертежа Ремезов был послан 28 октября 1696 г. в Тобольский уезд — „по наказу и по послушной памяти2 допрашивать и описати“ расстояния сел, деревень, рек, озер и ясачных волостей. „И в посылке Семен Ремезов многих людей, русских и иноземцев, старожилов, бывальцов и ведомцов, про урочища
1 Только на чертеже Енисейской земли („Чертежная книга 1701 г.“, л. 14) имеется указание, что „в 205-м г.. * чертеж написан в Енисейску при стольнике и воеводе Михаиле Игнатьеве сыне Корсакове“.
2 Они не сохранились.
89
допрашивал и Остроги и волости описал". Когда он вернулся в Тобольск, — неизвестно, но к 15 августа 1697 г.1 чертеж был готов, в начале сентября был сдан в воеводскую канцелярию и 18 сентября „послан из Тобольска с тобольским сыном боярским с Офонасьем с Денисовым к Москве в Сибирской приказ“. О дальнейшей судьбе этого чертежа узнаем из того же предисловия: „и на Москве (тот чертеж) свидетельствован и по описке явился похвален паче иных протчих в полности мастерства чертежей, и о том в Тоболеск к стольнику Андрею Федоровичу Нарышкину того же году декабря в 15 день похвальная грамота (прислана)“.2
Чертеж Ремезова действительно отличается от прочих русских чертежей того времени: в нем применен едва ли не впервые в русских чертежах „церкильной розмер в линиях и з гра- нех“, причем в особом пояснении к чертежу, озаглавленном „миллиарии розмер“, дан масштаб. В предисловии указано подробно не только то, что изображено на чертеже, но и подчеркнуто дважды, что все „такие достоверные свидетельства“ он, Ремезов, „описал подробно в свидении многих писцов, памятливых старожилов, бывальцов в непроходимых местех и каменех безводных, на степех и на морех, по различным землям подлежащих жительству языков“. Если бы на чертеже был изображен только Тобольский уезд XVII в., как он известен по писцовым и переписным книгам, то пришлось бы считать эту часть предисловия всего лишь риторическим оборотом писателя XVII в., как уже сказано о Ремезове, любившем будто бы употреблять такие выражения, за которыми не всегда находится определенное содержание. В данном случае этого нет, и приведенное предисловие отражает действительную работу Семена Ремезова. Прежде всего, составленная им карта явилась не только картой Тобольского уезда, но, как правильно отмечено им на самой карте, она представляет карту „части Сибири“ —всех уездов так наз. Тобольского разряда, и в виду этого на ней имелись чертежи не только „Тобольской земли“, но также „земель“ Сургутской, Березовской, Пелымской и других к западу, а на юге Тарской, земель Калмыцкой, Дюрбетской, Казахской орды и др. Для этих чертежей ему пришлось, конечно, искать „свидетельства“ не только людей, знавших Тобольский уезд, но и те далекие земли, которые граничили на севере с морем, а на юге примыкали к безводным степям. Впрочем, эти последние земли составили также содержание другого чертежа, данные для которого собирались одновременно с первым. Имею в виду „чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи“ („лист 20“ „Чертежной книги 1701 г.“), который Ремезов должен
1 Дата на авторской копии в „Служебной чертежной книге", л. 29.
2 „Служебная чертежная книга" л. 28. В печатном предисловии к л. 2 текст сокращен и в некоторых местах непонятен.
90
был сочинять на основании той же грамоты Сибирского приказа 1696 г. Для сочинения чертежа „степи от Тобольска до Казачьи орды и до Бухарей Большей и до Хивы и до Еика и до Астрахань“ и путей в эти области, размер которого, как первого, был определен 3 аршина на 2 аршина, Ремезов должен был также собирать сведения у „Тобольского города и иных городов всяких чинов людей: старожилов, ведомцов, бывальцов, выходцов и полонянников, русских и иноземцов: бухар и татар и калмыков, и новокрещеных“, от них он „выведывал и описывал“, между прочим, „немирных владельцов земли и всякие урочища, реки, речки и озера и каменные горы и пески и меж ими расстояние и до которого урочища сколько ходу“; в частности, расспрашивал про „славный Алтай камень“, который „искони... создан во основании главою всех великих рек: Иртыша, Енисею, Селенги, китайской Корги, индейской Ганга и калмытских... многих рек“, а также про „путь в Китай“. На основании собранных свидетельств был сделан и готов к 3-му марта 1697 г. второй чертеж, который был также послан в Москву. Он выполнен по старым образцам, без масштаба, но дает не менее ценные данные, чем и чертеж „части Сибири“, о котором говорю выше.
На этом чертежные работы Ремезова приостановились: общий чертеж всей Сибири, как предписывал приговор 1696 г., он не сделал, видимо, по отсутствию для того нужных материалов в отношении земель, которые не были подчинены Тобольску, а может потому, что был отвлечен другой работой — составлением чертежа Тобольского каменного города, что потребовало от него немалых трудов. Но он выполнил задание, которое было поставлено Сибирским приказом перед Тобольском— составил описание всей Сибири „и уезды всякому городу определил“ и дал описание народов Сибири,
IV
Первая из этих работ оставалась до сих пор неизвестною. Мне не удалось отыскать ее в целом виде, но я нашел ее оглавление и несколько отрывков из нее. Они сохранились в копии, снятой для Г. Ф. Миллера,1 и в рукописи не носят прямого указания на то, что перед нами труд Ремезова. Но ближайшее ознакомление с отрывками не оставляет сомнения в его авторстве. В копии чертежа Тобольской земли в „Чертежной книге 1701 г.“, на л. 2 приведен в правом нижнем углу „миллиарии розмер“, против него имеется надпись на голландском языке, которая в русском переводе значит: „это объяснено в особом описании“. На существование этого „особого описания“ или „доезда“ по терминологии приложения
1 Архив Акад. Наук, ф. 21, оп. 5, № 38, лл. 58 я сл.; ГАФКЭ, портф. Миллера, Nß 505, I, тетр. 6, лл. 1—8.
91
к чертежу, на основании этого примечания на голландском языке, в свое время обратил внимание А. Ф. Миддендорф,1 но его указание осталось без внимания.
Между тем, в упомянутом выше оглавлении труда неизвестного автора имеется особая статья (глава), носящая именно такое название: „миллиарии розмер“. В оглавлении приводятся,
кроме того, названия до 30 чертежей, среди них такие, о которых из других источников мы знаем, что они сделаны Семеном Ремезовым, — между прочим, тот „чертеж... Тобольской земли до Казачьей орды“, составление которого послужило поводом к сочинению описания всей Сибирской земли по плану, предложенному Сибирским приказом в грамоте 1696 г. По поводу этого чертежа имеется в оглавлении отметка, что он „послан к Москве, а в пример в Тобольску таков оставлен в приказе в 206-м году“; как уже отмечено, чертеж Тобольской земли, сданный Ремезовым 1 сентября 1697 г., был действительно напра* влен в Москву в 206-м году —18 сентября 1697 г. В том же оглавлении под № 4 отмечен „Годуновский чертеж“, который трижды воспроизводился Л. В. Багровым по рукописи из собр, Воронцовых-Дашковых.2 Эту рукопись Л. В. Багров, один из немногих специалистов по истории географической карты, обозначил как „вариант“ „Чертежной книги Сибири 1701 г.“ Семена Ремезова. На Годуновском чертеже этой рукописи находим тот же № 4 (писанный буквенной цыфирью), под которым этот чертеж занесен в оглавление труда, о котором идет речь. Но примечательно не только это совпадение, но и то, что в Году- новском чертеже по рукописи Воронцовых3 имеется легенда, писанная рукою Семена Ремезова, из которой видно, что перед нами копия, сделанная им с „печатного подлинного чертежа... в нынешном 206-м году“, т. е. в год, когда он работал по составлению чертежа части Сибири.
Географический труд, оглавление и отрывки которого оказались в бумагах Г. Ф. Миллера, видимо, состоял из оглавления, введения и двух частей: текста описания всей Сибири и приложений к нему — чертежей. Оглавление этого труда читается в рукописи Миллера так: „Оглавление количество статьи и рукодельство знай и в дело приводити и от разума не зазор,
1 Вестн. Русск. Геогр. Общ., 1851, № 5, смесь, стр. 3.
2 Карты Азиатской России (Пгр., 1914), Картография Азиатской России, в предисловии к „Атласу Азиатской России“, изд. Переселенческим Управлением, и в его „Истории географической карты“ („Вестн. археол. и истории“, вып. XXIII, 1918, стр. 40).
3 Рукопись из собр. Воронцовых, кажется, является той рукописью, оглавление которой находится в бумагах Миллера; оглавление и отрывки были получены им, надо думать, от Воронцовьйс, с которыми Миллер был в близких отношениях; рукопись ныне считается утерянной. Сношения Археографической комиссии в 1928 г. с М. А. Цветковым, который, как редактор „Атласа Азиатской России" был последним, пользовавшимся этою рукописью, нс дали положительных результатов.
92
& службы“, но тем же начинается оглавление „Служебной чертежной книги“ Ремезовых, где, однако, дается вполне понятный текст: „оглавление количеству статей в книге сей, и по сей книге по указу рукоделие чертежное знати и в дело поводити образно, не в зазор службе“. В обеих рукописях можно найти сходные статьи.1 Это также дает основание утверждать, что перед нами работа Ремезова, но относящаяся ко времени более раннему, чем „Служебная чертежная книга“, заведенная им в 1699 г. как книга авторских копий с тех чертежей, которые он отправил в Москву в 1701 и следующие годы. Впрочем, и помимо этого сходства, в рукописи находим ответы на вопросы, поставленные перед Ремезовым в 1696 г., для чего он собрал тот разнообразный географический и иной материал, о котором говорит оглавление этого не сохранившегося в целом труда, посвященного географическому описанию Сибири.
Во введении к нему (главы 1—18) Ремезов давал некоторые общие рассуждения и материалы, часть которых сохранилась в его „Служебной чертежной книге“. Здесь, кроме отмеченных уже сходных статей, были статьи: объяснение названия Сибири („писание о Сибири“, ст. 13), „о значении имени Тобольского града“ (ср. в „Служебной чертежной книге“, л. 14 об.), описание дороги Московской (ст. 18) и др. Далее шло описание рек с урочищами: Тобола, Мияса, Исети, Синары, Уфы, Пышмы, Туры, Ницы, Тавды, Конды, Иртыша „со всеми жильми и град Тобольск и до вершины Иртыша до калмыцких жилищ“, реки „Демьяна“, „степи Барабинской с урочищами до Оби“, степи калмыцкой, рек Вагая, Ишима, степи до Казачьей орды, реки Яика, моря Мангазейского, реки Оби, Сосвы, Ваха, Васьюгана, Кети, Чулыма, Томи, Бии и Катуни, Енисея, „поморья“ Туруханского, трех Тунгусок, Илима, „моря“ Байкала, рек Селенги, Амура, Лены, Вилюя, Алдана и Колымы. Описание таким образом производилось по основным путям Сибири — рекам, и на них отмечались волости, деревни и юрты и пр. и расстояния между ними. К описанию рек были приложены чертежи, сначала тобольские (ст. 63—74), а затем, как и требовал приговор 10 января 1696 г., „чертежи граней уездов“ Тюменского, Тарского и других уездов не только Западной, но и Восточной Сибири.
В книге, с которой для Миллера была снята копия, было 175 листов, из которых в копии Миллера, кроме оглавления, приведена лишь небольшая часть: 1) о значении слова Сибирь
1 Рукопись Миллера, оглавление: № 1 „доезд по грамотам великого государя ..." — в „Служебной чертежной книге“ то же № 1 „указание Московского доезда“; № 2 „крузы вселенные на пример чертежа“—в „Служебной чертежной книге“ то же на л. 5 об.; № 3 „лист чертежей греческой печати“ — то же в „Служебной чертежной книге“, л. 22; № 4 „Годуновской чертеж“ — в „книге“, лл. 30—31; № 10 „матка по знакам ветров“, № 11 — „миллиарии розмер“ и № 12 „знаки урочищам“ — имеются также в вводной части „Служебной чертежной книги“, и др.
93
(ст. 13), 2) о дороге Московской (ст. 18) и 3) часть описания реки Тобола (ст. 19). Впрочем, часть статей, как уже отмечено, сохранилась в „Служебной чертежной книге" Ремезова, а некоторые чертежи приводятся в печатной „Чертежной книге Сибири 1701 г." и в той же „Служебной чертежной книге".
Таким образом, как и при сочинении общих чертежей Сибири 1667 и 1673 гг., и теперь было составлено описание всей Сибири.
Кроме отмеченных выше чертежей, в оглавлении к книге названо еще несколько чертежей, из них некоторые повторяются в „Служебной чертежной книге" („чертеж каменного городового строения", „чертеж городового валового строения и обрубу" и пр.), о других же Ремезов упоминает в предисловия к „Чертежной книге Сибири 1701 г." („во 192 и 3-м годех чертеж в дополнение к прежнему, кой писан во 176-м году про знание жилья", и др.). В той же книге было 18 чертежей граней уездов, которые были составлены Ремезовым еще до того, как в Сибирском приказе были получены из сибирских городов чертежи их земель; ни один из этих 18 чертежей до нас не дошел. Они потеряли, конечно, свое практическое значение после того, как тем же Ремезовым вскоре было приступлено к сводке всех чертежей в одну чертежную книгу, причем, конечно, попутно был разрешен и вопрос о „гранях" сибирских уездов.
V
Отрывки „описания народов Сибири", составленного Ремезовым, оказались в так наз. Черепановской летописи, которая в целом виде до сих пор не напечатана.1 Вслед за Л. Н. Майковым, изучавшим Черепановскую летопись по поручению Археографической комиссии, позднейшие исследователи (В. С. Иконников и С* В. Бахрушин) лишь повторяют его суждения об этой летописи. В частности, когда перечисляются источники этой летописи, то среди них не указывается один, на который нельзя не обратить внимание, когда читаешь эту летопись.
В предисловии к своей летописи И. Черепанов перечисляет свои источники и среди них называет „описание о сибирских народах и граней их земель, по грамоте великого государя и по наказу сочинено... тобольским сыном боярским Семеном Ульяновым сыном Ремезовым в лета от Адама 7206, от р. X. 1698, взятья Сибири 118; в сей же летописи оная вторым описанием
; 1 Известие о новейшей летописи сибирской, сочиненной Ильею Черепановым, в „Сибирском вести.“«Л 821, XIV, стр. 303—314, а также стр. 290—294. Летоп. занятий Археогр. ком., VII (1884), проток., стр. 52—68 (сообщение Л. Н. Майкова).
94
Ремезовым будет упоминаться. * ."1 Действительно, в летописи Черепанова находим несколько ссылок и отрывков из этого труда Ремезова. Так, при изложении событий 1581 г. Черепанов приводит выдержки из Ремезовской летописи, а затем пишет: „последуя второму описанию Ремезову..." и далее дает генеалогию Тайбугина рода, совсем не похожую на ту, которая имеется у Ремезова в его летописи; на л. 552 Черепанов пишет: „в древностях истории писатель Ремезов во втором описании своем полагает начало происшествия народов в Сибири от ханов красноярских...", несколько далее (л. 58), находим у него выписку из „описания Ремезова о обычаях сибирских народов, в статье о остяках Пегой или Золотые Орды"; в рассказе о строении города Верхотурья (л. 61 об.) Черепанов приводит „нечто... от описания Ремезова, статья о вогуличах, вере и жизни их"; из того же „описания Ремезова" он извлекает довольно большие отрывки-статьи „о татарских законах" (л. 63 об.), о калмыках (лл. 75 об. — 77), о красноярских татарах (л. 91 и сл.), о тунгусах (л. 123), о даурах и манч- журах (л. 125 об.) и др.
Все эти выдержки не оставляют сомнения, что перед нами отрывки труда Ремезова — „Описания сибирских народов", где он говорит о таких сюжетах, которых нет в его летописи, а иногда определенно высказывается по-иному о том, чего ему приходилось касаться в его летописи; такова, напр., генеалогия Тайбуги в летописи и в „Описании", и т. д.3 Тема оТайбуге и о „Тай- бугинском роде", как известно, по-разному излагается в Ремезовской летописи и, напр., в „Летописце вкратце".4 Поэтому нет ничего странного, если в разные периоды своей ученой деятельности Ремезов по-разному излагал историю Тайбуги и его рода.
У нас нет оснований заподозрить правильность сообщения Черепанова об авторстве Ремезова. Мы знаем, что такой труд было поручено написать в Тобольске, и, конечно, нельзя было выбрать для этого более подходящего лица, чем С. Ремезов, так близко стоявший к поставленной задаче по другим своим научным занятиям. Но если имеется хотя бы небольшое сомне¬
1 Библ. Союза ССР, отд. рукоп., № 2214, Л. 3—Зоб. Это предисловие отсутствует в списке Черепановской летописи Гос. Публ. библ. в Ленинграде. Рукопись № 2214 поступила в б. Моек. Публичный и Румянцовский музей (ныне Библ. Союза) в 1879 г. и описана в „Отчете Музея за 1879—1882 г.", стр. 21, где, среди источников Черепанова, назван впервые труд Ремезова „Описание о сибирских народах".
2 По копии Черепановской летописи, которою пользовался Н. М. Карамзин, ныне хранящейся в Гос. Публ. библиотеке в Ленинграде под шифром F. IV. 324.
3 Там же, лл. 15об.—16, рассказ, весьма отличающийся от Есиповской летописи и от „первого опиЬания Ремезова".
*4 Продолж. Древн. Рос. Вивл., ч. VII, 1791, стр. 173—198.
95
ние в этом отношении, то оно должно исчезнуть, если сопоставить „Описание" с этнографической картой Сибири в „Чертежной книге Сибири 1701 г." (л. 23),которую некоторые авторы1 считают работой Ремезова 1673 г. Основанием для отнесения ее к этому году служит, видимо, предисловие к этой карте. Но при всей запутанности и неясности его, все же трудно вывести заключение, что в 1673 г. С. Ремезов составлял свой этнографический чертеж. Думаю, что соответствующее место предисловия, где упомянута эта дата, должно быть толкуемо так: в 1673 г. июня 8, как свидетельствует митрополит Корнилий, был написан первый чертеж, на котором были отмечены границы земель отдельных „родов и языков"; этот чертеж, как и чертежное описание этого года, остались неизвестными Ремезову, и он о них знает лишь по свидетельству митрополита Корнилия; его же собственный чертеж составлен им на основе показаний ведомцов, бывальцов и старожилов; в оригинале ремезовского чертежа разные „иноземские роды и языки" были обозначены различными красками — „шарами и цветами". Но имеются и два других соображения, почему нельзя лист 23 „Чертежной книги Сибири 1701 г.", где находится этот чертеж, относить к 1673 г.: 1) из послужного списка Ремезова известно, что он начал службу в 190 (1681/82) г., когда ему было, вероятно, не более 20 лет, и 2) если сравнить лист 23 с л. 21 — общим чертежом Сибири, составленным Ремезовым в Москве в 1698 г. (см. далее), то можно заметить между ними полное сходство в основном: в первом отсутствуют, конечно, те подробности (названия населенных пунктов, мелких рек и пр.), которые для этого чертежа были излишними; из этого совершенно ясно, что л. 23 не мог появиться раньше 1698 г., когда был составлен оригинал л. 21. В связи с этим очевидно, что этнографический чертеж был составлен Ремезовым после 1698 г., именно в 1699—1700 гг., когда составлялась та чертежная книга, куда вошел этот чертеж. Все народы Сибири, упомянутые в сохранившихся отрывках „Описания", конечно, отмечены и на этнографическом чертеже, причем терминология в обоих случаях одинакова. Так, напр., в „Описании" читаем: „Остяцкая земля в четыре языка разделяется: первые обдорин- ские остяки с самоедами емлются, другие Кодские городки и князь (о)собой, третий сургутские или Пестрая орда и князь (о)собой, четвертые под Нарымом остяки, жилья тако ж и язык их и князь (о)собые, в делех и пословицах во всем друг от друга разнствуют... А в их земли четыре города: Березов, Сургут, Нарым и Кецкой..."; те же названия можно видеть и на чертеже, причем „Описание" дает подробные указания, по каким рекам проходили границы „Остяцкой" земли. Многочи - сленные названия калмыцких родов на этнографической карте находятся в полном соответствии и имеют объяснение в подроб-
1 Ср. у С. В. Бахрушина, Очерки, стр, 18, прим. 1.
96
яой статье о калмыках, которая была в „Описании“.1 Эти факты не оставляют сомнений, что перед нами труды одного и того же автора.
Судя по тем извлечениям из труда Ремезова о сибирских народах, которые приводит Черепанов, Ремезов подробно описывал преимущественно народы Западной Сибири, т. е. те, о которых он имел больше всего материалов. О народах же Восточной Сибири этнографический источник Черепанова, именно — упомянутый труд Ремезова, давал ему очень мало данных; сам Ремезов, как приходится думать, сообщал о народах Восточной Сибири лишь краткие сведения.
Итак, во исполнение приговора Сибирского приказа от 10 января 1696 г., в Тобольске были изготовлены два чертежа, было составлено описание Сибири и к нему 18 чертежей границ сибирских уездов, было сочинено описание народов Сибири; осталась невыполненной лишь одна работа, которая намечалась тем же приговором: не был составлен чертеж всей Сибири не только по отсутствию нужных данных, но и потому, что автор всех названных выше трудов—Семен Ремезов — был занят в эти же годы еще одной работой, которой придавали тогда большое значение.
VI
Известно, что в течение XVII в. Тобольск несколько раз горел, причем в огне не один раз погибали казенные здания. В связи с неоднократными большими расходами казны на восстановление сгоревшего города в 1697 г. в Москве, в Сибирском приказе, возникла мысль о построении вместо большого деревянного города, каким был Тобольск в то время, небольшого каменного города, который вместил бы все казенные учреждения. Соответствующая грамота из Сибирского приказа была получена в Тобольске в мае 1697 г., и еще до окончания чертежа „части Сибири“ Ремезов должен был приступить к новой работе: составлению проекта и сметы нового каменного города в Тобольске. Об этих его трудах мы до сих пор ничего не знали, хотя соответствующая переписка тех лет была известна Г. Ф. Миллеру, по поручению которого были сняты копии со всех грамот Тобольской губернской канцелярии, касающихся построения каменного Тобольска в 1699—1706 гг.2 Интересная своими техническими подробностями, эта переписка должна бы привлечь внимание историков строительной науки, которые лучше не-специалистов разберутся и в тех многочисленных чертежах и справках, которые имеются по этому делу
1 Гос. Публ. библ., F. IV, JVfo 324, лл. 58—58 об., 75—77.
2 Архив Акад. Наук, ф. 21, оп. 4, № 13, лл. 131 об. — 142 об., №№ 48—54; опись этого дела там же, № 14, лл. 25 об. — 27.
7 Проблемы источниковедения
97
в „Служебной чертежной книге" Ремезовых (лл. 20—21 об., 135 об. —142, 147 об. —154). Во всяком случае, Ремезов встает перед нами в новой роли проектировщика, архитектора и строителя города. Выписка о его службе („Служебная чертежная книга“, лл. 37об. — 38) отводит этой работе Ремезова, занявшей его на семь лет, весьма большое внимание и сообщает много подробностей об отдельных моментах работы. Сам Ремезов, видимо, очень близко входил во все подробности дела и, по его словам, „будучи у того каменного строения с 205-го года майя в 18 день работал усердно, по вся дни безпокойно, с начала розмеру земли под город сажен и розметной росписи и письма и чертежей и во всех припасах городового всякого строения, и, бывши у земленых, судных и сыскных земленых и описных дел семь лет, по 214-й год июня по 20-е число будучи работал, обнищал и обезножил“. Упомянутые выше проект и смета к нему были закончены Ремезовым в июне 1698 г., когда, для защиты их, он был отправлен 5 июля в Москву, куда и прибыл 14 августа. В тот же день он „подал в Сибирском приказе отписку и доезд и наличной чертеж со всякою отповедью. И дано ему Семену и с сыном Семеном великого государя жалованье в оклад и в приказ корм и выход в довольство и указано быть на Москве в доме ближнево боярина Михаила Яковлевича Черкасского в пропитаньи...“ Во время пребывания в Москве Ремезов был „в научении“ в Оружейной палате, в ведении которой находилось „каменное строение всяких дел“. Когда он отправлялся обратно в Тобольск, ему „в пример“ была дана „строения печатная книга фряжская“. Грамотой 4 декабря 1698 г.,1 которую вез с собою Ремезов, предписывалось поручить ему устройство каменного города в Тобольске, „для того что ему всякие чертежи делать за обычей; и как сваи бить и глину роз- минать и на гору известь и камень и воду и иные припасы встаскивать, и о том ему на Москве в Сибирском приказе пространно и довольно сказано, и мельничные колеса на пример ему на Москве показывали“. Но изучение строительного дела не являлось все же главным занятием Ремезова во время пребывания его в Москве с середины августа до начала декабря 1698 г., и лестная оценка его работы как „чертещика“ была основана на других его работах, за которые его посадили сразу же по приезде в Москву.
VII
Обстоятельства составления общего чертежа Сибири, которым Ремезов стал заниматься в первые же дни по приезде в Москву, описаны им в предисловии к этому чертежу. Но в его изложение вкралась неточность, довольно обычная для Ремезова
1 Архив Акад. Наук, ф. 21, оп. 4, № 13, л. 136—136 об.
98
(если только она не принадлежит томулицу, которое делало копию с этого чертежа для „Чертежной книги Сибири 1701 г.“): выходит так, что Ремезову, бывшему в Москве, 20 сентября 1697 г. было приказано сделать два общих чертежа Сибири, один на белой китайке, другой на лощеной бязи, разм. 6 арш. на 4,— что и было выполнено им при помощи сына Семена® к 8 ноября 1698 г. Между тем, в заглавии общего чертежа Сибири1 сказано, что он „писан на Москве в Сибирском приказе со всех городовых чертежей в 207 (1698) г. сентября в 18 число". Оче-' видно, правильной является эта последняя дата, т. е. окончание работы Семена Ремезова и сына его Семена должно быть отнесено к 18 сентября 1698 г., так как в сентябре 1697 г. и позже Ремезов находился в Тобольске, а в Москву был послан только 5 июля 1698 г.,, в Сибирский приказ явился 14 августа, после чего приступил к работе, но над чем?..
Требование приговора 10 января 1696 г. сделать в Тобольске общий чертеж всей Сибири не было выполнено: на основании имевшихся в Тобольске материалов Ремезов мог на месте сделать лишь чертеж „части Сибири" — городов и уездов Тобольского разряда — и „чертеж степи безводной", для остальной же части материалы были получены им только в Москве. По прибытии туда он сразу же принялся за выполнение этой работы: как отмечает то же предисловие к л. 21 „Чертежной книги Сибири 1701 г.", „Семен Ремезов, бывши на Москве с сыном Семеном, снявши переводы (т. е. копии) с парчей со всех городовых чертежей, 18-ти, привезенных к Москве", сделал прежде всего „обращатой" чертеж, но какого размера? В своем послужном списке Ремезов о работе 207 г. записал так: „в 207-м, будучи на Москве, по указу, снял образцы со всех городовых чертежей, с парчей, и в Сибирском приказе написал с-тех парчей всех городов обращатой чертеж на китайке белой и другой в Кремль государю шти аршин на лощеной бязи, в верх, в дубовую палату". Размер „обращатого чертежа" здесь не указан, но в другом месте своей „Служебной чертежной книги" (л. 21об.) Ремезов говорит об этом определенно: „и живучи на Москве... ис тех (городовых) чертежей выбрал и написал на белой китайке длины 4 аршина поперег 2 аршина; таков образец в сей книге на листу 37". Этот чертеж, сделанный, вопреки мнению А. Григорьева и Н. Michow’a (см. далее) не в Тобольске, а в Москве, сохранился и находится в настоящее время в собрании Государственного Географического общества в Ленинграде. Внимательно изученный А. Григорьевым в его работе „Подлинная карта Сибири XVII в. (Работа Семена Ремезова)“,1 чертеж был неправильно отнесен им к 1697 г., ко времени пребывания Ремезова в Тобольске; А. Григорьев основывался, между прочим, на известии Черепа-
1 Журн. Мин. нар. проев., 19Э7, окт., стр. 374—381.
7*
99
новской летописи, где сказано под 1697 г.: „чертеж тобольский сочинял тобольский сын боярский Семен Емельянов (ошибка: Ульянов) Ремезов с детьми своими Леонтьем, Семеном и Иваном, которой послан в Москву с тобольским сыном боярским Афа- насьем Даниловым сего лета (7206, от р. X. 1697) сентября 18“,1 но, как уже отмечено выше, в этот день был послан в Москву не чертеж всей Сибири, а всего лишь чертеж „части Сибири“. И указ Петра I, которому, по догадке А. Григорьева, казалось нетерпимым дальнейшее „мотчанье“ в исполнении предыдущего указа от 10 января 1696 г., состоялся ке через два дня по отсылке из Тобольска чертежа „части Сибири“, а спустя год после того, т. е. 20 сентября 1698 г.; приезд же Ремезова в Москву последовал „не вскоре“ после 18 сентября 1697 г., когда он действительно был в Тобольске, а тоже почти через год, 14 августа 1698 г. Таким образом первый „обраща- той чертеж“ всей Сибири был составлен Ремезовым, при 'содействии его сына Семена, в Москве между 14 августа и 20 сентября 1698 г., когда состоялся новый указ: по изготовленному образцу сделать другой чертеж большего размера; этот второй чертеж, законченный к началу ноября того же года, до нас не дошел.
В эти же месяцы Ремезовым были сняты копии на александрийской бумаге со всех городовых чертежей, а также с „обра- щатого“ чертежа, составленного нм самим; эти копии были взяты им с собой при отъезде в Тобольск в декабре 1698 г.
VIII |
По окончании работы и представлении общего чертежа Сибири, предназначенного для Кремля, состоялся 18 ноября 1698 г. новый государев указ: „велено тобольскому сыну боярскому Семену Ремезову писать вновь в Тобольску на александрийской бумаге с привезенных к Москве сибирских городовых чертежей... подобно привозным образцом, в 206-м году свидетельствованных многими достоверными писцы и ведомцы и старожилы“, и, кроме того, „вновь писати (чертеж)... Великопермские и Печерские Поморские Двинские страны по допросам... и написавши привесть к Москве...“ Прибыв в Тобольск 1 января 1699 г., Семен Ремезов, по его словам, „о чертежах вновь допрашивал всяких разных чинов русских людей и иноземцов и иностранных жителей, пришельцов в Тоболеск, старожилов, уроженцов, памятливых бывальцов, казанцов, уфимцов, пермяков, усольцов, хев- рольцов, яренчан, устюжан, мезенцов, колмогорцев, корельцов, пинежан, новогородцов (т. е. жителей тех мест, которые нужно было дать на чертеже Великопермской и Двинской земель), пословно выспрашивал меру земли и расстояние пути городов их,
1 Гос. Публ. бнбл., F. IV, № 324, л. 100.
100
сел и волостей, про реки, речки и озера и про поморские берега, губы и островы и промыслы морские, про горы и леса и про всякие урочища, кои в прежних чертежах (т. е. в составленных в сибирских городах и в копиях, снятых в Москве) издавна не написаны, всякого человека про свой город и урочище“.1 Ремезову предстояло сделать удобную для пользования книгу чертежей всех сибирских городов, но предварительно надо было сочинить еще новый чертеж или, вернее, даже не один.
„И по таким допросам, — продолжает он, — зачал работати... книгу в 207-м году (1699) генваря с 30 числа со всяким прилежанием з детьми и по допросам написал вновь семь листов да с прежних образцов городовых сибирских низовых чертежей, которые были присланы и сняты на Москве, 17 листов. И писал с прилежанием по 209-й год, от рождества Христова 1701, генваря по 1-е число“. Сравнительно большой промежуток времени, который потребовался Ремезову для составления чертежной книги, объясняется не только тем, что работа по составлению новых карт потребовала много времени, но также и тем, что одновременно с поручением составить чертежную книгу государевой грамотой от 4 декабря 1698 г., как уже сказано выше, было предписано тобольским воеводам „приставить“ Семена Ремезова к каменному строению Тобольска по тому плану и чертежу, который был сочинен им же. Эта работа сильно отвлекала его от чертежных и иных научных работ. Но несмотря на неоднократный отрыв от работы по составлению чертежной книги, Семен Ремезов, при помощи сыновей, окончил ее, как сказано, к 1 января 1701 г., т. е. спустя почти двачгода после того, как он к ней приступил по возвращении из Москвы.
Эта чертежная книга Ремезова давно уже известна в исторической литературе: первые сведения о ней даны в описании рукописей Н. П. Румянцова, составленном А. X. Востоковым и вышедшем в 1842 г.2 К сожалению, ни в описании, ни в переписке и литературе о Н. П. Румянцове нет сведений о том, откуда получил он рукопись чертежной книги. Востоков при описании не напечатал предисловия к некоторым из чертежей этой книги, и они были позднее, в 1862 г., изданы в „Архиве историч. и практ. сведений“ Н. В. Калачова (кн. 4-я), а вся книга — размером оригинала — была воспроизведена в 1882 г. фотолито- графским способом как издание Археографической комиссии, исполненное на средства П. И. Лихачева. Изданию предшествует
1 Цитирую по тексту „писания до ласкового читателя“, приведенному в „Служебной чертежной книге“ Ремезовых, который отличается от текста того же „писания“, находящегося в „Чертежной книге 1701 г.“.
2 Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума, составленное Александром Востоковым, СПб., 1842, стр. 483—487. Во второй раз чертежная книга была описана в труде Н. А. Попова, Татищев и его время, СГ1б., 1860, стр, 577—581.
101
предисловие, составленное Л, Н. Майковым.1 В нем последний, исходя из того, что „ход картографических работ Ремезова обстоятельно описан им самим в его предисловии и в примечаниях к отдельным чертежам“, не считал необходимым повторять подробно содержание его сообщений, но все же кой-какие подробности привел, причем сообщил, что „еще в 1695 г. (Ремезов) представлял в Сибирский приказ карту Сибири, за которую и получил одобрение“. В известных мне источниках и литературе это сведение не находит подтверждения. Тот же Л. Н. Майков пишет о дальнейшей работе Ремезова: „Затем на него было возложено поручение свести в одно целое все, присылаемые из Сибири, карты, и он исполнил этот труд в двух экземплярах на листах александрийской бумаги, по 14 футов длины и 9 с третью футов ширины каждый“. Несомненно, это известие взято из „писания до ласкового читателя“ — предисловия Ремезова к „Чертежной книге Сибири“, но экземпляры общей карты Сибири, впервые сделанные Ремезовым в Москве в 1698 г. на китайке и на бязи, превратились здесь в экземпляры на александрийской бумаге невероятного для этой бумаги размера. В основном же Л. Н. Майков буквально повторил замечания о чертежной книге А. Ф. Миддендорфа, сделанные им в письме в Русское Географическое общество в 1851 г.,2 а затем повторенные в части первой его „Путешествия на север и восток Сибири“, СПб., 1860, стр. 38—39. А. Ф. Миддендорф дал общую оценку карт Ремезова и их значения для картографии Сибири и признал, между прочим, что „древнейшие карты Сибири Витзена и Избранд Идеса“ были заимствованы у Ремезова. Как и Востоков, Миддендорф обратил внимание на голландские надписи, приписанные на ряду с русскими почти на всех картах атласа; по его мнению, эти надписи „доказывают, что атлас этот послужил, между прочим, для позднейших пополнений Витзеновой карты Сибири“. Но ни один из упомянутых исследователей не остановился на вопросе о происхождении Румянцовской рукописи чертежной книги: является ли она той чертежной книгой, которую сделал Ремезов с сыновьями в 1699—1700 гг., или же она всего лишь копия с той, и тогда какого времени, кем и по чьему поручению сделана эта копия, а в связи с этим — кому же принадлежат эти голландские надписи на карте; если же это копия, то какое ее отношение к своему оригиналу: повторяет ли она его буквально, или неизвестный копиист проявил здесь самостоятельность и допустил отступления от оригинала?
В последующей литературе мы также не найдем ответа на все эти вопросы, имеющие большое значение для научной
1 Предисловие не подписано, но об авторстве Л. Н. Майкова см, „Летоп* занятий Археограф, ком.“, IX (1893), проток., стр. 10.
2 Вести. Русск. Геогр. общ., вып. V, смесь, стр. 1—4,
102
оценки чертежной книги 1701 г., изданной в 1882 г. по рукописи неизвестного происхождения, оказавшейся в собрании Н. П. Румянцова, К тому же литература об этом памятнике весьма небольшая: стоит отметить лишь работы Н. Н. Оглоблина „Источники «Чертежной книги Сибири» Семена Ремезова", СПб., 1891, известные „Материалы по истории картографии России и Сибири" В. А. Кордта (серия II, в. I, К., 1906) и весьма ценный отзыв о них И. И. Лаппо, напечатанный в „Учен. зап. Юрьевского унив." (Юрьев, 1906), а также упомянутую выше работу А. Григорьева и статью известного немецкого исследователя древнерусских карт Г. Михова, напечатанную в Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1908, SS. 36—41, посвященную, как и статья А. Григорьева, подлинной карте всей Сибири Ремезова и сына его Семена, которая была передана из б. Екатерингофского дворца в Русское Географическое общество; следует указать также на упомянутые выше труды Л. С. Багрова.
IX
Располагая лишь теми материалами о работах Ремезова, которые мы имели до сих пор, трудно было дать более или менее удовлетворительный ответ на поставленные выше вопросы. В поисках нужных материалов я нашел недавно новые данные о Ремезове, которые позволяют по-иному осветить его работу по картографии Сибири и значительно расширяют наши сведения о нем как географе и этнографе Сибири.
В ходе моих работ о Ремезове мне казалось, что составленные им чертеж „части Сибири", а затем и всей Сибири должны были сопровождаться чертежным описанием: за это говорила своего рода традиция в этой области. Русский чертеж всей Сибири 1667 г. имел при себе чертежное описание, давно уже напечатанное.1 Чертежное описание всей Сибири 1673 г.2 было также приложением к чертежу, который Л. В. Багров в 1914 г. признал в чертеже,3 впервые отмеченном И. И. Лаппо в его рецензии на „Материалы" В. А. Кордта.4 Казалось, что и чертежи Ремезова должны сопровождаться таким же чертежным описанием. Как отмечено выше, эту работу Ремезов выполнил в 1696—1697 гг., но это чертежное описание было до сих пор не найдено. Ныне удалось отыскать часть его, о которой сказано выше.
Но что более важно, удалось обнаружить подлинные реме- зовские чертежи, с которых были сняты им в 1699—1700 гг.
1 А. Титов. Сибирь в XVII в., М., 1890, стр. 25—38.
2 Там же, стр. 41—54.
3 Л. Багров. Карты Азиатской России, стр. 12.
4 И. И. Лаппо. Отзыв о труде В. А. Кордта „Матер, по ист. русской картографии“. Вторая серия, вып. 1, Юрьев, 1906, стр. 15—21.
103
копии для чертежной книги 1701 г., удалось найти, наконец, часть того описания народов Сибири, которое приговор 10 ян- варя 1696 г. предписывал составить в Тобольске; к этой последней работе в 1699—1700 гг. сочинена этнографическая карта Сибири. Она находится, как известно, в изданной в 1882 г. „Чертежной книге Сибири“, на последнем, 23-м, листе, и совершенно неосновательно, как уже сказано выше, относится к 1673 г. Описание же народов Сибири, как приложение к этой карте (или наоборот), только упоминается в литературе: два автора,1 которые о нем говорят, его, конечно, не видали, а знают об Описании по упоминанию о нем в известии 1697 г. Черепановской летописи.
X
Прежде чем приступить к изучению подлинных чертежей Ремезова, следует остановиться еще на некоторых вопросах, которые тесно связаны с той „Чертежной книгой Сибири“, о которой уже отчасти шла речь выше.
В рукописи „Чертежной книги Сибири“, находящейся в Ру- мянцовском собрании, — единственной известной до сих пор, на большей части чертежей, на ряду с русскими названиями, под ними или рядом, сделаны голландские надписи, причем эти последние не всегда являются простым переводом русских. Они заставляли думать, что атлас Ремезова послужил, между прочим, для позднейших пополнений Витзеновой карты Сибири; следы такого же заимствования у Ремезова находили также на карте Избранд Идеса.2
Карта Витзена, как известно, представляющая большую редкость, имеется в Гос. Публичной библиотеке в Ленинграде,3 а снимок с нее — в величину оригинала — прекрасно воспроизведен в издании „Remarkable maps of the XVth, XVIth and XVIIth centuries reproduced in their original size. IV. Nicolaes Witsen’s map of the northern Asia. From the Bodel Nyenhuis collection (University library, Leyden) with notes by F. G. Kramp. Amsterdam, Frederick Müller and C°. 1897“.
Как уже отмечено Крэмпом, карта Витзена, хотя имеет в легенде дату 1687 г., не может быть отнесена к этому году: на ней к западу от Новой Земли показан остров, который, по имеющейся на карте надписи, открыт шкипером Фламингом
1 Г. Спасский. Известие о новонайденной летописи Сибирской, в „Сиб. вести.“ 1821, ч. XIII, стр. 2—3; А. Григорьев. Подлинная карта Сибири XVII в. (Работы Семена Ремезова), в „Журн. мин. нар. проев.“ 1907, окт., отд. II, стр. 379.
2 А. Миддендорф. Путешествие на север и восток Сибири, ч. I, СПб., I860, стр. 38—39.
3 Описание карты дано Г. Ф. Миллером в 1732 и 1761 гг. „Samml. Russ. Gesch.“, L SS. 203—212; VI, SS. 29—31.
104
28 июня 1688 г. Вместе с тем из посвящения карты царю Петру Алексеевичу (а не двум царям, как неправильно отмечает Крэмп) нужно отнести ее появление к более позднему времени.1 Витзен сам считал ее лишь первоначальным опытом и принимал все меры к тому, чтобы карта его не получила широкого распространения.2 Но, несмотря на это, карта Витзена стала известна и появилась в свет не ранее 29 января 1696 г. (единодержавие Петра), а, вероятно, еще позже — после личного знакомства Витзена с Петром, что относится к августу 1697 г.,3 когда Витзен, по словам нашего посланника в Гааге А. А. Матвеева, сделался „нашим истинным и верным служителем во всем“.4 При таких отношениях нет ничего удивительного в том, что Витзен получал легко и свободно многие материалы по географии и истории России, в частности Сибири, которые были другим недоступны. В своем труде „о Северной и Восточной Тар- тарии", вышедшем первым изд. в 1692 г., а вторым в 1705 г., перечисляя всех, оказавших ему помощь присылкой нужных материалов, Витзен ничего не говорит о своих сношениях с А. А. Виниусом, дьяком Сибирского приказа с 1695 г., в ведении которого находились многие материалы о Сибири, интересные Витзену, не говорит в изд. 1705 г. может быть потому, что не хочет навлечь на Виниуса какие-либо неприятности в виду трудного положения Виниуса после увольнения его в 1703 г. из Сибирского приказа. Но эти сношения, как скажу далее, были многолетними и сопровождались посылками Витзену соответствующих материалов о Сибири. Во всяком случае, в распоряжении Витзена были также другие карты Сибири русского происхождения, кроме той карты П. И. Годунова 1667 г., о которой он говорит и в предисловии и в тексте второго издания своего труда.5 В литературе о карте Витзена уже отмечались ошибки, имеющиеся на ней и происшедшие от плохого знания Витзеном русского языка: так, Л. И. Шренк6 заметил, что указанная на карте Витзена в начале Амура провинция со странным названием „Otsel poshel" — несомненно непонятое им русское название или надпись на каком-то русском чертеже, имеющаяся, напр., на „чертеже земли Нерчинского города" в „Чертежной книге Сибири", на л. 19: „от устья Аргуни Амур пошел".7 Крэмп указал, кроме того, несколько других неточностей, объясняемых плохим знанием русского языка, отчего появились
1 Миллер относит ее к 1690 г. (Samml. Russ. Gesch., I, SS. 204, 206).
2 См. письмо его к Куперу от 24 сентября 1709 г., напеч. у J. Gebhardt, Het Jeven van Nicolaes Cornelius Witsen, Utrecht, 1882, vol. II, p. 322.
3 Соловьев. Ист. России, III, стр. 1173 (но здесь неточность: издание Вит- аеном „Избрандидесова путешествия в Китай“ относится к 1704 г.).
4 Соловьев, III, стр. 1314.
5 Назв. труд* предисл., стр. 755 и сл., 859, 961 и сл.
6 Л. И. Шренк. Об инородцах Амурского края- Т. I, СПб., 1883, стр. 99.
7 В „Служебной чертежной книге“ Ремезова на л. 93об. на чертеже Нерчинского города здесь стоит: „от усть Аргуни Амур пошел до моря“.
105
на карте Витзена такие наименования, которые вызывают улыбку („Otmore“ и „Wostock“ — как названия провинций, „Skaya Powerko“ на месте земли Сургутской — вм. Soorgoot- skaya, „werkh“ и др.). Не касаясь общей оценки карты Витзена, следует остановиться на вопросе о том, знал ли Витзен „Чертежную книгу Сибири“, как полагают некоторые старые исследователи.
Кроме отмеченного факта об Амуре, имеется еще несколько других, на основании которых можно думать, что Вит- зену была известна, напр., общая карта Сибири Ремезова: у Витзена ниже впадения Вилюя в Лену отмечено: „Brandende Poel“, этого нет на карте Якутского города в „Чертежной книге Сибири“, но этот „огнь горящий“ имеется на общей карте Сибири Ремезова. Но допуская даже, что Витзен имел в своем распоряжении все или некоторые чертежи „Чертежной книги Сибири“, следует заметить, что голландские надписи последней не имеют сходства в транскрипции с теми, которые при тех же географических объектах имеются на карте Витзена, и, что самое главное, на карте Витзена столько нелепостей и ошибок, которых не было бы, если бы речь шла здесь о заимствовании в узком смысле слова. Приведу несколько примеров. Река Кровавая превратилась у него в „Кровавую землю“; Мангазея стоит на р. Мангазее; Енисейск и Маковский острог находятся на какой-то одной реке (Orsolka); между Хатангой и Пясидой живут какие-то „Iasakken“; нижеТуруханского зимовья по обоим берегам Енисея „Piasi“, к западу от них „Piakki“, на Тазу „Maiwasei- skoe“; в ряде мест на карте рассеяно слово „Wolock“, где часто никакого волока нет и не могло быть, иногда „Wolock“ — название реки; Томск на левом берегу Оби выше р. Томи; „Kus- netskoy oste Smits-stadt“ на Томи, но он же (Kusnetskoy sive Kousni) и южнее на р. „Bereswa sive Tagan fluv. sive Soulousma“; в устьях Катуни стоит город „Mangansiskoy“, причем Ка- тунь — и левый и правый притоки Оби, на Бии — город или острог под названием „Katounas“; в системе Чулыма тоже все перепутано: „Орга или Великая лука“ на Чулыме на карте Витзена превратилась в „Iorgoet insul“; на Оби, между Чулымом и Кетью, появилась „Mraas“, далее две реки Кети, впадающие в Обь, на одной из них, более южной, стоит Кет- ский острог, далее река Нарым, затем опять „Tsoulym“, и т. д. Не меньшая путаница и в системах других рек. Количество примеров подобных ошибок можно значительно увеличить. На основании произведенного сличения, я думаю, невозможно говорить о влиянии ремезовских чертежей на карту Витзена.
Впрочем, более осторожные исследователи говорят о влиянии Ремезова не на Витзена, а на последующие издания этих карт, подразумевая подними те карты на иностранных языках, которые считаются в основном повторяющими карту Витзена; к числу их в первую очередь относят карту Избранд Идеса, впервые напе¬
106
чатанную в 1704 г. в приложении к голландскому изданию его описания путешествия в Китай.1 По словам Витзена, „карта Избранда большею частью взята из моей карты..." но он ее исправил. На основании этого ее считают исправленной копией карты Витзена.
Карта Идеса воспроизведена В. А. Кордтом в 1906 г. в вып. 1 II серии „Материалов по истории русской картографии“, под № XXVI (почти в величину подлинника). Но даже при беглом сличении карт Витзена и Избранда Идеса видно, что сходство между ними небольшое: прежде всего, карта Идеса более точная, и все те ошибки, которые отмечены у Витзена, здесь исправлены: исчез с карты „Otsel poshel“, р. Кеть имеет более правильное очертание (их не две, а одна), многочисленные Мангазеи исчезли, и появилась одна на своем месте; на карте много названий народов: „populi Pestraia Orda“, „populi altirzi", „populi durbetsi“ и др., причем здесь уже несомненное заимствование с этнографической карты Ремезова, так как народы показаны в общем там же, где и на карте Ремезова; от него же заимствованы очертания восточного берега. На карте Избранда Идеса впервые появляется Камчатка, но не как полуостров, а как река с городом на ней на восточном берегу под 72°, т. е. то же самое, что и на общем чертеже Сибири Ремезова, составленном в 1698 г.
Но и на карте Идеса не обошлось без курьезов: выше Томи по Оби показаны „populi limzini", вероятно, чулымцы Ремезова, а еще выше „populi" название какого-то острога, а сама Обь, как и у Ремезова, вытекает из озера, названного у Избранда „osero Kankisan", вероятно, по имени тех „саянцов", которые в „Чертежной книге Сибири" указаны на чертежах Томского города и этнографическом.
Таким образом, если говорить о влиянии „Чертежной книги Сибири 1701 г." на западноевропейскую картографию, то следует оставить в стороне карту Витзена и считать вполне возможным, что Избранд Идее, при своих близких отношениях с А. А. Виниусом, мог также получить в Сибирском приказе чертежи сибирских городов и чертежи Ремезова, из которых многое заимствовал для своей карты. И именно через карту Избранд Идеса, представляющую нечто вполне самостоятельное по сравнению с картой Витзена, в западноевропейскую картографию стали проникать более правильные сведения о Сибири и местожительстве ее народов.
Вопрос о влиянии ремезовской „Чертежной книги Сибири" на карту Витзена, несомненно, зародился в связи с наличием на экземпляре этой книги в Румянцовском
1 О карте Избранда у Миллера, Nachricht von Land- und See-Carten, die das russische Reich und die zunächst angränzende Länder betreffen, Samml, Russ. Gesch,, VI, 1761, SS, 31-33.
107
собрании голландских надписей, причем один из исследователей (Г. Михов) даже склонен был считать их принадлежащими самому Витзену; но и теперь, когда отношение Витзена к чертежам Ремезова представляется в ином виде, все же остается неразрешенным вопрос о голландских надписях на экземпляре „Чертежной книги Сибири", имеющемся в Румянцовском собрании. Этот вопрос стоит в тесной связи с вопросом о происхождении Румянцовской рукописи.
XI
Вопрос о происхождении той рукописи „Чертежной книги Сибири", которая имеется в собрании Румянцова и по которой она издана в 1882 г., не получил до сих пор того или иного решения. У одного лишь А. Ф. Миддендорфа1 имеем определенный взгляд по этому вопросу. Он полагает, что „чертежная книга... снята самим Ремезовым с составленного им при содействии сыновей и представленного в Сибирский приказ в Москве чертежа..." Против этого легко возразить указанием на то, что первоначальная чертежная книга, составленная Ремезовым с сыновьями к 1 января 1701 г., была иного размера, на ней не было голландских надписей, и затем, самое главное, надо еще доказать, принадлежат ли Ремезову или кому-либо из его сыновей те русские надписи, которые имеются на карте; ведь, они все сделаны одним почерком и несомненно одним лицом, которое выставило при этих русских надписях арабские нумера, надо полагать, для включения географических названий в тот „каталог", который должен был сопровождать чертежную книгу. Вместе с тем остается невыясненным, кем же и для чего сделаны голландские надписи на всех почти картах чертежной книги, причем эти надписи не всегда являются простым переводом соответствующих русских надписей, а иногда переводом неправильным. Впрочем, у того же Миддендорфа имеется некоторое объяснение появления на русском чертеже, на ряду с русскими, голландских надписей. „Славная карта знаменитого Витзена, вышедшая впервые в 1692 г.,2 составлена на основании материалов, имевшихся в Сибирском приказе и вошедших в состав атласа Ремезова. Переводы надписей этого атласа на голландский язык... и некоторые замечания на голландском языке в экземпляре Румянцовского музея доказывают, что этот экземпляр в особенности служил источником дальнейших поправок карты Витзеновой".3
1 Вестник Русск. Геогр. общ. за 1857 г., вып. V, смесь, стр. 1—4.
2 Мы видели выше, что она появилась позже; к 1692 г. относится появление первого изд. „Nord en Oost Tartarye“.
3 Выше было указано, как плохо использовал Витзен те материалы Сибирского приказа, которые были в его руках-
108
Значит, если правильно понять мысль Миддендорфа, то следует думать, что голландские надписи потребовались для одной из голландских переработок карты Витзеиа (сама она вторым изданием не выходила). Такой переработкой весьма условно можно признать карту Избранд Идеса, хотя на последней надписи не на голландском, как у Витзена, а на латинском языке. Но может быть наша рукопись служила лишь пособием для голландца, перерабатывавшего карту Витзена на основании русских чертежей, к которым был дан голландский перевод, причем результат этой переработки появился только на латинском языке (карта Избранд Идеса), так как переработанных карт витзеновского типа с надписями на голландском языке неизвестно. Нельзя не признать такое допущение возможным, но мало вероятным. Между тем, может быть дано иное и более простое объяснение происхождения экземпляра „Чертежной книги Сибири 1701 г.“ с голландскими надписями.
Прежде всего о русских надписях экземпляра чертежной книги из собрания Румянцова. Они действительно принадлежат одному лицу, писаны, однако, не Семеном Ремезовым, почерк которого известен, но почерк их неожиданно оказывается весьма сходным с тем, которым писан текст вставных листов Реме- зовской летописи (статьи 5, 6, 7, 8, 49, 50, 51, 52, 73—80, 99—102, 140—147), а также вставки, нумерация и колонтитулы („История сибирская“) других листов той же летописи. С. В. Бахрушиным уже отмечено,1 что вставки в основной текст Ремезовской летописи сделаны кем-то из семьи Ремезовых, т. е. может быть одним из сыновей Семена Ремезова, но которым из четырех? Почерк „Чертежной книги Сибири 1701 г.“ по списку Румянцовского собрания и почерк вставных листов Ремезовской летописи не встречается, однако, в „Служебной чертежной книге“ Ремезова и его сыновей, где имеется несколько почерков, несомненно, принадлежащих им.
Обстоятельства, при которых лицо, которому принадлежит почерк Румянцовской рукописи, выполнило большую работу по снятию копии с некоторых листов „Чертежной книги Сибири“, пока неизвестны, но я думаю, что можно определенно говорить, когда и для какой цели была сделана эта копия, в которой другое лицо, знавшее голландский язык, сделало во многих случаях голландские надписи.
Работа по снятию копии с чертежей, вошедших в чертежную книгу, была начата еще до получения в начале 1701 г. от Ремезова чертежной книги: некоторые листы в экземпляре чертежной книги Румянцовского собрания не похожи на те, которые имеются в „Служебной чертежной книге“ Ремезова, напр., „чертеж Енисейского города“, который в „Служебной чертежной книге“ не имеет, между прочим, даты его составления и
1 Очерки, стр. 27, прим.
109
вычерчен значительно тщательнее, чем в Румянцовской „Чертежной книге 1701 г."; такими же отличными от соответствующих им чертежей в „Служебной чертежной книге" являются чертежи „земли Тюменского города", и особенно Нерчинского и Якутского города, причем в „Чертежной книге Сибири 1701 г." эти два последние чертежа резко отличаются от чертежей „Служебной чертежной книги". Эти отличия объясняю тем, что чертежи являются копиями тех чертежей, которые имелись в архиве Сибирского приказа уже к приезду Ремезова в Москву в августе 1698 г., а им впоследствии были включены в чертежную книгу в несколько измененном виде, причем в его „Служебной чертежной книге" осталась копия этих исправленных чертежей, а в Румянцовской рукописи копия с неисправленных чертежей.
Таким образом снятие копий с чертежей сибирских городов могли начать уже в 1697 г., когда в Сибирский приказ начали поступать с мест такие чертежи, но вероятнее всего за это дело принялись не ранее следующего года, о чем скажу несколько далее. Во всяком случае работа не могла быть закончена, пока от Ремезова не поступили те чертежи, которые он сделал в дополнение к полученным на Москве в сентябре— декабре 1698 г.; эти вновь составленные им чертежи (шесть) были получены только в начале 1701 г. и все имеются в копии с чертежной книги, представленной в Румянцовской рукописи. Я думаю, что работа по снятию копий была закончена ранее 1703 г. и для этого имею следующее доказательство: по грамоте 12 апреля 1703 г. Семену Ремезову и его сыну Леонтию было поручено составить описание и1 чертеж Кунгура и Кунгур- ского уезда, что и было выполнено ими летом 1703 г.; копия с „чертежа Кунгурской земли" имеется в „Служебной чертежной книге" (лл. 67—68 об.), причем в объяснении к нему, между прочим, читаем: „написан вновь сей лист в чертежную книгу к протчим 23 чертежам, которая книга зделана... по указу великого государя 1701-го году генваря в 1 день на александрийской бумаге". В чертежной же книге, которою пользовались для снятия копий, этого чертежа еще не было, а потому его нет и в Румянцовской рукописи, для которой terminus ante quem будет 1703 г. Таким образом копия „Чертежной книги Сибири 1701 г." по рукописи Румянцовского собрания, не являясь, в сущности, точной копией чертежной книги Ремезова, по времени составления ее может быть отнесена к 1698—1702 гг. Эта датировка в полной мере совпадает по времени с теми обстоятельствами, которые вызвали приготовление этой копии.
Итак, для какой же цели потребовалось сделать копию с чертежей сибирских городов и уездов и с других чертежей, вошедших в „Чертежную книгу Сибири 1701 г.", и снабдить их не только русскими, но также голландскими надписями? Догадку Миддендорфа о том, что все это делалось для какого-то пере¬
110
работанного издания карты Витзена, пришлось оставить. Перед нами, несомненно, нечто большее: мы имеем перед собой рукопись „Чертежной книги Сибири“ и сопредельных стран на русском и голландском языках, с приложением, если судить по нумерации географических пунктов на некоторых картах, чего-то похожего на тот „каталог“, который имеется по краям чертежа 1-го этой книги — чертежа града Тобольска. В других чертежах это описание на русском и голландском языке должно было, повидимому, войти в особое приложение — описание чертежной книги, причем по тому, как расположены, напр., нумера на карте всей Сибири и Великопермской и Двинской земли (на них занумерованы реки и их притоки и населенные пункты, причем нумерация по каждой реке идет с № 1), можно догадываться, что это описание было построено по тому же плану, который был в „Описании Сибири“, представленном Ремезовым в 1698 г., т. е. являлось описанием речных систем. По тому, что только на некоторых чертежах мы имеем нумерацию географических пунктов (из них к четырем, составленным Ремезовым), надо думать, что перед нами незаконченная работа, причем из городовых чертежей обработаны для „каталога“ или описания только три — Верхотурского и Якутского и отчасти Иркутского уездов.
Все эти подробности легко объясняются, если указать, для чего производилась вся эта работа. Правда, мы не располагаем прямыми свидетельствами источников, но я думаю, что и косвенные указания помогут объяснить дело составления копии „Чертежной книги Сибири 1701 г.“ и описания к ней.
10 февраля 1700 г. города Амстердама жителю Ивану Андрееву сыну Тессингу была дана, Петром I жалованная грамота, в которой, между прочим, читаем: . .пожаловали его,
поволили в ... городе Амстердаме печатать земные и морские картины и чертежи и листы и персоны и математические и архитектурские и городостроительные и всякие ратные и художественные книги на славянском и на латинском языках вместе, також и славянским и голландским языком по особно“; по отпечатании в Голландии привозить в Архангельск и иные места и торговать, сроком на 15 лет; „и мы... пожаловали (продолжает грамота), повелели ему в том городе Амстердаме печатать европейские, азиатские и америцкие земные и морские картины и чертежи... на славянском и на голландском языках вместе, также на славянском и голландском языках порознь по особну, с подлинным размером и с прямым извествованием, кроме церковных славянских греческого языка книг... и что по нашему же... указу, до вышепомянутого его Иванова челобитья (1698 г.), повелено и дана наша (грамота) Московского государства жителю голстейнцу Елизарью Избранту о печатании в Голандской земле и о вывозе в наше... Московское Царство таблиц с написанием в чертежах и книгах Сибирскому
111
нашему царствию и Китайскому владению городам и землям и рекам под нашим... именованием, на славянском и на голландском языках..."
Текст этой грамоты, напечатанный в „Поли. собр. зак.“, IV, № 1751 и перепечатанный оттуда в „Письмах и бумагах Петра Великого", I, стр. 328—331, давно уже обратил на себя внимание. В частности, то место, где говорится о привилегии, данной Избранд Идесу ранее 14 мая 1698 г. (просьба Тессинга о привилегии была подана в Нимвегене в этот день. — Пам. дипл. снош., VIII, стлб. 1298—1302), Евгений Болховитинов (Словарь, 244) толкует как „привилегию на продажу в России ландкарт своего путешествия в Сибирь и Китай"; по словам того же автора, „некоторые (ландкарты) он и напечатал в Голландии". С. М. Соловьев, отсылая за подробностями к труду П. Пекарского „Наука и просвещение в России при Петре Великом", все же пишет: „ясно, что Избранту было дано только право на издание описания Сибири и Китая, а не всех книг, как думают некоторые", — под этими „некоторыми" разумеется прежде всего Пекарский, который весьма кратко, и притом неточно, излагает (I, стр. 12) содержание привилегии, данной Избранд Идесу. Я не знаю, имеется ли какая-либо другая литература о привилегии, данной Идесу; во всяком случае я также думаю, что привилегия Идесу была дана еще до того, как Ремезову было поручено в конце 1698 г. составить чертежную книгу Сибири удобного для пользования размера. В привилегии Идесу речь шла не об этой еще несуществовавшей книге, а об издании его собственного труда, который он начал составлять по возвращении , в 1695 г. в Москву — описание пути по Сибири в Китай и пребывания в Китае, к чему, видимо, предполагалось приложить чертеж или карту, наподобие той, которая имеется, напр., при описании того же путешествия, сделанном спутником Идеса Адамом Брандом в 1699 г.1 Задуманное в таком плане издание описания Сибири и Китая не осуществилось, так как издание на голландском языке 1704 г. Витзен приписывает целиком себе; он обработал те записки, которые прислал ему Идее,2 надо думать, к тому времени уже умерший.
Но совершенно ясно, что в план изданий, которые предусматривались привилегией Тессинга, могли входить издания, подобные труду Избранд Идеса. Дело у Тессинга не пошло успешно, но все же его типография в Амстердаме до смерти своего основателя в 1701 г. успела выпустить несколько
1 Relation du voyage de Evert Isbrand envoye de sa Majeste Czarienne a TEmpereur de la Chine en 1692, 93 et 94. A Amsterdam, 1699, с приложением карты Витзена (в 'виду малого размера ее названия заменены числами, объяснение же числам дано в особом указателе).
2 Gebhardt, на^в. труд,* II, сто. 322.
112
книг и одну карту на русском языке. Вполне возможно, что подготовлялись также другие издания и в числе их, как можно думать, издание „Чертежной книги Сибири" на русском и голландском языках, с приложением к ней описания, о котором сказано выше. Подготовка этого издания, видимо, началась вскоре же по получении Тессингом привилегии, т. е. во второй половине 1700 г., еще до того, как был получен от Ремезова текст его „Чертежной книги Сибири": вот почему в копии чертежной книги оказались не те чертежи, которые были в „Чертежной книге Сибири 1701 г.", присланной Ремезовым в Москву.
Изучение чертежной книги по копии Румянцовского собрания не оставляет сомнений, что работа по подготовке издания не была закончена: на большей части листов отсутствуют числа при названиях рек, селений и пр., именно на тех, для которых у лица, подготовлявшего издание, не было описания чертежей; это те листы, в основу которых были положены чертежи, поступившие из городов, а не от Семена Ремезова. Работа не закончилась потому, что со смертью Тессинга издание книг и чертежей в Голландии, в Амстердаме, в виду целого ряда обстоятельств, приняло совершенно случайный характер. Впрочем, причина была не только в этом. Душой этого дела — издания „Чертежной книги Сибири" на русском и голландском языках — с самого начала, несомненно, был дьяк Сибирского приказа А. А. Виниус. Об его близком участии в деле составления чертежей и чертежного описания Сибири Ремезов говорит в предисловии к „Чертежной книге" — „писании до ласкового читателя" — в таких выражениях: „совершися сия чертежная книга изволением и повелением царского величества и снисканием и трудолюбным прилежанием Сибирского приказу думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса...", а возникновение ее обязано „указу великого государя и приказу думного дьяка А. А. Виниуса..."
Обзор жизни и деятельности А. А. Виниуса, ближайшего сотрудника Петра, дьяка Сибирского приказа в 1694—1703 гг., дан в труде И. П. Козловского „Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве", т. I, Варшава, 1913, стр. 176—297. В этой биографии далеко не все моменты деятельности Виниуса выявлены достаточно ясно, и в частности по интересующему нас вопросу — о роли Виниуса в деле составления и издания чертежей и описания Сибири. Изучение переписки Виниуса, хранящейся в „делах почтовых", карт. № 6 за 1695—1702 гг., вероятно, даст некоторые подробности сверх тех, которые приводит И. П. Козловский, говоря на нашу тему. Во всяком случае, из приводимых им и другими исследователями данных ясно, что на ряду с заботами об изыскании руд, упорядочении управления Сибирью и пр., отвечая не только практическим, но и своим научным интересам и на запросы Витзена, с которым он в течение многих лет поддерживал дру- 88 Проблемы источниковедения
ИЗ
жескую переписку и сношения,1 Виниус проявлял большой интерес к работам по составлению чертежей Сибири и ее описания. Через год по вступлении его в должность дьяка Сибирского приказа, 10 января 1696 г., состоялся приговор приказа — „князя Ивана Борисовича Репнина с товарищи" — о составлении сибирских чертежей. Когда на местах производились эти работы, в самом приказе в следующем 205 г., „при седенье в... приказе боярина князя Ивана Борисовича Репнина да при думном дьяке Андрее Андреевиче Виниусе да при дьяках Афанасье Парфенове, Василье Темиреве" была „построена" интересная книга, названная „окладной".2 Книга начинается историческими справками о Сибири (выписками из Степенной и из Есиповской летописи), 2) затем приводится „список чертежа Сибирской земли" — чертежное описание 1673 г., 3) интересные извлечения „из книг" о Китайском царстве и, наконец, 4) описания всех 19 сибирских городов, составленные по определенному плану, с включением различных сведений о городе: его местоположении, дорогах к нему, его печати, количестве служилых людей, расходе на них, о доходах, количестве крестьян и ясачных людей и ясака с последних, об укреплениях города и уезда и т. п., — одним словом, настоящая справочная книга, весьма полезная для текущей работы приказа и не менее ценная для историка Сибири конца XVII в., не располагающего теми данными писцовых и переписных книг, которые послужили основным источником при составлении книги. В том же 1697 г. в приказе уже были получены некоторые чертежи сибирских городов, в частности составленный Ремезовым чертеж „части Сибири" и то географическое описание Сибири, которое было приложено к чертежу. Надо думать, что некоторые сведения из описания попали в названную выше окладную книгу, а сам автор чертежа части Сибири и описания ее в декабре 1697 г. получил из приказа похвальную грамоту. В следующем 1698 г. Ремезов прибыл в Москву и здесь при ближайшем участии А. А. Виниуса и, надо полагать, под его руководством составил в Сибирском приказе общую карту Сибири. Этой работой был заинтересован не только Сибирский приказ. При близких отношениях Виниуса к Петру, Ремезов несомненно был известен и царю, для которого он изготовил еще один чертеж
1 Пекарский. Наука и просвещение при Петре Великом, I, стр. 201—202,206; Письма и бумаги Петра Великого, I, стр. 734, 808; Козловский, назв. соч., I, стр. 204, 206, 272, 499; Бантыш-Каменский, Обзор внешн. снош. России, ч. I, М., 1894, стр. 193.
2 Рукописи ее: 1) в Гос. Публ. библ. в Ленинграде, F. IV, Ns 76, список XVIII в. на 254 лл., и 2) в Гос. Истор. музее в Москве, собр. П. И. Щукина, по опис. Яцимирского, Ns 189, на 195 лл. Часть ее (список с чертежного описания 1673 г. и выписки о Китае) напеч. в „Российском Магазине“ 1791—1792 г., т. I, стр. 403—420. Текст, напечатанный в „Российском Магазине“, извлечен из „Сибирских дел за 1726 год“. — Cp. Н. Новомбергский. В поисках за материалами по истории Сибири, СПб., 1906, стр. 21—36,
114
Сибири, ныне утерянный. При связях Виниуса с иностранцами, картой Сибири, приготовленной в Сибирском приказе Ремезовым, интересовались также и они.
Надо полагать, что в рассказе посла в Москве Гва- риента, который напечатан Дукмейером и отнесен им к сентябрю 1699 г.,1 верно отражены не только факт большого внимания Виниуса к картографии Сибири, но и заинтересованность иностранцев в получении географической новинки, каким являлся чертеж Ремезова, Виниус не только показал и дал Гвариенту копию новой карты Сибири, но и просил его помочь выяснить некоторые полезные ему, Виниусу, вопросы. Последний исследователь, который касался этого известия, М. П. Алексеев, по поводу показанной Виниусом карты излагает дело так, что получается впечатление, что речь идет здесь о карте, составленной самим Виниусом.2 Не касаясь пока вопроса о карте Виниуса, которая действительно была и мною найдена все в той же „Служебной книге“ Ремезова под названием: „Чертеж Андрея Андреевича Виниуса избранно(й)“, я думаю, что в известии 1699 г., приведенном Дукмейером, речь идет не о ней, а о карте Сибири Ремезова, составленной им в сентябре 1698 г. и, как новинке, показанной Гвариенту. В том же известии Дукмейера ценно и другое: эту карту собирались печатать, конечно, без того посвящения, о котором говорит Гвариент: если и было со стороны Виниуса сказано что-либо подобное сообщаемому Гвариентом (Виниус не пожелал ее издавать иначе, как посвятив карту ему — Гвариенту — „neque earn aliter quam mihi dedicatam ad publicam lucem venire voluit“), то принимать в серьез это утверждение не приходится. Надо полагать, что вопрос о печатании карт Сибири не был оставлен в последующие годы: привилегии, данные Избранд Идесу ранее 14 мая 1698 г, и Яну Тессингу 10 февраля 1700 г., появились, конечно, не без ближайшего участия А. А. Виниуса. После того как Ремезовы уехали в Тобольск и принялись за работу по составлению чертежной книги, Виниус продолжал руководить этим делом: в сентябре 1699 г. в исходящем журнале его личной переписки отмечена посылка письма „в Сибирь, к боярину и воеводе... о Ремезовых чертежах...“3 В начале 1701 г. Сибирский приказ получил, наконец, от Ремезова „Чертежную книгу Сибири“, которая в последующие годы была дополнена еще одним чертежом, составленным тем же Ремезовым.
1 F. Duckmeyer, Korb's Diarium u. Quellen die ca ergänzen. Berlin, 1909 Bd. I, S. 132. Этот рассказ использован И. П. Козловским, наэв. соч., I, стр. 202—203.
2 М. П. Алексеев. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников, т. I, в. 2, Ирк«*1936, стр. 96.
3 ГАФКЭ, „Почтовые дела“, карт. 6, л. 195 об. (цитирую по книге Козловского, Первые почты., I, стр. 507, прим. 2),
8*
115
Копии чертежей, заготовлявшиеся для печатания их, были начаты работой по распоряжению того же Виниуса именно в эти 1701—1703 гг.: в 1703 г. в Приказе артиллерии, которым ведал тот же Виниус, „чертещик“ Иван Матвеев „с прежних сибирских чертежей холстинных (т. е. с чертежей, сделанных на местах в 1696—1697 гг.) переводил на бумагу Верхотурского городу и уезду большой чертеж да с того чертежа зделал два малых чертежа на бумаге. Да он же Иван сказал: сверх де того делал он с Тобольского большого холстинного чертежа (т. е. с чертежа „части Сибири", сделанного Ремезовым в Тобольске в 1696—1697 гг.), чертеж на бумаге, да с книги чертежей (чертежной?), что делал Семен Ремезов (1701 г.), списывал четыре чертежа: Верхотурской, Тобольской, Красноярской да Поморским городам.1 Работа над последними четырьмя чертежами, как можно заключить из дела, относится к 1701—1702 гг. Видимо, снятие копий с чертежей, с больших холстинных и с малых в „Чертежной книге",было все же закончено к 1703 г. На чертежах кем-то из голландцев, бывших в Москве, были сделаны соответствующие надписи на голландском языке, но составление каталога — перечня географических пунктов (указателя) или описания к чертежам — не было еще закончено, когда в июне 1703 г. Виниус был уволен от должности дьяка Сибирского приказа. С его уходом замерла и затем прекратилась работа по подготовке к изданию чертежей Сибири. Рукопись из собрания Румянцова — памятник большой, но незавершенной работы.
XII
На основании сказанного очевидно, что „Чертежная книга Сибири 1701 г.", имеющаяся в рукописи № CCCXLVI Румянцов- ского собрания (ныне в Библиотеке Союза ССР имени В. И. Ленина в Москве), является лишь копией начала XVIII в. той „Чертежной книги Сибири", которая была составлена Семеном Ремезовым в 1699—1700 гг. на 23 листах. К ним в 1703 г., после того как Семен Ремезов вместе с сыном Леонтием летом этого года произвел соответствующие работы на месте в Кунгуре и Кунгурском уезде, был прибавлен л. 24-й: „чертеж земли Кунгурского города". Результатом его пребывания там явился не только упомянутый чертеж, но и чертежное описание к нему, о находке списка с которого сообщил Археографической комиссии в начале 1911 г. Е. Н. Косвинцев, хотя и не представил ей рукопись этого списка.2
Пребывание в Кунгуре дало Ремезовым также некоторые другие материалы: вероятно, тогда стала им известна и оказа-
1 Н. Оглоблин. Из архивных мелочей начала XVIII в. II. „Чертещик“ Иван Матвеев 1703 г., „Библиограф*4, 1892, стр. 13—14.
8 Летоп. эанятий Археограф, ком., вьш. 24 (1912), проток., стр. 5.
116
лась в их руках „Летопись Сибирская краткая Кунгурская“, которая кем-то из семьи Ремезова была неудачно использована затем для дополнения работы Семена Ремезова — его „Истории Сибирской.1 Там же, в Кунгурском уезде, Ремезовы наткнулись, по их мнению, на образцы „чюдцкого письма“, которое они нашли на р. Ирбите, и с этого „письма“ сделаны ими четыре чертежа, которые воспроизведены в трудах Страленберга (1730), Купера (Lettres de critique, de litterature, d’histoire... Amsterdam, 1743) и, наконец, в третьем издании труда Витзена (1785 г.) после стр. 760, на 3 листах, но ни в одном из этих изданий не указано, что зарисовка сделана Ремезовым.
Неизвестный до сих пор „чертеж Кунгурской земли“ и упомянутые четыре чертежа „чюдцкого письма“ оказались в той „Служебной чертежной книге“ Семена Ремезова и его сыновей, о которой я не раз уже упоминал выше и которая найдена мною в Эрмитажном собрании Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде под № 237. Этот замечательный памятник до сих пор оставался неизвестным,2 а между тем в нем имеются: 1) прежде всего авторские оригиналы чертежа земли Тобольского города и чертежа Великопермской и Двинской земли, а также чертежи земель всех городов Сибири, кроме утерянного Пелымского, которые известны нам только по плохо исполненным копиям „Чертежной книги Сибири“ Румянцовского собрания; среди чертежей земель сибирских городов оказались такие, которые неизвестны по Румянцовской „Чертежной книге Сибири 1701 г.“; 2) неизвестные до сих пор чертежные работы Ремезова: упомянутый чертеж Кунгурской земли, чертеж Кунгура, четыре чертежа Камчатки (самые ранние из известных), несколько чертежей Тобольска, иногда более поздних, чем тот, который в „Чертежной книге Сибири“, „чертеж межевой Башкирской земли с слободами“, „чертеж всех вершин и каменей, потоки рек, имены, наличия (т. е. описания их) снискательно бывальцы и уроженцы“, два „чертежа крайных (тобольских) слобод“ 1700 г.; 3) там же имеются Ремезовские копии известного чертежа Сибири Петра Ивановича Годунова 1667 г. и нигде не напечатанной карты Сибири А. А. Виниуса; 4) в „Служебной книге“ Ремезовых оказались совершенно новые биографические материалы о Ремезовых: его деде Моисее (прозв. Меньшой), его отце Ульяне и о самом Семене Ремезове, которые позволили мне выше отбросить все те осторожные замечания об их родственных отношениях, которые находим у предыдущих исследователей, и наконец, 5) в книге сохранились некоторые
1 О Кунгурской летописи см. С. В. Бахрушин, Очерки, стр. 27—30.
2 Об этом памятнике И. А. Бычков намерен был в 1911 г. сделать сообщение в Археографической комиссии, но не привел в исполнение свое намерение; тогда же, по поручению И. А. Бычкова, была приготовлена копия с текста этого памятника, которую И. А. Бычков передал выне в мое распоряжение, за что приношу ему сердечную благодарность.
117
неизвестные статьи Семена Ремезова, любопытные для характеристики его как писателя петровского времени.
Рукопись № 237 состоит из 165 листов обычного размера „александрийской бумаги“, в переплете XVIII в., с наклейкой Эрмитажной библиотеки на внутренней стороне крышки переплета и с надписью на листе после переплета, предшествующем тексту: „1764-го году № 13“. Судя по оглавлению на л. 4 об.— 5, в рукописи недостает довольно многих листов. Нумерация листов рукописи в настоящее время исправная, без пропусков; значит, сделана уже после того, как некоторые листы были утеряны; довольно значительная часть рукописи (лл. 117—165) не имеет этой вторичной нумерации; она видимо, не входила в первоначальный состав рукописи, а присоединена к ней позже, когда обе части были переплетены.
Первая часть рукописи № 237 заканчивается на л. 116 об. записью об „окончании с богом чертежной книги... Сибири.. вставленной в разноцветный картуш; на л. 1 рукописи имеем „начало“ — о происхождении „сей служебной чертежной книги“, писанной Семеном Ремезовым с детьми. Тем же почерком, как начало и конец первой части, писано „оглавление главизн“ на лл. 4 об.—5 и, что особенно важно, надписи почти на всех чертежах книги, а также описания чертежей, имеющиеся при некоторых из них, надписи воеводского „древа“ до 1716 г. (л. 10), описание сибирских печатей (л. 9 об.) и, наконец, „писание до ласкового читателя“ (л. 115 и 115 об.). Этот почерк, как подтверждают снимки с рукописи, бесспорно подписанной Семеном Ульяновичем Ремезовым (именно снимки с его подписей-скреп на составленной им переписной книге Тобольского уезда 1710 г. — ГАФКЭ, Сиб. прик., № 1320), не принадлежат Семену Ульяновичу Ремезову, но тогда кому же?
Выше было отмечено, что чертеж Сибири, хранящийся в Гос. Географическом обществе в Ленинграде, сочинен Семеном Ремезовым и его сыном Семеном; на этом чертеже мы находим тот же почерк, что и на указанных беловых чертежах „Служебной чертежной книги“. Так как это не почерк Семена Ремезова старшего, то значит — это почерк его сына Семена Ремезова младшего, которому, таким образом, принадлежат все беловые чертежи с их четкими, каллиграфически сделанными надписями. На л. 1 в соответствующем месте текста („книга сия служебная чертежная, писал Семен Ремезов з детьми“) слова „Семен Ремезов“ писаны также не Семеном Ремезовым отцом, а Семеном Ремезовым сыном. Из этого заключаю, что окончание книги относится к тому времени, когда Семена Ремезова отца уже не было в живых (иначе на л. 1 был бы его автограф) и заканчивал книгу ближайший сотрудник его по чертежной работе — его сын „Сенька“ или Семен Ремезов младший.
118
Почерком Семена Ремезова старшего написана большая часть текста рукописи, а также все черновые чертежи, вошедшие в обе части рукописи, а его несомненный автограф, вполне сходный с почерком скрепы переписной книги 1710 г., хранящейся в ГАФКЭ, находится на л. 132 об. рукописи („1703 году сентября в 15 день написал... Семен Ремезов").
Таким образом, кроме всех черновых чертежей, им написан и рассказ о сибирских архиереях, прерванный на 1716 г., пере- чни из переписных книг 1710 г., летописный текст о победе над Кучумом, предисловия к некоторым чертежам, выписка об его службах, а также службах его деда, отца и сына Леонтия, ведомость Петра Годунова о Китайской земле, и др.
В книге имеется также почерк старшего сына Семена Ремезова— Леонтия, с которым он, между прочим, работал в 1703 г. по описанию Кунгура и Кунгурского уезда; почерком Леонтия Ремезова написаны, напр., надписи над „таврами", снятыми в Кунгурской пещере (лл. 69—70 об.), им же писан список с челобитной Семена Ремезова 1712 г. на л. 39 (2-й столбец) и 39 об. и сделана приписка на л. 38 об. после изложения работ Семена Ремезова 1712 г.; им же дописан тот перечень тобольских воевод (генеалогическое древо), который был прерван Семеном Ремезовым младшим на 1716 г., — Леонтий Ремезов продолжил его до 1734 г.—времени прибытия в Тобольск губернатора А. Л. Плещеева. ^
Этими тремя почерками писана вся рукопись № 237, составление которой, на основании изучения почерков, должно быть приписано, таким образом, самому Семену Ульяновичу и его двум старшим сыновьям Леонтию и Семену.
Но в работе Семена Ульяновича Ремезова играло какую-то роль еще одно лицо, может быть один из младших его сыно* вей, Петр или Иван, но который — не знаю; о нем весьма красноречиво говорит один чертеж во второй части рукописи, на л. 155 об.: он так напоминает рисунки на вставных листах Ремезовской летописи, что невольно возникает мысль об одном и том же лице, которое рисовало там на вставных листах Ремезовской летописи и в рукописи № 237 на л. 155 об. Почерка вставных листов Ремезовской летописи нет в „Служебной чертежной книге", но почерк этих вставных листов может принадлежать лицу, которое делало рисунки на этих вставных листах. Если это было так, то выясняется несомненная связь между „Служебной чертежной книгой" (л. 155 об.), вставными листами Ремезовской летописи и, наконец, русскими надписями на чертежах „Чертежной книги Сибири 1701 г." по Румянцов- ской копии: почерк последних двух весьма близок, если не тождествен, а все три, как мне кажется, принадлежат одному лицу, которым мог быть один из младших сыновей Семена Ремезова или лицо, близко стоявшее к его дому.
119
Сличение оглавления первой части на л. 4 об.—5 с текстом и чертежами рукописи приводит, как отмечено уже, к заключению, что часть листов этой первой части, еще до того, как она была пронумерована, была уже утеряна. Это — 1) лист 15 по оглавлению — „чертеж града Тобольска с каталогом и описью“, вероятно, тот самый, с которого имеется копия в Румянцовской рукописи на л. 1, 2) лист 17—„Тобольский град валового городового строения“, 3) лист 29 — „чертеж земли всей Сибири, писан с немецкого печатного листа, наличие особо“, 4) лист 31 — „чертеж посланника Елизара Избранда“, который, как известно, отпечатан в приложении к голландскому изданию его путешествия в 1704 г., 5) лист 32—„чертеж округлости Тобольска в приход воинских людей“; нет и четырех чертежей всей Сибири: 6) „чертежа Сибирские страны в пример бывальцов, лист 33“, 7) „чертежа всей Сибири, лист 34“, 8) „чертежа всей Сибирской земли и Казачьи орды, лист 36“; последнему, впрочем, должен соответствовать „чертеж земли Тобольского города“, имеющийся в той же рукописи и в Румянцовской копии, и 9) „чертеж общей всех сибирских городов, рек, земель и украин — писан на Москве в Сибирском приказе со всех с [при]возных чертежей в 207-м сентября 18 день, лист 37“, подлинник коего находится в Гос. Географическом обществе, а копия в „Чертежной книге Сибири“, л. 21; оказались также утерянными: 10) лист 38 — „наличие и сходство земель соседей“, который соответствует л. 23 „Чертежной книги Сибири“ и 11) лист 41 — „чертеж доезду Христофора нем- чина крайним слободам и от приходу воровских воинских людей“, 12) известный по „Чертежной книге Сибири“ „чертеж всей безводной и малопроходной каменной степи, лист 42“, 13) „чертеж Кунгурских пещер, лист 51“ и, наконец, 14) „чертеж земли Пелым- ского города, лист 54“, о котором дает представление л. 7 „Чертежной книги Сибири“. Таким образом, до нас не дошло 14 чертежей, из которых половина может быть восстановлена. Потеря общих чертежей Сибири должна быть признана, однако, большой утратой, так как соответствующие копии не всегда исправны и не вполне отражают оригиналы, как увидим далее в отношении Камчатки.
Остальные сорок три чертежа, имеющиеся в рукописи первой части, разделяются на следующие группы: а) чертежей Тобольска и его ближайших окрестностей — семь: по оглавлению листы 12, 14, 18—22, б) чертежей части Сибири или всей Сибири, сочиненных самим Ремезовым, — шесть: листы 28, 39 (Башкирской земли), 40, 43, 44 и 53, и сочиненных другими лицами три: листы 26,27 (Годуновский) и 30 (А. Виниуса), в) чертежей сибирских городов, кроме Тобольского и утерянного Пелымского, а также Камчатки; их, конечно, больше всего: именно 25 чертежей, некоторых уездов имеется по два (якутские) и по три (кунгурские и камчатские), причем необходимо заметить,
120
что, не говоря о чертежах, не имеющихся в „Чертежной книге Сибири“ (кунгурских и камчатских), прочие при сходстве названий дают часто совершенно иной чертеж, чем те, которые имеем в Румянцовской копии. Если же произвести сличение сходных чертежей, то, конечно, Ремезовские чертежи несравненно выше по технике работы и по качеству и точности выполнения; копиист Румянцовской рукописи не только пропускает названия, но часто передает их иначе и ставит совсем не там, где они были в его оригинале, к которому несравненно ближе Ремезовские чертежи. В этой группе особенный интерес представляют первые чертежи Камчатки, из коих один, названный в оглавлении „Траурнихтовым“, является действительно первым, составленным в Якутске при воеводе Дорофее Траур- нихте по получении там известий от Владимира Атласова. Как уже отмечалось Н. Н. Оглоблиным, Семен Ремезов в конце 1700 г. получил сказку Атласова в Тобольске раньше, чем она достигла Москвы, хотя при этом пришлось сломать якутскую печать, под которой Атласов вез сказку в Москву, — мотив для такого незаконного действия приводился в тобольской отписке тот, что Семену Ремезову необходимо было, на основании сказки, нанести на „чертеж всей Сибирской земли“, который он писал в это время на александрийской бумаге, правильные сведения о Камчатке;1 их, впрочем, нет на том чертеже всей Сибири, которая имеется в Румянцовской копии, к сожалению, не корректируемой в этом случае соответствующим листом „Служебной чертежной книги“. Я не сомневаюсь, однако, что“Ъ оригинале „Чертежной книги Сибири“, посланном Ремезовым в Москву, на общем чертеже всей Сибири Камчатка имела уже тот вид, который находим на чертежах ее в „Служебной чертежной книге“.2
Наконец, среди чертежей рукописи № 237 следует отметить три чертежа „Хинского повелительства“ и „Китайского царства“ (последних два). Чертеж Китайского царства на лл. 105—106— та же карта, которая у Витзена в первом издании его труда 1692 г. помещена в конце 1-й части под заглавием: „Tartaria sive magni chami imperium per Ioannem Blaeu. Anno 1663“; но у него лишь часть карты, — наша же копия, дающая эту карту в полном виде, заимствована из одного из изданий атласа Блау „Theatrum orbis terrarum“, может быть из того же издания 1663 г., из которого взял ее Витзен.3 Чертеж „Китайского царства“ на лл. 111 об. —112, помеченный в оглавлении как „немецкий“,
1 Н. Оглоблин. Источники „Чертежной книги Сибири** Семена Ремезова, СПб., 1891, стр. 9-10.
2 Это служит еще одним доказательством, что чертеж Румянцовской рукописи был снят с общего чертежа всей Сибири 1698 г., имевшегося в Сибирском приказе еще до получения от Ремезова чертежной книги.
3 Эта карта по атласу Блау полностью воспроизведена у В. А. Кордта, Матер., серия II, вып. I» табл. XIX и стр. 22.
121
имеет название Imperii Sinarum nova descriptio. Этому чертежу предшествует на л. 111 и за ним следует на лл. 112 об.— 114 об. известная „ведомость" о Китайском государстве 7177 г., которая была составлена в Тобольске „изысканием стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова"; помимо отличий от печатных изданий этой „ведомости", в рукописи № 237 в конце имеется еще следующая вставка: после слов: „ ... зыряне, что по их зовутся сыряне, перешли в сие место" написано: „тогда зри назад в 4 главе на 10 листу". Последние слова указывают, кажется, на то, что ведомость в этом списке входила в состав труда Ремезова — „Описание народов Сибири", в котором в „главе 4-й" говорилось о „зырянах". Третий чертеж, „чертеж Хинского повелительства", мне пока не удалось определить.
В дополнение к этому обзору чертежей Ремезова, вошедших в первую часть рукописи № 237, составляющих собственно „Служебную чертежную книгу", необходимо сказать, что во второй части рукописи имеется немало других чертежей его же работы. Укажу весьма любопытные рисунки на лл. 118 об. —121, являющиеся проектами какой-то пятиглавой двухэтажной церкви или собора, с подробной экспликацией к ним; чертежи 1703— 1704 гг. пушек, мортир и пр., которые были выполнены Семеном Ремезовым по образцам, присланным из Москвы; их здесь (лл. 122—134) больше 15, о них упоминает справка об его службе; пять первоначальных чертежей того проекта каменного Тобольска, который сочинил Ремезов в 1697 г. (лл. 135 об.— 142, 143 об. —144); планы („образцы") тобольских слобод (их всего 15), которые были составлены Ремезовым в конце 1703 г. (лл. 142 об. —143, 144 об.—145 об.); многочисленные чертежи сараев, печей, приказной палаты, гостиного двора и другие, относящиеся к работам Ремезова по строению каменного города в Тобольске (лл. 146 об. —154 об.), и, наконец, несколько чертежей и расчетов по устройству заводов для добычи железа, селитры, пороха и серебра (лл. 155 об. —165).
Но в рукописи Ремезовых, кроме чертежей, имеется и текстовой материал: прежде всего описание или, по терминологии Ремезова, наличие некоторых чертежей, по типу тех, которые известны из печатной чертежной книги: описание прежде всего происхождения чертежа (история его составления) и указание расстояний между отдельными пунктами на чертеже, — причем то, что в отношении расстояний имеется в Румянцовской копии на самих чертежах, здесь приведено в предисловии к чертежу. Наиболее интересны предисловия к неизвестным еще чертежам Ремезова, как, напр., на лл. 20—21 об. — к чертежу Тобольска— „Тобольской град розмерен по грамоте под каменное строение": здесь Ремезов дает не только историю составления чертежа, но и рассказ о своей поездке в Москву в 1698 г. В предисловии к чертежу „крайних" тобольских
122
слобод (их два — лл. 53—54 об. и 55—56 об.) и к чертежу Тобольского посада (лл. 10—11) даются сведения о работах Ремезова 1700 и 1709 г.; в чертежах Кунгура, „Кунгурской земли рек и урочищ“ и „тавр снятых с камени“— о работах 1703 г.; любопытное известие о походе 1701 г. якутского пятидесятника Владимира Кубасова в „новопроведанную за Якутском... на Пенжинском море в Камчадальскую землю“ имеется в предисловии к „чертежу вновь Камчадальские земли и моря“ (л. 99), который, кажется, и есть тот чертеж, который сделан Ремезовым на основании сказки Атласова, полученной им в ноябре 1700 г. Но и известные уже по печатному изданию „Чертежной книги Сибири“ предисловия к чертежам в рукописи № 237 даны в более исправном тексте, как, напр., предисловие к „чертежу земли Тобольского города“ (л. 28), „писание до ласкового читателя“(лл. 115—115 об.) и др.
Чертежам предшествует в книге несколько статей, где Ремезов выясняет свои картографические приемы: „компас матки“, „миллиарии циркильной“, условные знаки и пр.
Кроме текста, непосредственно относящегося к чертежам, в „Служебной чертежной книге“ Ремезовых имеются и другие материалы, касающиеся, напр., работ Ремезовых в 1710 г. по описанию Тобольского уезда, в результате которых были составлены переписные книги, ныне хранящиеся в ГАФКЭ, Сиб. прик., № 1320; из этой книги приведены в № 237 рукописи (лл. 34—36 об.) обширные выписки — итоги переписи.
Но в той же книге имеем материалы, представляющие большой интерес для суждения о Ремезове как историке и современнике крупной эпохи в истории России. Здесь имею в виду такие статьи книги, как „державцов Российских“ портреты (л. 6 об.), где Ремезов выступает перед нами художником; в другой статье „степени властей сибирских архиереев“ или „история Тобольского града архиепископом“ {л. 8 и об.), судя по заготовленным медальонам (л. 7 об.)., видимо, предполагалось дать их изображения, но дело свелось к кратким историческим справкам, и для последних митрополитов сибирских к характеристикам, не лишенным интереса. Вслед за тем в книге на л. 9 нарисовано генеалогическое древо всех тобольских воевод — „роспись летописи сибирской, истории Тобольского города вкратце бытности воеводам в коликих летах после Ермака“; здесь в довольно тонко сделанных 60 медальонах — в центре медальон Ермака — приведены имена всех тобольских воевод и губернаторов, кончая губернатором Алексеем Юрьевичем Плещеевым; 1734 г. кончается воеводская роспись, — знак, что составители ее прикончили на этом годе свой перечень, а почему — о том скажу далее.
Но особенный интерес представляют те листы книги, на которых дан текст летописного известия под заглавием: „Победа на Кучюма царя. Очищение Сибири“. То же известие
123
находится в сибирских летописных повестях и летописях, в одних под 1598, в других под 1601 г., но ни в однсй из них нет текста сходного с текстом рукописи № 237: он отличается большими подробностями и по содержанию и размеру является отдельной статьей, которая в деталях не сходна и с тем рассказом, который дает ст. 130 „Истории Сибирской“ Ремезова; из сравнения этих двух текстов ясно, что ст. 130 является сокращенным изложением какой-то другой версии рассказа о событиях 1598 г. Автором этой статьи был несомненно сам Семен Ремезов, который написал этот текст своею рукою; ему же, вероятно, принадлежат и те два замечательных рисунка в красках, которые иллюстрируют текст о поражении Кучума. Они не имеют ничего сходного — ни по манере письма, ни по качеству исполнения — с соответствующим рисунком к ст. 130 Ремезовской летописи и являются любопытным памятником местного художества, по технике выполнения стоящим, несомненно, выше не только рисунков основного текста Ремезовской летописи, но и вставных ее листов, где техника совсем иная.
В заключение этого обзора содержания рукописи следует указать также на некоторые биографические материалы, которые находятся в ней: это, во-первых, „предисловие до ласкового читателя“, где читаем своего рода гимн наукам; здесь подробно передается содержание наказа, данного Петром отправленным в 1696 г. за границу молодым людям, приводится список их; „предисловие“ заканчивается следующим обращением к читателю: „и сие разумно есть в нашем христианороссийском словесном учительном сонме, упражняющееся во учении сих и всяких вещей радительно без лености, яко на сих великородных зряще, и просточадцы работают философии, всяких наук употребляюще. Правда во всех хранима, и за сие между сими всеми великая живет любовь и подвиг беззавистно... “ (л. 2 об.). В этих размышлениях виден уже человек нового времени, хотя и выросший в условиях жизни провинциального большого города, каким являлся Тобольск. В отличие от большинства Ремезов-отец имел большой вкус к „художествам“ и наукам, много видел и еще больше слышал от „русских людей и иноземцев и иностранных жителей, при- шельцов в Тобольск“. Не забудем, что именно в эти первые годы XVIII в. Тобольск становится местом, куда усиленно высылают этих „иностранных жителей“ — пленных шведов. Работая в различных областях современной жизни, как „знаменщик“, „чертещик“, архитектор, строитель каменного города, писец земель, и в то же время являясь ученым — географом, этнографом и историком, Ремезов был в то же время человеком, пытливо изучавшим прошлое и настоящее родной своей страны и города. Впрочем, характеристика Ремезова не входит в мою задачу. Отмечу, однако, что уже не раз упоминавшиеся мною новые материалы для биографии самого Семена, его деда
124
Моисея (Меньшого) и его отца Ульяна даны в книге в виде приказной выписки о службах этих лиц; копия этой выписки, вписанная в книгу, впоследствии пополнялась известиями последующих лет до 1712 г. включительно, когда Ремезов произвел описание Тюменского уезда „и за тем переписным делом был целой год во всякой скудости без жалованья". Неизвестно, чем кончилось дело по поводу поданной им в конце 1712 года челобитной (л. 39) о прибавке ему соляного и хлебного жалованья, — но никаких фактов его дальнейшей служебной деятельности в книге не записано, хотя, как я пытался показать выше, Ремезов был еще жив в 1713—1714 гг. и умер, видимо, осенью 1715 г.
„Служебная чертежная книга", заключая материалы его служебных и некоторых „сверхслужебных" работ, заполнялась им самим и его сыновьями несомненно при жизни Семена Ремезова, но две записи в ней были сделаны после его смерти: это продолжение перечня воевод, писанное с 1718 г. (когда окончательно оставил Сибирь князь Матвей Гагарин, последний губернатор, которого знал Семен Ремезов) и до 1734 г. включительно тем же почерком, каким писана приписка на л. 38 об. о работах Семена Ремезова в 1703 г. над чертежами пушек и мортир, а также надписи при самых чертежах пушек, ядер и пр. на лл. 124—132 об. Начинается же „книга" текстом „1 января 1701 г." о происхождении ее. Как уже отмечено выше, составление чертежной книги к 1 января 1701 г. закончилось, а работа по ней началась в 1699 г., значит и „начало" „Служебной чертежной книги", в которой даны оригиналы тех чертежей, которые вошли в „Чертежную книгу Сибири", надо относить к 1699 г. Таким образом „Служебная чертежная книга" — руко- , пись 1699—1734 гг.
Но какова дальнейшая судьба этой рукописи после 1734 г., когда была сделана в ней последняя запись? По этому поводу приходится гадать, хотя и не без некоторых оснований. Кроме этой рукописи Ремезова, выше были упомянуты еще две других его рукописи — географическое описание Сибири, с приложением чертежей границ сибирских уездов, и описание народов Сибири, от которых сохранились лишь отрывки, а подлинники надо считать утерянными. Но известен еще один труд Ремезова— его летопись, владельцем которой в 1734 г. был тобольский сын боярский Петр Федорович Мирович. Последний с братом своим Яковом были сыновьями Федора Ивановича Мировича, бежавшего после 1709 г. с Мазепою и жившего потом за границею. Молодые Мировичи были определены в академическую гимназию с тем, чтобы их не отпускать на Украину. В 1728 г. Петр Мирович сделался секретарем цесаревны Елизаветы Петровны, а брат его Яков служил у графа Потоцкого, вместе с ним был в Польше и там виделся с отцом. К последнему писал также другой его сын Петр, причем в перехваченном
125
письме он будто бы говорил о притеснениях украинского народа, В видах предупреждения переписки с отцом братьев Мировнчей в 1732 г. сослали в Сибирь, в Тобольск, и они оставались там до конца царствования Анны, когда были прощены, о чем имеется указ Елизаветы от 7 декабря 1741 г. Вскоре после того, в чине коллежского ассесора, Петр Мирович был назначен енисейским воеводою, но в 1747 г* был уже под следствием за допущенные им злоупотребления по должности,1 которые заключались, между прочим, в том, что он однажды явился в присутствие в халате, надетом на голое тело. Год его смерти неизвестен, но к тому времени, когда в 1764 г. был казнен его племянник Василий Яковлевич за попытку возвести на престол заключенного в Шлиссельбурге б. императора Иоанна Антоновича, Петра Мировича уже не было в живых.
В „Служебной чертежной книге", на форзаце, имеется дата поступления ее в какое-то присутственное место, а может быть в Эрмитажную библиотеку Екатерины, — эта дата „1764 г.". Не оказалась ли рукопись № 237 в составе конфискованного после смерти Василия Мировича его имущества и, как рукопись интересная, не была ли передана затем в Эрмитажную библиотеку? Во всяком случае, если Мировичи имели возможность около 1734 г. приобрести у Ремезовых рукопись летописи, составленной их отцом, то нет ничего невероятного, что в их руки попали и другие его рукописи, напр. „Служебная чертежная книга", записи которой прервались 1734 г. У Мировичей, как людей образованных, были все данные, чтобы оценить эти драгоценные рукописи, добиваться их приобретения и не расставаться с ними впоследствии: только воздействие на Петра Мировича тобольского губернатора А. Л. Плещеева позволило Г. Ф. Миллеру приобрести у него одну из них — Ремезовскую летопись.
Но как бы ни было дело, рукопись оказалась в Эрмитажном собрании и в его составе поступила в 1852 г. в Публичную библиотеку, где и хранилась, никем из людей науки до сих пор неизученная.
Вывод из всего вышеизложенного один: „Служебную чертежную книгу" Ремезова необходимо издать и предоставить историку народов Сибири ценнейший источник XVII — начала XVIII в.
1 Пекарски*. История Академии Наук, I, етр. 322, прим.
12*
Н. А. МАКСИМЕЙКО
МОСКОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ
I
В Кормчих книгах, относящихся к XVII ст., найдено два списка Русской Правды, которые по имени их первоначальных владельцев называются обыкновенно списками князя Оболенского и графа Толстого. Оба они напечатаны: первый в 1847 г. Калачовым, а второй в 1935 г. проф. Юшковым. Особенность этих списков составляют многочисленные пропуски в тексте Р. Правды, а также изменения и сокращения в ее отдельных статьях. На этом основании принято выделять их в особую так наз. сокращенную редакцию Р. Правды.
В научной литературе этой редакции уделялось чрезвычайно мало внимания. Например, германский профессор Гетц выпустил в свет на немецком языке четырехтомное исследование о Р. Правде, совершенно игнорируя в этом исследовании ее сокращенную редакцию.1 В курсах истории русского права Дьяконова и Филиппова упоминается лишь о ее существовании. Владимирский-Буданов в своем „Обзоре истории русского права" посвящает ей одну только коротенькую заметку: „она не имеет никакого значения, как совершенно несамостоятельная" (стр. 95). К этому отзыву присоединяется проф. М. Н. Ясинский, говоря, что „третья (сокращенная) редакция, являющаяся лишь позднейшей переработкой пространной Правды, не имеет самостоятельного значения, а потому и не представляет интереса; на этом основании мы в дальнейшем изложении будем иметь дело только с двумя основными редакциями— краткой и пространной".2 Акад. Грушевский в своей многотомной „Истории Украины-Руси" уделяет сокращенной Р. Правде не больше двух-трех строк: „четверта редакц1я,— говорит он, — не цшава — се скорочення з друго! i третьо! редакци; властиву цмь сього скорочення тяжко В1дгадати, так само i час".3
1 Goetz. Das Russische Recht, I—IV, 1910—1913.
2 M. Н. Ясинский. Лекции по внешней истории русского права, стр. 124.
3 М. Грушевский. IcTopia Украши-Pyci, т. III, стр. 365.
127
Из приведенных цитат видно, чем вызывалось столь пренебрежительное отношение к сокращенной Правде: во-первых, она не представляет интереса и не имеет значения, а во-вторых, трудно объяснить цель ее сокращений и определить время ее возникновения. Эти соображения, однако, не могут быть признаны достаточно убедительными, чтобы оправдать ее игнорирование. Так, что касается интереса и значения, то, конечно, сокращенная редакция, как позднейшая переработка Р. Правды, не представляет никакой ценности в значении источника для изучения древне-русского права. Но она заслуживает внимания с другой точки зрения. В ней мы обнаруживаем пропуски не только отдельных статей, но и целых отделов Р. Правды; от некоторых статей ее уцелели только обрывки, а другие так изменены, что иногда трудно бывает узнать их. Одним словом, сокращенная редакция подает нам Р. Правду в сильно искаженном и изуродованном виде, и вполне естественно, что по этому поводу возникает целый ряд вопросов: чем было вызвано такое обезображение ее, когда оно было произведено, почему все эти ампутации и уродования поражали одни части текста и щадили другие, и т. п.? Думаю, что все эти вопросы заслуживают того, чтобы привлечь внимание исследователей и возбудить их интерес. Что же касается трудности ответить на них, то она тоже едва ли может служить оправданием отрицательного отношения к сокращенной Правде: трудность решения той или другой проблемы, казалось бы, напротив, должна возбуждать и усиливать стремление к ее разгадке.
Наиболее внимательным по отношению к сокращенной редакции Р. Правды оказался проф. В. И. Сергеевич. Вот его замечания по этому поводу, приводимые мною полностью и дословно.
„Четвертую фамилию Правды, — говорит он, — составляют списки по объему средние, по времени составления самые поздние. Образцом их может служить список князя Оболенского, напечатанный в первый раз у Калачова в издании Р. Правды 1847 года. Он взят из Кормчей письма второй половины XVII в. и носит такой заголовок: „Суд Ярославль Владимерича указ", ва которым следует, как и во всех списках: „Правда Русская"..
„В этой редакции Правды есть только одна новая статья (16), не встречающаяся уже в рассмотренных. Четвертая фамилия представляет извлечение из более старых списков с изменениями и большими пропусками. Этим определяется и время составления этой редакции: это позднейшая редакция. Этот вывод подтверждается и относительной новизной некоторых изменений старых статей и тем обстоятельством, что в этой Правде не упоминается имени ни одного князя. Составитель этой редакции имел перед собой старые редакции, из которых и брал материал для своего труда; в них упоминается Ярослав, его сыновья и Владимир Монбмах; ни одно из этих имен не перешло
12*
в его список. Это, кажется мне, указывает на то, что ни с одним из этих имен не соединялось у него никакого определенного представления. Эти имена ничего ему не говорили. Вот почему надо думать, что эта редакция могла возникнуть в XIII в. и никак не ранее конца XII в.
„Списки четвертой редакции находятся в Кормчих. Калачову известны только два таких списка.
„Скажу несколько слов об отношении редактора этой Правды к тому материалу, который у него был под руками. Он пользовался первой и третьей редакцией. Первые три статьи по содержанию и последовательности соответствуют трем первым статьям списков первой фамилии, но изменены. Все остальное взято из списков третьей фамилии с сохранением последовательности, но с изменениями и большими пропусками. Эти пропуски не случайны, они обнимают целые отделы, а потому представляют большой интерес, возбуждая вопрос о причине пропуска. На вопрос этот можно отвечать только гадательно и то не всегда. В некоторых случаях мы, кажется, имеем дело с составителем, который опускал все архаическое, потерявшее для него значение и смысл.
„Как и все его предшественники, он начинает Правду со статьи, допускающей месть и замену ее выкупом. Первая статья первой редакции знает один выкуп—40 гривен, вторая и третья статья третьей, по различию убитых, упоминает выкуп в 40 и 80 гривен. Весьма вероятно, что практика, применяясь к бесконечному различию лиц, знала и другие размеры выкупов. Это и выражает составитель сокращенной Правды. Сказав, что за голову берут 80 гривен, он прибавляет: „любо разсудити по мужи смотря". Кроме статей, говорящих о размерах виры, ö пространной Правде есть ряд статей, озаглавленных „о княжи мужи", в которых определяется плата за убийство разных лиц. Сказав в первой статье, что плата берется „по мужи смотря", редактор четвертой Правды нашел последовательным выпустить это детальное перечисление плат как излишнее.
„Затем он выпустил: все статьи, в которых идет речь об испытании железом, статьи о процентах, статью, не допускающую раба к свидетельству, статьи об огнищанине и смерде, статью о заднице смерда, статью об уроках городнику и мосте нику, и все статьи о судебных пошлинах.
„Можно допустить, что статьи эти, за последовавшим изменением нашего права, представляли для составителя совершенно непонятный материал, а потому и были им опущены.
„Но такой же остракизм постиг статьи о закупе, статью о наследстве после смерти мужа, статьи о наследстве после матери и, наконец, статью о подсудности князю споров о наследстве. Трудно думать, чтобы статьи о личном найме (озаглавлены в Правде — „о закупе"), не заключающие в себе ничего архаического, не имели уже практического значения
9 Проблемы источниковедения
129
й период составления третьей редакции; что касается статей о наследстве после смерти супругов, то отголосок статей Правды раздается еще в наказах Екатерининской Комиссии. Точно так же не подлежит сомнению и проходящее через всю нашу историю право князя производить суд в делах по наследству. Опущение этих статей составляет загадку. Предположение, что мы здесь имеем дело не с сокращением пространной Правды, а с более древней ее редакцией, в которую еще не были внесены статьи, считаемые нами выпущенными, недопустимо потому, что ст. 2 этой редакции несомненно имеет более поздний характер, чем редакция той же статьи в списках первой и третьей фамилии“.1
Итак, по мнению Сергеевича, сокращенная Правда „могла возникнуть в XIII в. и никак не ранее конца XII в.“; причем, предположение свое он аргументирует ссылкой на то обстоятельство, что в ней пропущены имена князей Ярослава, его сыновей и Владимира Мономаха; с ними, говорит он, очевидно не связывалось уже никакого определенного представления, их забыли. Но почему это обстоятельство должно указывать непременно на XIII в. или конец XII в., это остается неясным: ведь память о названных князьях, даже с большей вероятностью, могла изгладиться и в позднейшие столетия. Что касается пропусков в тексте сокращенной Правды, то одни из них представляют для Сергеевича загадку, по его собственному признанию, а другие он объясняет устарелостью соответствующих статей Р. Правды. Это объяснение также нельзя признать достаточно убедительным. С одной стороны, устарелость — это понятие слишком общее и неопределенное. Ссылка на нее приобрела бы больше убедительности, если бы это понятие было конкретизировано, т. е. были бы указаны те перемены в общественной жизни древней Руси, благодаря которым многие нормы Р. Правды отжили свой век и сделались неприменимы в новых общественных условиях. Но Сергеевич этого не сделал. С другой стороны, если сокращенная Правда, как предполагает сам Сергеевич, могла возникнуть в XIII в. и даже в конце XII в., распространенная ее редакция, по общепринятому мнению, была составлена в XII в., то трудно допустить, чтобы за такой короткий промежуток времени успела уже обнаружиться устарелость Р. Правды и чтобы социальные отношения настолько изменились, что почти половину ее статей пришлось выбросить, а часть их переделать иной раз почти до неузнаваемости.
На более правильном пути, как мне кажется, стоят другие исследователи Р. Правды, касавшиеся ее сокращенной редакции и относившие ее составление к XVI и даже к XVII в.
1 В. И. Сергеевич. Лекции и исследования по древней истории русского права, 1903, стр. 71—74.
130
Ещё в 60-х годах прошлого столетия Н. Ланге, говоря о списках Р. Правды, вскользь обратил внимание на то, что список князя Оболенского, в отличие от других, вместо того, чтобы перечислять тех лиц, за убийство которых платилось 40 гривен, ограничивается общей директивой суду: л ю б о р аз с у- дити по мужи смотря. „В этих словах, — говорит Ланге, — так и слышится современник постановлений XVI и XVII века, в которых часто употреблялось выражение: наказать по человеку смотря. Кроме сокращений, произвольно составленные фразы, подобно означенной выше, встречаются и в других местах списка князя Оболенского. Чрез эти фразы составитель выписки вносит иногда в Правду современные ему язык и понятия, напр. понятие о безчестии, о котором в других ее списках вовсе не упоминается. Итак, по нашему мнению, — заканчивает он, — список князя Оболенского есть позднейшее краткое извлечение из Правды частного лица и притом с собственными его прибавлениями, которыми через господствовавшие при нем понятия он силился уяснить себе все не вполне им понятое в древнем нашем законодательном памятнике“.1
Проф. П. Мрочек-Дроздовский держится того же мнения, но высказывается более решительно и определенно как о времени происхождения сокращенной Правды, так и об отражении в ней московского законодательства. Обращаясь к списку кн. Оболенского, он говорит следующее: „Этот текст не что иное, как переделка Правды, появившаяся не раньше второй четверти XVII в., — по крайней мере, в Кормчих начала и первой четверти века этой переделки еще нет. Так можно судить о времени появления средней редакции по внешним признакам, но по содержанию, как то видно будет далее, обнаруживается время еще более позднее. Переделка составлена в духе московских законов и московским языком, — важнейшие варианты в этом своде суть прямые подновления на московский лад: „любо разсудити по мужи смотря“, а в особенности: „по их пути платити безчестие“, чтение, живо напоминающее московские законы и московский деловой и приказный язык. Но важнее других вариант в статье о т о л ч к а х и ударе жердью, где вместо роты поставлен жребий. Эта замена присяги жребием в делах, не касающихся духовенства, указывает на время Уложения, на ту его статью, по которой в делах ниже рубля присяга заменялась жребием“.2
Мысль о том, что список кн. Оболенского представляет собою московскую редакцию Р. Правды; я считаю правильной и вполне ее разделяю, но нахожу, что у названных авторов она недостаточно полно развита и аргументирована. Во-первых, Ланге и Мрочек-Дроздовский указывали лишь на три или четыре
1 Н. Ланге. Исследование об уголовном праве Русской Правды, стр, 5—6.
2 П. Мрочек-Дроздовский. Новое издание Русской Правды, 19071истр, 3—4.
131
статьи, придающие сокращенной Правде московский колорит, но обошли полным молчанием другие изменения текста, а также те многочисленные его сокращения и пропуски, объяснение которых, как уже сказано, представляло для одних ученых непреодолимую трудность, а для других неразрешимую загадку. Во-вторых, те статьи, которых они касались, не составляют отличительной особенности одной лршь сокращенной Правды: в такой же редакции мы встречаем эти статьи, как будет показано дальше, и в некоторых списках пространной Правды, например, в третьем списке Царского.
Поэтому, идя по пути, намеченному Ланге и Мрочек-Дро- здовским, я в дальнейшем изложении постараюсь полнее и разностороннее обосновать их точку зрения. Причем, для того, чтобы высказывания мои на эту тему не показались лишь произвольными предположениями и догадками, я буду подкреплять их сопоставлением тех модификаций Р. Правды, которые она испытала в сокращенной редакции, с теми изменениями, которым подвергся Литовский Статут в его московском переводе,1 а также в Уложении 1649 г., взявшем, как известно, из литовского кодекса значительную часть своих статей. Пользование таким методологическим приемом может быть оправдано тем обстоятельством, что между Р. Правдой и Литовским Статутом, как уже давно установлено в науке, существует большое сходство. Следовательно, если обнаружится, что московские переводчики и кодификаторы не все брали из Лит. Статута, а взятое перерабатывали в духе своего отечественного права, и если аналогичные пропуски и изменения окажутся и в сокращенной Правде, сравнительно с пространной, то эта аналогия должна будет придать больше достоверности и моему взгляду на сокра* щенную редакцию, как на московскую переработку Р. Правды в XVII ст
II
В основе сокращенной Правды, говорит Сергеевич, лежит текст распространенной редакции, воспроизведенный ею с большими пропусками и изменениями. Это положение, хотя и бесспорное по существу, носит однако несколько общий характер, а потому требует дальнейшего и большего уточнения. Дело в том, что списков распространенной Правды много и читаются они далеко не все одинаково; их можно разделить на несколько групп, отличающихся одна от другой своими особенностями. Следовательно, прежде чем объяснять пропуски и изменения текста в сокращенной Правде, надо точнее и ближе, а не в такой общей и неопределенной форме, как у Сергеевича, установить тот текст, от которого исходил ее автор и который он
1 Этот перевод был напечатав в 1916 г* под редакцией И. Лаппо»
132
затем изменял и сокращал, ибо эти изменения и сокращения, объяснимые с точки зрения одного текста, могут остаться непонятными и загадочными с точки зрения другого варианта.
Руководствуясь этим соображением, я пришел к тому выводу, что сокращенная редакция Р. Правды примыкает к той группе списков, к числу которых принадлежат списки Чудовский II, изданный Мрочек-Дроздовским в 1881 г.,1 и Крестининский, напечатанный в конце XVIII ст.2 К ним надо присоединить также и другие, еще не опубликованные, списки, а именно:3 Толстовский II, Румянцовский II, Публичной библиотеки, Мо- сковский-Академический II, Фроловский I, Троицкий II и III, Строевский, Царского II, III и IV и Годуновский. Хотя эти списки и не изданы, тем не менее варианты их давно уже известны благодаря труду Калачова, напечатанному в 1846 г.4
Перечисленные списки выделяются среди других своими характерными признаками, перешедшими отсюда и в списки сокращенной Правды. Отличительная особенность их обнаруживается прежде всего в заглавиях отдельных статей. В то время как по другим спискам эти заглавия обыкновенно лишь повторяют начальную фразу соответствующего текста, здесь переписчики в большинстве случаев своими словами обозначают тот предмет или то действие, о которых идет речь в данной статье; например, мы читаем: „о мужи кровави“ вместо „а придет кровав муж“, „о вседении начюжь конь“ вместо „аже кто всядеть на чюжь конь“, „о потоплении купца“ вместо „аже который купець истопиться“ и т. п. То же самое и даже в большей мере наблюдается и в списках сокращенной Правды: здесь нет ни одной статьи, которая бы в заглавие переносила начальные слова своего текста.
Близкое родство сокращенной Правды с этими списками проявляется не только в заглавиях, но и в текстах отдельных статей. Вот несколько примеров, свидетельствующих об этом родстве. В статье о поклепе вира выводится: „аже не будет послух 7“; в других списках’« „аже будет послухов 7“. Статья о наследовании предоставляет „двор всяко меншему сынови“; в других списках: „двор о тень всяко меншему сынови“. Статья о преследовании беглого холопа предусматривает тот случай, когда хозяин „устрелить и гоня“; в других списках: „упустить и гоня“. В статье о холопе, торговавшем по поручению своего хозяина и задолжавшемся по этому поводу, сказано, что господин должен „выкупати или лишитися его“; в других
1 Мрочек-Дроздовский. Исследования о Русской Правде, вып. 1, стр. 66—78.
2 Третья часть „Продолжения древней российской вивлиофики“, стр. 16—45.
3 Названия спискам даются согласно с номенклатурой Калачова.
* „Предварительные юридические сведения для полного объяснения Рус« ской Правды“.
133
списках: „выкупати, а н е лишитися его" и т. п. Все эти особенности сокращенной Правды имеются и во всех перечисленных выше списках.
Еще более тесную связь с нею имеют отдельные списки этого цикла. Особенно близок к ней 3-й список Царского. Чтобы убедиться * в этом, сопоставим текст этого списка с соответствующими статьями сокращенной Правды.
Список Царского
1.0 мужи кроваве. Аще приидет кровав муж на двор или синь, то видока ему не искати, но платити ему продажа за безчестие, каков будет; аще ли не будет на нем знамения, то привести ему видок: слово противу слова, а кто будет почал, тому платити куны, во что и обложат; ащеж и кровав приидет или будет сам почал и вылезут послуси, то то ему за платежь, еже и били.
2. Аще же ударит мечем или ножем, а не утнеть на смерть, то князю вины 9 гривен, а истцу за рану судят и оже лечебное; потнеть ли на смерть, то вира платити.
3. Аще ли пхнет муж мужа любо к себе, любо от себя, любо по лицу ударит, или жер- дию ударит, а без знамения, а видока два выведут, то три гривны продажи; оже будет варяг или колобяг, крещения не имея, а будет има бои, а видока не будет, ити има на роту по своей вере, а любо на жребии, а виноватый в продаже, во что и обложат. 1Сокращенная редакция
1. О мужи кроваве. Аще приидет кровав муж на двор или синь, то видока ему не искати, но платити ему продажа за безчестие, каков будет; аще не будет на нем знамение, то привести ему видок: слово противо слова.
2. Аще же ударит мечем или ножем, а не на смерть, то князю вины 9 гривен, а исцу за раны судят; аще ударит на смерть...
I
3. (Аще ударит та смерть) жердию или попехнет, а знамения нет, а видок будет, аще будет болярин, или людии, или варяг, крещения не имея, то по их пути платити безчестие; аще видока не будет, ити им на жребии, а виноватый в продаже, во что обложат.
1. Сравнение обоих текстов показывает, что в первой статье составитель сокращенной Правды дословно воспроизвел список Царского с тою только разницей, что вторая часть статьи, касающаяся ответственности зачинщика драки, не была им переписана. В приведенном тексте особенно характерны слова: „но платити ему продажа за безчестие, каков будет". Они далеко уклоняются от общепринятого текста. Обычное чтение
134
этого места, принятое громадным большинством списков, таково, „но платити ему продажю 3 гривны“. Однако в той семье списков, из которой вышла сокращенная Правда, эта редакция под московским влиянием постепенно изменялась и перерабатывалась, пройдя в этом направлении несколько последовательных этапов. Так, в виду того, что по московскому праву побои трактовались как оскорбление чести, в списках Толстовском И, Нумян- цовском II, Московском-Академическом II, Фроловском 1иКре- стининском общепринятый текст Р. Правды подается с соответствующей добавкой: „платити ему продажа 3 гривны за без- честие“. Это была только начальная стадия в процессе приспособления Р. Правды к московским понятиям. Другие списки той же фамилии пошли дальше. Так как московское законодательство оценивало бесчестье неодинаково, в зависимости от социального и служебного положения потерпевших, то некоторые из них находили неправильным определять размер штрафа одной и той же суммой для всех случаев, а потому они опустили 3 гривны, оставив величину продажи неопределенной. Действительно, в списках Публичной библиотеки, Чудовском II, Троицком II и III, Царского II и IV и Строевском мы находим такое чтение: „платити ему продажа за безчестие“. Наконец, ярче всего московское влияние проявилось в третьем списке Царского, где к этому тексту прибавлено еще указание на то, что величина продажи определяется социальной квалификацией потерпевшего: „платити ему продажа за безчестие, каков будет“. Эта редакция перешла затем и в списки сокращенной Правды.
2. Рассмотрим далее редакционные особенности второй статьи, нигде более не встречающиеся, кроме списка Царского, и перешедшие отсюда в сокращенную Правду.
Эта статья, в отличие от других списков, предусматривает удары не только мечом, но и ножом, назначая для того и другого случая одинаковое наказание. Едва ли это согласно с духом Р. Правды, которая вообще придавала большое значение орудиям действия при оценке преступлений против здоровья, так как имела в виду военных людей, весьма чувствительных к ударам, задевающим честь. Такие феодально-рыцарские понятия, особенно ярко выражены в Литовском Статуте 1588 г., в его постановлениях о ранах, нанесенных „бронью железною, звычайною ку бою“ и о побоях „кием, кистенем, булавою, пугами или дуб- цами“, а также в статье „о том, хто бы ножом або яким иным до бою незвыклым начиньем кого забил або ранил“ (XI, 16 и 27). Здесь раны ножевые карались гораздо строже, чем мечевые. Но московское право, повидимому, отличалось в этом отношении меньшей щепетильностью, в подтверждение чего можно сослаться на след, пример. Литовский Статут предусматривает угрозу или ранение кого-либо на суде посредством „корда, меча альбо шабли и якое кольвек брони“ (IV, 62). Уложение 1649 г., заимствовав это постановление, прибавило к перечисленному
135
в нем оружию также и нож, не связывая, однако, с этим какого- либо усиления ответственности (X, 105). Очевидно, что и авторы списка Царского и сокращенной Правды также не были заражены рыцарскими понятиями военной чести, если они не делали никакого различия между ранами мечевыми и ножевыми.
Штраф за рану, платимый в пользу князя, назван здесь не продажей, как во всех других списках, а виной. В этой терминологии также можно видеть московский отпечаток, потому что вина, в значении штрафа за различные преступления, довольно часто встречается в памятниках московского законодательства.1 Рассматриваемые тексты заключают в себе и другую особенность, касающуюся этого штрафа: по всем спискам продажа уплачивалась в размере 3 гривен, а здесь она увеличена до 9 гривен. Что это: случайная описка или же сознательное увеличение штрафа? В пользу решения вопроса в последнем смысле можно представить след, соображения. По Р. Правде плата в размере 3 гривен взыскивалась не только за рану, но и за преступления более легкие с точки зрения физического вреда, ими причиняемого, а именно, за пощечину, за удар палкой и даже за толчок. Вполне естественно, что такое уравнение их в отношении наказуемости составителю списка Царского могло показаться неправильным: игнорируя момент чести, он видел в ранах более серьезное посягательство на здоровье, чем в толчках. В соответствии с такой сравнительной оценкой преступления была повышена и мера ответственности за него. Кроме того, возможно, что переписчик не имел ясного представления о том, что такое — гривна Р. Правды, и оценивал ее по московской мерке, называвшей гривной одну десятую часть рубля и приравнивавшей ее к десяти литовским грошам, как это показывает одна статья Уложения 1649 г., заимствованная из Литовского Статута.2 Если так, то трехгривенная плата за удар мечом и безотносительно могла казаться ему слишком малой. Как бы то ни было, утроенный штраф за это преступление перешел и в сокращенную редакцию Р. Правды.
Наконец, по всем спискам Р. Правды потерпевшему от ран уплачивалось „лечебное", т. е. покрывались расходы на лечение, в размере одной гривны. Но по списку Царского .раненый сверх „лечебного" получал еще компенсацию за обиду, размер которой в каждом отдельном случае определялся судом. Это нововведение, напоминающее московское „безчестье", находим мы и в сокращенной Правде с тою разницей, что о „лечебном" в ней уже совсем не упоминается.
Заключительная часть рассматриваемой статьи предусматривает нанесение смертельной раны, как по списку Царского, так
1 Н. Загоскин. Уставные грамоты XIV—XVI вв., вып. 2, стр. 49, 51, 52, 53, 59 и др.
2 Лит. Статут, XIV, 27; Уложение 1649 г„ X, 18.
136
и по другим. Но автор сокращенной Правды, переписав ее начало, — „аще ударит на смерть“, тотчас же спохватился, очевидно, вспомнив, что последствия убийства были им уже определены раньше. Поэтому, прервав начатую фразу, он остановился, а написанные уже слова счел возможным соединить с текстом следующей статьи, где говорится, между прочим, об ударе жердью, забыв, однако, при этом зачеркнуть выражение „на смерть“. Благодаря этому получилась искаженная до бессмыслицы редакция последующей третьей статьи: „аще ударит на смерть жердию или попехнет“ и т. д.
3. Отличительные особенности третьей статьи по цитированным текстам сводятся к следующим моментам. Во всех списках Р. Правды упоминаются варяги и колбяги, но не дается никаких комментариев по поводу этих названий. Список Царского представляет в этом отношении исключение. Правда, варягов он только называет, полагая, вероятно, что значение этого слова более или менее известно. Иное дело — колбяги. Повидимому, сам переписчик в точности не знал (как и современные комментаторы), что это за люди. Тем не менее он сохранил их в своем тексте, добавив только, что, по его мнению, это были „нехристи". Но автор сокращенной Правды пропустил их как народ ему неведомый и в то же время удержал выражение „крещения не имея“. Благодаря пропуску колбягов, это выражение стало относиться уже не к ним, а к варягам, характеризуя их как народ нехристианский, что, конечно, не соответствовало действительности.
Варяги и колбяги, в качестве истцов по делам об ударах и толчках, должны были подтвердить свое обвинение свидетелями и присягой. Так редактирована эта статья во всех списках Р. Правды. Но эта редакция, очевидно, под влиянием московского законодательства, изменяется в третьем списке Царского. Здесь присяга допускается лишь при отсутствии свидетелей, а кроме того она могла быть заменена жребием. Еще дальше идут в этом направлении списки сокращенной Правды. Они, во-первых, совершенно исключают присягу из числа судебных доказательств по делам о толчках и ударах, считая достаточным одного жребия, а во-вторых, распространяют этот способ доказывания не только на варягов и колбягов, но и на местное население. В этом несомненно слышится отголосок московского права, постепенно ограничивавшего применение присяги и даже вовсе устранявшего ее из судопроизводства по малоценным делам: по Уложению 1649 г. к присяге обращались только в исках на сумму больше рубля; в исках же меньшей ценности дело решалось жребием (XIV, 10).
По списку Царского трехгривенный штраф за удары и толчки платился тогда, когда потерпевшим был туземец; если же потерпевшим оказывался варяг или колбяг, то взыскивалась продажа, „во что и обложет“. Списки сокращенной Правды такое судей¬
137
ское усмотрение распространяют и на местных граждан: „по пути (их) платити безчестие“, т. е. в зависимости от того, были ли они „боярами или людинами“. Здесь мы имеем дело уже с нормой московского права, считавшего всякие удары бесчестием и оценивавшего их разнообразно, в зависимости от социального положения и служебного ранга потерпевшего.
Итак можно сказать, что московское влияние отразилось на всех списках, к семье которых принадлежали и списки сокращенной Правды, — на одних слабее, а на других ярче и выразительнее. Возникает вопрос: почему же именно эти списки и, в частности, почему именно статьи о ранах, побоях и ударах стали переделывать текст Р. Правды на московский лад? Как мне кажется, объяснения этому надо искать в том обстоятельстве, что в тех самых Кормчих Книгах, где были обнаружены интересующие нас списки Р. Правды, находились также и так наз. „Главы о послухах“,1 представлявшие собою небольшой кодекс о свидетелях, составленный из разных источников, главным образом византийского происхождения. Между прочим, в этом кодексе имелись также и статьи о ранах, побоях и ударах, взятые из Р. Правды, но переделанные уже под стиль московского законодательства. Вот эти статьи.
1. Аще приидет кровав муж на двор или синь, то видока ему не искати, но платити ему продажа за безчестие, каков будет; аще ли не будет на нем знамениа, то привести ему видок, слово противу слова, а кто будет почел, тому платити куны, в что и обложат; аще же и кровав приидет, или будет сам почал, а вылезут послуси, то то ему за платеж, оже и били.
2. Аще ударит мечем или ножем, а не утнет на смерть, то князю вины 9 гривен, а истьцу за рану судять, а оже лечебное; потнет ли на смерть, то вира платити.
3. Аще ли пехнет муж мужа любо к себе, любо от себе, любо по лицу ударит, или жердию ударит, а без знамениа, а видок будет, безчестие ему платити; оже будет болярин вели- кых бояр или меншых боляр, или людин городский, или селянин, то по его пути платить безчестие; а оже будет варяг или колобяг, крещениа не имеа, а будет има бои, а видока не будет, ити има роте по своей вере, а любо на жребий, а виноватый в продаже, в что и обложат.2
В Кормчих Книгах „Главы о п о с л у х а х“ помещены рядом с Р. Правдой, непосредственно ей предшествуя. Это обстоятельство должно было оказать свое влияние на переписчиков. Очевидно, им приходилось одни и те же статьи переписывать сначала в редакции одного памятника, а затем тотчас же в редак¬
1 Сведения о местонахождении различных списков Р. Правды и о сопутствующих им памятниках даются в названной работе Калачова, стр. 59—64.
2 Цитирую по изданию проф. С. Юшкова. Текст этих статей имеется также и в названной работе Калачова,
138
ции другого. Поэтому неудивительно, что мало-помалу они стали переносить в текст Р. Правды те особенности, которые бросались в глаза им в „Главах о послухах". Сначала это делалось робко и нерешительно, из боязни далеко отступить от оригинала, но затем все смелее и решительнее, пока, наконец, в третьем списке Царского и в сокращенной Правде не был почти полностью воспроизведен текст „Глав о послухах".
Резюмируя теперь все сказанное, я прихожу к тому выводу, что автор сокращенной Правды в своей работе базировался на той редакции пространной, которая отразилась в списках Чудовском* И, а также Крестининском, и получила наиболее яркое выражение в третьем списке Царского. Легко заметить, что это определение ближе и конкретнее обозначает ее первооснову, чем общее и огульное указание проф. Сергеевича на распространенную Правду, не различавшее ни отдельных ее редакций, ни отдельных ее списков.
Сергеевич, однако, не ограничивается этим указанием, а сверх того добавляет, что на сокращенной Правде отчасти отразилось и влияние ее краткой редакции: „три первые статьи ее, — говорит он, — по содержанию и последовательности соответствуют трем первым статьям списков первой фамилии". Но если сравним относящиеся сюда тексты, то мы увидим, что это мнение не оправдывается ими.
Распространенная редакция
1. Аже убиеть муж мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо брату чадо, ли брату сынови. 2 32. Аще ли не бу- деть кто его мстя, то положити за голову 80 гривен, аче будеть князь муж или тиуна княжа.
3. О мужи крова в е. Аще приидет кровав муж на двор или синь, то видока ему не искати, но платити ему продажа за безчестие, каков будет«
Сокращенная
редакция
1. Аще убиеть муж мужа, то мсти- ти брату брата, любо отцу, любо сыну.
2. Ожели не будеть кто его мстя, то положити за голову 80 гривен, любо разсудити по мужи смотря.
3. О мужи кровав е. Аще приидет кровав муж на двор или синь, то видока ему не искати, но платити ему продажа за беачестие, каков будет-
Краткая
редакция
1. Убьеть муж мужа, то мстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына, или брату чаду, любо сестрину сынови.
2. Аще не будеть кто мстя, то 40 гривен за голову.
3. Или будеть кровав или синь надра- жен, то не искати ему видока человеку тому.
139
Сравнительное обозрение приведенных текстов показывает, что первая статья сокращенной Правды по содержанию своему в одинаковой мере соответствует обеим другим Правдам, отличаясь от них лишь исключением племянников из числа мстителей; в редакционном же отношении она стоит ближе к Правде пространной, чем краткой, ибо перечисляя мстителей, выражается так: „любо отцу, любо сыну", тогда как в краткой Правде сказано: „или сынови отца, любо отцю сына". Источником второй ее статьи, очевидно, тоже была пространная Правда, потому что плату за убийство она назначает в размере 80 гривен, между тем как в краткой редакции стоит 40 гривен. Наконец, и содержание и форма третьей статьи ясно показывают, что она взята из пространной Правды.
Но расположение этих статей в сокращенной Правде действительно напоминает ту последовательность их, какую мы наблюдаем в краткой редакции, а именно как здесь, так и там за статьями о мести и выкупе тотчас же следует статья „о муже кроваве"; между тем как в пространной Правде последняя статья отодвинута от первых двух на довольно далекое расстояние целым рядом других промежуточных постановлений. Однако указанное совпадение не было результатом подражания или заимствования, а объясняется оно гораздо проще: статья „о муже кроваве" оказалась в непосредственном соседстве со статьями о мести и выкупе, потому что промежуточные постановления, как это будет показано дальше, были пропущены и не вошли в сокращенную Правду.
Последовательность распространенной редакции была нарушена не этим соседством, а по другому поводу, а именно в сокращенной Правде статья об убийстве в разбое стоит не на своем обычном месте, т. е. в связи с преступлениями против жизни, как во всех списках, а перенесена на более отдаленное место и примыкает к тому отделу Р. Правды, который посвящен краже. Такое перемещение произошло от того* что автор сокращенной Правды трактовал эту статью как постановление о разбое, снабдивши ее и соответствующим заглавием, не встречающимся в других списках: „о разбойнице". По московскому же законодательству разбой причислялся к разряду имущественных преступлений и ставился обыкновенно рядом с татьбой, о чем может засвидетельствовать хотя бы XXI глава Уложения 1649 г. „о разбойных и татиных делех".
Наконец, проф. Сергеевич обнаруживает в сокращенной Правде одну статью (16), по его мнению, не встречающуюся ни в одном из списков Р. Правды и, следовательно, бывшую продуктом авторского творчества или заимствованную им из какого-то другого источника. Но, судя по местонахождению и по конструкции этой статьи, первообраз ее легко можно найти в пространной редакции, если искать его в тех списках, которые лежали в основе сокращенной Правды. Не подлежит никакому
140
сомнению, что таким первообразом ее была ст. 42,1 которая в списках этого разряда редактирована так: „ажели будуть холопи татие любо княжи, любо боярстии, любо чернении, их же князь продажею казнить, зане суть несвободни, да двоичи платять к истьцу за обиду“. Такого текста автор сокращенной Правды не мог принять в свой кодекс. Прежде всего он вычеркнул фразу: „их же князь продажею казнить, зане суть несвободни“, потому что она резко противоречила ст. 115, где прямо и определенно сказано, что продажу князю в случае кражи платят только свободные лица, но не холопы. Затем уплату двойной стоимости украденной вещи он заменил простым удовлетворением истца за обиду, потому что в других статьях пространной Правды, 56-й и 114-й, тоже определяющих ответственность холопов за кражу, об удвоении частного вознаграждения ничего не говорится. Наконец, автор сокращенной Правды устранил из текста холопов боярских и монастырских и оставил только княжеских, чтобы избежать повторений в виду того, что о частновладельческих холопах, совершивших кражу, говорилось в ст. 56 и 114. После всех этих сокращений и изменений получилась та редакция ст. 16, какую мы имеем в списках Оболенского и Толстого: „аже будет холопи тати кто, кто княжь, их же князь обиду платит истцу“.
Так решается вопрос об источниках сокращенной Правды. Перехожу далее к рассмотрению ее особенностей.
III
При чтении сокращенной Правды прежде всего бросаются в глаза ее многочисленные пропуски. Остановимся на каждом из них и попытаемся вскрыть те побуждения, которые заставляли ее автора делать эти пропуски.
Русская Правда начинается с постановлений об убийстве; но только очень немногие из них перешли в ее сокращенную редакцию. Так, в ней отсутствуют ст. 3-я и 4-я, определявшие условия и порядок платежа дикой или общинной виры. По Р. Правде эта вира платилась за убийство в разбое, если вервь отказывалась искать убийцу: „аже кто убиет в разбои, а голов- ника не ищуть“. Так редактировано это постановление в большинстве списков. Но в тех списках, которыми пользовался автор сокращенной Правды, повод к платежу дикой виры выражен иначе: „аще кто убиет в разбои, а головника не изищуть“. Уже в этом мало заметном и едва уловимом исправлении текста можно угадывать следы московского влияния. Местные уставные грамоты Московского государства
1 Номера статей распространенной Правды обозначаются везде по списку Троицкому, так как списки Чудовский II а Крестининский, более близкие к сокращенной Правде, изданы бел нумерации отдельных статей.
141
XIV—XVI ст. дают по этому поводу аналогичные постанозле ния с тою лишь разницей, что вира уплачивалась не вервью, а волостью, станом или городом. Например, в одной из них сказано: „а учинится у них в волости душегубство, а не доищутся душегубца, и они дадут наместником за голову веры четыре рубля“.1 Но в XVII в. отношение московского законодательства к вопросу об ответственности общины изменилось. Голый факт неотыскания преступника сам по себе уже не влек за собою карательных последствий для нее. Община отвечала только тогда, если обнаруживалось, что она укрывала преступника.2 Таким образом постановление Р. Правды о безусловной ответственности верви уже не согласовалось с правовыми воззрениями XVII в. и стало анахронизмом, а потому. и не вошло в ее сокращенную редакцию.
Р. Правда знает и другой повод, когда уплачивалась дикая вира, — это убийство в драке или на пиру, если убийца был связан круговой порукой с другими членами верви. Это постановление тоже пропущено, вероятно, потому, что московское законодательство в таких случаях держалось принципа индивидуальной ответственности. Уложение 1649 г., касаясь убийства „неумышлением — в драке пьяным делом“, постановляет: „и того убийцу бив кнутом, и дати на чистую поруку с записью, что ему впредь так не воровати“ (XXI, 69).
В сокращенной Правде отсутствует также целый ряд статей о платах за убийство княжьих людей — отрока, конюха, повара, тиуна и других (9—14). Автору ее они казались излишними, так как уже в первой статье об убийстве он дал на этот счет общее и исчерпывающее определение:1 „разсудити по мужи смотря“, а также в виду того, что классовая дифференциация в Московском государстве XVII в. далеко не совпадала с теми социальными различиями, которые господствовали в Киевской Руси XII в. и нашли свое отражение в Р. Правде.
Обращаясь далее к преступлениям против здоровья, мы заметим, что из этого отдела некоторые статьи, хотя и в переделанной редакции, приняты сокращенной Правдой, а другие отвергнуты. В числе отвергнутых оказались статьи об ударах позорящими орудиями, о повреждении руки или ноги, о выбитии глаза и отнятии пальца (18—22); сюда же надо отнести и пропуск статьи об ответственности холопа за удар, нанесенный свободному мужу (53). Чем же объяснить такое игнорирование всех этих постановлений? Оно объясняется тем, что перечисленные статьи касаются тех действий, которые с точки зрения московского законодательства заключали в себе бесчестье и увечье и оценивались весьма неравномерно, в зависимости от того, кто был потерпевший. Об этом свидетельствует тот сложный
1 Н. Загоскин. Уставные грамоты XIV—XVI ст., стр. 50.
2 Н. Сергеевский. Наказание в русском праве XVII века, стр. 36—37.
142
и детально разработанный тариф „безчестья", какой имеется в Судебнике 1550 г. (26) и в Соборном Уложении 1649 г. (X, 27—99). В Судебнике он заканчивается след, постановлением: „а за увечье указывати крестьянину, посмотря по увечью и по безчестию; и всем указывати за увечье, посмотря по человеку и по увечью“; а в тарифе Уложения мы находим между прочим след, статью: „а будет кто государевых крестьян учнет бити и бьючи изувечит — глаз выколет, или руку или ногу переломит, или иное какое увечье учинит: и на том имати государевым крестьяном за увечье и за безчестье по десяти рублев человеку; а будет кто государева крестьянина зашибет, а увечья никакова не учинит: и на том имати государевым крестьяном за бой и безчестье по два рубли человеку; боярским служилым людем по пяти рублев человеку, а деловым людем, и монастырским, и помещиковым, и вотчинниковым крестьяном и бобылем за безчестье и за увечье учинити указ против государевых дворцовых сел крестьян; гулящим людем по рублю человеку" (94) и т. д.
Совсем иной характер носят постановления Р. Правды об увечьях, ранах и ударах. В них нет такого разнообразия и дифференциации взысканий. Они для каждого случая дают твердую и строго определенную норму штрафа/ Отсюда старые буржуазные историки делали вывод, что по отношению к телесной неприкосновенности в эпоху Р. Правды все свободные граждане без различия сословий пользовались одинаковыми правами. Но мне кажется, что отмеченная особенность Р. Правды объясняется не тем, что она распространяла свои нормы на все свободное население, а тем, что она имела в виду лишь военно-землевладельческий класс, игнорируя все другие сословия. „Мужи", о здоровье и чести которых она так заботится, — это не свободные люди вообще, а лица высшего класса, бояры. Если по наказуемости толчки, палочные удары и пощечины уравнивались с ранами и если за удары, нанесенные холопом, батогом, тупой стороной меча, его рукояткой и т. п., взыскивался штраф, вчетверо больший, чем за раны, то ясно, что все эти постановления могли относиться только к высшему военно-феодальному классу, а не к смердам, ремесленникам, изгоям и т. п.
Как бы то ни было, но статьи Р. Правды о преступлениях против здоровья с их безусловно-определенными санкциями не подходили к особенностям московского права и потому не могли быть приняты в ее сокращенную редакцию. Они не могли быть удержаны в этой редакции еще и потому, что в противном случае стали бы в резкое противоречие с другими ее статьями, раньше нами рассмотренными, где вопрос о мере наказания за раны или удары предоставлялось решать так или иначе самому суду, в зависимости от того, „каков будет" потерпевший, или „по его пути".
143
Что касается имущественных преступлений, то здесь заслуживает внимания пропуск статьи о краже скота на поле (38). За это преступление по Р. Правде уплачивалось всего лишь 60 кун, тогда как за кражу скота из хлева — 3 гривны, т. е. в несколько раз больше. В основе этого различия лежало, по- видимому, то соображение, что при краже вещей, слабо охраняемых, вор проявляет меньшую напряженность преступной воли, чем в том случае, когда похищение совершается из запертого помещения. Однако при оценке такой кражи возможна и другая точка зрения, выражающаяся в том, что вещи, слабо охраняемые фактически, должны поэтому получить более усиленную охрану со стороны уголовного закона. Действительно, такая точка зрения обнаруживается, напр., в греко-римском праве IX века. Законодательный кодекс, изданный при византийском императоре Василии и прозванный по его имени Василиками, дает по этому поводу следующие постановления: „кто похитит домашнее животное из стада или в лесу на пастбище, тот карается строго; а кто украдет его из хлева, тот наказывается легче“.1
Московское право, вообще обращавшее мало внимания на психическую сторону преступного действия и ставившее на первый план интересы господствующего землевладельческого класса, поскольку им угрожало то или другое преступление, не могло примириться с таким снисходительным отношением Р. Правды к полевым кражам. Вероятно, этим обстоятельством и надо объяснить пропуск рассматриваемой статьи.
Гражданское право Р. Правды также потерпело значительный ущерб. Как известно, в этом отделе ее видное место занимают статьи о закупах (52—57). Ни одна из них не прошла в сокращенную Правду, что может быть объяснено не их архаичностью, а тем обстоятельством, что Московское государство не знало закупов. Это, конечно, не значит, что в нем не существовало людей, находившихся в том же социально- экономическом положении, что и закупы. Напротив, таких людей было много, но назывались они не закупами, а кабальными холопами.
В этом отношении замечается полная аналогия между сокращенной Правдой и московским переводом Литовского Статута, Переводчик тоже обходил закупов, когда ему приходилось встречаться с ними. Например, в Лит. Статуте есть такое постановление: „теж уставуем, иж человек вольный за жаден выступ в неволю вечную выдан быти не маеть; а естли бы ö суме великой был выдан, маеть с тое сумы выробливатися, а выпуску на кождый год мужику рубль грошей, а жонце копу
1 Qui ex grege vel silva domitum animal abigit, graviter punitor; qui ex stabulo abstulit domitum pecus lenius punitor (Basilicorum libri LX, m. 5, стр. 654).
144
грошей...; а закупным людем тьш же обычаем з сумы пенежное выпуск быти маеть, то ест тым вольным, которые бы ся сами в чом запродали“ (XII, 11). Московский переводчик добросовестно изложил первую часть этого текста, но вторую, касающуюся закупов, он выпустил. В другом месте Лит. Статута говорится: „так же и самого чужого человека, жоны и детей его не маеть нихто закуповати и наймовати без воли пана его або врядника“ (IX, 27). В переводе запрещается только наем, но о закупничестве умалчивается: „також человека чюжого и жены его ни на какую работу не наимать без воли и ведома государя его“.
Закупничество возникало из договора займа. Этот договор довольно тщательно разработан в Р. Правде, но далеко не все ее постановления вошли в сокращенную редакцию. Так, обращает на себя внимание пропуск ст. 43 об уклонении должника от уплаты долга. Это понятно: названная статья приписывает неисполнению гражданского обязательства деликтный характер, т. е. смотрит на запирательство должника как на обиду, караемую уголовным штрафом. Такой взгляд, конечно, не соответствовал правовым понятиям XVII века.
Пропущены также ст. 44 и 47, разрешавшие совершать без свидетелей купеческие займы на всякую сумму, а общегражданские — на сумму до 3 гривен. Они пропущены, очевидно, потому, что по московскому праву, поскольку оно отразилось в У ложе* нии 1649 г., договоры займа заключались не иначе, как в письменной форме: иски о долгах, не основанные на кабалах или заемных памятях, судом не принимались (X, 189).
В параллель этому можно сослаться на следующую аналогию. По Лит. Статуту разрешалось совершать заем и без письменного документа, если сумма долга не превышала 10 коп. грошей (VII, 26). Составители Уложения 1649 г., черпавшие полной рукой из литовского источника, пропустили, однако, это постановление; но, очевидно, зная его и считаясь с ним, они сделали уступку в том отношении, что заемные акты на сумму не свыше 10 рублей можно было писать самим должникам или доверенным их лицам, а не площадным подьячим, выполнявшим в Московском государстве функции нотариусов (X, 247—248).
Постановления о процентных займах также подверглись существенным урезкам. Автор сокращенной Правды заимствовал лишь ст. 46 о том, что величина процента определяется свободным соглашением сторон. Что же касается ограничительных постановлений, выраженных в ст. 47—49, то они пропущены. Отсюда однако нельзя заключить, что он отвергал всякие ограничения ростовщических сделок. Пропуск этот, может быть, зависел от испорченности текста в ст. 48, определявшей эти ограничения, что очень сильно затрудняло ее понимание, если не делало его совершенно невозможным; а может быть, указанный пропуск объясняется и тем обстоятельством, что в Мо¬
10 Проблемы источниковедения
145
сковском государстве на этот счет действовали свои особые правила, не совпадавшие с ограничениями Р. Правды.
По вопросу о взаимоотношении между московским законодательством о процентах и Р. Правдой заслуживает внимания объяснение проф. В. Ключевского, нашедшее себе поддержку и у других ученых. Этот историк полагает, что устав Владимира Мономаха, воспроизведенный в ст. 48 и 49 Р. Правды, относился к таким займам, при заключении которых капитал отдавался в треть; а треть, по его толкованию, это все равно, что на два третий, т. е. она обозначала 50%> подобно тому как московское изречение на пять шестой обозначало 20%» Следовательно, между Р. Правдой и московским законодательством замечается аналогия: и там, и здесь дозволялось брать проценты до тех пор, пока общая сумма их не уравнивалась с величиной капитала, конечно, с тою разницей, что там такое уравнение происходило через два года, а здесь через 5 лет.1
Мнение проф. Ключевского не может быть принято, потому что оно основано на интерполированном тексте Троицкого списка. В Синодальном же списке, более близком к оригиналу Р. Правды, устав Владимира Мономаха излагается без упоминания о трети; здесь это слово встречается лишь в ст. 47, посвященной месячным процентам.2 Кроме того, слову треть дается толкование искусственное и произвольное: треть есть третья часть чего-либо, в данном случае года — в противоположность месяцу, а вовсе не означает на два третий в том смысле, что на две единицы капитала берется такая же третья в качестве процента. Можно сослаться, наконец, и на то обстоятельство, что Владимир Мономах едва ли бы успокоил киевлян, поднявших восстание по поводу ростовщичества, если бы он легализовал для ростовщиков возможность в два года удваивать свой капитал.
Статьи Р. Правды, касающиеся наследования, перешли в ее сокращенную редакцию также с некоторыми изъятиями. Пропущена ст. 85, определявшая судьбу имущества смерда, оставшегося после его смерти. Независимо от того, что земледельческое население в Московском государстве называлось не смердами, а крестьянами, автора сокращенной Правды могло смущать и то обстоятельство, что эти люди были лишены наследственного права. Такое бесправие смердов смущало и других переписчиков, но они вышли из этого затруднения, прибавив к общепринятому чтению: „аже смерд умреть“— выражение „без детей“. Составитель же сокращенной Правды поступил проще: он вычеркнул постановление, казавшееся ему неправдоподобным.
Х^еуцСЛ0ВИем К ’'Судебнику царя Федора Ивановича 1589 г.“,
2 Подробнее этот вопрос исследуется в моей статье „1нтерпоЛящ1 в текст! поширенсп РуськоГ Правда“.
146
В сокращенной Правде отсутствуют также статьи 96 и 98, предполагавшие у матери существование отдельной собственности и дававшие ей право завещать эту собственность кому угодно по своему усмотрению. Они были пропущены, вероятно, потому, что имущественная обособленность и независимость жены не согласовались с правовыми воззрениями, господствовавшими в Московском государстве. Эта догадка подтверждается аналогичными пропусками в тех статьях Уложения 1649 г., которые были заимствованы из Лит. Статута. Например, в Лит. Статуте говорится, что имение государственного изменника конфискуется, но „жоны таковых зрадец, которые не будуть ли ведали тое здрады мужов своих.., таковые именей своих не тратять“ (I, 3); между тем как Уложение, рассматривая тот же случай, совсем не упоминает о собственном имуществе жены, а говорит только о выделе ей из конфискованного имущества мужа части на прожиток (И, 7). По Лит. Статуту за долги умершего отвечают его жена и дети, в размере оставшегося после него имущества; но если бы жена имела „свое властивое именье", то она „за то на маетности своей властивой шкодовати не маеть и за то ничого платити не будет" (VII, 18); эта оговорка относительно собственного имущества жены опять-таки отсутствует в соответствующей статье Уложения (X, 245).
Посмотрим теперь, каким выемкам и сокращениям текста подверглась Р. Правда в области судопроизводства. Отметим прежде всего пропуск ст. 17 об ордалиях, т. е. об испытаниях железом и водою, а также о присяге. Очевидно, доказательства эти в XVII ст. потеряли уже свою силу. В тех списках, на которые опирался автор сокращенной Правды, эта статья излагалась уже с пропуском испытания водой, как доказательства, нелепость которого сознавалась еще в XIII веке.1 Следовательно, обходя молчанием это доказательство, он лишь следовал за своим источником. Что касается испытания железом, то хотя оно и удержалось, но некоторые списки, напр. Толстовский I иЧудовский I, применяясь к московским судебным порядкам, придавали ему значение поля, т. е. судебных поединков. Однако в XVII в., когда составлялась сокращенная Правда, и это испытание, даже в таком своеобразном понимании его, как поля, не могло уже иметь практического применения в Московском государстве, потому что судебные поединки к тому времени окончательно вымерли. Оставалась только присяга, которая по Р. Правде применялась в тяжбах наименьшей ценности. Но сохранить ее — это значило бы стать в прямое противоречие с московским законодательством, которое, как было уже замечено, запрещало обращаться к присяге при малоценных исках, заменяя ее в таких случаях жребием.
1 См. поучение Серапиона-проповедника XIII в.
10*
147
Заслуживает внимания то обстоятельство, что такое же отрицательное отношение к присяге наблюдается и в тех постановлениях московского законодательства, которые были заимствованы из Лит. Статута: например, в тех случаях, когда по Лит. Статуту обвинение доказывается или опровергается присягой, Уложение 1649 г. требует сыска;1 там, где по Лит. Статуту истец или ответчик приносят присягу, там по Уложению они подвергаются пытке.2
Несколько подробнее надо остановиться на пропуске ст. 81 и 82. По господствующему и прочно установившемуся мнению, в этих статьях имеется в виду испытание железом, т. е. трактуется та же тема, что и в ст. 17, только что рассмотренной. Если принять это толкование, то игнорирование названных статей объяснялось бы теми же причинами, что и пропуск ст. 17. Но мне кажется, что между ними нет ничего общего, и что они говорят о двух разных вещах. Для наглядности сопоставим оба текста.
Статья 17.
Искавше ли послуха не нале- зуть, а истьця начнеть головою клепати, тогда дати им правду железо; такоже и во всех тяжах, в татбе и в поклепе, оже не бу- деть лиця, то тогда дати ему железо из неволи до полу- гривны золота; оже ли мне, то на воду, оли то до дву гривен; аже мене, то роте ему ити по свое куны.
Статьи 81 и 82.
Ты тяже все судят послухи свободными; будеть ли послух холоп, то холопу на правду не вылазити; но оже хощеть ис- тець или иметь и, а река тако: по сего речи емлю тя, но яз емлю тя, а не холоп, и емети и на железо; аже обинити и, то емлеть на немь свое; не оби- нить ли его, платити ему гривна за муку, зане по холопьи речи ял и.
Аже иметь на железо по свободных людии речи, либо ли запа на нь будеть, либо прохо- жение нощное, или ким любо образомь, аже не ожьжеться, то про муки не платити ему, но одино железное, кто и будеть ял.
Между тем и другим текстом замечается существенная разница. 1. По статье 17 правда-железо дается при отсутствии не только поличного, но и послухов; между тем как по ст. 81 и 82 к железу обращаются, когда будут послухи, свидетельствующие не о самом преступлении, а о фактах, возбуждающих по¬
1 Лит. Статут: I, 3, 16; IX, 17; XI, 6, 18, 23; XIV, 15. — Уложение: II, 7; IV, 3—4; X, 224—225, 228; XXI, 87; XXII, 14, 20.
2 Лит. Статут: IV, 31; XI, 40. — Уложение: XXI, 101; X, 202,
148
дозрение. 2. По ст. 17 испытанию подвергается истец, а не ответчик: в самом деле, если истец идет на роту „по свое куны“, то он же, очевидно, идет и на правду-железо, в том и другом случае в зависимости от цены иска. Правда, в первой части этой статьи сказано: „тогда дати им правду железо“. Множественное число испытуемых как бы указывает на то, что испытание давалось не только истцу, но и ответчику. Однако эта редакция нисколько не колеблет высказанного положения, потому что и понятие истца выражено здесь во множественном числе: „искавше ли послуха не налезуть“. Совсем не то видим мы в ст. 81 и 82: здесь на железо брали не истца, а обвиняемого. 3. По статье 17 испытание имело принудительный характер, его давали „из неволи“, и это понятно: истец, голословно обвинивший кого-либо в преступлении, должен был или взять обратно свое обвинение, или же, если он упорствовал, итти на суд божий. Тогда как по ст. 81 и 82 истец берет обвиняемого на железо в зависимости только от своего желания „оже хощеть“.
Следовательно, в ст. 81 и 82 речь идет не об ордалиях, а о другом судебном доказательстве, под которым надо разуметь пытку. В пользу такого толкования текста говорит и терминология названных статей, поскольку она употребляет слово мука. Было бы непоследовательно и несогласно с существом дела называть ордалии мукой, так как это доказательство основано на вере во всемогущество бога, который своим вмешательством может нейтрализовать законы физической природы и предотвратить не только телесные повреждения, но и болевые ощущения от тех или других испытательных действий. Под именем муки, очевидно, подразумевалась пытка. В таком значении употребляется это слово в ст. 71 и 72 Р. Правды о муке смерда и огнищанина. Такое наименование носит пытка и в памятниках Литовско-Русского государства, причем правила, регулировавшие ее применение, во многом напоминают соответствующие постановления Р. Правды о муке, а именно: к пытке обращались только по инициативе и требованию потерпевшего; нередко он сам пытал обвиняемого; ответственность за неудавшуюся пытку падала на истца, и т. п.
Отнесение ст. 81 и 82 к ордалиям базируется, повидимому, только на слове „железо“ и на выражении: „аже не ожьжеться“. Но раскаленное железо могли употреблять не только при ордалиях, но и в качестве орудия пытки. Что касается выражения: „аже не ожьжеться“, то оно вовсе не означало того, будто бы спорящая сторона могла выйти из испытания невредимой и тем доказать свою правоту. Это выражение указывало границу дозволенной пытки, т. е. такой, за которую истец не нес ответственности, если ему не удавалось вымучить у ответчика его сознание; а отсюда само собою вытекало, что в случае перехода этой границы, т. е. если такая безрезультатная и напрасная
149
пытка сопровождалась ожогами, то истец обязан был дать пострадавшему соответствующую компенсацию.
Итак ст. 81 и 82 имеют в виду пытку. Почему же они были исключены из сокращенной Правды? Потому, вероятно, что хотя пытка и широко применялась в Московском государстве, но она имела здесь совсем другой характер, составляя принадлежность следственного процесса, основанного на доминирующей и руководящей роли суда. В таком процессе не могли найти себе применения постановления Р. Правды о муке, рассчитанные на состязательное судопроизводство и открывавшие широкий простор самодеятельности и активности истца.
Высказанная догадка находит косвенное подтверждение себе в московском переводе Литовского Статута. Переводчик имел дело с постановлениями о муке, аналогичными по своему характеру рассмотренным статьям Р. Правды. Хотя он и не игнорировал их, но все же не нашел возможным дать им дословный перевод. В переводном тексте заметна явная тенденция так сре- дактировать постановления, чтобы не выпячивать и по возможности затушевать автономную роль частного обвинителя при производстве пытки. Чтобы это наблюдение стало явнее, я сопоставлю относящиеся сюда тексты.
Литовский Статут.
1. Маеть быти тот чоловек подозреный на муку выдан и мучон маеть быти от стороны поводовое один раз, ведже не далей толко через годину (XIV, 17).
2. У ставу ем, игды бы поймано злодея приличного, а на тот час без лица будеть пойман, тогды такового злодея три крать одного дня может м у - чыти, толко бы на котором члонку не образил. А естли бы ся не домучил, тогды за кож- дым разом муки оное маеть его навезати водлу и стану его. Пакли ж бы в оной муце злодейства на нем домучитися не м о г, а оною мукою уморен, або на члонку охромей, тако- вый будеть повинен за умер- лого головщину совито, а за хромоту, яко за цалого чоло- века, платити (XIV, 18).
Московский перевод.
1. И такова человека пытать по исцову челобитью одиножды и то один час пытать, а не больши.
I
2. Уставляем: естьли бы ведомого татя поймано на татьбе без поличного, и такова трижды однем днем пытать мошно, только б не увечити: и естли не допытается, и тому, от кого пытали, за всякую пытку заплатить безчестье и увечье, по человеку смотря; а естли же допытаться не могли и с пытки бы умер, тогды, от кого пытан, головизину заплатить повинен; а будет руку и ногу испортит, тогды заплатить ценою, как за целого человека.
150
Сравнивая эти тексты, не трудно заметить, что переводчик умышленно пользовался формой безличного предложения для того, чтобы не показывать потерпевшего в роли лица, производящего пытку. Он говорит: „пытать мошно“ вместо „мо- жеть мучыти", „допытаться не могли" вместо „домучитися не мог", „пытать по исцову челобитью" вместо „на муку выдан и мучон маеть быти от стороны поводовое".
В Р. Правде имеется целый ряд статей, посвященных своду, т. е. особой судебной процедуре, которая совершалась при деятельном участии истца, без вмешательства государства, остававшегося при этом пассивным зрителем. Свод известен был и московскому судопроизводству: о нем упоминают уставные грамоты наместничьего управления XIV—XVI ст.1 Но в чем заключалась его сущность, об этом умалчивалось. Можно только предполагать, что на первых порах он мало чем отличался от свода Р. Правды. Однако с течением времени, по мере развития следственного процесса, процедура свода изменилась в смысле усиления в ней руководящей роли государства. Действительно в Уложении 1649 г. мы находим по этому поводу следующее постановление: „а у кого поимается истец за разбойное поличное, за лошадь, или за что ни буди, а разбойников в лицах нет, и тот, у кого поимаются, учнет на кого в роспросе говорити, что то поличное у него купил или выменил, а тот оговорной человек на очной ставке запрется, скажет, что он того поличного ему не продавывал: и того, у кого поимаются за поличное, пытать; и будет с того, у кого поличное скажет купил, с пытки не зговорит: и по той язычной молке и продавца пытати же; да будет продавец с пытки повинится, что ему то поличное продал: и его пытать, у кого он то поличное взял, и по сыску в том деле учинити указ" (XXI, 75). Таким образом свод превратился в очную ставку, сопровождаемую допросом и пыткой.
Отсюда можно видеть, насколько в XVII ст. неприменимы были постановления Р. Правды о своде, основанные на принципе состязательного процесса. Но, с другой стороны, автор сокращенной ее редакции не мог совершенно игнорировать этот институт, так как в практике Московского государства с ним часто приходилось иметь дело. Поэтому были пропущены статьи описательного характера, изображавшие порядок ведения свода и раскрывавшие содержание этого процессуального действия (31—33); но другие статьи, где свод только назывался, но не описывался, были удержаны,—таких статей оказалось две: одна из них определяет, при каких условиях обращаются к своду, а другая запрещает вести свод из своего города в чужую землю.
Аналогичное отношение к своду мы наблюдаем и у московского переводчика Лит. Статута, где эта процедура изображена
* И* Загоскин. Наэв. соч., стр. 54—5*5«
151
приблизительно такими же чертами, как и в Р. Правде. Он игнорировал его, если встречался с ним в тексте своего оригинала: например, 1-й артикул XIV раздела переведен почти полностью, за исключением того места, где говорится о своде, — это место пропущено; из третьего артикула того же раздела он взял только то, что не имело отношения к своду; заглавие этого артикула в подлиннике такое: „о зводех злодейства, с чим кольвек хто пойман будеть"; переводчик свод заменил сыском: „о сыску татьбы, с чим ни будь хто пойман будет".
Ст. 70 Р. Правды говорит о „гонении следа", сущность которого заключалась в следующем. Преследование вора производилось потерпевшим совместно с послухами и сторонними людьми; если след приводил к селу, то оно обязано было отвести его за пределы своей территории; в противном же случае отвечало за кражу, т. е. платило князю продажу и возмещало убытки потерпевшему. В сокращенной Правде эта статья пропущена, потому что в Московском государстве в таких случаях поступали иначе. Вот что говорит по этому поводу Уложение 1649 г.: „а которых людей разбойники разобьют или тати покрадут, и за теми разбойники и за татьми исцы собрався следом придут в село или в деревню, и те люди, к которым следом придут, следу от себя не отведут: и про то обыскати и погонных людей распроснти; и будет в обыскех и погонные люди на них скажут, что они следу не отвели: и тех людей по обыском и по погонных людей речам пытать и указ им чинити, до чего доведется" (XXI, 60).
Это постановление взято ив Лит. Статута, но с довольно важными изменениями. Так, по Лит. Статуту околичные соседи, гнавшие след, составляли копу, которая оценивала шкоду потерпевшего и постановляла судебный приговор, а Уложение превратило копников в погонных людей, лишенных судеб~ ных полномочий и лишь помогавших потерпевшему в преследовании преступника, а также удостоверявших затем на суде действительность происшедшего; в московском же переводе Лит. Статута они названы понятыми (XIV, 9). Кроме того, по Лит. Статуту село, не отведшее следа, платило лишь шкоду потерпевшему; а по Уложению жители его подвергались пытке и затем присуждались к тому, „до чего доведется".
Обычным и самым распространенным судебным доказательством были свидетели, каковыми по Р. Правде могли быть только свободные люди; холопы к свидетельским показаниям не допускались (59). Но в сокращенной ее редакции это постановление отсутствует, вероятно, потому, что московское законодательство в этом отношении было более либеральным, не лишая холопов права свидетельствовать на суде. По Уложению 1649 г. свидетельские показания могли давать не только крестьяне, но и боярские люди, т. е. холопы (X, 173).
Наконец, резко бросается в глаза то обстоятельство, что ни одна из статей Р. Правды о судебных пошлинах и других сбо-
152
pax с населения не перешла в ее сокращенную редакцию. Надо полагать, что в этой области Московское государство не встречало никаких затруднений. Оно часто испытывало их, не зная, как решить то или другое судебное дело, вследствие отсутствия или неясности соответствующих правовых норм, но оно хорошо знало, что брать с населения, по какому поводу и в каком размере: и уставные местные грамоты Московского государства и Судебники больше всего внимания уделяли различного рода пошлинам и сборам. При таких условиях, относящиеся сюда постановления Р. Правды представлялись излишними.
Проф. Сергеевич недоумевает, почему пропущена ст. 100 Р. Правды: „аже братья ростяжються перед княземь о задницю, который детьский идеть их делить, то тому взяти гривна кун". По его мнению, эта статья определяла подсудность князю споров о наследстве; а так как право князя производить суд по этим делам проходит чрез всю нашу историю и никогда не подвергалось сомнению, то пропуск ее был для него загадкой. Эта загадка разрешается, если взять во внимание, что логический центр тяжести в цитированной статье составляет не та мысль, которую приписывает ей Сергеевич, а другая. Очевидно, она имела в виду определить не подсудность князю споров о наследстве, а размер пошлины, взимаемой в том случае, если спорящие стороны по поводу дележа наследства обращались к князю: „аже ростяжються перед князем" (как известно, в этом случае они могли обратиться и к церковным властям). Значит, пропуск этой статьи показывает, что она разделила общую участь всех постановлений Р. Правды о пошлинах.
В заключение надо остановиться еще на одном пропуске, составляющем отличительную особенность сокращенной Правды: в ней отсутствуют имена князей, упоминаемых в распространенной редакции. Этот пропуск проф. Сергеевич объясняет более поздним происхождением ее, когда с именами таких князей, как Ярослав, его сыновья и Владимир Мономах, не соединялось уже никакого определенного представления. Действительно, память о некоторых князьях Киевской Руси могла с течением времени стереться. К числу их принадлежали, напр., сыновья Ярослава — Изяслав, Святослав и Всеволод, перечисление которых в некоторых списках Р. Правды сопровождается пояснительным замечанием, что это были „рустии князи". Но едва ли то же самое можно сказать о князе Ярославе, тем более что его имя сохранилось и в заглавии сокращенной Правды, а приписываемый ему церковный устав пользовался большой популярностью в Московском/осударстве. Владимир Мономах тоже хорошо был известен благодаря легенде о шапке Мономаха, сочиненной московскими книжниками. Вообще Москва знала выдающихся князей Киевской Руси и чтила их память, так как считала себя ее преемницей и продолжательницей ее тра¬
153
диций: это была идеология, оправдывавшая захватническую и объединительную политику московского правительства. В виду сказанного мне кажется, что пропуск названных князей в тексте сокращенной Правды может быть объяснен другими причинами. Составитель ее преследовал не литературные, а практические цели; практика же не нуждалась в исторических воспоминаниях. Кроме того, как видно из предшествующего изложения, некоторые статьи с именами князей были пропущены не только потому, что они делали экскурсы в область истории, а также и потому, что они заключали в себе постановления, неприемлемые с московской точки зрения: таковыми, например, были постановления Ярослава и его сыновей о холопе, ударившем свободного мужа, устав Владимира Мономаха о процентах.
IV
Покончив с пропусками, познакомимся теперь с особенностями того текста, который перешел в сокращенную Правду, с теми изменениями и сокращениями, которым он здесь подвергся.
Прежде всего заглавие Р. Правды приняло иной вид: она названа не только судом Ярослава, но и указом: „Суд Ярославль Вла- димерича указ". В этой прибавке несомненно обнаруживается московский отпечаток. В Московском государстве указами назывались не только отдельные распоряжения правительства, но и целые законодательные сборники. Например XXII глава Уложения 1649 г., состоящая из 26 статей, взятых почти исключительно из Лит. Статута, имеет такое заглавие: „указ, за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание".
Особенность первой статьи сокращенной Правды выражается в том, что она суживает круг мстителей за убийство, ограничивая его только членами семьи и устраняя племянников. Кроме того, вместо поименного перечисления тех лиц, за убийство которых платился 80-или 40-гривенный штраф, она назначает только высший размер его в 80 гривен, а в остальном предоставляет суду „разсудити по мужу смотря", т. е. вносит в свой текст обычную формулу московского законодатель«» ства.
Но по поводу этой статьи возникает вопрос более общего характера, а именно: как могла удержаться она в той редакции Р. Правды, которая, как я старался показать это, приспособлялась к правовому состоянию Московского государства в XVII в. и устраняла из оригинала всякие архаизмы, все то, что указы-» вало на деятельную и активную роль частного лица в защите нарушенных прав? Недоумение это еще более усиливается от того, что в пространной Правде о мести за убийство говорится, как о порядке, ликвидированном при сыновьях Ярослава, т. е. отошедшем уже в область истории; тогда как сокращенная
154
Правда допускает ее как правовой институт, сохраняющий ещё свою силу, так как оговорка относительно отмены ее при сыновьях'Ярослава в ней пропущена.
Очевидно, слову мстить придавалось не то значение, которое мы обыкновенно с ним связываем. Чувство мести может быть удовлетворено не только непосредственной расправой с обидчиком, но и при посредстве суда. С этой точки зрения мстить значит возбуждать судебное преследование против обидчика. В таком именно смысле это слово неоднократно употребляется в переводных текстах греко-римского законодательства— Эклоги, Прохирона и др. Например, Прохирон говорит о несовершеннолетних, которые не в состоянии сами себя защищать на суде; переводчик же передает эту мысль такими словами: „иже несовершенного ради возраста о т м щ а т и себе не могуще“ (XXXVI, § 1). В том же кодексе речь идет о муже, который уклоняется от судебного преследования врагов своей жены, злоумышляющих на ее жизнь; в переводном же тексте сказано, что он не мстит этим врагам (XI, § 15). В „Свитке новых заповедей Юстиниана“ областным правителям предписывается отмщати за похищение или растление монахинь и т. п.
Цитированные тексты находились в тех же Кормчих Книгах, где помещалась и Русская Правда. Автор ее сокращенной редакции несомненно знал, а может быть, и переписывал их. Следовательно, говоря о мести, он вкладывал в это слово то же самое значение, какое придавали ему и другие тексты Кормчей Книги. Во всяком случае только таким пониманием термина можно объяснить, почему он безоговорочно удержал первую статью Р. Правды о мести, несмотря на то, что последовательно исключал из ее текста все, противоречившее правовым понятиям XVII в.
Статья Р. Правды о поклепной вире читается так: „аже будеть на кого поклепная вира, тоже не будеть послух седмь, то же выведуть виру; паки ли варяг или ин кто, тогда“ (Чудов- ский II сп.). Отсюда видно, что вторая половина статьи оборвана и не имеет конца. Переписчики старались придать ей законченный вид, и действительно, в некоторых списках вместе тогда стоит то два. Но для такого исправления текста у них едва ли имелись какие-либо другие основания, кроме грамматической близости названных выражений. В этом отношении автор сокращенной Правды, чтобы достигнуть той же цели, проделал более сложную операцию: он вычеркнул слова паки и тогда, а оставшийся текст соединил с первой половиной статьи в качестве непосредственного ее продолжения и дополнения, вследствие чего вся статья приняла такой вид: „аще будет на кого поклеп, а не будет послух 7, то же выведут веру, любо варяг или ин“. Таким образом правило о семи послухах при выводе виры получило общее значение, т. е. рас¬
155
пространялось на всех — и на варягов, и на других. Вместе с тем, благодаря такой переделанной редакции, эта статья приведена была в полное согласие с другим постановлением сокращенной Правды, где тоже устанавливаются одинаковые процессуальные требования как для варягов, так и для туземных граждан, в судебных делах об ударах жердью и толчках.
Изменения, которым подверглись в сокращенной Правде статьи о ранах, ударах, толчках и т. п., довольно подробно рассмотрены мною раньше. Поэтому сейчас я ограничусь только одним коротеньким замечанием. Во второй части ст. 23 „о мужи кроваве" говорится, что штраф за раны или побои уплачивается тем, кто начал драку; если же он сам будет побит или ранен, то штраф с него не взыскивается „то ему за платежь, оже и били". Эта часть статьи не перешла в сокращенную Правду, может быть, потому, что она в сущности санкционировала и узаконила частную расправу с зачинщиком драки, считая такую расправу эквивалентом государственного наказания.
Постановлений о краже частично я уже касался, когда выяснял процесс образования ст. 16, первоисточника которой ■проф. Сергеевич не находил в пространной Правде. Сказанное там по поводу этой статьи я дополню здесь еще несколькими наблюдениями.
Ст. 69 о краже пчел перешла в сокращенную Правду в сильно урезанном виде. Сохранилось только начало ее: „аже пчелы выдерет, 3 гривны же". Дальнейший же текст ее, где различаются пчелы „нелаженые и олек", выпущен. Вероятно, сам автор не понимал этих различий, а потому и выбросил их из текста вместо того, чтобы разъяснить своим читателям их значение, как это сделали некоторые переписчики, прибавив к слову „олек" пояснительное замечание „рекше гнездо".
Ст. 29 о своде по поводу кражи передана в несколько измененной редакции. Обычное чтение этой статьи таково: „аже кто познает свое, что будет погубил или украдено у него, ли конь, ли порт, ли скотина, то не рци: се мое, но поиди на свод, где еси взял". Встречаемое здесь выражение „не рци: се мое" надо толковать в том смысле, что собственник украденной вещи, опознавши ее в чьем-либо владении, не мог тотчас же потребовать ее возврата и на этом прекратить процесс, а должен был продолжать его до тех пор, пока путем свода не будет отыскан вор. Но эти слова не могут быть понимаемы буквально, т. е. в том смысле, что истец, обнаруживший свою вещь в чужом владении, не мог заявить, что эта вещь его. Между тем автор сокращенной Правды придал им буквальное значение и потому счел необходимым исправить общепринятый текст, предоставив истцу право делать такое заявление, хотя это право само собою подразумевалось и не могло быть оспа- риваемо. Получилась такая редакция статьи: „аще кто по-
156
ймается за конь, или за порт, или скотину и наречет: се мое но поиди на свод, где еси взял“.
В Р. Правде имеются две рядом стоящие статьи о краже, совершенной холопом. Одна короче: „аже кто бежа а поймет суседне что или товар, господину платити за нь урок, что будет взял“ (114). Другая длиннее: „ажели холоп покрадет кого либо, то господину выкупати или выдати и с кым будет крал, а жене и детем не надобе; но оже будет с ним крали или хоронили, то всех их выдати, пакы ли я господин выкупаеть; ажели будеть свободный с ним крали или хоронили, то князю в продаже“ (115). Из приведенных текстов ясно видно, что в первом случае холоп, похитив что-либо у соседей своего господина, убегает; а во втором случае он остается на месте, во дворе своего хозяина. Очевидно, на этом основании и последствия кражи определяются неодинаково: по второй статье господин или возмещал убытки потерпевшему или выдавал ему провинившегося холопа, иногда вместе со всей его семьей; по первой же статье он только уплачивал стоимость украденного; о выдаче холопа здесь не могло быть речи, потому что, убежав, он выбывал из под власти своего хозяина; выдавать его фактически было невозможно. Таково, как мне кажется, взаимоотношение между двумя цитированными статьями. Но в историко-юридической литературе дается им иное толкование. Например, проф. Сергеевич находит, что эти статьи противоречат друг другу, давая по одному и тому же вопросу два различных решения, что, по его мнению, произошло от разнообразия судебной практики.1 Нет ничего удивительного, что это мнимое противоречие могло броситься в глаза и автору сокращенной Правды. Чтобы устранить его, он из второй статьи выбросил большую часть текста, удержав только конец его и соединив этот конец с предшествующей статьей, в качестве ее дополнения, благодаря чему из двух статей образовалась одна в такой редакции: „а чий холоп побежит, а возмет что у сосед, платити господину, чий холоп; аще ли с ним свободна крали или хоронили, то все князю в продажу“.
В целом ряде статей Р. Правды, начиная от ст. 60 и кончая ст. 66, речь идет о разных преступлениях: о вырывании бороды, выбитии зуба, краже бобра, порче межевых знаков, порубке межевого дуба и т. п.; но все они отмечены одной общей чертой, выделяющей их в особую группу, а именно, 12-гривенным размером платимой за них продажи. Составитель сокращенной Правды, заметив это обстоятельство, нашел возможным слить их, если не все, то по крайней мере более близкие по характеру своему, в одну статью, оставив вне этой сводки лишь повреждение бороды и выбитие зуба. Таким образом получилась следующая комбинированная статья: „аще кто украдет
1 В. И. Сергеевич. Древности русского права, т. I, стр. 112—113.
157
бобр или сеть, или разламаеть борть, или кто посечет древо на меже, то по верви искати татя в себе, а платит 12 гривен продажи“.
В состав этой сводной редакции вошли следующие статьи Р. Правды: 1) „а хто украдет бобр, то 12 гривен“; 2) „аже будеть рассечена земля или знамение, или же ловлено, или сеть, то по верви искати в себе татя или платити продажа“; 3) „аже разнаменаеть борть, то 12 гривен“; 4) „аже дуб посечет знаменный или межный, 12 гривен продаже“.
Сравнивая эти тексты с их сводной редакцией, мы заметим существенные отступления от оригинала. Прежде всего в пространной Правде сеть называется лишь в качестве улики, оставленной вором на месте преступления; между тем как в сокращенной ее редакции она попадает в число предметов кражи, караемой штрафом такой же величины, как и кража бобра. Далее, там имеется в виду разнаменание борти, т. е. уничтожение на ней межевых знаков; а здесь говорится о ее разламании; причем, назначая за это преступление 12-гривенную продажу, автор сокращенной Правды впадает в противоречие с другой статьей своего сборника, где за п о с е- чение борти взыскивается всего лишь 3 гривны продажи, хотя посечение борти по своей юридической природе ничем не отличается от ее разламания. Наконец, пространная Правда обязывает вервь или искать вора, или платить продажу; в сокращенной же ее редакции выражена совсем другая мысль: вервь обязана искать вора, и если его найдут, то он уплачивает продажу.
Перехожу к постановлениям, касающимся гражданского права. Ст. 108, говоря о преследовании беглого холопа, предвидит между прочим тот случай, когда холоп, найденный его хозяином, снова уйдет от него: „аче упустить и гоня, а собе ему пагуба, а платить в то никтоже, тем же и перейма нетуть“. В списках той же фамилии, что и сокращенная Правда, это место читается иначе: „ажели устрелить и гоня, то собе ему пагуба, а не платить в том никто, тем же и перейма нетуть“. Но списки эти, заменивши общепринятое чтение „упустить“ словом „устрелйть“, оставили, однако, в неизмененном виде последующий текет, где говорится, с одной стороны, что никто не возмещает хозяину убитого холопа его потери, а с другой стороны, что и хозяин никому не обязан платить за переем холопа. Такая оговорка, уместная в той редакции статьи, где употреблялось слово „упустить“, совсем не вязалась с тем случаем, когда бежавший холоп был застрелен своим хозяином. Автор сокращенной Правды устранил эту несогласованность, выпустив упоминание о плате за переем беглого холопа и заменив слово „никто“ словом „ничего“, благодаря чему статья получила такую редакцию: „аже ли за ним гоня застрелит, то себе ему беда, а не платити в том ничего“, что озна-
153
чало безнаказанность господина за убийство им беглого холопа.
Статья о покупке чужого холопа в пространной Правде редактирована так: „аже кто кренеть чюжь холоп не ведая, то первому господину холоп поняти, а оному куны имати, роте ходивше, яко не ведая есмь купил; господину же и товар, а не лишитися его". По поводу этой статьи мне уже приходилось писать, что заключительная часть ее — „господину же и товар, а не лишитися его" — возбуждала у некоторых переписчиков сомнение, так как они не видели в ней логической связи с предшествующим текстом. Поэтому им пришла в голову мысль выделить эти слова в особую статью, дополнив их собственным сочинением, объясняющим, откуда взялся тот товар, которого не должен был лишаться господин.1 Автор сокращенной Правды, тоже сомневаясь в уместности цитированной фразы, поступил проще: он выбросил ее из своего текста.
В списках, к семье которых принадлежала сокращенная Правда, статья о наймите, взявшем вперед свою плату, так изложена, что понять ее невозможно, не справляясь с другими списками, более близкими к оригиналу. Вот ее текст: „а в даче не холоп, ни по хлебе роботеть, ни по придатце, но же не ходить тогда, то ворочати ему милость, отходит ли, то не виноват". Читая этот текст, едва ли можно догадаться, что выражение „не ходить тогда" означает нехождение наймита на работу, а под словом „отходит" надо разуметь выполнение им условленной работы. Имея дело с таким испорченным текстом, автор сокращенной Правды выбросил его середину как темное и непонятное ему место, а слово „отходит" истолковал буквально, т. е. в смысле „отойдет" от хозяина. В результате получилась такая редакция статьи: „а в даче, ни по хлебе не холоп, отойдет — не виноват", что означало: наймит не холоп, но пользуется правом ухода от своего хозяина.
О процентных займах в Русской Правде говорится: „аже кто дасть куны в рез или настав в мед, или жито в присоп, то послухи ему ставити: како ся будеть рядил, такоже ему имати". В этом тексте возбуждают сомнение слова: „настав в мед". Надо полагать, что мы имеем здесь дело с интерполяцией и что в оригинале эти слова следовали одно за другим в обратном порядке: „мед в настав". Только при такой перестановке их это выражение может быть согласовано с другими частями приведенного текста. Настав, как и наклад, означает надбавку. Следовательно, говоря об отдаче меда в настав, Р. Правда имела в виду тот случай, когда он отдавался взаймы под условием возвращения его с процентами.
Более подробно об втом в моей статье „1нтерполяцп в текст! поширено! РуськоТ Правди".
159
Но слово „настав" употребляется также и в другом значении: так называют снасть или прибор, необходимые при производстве какого-либо ремесла, для занятия каким-либо промыслом (Даль). Может быть, переписчики Р. Правды толковали его именно в последнем смысле и потому изменили порядок следования слов, желая этим выразить ту мысль, что настав, как орудие производства, давался во временное пользование для целей пчеловодства. Но в таком случае это будет договор ссуды или имущественного найма, которому не может быть места в статье, посвященной процентным займам.
Если мы обратимся к тем спискам, с которыми имел дело автор сокращенной Правды, то увидим, что они еще более затрудняют понимание этой части текста, так как подают ее в еще более искаженном виде: здесь мы читаем то „настав мед“, то „даста в мед“. Истолковать эти выражения было невозможно, а потому автору сокращенной Правды ничего другого не оставалось, как совершенно не считаться с ними и выбросить их из текста.
Однако по поводу этого пропуска невольно напрашивается и другое объяснение. Дело в том, что в московских законодательных памятниках мед в качестве предмета займа не встречается. Обычно они говорят только о денежных и хлебных займах.1 Если не считать такого умолчания о меде за случайный недосмотр законодательства, то пропуск медовых займов в сокращенной Правде получит иное освещение, связанное с особенностями московского права и с необходимостью считаться с ними.
Русская Правда дает право купцу платить свои долги в рассрочку, если он потерял свое имущество вследствие пожара, войны или кораблекрушения; в оправдание этой льготы, она добавляет: „занеже пагуба от бога есть, а не виноват есть“. Эта мотивировочная часть статьи в сокращенной Правде опущена. В статье о поклаже сказано: вещи могут быть отдаваемы в поклажу без свидетелей; если же затем хозяин вещей будет требовать больше, чем было положено на хранение, то поклажеприниматель имеет право отвести такое требование присягой; а далее дается теоретическое обоснование этому праву: „занеже ему бологодел и хоронил товар его“. Автор сокращенной Правды не нашел нужным вводить в свой текст это разъяснение. Опекун, говорится в Р. Правде, увеличивший имущество своих подопечных торговыми операциями или процентными займами, может взять эту прибыль в свою пользу, „занеже кормил и печаловался ими“. Мотивировка этого опекунского права казалась автору сокращенной Правды излишней, и потому он обошел ее молчанием.
1 Уставная Важская грамота 1552 г.; Указная книга ведомства казначеев, VII; Уложение 1649 г., X, 247.
160
Все указанные здесь пропуски объясняются, вероятно, тем, что составление сокращенной Правды преследовало практические цели, а практика, по старомосковским приказно-канцелярским понятиям, не нуждалась в теоретических рассуждениях, оправдывающих рациональность того или другого постановления, подобно тому как не нуждалась она и в истории, на что указывалось раньше: ей требовались только определенные статьи закона или указы, так или иначе нормировавшие разные житейские отношения.
* *
*
На этом я заканчиваю обзор отличительных и характерных особенностей сокращенной Правды. В заключение выскажу несколько общих соображений о том месте, которое она, по моему мнению, занимает в истории московского права.
Как законодательство, так и судебная практика Московского государства в значительной мере питались теми правовыми нормами, которые выросли и созрели на чужой почве, а именно, в Новгородско-Псковском крае, в Литовско-Русском государстве и в Киевской Руси. Действительно, еще в то время, когда Псков был политически независим, его законодательство оказало существенную помощь при составлении Судебника 1497 г. Что касается Литовского Статута, то, как известно, он служил тем богатым источником, из которого обильно черпали и законодательство и судебная практика Московского государства. Кодификаторы Уложения 1649 г. взяли из него огром* ный материал, а отрывочные выписки из Лит. Статута, какие делались московскими Приказами, и затем полный перевод его на московско-русский язык (если можно так выразиться^, показывают, что им пользовались и непосредственно при решении судебных дел. Наконец, Русская Правда, как мне кажется играла в Московском государстве по существу такую же роль, как и Лит. Статут, хотя и в более скромном масштабе. Конечно, она не дала для него так много, как Лит. Статут, но все же некоторые статьи ее вошли в московские Судебники и в Уло* жение 1649 г. С другой стороны, есть основания предполагать, что и Русской Правдой пользовались в Московском государстве как субсидиарным источником права, т. е. не в том смысле, что непосредственно и прямо на ней, как на букве закона, основывали судебные решения, а в том значении, что в затруднительных случаях, возникавших на практике, искали в ней вспомогательных и руководящих указаний. В пользу такого предположения говорит ее широкая известность и распространенность в Московском государстве, о чем свидетельствуют ее многочисленные списки московского происхождения. Русская Правда тщательно сберегалась и старательно переписывалась. Значит, ею интересовались, она была нужна, на нее предъявлялся спрос. В процессе переписки текст ее делили на статьи,
И Проблемы источниковедения
161
отделяя их одну от другой киноварными начальными буквами, а нередко и снабжая их заглавиями. Это делалось для того, чтобы читатель легче мог ориентироваться в ее довольно сложном содержании. Не ограничиваясь такой внешней и чисто технической отделкой Русской Правды, переписчики также стремились к тому, чтобы облегчить ее понимание, сделать ее более доступной и близкой для своих современников, объясняя или ^пропуская темные и загадочные ее места, изменяя текст применительно к понятиям окружающей их среды и т.п. Результатом их стараний в этом направлении была масса интерполяций, сильно исказивших первоначальный облик памятника. Едва ли можно сомневаться в том, что вся эта кропотливая работа над текстом Русской Правды производилась переписчиками не в интересах досужих любителей литературного чтения, а для потребностей судебной практики. Думаю, что последним этапом на этом пути постепенного приспособления Русской Правды к нуждам судебной практики была решительная и основательная переработка ее в духе московского права, с устранением из нее всего того, что не согласовалось с характером этого права. Эта переделка Русской Правды выразилась в ее сокращенной редакции, послужившей предметом настоящего Исследования.
162
Г. Л. ГЕЙЕРМАНС
ТАТИЩЕВСКИЕ СПИСКИ РУССКОЙ ПРАВДЫ
Прошло уже 200 лет с тех пор как Русская Правда была введена В. Н. Татищевым в круг научного исследования. Являясь одним ив важнейших памятников древнерусского права, она, однако, до сих пор не получила еще всесторонней оценки. В частности, еще далеко не изучена история ее текста. Первая задача на этом пути заключается в выявлении всех существующих списков памятника и в изучении их взаимоотношений.
В исторической литературе существует целый ряд прямых и косвенных указаний на не дошедшие до нас древние летописные тексты, содержавшие Русскую Правду. В своем описании Румянцовского списка Новгородской I летописи Востоков сослался на происхождение текста его от „древнего летописца Сенатской Архивы“ и привел отличия этого текста от Академического списка Новгородской I летописи и от Софийского временника.1 Вслед за ним Калачов в перечне списков краткой редакции Русской Правды указал на ряду с Академическим списком летописи и список Сенатской Архивы.2 С. В. Юшков использовал списки Русской Правды XVIII и XIX вв. в издании наравне со списками XV в., не останавливаясь на вопросе о происхождении их текстов, и тем, как будто, признал что они происходят от не известных нам древних текстов.3
Наконец, А. А. Шахматов, рассмотрев список Новгородской летописи из собрания Воронцовых, пришел к заключению, что этот список дает в ряде случаев более правильные, по сравнению с Академическим списком, чтения и тем самым, можно думать, предполагал существование не известной нам рукописи, положенной в основу этого списка.4
1 Востоков. Описание рукописей Румянцовского Музеума, № CCXLVIIIy стр. 340—350.
2 Н. Калачов. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды, 2-е изд., СПб., 1880, стр. 91—92.
8 Русская Правда, Киев, 1935. Указанные в этом издании под №№ 2 и 11 списки Новгородской летописи ошибочно отнесены к XVIII в.; оба датируются 20-ми годами XIX в.
t * Рукопись Шахматова, Архив АН СССР, 134.1.318. Воронцозский список летописи находится в библиотеке АН СССР, 31.7.31 (Вор. 1090).
И*
163
Вопросу о происхождении поздних списков Русской Правды в краткой ее редакции и посвящена настоящая работа.
I
Нам известно б списков краткой редакции Русской Правды, текст которых имеет значительные отличия от известных нам текстов XV в. Все эти списки находятся в рукописях, содержащих собранные и снабженные В. Н. Татищевым примечаниями древние русские законы. Русская Правда сопровождается в них, кроме того, еще переводом на современный Татищеву язык. Все эти списки относятся к XVIII в. и для удобства изложения обозначены Татищевский I,1 Татищевский II,2 Воронцовский,3 Мясниковский,4 Погодинский5 и Карамзинский.6 К ним же следует отнести еще 3 рукописи, обнаружить которые не удалось.7
Из шести перечисленных рукописей Воронцовский, Мясниковский, Погодинский и Карамзинский списки являются в отношении Русской Правды копиями с Тат. I, а Тат. II содержит тот же текст Русской Правды с оговоренными Татищевым добавлениями, заимствованными из Ростовской летописи.8
Кроме привлечения нового источника, перевод текста Русской Правды и примечания к нему в списке Тат. II сделаны совершенно независимо от перевода и примечаний Тат. I списка. Все это позволяет установить существование двух редакций труда Татищева. К первой редакции следует отнести список Тат. I и указанные копии его, а ко второй — список Тат. II.
Однако снятые с Тат. I списка копии являются далеко не тождественными. Их сличение с Тат. I списком дает возможность
1 Библиотека АН СССР, 16.14.9. -
2 Институт истории АН СССР, № 434 (б. Библ. АН СССР, 32.6.16).
3 Инст. Истории, из собрания Воронцовых, № 118.
4 Лгр. Гос. Пуб. библ., FII 91.
5 Той же библиотеки, собр. Погодина, № 1839.
6 Той же библиотеки, FII 118.
7 Эти рукописи следующие: а) указанная в изд. Русской Правды Укр. Акад. Наук, 1935 г., рукопись Библ. АН СССР, № 1379 (инв.) XVIII в., б) указанная в „Описи рукописей и книг Археологической комиссии при Псковском губ. статист, комитете“, И. Шляпкина (Псков, 1879), под № 25 (стр. 38), и в „Каталоге вещам и документам, хранящимся в музее Псковского археологического общества“ (Псков, 1891) под № 14 (стр. 8) и в) упомянутая Н. В. Калачовым в названном труде, стр. 92, Эрмитажная № 79, по новой нумерации № 44.
8 Напечатанные в 1-й части Продолжения Древней Российской Вивлно-
SHKH' »Законы древние Русские“ содержат текст, близкий к Тат. II списку.
'Днако в »том издании есть некоторые отличия от этой рукописи, приближающие, в иных случаях, текст к списку Тат. I. Кроме того, в издании текст Русской Правды напечатан по Академич. списку летописи, а не по рукописи Татищева. В списке Тат. I сохранились следы привлечения его к подготовительным работам по изданию; в нем рукою издателя С. Я. Румовского сделана попытка сблизить татищевский текст Русской Правды с текстом Академич; списка летописи.
164
установить известную последовательность в работе Татищева над первой редакцией. Примечания в Тат. I списке, написанные первоначально, как и вся рукопись, канцелярским почерком, были неоднократно исправляемы рукою Татищева. После первого исправления с Тат. I списка были сняты копии, представленные списками Воронцовским, Мясниковским и Погодинским. Позднее, после второго исправления, коснувшегося также и ранее исправленных мест, была снята новая копия, представленная списком Карамзинским. Таким образом этот последний список представляет собою копию окончательного текста первой редакции Русской Правды, а список Тат. I является рабочей рукописью Татищева.
Необходимо отметить, что в окончательном тексте первой редакции отсутствуют — имеющиеся в Воронцовском, Мясниковском и Погодинском списках — обращение к читателю и „Дополнение к древним законам“, содержащее „нечто о достоинстве цены или сличении древних денег с нынешними“.
Эти две статьи, можно думать, находились первоначально и в списке Тат. I, но после окончательного редактирования примечаний листы, содержавшие их, были удалены вместе с общим заглавием труда. Во всяком случае Тат. I список сохранил следы, свидетельствующие об изъятии нескольких листов в начале рукописи, вероятно еще до поступления ее в библиотеку Академии.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что Татищев, проработав над комментированием текста Русской Правды, в результате чего появилась первая редакция его труда, спустя некоторое время вновь обратился к Русской Правде, дополнил ее текст из Ростовской летописи и написал новый перевод, новые примечания и новое „предъизвещенке“.
Так käk текст Русской Правды в Татищевских списках значительно отличается от известных древних текстов, то необходимо решить вопрос, откуда Татищев его заимствовал.
II
Говоря о Русской Правде, Татищев в обращении к читателю (по спискам Вор., Пог. и Мясн.) говорит, что: „из сих первый (т. е. закон Ярославов) взят иэ летописца древнего Новгородского, писанного попом Иоанном“. В Истории Российской, при описании Новгородской летописи, Татищев сообщает, что в этой летописи „единственно закон Ярославов точно находится“.1
В предъизвещении, имеющемся в Тат. II списке,2 указывается уже 2 источника Закона Ярославова — летопись попа Ивана,
1 История Российская, т. I, стр. 62. Аналогичное утверждение содержится в первоначальной редакции „Ист. Росс.“, см. рукопись Библ. АН СССР, 17.17.11, л. 37 и 37 об.
2 См. также ПДРВ, т. I, стр. 1.
165
который „точно оной положил", и летопись Авраамия Ростовского, который „нечто с разностию внес". Далее в примечаниях к ст. 16 и 25 вг списке Тат. II и в печатном издании имеются прямые ссылки на разночтения Русской Правды из списка Ростовской летописи, а ст. 32 „аже убиен тать, а подымут ноги во дворе..." целиком взята из этой летописи.
Остается предположить, что Татищев ознакомился с Русской Правдой в Ростовской летописи уже после составления им первого комментария, дошедшего до нас в списках первой редакции, и использовал ее только во второй редакции своего труда.1 В таком случае остается открытым вопрос об окончании ст. 26 „а в смерди 2 гривне" — этих слов в известных нам древних текстах Русской Правды нет, а, как видно, из Ростовской летописи они не могли быть заимствованы, так как имеются уже в списках первой редакции, когда Татищеву эта летопись еще не была известна.
Из сказанного видно, что текст Русской Правды был взят Татищевым из Новгородской летописи, названной им летописью попа Ивана. То же обстоятельство, что этот текст не сходится с текстом, находящимся в Академическом списке летописи, принуждает нас обратиться к другим спискам Новг. I летописи, содержащим также под 1230 г., в записи о погребении игумена Савы, упоминание о попе Иоанне, и которые поэтому также могут быть названы летописями попа Ивана.
Таких летописей до настоящего времени известно несколько. Эти рукописи следующие: 1) Толстовская2 (Лгр. Публ. библ., FIV 223), Уваровская3 (Ист. Музея 1402 (34)), Румянцовская (Библ. Ленина, Рум. № 248) и Воронцовская4 (Акад. Наук, 31.7.31 (Вор. 1090)).5
Из них Толстовский список, как это установил А. А. Шахматов в своей неопубликованной работе „Обозрений русских
1 Характерно также отсутствие упоминания о Ростовской летописи в гл. VII 1-го тома Истории Российской.
2 К. Калайдович и П. Строев. Обстоятельное описание.«, рукописей гр. Ф. А. Толстова, Москва, 1825, стр. 715, под № 351. Список этот сделан в 20-х годах XVIII в.
3 Архим. Леонид. Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания гр. С. С. Уварова, ч. Ill, М., 1894, стр. 86, 87.
4 Описание — см. В. И. Срезневский и Ф. И. Покровский. Описание рукописного отделен. Библ. Акад. Наук СССР, т. III, в. I, Лгр., 1930, стр. 82—83.
5 В Комиссионном списке Новгородской I летописи упоминание о попе Иване отсутствует, и поэтому этот список не может быть назван летописью попа Ивана (см. Новг. летопись по Синод.-харат. списку, СПб., 1888, стр. 237). Но и независимо от этого Комиссионный список Новгородской I летописи имеет большое количество чисто редакционных разночтений, которые отличают его от всех остальных известных списков Новгородской I летописи младшего извода.
166
летописных сводов",1 является копией с Академического списка летописи 17.8.36, сделанной еще до утраты из этой рукописи ряда листов. Список Уваровский является более поздней копией Академического списка, сделанной во 2-й половине XVIII в., уже после утраты листов в Акад. списке.
Последние две рукописи, Воронцовская и Румянцовская, при первом же сличении обращают на себя внимание своим сходным внешним видом. Обе рукописи имеют одинаковый формат, переплеты их оклеены почти одинаковой бумагой, обе имеют одинаковые кожаные наклейки в середине верхней крышки с надписью „Slavonick manuscript anno 853—1444" и обе написаны на одинаковой бумаге фабрики Ватмана, со знаком 1820 и 1822 гг.
Сличение почерков показывает, что оба списка были написаны одним писцом, причем список Румянцовский отличается только тем, что написан он более старательно и чисто. В нем, однако, имеется целый ряд пропусков по сравнению с Ворон- цовским.2 Это обстоятельство и наблюдаемые в Румянцовском списке повторения разночтений Воронцовского списка дают право сделать заключение о том, что Румянцовский список является или копией Воронцовского или что он был списан с их общего протографа, который уже содержал все общие этим спискам разночтения. Но как бы то ни было, Воронцовский по исправности текста является лучшим из этих двух списков.
Таким образом из перечисленных списков летописи списки Толстовский и Уваровский отпадают как копии Академического, а Румянцовский — как повторение Воронцовского. Необходимо поэтому обратиться к тексту Русской Правды в Ворон- цовском списке и посмотреть, не содержит ли он хотя бы важнейших особенностей Тат. I списка. К таким особенностям Тат. I списка, не встречающимся в текстах XV в., относятся между прочими следующие: 1) в ст. 4 [по нумерации Татищева] определение уплаты 20 гривен за побои при отсутствии мстителя, вместо 3 гривен; 2) в ст. 21 чтение „а в смерде и в охоте", вместо „а в смерде и в хопе" (холопе); 3) отсутствие помеле • ст. 24 фразы „аще же приидет кровав мужь либо синь, то не искати ему послуха", 4) в ст. 26 добавление к тексту „а в смерди 2 гривне". Из приведенных особенностей Тат. I списка первые две содержатся также и в Воронцовском списке, а две последние отличают Тат. I от Воронцовского списка летописи.
1 Рукоп. АН СССР, ф. 134, on. I, № 110, л. 223. Рукопись eia подготовляется к изданию Инст. Литературы АН СССР. См. также его „Разыскания о древнейших русских летописных сводах“, стр. 381.
2 Так пропущены слова: в записи предшествующей 6428 г. (920^.): „еже не дают**; под 6453 г. (945 г.): „и рече Ольга11, под 6463 г.: „ищущее, бо премудрость обрящут... елико убо лет незлобие держится по правду"; под 6940 г. (1432 г.): „Той же осени погоре околоток весь и владычнь дворпА и ми. др.
167
Повторение в Тат. I списке некоторых особенностей Ворон- цовского списка позволяет установить наличие связи между текстами этих списков и заставляет обратиться к вопросу о происхождении Воронцовского списка, который, будучи списком XIX в., не мог служить оригиналом для Тат. I.
Поскольку, однако, происхождение Воронцовского списка неизвестно, нужно обратиться к родственному ему Румянцов- скому списку и попытаться установить, не восходит ли текст Тат. I списка через протограф Румянцовского и Воронцовского списков к Академическому списку летописи.
Ш
Как известно из описания Востокова, Румянцовский список есть копия, снятая для гр. Н. П. Румянцова с рукописи, „принадлежащей англичанину сир Филипсу и купленной сим последним на аукционе в Голландии“. В этом же описании Востоков привел и текст доставленного Филипсом в 1825 г. графу Румян- цову „снимка“ с приписки, имевшейся в принадлежавшей ему рукописи „Сия книга списывана 1738 году с древняго летописца Сенатской Архивы...“
Отмеченный в этой приписке факт снятия копии в 1738 г., т. е. в году, предшествовавшем присылке Татищевым1 в Академию Наук Истории Российской, наводит на мысль о связи списка 1738 г. с работами Татищева. Филипс2 приобрел эту рукопись в 1824 г. на аукционе в Гааге в составе собрания рукописей голландского правоведа Герарда Меермана (1722—1771 гг.).3
В 1887 г. эта рукопись была куплена Королевской библиотекой в Берлине в числе других рукописей коллекции Меермана. В каталоге восточных рукописей этой коллекции, составленном Л. Штерном, под № 1987 имеется описание той рукописи, с которой в двадцатых годах XIX в. были сняты копии для Воронцова и Румянцова.
Это описание, являющееея наиболее подробным свидетельством о списке 1738 г., содержит очень интересные данные, и поэтому, несмотря на имеющиеся в нем ошибки и противоречия, на нем следует остановиться.
1 Попов, Татищев и его время*, М., 1861, стр* 447.
2 О библиотеке Томаса Филипса см. предисловие к Henri Omont, Catalogue des manuscrits latins et fran^ais de la collection Phillipps acquis^en 1908 pour la Bibliotheque Nationale, Париж, 1909.
3 См. „Bibliotheca Meermanniana; sive catalogue librorum impressorum et codicum manuscriptorum quos... collegerunt... Gerardus et Ioannes MeermanJ quorum publica fiet auctio die VII sqq Iunii anni MDCCCXXIV Hagae Comi- tum.j., t. ГУ, стр. 180,№ 1092 q. „Sur les Princes et la Russie, depuis 853 jusqu’au 1436; manuscrit enlangue Esclavone, ecrit en 1444et copie en 1738 des archives au Senat, rel(iure) ant(ique).
168
Согласно этому описанию, рукопись представляет собою том, в лист, на 171 лл. „писанный кириллицей в XVIII веке на старорусском языке“.1
Заглавие рукописи легко восстанавливается по немецкому переводу: „Временник еже наречается летописание русских князей и земля русская“.2 Далее автор описания говорит, что она начинается с 6428 (920) г. и продолжается до 6952 (1444) г. и утверждает, что она написана на церковно-славянском языке. Он определяет ее как список Новгородской I летописи попа Ивана, с дополнением отсутствующего начала, изготовленный в 1738 г. для русского историка В. Н. Татищева в селе Болдине Владимирской губернии. Отсюда же мы узнаем, что к рукописи приложено письмо Татищева к неназванному адресату от 12 октября 1749 г. и 4 листка с заметками и выписками на русском языке.
0 предполагаемом оригинале рукописи в описании приводятся следующие сведения: „Подлинник, как об этом свидетельствует подпись, находившийся некогда в Сенатском архиве (в Москве?) и переданный Татищевым С. Петербургской Академии Наук, начинается только 1016 годом и доходит до1441 года. Такой же пополненный экземпляр XVIII века, из собрания гр. Толстого, находится в Публичной библиотеке в С. Петербурге“.3
Последняя часть приведенного описания, кроме любопытного уточнения известной уже из описания Востокова „приписки“, заключает еще совершенно правильное указание на сходство списка 1738 г. со списком Толстовским. Это сходство объясняется тем, что оба списка являются копиями одной и той же рукописи — Академического списка Новгородской I летописи.
Доказательство этого находится в передаче Воронцовским списком (989 г.) перечня новгородских князей. Здесь в Академическом списке части некоторых слов падают на сгоревшее место л. 34, на обороте которого читается: „и победиша и на
Черехе а к Кыеву. И по взятии го та рать.
И посади Святосла...... воего Глеба“4 и т. д. Это место Ворон-
1 Verzeichnis der von der Königlichen Bibliothek zu Berlin erworbenen Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps,— Die Orientalischen Meer- man-Handschriften ... beschrieben von Ludwig Stern, Berlin 1892, стр. 20 и 21 (в конце тома), ср. А. И. Яцимирский. Описание южно-славянских и русских рукописей заграничных библиотек, сборник ОРЯС, т. 98, стр. 468—470.
2 „Die Chronik (врсменникъ), oder die Annalen (лЬтописаше) der russischen Fürsten und Russlands...“
3 „Das Original ehemals, wie die Unterschrift angiebt, in dem Senatsarchive (zu Moscau?), durch Tatischtschew aber der St. Petersburger Academie der Wissenschaften überreicht, beginnt erst mit dem Jahre 1016 und reicht bis 1441. Ein wie das vorliegende vervollständigtes Exemplar des XVIII Jahrh. aus dem Besitze des Grafen Tolstoi befindet sich in der Öffentlichen Bibliothek in St. Per tersburg. Указание на 1016 г. основано, конечно, на недоразумении.
* Количество точек соответствует примерному чреду букв, умещающихся на сгоревшей части листа.
169
цовский список передает следующим образом: „и победита и на Печерех и поидоша к Киеву, и по взятии города та рать, и посади Святослав сына своего Глеба" и т. д.
Замена слов „на Черехе" словами „на Печерех", вставка слов „и поидоша", дополнение окончания слова „города" и вставка слова „сына" представляется нам очень характерным образцом осмысления в Воронц. списке (вернее, в его протографе) непонятных и дефектных текстов. Однако осмысление это „редактору" не удалось довести до конца, так как он не сумел восстановить текст после слова „города" и, не восстановив сказуемого, не отметил и пробела. Этот текст устанавливается из списка Комиссионного, где читается: „и победита на Черехи, бежа к Кыеву и по взятьи города п р е с т а рать" и т. д.
В этом же отрывке находится и доказательство того, что список 1738 г. не был копией Толстовского, в котором вместо восстановленного слова „сына" читается „брата". Сличение Воронцовского списка с Академическим, а в частях, падающих на утраченные в последнем слова, с Толстовским, показывает, что редакционные отличия Воронцовского списка находятся как раз в тех местах, где текст Академического списка не поддавался полностью прочтению. Характерным примером в этом отношении является начало летописи, явно искаженное в Толстовском списке и имеющее 2 пробела. В Воронцовском списке пробелы эти заполнены, и текст читается гладко, за исключением одного искаженного слова — „питании". Это слово, переданное в Толстовском списке „потании", очевидно должно было читаться „погании", и оба искаженных чтения объясняются плохой сохранностью некоторых букв этого слова в общем протографе, т. е. в утраченном начале Академического списка.
Кроме указанных отличий, Воронцовский список имеет еще многочисленные пропуски. Эти пропуски, однако, не могут изменить вывода о прямой зависимости списка 1738 г. от Академического, а, наоборот, подтверждают его, давая характеристику приемов Татищева в отношении передачи текста летописи.
Наибольшую часть пропусков составляют сокращения отступлений религиозно-нравственного содержания. Так, напр., в статье об убиении Бориса и Глеба имеется, кроме более коротких, пропуск размером в целую страницу Академического списка.
Вторую категорию образуют пропуски специфически новгородских известий, в частности касающихся новгородских посадников. Сюда следует отнести отмеченные уже А. А Шахматовым1 пропуски перечня Новгородских посадников под 6497 г.,2 известия о бегстве посадника Федора и др. в Псков
1 Архив АН СССР, Фонд 134, опись I, № 318.
2 Перечень новгородских архиепископов в список 1738 г. вошел.
170
(6858 г.), известия о смерти посадника Михаила Мишинца (6788 г.), а также пропуск биографических подробностей о посаднике Стефане (6751 г.).
Третью категорию образуют пропуски уточнений датировок по календарю святых и пропуск датировок второстепенных событий. Можно сказать, что пропуск уточнения датировок по календарю святых проведен наиболее последовательно.
Наконец, четвертую категорию образуют пропуски случайные или сделанные в целях сглаживания и осмысления текста. Они сопровождаются иногда вставками отдельных слов и не всегда бывают удачными, свидетельствуя о неполном понимании текста. Необходимо отметить еще расхождение датировки записей в Воронцовском и Академическом списках. В Академическом списке к 6940 г. (1432 г.), отмеченному дважды, отнесены два противоречивых известия: 1) „В лето 6940 выидоша князи рустии из рды без великого княжения“ и пр., и 2)„ в лето 6940 выидоша князи рустии из рды... царь Махметь даше княжение великое князю Василью Васильевичу“ и пр. Второе известие в Воронцовском списке отнесено к следующему 6941 г. и все последующие годы сдвинуты на единицу вперед против Академического и Толстовского списков. Однако последний 6952 г. в Воронцовском списке все же совпал с указанным в Толстовском списке годом потому, что в Толстовском списке события, отнесенные в Комиссионном списке к 6951 г., датированы 6952 г., а 6951 г. не обозначен совсем.
Кажется вполне вероятным, что изменение датировки под 6940 г., находящееся в Воронцовском списке, было произведено в списке 1738 г. вполне сознательно, так как может быть легко объяснено нежеланием „редактора“ помечать одним и тем же годом два совершенно противоречивые известия.
В отношении технической передачи текста Академического списка, Воронцовский списощ модернизируя орфографию, все же передает некоторые архаические особенности правописания Академического1 списка. Сохранение этих особенностей при двоекратном снятии копий свидетельствует о тщательности работы писцов.
Таким образом можно с достаточной уверенностью утверждать, что список 1738 г. является отредактированной Татищевым копией Академического списка. Последний назван в письме Татищева, приложенном к списку 1738 г., списком Сенатской Архивы, а в Истории Российской — летописцем попа Ивана, взятым у раскольника в лесу.
1 Под 6488 г. (980 г.) Воронцовский список передает написанные в Академическом списке без титл имена, в форме „Дажба“ и „Стриба“, а не „Дажбога“ и „Стрибога“; под 6950 г. Воронцовский список при передаче слова „въскладную“ заменяет „ъ“ паерком и др.
171
IV
Остается теперь проследить, как текст Русской Правды Академического списка постепенно изменялся в руках у Татищева, Мы знаем, что в отличие от остального текста летописи, текст Русской Правды уже в списке 1738 г. имел значительные редакционные отличия от текста Академического списка. Об отличиях между текстами Татищевского 1 и Воронцовского списка летописи также уже была речь. Если теперь, не ограничиваясь сличением двух рукописей, проследить постепенное развитие некоторых важнейших разночтений по всей намечающейся цепи: Академический—Воронцовский—Татащевский I, то такое сличение обнаружит, что изменения текста носили неслучайный характер и что последующие изменения являлись развитием предыдущих. Так, в ст. 4, по нумерации Татищева, как уже было сказано, платеж за нанесение побоев при отсутствии возможности мести, определенный в Академическом списке в 3 гривны, уже в Воронцовском списке превратился в платеж 20 гривен. Если бы эта статья не подвергалась еще и другим изменениям, то это можно было бы объяснить опиской- Однако, на ряду с повторением измененной суммы, в списке Тат. I имеется пропуск слов „за обиду“, определяющих назначение платежа. В таком виде эта статья является как бы продолжением статьи 2, определяющей за убийство 40-гривенную виру при отсутствий мстителя и отрывается от ст. ст. 5 и 6, согласно которым за удар батогом и т. п. взимается 12 гривен-„за обиду“. Думается, что Татищев, найдя несоответствие в определении меньшей денежной ответственности за деяние, подлежащее мщению, чем за удар батогом или чашею и пр., исправил статью согласно своим понятиям о* справедливости. На несоответствие размера платежа „за обиду“ с причиненным ущербом Татищев обратил внимание и в примечании к ст. 8, определяющей за повреждение перста 3 гривны, а за ус или бороду 12 гривен. Одновременно отметим, что список Тат. II в этой статье следует за текстом летописным, а не повторяет пропуска в Тат. I слов „за обиду“.
В ст. 31 чтение Академического списка „или у хлева“ в Воронцовском списке превращается в „оли у хлеба“, чтобы Тат. I и Тат. II принять форму „любо у жита“.
В этом случае причину превращения слова „хлева“ в „хлеба“ можно понять только как явную описку, так как такое изменение противоречит аналогичной статье (20), говорящей об убийстве огнищанина „у клети, или у коня, или у говяда“, но дальнейшее превращение „хлеба“ в „жито“ можно объяснить стремлением Татищева к замене некоторых выражений кажущимися ему более древними; так замена им слов „аще“, „любо“ и „или“ на „аже“, „оли“ и „або“ наблюдается в очень многих случаях.
172
„Исправление" в ст. 21 чтения „в смерде и в хдйе" на „в смерде и в охоте“ является, конечно, неудачным осмыслением текста, обусловленным недостаточно внимательным изучением особенностей письма Академического списка, писец которого постоянно пропускал слог „ло“. Это „исправление“ было сделано еще в списке летописи 1738 г. Пропуск после ст. 24 статьи „аще же приидеть кровав мужь, любо синь, то не искати ему послуха“, читающееся еще в списке 1738 г., не попало как в Тат. I, так и в Тат. II списки, конечно, как повторение ст. 3.
Если все крупные разночтения до сих пор заключались только в пропусках и заменах отдельных слов другими, то имеющееся в ст. 26 разночтение должно быть поставлено совершенно отдельно. Эта статья гласит: „а в княже борти 3 гривне, любо пожгуть любо изудрут“. В списках Тат. I и Тат. II она имеет добавление „а в смерди 2 гривны“; думается, что это добавление сделано произвольно Татищевым по аналогии со ст. 23, определяющей за княжого коня З^гривны, а за смердьего по 2 гривны. Эта аналогия отмечена Татищевым в примечании к ст. 26 в Тат. II списке, где он прямо сказал, что „улий и лошадь равно для того, что сего труднее уличить“. Трудность приведения в систему денежного счета Русской Правды и своеобразная оценка правонарушений очень интересовали Татищева, что и отразилось в целом ряде примечаний и в специальной статье „о счислении древних денег с нынешними“, и можно думать, что именно поэтому в эту сторону и направились усилия его к исправлению текста памятника. О том, что Татищев не смущался неточной передачей текста, свидетельствуют как многочисленные разночтения Тат. I и Тат. II списков, выписанных одинаково из списка летописи 1738 г., так и примеры цитирования им летописных текстов в „Дополнении к древним законам“.1
Если, с одной стороны, приведенные крупные разночтения Татищевских списков являются результатом работы Татищева над видоизменением текста, то, с другой стороны, Татищевские списки сохранили в целости некоторые особенности текста Русской Правды Академического списка, отличающие его от текста Комиссионного списка, напр., в ст. 18 „в подъездном“,
1 Первая цитата здесь взята, по его словам, из записи под 1410 г, в летописи Новгородской: „начата торговати межи себе лобцы и гроши литовскими и артуги немецкими, а куны отложиша идаваша за гривну 40 артуг". Однако на самомом деле летопись решительно не знает утверждения „а да- ваша за гривну 40 артуг". Несколько далее Татищев приводит вторую цитату, из записи под 1420 г.: „начата делати деньги и торговати, а артуги попродаша немцом“. Это место в Воронц. списке читается следующим образом „начата Новгородцы торговати деньги серебреными, а артуги попродаша немцем“; другие летописи также не знают указанной Татищевым редакции. Никоновская летопись дает одну общую запись под 1420 г.„.. .начата Новгородцы торговати сребряными денгами, а артуги попродаваша немцам; а торговали артугами 9 лет, а преже артугов торговали лобки куньими, а поеже лобков куньих торговали мортками бельими и куньими".
173
а не „в ездовом", как в Комиссионном, и в ст. 28 „перетесь", а не „сопретесь". Чтение Тат. I списка в статье 33 (поклон вирный) „во вторник сыра" является, конечно, искажением чтения Академического списка „в три же сыры", которое в Комиссионном списке опущено.
Таким образом текст Русской Правды в „Собрании законов древних русских" взят Татищевым из списка 1738 г., который в свою очередь скопирован с Академического списка Новгородской I летописи или/что то же, со списка Сенатской Архивы. При этом начало обработки текста Русской Правды Татищевым отразилось уже и в списке летописи 1738 г.
174
Н. П. БАУЕР
ДЕНЕЖНЫЙ СЧЕТ В ДУХОВНОЙ НОВГОРОДЦА КЛИМЕНТА И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СЕВЕРО- ЗАПАДНОЙ РУСИ в XIII в.
Изучение денежного счета Русской Правды, сопоставленное с данными других памятников письменности XI и XII вв. и проверенное при помощи нумизматических памятников, привело меня к убеждению, что официальной валютой в С.-Западной Руси была, несомненно, валюта серебряных монет.1 Под влиянием притока извне денежных знаков, население, преимущественно городское, пользовалось сперва восточными серебряными диргемами, затем западноевропейскими, главным образом немецкими денариями (пфеннигами). Наконец, около середины XII в., с убылью чужой монеты, очень может быть и под некоторым влиянием Киевской Руси, денежный расчет стал производиться на две валюты. Помимо старой счетной гривны с ее фракциями, счет идет на гривны серебра, которые в 4 раза ценнее старой гривны. Чтобы отличить новую гривну от старой гривны, последняя именуется подчас кунной. Если сравнить ее с гривной XI в., то из фракций гривны сохранилось всего три, причем в памятниках замечается некоторый разнобой в употреблении наименований. Ногата, высшая из них, остается без изменений. Прежняя куна, по стоимости несколько меньшая ногаты, вовсе исчезает; прежняя же резана в общежитии XII в. фигурирует попрежнему в то время как юридический памятник. Распространенная Правда называет ее куной. Наконец, наименьшая единица, веверица, обычно именуется векшей. В соотношении этих трех единиц друг к другу, равно как и к высшей единице, к счетной гривне, изменений не наступает.
Что касается веса в серебре новой гривны, то он определяется средним весом расплющенных слитков в 197 г, счетная же гривна в монетах в 49.25 г ходячего высокопробного серебра.
1 Денежный счет Русской Правды. Сб. статей. Вспомогательные истори* ческие дисциплины. Акад. Наук (ХСР (1937), 183—244.
175
I. Денежный счет духовной Климента в сравнении со счетом XII в.
Для XIII в. в Западной Руси не сохранилось, как известно, ни одного памятника русской письменности, который хотя бы в малой степени мог сравниться по своему значению с Русской Правдой. Правильность такого замечания не может умалить значения договоров и проектов договоров Новгорода и Смоленска с иностранными купцами. Я имею в виду для Новгорода более крупные из них: проект немецкой стороны 1268 г. на латинском языке и русский проект 1269 г. на немецком; для Смоленска же договоры 1229 и 1250 гг., оба на русском языке. Очень интересны также обширные уставы — скра — немецкого торгового подворья св. Петра, первые две редакции которых относятся к середине и к концу XIII в. Но все только что названные памятники имеют свои специфические черты, так как рассчитаны не только на русские, но и на мало пригодные для характеристики русской жизни иностранные интересы.
Летописные сведения XIII в. в отношении интересующих нас вопросов чрезвычайно скудны и ценны только своей крепкой хронологической датировкой.
Все разрозненные упоминания о денежном счете, встречающиеся в названных памятниках, вряд ли могут дать уверенность в верном понимании нами условий денежного обращения XIII в. В то же время XIV в. со своим постоянным употреблением нового термина „рубль" резко отличается от предыдущего времени, почему не приходится сближать XIII в. с ним и рассматривать XIII в. особо.
Из этого затруднения, хотя бы частично, помогает выйти духовная грамота Климента Новгородца. Она точно датируется благодаря упоминанию в ней игумена Юрьевского Новгородского монастыря Варлаама, умершего в 1270 г.* 1 До настоящего времени ее подлинность не была никем заподозрена. Впрочем, я постараюсь показать, что при верной расшифровке ее денежного счета последний является надежным доказательством ее подлинности.
В своей духовной некто Климент пользуется теми же денежными наименованиями, как и новгородские памятники XII в., в частности Уставная грамота князя Святослава 1137 г., распространенная Русская Правдами договор Новгорода с Готьским берегом 1189—1199 гг. Основная большая сумма долга Климента выражена в гривнах серебра, меньшие же, кредитованные им суммы, в гривне и ее фракциях. В опосредственной форме
1 Владимирскмй-Буданов. Хрестоматия по истории русского права (1908),
I, 118 120; Срезневский. Сведения и заметки о неизвестных и малоизвестных памятниках (1857), II, 38—42; С. Н. Валк, в сборнике статей: Вспомогательны* истор. дисциплины, 308—309 и 317, прим. 2.
~'Ч'
17 б
фигурирует даже знакомое нам из распространенной Русской Правды наименование „гривна-кун“, когда говорится: „у Хотьвита взяти Климяте гривна солоных кунъ“. Постараюсь при моем разборе текста подлинника вскрыть соотношение между отдельными единицами, а затем проверить полученную таким образом картину денежного счета яри помощи других памятников XIII в., хотя таковой, как я уже указывал вначале, нигде в виде целой системы не встречается.
Составляя свое завещание в пользу Новгородского Юрьевского монастыря, Климент рассматривает игумена и братию монастыря одновременно и как душеприказчиков, которым поручается наделить имуществом других немногочисленных наследников. Для такого рода завещания как будто бы в тексте можно распознать два мотива. Во всяком случае один из ученых комментаторов этой духовной, Владимирский-Буданов, усматривал указание на один мотив в начале памятника, указание на другой — в конце его. Привожу оба места дословно. „Даю святому Герьгю... что възялъ есмь 20 гривнъ серебра на свои рукы святого Гергья, было ж бы ми чимъ заплатите“.1 В конце же завещания читаем: „Того д^ля написахъ, за нъ да не было у мене брата ни сыну“.2 * * Комментатор считает оба мотива равными по смыслу, так как не ставит ударения на слове „напи- сах“ в последней фразе, полагая, что Климент оставил бы рукописание, даже если бы имел ближайших родственников, и что значит и этими словами мотивируется содержание завещания.8 Владимирский-Буданов решается, между прочим, на такой вывод потому, что сумма в 20 гривен серебра, должная Климентом монастырю, по его подсчетам далеко превышает долг завещателя. Согласно моей теме, весь интерес духовной и заключается в этом расчете. Присмотримся ближе к нему.
Во-первых, уже слова Климента „было ж бы ми чим заплатите“ как-будто уже сами по себе говорят о том, что Климент не считает остающееся после него имущество столь большим.
Во-вторых, такое понимание мною духовной подтверждается также подсчетом самого имущества, что возможно при ближайшем рассмотрении денежных наименований. Монастырь получает за одолженные им в свое время 20 гривен серебра как части недвижимого имущества с инвентарем, так и причитающиеся завещателю со Своих многочисленных должников деньги, обозначенные в духовной в гривнах и ее фракциях, ногатах и резанах. Имущество мы, конечно, оценить не в состоянии, так как два села с живым инвентарем, из которых некоторая часть причитается вдове, на деньги Климентом не переводится. Долги же должны быть возвращены в деньгах. Подсчет их, бла-
1 Владимирский-Буданов, I, 118.
2 Там же, 120.
8 Там же, 120, прим. 12 и 118, прим. 2.
12 Проблемы источниковедения
17?
годаря вполне ясному тексту, возможен, несмотря на одно испорченное место в документе. К счастью оно, на мой взгляд, не содержало указаний денежного характера.1
„А про куны чимъ то ми ся было вамъ платити“, пишет, Климент, и затем следует перечень должников и отдельных сумм, которые таковы: 8 гривен, 4 гривны, 2 гривны без 2 ногат, 1 гривна 13 ногат, 37з гривны, 2 гривны, 40 резан, 1 гривна, г/2 гривны, 72 гривны, 7 гривен, 1 * */2 гривны, 2 гривны без 10 резан, 13 ногат, 1 гривна, 1 гривна. Общая сумма равняется 335/6 гривны, 24 ногатам, 20 резанам.2 Следуя денежному счету XII в., сумма выражается в 1781 2/3 резаны, или в 35 гривнах 30 2/3 резаны.
Итак, с должников монастырю причиталось получить несколько больше 357г (счетных) гривен, в т</время как по счету
XII в. долг Климента выражался в 80 (счетных) гривнах. Таким образом остающиеся 44 г/2 (счетные) гривны завещатель возвращал монастырю в виде недвижимого имущества с инвентарем, что можно оценить приблизительно в 2 кг серебра, исходя из веса высокопробной счетной гривны в 49.25 г.
Что же касается приписки с „написах“ в конце духовной, то она объясняет нам причину редкости дошедших до нас завещаний. Будь у Климента близкая родня, то один из них взял бы по устному завещанию — гораздо более естественному по тем временам, чем письменное — весь актив и пассив наследства на себя и постепенно выплатил бы имевшийся на имуществе Климента большой долг Юрьевскому монастырю.
Мне кажется, что данный мною анализ духовного завещания Климента, с одной стороны, подтверждает подлинность данного памятника, с другой стороны, утверждает преемственность для
XIII в. денежного счета, имевшегося в XII в.
Остановиться на этом выводе значило бы, однако, чрезвычайно упростить себе задачу исследования памятника. Уже при разборе Русской Правды выяснилось, что во времени валюта могла меняться при сохранении прежних наименований и что благодаря этому обстоятельству в подсчетах со стороны историков получались недоуменные вопросы. Необходимо поэтому сравнить словоупотребление завещания с таковым других дошедших до нас памятников XIII в.
1 „А Жихневе дал... оу Хотьвита взяти Климяте гривна солоных кунъ“. Думаю, что не сохранилась второстепенная подробность.
2 Въ купЬцькомъ сгЬ оу Фомы 8 гривнъ възмите, а оу Борькы 4 гривне,
оу Фомы оу Моръшня особьнеи 2 гривне без 2-ю ногату, а на поральское
серебро наклада възяти Климяте на Борьке 13 ногате и гривна, а оу Савиниця
съимати Климяте с Борькою пять гривнъ, а въ томъ Борьке третина, а оу КозЪ — вьтьши 2 гривне Климяте взяти, а оу Микифорця 40 рЬзанъ, а Жихневе дай... оу Хотьвита взяти Клгмяте гривна солоных кунъ, а оу... ъчьня полъ гривны, у Къзя. •. а полъ rpi вны, на ДуранЬ 7 гривнъ, оу Михальца полъ гривне, у Еремея без 10 рЬзанъ 2 гривне, у Гюрьги 13 цогате, у Климяте гривна, у . • • тыле гривна.
178
И. Денежные наименования в других памятниках XIII в.
В первую очередь приходится остановиться на собирательных наименованиях, которые, конечно, как и в предыдущие века, в XIII в. не могли достигнуть той степени абстракции как в наше время, а обозначали вместе с тем и самую валюту. Мы видели, что в духовной Климента, так же как и во второй половине XIII в., расчет шел на две валюты. Присматриваясь к общим обозначениям денег, мы также встречаемся с двумя наименованиями: с кунами и серебром. Помещая список своих должников, Климент предпосылает этому списку слова: „а что куны чимъ то ми ся было вам платити". Значит куны, деньги монеты по терминологии предыдущих веков — Климент не держал в наличии, а давал их взаймы соседям и новгородским купцам. В перечне долгов слово куна встречается в соединении „гривна солоных кун". В другом же месте, говоря о процентах с одолженных денег для уплаты поземельного налога, Климент употребляет другое денежное наименование, другую валюту, серебро: „а на поральское серебро наклади взяти Климяте на Борьке 13 ногате и гривна".
Подобное же словоупотребление мы находим дважды в летописи. Под 1213 г. читаем: „в лЬто 6721... Он же (Мстислав Мстиславович) възма на нихъ (на Чуди) дань серебра и золота и кунъ".1 И в более ранних местах летописи встречались очень часто указания на дань и добычу, где фигурируют рядом постоянно оба драгоценных металла. Я склонен в этом видеть заученную фразу, заимствованную из византийских источников. В данном же случае поставлено впереди серебро перед золотом, что вероятнее всего и соответствовало действительному положению вещей, а именно преобладанию серебра над золотом. Итак, в этой цитате упоминаются друг подле друга все имеющиеся валюты. Еще гораздо определеннее противуполагаются две основные валюты в летописи под 1209 г.: „Яко ти повЬлЬша на Новго- родьцихъ сребро имати, а по волости куны брати".2 Здесь одна валюта, более новая, представляется в качестве валюты городской, другая же более старая, в кунах, в качестве деревенской. Последняя допускает гораздо большую дробность, чем „серебро". К тому же она сама по цене своего основного номинала в 4 раза ниже его. Из этого летописного упоминания видно, равно как из духовной Климента, что в XIII в. полагалось точно обозначать, в каких деньгах собирался данный побор, в серебре или в монетах.
Мои наблюдения в этом отношении расходятся со взглядами на этот вопрос И. И. Кауфмана.3 „Но уже с XII ст., — пишет
1 Летопись Переяславля Суздальского, изд. Оболенского (1851), 111.
2 Новгородская IV л. (1915), 182, под 6717 г.
3 Кауфман. Серебряный рубль в России (1910), 2.
12*
179
Кауфман, — выступает новый конкурент слова «куна». Этот конкурент— слово серебро, не в смысле названия белого драгоценного металла, а в том же смысле, в котором французы употребляют слово argent в смысле денег вообще, всяких денег — в том смысле, в котором и монеты из золота и меди тоже составляют argent“. Первое, против чего приходится возразить, это, в отношении упоминания в памятниках письменности XII в., слово „серебро“ в общем смысле денег. Тогда и слову золото надо придать это значение, так как вышеприведенное заученное выражение „злато и серебро“ встречается на Руси с начала письменности; отдельно же слово серебро без злата и без совместного упоминания с гривной — гривна ееребра, ни в летописях, ни в других памятниках не попадается. Затем нельзя так механически, как это делает Кауфман, подходить к этим терминам „серебро и куны“, как будто в XIII в. появляется новый конкурент „слова“ куны. За каждым новым словом, хотя бы первоначально, должна скрываться в реальной жизни и новая сущность. И только по прошествии многих лет слово может потерять свое реальное значение. Вот почему и на французском языке, где с IX—XIII вв. не знали других платежных единиц, кроме серебряной монеты, слово argent превратилось в понятие денег par excellence и не уступило этого места даже тогда, когда началось сперва обращение золота, а затем, спустя много веков, меди и, наконец, даже бумаги.
Памятники письменности XIII в., русские и иностранные, дают возможность вскрывать сущность и отличие того термина, который если и не пришел полностью на смену кун, то во всяком случае их чрезвычайно затмил.
Насколько мне удалось выяснить, слово куны — деньги (монеты) не встречается в новгородских летописях после 1229 г.1 В договорной грамоте новгородцев с Ярославом Яро- славичем Тверским — грамота датируется 1270 г. — куны еще раз упоминаются: „А на Имавалозьскомъ погосте куны ти имати на Важаньском“.2 Более позднего употребления этого слова в XIII в. не знаю. Итак, почти весь еще XIII в. знает это выражение. То, что до 1229 г. под этим выражением понимали и что оно совпадало со словоупотреблением XII в., доказывает один из дошедших до нас списков договора Смоленского князя Мстислава Давидовича с немцами, датирующегося 1229 г., „Оже (у)бьють волного человека“ стоит в первой же статье „платити за голову 10 гривен серебра, а за гривну серебра по 4 гривны кунами или пенязи“.3 При этом следует подчеркнуть ценность именно
1 Под 6737 г. „А на Ярославлихъ любъвницех поимаша Новгородцы кунъ много... Новгородская I л. (1888), 232.
2 Памятники истории Новгорода (1909), под ред. Бахрушина, 14 (Бахрушин).
3 Напьерский. Русско-Ливонские Акты (1868), 423; Goetz. Deutsch-russische Handelsverträge des Mittelalters (1916), 237 (Цитирую: Goetz, Handelsverträge).
180
этого списка грамоты, так как, по наблюдениям проф. Гетца, составитель этого списка договора обладал особенно точным знанием русской юридической терминологии того времени.1 Руководствуясь этой цитатой, можно с уверенностью сказать, что куна то же самое, что пфенниг, так как самостоятельного русского слова пенязь и, значит, и понятия в русском обиходе не было.2 Пфенниг же был еще и в XIII в. единственной чеканенной немецкой монетой, марка которой стала к этому времени противуполагаться марке серебра, так как, в виду повсеместной порчи монеты со стороны феодалов, населению— и в первую очередь купечеству — приходилось прибегать к весовому серебру наравне с чеканенной монетой. Чрезвычайная важность указания Смоленского договора именно и состоит в том, что он дает нам право применять и к русским условиям немецкий денежный счет с противуполо- жением марки серебра марке пфеннигов.
Из ранних обозначений валюты „серебром" приведу это словоупотребление из рядной грамоты Тешаты второй половины ХШв.Там читаем: „Се порядися ТЬшата съ Якымомъ про складь- ство,... и на дЬвцЬ Якымъ сребро взялъ", что следует понимать, как получение именно серебра в качестве приданого.3
Чем же было, согласно памятникам письменности, это серебро? Возможно ли определить, на основании одних памятников письменности, внешний вид, стоимость и обычный вес его?
На это можно дать ответ, лишь присмотревшись к употреблению выражения „гривна серебра" в XIII в. и, так как многие из памятников этого столетия писаны на иностранных языках, к — marca argenti и mark silvers, постоянно встречающихся в этих памятниках.
Как я уже заметил выше, марка серебра, подобно гривне серебра на Руси, была явлением новым в Германии, вряд ли укоренившимся там ранее середины XII в.4 Она обозначала весовое серебро, причем вес марки был, вероятно, уже тогда различен для разных частей Германии, так как на нем не могла не отразиться как постоянная порча металла в монете, так и невозможность для тогдашнего уровня техники, при заимствовании веса одним городом у другого, делать точные копии гирек и сохранять последние неизменными в течение многих лет.
Во всяком случае в XIV в., от которого до нас дошло достаточное количество сведений об основных единицах веса раз¬
1 Goetz. Handelsverträge, 298.
2 Лишь в церковно-славянских текстах встречается слово „пенязь“, которым переводится, согласно западноевропейской традиции, греческое „Bvjvapiov“ Евангелия.
3 Владимирский-Буданов, I, 116.
4 Bauer. Silber und Goldbarren des russischen Mittelalters, в Numismatische Zeitschrift, 64 u. 66 Band, 98 (22). Прим. 2 и Табличка; Luschin von Ebengreuth, A. Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte (1926), 180, 9—14.
181
личных местностей, эти марки друг от друга всегда заметно отличаются.
Насколько возможно судить по сохранившимся памятникам, марка серебра оставалась преимущественно понятием весовым, а не названием предмета, хотя сами круглые слитки серебра именовались в Северной Германии тоже марками. Но так как дошедшие до нас экземпляры, правда, нельзя сказать, чтобы очень многочисленные, всегда различного веса, необходимо предположить, что весовая марка была термином более устойчивым, чем марка предметная, так сказать, монетная.
В интересующих нас памятниках русско-немецкого договорного права марка серебра является основной единицей расплаты.1 Как в немецких, так и в латинских, рядом с ней, но в исключительных только случаях, появляется marca cunen,2 подобно тому, как по-русски рядом с гривной серебра изредка заметна гривна кун.
Обычно исследователями ставится знак равенства между немецким термином марка и русским словом гривна.3 Считаю здесь не лишним проверить такое отождествление при помощи сравнения стоимости марки и гривны по юридическим памятникам XII и XIII вв., причем выбираю, конечно, наиболее постоянные и наименее детализированные ставки штрафов: а именно, таковые за убийство привилегированных лиц, за убийство свободных мужей и за нанесение свободному мужу побоев. Как я уже говорил раньше, считаю на основании своего исследования о денежном счете XII в. марку и гривну серебра в 4 раза большей, чем старая гривна.4
За убийство привилегированного лица, как то: посла, священника, переводчика, княжеского тиуна, огнищанина, полагается:
По распространенной Русской Правде XII в. 80 гривен (Сергеевич, §§ 2 и 5).
По Мирному договору 1189—1199 гг. 20 гривен серебра (Вл. Буд., §§ 2 и 15).
По Смоленскому договору 1250 г. 20 гривен серебра (там же, §§ 3 и 21).
По проектам договоров 1268 и 1268 гг. 20 марок серебра (Goetz, § 19, стр. 147).
За убийство свободного мужа, купца новгородского, смоленского или немецкого гостя полагается:
1 Ср. для новгородской скры XIII в. сводку у Schlüter’a, Die Novgoroder Schra (1914), Register, 122.
2 Ср. там же, 125.
3 См. Goetz, Handelsverträge: Grivna... ist Rechnungseinheit, die der Mark in den lateinischen bzw. deutschen Urkunden von 1268 und 1269 entspricht.
4 Цитирую Русскую Правду по изданию Сергеевича; Мирный договор 1189—1199 гг. по Вл.-Буд., I, 93—97 и Goetz, Handelsverträge, 14—63; Смоленский договор 1250 г. по Вл.-Буд., I, 97—108 и Goetz, 231—297; проекты договоров Новгорода с немцами 1259, 1268 и 1269, Goetz, 90—161 н Бахрушин, 64—71, III и IV.
182
По распространенной Русской Правде XII в. 40 гривен (Сергеевич, §§ 3 и 5).
По Мирному договору 1189—1199 гг. 10 гривен серебра
^По^Смоленскому договору 1229 г. 10 гривен серебра (Вл. Буд., § 1) или 40 гривен кун (Goetz, § 1, стр. 236 и 237).
По Смоленскому договору 1250 г. 10 гривен серебра (Goetz, § 2, стр. 306).
По Новгородскому договору 1259 г. 10 гривен серебра (Goetz, § 3, стр. 78).
По проектам договоров 1268 и 1269 гг. 10 марок серебра (Goetz, § 19, стр. 147).
За нанесение свободному мужу побоев полагается:
По распространенной. Русской Правде XII в. от 12 до 3 гривен (Сергеевич, §§ 25, 27, 30—34).
По Мирному договору 1189—1199 гг. 6 гривен старых кун — без дифференциации побоев (Вл. Буд., § 5).
По Смоленскому договору 1229 г. от 1г/2 до 3/4 гривен серебра (Вл. Буд., § 3). По проектам договоров 1268—1269 гг. от 12/2 до 72 марки серебра (Goetz, §§ 20—21, стр. 149—151).
Эта краткая сводка подтверждает, на мой взгляд, правильность для XIII в. перевода немецкого термина марки русским словом гривна. Одновременно моя табличка лишний раз подтверждает однообразие счета в новгородских памятниках XII и XIII вв. между собой, а также — и это в особенности не следует забывать в дальнейшем — со смоленскими договорами, составленными до середины XIII в.
К сожалению, как русские сведения о гривне серебра, напр,, под 1230 летописным годом „а ржи 4-ю часть кади купляхомъ по гривнЪ серЪбра“,1 так и чрезвычайно частые упоминания марки серебра в договорах и в скре никогда не дают возможности определить стоимость ее. Одно только, на мой взгляд, является неоспоримым: вес русской гривны серебра и немецких марок серебра следует признать во всех памятниках одинаковым в виду того уже, что при различии таковых в Балтийской торговле составители не обошлись бы без упоминания тех или иных географических уточнений, чего, однако, мы ни разу не встречаем. (О равенстве пробы марки серебра в XIII в., пожалуй, не стоит и упоминать, так как пояснительные указания стали особенно частыми даже в Германии только в XIV в.)
Каков же был вес, на котором сошлись как новгородцы, так и все столь разнообразное иноземное купечество? Естественно предположить, что вес этот был вес новгородской гривны, как я уже его определил в своем исследовании о счете Русской Правды.
1 Новгородская I л. (1888), 238, 14, под 6738 г.
183
Этому как будто бы противоречит § 2 Мирного договора 1259 г. между Новгородом и немцами, во всяком случае в изложении новейшего исследователя этого договора проф. Гетца.1 По его мнению, русские сделали в нем существенную уступку немцам, согласившись на следующий пункт договора: „Поудъ отложихомъ, а скалви поставихомъ сво1еи воли и по любви“* Гетц толкует это место так, что новгородский князь вынужден согласиться на отмену русского пудового веса и заменить его весом и чашечными весами, привезенными немцами. Но, согласно тексту, здесь идет речь, на мой взгляд, не о весе или о разно4 весах определенного веса, а об замене технического приспо-* собления самих весов, которые были у новгородцев устроены иначе, назывались, повидимому, пудом и вызывали, очевидно, нарекания иностранцев. Также нельзя вывести из данного текста, как это делает Гетц, что новое приспособление было привозимо немцами, если даже такой факт и имел место в более позднее время. Единственно, что можно почерпнуть в этом отношении из слов немецкого проекта 1268 г., написанного на латинском языке, что для серебра существовали особые чашечные весы —* schala argenti, и из русского проекта 1269 г. на немецком языке, что серебро наравне с другими товарами должно было взвешиваться на чашечных весах и что капь должна быть равной 8 лифляндским фунтам.2 Так как весовая единица капь явно не могла иметь ничего общего со взвешиванием серебра по своей громоздкости,3 а для драгоценных металлов всегда у всех народов имелась своя отдельная мера веса, приходится признать эти статьи договоров относящимися главным образом к взвешиванию громоздких предметов.
Искать вес серебра в других Городах, напр. на Готланде или в Любеке, для этого времени довольно безнадежно: относительно этого времени все соображения метрологов и на Западе весьма гадательные.4
1 Goetz. Handelsgeschichte, 41: Der Gebrauch des deutschen Gewichts wird unter Festsetzung von Wägegebühren für die russischen Wäger zugestanden.— Goetz Handelsverträge, 76: Denn was unsere Bestimmung für den ganzen Handelsverkehr zwischen Russen und Deutschen bedeutet, ist ganz klar, nämlich dass offenbar auf deutsche Klagen hin, das russische Gewicht abgeschafft und durch die von Deutschen mitgebrachten Wagen und Gewichtsschalen ersetzt wird. Еще яснее и определеннее, 77: die russische Wage und Gewicht wird beseitigt, die deutschen Gewichtsschalen werden in Gebrauch genommen. —152 u. 153: Immerhin war die Annahme deutscher Wagen und Gewichte durch die Russen eine grosse Konzession an die Deutschen.
2 Libra bis equari debet in anno... similiter sch(a)la argenti... Dhat gewichte und dhat gelode von silvere unde von anderemneg Gode, da(t) men weget uppe dhereschalen, dhat man gelic halden unde recht. Dhat cap sal behalden an dhere wichte 8 punt. Livisch.-Goetz, Handelsverträge, 156, § 22.
3 Там же, 77 и прим. 4.
4 Cp. Luschin von Ebengreuth, op. cit., 168, № 41, где для Любека указываются два различных подсчета, причем без указания времени, к какому относятся эти сведения.
184
Итак, ничто не мешает нам признать, что общим весом, которым пользовались как новгородцы, так и заезжие купцы, был местный новгородский вес. Счастливая случайность сохра^ нила нам документальное подтверждение этого факта.
В Рижской долговой книге под 29 сентября 1290 г. занесено следующее долговое обязательство: „Jacobus de Bremis tenetur domino Dovinch XXIII mrc Novgardensis arg. per libram Novgar- densem, Mychaelis solvit“, т. e. Яков Бременский получил в долг от господина Довинша 23 новгородских марки серебра в новго-. родских фунтах (новгородского веса); уплатит (их) ко дню св. Михаила.1
Это место, несмотря на всю свою важность для моего иссле- дования, не совсем ясно. Здесь упоминаются две единицы веса: marca и libra. Так как либра может быть переведена лишь как фунт или, даже лучше, вес в общем смысле этого слова, то я склонен видеть в выражении 13 mrc Novgardensis arg. сами предметы, которые были взяты взаймы, т. е. 23 новгородских серебряных слитка. Как я уже упоминал выше, в XIV в. марка имеет иногда и такой смысл.2
В иностранных текстах наших договоров упоминаются и фракции серебряной марки — гривны, а именно фердинг (verding), ferto по-латыни, четверть марки. Фердинг встречается и в форме половины, как 7г фердинга, значит Vs марки.
Словоупотребление фердинг очень ходовое в текстах позднего средневековья,3 но так как оно в вышеупомянутых текстах не всегда сопровождается словами silvers и argenti, то приходится еще доказать его серебряную сущность из наших текстов. Действительно, мы видим, что во второй редакции скры, в статье о произнесении ругательств и об ударах в ухо, полагается 17а фердинга серебра. Для проекта 1269 г., где за удар в ухо упоминается просто 3 фердинга, имеется параллель, как в проекте 1268 г., в котором за то же насилие штраф измеряется в марках серебра, как и в Смоленском договоре 1229 г., где за удар по уху полагается 8/4 „серебра", т. е. как раз 7* гривны.4 * * * Думаю, что после такого* рода сопоставлений можно
1 Н. Hildebrand. Das Rigische Schuldbuch (1872), 44, Ne 610.
2 Термин „гривна Новгородская“ встречается в Никоновской летописи под 1229/6737 г. Но боюсь, что это уточнение — результат излишней вдумчивости человека XVI в., когда постоянно отличались рубли новгородские и московские. В других памятниках XIII в. такое наименование не встречается.
8 Luschin von Ebengreuth, 180, № 10.
4 Scheldword de sal man beteren mit anderhalven verdinge silvers (за бран¬
ные слова следует платить штраф в l1^ фердинга серебром); so war ein man
den anderen to den oren sleit, de sol beteren underhalven verding silvers (если
муж дает другому по уху, то он должен заплатить штраф в IV2 фердинга
серебром). Schlüter, 86 и. 88, Register 122 mark silvers и. 123 verding — Cp. Goetz, Handelsverträge, 150; Бахрушин, 71, XXV.
185
для XIII в. фердинг совершенно спокойно рассматривать как часть серебряной марки.
К концу .XIII века появляются в русских текстах и определения к слову „серебро“. Правда, не в новгородских памятниках, а в текстах, имеющих в виду торговлю по 3. Двине. Вполне возможно даже, что такого рода определение серебра можно понять как некоторое противоположение доброкачественности новгородскому серебру.
В 1298 г. рижскими купцами была составлена жалобная грамота Михаилу Константиновичу Витебскому на незаконные действия его самого и на действия его брата:1 „Третью обиду, — пишут между прочим купцы—поведываем про тую дЬтину, что товаръ его былъ со разбойниковымъ товаромъ у клети. Как то поехал изъ Витебьску у Смольнескъ. Попустилъ же у разбойникове клети волкы жо овчины на 5 серебра“.2 Далее они пишут: „А у твоей волости ся то дЬяло. Товар взяли ту на 70 гривенъ серебра корного, и на 3 серебра“.3 Не знаю, можно ли на основании этого места видеть разницу в расценке, и что корное серебро другое, чем просто серебро. Но во всяком случае необходимо остановиться на обозначении „корное“. Уже Срезневский признал это выражение за прилагательное, но только А. А. Марков как нумизмат был в состоянии в одном из неопубликованных своих докладов в Археологическом обществе произвести его от русского слова корка и поставить его в связь с немецкими слитками, имеющими форму лепешек, часто загнутыми кверху и неровными по краям боками. Но, конечно, отмечая эти весовые немецкие марки, жалобщики вряд ли интересовались формой платежного средства: им важно было установить достоинство серебра. К Этому же времени, однако, в Германии появляются указания, что не только вес марок был различен, но что и проба в этих лепешках колебалась. Соучастники каждой денежной сделки считали нужным указать, в чистом или весовом серебре требуется расплата, и тогда писали — marca probati, meri, fini, recti, meriati, combusti, cocti, examinati, puri и т. n. argenti, или же в лигатурном, монетном, т. е. marca non probati, montani, nigri argenti.4 Итак, возможно предположить на основании этих жалоб, что в конце XIII в. в бассейне Западной Двины слово „серебро“ не всегда обозначало то чистое серебро в ходовом смысле этого слова, как это наблюдалось повсеместно еще в середине века.
В этих же самых жалобах мы встречаемся с наименованием платежной единицы, которая, сопоставленная со слитками, находимыми в Литве, Западной Руси и Прибалта йских странах, под¬
1 Goetz. Handelsverträge, 332—334
2 Напьерский. 26; Срезневский. Памятники древне-русского письма и л зыка, 240 (2).
3 Напьерский, 27; Срезневский, 241 (2).
4 Luschin, 181, Ns 11 и 12.
186
тверждает мое предположение о порче серебра в серебряных слитках этих областей. „И се ныне пятую обиду поведываемъ,— читаем мы дальше в жалобной грамоте рижан,—послали свое коне из Смоленска у Витебскъ, то ты, княжо, тые коне обизрелъ, и улю- билъ еси единого коня... И ты, княжо, давал еси на кони 10 изроевъ, а они (купцы) не взяли“. Тогда князь велел насильно взять облюбованного коня. „... И ныне мы ся тобе молимъ, как то отдай... конь, а любо 10 изроевъ, что еси самъ первое давалъ на кони. Или то не даси, ни коня, ни серебра, Герлахъ (хозяин коня) хочеть своего коня искати, како мога“. „А се еще шестую обиду поведывамъ про Ильбранта, что твои братъ тор- говалъ съ ним на 30 изроевъ: 17 изроев заплатилъ, а тринадъсять изроевъ не заплатилъ. И ныне, княжо, мы ся тебя молимъ: отдай Ильбранту товар“.1
В пятой и шестой обиде, нанесенной рижанам, расчет товаров идет так же, как и в первых пунктах, на серебро, что видно из слов: „Или того не даси, ни коня, ни серебра“. Серебро же это учитывалось в единицах, в 10 изроях. Равным образом и брат князя купил товара на 30 изроев, но уплатил только 17, а 13 изроев остался должен.
Издавая и комментируя интересный памятник, Срезневский оставил без объяснения новое денежное наименование. Я его произвожу от глагола „изрыть“. Как мы увидим ниже, в нумизматической части моего исследования, действительно в XIII и XIV вв. ходили слитки, которые подойдут к обозначению „изрой“.
Возвращаясь к духовной Климента, я считаю себя теперь в праве сказать, что денежный счет шел в этом завещании, подобно тому как и в других новгородских памятниках XIII в., на новгородское весовое серебро в гривнах серебра, и что под словом „серебро“ понимался несомненно только белый драгоценный металл, вероятнее всего в слитках определенной новгородской формы.
Малые же суммы рассчитывались, однако, и в духовной Климента по-прежнему в старой гривне, укрепившейся в деревне и находившейся еще в 1229 г. в Смоленске в прежнем соотношении к гривне серебра как 4:1.
Было бы очень ценно, если бы в данном случае было возможно воспользоваться дополнительной статьей к Русской Правде, которую Ключевский в своем курсе как-то назвал „бродячей“ и о которой я имел случай писать в связи с определением гривны злата в распространенной Русской Правде.2 В этой статье соотношение между гривной серебра и гривной кун устанавливается в пропорции 1:7х/2 — „а за гривну серебра полъ осми в гривнЪ“. Так как неизвестно время ее составления
1 Напьерский и Срезневский, там же.
2 Владимирский-Буданов, I, 84; Срезневский, Словарь, I, 590.
187
и неизвестно какие куны, т. е. монеты, имелись ею в виду, приходится и в этом случае не пользоваться ее данными, хотя и следует признать, что раз под кунами понимались пенязи, падение гривны кун — вещь вполне естественная.
Наименование гривны без всякого уточняющего пояснения употребляется в новгородских летописях не позже 1232 г., когда говорится о голоде в Пскове: „и купляху соль по 7 гривнЬ“,1 т. е. почти одновременно с последним для XIII в. летописным упоминанием о кунах в смысле денег.2 В северо-восточном памятнике, в постановлении Владимирского церковного собора 1274 г., гривна встречается и позже, где имеется следующий пункт: „да възмуть клирошане 7 гривенъ отъ поповь- ства и отъ дьяконьства отъ обоего“.3
В форме же marc cunen гривна кун встречается в течение всей второй половины века в немецких и латинских текстах, относящихся к истории Новгорода, а именно: в 1 редакции Новгородской скры, приурочиваемой исследователями к 60-м годам столетия;4 в проектах договоров 1268 и 1299 гг., написанных на латинском и немецком языках;5 наконец, и во второй редакции скры, составленной между 1295 и 1298 гг.6
Определить точнее, с какой целью употребляется выражение marc cunen, мне не удалось.7 Единственно, что возможно подчеркнуть, это то, что она употребляется в виде единицы меньшей, чем марка серебра, и что там, где она изредка встречается, она ставится в тесную связь с маркой серебра, как бы частью одной и той же денежной системы. Так, напр., невыход на обязательную для всех обитателей немецкого подворья сторожевую службу во дворе облагается штрафом в 1 марку кун; за такой же пропуск, но только в церкви, где сложены товары купцов, полагается заплатить 1 марку серебра.8
1 Новгородская I л. (1888), 240, 15.
2 См. выше, 179.
3 Памятники древне-русского канонического права, под. ред. В. Н. Бене-* шевича (1908), 92.
4 Der uns erhaltene Text der ältesten Schra fällt in die Jahre zwischen 1225 und 1229, vermutlich ziemlich nahe an das Jahr 1269; Goetz. Handelsgeschichte (1922), 47; Frensdorff. Statuarisches Recht der deutschen in Novgorod, 5—6. Abhandlungen der gel. Gesellschaft zu Göttingen (1886), 33, Schlüter, W. (1914), 8.
ß Goetz. Handelsverträge, 90—166.
6 Die zweite Redaktion der Schra ist verfasst, nachdem Lübeck durch die allseitige Annahme der Rostocker Konsenserklärung vor Wisby an die erste Stelle getreten war, also in den Jahren 1295 bis 1298 und zwar... in Lübeck selbst; Goetz, Handelsgeschichte, 60; Frensdorff, 30; Schlüter. Sitzungsberichte der g. estn. Gesellschaft (1910), 29.
7 Schlüter. Register 122 (2) u. 125 (1), Кя 7.
8 Welic man vorsimet dhe hofworde nachtes ove dages, he betere 1 marc cunen. We oc in dhere kerken slapen sal unde dhat versumet to rechter tit, dho betere 1 mark silveres.
Кто пропустит сторожевую службу во дворе, будь то ночью или днем, тот пусть заплатит штраф в одну марку кун; кто же несет сторожевую службу
188
Ёще отчетливее связаны обе единицы в статье о краже — проекта договора 1268 г. Немцы предполагают в своем проекте, написанном на латинском языке, чтобы за покражу товара, стоимостью не более ]/г марки кун, полагался штраф в 2 марки кун, за товар же, оцененный от * 1/2 марки кун до г/2 марки серебра, телесное наказание или штраф в 10 марок серебра.1
Помимо целой марки-гривны кун упоминается и ее половина.2 Факт, что ею и ее половиной расплачиваются не только в расчетах с русскими властями, напр. при таможенных сборах,3 но что немцы пользуются гривной кун и во внутренних своих расчетах, указывает на ее устойчивость и привычность на русской территории. За все время действия первой редакции скры и до составления второй никаких изменений в этой единице не наблюдается. Удивляет, конечно, только то обстоятельство, что если, согласно Смоленскому договору, marca cunen то же, что и гривна кун или пенязей, немцы не пользуются обычным для них термином марка денариев или пфеннигов.
Не раз делалась попытка установить соотношение между гривной кун и гривной серебра для времени после 1229 г., года составления Смоленского договора. Мне кажется, что можно искать разрешения этого вопроса трояким путем, не выходя в то же время за пределы XIII в: 1. Подыскивая текст, который что-либо говорил об отношении гривны кун к серебру или может быть и к частям марки серебра. 2. Стараясь установить на основании тех же текстов размеры фракций
в церкви (точно — должен спать в церкви) и не выполнит это в урочное время, пусть заплатит пеню в 1 марку серебра—скра, первая редакция, § 7. Schlüter, 62, При переводе пользовался диссертацией Андреевского И. Е. О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом, 1855.
1 Cum hospites in regno Nogardiensium et sub eorundem pace et protectione sunt, si res eorum furto subtracte fuerint et summa furti sit infra dimidiam mar- cam [kunen, reus se redimere poterit cum 2 marci kunen. Si vero supra predictam summam et intra dimidiam marcam argenti furtum commiserit, virgis decorietur et ad maxillam conteriabitur vel redimat se cum 10 marcis argenti.
Проект договора 1268 г., § 3 — Goetz, 98. Бахрушин, 64—68, III. Если в течение пребывания гостей в княжестве новгородском, и в то время как они Пользуются миром и покровительством новгородцев, у них будет украдено добро, стоимостью не свыше 1/2 марки кун, то уличенный может выкупить себя 2 марками кун. Если же (он) совершил воровство свыше названной суммы, но не более чем в V2 марки серебра, он подвергается наказанию розгами и клеймению на челюсти, либо откупает себя 10 марками серебра.
2 So we so bruwet mit sante Peteres holte, dhe geve ene halve marc cunen. Скра 1 ред. § 9a—Schlüter, 66. [Кто варит пиво на дровах (подворья) св. Петра,— тот должен заплатить Va марки кун.]
3 Cum autem hospites ... devenerint ad locum, qui dicitur Gestevelt, queli- bet navis onerata bonis theloneabit unam marcam cunen, navis onerata gravibus utpote carnibus, farina, siligine vel brasio theloneabit dimidiam marcam kunen.
Проект договора 1268 г., § 5, Goetz, 106 — Бахрушин 69, V. (Когда гости доедут до места, называемого Гостинополье, всякое нагруженное товарами судно облагается пошлиною в 1 марку [кун, судна [же], нагруженные мясом, мукой, пшеницей или солодом, облагаются V2 маркой кун.)
189
гривны, напр. куны. 3. Ища в летописных или других сведениях такое соотношение цен между продуктами, которые бы указывали на оценку гривны кун ее современниками. Последний путь мне кажется наименее верным, так как история цен становится возможной только при помощи точного установления денежных единиц в прошлом, а не наоборот. Однако как раз последний путь был наиболее популярен в среде исследователей истории русских денежных единиц.
В наиболее раннем по времени памятнике, а именно в скре цервой редакции (сер. XIII в.), имеется указание на соотношение между фердингом и маркой кун. Именно в § 9 имеется следующее указание: „Кто прибывает с зимним караваном в Неву на немецких судах, должен уплатить [в пользу подворья] св. Петра со ста марок один фердинг, хозяин же один фердинг за постой... Тот же, кто пребывает с летним, платит со 100 марок пол-фердинга,хозяин же за постой 1 марку кун“.1 Как будто бы в данном месте следовало бы ждать известного параллелизма: со 100 марок для зимнего гостя налог в 1 фердинг и за постой фердинг, с летнего гостя х/2 фердинга в обоих случаях; в таком случае 72 фердинга равны 1 марке кун. Так склонен рассуждать Шлютер, когда приводит параллельный текст третьей Новгородской скры, составленной около 1325 г.2 На основании толкуемого подобным образом текста марка—гривна кун равнялась бы в 60-х годах XIII столетия г/8 марки серебра и была бы наполовину меньше, чем гривна XII в. и Смоленского договора 1229 г.
Однако безоговорочно нельзя принять такого рода толкование текста. Можно предположить, что в третьей скре был изменен по существу текст обоих первых редакций и что марка кун как раз и представляла собою иную ценность в середине XIII в., чем в начале XIV в.3
Что какие-то изменения происходили в Новгородской гривне в XIII в., свидетельствует летопись под 1224 г.: „А Гюрги съ князи пойде къ Тържку, много им пакостивъ, възя у нихъ 7000 новую“.4 Что дело в данном случае идет о новой гривне, сомнения нет. К сожалению, — это наблюдалось и в XII в.5 — наши памятники в случае происшедших изменений в платежных единицах, отмечая новизну их, не считали нужным указывать, в чем состояло изменение. Трудно как будто бы предположить, что
1 We so wintervare comet in dhe Nu mit coggen, dhe sol scheten sante Petere von C marc I verdhinc und enen verdhinc dhe mesterman von hushure... We somervarth comet in dhe Nu, dhe sol scheten Petere von C marc enen halven verdhinc, van hushure dhe mesterman 1 marc cunen. Schlüter, 64.
2 We so iantvare es, de seal scheten half scot unde halven verdinc von hushure § 9, Schlüter, 65 и Register, 125, Mark kunen.
3 В Западной Европе подобные явления повсеместны.
4 Новгородская I л. (1888), 221,14, под 6732 г.
5 Ср. Святославов устав 1137 г.; Владимирский-Буданов, I, 218, и Мирный договор 1189—1199 гг.; там же, 93—98.
190
в 1224 г. все еще называли новой ту же гривну, которая была новой в Святославовом уставе 1137 г. и в Мирном договоре 1189— 1199 гг., т. е. гривна серебряная. Правда, с 1230 г. в новгородских летописях вовсе исчезают термины гривна и куны, и всюду расчет заменяется серебром и гривной серебра. Наконец, возможно, что, говоря о новой гривне, летопись имела в виду новую форму слитков.
Итак, можно сказать, что снижение гривны кун могло иметь место, но что прямых и однозначущих данных у нас для этого в памятниках XIII в. пока нет.
Далее возможно усмотреть цену гривны кун при сопоставлении ее с ее фракциями, поскольку последние встречаются в наших памятниках. Духовная Климента в этом отношении весьма консервативна. Она считает на ногаты и на резаны, т. е. как это делалось в статьях о приплоде скота в Карамзин- ском списке распространенной Русской Правды. Там счет шел на ногаты, т. е. диргемы, и на резаны, т. е. денарии. (Таким было словоупотребление и во II редакции Правды, в Правде Ярославской.)
В летописях ногата в XIII в. вовсе не встречается, в то время как куна упоминается под 1228 и 1230 гг. в связи с ценами на хлеб.1 Из ее соотношений с другими единицами, на мой взгляд, ничего вывести нельзя. Впрочем, к разбору этих летописных сведений я перейду ниже, когда буду говорить о ценах.
В юридических памятниках Новгорода и Смоленска, как русских, так и иностранных, куна встречается не раз.2 Так, читаем, напр., в договоре 1270 г. Новгорода с великим князем Тверским: „а дворянамъ твоимъ, како пошло погонъ имати отъ князя по 5 кунъ, а отъ тивуна по 2 куне".3 Раз даже упоминается куна в скре, т. е. в памятнике, который предназначен для гостей, проживающих в Новгороде.4
Самая малая гривенная единица, ценность которой и для XI и XII вв. мне в прежнем моем исследовании установить не удалось, называется, как и в XII в., векшей и упоминается в договорных грамотах Новгорода и Твери,5 а также в Смолен* ском договоре 1229 г.6
1 Под 1228/6736 г.: „И отъ тамъ ста дороговь: купляху хлЪбъ по 2 кунЪ. Новгор. л. 1 (1888), 226, 3. — То же Новгородская IV (1915), 205, 128 л. — Под 1230/6738 г.: „Изби мразъ я оттолЪ горе уставися велико: почахомъ купити хлЪб по 8 кунъ“. Новгородская I л.. 234, 19: IV, 210.
^ Goetz. Handelsverträge, 80, § 4, в договоре 1259 г.; Goetz, 108, ИЗ — 114, § 5а и § 9, проекты договоров 1268 г. 1269 гг.; Бахрушин, 65, V и IX; Goetz, 282 и 283, § 27, 29 (список Е), § 31, Смоленский договор 1229; Вл.-Буд„ 1, 105—106.
3 Бахрушин, 14.
4 I и II ред. скры; Schlüter, 66.
5 Под 1265 и 1270 гг. — Бахрушин, 12—14.
0 §§ 28 и 30 — Goetz, 283; Напьерский, 435, 25.
191
Остановлюсь сперва на куне как на основной и наиболее часто встречающейся единице, которую мы имеем право называть также пфеннигом-пенязем. Как будто бы решающим текстом в этом отношении является статья 9 в обоих проектах договоров 1268 и 1269 гг. В латинском тексте читаем: „Когда гости прибудут в Новгород, подводы для перевозки груза гостей должны быть наготове и за каждую ладью (с груза каждой ладьи) должно быть уплачено 15 кун... Готландцы должны заплатить за перевозку своих грузов 10 кун. Уезжая с немецкого подворья, гости должны уплатить за перевоз на ладье полмарки кун.1 Немецкий текст 1269 г., составленный русской стороной короче и яснее, по смыслу своему тождествен. Извозчики в Новгороде должны брать с (груза) каждой ладьи, перевозимого с берега на немецкий двор, по 15 кун и на готский двор 10 кун, с отвозимого — по 1/2 марки кун.2
Исходя из соображения, что путь от Волхова до подворья такой же длинный, как и от подворья к Волхову, можно было бы сделать вывод о равенстве между 15 кунами и 1/2 марки кун. На такой позиции стоит Никитский,3 однако встретил возражение со стороны Лаппо-Данилевского.4 Во-первых, удивляет сознательное упоминание гривны кун в обоих проектах, когда было проще выразить плату за отвоз грузов в 15 кунах. Во-вторых, мы не имеем права рассматривать оплату за услуги, оказываемые русскими немцам и нашедшую свое место в специальной статье договора, как простую расценку стоимости провоза. Одинаково как установление оплаты лоцманам, так и извозчикам ее следует рассматривать как монополию Новгорода, в основе которой лежали общие соображения местной экономической политики. Параллелью может служить, напрв> оплата за взвешивание серебра согласно Смолен¬
1 Cum hospites veniunt in Nogardiam, debent vehicula esse parata ad de- ferendas res hospitum et cuilibet lodie dabuntor 15 cunen; Gotenso 10 cunas dabunt pro rebus suis deferendis. Hospites cum exierint a curia Theutonicorum, dabunt lodiis in de (s) censu dimidiam marcam cunen. Goetz, 113—114: Бахрушин 66, IX.
2 Dhe vorlude tote Nogarden scholen nemen von jewelker lodien up tote Nogarden to vorende von deme strande in dhe Dudesch (en) hof 15 cunen unde in dher Goten hof 10 cunen, von dher utforinge to halver mark cunen von dher lodien. Там же.
3 Никитский. Очерки экономической истории Великого Новгорода. „В немецких договорах и грамотах неоднократно встречается упоминание о 15 кунах и полугривне кун рядом, обстоятельство, показывающее, что это были величины одинаковые. Так, например, плата за провоз клади с берега Волхова в Немецкий двор определена в договоре 1269 года в 15 кун, в Готский в 10, а в то же время сказано, что плата за вывоз составляла из немецкого двора не 15 кун, а как следует ожидать при равенстве 15 кун с полугривной кун — полугривну кун“. Отмечу, что указание Никитского на неоднократное упоминание 15 кун и полугривны рядом, мне кажется абсолютно неверным. Кроме приведенного случая я ни одного не знаю, во всяком случае не для XIII века, что для меня только и важно.
4 Лаппо-Данилевский, ЖМНПр., 1895, декабрь, 378.
192
скому договору 1229 г.: „Или которым Нимчичь купить съсудъ серебрьный, дати ему отъ гривны куна въсчую. — Или продасть, не дати ему ни вЬкше“.1 Значит, не труд весовщика оценивался властями, а поощрялся ввоз серебра снятием с ввозимого серебра накладных расходов. Вполне возможно, что и в Новгороде соотношение куны и гривны кун осталось старым, т. е. в V2 гривны было 25 кун, а не 15, и что данная статья просто поощряет ввоз товаров в Новгород, а не вывоз, после того как они были уже оплаченынемецким гостем. Впрочем, признание уменьшения количества кун, содержимых гривной, как то хочет доказать Никитский, нисколько не облегчит нам разрешения вопроса о стоимости гривны.
Не удается это сделать и на основании сравнения оплаты весовщика при взвешивании товаров, о чем имеются данные в различных договорах. Смоленский договор 1229 г., который ведет свой счет на гривну XII в., устанавливает плату за взвешивание драгоценных металлов и воска, причем в отношении взвешиваемого сосуда из серебра ставки расходятся в различных рукописях. Сравнивать смоленскую расценку с новгородской не приходится, так как в новгородских памятниках определяется оплата, взимаемая со всякого товара, что при сравнении только может запутать дело. Два новгородских договора имеют в виду взвешивание капи „всякого весного товара“, причем договор 1259 г. определяет за это оплату в 2 куны.2 Проект же немцев на немецком языке 9 шин, т. е. новую, неизвестную единицу.3 Ниже помещу свои соображения насчет слова шин в XIII в.; но так как я и там не прихожу к положительному выводу, то здесь воздерживаюсь от каких-либо конъектур. Немцы могли предположить в 1268 г. поправки к договору 1259 г., но к чему они клонились, мы из текста усмотреть не в состоянии.4
Столь же отрицательно я отношусь к попытке целого ряда ученых, начиная с Карамзина, использовать для установления стоимости гривны свидетельства различных летописей о ценах на пищевые продукты в голодные годы от 1214 по 1230 г. Укажу между прочим, что эти-то сведения и навели русскую нумизматику на мысль о постоянном падении гривны кун, что, как я старался доказать выше, я вовсе не склонен оспаривать, но по совершенно другим соображениям. Последние высказывал у нас один Каченовский, а именно, что, будучи гривной монетной, гривна кун падала в цене сравнительно с гривной серебряной по мере увеличения лигатуры в чеканенной монете. Сложность заключается лишь в том, чтобы определить точно
1 Goetz, 283, § 29 (список Е); Напьерский, 437, № 26.
2 Goetz, 80; Бахрушин, 64, И.
3 Goetz, 150, § 22.
4 Goetz, 154. Иначе Schlüter, Register, 145 и 126, который впрочем пользуется данными более позднего времени.
13 Проблемы источниковедения
193
момент этого падения, что чрезвычайно затруднительно, если не вовсе невозможно, при скудости наших данных в XIII в.
Однако внимательный разбор летописных сведений нужен уже потому, чтобы отдать себе ясный отчет в неправильности приемов прежних исследователей и оградить себя от возвращения к старым ошибкам.
Привожу все варианты летописных данных по всем летописям:
1. 1214 г. Кадь ржи 30 гривен
2. 1215 г. Кадь ржи 10 гривен, (кадь) овса 3 гривны, репы воз 2 гривны.
3. 1215 г. То же.
4. 1215 г. (Кадь) ржи 10 гривен, (кадь) овса 1 гривна.
5. 1228 г. Хлеб 2 куны, кадь ржи 3 гривны, (кадь) пшеницы 5 гривен, (кадь) пшена
7 гривен.
6. 1228 г. То же.
7. 1229 г. Кадь ржи 4 гривны новгородские.
8. 1230 г. Хлеб 8 кун, кадь ржи 20 гривен (во дворах 25 гривен), (кадь) пшеницы 40 гривен, (кадь) пшена
8 гривен, (кадь) овса 13 гривен.
9. 1230 г. Хлеб 1 гривна и побольше, 74 кади ржи гривна серебра.
10. 1230 г. Кадь ржи 40 гривен.
11. 1230 г. Кадь ржи 40 гривен, (кадь) овса 5 гривен.
12. 1230 г. Хлеб 8 кун, кадь ржи 30 гривен, (кадь) пшеницы 50 гривен,(кадь) пшена 8 гривен, (кадь) овса 11 гривен.
13. 1230 г. Хлеб по полугривне, */4 кади ржи по 7 гривен и побольше.
14. 1230 г. Кадь ржи по 40 гривен, а (кадь) овса 5 гривен.
Новгор. II л. (1879), 16. Новгор. I л. (1888), 198, 11.
Новгор. IV л. (1915), 185. Никоновская л.
Новгор. I. л., 226, 3 и 4.
Новгор. IV л., 205, 128. Никоновская л.
Новгор. I л., 234, 19 и 21.
Новгор. I л., 238, 13.
Новгор. II л, 18.
Новгор. III л. (1879), 203.
Новгор. IV л., 210.
Новгор. IV л., 211 Летопись Авраамки (1889), 50.
Из этих летописных данных, с точки зрения нумизматической, я бы исключил Никоновскую летопись, так как к сведению
194
о цене кади ржи в 4 гривны (1229 г.) прибавлено: новгородские. В XIII в. мы никогда не встречали в русских памятниках такого рода указание, а так как оно было весьма в ходу в XVI в., то чистоту этого текста позволено будет заподозрить.
Необходится и в других летописях без странностей; так, под 1228 г.—уменя №№ 5иб—кадь пшена стоит больше, чем кадь пшеницы, вещь довольно маловероятная, но, конечно, допустимая если предположить неурожай пшена на русском Востоке и обильный подвоз пшеницы из-за моря.
Самая низкая из отмеченных цен на рожь — 3 гривны за кадь, наивысшая — 40 гривен. Особенно разнообразны цены в 1230 г., г^ичем они отличаются не только по летописям, но имеются таковые внутри одной и той же летописи, так как, очевидно, отмечены разные стадии возрастания цен. Наблюдается это как в Новгородской I л., так и в IV л. Передается также интересная подробность, что во дворах продавалась рожь несколько дороже, чем были общие цены, — во дворах за 25 гривен кадь ржи, а так — 20 гривен.
Приведу краткую сводку цен на хлеб, рожь и овес в 1230 г., чтобы еще раз подчеркнуть разнообразие цен.
Хлеб: 8 кун, полгривны, гривна.
Кадь ржи: 20 гривен, 25 гр., 28 гр., 30 гр., 40 гр.
Кадь овса: 5 гривен, 11 гр., 13 гр.
Такое разнообразие сведений с ясностью доказывает, что, очевидно, целый ряд данных — чрезвычайно разнообразного происхождения и что ими зафиксированы самые разнообразные стадии голода. Из этого наблюдения можно сделать только один вывод, что пользоваться данными различных летописей недопустимо, что, однако, делалось не одним ученым и было, впрочем, отмечено как научно невозможный прием уже Погодиным.1 Столь же мало дает и сравнение цены хлеба и кади ржи с точки зрения их пропорциональности. Привожу с этой целью сведения №№ 5 и 6 за 1228 г. и №№ 8 и 12 за 1230 г., почерпнутые из тех же летописей: в одном случае хлеб стоил 2 куны и кадь ржи 3 гривны, в другом случае — 8 кун и 20 гривен, в третьем случае — 8 кун и 30 гривен. Значит,получаются пропорции, как 2х:3у, 8 л:: 20#, 8 л:: 30#, в которых надо каждый раз предположить, что количество кун в гривне менялось, чтобы найти правильное соотношение между ценами на рожь и хлеб.2 Или же надо вместе с Прозоровским предположить, что хлебы были разные по своим размерам; при таком предположении, конечно, выйдут всякие подсчеты.3
Однако как-будто бы имеется еще один возможный выход — сравнить цены на рожь в одной и той же летописи за один и
1 Погодин. Лекции и исследования, VII, 328.
2 Ланге, Исследования об уголовном праве Русской Правды (1865), 46.
3 Прозоровский. Мера и вес в России (1865), 187.
13*
195
ют же год. Беру (№№ 8 и 9) данные из Новгородской I летописи, зафиксировавшей разные стадии дороговизны: в 1230 г., вследствие невиданных морозов, вздорожал хлеб. Вначале кадь ржи стоила 20 гривен, а хлеб 8 кун. Затем, очевидно, цены стали повышаться, кадь ржи стала стоить 4 гривны серебра, а хлеб гривну (кун). Основываясь на прежних своих исследованиях, я приравниваю 50 кун одной гривне (кун) и одну гривну (кун) 3/4 гривне серебра. Итак, хлеб стал стоить вместо 8 кун 50 кун, а кадь ржи вместо 20 гривен (кун) 16 гривен (кун). Последнее предположение явная несуразность, и из этого можно выйти лишь тем путем, что предположить предварительное падение ценности гривны кун сравнительно с гривной серебра. Например, можно предположить, что новгородская гривна кун в 1229 г. равнялась не одной четвертой, как смоленская в том же году или как новгородская согласно договору 1189—1199 гг., а одной восьмой, тогда кадь ржи стоила бы в начале 1230 гг. 20 гривен, а в конце 32 гривны. Отмечу, что такую же пропорцию предполагает для середины века и Шлютер.1
Такое доверие к летописным сведениям, однако, было бы лишь в том случае обосновано, если бы не было параллельного места из Новгородской IV летописи, отмеченного мною под №№ 12 и 13. Там так же, как и в I Новгородской л., указываются цены, относящиеся к какому-то более раннему периоду и затем более позднему. Сперва хлеб стоил 8 кун, кадь ржи 30 гривен, затем хлеб стоил полгривны, а 3/* кади ржи по 7 гривен и побольше, т. е. кадь ржи стоила 28 гривен. Опять-таки с явным вздорожанием хлеба — некоторое падение цен на рожь, что вовсе не согласуется со всем тоном летописца, рисующего прогрессирующий ужас голода.
Все эти соображения заставляют меня остаться при прежних моих убеждениях, что падение ценности гривны кун в XIII в. вещь не только возможная, но и вероятная, но что говорить нам об этом с уверенностью имеющиеся в нашем распоряжении письменные сведения этого столетия пока еще права не дают.
Следует здесь же обратить ваимание на упорное употребление в Смоленском договоре пояснения „смоленский“, когда речь идет о ногате и куне: „дати ногату смоленскую“, „дати куну смоленскую“. К сожалению, договор не указывает, какие другие единицы он имел в виду, когда настаивал в расплате смоленскими платежными знаками. Имеются документальные данные, которые указывают на то, что Рига, ближайший крупный западный сосед Смоленска, уже в 1211 г. не считал 4 марки пфеннигов на серебряную марку, а 43/2. Но из этого мы ничего заключить для Новгорода еще не можем.
Кроме привычных нам из памятников письменности XII в. денежных наименований, мы в иностранных текстах встречаемся
1 Schlüter. Register, 125,
196
изредка и с новыми: это — Марк говеде (marc hovede), capita martarorum, шин (shin) и balch. Остановимся сперва на марке говеде, которая упоминается в I и II редакциях скры в статье 9а* и гласит: „Если кто топит воск в котле (подворья) св. Петра, пусть заплатит 2 марки говеде“.1 2 Статья эта носит тот же хозяйственный характер, как и уплата за варку пива в немецком подворье, за что полагалось уплатить х/2 марки кун.3 Нижненемецкое слово hovet, множественное число которого применено в данном случае, обозначает голову (Haupt), так что, переводя дословно наш текст, следовало бы перевести: пусть заплатит 2 марки голов. В других средневековых немецких текстах такого рода денежное наименование не встречается; кроме того, необходимо заметить, что слово марка в это время всегда только обозначает весовую или счетную единицу металла. Стараясь объяснить это странное наименование, его приходится либо поставить в связь с кунами, которые почему-то здесь могут быть названы головками, либо с многочисленными, по сю пору часто не разгаданными, шуточными прозвищами денежных единиц, которые давались последним в прежние времена и, равным образом, возможны теперь.3
Сходным кажется и другое наименование, встречающееся в трех статьях немецкого договора 1268 г., а именно, capita martarorum— головы куниц, которые ставились русскими исследователями в связь с более поздним русским термином куньи мордки. Capita martarorum применяются к расплате с русскими лоцманами в тех статьях немецкого проекта, которые либо вовсе выпущены в проекте 1269 г. русской стороны, либо имеют здесь только ссылку на старину, на „пошлину“, без указаний на размер оплаты. Эти куньи мордки употребляются совместно с кунами, причем лоцману полагается за провоз ладьи через Волховские пороги 8 мордок, чашка масла и пара материи, однако вместо последних он может получить по 3 куньи мордки, а за причитающиеся ему равным образом хлебы по 2 куны.4 Из та-
1 So welic man was smellet mit sante Peteres ketele, dhe geve II marc, hovede. Скра I и II ред., § 9a; Schlüter, 66. [Если кто топит воск в котле (подворья) св. Петра, тот пусть заплатит 2 марки говеде.1
2 Ср. 189, прим. 2.
3 Schlüter предпочитает другую конъектуру, так как, помимо упоминания marc hovede в рукописях I и II редакций, этот термин встречается и в III редакции, а именно в рижской рукописи: wofür aber... auch marthovede gelesen werden kann. Für die Richtigkeit der Form marthovede (= Marderköpfe) sprechen die gleichfalls als Wertzeichen verwendeten capita martarorum im Vertrage von 1268 und die in den Handelsrechnungen des deutschen Ordens... als in Novgorod übliche Scheidemünze erwähnten marthowpte.“ Насколько основательна ссылка Шлютера на словоупотребление в Данциге в XIV и XV вв., настолько опасным кажется мне заподозрить правильность целого ряда рукописей I, II и III ред. скры, где стоит marc hovede.
4 Это § 4, 5а и 22а, Goetz, 102—103, 108 и 157 — Бахрушин, 65, IV, V и 68, XXII. Приведу полностю наиболее интересный для нас § 5а: Quando hos- pites estivalts venerint torrentem, qui dicitur vorsch, statim absque mora vecto-
197
кого сопоставления мордок и кун, на мой взгляд, как будто бы вытекает, что куна и мордка величины чрезвычайно отличные друг от друга и что ценность этих мордок может быть с большим вероятием отнесена к фракциям серебряной гривны, нежели к гривне кун.* 1 Как capita martarorum, так и наименование шин встречаются в проекте договора 1268 г. немецкой стороны в ст. 22, которая гласит следующее: „Товары,
которые привозит (гость), должны быть взвешены на немецком подворьье на весах, подобно тому, как они взвешивались ранее в весовой палате, и весовщику полагается получить 9 шин за капь. Товары, которые гость покупает у русского, русский должен представить на весы без расходов для гостя, но гость обязан уплатить весовщику 9 шин за капь, не более“.2 Слово schin значит кожа, преимущественно взятая с головы и которая сходит чешуйками.3 Как все вышеназванные новые обозначения денег, шин также не встречается в чисто немецком обиходе и лишь гораздо позже нашего памятника, между 1457 и 1460 гг., мы встречаемся с простонародным обозначением скверных пфеннигов — Schinderlinge— в Австрии. Значительно позже применялось в Германии для мелкой, очень недоброкачественной монеты наименование Flitter — рыбья чешуйка. Так как в данном памятнике шин употребляется не только для немцев, но и для русских, то приходится и в данном случае предположить, что мы имеем дело с каким-то переводом с русского. Наши ученые были склонны понимать под словом шин векшу, так как 9 шин платилось весовщику за взвешивание капи, подобно тому, как согласно договору 1259 г. он получал в Новгороде 2 куны.4 В Смоленском договоре, как мною уже не раз приводилось, за взвешивание драгоценных товаров полагалась весовщику то ногата, то куна, то даже 2 векши.5 Последняя продолжала встречаться в чисто русских актах, как, напр., в дого-
res conducent eos ad tabernam piscatorum, quo dum parveniunt quelibet iodia dabit vectoribus 4 panes et unam scutelam buteri. Si panes habere noluerint, da- buntur eis pro quolibet pane due cunen et pro butiro 3 capita martarorum. Cuili- bet vectori dabuntur 8 capita martarorum, et unam par maparum vel loco mapa- rum 3 capita martarorum. (Когда летние гости доберутся до быстрины, которая называется порогом, их должны тотчас же без промедления провести к харчевне рыбаков; когда придут туда, каждая ладья должна дать лоцманам 4 хлеба и чашку масла; если они не пожелают получить хлеба, им должны дать за каждый хлеб 2 куны и за масло 3 куньи мордки. Каждому лоцману должны быть даны 8 куньих мордки и пара материи или вместо материи 3 куньи мордки.)
1 Ищущий объяснений для слова marc hovede при помощи marthovede и capita martarotum Schlüter должен признать в Register, 125: In der bekannten Stelle des Vertrages Novgorods vom Jahre 1268 scheint freilich durch die gleichzeitige „Berechnung von Lebensmitteln nach kunen und «capita martarorum» ein Unterschied zwischen Кипел und Marthovden angedeutet zu sein.
2 Goetz. Handelsverträge, 150—151; Бахрушин 67, XX.
3 Grimm Wörterbuch (1899), № 9, Schind; Falk und Torp. Deutsch-norve- gisches ethymologisches Wörterbuch. Skind.
4 Андреевский переводит schin — векша, 34, 106.
5 Goetz. Handelsverträge, 282, 3 Напьерский, 435, 25.
198
х Новгорода с тверскими князьями 1265 и 1270 rr.t В векшах расплачивались за мыто „отъ лодье, отъ воза, и отъ лну, и отъ хмелна короба“. Слова шин, марка шин употребляются немцами в их сношениях с русскими и для подсчета русских единиц в XV в. Несомненно, однородной всем этим единицам является наименование balch, которое встречается в ст. 3 всех трех редакций Новгородской скры. Согласно этой статье, сухопутный гость обязан уплатить половинный сбор с капитала и 1 марку кун за наем помещения и шкурку с лошади за каждый поезд.1 2 Слово Balg сохранилось по сей день в немецком языке и обозначает шкуру животного.
III. Вещественные памятники денежного обращения
XIII в.
■т
Результаты исследования памятников письменности XIII в» дали в отношении денежного счета двойственную картину. С одной стороны, получилось полное подтверждение правильности выводов, сделанных в отношении XII в. Имеется счет на серебро Новгородского веса, вероятно в виде слитков тоже новгородской формы. В крепком соотношении к этой слитковой системе стоит гривна кун, некоторые фракции которой, как ногата, куна, резана и векша, продолжают существовать. Памятник XIII в. подтверждает мой прежний вывод, что под гривной кун следует понимать монетную, счетную гривну, гривну пенязей. Итак, в Новгороде, где за отсутствием хорошей монеты пользуются в торговых сделках весовым серебром, причем марка монет — денариев включается в эту же весовую систему с меняющейся ценою, смотря по достоинству своего серебра. Для условий рижской торговли этот момент особенно подчеркивает Гильдебранд, издатель Рижской долговой книги. Расплата, и вследствие этого и расчет, шел всегда в серебре, а марка пфеннигов играла лишь роль счетной единицы в качестве части — фракции серебряной марки.3 Так, напр., 4г12 монетных марки Риги в 1211 г. равнялись одной серебряной марке.4
1 Бахрушин, 12 и 14.
2 Schlüter, 64. Ср. Андреевский, 54, и исправление у Энгельмана в„Отеч. Записках“ (1855), том С, стр. 22.
3 Очень важное указание. Es geht daraus hervor, dass marca in denarii3 oder numero denariom nur eine genauere Bezeichnung der marca argenti numero denariorum ist und unter derselben ebenfalls (in gemünztem Gelde zu unterscheidende) Mark Rigischen Silbers verstanden werden muss. Hildebrand. Das Rigische Schuldbuch (1872), XLVI. И далее XLVIII: Da über die Rigische Prägung jener Periode ein völliges Dunkel herrscht, das, so lange nicht gleichzeitig Münzen aufgefunden, auch schwerlich ganz aufgehellt werden wird, sind wir bei Bestimmung des Wertes des geprägten Geldes ausschliesslich auf die eben mitgeteilten, denselben doch nur annähernd kennzeichnenden Daten angewiesen.
4 In moneta quatuor marcae et dimidia denariorum marcam argenti Ponderabunt Gutlensum. Bunge, Liv-Est und Curländisches Urkundenbuch, 27 XX (7, JVfe 2) без года. Cp. Schlüter. Register, стр. 125.
199
С другой же стороны, немецкие и латинские памятники письменности, имеющие отношение к истории Новгорода, вводят четыре новых наименования: марка говеде, capita martarorum, шин и balch, которые не являются точным переводом русских наименований, привычных в предыдущие века, и лишь с натяжкой могут совпадать с ними, как шин и balch с векшей и шаге hovede с маркой — гривной кун. Capita martarorum, повидимому, больше, чем фракции кунной гривны, если принимать в расчет сочетание их в одних и тех же статьях с куной. Все эти новые наименования возрождают в нашем представлении старые теории о существовании в древней русской денежной системе мехового обращения, хотя в то же время мало согласуются с понятиями определенных мехов, так как слова „головы кун“ и „шкура“ лишь весьма отдаленно напоминают нам об охотничьем хозяйстве.
Надо сознаться, что насколько ясно в настоящее время для нумизмата употребление понятия „гривна серебра“ и ее разновидностей, настолько трудно добиться для XIII в. того, чтобы система счетной гривны и новые денежные наименования вполне удовлетворительно совпали с реальными денежными единицами. Может быть мешает этому наше слишком конкретное представление о платежных единицах, в то время как прежде меновые отношения были чрезвычайно развиты, и, кроме того, население удовлетворялось значительно чаще счетными единицами.
Дело в том, что до нас не дошли — ив этом отношении для XIII в. судьбу Руси разделяет вся территория Ливонского ордена — какие-либо монеты того времени. Своей монеты русские не чеканили, иноземная же монета не встречается ни в наших кладах, ни в раскопочном материале. В отношении западноевропейских денариев это явление вполне понятно. Они были настолько разнообразны как с внешней стороны, так и в отношении количества и качества содержимого ими металла, что чужому нельзя было их брать без весьма основательного опасения быть жестоко обманутым. Еще более понятно, что при их низкой пробе феодальные монеты были вовсе непригодны для тезауризации. Выпускаемая во второй половине XIII в. золотоордынская монета в глубь русской земли также не заходила. Отсутствие мелких единиц в изучаемом нумизматическом материале заставляет нас поэтому удовлетворяться более или менее удачными гипотезами. К последним издавна принадлежит меховая теория, очень, впрочем, мало критическая и выдержанная. Но и она представляется мне весьма малоудачным выходом из нашего затруднительного положения. Вс-первых, мы ни разу в наших памятниках не встречаемся при упоминании денежных единиц с обычной счетной единицей меха — с сорочкой. Во-вторых, остается совершенно непонятным, зачем бы русские брали у иностранцев при мелких расчетах, — а только о таковых, судя по памятникам, и может быть речь — отдель-
200
ныв шкурки в оплату за свои услуги, в то время когда они жаждали иностранных товаров и серебра и к&гда шкурки были все же товаром деликатным и чрезвычайно разнообразным, ко- торый сбывался с рук не так просто, как, напр., монета.
Думаю, что остается только предположить, что счетная гривна считалась и в ХШ в. за четвертую часть гривны серебра и рассматривалась, подобно своим фракциям, как счетная единица, содержавшая несколько более 49 г монетного серебра. Немцы же называли ее русским именем потому, что она в сравнении с их марками пфеннигов была более устойчивым понятием. Фракции же ее либо все же иногда появлялись в виде реально платимых пфеннигов XI в., пережив несколько веков в земле или в укромных уголках, либо также были,как их сумма в 50 единиц, счетными понятиями, имевшими в представлении населения свой серебряный стандарт, т. е. ногата 2.46 г, — куна резана 0.98 г, векша, может быть, 0.48 г. Отмечу здесь же, что, как мы увидим это ниже, сохранение дробных мелких единиц серебра в представлении населения было явлением далеко не лишним, так как вес реальных серебряных слитков, а не абстрактной гривны серебра, был далеко неодинаков и требовал поэтому корректива.
Что же касается немецких новых прозвищ, то ничего не мешает нам признать шин и Balch за русскую векшу, a capita martarorum искать в системе гривны серебра в качестве прозвища для того или иного слитка.
Гривна серебра является в натуре в виде серебряных слитков. В XII в. ходили расплющенные слитки со средним весом в 197 г. Район распространения их был ограничен новгородскими и княжескими западнорусскими землями, кончая на юге Черниговской областью.1 На смену им приходят слитки палочками, район находок которых чрезвычайно обширен.2 Он охватывает всю бывшую европейскую Россию за исключением Финляндии и собственной Польши, и крайний Север. Найдены были эти слитки даже в Херсонесе3; равным образом из б. Тобольской губернии известен клад таковых.4 Вес этих палочек в среднем тот же, как и вес расплющенных, т. е. 197 г. Среди очень большого количества этих слитков следует различать две группы: одни из них длинные, с несколько расширяющимися концами и заметными углублениями в них; размер этих длинных слитков колеблется между 207—138 мм. До сей поры эти слитки не находились с золотоордынскими монетами XIV в., изредка же с киевскими гривнами5 и даже с расплющенными слитками.6 Другая группа
1 Bauer, Silber ujid Goldbarrenil,lll (35).
2 Там же, 61 (45) и 96 (80).
3 Там же, 63 (47) и табл. Ill, 111 L.
4 Там же, 71 (55), № 145.
5 Там, же 63 (47), № 110 и 64 (48), Jsfc 116.
6 Там же, 62 (46), № 109.
201
состоит из коротких, размер которых колеблется между 145—107 мм. Они имеют более высокую спинку и желобок в центре слитка и встречаются в кладах совместно с вышеназванными золотоордынскими монетами. Последнее обстоятельство дает мне право считать длинные слитки более ранними.1 Правильность такого вывода подтверждается нахождением длинного слитка в местечке Ментак в Эстонии совместно с несколькими немецкими монетами XII и XIII вв.,2 время выпуска которых колеблется между 1151 и 1261 гг. Размер Ментакского слитка в 155 мм заставляет предположить, что более длинные, как слитки из Твери и из Киева, найденные близ Михайловского монастыря, относятся к более раннему времени, что полностью подтверждается совместной их находкой с большим количеством киевских гривен. Это обстоятельство позволяет нам отнести наиболее длинные слитки к первой четверти XIII в.
Давно уже русские слитки палочками получили в нумизматике наименование новгородских гривен. На мой взгляд, нет никаких оснований сомневаться в правильности такого наименования, тем более что серебро на Руси безусловно получалось через ганзейских купцов и что они сами, правда лишь в XIV в., пишут о stücke silvers, которыми расплачиваются с русскими. Интересное подтверждение хождению серебряных слитков в северо-западной Руси можно найти на одной иконе, относимой всеми исследователями к XIII в. Художник принадлежит к новгородской школе иконописцев. На ней изображен св. Георгий, раздающий свое имение нищим. В руке у него пучок слитков.3 В небольшом количестве в наших кладах встречаются и половинки этих гривен.4 Но, конечно, они недостаточно легкие, чтобы наглядно иллюстрировать нам гривну кун и ее фракции. В то же время и длинные слитки, очень примитивно вылитые, далеко не равные по своему весу. Так, напр., в Тверском кладе вес отдельных слитков колебался от 203.11 до 184.88 г., вес херсонесских от 196.75 до 187.37, вес пустополских от 225 до 196.10. Нельзя себе представить, что при тогдашней дороговизне серебра при расплате разница эта забывалась. Конечно, она должна была приниматься в расчет и к основному нормальному среднему весу в 197 г прибавляли или от него убавляли привычные всем деления в 2.46—0.98—0.46 г, т. е. вес ногат, или кун, или резан, или векш. Может быть, что собственник, получивший такой слиток, отмечал царапинами количество лишних или недостающих в слитке ногат, кун или векш, хотя, к сожалению, нанесенные в свое время и дошедшие до нас царапины на слитках
1 Bauer. Silber und Goldbarren, 76 (60).
2 Там «e, 63 (47), № 114.
3 Там же, 62 (46) и табл. IV, справа внизу.
* Там же, 78 (62), Кв 166—169; табл. III, Кв 166 и № 168 А.
202
из самых различных кладов пока что не поддаются такой рас- шифоовке. Очень возможно, что и само слово рубль, которым стали в XIV в. в Новгороде называть такой слиток, происходит от обычая делать эти нарубки, так же как украинское слово карбованец происходит от глагола кербувати, немецкого корня kerben (die Kerbe, нарезка), делать нарезки.
В нескольких словах остановлюсь и на других формах серебра, которые пока что своего отражения не нашли в новгородской жизни, зато встречались в районе 3. Двины. При упоминании гривны корного серебра имели в виду круглые куски серебра. Они шли уже в готовой форме из Германии и русским напоминали корки. В наших кладах они встречаются чрезвычайно редко; в Эрмитаже таковые хранятся из двух кладов: из Борщовского клада Волынской губернии и из Ментака в нынешней Эстонии.1
В пределах той же Эстонии, Латвии, Литвы и всей Западной Руси имели хождение, судя по кладам, серебряные палочки, но только несколько больше половинного новгородского веса, в среднем 104.86 г.2 Время их зарьхтия отношу к XIII—XIV вв. Цвет их серебра темный и наводит на мысль, что они далеко не чистопробные. К сожалению, пробы с них до сих пор не снимали. Большое количество этих слитков имеет глубокие рытвины, что могло с успехом побудить прозвать их „изроями“. Сами рытвины я склонен объяснить как пробу, снятую при помощи стамески, что давало получателю уверенность в отсутствии в середине слитка недрагоценных частей. Свинец, напр., от такого удара должен был бы тотчас же развалиться. (В Тверском кладе был найден вместе с большим количеством серебряных слитков и один свинцовый.) Количество рытвин на этих слитках в одном и том же кладе чрезвычайно различное.
Возвращаясь к исходному пункту своего исследования, к духовной Климента, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что не вижу никаких оснований усомниться в правильности подсчета как сумм, одолженных Климентом у монастыря, так и данных им в долг другим новгородцам. Те 20 гривен серебра получили только еще большую конкретизацию, так как мы знаем теперь, что это было серебро в продолговатых слитках. В отношении же меньших сумм приходится предположить, что в ограниченном количестве помогали в расчетах старые полноценные немецкие пфенниги, а также расцениваемый в серебре товар. Равным образом у нас пока еще нет данных сказать, что гривна серебра превышала в середине XIII в. больше чем в 4 раза счетную гривну.
1 Там. же 93 (22), X« 38 и табл. I справа, 38 и М.
2 Там же, 86 (70),—91 (75).
203
Б. А. РОМАНОВ
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕГЕНДЫ В ЖАЛОВАННОЙ ГРАМОТЕ ВЕЛ. КН. ОЛЕГА ИВАНОВИЧА РЯЗАНСКОГО ОЛЬГОВУ
МОНАСТЫРЮ
I
Известная грамота вел. кн. Олега Рязанского Ольгову монастырю впервые была опубликована Мухановым в 18об г. и с тех пор не раз переиздавалась. Ее пергаменный подлинник поступил в свое время в Коллегию Экономии в дефектном состоянии и, по всей видимости, в сопровождении копии XVII в., снятой с уже пострадавшего оригинала.1 Муханов в своем Сборнике (под № 116) почти полностью восстановил текст грамоты с помощью этой „старой“ копии, и, уклонившись от точной датировки оригинала, отнес его к времени княжения Олега (1350— 1402). В 1837 г. оригинал грамоты был доставлен из Московского Государственного старых дел архива в Археографическую комиссию, и Я. И. Бередников, сличив издание Муханова с оригиналом, нашел, что „сей памятник древней нашей письменности заслуживает быть напечатанным в исправнейшем виде“. В своем донесении в комиссию Бередников дал первое описание грамоты, высказал соображения в пользу отнесения ее к 1356—1387 гг. и, указав на неудовлетворительность издания Муханова, предложил, „не угодно ли будет (комиссии) с живописных изображений и с текста Олеговой грамоты приказать искусному художнику снять факсимиле“ для напечатания в приготовлявшемся им тогда „собрании историко-юридических актов“.2 Таково происхождение второго издания нашей грамоты в I томе Актов Исторических (под № 2), с приведением в начале тома части грамоты в факсимиле „искусного художника“. Отказавшись от конъектуры, которую дал Муханов (с помощью копии) для восстановления последней клаузулы
1 Датировка копии дана Д. Цветаевым в Сборнике Архива министерства Юстиции, т. I, ч. I, М„ 1913, стр. 8.
2 ЖМНПр., 1837, июль, стр. 134 сл.
205
грамоты, Вередников, строго придерживаясь оригинала, вынужден был оставить эту клаузулу недочитанной и прибегнуть к многоточию.1 Хотя и это второе издание впоследствии было признано И. И. Срезневским „не совсем удовлетворительным“, однако же и сам Срезневский не сумел дать удобопонятного чтения испорченного места, — ив ученый оборот прочно вошло обращение к Актам Историческим.2
Древность грамоты Олега, ее подлинность, сложность и своеобразие ее содержания не могли не обратить на нее внимания крупнейших русских историков и историков права, которые и пользовались теми или иными отдельными ее данными каждый по ходу своего исследования, не подвергая ее критическому изучению в целом. Так, напр., С. М. Соловьев для гл. III 4-го тома Истории России воспользовался упоминаниями в грамоте „побережного“, „поличного“, „перевесов“, „дядьки“ княжого, отметил участие в акте княжеского пожалования бояр в XIV в. и высказал предположение о смене термина „гридь“ словом „муж“.3 4 Д. И. Иловайский извлек из нее указание на основание Ольгова монастыря еще в XIII в. и на пожалование ему 9 бортных участков, поименное упоминание олеговых бояр и названия должностей окольничьих, стольников и чашников, а также пытался доказать на основании этой грамоты, что в ней „нет указания на то, чтобы власть рязанских князей... более, нежели в московском княжестве, ограничивалась боярским сословием“, и высказал предположение, что пожалование Олега относится ко времени Скорнищевской битвы.- В. О. Ключевский привлек нашу грамоту для характеристики состава Боярской Думы удельного времени и объяснил многочисленность боярского собрания (9 человек), в присутствии которого произошло пожалование Олега, обширностью территориальных размеров пожалованной „вотчины“, якобы входившей в компетенцию „многих ведомств княжеской администрации“.5 6 Не раз обращался к этой „древнейшей из дошедших до нас жалованных грамот“ в своих „Древностях“ и В. И. Сергеевич.0 А. С. Лаппо-Данилевский в главе о „народных переписях“ впервые отмечал, что в Олеговой грамоте мы имеем „исчисление
1 „Коли есмь выехал из отчины своее из Переяславля, тогде есмь обет учинил, к святей госпожи богородици придал есмь Рязанское место (А. И*: мыто) и побережное, аже ми дал есть во Льгов (А. И.: аже ми даетъ...) в отчине своей (А. И.: в отчине...) в Переяславли“. — См. Сборник Муханова, № 116, А. И. 1, № 2, и ЖМНПр., 1837, июль, 136.
2 Срезневский приступал к чтению испорченных мест грамоты дважды: Изв. Акад. Наук по отделению русск. яз. и слов., т. X, СПб 1861—1863, стр. 312 и 680.
3 Ист. России, т. 4, изд. 3-е, стр. 183, 185, 189, 197, 202.
4 Ист. Ряз. княжества, М., 1858, стр. 116, 196, 255, 279, 281.
5 Боярская Дума, изд. 4-е, М., 1909, стр. 128 и 135.
6 Древности русского права, 1П, стр. 297; Древности русского права, 11, изд. 3-е, стр. 379; Русские юридические древности, I, изд. 2-е, етр. 423.
населения по семьям“, и приписал этот счет влиянию татар.1 Н П. Павлов-Сильванский основывал свою мысль, что „права суда и дани с древнейшего времени составляли принадлежность крупного землевладения“, на тексте Олеговой грамоты, и в частности политическое значение „иммунитетных прав“ иллюстрировал примером Ольгова монастыря, владевшего „пятью волостями (погостами) с населением более чем в 1000 семей, т. е. в несколько тысяч душ“, и получившего „иммунитетные права в полном объеме“. Эти данные о рязанских погостах-волостях Павлов-Сильванский в дальнейшем привлек, на ряду с Волочком словенским, Федосьиным городком, Кушалиным и Вохной, к исследованию о волостной общине.2 Если в перечисленных случаях грамота Олега привлекала к себе своими индивидуальными чертами, то примером трактовки ее как рядового документа для обезличенного потребления может служить труд В. Милютина.3
Между тем специальное дипломатическое ее изучение, ставившее себе целью изучение „формы, содержания и значения“ грамот XIV—XV вв., упиралось в уникальность нашей грамоты „как в способе изложения, так и в содержании“ (у Мей- чика) и давало скудный результат — в виде отнесения грамоты, как „едва ли не самого раннего примера“, к числу „ободных“, и подчеркивания, как „особенно важной в отношении формы“ черты ее, имеющегося во вступительной ее части „указания на думу с владыкою и с боярами, тут же поименованными“,— указания, и до того достаточно использованного в общей литературе.4 Поскольку и такое специальное изучение шло мимо даже хронологии грамоты, оно и не могло внести ничего плодотворного в дальнейшую судьбу нашего документа как исторического источника.5
Специальное исследование о грамоте Олега явилось только в 1913 г. в связи с предпринятым в Архиве министерства юстиции новым изданием ее текста — в I томе „Сборника“
1 Организация прямого обложения в Московском государстве, СПб., 1890, стр. 180.
2 ЖМНПр., 1900, XII, стр. 354 и 362; Феодализм в Удельной Руси, СПб., 1910, стр. 33. .
3 О недвижимых имуществах духовенства в России, М., 1862, стр. 46, прим. 109, стр. 60, прим. 121, стр. 75, прим. 142,—где грамота Олега цитируется как один из многих примеров пожалований „областных князей“, или »усердных“ стараний князей, чтобы основанные ими монастыри „превзошли все другие богатством и знаменитостью“, или вкладов „разных служилых людей вообще“.
4 Мейчик. Грамоты и другие акты XIV и XV вв., М., 1884, стр. 10.
5 Ср., напр., колебания Павлова-Сильванского в отнесении упоминаемого в грамоте древнейшего княжеского пожалования в пределах между XII в. и 1300 г. (Феодализм в Удельной Руси, стр. 33 и 305). Так же Панков, Льгот- Ное землевладение в московском государстве до конца XVI в., СПб., 1911,
207
Архива.1 Здесь грамота дана в правописании подлинника (стр. 5—7), применительно к современному правописанию (стр. 8—10), и в красочной фотоцинкографии в натуральную величину пергаменного оригинала (приложение), а также полностью приведена (стр. 8, прим.) ее „архивная копия XVII века“. Текст грамоты (гипотетически) был восстановлен издателями полностью. Изданием этого „самого древнего подлинного манускрипта в Архиве“ Д. В. Цветаев (упр. Архива) клал начало новому периодическому органу Архива в виде „сборников“, задачей коих намечалось „служить более систематическому изданию документов архива и научных работ над ними членов архивного персонала“, и в комментировании грамоты Олега приняли участие, кроме самого Цветаева, акад. А. И. Соболевский, Н. Н. Ардашев, В. К. Клейн и В. А. Глаголев (стр. 11—57).2 Издание было приурочено к 1913 юбилейно-династическому году, и основное исследование о грамоте за подписью Д. Цветаева („Великий князь рязанский Олег Иванович и его жалованная грамота Ольгову монастырю“, стр. 11—53) было выдержано в тоне прославления не только „подлинного манускрипта“, но и самого Олега, представителя монархического начала, и Ольгова монастыря, якобы оказавшего ему „услугу“, с дискредитирующими выпадами по адресу рязанских бояр и даже заключением о „распадении“ боярского „совета“ к моменту окончательного сложения текста грамоты.3 Ясно, что подобного рода ложное благоговение, преисполнявшее комментатора, исключило из его дипломатического исследования самую возможность постановки вопроса о подлинности и достоверности издаваемого документа. Со всем тем материал, собранный комментаторами в громадном количестве, в примечаниях к статье Цветаева, представляет, хотя и не весь, значительную ценность.4
Архивскому изданию грамоты Олега, при всех его преимуществах сравнительно с прежними, не посчастливилось в научном обиходе, и до последнего времени исследователи по-прежнему предпочитают пользоваться текстом Актов Исторических.5 61 Сборник Московского Архива министерства юстиции, т. I, ч. 1, М., 1913, стр. XI н-63 н-свиток грамоты.
2 Там же, стр. IV и 27. Всего намечалось на первых порах издать 8 томов документов „по частному крупному землевладению в России и по быту старинного города с относящейся к нему областью“. Ср. два сообщения об этом Д. Цветаева в Русск. Ист. Журн., 1917, № 1—2, стр. 151 и №3—4, стр. 200.
3 Там же, стр. 45. Ср. Протокол заседания общ. ист. и др. в Чт. МОИДр., 1913 г., кн. 4, стр. 27—28.
4 При всей грузности примечаний, иногда излишней (напр., стр. 45), существеннейшие вопросы остались недоработанными, тогда как доработка
их возможна была именно в недрах самого архива (напр., стр. 25).
6 См., напр., А. Е. Пресняков. Образование великорусского государства, СПб., 1918, сто. 226; С. Б. Веселовский. К вопросу о происхождении вотчинного режима, М., 1926, стр. 123, прим. 72; М. К. Любавский. Образование основной государственной территории великорусской народности, Л., 1929, стр. 130.
208
Заслуживает быть отмеченным все же, что А. Е. Пресняков, тоже не порвавший с этой традицией, хотя и пользовавшийся Архивским изданием для иных целей, едва ли не первый мимоходом обронил полунамек на возможность сомнений по поводу данных, заключающихся в Олеговой грамоте.1 Но ему не пришлось развить или сколько-нибудь пояснить этого полунамека ни в „Великорусском государстве", ни позднее, и грамота Олега и в дальнейшем продолжала оставаться предметом некритического использования.
Так, напр., Н. Н. Воронин недавно привлек Олегову грамоту в качестве „наиболее исчерпывающего" известия о „северо- восточном" погосте как территориальной общине, состоявшей из „деревень-заимок отдельных семей", преемнице дофеодальной большесемейной общины, и пытался именно на показаниях этой грамоты строить представление даже об „объеме" общины и „элементах сельской жизни". Игнорируя не раз отмечавшееся своеобразие рязанских феодальных документов, Воронин механически переносил это рязанское известие на суздальский „северо-восток", пользовался по традиции цитатой полуфразы, в которой упоминаются погосты, и, вследствие этого, приходил к поспешному заключению, что „кн. Олег говорит только о двух элементах сельской жизни —^ погосте и семье" и что мы имеем здесь „совершенно отчетливую картину больших территориальных общин-погостов, дальнейшим слагаемым которых являются семьи..."2 Смешивание в одно истории конкретного исторического явления, общины (на которую никто, кажется, в современной историографии уже не покушается) и истории термина „погост", при скудости и сомнительности иного письменного материала, повело тут не только к неразличению районов, но и недочитыванию интересующего нас текста грамоты. Автор не задался вопросом о достоверности своего источника и пришел к ошибочным выводам.
Вопрос о достоверности Олеговой грамоты приобретает, таким образом, актуальное значение. В предлагаемых заметках мы и делаем попытку поставить этот вопрос.
1 Образование великорусского госуд., стр. 237, прим. 3-е» — Грамота вызы * вала у него „большое сомнение перечнем прадедов в. к. Олега“ (там же, стр. 226, прим. 1).
2 Ср., напр., С. Б. Веселовский. К вопросу о происхождении вотчинного режима, М., 1926, стр. 52 сл.; А. С. ЛаппО-Данилевский. Служилые кабалы позднейшего типа в „Сб. статей, поев. Ключевскому“, М., 1909, стр. 710; М. А. Дьяконов. Очерки общ. и гос. строя др. Руси, изд. 3-е, стр. 390. — Н. Н. Воронин. К истории сельского поселения феодальной Руси, Изв. ГАИМК, 138, Л., 1935, стр. 23—24 и 71. — Мой подробный разбор некритических методов обращения с источниками в этой работе предполагалось напечатать в Изв. ГАИМК вместе с другими материалами дискуссии по вопросам истории сель- «сого поселения феодальной Руси, имевшей место в 1936/37 г* в Институте Феодального общества ГАИМК. Предлагаемые замечания взяты из этого разбора, так как ГАИМК впоследствии отказалась от мысли опубликовать дискуссию о ее изданиях по вопросам истории сельского поселения.
14
Проблемы ио7фШВК9Веде1ия
209
II
Обращаясь к анализу текста нашей грамоты, легко убедиться с первых же ее строк, что отмеченное только что ее использование и недостаточно и ведет к элементарному недоразумению.
Территориальный состав грамоты Олега сложен. В ней два разновременных пожалования самого кн. Олега и подтверждение нескольких пожалований монастырю богородицы на Ольгове, состоявшихся более ста лет назад. „Сгадав" с еп. Василием и со своими боярами (перечислены поименно 9, в том числе дядько, окольничий и чашник, причем один из бояр — „с братьею"), кн. Олег дал монастырю „Арестовское село с винами и с поличным и с резанкою и с шестьюдесят и со всеми пошлинами и с бортники и с бортными землями и с поземом и с озеры и с бобры и с перевесшци". Как видим, Олег вовсе не „говорит т о л ь к о о двух элементах сельской жизни — погосте и семье", а ясно и прежде всего говорит здесь о с е л е с бортниками, к нему приписанными или его населявшими. Разумеется, село с бортниками—не единственные „элементы сельской жизни": надо думать, подавляющее большинство бортников жило в разбросанных деревнях, которые тогда тоже назывались селами или „малыми селищами", размеры которых и состав, однако, грамотою не уясняются. Возможно, что и этим не исчерпываются „элементы сельской жизни" на Рязанщине XIV в. Но для этого времени грамота Олега не говорит ни о погостах, ни о семьях.
За клаузулой пожалования села Арестовского в грамоте следует: „а возрев есмь в данный1 грамоты с отцем своим с владыкою с Василием и с бояры: коли ставили по первых прадеди наши святую богородйцю князь великий Ингвар, князь Олег, князь Юрьи, а с ними бояр 300, мужии 600, тогды дали святой богородици дому 9 земль бортных, а 5 погостов: Пе- сочна, а в ней 300 семии, Холохолна, а в ней полтораста семии, Заячины, а в ней 200 семии, Веприя 200 семии, Заячков 100 и 60 семии, а си вси погосты с землями с бортными и с поземом и с озеры и с бобры и с перевесищи, с резанками и с шестьюдесят и с винами и с поличным и со всеми пошлинами". — Это, надо думать, цитата-пересказ из древней грамоты (первой трети XIII в.) трех предков Олега. Она будет у нас ниже предметом особого суждения.
Далее грамота Олега возвращает нас из далекого для нее прошлого к текущему моменту: „а хто даных людии прадеды нашими святой богородици дому [т. е.: кто из людей, данных дому св. б-цы нашими прадедами] где имуть седети или борт- ници или слободичь [т. е.: будь то бортниками или слобожа-
1 Третья и четвертая буквы вырваны; Цветаев восстанавливает: „давныи".
210
нами! в моей [т. е. Олега] отчине, ать знають дом святой бого- оодици а волостели мои ать не вступаются в них ни о кото- оом же деле“. Это — своеобразная и существеннейшая для понимания грамоты клаузула. Олег здесь и подтверждает и модифицирует старый иммунитет, разумея, конечно, не мертвецов или зажившихся полуторасталетних старцев, а потомков прадедовских бортников из названных 5 погостов — на тот случай, если кто из них переселится и окажется проживающим в его, Олега, отчине, на землях монастыря в качестве бортника или в монастырской же слободе в качестве „слободича“. Грамота противополагает здесь „мою отчину“ древлепожалован- ным землям бортным, и разбираемая клаузула, повидимому, имеет в виду возможное переселение потомственных и наследственных феодальных подданных монастыря из отошедшей от Олеговой „отчины" территории в любое место в пределах этой отчины. Это специфическое пожалование, в котором можно видеть след каких-то незабытых территориальных притязаний, вклинилось здесь в начатый перед тем пересказ событий прадедовского XIII в.
Далее пересказ возобновляется: „а Головчин дал Федор Борисович, а Мордовской дал Климент по Данилов двор, а Еремей Великии с Глебом села своя подавали госпожи бого- родици, а мужи олговскую околицу, купивше у муромских князии, давше 300 гривен, и дали святой богородици". Эти четыре дарения, возможно, были облечены в свое время тоже в форму данных грамот, ставших теперь предметом рассмотрения в заседании боярского совета кн. Олега на ряду с грамотой трех князей-предков.
И, наконец, заключительная часть: „а яз князь великии Олег Иванович што есмь дал Арестовское село святой богородици дому и што прадеди наши подавали которая места и люди, и што бояре подавали, дому святой богородици, того хочю боронити, а не обидети ничим дому святой богородици; а волостели и даньници и ямыцики ать не заимають богоро- дицьских людии ни про штоже, а кто изобидит дом святой богородици или князь или владыка или волостель или иныи, тот дасть ответ перед богом святой госпожи богородици".
Как видим, обобщая и подытоживая, кн. Олег назвал: „село", „места" и „людей" — три объекта своей иммуни- тетной грамоты или, как предпочел Н. Н. Воронин, три „элемента сельской жизни". И опять не назвал ни погостов, ни семей. Не будем спешить отсюда с заключением, что к половине XIV в. термины погост и семья старой грамоты XIII в. исчезли из живой феодальной номенклатуры на Рязаньщине. Но это значит все же, что кн. Олег иначе, чем Н. Н. Воронин, понимал акт, совершенный его предками, и не разделял погостской концепции молодого ученого. Мы понимаем его тоже иначе. Оставим на время в стороне обстоятельства пожалования
14*
211
кн. Олега и присмотримся и некоторым подробностям рассказа о возникновении утраченных земельных владений нашего монастыря в начале XIII в.
III
Кн, Олег, с его одним селом и десятком бояр — совсем пигмей на фоне феерии XIII в., поражающей своими масштабами. В ней участвуют три князя, триста бояр, по сотне на каждого князя — на зависть всем будущим государям московским и всея Руси, — и шестьсот „мужей“, по двести на каждого князя, если считать их военной дружиной, „мужами храбор- ствующими (в противоположность „боярам думающим“), а не торговоремесленными вечниками старой Рязани. Место („околицу“) для построения монастыря эти „мужи“ откупили у муромских князей за круглую денежную сумму в триста гривен наличными: если сложились все шестьсот, то по полугривне на голову. Бояре, на поверку, оказались не так тароваты: из них 296 человек не дали на монастырь ничего. В монастырской казне в XIV в. налицо оказались всего три боярских данных грамоты. С боярской толпы в триста душ монастырю сошлось три дара натурой, о ценности которых судить нет данных. — Из всех этих цифр только первая и последняя тройки, как будто, совсем реальны и сомнений не вызывают.1 Но все остальные цифры, кратные 100 и трем, чересчур круглый нарочиты, чтобы можно было принять их всерьез. При этом нельзя упускать из виду, что грамота представлена была на рассмотрение кн. Олега и его думы в XIV в. никем иным, как игуменом заинтересованного монастыря. А тогда — нет ли тут руки третьего поколения монастырских грамотеев?
На подобное предположение первоначально навела нас приведенная выше (стр. 206, прим. 1) позднейшая приписка к основному тексту грамоты другой рукой и другими чернилами — в редакции, какую придала ей конъектура Муханова: там фраза, начатая в первом лице от имени кн. Олега, сползала в конце на первое лицо от имени иммуниста, игумена Арсения. 'Более правдоподобная конъектура, какую дает новейший издатель (“аже ми дасть гдь бъ быти в отчине своей в Переяславли“), устраняет эту несообразность, но самое предположение о прикосновенности монастыря к написанию грамоты не только не отпадает, но получает лишнее подтверждение от некоторых черт внешности подлинника. Уже Бередников, давая его описание, высказал уверенность, что живописные изображения в заглавии грамоты и надписи над ними сделаны после пожалования
1 Ср., впрочем, „большое сомнение", вызванное у А. Е. Преснякова (Обр. Великор. гос., стр. 226) перечнем прадедов, в котором старший (дядя) Юрий оказался после своих племянников Ингваря и Олега.
212
в монастыре, и сослался на бледноватые (сравнительно с основным текстом грамоты) чернила этих надписей и на невероятность того, „чтобы Олег, жалуя игумену Арсению грамоту, велел его же самого изобразить на ней и притом с надписью се грешный чернец Арсений".1 Акад. Соболевский, отметив необычность того обстоятельства, что „в число изображений семичастного деисуса вошло изображение живого лица и притом не жертвователя князя... а того лица, которое должно было принять княжеское пожалование", высказался еще решительнее, что надпись над изображением Арсения исполнена или им самим или под его непосредственным наблюдением.2 С своей стороны, мы не беремся настаивать (на основании одной только фотоцинкографии) на сходстве почерка и чернил этой надписи и интересующей нас приписки в конце грамоты. Но трудно отделаться от впечатления, что во всей планировке частей грамоты сказалась единая воля: пространство для текста, на первых шести строках идущего узкой колонкой, отчерчивалось на пергамене с расчетом уместить живописный орнамент в определенной композиции и составе, в частности фигура чернеца Арсения не является тут продуктом последующей подрисовки и представляется органической частью всей группы, художественно обрамляющей суженный вверху корпус текста грамоты. И мы склоняемся к гипотезе, что вся работа по выполнению грамоты протекала в стенах монастыря, еще и потому, что такая гипотеза др известной степени послужила бы объяснению уникальности как внешности, так и формы и самого содержания Олеговой грамоты. В частности, отмеченное'еще Мейчиком своеобразное богословие грамоты и летописноповествовательный элемент легче связать с церковной рукой, писавшей в стенах монастыря, чем с княжеской канцелярией. Наконец, в пользу этой гипотезы говорят и некоторые соображения относительно происхождения упомянутой приписки со вторым пожалованием Олега.
Приписка эта носит реалистически-повествовательный характер— записи для памяти: „а коли есм выехал из отчины ис своее ис Переяславля, тогде есм обет учинил к святей госпожи бого- родици, придал есм рязанское мыто и побережьное, аже ми дасть господь богбытив отчине своей в Переяславли". Если подчеркнутое место прочтено в Архивском издании правильно, то, очевидно, что выезд Олега из отчины был невольным и внезапным, и он успел дать монастырю только условное обещание — добавить к земельному пожалованию сбор торговых пошлин (повидимому, в старой Рязани?). Реализация обета могла состояться только по благополучном возвращении Олега, и только тогда же могла быть сделана и самая запись.
1 ЖМНПр., 1837, VII, стр. 134.
2 Сборник Арх. мин. юст., т. I. ч. 1, стр. 53—54.
213
Говорим: „успел“, имея в виду катастрофические условия, в каких не раз приходилось Олегу покидать свое великое княжение на Переяславле Рязанском. Таково его бегство после поражения в битве с московской ратью в декабре 1371 г. близ Переяславля под Скорнищевым, когда он „едва утече в мале дружине“, а на рязанском великом княжении сел пронский князь при поддержке Дмитрия Донского. Таков опустошительный набег мамаевых татар в 1373 г., когда они пришли „на Рязань, на великого князя Олга Ивановича рязанского и грады его пожгоша и людей многое множество избиша и плениша и со многим полоном отъехаша во свояси“. Таково его бегство в 1379 г. после Вожской победы Дмитрия Донского, перед новым „изгоном“ татар, когда ему пришлось „перебежать на сю сторону Оки“ (на северный берег), а татары сожгли Переяславль и „рязанскую землю пусту сотвориша“. Таково же его бегство в Литву после Куликовской битвы под угрозой карательной войны, предпринятой было Дмитрием Донским в виду двуличной позиции Олега во время войны Дмитрия с Мамаем. Таково же, наконец, его двукратное бегство в 1382 г. сначала от татар, а потом от московской рати.1 — К какому бы из этих моментов ни относить „обет“ кн. Олега совершить придачу новых доходов к прежнему земельному пожалованию монастырю, ясно, что в такой обстановке (т. е. пока Олег не вернулся и обет оставался только обетом) обет этот не мог быть оформлен в письменном виде. Представляется весьма вероятным заключение А. И. Соболевского, что запись этого обета на грамоте была сделана еще до того, как по нижнему краю грамоты были продеты шнуры и повешены печати (2). При этом строки записи заняли „довольно широкое нижнее поле пергамена, оставленное для прикрепления печатей“, и печати пришлось прикреплять необычно близко к краю.2 Но это бы значило, что запись на грамоте делалась тогда, когда пергамен был еще в работе и основную грамоту монастырь еще не успел представить к приложению печатей, т. е. вскоре после основного пожалования. Едва ли можно думать при этом, что в бегах от врагов Олег возил неконченную грамоту с собой или сдал ее перед, отъездом в полуделе на хранение в монастырь, — как приходилось бы представлять себе дело, если бы изготовление грамоты пришлось на долю княжеской канцелярии. Поэтому считаем более вероятным предположение, что политический шквал застиг грамоту в процессе обработки в монастыре, откуда, по возвращении князя, она и была представлена в готовом виде во дворец к приложению печатей, причем только по выяснении вопроса о том, как Олег смотрит на данный им в беде
1 См. А. Е. Пресняков. Обр. Великор. гос., стр. 237—243.
2 Сб. Арх. мин. юст., т. I, ч. 1, стр. 55.
214
обет, об этом последнем и была сделана наша приписка (уже, может быть и самим игуменом Арсением).
Эта бурная внешнеполитическая обстановка, в какой жило рязанское княжество в 70-х и нач. 80-х гг., отразилась на нашей грамоте, кажется, не только в указанной приписке, а и в той, отмеченной выше, части ее, которая заключала в себе модификацию иммунитета, связанного с стародавним пожалованием прадедов Олега. Дальнейшие наблюдения над этой последней должны помочь попутно установить (гипотетически, конечно) и хронологию основной Олеговой грамоты.
IV
Что касается датировки прадедовского пожалования XIII в., то отнесение его к именам Ингваря Ингваревича, Олега Ингваревича и Юрия Игоревича — как делал гипотетически А. Е. Пресняков, откуда и было его недоумение, каким образом старший, дядя Юрий, попал на последнее место — едва ли правильно уже по одному тому, что Юрий Игоревич погиб в 1237 г. в Батыево нашествие в качестве вел. кн. рязанского, а Ингварь Ингваревич был великим князем и „обновлял землю рязанскую" уже после того, как Батый ушел. Значит, вел. кн. Ингварь нашей грамоты, вероятно, отец Ингваря — Ингварь Игоревич, бывший великим князем рязанским с 1219 г. и умерший, как принято думать, до 1237 г.: этими терминами и ограничивается возможность датировки пожалования.1
Более гипотетична всякая попытка установить топографию древнего пожал' ^ лния. Как уже было отмечено выше, текст клаузулы об иммунитете переселяющихся бортников и „слобо- дичей“ наводит на предположение, что места первоначального пожалования XIII в. к моменту составления Олеговой грамоты находились уже вне обладания монастыря, и самая грамота прадедов (если верить, что она была представлена Олеговой Думе в натуре) была теперь документальной реликвией, не имевшей реального хозяйственного значения, так как и власть самого кн. Олега не распространялась на эти места. Единственное употребление, какое могли бы еще попытаться, сделать из этой реликвии монастырские власти, заключалось бы в том,
1 Постановка Олега, сына Ингваря, на второе место, прежде Юрия, брата Ингваря, сама по себе недоумения не вызывает. Вопрос, почему из сыновей Ингваря Игоревича в грамоте офзался один Олег, нераврешим при наших вообще крайне скудных, случайных и путанных данных о рязанских князьях. Даже если предположить, что этот Олег — брат Юрия и Ингваря, постановка его на втором месте вызывает новые трудности, так как в летописи (Лавр., 487) он стоит после Юрия. Ср. замечания А. Е. Преснякова, ук. соч., стр. 225, прим. 1, клонящиеся к признанию брата Олега мифическим лицом в результате путаницы имен Игорь и Ингварь. — Датирование пожалования точно 1219 годом, как то делает Д. Цветаев, ук. соч., стр. 18, не имеет за особой сколько-нибудь разумных оснований и приводится им голословно.
215
чтобы закрепить за собой правб уже не на территории, а на живую рабочую силу, если бы монастырю удалось нелегкое предприятие по вывозу ее в бесспорные пределы отчинных владений кн. Олега в любое место, где бы только монастырь ни пожелал организовать прием своих старинных людей, говоря по-московски, „из иных княжений“. Исходя из такого понимания интересующей нас клаузулы, надлежит искать и перечисленные в ней территории за пределами Рязанского княжества времен Олега или, по крайней мере, в какой-нибудь спорной зоне.
Указания на эту последнюю мы имеем в том проекте докон- чания между Дмитрием Донским и кн. Олегом Ивановичем 1381 г., который был принят князьями в 1385 г.1 Проект этот сохранился в редакции, предложенной, по всей видимости, рязанской стороной, и, вероятно, исходил в известной мере больше из исторических притязаний, чем из условий uti possidetis. Территориальные предложения этого проекта формулированы были так: „а мне вашие (Дмитрия Ив. и Влад. Андр. — Б. Р.) вотчины блюсти, а не обидети, Москвы и Коломны и всех московских волостей и коломенских, что ся потягло к Москве и к Коломне по реку Оку... А межи нас роз дел земли по Оку по реку, от Коломны вверх по Оце, на московской стороне Почен, Новый городок, Лужа, Верея, Боровск и иная места рязанская, которая ни будут на той стороне, то к Москве... А что на рязанской стороне за Окою, что доселе потягло к Москве, Почен, Лопастна, уезд Мстиславль, Жадене городище, Жадемль, Дубок, Бродничь с месты, что ся отступили князи Торусские Федору Святославичу, та места к Рязани. А что место кн. вел. Дмитрия Ивановича на Рязанской стороне, Тула, как было при царице Тай- дуле и коли ее баскаци ведали, в то ся кн. вел. Ольгу не всту- пати и кн. вел. Дмитрию. А что места Талици, Выползов, Така- сов, та места кн. вел. Дмитрию, кн. вел. Олег ступился тех мест кн. вел. Дмитрию Ивановичу“. — В подчеркнутых нами местах рязанских и коломенских еще тех, наверное, времен, когда и Коломна сама находилась во владении рязанской династии, и следует искать тех древних пожалований* о населении которых проявлял заботу монастырь теперь.
Из пяти погостских наименований Олеговой грамоты четыре могут быть приурочены к известным нам по другим историческим упоминаниям географическим пунктам. Это: 1) р. Холхол, левый приток Протвы, неподалеку от Нового городка при впадении Протвы в Оку; 2) Вепрейка, на скрещении меридиана Вереи и широты Медыни, близ р. Лужи; 3) Заячков, к юго- востоку от Боровска, в районе течения р. Нары, и 4) Заячины,
1 См. СГГД, 1, № 32 я замечания А. Е. Преснякова, ук. соч„ стр, 228 и 241—243«
216
у истоков р. Прони, в Пронском княжестве.1 Что касается пятого, Песочны, то М. К. Любавский помещает ее на карте, называя селом, в нескольких километрах к юго-востоку от Переяславля Рязанского, глухо ссылаясь на нашу грамоту (стр. 130), т. е. под самым монастырем. Против этого говорил бы не только смысл текста грамоты, но и то обстоятельство, что монастырь строился не на княжеской земле, в Песочне, а тут же рядом на месте, купленном „мужами" у муромских князей, и от этой Ольговой „околицы" и взял свое название. Мы поэтому предпочитаем видеть Песочну Олеговой грамоты в другой Песочне, которую М. К. Любавский, вслед за документами, называет не селом, а волостью и помещает на карте в районе р. Песоченки, притока р. Отры, в свою очередь впадающей в Москву, километрах в 25 вверх по Москва-реКе от Коломны (т. е. в XVI в. Песоченский стан Коломенского уезда).2
За исключением Заячин, расположенных в Пронском княжестве, и Вепрейки, остальные 3 названия задолго до Олегова княжения уже упоминаются в документах и служат предметом распоряжения московских князей. Так, Песочна, вместе с Коломной и коломенскими волостьми, передается Иваном Калитой Семену Ивановичу. Семен Иванович получает 3 а я ч- ков от тетки своей, кн. Анны, жены, по предположению М. К. Любавского, кн. Афанасия Даниловича. Одной парой Песочна иЗаячков от Семена Ивановича переходят к вдове его кн. Марье, которая по распоряжению Ивана Ивановича владела ими до живота своего, а по ее смерти Песочна должна была перейти Дмитрию Донскому, но выделена до живота княгине Александре. Такова же судьба и Заячкова: он должен был от кн. Марьи перейти к кн. Александре. Тот же Заячков вместе с Холхолом переданы Дмитрием Донским его жене. При вторичном перечислении того, что дано „княгине моей", в духовной Дмитрия Ивановича Холхол и Заячков идут неразрывной парой, занимая особое, так сказать, персональное положение: „а что есмь подавал своей княгине волости и села из уделов детей своих и свой примысел и слободы и села, и Холхол и Заячков, а с тех волостей..." По женской же
1 См. М. К. Любавский. Образование основной государственной территории великорусской народности, Л., 1929, по указателю и карте. — Я пришел к такому приурочению, руководясь вышеприведенным толкованием текста грамоты и следуя указаниям княжеских духовных, цитируемых ниже. Комментаторы Архивского издания, не имея в виду такого толкования, шли в поисках приурочения ощупью, стремясь держаться поближе к монастырю: Вепрейку и Заячкрв они помещают там же, где те указаны у Любавского, для Холо- холни же предлагают три варианта — либо на правом берегу Оки, либо в Одоевском у., либо (Холохоленку) в Мовальском у. (Сб. Арх. мин. юст., т, I, ч. 1, стр. 21—22).
2 Комментаторы Архивского издания и здесь идут ощупью, держась поближе к монастырю, и предлагают целых три варианта: село Песочня в 2, сельцо Малую Песоченку в 4 и село Большую Песочню в 5 верстах от' монастыря, исходя из сохранившихся в XX в. селений (ук. соч., стр. 19).
217
линии идет Песочна и в духовной Василия Дмитриевича — „княгине моей". Только Вепрейка выступает на сцену позднее других, и тоже по женской линии: в качестве одной из Лужских волостей она передается кн. Владимиром Андреевичем его жене.1
Итак, если наше предположение верно, то при вторичном основании Ольгова монастыря, которое относят к 1355 г.,2 от пожалования, данного при первом основании его (ср. „по первых" нашей грамоты) реально в пределах юрисдикции рязанского князя, кроме, может быть, Заячины, не оставалось ничего. Но эти спорные „рязанские места" могли попасть к нашу грамоту только оттого, что — и до тех пор пока — они продолжали еще жить живою жизнью в политической программе рязанских феодалов, и пока надежда на восстановление всей отчины своей, а, может быть, и на захват великого княжения Владимирского не отпала и лично у Олега. Отказаться от этой программы и этих надежд и формально закрепить спорные „рязанские ме$та" за своими московскими противниками, под которых Олег десятилетиями не уставал вести международный подкоп, ему пришлось окончательно только в середине 80-х гг. XIV в. То же обстоятельство, что в этой территориально политической программе оказались и немосковские, пронские Заячины, ведет к поискам момента Олегова пожалования, в пределах отмеченного выше бурного десятилетия (1371—1382 гг.), в той поре, когда Пронское удельное княжение с его князем Владимиром выдвигалось Москвой как опорный пункт для нанесения удара Олегу с тыла, а пронский князь — как московский кандидат на великое княжение Переяславля Рязанского. А, как известно, эта ситуация не только имела место, но и достигла кульминационного пункта и разразилась катастрофой для Олега в дни Скорнищевского разгрома (в декабре 1371 г.), когда Олег вынужден был „выехать" из своей отчины Переяславля и место его занял пронский кн. Владимир.3
Для общего хода нашей мысли существенна, однако, не точность этой датировки, а то, что при описанных общих условиях монастырь, естественно, был заинтересован пока-что хотя бы в закреплении за собой права на ту живую силу, какая оставалась в «теоретических» его заоцких владениях, права использо-
* 1 СГГД, I, №№ 22, 24, 26, 34, 39, 40.
2 См. В. В. Зверинский. Материалы для историко-топографического исследования о монастырях в Российской империи, ч. II, СПб., 1892, № 1023.
3 К такой же датировке приходил и Цветаев, опираясь'на родословное предание Апраксиных о приезде в Рязань их предка-татарина Салахмира, о помощи, им оказанной Олегу при возвращении рязанского стола в 1372 г., крещении под именем Ивана Мирославича, женитьбе на сестре Олега, и на подписывании им некоторых жалованных грамот. Отсутствие подписи или упоминания о Иване Мирославиче в нашей грамоте принималось Цветаевым за указание на terminus ante quem для нашей грамоты (см. ук. соч., стр. 57 и 33). — О достоверности этого предания ср. „Обр. вел. roc-ва“, с. 237.
218
рання ее, в случае перевода в собственно рязанское княжество, на тех же основаниях иммунитета, которым жаловал его Олег по отношению к прочим рязанским владениям. Грамота Олега давала монастырю как бы широкий лимит в 300-ь 160-1-200-ь ч-150 ч-200 = 1010 семей на случай, если полное подтверждение старого пожалования, тоже включенное в грамоту, оказалось бы нереализуемым. А тогда и самые слагаемые этого общего лимита, нереальные по своей округленности, не дороже могут стоить для исследователя, чем приводившиеся нами выше круглые и раздутые цифры бояр, мужей и гривен. Во всяком случае, строить на них конкретное представление о размерах погостов нач. XIII в. едва ли не слишком опрометчиво. Иное дело волости-общины, приводимые в пример для конца XVI в. — Вохна в 535 дворов, Волочок словенский в 335 дворов, Куша- линская в 680 дворов, — все с крупными торговыми и промышленными центрами.1 И совсем другое дело — подобные же гигантские объединения лесных бортников за 4 столетия до того, в нач. XIII в. Это цифры неконкретные и едва ли реальные для времен, которые и для эпохи Олега были временами стародавними, прапрадедовскими. Но нельзя не усомниться также и в том, чтобы прадедовская грамота с подобными легендарными цифрами XIII в. могла сохраниться в архиве (казне) рязанских князей до второй пол. XIV в. — при тех политических, военных и династических передрягах, сопровождавшихся выжиганиями дотла, разорениями и бегством князей, какими полна темная история Рязаньщины со времен Батыя. Скорей всего подобная грамота могла явиться на рассмотрение Олеговой думы из недр самого монастыря. Не случилось ли здесь в миниатюре того, что случилось с новгородской Ярославлей грамотой нач. XI в., и не являемся ли мы здесь свидетелями завязи легенды о возникновении монастыря на основе какой-то хартии, литературно и вольно реконструированной в XIV в. по какой-то монастырской записи или даже просто по памяти?
V
Если это и так, то, подвергая сомнению цифровые показатели легендарной грамоты XIII в., мы не имеем основания целиком отвергать ее содержание. Присматриваясь к нему, нельзя, как мы видели, принять версии Н. Н. Воронина, что речь тут идет „только" о погостах и семьях. В пересказе XIV в. речь здесь идет прежде всего о 9 „землях бортных", на которые Олегу с боярами и были, якобы, предъявлены „данные грамоты" монастырем. Вероятно, цифра 9 здесь подытоживала 9 объектов дарения: 5 погостов, Го^овчин, Еремеевы села, Мордовское по
1 Н. П. Павлов-Сильванский. Феодализм в Удельной Руси, (Л5., 19Ю» стр. 24—33.
219
Данилов двор и Ольговскую околицу.1 Если это так, то перед нами статистика XIV в.: ни Еремеевы села, ни Ольговская околица — не бортные земли. Но в существе дела наши статистики были правы, так как во всяком случае хозяйственная ценность большинства, и в частности княжеских, пожалований определялась тем, что это были бортные земли и что основной продукт этих земель, мед (и воск), был одним из главных предметов торгового оборота. Княжеское хозяйственное ведомство XIII в. — сказать по позднейшему, его чашничий путь, — выделяло монастырю состоявшие на княжеском учете окраинные хозяйственные единицы, „земли бортные“, числившиеся у него под пятью названиями. При этом, когда речь идет о „погосте“ Песочна, а в ней столько-то семей, это „а в н е й“ может еще быть относимо к женскому роду названия Песочна, но, когда речь идет о погосте Заячины, то здесь „в н е й“ может относиться только к „земле“. Земля такая-то, а в ней (а не в нем, в погосте) столько-то семей.
Если точно следовать тексту грамоты, то погосты жаловались только князьями: на „землях“ некняжеских погостов не было в XIII в. Это не значит, конечно, что бояре давали, а мужи перекупали у муромских князей обязательно пустыри или необитаемые бортные участки, и население здесь жило, надо полагать, не столыпинскими отрубами. Это значит, однако, что на княжеских бартных „землях“ были погосты — пункты, носившие определенные наименования. Из этих наименований два (Песочна и Холохолна) связаны с речками, и о происхождении их судить нет возможности. Зато три других наименования— охотничьи. Можно думать, что они связаны именно с княжой охотой, довольно обычным „мирным“ способом открытия и освоения князьями новых земель, — и наименования к ним пришли сверху, из княжеской номенклатуры. В частности, объяснить две различные формы словообразования в названиях „Заячины“ и „Заячков“, естественнее всего единством источника их происхождения (значит, не местного) и необходимостью для княжого центра как-то номенклатурно различить два разных пункта или района охоты на один и тот же объект. Подобные, по началу, районы княжой охоты при наличии или появлении тут населения очень быстро приобретали значение „земель
1 Ср. сводный пересказ пожалования ряз. кн. Ивана Федоровича XV в. в „родовом письме“ Шиловских (Акты Юшкова, Чт. М. О. И. Др., 1898, кн. 2, стр. 13). В основе этого пересказа, в качестве образца, лежит, кажется, разбираемый нами пересказ в грамоте Олега, в частности попали туда и наши пять погостов синтаксически некстати и в совершенно искаженном, не понятом и Юшковым, виде. Пожалование было на две околицы, и в тексте пересказа перед ссылкой на 5 погостов вместо наших 9 земель бортных, понятых перефразировщиком как итог, стоит: „две околицы“. — Вопрос о соотношении этого родового письма и нашей грамоты заслуживал бы особого исследования, для которого здесь у меня нет места.
220
бортных" — по ценнейшему виду дани (меда и воска), свозимой в пункты княжого приезда (на полюдье и на охоту), которые в отличие от „земель“ и получали общее название погостов (в рязанском языке).
Как видим, текст грамоты, взятый не в механической я произвольной купюре, а во всем его целом, и подвергнутый критическому анализу, не укладывается в рамки погостско- общинной теории, не служит ей опорой. Не дает он и никакого конкретного представления о поселениях тех „семей", которые принимаются этой теорией за основную клетку погоста, и о тех дофеодальных союзах, какие открывал в освояемых „землях" феодальный княжой аппарат. Зато грамота Олега являет счастливый пример как бы полутора страничек из утраченной навеки книги феодальных времен: на уцелевшей левой странице дана картина XIII в., правая же, XIV в., оборвана, но так, что по сохранившимся на ней письменам нетрудно восстановить целиком и картину XIV в. — с помощью других документов. С „рязанскими" феодальными погостами XIII в. имеем здесь именно такой случай — случай, в котором для XIV в. с исчезновением „полюдья" видим и исчезновение начисто самого термина „погост", при сохранении старых собственных имен для тех „волостей" (в московских грамотах), которые в XIII в. в Рязани числились на княжом учете как „бортные земли", именовавшиеся по именам „погостов", а в XIV в. источниками упорно не называются, ни одна из них, „погостами". Перед нами налицо здесь отмирание первоначального княжеско-даннического, полюдничьего термина (погост) при сохранении целостности административно-хозяйственных единиц, рязанских „земель", в виде московских „волостей", унаследовавших от „земель" и их рязанские прозвания.
Не менее реальным элементом легендарного пересказа грамоты XIII в. в Олеговой грамоте считаем мы на ряду с погостами и „семьи". Если верно наше предположение о территориальном приурочении „рязанских" погостов, то, можно сказать, монастырь в начале XIII в. получил от князей довольно разбросанные и отдаленные от центра промысловые участки с бортничьим населением, уже примученньш княжой данью и, вероятно, положенным уже в некоторый данный оклад: отвергая достоверность закругленных цифр рабочих пар („семей"), не имеем основания отвергать все же некоторого счетного приема при обложении данью, получившего отражение и в нашей рязанской грамоте. Можно не сомневаться, что это — малая семья, с какою только и имеет дело современная прадедовской грамоте пространная Русская Правда как у смердов, так и У холопов. Но ниоткуда не видно* чтобы „семью" нашей грамоты можно было толковать, как то делает Воронин, как „поселе- ние", как „будущую деревню", оставшуюся якобы „не отмечен- ной историками" потому, что де ею „не интересовались
221
источники, в том числе феодальные акты".1 Это и произвольно и неверно. Мы имеем здесь дело со счетным приемом, глубоко коренящимся в феодальном быту. Нет никаких разумных оснований видеть в этом счете какое-то новшество, явившееся именно в XIII в. Но можно поискать признаки того, что этот феодальный счет был далеко не архаическим пережитком и для последующего времени и не был только рязанской экзотикой, и найти эти признаки именно в феодальных документах. Мы имеем в виду бытование термина „семья" в рязанских и тверских княжеских договорных грамотах XIV—XV вв.
Обычная формула договоров московских князей между собою: „а суженое, положеное, заемное, поручное, кабальное по испразе дати, а холопа, робу, должника, поручника, беглеца, татя, разбойника по исправе выдати"— в договорах с рязанскими князьями заключается клаузулой о пошлине с беглеца.2 Первоначальная формулировка этой клаузулы в проекте договора Олега Ивановича с Дмитрием Донским 1381 г.: „а пошлины с семьи 6 денег, с пешеходов два алтына, а с одиного не имати", непосредственно следующая за клаузулой о выдаче холопа, в последующих рязанских договорах приняла следующий твердый вид: „а пошлина с беглеца с семьи 2 алтына, а с одинца алтын", — ив этом виде держалась в течение всего XV в.3 Это был наиболее архаический и простой счет тяглой рабочей силы в денежном выражении: 1 работник — алтын, 2 работника — 2 алтына. Эта старая семья едва ли не жила еще и в XIX в. во всероссийском масштабе в церковном термине помещичьего хозяйства — „венце". В аналогичных случаях в тверских договорах с Москвой XIV—XV вв., где клаузула о пошлине с беглеца была также неизменной принадлежностью, имеем только иную таксу. Первоначальная тверская формулировка этой клаузулы в договоре Михаила Александровича с Дмитрием Донским 1368 г.: „а с головы дати пошлина гривна, а с семьи четверть", сменилась в последующих договорах такою: „а пошлины с семьи 3 алтына, а с головы алтын."4 Вопрос о том, кто платил пошлину, и вообще весь казус, предусмотренный этим пунктом договоров, разъясняется только в тверских текстах: „а кто имет холопа или должника, а поставит его перед волостелем, в том ему вины нет, а выведет из волости, а перед волостелем не поставит, в том ему вина.
1 Цит. соч., стр. 71. —■ Павлов-Сильванский был осторожнее, когда для приблизительного подсчета принимал семью за двор, а не за деревню, и никогда не выдавал семью за поселение.
2 СГГД, т. I, стр. 88; два варианта, с несущественными отличиями на стр. 157 и 270. Статья »та проходит через все почти договоры, см. стр. 90, 101, 104,109, 112, 115,117,121; 123, 127, 129, 132,134,142, 148,156, 170,187, 189, 217, 220, 222, 225, 227, 230, 236, 238, 241, 243, 246, 248, 256, 258, 262,264, 267, 275, 278, 292, 309, 312, 316, 319.
3 Там же, стр. 55, 67, 99, 145, 282, 286, 324, 329.
4 Там же, стр. 49, 173, 176, 212, 214, 296.
222
А холоп или роба почнет ся тягати с осподарем, а пошлется на правду, а не будет по холопе или по робе поруки, ино их осподарю выдати, а по должнике не будет поруки, ино его обвинити. А пошлины с семьи 3 алтына, а с головы алтын, а кой не почнет ся тягати, с того пошлины нет". Значит, за разысканного и представленного перед волостелем^ беглеца или должника господин платит пошлину только в случае необоснованного надлежащим образом протеста беглеца. Это не выводная, а тяжебная пошлина. Цель статьи — сделав самый вывод бесплатным, добиться прекращения вывода холопов без явки волостелю.
Как видим, счет холопов-беглецов на семьи и головы-одиночки проник и занял прочное место в документах, можно сказать, международно-правовых, и это обстоятельство свидетельствует, разумеется, о его широком и органическом укоренении в быту, в повседневной практике феодального хозяйства и об общем его признании. Это не был только рязанский или тверской термин и счет, ибо контрагентом в этих договорах была и московская сторона; да счет холопов на семьи попадается и в духовных московских грамотах.1 Мы видим чгакже, что термин „семья" здесь — термин насквозь феодальный, термин для учета рабочей силы феодального хозяйства, термин, не выражающий никакого интереса феодала к „поселению" этой рабочей ]силы и не способный компенсировать для времени до XIV в. отсутствие термина „деревня" для обозначения поселения, которое Н. Н. Воронин хочет называть „семьей". Но мы видим также теперь, что спецификация иммунитета в отношении „людей", данных в свое время монастырю князьями- прадедами, введенная в жалованную грамоту Олега, могла иметь в виду организацию монастырем вывода из его бывших земель бортных, без явки московским волостелям, тех голов-одиночек и семей, которые добровольно пошли бы на зов монастырских агентов. В свете приведенных статей договоров подобная операция выступает как широкораспространенное бытовое явление удельной поры, против которого и открывают борьбу договоры.
Сделанное нами сопоставление „семей" наших бортников XIII в. с семьями холопов-беглецов XIV—XV вв. ни в коей мере не обязывает к признанию их непременно холопами же, хотя и нельзя считать исключенным в подобных нашему случаях и такой вид эксплоатации рабской силы. Русская Правда с ее: „за смерд и холоп 5 гривен", летопись с ее: „а холопы наши и смерды выдайте", пословица с ее: „холоп — не смерд, мужик — не зверь" — идут в ряд с прадедовской грамотой XIII в. и позволяют нам видеть за „семьями" рязанских бортников моно- маховых „худых смердов" с неменьшим правом, чем холопов.
1 СГГД, т. I, № 42,
223
А тогда эта реальная черточка нашей легенды о грамот^ рязанских князей XIII в. подарила бы и историографам древнерусских смердов, столь бедным источниками, лишний, хоть и не достаточно дипломатически оформленный, зато и едва ли не единственный, ранний документ, засвидетельствовавший конкретный случай не единичной, а групповой и массовой феодализации смердов.
В заключение, чтобы не упустить и малого в выдвижении реальных черт нашей легенды, отметим, что к их числу надлежит причислить и приобретение Ольговской околицы у муромских князей. Было показано, почему нельзя принять тут всерьез ни цифру „мужей“-покупателей, ни, к величайшему сожалению историка, цифру уплаченных за землю гривен. Но самый факт не вызывает подозрений. А для этой ранней поры факты купли-продажи земли у нас наперечет, — и такой факт зарегистрировать стоит. За ним же стоит и еще один факт, наредкость конкретно иллюстрирующий общепризнанное, но для ранней эпохи неизученное явление — крайнюю чересполосицу княжеских удельных владений. За ким же стоит и третий факт — из поздней истории княжеской дружины. Это — действие вскладчину, которое, может быть, следует отметить как след не территориальной, а все еще профессиональной — на далекой от Киева Рязаньщине — организованности ее на началах боевого товарищества.
Таким образом грамота вел. кн. Олега Ивановича 1371 г., в части, относящейся к пожалованию XIII в., по нашему мнению, должна занять не последнее место в ряду источников так наз. „Киевского периода русской истории“: она не более легендарна, чем любой летописный материал, относящийся к этой бедной документальными источниками эпохе. Нам хотелось показать здесь, что пределы достоверности этой легенды не так уж тесны, но что имеем мы дело здесь все же с легендой.
224
М. Н. ТИХОМИРОВ
О ВОЛОГОДСКО-ПЕРМСКОЙ ЛЕТОПИСИ
I
Летописный свод, получивший название Вологодско-Пермской летописи, в одном из своих списков был известен уже в начале XIX в. На него ссылается и из него делает выписки
Н. М. Карамзин в своей „Истории государства Российского“, Карамзин придавал большое значение этому памятнику, из которого он заимствовал подробности о Куликовской битве, о походе Ахмата в 1480 г., известия о борьбе с вогуличами и т. д. Он называет его Синодальным летописцем № 365, или „Синодальным летописцем в четвертку“ или даже „ветхим“ Синодальным литописцем.1 365-й номер по старому каталогу соответствует № 485, действительно имеющему формат в четвертку. „Ветхим“ же Карамзин мог называть летописца по внешнему виду, так как он написан на очень пожелтевшей бумаге. Изучение выписок, данных в примечаниях к „Истории“ Карамзина, убеждает нас в тождестве № 365 с № 485. Характерно, что места, подчеркнутые карандашом, соответствуют выпискам из летописца, напечатанным в примечаниях к „Истории государства Российского“. Эти выписки у Карамзина цитировались потом многими историками только по „Истории государства Российского“, хотя Синодальный летописец был доступен для исследователей.2
Независимо от Синодального списка, текст Вологодско- Пермской летописи был открыт А. А. Шахматовым. В своей работе „Общерусские летописные своды XIV—XV веков“3 Шахматов указывает на „любопытную компиляцию“, известную
1 Н. М. Карамзин. История государства Российского, VI, 2-е изд., СПб., 1819, прим. 209, 214, 220 и др.; ссылки на Синодальную летопись N» 365 делаются и в других томах.
2 Перемена номеров по каталогу создала у многих ученых представление о том, что Карамзин имел в своих руках синодальные рукописи, уже до нас не дошедшие. Между тем, в настоящее время с полной уверенностью можно говорить, что почти все синодальные рукописи, известные Карамзину* в^целости сохранились и до нашего времени.
3 ЖМНПр., 1900, сентябрь, стр. 141—144.
15 Проблемы источниковедения
225
ему по двум спискам Библиотеки Академии Наук. Один из списков был им назван Никаноровским, как принадлежавший архимандриту Воскресенского монастыря Нового Иерусалима Никанору, другой „Вологодско-Пермской летописью“, так как, „начиная с 1481 года и кончая началом XVI века, в ней встречаются местные вологодские и пермские известия“ (стр. 141). Изучая общерусские своды, Шахматов рассмотрел только первую часть Вологодско-Пермской летописи до 1480 г., правильно указав, что в основе текста Вологодско-Пермской летописи до 1418 г. лежат Карамзинский и Оболенский списки Софийских летописей, известия же 1418—1480 гг. изложены по предполагаемому своду 1480 г.
Позже, с некоторыми изменениями, свои взгляды на Вологодско-Пермскую летопись Шахматов изложил в статье „Летописи“, помещенной в „Новом энциклопедическом словаре“. Еще позже вопрос о Вологодско-Пермской летописи был заново пересмотрен Шахматовым в одной из глав его неопубликованного труда, изложение которого сделано А. Н. Насоновым в статье „О неизданной рукописи А. А. Шахматова: Обозрение летописных сводов“.1 А. А. Шахматов рассматривает три списка летописи: Велико-Пермский (Вологодско-Пермский),
Кирилло-Белозерский и Синодальный. Шахматов считает, что „в части 1315—1528 гг. Велико-Пермская летопись в общем тождественна с протографом Кирилло-Белозерского и Синодального списков. Но составитель протографа Кирилловского и Синодального списков продолжил летописный рассказ событиями 1529—1538 гг., а с другой стороны, дополнил его вставками нескольких обширных статей. Характерно, что и в этом новом труде А. А. Шахматов интересовался главным образом Вологодско-Пермской летописью, как материалом для восстановления Московского свода 1480 г.
Отдельные части Вологодско-Пермской летописи были напечатаны. Так, в вариантах к Симеоновской летописи за 1425—1473 гг. были частично изданы списки: Никаноровский, Велико-Пермский и Кирилло-Белозерский.2
С. Шамбинаго издал по двум спискам Вологодско-Пермской летописи сказание о Мамае,3 впрочем, не отметив даже содержания самих рукописей, из которых он заимствовал текст. Рассказом о походе Ахмата в 1480 г., помещенном в Вологодско- Пермской летописи, пользовался А. Е. Пресняков в своей статье о походе Ахмата на Угру.4 Наконец, на эту летопись ссылается С. В. Бахрушин в книге „Остяцкие и Вогульские
1 Проблемы источниковедения, вып. II, М., 1936, стр. 297—298.
2 Полное Собрание Летописей, Том XVIII, стр. 111 и 159—244.
3 С. Шамбинаго. Повести о Мамаевом побоище, СПб., 1906 г., приложения, стр. 3—37.
4 А. Е. Пресняков. Иван III на Угре, в * Сборнике статей, посвященных С. Ф. Платонову“ (СПб., 1911).
226
княжества ö XVI—XVII веках". Уже это обилие авторов, пользовавшихся Вологодско-Пермской летописью, показывает ее крупное значение как исторического источника. Подробный же анализ ее текста обнаруживает, что эта летопись крайне интересна не только со стороны содержания, но и по истории своего возникновения. При этом здесь же следует отметить, что традиционное название „Вологод<*ко-Пермская летопись" не покрывает содержания всего летописного свода и только отчасти соответствует его происхождению. Вопрос о Вологодско-Пермской летописи необходимо еще раз поставить и потому, что исследователь теперь может приступить к более полному изучению летописи, так как в настоящее время известен новый список этого памятника, относящийся к XVI в. и оставшийся неизвестным А. А. Шахматову.
II
В настоящее время известны четыре списка Вологодско- Пермской летописи, не считая Никаноровской летописи, являющейся летописным сводом особого характера.
I. Синодальный список № 485 (сокращенно Син.), написан в 4°, на 558 лл. По листам идет счет тетрадей, из которого видно, что рукопись состоит из двух частей, механически между собой соединенных.
Рукопись написана разными почерками второй половины XVI в.
Летописный рассказ начинается продолжением известия 6523 (1015) года: „пристрои вой без числа роуси и печенег"; оканчивается известием 1538, после чего другим почерком приписано известие 7048 (1540) года о битве у Пятницы на Плесе.1
II. Кирилловский список (сокращенноКир.),названный так потому, что он в XVI в. принадлежал Кирилло-Белозерскому монастырю (в настоящее время принадлежит Институту истории Акад. Наук СССР), представляет собой рукопись в 4°, на 564 лл. Водяные знаки рукописи ведут нас (по Брике), к первой половине XVI в.
Вся рукопись написана одним полууставным почерком второй половины XVI в.
В Кирилловском списке текст летописи сохранился полностью, начинаясь „Повестью Временных лет" и кончаясь 1538 г.
III. Академический список, по Шахматову — Вологодско- Пермский или Велико-Пермский (сокращенно Ак.), принадлежит Библиотеке Академии Наук, под шифром 16. 8. 15. Рукопись написана в 4°, на 408 лл., полууставом второй половины XVI в.
1 В дальнейшем выписки из Вологодско-Пермской летописи без обозначения списка приводятся по Синодальной рукописи.
15*
227
Академический список, как мы его будем называть в дальнейшем, начинается продолжением известия 1249 г. „ ... др едеть, и поиде великый князь Александр в орду ко царю". Академический список оканчивается на известиях 1526 г. После окончания летописи в Академическом списке помещено „после- дованйе древних възысканйем" (см. Соф. 2 Лет. в Поли. Собр. Лет., VI, стр. 303—315), но конца последования не сохранилось, оно обрывается на л. 386 об. На л. 387 и далее помещен отрывок из жития и службы Стефану Пермскому.
IV. Чертковский список (сокращенно Черт.) принадлежит Государственному Историческому музею (собрание Черткова, № 360). Он написан в 4°, на 458 лл., без конца и без начала. Многих листов недостает.
Текст списка начинается с рассказа о расселении сыновей Ноя: „имать Сардании, Кипр, Крит,рекаГион,зовомый Нил..." Оканчивается на известии 1537 г. о бегстве князя Андрея Ивановича Старицкого. В конце к корню переплета приклеен последний лист рукописи, на котором тем же почерком написано: „Иосаф игумен ТроицкоиСкры... монастыря. В лето 7061...тя царь князь великии Иван Васильевич Казань взял, потому что были его неизменные".
Чертковский список отличается многими сокращениями, особенно в древнейшей своей части, но имеет и ряд статей, не сохранившихся в других списках.
Из четырех описанных выше рукописей полный текст летописи встречаем только в Кирилловском списке, но трудно думать, что начало списков Синодального, Академического и Чертковского не было с ним вполне сходно. В этом нас убеждает большая близость сохранившегося текста всех списков. Это доказывается и Чертковским списком, потерявшим не более 1—2 листов в начале текста. Начало летописца в Кир. таково: „Летописець Руския земли. Повесть временных лет, откуда пошла Русская земля. И кто в ней первое нача княжити и откуду Руская земля стала есть. Се начнем повесть спо. По потопе сынове Ноеви разделиша..." IIIIII
Определение источников первой части Вологодско-Пермской Летописи может быть сделано довольно точно.
Основой для всей первой части Вологодско-Пермской летописи от ее начала и кончая 1408 г. послужила, несомненно, Софийская Первая летопись. Но заимствования из Софийской Первой летописи продолжаются и дальше до 1418 г. Список Софийской Первой летописи, послуживший для Вологодско- Пермского свода, по своим особенностям стоял в ближайшей связи со списками Карамзина и Оболенского, как это было еще указано А. А. Шахматовым в статье об „Общерусских летопис-
228
ных сводах XIV и XV веков". Близость эта в основном доказывается следующим: Вологодско-Пермская летопись включила в себя как раз те известия, которые характерны для Карамзин- ского и Оболенского списков, и в других списках Софийской Первой летописи не встречается. Далее сходство Софийской Первой летописи с Вологодско-Пермской оканчивается на 1418 г., т. е. конец близости их точно совпадает с концом списков Карамзина и Оболенского, тогда как другие списки Софийской Первой Летописи продолжены и далее.
Близость текста Вологодско-Пермской летописи с Карам- винским и Оболенским списками Софийской Первой летописи особенно заметна в следующих случаях: под 1159 г. во всех списках Вологодско-Пермской говорится о знамении от иконы и поражении суздальцев, согласно Кар. и Обол, спискам. Под 1175 г., после слов о смерти Андрея Боголюбского, в Вологодско-Пермской летописи помещено известие о выводе кн. Юрия Андреевича из Новгорода, имеющееся только в Кар. и Обол, списках. Под 1256 г. в Вологодско-Пермской летописи есть начальные известия этого года, как и в Кар.-Обол. списках. Известия 1167 г. из всех списков Софийской Первой летописи указаны лишь в Кар.-Обол. списках, в такой же редакции они помещены и в Вологодско-Пермской летописи. Известие 1294 г. о поставлении Тит Мановичем городка на Нарове имеется только в Кар. и Обол, списках; в той же редакции оно помещено в Вологодско-Пермской летописи.
Составитель Вологодско-Пермской летописи подверг свой источник, Софийскую Первую летопись, большим сокращениям, причем известия многих лет были выпущены. Например, о взятии Коростеня Ольгой в Вологодско-Пермской летописи рассказывается так: „и бьяхуся (древляне) крепко из града, ведяху бо, яко сами убили князя, и взя Олга град и изсече я, а на останок дань возложи" (Кир.). Среди наиболее важных сокращений необходимо также отметить пропуск родословной великих князей и каталогов епископов. В сокращениях текста трудно заметить какую-либо закономерность, но в общем можно сказать, что наибольшему сокращению подверглись древнейшие части свода.
Особым обилием сокращений отличается Чертковский список, среди крупных сокращений которого следует отметить пропуск послания Василия о рае.
На ряду с сокращениями в Вологодско-Пермской летописи, встречаем и ряд дополнений. Из них отметим важнейшие.
1) под 1245 г. помещено сказание об убиении кн. Михаила Черниговского, более полное, чем в печатном тексте Софийской Первой летописи; 2) под 1341 г. помещена заметка о трех женитьбах Симеона Гордого; 3) под 1380 г. помещено, вместо обычной летописной повести, большое сказание под заголовком
229
„Побоище великому князю Дмитрию Ивановичу на Дону с Мамаем".
Вологодско-Пермская летопись следовала Софийской вплоть до 1408 г. До этого года известия черпались почти целиком из Софийской Первой. С 1408 г. в Вологодско-Пермской летописи начинаются выписки из другого источника. Составитель свода, выписав из Софийской Первой летописи известия 1408 г., вновь повторил 1408 год и написал заголовок „о коркоте" (Черт. — „о ркоте“) для известия, взятого из другой летописи. С 1408 г. и кончая 1418 г. Вологодско-Пермская летопись пользуется двумя источниками. Последнее известие, взятое в Вологодско-Пермскую летопись из Софийской Первой — рассказ под 6926 (1418) годом о междоусобии в Новгороде из-за Степанки. Но еще до окончания Софийской Первой Вологодско-Пермская летопись пользуется известиями из второго источника (под 1408 и 1409 гг.) о коркоте, мире с Витов- том, о тверских князьях, о Едигее и Талыче, о княжне Анне.
С известия же 1425 г. Вологодско-Пермская летопись дает текст однородный с Симеоновской летописью. Эта близость позволила при издании последней (П. С. Р. Л., т. XVIII) воспользоваться вариантами Кир. и Ак. списков. Тем не менее источник, которым пользовалась Вологодско-Пермская летопись, не может быть возведен непосредственно к Симеоновской и в некоторых случаях отличается чертами большей древности. Так, в Симеоновской встречаем известие о смерти Витовта разбитым на два года, 1430 и 1431; в Вологодско-Пермской летописи оба эти известия объединены, и 1431 год не показан вовсе. Под 1478 годом читаем в Вологодско-Пермской летописи пропущенное в Симеоновской прозвище Ивана Фрязина „Волп“ и т. д. Кроме того, тот свод, который лег в основание известий Вологодско-Пермской летописи за 1408—1473 гг., отличается от Симеоновской и характером своих известий за 1420— 1424 гг. Так, все известия этих лет в Вологодско-Пермской летописи дают текст, сходный не с Симеоновской, а с Воскресенской летописью. Так как трудно допустить, что составитель свода пользовался именно для известий этих годов какими-то новыми источниками, то надо думать, что в основе известий Симеоновской и Вологодско-Пермской летописей лежал общий источник, причем Вологодско-Пермская взяла из него часть известий 1408 и 1409 гг. и полностью, в виду окончания первого источника (Соф. Первой), все известия 1420—1473 гг.
Полное сходство Вологодско-Пермской летописи с Симеоновской, начинаясь с 1425 г., кончается на 1473 г. Однако и текст Вологодско-Пермской за последующие 1473—1476 гг. в основном может быть возведен к протографу Симеоновской летописи. Это сходство обрывается на 1476 г., последних известий которого (о гибели месяца, о знамении 11 марта и страшном громе 31 августа) в Симеоновской не имеется, но известия эти
230
сохранились в Уваровской и в Ростовской летописях. Известия Вологодско-Пермского свода за 1477—1479 гг. в основном своем содержании сходны уже не с перечисленными летописями, а с Воскресенской. Между тем общим источником Симеоновской, Ростовской, Уваровской и Воскресенской летописей, по иссле~ дованию А. А. Шахматова, был более древний свод, названный им сводом 1480 г. Не касаясь здесь вопроса о времени возникновения этого свода, отмечу только, что свод, подобный предполагаемому Шахматовым своду 1480 г., мы имеем в Уваровской рукописи № 1366 (летописец первой черверти XVI в.), которая в части за 1418—1479 гг. имеет особенности как раз Вологодско-Пермской летописи.
IV
Следы пользования вторым источником (сводом 1480 г.) оканчиваются на 1479 г. Под этим годом говорится о приходе к великому князю двух крымских царей, после чего следует известие об отъезде братьев великого князя к Великим Лукам, и далее, уже в другой редакции, опять о приезде крымских царей. 1479 год в Вологодско-Пермской кончается известиями об убиении царевича Мередулата и рождении великому князю сына Георгия. Если первые известия о приезде царей и рассказ об убиении Мередулата и рождении великому князю сына могут быть отнесены еще к своду 1480 г., то известие об отъезде князей и второе известие о приходе крымских царей несомненно восходят к какому-то новому, третьему источнику. К этому третьему источнику Вологодско-Пермской должны быть отнесены все известия за 1480—1483 гг. Здесь под особыми заголовками помещены неизвестные по другим летописям статьи „о приходе безбожного царя Ахмута на Угру", „о преставлении князя Андрея Меншаго", „ о взятии Киева града от царя", „о великой княгине Елены". Этим третьим источником была летопись, возможно, Вологодского происхождения, так как под 1481 годом здесь говорится о пожаре Вологды и сохранении посада „божиим заступлением".
Заимствования из третьего источника кончаются на 1483 г., после чего опять повторен 1477 год и дано известие о суровой зиме этого года, вслед за чем снова повторен 1483 год и затем статьей о вогуличах и их князе Асыке начинается дальнейший текст, уже без перерывов.
Текст Вологодско-Пермской летописи за 1483—1496 гг. явно составлен из двух источников: 1) каких-то летописных заметок, составленных на севере Руси при дворе епископа Пермского Филофея, и 2) из летописных известий московского происхождения, большей частью в редакции продолжения Симео- нрвской летописи (до 1493 г.). Для знакомства с текстом Воло-
251
годско-Пёрмской летописи за 1483—1496 гг. приведем некоторые известия ее за эти годы, отмечая отличия от Симеонов- ской летописи.
Под 1483 годом, после известия об Асыке и его сыне Юмшане (в Сим. нет), следуют записи о рождении вел. князю Ивану Васильевичу дочери Елены, о закладке каменной церкви Благовещения, имеющиеся и в Симеоновской летописи, где они отнесены к 1484 г. Вслед за этим известием находим статью о посольстве Асыки и потом Пыткея к великому князю и печа- ловании о нем владыки Филофея. Под 1485 годом следует статья „О миру“ между великим князем и кодскими князьями. Мир был заключен под владычным городом Усть-Вымским (в Сим.— нет). Под 18 августа говорится о посольстве вогульского князя Юмшана и поездке с ним епископа Филофея в Москву (в Сим. — нет). Вслед за этим говорится о смерти вел. кн. Марьи и о взятии Твери. Эти два последние известия есть и в Сим., но в конце статьи о взятии Твери встречаем характерную приписку, не имеющуюся в тексте Сим.: „а князя Михаила Холмского князь великии поймали с сыном и со княгинею, и послал его в заточение на Вологду“.
Под 1487 годом известие о взятии Казани имеется и в Сим., но в Вологодско-Пермской встречаем характерную добавку: „того ж месяца августа приездил от великого князя Ивана Васильевича ко владыце в Пермь, на Усть Выми с тою вестию, со Казань- ским взятием его сын боярский Микула Малой Ангелов сын Греч“ (или „Гречинов“—в Кир.).
Под 1489 годом встречаем статьи о взятии Вятки, которая дает текст, близкий к Сим., но носит определенно севернорусский характер и обличает человека, близко знакомого с обстоятельствами события. В Вологодско-Пермской летописи эта статья дошла в более полном виде. Так, к словам о том, что вятчан развели по городам, прибавлено: „а подавал им поместья“, в конце же встречаем заметку „а коромольников вятчан Ивана Аникеева, да Палку Багаданщикова (в Кир. „Багадайщикова“) и иных велел князь великии повешати“.
Под 1490 годом встречаем подробную заметку о смерти и погребении дьяка Василия Мамырева, о посольстве Максимильяна о двух стрельницах на Москве. Все эти известия есть и в Сим., причем некоторые из них (о двух стрельницах) там полнее, но о смерти Мамырева в Вологодско-Пермской сказано так: „Того же лета месяца июня в 5 день с суботы на неделю в 3 час нощи преставися великого князя дьяк Василий Мамырев, а жит лет 60 без двух да полшестадесят дней, а во мнишеском чину наречен бысть Варсунофей и положен бысть у Троицы в Сергееве монастыре июня в 7 день в понедельник в 3 час дни, а гроб его противу Никонова гробу на той же стране церкви, а в диачестве был 20 лет без 8 месяць, а имянины его были апреля 12, Василья Парискаго“. Это известие вошло в другие летописи (П. С. Л.,
232
IV, 157 и VI, 239), но в наиболее полном виде сохранилось
в Вологодско-Пермской.
Под 1491 годом находим подробную статью „о митрополите Зосиме“, говорящую об его поставлении, на котором был й еп. Филофей (в Сим. нет). Далее следует о после из Чагодаи и соборе на еретиков. Эти известия в той же редакции помещены в Никоновской летописи. Вслед за этим в Кир. и Сим. идет повесть о сретении Владимирской иконы; в Ак. этой статьи нет, а текст прямо переходит к рассказу о поставлении еп. Авра- амия Коломенского, о знамении в Новгороде и посылке на Печору искать руду. Эти три последние известия есть и в Сим. Но далее в Вологодско-Пермской следуют статьи, которых нет в других летописях: „о пожаре владимерском“, о пожаре углетцком“ „о болшой палате, что на площади“, после чего следуют опять известия, помещенные и в Сим.—о возвращении Юрия Грека и стрельнице Петра Фрязина.
Под 1492 годом сообщается „о поимании князя Андрея Васильевича Углетцкого“ (в Сим. в другой редакции). Вслед затем известия идут опять по Симеоновской летописи: о письме в сохи Тверской земли, о находке серебра и меди на Печоре, о приходе Юрия Делатора и после Мушате от Стефана Волош- ского. Здесь оканчивается сходство с Симеоновской летописью, и следует ряд заметок неизвестных по другим летописным сводам, прежде всего статья: „о Вологде граде, как прииде к Пермьской епископьи“. После этой статьи опять повторен 1491 год и подробно рассказывается об отправлении на Печору мастеров делать серебро и медь, и о приезде еп. Филофея на Вологду, о пожаре на Устюге старой церкви. Под 1492 годом говорится о построении новой церкви на Устюге, а под следующим 1493 г. о пасхалии, изложенной на Москве Зосимой и подтвержденной на Вологде Филофеем, о знамении на Устюге, о поставлении еп. Филофеем на Устюге церкви. Под 1494 годом говорится о суровой зиме в Перми, под 1495 годом о походе на Свею и о ссылке митр. Зосимы с митрополии.
Под следующим 1496 годом следует большая статья о поставлении митр. Симона, на котором был и еп. Филофей Пермский. Эта статья в той же редакции помещена в „Летописце, служащем продолжением Нестору“. Под тем же годом говорится о приезде из Литвы высланных бояр великой княгини Елены, о приезде из Царьграда Федора Ласкаря 16 октября (известие это есть в Русск. Врем., но число указано только в Вологодско- Пермской летописи), о походе великого князя к Новгороду. Повидимому, здесь оканчиваются известия Вологодско-Пермского характера, так как далее встречаем известия, связанные с севером Руси (о походе на вогуличей и о вологодском пожаре), только под 1499 годом. \
233
V
После указанных выше статей, 1496 год опять повторен, причем отсюда начинается сходство Вологодско-Пермской летописи С Воскресенской и с Софийской Второй, а также так называемой Уваровской.1 Если вспомнить, что Софийская Вторая летопись не имеет сходства с продолжением Симеоновской, которая в части своих известий сохраняет близость к „московским" известиям Вологодско-Пермской летописи, то станет ясным, что с 1496 г. Вол.-Пермская черпает свои известия уже из четвертого источника, причем это опять подчеркнуто механическим повторением 1496 года.
Переходя теперь к характеристике этого четвертого источника, раньше всего отметим, что таким источником ни Воскресенская, ни Софийская Вторая, ни Уваровская летописи признаны быть не могут, так как Вологодско-Пермская летопись, с одной стороны, имеет ряд известий, в них отсутствующих, с другой стороны, дает некоторые известия в более полном виде. Рядом с этим текст Вологодско-Пермской летописи обычно более краток, чем в упомянутых выше летописях.
Дадим теперь краткий обзор содержаний 4-й части Вологодско-Пермской летописи, отмечая те известия, которые не дошли до нас по другим летописным сводам или даны в них в другой редакции.
Под 1498 годом в Вологодско-Пермской говорится о поста- влении Дмитрия внука, о казни Ряполовского, о поимании кн. Сем. Ромадановского. Эти известия даны в иной редакции, чем в других летописях.
Под 1499 годом говорится о походе на вогуличей из Москвы (есть и в Львов, стр. 269), о пожаловании . Василия великим княжением Новгородским и Псковским, „о пожаре Вологодцком". Последние два известия не помещены в других летописях.
Следующие за этим известия имеются в Воскресенской, Софийской Второй и Уваровской летописях (а также в Русском Временнике). Но в рассказе о битве на Ведроше в конце добавлено: „а убиенных литвы и ляхов болши тридцати тысяч".
Известия 1502 года в Вологодско-Пермской в основном соответствуют Воскресенской и Софийской Второй, но под тем же годом говорится об опале на Дмитрия внука и о возведении Василия на великое княжение, причем рассказ дан в иной редакции, чем в Воскресенской и др. летописях.
Под 1510 годом в Вологодско-Пермской говорится о походе великого князя Василия Ивановича на Псков. Рассказ
1 См. Полное собрание летописей, том XXIII; текст Уваровской летописи до его конца (1518 г.) целиком соответствует Софийской Второй по Архив- скому списку.
234
имеет большое отличие от Воскресенской и других летописей. Так, после слов „псковичь всех поимати"— в Вологодско- Пермской следует „и по детем по боярским раздати"; далее — ,и поехал государь князь великий из Новгорода генваря в 24"; после слов: „Троицы челом ударил" в Вологодско-Пермской добавлено: „обедни и молебна слушал, а колокол вечной велел свесити, а посадников и бояр и купцов и всех пскович велел привести к целованию" и т. д.
Под 1511 годом в Вологодско-Пермской летописи помещен рассказ о князе Симеоне Ивановиче в особой редакции, неизвестной по другим летописям.
Под 1514 годом в рассказе о взятии Смоленска между прочим добавлено о Михаиле Мстиславском: „он же изменник не по мнозе государю великому изменил, крестное целование преступил и отъехал к Литовскому королю и с вотчиной".
Под 1515 годом в Вологодско-Пермской сравнительно с другими летописями добавлено известие: „Тоя ж зимы поставлен бысть епископ в град Смоленск Иосиф архимандрит Чюдовский преосвященным Варламом митрополитом всеа Русш, а владыка Смоленский Варсонофей пойман бысть и приведен на Москву за его измену, и с Москвы послаша его в монастырь на Каме- ное за Волгу".
Под 1525 годом известия о нападении крымских татар, имеющиеся в Софийской Второй летописи, в Вологодско- Пермской даны в значительно дополненном рассказе.
Под 1525 годом в Вологодско-Пермской *летописи приведено отсутствующее в Воскресенской и Софийской Второй летописи известие: „Тоя ж зимы князь великий велел казнити смертною казнью боярина своего Берсеня Беклемишева, головы ссечи на Москве на реке, а Федору Жареному велел язык вырезати, а старцов святые горы Афонскиа архимандрита Саву Спаса Нового да старца Максима Г река послал в заточение во Иосифов монастырь".
Под следующим 1526 годом в Вологодско- Пермской летописи говорится: „В лето 1526 декабря князь великии Василеи Иванович велел постричи в черницы свою великую княгиню Соломониду и послал в Суздаль в монастырь к Покрову Пречистые в Девич монастырь, а постриг ее на Москве у Рожества Пречистые за пушечными избами в Девиче мана- стыре Николскои игумен Старого Давид. Тое ж зимы февраля в неделю о блуднем князь великии Василеи Иванович всеа Русии женился, взял за себя княжну Елену,, дочерь княж Васильеву Глинского Темного (В. Ак. все эти известия сильно сокращены).
Под тем же 1526 годом помещена и другая заметка, неизвестная по иным сводам: „Тое же весны на Москве -С^церкви Архангела Михаила на площади свалилося яблоко из-под креста, да убило сына боярьского стародубца до смерти. Того же
235
лета приехал из Литвы к великому князю служити князь Федор Михайлович Ижеславский (Мстиславьсюй— Ак.) и государь князь великии Василеи Иванович прия его с великою любовию честно и пожаловал его, дал ему княж Васильевские городки Шемячича в вотчину, Ярославец да Кременец да волость Мышегу, да дал ему город Коширу в кормление. Того же лета по русским городом хлеб был дорог, на Москве четверть по шти алтын, а на Вологде и по иным городом по двадцати алтын и боле, а на Тотме купили четверть по рублю".
Этим известием кончается Академический список, после чего в нем показан 1534 годом и говорится о смерти вел. князя Василия Ивановича, тогда как в Кир., Сим. и Черт, текст продолжен и далее. В известиях 1528 г. эти списки сохраняют еще близость с Воскресенской и Софийской Второй летописями, давая рассказ о набеге Ислама. Но с этого года текст Вологодско-Пермской летописи окончательно расходится с Воскресенской и Софийской Второй. Таким образом надо думать, что здесь именно кончалась та летопись, которая легла в основу как Вологодско-Пермской, так и Воскресенской, Софийской Второй и Уваровской (до 1518 г.) летописей. Эта летопись, несомненно, была московского происхождения и ярко окрашена в тона особой близости к московскому двору и великому князю Василию Ивановичу. Можно думать (ср. известия о князе Андрее Ивановиче, о набеге татар и действиях наместника Хабара под Рязанью, о постриге Соломониды), что в Вологодско-Пермской летописи этот московский летописец сохранился в более древнем виде, чем в Воскресенской и Софийской Второй летописях.
VI
С 1529 года в Сим., Кир, и Черт, списках начинается текст летописи за 1529—1539 гг. неизвестный по другим сводам. Приведем краткий обзор содержания этих текстов, по Синодальному списку.
Под 1529 годом говорится о поездке вел. князя Василья Ивановича по монастырям.
Под 1530 годом помещено известие о походе на Казань и о рождении великому князю сына Ивана.
Под 1532 годом говорится о колоколе благовестнике.
Под 1533 годом сказано о рождении великому князю сына Юрия и набеге крымского царя Саиб-Кирея.
Под 1534 годом говорится о смерти вел. князя Василия Ивановича, о поимании князей Юрия и Михаила Лв. Глинского, отъезде Симеона Бельского в Литву и поимании Ивана Бельского.
Под 1535 годом помещено известие о походе на Литву, о смерти кн. Мих. Вас. Горбатого Кислого, о новом походе на Литву, построении Себежа и взятии литовцами Стародуба.
236
Под 1536 годом говорится о приезде литовцев под Себеж.
Под 1537 годом — о приходе Сафакирея Казанского под Муром» о приходе в Москву литовских послов, о поимании князя Андрея Ивановича.
Под 1538 годом — о смерти вел. кн. Елены и поимании кн. Ив. Фед. Оболенского-Телепнева Овчины. На половине этого известия оканчивается Чертковский список.
Под 1539 годом — о казни дьяка Мишурина, ссылке митрополита Даниила и поставлении на его место Иосафа Скрипицына.
После этого в Син. списке опять повторен 1534 г. и говорится о казнях за порчу денег, о построении Китай-города в Москве.
Под 1536 годом — о новых деньгах новгородских.
Под 1538 годом — о приходе татар к Костроме, о новых деньгах московских.
На этом известии кончается Вол.-Пермская летопись, но в Син. приписано еще другим почерком известие 7048 (1540) года о приходе татар под Кострому, а в Чертковском списке два известия, о которых будет речь ниже и из которых второе относится к 1551 году.
Отличием Кир. от Син. является то, что известия Син. за 1533—1538 гг. приписаны в конце текста, тогда как в Кир. они разнесены по соответствующим годам. Можно думать, что в этом случае Син. список ближе к первоначальному подлиннику, так как трудно предполагать о намеренном выделении из текста статей с тем, чтобы их поместить в конце летописи. Таким образом приходится предполагать, что конец летописца был составлен из двух источников, один из которых был доведен до 1539 года, а другой представлял собой краткие записки, современные событиям за 1535, 1536 и 1538 гг.
Таким образом исследование Вологодско-Пермской летописи обнаруживает, что она состоит из следующих 6 основных частей:
1. От начала идо 1418 года включительно Вологодско-Пермская летопись в основном дает текст Софийской Первой летописи по спискам Карамзина и Оболенского.
2. С 1418 по 1479 гг. Вологодско-Пермская летопись соответствует своду 1480 года, причем заимствования из него начинаются уже с 1408 года.
3. За 1480—1483 гг. Вологодско-Пермская летопись дает текст особый, неизвестный по другим летописям, повидимому заимствованный из летописи северного происхождения, после чего следует повторение 6985 (1477) года.
4. За 1483—1492 гг. в Вологодско-Пермской помещен текст, соответствующий в основе продолжению Симеоновской летописи в соединении с летописными заметками, составленными при дворе Пермского епископа Филофея, причем за 1493—1496 гг. эти заметки составляют основу известий Вологодско-Пермской летописи.
237
5. После повторения 1496 года, с 1496 по 1528 гг. текст Вологодско-Пермской летописи очень близок к Воскресенской и Софийской Второй, но во многих случаях полнее и древнее, как основанный на их общем и более древнем протографе.
6. Наконец последняя часть Вологодско-Пермской летописи за 1529—1539 гг. дает текст, неизвестный по другим летописям и сложившийся из двух летописных источников московского происхождения.
VII
Ряд данных с большим вероятием указывает, что в основе списков Вологодско-Пермской летописи лежала более древняя компиляция конца XV в. Только допустив существование этого свода, мы можем объяснить себе особенности первой, наибольшей по размерам, части Вологодско-Пермской летописи от начала ее до 1496 года. Наиболее характерной особенностью этой летописи за 1480—1496 гг. является резко выраженный интерес к северу Руси — Перми, Вологде и Великому Устюгу, причем почти все эти известия так или иначе связаны с именем пермского епископа Филофея, правившего Пермской еписко- пией с 1472 по 1502 г.
Даже в известиях Вологодско-Пермской летописи за эти годы, носящих „московский“ характер и имеющих аналогию с известиями продолжения Симеоновской летописи за те же годы, мы имеем дело с определенной редакционной работой. Так, в известиях о взятии Твери под 1486 годом, которое в основном передано в Вологодско-Пермской летописи согласно с Симеоновской, имеем характерную добавку о князе Михаиле Холмьском, сосланном в Вологду. Такое же еще более характерное добавление имеем и в известиях 1487 года о взятии Казани, весть о котором привез в Усть-Вымь к Филофею Микула Греч. Под 1489 годом в рассказе о взятии Вятки (см. Сим.) в Вологодско-Пермской летописи добавлено о кромольниках вятчанах. Как в Симеоновской, так и в Вологодско-Пермской летописях встречаем известие об отправке мастеров на Печору искать руду, но в Вологодско-Пермской встречаем и другое более подробное известие о том же под 1491 годом с явным указанием на Пермь.
Таким образом у нас есть основание думать, что московская летопись, легшая в основание известий за 1483—1496 гг. была не только соединена с известиями, относящимися к северу Руси, главным образом к Перми и Вологде, но и подвергнута соответствующей обработке. Эта обработка не ограничилась только известиями за 1483—1496 гг., но коснулась и более ранних известий. Так известия 1472 года о поставлении Филофея епископом на Пермь и о походе на Пермь в Вологодско-Пермской летописи выделены особыми заголовками „о перьмском епископи Филофеи“ и „о Великой Перми“.
238
Под 1455 годом в Вологодско-Пермской летописи встречаем известие о смерти Питирима Пермского от вогуличей, отсутствующее в Симеоновской летописи. Этим подчеркивается интерес именно к событиям, связанным с Пермью. Вообще же выбор источников для составления свода был, повидимому, определен существованием в так называемом своде 1480 года и в продолжении Симеоновской за 1483—1494 гг. известий о Перми и севере Руси (об убиении Питирима в Перми, о Филофее и походе на Пермь, о взятии Вятки, посылке мастеров на Печеру).
На конец XV в., как на время составления Вологодско- Пермского свода в собственном его смысле, указывает и переделка Софийской Первой летописи, положенная в основу древнейших известий свода.
Над текстом Софийской Первой летописи была произведена определенная редакторская работа, характер которой становится особенно ясным на известиях новгородского происхождения. Например, под 1179 годом в Новгородско-Пермской летописи читаем: „Прииде в Новгород Ярополк, седе на столе, и дая Всеволод части Ноугородцкия, и выиде Ярополк из Нова- города“ (Кир.). Таким образом получается, что Ярополк по собственной воле сел в Новгороде на стол и по собственной же воле вышел, тогда как в Софийской Первой летописи, согласно с общей Новгородской формулировкой, было сказано: „посадиша в Новегороде на стол Ярополка", и далее — „показаша новгородцы путь Ярополку" (стр. 178). Такие же искажения, или вернее, с точки зрения редактора свода, исправления встречаются и под другими годами. Вот еще примеры таких же поправок. — Под 1195 годом в Софийской Первой говорится: „послаша новгородци посадника... по князя Ярослава Все- володича" (стр. 183); в Вологодско-Пермской: „биша челом ноугородцы князю Ярославоу Всеволодичю“. В смысле искажения текста особенно характерен 1197 год. — „Прииде князь Ярополк Ярославич в Новгород ис Чернигова, и сидевшу ему б месяц и добиша челом ноугородцы князю Ярославу, и прииде в Новгород и седе на столе и пожаловал ноугородцов всем".
В Софийской Первой летописи под этим годом написано: „В лето 6705 прииде князь Ярополк Ярославичь в Новгород ис Чернигова и седевшу ему 6 месяц... и послаша опять по князя Ярослава, прииде князь Ярослав в Новгород и седе на своем столе, и обияся великою любовию с Новгородци" (стр. 283).
К числу очень своеобразных поправок, которые были внесены в первоначальный текст Софийской Первой, принадлежат также поправки в названиях местностей. Так, под 1168 годом слова( Софийской летописи „поидоша к Раковору", заменены словом:1 »к Кракову", причем это слово повторено опять, а раковорцы
239
названы „краковцы". Под 1191 годом вместо „на рубеже" написано „на Дубеже", под 1157 годом вместо „бежа" „на Любец" — сказано „на Любоутеск", под 1093 годом, вместо „взяша город Торческ", имеем — „Торопческ", „первии населеници в Киеве фрязи" (Кир.), вместо „варязи". Эти искажения географических имен обличают нам в составителе свода московского человека (Лубутск, Торопец, Дубеж), слыхавшего о Кракове и не знающего Раковора. Провинциализм составителей свода отразился и на целом ряде поправок в тексте Вологодско-Пермской летописи, которые зависели от стремления редактора свода осмыслить текст. Так, вместо известных слов начальной летописи — „суть поляне в Киеве" и пр., находим фразу: „и до сего дни словут кияне" (Кир.). Далее слова о дикости предков, умыкавших „у воды девицы жены себе" заменены непонятными словами: „умыкаху у вдовиц девицы жены себе" (Кир.). Под 1156 г. фразу об Андрее Боголюбском — „приведе ему бог... мастеры", Вологодский-Пермский свод заменяет словами — „монастыри", под 1260 годом слова „взяша Воищину" Вологодско- Пермская летопись исправляет на фразу: „взяша вотчину". Под 1431 годом в Вологодско-Пермской встречаем слова: „Углечь державу", тогда как следует „Углич да Ржеву", и т. п.
Последовательное изменение новгородских известий с определенной московской тенденцией доказать права великих князей на Новгород указывает на определенную эпоху, время еще незабытой борьбы за Новгород, т. е. на вторую половину XV в.
Мы не можем с точностью сказать, были ли сделаны все эти поправки составителями Вологодско-Пермского свода 1480 года или они сами нашли их в более раннем источнике,1 но такие поправки могли совпадать с желаниями дать свод ярко московской ориентации. Во всяком случае эти поправки не могли восходить к очень древнему времени, так как их нет в списках Софийской Первой летописи, составленных, во всяком случае, не ранее 1418 года, а по всем данным значительно позже. На север Руси, как на место происхождения свода, указывают и известия 1480—1483 гг. Повесть о нахождении Ахмата в 1480 г. резко отличается от известий других летописей об этом же событии и, повидимому, первоначально имела вид отдельного сочинения. Выделение роли митрополита Геронтия указывает на раннее происхождение повести. Характерно, что в Чертковском списке
1 Таким более ранним источником мог быть свод 1472 г. На существование такого свода указывает Никаноровская летопись, кончающаяся на известии 1472 г., и Вороицовский список, где изложение обрывается также на 1472 г., после чего излагаются события 1480 г. Однако Никаноровская летопись и Вороицовский список в основу своих древнейших известий до 1418 г. положили разные редакции Софийской Первой летописи (см. А. А. Шахматов, О Воронцовском Историческом сборнике XVI века в „Сборнике статей в честь Д. А. Корсакова“, Казань, 1913).
240
в этой повести не имеется послания Васьяна к Ивану III, которое, повидимому, было вставлено позже. Эта повесть, рисующая в благоприятных тонах Геронтия и Васьяна Ростовского, могла возникнуть на севере Руси, вернее на Белоозере, о котором в ней упоминается. На связь с Вологдой указывают и известия о смерти вологодского князя Андрея меньшого и о пожаре в Вологде („а град Вологда по смерти его в десятый день загореся в неделю и згоре весь, а посад не агоре божиим заступлением“).
Составитель Вологодско-Пермского свода довел его до конца XV в. Так под 1499 годом встречаем еще известие о походе в Угорскую землю (так в Кир. списке, в Син.—„в Науго- родскую землю“), о пожаре вологодском, после чего во всем своде нет уже известий, относящихся к Перми и Вологде.
Большое количество известий, связанных с именем Фило- фея Пермского, их подробность и обстоятельность, свидетельствующие о том, что они записаны очевидцем, заставляют думать, что Вологодско-Пермский свод был составлен при дворе еп. Филофея. Действительно, окончание вологодско-пермских известий совпадает со временем ухода Филофея в монастырь в 1502 г.
Пермская епископия занимала особое место среди русских епископий XV в. (центром ее была Усть-Вымь, городок при слиянии Выми и Вычегды). Филофей служил посредником между местными князьками и Москвою. Нет сомнения, что это посредничество преследовало, главным образом, выгоды Московского великого князя, но Филофей, несомненно, обладал какими-то дипломатическими талантами. Вместе с тем, нетрудно заметить близость Филофея к другому духовному деятелю конца XV в.— митрополиту Зосиме. В этом смысле особенно показательна статья „о митрополите Зосиме“, помещенная в Вологодско- Пермском своде под 1491 годом и рассказывающая о поставлении и избрании Зосимы в митрополиты, „яко достойна суща упра- вляти богом порученное ему стадо“. Уход Филофея в 1502 г. в монастырь был, повидимому, тесно связан с уходом самого митрополита Зосимы и победой Иосифа Волоцкого.
Можно думать, что свод был составлен по желанию Фйлофея, причем составителем свода надо признать человека, близкого к его двору. Таким лицом мог быть упомянутый в третьем лице в Вологодско-Пермском своде под 1483 годом владычный слуга Леваш, посланный в этом же году с опасной грамотой великого князя к вогульскому князю Юмшану. В 1485 г. „владычный слуга Леваш“ вместе с Вычегодским сотником Алексеем казаком заключили договор с кодскыми и вымьскими князьями. Таким образомЛеваш был доверенным лицом епископа Филофея.1
1 Известия, близкие по характеру к Вологодско-Пермской летописи, встречаются также в Воронцовском списке, где под 6991 и 6993 (1482—1485) годами говорится о борьбе с вогуличаыи, но значительно короче. Воронцовский список,
16 Проблемы воточншеоасдевия
241
VIII
Вологодско-Пермский свод, доведенный до начала XVI в. (примерно до 1502 г.) был впоследствии дополнен летописью уже чисто московского происхождения, продолженной до 1526— 1528 гг., которая имела близкое сходство с Воскресенской и Софийской Второй летописями.
О том, что Филофеевский свод был первоначально продолжен до 1522 г. доказывает окончание на этом годе известий Академического списка Вологодско-Пермской летописи.
Кроме того, именно на известиях 1527—1528 гг. оканчивается сходство Вологодско-Пермской летописи с Воскресенской, а также с Софийской Второй. Это сходство Вологодско- Пермской, Воскресенской и Софийской Второй летописей может иметь только одно объяснение: Воскресенская,Софийская Вторая и Вологодско-Пермская летописи имели один общий источник, из которого они черпали свои известия за 1496—1528 гг. Окончание сходства Воскресенской и Вологодско-Пермскойлетописей на 1526 г. доказывает, что здесь кончался их общий источник. В Академическом списке далее прямо говорится о смерти великого князя Василия Ивановича. Между тем одна особенность Академического списка указывает на большую древность его состава. Так, в нем под 1491 г. нет повести о Владимирской иконе божьей матери, которая помещена в Кир. и Син. списках явно не на месте. Характерно, что в Син. списке на предыдущем известии (об еретиках) кончается первый почерк, после которого следует чистая страница, и затем следует продолжение повести о Владимирской иконе (начало ее утеряно) уже новым почерком. В Чертков- ском списке сказание о Владимирской иконе также поставлено значительно ранее.,
Общий источник Вологодско-Пермской, Воскресенской и Софийской Второй летописей объясняет их близость за 1496— 1526 гг., различия же зависят от выбора известий, взятых из одного источника, во всех этих летописях. При составлении этой второй дополненной редакции Вологодско-Пермской летописи 1526 года (дата условная) в ее основу были положены известия исключительно московского характера. Большая полнота этих известий придает особую ценность этой части Вологодско-Пермской летописи как основного памятника для восстановления источников Воскресенской, Софийской Второй, Львовской и Нико-
несомненно, основан на какой-то летописи, связанной с Вологдой и заключавшей в себе ряд известий вологодского происхождения за 6989—6994 (1481— 1486) годы. В числе известий этой летописи находился и рассказ о походе Ахмата, имеющийся также в Вологодско-Пермской летописи, причем в этом рассказе не помещено послание Васьяна, что указывает на его большую близость к первоначальному источнику (см. А. А, Шахматов, О Воронцовском историческом сборнике XVI века).
242
новской летописей. Филофеевский свод, повидимому остался без особых дополнений, за исключением введенных в его состав нескольких статей. К их числу я отношу послание Васьяна к Ивану III, явно разбивающее текст сказания о походе на Угру на две части, и сказание о Мамае, основанное на ряде официальных данных московского характера.
Отдельные списки Вологодско-Пермской летописи уже в 1540—1550 гг. получили дополнительные статьи за 1529— 1539 гг. Как первые, так и вторые дополнения, несомненно, были сделаны в Москве и никакого отношения к северу Руси не имеют. При этом следует думать, что Кир. список отразил уже на себе дальнейшую работу над текстом, тогда как Син. сохраняет больше следов первоначальной редакторской работы. О времени этих дополнений и возникновения свода в его полном виде говорят сами списки Вологодско-Пермской летописи. Время возникновения Синодального списка едва ли далеко заходит за половину XVI в. Оканчиваясь как и Кирилловский список 1529 г., Синодальный список имеет приписку другим почерком тоже половины XVI в., где говорится о нападении в 1540 г. казанских татар на Муром и Кострому и битве у св. Пятницы на Плесе. Запись с полным вероятием может быть приписана очевидцу событий 1540 г., приписывавшему по памяти это известие к уже готовому летописному своду. Поэтому можно думать, что Вологодско-Пермская летопись в полном своем варианте (Синодальный, Кирилловский и Чертковский списки), доведенная до 1539 г., составлена была вскоре после 1540 г., вернее всего в промежуток между 1540 и 1550 гг. Этот вывод, сделанный ранее на основании двух списков, подтверждается и текстом вновь открытого Чертковского списка. К корке переплета этого списка приклеен последний лист рукописи, написанный тем же почерком, что и предыдущие. На нем помещен отрывок известия: „Иосаф игумен Троицкий Скры... монастыря...“ Перед нами несомненно отрывок известия о по- ставлении Иосафа Скрыпицина в митрополиты, помещенный в Кирилловском и Синодальном списках под 1539 г. После этого известия в Чертковском списке тем жез почерком записано о взятии Казани в 1551 г. Таким образом протограф Чертковского списка также кончался на 1539 г. а позже в нем была сделана приписка 1551 г.
Общие выводы об истории Вологодско-Пермской летописи можно свести к следующему:
1. В конце XV или в начале XVI в. при дворе епископа Пермского Филофея был составлен общерусский свод на основании Софийской Первой летописи (типа списков Карамзина и Оболенского), продолженной так называемым сводом 1480 г. (Никаноровский список), московской летописи за 1483—1496 гг. и местных вологодско-пермских записей и источников, с рядом Дополнений и поправок. В чистом виде этот свод пока не найден.
16*
243
2. Этот свод, собственно и являющийся Вологодско-Перм- ской летописью, был дополнен и доведен до 1526 г. на основании московских источников. Временем составления этой дополненной редакции надо считать условно 1526 г., а местом его дополнения Москву. Этот свод представлен Академическим списком.
3. Свод 1526 года в свою очередь был дополнен на основании московских записей за 1527—1539 гг. Время составления этого полного свода, известного теперь под названием Вологодско- Пермской летописи и дошедшего до нас в трех списках, Синодальном, Кирилловском и Чертковском, не заходит дальше 1540—1550 гг.
244
С, 6. ВЕСЕЛОВСКИЙ
СИНОДИК ОПАЛЬНЫХ ЦАРЯ ИВАНА, КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Синодик опальных царя Ивана, по списку из архива Кириллова монастыря, был известен еще Н. М. Карамзину. С этого списка синодик был издан более ста лет тому назад Н. Устря- ловым, в приложении к „Сказаниям кн. Курбского“ (СПб., 1-е изд. 1833 г., 2-е изд. 1842 г., 3-е изд. 1868 г.). Затем в 1859 г. Н. Суворов издал синодик по списку Спасо-Прилуцкого монастыря, во многих деталях отличному от списка Кириллова монастыря („Чт. Общ. Ист.“, 1859, III). Историки при случае упоминали о синодике, брали из него имена тех или иных казненных, но до сих пор этот ценнейший источник остается не исследованным: не выяснены его происхождение и состав, не выработаны приемы разработки и вследствие этого не установлена его историческая ценность. В общем можно сказать, что этот памятник остается недоступным историкам и даже непрочтенным, как будто он был написан на каком-то неизвестном языке. В разработке его историческая наука не пошла дальше Карамзина, Устрялова и Костомарова. Ярким подтверждением этого мнения могут служить крайне неудовлетворительные издания синодика по другим спискам—А. Титова (1903 г.) и Нижегородской Губ. Арх. Комиссии (1913 г.).
Н. Карамзин в примечаниях к своей Истории ссылался на синодик как на „несомнительное“ доказательство „свирепства Иоаннова“ и писал, что царь Иван „разсылал“ синодики по монастырям, „вписывая в оные имена убитых им людей“. (Ист. Госуд. Рос., IX, прим. 3.) Так же представлял себе происхождение синодика и Н. Костомаров. В характеристике личности Ивана он писал, что царь „заботился о спасении душ тех, которых сам лишал жизни преждевременно, посылая за упокой их милостыню по монастырям и записывая их имена в синодики“. (Историч. монографии. Изд. Вольфа, 1885, XIII, 309—310.)
При таком понимании происхождения синодика казни царя Ивана получают несвойственный им и не отвечающий действительности благообразный, если можно так выразиться, характер:
245
уничтожая людей физически, царь Иван, заботился о судьбе их душ в загробной жизни и записывал для этого в поминания. Почему он не предоставлял делать это родственникам убитых, как это было в обычае вообще, — этот вопрос, очевидно, не приходил в голову ни Карамзину, ни Костомарову. Если бы дело было так, как представляли себе указанные историки, то мы имели бы в синодиках довольно полный перечень казненных и притом записанных в хронологическом порядке. И то, и другое значительно повышало бы ценность синодика как исторического источника.
В действительности дело было совсем не так: царь Иван пришел к мысли обеспечить души казненных поминовением только к концу своей жизни, а до того не только не заботился о душах убитых, но делал часто и сознательно все, чтобы казнимые им люди были лишены не только поминовения, но и всех выгод, которые по тогдашним понятиям давали „христианская“ смерть, „христианское“ погребение и поминовение. Вследствие этого мы имеем в дошедших до нас списках синодика не хронологический и далеко неполный список казненных, а составленный задним числом, наскоро, по разным источникам и не в порядке событий, весьма неполный перечень лиц, погибших за весь период массовых казней, длившийся более 15 лет. Тем не менее синодик опальных является чрезвычайно ценным источником: многие сотни имен казненных, которые мы находим в синодике, дают возможность по-новому осветить вопрос, против кого были направлены опалы и казни.1
Составление списка опальных и рассылка по монастырям вкладов потребовали много времени и труда. Если бы вклады были посланы только деньгами, то задача была бы проще,— оставалось бы составить список монастырей по их рангу и значительности, установить размеры вкладов и поручить приказам разослать деньги. Но потому ли, что не было в наличности необходимых денег, или с целью использовать рухлядь царской казны, но во многие монастыри значительная часть вкладов была послана вещами. Столичные и крупные монастыри получили преимущественно деньгами, а провинциальные и мелкие, нуждавшиеся в церковной утвари, облачениях, книгах и т. п., получили значительную часть вкладов вещами.
За многие годы опал, казней и конфискаций имущества опальных в царской казне скопилось огромное количество различной „опальной рухляди“. Многое, конечно, было расхищено при беспорядочных конфискациях, но наиболее ценные вещи: золотые и серебряные изделия, иконы, оружие, платье, меха и т. п., частью оцененные, а частью без оценки, лежали
1 О причинах и обстоятельствах запоздалого составления Синодика к предполагаю рассказать в связи с приготовляемой мною работой об опричнинед
246
В царских кладовых. Эти груды „опальной рухляди" царь Иван решил использовать на поминанье душ убиенных.
F Кн. Курбский в рассказе о боярине Ив. Ив. Хабарове писал, что царь Иван „разграбил синклита своего (т. е. боярина) «скарбы» великие, от праотец его еще собраны" (Р. И. Б., XXXI, Сочинения кн. Курбского, I, 297). Некоторые указания на эти „скарбы" мы находим во вкладной книге Симонова мсэнастыря. В 1569 г. 11 октября по душе царицы Марьи Темрюковны „бояре из опричнины кн. Вас. Ив. Темкин-Ростовский да Ив. Як. Чеботов прислали с Власом Реутовым ковш серебряной, Ивановской Хабарова, весу в нем 3 гривенки 11 золотников". В 1583 г. царь Иван прислал в Симонов монастырь „по убиенных" 400 руб. деньгами и на 150 р. 20 алтын сосудов, образов в окладах и разных вещей, а затем еще на 97 руб. разной рухляди. В числе присланных вещей упоминаются: „братина серебряна бела, по венцу резаны меж слов травы, весу в ней пол- 11 золотников, Ивановская Хабарова, цена 13 рублев" и „9 пуг- виц серебряных, белы, зернчаты, Ивановские Хабарова, цена 2 рубля". (Публ. библиотека, Q. IV, № 348, лл. 17, 22, 24.)
Наши сведения о вкладах отрывочны и случайны, но и то, что известно, дает основание сказать, что на это были употреблены огромные средства, исчислявшиеся не тысячами, а несколькими сотнями тысяч тогдашних рублей. А тогдашний рубль был дороже не менее как в 25—30 раз довоенного золотого рубля.
В Симонов монастырь дано в 3 приема деньгами и вещами 647 руб. 20 алт.
В Московский Богоявленский монастырь в 2 приема, летом 1583 г. и 19 января 1584 г., дано всего 430 руб. (Никодим. Описание Моек. Богоявленского монастыря. М., 1877, стр. 11. Из „Чт. Общ. Ист. и Древн." 1877 г.)
В Новодевичий московский монастырь — деньгами 2700 руб. (Вкладная книга в музее Н. монастыря.)
В Антониев Сийский монастырь — деньгами 1300 руб. и в двух посылках на 56 р. 26 алт. 4 д. вещей. (А. Изюмов. Вкладные книги Ант. Сийского монастыря. — „Чт. Общ. Ист. и Древн." 1917, кн. II, стр. 2.)
В Нижегородский Печерский монастырь — 800 руб. („Чт. Общ. Ист. и Древн." 1868, I, смесь, 4.)
В Рождественский Владимирский монастырь — 900 руб. (Изв. имп. Археолог. Общ. IV, вып. 4, 342.)
В Киржацкий Благовещенский мон. — 400 руб. (Леонид. Описание славянских рукописей библиотеки Тр.-Серг. лавры, III, 265.)
В Соловецкий монастырь — 2300 руб. деньгами и вещи. (Соловецкий летописец. 1833, стр. 40—41.)
В Ростовский Борисоглебский монастырь —1000 руб. деньгами, на 70 руб. оцененных вещей и несколько икон и книг
247
бея оценки. (А. Титов. Вкладные и кормовые книги Рост. Бори- еоглебск. монастыря, 5. Ярославль, 1881.)
В Спасо-Прилуцкий на Вологде монастырь деньгами и вещами всего 1000 руб. (См. синодик, иэд. Суворовым.)
В Антониев Краснохолмский монастырь (в Бежецком уезде) 15 июля 1583 г. и 24 марта 1584 г. (т. е. уже после смерти царя Ивана) прислано в двух посылках 1170 руб. и 3 серебряных стопы. (Описание Ант. Краснохолмск. монастыря. Из „Чт. Общ. Ист. и Древн.“)
В такой третьеразрядный монастырь как Брянский Свенский было послано 650 руб. деньгами и окладных образов, книг и других вещей по оценке на 289 р. 18 алт. 2 деньги. („Известия Рус. Генеалогия. Общ.“, IV в., 399. СПб., 1911.)
Наконец, в такой незначительный монастырь как Шаров- кина пустынь, на р. Жиздре, в котором было не более десятка монахов, было послано 90 руб. (Леонид. Истор. описание монастырей Калужской епархии. „Чт. Общ. Ист. и Древн.“ 1865, кн. 4, стр. 14.)
Эти отрывочные сведения относительно 13 монастырей,— а их в то время было несколько сотен, — дают представление о том, какие огромные средства были розданы на поминанье душ опальных. Можно представить себе, какое возбуждение царило среди монастырских властей и их московских представителей, когда с весны 1583 г. в Москве происходили разбор и оценка опальной рухляди и распределение вкладов по монастырям.
В каком Приказе и как был составлен список опальных? На первый вопрос нельзя ничего сказать, а по второму можно высказать несколько соображений.
Вся обстановка многих казней, приобретавших иногда характер погрома, когда людей убивали без разбора и счета, устраняла возможность составить задним числом сколько- нибудь полный список избиенных. В таких случаях приходилось возлагать надежды на всеведение господа бога и давать ему кое-какие наводящие указания. В заголовке списка Нижегородского Печерского монастыря сказано: „Сих опальных людей поминати по грамоте Цареве и панихиды по них пети; а которые в сем синодике не имены писаны, прозвищи, или в котором месте писано 10 или 20 или 50, ино бы тех поминати: ты, господи, сам веси имена их“. Множество таких записей, неизменно сопровождаемых этим благочестивым припевом, мы видим во всех списках синодика. „В Губине углу православных христиан 19 человек, имена их сам, господи, веси“.1 „В Бежецком Верху Ивановых людей (т. е. людей боярина Ив. Петр. Федорова) 65 человек, да 12 человек, скончавшихся
1 Губин угол —село б. Козельского уез*а Калужской губернии.
248
ручным усеченьем"..« „в селе в Братошине псарей 20 человек-. • •"1
„На Медне пскович с женами и детьми 190 человек".. .2 „В Новегороде побиенных пятнадцати баб, сказывают ведуньи... имена их, ты, господи, сам веси“.
Ясно, .что ожидать точности и полноты в подобных записях, сделанных много лет спустя после событий, нет никаких оснований. Так, с самого начала следует запомнить, что приказные дьяки при всем желании не были в состоянии дать сколько- нибудь полного списка жертв. Ниже я буду говорить об отсутствии в синодике многих крупных, всем известных лиц, погибших в опалах, а здесь следует отметить, что особой неполнотой, по весьма понятным причинам, страдают сведения синодиков
0 лицах из низших слоев населения, избивая которых опричники не интересовались их именами, ни даже числом.
Какие же источники могли иметь под руками приказные дьяки и использовать при составлении списка опальных?
1 Главным и самым надежным источником были, конечно, следственные и судебные дела, поскольку казни предшествовали следствие и суд с решением дела. Ряд указаний на подобные дела мы находим в известной описи архива царя Ивана, напечатанной в I т. А. А. Э. Так, в описи значится „посылка в опричнину Юрья Незнанова с товарищи да пана Станислава да Аврама Едигеева" (стр. 355). В чем состояло дело и кем был Юр. Незнанов, неизвестно, но мы находим его в синодике. В архиве хранились: „привод и допрос Алешки Савурова (ошибочно напечатано: Сабурова) и человека его Куземки Литвинова, как поймали их в Новегороде и привели к Москве" (там же, стр. 355). В синодике мы находим Алексея Савурова и Кузьму, очевидно его человека К. Литвинова. Еще пример. В архиве хранились „дело Прокоша Цвиленева, что сказывал на него ноугородской подьячий Богданко Прокофьев государево дело", и „список правежной, что взято на Прокофье на Цвиленеве" (там же, 352, 355). Этого Прокофья Цвиленева мы находим в синодике.
Из описи дел Посольского приказа XVII в., указанной еще Карамзиным, известно, что в архиве Посольского приказа хранилось „изменное дело" новгородского архиепископа Пимена и его сообщников (Карамзин. Ист. Госуд. Рос. IX, прим. 299). Шлихтинг рассказывает, что по этому делу с Ив. М. Висковатым было казнено „по списку" 116 человек и приводит имена 6 главных лиц (Новое сказание, 49). Эти лица и их соучастники действительно записаны в сино¬
1 Братошино — село в 36 км от Москвы, на линии Северной ж. д.
2 Село Медиа находится на границе б. Новоторжского и Тверского уездов. Речь идет, очевидно, о лицах, захваченных] в Пскове в погроме 1570 г. и убитых в с. Медне на пути в Москву.
249
дике, записаны в одном месте и почти в том же порядке, как поименовал 6 человек Шлихтинг.
Однако во многих случаях судебной процедуры не производилось совсем, многие дьяки были казнены в разное время и много дел могло быть растеряно. Таким образом этот источник оказывался совершенно недостаточным.
Вторым важным источником были черновые отпуска наказов исполнителям казней и их донесения об исполнении возложенных на них поручений. В синодике есть определенные указания на то, что каты, как выражался кн. Курбский, получали иногда списки лиц, подлежащих казни. К указанным в списке лицам они прибавляли уже от себя, смотря по обстоятельствам дела, жен и детей, оказавшихся в наличности, и других лиц.
Таковы, напр., те места синодиков, в которых находятся заголовки: „новгородские подьячие женатые“ (с женами
и детьми), „подьячие не женатые“, „московские подьячие“ и т. п. Выдержкой из донесений катов представляется запись, которой начинаются все списки синодика: „Казарина (Дубровского) и дву сынов его да 10 человек его тех, которые приходили к нему на пособь, а имена их ты, господи, веси“. Ясно, что палачи имели приказание убить Казарина и его сыновей, но к ним пришли „на пособь“ и оказали сопротивление их домочадцы и были за это убиты, о чем палачи и донесли царю. Несомненно, что такого же происхождения фраза списка Нижегородского синодика, случайно сохраненная монахом, писавшим список, среди перечня имен (между Андр. Бухариным и Андр. Зачесломским): „Отделано 369 человек. И всего отделано по июля поб-е число“. Для целей поминанья душ эта подробность была ненужна и во всех других списках ее нет.
Такого же, как мне кажется, происхождения те записи синодика, в которых убитые частью поименованы, а частью указаны числом, или только числом с указанием места и обстоятельств казни. Подобные записи приводятся мною ниже.
Предположительно можно указать еще третий источник — погодные записи событий, которые велись дьяками, главным образом разрядными и посольскими, как материал для официального летописца. В том же царском архиве, о котором я говорил выше, хранились: „списки, что писати в летописец, лета новые прибраны от лета 7068 до лета 7074 и до 76“ (Ящик 224, А. А. Э. I, № 289. Это соответствует 1559—1568 гг.). Дошедшие до нас летописи этого времени: отрывок так наз. Александро-Невской летописи (Р. И. Б., III) и Летописец русский, напечатанный А. Н. Лебедевым („Чт. Общ. Ист. и Древн.“ 1895 г.) представляют из себя по существу полуобработанную сводку погодных официальных и официозных записей посольских и разрядных дьяков. Однако, в этих летописях очень мало записей о казнях, и касаются они исключительно высокопоставленных лиц.
250
Приведенный обзор источников, как видно, мог дать далеко неполный и несколько случайный список опальных. Этим объясняется, что из других источников, напр. у современников, иностранных писателей и в летописях, мы находим ряд лиц, не записанных в синодике. Последнее, впрочем, отчасти объясняется тем, что в синодик записывали как „убиенных“ только тех, кто погиб непосредственно от рук палачей, а лица, которые „изводились“ со своими семьями в опалах от голода, нищеты и пережитых потрясений, не считались убиенными. Между тем количество лиц, погибавших косвенным путем от опал, было весьма велико. Напр., в родословцах обращает на себя внимание тот факт, что во многих родах показаны бездетными казненные и их ближайшие родственники. Напр., кн. Курбский рассказывает, что кн. Анд. Ф. Жеря Аленкин Ярославский был убит в бою с татарами. Царь Иван, еще не имея об этом известия, послал опричников убить кн. Аленкина. Опричники донесли царю о смерти кн. Аленкина, и царь Иван отнял у вдовы и детей убитого их вотчину и сослал в дальнюю ссылку, — „тамо, глаголят, всеродне тоскою погубил всех“ (Курбский. Соч., I, 307). В родословцах Андрей Жеря показан без потомства. Такие лица не считались „убиенными“ и в синодик конечно не записывались.
Возможно ли, что некоторые лица были занесены дьяками в список по памяти? Категорически этого отрицать нельзя, но это очень мало вероятно. Во-первых, много дьяков и подьячих, из опричнины и из земщины, было казнено в разное время задолго до составления списка опальных, — в синодике записано более 25 дьяков. Во-вторых, в синодике находится много указаний на то, что дьяки и подьячие при составлении списка опальных придерживались точно имевшихся у них источников и от себя ничего не вносили и не изменяли. Так, они внесли в список множество прозвищ и нехристианских имен, хотя конечно знали, что с церковной точки зрения это было недопустимо. Но разбираться, справляться (у кого?) и выяснять эти прозвища и имена было некогда, и они внесли их в список без всяких изменений.
Совершенно недопустимо с церковной точки зренья было поминание лиц неправославного вероисповедания. Дьяки знали это, но на всякий случай записали в список немчинов и намок, литвинов, латышей и корелян, а относительно татарина Янту- гана добросовестно прибавили: „а о крещении его ты сам, господи, веси“, т. е. только богу известно, был ли он крещен.
Хронологическая последовательность казней с точки зренья поминанья душ была совершенно несущественным моментом, и дьяки не обращали на нее никакого внимания. В синодике (по спискам Чуд. и Кир.) после трех с лишним сотен лиц, казненных в разное время, начинается перечень казненных
251
в 1570 г. в Изборске, Новгороде и Пскове, Этот перечень прерывается записью псарей, по итых в лах Богородском и Бра- товщине, разных лиц в с. О рецком (Дмитровского уезда), в Клину, в с. Медне, Торжке. Затем идут опять новгородцы и псковичи, в перемешку с лицами, погибшими несомненно в другое время и по другим делам.
В заключение следует коснуться вопроса, неразрешимого при известных мне списках синодика: одинаковые ли списки были разосланы по всем монастырям, или списки, посланные в разные монастыри, различались по составу имен. Почти дословное тождество некоторых списков, напр. Чуд. и Кир., дает как-будто основание сказать, что список был один для всех монастырей. Но, с другой стороны, значительное отличие в именах и расположении имен некоторых других списков, напр. отрывка синодика Тр.-Сергиева монастыря, позволяет предполагать, что в ходе дела составления списков и рассылки вкладов, затянувшегося не менее как на год, были возможны дополнения и изменения в первоначальной редакции списка. Для исследователей это обстоятельство может иметь только положительное значение, так как позволит составить более полный перечень опальных.
Выяснение вопроса о первоначальном и возможных дополнительных списках в высшей степени осложняется тем, что приказные списки, подверглись в монастырях основательной переработке с церковно-обрядовой точки зрения и дошли до нас именно в этом переработанном виде. Затем, составленные в монастырях в свое время синодики от времени и употребления приходили в ветхость, их приходилось переписывать, и все дошедшие до нас списки являются копиями XVII в. с первоначальных синодиков. При копировании, конечно, делали новые ошибки и еще больше портили текст.
Полученные в монастырях списки опальных имели весьма необычный вид, непригодный для записи в синодик. Чтобы поминанье было действительно и достигало цели, необходимо было поминать настоящее, „молитвенное“, как тогда говорили, имя усопшего. Только такое поминанье достигало своего адресата— того святого, имя которого носил усопший. Между тем во всех слоях общества был широко распространен обычай иметь двойные имена и различные прозвища. В древности было в обычае, — и в XVI в. этот обычай еще держался, — давать при молитве новорожденному имя не по выбору, а в честь одного из святых, память которых приходилась на день рожденья. Это было настоящее, молитвенное имя. Потому ли, что боялись сглазу, или по другим причинам, многие скрывали это имя от посторонних, и молитвенное имя знали только родные и близкие лица, а в обиходе человек именовался другим именем — про- звищным именем, напр., Богданом, или прозвищем — напр. Бакакой, Третьяком (если он был третьим в семье) и т. п«
252
Эти прозвища иногда так упрочивались, что человек носил его всю жизнь, и никто, кроме близких людей, не знал его имени. Прозвища фиксировались в различных актах и перешли в историю. Многие ли знают, что знаменитый опричник Малюта Скуратов в действительности был Григорьем Лукьяновичем Малютой Скуратовым Бельским? Малюта было его прозвищем, Скурат было прозвище его отца Лукьяна, а Бельские было их фамильным прозвищем. С обрядовой точки зрения поминать в синодике подобные прозвища и вторые имена было равносильно посылке письма по неверному адресу.
Приказные дьяки, конечно, знали это, но не имели никакой возможности дать истинные имена опальных. Они передали с рук на руки составленные списки монахам, и тем, в свою очередь, ничего не оставалось как внести в синодик перечень лиц в том виде, в котором он был им дан. Вследствие этого синодик опальных получил очень необычный вид: мы находим в нем множество самых разнообразных прозвищ и нехристианских имен.
Так обошли монахи первое затруднение. Но в приказном списке они встретили другую особенность — фамильные прозвища (по нашему — фамилии), которые дьяки выписали из своих источников так, как они их нашли. Для целей поминанья в молитвах этот элемент был ненужен. В этом вопросе монахи поступали очень различно. Напр., в списке КБ. все фамилии, с начала до конца синодика, последовательно исключены: в синодике остались только имена и прозвища. В большинстве же монастырей поступили иначе: по своему усмотрению брали из приказного списка то одни, то другие фамилии, в одних монастырях — в большом количестве, в других—только по выбору, и вписали их в синодик, как это полагалось, киноварью над соответствующими именами. Нет возможности сказать, чем руководились монахи в выборе и сохранении некоторых фамилий. Можно предположить, что некоторую роль играла большая или меньшая известность и социальное положение тех или иных лиц. Фамилии видных лиц, всем известных, сохраняли, а фамилии безызвестных лиц из низших слоев населения опускали. В общем, во всех известных мне списках количество пофамильно расшифрованных лиц достигает едва 7з всех имен и прозвищ списка. Если удастся найти и привлечь к исследованию еще новые списки, то наверное можно сказать, что выяснятся фамилии еще ряда лиц, но полной расшифровки имен мы никогда не будем иметь, так как это невозможно.
Дело в том, что обыкновение носить фамильное прозвище начало распространяться только со второй половины XV в., раньше всего утвердилось в служилом классе и было закреплено в официальных списках служилых людей и в других актах.
Нужды торгового оборота и кредита потребовали закрепления фамилий и в высших слоях торгового населения, но низ-
253
шив слои посадских людей и крестьяне именовались обыкновенно именами, личными прозвищами и отчеством. В приказных списках опальных имена, прозвища и отчества наверное были указаны, но поскольку прозвища при христианских именах и отчества были ненужны для поминаний и ничего не говорили монахам, последние их не находили нужным записывать в синодик.
Для исследователя это обстоятельство имеет очень большое значение: если он не будет помнить его и иметь в виду, то он может вынести совершенно неверное представление о социальном составе лиц, казненных царем Иваном, ибо несомненно, что очень значительная, быть может, подавляющая часть тех двух третей имен синодика, которые остаются пофамильно нерасшифрованными, принадлежала лицам из низших слоев населения, в которых еще не привилось обыкновение носить фамилии.
К этому следует еще добавить то, что из всей массы лиц, упомянутых в синодике поименно и безымянно, числом достигающей 3300 человек, около 2060 человек показаны числом безымянно, и что эти 2060 человек в массе принадлежали к низшим слоям населения, на что синодик дает иногда прямые указания: мы видим здесь псарей, боярских людей, баб „ведуний", „простых людей" и т. п.
Перейдем к другому вопросу. Дьяки, выписывая наспех из судных дел, донесений палачей и других источников имена казненных, сообщили множество подробностей относительно места и обстоятельств казней, которые им казались заслуживающими внимания. С церковной точки зрения все' это было совершено не нужно, но, видимо, сами монахи были в недоумении и не знали, как поступить. Поэтому в одних монастырях, уверенные во всеведении бога, монахи последовательно выкидывали из приказного списка все эти подробности, в других — делали то же непоследовательно, а в третьих — удержали и сохранили для будущих историков много ценных сведений. Сопоставляя списки синодика разных монастырей, мы можем по этим разнообразным переделкам составить себе некоторое представление о первоначальном содержании приказного списка.
г Вот, напр., как передано в разных списках синодика то место приказного списка, где упомянуты новгородцы, побитые карательной экспедицией Малюты Скуратова (1570 г.).
В Кир. списке коротко: „Помяни, господи, души раб своих 1505 человек". В Чуд. списке дословно также, но сверху киноварью отмечено „новгородцы". В М. Б. списке: „Да в ноуго- родской посылке Малюта отделал 1490 человек. Да ноугород- цев же 15 человек. Данила с женою и с детьми, а имена их ты сам веси, господи". Здесь даны слагаемые суммы в 1505 человек, и текст испорчен записью не на своем месте Данилы с семьей. Правильнее в списке Сп. Пр.: „да по Малютинской
254
новгородской посылке отделано скончавшихся православных христиан 1490 человек, да из пищалей 15 человек, им же имена сам ты, господи, веси; подаждь им вечную память! Помяни, господи, души раб своих Данила с женою и с детьми, самого четверта, их же имена бог весть".
Можно было бы привести много примеров подобного свободного обращения монахов с текстом приказного списка опальных. Свобода переделок в безымянных поминаньях доходит подчас до такого искажения текста, что восстановить правильное чтение представляется невозможным.
Вот, напр., в каком виде дошли до нас сообщения о лицах, казненных в селах Ивановском Большом и Ивановском Меньшом и в Бежецкой вотчине боярина Ив. П. Федорова. В списке М. Б. монастыря: „В Ивановском Большом 17 человек, у 14 человек по руке отсечено. В Ивановском в Меньшом 13 человек, у семи человек по руке отсечено"... „В Бежецком 65 человек, у 12 человек по руке отсечено; а имена их ты сам веси, господи!" Неясность этого текста устраняется в списке Сп. Пр. монастыря: „В Ивановском Б. православных христиан 17 человек, да 14 человек, ручным усечением конец прияша, их же имена..." и т. д. „В Ивановском Меньшом Исаковы жены Заборовского 13 Человек, да 7 человек рук, посеченьем скончавшихся“... „В Бежецком Верху Ивановых людей (т. е. боярина Ив. П. Федорова) 65 человек да 12 человек, скончавшихся ручным усечением, имена их ты, господи" и т. д. Списки других монастырей дают представление, что скончавшиеся от „усечения рук" не составляли особых групп, а входили в итоги по этим селам. Так в списке К. Б. сказано: „В Ивановском Б.— 17 члк., в Ивановском М. —13 члк.,... в Бежецком Верху — 65 члк. Но в списке Кир. новая путаница: „17-ти человек (сверху киноварью: в Иванов. Большом) 14-ти человек"... „62 человека (киноварью: в Бежецком Верху Ивановы люди)". В списке Ниж. Печ. пропущены указания на место казней и лиц, которым принадлежали казненные. В нем мы читаем: „Отделано 17 человек да у 14 человек по руке отсечено. Отделано 13 человек, у семи человек по руке отсечено"... „отделано 65 человек, а у 12 по руке отсечено". А ниже после еще нескольких записей находится любопытное замечание, которого нет ни в одном другом списке: „И всего отделано по июля по 6-е число отделано 369 человек". Ясно, что в приказном списке опальных было целое описание этих казней, с указанием мест их, способов казней, времени и других обстоятельств, которое подверглось в монастырях переделкам и искажениям.
Только путем сопоставления разных списков синодика можно восстановить в истинном виде некоторые сообщения, дошедшие до нас в искаженном виде. Так в Чуд. списке записано 190 человек „пскович с женами и детьми". В Кир. отмечено, что псковичи были казнены в с. Медне, но ошибочно
255
указана цифра 119 человек. В К. Б. тоже ошибочно 103 человека. Вслед за этим в Кир. записано „сожженых“ псковичей с женами и детьми 30 человек, а список К.Б. дополняет это указанием, что дело произошло в Торжке. Таким образом выясняется такая картина похода царя Ивана на Псков в 1570 г. (после разгрома Новгорода). В Пскове и Изборске были казнены: 2 городовых прикащика, десяток подьячих и несколько десятков псковичей, упомянутых в разных местах синодика, а затем по дороге в Москву царь Иван на обратном пути казнил 190 человек псковичей в с. Медне и сжег 30 человек в Торжке.
Кн. Курбский и иностранные писатели, напр. Штаден и Шлихтинг, подробно рассказывают о том, что после казни боярина Ив. П. Федорова царь Иван, „сам ездя с кромешни- ками своими“, избивал его слуг и людей, жег села и уничтожал в них скот. Шлихтинг говорит, что он „почти год“ объезжал его владенья. Синодик подтверждает эти показанья. Помимо нескольких лиц, поименованных в разных местах, мы находим в синодике несколько записей безымянных казней. Так, „в коломенских селах“ было казнено 20 человек. Речь идет о существующем ныне селе Кишкине-Челяднине (см. Писц. кн. Моек, госуд. I, 440) и вероятно об Ивановском Большом (в 14 км от Бронниц), в котором было убито 17 человек. Определенно говорят синодики о казни 65 человек „Ивановых людей“ в Бежецком уезде. С большой вероятностью можно считать людьми Ив. П. Федорова казненных 87 человек в Матвеевщине (в каком уезде?), в Губине углу 39 человек и в Салославле 17 человек (ныне Салослово, на р. Медвенке, в 24 км от Звенигорода). Известны еще 2 вотчины Ив. П. Федорова — с. Воскресенское, Старая Ерга, в Надпорожском стану Белозерского уезда, и с. Богородицкое в уезде Юрьева Польского, но об них в синодике не упоминается. Возможно, что новые списки синодика, неизвестные мне, обнаружат еще разгромленные вотчины Ив. П. Федорова.
Нет возможности сказать почему, но некоторые места синодика оказываются испорченными во всех известных мне списках. В приказном списке опальных находилось, повидимому, полное перечисление свиты кн. Евдокии Старицкой, матери кн. Владимира Андреевича. В различных списках это место сильно испорчено. Так в М. Б. читаем: „княгиню Евдокию (удельная), Марию да с ними 12 душ и с старицами, а имена их ты сам веси, господи. Князя Андрея (Катырев), князя Федора (Троекуров), Михаила (Колычев), Анну (Козина), Анну (Катун), Ульянию (немка), Марфу (Жулебина), Акилину (Палицина), Ивана (Ельчин), Петра (Качалкин)“, и т. д. В Чуд. списке: „княжну (так!) Евдокию (Володимирова мати) да 12 человек и старицами: Марию (Ельчяна), Анну (немка), Анну (татарка), Катерину, Ульяну (немка), Марфу (Жулебина), Акилину (Пацына.
256
Так!), Ивана (Шунежской), Ивана (Ельчанин), Федора (Неклю* дов), Корепана (рыболова), и т. д. В Ник. Пер. мы неожиданно узнаем интересную подробность о Марье, что она была постельницей у кн. Владимира, „что была у князя молодого приставлена“, т. е. у сына кн. Владимира, казненного со всей семьей.
Приведенные примеры показывают с какими большими трудностями, искажением и перестановкой имен приходится считаться при выяснении имен казненных. Некоторые фамилии искажены так, что даже сличение различных списков не всегда дает уверенность в правильном прочтении их.
Подводя итоги всему предшествующему изложению, можно сказать гак. Составленный дьяками задним числом список опальных, в зависимости от источников, которые они имели под руками, и обстоятельств многолетних казней, сам по себе никоим образом не мог дать сколько-нибудь полного перечня погибших от опал царя Ивана. Приказный список подвергся в монастырях приспособлению к нуждам и правилам поминанья душ, сокращениям и искажениям, испортившим первоначальный текст приказного списка иногда до неузнаваемости. Наконец, последующие переписчики синодика внесли со своей стороны описки и ошибки.
Известный французский историк Ланглуа как-то сказал, что историкам-исследователям по необходимости приходится пользоваться такими источниками и материалами, от которых с пренебреженьем отвернется всякий исследователь в области так наз. точных наук. Дошедшие до нас списки синодика опальных — чрезвычайно трудный для исследования и мутный источник, но заменить его нечем, а при тщательном и осторожном исследовании он дает много ценного. Положив в основу исследования 8 списков, указанных ниже, я сделал опыт составления списка казненных, выяснив на основании разных источников, насколько представлялась возможность, служебное и социальное положение опальных.
Обзор списков синодика
Чудова монастыря (в цитатах — Чуд.). Список XVII в., находится в тексте обыкновенного монастырского синодика на лл. 204—213 об. (Публ. библиотека, F отд. IV, №104. Из собрания гр. Ф. Толстого, F, № 146). Заголовок (л. 204): „Лета 7091-го царь ... прислал в Чудов монастырь сие поминание и велел поминати на литиях и на литургиях и на панихидах в церквах божиих по вся дни“. После заголовка список начинается, как во всех других списках, Казарином Дубровским. По тексту почти дословен с Кирилловским списком, отличаясь от него подробностями, и кончается так же: „В Новгороде пятинадцати баб, а сказывают — ведуньи“. Последнее имя, как в Кир,: „Алексея с сыном“. Большое количество пофамильно
17 Проблемы источниковедения
257
расшифрованных лиц, особенно в первой половине, и небольшое сравнительно количество описок. Один из лучших списков.
Кириллова Белозерского монастыря (в цитатах — Кир. Б.). Напечатан с небольшими примечаниями Н. Устряловым в приложении к „Сказаниям ки. Курбского“ (вышло 3 издания, в 1833, 1842 и 1859 гг.). Заголовок такой же, как в Чуд. После заголовка позднейшая приписка об утоплении в р. Шексне кн. Евдокии и друг. Затем идет текст, почти дословно одинаковый со списком Чуд. Разделен на 2 части, но кому принадлежит это деление, неизвестно.
Спаса Прилуцкого Вологодского монастыря (в цитатах — Сп. Пр.). Напечатан Н. Суворовым в „Чт. Общ. Ист. и Др.“ (1859, III книга, смесь; 89—100). В начале издатель вставил выдержку из кормовой книги того же монастыря, из которой видно, что поминанье было установлено раз в году — 25 февраля—и должно было сопровождаться большим кормом на братью, — „дачи государевы по них денег и сосудов 1000 Рублев“. В начале заголовок: „По выписи государских книг имена и прозвания преставившихся христиан, мужей, жен и детей, разных городов людей. По цареву государеву велению... поминать тех христиан по его государственным книгам по именам и прозваниям, их же имена чти ниже сего сице“. В начале — поминанье кн. Михаила, Михаила и Тихона, а затем, как в Чуд. и Кир., Казарин Дубровский и т. д. Текст близок к Чуд. и Кир., но сильно испорчен сдваиванием имен и осложнен вставками (в скобках), сделанными Суворовым из списка Павлова Обнорского монастыря. Количество расшифрованных пофамильно имен невелико. Где находятся подлинники этих списков, неизвестно.
Н ижегородского Печерского монастыря (в цитатах— Ниж. Печ.). Находится (на лл. 80—96) в обыкновенном синодике. Напечатан очень неудовлетворительно (много ошибок и непрочтенных мест) в „Сборнике Нижегородск. губ. арх. ком.“ XV, вып. II, стр. 27—31. Нижний, 1913. По тексту очень близок к Чуд. и Кир., но дает очень мало фамилий. Заголовок цит. выше.
Костромского Богоявленского монастыря (вцитатах— К. Б.). Находится на лл. 157—168 в тексте обычного синодика XVII в. (Костромской Обл. архив). Заголовок (л. 157): „Имена избиенных, по которых царь... милостыну дал“. Затем, как во всех других списках, начинается Казарином Дубровским с его двумя сыновьями. В середине утрачен (вероятно в протосписке) один лист, а в конце нехватает листов двух. Отличается полным отсутствием расшифровки фамилий и небольшим количеством побочных сведений.
Московского Богоявленского монастыря (в цитатах— М. Б.). Переплетен в конце синодика обычного типа, написанного в 1599 г. (Москов. Ист, музей, Епарх. собр., № 706).
258
Список опальных, повидимому, сделан одновременно с синэ-. диком. От списка сохранилось 7 перебитых листов (лл. 204— 210); в начале утрачен, повидимому, один лист, а в конце — 2 листа. Дополнением к этому списку является тоже неполный список в конце обычного синодика. Последний список частью повторяет первый, частью дает новые отрывки. (Публ. библ. F, IV, № 196; Собр. Толстого, № 286). По большому количеству фамилий и небольшому количеству ошибок и искажений текста оба отрывка М. Б. являются очень ценными, несмотря на утрату почти трети синодика.
Никитского Переяславского монастыря (в цитатах— Ник. Пер.). Напечатан А. А. Титовым крайне неудовлетворительно, в выдержках и в пересказе (Синодики XVII в. Переяславского Никитского монастыря. М. 1903). В том виде, в котором напечатан Титовым, пригоден только для сверки имен и фамилий других списков.
Троицкого Сергиева монастыря. Находится на лл, 212—223 об. обыкновенного синодика (Сельника)—кн. № 818, Собр. рукописей Тр. Серг. лавры (в Публ. библ. им. В. И. Ленина). Начало: „Избиенные в опричнину, а поют по них пана- хиду на 7 недели в четверг по Пасце (т. е. на Семик). Помяни, господи, души усопших раб своих и рабынь, убиенных князей и княгинь и всех православных христиан, мужеска пола и женена, и коих имена и не написаны!“ В списке всего по подсчету составителей 720 имен. Безымянных поминаний, как сказано в заголовке, нет. По расположению лиц производит впечатление коренной переработки основного текста других синодиков. Пофамильно расшифрованы преимущественно выдающиеся, высокопоставленные лица. Дает десятка три имен и фамилий, которых нет во всех других списках.
Список казненных по синодику и другим источникам
Лица, которые упоминаются в нескольких списках синодика» внесены в список без примечаний. Сомнительные имена, упоминающиеся только в одном каком-нибудь синодике, внесены в список с указанием, где они упомянуты. К опальным синодика присоединены лица, о казни которых известно из других источников.
Чтобы сократить текст и не повторяться, укажу главные источники и принятые сокращения.
Главным источником для служеб лиц служат Разряды. „Древнейшая Разрядная книга“ официальной редакции (1475— 1565 гг.) напечатана в „Чт. Общ. Ист. и Древн.“ (М. 1901) под ред. П. Милюкова. К изданию дан указатель, по которому легко найти то или иное лицо. Разряды 1556—1586 гг. напечатаны в XIII и XIV томах „Древн. Росс. Вивлиофики“ Н. И. Новикова,
17*
259
а разряды 1559-^-1604 гг., менее исйравио, изданы в „Синбир* ском сборнике", изд. Д. Валуевым (М. 1845). Так как у последних изданий указателей нет, то они цитируются с указанием страниц издания. Так называемые свадебные разряды напечатаны в XIII т. „Древн. Рос. Вивл." и в „Древн. Разр. книге".
„Тетрадь дворовая" 7045 г. (1537 г.) напечатана (без указателя) под ред. Милюкова в V томе „Трудов отд. рус. и слав, археологии Русск. Археол. Общества". Она содержит списки лиц, царствования Ивана IV, высших чинов и тех городовых дворян, которые служили по дворовому списку, т. е. верхнего слоя служилого класса.
Лучшее издание „Тысячной книги" 1550 г. принадлежит
H. П. Лихачеву и Н. В. Мятлеву (Орел, 1911). После текста книги, выверенного по разным спискам, дан алфавитный список лиц, с примечаниями о их службах и происхождении.
Родословцы (частные), в трех редакциях, напечатаны в т. X „Временника Общ. Ист. и Древн."
„Бархатная книга" издана Н. Новиковым (М., 1787, Университетская типография) под заглавием: „Родословная книга князей и дворян российских и выезжих". Указателя не дано, но лиц легко находить по родам и фамилиям.
Шлихтинг. Новое известие о России времени Ивана Грозного; цит. по изданию АН. Л., 1934 (сокращ. Шлихт.). — Штаден. О Москве Ив. Грозного. Записки немца опричника, перевод Ив. Ив. Полосина. Изд, Сабашниковых. М. 1925 (сокращ. Штаден). — „Послание" Таубе и Крузе, перев. М. Рогинского. „Рус. Историч. журнал", 8 книга. П. 1922 (Сокращ. Таубе и Крузе). — Произведения кн. А. Курбского цит. по изд. Археограф, ком. Р, И. Б. XXXI, Сочинения кн. Курбского,
I. СПб. 1914).
Адашевы Данила Федорович и его сын Тарх. В синодиках -je упоминаются.
Адашевы были отраслью старого зажиточного рода костромских вотчинников Ольговых, из которого происходили и Шишкины и Пушневы. Злобное заявление царя Ивана (в письме к Курбскому, Соч. I, 62) о том, что Алексей Ад-в „в юности нашей, не вем, каким обычаем из батожников" водворился при царском дворе и был взят царем „от гноища", дает извращенное представление. Пожалование Федора Григорьевича Ад-ва в 1548 г. в окольничие и в 1553 г. в бояре действительно было необычным явлением. Что касается пожалований его сыновей в окольничие — Алексея в 1555 г., а Данила в 1559 г., то в них не было ничего исключительного.
По разрядам Дан. Ф-ч в 1556 г. был воеводой во Мценске, в 1558 г. — головой у казанских людей в передовом полку, в Ливонском походе, а затем в походе Ал. Басманова под Руго- див. После взятия Ругодива в той же должности был в походе к Юрьеву; в 1559 г, пожалован в окольничие и был воеводой
260
большого полка судовой рати на Днепре, в диверсии против крымцев (об этом см. Курбский. Соч. I, 240). В 1560 г. в походе кн. Андр. Мих. Курбского он был вторым воеводой большого полка и в августе того же года оставлен с братом Алексеем в Феллине. Здесь его брата Алексея застигла опала. В конце 1560 г. Алексей был переведен из Феллина в Юрьев, где и умер.1 ^
Данила Федорович и его сын (единственный) Тарх были казнены в связи с падением Алексея, в 1562 или 1563 г. Кн. Курбский после рассказа об убийстве семьи Шишкиных (родичей Адашевых) сообщает: „потом по летех двух або трех убиени благородные мужие: Данило, брат единоутробный
Алексеев, и с сыном Тархом, яже был еще во младенческом веку, лет аки 12, и тесть Данила оного, Петр Туров“ (Соч. I, 278).
Айгустов Данила.
Много А-вых в XVI—XVII вв. владели небольшими вотчинами в Переяславле и Дмитрове (1504 г. в Дмитрове — С. Гр. и Д. I, 355). Меньшой Григорьев A-в служил по Шелон- ской пятине и в 1550 г. был зачислен в тысячники (Новг. писц. книги IV, 337). Подьячий Улан Мартьянов A-в за ложный донос и бесчестье дьяка Вас. Щелкалова в 1571 г. по приговору царя Ивана лишился своей переяславской вотчины (А. А. Э. I, № 280; Шумаков. Обзор Гр. К. Э. III, 55). В 1577 г. Улан A-в упом. в разрядах, как дьяк, с царем Иваном в походе в Калугу.
Алексей, повар (М. Б.).
Алексей, портной мастер.
Алексей, стрелец.
А л е н к и н, кн. Андрей Федорович Жеря, с женой и детьми. В синодиках не упоминаются.
Аленкины — старшая, после Алабышевых, линия Ярославских князей. Андрей Жеря в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1551 г. был воеводой в полках в Кашире, в 1553 г. — наместником в Чернигове, в 1559 г. воеводой на году в Казани, в 1562 г. — полковым воеводой в Серпухове, в 1563 г. — в Торопце, в 1565 г. — в Астрахани, в 1567 г., апрель — в Шацке (Разряды). Кн. Курбский рассказывает, что кн. Андрей Аленкин был тяжело ранен при обороне одного из Северских городов и умер на другой день от ран. Посланные царем убить его кромешники вернулись к царю с вестью о смерти кн. Андрея. Тем не менее царь Иван отнял у вдовы и детей умершего воеводы вотчину и сослал их в дальнюю ссылку, „и тамо, глаголят, всеродне тоскою погубил всех“ (Соч. I, 307). Последнее показание кн. Курбского косвенно подтверждается тем, что в родословцах у Андрея Жери потомства не показано.
1 В описи дел царского архива было дело: „обыск кн. Андрея Петровича Телятевского в Юрьеве Ливонском про Алексееву смерть Адашева" А. А. Э., — 354.
261
Алферьев Авксентий (М. Б.).
А мир ев Шестой (Чуд.). В Кир. — Шестой Дмитриев. В М. Б. — Шестак.
А м м о с, протопоп, в иноках Александр.
Протопоп от Николы Гостунскаго Аммос в 1553 г. крестил казанского царя Семиона, а затем был посаженным отцем на свадьбе своего крестника (Летописец русский, 3; Древн. Рос. Вивл. XIII, 59). Вероятно, его родственниками были Роман Аммосов с женой, сестрой, дочерью и тещей, которые в синодиках упоминаются несколько выше протопопа Аммоса. Царь Иван дал собору Николы Гостунского по душе кн. Юрья Ив-ча сц. Адуево в Звенигороде, и в 1559 г. оно было за протопопом Аммосом с братьей (Писц. книги М. г. I, 726).
Андреев Семен.
Андрей, певчий дьяк архиепископа. Вероятно, дьяк (регент хора) Новгородского арх. Пимена.
Андрианов Кирилл, новгородский подьячий, с женой, сыном Васильем и дочерью Марфой.
Аникеевы Бакака и Иван; в М.Б. еще Андрей Меньшой и Григорий.
В Водской пятине упоминаются земли, конфискованные в конце XV в. у новгородцев Андрея с братьею Аникеевых. И после этого уцелело несколько Аникеевых, своеземцев, на своих вотчинах (Новг. писц. книги III, 861, 864, 870 и сл.; V, 19, 27, 546). Повидимому, из этого же рода были Аникеевы, испомещенные в Бежецкой пятине, в Кстовском, Егорьевском, Млевском и Спасском погостах. У Исупа А-ва было 3 сына: Неклюд, Яков и Тимофей. Неклюд и Яков в 1550 г. были зачислены в тысячники и получили поместья под Москвой. У Тимофея Исупова было 2 сына: Афанасий и Иван, родившиеся около 1541 г. (там же, VI, 719—722). Второе родственное гнездо А-вых происходило от Ивана, у которого было 5 сыновей: Иван и Прокофий, умершие до 1545 г., Петр, Родион и Пятой. У Пятого Иванова (умер в 1551 г.) было при описании 1551 г. 4 сына: Андрей, Василий, Мурат 17 лет, „да Бакака 14 лет, и те 2 сына еще не служат" (там же, VI, 594—595). Братья Андрей и Бакака Пятого, родившийся около 1537 г., упом. в синодиках. В 1545 г. в той же пятине владели поместьями Иван и Юрий A-вы (там же, VI, 427, 752), но более вероятным Иванов синодиков представляется Иван Тимофеев, племянник тысячников Неклюда и Якова Исуповых. Можно отметить еще, что Тимофей Константинов A-в в 1563 г. был в числе поручителей по кн. Ал. Воротынском (С. Гр. и Д. I, 489).
Антон, кожевник. Вероятно новгородец.
Артемьев Алексей, новгородский подьячий, с женой и дочерью. В М. Б. еще Иван.
Арцыбашев Булат.
262
Булат Ар-в упоминается как сын боярский в свадебном чине царя Ивана, 1571 г. (Древн. Рос. Вивл. XIII, 89). По росписи А-вых, поданной в Разряд в конце XVII в., родоначальником их был немчин Петр Каспаров, выехавший на службу к в. кн. Василию Ивановичу. У Григорья, сына Петра Каспарова было 5 сыновей: Василий Невзор, Матвей Торопец, Иван, Семен й Сурьянин. В писцовой книге Бежецкой пятины 1551 г, записаны на поместьях Григорий Петров с сыновьями Невзором, Киреем и Торопом (Новг. писц. кн. VI, 590). Невзор и Торопец в 1550 г. были зачислены в тысячники. Сопоставляя эти данные, можно предположить, что Иван или Семен Григорьевичи имели прозвища Кирей и Булат. Возможно, что Иван имел прозвище Кирей, а Семен — Булат.
Штаден рассказывает, что „маршалк Булат хотел сосватать свою сестру за великого князя и был убит, а сестра его изнасилована" (97). Вероятно, это — Булат Арцыбашев.
Астафьев Иван (М. Б.). Там же Елена с детьми: Фомой, Игнатьем и Стефанидой.
Афанасий, подьячий (М. Б.), псковский (?)
Афанасьев Бессон, новгородский подьячий, не женатый.
Бабин (Бакин) Третьяк.
Бабичев кн. Андрей.
Семен Васильевич Б-в в конце XV в. был испомещен в Ше- лонской пятине (Новг. писц. кн. И, 836). Там же на поместьях упоминаются позже его сыновья: Иван, Данила и Василий (там же, IV, 102—107; V, 24; Самоквасов. Арх. мат. II, 439). Четвертый сын Семена Вас-ча, Андрей, в 1555 г. был писцом в Звенигородском уезде (С. Гр. и Д. I, 530). В 1560 г. он упом. как голова в полках в походе к Алысту, а в 1566 г. присутствовал на Земском соборе (С. Гр. и Д. I, 551).
Бабкин Афанасий. Вероятно из новгородцев.
В конце XV в. в Шелонской пятине были испомещены 5 сыновей Моисея и 3 сына Луки Б-ных (Новг. писц. кн. III, $3—88, 92, 101, 466, 474 и др.). В 1539 г. упом. там же поместье житничного ключника Афанасья Михайлова Б-на, которое перед 1552 г. было отдано другому житничному ключнику (там же, IV, 457, 560). Во вкладной книге Тр. Сергиева монастыря записаны 2 вклада (в 1546 и 1550 г.) Афанасья Михайлова Б-на.
Басенковы, Иван с женой Ириной и сыном Тихоном и Исаак с женой.
Б-вы были потомками „удалого воеводы" в. кн. Василья Темного, Федора Васильевича Басенка, оказавшего большие услуги вел. князю и его матери во время Шемякинской смуты. Сын Федора Басенка, Никифор, в 1487—1503 гг. был окольничим, но после него Б-вы по неизвестным причинам выбывают 48 боярской среды и так опускаются в ряды городового служилого люда, что ни в разрядах, ни в Тетради дворовой, ни в тысячниках мы не находим ни одного представителя рода Б-вых.
263
Баскаковы Андр ей и Севрин.
Севрин Васильев в 1564 г. упом. как поручитель по боярине Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 498). Андрей Иванов служил по Бежецкой пятине и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1564 г. в той же пятине упоминаются на поместьях Андрей, Будай и Кудаш Ивановы Б-вы (Новг. писц. кн. VI, 993, 1012). Андрей Иванов в 1564 г. был поручителем по Ив. В. Шереметеве, а на Земском соборе 1566 г. присутствовал как дворянин второй статьи (С. Гр. и Д. I, 499, 551).
Батанов Андрей, с сыном и дочерью.
Батановы происходили от послужильца кн. Ив. Юр. Патрикеева, Власия Володина Б-ва, который был зачислен на службу вел. князя и в 1500 г. испомещен в Водской пятине (Временник Общ. Ист. XI, 203). Батановы в источниках пишутся чаще Бастановыми, что вероятно правильнее. Андрей Никитич Б-в (см. его род в синодике Успенского собора. Моек. Ист. музей, Усп. собр. № 64, лл. 265, 294) в 1565 г. в чине подьячего был приставом при приеме польских послов (Сб. Р. Ист. Общ. т. 71, стр. 307, 310). На Земском соборе 1566 г. он присутствовал как дворцовый дьяк (С. Гр. и Д. I, 553). Перед казнью имел возможность сделать духовное завещание и распоряжаться своим имуществом: около 1570 г. его душеприкащик, дьяк Федор Фатьянов, дал на вечное поминанье его души Иосифову Волоколамскому монастырю 50 руб. (Моек. Ист. музей, Епарх. собр. № 419, л. 147).
Отмечу из того же рода: Енаклыча Владимирова Бастанова, который в 1565 г. был поручителем по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 519) и Алешку, Ваську и Пантелея Б-вых, которые в 1573 г. были поезжанами на свадьбе Арцымагнуса (Разряды).
Безносовы, см. Монастыревы.
Безсоновы Алферий, Булгак и Григорий.
Беликов Иван
В Тетради дворовой по Зубцову записаны: Иван, Борис, Федор, Семен и Меньшик Васильевы Б-вы. Из очень заурядных городовых служилых людей.
Бельского кн. Ивана человек Меньшик.
Берлин Иван (только в Кир.).
Б е р н о в ы, Богдан, Г ригорий, Меньшик, Рудак и Шарап.
Берновы — старинные вотчинники Старицы и Торжка. В Троицких актах в 1447 г. упоминаются как послухи у данной грамоты Евд. Кунгановой (вдовы новоторжекого боярина), на с. Кунга- ново в Торжке, Семен Иванович и Осип Федорович Б-вы. „Новоторжцы Берновы“ участвовали в 1478 г. в походе в. кн. Ивана на Новгород (П. С. Р. А. VI, 207). Федор Васильев Б-в, новоторжец, в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1541 г. вдова Константина Михайловича Б-ва, Анна, с сыном Андреем Меньшиком дала Тр. Сергиеву монастырю дрв. Коросте- лиху, в Тверском уезде (Шумаков, Тверские акты, I, 67—68).
264
Вероятно этот Андрей Меньшик Константинов и упом. в синодиках. Шарап служил по Старице, и известен его сын Петр Шарапов, который в 1619 г. служил тоже по Старице и имел из чети оклад в 18 руб. (Р. И. Б. XXVIII, 719). С уверенностью' можно сказать, что и другие Б-вы синодиков были из того же рода-
Бернядинов Федор.
Бесстужев Григорий.
Бесстужевы — старый московский род городовых служилых людей. Матвей Б-в в 1477 г. был послом в Орду (Летописец Нарманского, 2). Осип Образец и Ларион Ивановы Б-вы были убиты в казанском походе 1485 г. (Древ. Рос. Вивлиф. XX, 462, 463). Сын Матвея, посла в Орду, Иван, и Афанасий Васильев в начале XVI в. получили поместья в Водской пятине (Новг. писц. кн. III, 416, 658, и Временник, XI, 290), где в XVI—XVII вв. мы находим десятка полтора Б-вых. Родовые гнезда Б-вых находились, повидимому, во Владимире и Костроме, где в XV— XVI вв. упоминаются их вотчины. Григорий синодиков был отцом того Юрья Григорьева Б-ва, который в 80-х годах XVI в. межевал митрополичьи земли во Владимирском уезде (Моек. Ист. музей, Синод, биб. № 276, л. 169).
Блеклой Петр, с женой, снохой и внуком.
Повидимому, из новгородцев. В конце XV в. в Шелонской и Водской пятинах были испомещены двое Блеклых (Новг. писц. кн. III, 118, 135; V, 13, 21). В 1582 г. в Водской пятине упом. бывшее поместье Федора и Петра Ивановых детей Б-х.
Боборыкин Иван.
Б-ны — одна из самых захудалых отраслей рода Кобылина. С конца XV в. в В. Новгороде было испомещено много Б-ных. В середине XVI в. в Бежецкой пятине имели поместья: Андрей Туча, Иван, Борис и Михаил Семеновичи Б-ны (Новг. писц. кн. VI, 108).
Б о в ы к и н Алексей. В некоторых синодиках — Бобыкин, в других — Бабкин.
О новгородских помещиках Бабкиных см. выше. В Новгороде были и Бовыкины. См., напр., Новг. писц. кн. I, 183.
Борзово Третьяк и Четвертой, псари.
Борисовы Василий и Никита.
Из рода тверских бояр Бороздиных-Борисовых.
Василий Никитич служил по Твери и в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1555 г. был с воеводами на году в Смоленске, а в 1559 г. был головой в .полках (Древн. Разр. кн. 176, 206). Родной брат Василия, Григорий Никитич, в 1577—1584 гг. был боярином, а в 1578 г. одно время был боярином в. кн. Симеона Бекбулатовича (Синб. сб. 65).
Никита Васильевич Черного был двоюродным братом Василия и Григория Никитичей. Он служил по Кашину, кн. Юрью Ивановичу, и в 1550 г. был зачислен в тысячники. По списку
265
думных людей, напечатанному Новиковым, Никита Васильевич в 1567 г* был пожалован в окольничие, а в 7084 г. (1575— 1576 гг.) „выбыл“. В 1572 г. он дал Макарьеву Колязину монастырю свою старинную вотчину — Хорпаево-Вантеево с деревнями, в Чудском стану Кашинского уезда (ГАФКЭ, Гр. К. Эк., № 6775).
Борода Федор, новгородский подьячий, с женой.
Бородин Богдан. В синодиках записан среди псковичей.
Бортенев Григорий.
Бортеневы — старый, сильно размножившийся и измельчавший род московских служилых людей.
В 1571 г. Владимир Григорьев, Афанасий и Коверя Юрьевы, Назар Семенов и Шарап Микулин Б-вы были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 568—579). Не был ли Григорий синодиков отцом Владимира, ручавшегося по кн. Мстиславском? Шарап Микулин в 1572 г. был дозорщиком во Владимирском уезде. О его брате Даниле Микулине см. ниже.
Бортенев Данила. В синодиках не упоминается.
Данила Микулин в 1560 г. был головой в полках в Ливонском походе. На Земском соборе 1566 г. он присутствовал как дворянин второй статьи (С. Гр. и Д. I, 551). Вскоре после новгородского погрома он был назначен в В. Новгород дьяком земской половины и в декабре 1571 г. затравлен медведем в дьячей избе (Новгородск. летописи, 107, СПб. 1879; Сб. Р. Ист. Общ., т. 129, 207; Самоквасов. Арх. мат. II, 37, 148).
Бортев Четвертой. В М. Б. — Бортенев.
Б охов Шемяка.
Братской Федор.
Возможно, что следует читать: Братцев. Иван и Михаил Ильины дети Братцевы в конце XV в. были испомещены в Бежецкой пятине (Самоквасов. Арх. мат. I, 228, 235), а позже в этой пятине было несколько гнезд Братцевых. Из них — Григорий Михайлов в 1550 г. был зачислен в тысячники. Павлин Б-в в 1571 г. был головой в Велиже (Разряды).
Бровцин Михаил.
В конце XV в. в Водской пятине были испомещены Федор, Кузьма и Андрей Михайловичи Б-ны. Бровцины служили настолько хорошо, что в 1550 г. в тысячники были зачислены: Иван, Роман и Федор Федоровы дети и Иван Неплюй и Михаил Кузьмины дети. Михаил Кузьмин в 1567 г. был вторым воеводой во Ржеве Пустой (Синб. сб. 19). После этого он нигде не упоминается. В синодиках упом. только Михаил, но известно, что в 1571 г. поместья Михаила и Ивана Неплюя Кузьминых были отписаны во дворец (Самоквасов. Арх. мат. 11, 347).
Будило, новгородский подьячий. . -
Бужанинов Константин. *
266
Вероятно, из новгородцев. Ср. в 1552—1553 гг. на поместье в Шелонской пятине сытник Игнатий Леонтьев Б-в (Новг. писц. кн. IV, 555).
Булгаковы, Иван с женой и дочерью (записаны среди дьяков) и Дмитрий (записан в другом месте). В М. Bi еще Никита.
Дьяк Иван Коренев сын Б-в в 1557 г. был с царем в походе. В 1563—1564 гг. он был дьяком Большого Прихода (Шумаков. Углицкие акты, 118; Лихачев. Разрядные дьяки, 473; Д. А. И. I, 171). В 1566 г. как дьяк участвовал в Земском соборе (С. Гр. и Д. I, 553). По сообщению Шлихтинга дьяк Иван Б-в с женой был казнен пятым после Ив. Висковатого и других (Шлихтинг, 48—49).
Кто был Дмитрий Б-в, неизвестно. Можно отметить, что одновременно с Иваном на Земском соборе 1566 г. был дьяк Постник Булгаков. Во всяком случае Дмитрий не принадлежал к рязанскому боярскому роду Булгаковых-Денисьевых, о казни которых „всеродне“ сообщает кн. Курбский. Курбский называет „ротмистра нарочитого в мужестве Федора Булгакова со братьями их и со другими единоплемянными“ (Соч. I, 305). В синодиках их нет, или быть может еще не удалось их расшифровать. По родословцам у боярина и дворецкого в. кн. Рязанского Федора, у Матвея Булгака Денисьева было 6 сыновей: Иван Большой, Федор Большой, Михаил, Иван Меньшой, Федор Меньшой и Юрий. Все они, за исключением Федора Большого, в 1550 г. были зачислены в тысячники. Кто из них был казнен, неизвестно. Известно только, что 4 старшие брата не оставили потомства, а у Федора Меньшого были только 3 дочери, из которых старшие умерли до 1577 г., а младшая, Ефросинья, на много пережила сестер и около 1623 г. дала Тр. Сергиеву монастырю свою вотчину в Рязани. Юрий Матвеев в 1578 г. был взят в плен в Полоцке, затем был выкуплен и в 1585 и 1591 гг. упоминается в разрядах. В общем из всего потомства Матвея Булгака к концу столетия остались только Юрий, Матвеев и его сын Федор.
Бун ко в Второй, дьяк.
Упоминается как дьяк на Земском соборе 1566 г. (С. Гр. и Д. I, 553). Возможно, что Второй был сыном Дементья Б-ва, который в 1517 г. был ямским дьяком в В. Новгороде (Р. И. Б. XVII, Каб. кн., 202).
Бурцев Дорофей, инок (Кир.). Ср. Курцев Никита.
Бутурлины, Василий, Григорий, Дмитрий, Иван с сыном и дочерью, Леонтий и Стефан. В синодиках записаны в разных местах. В М. Б. еще Сурьянин Бутулинн, т. е. очевидно человек какого-то Бутурлина.
Кн. Курбский писал: „И паки побиени Василий и другия братия его, со единоплемянными своими, Бутурлины глаголемые, мужие светли в родех своих; сродница же бяше оному пред*
267
реченному Иоанну Петровичу" (Соч. I, 303—304). Замечание кн. Курбского о родстве Бутурлиных и Ив. П. Федорова свидетельствует о его хорошем знании генеалогии боярских родов: родоначальник Бутурлиных, Иван Андреевич Бутурля, был младшим братом Ивана Андреевича Хромого, прапрадеда боярина Ив. П. Федорова.
Семья окольничего Андрея Никитича Б-на (1513—1535 гг.) была из младших, но самых значительных отраслей рода.
Старший сын Андрея, Афанасий, начал свою служебную карьеру в 1547 г., в 1550 был зачислен в тысячники, с 1563 г. был окольничим и умер и погребен у Троицы в 1571 г. В синодиках не упоминается и обстоятельства его смерти неизвестны, но, повидимому, он был замешан в деле своих сородичей и быть может умер в опале. В описи архива царя Ивана, в 217 ящике, записаны; „грамоты и наказы Дм. Турского на Опочку по Афанасья по Андреева сына Бутурлина в литовском отъезде" (А. А. Э. I, 352).
Второй сын Андрея, Михаил, в 1550 г. был зачислен в тысячники, но не сделал карьеры, так как постригся (когда?) и умер в монастыре.
Третий сын, Дмитрий, упомянутый в синодиках, в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1564—1568 гг. был писцом Мурома, затем после этой службы был назначен в окольничие. Служил в опричнине. В разрядах он упоминается в последний раз в 1574 г. как полковой воевода. Обстоятельства его опалы и смерти загадочны. Из списка надгробий Тр.-Сергиева монастыря видно, что он умер 27 ноября 1575 г. и погребен у Троицы (Горский. Истор. описание Тр. Сер. лавры II, 101). Дмитрий Андреевич был женат на дочери кн. Ив. Вас. Щербатого и получил в приданое (1542 г.) половину села Богородицкого в Переяславском уезде. В 1571 г. его сыновья, Роман и упомянутый в синодиках Леонтий, дали Тр. Сергиеву монастырю эту приданную вотчину матери.
Пятый сын, Иван, в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1563 г. одновременно с старшим братом Афанасьем был пожалован в окольничие, в 1566 или 1567 г. — в бояре. В списках думных чинов Иван показан выбывшим в 7083 г. (1574— 1575 гг.). В синодиках он показан казненным с сыном и дочерью. По родословцам у него был один сын Федор, не оставивший потомства.
Шестой сын Андрея, Василий, начал свою карьеру в 1549 г. рындой, в 1550 г. был зачислен в тысячники и в ближайшие последующие годы не раз упоминается на разных службах как воевода. В последний раз он упоминается в разрядах в 1567 г. на службе в Дорогобуже. Это дает основание предположить, что он первый подвергся немилости царя и перестал получать служебные назначения, в то время как его старшие братья продолжали свою карьеру. Этим быть может объяс¬
268
няется то, что Курбский упоминает именно его, а не старших, более значительных братьев.
Григорий и Степан синодиков принадлежали к старшим линиям рода Б-ных. Григорий Неклюд Дмитриевич по службе был невысок и в разрядах не упоминается. В январе 1571 г. он еще владел поместьем в Водской пятине, а в писцовых книгах 1582 г. упом. уже бывшее его поместье (Самоквасов. Арх. мат. II, 40, 46).
Степан Варфоломеевич Б-н-Полуектов упом. на Земском соборе 1566 г. как дворянин второй статьи (С. Гр. и Д. I, 551). В родословцах он показан бездетным. О службах его ничего неизвестно.
Бухарины, Ишук с женой и невесткой, его племянник Павел, Андрей и Матвей с сыном.
Бухарины — отрасль старого рода коломенских вотчинников Наумовых. Тимофей Бухара Григорьев Наумов в 1495 г. был постельником (жильцом) в Новгородском походе. Сыновья Тимофея Бухары, Иван и Григорий Арман, в 1528 г. были поручителями по кн. Шуйском (С. Гр. и Д. I, 430). У Ивана Тимофеевича Б-на известны 3 сына: Иван Ишук, Федор и Андрей, а у Григория Армана — Матвей, Иван и Федор. В Тетради дворовой записаны по Калуге, Кашире и Коломне 21 человек рода Наумовых, в том числе Арман Б-н с сыновьями.
Самым значительным из Б-ных был Ив. Ив. Ишук. В 1540— 1550 г. он был дьяком в В. Новгороде (Лихачев. Разрядные дьяки, по указателю; Д. А. И. I, 252; Самоквасов. Арх. мат. II, 283). В 1554 г. в чине дьяка он был в посольстве бояр В. М. Юрьева в Польшу (Сб. Р. И. Общ. т. 59, 421, 444). В 1554— 1559 гг. он служил в Москве и не раз бывал с царем Иваном в походах. (Разряды и Р. И. Б. XXII, 58). В 1562—1566 гг. упом. как дьяк при встречах и приемах послов (Сб. Р. И. Общ. т. 71). В 1564 г. Ишук был поручителем по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 497). При учреждении опричнины он был зачислен в опричники и в 1569 г. был воеводой из опричнины в полках в Калуге (Синб. сб. 24).
Андрей синодиков — брат Ивана Ишука, а Матвей Григорьев Арманов — его двоюродный брат. Матвей в 1566 г. упом. как городовой прикащик на Белоозере.
Быков Алексей. В синодиках записан среди новгородцев.
Из каких Быковых был Алексей синодиков, неизвестно. Фамилию Б-вых носило несколько родов. Осип и Семен Федоровы Б-вы имели вотчины в Бежецке и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Тогда же был зачислен в тысячники псковитин Иван Тихонов Б-в В 1565 г. Василий Петров и Иван Дмитриевы Б-вы были поручителями по кн. Серебряном, а в 1571 г. Василий Федоров Б-в был поручителем по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 519, 520, 568). Дмитрий * Иван Степа¬
269
новы Б-вы в середине века имели поместья в Бежецкой пятине (Новг. писц. кн. VI, 124).
Басаевы Михаил и Марья.
В первой половине XVI в. в Бежецкой пятине сидело на поместьях несколько семей Басаевых. Среди них были потомки Прокофья, испомещенного в конце XV в. У Федора Прокофьева (умер в 1549 г.) было 5 сыновей: Михаил, Григорий, Иван, Андрей и Василий (Новг. писц. кн. VI, 213, 216, 609, 729). Пови- димому, Михаил синодиков и есть Михаил Федоров.
Васильев Андрей, см. Монастырев Андр. Вас. Безносов.
Васильев Семен с сыном Никитой (М. Б.).
Вахневы Дмитрий и Ульяна „Вахнева жена“.
В синодиках записаны среди новгородцев. Следует отметить, что Вахно есть северо-западная форма имени Варфоломей.
Вежак, зелейник (М. Б.).
Великово Иван (М. Б.).
Верещагин Петр, сотник (М. Б.), стрелецкий (?),
Вешняков Иван.
Не выяснен, — можно только сказать, что не из рода Вешняковых-Морозовых.
Висковатые Иван и Третьяк с женой.
Иван Михайлович Висковатый (висковатый-вихрастый) был крупным самородком, вышедшим из низших слоев населения. Как человек исключительных способностей и характера, он был крупным дипломатом своего времени. Биографические сведения о нем см. С. Белокуров, О Посольском приказе, М. 1906, и Н. П. Лихачев, Библиотека и архив московских государей, СПб. 1894, 96—102. В 1542 г. он был подьячим у посольских дел и писал перемирную грамоту в Польшу. В 1549 г. ему „приказано посольское дело; а был еще в подьячих“. В марте или апреле того же года назначен дьяком Посольской избы. В 1561 г. 9 февраля пожалован в печатники. В августе 1562 г. с кн. Ант. Ромодановским Ив. М. был в посольстве в Данию. В составе посольской свиты был его брат Третьяк. По возвращении в ноябре 1563 г. из Дании Ив. М. продолжал принимать участие в приемах послов, но не как думный посольский дьяк, а как печатник. В последний раз упоминается 13 июня 1570 г. Об отношении его к церковным обрядам см. в послании царя Ивана в Кириллов монастырь: „А и в миру тот Шереметев (боярин Иван Вас-ч) с Висковатым первые не почали за кресты ходити, и на то смотря, все не почали ходити“ (около 1578 г. А. А. Э. I, 383).
Незадолго перед смертью Ив. М. чем то „обесчестил“ царского фаворита, дьяка Вас. Як. Щелкалова, за что расплатился своей вотчиной в Переяславе, оцененной в 200 руб. (Там же, I, № 180).
Казнен летом 1570 г. по „изменному делу" Новгородского архиепископа Пимена и других. Описание казни, по Гваньини,
270
см. У H. М. Карамзина (Ист. Гос. Рос. IX, 94, и 299 прим. Изд. Эйнерлинга, СПб. 1843).
Описание казни Ив. М. Висковатого и его сообщников у Шлихтинга производит впечатление рассказа очевидца или во всяком случае человека, имевшего сведения из первых рук (Шлихтинг, 46—47).
Третьяк Михайлович Висковатого упом. в казанском походе 1549 г. как сын боярский „у коня“ (государева). В 1553 г. он был поезжанином „у коня“ же на свадьбе царя Симеона (Древн. Разр. кн., 139; Древ. Рос. Вивлиоф. XIII, 59). В1562 г., как бЪ1ло упомянуто выше, он был в свите посольства в Данию. В общем Третьяк по своим способностям и карьере не может итти ни в какое сравнение с своим талантливым братом. В синодиках он записан с женою отдельно от брата и погиб раньше его, без всякой связи с делом архиеп. Пимена. Шлихтинг сообщает, что после отъезда польских послов (каких? в 1569 г.?) „прежде всего тиран поразил секирою Третьяка, брата Висковатого, вымучив у него деньги. Жена его также была схвачена, и тиран приказывает привести ее к себе“. Далее Шлихтинг рассказывает об издевательствах, которым она подверглась перед утоплением в реке (Шлихтинг, 41—42).
В и с л о в о Константин Мясоед.
Константин Семенович Мясоед и его брат Булгак Вислово происходили из белозерских вотчинников (О вотчинах Мясоеда на Белоозере см. ГАФКЭ, Гр. К. Эк. №№ 784, 786, 837, 839). В 1535 г. Константин был городовым прикащиком на Белоозере (Архив Строева I, № 176; Лихачев. Разрядные дьяки, прим, на стр. 194). В 1552 г. он был приставом у польского посланника (Сб. Р. Ист. Общ., т. 59, 366), а в 1553 г. городничим в Свияжске (Древн. Разр. кн., 160). В1554—1555 с Игн. Загряжским Константин Мясоед был посланником к ногайским мурзам (Летописец русский, 25, 37). После этой службы пожалован в дьяки и недолгое время был в Разбойном приказе (А. И. III, № 167), а затем в 1556—1570 гг. был дворцовым дьяком и принимал участие в приеме послов (Сб. Р. Ист. Общ., т. 59, 489, 510; т. 71, 192, 629; Древн. Разр., кн., 181). В чине дьяка присутствовал на Земском соборе 1566 г. (С. Гр. и Д. I, 553). Не имея детей, Константин написал в 1568 г. духовную грамоту, по которой дал Кириллову монастырю сц. Никитское на Белоозере (Духовная его — А. Ю. № 421, и Архив Строева I, № 238). В 7078 г. (1569—1570 гг.) он дал Московскому Успенскому собору 100 руб. „и повеле на те деньги земли купити на память своему роду и себе“ (Моек. Истор. музей, Усп. собр. № 64, л. 303).
В духовной грамоте К. Вислово следует обратить внимание на большое количество его крупных вкладов монастырям: Ростовскому Борисоглебскому —100 руб., Ферапонтову:—50 р., Пречистой на Тихвину — 50 р., Николы Песношскому в Дмитрове— 60 руб. и т. д. Душеприкащиками Мясоед назначил борисо-
271
Глебского старца Дионисия Турпезваибелозерского вотчинника Кожара Тимофеева сына Григорьева. О казни Дионисия Тур- пеева см. ниже. Отмечу еще, что в синодиках упом. без имени и фамилии какой-то Кожар. Не есть ли это лицо Кожар Григорьев, душеприкащик Мясоеда Вислово?
Владимиров Дружина (М. Б.) В июня 1566 г. дьяк в Москве при встрече литовских послов (Сб. Р. Ист. Общ. т. 71, 348, 418; Д. А. И. I, 172, 175). В апреле 1567 г. подписал грамоту из опричнины на Белоозеро о таможенных пошлинах (Публ. библ., F. Q., № 113а, л. 1173). В июне 1567 г. дьяк, по предположенью Лихачева, в опричнине (Разрядные дьяки, 115, 119, 564). 1571 г. 12 февраля дьяк (Р. И. Б. XXXII, 507). В мае и июне 1573 г. дьяк Разбойной избы (А. Ю. Б. II, 669—670).
Волынский Григорий.
В роде В-ких за соответствующее время известны 2 Григория: Григорий Савельев, отец которого в конце XV в. был испомещен в Деревской пятине (Новг. писц. кн. II, 351), и Григорий Васильев. О службах их ничего неизвестно. Один из этих Григориев (без отечества) в 1563—1565 гг. был дозорщиком трех пятин В. Новгорода.
Воронин Богдан, новгородский подьячий.
< Воронин Василий, подьячий (М. Б.).
В Тетради дворовой записаны по Ростову — Васюк Давидов и по Ржеве — Кирилл Васильев и Ивашка и Васюк Карменевы. Шесть Ворониных было испомещено в конце XV в. в В. Новгороде, и потомки их в XVI в. служили по Водской и Шелон- ской пятинам (Новг. писц. кн. III, 513; IV, 480; V, 10, 106, 504).
Григорий Иванов В-н в 1571 г. был в числе поручителей по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. 1,569). В общем В-ны были заурядными городовыми детьми боярскими, из которых только немногие попадали в дворовый список.
Воронов Андрей.
Вероятно, из костромичей. Андрей Иванов В-в в 1549 г. упом. как послух в Костромском уезде. В 1572 г. его вдова Анна Борисовна, урожд. Хвостова (см. Хвостовы), дала Тр. Сергиеву монастырю по своем муже Андрее, в иноках Аврааме, и по своих детях сц. Дмитриево с деревнями в Нерехотской волости Костромского уезда. В том же году брат Андрея, Федор Иванов, дал Троицкому же монастырю деревню Веригино, в волости Сорохте (смежной с Нерехтой). Эти вклады дают основание говорить, что Андрей и Федор Вороновы были зачислены в опричнину и не лишились своих вотчин, когда костромичи в 1567 г. „всем городом“ были выселены из Костромского уезда.
Воронцов Василий.
Неизвестно, о каком Василье В-ве говорят синодики. Можно с уверенностью только сказать, что этот Василий не из изве-
272
стного боярского рода Воронцовых-Вельяминовых. Отмечу, что в Кашине и Дмитрове в XV—XVI вв. был сильно размножившийся род других Воронцовых, заурядных городовых служилых людей.
Из рода В.-Вельяминовых в 1546 г., в малолетство царя Ивана, были казнены бояре Василий Михайлович и его дядя Федор-Диомид Семенович (Курбский. Соч. I, 167,30 4. П. С. Р. Л. XIII, 149, 449). Брат Диомида — Иван-Фока Семенович (боярин, 1543—1560 гг.), как видно из одного дела царского архива, обвинялся в намерении бежать („ящик 170, а в нем дело Фоки Воронцова в отъезде“. А. А. Э. I, 347).
В опричнине, не ранее 1571 г. был казнен Иван Федорович В., сын Федора-Диомида. Его младший брат, Василий Федорович, окольничий, был убит под Кесью в 1579 г. (Синб. сб. 67).
Воротынский кн. Михаил Иванович. В синодиках не упоминается.
Один из последних удельных князей. По свидетельству кн. Курбского „муж крепкий и мужественный, в полкоустрое- ниях зело искусный“. По разрядам и летописям устанавливается его служба в течение 30 лет. В 1543 г. он в Белеве, в 1544 г.— наместник и воевода в Калуге, в 1545 г. — на году в Василего- роде, в 1548 г. — в походе под Казань, в 1549 г. — в Ярославле, в 1550 г. — наместник в Костроме, а затем в Коломне, в 1551 г. — в Одоеве, в 1552 г. — в Рязани и Коломне, а затем слуга и боярин, воевода большого полка при взятии Казани, в 1553 г. — в Коломне, в 1554 и 1555 гг. — на году в Свияжске, в 1556— 1558 гг. — в Коломне, Серпухове и Кашире, в 1559 г. — против Девлета в Кашире, а затем в Одоеве, в 1560 г. — в Туле и в 1562 г. — в Серпухове. На этой службе подвергся по неизвестной причине опале и сослан на Белоозеро. В феврале 1566 г. еще был в ссылке (А. И. I, № 174), а затем помилован и служил в Серпухове. В 1569—1571 гг. был на береговой службе в Коломне и Серпухове. Когда Девлет в мае 1571 г. сжег Москву, то Мих. Ив. В-ий нанес ему при отступлении тяжелое поражение (см. об этом у кн. Курбского). В 1572 г. оп был в Ливонском походе, а в апреле 1573 г. на береговой службе в Серпухове и здесь вызвал чем то гнев царя Ивана. Разряды сообщают, не объясняя причины: „И царь и великий князь положил опалу на бояр и воевод, на князь Мих. Ив. Воротынского да на князь Никиту Романовича Одоевского да на Мих. Як. Морозова, велел их казнить смертною казнью“ (Синб. сб., 39).
В отношениях царя Ивана к кн. Мих. Ив. Воротынскому много неясного и неизвестны причины первой опалы и затем, позже, казни. Курбский писал, что Воротынский был оклеветан в колдовстве беглым рабом, который его обокрал, и прибавляет: „а мню, научен от него (т. е. царя Ивана), бо еще те княжата (т. е. М. Воротынский и Н. Одоевский) были на своих уделах и велия отчины под собою имели; околико тысящ (1?) с них
18 Проблемы всточмнковедення
273
по чту воинства было слуг их" (Р. И. Б. XXXI, 286—288). Но непонятно, почему царь Иван дошел до этого после 30-летней непрерывной и блестящей службы М. Воротынского. Если независимо от этого Воротынский обвинялся в колдовстве, то причем в этом кн. Одоевский и старик М. Як. Морозов, т. е. тройка главных воевод береговой армии? Все это — неразрешимые загадки.
Воры паев Иван с женой, новгородский подьячий.
Вьялицин Смага (М. Б.—Ефимьев).
Выповские, Алферий, Андрей, Сила и Шестой. В М. Б. еще Петр „Выпов".
Выповские — владимирцы, испомещенные в конце XV в. в В. Новгороде. Родовое гнездо их — с. Выпово, в Боголюбском стану Владимирского уезда (В 1550 г. Позняк Васильев В-ий дал Спасо-Ефимьеву монастырю луг у с. Выпова. ГАФКЭ, Гр. К. Эк., по Владимиру № 28). Матвей Федоров и Иван и Афанасий Алферьевы В-ие в конце XV в. были испомещены в Дерев- ской пятине (Новг. писц. кн. I, 313, 878; И, 387). Позже, в XVI—XVII вв., В-ие прочно сидели на поместьях С в Дерев- ской и Шелонской пятинах. В 1550 г. новгородцы улеш Невзоров и Русин Иванов В-ий были зачислены в тысячники. Сулеш Невзоров и Третьяк Степанов В-ий в 1565 г. были поручителями по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 519, 520). Андрей Силин, сын казненного Силы В-го, в 1587 г. имел поместье в Пскове (Сб. Арх. М. Ю. V, по указателю).
Выродковы Иван с сын вьями Васильем и Никитой, дочерью Марьей (Мазрой?) и внучкой Еленой, Алексей с женой Федорой и 2 детьми, Дмитрий с детьми: Петром Веригой и Гаврила, 2 Ивана, Федора и 2 жены Выродковых, всего 17 человек.
Дьяки Выродковы происходили из всенародства, как говорил кн. Курбский, а не из детей боярских. Казненный Иван Гри- горьевич В-в был родным племянником дьяка Данила Ивановича В-ва, умершего в 1545 г. Родство указанных в синодиках Выродковых несомненно, но при наличных источниках установить родственные соотношения лиц невозможно.
Иван Григорьев В-в в 1538 г. как „ближний человек" в. князя был послан в Ногаи. В Казанском походе 1547—1549 гг. он был дьяком у наряда (артиллерии), в 1550—1556 гг. — с царем в походах (Разряды). В 1549 и 1555 гг. упом. при приеме послов (Сб. Р. Ист. Общ. т. 59, 267, 459). По предположенью Лихачева, в 1555—1556 гг. он был дьяком Разряда (Разрядные дьяки, по указателю), а в 1557 г. ставил город на устье Нарвы. В марте 1558 г. в звании Углицкого и Калужского дворецкого он был послан в Астрахань, где был до весны 1561 г., когда подвергся опале и был привезен в Москву (Лихачев, указ. соч.). В следующем году он был прощен и служил воеводой у ногайских людей на Луках Великих, а в Полоцком походе 1563 г. был у наряда. В 7073 г. (1564—1565 г.) Ив. Гр. дал Тр.-Сергиеву
274
монастырю сц. Думино, в Повельскомстану Дмитровского уезда (Шумаков. Обзор Гр. К. Эк. III, 13). В 1562 г. Ив. Гр. был поручителем по кн. Ив. Бельском. Отмечу, что среди поручителей по кн. М. Воротынском в 1563 г. упом. Иван Афанасьев Выродков (С. Гр. и Д. I, 478, 489).
Вяземский кн. Афанасий Иванович. В синодиках не упо* минается. В синодиках записан между Нечаем, конюхом Малюты Скуратова, и Нехорошим, человеком Басманова, какой-то Смола „Вяземского", т. е. человек кн. Вяземского. В М. Б. человек В-кого Третьяк и „Ермак Вяземской" и Иван „Вяземского".
Гагарины кн. Андреи и Владимир, и в другом месте — Василий. В Кир. еще „кн. Владимира Небогатого с женой и дочерью". Это ошибка.
Среди многочисленных Г-ных этого времени наиболее вероятными представляются — Владимир Иванович Поярков и его двоюродный брат Андрей Иванович Ушатого. Оба они имели поместья в Пскове, а Владимир в 1550 г. был зачислен в тысячники. Стоит отметить, что их родной дядя, Иван Федорович Одинец Г-н, служил новгородскому владыке. Это дает некоторое основание полагать, что кн. Андрей и Владимир погибли в Новгородском и Псковском погроме 1570 г.
Неполное и местами сбивчивое родословие Г-ных (в Бархатной книге) не дает возможности выяснить других Г-ных синодиков. У Ивана Васильевича Небогатого Г-на в родословцах детей не показано совсем, а Василий в родословцах — один, это Вас, Иванов сын Михайловича. В 1571 г. в Водской пятине упоминаются на поместьях Иван и Андрей Ивановичи Г-ны (Самоква- сов, Арх. мат. И, 44, 47), а в писцовых книгах 1582 г. там же упом. бывш. поместье Василья и Ивана Ивановичей. Таким образом и Василья синодиков можно поставить в связь с Новгород* ским погромом.
Ге л а си й, игумен Антониева Новгородского монастыря. В синодиках не упоминается. Убит в Новгородском погроме 1570 г. (Новгор. летописи 2 и 3. СПб. 1879, стр. 337).
Герасимова Евфимья (М. Б.).
Глебов Матвей (М. Б. — Иванов).
Герман Поле в, казанский архиепископ. В синодиках не упоминается.
Кн. Курбский подробно рассказывает, как царь Иван уговаривал и принуждал Германа принять сан митрополита (после Филиппа Колычева), но Герман „тихими и кроткими словесы" отказывался и обличал царя, „и по дву днех обретен во дворе своем мертв епископ он Казанский. Овыи глаголют удушенна 'его тайне за повелением его, овы же ядом смертоносным уморена" (Соч. I, 317—318). Герман поставлен в казанские архиепископы 12 марта 1564 г. и умер в Москве 6 ноября 1567 г., по официальной веосии, от эпидемии (Строев. Списки иерархов).
ГлуховоИвани Захар. В Кир. —Салман, Осип и Иван.
18*
275
В Ник. Пр.— новоторжец Салман Глухово. Суздалец Иван Матвеев Г-во в 1550 г, был зачислен в тысячники. В разрядах 1551 г. Иван и Захар Г-во упоминаются как поддатни у рынд в царском походе. Иван Матвеев упоминается в 1554 г. как послух у одной земельной сделки кн. М. Глинского в Ростове (Троицкие акты).
Гнильевские (в различных актах писались чаще Захаровыми): Пантелеймон Гнильевский и Василий Захаров с женой и 3 сыновьями.
Захаровы-Гнильевские происходили из мелких ростовских вотчинников. Их многочисленные вклады Ростовскому Борисоглебскому монастырю см. во вкладной книге этого монастыря, изданной А. Титовым (Ярославль, 1881). Род дворцового дьяка Григория Захарова записан в синодике Моек. Успенского собора (Моек. Ист. музей, Усп. собр. № 64, л. 210).
Григорий Никулин Захаров упом. как дворцовый дьяк с 1522 г. В 1542 г. упом. как дьяк при встрече послов (Сб. Р. И. Общ. т. 59, стр. 146; Р. И. Б. И, 39). Его сыновья — Василий и Яков — были дьяками царя Ивана. Василий Григорьев одно время был в большой милости у молодого Ивана. В Львовской летописи рассказывается, что в 1546 г. „по диаволю действу оклеветал ложными словесы великого князя бояр Василий Григорьев сын Захарова Гниль ев великому князю, и князь великий с великие ярости положил на них гнев свой и опалу по его словесем, что он бяше тогда у великого государя в приближении, Василий“. Следствием этой клеветы была казнь кн. Ив. Кубенского и двух Воронцовых (П. С. Р. Л. XX, 467. См. выше Воронцовы).
Василий Захаров в 1547—1948 гг. был дьяком при государе в походах, а в 1561 г. упом. при приеме послов. В 1563 г. в том же чине участвовал в Полоцком походе и после взятия Полоцка оставлен там на службе (Древн. Разр. кн., 235, 237; Сб. Р**Ист. Общ. т. 71, 25). Позже сведений о нем нет.
Пантелей Гнильевский упом. как сын боярский, поезжанин на первой свадьбе царя Ивана (Древн. Рос. Вивл. XIII, 33).
Голованской (?) Григорий (М. Б.)
Г о л о в и н Петр. Во всех синодиках упом. в конце среди других лиц, казненных одновременно с ним и указанных ниже.
В так наз. Александро-Невской летописи после рассказа об учреждении опричнины сообщается: „Тое же зимы (1565 г.), февраля месяца, повеле царь и великий князь казнити смертною казнию з великие их изменные дела боярина кн. Александра Борисовича Горбатого, да сына его князя Петра, да окольничего Петра Петрова сына Головина, да кн. Ивана княж Иванова сына Сухово Кашина, да кн. Дмитрия княж Андреева сына Шевырева“ (Р. И. Б. III, 258). Кн. Курбский рассказывает, что одновременно с кн. Ал. Горбатым в тот же день был убит его шурин Петр Петрович Г-н, „муж грецкого рода, зело
276
благородный и богатый, сын подскарбия земского"... „а потом й брат его Михаил Петрович" (Соч. I, 281). Ховрины-Головины, как известно, происходили от грека Степана Васильевича, выехавшего в Москву из Крыма при в. кн. Василье Дмитриевиче. Кн. Ал. Бор. Горбатой был женат на Анастасие Петровне, сестре Петра Петровича. Казненный Петр Г-н был сыном казначея Петра Ивановича Г-на (1514—1525 гг.), у которого кроме Петра было еще 2 сына: Михаил Большой и Михаил Меньшой. Из вкладной книги Симонова монастыря видно, что Михаил Б. умер в июне 1564 г. (Публ. библ. F IV, № 348, л. 58, 60, 174). Михаил Меньшой в родословцах показан бездетным, что косвенно подтверждает показание кн. Курбского.
Голочелов Кирилл с женой (М. Б.).
В родословцах Кирилла не показано, но возможно, что это объясняется неполнотой. Борис Иванович Голочелов-Морозов в 1551 г. был воеводой в Смоленске, а в 1554 г.— в Василе- городе и умер летом 1566 г. Возможно, что Кирилл был его братом.
Горбатые кн. Александр и Петр.
О казни кн. Александра Борисовича Г-го Суздальского с сыном Петром см. выше: Головин Петр. В 1565 г. 12 февраля царь Иван прислал по душе кн. Александра в Тр.-Сергиев монастырь 200 руб. (Вкладн. кн. 1673 г., в Троицком музее). Кн. Курбский сообщает: „Тогда же убиен от него княжа суздальское Александр, глаголемый Горбатой, со единочадным своим сыном Петром, в первом цвете возраста, аки в семнадцати летех" (Соч. I, 281).
Отец кн. Александра — Борис Иванович, в разрядах упом. часто как воевода в 1512—1535 г. В 1529 г. он был наместником в Коломне, а в 1535 г. — в В. Новгороде (А. И. I, № 127; Р. И. Б. XV, 66). О его вотчинах в Суздале см. А. И. I, № 107. В бояре пожалован в 1523 г. и умер в 1536 г. В боярах же были его двоюродные братья: Андрей Борисович (1521—1533 гг.) и Михаил Васильевич Кислица (1513—1535 гг.).
Сам Александр Борисович на воеводствах упом. часто с 1538 г. Принимал видное участие во взятии Казани. О его поместье в Твери см. Писц. кн. М. г. И, 13, 133. Показание Курбского о возрасте его сына Петра подтверждается тем, что Петр в Полоцком походе 1563 г. был рындой у государя, а в рындах обыкновенно начинали службу юноши родовитых семей. Отмечу еще, что одна дочь кн. Александра, Евдокия, была замужем за Никитой Романовичем Юрьевым, братом царицы Анастасии, а другая дочь, Ирина, была женой кн. Ив. Ф. Мстиславского (о ее браке см. А. И. I, № 146). Этим свойством кн. Александра с царем объясняется вклад по нем Тр.-Сергиеву монастырю. В общем кн. Горбатые принадлежали к самым верхам правящего боярства.
Горбуша Евдокия, старица. Записана среди новгородцев,
277
Горенский кн. Петр.
Горенские — отрасль рода кн. Оболенских. Иван Васильевич Г-ий в 1553—1562 гг. был боярином. У него по родословцам было 2 сына: Петр и Юрий. Про последнего родословцы сообщают, что он бежал в Литву. Петр Иванович Г-ий с 1560 г. был кравчим, а с марта 1564 г. упом. как думный дворянин. Казнь его относится к самому началу опричнины: 29 февраля 1565 г. он еще был жив и упом. как думный дворянин, а 14 марта того же года царь Иван прислал в Тр.-Сергиев монастырь по его душе на вечное поминанье 50 руб. (Вкладная книга 1673 г.).
Шлихтинг сообщает, что кн. Горенский (повидимому, Юрий) был схвачен „на пути в пределах Литвы“ и посажен на кол. Вместе с ним погибло (было повешено) около 50 человек его слуг. Связь попытки кн. Юрия бежать в Литву с казнью Петра несомненна, но в какой последовательности следовали эти факты, неизвестно.
Горин Молчан. В М. Б. еще Истома.
Вероятно, из дьяческого рода Г-ных. Максим Васильев Г-н был дьяком в 1502—1510 гг. Его внуки: Кирей, Семен и Юрий Федоровичи Г-ны имели поместья в Московском и Коломенском уездах (Писц. кн. М. г. I, 49, 539, 560). Кирей Федоров Г. в 1572 г. был дьяком Казанского Дворца, а в 1574— 1575 гг. — Поместной избы. Известен еще Дмитрий Фомич Г., который с 1549 г. упом. как дьяк в Москве, в 1552 г. был дьяком в В. Новгороде, затем опять служил в Москве, а в 1559 г. с Тим. Хлуденевым был писцом Пскова«
Горицкий Андрей, литвин.
Григорий, Воскресенский поп. Записан после двух нижегородцев.
Григорий, подьячий (М. Б.).
Григорьев Сухан, неженатый новгородский подьячий.
Грязные Григорий и Никита. В синодиках не упоминаются.
Григорьев Первуша, орлянин Молчан (М. Б.).
Григорий был убит, а его сын Никита сожжен (о них см. Штаден, 96—97). Никита Григорьев (Меньшого) Г. упом. в 1568 г. как поддатень у рынды (Синб. сб., 21). Известный опричник Василий Григорьев в 1566 г. был поручителем по кн. Охляби- нине (С. Гр. и Д. I, 558), в 1571 г. поддатнем у рынды, а в Ливонском походе 1573 г. „ездил за государем“, а затем был воеводой в Данкове (Синб. сб., 27, 37, 41). В том же году взят в плен крымцами. Казненный Григ. Борисович Г. приходился двоюродным братом опричнику Вас. Гр. Грязному. О роде Грязных-Ошаниных см. П. Садиков, Царь Иван и опричник В. Грязной (Века. Истор. сб. I, Л. 1924).
По сообщению Таубе и Крузе (54) Григорий (Борисович), ближний спальник царя, был отравлен врачем Бомелием.
Гуляй, корелянин.
Погиб в новгородском или псковском погроме.
278
Данилов Федор (М. Б.). Вероятно, то же, что Федор Услюмов. См. ниже.
Даниловы Василий и Федор Услюмов.
Даниловы происходили, по преданью, от Александра Нетши. Данила Иванович был окольничим в. кн. Ивана (1500—1501 гг.). Его третий сын — Дмитрий Слепой — упом. в разрядах на многих службах и как воевода в 1495—1535 гг. Единственный сын Дмитрия Слепого — Василий Дмитриевич — был выдающимся человеком. В 1547 г. он был воеводой в Смоленске, а в 1549 г. — в Казанском походе. После пожара Смоленска, 1554 г., был оставлен там возобновлять городовые укрепления. Около 1555 г. он был пожалован в окольничие и служил воеводой на береговой службе, в 1558 г. — в Юрьеве Ливонском, в 1562 г.— на Луках Великих. В 1564 г. он был. уже боярином и служил в Полоцке. В 1565 г. Вас. Дм., очевидно по старости, оставался в Москве и в 1566 г. принимал участие в Земском соборе (С. Гр. и Д. I, 547). Об его казни см. Шлихтинг (25—36).
Услюмовы были из старшей линии потомков Данила Ивановича. Внук последнего Дмитрий Иванович в 1548—1553 гг. был окольничим. Его брат Яков Иванович Услюм в 1543 г. был воеводой в Нижнем, в 1549 г. — в Смоленске, в 1550 г. зачислен в тысячники, в 1552 г. был писцом Московского уезда, в 1556 г. вторично воеводой в Смоленске, в 1561 — 1564 гг.—писцом Переяславского уезда. В 1562 г. Услюм был в числе поручителей по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 475). У Якова Услюма было 3 сына: Михаил, Федор и Никита. Первый и последний умерли в молодости при жизни отца. Федор в 1564 г. был поручителем по Ив. В. Шереметеве (там же, I, 497). Повидимому, он был казнен в молодости, и о службах его ничего неизвестно.
Дашковы кн. Андрей и Иван. В Тр. С. еще— Дмитрий, что вызывает сомнения.
Дашковы происходили из мелких смоленских князей, выехавших в Москву в начале XVI в. Роман Михайлович Д-в в 1543 г. с Фед. Гр. Адашевым был писцом Московского уезда. У его старшего брата, Дмитрия Михайловича, было 3 сына: Андрей, Семен и Иван. Все они служили по Клину и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Андрей Дм-ч в 1556 г. был воеводой в Свияжске, а в 1560 г. писцом Костромы. В Полоцком походе 1563 г. кн. Андрей был при царевиче Тохтамыше, а затем воеводой в Юрьеве Ливонском. Иван Дмитриевич в 1559 г. был наместником в Почепе, в 1562 г. — воеводой в Смоленске, а затем в походе на Литву, в 1564 г. — опять в Смоленске, в 1565 г.— в Шацке, а затем послан с сыном Андреем на службу в Астрахань (Разряды. Об их бывш. вотчине в Рязани см. Писц. кн. Рязанского края, 30, 397). Время казни Дашковых неизвестно, но вероятно, она произошла в начале опричнины.
Д е д я е в Никита Яцково.
279
Дементьевы. В нескольких местах синодиков записаны: Дмитрий и Юрий; Федор, Петр и Тимофей; Григорий; Ворошило; Иван и Григорий Горяйновы. Кроме того, под фамилией Молчановы записаны Андрей, Петр и Федор.
Выяснение указанных лиц затрудняется тем, что было вероятно несколько родов Дементьевых, все невысокого служебного положения, которые в первой половине XVI в. стали принимать различные фамильные прозвища: Молчановых, Горяйновых и других. В Бежецке, в Городецком стану, в 1548 г. были на поместьях Семен, Иван, Федор и Горяин Прокофьевы дети Д-ва (ГАФКЭ Гр. К. Эк. по Бежецку, № 116). Там же имел поместье и Федор Молчанов Д-в. Все они в 1550 г. были зачислены в тысячники. Федор Молчанов в 1555 г. был поддатнем у рынды, а в 1564 г. упом. среди поручителей по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. 1,497). Андрей Молчанов в 1577—1578 гг. был отдельщиком поместий в Московском уезде (Писц. кн. М. г. I, 39). Тимофей Д-в в 1554 г. упом. как сын боярский на свадьбе кн. Ив. Бельского, а в 1555 г. был поддатнем у рынды (Разряды). Повидимому, это то же лицо, что Тимофей Семенов Д-в (сын тысячника), который в 1553 г. сделал вклад на вечное поминанье Тр.-Сергиеву монастырю по своем дяде, иноке Иове Прокофьеве, в миру — тысячнике Иване Прокофьеве. Из той же вкладной книги мы узнаем, что государев дьяк Петр Данилов был из рода Д-вых и в 1553 г. дал по своем дяде, тысячнике Семене Прокофьеве, тому же монастырю вклад. Сын тысячника Ивана Прокофьева, Борис, на Земском соборе 1566 г. был в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д. I, 551).
Иван и Григорий Горяйновы синодиков — дети тысячника Горяина Прокофьева.
Денисов Резан (М. Б.)
Дионисий, старец.
Д и р и н Богдан (М. Б.)
Дмитриев Михаил (М. Б.). В других синодиках — Михаил Рюма.
Д о б р ы н я, сытник.
Домрачеев Постник.
Дрожжины Иван и Федор.
Федор Михаилов Д-н в 1562 г. упом. среди поручителей по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 478).
Дружина, московский подьячий.
Д р у ц к о й кн. Данила.
Друцкие, из рода полоцких князей, выехали в Москву в 1508 г. Кн. Иван Андреевич служил по Галичу и в 1550 г. был зачислен в тысячники. Его брат Данила Андреевич в 1560 г. был головой в полках на Туле (Древ. Разр. кн., 219). В Ливонском походе 1567/68 г. кн. Данила был у царя „у знамени". Повидимому, служил в опричнине (Синб. сб.э 20).
280
Д у б н е в ы Михаил и Пелагея с сыном Андреем.
Михаил и Иван Ивановы Д-вы упом. в 1568 г. как бывшие подьячие Поместной избы (Архив Тр.-Сер. лавры, XIII, № 372). Михаил перешел на службу в В. Новгород и погиб в Новгородском погроме 1570 г. В июле 1572 г. поместье новгородского ключника Михаила Д-ва в Шелонской пятине отдано Вас. Дан. Колтовскому (Самоквасов. Арх. мат. 1, 62, 80).
Дубровины, Афанасий, Богдан (вместо Богдана Д-на в М. К. — Богдан, что, впрочем, может означать его отчество), Федор Второго и Марья. В М. Б. Афанасий Дубровский.
Вероятно, все из дьяческого рода Д-ных. Небогатой Исаков Д-н был дьяком кн. Дм. Ив. Жилки и около 1509 г. писал его духовную грамоту (С. Гр. и Д. I, 411). Выдающимся приказным был Иван Третьяк Михайлов Д-н. В 1535 г. он был подьячим при писцах Дмитровского уезда (Шумаков. Сотницы, I, 122— 124). В 1542—1543 гг. он в чине дьяка был с кн. Ром. Дашковым писцом дворцовых сел Московского уезда. В 1544 г. служил дьяком в Пскове (Сб. Р. Ист. Общ. т. 59, 243). В 1553 г. с кн. Ф. Мезецким был писцом Рязанского уезда, в 1557— 1559 гг. служил в Москве, а в 1562 г. был писцом Нижнего Новгорода.
Афанасий, кажется, был братом Ивана Третьяка и в 1570 г. в чине дьяка с бояр. Ив. П. Яковлевым верстал новиков по Кашире (Лихачев. Разрядные дьяки, прил. 56). О его бывшей вотчине в Коломне см. писцовые книги 1578 г. (Писц. кн. М. г. 1,498).
Отмечу еще, что Русин Григорьев Д-н в 1565 г. был в числе поручителей по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 520).
Дубровские.
Все синодики начинаются записью: „Казарина Дубровского и дву сынов его, да с ним 10 человек (его) тех, которые приходили на пособь". Ниже в разных местах упоминаются еще следующие Д-кие: Сапун с женой, 2 сыновьями и дочерью, Вешняк с женой, сыном и 2 дочерьми, Алексей с женой, сыном и дочерью. В М. Б. еще — Афанасий. В Сп. Пр. еще упом. сын Назара Дубровского, „имя его бог весть", а в Кир. и М. Б. — Роман. Затем в синодиках упом. (среди новгородцев) без фамилии „Хотен с женою", которого, повидимому, можно считать тоже Дубровским.
Дубровские были испомещены в Шелонской и Бежецкой пятинах. У Юрья Семенова, умершего в 1551 г., известны 5 сыновей: Афанасий, Казарин, Сапун, Алексей и Вешняк, Афанасий умер до 1551 г. и после него на поместье остались его сыновья: Бесстуж, Василий и Гневаш. В 1564 г. Бесстуж и Гневаш, имея поместье в Бежецкой нятине, получили еще поместье в Юрьеве Ливонском (Новг. писц. кн. IV, 510, 553; V# 518; VI, 442, 838, 980).
Сапун Юрьев в 1565 г. был в числе поручителей по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 520).
281
Казарин Юрьев в 1554—1557 гг. был дьяком в В. Новгороде, в 1558—1559 г. служил в Москве и принимал участие во встречах послов (Новг. писц. кн. VI, 322, 405; Д. А. И. I, 66, 118, 99; А. Ю. Б. III, 64; Акты Юшкова, 161; Сб. Р. Ист. Общ. т. 129, стр. 2,44 и т. 59, стр. 556). В 1565 г. Казарин служил в Астрахани (Синб. сб., 9), а в сентябре 1566 г. упом. как дьяк Казенного двора с казначеем Никитой Фуниковым Карцевым (Лихачев. Библиотека Моек, государей, 110, СПб. 1894).
Хотен Федоров Д-ий упом. на поместье в Бежецкой пятине (в 1564 г.). Нет сомнения, что этот Хотен был близким родственником указанных выше Дубровских и с большой вероятностью можно сказать, что это — то же лицо, что Хотен синодиков.
О смерти Казарина Д-го Шлихтинг рассказывает так: „Примерно в том же году, вернувшись из Лук Великих, тиран приказал своим убийцам из опричнины рассечь на куски канцлера Казарина Дубровского. Те, вторгшись в его дом, рассекли его, сидевшего совершенно безбоязненно с двумя сыновьями, как самого, так и сыновей, а куски трупов бросили в находившийся при доме колодязь“. Причиной казни, по словам Шлихтинга, было обвинение Казарина во взятках с обозников и подводчиков (по перевозке артиллерии) (Шлихтинг, 24—25).
На этот раз Шлихтинг едва ли точен в своем сообщении. Как видно из синодика, Дубровские не сидели безбоязненно, а к ним „пришли на пособь“ их люди и быть может родные и оказали опричникам сопротивление. Тот факт, что другие Дубровские записаны в синодике в разных местах, дает основание полагать, что они погибли не одновременно, при свалке с опричниками, а при разных обстоятельствах и обвинялись в чем-то более серьезном, чем взятки с подводчиков.
Дупл ев Иван.
Вероятно, из московских подьячих. Иван Григорьев Дуплев в 7079 г. (1570/71 г.) писал купчую грамоту кн. Вас. Андр. Сиц- кого на вотчину в Дмитрове (Шумаков. Обзор Гр. К. Эк. III, 56).
Дур ас о в Семен.
В Бежецкой пятине в середине XVI в. владь. оместьем Семен Васильев Д-в с сыновьями: Шанданом, Русином, Меныпи- ком и Романом (Новг. писц. кн. VI, 181—183,186). Русин Семенов в 1550 г. был зачислен в тысячники.
Дыдылдин Алексей, неженатый, новгородский подьячий.
Дымов Михаил. После него в синодиках записан Кузьма — в Кир. Кусов, а в других синодиках Косов.
Об этих лицах есть интересный рассказ у Шлихтинга. При конфискации и разграблении имущества боярина Ив. П. Федорова, один из рабов боярина похитил позолоченную кольчугу, которую прятал и не решался продать. Через некоторое время он пришел в тюрьму, в которой был заключен кн. Тим. Мосаль- ский, и „передал упомянутую кольчугу на хранение одному
282
московиту, узнику той же тюрьмы, по имени Михаилу Димову, и другому,' как свидетелю этого залога, Козьме Козову. Эти два лица немного ранее были лазутчиками в Литве“. Михаил Дымов заложил кольчугу за 3 серебреника кн. Т. Мосальскому, который поручил своему рабу отнести ее домой. Это заметил начальник тюрьмы, вернул раба, посадил его в тюрьму, а кольчугу взял себе. Содержавшиеся в той же тюрьме 2 стрельца, желая выслужиться, донесли боярам, что начальник тюрьмы присвоил кольчугу Ивана Петровича, „воровски утаенную и отнятую Т. Мосальским“. Доносчики и все замешанные в этом деле лица были отправлены к царю в Александрову слободу, где были подвергнуты пытке и утоплены с кн. Тимофеем. Начальник тюрьмы был зарублен топором, а стрельцы помилованы. Так из-за одной кольчуги погибло б человек, — заканчивает свой рассказ Шлихтинг (стр. 35).
В имени кн. Тим. Мосальского Шлихтинг, видимо, ошибся: кн. Тимофея нет в роду кн. Мосальских и в синодиках он не упоминается.
Дятловы Андрей и Григорий.
Из рода Григ. Фил. Станища (в родословцах — род Про- кофья Скурата). Василий Зиновьевич Дятел в 1478 г. был послан в. кн. Иваном во Псков „поднимать пскович на В. Новгород“ (П. С. Р. Л. VI, 18—19; XII, 188). От первой жены, Евфимьи, у Вас. Дятла было 2 сына: Михаил и Борис. Михаил в 1512 г. был ловчим в. кн. Василья и принимал участие в Литовском походе (Разряды). Борис тоже был ловчим и упом. в 1533—1534 гг. (П. С. Р. Л. XIII, 410). Борис Д-в сделал несколько вкладов Симонову монастырю, а в 1559 г. постригся (в иноках Боголеп) и дал тому же монастырю двор на Арбате, в Москве (Вкладн. книга в Публ. библ.) Вторая жена Вас. Дятла, Домна, перед 1524 г. продала свою вотчину, с. Звягино на р. Клязьме, в Московском уезде (Троицкие акты). Ее сыновья, Андрей и Григорий Васильевичи Д-вы, служили по московскому списку и в Тетради дворовой записаны по Боровску. В 1550 г. они были зачислены в тысячники и получили поместье под Москвой. Андрей Васильевич в 1564 г. был писцом Шелонской пятины (Самоквасов. Арх. мат. I, 3, 36).
Е ж е в ы Семен, неженатый новгородский подьячий, и инок Афанасий.
Е л г о з и н Суморок (М. Б.), новгородский подьячий.
Елизаров Григорий (М. Б.).
Елиневской (?) Третьяк (М. Б.).
Елисеев Иван (в М. Б.). В Кир. Б. — Едигеев Иван.
Ельчины (Ельчаниновы) Марья и Иван.
Из свиты кн. Евдокии Старицкой. Ср. — братья Иван и Федор Ельчаниновы — дети боярские на свадьбе (1558 г.) кн. Владимира Андреевича Старицкого.
Еропкин Федор.
283
Неполное и сбивчивое родословие Ер-ных не дает возможности выяснить с уверенностью Федора синодиков. В тысячники были зачислены в 1550 г. Андрей, Михаил и Никита Ивановичи Е-ны. Андрей в 1566 г. был поручителем по кн. Ал. Воротынском, а его братья на Земском соборе того же года были дворянами второй статьи (С. Гр. и Д. I, 539, 551). У тысячника Михаила был сын Федор, но он в синодике Успенского собора показан убитым под Ругодивом, в Ливонском походе. Другого Федора в родословцах нет.
Ерофеев Федор.
Ершов Глеб, новгородский подьячий, с женой Матреной.
Есипов Артемий, с женой, сыном и 2 дочерьми,
Е ф и м ь е в Смага (новгородец?).
Жаденские Федор, Одинец и Иван с женой.
Жданкова Гликерия с сыном Андреем (М. Б.).
Жданов Федор, новгородский подьячий, с женой, сыном и 2 дочерьми.
Желнинский Владимир. В М. Б. еще Одинец, но в некоторых синодиках Одинец Жедринской и Жаденской. 27 ноября 1565 г. царь Иван послал в Литву к Сигизмунду „с грамотами и списком обидных дел Володимира Матвеева сына Желнынского“, а 22 февраля 1566 г. „приехал ко царю и великому князю из Литвы посланник его Володимер Желнин- ской" (Александро-Невская летопись. Р. И. Б. III, 269, 272). О наказе, полученном В. Ж-м при посылке в Литву, см. С. М. Соловьев. История России, II, 195—196. 2 изд. Общ. пользы; ср. описание царского архива, 227 ящик, А. А. Э. 1,354. О землевладении Ж-ких и других службах Вл. Ж-го ничего неизвестно, ср, ниже Малечкин Петр,
Желтухин Иван.
Ж-ны — мелкие городовые дети боярские, имевшие вотчины в Переяславле, Владимире и в Ворской волости Московского уезда. В конце XV в. Андрей Григорьев Ж-н был испомещен в Водской пятине (Новг. писц. кн. III, 616). В 1572 г. там же на поместьях сидели Рюма Иванов с сыновьями Степаном и Гридей (Самоквасов. Арх. мат. II, 355). В писцовой книге 1580 г. упом. бывшее поместье Федора Иванова с детьми и Соболя Иванова с сыновьями Горяином и Никитой. В 1555 г. упом. новгородец Митька Андреев Ж-н (Д. А. И. I, 82).
Жулебина Марфа, старица кн. Евфросиньи Старицкой.
Вероятно, из боярского рода Жулебиных.
Заболотские, Богдан, Игнатий и Федор (В Кир.— Федот).
Всеволожи-Заболотские (из смоленских князей) во второй половине XIV в. и в XV в. занимали высокое положение в боярской среде. Сильно размножившись, они измельчали и были вытеснены из боярской среды. Последним думцем из этого рода был Семен Константинович, с 1550 г, окольничий, в 1552—1559 гг.
284
боярин. Его сын Владимир в 1550 г. был зачислен в тысячники. Родословцы сообщают о нем, что он бежал в Литву. В описи царского архива упоминаются „списки сыску про Володимиров побег Заболотского в Литву“ (А. А. Э. I, 352). Родословцы отмечают еще одного 3-кого, бежавшего в Литву,—Ив. Ив. Мику- лина Ярово. Родная племянница Ив. Ярово, Марья Андреевна, была замужем за Юрьем Ловчиковым, сыном казненного опричника Григ. Ловчикова. Неизвестно, когда бежали эти 3-кие, после ли казни их сородичей, о которых сообщают синодики, или их побег был причиной опалы и казни сородичей.
Игнатий синодиков — Игнатий Иванов Ушаков. В Тетради дворовой он записан по Переяславлю, в 1555 г. был воеводой на Вятке, а в 1559 г. воеводой передового полка в походе (Разряды). Он и его брат Федор в родословцах показаны без потомства.
Из той же отрасли Всеволожей происходил и Богдан Васильев, служивший по Волоку и в 1550 г. зачисленный в тысячники.
О Заболотских кн. Курбский пишет: „Тогда же побиени Игнатий Заболотский, Богдан и Феодосий (так!) и другие братья их, стратилаты нарочитые и юноши в роде благородные“ (Соч. I, 303). Кто были эти другие „братья их“, нельзя сказать, так как в родословии Всеволожей за это время показано много лиц бездетных или без указания о потомстве.
Загряжский Михаил.
3-кие принадлежали к верхнему слою городового дворянства. Четыре 3-ких записаны в Тетради дворовой, а 2 — Игнатий Тимофеев и Федор Дмитриев — были зачислены в 1550 г. в тысячники. Последний в 1563 г. был послом в Крым. Игнатий Тимофеев в 1569 г. был наместником во Мценске, а в 1571 г. — воеводой в Курмыше (Синб. сб., 22, 31). Афанасий Федоров в 1562 г. был поручителем по кн. Ив. Бельском, а в 1565 г. — по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 478, 519). В 1566 г. на Земском соборе он был в дворянах второй статьи (там же, 551). Иван Тимофеев в 1562 и 1565 гг. был поручителем по кн. Бельском и Серебряном (там же). О службах Михаила ничего неизвестно. Есть указание, что Михаил Иванов 3-ий умер 19 ноября 1561 г. и погребен в Спаса-Андроньевом монастыре (Русск. Родословная книга, изд. Русск. Старины. СПб., 1873,163). Если в этом показании нет ошибки в дате (1561 г. вместо 1571 г.), то этот Мих. Ив-ч едва ли то же лицо, что Михаил синодиков.
Зайцев Петр Васильевич. В синодиках не упоминается.
Из боярского рода Добрынских, из которого вышли Елизаровы-Гусевы, Викентьевы и Хабаровы. Старшей, сильно размножившейся и потому слабой линией рода были Бирдюкины Зайцевы. Из этой линии происходил известный фаворит в. кн. Василья — Ив. Юр. Шигоня Поджегин, думный дворянин.
285
Петр был сыном Василия Федоровича Ярца, который в чине жильца участвовал в 1495 г. в Новгородском походе (Древн. Разр. кн., 21). Петр Васильевич 3-в сделал карьеру не родовитостью и службой предков, а личными качествами. Когда кн. Шуйские в 1542 г. захватили власть и стали расправляться с своими противниками, то они сослали в числе других на Бело- озеро кн. Ив. Бельского, а затем „послаша бояре на Белоозеро кн. Ив. Бельского убити в тюрьме Петрока Ярцева сына Зайцева да Митьку Иванова сына Клобукова да Ив. Елизарова сына Сергеева (последние два из дьяческях родов); они же, ехав тайно, без великого князя ведома, боярским самовольством кн. Ив. Бельского убили" (П. С. Р. Л. XIII, 141). В1550 г. Петр 3-в из детей боярских третьей статьи по Переяславлю был зачислен в тысячники; в 1558 г. он получил чин ясельничего, а в 1564—1570 гг. упом. как думный дворянин. В Полоцком походе 1563 г. он был „в суде у бояр", т. е. был в походном Разряде, а после взятия Полоцка оставлен там „город делати". В Новиковском списке думных людей он показан окольничим с 1563 г. и „выбывшим" в 1575 (7083) г. Обе даты, в особенности последняя, вызывают сомнения. В разряде царского похода 1568 г. мы видим его рядом с известным опричником кн. Аф. Вяземским, а в 1570 г. он упом. как опричный воевода, но в обоих случаях окольничим не назван (Синб. сб., 20, 25, 26). Что касается времени смерти Петра 3-ва, то оно довольно точно определяется двумя вкладами Зайцевых Тр. Сергиеву монастырю: в июне 1571 г. Петр дал 20 руб., а 7 сентября того же года по его душе дано 23 руб. Таким образом смерть П. 3-ва следует отнести к лету 1571 г.
Штаден, Таубе и Крузе в своих сообщениях о П. Зайцеве до неузнаваемости искажали его фамилию, которая, видимо, была чужда их фонетике, и называли его то Peter Suisse, то Zeuze то Sauten. Несомненно, что в этих сообщениях речь шла о Петре Зайцеве, казненном в конце опричнины. По сообщению Шта- дена, П. Зайцев повешен на своих воротах перед спальней (97).
Запоров Петр, новгородский подьячий, с женой и сыном.
Засекины, кн. Иван и Семен Баташевы, Иван Юрьев Смелого, Борис Глебов и Михаил.
Засекины — сильно размножившаяся и измельчавшая отрасль Ярославских князей.
Семен Иванович Баташев в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1560 г. был головой в полках, в 1563 г. служил в Пронске, а в 1564 г. был воеводой в Карачеве. Семен и его брат Иван в родословцах показаны бездетными, а про Ивана некоторые родословцы говорят, что он „убит разбойниками".
Иван Семейка Юрьев, сын Сорокин Смелого, приходился двоюродным братом указанным выше Баташевым. В 1550 г. он был зачислен в тысячники, в 1560 г. в Ливонском походе был головой в полках, в Полоцком походе 1563—1564 гг, был при-
286
ставом (нечто вроде комиссара) у царевича Ибака* Перед 1565 г. упом. его поместье в'Костроме (А. Ю. № 157).
Михаил синодиков — Мих. Иванович Глазатый Мухорт Жирового — 3-н, все три сына которого в родословцах показаны бездетными.
Борис Глебов синодиков вызывает сомнения. Дело в том, что у Глеба Федоровича 3-на, убитого под Оршей в 1514 г., по родословцам было 2 сына: Петр и Василий Лебезда. Петр Глебов в 1548 г. был воеводой в Василегороде, в 1550 г. зачислен в тысячники, а в 1558 г. был воеводой на году в Смоленске. Единственный сын его, Борис Петрович, в 1585—1589 гг. был окольничим. Остается предположить, что у Глеба был еще сын Борис, казненный в опричнину, не оставивший потомства и не показанный в родословцах.
3 ах а е в Яков.
Захаров Василий, см. Гнильевские.
Зачесломский Андрей.
Зачесломские получили свое фамильное прозвание от р. Чельсмы, недалеко от Галича, в бассейне которой находилась их родовая вотчина. Карьера 3-ких характерна и пожалуй типична для зажиточного рода провинциальных служилых людей XVI в.
У Федора 3-го известны три сына: Иван, Григорий и Борис. Григорий упом. в 1495 г. как сын боярский в свите в. кн. Елены, провожавшей ее в Литву (Древн. Росс. Вивл. XIII, 21). Борис был убит в 1543 г. во время набега казанских татар на Галич и Кострому. Тогда же были убиты 2 сына Григорья — Юрий и Иван (там же, VI, 473), — У Бориса было 2 сына: Иван Большой и Иван Меньшой. Последний был в 1563 г. городничим в Чернигове и умер в 1564 г. Их сестра Домна была замужем за Семеном Александровичем Аксаковым-Вельяминовым, представителем старого московского боярского рода. Асанчук, сын Юрья Григорьевича, убитого в Галиче, в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1559—1565 гг. упом. как голова в полках, а на Земском соборе 1566 г. был в числе дворян второй статьи (Разряды и С. Гр. и Д. I, 551).
Самой интересной ветвью было потомство Ивана Федоровича, у которого известны 4 сына: Васюк, Прокофий Жук, Михаил и Тимофей.
Васюк в 1522 г. был рындой в походе. Прокофий Жук был убит в том же году в казанском походе (Древн. Росс. Вивл. VI, 467). Сын Жука, Федор Копть, служил уже не по Галичу, а по Можайску, и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1560 г. он был в походе на Алыст головой (умер до 1574 г. См. его бывш. поместье в Московском уезде — Писц. кн. М. г. I, 20, 225).
Третий сын Ивана, Михаил, в 1550 г. зачислен в тысячники и убит под Казанью в 1551 г. (П. С. Р.Л. XX, 881). О Тимофее,
287
четвертом сыне Ивана, известно, что он имел поместье в Угличе (Углицкие писц. книги, 108) и погребен в 1548 г. у Троицы.
У Тимофея Ивановича известны 3 сына: Андрей, Иван Нелюб и Борис. Последние 2 были зачислены в 1550 г. в тысячники.
Андрей Тимофеев, казненный в опричнину, в первый раз упом. в разрядах как сын боярский, который нес изголовье на свадьбе кн. Ив. Бельского (Древн. Росс. Вивл, XIII, 76). В походе 1558 г. к Юрьеву он был головой в полках, а в 1559 г. рындой. В 1563 г. он был в числе поручителей по кн. Ал. Воротынском, а в 1564 г. — по Ив. В. Шереметеве. На Земском соборе 1566 г. он и его брат Борис присутствовали в дворянах второй статьи (С.Гр.и Д. I, 489, 495, 551). О его бывш. поместье в Московском уезде, в 1574 г., см. Писц. кн. М. г. I, 31. Отмечу еще, что у Ивана Нелюба было 2 сына: Алексей и Юрий, из которых первый в 1572 г. был взят в плен при взятии Лук Великих Баторием (Моек. Истор. Музей, собр. Щукина, № 536, л. 205).
В карьере 3-ких интересно отметить следующее. Исправно служа, 3-кие выходят за пределы родного уезда и получают поместья в других уездах. Как выдающиеся провинциальные служаки, 5 3-ких зачисляются в тысячники и получают поместья под Москвой. Это приближение ко двору не спасает их от экспроприации, когда в 1565 г. Галич был взят в опричнину (Р. И. Б. III, 255). Выселенные из Галича 3-кие получают вотчины в Коломне, Кашире и Дмитрове. Потому ли, что не все 3-кие были выселены из Галича, или потому, что некоторым удалось после отставки опричнины получить свои родовые вотчины обратно, но в 1569 г. Алексе^ и Юрий Нелюбовь! дали свою вотчину в Дмитрове, с. Соколово, Тр. Сергиеву монастырю, а в 1574 г. променяли тому же монастырю остаток галицкой вотчины на вотчину в Коломне (Троицкие акты и Писц. кн. М. г. I, 409, 426, 749).
Зворыкин Василий, новгородский подьячий, с женой.
Ср. — в середине XVI в. в Бежецкой пятине имели поместье Алеша и Афоня Михалевы, дети Корнилова Зворыкина (Новг. писц. кн. VI, 438, 757).
Зеленин Максим.
Змеев Яков.
Яков Матвеев 3-в с братом Иванцом в Тетради дворовой записан по Мещовску. Яков в 1563 г. в Полоцком походе был поддатнем у рынды (Разряды).
Ивановы Богдан и Семен и неженатый новгородский подьячий Яков. В М. Б. еще — Чу дин и Первой, Матвей и Су- рьянин.
Ивашев Афанасий. В Ник. П. — митрополичий старец: „Старец, что был Афанасий Ивашев“»
И во нин Терентий*
288
Игнатьевы, новгородские подьячие: Ждан, Лобан с женой Богдан с женой и Харитон с женой и дочерью Стефанидой.
Извеков Иван.
Из заурядных детей боярских, служивших по Вязьме и Зубцову; изредка попадали в дворовый список. Яков Из-в в 1577 г. был барашом у царских шатров в походе в Калугу. Его сын Гневаш Яковлев в 1579 г. в такой же должности был в Ливонском походе. В 1581 г. дворовый жилец Петрок Гневашев упом. при встрече Поссевина.
Измайлов Иван.
Из старого рода рязанских бояр. Ив. Ив. Инка Изм-в в 1493 г. был воеводой в. кн. Рязанского и принимал участие в походе московской рати на Северу (Древн. Разр. кн., 16). Его сын — Никита Инкин — в 1501 г. был воеводой в.кн. Рязанского в походе на татар (там же, 29). Сыновья Никиты: Яков и Петр с своими детьми в Тетради дворовой записаны по Рязани.
Старший сын Никиты, Яков, служил по Рязани и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1565 г. Андрей и Василий Яковлевичи были в числе поручителей по боярине Ив. П. Яковлеве (С. Гр. и Д. I, 509). Двоюродный брат этих Изм-вых — Федор Данилов, в 1571 г. был поручителем покн. Мстиславском, а другой двоюродный брат, Иван Петрович, в 1565 г. был поручителем по Ив. П. Яковлеве (там же I, 509, 568).
В 1562 г. кн. Ив. Д. Бельский был обвинен в попытке бежать в Литву, а с ним намеревались бежать Богдан Постников Губин и Ив. Як. Измайлов. Бельский отделался тем, что по нем была взята поручная запись в неотъезде, а Б. Губин и Ив. Як. Измайлов были биты кнутом по торгам и сосланы в заточенье в Галич (Летописец русский, 158). Повидимому, к тому же Ивану Як-ву относится документ, хранившийся в царском архиве: „Сказка Михайлова города протопопа Михаила на протопопа бывшего Михайловского на Григорья, что положили за ним коренья кн. Семен Волконской да Иван Измайлов" (А. А. Э. I, 355). Вероятно, Ив. Изм-в был прощен, освобожден из Галицкой тюрьмы и казнен позже, по другому делу.
Ильин Осип, дьяк.
Упом. как дьяк в июле 1567 г. (Р. И. Б. III, 293). В 1575 г. был дворцовым дьяком (А. И. I, № 192). По сообщению Шта- дена „позорно казнен в Дворцовом приказе" (96—97).
Иосиф, протопоп (М. Б.). В других синодиках: протопопов.
И р и н а р х, инок.
Исаков Иван, новгородский подьячий, с женой и 2 дочерьми.
Казариновы, старец Никита и Федор.
О казни Никиты Григорьевича Казаринова (Голохвастова) и его сына Федора кн. Курбский рассказывает: „Погубил зац- ного земянина имянем Никиту, по наречению Казаринова, с сыном единородным Федором, во цветущем возрасте сущаго,
Проблемы вегочашсомдепкя
239
служащаго много лет верне империи святорусской“« Никита, узнав о приезде палачей, уехал в монастырь на р. Оке с намереньем постричься, но каты отвели его в Слободу, где царь велел посадить его на бочку с порохом, чтобы он скорее взлетел на небо (Соч. I, 307—308).
Никита К-в в 1553 г. был послан приводить к шерти еще не подчинившихся московской власти арских людей, что он и сделал, а изменных людей побил, а иных привел в Казань (Г1. С. Р. Л. XX, 532, 539). В 1561 г. он был писцом Нижнего Новгорода, а в сентябре того же года был послан в Черкасы к кн. Темрюку с государевым жалованьем и известием о браке царя с Марьей Темрюковной (Летописец русский, 156).
Кайсаров Излач.
К-вы с конца XV в. служили по Юрьеву и Владимиру. В 1550 г. четверо Кайсаровых были зачислены в тысячники. Из них Филипп Иванов Комакин в 1565 г. был поручителем по Л. Салтыкове (С. Гр. и Д. 1,515). Иов Кайсаров в 1541 г. упом. как слуга кн. Ив. Фед. Бельского (П. С. Р. Л. XIII, 137). Его сын Иван Иевлев в 1565 г. был поручителем по Л. Салтыкове, а Иван Яковлев К. — по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 515, 519).
Каменские-Измайловы, Семен, 2 Ивана, Федор и Елизар. В Кир. и Чуд. еще — Михаил с 3 сыновьями, а вместо Елизара — Емельян. Повидимому, это ошибка: Михаил — Колычев.
Каменские — захудалая отрасль знаменитого рода Ратши. Прозвище получили по р. Каменке, в Каменском стану Бежецкого уезда, где в XV—XVI вв. они имели вотчины. По родословцам у Измаила Петровича К-го было 6 сыновей, которые все служили по Бежецку: Семен, Иван, Михаил, Степан, Никита и Василий. Затем, у Федора Ивановича Васихина было 3 сына: Никита, Федор и Елизар. Все они в родословцах показаны без потомства. О службах их нет никаких известий.
В синодиках еще упом. без фамилии „Игнатий Неклюдов“. Повидимому, это — тоже Каменский. В писцовых книгах Бежецкой пятины 1582 г. упом. бывш. поместье Игнатья Неклюдова Каменского, в то время как в родословцах Неклюд Дмитриев К-ий показан бездетным.
Кандауровы Дионисий и Меньшой.
Из новгородских помещиков. В писцовой книге Бежецкой пятины 1545 г. записаны на отцовском поместье Дионисий и Меньшой Васильевы дети К-ва, а рядом на отцовском же поместье— Третьяк Васильев К-в (Новг. писц. кн. VI, 154—157). Стоит обратить внимание на то, что рядом с поместьями К-ва находилось поместье Никиты Чертовского, тоже казненного в новгородском погроме.
Капустин Утеш.
Танай и Утеш Андреевы К-ны в Тетради дворовой записаны 'по Воротынску и в 1550 г. зачислены в тысячники. Утеш
290
в 1564 г. был поручителем по Ив. В. Шереметеве, а в 1565 г. послом в Ногаи. (С. Гр. и Д. I, 489; Р. И. Б. III, 274).
Караулов Мещерин.
Карауловы принадлежали к верхнему слою городового дворянства. Алексей Собина К-в в 1498 г. был испомещен в Шелон- ской пятине (Новг. писц. кн. V, 68). Его сыновья: Дружина, Суморок и Черемисин были зачислены в 1550 г. в тысячники, а Дружина и Суморок в 1571 г. были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 568). Андрей Семенов К-в в 1534 г. был межевщиком в Бежецком уезде (Гр. К. Эк. № 1171), а в 1541 г. — писцом Романова и Пошехонья. Его брат Иван в 1528 г. был наместником в Вятке (Акты Юшкова, 107). В 1571 г. в Карачунском погосте Бежецкой пятины упом. бывш, поместья Григорья Черемисинова и Дружины и Суморока Соби- ниных—К-вых (Новг. писц. кн. I, 582, 583; Самоквасов. Арх. мат. I, 68). Несомненно, что из этого же рода происходил и казненный Мещерин и был, может быть, новгородцем.
Каржевской Афанасий, ржевитин.
Карповы Федор, Михаил, Василий и Иван с женой. В Кир. еще „Евстафий Мухин" с женой.
Боярский род Карповых происходил от мелких смоленских князей Фоминских. Сыновья тверского боярина Карпа Федоровича в 1476 г. выехали служить в Москву. У Ивана Карповича было 2 сына: Федор — известный дипломат (см. о нем статью Ржиги в „Трудах Инст. Истории Р АНИОН“, т. IV),— и Никита, бывший в 1513—1522 гг. оружничим. Сыновья дипломата Федора Ивановича были в окольничих: Иван Большой в 1551—1553 гг., а Долмат в 1566—1573 гг.
У второго сына Карпа, у Федора Карповича, было 2 сына: Петр Муха и Андрей.
У Петра Мухи был один сын, Василий, казненный в опричнине. Василий Мухин в 1549 г. как молодой сын боярский, был поезжанином на свадьбе царя Ивана. В 1550 г. ой был зачислен в тысячники, в 1557 г. был наместником в Старо- дубе Северском, а на Земском соборе 1566 г. присутствовал в дворянах первой статьи (С. Гр. и Д. I, 550). После этого он нигде не упоминается. В царском архиве хранилось какое-то „дело Василия Мухина с Ваською Тетериным“ (А. А. Э. 1,353). В родословцах у него показан только 1 сын — бездетный Федор, но имея в виду неполноту родословия К-вых в этом и следующих поколениях, можно думать, что и Евстафий Мухин синодиков тоже был из рода Карповых.
У Андрея Федоровича, брата Петра Мухи, было 5 сыновей: Афанасий, бежавший в Литву, Федор и Михаил, которые упоминаются в синодиках, и бездетные Петр и Андрей.
Федор и Михаил Андреевичи служили кн. Юрью Ивановичу и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Федор Андреевич в 1550 г. был наместником в Галиче, в 1552 г. участвовал
19*
291
в Каванском походе (П. С. Р. Л. VI, 906), в 1555 г. был вторично в Казанском походе, в 1559 г. был головой в полках, в 1565 г. — воеводой на Туле, в 1566 г. — в Серпухове, а в 1567 г, — с царевичем Кайбулой в походе к Лукам Великим (Древн. Разр. кн. 141, 170, 205, 257, 266; Синб. сб., 20). После 1567 г. нигде не упоминается. В родословцах Федор показан бездетным, но в действительности у него был сын Федор, бывшее поместье которого в Московском уезде упом. в писцовой книге 1574 г. (Писц. кн. М. г. I, 38).
Михаил Андреевич в 1559—1566 гг. был воеводой в разных походах, а в 1567 г. — наместником в Рыльске (Древн. Разр. кн. и Синб. сб., 18). После 1567 г. не упоминается и в родословцах показан без потомства.
Кто был „Иван с женой" синодиков, неизвестно. В роду Карповых единственным подходящим лицом является бездетный Иван Меньшой Федорович, младший брат окольничих Ивана и Долмата Федоровичей.
К ату на Анна, вдова, из свиты кн. Евдокии Старицкой.
К а т ы р е в кн. Андрей. В Сп. Пр. после заголовка „по городом: кн. Андрея Катырева, кн. Федора Троекурова" и т. д. См. Ростовские князья.
Кафтыревы Григорий, Леонтий Брех (в Сп. Прил. ошибочно — Лаврентий) и Никита.
Кафтыревы происходили из Костромы, где в XV—XVI вв. у них были вотчины и поместья. О службах Леонтия и Никиты сведений нет, а Григорий Иванович был выдающимся военачальником своего времени.
В Тетради дворовой по Переяславлю записаны Григорий, Юрий и Меньшик Ивановы К-вы. В 1550 г. переяславцы Гришка и Яковец Ивановы К-вы были зачислены в тысячники. Григорий Иванович был стрелецким головой и играл видную роль в завоевании Астрахани (1555—1556 гг.). В 1558 г. в той же должности он был в Ливонском походе, а в 1560 г. — головой у стрельцов во взятом московскими войсками Алысте (П. С. Р. Л. XX, 560, 565, 589; Летописец русский, 136). На Земском соборе 1566 г. Григорий и Афанасий Ивановичи К-вы присутствовали в дворянах первой статьи (С. Гр. и Д. I, 549).
Качалкин Петр.
Кашины (Оболенские) кн. Юрий и Иван*
Ив. Ив. Сухово-Кашин казнен одновременно с кн, Ал. Б. Горбатым, П. П. Головиным и кн. Дм. Андр. Шевыревым в феврале 1565 г., т. е. при самом начале учреждения опричнины (Р. И. Б. III, 258). Кн. Курбский после рассказа об убийстве в церкви кн. Мих. Репнина писал: „И тое же нощи убити повелел синклита своего кн. Юрья, глаголемого Кашина, тако же ко церкви грядуща на молитву утреннюю"... „Потом убиен того Юрья брат, кн. Иоанн, и сродник их кн. Дмитрий, глаголемый Шовырев, на кол посажен" (Соч. I, 279—280).
292
Кн. Юрий Иванович Кашин служил по Калуге и в 1550 г. был зачислен в тысячники. По разрядам известны его следующие службы: 1543 г.-^-воевода в Муроме, в 1547 г. — в Коломне и Кашире, в 1548 г. — в казанском походе, в 1549 г. — в Коломне, а затем в Ростове, в 1550 г. — в Муроме, а затем в Коломне, в 1553 г. — в походе к Свияжску, в 1554 г.— в Шацке, в 1555 г. — головой в сторожах у царя в походе на Тулу, в 1555—1556 гг. — воевода на береговой службе в Калуге; в том же году пожалован в бояре и был воеводой в Серпухове, в 1558 г. — в Калуге, в 1559 г. — в Ливонском походе, и в том же году с царем на береговой службе, в 1563 г. — в Полоцком походе, а затем в Козельске.
Кн. Иван Ив. Сущ-Кашин в 1549 г. был воеводой в Костроме, в 1550 г. зачислен в тысячники, в 1551 г. — в Калуге, в 1553 г. — в Казанском походе, в 1556 г. — голова в государево полку „в посылках от государя" на службе в Калуге, там же и в 1558 и 1559 гг., в 1560 г. — в Ливонском походе. О вотчине его жены, Марьи Петровны Малечкиной, в Твери см. Писц. кн. М. г. И, 141. В 1564 г. кн. Иван дал по ее душе Иосифову Волоколамскому монастырю 50 руб. (Моек. Ист. муз., Епарх. собр., кн. 419, л. 128).
Каширников Василий.
Кашкаровы Андрей и Азарий. В синодиках не упоминаются.
О них кн. Курбский писал: „Побиени-ж от него стратилаты, або ротмистры, мнози мужие храбрые и искусные в военных вещах: Андрей, глаголемый Кашкаров, муж славный в знаменитых своих заслугах, и брат его, Азарий именем, тако же муж разумный и во священных писаниях искусный, с детками погублен и братиею их, Василей и Григорей Тетерины" (Соч. I, 304). Казнь Андрея К-ва, а может быть и других Кашкаровых, находится в связи с побегом из Сийского монастыря в Литву Тимохи Пухова Тетерина. В царском архиве хранилось „дело Андрея Кашкарова да Тимохина человека Тетерина Поздячка, что они Тимохиным побегом промышляли" (А. А. Э. I, 354).
Азарий Федоров К-в-Слепушкин служил по Торжку и в 1550 г. был зачислен в тысячники. Его сыновья Иван и Третьяк в конце столетия служили в стрелецких головах (Акты Юшкова, 269, 284).
Андрей Федоров К-в имел поместье (1555 г.) в Водской пятине (Д. А. И. I, 74). В 1558 г. он был головой у стрельцов в Ливонском походе (П. С. Р. Л. XX, 597), а в 1559 г. — в той же должности в Коломне (Акты Юшкова, 166). Сын Андрея, Иван, был женат на Анаст. Тим. Сабуровой (Р. И, Б. XVII, Каб. кн., 88).
Петр Ильин К-в в 1568 и 1571 гг. был поддатнем рынды У царевича Ивана (Синб. сб., 21, 27). Его брат, Дмитрий Ильин, в 1566 г. был поручителем по кн. Охлябинине (С. Гр. и Д. I, 559).
293
Михаил Ильин К-в, в 1571 г. дал Колязину монастырю по душе брата Дмитрия вотчину в Жабенском стану Кашинского уезда. Послухами у данной его грамоты были: его дед, кн. Петр Вас. Охлябинин и Елизар Дмитриев К-в (ГАФКЭ, Арх. Колязина монастыря, кн. № 1, грам. 171).
В 1573 г. в Водскойв пятине упом. бывш. поместье Азария и Андрея Федоровичей К-вых, которое было отдано Ив. Мотякину и кн. П. Ростовскому. Последний получил его в 1566 г. (Само- квасов. Арх. мат. II, 322). Азарий был жив еще в 1566 г. и упом. как послух в одном акте Тр. Серг. монастыря. На основании этого казнь Кашкаровых следует отнести к 1566 г.
Квашнины. В синодиках — только Иван (Петрович) Поярков.
В местническом деле Ф. Афан. Бутурлина с Вас. Андр. Квашниным (1589 г.) последний подал память: „А то, государь, деялось грехом нашим да государскою опалою: в государской опале не стало Ивана Пояркова сына Квашнина, да Семейки Чулкова сына Квашнина, да Ивана Федорова сына Невежина, да Василья Розладина; и видя, государь, наш грех, а государ- скую на нас опалу, в те-ж поры пропал в Литве Золотой Григорьев сын Квашнин, и государь на нас в те поры на всех положил опалу, и мы, государь, видя свой грех, не смели ни о чем бить челом государю, ни о отечестве, ни о местех" (Н. П. Лихачев. Разрядные дьяки, прил. 16).
Из всех указанных К-ных самым значительным был Вас. Вас. Разладин. О нем кн. Курбский писал: „Потом убиен от него муж зело храбрый и разумный, к тому же священных писаний последователь, Василий, глаголемый Разладин, роду славного Иоанна Родионовича Квашни. А глаголют и матерь его Феодосию пострадавшу, от мучителя многими муками мучиму, вдовицу старую сущу, многолетную, неповинне терпящу". Два сына ее, Иван и Никифор, были убиты в юношеском возрасте „от германов", а третьим был Василий (Соч. I, 301—302).
Во Второй Новгородской летописи есть следующее сообщение: „В лета 7080-го (1572 г.), месяца июня в 27, в пяток 4 недели Петрова поста, на Михалице у Пречистой в монастыре постригли боярыню Васильеву жену Розладину" (Новг. летописи. СПб. 1879, 115). Повидимому, речь идет о жене казненного Василья Разладина, а не о матери, о которой говорит Курбский. Выражение „постригли" дает основание полагать, что постриг был не добровольным.
Боярин Ив. Родионович Квашня умер в 1390 г. (П. С. Р. Л. XI, 122). Внуками его старшего сына Дмитрия были: Данила Родионович Жох, от которого пошли Невежины, Степан Самара, родоначальник Самариных, и Прокофий Разлада. Поярковы происходили от второго сына Квашни, от Ильи Ивановича Квашнина. Из этой отрасли рода были Севастьян Григорьевич Золотой и Семейка Чулков.
294
Прокофий Разлада был испомещен в конце XV в. в Дерев- ской пятине (Новг. писц. кн. II, 662). Там же были на поместьях еГо сын Василий Прокофьевич и внук Василий Васильевич. В Шелонской пятине в 1571 г. были на поместьях 3 сына Владимира Разладина (там же, V, 538).
Вас. Вас. Разладин отличился целым рядом удачных дел на Ливонском фронте с 1558 г. На Земском соборе 1565 г. он присутствовал в дворянах первой статьи (С. Гр. и Д. 1,550). В цитированном выше местническом деле Вас. Квашнин писал про него: „А Василий, государь, Разладин в роду своем всем Квашниным что дед и всем им добре велик" (Указ, соч., 27— 28 стр.). Казнь В. В. Разладина относится, повидимому, к 1571 г. Чем она была вызвана, неизвестно. Из писцовых книг конца XVI в. известно, что лишились своих поместий сыновья Владимира Р-на. Тогда же бежал в Швецию Петр Р-н. В 1594 г. он был подполковником на шведской службе, а его сын Фриц в 1625 г. был причислен к шведскому дворянству и умер в Швеции бездетным в 1628 г. (С. В. Арсеньев. Русские роды в Швеции, Летопись Истор.-родосл. общества, 1905, II, 6).
В общем из всего многочисленного потомства Прокофия Разлады, после опал, казней и побегов, остался один представитель — Данила Андреевич, потомки которого вымерли, кажется, в XVIII в.
Что касается Севастьяна Золотого Кв-на, то он бежал, повидимому, совсем молодым человеком. При царе Федоре он вернулся в Москву и в 1610 г. служил по Пскову, имея оклад из чети в 6 руб. (Сухотин. Чвтвертчики. См. вр. М. 1912, 91).
Невежины служили хорошо, и в 1550 г. были зачислены 4 двоюродных брата Н-ых: Борис Федоров, Иван Петров и Данила и Федор Васильевичи.
Федор Васильев в 1560 г. был писцом в Нижнем Новгороде. Иван Петров в 1565 г. был поручителем по бояр. Ив. П. Яковлеве (С. Гр. и Д. I, 508). Иван Федоров Н-н, о котором упоминалось в приведенном выше местническом деле, был братом тысячника Бориса Федорова. В разрядах Иван Федоров упом. в 1573 г. как рында с рогатиной у царевича Федора (Синб. сб., 37). Отмечу, что все упомянутые Невежины в родословцах показаны без потомства. Это, конечно, не значит, что все они погибли в опалах, но несомненно, что бездетность Невежиных, как и большинства Разладиных, стоит в связи с пережитыми теми и другими катастрофами.
О службе Ив. П. Пояркова сведений нет. Известно только, что его отец, Петр Ильич Поярок Кв-н в 1541 г. был писцом в Костроме.
Семейка Чулков Кв-н, испомещенный в В. Новгороде, приходился троюродным (по деду) братом Ив, П. Пояркова.
295
Говоря о гибели указанных выше и других вероятных жертвах опал из рода Квашни, пока неизвестных, следует отметить тесную связь многих Кв-ных с В. Новгородом: в конце XV и в первой половине XVI вв. мы можем насчитать на поместьях в Шелонской, Деревской и Водской пятинах не менее 30 представителей рода Кв-ных (Новг. писц. кн. I, 566, 570; И, 187, 211, 224, 231; IV, 21, 22, 72, 283; V, 2, 16—22, 46).
Кирьянов Смирной, человек боярина Ив. П. Федорова.
Киселев Юрий. Упом. только в М. Б.
Возможно, что из рода муромских Киселевых, из которых многие в XV—XVII вв. служили как „выбор из городов", а некоторые достигали стратилатского (воеводского) чина.
Клеопин Иван. Записан среди новгородцев.
В 1564 г. в Бежецкой пятине упом. бывш. поместье Вас. Ив. Клеопина и его детей: Ивана, Василья и Венедикта (Новг. писц. кн. VI, 998) и бывш. поместье Федора Кл-на с сыном Иваном. Про последнего сказано: „И Иван испомещен в Юрьеве Ливонском" (там же, 1037).
Климов Аким.
Ко бы лины, Богдан, Иван и Никита.
Из рода Сухово. В конце XV в. в Водской пятине были испомещены Андрей, Василий, Борис, Иван Кобыла, Иван Меньшой и Федька Александровы дети Сухово (Новг. писц. кн. III, 497, 756,767). Василий Федоров К-н в 1550 г. был зачислен в тысячники. Пссгник Федоров в 1571 г. был поручителем по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 568). Василий Константинов Сухово в 1556 г. на Земском соборе был в дворянах второй статьи (там же, 552).
' Богдан, Иван и Никита Семеновичи погибли в Новгородском погроме, и в октябре 1572 г. их поместья в Водской пятине были отданы другим лицам (Самоквасов, Арх. мат. II, 151).
Ко ж ар а, см. Вислово Мясоед.
Кожин Александр, боярин Коломенского владыки.
Козавицин Семен с женой, записаны среди новгородцев.
Козина Анна, немка, из свиты кн. Евдокии Старицкой.
Кокорюкова Пелагея.
Колзаков Исуп.
Колзаковы принадлежали к рядовому провинциальному дворянству. Иван, Родислав и Булат Васильевы К-вы в Тетради дворовой записаны по Ростову. Их брат Борис был отцом известного дьяка царя Ивана — Василья Борисова К-ва. Василий упом. как дьяк с 1545 г. В 1547 г. он был в числе поручителей по кн. Ив. Пронском (С. Гр. и Д. I, 458). В 1549 г. он был дьяком у наряда в полках, в 1550—1556 гг. был дворцовым дьяком, а в 1558 г. служил в Юрьеве Ливонском; в 1566 г. присутствовал на Земском соборе (там же, I, 551). Дмитрий Злобин К-в в 1565 г. был поручителем по кн. Серебряном (там же, I, 520). Ростовец Никитин К-в был осадным головой
Ж
в Шацке. Рахманин Астафьев в 1566 г. был губным старостой во Владимире. Его сын, Курдюк Рахманинов, пропал без вести в бою под Соколом (Древн. Росс. Вивл. VI, синодик). Из этого же рода происходил, без сомнения, и Исуп К-в синодиков.
Колонтаев Тимофей (М. Б.).
Колтовские Александр и Григорий.
Григорий Алексеевич К-й был родным братом 4-й жены царя Ивана, Анны Колтовской. В Тетради дворовой он записан по Коломне. В 1571 г. Григорий Алексеев, Артемий Григорьев и Петр Афанасьев К-кие были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 566, 567, 569). Новгородская летопись сообщает, что в 1572 г. „того же месяца июля в 29, вторник, женился в Новегороде царев великого князя шурин Григорий Алексеевич Колтовской, у князя Бориса Давидовича у Тулу- пова, а понял князя Володимира дочь Настасью сестрию Борисову" (2 и 3 Новгород, летописи, 118, СПб. 1879). О казни Григорья Алексеевича „со всем семейством" упоминает Даниил Принц из Бухова (Начало и возвышение Москвы, перев. Ив. Тихомирова, 28. Чт. Общ. Ист. и Древн. 1876).
Александр Костантинович К-ой, несомненно близкий родственник Григорья, в Тетради дворовой записан по Кашире. В 1560 г. он был головой в полках (Разряды), в 1562 г. — был поручителем по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 478), в 1571 г.— головой в Новосили, а в 1572 г. — с государем в Новгороде. (Синб. сб., 28, 32). -
Колычевы, Андрей, Василий, Василий Умного, Венедикт, 2 Ивана, Тимофей и Михаил с 3 сыновьями, с Булатом, Миной, а „третьему имя бог весть".
Указанные в синодиках и другие К-вы погибли в разное время и по разным делам. В сообщении кн. Курбского о К-вых заметна контаминация разных фактов: он ставит казнь Хлызневых К-вых в прямую связь с делом митрополита Филиппа (в миру Федор Степанович Лобанов К-в). „Потом погубил род Колычевых, такоже мужей светлых и нарочитых в роде"... „А побил их тое ради вины, иже разгневался зело на стрыя их, Филиппа архиепископа, обличающа его за презлые беззакония". Далее Курбский рассказывает подробно о смерти Ивана Борисовича Хлызнева К-ва и его сородичей, которая произошла после разгрома вотчин Ивана Петровича Федорова, но еще при жизни митр. Филиппа, которому царь послал в темницу голову Ивана П-ча, зашитую в кожаный мех. В заключение рассказа Курбский говорит, что одновременно было погублено „околько десяти", т. е. около десяти человек К-вых, „в них же беша неции мужие храбрые и нарочитые, некоторые же от них и синклитским чином почтенные, а неции стратилаты быша" (Соч. I, 299—301).
Есть основания говорить, что столкновения царя Ивана в многочисленными представителями рода К-вых начались за несколько лет до опричнины. Митр. Филипп происходил из млад¬
297
шей линии К-вых, иа Лобановых, которые в лице Умных продолжали свою карьеру после смерти митр. Филиппа, а Ивгн Борисович происходил из старшей линии, из Хлызневых, которая еще до учреждения опричнины вызвала гнев царя.
Летописец русский сообщает, что в январе 1563 г. из полков, шедших с царем на Полоцк, бежал в Литву и выдал движение московской рати Богдан Никитич Хлызнев (Летописец русский, 172). Близким родственником Богдана был Иван Борисович. В 1558 г. он служил кн. Владимиру Андреевичу и был его воеводой на службе в Калуге (Древн. Разр. кн., 195). По поводу этого напомню, что целый ряд Колычевых служил в свое время кн. Андрею Ивановичу Старицкому (отцу кн. Владимира), принял видное участие в его измене и отъезде, и многие из них были казнены. Царь Иван перед учреждением опричнины (в 1563 г.) положил опалу на кн. Владимира Андреевича, распустил его двор и приставил к нему своих бояр, слуг и дьяков (Р. И. Б. III, 102). Таким образом Иван Борисович оказался на царской службе и в 1564—1565 гг. был воеводой в Смоленске, в 1566 г. он с сыном Иваном был на Земском соборе в дворянах первой статьи (С. Гр.иД. I, 549, 550). По родословцам оба сына Ивана Борисовича, Борис и Иван, показаны бездетными. Очевидно, два Ивана синодиков и суть Иван Борисович и его сын Иван. Не имея данных, трудно оспаривать мнение кн. Курбского, но можно думать, что казнь этих Колычевых скорее находится в связи с службой этих Колычевых Стариц- ким князьям и побегом Богдана Хлызнева, чем с делом митр. Филиппа.
Митр. Филипп происходил из младшей линии К-вых У Ив. Андр. Лобана К-ва было 5 сыновей: Степан Стенстур, отец митр. Филиппа, Михаил, Иван Рудак, Федор Чечетка и Иван Умной.
Михаил Рудак был окольничим и умер около 1551 г. Иван Умной тоже был в окольничих и умер около 1555 г.
Михаил Иванович Лобанов в 1556 г. был воеводой на году в Смоленске, в 1557 г. делал город на Пехлице (в Рязанском у.), в 1562 г. был наместником в Новгороде-Северском, а в 1563 г. служил в Путивле. На Земском соборе 1566 г. он присутствовал в чине окольничего, а затем в списке думных людей показан выбывшим в 7079 г. (1570—1571 гг.). Нет сомнения, что Михаил синодиков с 3 сыновьями и есть Мих. Ив. Лобанов, двоюродный брат митр. Филиппа.
У митр. Филиппа в родословцах показаны 3 брата: Прокофий и Яков, умершие бездетными, повидимому, в середине века, и Борис, а у Бориса — 2 бездетных сына, Петр и Венедикт, который упом. в синодиках. Борис Степанович в 1550 г. был зачислен в тысячники и в разрядах упом. только один раз — как голова в Ливонском походе 1559 г. Повидимому, он умер задолго до учреждения опричнины. Его бездетный сын Петр,
298
как и Венедикт, погиб, вероятно, в связи с низложением и смертью митр. Филиппа.
У Ив. Ив. Умного-Лобанова было 2 сына: Федор и Василий.
Федор Иванович служил сначала по Угличу и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1551 г. он был воеводой в Пронске, в 1554 г. служил в Казани и был воеводой в походе на луговую черемису. В походе 1555 г. он был у царя у посылок, в 1559 г. назначен окольничим, а в 1563 г. в чине боярина был с царем в Полоцком походе, в 1565 г. — был воеводой в Смоленске, а в 1566 г. — „великим" послом в Польшу (Р. И. Б. III, 278). После этого в разрядах он не упоминается, а в списках думных людей показан умершим в 7075 г. (1566—1567 гг.), но это неверно. В связи с делом митр. Филиппа, которому он приходился родным двоюродным братом, Федор Умного удалился или был удален отдел. В 1573 г. 2 ноября он сделал вклад Тр. Сергиеву монастырю, а затем вскоре после этого постригся в Иосифове монастыре (в иноках—Феогност) и умер в декабре 1574 г. 2 января 1575 г. его вдова, старица Маремьяна, сделала по его душе вклад Тр. Сергиеву монастырю. Были ли у Федора дети, неизвестно, — в родословцах он показан бездетным.
Упомянутый в сияо/ичах Василий Умного был младшим братом Федора. Он нача\ свою карьеру в 1556 г. рындой в походе царя в Серпухов, в 1558 г. был воеводой в Михайлове и Зарайске, в 1560 г. — на Ливнах, в 1565 г. пожалован в окольничие и служил в Коломне, затем в Полоцком походе и в То- ропце, в 1568 г. — в Вязьме. В 1569 г. Василий Умного был воеводой из опричнины в походе к Изборску. Как опричный воевода он служил на Ливонском фронте и в 1570 г. В последний раз упоминается в разрядах в 1573—1574 гг. как дворовый воевода в походе царя на Пайду (Синб. сб., 21, 23, 24, 26, 35, 36). В 7033 г. (1574—1575 гг.) его поместье в Шелонской пятине было отдано Ивану Тим. Соловому-Петрова (Самоквасов, Арх. мат. I, 68). Были ли у Вас. Умного дети, неизвестно, — а в родословцах он показан бездетным.
Упомянутые в синодиках Андрей, Василий и Тимофей могут быть выяснены только предположительно.
Среди нескольких Василиев К-вых, живших в это время, йаиболее вероятным представляется Вас. Федорович Лошаков. По родословцам этот Василий и его братья, Нелюб, Петр и Михаил, показаны бездетными, что само по себе вызывает подозрения. Нелюб, Василий и Петр в 1550 г. были зачислены в тысячники. Вас. Ф. в 1555—1560 гг. был воеводой в полках, а в 1564 г. с братьями Петром и Михаилом был поручителем по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 457). Бывш. поместье Михаила в Московском уезде упом. в писцовых книгах 1574 г. (Писц. кн. М. г. I, 119).
Из Лошаковых же происходил Тимофей Данилович, который в 1559 и 1560 гг. упом. в разрядах как полковой голова. Тимофей
299
Д-ч и его братья, Богдан и Федор, по родословцам умерли бездетными.
Вероятно, в близком родстве с этими Даниловичами следует искать и Андрея синодиков. По родословцам у Даниловичей были двоюродные братья: Андрей, Владимир и Образец Третьяковы, тоже все бездетные.
В общем несомненно, что синодики далеко не отражают всех потерь, которые понес род Колычевых в разное время, до опричнины, во время ее существования и после ее отставки.
Корнилий, игумен Псковского Печерского монастыря.
Курбский пишет о нем: „Тогда же убиен от него Корнилий игумен Печзрского монастыря начальник, муж свят и во преподобию мног и славен; бо от младости своей во мнишеских трудех провозсиял и монастырь он предреченный воздвиже...“ и т. д. (Соч. I, 320). По спискам иерархов П. Строева Корнилий был игуменом Печерского монастыря с 1529 г. по 20 февраля 1570 г.
Корнилов Третьяк, корелянин.
Погиб, вероятно, в Новгородском погроме 1570 г.
Коротневы Василий, Матвей, Ишук (следует: Кушник) и Третьяк. Записаны среди псковичей и новгородцев. В М. Б. и Кир. в этом месте имена перепутаны. В Ник. Пр. — Василий и Ишута.
Коротневы были помещиками Бежецкой пятины. В писцовых книгах 1545 и 1551 гг. записаны на поместьях — Афанасий Петров и Иван Афанасьев (умер в 1550 г.) с детьми: Федором (умер в 1543 г.), Богданом, Кушником, Третьяком и Сенькой. Там же упом. Федор Иванов и его сын Филипп (Новг. писц. кн. V, 677; VI, 283, 286, 676). Сын Богдана, Матвей Богданов, и его дядя, Кушник Иванов, в 1565 г. были в числе поручителей по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 520). Василий синодиков, быть может, сын Афанасья Петрова, выселенный в 1571 г. из Бежецкой пятины, когда она была взята в опричнину, и в 1572 или 1573 г. получивший поместье обратно (Самоквасов, Арх. мат.,
I, 108).
Корцовы Василий и Пимен. В некоторых синодиках: Курцевы, что едва ли правильно.
Корюков Василий. Записан среди новгородских помещиков. В М. Б. еще Семен.
В 1573 г. в Обонежской пятине упом. бывш. поместье Михея и Василия Алексеевых детей К-вых (Самоквасов, Арх. мат.,
II, 300).
Кострикин Иван, с женой, сыном и дочерью. Записан среди новгородцев.
Котовы, Андрей, Никита, Петр и Тимофей. Записаны среди новгородцев.
В середине века в Бежецкой пятине сидело на поместьях несколько, родственных несомненно, семей Котовых: Митьки
300
и фвдьки Александровых; Васкжа Козлова с сыном Андреем; Ивана Федорова с сыновьями: Миткой (Никиткой?), Тишкой (Тимофеем) и Третьяком; Гриди, Андрея, Данила и Ивана Григорьевых; Васюка, Андрея и Иванца Степановых (Новг. писц.
J. VI, 71, 197, 201, 204, 207).
Кочергины Андрей и Семен.
Яков К-н в последней четверти XV в. был писцом в Поше- хонье (Моек. Ист. муз., Синод, библ. 276, л. 344). Его сыновья, Иван и Константин, участвовали в Новгородском походе 1495 г. (Древн. Разр. кн., 21). Сын Ивана Яковлева, Григорий, записан в Тетради дворовой по Москве. Сын Константина Як-ча, Иван, в 1564 г. дал Никольскому на Болоте монастырю пуст. Давыдовскую в Переяславском уезде (Шумаков. Обзор Гр. К. Эк. IV, 261). Несомненно, из этого рода происходили Андрей и Семен. Последний упом. в разрядах в 1556 и 1559 гг. как поддатень у рынд.
К о ш у р и н Василий (М. Б.).
Крапоткин кн. Петр. Убит на Вологде.
Все пять Андреевичей К-ных: Юрий, Петр, Василий Косой, Андрей и Иван были испомещены в Деревской пятине и в 1550 г. зачислены в тысячники. Юрий был убит в 1552 г. под Казанью (Древн. Рос. Вивл. VI, 479). Петр Андреевич упом. в 1560 г. как сеунщик с Ливонского фронта к царю о победе под Тар- васом (Летописец русский, 135).
Кречетников Семен. В синодиках записан среди новгородцев. В М. Б. еще Дарья и Владимир.
Ср. — в Водской пятине с конца XV в. на поместьях несколько Кречетниковых (Новг. писц. кн. III, 35, 72, 75, 78, 81, 221, 283).
Кротково Меньшик с женой, Семен с женой, сыном и дочерью и Федор.
Вероятно, из рода мелких переяславских вотчинников Слободского стана, из которого происходили—подьячий Русин Григорьев К-во (1536 г. Федотов-Чеховский, Акты I, 55) и его брат — дьяк Иван Кожух Григорьев (1539—1555 гг. дьяк с казначеями). В одном акте Махрищского монастыря в 1559 г. упом. как послух Семен Иванов К-во, двоюродный брат Русина и Кожуха Григорьевых (Шумаков. Обзор Гр. К. Эк. IV, 253. Там же см. по указателю много сведений об этом роде).
Крюков Василий. М. Б. ср. Корюков.
Крюков Мижуй, новгородский подьячий (М. Б.).
Кудрявцев Яков, с женой и двумя сыновьями.
Кузьмин Истома, дьяк, с женой, сыном и дочерью.
В 1561 г. январь — 1564 г. январь дьяк в Смоленске, в 1566 г. Дьяк на Земском соборе. После этого — опять в Смоленске, а в октябре 1567 г. послан к Москве (Сб. Р. Ист. Общ., т. 71, 23, 47, 301, 562). Одно время (когда?) был дьяком Казанского Дворца (А. А. Э. I, № 289).
Куле шин Тимофей.
S01
Куликовых люди Охлоп и Нечай. Вероятно, из числа жертв новгородского погрома.
В В. Новгороде с конца XV в. было на поместьях несколько Куликовых (Новг. писц. кн. V, 54). Десяток К-вых был на поместьях в третьей четверти XVI в. в Бежецкой и Шелонской пятинах (там же, VI, 98, 302, 459, 693 и др.). Матвей Иванов К-в в 1571 г. был в числе поручителей по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 570).
Кульневы Андрей и Григорий.
Григорий Михайлов К-в .в 1563 г. был воеводой в Одоеве (Древн. Разр. кн., 239). В 1572 г. Григорий К-в (без отечества) у пом. как наместник в Карачеве (Синб. сб., 34). Его брат, Иван Михайлов К-в по Боярской книге 1556 г. имел оклад в 400 четей и получал 50 руб. с Рязанского ключа. Михаил Григорьев К-в в 1563 г. был поручителем по кн. Ал. Воротынском, а в 1563 г. — по боярине Ив. П. Яковлеве (С. Гр. и Д. I, 489, 503). Из этого рода был дьяк Нечай К-в, который упом. в разрядах в 1559 г. (Древн. Рос. Вивл. XIII, 295).
По родословию К-вых дьяк Нечай был старшим братом казненного Григорья, который показан сыном Ивана Михайловича. Там же, без указания источников, сказано, что Григ. Иванович в 1575 г. был вторым воеводой в Астрахани (Руммель и Голубцов. Родословн. сборник I, 470. СПб. 1886). Все эти сведения очень сомнительны.
Куничников Игнатий. Записан среди новгородцев. *
Куракин кн. Петр. В Сп. Прил. и М. Б. еще — „княж Дмитриевых детей Куракина двух сыновей, имена их бог весть".
Кн. Курбский после рассказа о мучительной смерти кн. П. Щенятева прибавляет: „Тако же и единоколенных братию его Петра, Иоанна, княжат нарочитых, погубил" (Соч. I, 283).
Боярин Дмитрий Андреевич К-н(1557—1570 гг.) был старшим братом кн. Петра и Ивана. П. Долгоруков говорит, без указания источников, что кн. Дмитрий умер в 1570 г., кн. Петр — в 1575 г., а кн. Иван — в 1567 г. (Российская родословная книга I, 315, СПб., 1854). Эти не вполне точные даты взяты, повидимому, из Новиковского списка думных людей. У кн. Дмитрия по родословцам было 2 сына: бездетный Иван (умерший, по кн. П. Долгорукову, в 1566 г.) и Семен.
Петр Андреевич упомянут в разрядах не раз как воевода с 1538 г. по 1565 г., когда он был воеводой в Казани. В списках думных людей он показан боярином с 1559 г. по 1575 г. (7083 г.), но последняя дата сомнительна. Александро-Невская летопись после рассказа о казни кн. Ал. Горбатого и других (февраль 1565 г.) прибавляет: „бояр же кн. Ивана Куракина, кн. Дмитрия Немово повеле в чернцы постричи" (Р. И. Б. III, 258). По Курбскому Петр и Иван были казнены одновременно, но указанное известие летописи говорит о пострижении только кн. Ивана.
302
ПовиДимому, кн. Петр в 1565 г. подвергся опале и был удален от службы, но убит много позже.
Курлятев кн. Владимир.
Кн. Курбский говорит о князьях Курлятевых в двух местах. Об убиении „славного в доброте и пресветлого княжа в роде Владимира Курлятева" он сообщает в рассказе об избиении рязанцев, Дан. Чулкова и других. Выше, рассказывая о казни Оболенских, он пишет: „И тогда же и других княжат немало того же роду побито; а стрыя тех княжат Дмитрия, глаголемого Курлятева, постричи во мнихи повеле — неслыханное беззаконие,— силою повеле всеродне, сирень со женою и с сущими малыми детками, плачущих, вопиющих. А по коликих летех подавлено их всех" (Соч. I, 280, 305).
У кн. Дмитрия К-ва в родословцах показано 2 бездетных сына: Иван и Роман. Одна из его дочерей была замужем за кн. Ив. Юр. Голицыным. Дмитрий был боярином с 1549 г., а в 1562 г. пострижен. В Летописце русском есть сообщение, что 29 октября 1562 г. царь Иван положил опалу на боярина кн. Дмитрия К-ва „за его великие изменные дела" и велел его и сына его Ивана постричь и сослать в Коневецкий монастырь, а его жену и двух княжен постричь и сослать в Челмогорскую пустынь (в 43 в. от Каргополя. Дело о ссылке их и духовная грамота кн. Дм. Курлятева хранились в царском архиве. А. А. Э. I, № 289, 214 и 215 ящики).
Владимир Константинович К-в был родным племянником кн. Дмитрия. По разрядам он был в 1564 и 1565 гг. воеводой в Полоцке, а в мае 1565 г. и в 1566 г. — в Брянске. В последний раз упом. в 1568 г. в Ливонском походе воеводой левого полка, стоявшего в Торопце (Синб. сб., 21). В родословцах кн. Владимир показан без потомства.
Курцев Никита Фуников. В Ник. Пер. и М. Б. еще инок Дорофей Курцев, но в Кир. — Дорофей Курцев, что повиди- мому ошибочно. В М. Б. еще: Пимен, Василий и Стефан.
Курцевы происходили из мелких переяславских вотчинников. Иван К-в в 1478 г. был душеприказчиком мелкого переяславского же вотчинника М. Конкова, которому приходился шурином (А. Ю. Б. I, № 52, IV). Его сын Афанасий Фуник в 1531 г. был назначен в дьяки и послан в В. Новгород, где и служил в 1531—1540 гг. (Лихачев. Разрядные дьяки; Самоквасов. Арх. мат. II, 376, 384, 386; Опис. Арх. М. Ю. I, 1736).
Из этого же рода был Иван Петрович Кушник К-в, который в 1527 г. был дьяком в В. Новгороде (Р. И. Б. XVII, Каб. кн. 80). Позже Ив. Кушник был отставлен от дьячества и испомещен в В. Новгороде. В Казанском походе он был тяжело ранен и в 1556 г. заведывал в В. Новгороде решеточным приказом (Д. А. И. I, 113). В 1552—1560 гг. он сделал Тр. Сергиеву Монастырю несколько денежных вкладов и дал двор с садом в В. Новгороде. В 1570-х годах он постригся у Троицы и умер
303
около 1572 г. Брат Кушника сделал карьеру в другой области: около 1525 г. он постригся у Троицы (в иноках — Серапион) в 1530 г. был казначеем, в 1532 г. — келарем, а в 1549 — игуменом Троицкого монастыря. Наконец, в 1551—1552 гг. он был архиепископом Новгорода и Пскова.
У Афанасия Фуника известны 5 сыновей: Иван, умерший около 1551 г., Константин, который был дьяком (1554 г. С. Гр. и Д. I, 469), Федор, Данила и Никита. Данила Фуников, в иноках Троицкого монастыря Дорофей, в 1560 г. был у Троицы казначеем, а в 1563—1568 гг. — келарем. Указаний на казнь Дорофея Курцева в троицких актах нет.
Никита Фуников с 1545 г. упом. как дьяк при казначеях и в этом чине он был в Казанском походе 1549 г. (Р. И. Б. XXXII,297). В декабре 1550 г. он был печатником и дьяком (Д. А. И.
I, 63), а в 1563 г. был казначеем в Полоцком походе, а позже в Москве (Древн. Разр. кн., 234, 266). Есть известие, что Никита Фуников был женат на сестре известного опричнйка кн. Аф. Вяземского (Лихачев. Разр. дьяки, 191, 242). Вероятно, она была его второй женой, так как его жена Екатерина умерла в 1549 г. и он сделал по ее душе вклад Тр. Сергиеву монастырю.
Н. Фуников на службе составил себе хорошее состояние. В 1541 г. он с братьями купил за 400 руб. с. Ваганово, во Владимирском уезде. Затем ему принадлежало под Москвой с. Сала« рево, к которому в 1551—1566 гг. он прикупил несколько участков земли (Троицкие акты). Казнен летом 1570 г. по новгородскому „изменному“ делу одновременно с Ив. М. Висковатым и другими. Подробности его казни см. у Шлихтинга, Новое известие, 48.
В августе 1572 г. бывш. поместье Никиты, Константина и Данила Фуниковых в Шелонской пятине было отделено кн. М. Кострову (Самоквасов. Арх. мат. I, 89).
Пимен, Василий и Стефан, которые упоминаются только в М. Б., вероятно были из того же рода и погибли в связи с делом Никиты Фуникова.
Кутузов Иван.
В роде Кутузовых за соответствующее время было 5—б Иванов. В поисках Ивана синодиков следует обратить внимание на связи К-вых с В. Новгородом и в частности с Софийским домом. С конца XV в. несколько К-вых имели поместья в В. Новгороде (Новг. писц. кн. И, 647; III, 128). Зык Васильев К-в в 1545 г.# а затем его сын Иван имели поместье в Бежецкой пятине (там же,
II, 219,614). Дочь одного Ивана К-ва, Марфа, была замужем за софийским сыном боярским П. М. Пешковым (см. Пешковы). Отмечу, наконец, что Константин и Михаил-Клеопа К-вы были боярами новгородского владыки Геннадия.
Аабодинской Тит. В Сп. Пр. и М. Б. — Кипчак, в К. Б.— Копчан.
Лазаревы, Михаил и изборский подьячий Петр.
304
Лаптев Борис Русин. В синодиках записан среди новгородцев. '
В середине века в Ьежецкои пятине были на поместьях: Сумгур, Савва и Таир Григорьевы и их братаничи: Васюк, Ахмат и Илья Сумороковы Л-вы. Там же у пом. на поместьях: Добан Есипов, Тимофей Иванов и Салтырь Федоров (Новг. писц. кн. VI, 435, 561, 563, 731, 755 и др.). Когда Бежецкая пятина в 1571 г. была взята в опричнину, то Л-вы были выселены и в 1572 г. их поместья отданы другим лицам (Самоквасов. Арх. мат. И, 171).
Ларионовы, Иван и Иван Меньшик. В Тр. Серг. еще Михаил.
Происхождение Л-вых неизвестно. Василий Иванов Беззубой Л-в в 1522 г. был стряпчим у коней в походе вел. князя (Древн. Разр. кн., 73), в 1527 г. был в числе поручителей по кн. Глинском (С. Гр. и Д. I, 428). В 1525 г. упом. как ясельничий вел. князя (Дьяконов. Акты тяглого населения, И, № 4). Его дочь Марья была замужем за окольничим Андр. Александровичем Квашниным. Его духовную см. Лихачев, Сборник актов, 6—9. Умер в монахах Тр. Сергиева монастыря в 1548 г. В 1568 г. его вдова, Евд. Вас. Приклонская, по духовной мужа дала Тр. Сергиеву монастырю вотчину в Бежецке (Троицкие акты). У Василья были братья Владимир и Федор. Владимир в 1547 г. был посланцем вел. князя к кн. Ан. Горбатой по поводу брака ее дочери с кн. Ив. Ф. Мстиславским (А. И. I, 211). Сын Федора, Кондрат, в 1571 г. был поручителем по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 569). Ларионовы синодиков, повидимому, были из того же рода.
Л е в а ш (Левшин) Леонтий, подьячий.
Л е в а ш е в Алексей.
Из рода тверских бояр, перешедших на службу в Москву после ликвидации независимости Тверского княжения. Василий Сергеев Л-в в 1514 г. был гонцом в. кн. Василья к воеводам на Луки Великие (Древн. Разр. кн., 55). В 1517 г. он был посланцем вел. князя к Василью Шемячичу (А. И. 1,180), а в 1533 г. — гонцом в Крым (Летопись Нарманского, 27. Временник, V).
У Василья Сергеева известны 3 сына: Истома, Иван и Алексей. Истома и Иван служили по Пскову и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Истома упом. в разрядах в 1558 г. как голова в полках. Алексей Васильев упом. в том же чине в 1558 — 1560 гг. В 1562 г. Алексей был в числе поручителей по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 478).
Левин Юрий (М. Б.).
Леонтьев Василий, неженатый, новгородский подьячий.
Линев Никита. В Ник. Пер. еще — Георгий.
Замечания о роде Линевых см. ниже Окунев Шестой. Алексей Ершов и Иван Алексеев Л-в служили по Мурому и в 1550 г. были зачислены в тысячники (о них см. Мятлев и Лихачев,
20 Проблены источниковедения
305
Тысячная книга, 149). Кобяк Клементьев Л-в в 1571 г. был поручителем по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 567).
Лисин Тимофей. Записан среди новгородцев.
Лобанов Вешняк, подьячий.
Ловчиков Григорий.
Дмитрий Петрович Л-в в 1528 г. был в числе поручителей по кн. Шуйских (С. Гр. и Д. I, 431). Его сын Григорий в Тетради дворовой записан по Можайску и в 1568 г. упом. как ловчий царя Ивана. Шлихтинг рассказывает, что „ближайший советник“ царя кн. Аф. Вяземский „рекомендовал ему некоего Григория, по прозвищу Ловчик, и добился того, что тот вошел в милость к государю. Этот Ловчик, забыв о благодеяниях, ложно обвинил Афанасья перед тираном, якобы тот выдавал вверенные ему тайны и открыл принятое решение о разрушении Новгорода". Этот донос был, по словам Шлихтинга, причиной гибели кн. Вяземского (Новое известие. Об этом говорит и Гваньини. См. Карамзин, Ист. Г. Р. IX, прим. 301).
Григ. Дм. Ловчиков в опричнине сделал карьеру и разбогател. В марте 1569 г. он дал Успенскому Московскому собору 50 р. и записал в его синодик свой род (Моек. Ист. муз., Усп. собр. № 64, л. 299). Во вкладной книге Тр. Сергиева монастыря 15 августа 1571 г. записан его вклад 50 руб., но эта дата вероятно ошибочна, — следует 1570 г., а не 1571 г. Дело в том что в архиве Тр. Сергиевой лавры сохранились 3 данные грамоты его сыновей: Матвея, Григорья и Юрья. В 7078 г. (1569—1570 гг.) они дали по душам отца и матери Тр. Сергиеву монастырю сельцо Офросимово, к Бохове стану Московского уезда, в 7080 г. дали с. Махру, в Переяславском уезде, а в 7082 г. — с. Крутец, во Владимирском уезде. Чем объясняется дача этих трех крупных вкладов Тр. Сергиеву монастырю, неизвестно. Таким образом опалу и казнь Гр. Дм. Ловчикова следует отнести к концу 1570 г., после разгрома В. Новгорода. Быть может, он сначала подвергся опале, а затем через некоторое время казнен.
Лопатин Михаил.
Юрий и Михаил Матвеевичи Л-ны служили по Боровску и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Михаил Матвеев в 1559 г. упом. в разрядах как полковой голова. В 1562 г. он был поручителем по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 478). В 1563 г. с кн. Ос. Дм. Мосальским он был писцом в Нижнем Новгороде, а на Земском соборе 1566 г. был в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д. I, 552).
Отмечу еще, что Постник Константинов Л-н в 1565 г. был поручителем по бояр. Ив. П. Яковлеве (там же, I, 510).
Лосминской Семен.
Вероятно, из московских подьячих. В 1560 г. Семен Андреев Л-ой был послухом у земельного акта кн. П. Ф. Пожарского в Звенигороде. В 1559 г. он писал купчую Ив. Гр. Бухарина на землю в Переяславле, а в 1561 г. — мировую запись Симонова
306
монастыря по Галичу (Шумаков. Сотницы, V, 28; Обзор Гр. К. Эк. IV, 102, 349).
Лукины, Иван и отдельно — новгородский подьячий Иван с женой и детьми: Степаном, Онуфрием и Екатериной.
В Ник. Пер. еще Третьяк Л-н „что был Черкасского".
Лукошков Истома (М. Б.).
Лыковы Иван и Михаил. Михаил „с племянником" в некоторых синодиках (напр. Тр. С.) ошибочно назван Лысковым.
Лыксвы по родословным преданиям происходили от муромских князей. В XV в. этот род разделился на несколько ветвей: Лыковых, Злобиных, Замятниных, Овциных, Федцовых и Вельяминовых.
О смерти Ивана и Михаила Матвеевичей Л-вых интересные подробности сообщает кн. Курбский. Их отец, Матвей Никитич, в 1535 г. был наместником в Радогоще, осажденном Литвой. Не желая сдаваться, он выпустил из города жену и детей в плен, а сам сжег себя с гарнизоном в городе (П. С. Р. Л. VIII, 287. См. еще об этом запись в синодике Успенского собора. Древн. Рос. Вивл. VI, 467). Король Сигизмунд принял семью Лыковых „не яко пленников, но яко своих сущих" и приказал „питать" их в своем дворце „и доктором своим повелел их научити шляхетских наук и языку римскому". Московские послы Вас. Морозов и Ф. Воронцов „упросили" короля освободить Лыковых. Один из них, Иван, был взят впоследствии в плен магистром Ливонии и уморен „в прелютой темнице". Другой, Михаил, был на воеводстве в Ругодиве и здесь убит по приказанию царя Ивана с своим „ближним сродником" (племянником синодиков). Об этом сроднике Михаила кн. Курбский сообщает интересные сведения: он был послан (кем?) „на науку за море во Германию, и тамо навык добре аламанскому языку и писанию, бо там пребывал, учась, немало лет и объездил всю землю Немецкую. И возвратился был к нам во отечество и по коликих летех смерть вкусил от мучителя неповинне" (Соч. I, 298—299).
В Тетради дворовой записаны по Волоку следующие Лыковы: Дмитрий Гаврилов, Иван Борисов, Михаил и Иван Матвеевы, Семен Алексеев и Петр Захарьин. В тысячники в 1550 г. были зачислены: Иван Лях и Михаил Матвеевичи и Федор Иванов. Иван Лях в разрядах упом. как воевода у наряда в Ливонском 1558 г. О смерти его в плену в Ливонии говорит . Федор Иванов упом. в Ливонских походах в 1558 и 1560 гг. как голова.
Михаил Матвеевич упом. в 1565 г. как окольничий и воевода в Казани. По Новиковскому списку Мих. Матв. был пожалован в окольничие в 7073 г. (1564—1565 гг.) и „выбыл" в 7079 г. (1570—1571 гг.).
Как звали его племянника, который упом. в синодиках, и какой Иван Л-в был казнен, неизвестно. Быть может это — Иван Борисов, записанный в Тетради дворовой.
20*
походе лв Курбский
307
Л ы ч о в Митяй (М. Б.).
Люшины Гам и Большой (М. Б.)«
Мазил о в Михаил, а ниже: „Михайлова жена Мазилова с двема дочерьми да с двема сыны“.
Михаил записан между людьми боярина Ив. П. Федорова, убитыми в Коломенских селах, и людьми, побитыми в Губине углу.
Малечкин Петр. В Кир. — Малечков Третьяк, а ниже Малечков Петр. Это написание фамилии в Кир. ошибочно.
Константин Малечкин в начале XVI в. имел вотчину в Кашине (С. Гр. и Д. I, 354). Его сын Мясоед в 1495 г. в чине жильца (постельника) участвовал в Новгородском походе (Древн. Разр. кн., 21). Петр Матвеев сын Игнатьевича в 1494 г. был послан провожать крымских послов (Летопись Нарманского, 6). В 1524 г. Петр, идя на службу в Нижний, написал духовную грамоту, по которой завещал половину с. Малечкина в Твери Иосифову Волоколамскому монастырю (А. Ю. № 418). В. 1532 г. Петр умер, а в 1558 г. его вдова, Елена Ивановна Желнинская, дала другую половину с. Малечкина Тр. Серг. монастырю. В 1563 г. царь Иван взял село Малечкино себе, а монастырям дал за их половины по 60 руб. (Моек. Ист. музей, Епарх. собр. № 419, л. 126).
Во второй половине XVI в. Никита Васильев, Яков и Иван Ильины и Яков Китаев М-ны имели поместья в Бежецкой пятине. Вероятно из этого же рода происходили казненные Третьяк и Петр.
Мальцев Емельян. В М. Б. вместо него Елизар.
Малышев Дмитрий.
Мансуровы Яков и Ирина.
В Тетради дворовой записаны по Москве: Овчина Степанов, Тимофей, Яков и Владимир Давидовы, сын Якова Иван и сын Владимира Леонтий. Леонтий Владимиров, Овчина Степанов и Тимофей и Яков Давидовы в 1550 г. были зачислены в тысячники. Иван Яковлев в 1562 г. был поручителем по кн. Ив. Бельском, а в 1565 г. — по кн. М. Воротынском (С. Гр. и Д. I, 478, 539). Яков Давидов и Дм. Ив. Годунов в 1573 г. в Ливонском походе были в чине постельников государя (Синб. сб., 37). Яков казнен вскоре после этого, и в писцовых книгах Коломенского уезда перед 1575—1576 гг. упом. его бывш. поместье (Писц. кн. М. г. I, 417, 451).
Мануйлов Семен.
Родоначальником Мануйловых был Иван Мануилович, который был боярином или дворецким у митр. Феодосия (1461—* 1464 гг.). Его внук — Юрий Григорьев сын Ивановича М-ва в 1518 г. был митрополичЬим наместником во Владимире, а в 1524—1526 гг. был дворецким митр. Даниила. Брат Юрья, Иван Григорьевич, был убит в 1535 г. литвой в Стародубе, в отряде митрополичьих слуг (Древн. Рос. Вив. XX, 468. Синодик
308
Усп. собора). Другой внук Ивана Мануиловича, Константин Федорович М-в, был боярином митр. Даниила. В третьей четверти XVI в. митрополитам служили: Михаил Юрьевич, Семен и Русин Мануйловы. Михаил Юрьевич в 1565 г. был в числе поручителей по Салтыковых (С. Гр. и Д. I, № 515). Кажется, из того же рода происходил государев дьяк Иван Мануйлов, который упом. в 1559 г. и на Земском соборе 1566 г. (Древн. Разр. 213, и С. Гр. и Д. I, 553).
Мария немка, постельница кн. Владимира Андреевича, „что была у князя у молодого приставлена“ (Ник. Пер.).
Мария, прозвище Магдалина, родом ляховица с 5 сыновьями. В синодиках не упом. или еще не найдена.
О ней кн. Курбский сообщает: „Оклеветана же пред царем, аки бы то была чаровница и Алексеева (т. е. Адашева) соглас- ница; того ради ее погубити повелел и со чады ее, и многих других с нею“ (Соч. I, 277).
Марк, литвин. Из новгородской тюрьмы (Н. Пр.).
Мартьяновы Борис, Афанасий и Степан (М. Б.). В Ник, Пер. — Афанасий и Стефан.
Марьин Федор (М. Б.). " " ~ ^
Маслов Федор, новгородский подьячий, с женой, дочерью Ириной и сыном Никитой. В М. Б. еще Неустрой.
Матвеев Данила Нечай, староста. В М. Б. еще — Несмеян, Василий, Нечай и Богдан.
Мелентьевы Небогатой и жена Третьяка (М. Б.)
Мельницкой Емельян. В Кир. и М. Б. еще Никита.
Мещерские братья кн. Андрей и Никита.
В синодиках не упоминаются. По сообщению кн. Курбского убиты после казни кн. Влад. Курлятева одновременно с рязанцами Сидоровыми (Соч. I, 306).
Милославские, Василий, Иван,Матвей, Федор и Юрий. В М. Б. еще Григорий.
Из рода великокняжеских слуг, родоначальник которых выехал из Литвы с в. кн. Софьей Витовтовной. Его правнук, Данила Козел Терентьевич, был посельским у кн. Юрья Васильевича в Юрьеве Польском, в конце столетия был посельским в. кн. Ивана и в. кн. Софьи (Палеолог) в Сольвычегодском уезде, а в 1521—1524 гг. был дьяком в. кн. Василья. Данила Козел в конце XV в. был испомещен в Шелонской пятине (Новг. писц. кн. V, 38). Один из его сыновей, Дмитрий, в 1537 г. был писцом Бежецкого Верха. У Дмитрия Козлова известны 3 сына: Иван, Юрий и Степан Рудак.
Иван Дмитриев в 1553—1556 гг. упом. как дьяк Новгородского владыки (А. И. I, 326). Юрий Дмитриев в Тетради дворовой записан по Переяславлю.
Василий и Матвей синодиков тоже внуки Дмитрия Козла, от его младшего шщ Вадфоломея,
309t
Федор синодиков вызывает сомнения. В неполном родословии Милославских известен только один Федор — внук Варфоломея Козлова и сын Василья синодиков, Федор Васильев, который в 1572 г. был поддатнем у рынды (Синб. сб., 32—33). В 1581 г. Ф. Васильев в чине дворового жильца принимал участие в приеме Ант. Поссевина (Лихачев. Библиотека моек, госуд., 23).
Митрополичьи слуги.
Кн. Курбский после рассказа о смерти митр. Филиппа пишет: „По убиении же митрополита не токмо многих клириков, но и нехиротонисанных мужей благородных околько сот помучено различными муками и погублено; бо там есть в той земле мнози мужие благородные светлых родов имения мают, во время мирное архиепископом служат, а егда брань належит от супостатов окрестных, тогда и в войске христианском бывают, которые не хиротонисаны“ (Соч. I, 316—317).
Таубе и Крузе говорят, несколько неясно, что после обличительной речи с амвона митр. Филиппа „на следующий день им было приказано-схватить всех слуг, бояр, приговоренных (??) кравчих, стольников и людей благородного происхождения, и одни были повешены, другие избиты палками, безжалостно замучены и брошены в тюрьму“. Далее Таубе и Крузе говорят о мученьях и издевательствах, которым подверглись „советники и приближенные митрополита“. Несмотря на неясность текста, очевидно, что они имели в виду дворян митрополита. См. Ивашев Афанасий, Мануйлов Семен, Шестаков Петр, Фомин Григорий, Русинов Леонтий.
Митрофан, Печерский архимандрит.
Вероятно, Нижегородского Печерского монастыря. (В Псковском Печерском в это время был Корнилий, см. выше.)
Митьков Молчан. В Тр. Сер.-^-Мокий.
В Тетради дворовой по Боровску записаны Чепчуг Филиппов с сыном Замятней и Василий Семенов М-вы. Молчан Семенов М-в в 1562 г. был в числе поручителей по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 478). Кн. Курбский рассказывает, что во время непристойного пира „един муж храбрый посреди пира обличих его (т. е. царя) предо всеми, ему ж было наречение Молчан Митков“, за что царь пробил его копьем, а затем велел кромеш- никам добить (Соч. I, 350),
Михаил, владычень чашник. Повидимому, чашник Новгородского владыки Пимена.
Михайлов Яким и в другом месте Полуект (М. Б.). В других синодиках — Полуект Тещин.
Молотянинов Юрий (Кир.).В М.Б. — Молвянинов Юрий.
Молчан, новгородский подьячий.
Молчано вы, см. Дементьевы.
М о л я в а, повар, и Леонтий, Ярыш и Иван Молявины.
Монастыревы: Андрей и Федор Безносовы; Андрей и Леонтий Мусоргские; Андрей, Григорий, Неудача С женой
310
Дарьей и тещей Евдокией, Никита и Тит Циплятевы. В М. Б.— Дев Мусоргский и Елена Неудачина.
Монастыревы по преданиям происходили от смоленских князей. С середины XIV в. они владели очень большими вотчинами на Белоозере, главным образом в Надпорожском стану. По своим вотчинам они служили белозерско-верейским удельным князьям, и за 100 с лишним лет службы у них так измельчали от семейных разделов, что после ликвидации белозерского удела (1485 г.) заняли на московской службе очень скромное
положенье.
Вас. Фед. Безнос М-в был боярином у в. кн. Марьи и у кн. Михаила Андреевича Белозерского. Его сын Тимофей и внук Василий Тимофеевич в конце XV в. были испомещены в В. Новгороде (Самоквасов. Арх. мат. 1,231). Сын Василья Тимофеевича, Андрей, в актах пишется то как Андр. Вас. Безносов, то как Монастырей, а чаще просто Андреем Васильевым. В 1550 г. он служил по Бежецку и был зачислен в тысячники, в 1555 г. с кн. Ив. Ромодановским описывал дворцовые села в Московском уезде, в 1560 г. был товарищем костромского писца кн. Андр. Дашкова (Милюков. Спорные вопросы, 164). После этой' службы Андрей Васильев был пожалован в дьяки и в 1563 г. участвовал в Полоцком походе. В 1569—1570 гг. он был дьяком в В. Новгороде, где и погиб в Новгородском погроме.
Федор Безносов синодиков — близкий родственник Андрея, быть может его брат.
Циплятевы и Мусоргские происходили из младшей отрасли рода М-вых Ив. Дм. Ципля М-в был дьяком у кн. Михаила Андреевича. Его сыновья, Семен и Елизар, в конце XV в. получили поместья в В. Новгороде (Р. И. Б. XXII, 20; Новг. писц. кн. III, 45, 73, 90) и служили в дьяках у вел. князей Ивана III и ВаСилья Ивановича. Иван Елизарович, сын дьяка Елизара, в 1526 г. был в посольстве в Литву, а в 1532 г. был „великим", т. е. думным, дьяком. Как близкий к в. кн. Василью человек Иван Елизарович был в предсмертных совещаниях в. кн. Василья (Лихачев. Разрядные дьяки, 80—86). В малолетство Ивана IV Иван Елизарович оставался в стороне от борьбы придворных партий, в 1542 г. вышел в отставку и умер около 1547 г. Еще более крупным лицом был его сын, Елизар Иванович, думный дьяк царя Ивана, умерший 16 ноября 1569 г.
Упомянутые в синодиках Циплятевы были потомками дьяка Семена И-ва Ц-ва. Эти Циплятевы по своим новгородским поместьям завязали тесные связи с Софийским домом. Этому способствовало и то, что Пимен до поставления в новгородского владыку (20 ноября 1552 г.) был чернцем Кириллова монастыря, соседями которого и вкладчиками в течение 150 лет были Монастыревы. Во время чернечества Пимена в Кириллове монастыре там были Иов и Макарий Бурухины-Монасты- ревы. Этим объясняется, что потомки Семена Ив-ча Ц-ва стали
311
служить Софийскому дому и во время Новгородской ката«» строфы Никита Неудачин Ц-в был дворецким владыки Пимена.
В Новгородских летописях есть сообщение о том, что царь Иван после низложения Пимена „бояр его владычных и всех слуг повеле переимати и за приставы отдати“ (2 иЗновгородск. летописи, 399, 402—403. СПб. 1879). Циплятевы были настолько значительными людьми, что Курбский счел нужным помянуть их гибель. После рассказа о казни кн. Андр. Тулупова он писал: „и другой муж — Циплятев, нареченный Неудача, с роду княжат белозерских, со женою и со детками погублен, тако-ж был благонравен и искусен и богат зело; а были тые даны на послу- жение великие церкви Софии“ (Соч. I, 319—220).
Приведу еще одно свидетельство. В мае 1574 г. новгородский владыка Леонид (преемник Пимена) пожаловал своему боярину Вас. Григ. Фомину поместье, которое было за дворецким Никитой Неудачиным (А. И. I, № 190).
Близким родственником Неудачи Ц-ва был Григорий Семе* нов Ц-в, имевший поместье в Водской пятине и зачисленный в тысячники. Григ. Сем. служил царю, но имел связи с софья- нами, что видно из того, что в 1553 г. он был душеприкащиком софийского дворецкого Ив. Мих. Волуева. Едва ли можно сомневаться, что и Андрей и Тит Ц-вы, упомянутые в синодиках, были из семьи Неудачи Циплятевых.
Мусоргские были самой младшей линией рода М-вых. В 1550 г. из дворовых детей боярских Бежецкой пятины были зачислены в тысячники Ляпун и Третьяк Яновы дети Мусоргские. Повидимому, Андрей и Леонтий синодиков и есть эти тысячники. Выше было отмечено, что когда в 1571 г. Бежецкая и Обонежская пятины были взяты в опричнину, то тамошние помещики были выселены и получили поместья в других городах, в частности, в Нещерде. В книге по Нещерде мы находим в 1572 г. Макара Ляпунова М-ва, выселенного из Бежецкой пятины (Писц. кн. М. г. И, 547, 549). Повидимому, тысячники Ляпун и Третьяк и есть Андрей и Леонтий синодиков.
Морозовы (Поплевины) Владимир Васильевич и Михаил Яковлевич с сыном Иваном. В синодиках не упоминаются.
Кн. Курбский, расказывая о казни Шеиных и Салтыковых, писал: „В те же лета избиени от него мужие того же роду Морозовых, синклитским саном почтенные — Владимир единому имя было; много лет темницею от него мучен, а потом и погубил его“. Ниже, после перечисления других казненных, Курбский писал: „По тех же всех, уже предреченных, убиен от него муж в роде славный, его же был синклит избранные рады, Михаил Морозов с сыном Иоанном, аки в 80 летех, с младенцем и со другим юнейшим, ему же имя забых, и со женою его Евдокиею, яже была дщерь князя Дмитрия Бельского“ (Соч. I* 303,304). ‘
312
Относительно Вл. Морозова интересно сообщение Шлих- тинга, отчасти совпадающее с показанием Курбского: „Также и воеводу Владимира, который был ввергнут в тюрьму и д о л г о и строго содержался с польскими пленниками, тиран велит привести к себе в Александровской дворец и там подвергнуть пыткам. Он слышал, что тот по чувству сострадания велел похоронить утопленного в реке по приказу тирана слугу кя. Курбского. Тиран думал, что Владимир устроил какой-то заговор с Курбским и ложно обвинил его, наконец, в том, будто он неоднократно переписывался с Курбским. Этот несчастный умер от боли среди пыток; тело покойного тиран бросает в воду“ (Новое известие, 38).
Поплевины были старшей линией рода Морозовых, одного из немногих древнейших московских боярских родов, которые с успехом выдерживали борьбу за первые места в правительстве с княжатами.
Сыновья боярина Григорья Поплевы (умер в 1492 г.), Иван и Василий, были в боярах, а Яков был окольничим. В окольничих был единственный сын Ивана — Семен (умер в 1557 г.), а в боярах все 3 сына Василия: Григорий (умер в 1556 г.), казненный Василий и Петр (умер в 1579 г.). Боярином и дворецким был единственный сын Якова — казненный Михаил.
Служебная карьера Владимира Васильевича, по разрядам, следующая: в 1549 г. он упом. как окольничий, в 1551 г. он ставил город в Свияжске (П. С. Р.Л. XX, 480) и был там воеводой, в 1558 г. служил в Калуге, в 1562 г. пожалован в бояре и был на службе в Серпухове. В последний раз упом. как воевода в Полоцком походе 1563 г. В Новиковском списке думных людей показан выбывшим в 7072 г. (1563—1564 гг.).
В родословцах у Владимира Вас-ча показаны 2 сына — Иван и Федор, оба бездетные. О службе их ничего неизвестно, что в связи с их бездетностью дает основание полагать, что они или погибли вместе с отцом, или закоснели в опале отца и сошли со сцены.
Михаил Яковлевич, судя по его продолжительной карьере, был выдающимся военачальником. По разрядам и другим источникам известны следующие главные этапы его карьеры. На первой свадьбе царя Ивана (1547 г.) он был дружкой у новобрачной вел. княгини Анастасии. В следующем году он был назначен окольничим, а еще через год — боярином. Летом 1549 г. Мих. Як. с двоюродным братом Петром Васильевичем М-вым был полномочным послом в Польшу и заключил перемирив (П. С. Р. Л. XIII, 157). После возвращения из посольства М. Як. принимал участие во всех походах: в 1550 г. был в Коломне и в Рязани, в 1552 г. — в казанском походе с нарядом (начальником артиллерии), в 1553 г. — в Коломне, в 1554 г.— в походе на луговую черемису, в 1555 г. — в Коломне и на Туле, в 1556 г. — в Серпухове, в 1557 г. — в Калуге, в 1558 г.—
313
в Кашире, в 1559 г. — в Ливонском походе, а затем летом на береговой службе он был опять с нарядом, в 1560 г. с нарядом в походе к Алысту и Виляну, в 1562—1563 гг. — в Смоленске, в 1564 г. — наместником и воеводой в Юрьеве Ливонском и заключил перемирие со шведами (П. С. Р. Л. XIII, 178, 202, 206—208, 385, 396). В том же году он был в Вязьме, и в следующем году опять в Юрьеве. О его наместничестве в Юрьеве Тим. Тетерин в насмешку над ним писал, что царь, назначив его в Юрьев, не дал ему „ни пула“ доходов и, не доверяя ему, держал в заложниках его жену и детей (Курбский, Соч. I, 490). В 1569 г. М. Як. был в походе на выручку Избор- ска, захваченного Литвой (Синб. сб., 23), в 1572 г. — воеводой из Земщины против шведов, а затем в В. Новгороде; в 1573 г. участвовал во взятии Пайды, а затем в действиях против Колывани и Коловера (там же, 31—34, 36, 39). В апреле 1573 г. М. Як. М-в с кн. М. Воротынским и кн. Н. Одоевским был на береговой службе. За какую-то оплошность они подверглись опале и были казнены. См. Одоевский, Никита.
Если иметь в виду многолетнюю карьеру Мих. Як., то показание Курбского относительно преклонного возраста его, когда он был казнен, представляется весьма вероятным.
По родословцам у Мих. Як. было 3 сына: бездетные Иван и Федор и Иван Глухой. Иван старший уже начал служить и в 1570—1571 гг. упоминается на береговой службе (Синб. сб., 24—26, 28—29). Федор, видимо, был много моложе брата и еще не начал служить, когда его отец и брат Иван были казнены. Очевидно, к нему относится показание Курбского относительно „юнейшего“ сына, имя которого Курбский забыл.
В итоге после гибели Владимира Вас-ча и Михаила Яковлевича с сыновьями, изо всего рода Поплевиных пережили царя Ивана только 2 сына Петра Васильевича и младший сын Михаила Яковлевича — Иван Глухой, сыновья которого, Борис и Глеб, были боярами царей Михаила и Алексея.
Мосальская, княжна, „имя ей бог весть“.
Мосальский Тимофей, кн. В синодиках не упом. и в родословцах такого лица нет. Шлихтинг, называя его, видимо спутал имя и фамилию. См. Дымов Михаил.
Мостинины, ездок и Аграфена (М. Б.).
Мот я кины: Тимофей, Герасим, Акилина и 2 Анны Нащокины и Григорий.
Нащока Никитин М-н упом. около 1474 г. в одном акте Симонова монастыря как послух у Пушкиных в Московском уезде. В 1500 г. он был поезжанином на свадьбе кн. Вас. Холмского (Древн. Рос. Вив. XIII, 4). Его сыновья, Семен, Митя и Власий, в конце XV в. получили поместья в Водской пятине (Новг. писц. кн. III, 448). Позже М-ны появляются и в других уездах. Во второй половине века несколько М-ных и между ними Григорий имели поместья в Пскове. В Тетради дворовой по Боровску
314
записан Шемет Григорьев с сыновьями Шереметом и Алешкой. Ц]емет Григорьев М-н в 1551 г. был городничим в Смоленске (Древн. Разр. кн., 148), а в 1565 г. — поручителем по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 519). Иван Дмитриев М-н в 1571 г. был поручителем по кн. Мстиславском (там же, 566). Давид Игнатьев М-н имел поместье в Обонежской пятине и в 1583 г. был решеточным прикащиком в В. Новгороде (Временник. VI, 110).
На основании этого можно высказать предположение, что упомянутые в синодиках М-ны были новгородскими или псковскими жертвами событий 1570 г.
Мунтовы, см. Татищевы.
Муромцев инок Вассиан.
Кн. Курбский после рассказа о гибели архим. Печерского монастыря Корнилия писал: „Тогда вкупе убиен с ним другий мних, ученик того Корнилия, Васьян имянем, по наречению Муромцев; муж был ученый и искусный и во священных писаниях последователь" (Соч. I, 321).
После побега кн. Курбского гетман кн. Ал. Полубенский писал Як. Шаблыкину и Игн. Огибалову, жена которого, сын и сноха находились в плену в Литве, с просьбой разыскать книги кн. Андр. Курбского, которые остались в Юрьеве. Гетман предлагал им в обмен на пленных доставить книги и доспехи кн. Курбского, — „а будет, Яков, тут не допытаешься в Юрьеве Августинова жития, и ты бы велел списать у старца у Васьяна у Муромца в Печерском монастыре, да и явление чудес Авгу- стиновых, а писаны при конце" (там же, 496).
Мусоргские, см. Монастыревы.
М я ч к о в Иван (М. Б.).
Нагины, Петр и В авила. Быть может, следует читать — Ногины.
Назимов Максим (М. Б.).
Нарбеков Владимир (Тр. Серг. и М. Б.).
Нарбековы с конца XV в. были на поместьях в Бежецкой и Водской пятинах (Новг. писц. кн. III, 59; ср. Д. А. И. II, 17; Самоквасов, Арх. мат. II, 518).
Нахабин Беляй с племянником (Сп. Пр. и М. Б.).
Нащокины, см. Мотякины.
Н е б ы т о в Опас (М. Б.).
Нееловы, Алексей и Василий. Записаны среди новгородцев.
В 1545 г. в Бежецкой пятине сидели на поместьях Васюк Иванов Н-в и его братья Ширяй и Степан. В 1564 г. там же на отцовском поместье находились Василий, Андрей, Иван и Митька Васильевы Н-вы (Новг. писц. кн. VI, 319; Самоквасов. Арх. мат. II, 13). Возможно, что этот Васюк Иванов есть то же дицо, что дорогобуженин Вас. Иванов, который в 1550 г. был зачислен в тысячники. Тогда же в тысячники были зачислены
315
дорогобужане Васюк и Данила. Неизвестно, какой из них Ва- сильев был в 1556 г. дьяком Разбойного приказа (Акты Юшкова, 160), а в 1556- и 1559 гг. упом. как дьяк в походах с царем (Раз- ряды). Отмечу еще, что Денис и Василий Владимировы и Григорий Андреев Н-вы в 1565 г, были поручителями по Салтыковым (С. Гр. и Д. I, 514). *
Незнанов Юрий.
В архиве царя Ивана хранилось между прочим дело — „посылка в опричнину Юрья Незнанова с товарищи да пана Станислава да Аврама Едигеева“ (А. А. Э. I, 355). В чем состояло дело и кто был этот Юр. Незнанов, неизвестно.
Неклюдовы Федор и Алексей с женой.
Нелединские Ждан и инок „Нероцкого" монастыря Пимен записаны среди новгородцев.
Нелединские происходили из бежецких вотчинников, сильно размножившихся еще в XV в. и измельчавших. В конце XV в. несколько Н-ких было испомещено в В. Новгороде, где они были в большом количестве на поместьях и в XVI в.
Несвижский кн. Федор.
Кн. Несвижские выехали из Литвы в Москву в начале XVI в. Братья Данила Марамук и Ляпун Васильевичи Н-ие во второй четверти века не раз бывали в стратилатском чине, то есть полковыми воеводами, Иван Данилович Марамуков в 1559 г. был воеводой на году в Казани. Его брат Федор, записанный в синодике, в 1565 г. был воеводой в Смоленске и больше в разрядах не упоминается.
Нестеровы, серебреник Обида и новгородский подьячий Смирной.
Н е ч а й, конюх (М. Б.).
Нечаев Семен (М. Б.)с
Никита, холщевник, с женой, сыном и 2 дочерьми,
Никитин Будило, новгородский подьячий.
„ Никита.
Новосильцев Кирьяк. В М. Б. еще Невер.
В существующих (весьма неполных) родословиях Новосильцевых Кирьяка и Невера нет.
Н о г т е в (Ноготков) Оболенский, кн. Андрей.
Федор и Андрей Васильевичи Ноготковы в 1550 г. были зачислены в тысячники. В служебном отношении стояли очень не высоко. Федор совсем не упоминается в разрядах, а Андрей в 1556 г. на береговой службе был у государя на стану в сторожах, а в зимнем походе в Ливонию 1559 г. был головой в большом полку. Больше нигде не упоминается. По свидетельству родословцев старший сьп^ кн. Андрея, Михаил, бежал в Литву. Быть может, этим объясняются и небольшая служебная карьера, и казнь кн. Андрея.
Обернибесов Савелий (в М. Б. — Савва),
Оболенские кн, Никита и Андрей Черцые,
S16
Никита и Андрей Федоровичи Черного происходили из малоземельной и малозначительной отрасли кн. Оболенских. Их дед, Мих. Конст. Сухорук, в 1500 г. был испомещен в Дерев- скоЙ пятине (Новг. писц. кн. II, 882). Его два сына, Федор Черный и Василий, в 1550 г. были зачислены в тысячники. В родословцах у Федора Черного показано 2 бездетных сына: Никита и Андрей. Повидимому, они были казнены молодыми людьми, и их казнь позволительно поставить в связь с бегством в Литву кн. Юр. Ив. Горенского и казнью Петра Ивановича Горенского, которые приходились им по деду двоюродными братьями.
Еще кн. Оболенских см.: Горенский, Кашины, Курлятев, Ногтев, Овчинин, Репнин, Серебряной, Шевырев и Ярославов.
Оботуров Неждан, новгородский подьячий.
Образцовы: Григорий, Семен, Федор и Афанасий, и Андрей, записанный в другом месте. В М. Б. еще Михаил. Ср. Рогатово.
Первые 4 — из рода Жеребцовых-Синяго (род Кобылин), а Андрей, если это не ошибка, из другого рода (мелких переяславских вотчинников).
Игн. Бор. Образец Синяго служил кн. Андрею Васильевичу и в 1488 г. за сплетню („скоромолил“) был наказан (П. С. Р. Л. VI, 238). Его второй сын, Борис Игнатьевич, по свидетельству родословцев бежал в Литву, вероятно в начале XVI в. Третий сын, Роман Игнатьевич (в Тетради дворовой — по Можайску), известен как писец — в 1539 г. Вологды, в 1540 г. — Владимира и в 1542 г. — Старо дуба Ряполовского.
У Романа было 5 сыновей: Юрий, умерший бездетным в молодости, Григорий, Семен, Иван и Федор. Григорий и Семен служили по Можайску и в 1550 г. были зачислены в тысячники.
Григорий Романович в 1560 г. был головой в полках, в 1564 г. был в числе поручителей по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 497). В последний раз упом. в разрядах в 1567 г. как наместник в Почепе (Синб. сб., 18).
Семен Романович в 1560 г. был головой в полках, а в 1564 г. с братом Григорьем ручался по Шереметеве.
Про Ивана и Федора Романовичей родословцы говорят, что они служили кн. Владимиру Андреевичу. В 1549 г. они были у него на свадьбе дружками. Федор Р-ч на Земском соборе 1566 г. присутствовал в дворянах первой статьи (С. Гр. и Д. I, 550).
В следующем поколении Образцовых обращают на себя внимание показанные в родословцах бездетными следующие лица: Аф анасий и Никифор Григорьевичи, Замятия Семенович и Семен Федорович, дети казненных Григорья, Семена и Федора. Афанасий синодиков и есть Аф. Григорьевич,
317
казненный вместе с отцом. В синодике Чудова монастыря (обычном, а не опальных людей) в 40-х годах XVII в. записан род стольника Афанасья Григорьевича, внука Федора Романовича. В числе родичей записаны „убиенные": Григорий, Семен и Федор (Романовичи), Афанасий и Никифор (дети Г риг. Романовича), Авраам (вероятно — Замятия Семенович) и Семен (б. м. — Семен Федорович). Имея в виду неполноту синодиков опальных, можно думать на основании показания Чудовского синодика, что вместе с Григорьем, Семеном и Феодором Романовичами погибли и их дети, которые, как выше было сказано, в родословцах показаны бездетными.
О в чин и н Телепнев Оболенский, кн. Дмитрий Федорович. В синодиках не упоминается.
О нем кн. Курбский писал: „Паки убит от него тогда князь Дмитрий Овчинин, его же отец зде много лет страдал за него и умре ту (кн. Федор Васильевич Овчина Телепнев взят в 1527 г. в плен и умер в плену в Литве). Сие выслужил на сына! Бо еще во юношеском веку, аки лет двадесяти или мало более, заклан от самого его (т. е. царя) руки" (Соч. I, 278).
Шлихтинг рассказывает, что кн. Дм. О-н в ссоре с Ф. Басмановым упрекнул его в педерастии с царем и в злоупотреблении на этой почве своим фавором. Басманов пожаловался царю и „с этого уже времени тиран и начал помышлять о гибели Овчины". Несколько времени спустя, царь Иван, притворяясь милостивым, заставил Дм. О-на выпить большой кубок меда, а затем предложил ему пойти в винные погреба и выпить там, что понравится. Ничего не подозревавший кн. Дм. пошел в погреб, где был задушен по приказанию царя псарями. Царь Иван притворился, что ничего не знает, и на следующий день послал на дом к кн. Дмитрию слугу с приказанием явиться во дворец, что удивило его жену, которая ответила, что муж со вчерашнего дня не возвращался домой (Новое известие, 16—17). Весь этот рассказ Шлихтинга похож на придворные сплетни, что же касается „содомского греха" и афродитского блудотво- рения, то Курбский говорит об этом не раз. В рассказе Шлихтинга повидимому правильно, что смерть Дм. О-на произошла непосредственно перед учреждением опричнины (в 1563 г. Дм. О-н был еще жив, — см. А. Ю. № 115)е
О г а л и н ы Иван и Прокофий.
Огалины происходили из Ярославля и в Тетради дворовой по Ярославлю записаны Васюк, Иванец, Третьяк и Майко Грязного О-ны. Сын Третьяка Грязного, Василий Третьяков, был писцом — в 1574—1575 гг. на Двине, а в 1578 г. в Суздале. При взятии Ярославля в опричнину О-ны были выселены и некоторые из них получили поместья в Коломне (Писц. кн. М. г. I, 493, 542). Несколько О-ных с конца XV в. были на поместьях в Деревской пятине (Новг. писц. кн. И, 405)*
Оглобля, „Рубцов человек" (М. Б.).
318
Одоевский кн. Никита Романович. В синодиках не упоминается.
Кн. Курбский писал: „Потом убиен славный между кня- жаты русскими Михаил Воротынской и Никита княжа Одоевской, сродный его, со младенчики детками своими, один аки седьми лет, а другой юнейший, и со женою его; всеродне погублено их глаголют; его же была сестра предреченная Евдокия за братом царевым Владимиром", т. е. за кн. Владимиром Андреевичем. После рассказа о смерти кн. М. Воротынского Курбский говорит, что кн. Н. Одоевский подвергся мучениям, после которых его „наполы мертва и едва дышуща в темницу на Белоозеро повезти повелел" (Соч. I, 286, 289).
Никита Романович был много моложе своей сестры, и его карьера началась в 1565 г. воеводством в Дедилове. В 1571 г. он был воеводой из опричнины в Тарусе. В 1572 г. при отражении нападения хана Девлета (в августе) на Оке, на Сенькине перелазе, кн. Одоевский и Федор Шереметев были воеводами правой руки и, как сказано в разрядах, „Федор побежал и саадак с себя скинул, а дело было кн. Никите одному (т. е. ему одному пришлось биться), а дело было большое" (Синб. сб., 22, 28, 35). Очевидно, за это в конце 1572 г. кн. Никита был пожалован в бояре. В апреле 1573 г. он опять был на береговой службе в Тарусе. В чем состояла оплошность воевод разряды не говорят, а коротко сообщают: „И царь и в. князь положил опалу на бояр и воевод, на кн. Мих. Ив. Воротынского да на кн. Никиту Романовича Одоевского да на Михаила Яковлевича Морозова, велел их казнить смертною казнью" (Синб. сб., 39).
Относительно жены кн. Никиты сведений нет, а что касается его детей, то сообщение Курбского неверно. Старший сын кн. Никиты, Михаил, упом. в разрядах на разных службах в 1580—1589 гг. и умер в последнем десятилетии XVI в., а два другие сына, Иван Большой и Иван Меньшой, на много лет пережили старшего брата и при царе Михаиле были боярами.
Окороков Илья,
О к у н е в Шестой.
Окуневы были отраслью рода Линевых. Окунь Линев до конфискации земель новгородских бояр женился на дочери новгородца Як. Тютихина и получил в приданое вотчину в Водской пятине. После конфискации в. кн. Иван взял у Окуня приданую вотчину, но затем вернул ее ему, но не в вотчину, а в поместье (Новг. писц. кн. III, 190). Вероятно, сыном Окуня был с. б. Водской пятины Иван Андреев Окунев, который в 1550 г. был зачислен в тысячники. Брат тысячника Ивана, Шестой Андреев О-в, в 1566 г. был в числе поручителей по кн. М. Воротынском (С. Гр. и Д. I, 539). Поместья Шестого и Ивана Андреевых в Водской пятине в январе 1571 г. были отделены другим лицам (Самоквасов. Арх, мат., И, 46). Видимо Шестой О-в,
319
а может быть и его брат Иван погибли в Новгородском по= громе 1570 г.
О л я б ь е в Семен.
1 Олябей Емельянов в 1500 г. был дружкой на свадьбе кн. Вас. Холмского (Древн. Рос, Вивл. XIII, 3). Его сын Савин Михайлов Ол-в в 1537 г. был гонцом в Литву. Сыновья последнего, Иван, Михаил и Семен, в Тетради дворовой записаны по Боровску. Иван Савинов в 1550 г. был зачислен в тысячники. Его младший брат, Семен, был взят в дьяки и в 1557—1559 гг. упом. как дьяк в Москве, а в 1565 г. служил в Астрахани (Разряды).
Онуфрий, подьячий (М. Б.)в
\ Опалевы Иван, Немир, Анастасия и ездок Микула.
В 1545 г. в Бежецкой пятине сидели на отцовских поместьях Никита Семенов, Одежа Иванов и Замятия, Неустрой и Немир Михайловы. Никита Семенов О-в в 1550 г. был зачислен в тысячники. Замятия Михайлов, выселенный в начале в 1571 г. из Бежецкой пятины, взятой в опричнину, в сентябре того же года получил поместья в Себеже и Нещерде (Писц. кн. М. г. И, 542). Другие О-вы, выселенные из Бежецкой пятины, Иван Иванов, Илья и Федор Гавриловы получили поместья в Коломенском уезде и упом. в писц. книге 1578 г. (там же, 1,484—485).
Несомненно, что^все О-вы синодиков были новгородцами и погибли в погроме 1570 г.
Оплечуевы, Давид, Петр, Семен, Степан и городовой прикащик в Пскове Тимофей.
В писцовой книге Бежецкой пятины 1545 г. записаны на поместьях Андрей и Степан Истомины и Парфений, Семой, Третьяк и Юрий Некрасовы (Новг. писц. кн. VI, 99—102, 147—148, 399). В той же пятине в 1572 г. упом. быв. поместье Петра О-ва (Самоквасов. Арх. мат., 11,472). Все О-вы, несомненно, жертвы новгородских и псковских событий 1570 г.
О п у х т и н Никита (в Чуд. Никифор).
Орехов Василий (М. Б.).
Ошанин Василий (М. Б.).
О происхождении ростовцев Грязных и Ошаниных см. П. Садиков, Царь и опричник (Века. Истор. сб., I, 1924).
Василий Федорович О-н в 1550 г. зачислен в тысячники, в 1570 г. — ясельничий, в 1567 г. был писцом дворцовых сел в Верейском уезде. В 1571 г. он был как дворянин „в околь- ничьих место" в стану у государя в походе. В 1573 г. упом. как воевода у наряда в полках (Синб. сб., 27, 29). Подвергся опале, отозван в Москву и умер (?) около 1580 г. (см. ссылку П. Сади- кова (стр. 49) на Н. В. Вельяминова-Зернова, Исследование о Касимовских царях, И, 21. СПб., 1864).
О щ е р и н Никон (М. Б.).
Павлинов Иван. См. Плещеевы.
Павлов Григорий, новгородский подьячий.
320
П а л е х о в Матвей.
Вероятно, из новгородских помещиков. Ср. — в 1571 г* в Шелонской пятине на поместье Третьяк Александров П-в (Новг. писц. кн. V, 560).
Палицины: Акулина, старица кн. Евдокии Старицкой; новгородский подьячий Григорий с женой, неженатый новгородский подьячий Григорий Вежак; Иван с женой и с 2 сыновьями, Михаил Неклюд, Никита, Пятой, Ратман, Семен, Степан, Тимофей, Тутыш и Федор. В Кир. и М. Б. еще—Никифор с женой и 2 сыновьями и Матвей.
Род Палициных сильно разросся еще в XV в. и расселился по многим уездам. Родословие их, составленное в XVII в., неполно, недостоверно и содержит много грубых хронологиче- ских несообразностей (Библ. им. В. И. Ленина, Собр. Пискарева, № 6, 18, 30 гл.).
В родословии П-ных, напечатанном Лобановым-Ростовским (Русск. родословная книга, 2 изд.), подходящими по времени жизни лицами являются только: Семейка (Семен) Васильев, Михаил Федоров и Степан и Пятой Яковлевы.
Большое гнездо П-ных образовалось в В. Новгороде, где они были испомещены в конце XV в. (в Водской пятине — Федор и Семен Гневушев. Отрывок писц. книги Водской пятины, Киев). Некоторые из них служили подьячими в Новгородской избе, другие стали слугами Софийского дома. Так, в 1534 г. упом. с. б. новгородского владыки Василий П-н, который был послан в В оде кую пятину искоренять язычество (Д. А. И., I, 20). В 1550 г. Русин Дмитриев Деревской пятины и Русин Лихачев П-н Обонежской пятины были зачислены в тысячники.
Повидимому, большинство П-ных синодиков были жертвами Новгородского погрома.
Панковы (М. Б. — Панейковы) Петр и Иван.
Паю совы: Иван, Прокофий, Иванец Меньшой, Постник, Третьяк, Матвей, Григорий, Сурьянин, Андрей, Семен, Лаврентий и Вешняк.
В конце XV в. в В. Новгороде были испомещены сыновья ростовца Федора П-ва: Леонтий, Нечай, Иван Чернец, Гаврила и Иванец (Самоквасов. Арх. мат., I, 244) в Петровском Тихвинском и в Клинце в Спасском погостах, в Бежецкой пятине. В книгах 1551 г. упом. на отцовском поместье: Иван, Афанасий и недоросли Прокофий и Иванец Меньшой, сыновья Ильи Леонтьевича П-ва, а в книгах 1545 г. — Постник иТретьяк Нечаевы и Матвей, Гридя и Игнатий Сурьянин Иванцовы (Новг. писц. кн. VI, 635, 636,113, 115). Там же были на поместьях три Андрея: Андрей Первого Владимиров, Андрей Чернцов и Андрей Гаврилов. Последний был испомещен с братом Кушником в Спасском погосте (там же, VI, 117). Повидимому, этот Андрей и записан в синодиках. Нет сомнения, что и Вешняк, Лаврентий и Семен были из того же гнезда П-вых.
21 Проблемы источниковедения
321
Семен — Дмитриев, поместье которого в 1572 г. было отделено другим лицам (Самоквасов, Арх. мат. И, 206).
В 1550 г. в тысячники был зачислен Третьяк Иванов П-в, повидимому, то же лицо, что казненный Третьяк Нечаев П-в.
Гибель этих 11 Паюсовых следует приурочить к разгрому Новгорода в 1570 г.
Певцов Стефан (М. Б.).
Пелепелицины Иван Большой и Иван Меньшой.
В Тетради дворовой записаны по Костроме 16 Пелепелици- ных, среди которых Васюк, Никита, Меньшик и Иванец Григорьевы. Отец этих П-ных, Григорий Никитич, упом. в 1518 г. в Костроме как послух у одного акта Сабуровых (А. Ю. № 262). Иван (какой?) П-н в 1559 г. был поддатнем у рынды в походе (Древн. Разр. кн., 212). Иван Б. Григорьев в 1565 г. был поручителем по боярине Ив. П. Яковлеве (С. Гр. и Д. I, 510). Во вкладной книге Тр. Сергиева монастыря 13 октября 1572 г. записано: „по Иване Пелепелицыне Большом дал вкладу Спаса Нового монастыря архимандрит Васьян денег 20 рублев“ (Вкладн. книга 1673 г. в' Троицк, музее).
Перепечин Григорий.
В конце XV в. переяславцы Перепечины были испомещены в В. Новгороде (Новг. писц. кн. I, 229, 230, 234; III, 681, 843). В 1550 г. Алабыш и Леваш Колобовы П-ны из Шелонской пятины были зачислены в тысячники. (О них см. Д. А. И. 1,75,152.) Дмитрий Юрьев П-н в 1565 г. был поручителем по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 515). Следует отметить, что были митрополичьи слуги Перепечины, быть может одного происхождения с переяславцами.
Перфирьев Пятой.
Перфуров Русин (М. Б.).
Перфушков Васшшй (М. Б.).
Петровы, Василии и Иван. В М. Б., еще Федор.
О происхождении П.-Злобиных и П.-Соловых см. Лыковы. Прасковья Михайловна Петрова-Солово была второй женой царевича Ивана. По неизвестным" мотивам царь Иван развел сына с первой женой (Сабуровой), женил на Прасковье П.-Соло- вой, развел и с второй женой и постриг ее, а затем женил в третий раз на Елене Ивановне Шереметевой. Возможно, что указанные в синодиках П-вы погибли в связи с разводом и пострижением Прасковьи Михайловны.
За недостатком сведений о Петровых трудно сказать, какие именно лица упомянуты в синодиках. Михаил Тимофеев П-в в 1564 г. был поручителем по б. Ив. В. Шереметеве, а в 1563 г. поручителями по кн. Ан. Воротынском были Иван Соловой и Леонтий Тимофеевичи (С. Гр. и Д. I, 497, 483). Иван Тимофеев Соловой в 7083 г. (1574—1575 гг.) получил в Шелонской пятине поместье казненного незадолго перед тем окольничьего Вас. Умного Колычева (Самоквасов. Арх. мат., I, 68). В Тетради
322
дворовой по Рязани записаны Тимофей Петров (кажется, брат царицы Прасковьи) и его дети: Михаил, Иванец Соловой, Девка и Алешка (Александр). Василий Б. и Василий М. Григорьевичи Злобины в 1564 г. были поручителями по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 497).
Если Федор синодика М. Б. не ошибка, то можно указать из того же рода, в десятые по Кашире 1556 г., Федора и Гридю Звягиных детей П-ва (Мятлев. Тысячная книга, 184).
Пешковы, Третьяк, сын боярский новгородского архиепископа, с женой Варварой и 2 сыновьями: Алексеем и Степаном (Дружина); Важен с 2 сыновьями (М. Б.).
Все — из слуг Софийского дома. Петр Михайлов П-в, сын боярский архиепископа, в 1573 г. был убит на службе под Коловерью, и в марте того же года архиеп. Леонид отдал его поместье в Обонежской пятине его вдове Марфе Ивановне (урожд. Кутузовой) с сыновьями (А. И. I, № 186).
Пивов Немятой.
В Тетради дворовой по Ярославлю записаны Василий, Дмитрий и Роман Махайловичи П-вы. Все они были зачислены в тысячники, а последний с 1579 г. был думным дворянином. В роде этих Ярославских П-вых Немятой неизвестен. Был еще род П-вых — мелких вотчинников Кашинского уезда.
Пимен, новгородский архиепископ. В синодиках не упоминается.
Пимен Нелединской, инок Нередицкого (Спасопреобра- женского, возле Новгорода) монастыря.
Платюшкин Семен, с женой и 3 дочерьми. •
Плетников Павел (М. Б.).
Плещеевы, Алексей Басманов и его сын Петр, Захарий, два Ивана, Илья, Михаил и Григорий. Человек Басманова — Нехороший. В М. Б. еще его человек Внук и Андрей.
Кн. Курбский о Плещеевых не говорит, а Басманотых поминает несколько раз с большим раздражением и презрением. В рассказе о казни рязанцев кн. Курбский говорит о „кромешниках", ставивших город на Дону, „у них же был воев демонских воевода, любовник его (т. е. царя) Федор Басманов, еже последи зарезал рукою своею отца своего Алексея, преславного похлеб- ника, а по их языку мальяка, и губителя своего и святорусские земли". Ниже Курбский рассказывает, как Алексей Басманов с сыном (Федором) умолял царя погубить казанского епископа Германа Полева. Наконец, в Истории о в. князе московском Курбский еще раз упоминает о том, что царь Иван заставлял людей, „отрекшись от естества", убивать по его приказанию близких родственников, „яко и Басманова Федора принудил отца убити" (Соч. I, 305, 318, 349).
Басмановы принадлежали к одной из старших отраслей рода Плещеевых. Родоначальником их был Данила Андреевич Бас- ман Плещеев, о котором известно только то, что он был взят
21*
323
в плен под Оршей (1514 г.) и умер в плену в Литве* Его единственный сын Алексей был очень выдающимся воеводой своего времени. В разрядах он упоминается много раз с 154*4 г., когда он служил в Елатьме; за подвиги при взятии Казани он был пожалован в 1552 г. в окольничие, затем в конце 1555 г. был пожалован в бояре и продолжал принимать участие во всех походах ближайших лет. В последний раз он с сыном Федором упом. на службе в Рязани в октябре 1564 г. За удачное отраженье набега крымцев он и его сын Федор были награждены золотыми (Синб. сб., 7). О его действиях при взятии Казани см. П. С. Р. Л. XX, 525—526. В списке думных боярин Алексей Дан-ч показан выбывшим в 7077 г. (1568—1569 гг.). Казнен в 1569 г.
Федор Алексеевич начал службу в 1563 г., когда в Полоцком походе он „за государем ездил", т. е. был как бы адъютантом. В 1568 г. Федор был пожалован в крайние и участвовал в Ливонском походе, в 1569 г., как опричный воевода, был на береговой службе, в Калуге (Синб.^сб., 20—24). В синодиках Федор не упом., но это, конечно, еще не значит, что он умер своей смертью. Во вкладной книге Тр. Сергиева монастыря в 7079 г. (1570—1571 гг.) записано: „По Федоре Алексеевиче Басманове пожаловал государь царь... денег 100 рублев". Чем вызвана эта заботливость царя Ивана о душе Ф. Басманова, неизвестно. Ср. Федотов-Чеховский, Акты гражд. расправы, I, 266 — показание потомков Б-вых о смерти Алексея и Федора на Белоозере в опале, что противоречит синодику.
В большинстве родословцев у Алексея Даниловича показан один сын — Федор, но в действительности у него был еще сын Петр, который упом. в синодиках. Вероятно, ему было менее 15 лет, когда он был казнен, он не начал еще служить и потому не попал в родословцы. (В родословце кн. Ромодановского: „А у Алексея Басманова дети: Федор да Петр, бездетен". Моек. Ист. муз., Собр. Уварова, № 1506, л. 121 об.).
Прочие Плещеевы, упоминаемые в синодиках, казнены в разное время и без связи с Басмановыми. Из них самым значительным был Захарий Иванович Очин П-в.
Зах. Иванович начал службу в 1548 г., когда он был наместником во Мценске. В 1549 г. он был с отцом на службе в Козельске против татар, в 1550 г. зачислен в тысячники, в 1555 г. был воеводой в походе на шведов. В следующем году царь Иван женил его на астраханской царице Ельякши, в крещении— Ульяне, что имело, в связи с недавним завоеванием Астрахани, политическое значение (П. С. Р. Л. XX, 558). В 1560 г. он был воеводой в Ливонии и по оплошности, отмеченной летописями, потерпел поражение (там же, 617). Повидимому, к этому эпизоду относится хранившееся в царском архиве „дело Захарья Плещеева да Замятии Сабурова, как их громил ливонский магистр" (А. А. Э. I, 350). В 1563 г. Зах. Ив. был
Ж24
воеводой в остроге в Полоцке (Разряды и А. И. I, № 169) и в том же году пожалован в окольничие. В 1565 г. он был пожалован в бояре, но вызвал чем-то подозрения у царя Ивана и должен был дать по себе поручную запись (запись см. С. Гр. и Д. № 195). Тем не менее он продолжал служит и и в Ливонском походе 1568 г. был воеводой у царя „для посылок", а в 1569 г. как опричный воевода принимал участие в действиях против Изборска, захваченного Литвой, а после этого вернулся с царем в Александрову слободу (Синб. сб.. 20, 23, 24). Казнен в 1570 г. или 1571 г., после разгрома Новгорода. По родословцам Захарий Ив. не оставил потомства. В списке думных — выбыл в 1571 г.
Первый Иван синодиков, младший брат Захарья Ив-ча, в родословцах показанный тоже бездетным. Ив. Ив. Очин П-в в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1555 г. был в казанском походе, в 1556—1558 гг. был наместником в Чернигове, а затем на году в Казани; в 1560 г. — в Ливонском походе, в 1562 г. — в Смоленске, в 1564 г. опять на ливонском фронте, в походе под Озершце. После этого он, видимо, попал в опалу и больше не упоминается. В июле 1565 г. он позаботился о своей душе и дал Тр. Сергиеву монастырю вклад на вечное поминанье. Казнь Ивана вместе с братом Захарьем косвенно подтверждается тем, что в 1599 г. их младший брат, окольничий Никита Иванович, дал тому же монастырю по душам Захара и Ивана 100 руб.
Вторым Иваном синодиков (среди нескольких, живших в то время) является, повидимому, Иван Никитич Павлинов- П-в, который с братом Осипом ручался в 1566 г. по Зах. Ив. Очине. Иван и Осип Павлиновы ничем не известны и в родословцах показаны бездетными. Ср. выше Павлинов Иван, упом. в синодиках.
Михаил синодиков вызывает сомнения. За это время известны 2 Михаила: бездетный (по родословцам) Мих. Тимофеев, который в 1566 г. был поручителем по Зах» Ив. Очине (С. Гр. и Д. I, 560), и бездетный же Михаил Алексеевич Третьяков, брат казненного Ильи.
Илья Алексеевич Третьяков в 1550—1551 гг. держал в кор- мленье 2 года Нерехту (Боярская книга 1556 г., напечатанная Калачевым), в 1555 г. был на службе в Казани, в 1561 г. описывал дворцовые села на Белоозере, а в 1563 г. был поручителем по кн. Ал. Воротынском (С. Гр. и Д., I, 489). В 1564— 1566 гг. он был приставом у сосланного на Белоозеро кн, Мих. Воротынского (А. И. I, 333). В родословцах у Ильи показаны два бездетных сына: Иван и Тимофей.
Григорий синодиков — Гр. Семенович Красного. Он служил по Владимиру и в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1552 г, был писцом* в Рязанском уезде, в 1562 г. был посланник ом в Черкасы к кн, Темрюку (о его посольстве см. Р. И. Б. III,
325
188—189) и в том же году был поручителем по кн. Ив. Бель* ском (С. Гр. и Д., I, 476).
Подперихин Гаврила.
Поливово (?) Казарин.
Полонский Шарап. Вероятно, он — дьяк, чашник владыки (Ниж. Печ.), из новгородцев. В В. Новгороде с конца XV в. было на поместьях несколько П-ких. См., напр., Новг. писц. кн. I, 713; III, 174; IV, 124, 302, 305, 426; V, 21, 55, 56:; и другие.
Полугостев Третьяю
Полушкина Ксения с детьми: Исааком, Захаром,
Лукерьей (? Гликерьей) и Евдокией. В М. Б. еще—Данила.
Полянинов Роман.
Поповкины, псарь Ушатой и Некрас с сыном Истомой.
Постник, подьячий (М. Б.).
Потапов Иван.
Потяковы, Матрона, Иван, Никифор и Пинай с женой и сыном. В М. Б. еще Семен.
Прозоровские, кн. Василий, Александр и Михаил. В синодиках не упоминаются.
Кн. Курбский, перечисляя избитых ярославских князей, упоминает трех указанных Прозоровских. Ниже он говорит, что царь Иван принуждал людей отрекаться „от естества", т. е. от родственных чувств, и заставил Федора Басманова убить отца, а кн. Никиту Прозоровского — своего брата Василья (Соч. I, 284, 349).
По родословцам у Ивана Андреевича Лугвицы П-го было 3 сына: бездетный Василий, Александр, от которого пошли все последующие П-ие, и бездетный Никита.
Василий Иванович в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1554 г. был на году в Смоленске, в 1564—1566 гг. — наместником в Чернигове. На Земском соборе 1566 г. он присутствовал в дворянах первой статьи (С. Гр. и Д. I, 540). В последний раз упом. в 1567 г. — на службе в Полоцке (Синб. сб., 9, 10,15,19).
Александр Иванович был дворецким у кн. Юрья Васильевича, в 1550 г. зачислен в тысячники и был воеводой в^Мценске, в 1551 г. — наместником в Белеве, в 1554 г. — в Пронске, в 1555 г. — головой „в посылках" у царя в походе; в 1563 г. после взятия Полоцка оставлен там воеводой, в 1564 г. в передовом полку в походе на Лукомль, а затем в Полоцке, в 1565 г. в Полоцке же, а затем в Серпухове, где был и в 1566 г. В том же году присутствовал на Земском соборе, а позже не упоминается.
Михаил Федорович был женат на сестре кн. Андрея Мих-ча Курбского и приходился родным двоюродным братом указанным выше П-ким. В разрядах он упоминается в 1554 г. кай воевода на году в Василегороде, в 1556 г. в Казани, в 1558—■ 1559 гг. как наместник в Рыльске, в 1562 г. воеводой в литовском походе, а в 1565 г. в Свияжске.
326
Пронс кие, кн. Иван Иванович Турунтай и Василий Федорович Рыбин. В синодиках не упоминаются.
О смерти их рассказывает кн. Курбский: „Потом Иоанна, княжа Пронские, от роду великих князей Рязанских, мужа пре- старевшегося уже во днех и от младости его служаща не токмо ему, еще и отцу его много лет, и многажды гетманом великим бывша и синклитским саном почтенного“. Ив. Пронский на старости лет постригся, но царь извлек его „от чреды спасенья и в реце утопити повелел. И другого княжа Пронское Василия, глаголемого Рыбина, погубил“ (Соч. 1, 285). По сообщению Таубе и Крузе, Турунтай Пронский забит до смерти палками (41), а Василий Пронский обезглавлен (43).
Кн. Ив. Турунтай начал свою многолетнюю служебную карьеру при в. кн. Василье в 1532 г. воеводством в сторожевом полку в Нижнем Новгороде, в 1549 г. был пожалован в бояре и продолжал принимать участие почти во всех походах своего времени. В 1563 г. он был воеводой в Дорогобуже, в 1564 г. — в Вязьме, в 1565 г. командовал при взятии Озерищ, а затем был в Калуге и Коломне, в 1566 г. — опять в Коломне, в 1567 г. во Ржеве Владимирове. В последний раз упом. в разрядах в 1568 г. в Вязьме (Синб. сб., 21). По списку думных людей умер в 1569 г. В это время ему было более 60 лет и за ним было не менее 36 лет ратной службы. Его вдова и единственная дочь умерли в 1570 г. и погребены в Новодевичьем монастыре (Древн. Рос. Вивл. XIV, ЗЭ1).
Василий Федорович Рыбин в разрядах не упоминается, что показывает, что по службе он стбял невысоко. Казнь В. Ф. Пронского подтверждается родословцами.
Прохновы, Борис, жена Василья и ее сын и дочь.
Вероятно, из новгородцев (Прохно — новгородская форма имени Прокофий).
Пуговка Афанасий, псковский подьячий.
Пузиков Иван. ^
Путилов Авксентий (М. Б.). Вир Кир Б. — человек Пу- тилцова.
Путятина Ждана жена, „имя ей господи веси“. В М. Б.— сам Ждан.
Пушкины Никифор и Докучай.
В разрядах в походе 1567 г. против Литвы упомянуты подрынды у рогатины у царевича Ивана — Никифорка и Докуня Третьковы дети Пушкина (Древн. Рос. Вивл. XIII, 393). В Бархатной книге и в родословцах не показаны. Вероятно, это дети Третьяка Ивановича Курчева-Пушкина.
Репнин кн. Михаил.
По известному рассказу кн. Курбского (ср. поэму гр. Алексея Толстого), кн. Михаил Петрович Р-н был убит за отказ надеть маску и скоморошничать на пиру. Царь Иван, „ярости исполнився, отогнал его от очей своих“, а через несколько дней
327
велел убить, что и было сделано в церкви во время всенощной (Соч. I, 278, 279).
Кн. Михаил в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1549 и 1550 гг. был рындой, в 1553 г. — воеводой в Одоеве, а затем на Нугре, в 1556 г. в чине стольника был головой в полках, в 1557 г. — воеводой в Карачеве и Курске, в 1558 г. — в Литовском походе в Ракоборе, в 1559 г. пожалован в бояре и был с царем на берегу, в 1560 г. — в Ливонском походе, в 1563 г.— в походе на Полоцк, а затем — на Луках Великих. В родословцах кн. Михаил и его брат Юрий показаны бездетными.
Резанцев Иван (М. Б.).
Ржевский Иван.
Сбивчивое и неполное родословие Р-ких не дает возможности сказать, какой Иван Р-кий упом. в синодиках. Наиболее вероятным представляется Иван Воин Константинович, внук Химы Р-го. Иван Воин в 1571 г. был наместником в Ряжске, а в 1574 г. служил в Мценске. Из современников казненного Ивана следует отметить двух выдающихся Р-ких: Матвея Дьяка Ивановича (часто упом. в летописях и разрядах; в 1578 г. взят в плен в Полоцке) и Никиту Григорьевича. Последний в 1564 г. был поручителем по Ив. В. Шереметеве, а Матвей Дьяк — в 1563 г. по кн. Ал. Воротынском, а в 1564 г. — по Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 497, 489, 502).
Рогатой Михаил Образцов.
Роман, солотчинский архимандрит. В М. Б. — Палицин Роман.
Когда именно Роман был архимандритом Солотчинского монастыря, неизвестно. По спискам Строева в Солотчинском монастыре были: в 1567 г. — Аввакум, в 1570 г. — Исаак, в 1572—1573 гг. — Вассиан, в 1577—1580 гг. — Пимен (Строев. Списки иерархов, 421. СПб. 1877).
Романов Михаил.
Ростовские князья.
В синодиках далеко не полный перечень казненных. В разных местах записаны следующие лица: Андрей Катырев (в Сп. Пр. после заголовка: „по городом“); Василий Темкин с сыном Иваном; Евфросинья, жена Никиты Лобанова; Андрей Бычков с матерью, женой, сыном и дочерью; Василий Волк Ростовский; Федор, Осип и Григорий Хохолковы (в Кир.— Федор и Осип Ивановы Хохолковы); в Тр. С. еще Иван Бахтиаров, но это ошибка. Ив. Ф. Немой Бахтиаров пережил царя Ивана и 11 июня 1587 г. дал Троицкому монастырю 50 р., и за этот вклад погребен у Троицы.
Кн. Курбский о казни Ростовских дает неполные сведения: „Паки побиени от него тогда же княжата Ростовские Семен, Андрей и Василий и друзии с ними“, а затем сообщает, что Василий Темкин с сыном „разсеканы от кромешников его,
328
катов избранных, за повелением его" (Соч. I» 283), По свидетельству Штадена Вас. Темкин был утоплен (Записки, 96—97).
Шлихтинг, вообще достоверный, о казни кн. Ростовских сообщает крайне преувеличенные, почти фантастические сведения. С яркими подробностями он говорит о казни кн. Ростовского, жившего в Нижнем Новгороде (очевидно, речь идет о кн. Андрее Катыреве), а затем пишет: „Вслед затем он умертвил весь род Ростовского, более 50 человек. Везде, где только он мог выловить свойственника или родственника его, он тотчас после самого тщательного розыска приказывал убить их. Из семейства Ростовских было приблизительно 60 человек, кото-
?ых всех он уничтожил до полного истребения“ (стр. 20—21).
лавная ложь этого сообщения в том, что Андр. Катырев был казнен не первым и вообще Ростовские погибли в разное время и по разным случаям.
Иван Андреевич Катырь Хохолков в 1532—1543 гг. был боярином. Его братья Юрий и Александр тоже были боярами. Казненный Андрей Иванович Катырев в списке думных людей показан боярином в 1557—1567 гг. Погиб, повидимому, в начале опричнины. В родословцах показан без потомства, что подозрительно и дает основание предполагать, что с ним погибла его семья. В деле 1554 г. о попытке бежать в Литву кн. Никиты Семеновича Лобанова и боярина Сем. Вас. Звяги Ростовского последний дал показание, что „с ним ехати хотели князь Андрей Катырев Ростовский и иные такие же полоумы, Ростовские князья Лобановы и Приимковы" (интересные подробности этого дела см. Летописец русский, 12—14 — Чт. Общ. Ист. и Др. 1895). Намек на причины казни Андрея Катырева можно видеть в одном деле царского архива: „дело князя Андрея Катырева с воеводами Юрьевскими, как приходил маистр ливонской к Юрьеву" (А. А. Э. 1, 390). По разрядам известны следующие службы Андр. Катырева: 1553 г. — воевода в Рыльске, 1555 г. голрва для посылок у царя в походе, 1556 г. — воевода в Белеве, а затем у царя в посылках, 1557 г. пожалован в бояре, в последний раз упом. в 1565 г. на службе в Свияжске (Синб. сб., 8—9).
Семен Васильевич Звяга в синодике не упоминается, но несомненно, что о нем говорил кн. Курбский. По разрядам Сем. Вас. в 1543 г. был воеводой в Галиче, в 1547 г. — во Владимире, в 1548 г. — в походе к Нижнему. Летом 1553 г. он был пожалован в бояре, а через год после этого за сношения с Литвой и намерение отъехать был приговорен к смерти, но по ходатайству митрополита сослан на Белоозеро (Летописец русский, 12—14). Тогда же он был наверное лишен боярства. В Бархатной книге о нем сказано, что он „для отъезда литовского был в опале, боярство у него отнято". Долго ли он был Э ссылке, неизвестно, но веской 1565 г. он был воеводой
329
в Нижнем (Разряды). Перед этим, в 1563 г., его попытка бежать каким-то образом связывалась с делом кн. Владимира Андреевича. В 174 ящике царского архива хранилось дело: „отъезд и пытка во княже Семенове деле Ростовского", а в описи об этом деле отмечено: „взят ко государю во княж Володимирове деле Андреевича, 7071 июля в 20 день" (А. А. Э. I, № 289). В родословцах у Семена Звяги и его родного дяди Ивана Александровича детей не показано.
Василий Иванович Темкин был младшим братом боярина Юрия Ивановича (1549—1561 гг.). Василий служил кн. Владимиру Андреевичу и был у него боярином (1555—1559 гг. Древн. Разр. кн. 8, 209). В разрядах упом. в 1543 г. как наместник в Рязани. При учреждении опричнины царь Иван распустил двор кн. Владимира Андреевича, а его бояр и слуг взял „в свое имя", и в 1570 г. кн. Василий упоминается как опричный боярин на береговой службе (Синб. сб., 25). По родословцам у Василия было 2 сына: Иван, казненный и не оставивший потомства, и Михаил, переживший царя Ивана и в 1602 г. бывший воеводой в Кореле. Очевидно, во время казни отца и брата Михаил был малолетним. По родословцам у боярина Юрья Ивановича было 2 сына: Дмитрий и Иван (племянники казненного Василия), но потомства у них не показано. А. Титов сообщает, что по местным ростовским преданьям (из рукописи Артынова) Дмитрий и Иван были замучены в опричнине.
Евфросинья синодиков — жена Никиты Семеновича Лобанова, который в 1554 г. намеревался бежать в Литву. О службах Никиты нет никаких указаний. Был ли он казнен, неизвестно. Отмечу, что в родословцах он показан бездетным.
Андрей Матвеевич Волох Бычков в 1562 г. имел поместье в Бежецкой пятине (Новг. писц. кн. VI, 874). В ноябре 1570 г. упом. на поместье в Водской пятине (Самоквасов. Арх. мат. II, 26). О службе его ничего неизвестно. В родословцах показан бездетным.
Василий Васильевич Волк Приимков в 1558—1560 гг.—голова в полках в Ливонских походах, участник взятия Тарваса. В 1563 г. воевода в Мценске, а в сентябре 1565 г. назначен в Волхов (Синб. сб., 3, 15). В родословцах показан бездетным.
Из Приимковых в синодиках не упоминаются Иван и Осип Федоровичи Гвоздевы. Об убийстве Ив. Ф. Гвоздева (участника взятия Астрахани) Таубе и Крузе сообщают: „затем велел он (врачу Бомелию) дать яд своему гофмаршалу кн. Ивану Гвоздеву Ростовскому (стр. 54). Относительно Осипа Гвоздева, попавшего будто бы в милость к царю Ивану благодаря шутовству, Гваньини сообщает, что за неудачную застольную шутку он был облит царем Иваном горячими щами, а затем с презреньем убит ударом ножа (Карамзин, Ист. Гос. Рос. IX, 97, прим. 322).
330
Сообщение синодиков о Федоре и Осипе Ивановичах Хохолковых и о Григорие Хохолкове, видимо, неточно. Кн. Осипа среди Хохолковых в родословцах нет совсем. Не есть ли это Осип Федорович Гвоздев? В родословцах показаны: Федор Иванович Буйносов Хохолков, отъехавший будто бы в Литву, а у него два бездетных брата: Семен и Григорий. Весьма вероятно, что Федор и Григорий синодиков и есть эти лица, казненные за попытку бежать. О их службах ничего не известно.
В общем кн. Ростовские сильно пострадали от казней, но не менее полусотни пережило царя Ивана.
Ростовцевы Ирина и Мамельфа. В М. Б. еще Богдан.
Вероятно, жертвы новгородского погрома. Много Ростовцевых было на поместьях в Бежецкой пятине. См., напр., Новг. писц. кн. VI, 447, 769, 975. Петр Федоров P-в в 1565 г. был послухом у поручной записи по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 523).
Ростопчины Иван Третьяк и Григорий. В некоторых синодиках особо записаны Иван и „брат“ его Молчан. В М. Б.—- Иван, Иван и Григорий.
Иван Р-н, вероятно Ив. Третьяк, в 1563 г. был поддатнем у топоров с государем в Полоцком походе.
В Бежецкой пятине в 1564 г. были на поместьях: Иван и Другиня Третьяковы с детьми йГ с племянниками, с Сухим и Иваном Субботиными детьми Р-ми (Новг. писц. кн. VI, 948).
Близкие родственники этих Р-ных, Матвей Игнатьев и Меньшой Константинов в 1571 г. были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 570). У Меньшого Константинова была вотчина в Дмитрове, 2/з СЦ* Татищева, в Повельском стану, к которой он прикупил в 1559 г. деревню Петрову Протасову, а в 1561 г. — 73 сц. Татищева. В 1573 г. он дал всю эту вотчину Тр. Сергиеву монастырю.
Герасим Молчан Игнатьеве 1560 г. был писцом Балахны и Гороховца. В кормовой книге Иосифова Волоколамского монастыря записано несколько вкладов Р-ных. Федор и Иван Герасимовы Молчановы дали (когда?) полсельца Полухтина в Твери. Истома, в иноках Иоаким, Игнатьев дал в 1570 г. 50 руб. Истома и Молчан дали по своем отце Игнатье Степановиче 50 руб. Брат Игнатья, Василий Степанов, дал по своем отце, иноке Семионе, и по брате, иноке Зосиме, свою куплю сц. Иевлево, в Клинском уезде (Моек. Ист. музей. Епарх. собр. № 419, лл. 46 об., 60, 33, 143, 147 об.).
Таким образом Матвей Игнатьев, ручавшийся по кн. Мстиславском, был родным братом казненного Герасима Молчана,а последний был братом, вероятно двоюродным, казненного Ивана.
Рубце в Григорий и его человек Оглобля Q/I. Б.).
Румянцевы, Кузьма, Анна, Ирина, Ефимья с сыном Алексеем и дочерью Прасковьей. Кузьма в синодиках записан непосредственно после Н, Фуникова и дьяков: Вас, Степанова,
331
Ив. Булгакова и Гр. Шапкина. Кроме того, — в Кир. „Третьяка, дважды, люди Румянцевы“. Яснее в Сп. Пр. „Козьминых людей Румянцова двух Третьяков да племянника Козьмина Третьяка“,
Кузьма Васильев P-в на Земском соборе 1566 г. упом. как дьяк (С. Гр. и Д. I, 553). В 1569 г. он был дьяком в В. Новгороде (П.С.Р.Л. III , 163; Сб. Р. Ист. Общ., т. 129, стр. 123—124).
Кузьма происходил, вероятно, из тех Румянцевых, которые с начала XV в. и в XVI в. имели вотчины в Дмитрове и в Московском уезде (в волости Воре, где ныне существует с. Румянцево). В Тетради дворовой записаны по Дмитрову Иван Федоров и Меньшик Юрьев. Иван Федоров в 1562 г. был поручителем по кн. Бельском (С. Гр. и Д. I, 476).
Кузьма Р. казнен одновременно с Ив. М. Висковатым и другими (см. Висковатый и Шапкин).
Рунов Гаврила.
Русинов Леонтий, инок, митрополичий старец.
Рюмин Семен Небогатой, новгородский подьячий.
Рязанцевы, Иван, Суббота с женой и 2 дочерьми, и новгородский подьячий Петеля (Петр) с женой и сыном Карпом.
Все — новгородцы. Иван Дмитриев P-в в 1545 г. имел поместье в Бежецкой пятине (Новг. писц. кн. VI, 434).
Ряполовский кн. Дмитрий Иванович Хилков. В синодиках не упоминается.
О кн. Дм. Хилкове кн. Курбский писал: „Тогда в те же лета, або пред тем еще мало, убит за повелением его княжа Ряпо- ловское Дмитрий, муж в разуме многом и зело храбр, искусен же и свидетельствован от младости своей в богатырских вещах, бо немало, яко всем тамо ведомо, выиграл битв над безбожными измаильтяны, аж на дикое поле за ними далеко ходяще. Се выслужил! Главою заплатил. От жены и детей оторвал и внезапу смерти предати повелел“ (Соч. I, 282).
Дм. Ив. Хилков в 1543 г. был воеводой в Гороховце, в 1546 г. — наместником в Рязани, в 1547 г. воеводой в Василе- городе, в 1550 г. зачислен в тысячники и был в Мещере, там же и в Свияжске он был в 1551 г., в 1552 г. в Коломне, а затем в Казанском походе, в 1553 г. — опять в Коломне, в 1556 г.— в Кашире, в 1557 г. — в Калуге, в 1558 г. — на году в Чебоксарах и после этой службы пожалован в бояре. В 1560—1562 гг. он был в Юрьеве Ливонском. По Новиковскому списку — „выбыл“ в 7072 г. (1563—1564 гг.).
Его поместье в Твери см. Писц. кн. М. г. И, 55.
- Р я с и н Федор.
В нескольких троицких актах третьей четверти XV в. в Бежецке упом. вотчинник Ив. Мих. Ряса Рылов. Потомки его писались Рясиными и Рыловыми. Иван Петров Рясин на Земском соборе 1566 г. был в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д. I, 550). Федора Рясина синодиков с большой вероятностью можно отождествить с конюшенным дьяком Федором Рыловым, который
432
сопровождал царя Ивана в ливонских походах 1559 и 1563 гг. (Древн. Разр. кн., 212, 235).
Сабуровы Никита и Семен.
Кн. Курбский рассказывает о казни Тимофея Замятии Ивановича, который в синодиках не упоминается: „Потом убиен от него муж велика роду и храбрый зело, со женою и со единочадным сыном своим, еще в отроческом веку, аки в пяти или в шести летех, младенческом. А был той человек роду великих Сабуровых, а наречение ему было Замятия. Его-то отца (т. е. Замятии) сестра единоутробная была за отцем его (т. е. за вел. кн. Васильем Ивановичем), Соломонида, преподобная мученица" (Соч. I, 304).
По разрядам известны следующие службы Замятии: в 1556 г. — рында с рогатиной в походе царя в Серпухов, а затем воевода в Михайлове, в 1558 г.—в Пронске, в 1560 и 1562 гг.—в Ливонском походе, в 1563 г.—в Себеже, в 1564 г.— в Калуге, а затем — в походе к Лукам Великим, в феврале 1569 г.— с кн. П. Серебряным в Брянске. В одном частном родословце, вероятно принадлежавшем кому-либо из Сабуровых, более полном, чем все другие родословия С-вых, и содержащем много интересных подробностей, сказано: „А у первого сына Юрьева Константиновича, у Ивана, три сына: 1 — Федор, 2 — Андрей бездетен, 3 — Замятия бездетен, казнил его царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии в 9 году (т. е. в 7079 г.), посадил его в Волхов" (ГАФКЭ, Рукопись б. Арх. Мин. ин. дел № 27, содержащая краткие выписки из летописей, а в конце родословия Яновых, Сабуровых и Годуновых). Это показание родословца следует сопоставить с рассказом Второй новгородской летописи о том, как царь Иван через год после погрома Новгорода (1570 г.) был опять в Новгороде и праздновал победу над крымским ханом. Без связи с этим рассказом летописец эпически прибавляет: „Да того же лета царь православ* ный многих своих детей боярских метал в Волхов реку с каме нием, топил" (Новгор. летописи, 119—120. СПб. 1879 г.). f*
Никита и Семен синодиков происходили из другой ветви С-вых. Указанный выше родословец говорит: „А у пятого сына Семенова Ивановича Вислоухова, у Бориса, 5 сынов: 1 — Никита бездетен, 2 — Иван бездетен, 3 — Василий бездетен, убили их татаровя казанские в 42-м году (1534 г.), а были они на службе с дядею своим с Михаилом Сабуровым; 4Г сын Семен, бездетен, 5—Василий, боярин был у царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии". В Бархатной книге у Бориса только 3 сына: бездетный Никита, Василий и Семен, на поместьях в Новгороде.
Никита и Семен Борисовичи не упом. ни в разрядах, ни в Тетради дворовой, ни в тысячниках, из чего можно заключить, что по службе они стояли не высоко. Когда они были казнены, неизвестно.
Сабуров ы-Д о л г о в о. В синодиках не упоминаются.
333
Кн. Курбский о них пишет: „Сабуровых же других, глаголемых Долгих, а воистинну великих в мужестве и храбрости, и других Сарыхозиных, всеродне погубити повелел. Абие ведено их, глаголют, вкупе 80 душ со женами и с детьми, яко и младенцы, у сосцов сущие, в немотствующем еще веку, на материных руках играющиеся, ко посечению носимы“ (Соч. I, 307).
Родословие Долгово-С-вых (см., напр., 78 глава родословца кн. С. Ромодановского в Моек. Ист. муз., Собр. Уварова, № 570) настолько недостоверно, что нет возможности выяснить, кто из этого рода жил в третьей четверти века и в каких родственных отношениях находились известные по актам и большей частью не упоминаемые в родословии лица.
. Родобые гнезда Д-во-С-х находились в Костроме и Ярославле. В Тетради дворовой по Ярославлю записаны Богдан и Пятой Ивановы дети Шемякины. Их отец, Иван Шемяка, в 1538 г. был городовым прикащиком в Ярославле (Истор. акты Яросл. Спасск. монастыря, I, 12). Там же в 1556 г. губным старостой был Федор Федоров, а в 1557 г. выборным городовым старостой — Яков Петров (там же, 25, 27, 30). В 1550 г. были зачислены в тысячники — торопчане Андрей и Постник Дмитриевы и из Водской пятины — Константин Федоров. Семейка Иванов Д-во-С-в на Земском соборе 1566 г. был в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д. I, 552). Богдан Иванов Шемякин, записанный в Тетради дворовой, в 1565 г. был поручителем по Льве Салтыкове (там же, I, 515).
Когда Ярославль был взят в опричнину, то среди других лиц из Ярославского уезда были выселены: Богдан и Пятой Шемякины, Иван, Севастьян, Каюр (Федоров) и Иван и Никита Андреевы. Последним удалось в 1587 г. вернуться в Ярославль и получить обратно свою старинную вотчину, с. Гавшинское (Сухотин. Земельные пожалования при Владиславе, стр. 1—5, 30). В царском архиве хранилось между прочим „дело Андрюшки Каюрова сына Сабурова“ 217 ящик (А. А. Э. I, 353). О Сарыхозиных см. ниже.
Савуровы (Сауровы), Алексей и человек его Козьма и Сарыч. В М. Б. — еще Андрей Савуров с женой и сыном Лазарем.
В царском архиве хранились „привод и опрос Алешки Сабурова (следует: Савурова) и человека его Куземки Литвинова, как поймали их в Новегороде и привели к Москве“ (А. А. Э. 1,355). В синодиках после Ал. Савурова записан Козьма, очевидно, его человек К. Литвинов.
Саввин Варлаам, москвитин.
Салтан, конюх.
Салтыковы Никита и Федор.
Кн. Курбский после Андр. Шеина и Влад. Морозова говорит о казни оружничего Льва Андреевича С-ва „с четырмя або
334
с пятьма сынами, еще во юношеском веку цветущими. Ныне, последи, слышах о Петре Морозове, аки жив есть; такоже и Львовы дети не все погублены: нецыя оставил живы, глаголют“ (Соч. I, 303).
Таубе и Крузе в своем Послании говорят о Салтыковых: „Льва Салтыкова, ближайшего советника, послал он в Троицкий монастырь, а затем приказал казнить. Федора Салтыкова, своего кравчего, приказал он избить кнутом и держать до самой смерти в тюрьме“ (стр. 54).
Никита синодиков был сыном Евфимия (Еупла) Худяка Игнатьевича С-ва. В разрядах он упом. только раз — в 1569 г. как воевода в Новосили (Синб. сб., 22).
Федоров в родословцах двое: Федор Воронко Андреевич, старший брат Льва, показанный бездетным, и Федор Игнатьевич, младший брат Худяка и родной дядя казненного Никиты. Федор Воронко нигде не упоминается и умер в молодости, до опричнины.
Федор Игнатьевич упомянут в 1547 г. как молодой сын боярский „с короваем“ на свадьбе царя Ивана. В 1551 г. он был воеводой в Туле, в 1556 г. — в Казани, в 1559 г. — воеводой сторожевого полка в Ливонском походе, в 1562 г. — воеводой передового полка в походе против Литвы из Юрьева Ливонского, и в 1563 г. — на Луках Великих. Был ли он действительно кравчим и когда погиб, неизвестно.
Лев Андреевич приходился двоюродным братом Федору Игнатьевичу и вместе с ним в 1547 г. был „с короваем“ на свадьбе царя Ивана. В 1549 г., уже в чине оружничего, он был воеводой в походе под Казань, в 1550 г. в походе с царем с Коломны против крымцев, в 1553 г, — опять в Коломне, в 1554 г. в чине окольничего и оружничего — в походе на луговую черемису, в 1555 г. — в кровопролитном бою с крымцами на Судбищах командовал большим полком, в 1556 г. — на береговой службе в Тарусе, в11557 г. — в Коломне, в 1559 г. опять на берегу, в 1562 г. пожалован в бояре и участвовал в Полоцком походе 1563 г., в 1565 г. был воеводой в Полоцке, в 1567 г.— в Смоленске, наконец, в сентябре 1570 г. — с царем на Туле (Разряды и Синб. сб., 19,26). Еще раньше, в 1565 г., Лев Андреевич с детьми, Михайлом и Иваном, был принужден дать по себе поручную запись (см. запись — С. Гр. и Д. I, № 185), теперь на службе в Туле он впал в немилость и более не получал никаких назначений. Оружничий Лев Андреевич С-в в списке думных показан выбывшим в 1564 г.
Что касается детей Льва Андреевича, то в родословцах их показано только три: Владимир, Михаил и Иван Старый.Владимир в 1570 г. был рындой, а затем упом. в 1574—1577 гг. как воевода. Таким образом он несомненно пережил отца и умер бездетным после 1577 г. Михаил умер бездетным до катастрофы, постигшей его отца. Во вкладной книге Тр. Сергиева монастыря
335
записано, что в апреле 1568 г. Лев Андреевич дал на вечное поминанье по своем сыне 50 руб. Иван Старый был жив в 1578 г. и владел старинной вотчиной, с. Салтыковым, в Коломне (Писц. кн. М. г. I, 458).
Сарыхозины. В синодиках не упоминаются.
Марк С-н бежал в Литву с Тим. Тетериным (см. их письмо боярину М. Як. Морозову. — Курбский. Сочинения I, 489—490). В связи с этим Сарыхозины, как говорит Курбский, были погублены „всеродне“ (там же, 307).
В 10 вер. от Юрьева Польского есть с. Сарыхозино (ныне — Сорогужино) — вероятная вотчина С-ных, выехавших из Орды к в. кн. московскому и принявших крещение. В конце XV в. в Деревской пятине получили крупные поместья — Гордий Семенов и Александр Микулин С-ны (Новг. писц. кн. II, 144, 153, 198—207). Гордий Семенов перед 1523 г. держал в кор- мленье Боровичи и Волочек Держков, в В. Новгороде (Акты Юшкова, 99). Потомками этих С-ных были Лучанин Русинов и Тулунбек Шарапов, которые, имея поместья в Деревской пятине, в 1550 г. были зачислены в тысячники. В писцовой книге Бежецкой пятины 1582 г. упом. бывшие поместья Сергея Шарапова и Дмитрия С-ных.
Сатины, Алексей, Андрей и Федор. В синодиках не упоминаются.
О их казни сообщает кн. Курбский и ставит ее в связь с тем, что их сестра (Анастасия) была замужем за Алексеем Адашевым (Соч. I, 278). Указанные Сатины были сыновьями Захара Постника Андреевича, который в 1520 г. был писцом Переяславля, а в 1537—1538 гг. — в Звенигороде. На свадьбе царя Ивана в 1547 г. упоминаются Никита, Федор и Алексей Постниковы С-ны. Алексей в 1543 г. был поручителем по кн. Ив. Пронском (С. Гр. и Д. I, 458), а в 1550 г., служа по Угличу, был зачислен в тысячники. В 1560 г. он упом. в разрядах как воевода в Мценске. В обыкновенном синодике Чудова монастыря (Публ. библ., Собрание Толстого, I от. № 140, л. 343 об.) в роде Сатиных показаны убиенными — Алексей, Варвара, Андрей, Иван, Неронтий, Макарий и Ферапонт.
Свиязевы, Антон, Третьяк и Федор.
В царском архиве хранилось „дело новгородское на подьячих на Антона Свиязева с товарищи, что прислано из Новгорода по Павлове сказке Петрова с Васильем Степановым" (А. А. Э. I, 355). О дьяке Вас. Степанове см. ниже.
В конце XV в. в Деревской пятине были испомещены люди новгородского боярина Ив. Петрова: Иван Писк Дмитриев, Карп, Иван Пуляй и Измалка Васильевы дети Св-вы (Новг. писц. кн. I, 303; II, 752). Из этого рода происходил новгородский подьячий Григорий С-в, который упом. в В. Новгороде в 1556 г. (Д. А. И. I, 183; ср. Новг. писц. кн. V, 320). Сын Григория, Захарий, в 1580 г. был московским подьячим при
336
встрече Ант. Поссевина, а в 1585—1609 гг. служил дьяком в разных приказах (См. о нем Д. А. И. I, 274; Лихачев. Разрядные дьяки, по указателю. О его поместье в Московском уезде см. Писц. кн. М. г. I, 126). Из дьяческого же рода происходил подьячий Третьяк С-в, который в феврале—августе 1562 г. с Андаканом Тушиным-Квашниным отвозил в Швецию пере- мирную грамоту (Сб. Р. И. Общ., т. 129, стр. 105). Неизвестно, из этого ли рода происходил Шемет Юрьев С-в, который в 1571 г. был поручителем по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 569).
Селезневы, Ананий, Иван и Ширяй.
Селин Илья, неженатый новгородский подьячий. В Сп. Пр. еще Юрий.
Семенов Пятой (М. Б.). В отрывке М, Б. — Никифор.
Серебряной кн. Петр Семенович, боярин.
О нем. кн. Курбский пишет: „Потом убьен от него Петр Оболенский, глаголемый Сребреный, синклитским саном украшен и муж нарочит в воинстве и богат" (Соч. I, 280).
У боярина кн. Семена Дмитриевича Серебряного было 2 сына: Василий—боярин в 1550—1570 гг., и Петр — боярин в 1551—1571 гг. Петр по родословцам — бездетный. В 1565 г. царь Иван взял по боярине Василье Семеновиче и его сыне Петре поручную запись (запись—С. Гр. и Д. I, № 186).
По разрядам известны следующие службы кн. Петра: 1544 г. — воевода в Зарайске, 1546 г. — там же, 1549 г. — в Казанском походе, с весны 1550 г. — в Туле, 1551 г. — в Свияжске, 1552 г. принимал участие во взятии Казани, 1553 г. — в Одоеве, 1554 г. — в Кашире, 1555 г. — в Коломне и на Туле, а затем в Михайлове, 1556 г. — в Калуге и Серпухове, а затем в Чебоксарах, 1557 г. в Коломне, 1558—1559 гг. в Ливонском походе, 1559 г. на береговой службе с царем, 1560 г. — в Туле, 1562 г. — в Дорогобуже, 1563 г. — в Полоцком походе, а после взятия Полоцка оставлен в нем „на году", 1564 г. — в походах против Литвы, 1565 г. — в походе на Озерище, где оставлен после взятия города, 1567 г. — в Смоленске. Наконец, в последний раз упомянут в мае 1570 г., на береговой службе. В списке думных выбыл в 1571 г.
Сидоровы, Григорий, Дмитрий, нижегородцы Иван и Третьяк (Чуд.), и дьяк Юрий. В М. Б. еще Гаврила.
Кн. Курбский рассказывает, что с кн. Вл. Курлятевым „тогда же он вкупе заклал с ним Григория Степанова сына Сидорова, с роду великих синклитов рязанских. А той то был Степан, отец его, муж славный в добродетелех и в богатырских вещах искусен; служаще много лет, аж до 80 лет, верне и трудолюбие зело импери святорусской". Далее Курбский рассказывает, что царь Иван послал после этого—„аки седмица едина преиде" — своих кромешников убить кн. Андрея Мещерского с братом Никитой, Григорья Иванова Сидорова, — „предреченному стрыечный" (Соч. I, 306).
22 Проблемы источниковедения
337
Григорий и Дмитрий С-вы из боярского рода рязанских князей.
Степ. Григ. С-в, о котором говорит Курбский, в 1537 г. был наместником в Одоеве, в 1538 г. — головой в полках, в 1548 г.—воеводой в Зарайске, в 1549 г. — в Почепе, в 1550 г. — в Зарайске, в 1551 г. — в Елатьме, в 1554 г. — в Астраханском походе, в 1555 г. — в Белеве. На последней службе он получил в бою на Тульской засеке с татарами две раны, проболел 5 недель и умер в Москве „в чернцах и в схиме“ (П. С. Р. Л. XX, 562).
Сыновья Степана, Григорий и Дмитрий, служили по Коломне и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Григорий Степанов в 1558 г. был товарищем воеводы в Мценске, а в 1563—1567 гг. служил в Пронске и Михайлове. Сын Дмитрия — Иван в 1571 г. был сыном боярским царицина чина на свадьбе царя Ивана.
Кто были нижегородцы Третьяк и Иван Сидоровы, неизвестно. С рязанскими Сидоровыми они во всяком случае не имели ничего общего.
Юрий С-в с 1539 г. известен как дьяк. В 1551—1559 гг. он был дьяком у казначеев. В 1551 г. с дьяком Кожухом Кротким производили общий пересмотр жалованных грамот и переписку их на царское имя (Лихачев. Разрядные дьяки). В декабре 1562 г. — январе 1569 г. Юрий служил дьяком во Пскове (Сб. Р. И. Общ., т. 71, стр. 115, 184). Возможно, что он был там же и в 1570 г. и погиб в связи с посещением Пскова царем Иваном после Новгородского погрома.
Сисеев кн. Федор.
Кн. Ф. Васильевич С-в Ярославский в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1555 г. был головой у городецких мурз в походе на черемису, в 1558 г. — воеводой в Мценске, в 1560 г.— воеводой большого полка на Ливнах и в Туле, в 1565 г.— в Мценске, в апреле 1567 г. — воеводой в Рязани. В 1556 г. в чине стольника был при приеме царя Шигалея (Р. И. Б. XII, 56). В родословцах показан бездетным.
Не о нем ли говорит кн. Курбский, отмечая, что он был женат на дочери кн. Мих. Глинского? (Соч. I, 284).
С и ц к и е, кн. Данила (во всех синодиках записан два раза в разных местах) и кн. Дмитрий.
Данила синодиков — кн. Дан. Юрьевич Меньшого. О службе его ничего не известно.
Кн. Дмитрия С-го в родословцах нет совсем. Вероятно, ошибка.
С к у л и н Постник, человек Ал. Басманова (М. Б.), и Всячина.
См а га, псковский подьячий.
С о б а к и н ы, Василий, Калинник (Калист), Парфений, Семен и Степан (записаны вместе), и Тимофей (записан отдельно).
Собакины одного происхождения с Нагими. Их родословие см.—Лобанов-Ростовский, И, 228—230. Роспись, поданную С-ми
338
в Разряд в 1682 г. см. Известия Русск. генеалог, общества, IV, 37—38. Марфа Васильевна С-на была третьей женой царя Ивана, вступила в брак 28 октября 1571 г. и умерла в Александровой слободе 13 ноября того же года. До брака ц. Ивана с Марфой Собакины бывали в писцах и изредка в воеводском чине. В связи с браком находится быстрое возвышение, а затем гибель целого ряда С-ных.
Тимофея С-на в указанных родословиях нет совсем. Степан и Семен — сыновья Василья Ивановича Меньшого, двоюродные братья Марфы. Калист (Калинник синодиков) — двоюродный брат Марфы, сын Василья Степановича Средняго. Калист в связи с браком двоюродной сестры был пожалован в кравчие и „выбыл" (по списку думных людей) в 1574 г.
Парфений синодиков — сын Ивана Григорьевича С-на у которого в родословцах, кроме Парфения, показан бездетный сын Андрей. Парфений в родословцах показан бездетным, но в действительности у него был сын Роман, который в 1596 г. был поверстан новичным окладом и испомещен в Звенигороде (Десятня новиков 1596 г. в Изв. Русск. генеалог, общ., III в.).
О каком Василье говорят синодики, сказать с уверенностью нельзя. Дело в том, что у Василья Степановича Среднего были братья Василий Большой, отец царицы, пожалованный в связи с браком Марфы, в 1571 г., в бояре, и Василий Меньшой, отец казненных Степана и Семена, пожалованный тогда же в окольничие. Известно, что он в опале постригся в Кириллове монастыре (инок Варлаам), где и умер. (О его бывш. вотчине в Коломне см. писц. книги 1578 г. Писц. кн. М. г. I, 176.) Таким образом следует предположить, что не отец Марфы — Василий Большой, а казнен был Василий Средний. (О его вотчине в Коломне см. там же, I, 462, 477, 500.) У этих Васильев был брат Григорий, пожалованный в окольничие в 1571 г. В синодиках он не упоминается, но в списках думных людей показан выбывшим в 1575 г. Вероятно, он не был казнен, но отставлен одновременно с опалами на других С-ных.
Калист и Парфений в разрядах упом. только в 1572 г. (Синб. сб., 37). Григорий и Василий (какой?) Степановичи упоминаются с 1572 по 1576 г. В последний раз Григорий Степанович упом. в 7085 г. на воеводстве в Ямгороде.
Василий Большой Ст-ч был принудительно пострижен и сослан в Кириллов монастырь. В известном послании царя Ивана в Кириллов монастырь (около 1578 г.) Иван с большой злобой говорит о Собакиных. Варлаама С-на (Василья Большого) он называет „злобесным псом", а про С-ных пишет: „и мне про Собакиных не про что кручиниться. Варламовы племянники хотели были меня и с детьми чародейством извести, но бог меня от них укрыл, их злодейство объявилося, а потому и сталося. И мне про своих душегубцев не про что мстить" (А. И. I, 381, 384).
22*
339
Родными племянниками Варлаама С-набыли: казненный Ка- лист (двоюродный брат царицы Марфы) и два сына Василия Степановича— Петр и бездетный Григорий. Затем у Варлаама были троюродные племянники: казненный Парфений Иванович и его бездетный брат Андрей. Затем следует отметить, что у Варлаама был бездетный сын Борис, бывшая вотчина которого упом. в писцовых книгах Коломенского уезда 1578 г. (Писц. кн. М. г. I, 462).
Таким образом, кроме указанных в синодиках лиц, в связи с делом С-ных следует поставить гибель, в той или иной форме, и бездетность следующих лиц: окольничего Григорья Степановича, Григорья Васильевича Большого, Бориса Васильевича Меньшого и Андрея Ивановича.
Кто был Василий синодиков, остается загадкой. Пови- димому, это — Василий Степанович Средний, пожалованный в бояре в 1571 г. по случаю брака его племянницы с царем.
Соломонов Федор.
Сотницкие Федор и Василий. В Сп. Пр.—Даниловы дети Сотницкого.
Из рода переяславских вотчинников Топорковых-Клобуко- вых. Тимофей Григорьев Клобуков в 1526—1539 гг. был дьяком. Его сыновья, Иван и Аким, в 1550 г. были зачислены в тысячники. Брат Тимофея, Иван Григорьев, был дьяком в 1551— 1566 гг. и присутствовал на Земском соборе 1566 г.
Данила, третий сын Григорья Клобука, упом. в 1516 г. как ямской дьяк.
Четвертый сын Григорья, Семен Сотенка (Сотница), был убит в 1533 г. татарами в Мещере. Сыновья Семена Сотницы, Иван и Ермолай, служили по Торжку и были зачислены в тысячники. Иван Семенов Сотницин, умерший около 1558 г., имел сына Бориса, убитого в Ливонском походе под Козомызой. Третий сын Сем. Сотницы, Петр, в Тетради дворовой записан по Переяславлю.
Федор и Василий Даниловы С-ие, записанные в синодик, были внуками Сем. Сотницы и племянниками тысячников Ивана и Ермолая. О службе Федора и Василья С-ких ничего не известно.
Из того же рода происходил известный дьяк Андрей Федорович Клобуков (1566—1580 гг.), через свою дочь Анну породнившийся с Годуновым, — Анна была замужем за Як. Мих. Г одуновым.
Софроновской Петр (М. Б.)с
Софроновские были старшей отраслью рода Дмитрия Минина, воеводы вел. кн. Дмитрия, убитого в 1368 г. в бою против Ольгерда. Фамильное прозвище — по селу Софронов- скому в Коломенском уезде. Младшая ветвь рода носила фамилию Проестевых. Софроновские в конце XV в. были испомещены в В. Новгороде. Иван Михайлович и Михаил и Иван Дмитрие¬
340
вичи С-кие в 1550 г. были зачислены в тысячники. Иван Дшп> риевич был убит в 1552 г. под Казанью. Их младший брат — Петр Дмитриевич на Земском соборе 1566 г. присутствовал в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д. I, 552).
Спячие, городовой прикащик в Пскове Василий, Захарий, Постник и Варвара и Ирина.
Было 2 рода Спячих: Спячие-Беклемишевы и Спячие в роде тверского легендарного боярина Марка Демидова. Родословия последних нет совсем, а родословие С-их-Беклемишевых очень неполно, и в нем нет указанных в синодиках лиц.
Старого, Алексей и Федор (вместе), а ниже еще Яков.
Внуки Семена Ивановича Старого, из рода Семена Мелика, выехавшего служить при в. кн. Дмитрие Донском и убитого на Куликовом поле.
Михаил Семенович Ст-го в 1527—1528 гг. был поручителем по боярах (С. Гр. и Д. I, 423, 432), а в 1531 г. упом. как наместник в В. Новгороде (Р. И. Б. XVII, Каб. кн., 119). У Михаила С-го было 4 сына: Михаил, Яков, Василий и Алексей. Все они в Тетради дворовой записаны по Москве, а первые три в 1550 г. были зачислены в тысячники. Михаил и Яков Михайловичи в 1549 г. были головами у наряда, в Казанском походе. В 1562 г. Яков и Алексей были поручителями по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 478). Яков в 1564 г. был приставом у сосланного на Белозеро в опале кн. Мих. Воротынского (А. И. I, 333). После этого нигде не упоминается.
Василий и Алексей Михайловичи на Земском соборе 1566 г. были в дворянах первой статьи (С. Гр. и Д. I, 549). Алексей в 1559 г. был писцом Пскова (Д. А. И. I, 381). В 1564 г. он был воеводой на Луках Великих, в 1565 г. у наряда в полках, а затем опять на Луках, в 1567 г. — воеводой в Усвяте. Одна из новгородских летописей сообщает, что царь Иван, взявши в опричнину половину Новгорода и Бежецкую и Обонежскую пятины, прислал в Новгород, в феврале 1571 г., опричных дьяков — Сем. Ф. Мишурина и Ал. Мих. Старого, которые стали жестоко преследовать корчемников. Далее летопись говорит, что в январе 1572 г. царь отставил опричнину в В. Новгороде, велел быть одному наместнику „по старине“, а Ал. Старого взял к Москве (Новг. летописи стр. 105,109. СПб. 1879). Вскоре, однако, Ал. Мих. Старого был прислан опять в В. Новгород и в марте 1572 г. был товарищем новгородского наместника, кн. П. Дан. Прон- ского (Самоквасов. Арх. мат. II, 295). В последний раз Ал. Мих. Старого упом. в январе 1575 г., когда он дал Тр. Сергиеву монастырю по жене кн. Гр. Звенигородского, иноке Василисе, на вечное поминание 50 руб. (Вкладн. книга 1673 г. Троицки*, музей).
Федора синодиков в родословии Милюковых (весьма неполном) нет, но, судя по тому, что он записан рядом с Алексеем,
341
а Алексей в родословцах показан бездетным, позволительно предположить, что Федор был сыном Алексея.
Повидимому, Яков Мих. был казнен еще в опричнине, быть может в связи с его приставством на Белоозере у кн. Воротынского (ср. Плещеев Илья и Трофимов Никита), а Алексей пережил опричнину и был казнен с Федором не ранее 1575 г.
Степанов Василий, дьяк, с женой и двумя сыновьями.
Василий С-в во множестве актов, с августа 1555 г. по сентябрь 1567 г., упом. как дьяк Поместной избы. В 1559 г. он был душе- прикащиком кн. Мих. Вас. Глинского (Вклады, кн. Тр. Сергиева монастыря, л. 151). В чине дьяка присутствовал на Земском соборе 1566 г. В июне 1570 г. был у справки перемирной грамоты с Польшей (Сб. Р. И. Общ. т. 71, стр. 718). Казнен вскоре после этого по делу о сдаче Новгорода и Пскова польскому королю. По Шлихтингу он был казнен шестым, после Ив. М. Висковатого и других (Новое известие, 49).
Степанов Григорий, новгородский подьячий, с женою.
Стефан, подьячий (М. Б.). Кажется, новгородский подьячий.
Ступишин Гордий.
Гордий Борисович С-н происходил из переяславских вотчинников. Его отец, Борис Александрович, в 1520 г. был головой в полках (Древн. Разр. кн., 78); в 1533 г. он упом. как пристав при приеме послов (Акты Зап. Р. III, 251); в 1541—1542 гг. с Поярком Квашниным был писцом Костромы (Троцкие акты). Умер около 1552 г. (в иноках Боголеп) и погребен в Иосифове монастыре (Моек. Ист. музей, Епарх. собр. № 419, л. 61).
У Бориса Ал-ча известны сыновья: Андрей, Иван, Григорий, Гордий и Савин.
Андрей и Иван служили по Волоку и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Андрей продал Ив. Вас. Шереметеву с. Писчиково, в Переяславском уезде (Троицкие акты); в 1564 г. он был в числе поручителей по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 497).
Григорий Борисов был убит в 1552 г. под Казанью (Древн. Рос. Вивл. VI, Синодик Успенск. собора).
Савин Борисов в 1567 г. дал по душам своих братьев Андрея и Ивана (Адриана и Иова) Иосифову монастырю небольшую вотчину в Локнашском стану Рузского уезда (А. Ю. № 125).
В близком родстве с этими С-ми были потомки Семена С-на. Из этой отрасли рода следует отметить двух иерархов церкви, Трифона и Алексея Васильевичей С-ных, внуков Семена и современников казненного Гордия.
Алексей С-н в 1550 —1555 гг. был архимандритом Симонова монастыря. В 1554—1560 гг. он сделал несколько больших вкладов Иосифову монастырю, по своих братьях (См. указ, выше, кн. № 419).
Трифон С-н в 1542—1544 гг. был игуменом Николы Песнош- ского монастыря (в Дмитрове), с 1544 г. стал архимандритом Симонова монастыря, с марта 1549 г. по 1551 г, был архи¬
342
епископом Суздальским, а с апреля 1563 г. архиепископом Полоцким, где и умер от эпидемии в 1566 г. Погребен в Иоси- фове монастыре, которому сделал несколько крупных вкладов.
Суворов Алексей, новгородский подьячий, с сыном Лаза- ,рем. Ср. Савуровы.
Ср. несколько Суворовых на поместьях в В, Новгороде (Новг. писц. кн. VI, 526—528, 556, 949).
Суворов Постник. В синодиках не упоминается, или еще не найден.
О казни дьяка Постника С-ва „в Поместном приказе“ сообщает Штаден (Записки опричника, 96—97). Алексей Григорьевич Постник С-в как дьяк присутствовал на Земском соборе 1566 г. (С. Гр. и Д. I, 553). В 1572 г. как дьяк с Казенного двора был с царем в походе на свейских немцев (Синб. сб., 32).
Сулдешевы Ждан и Суморок. В М. Б. — Сулешев.
Сумороков Михаил.
Из заурядных городовых детей боярских галичанин Алексей Иванов С-в в 1550 г. был зачислен в тысячники. Андрей и Данила Никитины и Григорий Поганков С-вы в 1571 г. были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 568). Несколько С-вых в 1578 г. было на поместьях в Коломенском уезде (Писц. кн. М. г. I, по указателю).
Сунбуловы Семен и Федор.
Из рязанского боярского рода Семена Ковылы, из которого происходили и Сидоровы (о них см. выше). У Федора Сунбу- лова по родословцам было 3 сына: Степан, Михаил и Иван. Степан упом. в 1551 и 1558 гг. на годовой службе в Михайлове, а в 1571 г. — как осадный голова в Рязани. Михаил в 1555 г. был воеводой в Казанском походе, в 1556—1557 гг.—в Пронске, в 1558 г. — наместником в Почепе, в 1560 г. — в Пронске, в 1563 г. — воеводой в Велиже, в 1567 г. — в Смоленске, в 1569 — в Дедилове.
У Степана Федоровича было два сына: Семен и бездетный Иван, а у Михаила Ф-ча—Федор и бездетный Семен. Семен Степанович в 1562 г. был поручителем по кн. Ив. Бельском, а Федор Михайлович в 1565 г. — по бояр. Ив. П. Яковлеве (С. Гр. и Д. I, 478, 509). Они были казнены, вероятно, с другими рязанцами, о казни которых рассказывает кн. Курбский (см. Сидоровы).
Сурвоцкая Ирина.
Из владимирских вотчинников. В разрядах походов 1567 и 1571 гг. в подрындах упоминаются Гриша и Рахман Никитины С-ие (Древн. Рос. Вийл. XIII, 392; Син. сбор., 30). В 7074 г. (1565—1566 гг.) Степан Александров С-ий дал Боголюбскому монастырю 73 села Сурвоцкого, в Рождественском стану Владимирского уезда (с. Сурвоцкое находится в 11 вер. от Владимира) по душам отца, матери, братьев Игнатья и Федора и сестры Ирины (ГАФКЭ. Гр. К, Эк. № 1819, по Владимиру № 42).
343
С у р м и н Никита. В М. Б. Сурнин Никита.
Вероятно, из рода дмитровских Сурминых, из которых многие в XV—XVI вв. служили митрополитам и бывали у них в боярах и дворецких. Одна отрасль С-ных служила по Дмитрову кн. Юрью Ивановичу. Из этих С-ных в Тетради дворовой записаны: Семен Иванов С-н, его родной племянник Борис Иванов и Федор Федоров Чиркин с сыном Васильем. Иван Федоров Чиркин в 1544 г. был писцом Новоторжского уезда.
Сутянилов (?) Алексей (в некоторых синодиках: Суня- тев), новгородский подьячий, с женой и дочерью Марьей.
С у х а н, новгородский подьячий.
Сыр ко вы, Алексей с женой и детьми и Федор с женой и двумя сыновьями.
Шлихтинг рассказывает, что после разгрома Новгорода царь Иван удалился от города на полмили и разбил шатры, а затем велел схватить „одного знатного и именитого человека, главного секретаря новгородского, Федора Ширкова". Федор был подвергнут различным пыткам с целью узнать, где у него спрятаны деньги. „Этот человек был богат до такой степени, что можно видеть 12 монастырей, выстроенных и основанных им же на свой счет. И тиран выпытал у этого несчастного 12 000 серебряной монеты (очевидно рублей). После этого тело его было изрублено на куски и брошено в реку". „Тот же конец имел и родной брат Федора, по имени Алексей" (Новое сказание, 30—36). Это показание Шлихтинга при некоторых неточностях подтверждается синодиками, летописями и другими источниками.
Сырковы принадлежали к московским гостям, имевшим большие связи с Новгородом и, может быть, происходившим из новгородцев. В 1505 г. гость Ив. С-в с сыновьями Афа- насьем и Дмитрием „повеленьем в. кн. Василия Ивановича", т. е. с его разрешения, заложил, а в 1510 г. закончил каменную церковь св. жен Мироносиц и св. Прокопия, на Дворище за рекою, в В. Новгороде (П. С. Р. Л. IV, 2 изд., 461, 612. Л. 1925).
Его сын Дмитрий, тоже московский гость, был нарядчиком, когда в 1515 г. мастер Фрязин подписывал стены Успенского собора в Москве, а затем был нарядчиком же при построении церкви Успенья на Тихвине (там же, 539—540). В 1529 г. он заложил каменную церковь св. Прокопия на Ярославле дворе, в 1532 г. был нарядчиком при постройке церкви св. Николая на Владычне дворе, а в 1536 г. построил церковь св. Варлаама на Дворище (там же, 547, 550, 573).
Его сын Федор Дмитриевич в 1537 г. построил придел во имя Сретенья у церкви Мироносиц (там же, 578). В 1548 г. он был дьяком и участвовал в посольстве в Колывань. Будучи в посольстве и „сохранены быша от смерти", Федор дал обет построить храм Сретенья Богородицы в своей пустыни, „иже нарицается
344
Сыркова пустынь, на речке на Веряже“, что и исполнил (Новгородские летописи, 328—329. СПб. 1879). В 1549 г. он построил каменную церковь св. Феодосия „в своем монастыре в Пирогове пустыне“, а в 1554 г. построил еще один храм в своем монастыре (там же, 60, 86). В 1558 г. сгорел монастырь Ф. Дм. С-а на Розваже улице, но он его отстроил заново, и в августе 1568 г. владыка Пимен освятил новый храм (там же, 90, 98).
По актам Ф. Дм. С-в упом. как дьяк в В. Новгороде в 1551—1556 гг., а в начале 1556 г. он был заменен другим дьяком (Самоквасов. Арх. мат. I, 110; Д. А. И. I, 65, 79, 146; А- Ю. Б. III, 64; Р. И. Б. XVII, 192). Таким образом Ф. С-в служил в дьяках с 1548 до начала 1556 г. Вероятно, Шлихтинг слыхал об этом и потому назвал его главным новгородским секретарем.
О смерти жен и детей Федора и Алексея С-вых Шлихтинг не говорит, так как он писал о разгроме Новгорода, повиди- мому, не как очевидец, а по слухам и рассказам.
Сырцов Федор в М. Б., вероятно, ошибочно вместо Сырков.
Сысоевы, Иона, Василий, Иван, Меньшик и Постник. Записаны с новгородцами, с Паюсовыми и другими.
Сысоевы происходили из бежецких вотчинников и в 1574 и 1578 гг. дали Тр. Сергиеву монастырю 2 вотчины в Бежецке (ГАФКЭ; Гр. К. Эк. № 1307 и 1323). В первой половине XVI в., а может быть и раньше, несколько С-вых были испомещены в Бежецкой пятине. Из них Иван Клок Григорьев С-в в 1550 г. был зачислен в тысячники. В писцовой книге Бежецкой пятины 1545 г. записаны на поместьях, в Михайловском погосте, 9 С-вых (Новг. писц. кн. VI, 177—184). Вероятно, что и записанные в синодиках С-вы происходили из того же гнезда, в Михайловском погосте.
Тараканов Андрей.
Вероятно, из рода московских гостей Т-вых. В 1502 г. Владимир Т-в был купецким старостой в В. Новгороде (П. С. Р. Л., IV, 2 изд., 611). Московский гость Василий Никитич Т-в в 1519 г. был купецким старостой в Новгороде, для суда посадских людей с наместником. В 1520 г. он построил в Новгороде, на Торговой стороне, каменный храм Климента (там же, 540), В 1566 г. гость Григ. Федоров Т-в присутствовал на Земском соборе (С. Гр. и Д. I, 553).
Среди служилых людей Т-вых неизвестно.
В архиве царя Ивана хранилось дело Петра Т-ва с Хозяином Тютиным (А. А. Э. I, 352). О Хозяине Тютине см. ниже.
Татищевы Иван Большой, Иван Меньшой и Василий Мунтовы.
По родословцам у Василья Григорьевича Мунта Т-ва было 4 сына: Григорий, Иван Б., Иван М. и Василий, все бездетные. Иванец и Васюк Васильевы Мунтовы в Тетради дворо¬
345
вой записаны по Костроме. Ив. Вас. Мунтов на Земском соборе 1566 г. был в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д, I, 551).
Татьянины, Василий и Иван.
Происхождение и службы неизвестны. В XV—XVII вв. в Дмитрове было много мелких помещиков и вотчинников Т-ных. Повидимому, другой род Т-ных происходил от послу- жильца Андрея Шеремета Беззубцева, испомещенного в конце XV в. в Новгороде. В Шелонской пятине в 1568 г. упом. на поместье Иван Дмитриев Т-н (Самоквасов. Арх. мат. I, 28).
Темирев Григорий.
Дм. Ив. Т-в в 1559 г. был писцом на Двине. Его сын, Григорий Дмитриев Т-в, в 1564 г. был поручителем по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 497). Юрий и Михаил Андреевы Т-вы в 1566 г. были поручителями по Зах. Плещееве (там же, 560).
Темкины кн. Василий и Иван, см. Ростовские князья.
Те йене в Петр. Ср. еще в синодиках Теневы (?), Никита и Резан.
Из очень мелких служилых людей Московского уезда.
Тетерины: 2 Василья, Григорий, Иван, Иов, Иосиф, Михаил, Семен (Смиряй) с 5 детьми и 9 человек Гундоровых детей. В Тр. С. еще Елизарий.
Кн. Курбский рассказывает, что после Кашкаровых были казнены: „муж разумный и во священных писаньях искусный с детками погублен и братьею их, Василий и Григорий глаголемые Тетерины; и других стрыев и братьи их не мало всеродне погубити повелел со женами и с детками их“ (Соч. I, 304).
Тетерины происходили из старого нижегородско-суздальского рода. Около 1425 г. Павел Григорьевич Т-н был послухом у данной грамоты кн. Марьи Нижегородской Спасо-Евфимиеву монастырю (А. И. I, 57).
Василий Борисов Т-н в 1515 г. был дьяком в В. Новгороде и произвел описание Шелонской пятины (Д. А. И. I, 158; Памятники диплом, сношений, I, 174). В 1516 г. он был в посольстве к имп. Максимилиану, в 1517 г. принимал участие в приеме послов, а в 1520 г. был думным дьяком (там же 1,196; Лихачев. Разрядные дьяки, 178—180).
У Василья Борисова известны 3 сына: Иван Пух, Селиван, убитый в 1552 г. в Казанском походе, и Иов.
Иван Пух Васильев в 1538 г. был послом в Казань (П. С. Р. Л. XX, 448). Позже он был дьяком и в 1547 г. был в числе поручителей по кн. Пронском (С. Гр. и Д. I, 584.) В последний раз он упоминается в 1549 г., на свадьбе кн. Владимира Андреевича.
Брат Ивана Пуха, Иов Васильев, упоминаемый в синодиках, служил по Суздалю и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1551 г. он служил городничим в Свияжске, а в 1556 г. был „в приказе“ у воевод в Казани. Иов Васильев, видимо, был состоятельным человеком. В 1547 г. он дал за себя и за жену
346
Тр. Сергиеву монастырю на вечное поминанье 100 руб, В 1549 г. он купил за 450 руб. сц. Лысцово, в Ростовском уезде, и в 1554 г. перепродал его кн. Мих. Вас. Глинскому (Троицкие акты).
У Ивана Пуха известны 2 сына: Осип, упоминаемый в синодиках, и Тимофей, в иноках Тихон, бежавший в Литву.
Осип Пухов в Тетради дворовой записан по Костроме.
Тимофей Пухов служил по Суздалю и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1549 г. он был „у коня“ государева в походе, в 1555 г. был головой у татар у Соли Вычегодской, в 1556 г. был головой у стрельцов в Астраханском походе, а в 1558 г. в той же должности был в Ливонском походе и одержал победу над магистром. За неизвестную нам вину Тимошка Пухов был пострижен и сослан в Сийский монастырь, откуда бежал, при помощи Андр. Кашкарова, в Литву. В царском архиве хранились дела: „посылка на Двину в Сийский монастырь Тимохи Тетерина с Григорьем Ловчиковым; дело Андрея Кашкарова да Тимохина человека Тетерина Поздячка, что они Тимохиным побегом промышляли“. В связи с этими делами, может быть, находилось „дело Василья Мухина с Васкою Тетериным“ (А. А. Э. I, 353, 354). См. выше — Кашкаровы и Карповы. Гневное и злобное письмо царя Ивана 1577 г. к Тимошке Пухову см. Курбский. Соч. I, 493—494.
Гундора Васильева Т-на с некоторой вероятностью можно счесть тоже за сына дьяка Василья Борирова. Во всяком случае, он был близким родственником перечисленных выше Т-ных. Гун- дор умер в 1544 г. и его сыновья Михаил и Григорий дали по его душе Тр. Сергиеву монастырю 50 руб. По синодикам было казнено 9 сыновей Гундора. Они упоминаются, быть может не все, в синодиках. Несомненно его детьми были: Михаил, Григорий, Василий и Елизар, которые упомянуты в синодиках.
Михаил Гундбров упом. в 1556 и 1557 гг. как поддатень у рынды в походах.
Григорий и Василий Гундоровы служили по Суздалю и в 1550 г. были зачислены в тысячники. По разрядам Вас. Гун- доров в 1549 и 1550 гг. был поддатнем у рынды, в 1555 г.— головой на Ваге, в 1556 г. — в Орешке, а затем в походе против немцев головой у пеших людей, в 1557 г. — рындой у оружничего в походе. В летописях Вас. Гундоров упом. в 1552 г. как гонец к воеводам в Свияжск (П. С. Р. Л. XX, 513).
В обзоре карьеры Т-ных обращает на себя внимание то, что она обрывается рано, приблизительно в 1558 г. Во всяком случае гибель Т-ных находится в несомненной связи с постри- женьем и побегом в Литву Тимохи Пухова Т-на. . ^
Т ещины Иван и Полиевкт. В М. Б. — Полиевкт Михайлов.
Тимофеев Леонтий.
347
Тиуновы Андрей и Евдокия.
Тихонов Ярой.
Т оварищевы, Никифор, Степан, Дмитрий и Иван.
У Товарища Есипова, вероятно потомка новгородских бояр Есиповых, переселенных в конце XV в. в Переяславль и Суздаль, упоминаются в 1524 г. два сына: Михаил и Матвей. Последний имел поместье в Бохове стану Московского уезда (Писц. кн. М. г. I, 19, 53).
У Михаила Товарищева известны 4 сына: Иван, Андрей, Никита и Дмитрий. Иван был убит в 1550 г. в Казанском походе (П. С. Р. Л. XXII, 531). Андрей и Никита служили по Суздалю и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Дмитрий упом. в 1564 г. в числе поручителей по бояр. Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 498).
У Матвея Товарищева известно 5 сыновей: Ермолай Мансур, Никифор, Савва, Степан и Иван. Мансур служил по Суздалю и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1552— 1553 гг. за ним была 2 года в кормленье Череповесь (в Пошехонском уезде). В 1563 и 1564 гг. Мансур был в числе поручителей по кн. Ал. Воротынском и Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 489, 498). Никифор, Савва и Степан служили тоже по Суздалю и в 1550 г. были взяты в тысячники. Никифор с братом Мансуром в 1563 и 1564 гг. был в числе поручителей по кн. Воротынском и Шереметеве. В писцовой книге Московского уезда 1574 г. упом. его бывшее поместье (Писц. кн. М. г. I, 53). Савва участвовал в Ливонском походе и в 1559 г. был сеунщиком с ливонского фронта (П. С. Р. Л. XX, 613). Степан в 1564 г. был поручителем по бояр. Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 498). Наконец, отмечу, что в писцовых книгах Ярославского уезда 1568 г. упом. бывш. поместье Ивана Матвеева.
Можно думать, что Т-вы были казнены одновременно, не ранее 1564 г. и не позже 1568 г.
Томило, конюх (М. Б.), и там же—подьячий Томило.
Троекуров кн. Федор. В синодиках после заголовка: „по городам" — кн. Андрей Катырев и кн. Федор Троекуров.
Троекуровы — одна из старших линий Ярославских князей. Федор Иванович, сын боярина Ив. Мих. Т-ва, умершего около 1564 г., в 1547 г. был с отцом на службе в Нижнем, в 1550 г. был зачислен в тысячники и служил воеводой в Галиче, в 1551 г. — в Туле, в 1552 г. участвовал во взятии Казани, где служил и в 1555—1556 гг., в 1558 г. был на Туле, в 1558— 1560 гг. в Ливонском походе, а в 1565 г. — опять в Казани.
У кн. Федора был бездетный сын Иван, по душе которого дано (когда ? ) Ярославскому Спасскому монастырю сц. Ивановское на Волге (Вахромеев, Кормовые книги Ярослав. Спасск. монастыря, 31).
Перечисляя казненных ярославских князей, кн. Курбский пишет: „князь Федор Львов (Михаил Львович Троекур был
348
дедом казненного Федора), муж зело храбрый и святого жительства, и от младости своей аж до четыредесятного лета служил ему (т. е. царю) верне“ (Соч. I, 284).
Трофимовы, Богдан, Иван и Никита.
Гридя Борисов Тр-в в 1490 г. в должности пристава провожал из Новгорода в Москву цесарского посла Юр. Делатора (Пам. дипл. снош. I, 25). Его сын, Никита Григорьев Т-в, служил по Юрьеву Польскому и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1552 г. он служил на казанском фронте и был послан из Свияжска от воевод к царю с вестью о том, что „горные люди все (черемиса) государю добили челом" (Летопись Нарманского, 67. Временник Общ. Ист. и Др. V). В 1562 г. был приставом у сосланного на Белоозеро кн. М. Воротынского (А. И. I, 333 — 335). Обращает на себя внимание то, что и другие пристава кн. Воротынского — Илья Плещеев и Яков Старого — позже тоже были казнены. В 1571 г. Никита и Федор Рахманиновы дети Т-ва (возможно, что — Григорьевичи) были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 568; ср. 581). Отмечу еще, что Никита Рахманинов в 1569 г. был послухом у земельной сделки Ив. В. Шереметева, в Коломенском уезде.
Иван Чудинов Т-в в 1555 г. был выкуплен из крымского плена. В июне—ноябре 1565 г. он был посланником в Ногаи (Летописец русский, 45; Р. И. Б. III, 261, 269). В 1564 г. Ив. Чудинов был поручителем по Ив. В. Шереметеве (С. Гр. и Д. I, 497). Отмечу еще, что в писцовой книге Московского уезда 1574 г. упом. бывш. поместье Ивана (Чудинова ?) Т-ва (Писц. кн. М. г. I, 32).
Из того же рода, несомненно, был и Богдан Т-в, упоминаемый в синодиках.
Трусовы Григорий и Иван.
Трусовы происходили от Федора Шевляги (шевляга- кляча), родного брата Андрея Ивановича Кобылы. Не менее 9 человек Трусовых и Тр-вых-Воробиных было испомещено в конце XV в. в В. Новгороде (Новг. писц. кн. II, 596, 621; III, 18, 25, 27, 43, 72, 92,101, 244, 295, 478, 941; V, 2, И, 17,143). Там же служили Т-вы и в XVI — XVII вв. Еремей Воробин в 1527 г. был в посольстве к папе Римскому Клименту (Сб. Р. И. Общ. XXXV, 749). Его сыновья: Василий, служивший по Пскову, и Григорий Б., Григорий М. и Лева, служившие по Водской пятине, в 1550 г. были зачислены в тысячники. Один из этих Григорьев в 1559 г. упом. как голова в полках. Вероятно, что он упом. в синодиках. Его сын Иван Григорьев в 1571 г. был поручителем по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. 1,519). В писцовой книге Водской пятины 1582 г. упом. порозжие поместья Ивана и Беляя Трусовых (Временник Общ. Ист. и Др. VI,2).
Тулуповы Стародубские, кн. Андрей с сыном Алексеем, женой Евфимьей и дочерями: Прасковьей, Анной и Ириной; Владимир, Никита и Борис.
349
Кн. Курбский говорит о казни только одного Андрея Васильевича: „В том же тогда прелютом пожаре убиен от него Андрей, глаголемый Тулупов,... муж кроток и благонравен, в довольных летех бых“ (Соч. I, 319); это объясняется видимо тем, что Тулуповы погибли в разное время.
Андрей и Владимир Васильевичи в 1550 г. были зачислены в тысячники. Они сидели на дедовских поместьях в Шелонской пятине, и поместье Владимира (вероятно, после его смерти) в 1560 г. было отдано другому лицу. Про Андрея сказано, что его „нестало в государеве опале“, и его поместье в августе 1571 г. отдано Назимовым (Самоквасов. Арх. мат. 1,35).
Другие Тулуповы сходят со сцены несколько позже. Борис Давидович был сыном Дав. Ивановича, убитого в 1542 г. в Казанском походе (П. С. Р. Л. XX, 531). Вдова Давида, Анна, упом. на свадьбе царя Ивана в октябре 1571 г.
Борис Давидович в 1571 г. был головой в полках, а в следующем году был в походе при царе и ездил с самопалом; вскоре после этого^пожалован в окольничие и участвовал в походе 1573 г. В 1572 г. он дал Тр. Сергиеву монастырю свою родовую вотчину — с. Воскресенское в Стародубе.
У его брата, у Владимира Ивановича, было 3 сына: Андрей, Никита и Иван.
Андрей Владимирович, как молодой человек, в 1571 г. на свадьбе царя Ивана был сыном боярским „с подножьем“. В 1573 г. он упом. как рында с саадаком у царевича Ивана. Никита Владимирович в том же году был рындой с копьем у царевича Федора. Иван Владимирович упом. как полковой воевода и как поезжанин на свадьбе Марии Владимировны и Арцымагнуса. После этого Т-вы не упоминаются и в родословцах показаны без потомства. Так „всеродне“ погибла эта отрасль Стародубских князей.
Туров Петр Иванович. В синодиках не упоминается.
Петр Иванович в Тетради дворовой записан по Костроме. В летописях он упом. в 1551 г. в действиях под Казанью (П. С. Р. Л. XX, 482). В 1560 г. он был писцом Нижегородского уезда. Кн. Курбский сообщает, что года через 2 или 3 после казни Шишковых-Ольговых, родичей Алексея Адашева, был казнен Петр Т-в, тесть Данила Адашева, до побега в Литву Курбского.
Турпеевы Петр, Третьяк и старец Дионисий.
Петр Дмитриев Т-в с сыном Григорьем записан в Тетради дворовой по Козельску.
Дионисий был старцем Ростовского Борисоглебского монастыря. В этот монастырь через него поступило несколько крупных вкладов — по духовной кн. Ив. Мих. Шуйского, кн. Анны Пенковой и кн. Ивана Ахамашука Черкасского, а от него лично поступили 1Q0 руб. и ценные вещи по „брате“ Серапионе Савлуке Т-ве и по его родителях (А. Титов. Вкладн.
350
книга Ростовского Борисоглебского монастыря. Ярославль, 1881). Савлук, повидимому, был не родным братом Дионисия, а родственником. В 1564 г. Дионисий дал Тр. Сергиеву монастырю по старце Серапионе Савлуке 50 руб. Савлук был дьяком митр. Макария, который в 1555 г. посылал его с грамотой в Литву (П. С. Р. Л. XX, 562, 565). Как митрополичий дьяк он упом. и ö 1559 и в 1561 гг. (Шумаков. Обзор Гр. К. Эк. IV, 252). Дионисий в 7076 г. (1567—1568 гг.) был душеприка- щиком казненного несколько позже дьяка Мясоеда Вислово (см. Вислово).
Тучков Георгий (Ник. П.).
Ты ртов Тихон.
Гаврила Андреевич Т-в в 1541 г. был тиуном Московским, а в 1543 г. в посольстве в Крым (П. С. Р. Л. XX, 463). Его сыновья: Тихон, Торх и Иванец в Тетради дворовой записаны по Костроме, а Тихон в 1550 г. зачислен в тысячники. В 1555 г. Тихон был дружкой на свадьбе кн. Ив. Бельского (Древн. Рос. Вивл. XIII, 79), а в 1557 г. упом. как поддатень у оружни- чего в походе.
Близким родственником Тихона был Крик Т-в, о смерти которого рассказывает кн. Курбский. „Потом убиен от него стратилат славный Крик, Тыртов по наречению, муж не токмо храбрый, мужественный и священных писаний последователь, но воистинне в разуме мног, к тому кроток и тих был... в воинстве христианском знаменит и славим, понеже многие раны на телеси имел на многих битвах от различных варваров“; в молодости в боях под Казанью лишился одного глаза (Соч. I, 302, 303).
Тыртовы в конце XV в. были испомещены в Новгороде (Новг. писц. кн. V, 12, 59, 61; Самоквасов Арх. мат. I, 7—8). В 1559 г. новгородский помещик Крик Зуков Т-в был головой в полках. На Земском соборе-1566 г. он был в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д. I, 552). В походе 1573 г. Крик Т-в исполнял важную должность — „ставил сторожи“ в полках (Синб. сб., 65). В том же году он, вероятно, был казнен и в марте 1573 г. упом. в Шелонской пятине его бывш. поместье (Самоквасов. Арх. мат. I, 72).
Отмечу еще, что в 1571 г. помещик Шелонской пятины Мир Гамов Т-в был поручителем по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 569; Новг. писц. кн. V, 488).
Тютины Хозя с женой, 5 детьми и братом (Иваном?).
Грек Хозя (Хозюк, иногда руссифицированное — Хозяин) Юрьевич Т-х упом. как казначей с января 1551 г. (А. А. Э. I, 218). В том же чине он присутствовал на Земском соборе 1566 г. (С. Гр. и Д. I, 547, 556). Был жив в июне 1566 г. (Сб. Р. И. Общ., т. 71, стр. 414).
О казни его кн. Курбский писал: „грецка роду, именем Хозяин, нареченный Тютин, муж зело богатый, и еще был у него
351
(т. е. у царя Ивана) подскарбием земским, и погублен всеродно, сиречь с женою и с детками и со другими южаки“ (Соч. I, 297).
Шлихтинг, смешавши Хозяина Т-ха с Казарином Дубровским, сообщает интересные подробности его смерти: „Не следует, кажется, пропустить и того, что сделал тиран с казначеем своим Хозяином Дубровским. Именно, он приказал своему зятю графу Михаилу Темрюковичу сделать нападение на его дом и похитить (схватить?) его, сам — 7, с женою и детьми, что тот и исполнил и отвел его после похищения на площадь. И тиран приказал отрубить ему голову с женою, тремя сыновьями и дочерью в возрасте 15 лет, а имущество его отдал в добычу своему зятю. Кроме того одновременно тиран убил брата этого казначея“ (Шлихтинг, 23).
Уваров Сидор.
В одном родословце бывш. Арх. Мин. ин. дел (ГАФКЭ, кн. 85, глава 65) находится род Уваровых, в котором есть следующее сообщение: „При государе царф и великом князе Иване... Володимир Иванов сын, да Роман да Андрей Захарьевы дети, да Матвей да Низовец Васильевы дети, да Курбат да Михайло Яковлевы дети Уваровы сосланы и испомещены по Смоленску, для того, что была Никитина дочь Акинфеева сына Уварова за боярином за Богданом Юрьевичем Сабуровым, а Павлину Никитичу Уварову была сестра родная. И государь царь... изволил взять за сына своего за государя царевича Ивана Ивановича у боярина у Богдана Юрьевича Сабурова дочь (Домна-Евдокия Богдановна вступила в брак 4 ноября 1571 г.), и потому пожаловал государь Павлина Уварова велел ему быть из Володимира у себя государя и у царевича в комнате. И как государь изволил у государя царевича царицу постричь, и в те поры велел государь написать Павлина по Владимиру из выбора, а Володимира Иванова сына Уварова с братью велел государь сослать из Владимира в Смоленск“.
Сидора в родословии У-вых нет, но несомненно, что он был из того же рода.
Ульяновы Никифор и Федор (М. Б.).
Унковской Курака Тимофеев. В синодиках не упоминается.
Штаден^ рассказывает, что при отставке опричнины (1572 г.) стрелецкий" голова Курака Ун-ой был убит и спущен под лед. (Записки опричника, 96—97). Это показание Штадена косвенно подтверждается тем, что Курака Ун-ой в 7080 г. (1571—1572 гг.) дал Тр. Сергиеву монастырю дрв. Дуплево, в Суро^йском стану Московского уезда, но этот вклад был недействительным и вотчина не поступила во владение монастыря.
Усов Яков, с женой, сыном и дочерью.
Вероятно — из новгородцев. В В. Новгороде с конца XV в. сидело на поместьях несколько Усовых. Были в В. Новгороде
352
и своеземцы Усовы. Так, около 1572 г. в Водской пятине владел своей вотчиной своеземец Яковец Иванов Ус-в (Самоква- сов. Арх. мат. II, 358). Впрочем, следует отметить, что в XVI в. было гнездо Усовых и в Костроме.
Ушаков Иван.
В писцовой книге по Торопцу 1534 г. записаны на поместьях Андрей Матвеев У-в с племянниками, Иваном и Веригой Александровыми (ГАФКЭ, Городовая кн. по Торопцу, № 1). Этот Андрей Матвеев Ильин У-в в 1550 г. был зачислен в тысячники. Был ли Иван синодиков торопчанином Иваном Александровым, сказать трудно, так как и в Бежецкой пятине в XVI в. было на поместьях много Ушаковых.
Ушатой кн. Данила Чулков.
Кн. Курбский в рассказе о ярославских князьях говорит: „и других княжат того же роду, Ушатых нареченных, сродных братий их, сущих тех же княжат ярославских роду, погубил всеродне, понеже имели отчины великие, — мню, негли ис того их погубил" (Соч. I, 285).
Кн. Данила был сыном боярина и конюшего Василья Чулка Васильевича Ушатого. В 1550 г. он был зачислен в тысячники, но в разрядах не упоминается, что значит, что по службе он далеко не пошел.
Неполнота родословия кн. Ушатых не позволяет выяснить, какие Ушатые погибли всеродно. У Данила был один сын — Дмитрий, в родословцах показанный бездетным. Старший (и единственный) брат Данила, Иван, умер в 1558 г. и его мать старица Федора дала по его душе Симонову монастырю вотчину в Горетове стану Московского уезда. У этого Ивана Васильевича в родословцах показаны 2 сына: Иван и Петр, оба бездетные. Бездетными же показаны в родословцах двоюродные братья Дан. Вас-ча: Данила с сыном Федором и Иван Юрьевич Большого и Семен Юрьевич Меньшого. Все это — возможные жертвы царя Ивана.
Укажу на неполноту родословия Ушатых. У боярина Василья Чулка был еще брат Василий, не указанный в родословцах (Новг. писц. кн. VI, 641, 673). Затем, в 1571 г. в Шелонской пятине был на поместье Никита Иванович Ушатого, которого в родословцах тоже нет. Наконец, неизвестно, чьим сыном был кн. Юрий Петрович, который в 1603 г. был стольником и воеводой в Шацке (Синб. сб., 148). Это был, кажется, единственный из кн. Ушатых, уцелевший к началу XVII в. Таким образом показание кн. Курбского о всеродной гибели Ушатых в общем следует признать верным, но конечно гибель их не может быть объяснена корыстными побуждениями царя Ивана, т. е. желанием завладеть их вотчинами.
Федоров Второй и Постник.
Невыясненные лица. Второй Ф-в во всяком случае не дьяк Григорий Второй Федоров, который в 1584—1585 гг. был
23 Проблемы источниковедения
353
в Новгороде и умер 8 апреля 1596 г. (Моек. Ист. музей, Успен, собр. № 64, л. 168).
Федоров Иван (Петрович).
Кроме него самого, в синодиках записаны (отдельно): „В коломенских селах скончавшихся православных христиан Ивановых людей 20 человек, а имена их бог весть", и ниже: „В Бежецком верху Ивановых людей 65 человек да 12 человек, скончавшихся ручным усеченьем, имена их ты, господи, веси". Затем в двух местах: ^Смирной, Семен и татарин Янтуган, „Ивановы люди Петрова", и Смирной, Оботур, Иван, Ларион и Богдан „люди Ивановские Петрова". В М. Б. вразбивку: Смирной „Иванов человек", 2 Паюсовых и Постник Сысоев, а затем опять: „Богдан, Оботур и Богдан, „люди Ивана Петровича".
Летописи иногда называют Ив. Петровича Челядниным. В действительности он был прямым потомком Ив. Андр. Хромого, старшего брата Ивана Бутурли, родоначальника Бутурлиных, и Михаила Челядни, от которого пошли Челяднины. Прямые предки Ив. П-ча в течение двух веков непрерывно бывали боярами. При слабой рождаемости в роде Ив. Хромого Ив. П-ч унаследовал все родовые вотчины Хромых и был одним из самых богатых бояр своего времени. Женившись на своей далекой родственнице, Марье Челядниной (по первому мужу кн. Дорогобужской), последней представительнице рода Челядни- ных, Ив. П-ч стал еще богаче. Детей у них не было.
Кн. Курбский рассказывает, что Ив. П-ч был казнен „в совершенном веку", т. е. в преклонном возрасте, с женой Марьей. Синодики подтверждают рассказ Курбского о том, что царь Иван, сам ездя с своими кромешниками, перебил не только слуг Ив. П-ча, „шляхетных мужей", но и людей, „елико где обретались", пожег села, „наконец, глаголют, а ни скота единого живити повелел" (Р. И. Б. XXXI, 294—295; ср. 304).
Ценно показание Штадена, что „Ив. П. Челяднин был первым боярином и судьей на Москве в отсутствие великого князя. Он один имел обыкновение судить праведно, почему простой люд был к нему расположен" (Записки, 79). Ниже Штаден сообщает подробности убийства Ив. П-ча, подтверждающие показания синодика и кн. Курбского относительно разгрома и сожжения всех сел Ив. П-ча (87).
Шлихтинг рассказывает с большими подробностями, не во всем достоверными, о разграблении богатств Ив. П-ча, об издевательствах над ним перед казнью и об надругательстве над его трупом, об убийстве его слуг и о разгроме его сел в течение „почти года" (Новое известие, 21—22). По Шлихтингу жена Ив. П-ча не была убита, а принудительно пострижена и умерла в монастыре.
Казнь Ив. П-ча произошла в 1567 г.
Федоров Постник (М. Б.).
Федотов Матвей.
354
Федчищев Василий.
Из старого рода костромских вотчинников Зубатого-Федчи- щевых. Петр Федоров 3-в Ф-в был дьяком и участвовал в Казанском походе 1549 г. Его сыновья: В а сю к, Юшка и Яковец в Тетради дворовой записаны по Костроме (Галичу) и в 1550 г. все трое были зачислены в тысячники. Василий Петров в 1563 г. был послом в Ногаи, а в 1565 г. упом. как голова в полках. В 1567 г. Василий и Юрий Петровы были послухами у земельной сделки бояр Ив. В. Шереметева, в Московском уезде.
Ф е ф и л о в Семен, подьячий.
Филипп, немчин (М. Б.).
Ф о мин Григорий, митрополичий старец.
Из рода Фоминых, что „словут митрополичьи". Родоначальником их был Степан Феофанович, родной племянник митрополита Алексея. Про него родословцы и Бархатная книга говорят, что в. кн. Василий Дмитриевич „дал" его в бояре митрополиту Киприану. Сам Степан и его потомки в течение 200 лет были в боярах при сменявшихся за это время митрополитах. В царствование Ивана были у митрополитов — в боярах Иван Обрюта и Третьяк Семеновичи, и в дворецких — Федор Наумович Мисюрев Дроздов Фомины.
Хвостовы: Афанасий, Богдан, Борис, Василий, Данила, Игнатий, Михаил, Неудача, Никита, Постник, Ушак Федор и Юрий. В Ник. Пер. — Алексей Постник.
Потомки тысяцкого Алексея Петровича Хвоста, убитого неизвестными людьми в Кремле в 1356 г., были вытеснены из боярской среды, а затем так размножились и измельчали, что в XV—XVI вв. в массе служили по городам и только немногие — по дворовому списку.
Афанасий, Данила и Иван Семеновичи Отяевы-Хв-вы служили по Торжку и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Афанасий с детьми имел поместье в Водской пятине, которое в 1571 г. записано уже за другим лицом (Самоквасов. Арх. мат. II, 308), что можно поставить в связь с казнью Афанасья. Иван Сем-ч Отяев в синодиках не упоминается, но следует обратить внимание на то, что Данила и Иван Семеновичи в родословцах показаны бездетными.
Борис Бухара Яковлевич Шипинеев-Хвостов владел отцовским поместьем в Водской пятине (Новг. писц. кн. III, 501). Имея одновременно поместье в Пскове, он служил из выбора по Пскову и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В августе 1571 г. его поместье в Водской пятине было отделено другим лицам (Самоквасов. Арх. мат. II, 134), что можно поставить в связь с его казнью.
Василий и Никита Яковлевичи Пыжевы Хв-вы имели поместья в Бежецкой пятине и в 1550 г. были зачислены в тысячники. Василий Яковлевич в 1558 г. был воеводой в Сыренске, в 1559—1560 гг. головой в полках, в 1565 г. воеводой в Красном
23
355
(в Ливонии), а в 1560—1561 гг. — вторым воеводой в Юрьеве Ливонском. Когда в начале 1571 г. Бежецкая пятина была взята в опричнину, то Василий и Никита Пыжевы были выселены и получили поместья в Себеже и Нещерде, со льготой с 1 сентября 1571 г. на 4 года (Писц. кн. М. г. И, 540—541).
Никита Як. Пыжев в родословцах показан бездетным, но это неверно, и троицкие акты дают возможность пролить некоторый свет на участь семей опальных. В 1554 г. Никита купил у своего братанича Юр. Вас. Хвостова дрв. Пустое, в Демине стану Суздальского уезда. Когда Суздаль был взят в опричнину, то Никита был выселен и получил вместо Суздальской вотчины вотчину в Замотренской волости Муромского уезда. После смерти Никиты его вдова Марья с сыновьями: Богданом-Петром, Иваном и Баженом-Никитой произвели раздел муромской вотчины. Весьма вероятно, что Богдан-Петр Никитич и есть Богдан синодиков, — по крайней мере в роде Хвостовых другого Богдана нет. Через несколько лет, быть может в связи с казнью отца, Иван Никитич дал свою часть вотчины Тр. Сергиеву монастырю, получив 100 руб. сдачи (раздельная грамота Х-вых и данная Ивана — не датированы). После смерти Ивана Никитича Хв-ва, его вдова в 1573 г. подтвердила этот вклад от своего имени. В Троицком Архиве сохранилась и духовная грамота Петра-Богдана 1568 г., по которой он завещал свою часть вотчины жене и дочери. В 1575, 1576 и 1578 гг., очевидно уже после казни Никиты Яковлевича и его сына Богдана-Петра, Хвостовы: вдова Никиты, старица Марианна, Бажен-Никита, в иноках Никон, жена Богдана Федора и дочь Ивана Мавра, написали несколько данных грамот и дали, в конце концов, всю свою вотчину Тр. Сергиеву монастырю, получивши от него 300 руб. сдачи (Троицкие акты и Писц. кн. М. г. I, 877).
Игнатий синодиков — Игнат Григорьев Хв-в, который с своим братом Уключком служил по Пскову и вместе с ним в 1550 г. зачислен в тысячники. В родословцах Игнат и Уключко Хв-вы показаны бездетными.
Михаил синодиков вызывает сомненья. Наиболее вероятным представляется Михаил Иванов Замятнин Белкин-Хв-в, который в 1566 г. был воеводой в Белеве. Отмечу, что он и его брат Иван в родословцах показаны бездетными.
Неудачи синодиков в Бархатной книге нет, но это само по себе ничего не значит, так как родословие Хв-вых весьма неполно, а с другой стороны, многие лица указаны в нем без прозвищ, а иные по прозвищам, но без имен. То же следует сказать и относительно Постника и Ушака, которых в родословцах нет.
Среди нескольких Федоров, упоминаемых в родословцах, наиболее вероятным Федором синодиков является Федор Яковлевич Пыжев, младший брат казненных Василья и Никиты Пыжевых, Федор Пыжев в 1558—1559 гг. упом. как голова
356
в полках, в 1565 г, был в числе поручителей по боярине Ив. П. Яковлеве, а в 1566 г. на Земском соборе был в дворянах второй статьи (С. Гр. и Д. I, 509, 552).
Юрья Х-ва в родословцах нет, но выше было упомянуто, что Никита Пыжев в 1554 г. купил вотчину в Суздале у своего братанича Юрия Васильева Хв-ва.
В общем, если гибель некоторых Хв-вых можно поставить в связь с новгородскими и псковскими событиями 1570 г., то другие представители рода, напр. Василий, Никита и Федор Пыжевы, погибли позже и при других обстоятельствах.
Хилков кн. Дмитрий Иванович.
В синодиках не упоминается. В списке думных людей показан выбывшим в 1564 г., боярин.
Хлуднев (и Хлудев) Василий.
Фамилия, видимо, испорчена переписчиками: следует — Хлуденев. Если это предположение верно, то Василий синодиков— Вас. Львович Хлуденев, который с своим отцом Шереметом Григорьевичем записан в Тетради дворовой по Переяславлю, где служили и другие Х-вы: Петр Федоров Третьяков, Семен Лукин и брат Льва, Угрим. Постник Лукин Х-в в 1565 г. был поручителем по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 519).
Цвиленевы, Прокофий и Плохой.
Прокош Ц-в в 1554 г. был писцом Балахны. В царском архиве было „дело Прокоша Цвиленева, что сказывал на него ноу- городской подьячий Богданко Прокофьев государское дело“. В том же архиве хранился „список правежной, что взято на Прокофье на Цвиленеве“ (А. А. Э. I, 352, 355).
Плохой Семенов Ц-в в 1553 г. был писцом на Белоозере, а позже, в 1567 г., был дьяком (Р. И. Б. XVII, Каб. кн., 183). Кузьма Дмитриев и Петр Васильев Ц-вы в 1565 г. были поручителями по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 520).
Циплятевы, см. Монастыревы.
Чазугин Федор.
Чеботов Гаврила. Только в М. Б., а в других синодиках на его месте Гаврила Подперихин.
В боярском роде Чеботовых Гаврила нет.
Чеботов Иван Яковлевич. В синодиках не упоминается.
Чебуков Семен.
Чебуковы имели вотчины в Дмитрове и Кашине. Як. Фед. Суровец Ч-в в 1519 г. дал Тр. Сергиеву монастырю сц. Трыз- нево в Дмитрове (Гр. К. Эк. № 3739). В 1518 г. он продал Вас. К. Вельяминову сц. Степанково в Кашине (А. А. Э. I, 165). Его старший сын, Иван, по духовной грамоте, около 1540 г. дал Тр. Сергиеву монастырю сц. Селевкино, в Бохове стану Московского уезда (Троицк, акты). Третий сын Якова Суровца — Василий Третьяк служил по Кашину кн. Юрью Ивановичу и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1559—1560 гг. он был
357
головой в полках, в 1564 г* был поручителей kie Htii Вае* Шереметеве, а в 1573 г* послан на елужоу 8 Сйбйрв»
Вероятно, из этого же рода был и Семен синодиков,
Черкасский, кн. Михаил Темрюкович. В списке думных -— выбыл боярин в 7080 г. Тесть царя Ивана. Об его казни много различных рассказов современников.
Чермазов Иван.
Чертовские Никита и Шишка. В М. Б. еще Семен.
В Бежецкой пятине в 1545 г. были на поместьях Михаил и Никита Угримовы и Шишка Васильев с сыном Семейкой Ч-кие (Новг. писц. кн. VI, 121—124, 162—165). Никита Угримов и Шишка Вешняков Васильев в 1550 г. были зачислены в тысячники и получили поместья под Москвой. Погибли, вероятно, в погроме Новгорода 1570 г.
Чиж Андрей, с женой, сыном и дочерью. Записаны среди новгородцев.
Ч у л к о в Данила Григорьев. В синодиках не упоминается.
Ч у л к о в Иван Иванович. В синодике не упом. Окольничий. Показан выбывшим в 7075 г. в списке думных людей.
Ч у л к о в ы-Ивашкины — отрасль рода рязанских бояр Сидо- ровых-Ковылиных. По сообщению кн. Курбского Данила Ч-в казнен в числе других рязанцев (Соч. I, 304—305). В 1554 г. он был головой в Астраханском походе, в 1556 г. — послан на Дон производить разведку относительно крымцев, в 1557 г. приводил к шерти чебоксарцев, а затем был опять в посылке на Дон (П.С.Р.Л. XX, 549, 571, 583, 584). В 1558 г. он был в походе на Днепр с кн. Вишневецким (Древн. Разр. кн., 192). В 1562 г. Дан. Ч-в был поручителем по кн. Ив. Бельском (С. Гр. и Д. I, 478).
Ч у р н е в (и Чуренев) Яков.
Шаблыкин Никита.
Никита Пятого Ш-н в 1562 г. получил поместье в Шелон- ской пятине (Самоквасов. Арх. мат. I, 13). Там же были на поместьях: Иван, Дмитрий и Василий Пятого, братья Никиты, Ждан Третьяков и Яков Иванов Ш-ны, которые в 1571 г. были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 567, 569).
Шалимовы, Семен, Меньшик и Яков.
Вероятно, из новгородских помещиков. О Шалимовых в Новгороде см. Новг. писц. кн. I, 224, 226, 230; И, 15, 43; 111,954.
Шамины князья Юрий и Иван (Чуд. и К. Б.). В М. Б.— „Корины" и „Коряк". Здесь путаница, и следует — Кашины. Впрочем следует отметить, что по родословцам Дмитрий Иванович и его двоюродный брат Роман Федорович Ш-ны Шума- ровские показаны как бежавшие „в Турки". На них род Шами- ных прекращается. Юрий и Иван по времени могли быть детьми этих эмигрантов в Турки.
Ша мшевы Алексей и Китай.
358
Около 1500 г. в Водской пятине был испомещен Одинец Ш-в человек опального кн. Ив. Юр. Патрикеева (Временник Общ. Ист. и Др. XI, 115). В 1545 г. в Бежецкой и Водской пятинах сидело на поместьях уже десятка два Шамшевых (Новг. писц. кн. VI, 476, 479—488, 502). В 1571 г. упоминается отписанное во дворец поместье Васюка, Алеши, Мити, Юшки, Бориса и Давида Одинцовых детей Шамшева (Самоквасов. Арх. мат. II, 370). Все это дает основание полагать, что Алексей и Китай были из того же рода и погибли в новгородской катастрофе 1570 г.
Ш ап кин Григорий, с женой, дочерью и 2 сынами.
Григорий Федорович Ш-н происходил из рода Заболотских и был внуком Михаила Шапки Дмитриевича Шукаловского, который в конце XV в. был писцом на Белоозере. Гр. Ш-н в 1556—1558 гг. был подьячим при приеме литовских послов (Сб. Р. Ист. Общ., т. 59, стр. 489, 531, 562). В августе 1560 г. он в чине дьяка был назначен с Ф. Ив. Сукиным в посольство в Польшу (там же, т. 71, № 1). В 1563 г. Гр. III участвовал в Полоцком походе, а в мае—июле 1566 г. принимал участие в приеме польских послов (там же, т. 71, стр. 341, 425). Казнен одновременно с Ив. М. Висковатым. Синодики подтверждают рассказ Шлихтинга. После Ив. Висковатого, Н. Фуникова и и повара, говорит Шлихтинг, „четвертым выводят дьяка Гри- горья Шапкина с женой и двумя сыновьями. Тут соскочил с коня кн. Вас. Темкин... и, обнажив меч, отрубил голову Григорью, его жене и двум сыновьям; обезглавленных он положил подряд пред ногами тирана" (Шлихтинг, 48).
Шатерниковы (Шатерины), Аким, Семен и новгородский подьячий Лука с женой и сыном.
Вероятно, все — новгородцы и все — жертвы новгородского погрома 1570 г.
Шахов Петр Селянин, новгородский подьячий, с женой и детьми: Петром и Пелагеей.
Шаховские кн. Василий и Анна.
Василий Юрьевич Ш-ой по разрядам в 1548 и 1555 гг. был воеводой в Василегороде. В родословцах он не упоминается, равно как и его брат Данила, который в 1550 г. был зачислен в тысячники.
Кн. Курбский в числе казненных ярославских князей говорит об Иване: „Тако же и других та же пленицы княжат не мало погубил. Единого от них своею рукою булавоюна смерть убил на Невле месте, идучи к Полоцку, реченного Иоанна Шаховского" (Соч. I, 284. Повидимому, речь идет о Полоцком походе 1563 г.). Неполнота родословия Ш-ких и большое количество Иванов в роде Ш-х не дают возможности выяснить, о каком именно Иване говорит Курбский.
Шевырев Щепин Оболенской, кн. Дмитрий Федорович. В синодиках не упоминается.
359
О казни его кн. Курбский говорит после кн. Кашиных,— „и сродник их князь Дмитрий, глаголемый Шевырев, на кол посажен. И глаголют его день быти жива и аки нечувши муки той лютой.и т. д. (Соч. I, 280), В разрядах не упоминается и о службах его ничего не известно.
Таубе и Крузе, путая имена казненных при учреждении опричнины, называют кн. Ивана Schmerav (35). В родословцах кн. Дмитрий и его брат, Иван, оба показаны бездетными.
Шеины, Михаил, Андрей, Григорий и Алексей.
В М. Б. Григорий отмечен как сын Андрея, а Алексей как его брат.
Кн. Курбский говорит только о боярине Андрее Ивановиче: „Тогда же або мало пред тем убиен от него муж благоверный Андрей, внук славного и сильного рыцаря Дмитрия, глаголемого Шеина, с роду Морозовых“ (Соч. I, 303).
Боярин Дмитрий Васильевич Ш-н был убит в 1514 г. в походе на Казань. Все три сына его: Юрий, Василий и Иван, были боярами и выдающимися воеводами. Михаил синодиков был сыном Юрья Дмитриевича. В разрядах он и его единственный сын Исаак нигде не упоминаются, а Исаак в родословцах показан бездетным. У Ивана Дмитриевича было 3 сына: Андрей, Иван Кляпик и Алексей. Все они в родословцах показаны бездетными. Если доверять синодику М. Б., то у Андрея был сын Григорий. Про Ивана Кляпикав Тетради дворовой сказано загадочно, что он „умер в разбое“. О службах Ивана Кляпика и Алексея ничего неизвестно.
Андрей Иванович в 1550 г. был зачислен в тысячники, около 1567 г. пожалован прямо в бояре и через два года (по Новиковскому списку) „выбыл“. По разрядам он был в 1567 г. в передовом полку в Коломне, а в последний раз упоминается как воевода в Вязьме в 1568 г.
Следует обратить внимание еще на следующее: у боярина Василья Дм-ча (умер в 1557 г.) было 5 сыновей, из которых потомство оставил только старший сын — Борис. Таким образом после казни Андрея и Алексея Ивановичей и Михаила Юрьевича из 10 внуков славного рыцаря Дмитрия Васильевича остался один Борис Васильевич, который в 1576 г. был пожалован в окольничие, и затем убит в 1579 г. в Соколе, в Ливонском походе. Не имея прямых указаний на причины бездетности этого поколения Шеиных, тем не менее нельзя ее не поставить в некоторую связь с казнью боярина Андрея Ивановича, его брата Алексея и Михаила Юрьевича.
Шелпяковы Замятия, Неря, Петр и Богдан.
Шеляпковы были родом из Волока Дамского и Дмитрова. В самом начале XVI в. в Водской пятине был испомещен Михаил Павлов Ш-в (Новг. писи. кн. III, 358, 363). Потомки его служили в XVI—XVII вв. по Водской пятине. Один из внуков Михаила Павлова, Иван Павлов был убит в 1552 г. при взятии
360
Кааани. Замятия и Некарь (Неря синодиков) в 1550 г. были вачислены в тысячники. В 1573 г. поместья их в Шелонской пятине были отданы другим лицам.
Из того же рода наверное происходили и Петр и Богдан синодиков, и вообще гибель Ш-вых следует поставить в связь с новгородскими казнями 1570—1571 гг.
Ш е м е т, писчик (М. Б.).
Шер еметевы Иван и Никита Васильевичи. В синодиках не упоминаются.
Кн. Курбский рассказывает, каким пыткам подверг царь Иван „мудрого советника“ своего Ив. Шереметева, допытываясь, где он скрыл свои богатства. Не допытавшись, царь Иван „повелел от тех тяжких узов разрешить его и отвести в легчайшую темницу. И обаче того дня повелел удавити брата его Никиту, уже в синклитском сану почтенна суща, мужа храброго и на телеси от варварских рук немало ран имуща“. Освобожденный из тюрьмы Иван постригся — „и не вем, аще и там не повелел ли уморити его“ (Соч. I, 295—297). О его пребывании в Кириллове монастыре см. Послание царя Ивана в Кириллов монастырь.
Шерефединовы, Афанасий, Молчан и Петр.
Шерефединовы происходили из коломенских вотчинников. Петр синодиков — дьяк Петр Иванов Ш-в, молитвенное имя которого было Андрей. Он упом. как дьяк в 1555—1557 гг. (Федотов-Чеховский, Акты I, 165, 180), и в том же чине присутствовала на Земском соборе 1566 г. (С. Гр. и Д. I, 553). В 1550 г. и 4 июля 1574 г. он сделал 2 вклада Тр. Сергиеву монастырю.
Петра-Андрея не следует смешивать с дьяком Андреем Васильевичем Ш-м, который в 1566 г. был гонцом в Польшу, в 1567 г.—в Стокгольм, а в 1572 г. был в опричнине (Синб. сб., 31). 6 февраля 1575 г. он ведал Дворовый Разряд, а в июне — Поместную избу (Троицкие акты). Андрей Ш-в пережил царя Ивана и умер после 1604 г. (о нем см. Лихачев, Разрядные дьяки, по указателю). О вотчинах Ш-вых в Коломне и их вкладах Коломенскому Спасскому монастырю см. Писц. кн. М. г. I, 319, 323, 383, 389, 406. Там же, стр., 361, 368, 530 см. о бывшем поместье Петра.
Несомненно, из того же рода были Афанасий и Молчан синодиков.
Шестаков Петр, митрополичий старец.
В царском архиве хранилось „дело Никиты Лихарева с Петром Шестаковым“ (А. А. Э. I, 353).
Шибанов Василий, слуга кн. Андр. Мих. Курбского. В синодиках не упоминается.
Царь Иван в первом письме к кн. Андр. Курбскому писал: „Како же не усрамишися раба своего Васьки Шибанова? Еже бо он благочестие своесоблюде, и пред царем и предо всем
361
народом, при смертных вратах стоя, и ради крестного целова- ния тебе не отвержеся, и похваляя и всячески за тя умерети тщашеся“ (Сочинения кн. Курбского I, 21). Полуофициозная летопись, так наз. Александро-Невская, сообщает, что В. Шибанов был пойман в Юрьеве Ливонском воеводами после бегства кн. Курбского и прислан в Москву к царю (Р. И. Б. III, 222). С этим как будто не вяжется сообщение Латухинской Степенной книги о том, что В. Шибанов подал на Красном крыльце письмо кн. Курбского царю. Последнее сообщение было принято гр. Ал. Толстым в его известной поэме „Васька Шибанов“. Был ли В. Шибанов послан кн. Курбским с письмом, или был пойман, неизвестно. Несомненно, что как слуга бежавшего боярина, он был подвергнут пыткам, от которых и умер.
Шиловцев Русин.
Ширяев Иван с женой и 2 сыновьями.
Служивший по Деревской пятине Иван Леонтьев Ш-в, в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1558—1559 гг. он был головой в полках, а в 1563 г. — вторым воеводой в Лаюсе (Разряды).
Шишкины, Андрей с женой и 2 дочерьми, Иван и Петр.
Шишкины — отрасль старого костромского рода Ольго- вых, из которого произошли и Адашевы. Курбский рассказывает, что вместе с Адашевыми был казнен Иван Ш-н „со женою и с детками, сродник был Алексеев (т. е. Адашева) и муж воистинну праведный и зело разумный, в роде благороден и богат“ (Соч. I, 278).
Иван Федоров Ш-н-Ольгов в Тетради дворовой записан по Костроме и в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1560 г. он был товарищем воеводы в Апселе, а в 1562 г. — осадным головой в Стародубе Северском. Из того же рода происходили и Андрей и Петр синодиков.
Шишмарев Рудак.
В последней четверти XV в. Оладья Ш-в был московским тиуном. Его сын, Беглец, в 1492 г. был приставом у цесарского посла (Памяти, дипл. снош. I, 82). В конце XV в. в Деревской пятине были испомещены Юшка Объед и Юшка Большой Бураковы дети Ш-ва (Новг. писц. кн. II, 296—304). В 1550 г. из той же пятины были зачислены в тысячники Никита и Рунец Ивановы Ш-вы. Отмечу еще, что Василий Никифоров Ш-в в 1565 г. был в числе поручителей по кн. Серебряном (С. Гр. и Д. I, 520).
Шубников (Шубин М. Б.) Алексей.
Шуйская кн. Анна, „княже Васильева“.
Если Анна — дочь Василия, то единственно возможным отцом является кн. Вас. Вас. Немой Ш-ий, женатый на Анастасии, дочери царевича Петра. Дочь Вас. Немого, Марфа, была замужем за кн. Ив. Дм. Бельским. Если Анна — жена, то единственно возможным мужем ее является Василий Иванович Ш-й,
362
сын боярина Ивана Андреевича» убитого в Ливийском походе 1573 г.
Шунежской Иван.
Ш у ш е р и н Елизарий.
В конце XV в. несколько Ш-ных было испомещено в Вод- ской пятине (Новг. писц. кн. III, 175, 247, 714, 820). В XVI в. Ш-ны служили по Новгороду, Смоленску, Пскову и Владимиру. Владимирец Лев Борисов в 1550 г. был зачислен в тысячники. В 1571 г. смолянин Кузьма Романов и Шелонской пятины Богдан Филиппов были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 567, 568).
- Щ е к и н ы Владимир и Пятой. В Н. Пер. — сытник Владимир.
Возможно, что из дьяческого рода Щекиных. Дьяк Алексей Малой Григорьев в 1515 г. был в посольстве к Римскому цесарю (П. С. Р. Л. XV, 18). Его брат Иван упом. в 1536 г. как подьячий. Сын Алексея Малого, Борис, при царе Иване был дьяком (упом. в 1562 г.). Отмечу еще, что сыновья Никулы Щ-на в конце XV в. были испомещены в Деревской и Водской пятинах (Новг. писц. кн. И, 333; Временник Общ. Ист. и Др. XI, 101).
Щ е к о т о в Суря (М. Б.).
Щ е л е п и н Михаил.
Дьяк Иванец Боров Тимофеев Щ-н происходил из мелких дмитровских вотчинников. В 1553 г его сыновья, Иван, Василий Б., Василий М., Шестак и Михаил, продали Тр. Сергиеву монастырю за 200 руб. куплю отца, дер. Юрьево в Радонеже (Троицк, акты). Никита Юрьев Щ-н в 1569—1594 гг. был дьяком. Из того же рода был подьячий Петр Федоров Щ-н (1571 г. — в Дворцовой избе) и дьяк Василий Щ-н (1597 г. — пристав у послов. Памяти, дипл. снош. И, 470). Из дмитровских же Щ-ных происходил Шемет Щ-н, относительно которого в царском архиве хранился какой-то обыск: „про Шемета Щеле- пина в Свияжском“ (А. А. Э. I, 347).
Щенятев кн. Петр Михайлович. В синодиках не упоминается.
Василий и Петр Михайловичи Щ-вы происходили из одного из знатнейших боярских родов. О казни старших представителей рода, о Куракиных, см. выше. Сестра Щ-вых была замужем за боярином кн. Ив. Ф. Бельским. Василий умер боярином в 1549 г. О многочисленных службах кн. Петра с 1549 г.— см. Древн. Разр. книгу. Как родовитый человек он был пожалован сразу в бояре в 1549 г. и при учреждении опричнины был оставлен царем Иваном при себе, в Слободе (Р. И. Б. III, 254).
О его смерти кн. Курбский писал: „Паки убиен княжа Петр, глаголемый Щенятев, внук княжати литовского Патрикия. Муж зело благородный был и богатый, и оставя все богатство и
363
многое стяжание, мнишествовати был производил... но и тамо мучитель мучити его повеле, на железной сковраде огнем раз- женной жещи и за ногти иглы бити. И в сицевых муках скончался" (Соч. I, 283).
Когда в феврале 1566 г. царь Иван заставил кн. Владимира Андреевича меняться землями, то в числе земель, полученных кн. Владимиром, упом. „в Московском уезде село Туриково, село Собакино, что было преж Петровское Щенятева“ (Р. И. Б. III, 272). Очевидно, оно было конфисковано у кн. Петра. Из вкладной книги Ростовского Борисоглебского монастыря известно, что кн. Петр Щ-в дал этому монастырю несколько ценных икон и большое количество риз и облачений и умер 5 августа 1565 г., т. е. приблизительно через полгода после учреждения опричнины. Царь Иван проявил заботливость о душе инока кн. Пимена Щ-ва и прислал тому же монастырю более 1300 руб деньгами и рублей на 200 вещей, вероятно из имущества кн. Петра, среди которых были „часы струнные" (А. Титов. Вкладные книги Ростовск. Борисоглебск. монастыря. Ярославль, 1881).
Сопоставляя эти данные, можно так представить себе обстоятельства смерти Петра Щ-ва. Он выразил свое отрицательное отношение к опричнине тем, что постригся, быть может, без разрешения царя. За это царь Иван конфисковал его вотчины и имущество и подверг пыткам, от которых он и умер 5 августа 1565 г. По Таубе и Крузе кн. Петр избит до смерти батогами (41).
Щепотьевы Андрей с сыном Иваном и Василий. В Сп. Пр. ошибочно: „Щенятева, сына его Иоанна". В М. Б. — Щепетев.
Андрей, Истома и Злоба Федоровичи Щ-вы в Тетради дворовой записаны по Кашире и Коломне. Андрей в 1550 г. был зачислен в тысячники, в 1553 г. был гонцом в Черкасы (П. С. Р. Л. XX, 543), в 1558 г. был головой в походе на Хортицу с кн. Вишневецким (Разряды). Истома и Злоба в 1560 г. были головами в Ливонском походе. В 1562 и 1565 гг. Андрей и Злоба были поручителями по боярах (С. Гр. и Д. I, 478, 540, 549). На Земском соборе 1566 г. Андрей был в дворянах первой статьи, а Истома — второй статьи (там же, 549, 551). Следует еще отметить, что в 1563 г. Андрей был приставом у сосланной на Бело- озеро кн. Евфросиньи (Хованской), матери кн. Владимира Андреевича Старицкого (Р. И. Б. III, 182).
Указанный в синодиках сын Андрея, Иван, упом. в 1566 г. как послух у земельного акта по Коломенскому уезду.
Василия Щ-ва в родословцах нет, и здесь можно предположить в синодиках ошибку.
Щербинин, Василий (Чуд. и М. Б.).
Щербинины по родословным преданиям происходили от Онуфрия и были однородцами Басенковых, Мижуевых, Око¬
364
роковых и Губиных. Василий Иванович Дородного Щ-н имел поместье в Шелонской пятине и в 1550 г. был зачислен в тысячники, а на Земском соборе 1566 г. был дворянином первой статьи (С. Гр. и Д. 1,550). Его поместье в Шелонской пятине было отписано на государя и в августе 1572 г. отдано Свер- беевым (Самоквасов. Арх. мат. I, 97).
Юмин Иван.
Иван Юмин как дьяк присутствовал на Земском соборе 1566 г. (С. Гр. и Д. I, 553).
Юренев Тучко, в М. К. еще Андрей. В М. Б. Юренев Игнатий. В Ник. Пер. — Бежецкой пятины Игнатий Юренев, но в других—Игн. Неклюдов.
В конце XV в. луховитин Игнатий Юр-в был испомещен в Бежецкой пятине (Самоквасов. Арх. мат. I, 234). Его потомки в большом количестве сидели на поместьях, главным образом, в той же Бежецкой пятине (Новг. писц. кн. VI, 100 и далее). Были Ю-вы и в Пскове, и в 1550 г. Ульмез Дмитриев и его сын Степан были зачислены в тысячники. Вероятно, из новгородцев или псковичей был и Тучко Юр-в.
Юрьев Иван, дьяк (Тр. Серг.).
В 1549 г. подьячий Иван Юрьев был в составе посольства боярина Мих. Як. Морозова в Польшу (Сб. Р. Ист. Общ. т. 59, стр.301, 309). По предположению Лихачева, Ив. Юрьев с 1553 г. был дьяком Разряда (Разрядные дьяки, 302). В 1556—1559 гг. он был с царем в походах и в 1563 г. принимал участие в Полоцком походе. В чине дьяка же он присутствовал на Земском соборе 1566 г. (С. Гр. и Д. I, 556).
Юрьев Протасий. В М. Б. Протасий Михайлов, а в Тр. С. — Прокопий Юрьев.
Протасий Васильев Юрьев в 1573 г. упом. как голова в го- судареве полку в походе (Синб. сб., 38). Сын Вас. Мих. Юрьева Захарьина. В октябре 1575 г. погребен в Новоспасском монастыре.
Языков Карп.
Андрей Языков перед 1540 г. был писцом Владимирского уезда. В 1547 г. он был дружкой на свадьбе царя Ивана. Его сын Карп Андреев Яз-в в 1556 г. упом. как послух у одного земельного акта Ив. В. Шереметева в Коломенском уезде. В 1558 г. он упом. как гонец в Москву с ливонского фронта (П. С. Р. Л. XX, 597). В 1565 г. Карп Андреев был поручителем по кн. Серебряном и по Льве Салтыкове (С. Гр. и Д. I, 515, 524).
Яковлевы (Захарьины-Кошкины) Семен Васильевич, Иван и Василий Петровичи. В синодиках не упоминаются.
Кн. Курбский после рассказа о Шереметевых писал: „Потом убиен от него брат стрыечный жены его, Семен Яковлевич, муж благородный и богатый, тако же и сын его еще во отроческом веку удавлен“ (Соч. I, 297). Ив. П. Яковлев, боярин, в списке думных показан выбывшим в 1570 г. Сем. Вас. в ро¬
365
дословцах показан бездетным. О казни Ивана и Василья см. Таубе и Крузе, 54. Все три Яковлевы были боярами. Ср. ниже.
Яковлевы Василий и Иван (М. Б.). В других синодиках „Петровы". Очевидно, это — Захарьины-Кошкины.
Янов Осип.
Происхождение и служебное положение неизвестно. При царе Федоре и позже выдвинулись его сыновья: Федор и Василий Осиповичи. Последний был дьяком Лжедимитрия, а затем одним из влиятельных сторонников Сигизмунда и кандидатуры на московский престол Владислава.
Ярославов кн. Александр.
Кн. Александр Иванович Ярославов был правнуком кн. Ярослава Васильевича Оболенского, который в 1472—1487 гг. был наместником в Пскове. В разрядах кн. Ал. Я-в упом. в 1563 г. как второй воевода передового полка в Полоцком походе, в 1565 г. он был воеводой на Луках Великих, а в 1567 г.— наместником в Новгороде Северском (Синб. сб., 5, 9, 18).
Ярыгин Илларион.
Яхонтов Никита.
Яхонтовы были отраслью тверского боярского рода Лева- шевых. Никита Григорьевич Ях-в в 1558 г. был головой в полках, в 1556—1557 гг. и в 1562 г. он был писцом Каргополя и Турчасова, а в 1567 г. — писцом на Двине. В 1571 г. Никита и Михаил Григорьевичи Ях-вы были поручителями по кн. Мстиславском (С. Гр. и Д. I, 569). Вероятно, тот же Никита Григорьевич (в актах — Никита без отечества) в 1573 г. был писцом Алатыря, а в 1575 г. — писцом Арзамаса.
Выдающимися служилыми людьми были двоюродные братья Никиты: Андрей и Иван Игнатьевичи, которые в 1550 г. были зачислены в тысячники, служили не раз в писцах и воеводах (Андрей), а в 1566 г. на Земском соборе были в дворянах первой статьи (С. Гр. и Д. I, 549—550).
366
к. в. сивков
ОТПИСНЫЕ КНИГИ НАЧАЛА XVIII ВЕКА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Архивные документы по русской истории XVIII в. необычайно многочисленны и разнообразны. Нет ни одной стороны жизни, которая не могла бы быть освещена с помощью богатейшего архивного материала. Если по отношению к XVI в. часто приходится крупицами собирать необходимые данные по тому или иному вопросу жизни — в области внешней политики, социально-экономических отношений, культуры, быта и т. п., то применительно к XVIII в. исследователь стоит перед трудностями, так сказать, обратного порядка: ему нередко грозит опасность заблудиться в массе материала, потерять ориентирующее направление, утратить самое существенное в море мелочей и деталей. Надо уметь ограничить как круг вопросов, подлежащих исследованию, чтобы преодолеть их, так и объем материалов (и архивных в частности), которые действительно необходимо подвергнуть обработке. Поэтому, если исследователю XVI в. сравнительно легко стать хозяином над всем материалом своей работы, то исследователь XVIII в. часто рискует оказаться в подчинении у этого материала, во власти его. Однако одна область народной жизни XVIII в. находится в менее благоприятных условиях для современного исследователя, чем другие: это вопросы помещичьего и крестьянского хозяйства. Материалы для освещения вопросов этого порядка дают, с одной стороны, документы частного происхождения, сохранившиеся в вотчинных архивах, с другой — документы официальные, правительственные, самого разнообразного содержания. Однако и теми и другими вопросы помещичьего и крестьянского хозяйства XVIII в. освещаются весьма неравномерно на протяжении этого века; вотчинные архивы, как известно, содержат сравнительно немного данных для начала столетия и становятся богатыми этими данными лишь с 60— 70-х годов (о причинах этого я не могу тут распространяться; укажу только, что просто время больше уничтожило документов, насчитывающих 200 лет существования, а не 150); до-
367
кумейты правительственные, официальные, тоже более многочисленны и разнообразны для конца столетия, чем для начала: достаточно указать, например, на материалы „уложенной“ Комиссии и экономические примечания к картам генерального межевания, равных которым по обилию и разнообразию данных мы не имеем для начала столетия. Однако все, что мы об этих материалах знаем — а ведь они не только почти не изучены, но просто плохо еще учтены, — позволяет думать, что их все- таки будет недостаточно, чтобы с необходимой полнотой и углубленностью осветить разнообразные и сложные вопросы помещичьего и крестьянского хозяйства XVIII в. Особенно это надо сказать о начале столетия, а вернее — о всей его первой половине. Вот почему представляется далеко не лишним остановиться на одной категории документов XVIII в., которая до сих пор была вне поля зрения исследователей русской истории XVIII в., но которая, на мой взгляд, является историческим источником чрезвычайно большой важности, подчас, — я это утверждаю, — совершенно незаменимым. Я имею в виду так называемые отписные книги. Поскольку я работал преимущественно над отписными книгами первой четверти XVIII столетия, я буду иметь в виду в дальнейшем именно их. Частичное ознакомление с отписными книгами середины и конца столетия, с процессами их возникновения и составления, показывает, что их характер в течение 100 лет подвергся изменениям, и потому их характеристика для первых и последних десятилетий века не может быть совсем одинакова. Но мне кажется, что, может быть, особенно существенно дать характеристику этих неизученных документов именно для той эпохи, для которой они особенно необходимы из-за общей скудости и односторонности материалов. В виду этого я и решил сосредоточить в настоящее время свое внимание именно на отписных книгах первой четверти XVIII в.
Отписные книги XVIII в. явились результатом той „отписки“ движимого и недвижимого имущества „на государя“, которая так широко практиковалась в то время. Политические преступники, „нетчики“, лица имевшие на себе „начеты“, неисправные подрядчики и их поручители и т. п., — все они обычно подлежали этому виду наказания (помимо ссылки, тюрьмы, телесных наказаний и смертной казни). Случаи конфискации, напр., за политические или религиозные „вины“ имели место и в XVII в. (процесс кн. В. В. Голицына, боярыни Морозовой и пр.), но тогда они не были столь обыденным явлением, каким стали в начале XVIII в. (о причинах этого я говорю в другой работе, специально посвященной вопросу конфискации имуществ в эпоху Петра В.). Точно так же и конфискации по другим поводам из только что указанных, видимо, не часто имели место в XVII ст. Поэтому от XVII в. до нас дошло гораздо меньше отписных книг, чем от первой четверти XVIII в. По моему,
368
очень неполному* подсчету, основанному на изученных мною делах Поместного приказа, Канцелярии о конфискациях и Преображенского приказа, за первые 25 лет XVIII в. подверглись конфискациям имущества не менее чем 3000 лиц разного общественного и имущественного положения. Так как у большинства из них земли и дома, с громадным количеством живого и мертвого инвентаря, лежали в нескольких уездах и городах, число крестьянских дворов, им принадлежавших, насчитывалось десятками и сотнями, то можно себе представить, какое громадное количество народного имущества подверглось конфискации и связанным с нею последствиям за первые 25 лет XVIII в. Это до некоторой степени дает представление и о количестве отписных книг за этот период, так как вотчины и поместья какого-нибудь лица, лежавшие в одном уезде и составлявшие одно административно-хозяйственное целое, а дома, находившиеся в одном городе, входили обычно в одну отписную книгу.1 Таким образом „отписных книг“ (беря это слово как специальный термин) больше, чем лиц, подпавших под конфискацию, но меньше числа всех отдельных владений, отписывавшихся „на государя“ — поместий, вотчин и городских дворов. О количестве сохранившихся отписных книг начала XVIII в. и количестве материала, в них содержащегося, могут дать представление также следующие данные. Мною было просмотрено несколько десятков дел из фонда Поместного приказа (Архив III вотчинный),2 Канцелярии о конфискациях и секретных дел Преображенского приказа. В 27 делах Поместного приказа3 и 10 делах Канцелярии о конфискациях4 оказались описи почти 500 сел и деревень, расположенных в 79 уездах и принадлежавших 85 владельцам (при этом я не считаю тех помесаий и вотчин в названных книгах, которые только упо-
] Отписной книгой или, лучше сказать, „отписными книгами“, так как документы обычно употребляют этот термин во множественном числе, называется, таким образом, опись недвижимого и заключенного в нем движимого имуще сгва, представляющего одно целое в территориальном и хозяйственноадминистративном отношении и принадлежащего одному лицу: т. е. опись села такого-то с деревнями, дома или группы домов в городе и т. п.
1—535
2 Книги приказных дел разного содержания, № 5013115545*^ эт°м фонде
дела о конфискации имуществ в XVIII в. начинаются с книги 72/5105; тут дела 1700 г.
3 Книги 122/5165, 139/5187, 150/5199,162/5212,164/5214,165/5215,169/5219, 170/5220, 172/5222, 194/5248, 206/5259, 213/5267, 222/5277, 223/5278, 224/5279, 229/5285, 233/5290, 234/5291, 235/5292, 246/5307,253/5317,254 5318,255/5319, 260/5326, 266/5333, 270/5337, и 336/5413.
4 Книги 623, 763, 768, 770, 772, 773, 775, 780 и 1145; в этот фонд попали дела по конфискациям лишь с 1709 г.; главная масса дел, в нем сосредоточенных, относится ко времени с 1725 г. по 1780 г., заканчиваясь на 1782 г. В „Книгах Приказных дел“ главная масса документов охватывает время до 1729 г. (год учреждения „Канцелярии о конфискациях“), но есть документы и за последующие 20—25 лет.
. s-
24- Проблемы источниковедения
369
минаются в них, в лучшем случае с указанием числа крестьянских дворов, а имею в виду лишь те, которые действительно описаны, т. е. относительно которых имеются такие данные: о помещичьем дворе с его хозяйством, о крестьянских дворах с их имуществом, об оброке, барщине и т. п. Указанные описи распределяются по уездам очень неравномерно: так, по Московскому уезду у меня зарегистрированы описи 30 сел и деревень, по Рязанскому — 24, а по Алатырскому и Белевскому — всего по 1. В этих же книгах имеются описи нескольких городских владений. Наконец, в двух книгах (№№ 72/5105 и 177/5228) из фонда дел Поместного приказа имеются описи только городских владений.1
Таким образом в 39 „делах“, от 500 до 900 листов каждое, мы имеем описи очень значительного числа сельских и городских владений за первую четверть XVIII в. Я не думаю, однако, что мне удалось учесть все количество дошедших до нас и хранящихся в б. Архиве мин. юстиции в Москве (теперь ГАФКЭ) отписных книг начала XVIII в. (не говоря уже о тех, которые, вероятно, имеются в провинциальных архивохранилищах), но и то, что мне удалось учесть, представляет, мне думается, весьма внушительную цифру. В действительности же, повторяю, она несомненно гораздо выше. К сожалению, как показывают приведенные выше цифры, далеко не все отписные книги первой четверти XVIII в. до нас дошли или, во всяком случае, могут быть сейчас учтены: 500 отписанных сел и деревень, конечно, лишь небольшая часть того имущества, которое было в руках 3000 человек, подвергшихся этой каре и поддающихся учету по документам названных выше архивных фондов.
Уже одно обилие отписных книг делает их таким архивным фондом, который должен быть введен в научный оборот, а характер и качество их материала, как я постараюсь показать дальше, таково, что он, по моему мнению, является абсолютно необходимым для всякого исследователя помещичьего и крестьянского хозяйств XVIII столетия (отписные книги второй половины века, пожалуй, даже выше по качеству, чем книги первой половины). Впрочем, как увидим дальше, значение их еще шире. И нельзя не пожалеть, что отписные книги XVIII в. до сих пор не только не изучены, но даже не учтены и не обследованы.
Как создавались отписные книги в первой четверти XVIII в.?2 Этот вопрос имеет важное значение для характеристики всякого
1 В „Секретных делах“ Преображенского приказа описей отписного имущества я не встретил, а нашел лишь документы по процессам о конфискации.
2 Я буду иметь в виду в дальнейшем главным образом отписные книги на поместья и вотчины; об описях городских дворов скажу особо.
370
исторического памятника, и потому я считаю необходимым на нем остановиться. В это время не было специального учреждения, которое ведало бы делом конфискации имуществ (так наз. „Канцелярия о конфискациях“ была создана, как уже указано, лишь в 1729 г.). В зависимости от того, каков был характер преступления, которое влекло за собой согласно тогдашней практике конфискацию имущества, или в зависимости от того, с каким учреждением был связан служебными или деловыми отношениями подпадавший этой каре, возбуждение вопроса о конфискации могло исходить от Военной коллегии, Юстиц- коллегии, Сенатской канцелярии, Канцелярии розыскных дел, Ямского приказа, Приказа артиллерии, и т. д. и т. д.
Получив указ о конфискации движимого и недвижимого имения такого-то, соответствующее центральное учреждение обращалось в Поместный приказ, а потом в Вотчинную коллегию (или контору в Москве), с предложением выяснить на основании указа такого-то, в каких уездах и городах находятся движимые и недвижимые имения лиц, упомянутых в указе.1 Поместный приказ, а потом Вотчинная Контора, наводили в своих архивах справки, где такие имения значатся. Копии указа раздавались по столам и повытьям, которые давали письменные справки по каждому городу и уезду, „которые ведомы в Поместном приказе“. Если справка была положительной, то писец, дававший ее, указывал, что по переписным книгам 186 года (я не встречал ссылок на переписи 1711 г. и 1721 г.) в таком-то уезде значится столько-то дворов и столько-то четей земли в вотчине или поместье таких-то. Кроме того, справки делались в „сказках" Генерального двора 1700 г., в дачах и отказных книгах разных годов, в записях мены, продажи, „поступки" и т. п. Вот одно из распоряжений по Поместному приказу о наведении справок по поместьям и вотчинам кн. Г. И. Волконского и В. А. Апухтина (1714 г.): „Декабря в такой-то день, Московского стола подьячим всех повытей выписать из дач и с переписных и с отказных книг и по делам в ящиках за В. А. сыном Апухтиным да за кн. Григ, княж. Иваном сыном Волконским, что за ним поместей и вотчин, в которых уездех и станех и волостех, в селех и деревнях и пустошах, и что в них четвертные пашни и крестьянских и бобыльских дворов и всяких угодий порознь, а выписав снесть в стол вотчинной записки сего числа неотменно".2 Расписавшись в получении этого распоряжения, подьячие принимались за справки и потом подавали их в таком виде; „В книгах Московского у., письма и меры Ф. Пушкина да дьяка Андр.
1 Не лишне, может быть, будет отметить, что в практике конфискации имуществ за все первые 25 лет XVIII в. не делалось никакой разницы между поместьями и вотчинами.
2 Дела Пом. Прик., кн. 164.
24*
371
Строева 135 и 139 году в Замыцкой волости в поместьях написано", и дальше: „и во 166 году жеребей такой-то он продал", или: „а во 194 году он заложил то-то", и т. п. В конце справки сказано: „Выписано из отказных книг в десть, с 700 по 709 г., глава 91-я. По Москве справливался и выписывал Ф. Мирицкой по росписям и по азбукам". По второму повытью справка об имениях В. А. Апухтина и кн. Г. И. Волконского была дана такая: „По вел. Новгороду, Твери и т. д. за такими-то поместий и вотчин, крестьянских и бобыльих дворов по дачам и по переписным и по отказным книгам и в ящиках не сыскано. Справливал подьячий такой-то".
Когда справки по всем столам и повытьям были сделаны, подводился итог: за такими-то в таких-то уездах значится столько-то четей земли и столько-то крестьянских дворов.
Справки подьячих Поместного приказа не всегда были верны и точны (явление, известное нам по целому ряду фактов и другого порядка). В документах первой четверти XVIII в. сохранилось не мало указаний, напр., на то, что Поместный приказ неправильно числил какую-нибудь вотчину или поместье за тем или иным лицом. Когда отпищики являлись на место, то оказывалось, что данная вотчина принадлежит совсем другому, и вотчинные власти представляли об этом особые „сказки". Так, когда отпищики приехали в Новосильский уезд, в дер. на Большой реке Зуше (28 января 1715 г.), считавшуюся за кн. Г. И. Волконским, то староста Тим. Яковлев сын Мешков с товарищи, „сказал по святей евангельской заповеди, господи ей-же-ей вправду", что дер. Изуша была за кн. Волконским и подати они ему платили „тому назад 3 года, а после тех лет владел тою деревнею и крестьяны и всею землею и подати всякие брал Иван Семенов сын Хрущов, а по дачам ли он или по каким крепостям тем владел, про то он сказать не знает", и не дальше как 27 декабря 1714 г. крестьяне отвезли ему в Москву на 20 подводах рожь, пшеницу и оброчное мясо. Тем не менее в данном случае отписка была произведена и отписные книги составлены, а майор И. С. Хрущов подал челобитную об отмене отписки, так как поместье его, и „отписка" была потом аннулирована.1 Вот еще другой случай. По справке Поместного приказа за князем Г. И. Волконским значилось в Боровском уезде с. Костомарово с деревнями, но боровский комендант доносил в январе 1715 г. в Помести, приказ: „В г. Боровске, в съезжей избе, комендант А. Ф. сын Челищев сказал", что прислан подьячий для отписки поместий и вотчин кн. Г. И. Волконского, с. Костомарова с деревнями и т. д., но что „в Боровском уезде, в Козлоброцком стане и ни в которых стенех с. Костомарова с деревнями и пустоши и с починки нет и не бывало и по переписным книгам 186 г. и по описным
1 Арх. III Вотчин, кн. 164, дл. 5—7.
372
710 г. прошлого 714 г. но написано“ (там же, л» 218). Когда в июле 1723 г. подпрапорщик Елисей Савинов сын Дуров и подьячий Ст. Афонасьев с фискалом Гладышевым были посланы в Веневский, Епифанский, Дедиловский и Тульский уезды в недвижимые имения дьяка Вас. Нестерова, секретаря Макара Беляева и его отца Степана, Ив. Хомякова и кн. Вас. Гагарина, то они переписали недвижимые имения Макаровых и Хомякова в трех уездах, а „дьяка В. Нестерова в Веневскому., в Елненском стане, в с. Холтобине двух четвертей без четверика и кн. В. Гагарина в Епифанском у., в Себинском стане Кленового верха на р. Муровлянке на гнилом ржавце с урочищи двух сот четвертей и людей их и крестьян не нашли и о том в тех приходах у священников и разных сел и деревень у людей и у крестьян взяты сказки за руками, в которых сказках написали, что таких недвижимых и движимых имений у них в селех и деревнях и в урочищах нет и не бывало ц те их сказки при сем доезде“ (там же, кн. 233). Гораздо чаще бывали ошибки в числе четей земли или крестьянских дворов. Если первые могут быть объяснены какими-то неправильностями или пробелами в архивных документах Поместного приказа, то вторые объясняются, вероятно, почти исключительно устарелостью сведений Поместного приказа: он в 1715 г. или даже в 1725 г. ссылался на переписные книги 1678 г. или „сказки Генерального Двора“ 1700 г.; ясно, насколько они могли соответствовать реальной действительности, особенно имея в виду чрезвычайную подвижность населения России в первой четверти XVIII в.
Указаний на ошибки в числе дворов в документах можно найти гораздо больше, чем на ошибки в числе четей земли. Объясняется это тем, что при „отписке“ обмера земли не производилось, а вотчинные власти либо сами не знали ее количества, в чем они не раз сознавались, либо определяли ее размеры количеством высеваемого хлеба. Поэтому отпищики, занося в отписные книги данные о посеве, урожае и т. п., обычно указывают в то же время размеры поместья по справкам Поместного приказа. Число же крестьянских дворов всегда пересчитывалось, и вот тут-то и обнаруживается расхождение с данными Поместного приказа. Судя, однако, по тону документов, отпищики не видели в этом ничего особенного и обычно они сами это расхождение и не отмечают, но исследователю документов установить это ничего не стоит.
Когда Поместный приказ заканчивал наведение справок о поместьях и вотчинах такого-то, делались распоряжения о производстве отписки. К воеводам, комендантам или ландрих- терам—„в городы“, как говорят документы, посылались указы, которыми предписывалось произвести отписку соответствующих поместий и вотчин, причем предварительно Помест¬
373
ный приказ запрашивал (напр., по делу Н. Т. Ржевского в 1714 г.)1 у Губернской канцелярии, к кому пишут в города, в которых были имения Ржевского. Если подлежащие конфискации владения лежали за пределами Московского уезда, то власти соответствующего уезда должны были сами послать „подьячего добра" и велеть ему, приехав в такой-то уезд, во все станы и волости, в поместья и вотчины такого-то (тут, кроме уезда, назывался стан, село или деревня, с указанием иногда на реку, на которой они лежали — все согласно справки Поместного приказа) и „где за ним в уезде явятца" (как бы на всякий случай прибавлялось в указе), „взяв с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да при тех людех в тех ево поместьях и вотчинах переписать помещкцкие и вотчинные также и крестьянские и бобыльские и задворных и деловых людей дворы и в них людей поименно и места дворовые и пашню и сено и лес и всякие угодья и лошади и всякий скот и птицы и всякой домашней завод и хлеб молоченой и в житницах и немолоченой в гумнах и в земле посевной и все, что ни есть, переписав, отписать на вел. государя", а чтобы отписное имение он поручил „тем людям, и все отдал им с роспискою, да те книги за руками тех людей, которые на той описи будут и за своею рукою привести к вел. государю к Москве и книги подать и самому явитца в Пом. приказе Кириле Лаврентьичу Чичерину с товарищи“.1 Затем воеводам предписывалось одни отписные книги прислать в Поместный приказ, а другие оставить у себя, в Приказной избе, „впредь для ведома" (там же, л. 79).
Если конфискуемые имения лежали в Московском уезде, или в соседних и вообще вблизи от Москвы, то подьячих для отписки посылал сам Поместный приказ. Так, для отписки поместий и вотчин Н. Т. Ржевского в Звенигородском уезде был послан подьячий приказа Вас. Протопопов (в январе 1715 г.). В этом случае Звенигородскому коменданту было послано от Поместного приказа распоряжение, в котором, по изложении указа о конфискации, он уведомлялся, что для исполнения его послан подьячий такой-то, и дальше говорилось: „и как ты сей вел. гос. указ получишь и ты-бы оному подьячему для письма подьячих и для рассылки служивых людей и бумаги и чернил приказал отправить и о вспоможении оному подьячему в том отписном деле чинить по его в. г. указу, а буде ты оному подьячему вспоможения чинить не станешь и за то на тебе допра- влен будет штраф" (там же, л. 85).
Однако в деле кн. Г. И. Волконского и В. А. Апухтина отписку во всех уездах производили подьячие Поместного приказа. Может быть, их крупное служебное положение (оба были сенаторами), значение процесса, который против них велся,
1 Дела Пом. прик., кн. 164, л. 77-
374
может быть, обширность и богатство их поместий и вотчин, может быть, крупный начет в несколько сот тысяч рублей, который на них был сделан (по делу о подрядах и поставках), но Поместный приказ отступал от обычной, как мне кажется, практики и непосредственно произвел отписку их имений. Из Приказа были посланы старые подьячие, а в помощь им воеводы должны были дать своих подьячих и служилых людей, а кроме того они обязаны были снабдить их бумагой, чернилами и свечами, „чтоб ни в чем остановки и мешкоты не было“. Подьячим, которые были отправлены по наказам для отписки поместий и вотчин кн. Волконского и Апухтина, была составлена роспись, и между ними были распределены уезды, в которых по данным Поместного приказа значились подлежавшие конфискации имения. Так, одним были назначены по одному уезду, а другим по два и даже по три соседних, напр.: Боровск и Малоярославец, Тула и Солова, Чернь и Новосиль, Орел, Волхов и Карачев и т. п.
Отправка Поместным приказом своих подьячих в дальние уезды имела место еще в таких случаях. Для отписки поместий и вотчин Н. Т. Ржевского в Тульском уезде Тульскому коменданту было предписано Поместным приказом послать своего подьячего. Но так как с мая 1714 г. по январь 1715 г. из Тулы не было получено отписных книг, из Москвы был послан подьячий Поместного приказа (там же, л. 57).
Отписку конфискуемых имений производили, как уже не раз указывалось, подьячие местные или московские; иногда и те и другие вместе; в помощь им давались служилые люди и солдаты. Но в некоторых случаях в роли „отпищиков“ выступали и другие лица. Так, в Волховском уезде, Киевской губ., для отписки поместий и вотчин Н. Т. Ржевского от воеводы с выборными дворяны был послан дворянин Сила Пальчиков. В конце составленных здесь отписных книг читаем: „А для взятия сторонних людей были служилые люди болховские солдаты такие- то, а для береженья в вышеписанном с. Богословском велено .быть болховитину дворянину Василию Маркову сыну Арнаутову и вышеписанным сторонним людем“. Но отписные книги подал в Поместном приказе 1714 г. октября в 13 день Киевской губернии подьячей Ф. Степерев (там же ). Точно так же опись поместья Ив. Петр. Лопухина в 1718 г. в Кромском уезде „по данному наказу Корачевской провинции от господина ландрата Егора Сем. Неплюева“ произвел дворянин Иван Коломнин.1 Имения кн. В. Гагарина в Курмышском уезде отписывал алатор- ский прапорщик Ив. Фурков, а имения И. С. Сафонова в Рыль- ском уезде — дворянин, рыльский помещик, Лука Никифоров сын Молеев с подьячим Як. Никольским, и т. д.2 Чем объяснить
1 Дела Пом. прик., кн. № 253, л. 746,
2 Там же, кн. 233.
275
появление именно в данных случаях в роли „отпищиков“ дворян вместо подьячих, я не знаю, но могу только отметить, что в 1715—1725 гг. дворяне часто выступали в роли „отпшциков“. Надо думать, что это стоит в связи с той новой ролью, которую стало играть дворянство во вторую половину петровского царствования.
В отписных книгах конца Первой четверти XVIII в. в роли „отпищиков“ на ряду с подьячими выступают фискалы от купечества.1 Так, для отписки с. Мосцова с деревнями в Боголюб- ском стане Владимирского уезда, принадлежавшего прокурору Ив. Отяеву, ездил в апреле 1723 г. владимирский подьячий с фискалом от купечества В. Мыльниковым, в Суздальский у., в с. Воронцово — подьячий Суздальской канцелярии тоже с фискалом от купечества, в Юрьево-Польский уезд — подьячий Юрьевской канцелярия Ф. Елин с фискалом Ст. Шенгуровским.2 *
При описи вотчин г.-м. Скорнякова-Писарева в Московском уезде, в том же 1723 г., был фискал от купечества И. Шмаков.8 Предписание в общей форме о присутствии фискалов при отписках было сделано при отсылке указа из Гос. Вотчинной коллегии в СПб. Вотчинную контору в начале 1723 г. о конфискации у 12 вице-президентов и асессоров надворных судов (за долговременное их в те надворные суды ко управлению дел неприбытие) их недвижимых имений4 и т. п. Надо думать, что присутствие фискалов при отписках было введено для контроля над подьячими, а также для более правильной оценки имущества, включенного в опись. Вся предварительная процедура по составлению отписных книг в это время оставалась прежняя; изменилась только несколько терминология документов. Так, в только что названном деле 12 вице-президентов и асессоров Вотчинная коллегия по получении соответствующей промемории из Юстиц-коллегии предписала Вотчинной конторе „справясь подлинно и учиня с писцовых и из переписных и с отказных книг из дач обстоятельную выписку, об отписке на е. и. в. при фискале в городы, в которых за ними недвижимое имение явица, к воеводам послать указы из той конторы“, „а что по выписке явица и отписано будет дворов и в них людей обоих полов и пашни и сена и лесу и хлеба и скота и птиц и всяких угодий и заводов и в которых уездех в селех и в деревнях и пустошах порознь, тому всему учиня выписку с подлинным известием при отношении прислать в Вотчинную коллегию немедленно“. Дальше следовали распоряжения по „столам“, канцеляристам, подканцеляристам и копиистам, „справясь подлинно в самом
1 Должность фискалов была введена одновременно с учреждением Сената в 1711 г. Должность фискалов от купечества была введена указом 17 III1714 г.
2 Дела Пом. прик., кн. 234.
8 Там же, кн. 223.
* Там же, кн. 233/5290.
376
скором времени выписать по азбукам и по росписям и по писцовым, по переписным и по отказным книгам и по своим делем и в делах умерших и от былых подьячих в другие канцелярии и коллегии и по выметкам с приходных книг и по дачам“.
Когда вся описанная подготовительная процедура была закончена, наступал самый момент составления отписных книг на месте. Правительство несомненно было заинтересовано в том, чтобы отписные книги отражали истинное состояние конфискуемого имущества. Ведь эти имущества с момента отписки поступали в его распоряжение; они могли быть кому-нибудь пожалованы, проданы для возмещения убытков казны от действий тех лиц, кому они принадлежали раньше (напр., по очень многочисленным в то время делам о растратах, о невыполнении поставок и подрядов, под которые были взяты авансы из казны и т. п.), доходы с них шли в казну, и проч. В виду этого правительство считало необходимым принять ряд предохранительных мер, дабы не было, с одной стороны, утайки имущества, а с другой — его утечки в дальнейшем. Меры эти были следующие.
В указе Елецкому ландрихтеру и Тульскому коменданту по поводу отписки имений кн. Г. И. Волконского и В. А. Апухтина Поместный приказ писал (в 1715 г.), что в наказе подьячим велено написать, чтобы они, „отписывая крестьянские дворы и всякий завод и что с них в год сходило со всякою подлинною о всем очисткою, паче же истинною правдою не утая ничево в чем при посылке тех подьячих велеть им подписатца своими руками, ежели они при той переписи учинят какую неправду или что утаят под потерянием живота и всего имения своего, то взыщется все на них с жестоким истязанием“.1 В соответствии с этим донесения подьячих о произведенной ими отписке сопровождаются обычно клятвенными уверениями, что отписку они произвели по совести.
Во-вторых, подьячим предписывалось, „не доезжая того села“, взять „тутошних и сторонних“ людей в качестве понятых; своими подписями (обычно за их неграмотностью расписывался „по их прошению“ священник или дьячек) они должны были свидетельствовать, что отписные книги составлены правильно. Из документов, однако, не видно, действительно ли они присутствовали во время составления книг (в больших имениях отписка могла затянуться на несколько дней) или им только прочитывался текст отписки и они его скрепляли подписями (точнее говоря, скреплял от их лица священник или дьячек, как уже сказано).
В третьих, сам подьячий должен был не только подписаться в конце отписных книг, но и скрепить их своею подписью по листам.
1 Дела Пом. прикм кн. 164, лл. 176—177.
377
В четвертых, сведения, заносимые в отписные книги, должны были быть подкреплены показаниями прикащиков, старост, целовальников и выборных, и в тексте книг мы постоянно встречаем ссылки на это. По вопросам же об оброках, столовых запасах и барщине от вотчинных властей отбиралась особая „сказка“, или „ведение“, которые за соответствующими подписями присоединялись к отписным книгам.
Наконец, как уже тоже указано, в 20-х годах к подьячим стали присоединять фискалов.
Достигали ли все эти меры цели? Действительно ли в отписные книги попадало все имущество, подлежавшее конфискации? Уже а priori можно было бы сказать, что в действительности это было не совсем так. Но есть факты, которые засвидетельствованы документально и с несомненностью указывают, что злоупотребления бывали.
В 1718 г. производилась опись поместий и вотчин А. В. Кикина в Новгородском уезде.1 При описи Коростынского погоста, как устанавливают документы, было скрыто несколько десятков лошадей и коров: их ночью выводили из конюшен и хлевов и прятали в соседних деревнях; кроме того, вывозили хлеб, и, наконец, приказчик Яков Неклюдов уже после прибытия „отпищика“ „из тово ево помещикова дому вынес три сундука окованы железом с пожитки и снес к священнику“ (там же, л. 323). В 1700 г. было конфисковано имущество Вас. Со- ковнина.1 Как выяснилось потом, часть его была скрыта, но по извету бывшего „послуживца“ Вас. Соковнина Петрушки Татарина была найдена у Ал. Милославского в его доме, у боярина Ф. П. Шереметева и у его сестры кн. М. Львовой. В 1701 г. и эта часть имущества Соковнина была описана.
Бывали при производстве описей злоупотребления и другого рода, но за которыми, видимо, скрывалась тоже „утайка“ или во всяком случае неточное занесение в опись имущества. В январе 1715 г. подьячий Ив. Васильев описывал вотчину кн. Г. И. Волконского в Елецком уезде с. Студенеци с. Шилово.2 В феврале человек с. Шилова Роман Яковлев прислал кн. Марье Елисеевне письмо, в котором сообщал, что подьячий Ив. Васильев приехал 28 января и описал вотчину, а потом „взял своим изволом вашего хлеба себе муки рженой 3 ч. и пшеничной муки осмину, маку четверик, семя конопляного осмину, да холста сурового сшил мешки на хлеб, а подвод взял четыре, да стюденецких две, итово шесть подвод“, „да в селе Студенце взято рженой муки 3 ч., круп гречневых одна четверть, три горшка масла“. По челобитной кн. Волконской Поместный приказ нарядил по этому поводу следствие. На допросе И. Васильев показал, что „взятков никаких денежных не имал, а принесли-де ему в почесть,
1 Дела Пом. прик., кн. 72.
2 Там же, кн. 164, л. 615 и сл,
378
не в посул и не в разорение, не за устрастием и не напатками самовольно села Шилова да села Студенец старосты и выборные крестьяне с села Студенец три четверти муки ржаной, круп гречневых одну четверть да две кринки масла, а с села Шилова с деревнями три четверти муки ржаной... и он-де, Иван, то у них принял за прошением в почесть". За подводы же он якобы уплатил кн. Волконской 3 руб. 15 февраля Поместный приказ постановил относительно Васильева: „за преступление указу и за взятки с отписных крестьян бить батогами вместо кнута, сняв рубашку, нещадно, взятой запас на нем доправить и отослать в дом кн. Г. Волконского и отдать дому его служителю с роспискою, а о деньгах его за подводы взять у стряп- чева ведение". Таким образом факт злоупотреблений был признан Поместным приказом. Из документов не видно, было ли это простое вымогательство подьячего, или же, может быть, он был в стачке с вотчинными властями, но чего-то обе стороны не поделили, и потому возникло это дело. Во всяком случае можно предполагать, что опись с. Студенца и с. Шилова, произведенная Васильевым, не дает полной и правильной картины состояния этой вотчины кн. Волконского. В частности же, надо думать, в нее несомненно не включены те запасы, которые он вывез с собой в Москву и которые, по словам Р. Яковлева, он взял из помещичьего хлеба.
Хотя эпизоды подобного рода засвидетельствованы документами в немногих случаях, я думаю, что можно безо всякой ошибки признать, что они не были редким явлением. А в этом случае приходится сделать такой вывод: отписные книги, вероятно, не вполне учитывают то имущество, которое в каждом отдельном случае подвергалось конфискации, „утайка" его бывала, и потому мы, возможно, не имеем вполне точной характеристики тех хозяйств, которые принадлежали дворянам, подвергавшимся опале; в описях, возможно, показано меньше, чем его было в действительности; это было в интересах и прежних владельцев, и вотчинных властей, и самих „отпищиков". На ряду с этим, я полагаю, можно безошибочно утверждать и обратное: в описи не попадало ничего лишнего, ничего сверх того, что имелось в наличности в действительности; это не было в интересах никого из тех, кто был прикосновенен к акту конфискации.
В целях сохранения в дальнейшем конфискованного имущества оно обычно отдавалось на сбережение вотчинным властям, а в городах — „домовым служителям", под расписку; к конфискованному имуществу в городе, кроме того, приставлялся часто особый караул (один случай отдачи под охрану со стороны сельского имущества указан выше). О состоянии имущества, расходовании запасов, ведении хозяйства и т. п. вотчинные 11 Дела Пом. прик., кн. 172.
379
власти и домовые служители должны были присылать отчеты в Поместный приказ, и от него получали всякого рода указания по этим вопросам. Выяснение того, к чему это приводило на практике, составляет, однако, особую тему, которую я постараюсь осветить в другой работе; к вопросу о характере и значении отписных книг, как исторического источника, это не имеет ближайшего отношения.
Какова была процедура составления описи конфискуемого имущества на месте, а тем самым каков был процесс создания отписных книг? Как уже указывалось, „отпищик" должен был взять с собой понятых, „тутошних и сторонних людей“, не доезжая того села или деревни — очевидно, с целью иметь при описи менее заинтересованных и потому более беспристрастных свидетелей. В их присутствии и, вероятно, при их участии, а также в присутствии и при участии вотчинных властей — приказчика, старост, целовальников и выборных крестьян, он производил опись. Какова именно была при этом роль „тутошних и сторонних" людей, из документов не видно, и, поскольку опись больших поместий и вотчин, особенно в зимнее время, несомненно затягивалась на несколько дней (в одном случае вотчинные власти жаловались бывшему владельцу, что отпищик пожег целый пуд свечей — значит, он прожил тут долго), можно думать, что эта роль, особенно в таких случаях, была пассивной. Лишь в очень немногих случаях документы дают ссылки на показания „тутошних и сторонних людей"; обычно это в тех случаях, когда деревня пуста, помещичий двор брошен; в этих случаях „отпищик", очевидно, не имел других доказательств правильности своих записей в отписных книгах, кроме ссылки на слова этих людей. Во всех же остальных случаях, повторяю, мы их участия в составлении отписных книг не видим. Это свидетели, которые, вероятно, не всегда и не все время были на месте, но которые призывались, когда акт описи был кончен и его надо было скрепить „приложением рук".
Иной была роль местных вотчинных властей. На их показания отпищики постоянно ссылаются. Эти показания были совершенно необходимы, когда дело доходило до учета хлеба, посеянного в земле, до определения умолота с копны, до установления количества хлеба и фуража, необходимых на выдачу месячины дворовым и деловым людем и на корм скоту и т. д. Наконец, только на основании их показаний, по их особой „сказке", вносились в опись данные об оброках, барщине и столовых запасах, платимых помещику.1
Остальная часть данных, вносившихся в описи, — результат личного обхода и осмотра имения самим „отпищиком" („Да по
1 В одном случае — при отписке с. Митинского, Рязанского уезда, в 1723 г* „сказка“ приказчика и старосты была сказана 2 октября „в канцелярии Резан- ской провинции перед господином полковником и Резацской провинции перед воеводою В. А. Новиковым“ (об оброке и столовых запасах, там же, хн. 233).
380
осмотру на сенных лугах покошенного сена складено восемь скирд“, читаем в одной описи 1723 г. — кн. 233). Читая отпис- ные книги, мы ясно видим, как он идет по двору, входит в вот- чинниковы хоромы, обходит их горницы за горницей, выходит из них и производит осмотр хозяйственных построек, конюшенного и скотного дворов, идет потом в сад, на мельницу и т. д. При этом, как можно предполагать, таких непосредственных обходов и осмотров было летом больше, чем зимой.
Имел ли „отпищик“ в своем распоряжении какие-либо документы, касающиеся описываемого им имения? Это бывало в очень редких случаях (если, конечно, не считать привезенного им „наказа“, в котором суммарно указывалось количество четвертей земли и число крестьянских дворов, значившихся в этом имении по данным Пом. приказа.) „Наказ“ отпищику иногда предписывал взять у крестьян, целовальников, старост и приказчиков не только „подлинное известие“, но и книги, но обычно местные вотчинные власти ссылались на то, что разные „крепости“ и „записные“ книги приходу и расходу, ужинные и умолотные и т. п. находятся у их бывшего помещика. В некоторых случаях, однако, документы подобного рода предъявлялись. Так, в опись с. Б. Клин, Тульского уезда, кн. М. П. Гагарина, были внесены данные из „приходных книг“.1 В отпис- ных книгах по его же отписной мельнице в Туле тоже находим копию из приходных и расходных книг.2 В отписных книгах по с. Духановке, Путивльского уезда, Я. Н. Корсакова,3 находим ссылку на отказные книги (при учете земли, которые, возможно, были предъявлены на месте). Но это исключения, правилом же было полное отсутствие документов на месте (или во всяком случае — непредъявление их; как дело было в действительности— мы установить не можем). Разумеется, сокрытие при этом истинных данных о посеве, умолоте, урожае и т. п. со стороны вотчинных властей было вполне возможно; сведения же, дававшиеся ими об оброке, барщине и столовых запасах, вероятно, более соответствовали действительности, так как могли быть проверены справкой у бывшего помещика и в имевшихся у него записных книгах (в трех случаях я нашел в документах собственные показания лиц, подвергшихся опале, и в том числе в одном случае показания о получавшихся доходах).4 Но, конечно, нельзя отрицать и того, что в этом случае у вотчинных властей было немало побуждений скрыть истинное положение вещей: сделавшись „отписными“, они продолжали нести барщину, платить оброки и вносить деньги за столовые запасы; естественно было стремиться уменьшить размеры всего этого.
1 Дела Пом. прик., кн. 206, л. 601.
2 Там же, л. 577 и сл.
3 Дела Канцел. о конфискац., кн. 768.
4 Там же, кн. 769, л. 120—124, кн. 768, л. 385—386, л. 59—77, кн. 770, л. 126—129.
381
Перейдем теперь к рассмотрению содержания отписных книг и характера имеющегося в них материала.
Если отписное имение было селом, то отписные книги почти всегда начинались описанием церкви, хотя в наказах „отпищи- кам" на этот счет никаких прямых указаний не было. Церкви не подлежали конфискации, но имущество, в них находившееся, бралось, так сказать, на учет. Объясняется это, очевидно, тем, что церкви были либо помещичьим, либо „мирским" строением; их нельзя было причислить к хозяйству той или иной вотчины, но в то же время на их имущество смотрели, очевидно, как на часть имущества вотчинника и потому брали его на учет. Впрочем, встречаются случаи, когда отпищик, упомянув о церкви и назвав ее каменной или деревянной, не описывал ее имущества. Повторяю, что в наказах на этот счет не было прямых указаний. Имеющиеся в отписных книгах описи церквей содержат, кроме указаний на то, в честь какого святого или праздника и из какого материала она построена, подробное перечисление икон, крестов, облачения, священных сосудов, книг и т. п. Степень детальности и точности, конечно, очень разнообразны; никаких образцов, как мы бы сказали, инвентарных книг, ведь у „отпищиков" не было под руками. Для церковной археологии эти части отписных книг несомненно представляют большой интерес и значение. Здесь, надо думать, они наиболее полно и точно отображают действительность. О стиле постройки и ее внутреннего убранства мы в отписных книгах не найдем ничего; эти вопросы, вполне естественно, не интересовали отпищиков. Описания домов причта описи тоже не дают и по вполне понятным причинам, но данные о руге, которая шла от помещика на церковь и причту, они сообщают. Если при церкви бывали богадельни (я нашел в отписных книгах первой четверти XVIII в. 3 указания на это), то отпищик сообщает данные о числе „богаделенных" людей и о получаемом ими от помещика содержании. Следующая часть отписных книг, — а при описях деревень первая, — это описание помещикова или вот- чинникова двора. Это главная, центральная их часть, так как в этом дворе было сосредоточено главное имущество всего имения. Описав забор вокруг двора и ворота, которые в него вели (обычно с указанием на породу дерева, раскраску, отделку и т. п., и так же обычно без всякого указания на размеры двора, так как при деревенском просторе и дешевизне земли это, очевидно, в глазах „отпищика" не имело значения), отпищик приступал к описанию хоромного и домового строения. Описание хором обычно делается в отписных книгах с большой подробностью, так что мы можем составить себе довольно ясное и отчетливое представление и о их внешнем облике и обо всем внутреннем убранстве; конечно, описание отдельных предметов внутренней обстановки очень далеко от нынешних музейных инвентарных описей, определения некоторых предметов часто
382
неясны и противоречивы, но в общем они дают цельную и яркую картину того, как жили помещики в своих усадьбах в начале XVIII в. Если в случаях возможной утайки отдельных предметов обихода и обстановки отписные книги, может быть, чего-либо и не дорисовывают, то в самой характеристике этих предметов они, надо думать, вполне соответствуют действительности. Мебель, иконы, картины, посуда, платье и т. п. — все это проходит перед исследователем в кратких, сжатых, но в то же время, в общем, в точных определениях. Особенно я считаю точно отражающими действительность описания внешнего вида жилых помещений, т. е. полов, стен, потолков, окон, дверей, печей и т. п. По самому характеру материала искажения действительности тут наименее возможны и вероятны. Таким образом, для бытовой археологии начала XVIII в. отписные книги дают несомненно ценный, обильный и, я думаю, незаменимый чем-либо другим материал; ценность его возрастает еше от того, что вещей частного дворянского обихода начала XVIII в. сохранилось очень мало. Когда „отпищик" переходил к описанию хозяйственных и служебных построек, расположенных во дворе, он давал краткую характеристику каждой отдельной постройки, указывая из какого материала она построена, под какой крышей, в один или в два этажа, и т. п.; не хватает, к сожалению, указаний на размеры их (этих данных мы не находим в отписных книгах за отдельными исключениями и относительно хором); если бы мы имели эти размеры, то картина помещичьего двора со всеми его постройками была бы для нас вполне ясна. При описании изб приказчиков „отписчики“ обычно перечисляют и тот несложный инвентарь обстановки, который они в них находили, но личное имущество приказчика и его семьи — платье, посуда и т. п., в описи никогда не включалось. Избы или клети, занятые дворовыми и деловыми людьми, описываются всегда только снаружи; внутрь их „отпищики", видимо, не заглядывали.
Описывая хозяйственные постройки — амбары, сараи, кладовые и т. п., „отпищики“ всегда перечисляют то, что находилось внутри: запасы хлеба и других съестных припасов, запасы железа, кож, шерсти, пеньки, всякий домашний скарб — бочки, кадки и т. д. и т. д. Хлеб указывается в мерах емкости, масло, мед, шерсть — в мерах веса, кожи и железо — счетом, и т. п. В документах нет указаний на то, чтобы хлеб перемеривали, а масло или шерсть — перевешивали; цифры описей, вероятно, основывались на „сказках" приказчиков и старост, и вполне возможно, что они не вполне соответствовали действительности, но с другой стороны я не знаю, в каких еще документах той эпохи можно найти сведения подобного рода. Относясь к ним критически, мы можем, я полагаю, пользоваться ими для характеристики хозяйственного обихода помещика начала XVIII в. Странным только является отсутствие в этих
383
частях „отписных книг" указаний на мертвый сельскохозяйственный инвентарь: сохи, бороны, косы, телеги и т. п. (описание помещичьих экипажей, седел, сбруи и т. п. там, где они были, описи всегда дают). Объясняется это тем, что в значительной части известных мне отписных имений помещичьей запашки не было, крестьяне были на оброке. В этом случае естественно не было и сельскохозяйственного инвентаря. В тех имениях, где помещичья запашка была, обработка земли велась, возможно, орудиями крестьян, и потому в описи хозяйства помещика эти орудия отсутствовали. При описании конюшенного, скотного, птичьего, псарного и других дворов „отпищики", охарактеризовав кратко их постройки, обычно подробно перечисляют лошадей и коров — указывается их порода (лошади немецкие, ногайские и т. п.), возраст, приметы, и т. п.; овец, свиней и птицу они заносят в книги обычно только счетом, но иногда указывается и их порода — овцы черкасские, свиньи „чюцкие" и т. п. На гумне, в житницах и овинах они показывают количество разного хлеба в копнах, возах, телегах и мерах емкости, обычно ссылаясь на показания приказчиков и старост; скирды хлеба и стога сена иногда измерялись кроме того мерами длины — вдоль, поперек и вверх. Тут же иногда приводятся данные (с теми же ссылками) об опытах умолота из копны или овина и количестве хлеба и фуража, которое потребуется на прокорм скота и птицы в течение ближайших месяцев, а то и целого года. Переходя в сад и огород, „отпищики" почти всегда указывают их размеры в саженях, называют породы деревьев и кустов, давая общую их цифру, производят счет гряд с овощами по их сортам и т. д. Если в саду или около есть пруд, всегда по „сказке" приказчика указывается, какая в нем сажаная рыба. Если на пруду или реке мельница, всегда указывается число поставов в ней и способ ее эксплоатации: „мелет про помещиков обиход" или в аренде у такого-то и по такой-то цене. При некоторых усадьбах были винокуренные заводы, солодовни, кузницы и пр. В этих случаях всегда описывается их оборудование и способы эксплоатации.
Население помещичьего двора — приказчик, задворные и деловые люди описываются обычно по семьям; при этом все члены семьи перечисляются поименно с указанием пола, возраста и взаимного родства; кроме того, указывается национальность — когда это не были великороссы, происхождение (пленный, выходец оттуда-то и т. п.) и должность в хозяйстве. Наконец, указывается, какую кто получает месячину. Относительно задворных людей указывается пашня, которую они на себя пашут. Если кто из задворных и деловых людей имел скот и птицу, сведения об этом тоже обычно заносятся в отписные книги. Тут же находим сведения о беглых, умерших, вывезенных и привезенных людях, и пр.
334
Пербходя к описанию пашни, „отпищики" поступали по-разному. В одних случаях они просто указывают число четвертей, которые считались в данной вотчине или поместье, беря цифру их из своего „наказа“, в других они расчленяют общее количество пашни по отдельным деревням, входившим в состав вотчины или поместья; так как в „наказах“, которые они привозили с собой, таких данных не было, то, очевидно, они вносились в отписные книги по „сказкам“ местных вотчинных властей (ссылки на это иногда встречаются);1 наконец, нередко на основании этих же „сказок“ дается оценка земли — перелог, лесом поросла, добрая, средняя или худая и даются сведения, в каком поле, что и в каком количестве посеяно в десятинах или мерах объема, или и то и другое вместе. При этом часто давались дополнительные сведения и такого рода: когда какой участок земли или пустошь куплены, выменены, разделены, кто ими владел раньше; если земля была в аренде, то у kqto и по какой цене и т. п. Но никакого измерения земли „отпищиком“ не производилось; в этом не может быть никаких сомнений.
Леса, рощи и луга, окружавшие имение, показывались в десятинах или верстах, опять-таки, очевидно, на основании „сказок“, так как и этих данных в „наказах“ подьячим не имелось. При описании леса и рощи обычно делаются ссылки на породы деревьев, из которых они состояли, а иногда и на качества леса: строевой, дровяной и т. п. Размеры лугов обычно обозначаются числом копен сена, которые с них собираются; характеристики сенокосов кратки, но достаточно определенны: по речке, по кустам, меж поль и т. п.
Наконец, как уже указывалось, на основании „сказок“ сообщаются данные об оброке (денежном и натуральном), барщине и столовых запасах в пользу помещика, а также о доходах в натуре с помещичьего хозяйства, или находящихся в данный момент налицо или отвезенных к нему в Москву или другую вотчину; при этом иногда делается сравнение с тем, как бывалс при прежних помещиках, указывается, как собираются столовые запасы и оброк — с тягла, двора или с души.
Когда „отпищик“ переходил к описи крестьянских и бобыль- ских дворов, то, если он держался данного ему „наказа“, его задача была сравнительно легка: он должен был описать дворы поименно, т. е. перечислить все население двора, указывая имена, пол и степень родства; некоторые „отпищики“ несколько расширяли свою задачу и заносили в свои книги еще данные о возрасте. Наконец, некоторые понимали свою задачу еще шире: они считали необходимым обрисовать и имущественное положение каждого двора. Наиболее добросовестные давали при этом такие сведения (кроме указанных выше): число изб
1 Имеются ссылки и обратного свойства: власти „не умели сказать“, каковы размеры пашни.
25 Проблемы исэочиивоведеиия
385
и равных хозяйственных построек, количество скота и птицы, запасы хлеба и зерна, посев разного хлеба в мерах емкости, другие сокращали это описание за счет сведений о числе изб и построек, но заносили все остальные данные. Благодаря этому в обследованных мною отписных книгах первой четверти XVIII в. оказалось около 20 описей, дающих очень конкретную картину материального быта сел и деревень, насчитывающих несколько сот дворов. Я не думаю, чтобы материал подобного рода для этой эпохи мог бы найтись в каких-либо других документах, и потому мы должны быть особенно благодарны тем „отпищикам“-подьячим, которые так расширительно поняли свою задачу. Встречаются, однако, описи, в которых перечислено только мужское население крестьянских дворов, и в-этих случаях уже без всяких указаний на имущественное его положение. В описях крестьянских дворов (разных степеней подробности) находим, кроме того, данные о побегах крестьян, характеристики их общего экономического положения — бобыли, нищие и т. п.
Таков порядок составления, характер и содержание отписных книг на поместья и вотчины. Но ведь конфискация имущества, казалось бы, всегда имела в виду все движимые и недвижимые имения лиц, ей- подпавших. Поэтому на ряду с вотчинами и поместьями отписке подлежали и городские дворы со всем их имуществом. Однако в дошедших до нас документах сохранилось сравнительно немного описей городских дворов. Объяснения этого факта возможны такие.
Первое объяснение заключается в том, что указы о конфискации обычно предписывали отписать на государя именно вотчины и поместья или недвижимые имения такого-то; поскольку тут не говорилось прямо о городских дворах, можно было истолковать указ так, что на эти дворы он не распространяется; поэтому, вероятно, и справки Поместного приказа о движимых и недвижимых имениях такого-то в громадном большинстве случаев не содержат сведений о городских дворах. Напр., при конфискации имущества кн. Г. И. Волконского и В! А. Апухтина (в 1715 г.) в Поместном приказе были составлены подробные сводные таблицы по всем их вотчинам и поместьям с указанием числа крестьянских дворов, четвертей пашни, скота, птицы, хлеба в скирдах и молоченного (очевидно, на основании полученных в Приказе отписных книг),1 но ни в эти таблицы, ни в какие-либо другие документы, до нас дошедшие, не вошли описи их городских дворов; что такие дворы и у кн. Волконского и у Апухтина были, в этом не может быть никакого сомнения, и относительно князя Волконского это несколько раз засвидетельствовано документами (у него были городские дворы и в Москве и в Петербурге), но отписных книг по этим дворам
1 Дела Пом. прик., кн. 164, лл. 21—26.
386
нет. (Да и вообще, едва-ли Ложно сомневаться, что почти все тогдашние помещики-дворяне, обязанные службой, имели собственные городские дворы.)
Возможно и другое объяснение. Может быть, в Поместном приказе не было такого полного учета городских дворов, какой был относительно вотчин и поместий. Может быть, поэтому и данные об отписных городских дворах надо искать не столько в делах Поместного приказа, сколько в каких-либо иных фондах. Может быть, наконец, отписные книги по городским дворам менее сохранились в силу каких-либо причин. Во всяком случае факт остается фактом: отписных книг на городские дворы в нашем распоряжении меньше, чем на поместные и вотчинные.
Отписные книги на городские дворы составлялись в общем так же, как и на сельские, — конечно, с известными поправками применительно к тому, что дело происходило в городе (бывало больше „отпищиков“, при них были специалисты-оценщики и т. п.), но содержание этих книг довольно существенно отличается от тех. Во-первых, эти книги дают больше точного цифрового материала: о местоположении двора, его соседях, размерах по улице и в глубину, размерах комнат и т. п. Во-вторых, описание вещей обычно сопровождается здесь указанием их веса, размера и цены. Все эти данные несомненно представляют громадный интерес не только для археологов и историков быта, но и для экономистов. В-третьих, в отписные книги по городским дворам входят и такие важные данные, как инструкции оценщикам, акты аукционов (часть с именами покупателей), акты передачи его в разные учреждения и т. п. Дело в том, что в то время, как конфискованные поместья и вотчины обычно не нарушались в своем составе и либо известное время ведались Поместным приказом, либо сразу же жаловались какому-нибудь новому владельцу, городские дворы сплошь и рядом реализовались для покрытия убытков казны, и потому с их имуществом производились такие операции, какие не имели места, да и не могли иметь в поместьях и вотчинах. Вот почему и содержание отписных книг по городским дворам несколько иное. Кроме того, состав городского имущества дворянина-помещика того времени был иной, чем сельского. Дворянин-помещик начала XVIII в. по условиям того времени — редкий гость в своем поместье или вотчине. Поэтому сельские дома помещиков в начале XVIII в. сравнительно бедны житейской обстановкой.1 Другое дело — дом в городе. Здесь его постоянная база, тут его семья, дворня и т. д. Поэтому-то мы и находим тут все, что нужно для повседневного житейского обихода, для будней и праздников, для работы и отдыха. В виду всего этого отписные книги городских дворов гораздо богаче содержанием в вопросах бытовой обстановки, чем описи сельских
1 См. сб этом в моей работе „Сельский дом помещика в начале XVIII в.“ 25* 387
омов, но для характеристики хозяйственных отношений они, наоборот, дают меньше; в них имеются перечни хозяйственных запасов — своих и покупных, с их оценкой, перечни дворовых — частоте указанием получаемой месячины или денежного жалованья, перечни скота и т. п., но все это по своему значению для картины частно-хозяйственной жизни начала XVIII в. меньше, чем данные отписных книг по вотчинам и поместьям.
Таково богатое и разнообразное содержание отписных книг начала XVIII в. Как видим, это необычайно ценный источник прежде всего для истории частно-хозяйственной жизни той эпохи, для характеристики положения крепостных крестьян, а также для истории быта, археологии, деятельности разных правительственных учреждений и т. п.1 По своему происхождению это источник, которым можно смело пользоваться, если подвергнуть его в каждом отдельном случае необходимой критике; в одних своих частях он вполне достоверен, в других его показания могут быть приняты с некоторыми оговорками. Никакие другие документы той эпохи, до нас дошедшие, не могут заменить отписных книг. Ни данные разных переписей, предшествовавшие первой ревизии, ни данные этой самой ревизии, ни дошедшие до нас отказные книги не могут по объему и характеру материала заменить отписных книг. Данные о менах, „поступках“, купле-продаже поместий и вотчин, в обильном количестве содержащиеся в различных документах и XVII и XVIII вв., тоже ни в коей степени не могут заменить материала отписных книг, так как содержат только сведения о размерах имения (иногда с указанием качества земли и состава угодий), его стоимости (в случаях купли-продажи) и числе крестьянских дворов. Тех разнообразных и многочисленных сведений о помещичьем и (отчасти) крестьянском хозяйстве, которые мы получаем из отписных книг, документы этого типа не дают. Только материалы вотчинных архивов могли бы успешно конкурировать с отписными книгами. К сожалению, таких архивов вообще уцелело немного, а в уцелевших, — тоже, разумеется, к сожалению, мало хозяйственных документов начала XVIII в. Все это особенно усиливает значение отписных книг. Однако и их дошло до нас сравнительно мало; во всяком случае по громадному большинству процессов о конфискации имуществ начала XVIII в., как уже было сказано, отписных книг да нас не дошло. Тем большую цену имеют уцелевшие.
Каково состояние дошедших до нас отписных книг начала XVIII в. ? Делопроизводство по каждому процессу о конфискации,
1 Не говорю уже о документах, так сказать, сопровождающих отписные книги: материалы о процессах, приводивших к конфискации, справки по разным вопросам, связанным с процедурой отписки, инструкции помещиков своим приказчикам, переписка по управлению вотчинами Поместного при* каза и т. п.
388
как указано выше, бывало довольно длительным й сложным. „Входящих" и „исходящих" по каждому делу писалось помногу. Ознакомление с отписными книгами показывает, что во многих случаях это делопроизводство дошло до нас лишь частями, и потому часто мы не имеем перед собой всей картины этой процедуры, не имеем всех сведений, которые в свое время были собраны в Поместном приказе. Не имеем мы в значительном числе случаев и отписных книг по всем владениям лиц, подпавших этой каре: это не трудно установить, имея справки Поместного приказа о вотчинах и поместьях, подлежавших конфискации, и наличные отписные книги. Это обстоятельство затрудняет характеристику всего хозяйства того или другого лица. Сосредоточенные теперь главным образом в двух фондах ГАФКЭ — в делах Поместного приказа (Архив III вотчинный), и в делах Канцелярии о конфискациях, отписные книги начала XVIII в. оказываются часто разбитыми между ними, и часть какого-либо комплекса отписных книг по имениям одного и того же лица оказывается в одном фонде, а другая часть в другом. Дело в том, что хотя Канцелярия о конфискациях была учреждена в 1729 г., в фонде ее дел оказываются документы, как уже указывалось, начиная с 1709 г. Когда произошла эта передача дел из фонда Поместного приказа в фонд Канцелярии о конфискациях, в момент учреждения последней или при разборке архивов в 30-х гг. XIX в., я не знаю. Но и в том и в другом фонде подбор и сортировка дел мало систематичны, часто случайны и произвольны. С другой стороны, в фонде дел Поместного приказа имеются отписные книги по' процессам, имевшим место после 1729 г. (для середины и второй половины XVIII в. дела по конфискациям недвижимых и движимых имуществ, кроме фонда Канцелярии о конфискациях, имеются также в VI разряде Государственного архива). По отдельным томам фондов Поместного приказа и Канцелярии о конфискациях отписные книги в общем распределены в хронологическом порядке, но он сплошь и рядом нарушается, поэтому только детальное обследование каждого из фондов может дать точное хронологическое размещение всех отписных книг.
Среди дошедших до нас отписных книг (вместе с приложенными к ним „сказками") много подлинников со всеми автографами участников акта конфискации, со скрепами по листам, но встречаются и копии — видимо из числа тех, которые Поместный приказ отсылал в те учреждения, которые были заинтересованы процессом отписки вотчин и поместий. Иногда встречаются подлинники вместе с копиями, что дает возможность проверить точность последних, а иногда копии позволяют восстановить неясные или утраченные части подлинников.
Встречаются книги дефектные — без конца, начальных или средних листов. В фонде Канцелярии о конфискации ряд дел пострадал от времени, и пользоваться им невозможно.
389
Как можно использовать отписные книги качала XVIII в. для истории помещичьего и крестьянского хозяйства той эпохи? Мне кажется, тут возможны разные пути исследования. Во-первых, возможно по-уездное изучение отписных книг в тех случаях, когда имеется налицо не менее 20—30 описей сел и деревень одного уезда, и притом более или менее одного периода.1 Во-вторых, можно изучать отписные книги, подобрав их по владениям одного и того же лица. Наконец, возможна группировка материала отписных книг по категориям владельцев и небольшим хронологическим периодам (первые годы XVIII в., конец Петровского царствования и т. п.). Содержание отписных книг дает для этого достаточные основания. Я лично в настоящее время предпочитаю второй из указанных путей, изучая хозяйство нескольких крупных владельцев за 1714—1715 гг. Если же в отписных книгах искать материала не только по вопросам помещичьего и крестьянского хозяйства начала XVIII в., а и по другим из указанных выше вопросов, то, разумеется, использовать их можно и другими методами.
Материал отписных книг начала XVIII в. рисует нам главным образом статику помещичьего хозяйства, давая как бы его фотографический снимок в определенный момент года. В этом, конечно, их большой недостаток, как исторического источника. Иногда этот недостаток исправляется, если взять эпоху больше 25 лет. Дело в том, что вотчины и поместья, раз отписанные, обычно вновь кому-нибудь жаловались и потом иногда вновь конфисковались. В этом случае вторые отписные книги дают великолепный сравнительный материал. Так как я лишь частично знаком с отписными книгами середины XVIII в., то мне пока удалось установить лишь один случай повторных отписных книг на однии теже имения (в Новгородском уезде), но несомненно их не мало, и тогда мы имеем абсолютно ничем незаменимый материал. С другой стороны изучение большого количества отписных книг по определенным категориям владельцев и в определенных географических рамках позволит выявить динамические процессы, развивавшиеся в помещичьем хозяйстве, и без повторных отписных книг.
Все вышесказанное о внутренних и внешних недостатках отписных книг XVIII в. не может, однако, поколебать сделанного уже вывода об их большом значении для изучения всего помещичьего и крестьянского хозяйства этой эпохи. А отсюда вытекает признание необходимости их точного учета и описания. Дело большое, трудное, но, думается, необходимое.
1 По некоторым уездам зарегистрированные мною описи, напр., в числе 10—15 неравномерно распределяются между всеми 25 годами первой четверти XVIII в. В этих случаях, я полагаю, по-уездное изучение отписных книг едва ли целесообразно.
390
с о
о
Б
Щ Е Н И Я
В. А. ПАРХОМЕНКО
СЛЕДЫ ПОЛОВЕЦКОГО ЭПОСА В ЛЕТОПИСЯХ
Наши летописи не оставляют сомнения в тесных, близких связях, существовавших в XII в. между социальными верхушками Руси и половцев. Идея извечной, принципиальной борьбы Руси со степью явно искусственного, надуманного происхождения. Пересмотрите летописи за XII в., — рядом с сообщениями о борьбе с „погаными“ половцами, вы прочтете частые известия о „снемах“ князей Руси с половецкими ханами, о брачных союзах между ними и т. п.
Даже прославленный „добрый страдалец за Русскую землю“, Владимир Мономах, женил двух своих сыновей — Юрия в 1107 г. и Андрея в 1117 г. — на половчанках. Тут уже не приходится говорить о каком-то расовом или культурном антагонизме. Очевидно, высшие общественные классы и Руси и половцев имели' кое-что общее, какими-то общими интересами друг к другу притягивались. И в этом отношении любопытно, что настроенные вообще против половцей, наши летописцы пропустили в летопись половецкую литературную струю.
Уже давно отмечено наличие в Ипатьевской летописи под 1201 г. отрывка, позаимствованного из половецкого эпоса. Вот это место: „ ... Мономаху... изгнавшю Отрока во Обезы1 за Железная врата, Сърчанови же оставшю у Дону, рыбою ожившю. оставшю у Сырьчана единому гудьцю же Ореви, посла и во Обезы, река: «Володимер умерл есть, а воротися, брате, пойди в землю свою; молви же ему моя словеса, пой же ему песни Половецкия; оже ти не восхочеть, дай ему поухати зелья, име- немь евшан». Оному же не восхотевшю обратитися, ни послу- шати, и дасть ему зелье; оному оне обухавшю и восплакавшю, рче: «да луче есть на своей земле костью лечи, нели на чюже славну быти». И приде во свою землю. От него родившюся Кончаку, иже снесе Сулу, пешь ходя, котел нося на плечеву“.
1 В Грузию.
391
Это очень интересное место, явно половецкого происхождения, дает немало черт, характеризующих половцев того времени.
По аналогии с данным местом нужно искать в летописях других возможных заимствований у половцев. В этом отношении заслуживает внимания одно место из „Повести временных лет".
В рассказе о походе князей Руси 1103 г. есть сообщение О том, что делалось в лагере половцев перед боем. Вот это место:1 „Половци же слышавше, яко идеть2 Русь, собрашася без числа, и начата думати. И рече Уру^ёба:3 „просим мира у4 Руси, яко крепко5 имуть битися с нами, мы бо много зла сТворихом Русскей6 земли". И реша унейшии7 Урусобе: аще ты боишися8 Руси, но мы ся не боим; сия9 10 бо избивше, пойдем в землю их, и приимем?0 грады их, и кто избавит и11 от нас?"
Одним исследователем было обращено внимание на некоторое своеобразие этого летописного места, на наличие в нем следов отрывка из какой-то песни. Если это действительно так, то в этом отрывке мы склоняемся искать следы песни именно половецкой. Ибо кто мог рассказать о том, что делалось среди половцев, кроме самого половецкого слагателя рассказа ?
А события этого года были таковы, чтополовцам было о чем вспоминать: ведь в последовавшем затем бою было убито 20 князей половецких, и в числе их упомянутый Урусоба. Легко допустить, что это событие вызвало песенный плач у половцев, и он дошел до нашего летописца.
Каким путем эта жалобная песня могла дойти до летописца, на это можно видеть указание в сообщении четыре года спустя в 1107 г.: „Иде Володимер, и Давыд и Олег к Аепе и ко другому Аепе, и створиша мир; и поя Володимер за Юргя Аепину дщерь, Осеневу внуку, а Олег поя за сына Аепину дчерь, Гир- геневу внуку, месяца генваря 12 день".
Естественно, что половчанки могли занести свои песни в княжеские дворы, и отсюда летописец узнал о том, что происходило в стане половцев в 1103 г. пред роковой битвой, столь печальной для половецких ханов.
При тщательном анализе летописных текстов возможно найти и еще следы половецких известий в них. Отзвук поло¬
1 По лаврентьевскому списку.
2 Ипат. — „идуть“.
3 Ипат. — „Русоба“.
4 Ипат. — „в“.
В Ипат. — „ся имуть бити“.
6 Ипат. — „руской“.
7 Ипат. — „уншии“.
8 Ипат. — „ся ты боиши“.
9 Ипат. — „сих“.
10 Ипат. — добавлено „вся“.
11 Ипат. — „ны“.
392
вецкого эпоса можно видать в сообщении Ипатьевской летописи под 1151 г. Здесь говорится: „Туже и Севенча Боняковича дикаго поковцина убиша, иже бяшеть реке: «хощю сечи в Золотая ворота, якожь и отець мой». Эта фраза, приписываемая Севенчу, сыну известного хана Боняка, вероятно, позаимствована из половецкой песни о нем. В связи с этим можно поставить вопрос о том, не из половецкого ли эпоса позаимствовал автор „Слова о полку Игореве“ приведенную им беседу Гзака и Кончака половецких.
Ведь это место в „Слове“ стоит довольно отрывочно и незаконченно. При том же автор „Слова“, видимо, любит пользоваться цитатами из других песен-Бояна, например, — вообще из песен о старых князьях (например, о Всеславе Полоцком, о Ростиславе Всеволодовиче, о Мстиславе, зарезавшем Редедю касожского).
. Вообще следовало бы внимательнее присмотреться к половцам и поискать следов их как в древне-русской литературе, так и в памятниках материальной, культуры.
ЗЭЗ
Ю. И. ГЕССЕН
ИСТОЧНИК ОДНОЙ ИЗ СТАТЕЙ УЛОЖЕНИЯ 1649 г.
Всячески стараясь вернуть русских людей, плененных неприятелем, московское правительство выкупало их, обменивало и т. д. Однако для возвращения всех пленных не хватало средств, вследствие чего многим из них приходилось собственными силами освобождаться из неволи. С другой стороны, не все пленные стремились домой, боясь ожидавших их на родине невзгод. Поэтому московское правительство награждало вернувшихся пленных, предоставляло им разные льготы.
Трудно было бы рассчитывать на возвращение плененных холопов, если бы им предстояло вновь очутиться в руках прежних господ. Вот почему уже Судебник 1497 г. (ст. 56) освобождает от личной зависимости холопа, выбежавшего из татарского плена: „А холопа полонит рать татарская, а выбежит из полону, и он слободен, а старому государю не холоп“. Позже, со вступлением Москвы в столкновения с другими государствами, указанная льгота была распространена вообще на холопов, выбежавших из плена. Судебник 1550 г. (ст. 80) говорит: „А холопа рать полонит, а выбежит из полона, и он свободен, а старому государю не холоп“.
Судебники ничего не говорили о жене и детях холопа, выбежавшего из плена, быть может потому, что их судьба сама собою подразумевалась. Но в дальнейшем состоялось особое постановление об отдаче такому холопу его жены и детей. Ст. 34, гл. XX Уложения 1649 г. гласит: „А будет чьего холопа возьмут в полон в иную которую землю, а после того тот холоп из полону выйдет, и он старому боярину не холоп, и жену его и дети для Полонского терпенья отдати ему“.
Однако в Уложении 1649 г., в той же гл. XX, имеется ст. 66, которая иначе разрешает вопрос о детях холопов, выбежавших из плена.
Чтобы установить в дальнейшем источник этой статьи, приводим ее полностью:
„А которые боярские люди в прошлых во 141-м и во 142 годех с бояры своими были на государеве службе под Смоленском, и на боех, и в загонех взяты были в полон в Литву и из
394
полону вышли, и тем бъярским людем для Полонского терпения дана воля, и жены их отданы им же; а детем их, которые у кого в холопстве породилися и на которых их детей у кого есть кабалы и иные крепости, велено быть во дворех в холопстве по прежнему. А которые боярские люди из-под Смоленска и с иных государевых служеб от бояр своих сбежали в казаки или в иное какое воровство и в воровстве взяты в полон и ив полону вышли, и тем боярским людем велено быть во дворех у прежних же своих бояр. А которые боярские люди бегали с службы и служили у иных дворян и детей боярских и у всяких людей и были в полону же, и тех холопей велено отдавать прежним их бояром по старым крепостям. А ныне и впредь о таких холопех указ чинить по тому ж, как указано преже сего".
Итак, согласно ст. 66, холопам, плененным под Смоленском в кампанию 1633—1634 гг. и выбежавшим из плена, в изъятие из правила, изложенного в ст. 34, не отдавали всех детей, — те из детей, которые родились в холопстве и на которых были кабалы и другие крепости, оставались в прежней зависимости у господ, отрывались от отца.
■ Откуда же проникло это ограничительное постановление в Уложение 1649 г. Ответ мы находим в приводимом ниже приговоре бояр1 1634 г., который послужил источником для 66-ой статьи.
„143 г. сентября в... день бояре приговорили, как о том государь укажет, которые боярские люди, а взяты под Смолен- скем на боях, а иные в загонах, а иные посыланы по дрова, взяты в полон в Литву, а были в полону в Литве не малое время и ныне из полону вышли, и тем 'давать волю для того, что тем полоном они учинили себе свободу. А которые их жены у бояр и тем жены отдавать, а детей, которые у них, а в холопстве порожались или на их детей есть кабалы, и те от бояр не свободны, а крепки боярам своим для того, что родились в холопстве и что на них кабалы. А будет которые боярские люди, будучи на службе под Смоленском и на иных государевых службах, а покиня бояр своих, побежали в воровство в казаки или в иные воровские люди, а взяты в полон, а иные из полону вышли, и тех отдавать по-прежнему в холопы прежним боярам для того, что они. воровать от бояр своих побежали, и то им полонское терпенье в полон не поставить. А которые боярские люди, будучи на государевых службах, покиня бояр своих, побежали и бегаючи служили иным дворянам и детям боярским и всяким людям, а взяты в полон, а ныне из полону вышли, и тех отдавать прежним боярам по старым крепостям для того, что они полонское терпение и свою сво¬
1 ГАФКЭ. Книга Приказного стола Разрядного приказа, Ne 14, лл. 64—65.
395
боду тем потеряли, что, покиня бояр своих на государевых службах, побежали. А у подлинной выписки назади на сст'аве помета думного дьяка Ивана Гавренева: 143 г. октября в 9 д. сему государеву указу и боярскому приговору быть так и в Холопий приказ с сего государева указа и боярского приговора память послать. А подлинная выписка отдана в Послужной стол подьячему Осипу Васильеву".
Как видим, в этом акте устанавливается ограничение в отношении прав холопа, выбежавшего из плена, на своих детей.
Чтобы выяснить, при каких обстоятельствах возникло это ограничение, вспомним, что в 1632 г. русские войска осадили Смоленск (в свое время отнятый от Московского государства поляками), но затем польский король, в свою очередь, окружил русский лагерь под Смоленском; русские стали страдать от голода и холода; наконец, они ушли из-под Смоленска, оставив множество больных.
При таких условиях у поляков собралось много русских пленных.
Для государства это был урон и оно желало их возвращения на родину. А каково было отношение к плененным холопам со стороны их господ?
Когда холопа забирали в плен, господин терял только его одного. Когда же холоп выбегал из плена, господин терял сверх того его жену и детей, так как по общему правилу жена и дети получали вместе с главой семьи свободу.
Таким образом в личных интересах господа не могли желать, чтобы холопы выбегали из плена. Но раз это случалось, ничего другого не оставалось, как добиваться смягчения вытекавших последствий.
И это им удалось. Согласно приведенному выше приговору бояр 1634 г., холопам, плененным под Смоленском в 1633— 1634 гг. и выбежавшим на родину, не отдавались все дети: те из них, которые родились в холопстве и на которых имелись кабалы,-оставались в прежней зависимости, не получая свободы вместе с отцом. *
Ст. 66 Уложения воспроизвела это ограничительное постановление.1 Но ему, как надо полагать, не придали распространенного истолкования. Оно сохранило силу только по отношению к холопам, взятым в плен под Смоленском в 1633—1634 гг. Холопам, плененным в позднейшие войны и вернувшимся домой, отдавали всех детей без исключения, как это видно из следующих примеров. 1
1 Согласно приговору бояр свободу получали только те холопы, которые „были в полону не малое время“, но этого постановления нет в ст. 66. В приговоре и в ст. 66 говорится о беглых холопах, но мы не остановились на этом вопросе. Отметим, что беглым холопам посвящена ст. 36, гл. XX Уложения 1649 г.
396
Пошехонец Воронков, даточный человек отставного пошехонца Плюскова, бывший в плену, просил „дать ему свободу“ от Плюскова и записать в рейтарскую службу; сославшись на Уложенье 1649 г. (имелась в виду ст. 34, гл. XX), его освободили (1664 г.) от холопства с женою и детьми.1 Иванов, послу- живец жильца Борщева, служивший у него в кабальном холопстве, и Савостьянов, послуживец Тимирязева, служивший по старинному холопству, были на войне „за бояры своими"; выйдя из плена, каждый из них просил (1670 г.) освободить его „с женишкою и с детишками", и в отношении обоих последовало решение: из боярского двора из кабального холопства освободить с женами и с детьми и написать в стрельцы.2 Сотник казачий Овдеев провел в плену двадцать четыре года; жена его и дети сперва кормились по миру, а потом оказались закаба- леннными у двух хозяев; они были освобождены (1682) от зависимости.3
1 Белгородом!« стол Разрядного приказа, от. 658, лл. 124 и сЛ.
2 Приказный стол Разрядного приказа, ст. 412, лл. 45—49.
3 Там же, ст. 454, л. 19—23.
397
М. Н. ТИХОМИРОВ
КРЕСТИНИНСКИЙ СПИСОК „РУССКОЙ ПРАВДЫ“
В числе списков „Русской Правды“, изданных в XVIII в., особое внимание своими вариантами привлекает Крестининский список, из Кормчей XV—XVI вв., напечатанный в „Продолжении Древней Российской Вифлиофики“ (Часть III, СПб., 1788, стр. 3—47). Крестининский список считается неразысканным, как это отмечено и в последнем издании „Русской Правды“ под редакцией С. В. Юшкова.1
Однако теперь с полной достоверностью можно сказать, что Крестининский список не пропал, а известен в литературе под другим названием. Среди малоизвестных списков Кормчих XV—XVI вв., не подвергавшихся тщательному исследованию, имеется список Госуд. Исторического музея (Музейское собрание, № 798).
Указанная Кормчая имеет формат в лист и написана на 466 листах разными почерками конца XV в. Бумажные знаки также указывают на конец XV в., как на время написания рукописи. На л. 466 почерком XIX в. написано: „Всего в книге сеи писаных листов 466. Сия книга Иосифа Рогожникова“.
Тождество Крестининской и Рогожниковской Кормчих устанавливается следующим образом:
1. Крестининская Кормчая, по описанию издателей XVIII века имеет „книжный формат в лист, написана старинным хорошим уставным письмом“. Это описание вполне сходится с внешностью Рогожниковской Кормчей, только почерк рукописи по современной терминологии должен быть определен полууставным.
2. По описанию издателей Крестининского списка:
„На первых одиннадцати листах сея старинныя книги видима следующая припись старинныя скорописи: «Сия книга правила святых апостол и святых отец церковные оу Соли Вычегоцкие на посаде домовая Благов'Ьщешя богородицы в собор и оу пределов ея, и святаго святителя Николы и святых
1 Русская Правда. Составил и подготовил к печати проф. С, Юшков, над. Украинской Академии Наук, Киев, 1935, стр. VII.
398
чюдотворец безсребреник Козмы и Дамиана, положение Семена Аникеева сына да Максима Яковлева сына да Никиты Григорьева сына Строгановых»“. Такую же запись находим на листах 2—10 и 16—17-м Рогожниковской Кормчей.
3. Крестининская Кормчая содержала в себе „в первой части 273 листа, во второй части 96 листов“. В Рогожниковской Кормчей 1-я часть начинается с л. 2 и кончается на л. 274 об. (доведена не до конца страницы), после чего с нового листа начинается 2-я часть (Мерило Праведное), перед началом которой оставлено место для заставки. Таким образом первая часть Рогожниковской Кормчей написана также на 273 листах. Вторая часть, начинаясь с 275 листа, кончается на обороте 370 листа строчками, обращенными книзу и словами, оканчивающими Кормчую („Слава съвръшителю богу свершающему всяко дело благо“). Таким образом эта часть так же, как и Крестининская Кормчая, заключает 96 листов. Остальные листы Рогожниковской рукописи не имеют отношения к Кормчей и написаны разными почерками XV—XVI вв. (лл. I, 371—466). Несомненно, они позже переплетены вместе с Кормчей, так как переплет сделан не раньше второй половины XIX в. (см. новую бумагу у переплета), причем края рукописи были обрезаны, вследствие чего в‘ приписках на полях недостает многих букв.
Тексты, напечатанные по Крестининской Кормчей, совершенно сходятся с Рогожниковской. Следует заметить, что в текст „Русской Правды“ были внесены поправки почерком XVII и XVIII вв.
Эти поправки целиком вошли в текст издания Крестинин- ского списка и не были оговорены издателем, хотя и заимствованы из другого списка Русской Правды.
Укажем ряд характерных вариантов Крестининского (по изданию XVIII в.) и Рогожниковского текстов, отмечая в скобках слова, вставленные на полях. Для сравнения возьмем другой список той же редакции из Кормчей XV в., принадлежавший ранее Розенкампфу (Госуд. Ист. музей, собрание Уварова № 791).
Крестин.
сынове его уста- вишя о убийстве
которая вервь на- чнетъ платити ди- коую виру, толико летъ заплатитъ ту виру (стр. 17)
Рогожник.
с[ы]н[о]ве его уставишя [о убийстве].1
которая вервь на- чнетъ платити ди- коую виру, толико летъ [заплатит ту в и р у]2 -
Розенкампф.
сынове его уставишя
которая вервь на- чнеть платити дикую виру, толико лет
1 Вписано на полях почерком XVIII в.
2 Выписано на полях почерком XVIII в.
399
за ремественика и за ремественницю, то 12 гривенъ, аза смердней хо- лопъ 5 гривенъ (стр. 19)
а по костехъ или по^мрътвеци не платити вары2 (стр. 19)
а щ е челядинъ скрыется, а закли- чютъ и на роту (стр. 21)
а первии д о л- ж е н ъ бити (стр. 30) аже изь хлеба выведутъ (стр. 31) а кто порьветъ бороду, а в н е знамен и е (стр. 33)
* или иметъ н а- река тако (стр. 37) но свобода имъ смертью (стр. 39)
за ремественика
и за ремественицю, то 12 гривенъ [аза смердей хо- лопъбгривенъ1 2а по костех или но м р ъ т в е ц и не платити виры
а щ е челядинъ скрыется, а закли- чютъ и н а роту
а первии дол- женъ бити аже изь хлеба выведутъ а кто порьветъ бороду, а в н efз н а- мение
или иметъ н а- река тако
но свобода имъ см[е]ртью
за ремественика и за ремественицу, то 12 гривенъ
а па костех и по мерьтвеци не платити виры
аже челядинъ скрыется, а закли- чютьи на торгоу
а пръвии должьбыти аже иза хлева выведоуть
а кто порветь бородоу, а в ней знамение
или иметь и, а река тако
но свобода им с материю
Текст Крестининского списка „Русской Правды" находит постоянную аналогию на всем своем протяжении с текстом Рогожниковской Кормчей.
Таким образом устанавливается полное тождество списков Крестининского и Рогожниковского, который теперь следовало бы именовать Крестининской (Рогожниковской) Кормчей.
Ничтожные отличия печатного текста от рукописи в написании отдельных слов зависят от неисправности издания XV1Ü века.
1 Впи^г нэ на полях почерком XVII в.
2 В тексте явная опечатка.
400
В. М. НЕКЛЮДОВ
ОБЗОР АКТОВ ХОЛМОГОРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ИЗБЫ XVII ВЕКА
Акты Холмогорской таможенной избы относятся к послед- ним двум третям XVII в. Перед нами только часть того делопроизводственного материала, который отложился от деятельности Холмогорской таможенной избы. Его отрывочность отчасти может быть объяснена пожарами, опустошавшими Холмо- горы. В. Крестинин сообщает о двух из них: в 1636 и 1698 гг.; в оба пожара гибла таможенная изба; в первом, кроме того, сгорела и съезжая изба.1
Подавляющую массу актов составляют документы — в узком смысле — таможенного делопроизводства. В этой группе больше всего документов посвящено взиманию внутренних таможенных пошлин. Небольшая часть документов связана с сбором так наз. „Новой соляной пошлины", которая существовала с 1646 по 1648 г. Некоторая часть документов отражает внутреннее строение таможенного дела в Холмогорах; это акты по приему и сдаче дел должностными лицами таможенного управления, инструкции таможенных голов целовальникам по отправлению службы, разбор дел по контрабанде, расследование злоупотреблений таможенников и некоторые другие дела. Немного документов говорит о закупке хлеба для винокурения, о заготовке вина на кружечные дворы и т. п.
К документам X. Т. И. следует причислить и копийную книгу отписок Двинского таможенного головы 1682—1683 гг., хранящуюся в Архиве ЛОИИ в фонде „Рукописных книг" за № 655.2
Внутренние таможенные пошлины брались либо с цены товара, либо со средств перемещения (с лодки и т. д.).
Система таможенных учреждений XVII в. представляется в следующем виде: в Москве находилась „Большая таможня", в уездах были таможенные избы (которые иногда называются
1 В. Крестинин. Начертание истории гор. Холмогор. СПб., 1790, стр. 34 и 42.
2 Поступила она в ИАИ вместе с монастырскими книгами собр. Зин* ченки и др.
26 Проблемы ивточяшсожодаия
401
таможнями), а на важнейших торговых путях в качестве таможенных передовых постов — заставы.1
В актах X. Т. И. упоминаются, кроме Московской Большой таможни, еще и северные таможни и таможенные избы в Архангельске, Холмогорах, Вологде, Кевроле, Лальске, Кольском остроге, Мезени, Шенкурском остроге, Каргополе, Великом Устюге, Пянде, Повенце и др. Заставы были: Новинская, Ступинская, Шастозерская, Пильегорская, Устьпенежская, Мало- немьюжская, Кулойская, Звоская, Перемская и др. Заставы располагались на речных и на сухопутных путях сообщения. В документах X. Т. И. всегда отмечается, как совершается перевозка товаров, например: „плыл мимо Новинскую заставу на лодье", „ехал мимо Шастозерскую заставу на дву лошадях" и т. п. На заставах были целовальники, подчиненные таможенным головам.
Делопроизводство по взиманию таможенных пошлин было тесно связано с порядком осмотров, взвешиваний и т. п. Они заключались в том, что товаропровозитель составлял „роспись" всех доставленных товаров. Целовальниками и таможенными головами производилась проверка, или „досмотр" привезенных грузов. При „досмотре" и „привесе" определялось соответствие фактической наличности товара с „росписью" товаров, т. е. с тем объявлением количества и рода товаров, которое было предъявлено за подписью товаропровозителя в таможню. Затем составлялась „таможенная выпись", в которой указывалось место происхождения товара, его род, количество, цена товара, место назначения товара и, разумеется, указывался товаропровозитель, а если он не являлся хозяином товара, то и этот последний.
В выписи упоминалось и о порядке уплаты пошлин: либо они уплачивались тут же на месте, либо, если предполагалось, что товар будет продан в другом месте, то указывалось, что по уплате пошлин оттуда должна быть привезена соответствующая выпись.2 Этот документ, снабженный печатью таможни и подписью головы, ларешного, или целовальника, а в случае их неграмотности — соответствующим рукоприкладством, вручался товаропровозителю. По пути к месту назначения грузы „являлись" к „досмотру" на попутных заставах. Отметки о результате досмотра делались обычно на обороте выписи. Если товар не убывал и не прибывал, то целовальник отмечал, что товар „против выписи", или „в лишке ничего не объявилось". Если
1 С 1680 г. все таможни объединены под ваведыванием приказа Большой казны; до того времени ими заведывало несколько приказов: Владимирский, Новгородский, Большого приходу, Новой и Галицкой четей.
2 Напр., в одной Ненокоцкой таможенной выписи 1673 г. „А та соль у него своя варя пошлина не взята продаст соль на городе (в Архангельске. В• Н.) и пошлину заплатит и выпись привести на справу а меж городами продаст пошлина платит в Неноксе“.
402
обнаруживали избытки, это отмечалось. Например, в марте 1674 г. холмогорец Василий Бабушкин с товарищами на 10 лошадях вез „посыльные" товары своих земляков, в том числе — холмогорца Аврама Дудина кипу хмеля. В результате одного досмотра этой кипы была сделана такая пометка: „да в той же кипе ощупали щупом 20 ансырей шолка красного, 7 ансырей шолка гвоздишного".
Просматривая таможенные выписи мы видим, что, напр., с Пянды везут к Холмогорам жито, рожь и т. д.; относительно некоторых партий их отмечено, что они куплены на Подвинье, из Мезенской Окладниковой слободы везут моржины, „омылей" и т. п., из Вологды горох, пшеницу, калачики-витушки, орехи, пеньку, ложки, рукавицы, рогожи, хомутины и т. п., из Пусто- зерска красную рыбу — семгу и белую рыбу — сигов, из Пинеги белую рыбу — „омылей"; Важене и Устьяне везут рожь, овес, пшеницу, сукно сермяжное, холст, овчины, бруснику, хмель, масло коровье и т. д.
Навстречу движется поток вывоза из Холмогор большей частью товаров „городового привозу", т. е. архангельских („заморских"—в некоторой части). Это юфть, кумач, кожа говяжья, шелк, сукна „анбургские", шапки женские,1 перец, железо белое в „полицах", сера, изюм, бумага писчая, ладан, карты, гылибуха, нашатырь, сахар, медь светлая, масло деревянное, порох и т. п. Разнообразие товаров северной торговли XVII в. заслуживает специального исследования, которому не место в этом кратком обозрении. Все это везут преимущественно жители Поморья.
Выписей, данных на товар иностранцев (голландцев) — совсем не много. По одной, напр., выписи иноземец „голландской земли" везет только сахар, кардамон, „зуфь" и еще кое-что. Их товары следуют часто довольно большими партиями.
Из северных ярмарок наиболее полно документы Х.Т. И. запечатлели роль Благовещенской (или Евдокиевской) ярмарки на Ваге, которая начиналась 1 марта и кончалась 10 марта. По документам февраля — марта почти каждого года можно видеть, как много товаров везли на Вагу, и как много вывозили с Ваги. Отмечается, когда товар у товаропровозителя бывает „важского привозу", или „важской покупки", а также, когда он отправляется „к Ваге". В наших документах нет прямых упоминаний о какой-либо другой ярмарке. Между тем, на севере, кроме Благовещенской (по имени села в 72 вер. от Шенкурска) были ярмарки: Архангельская — летом, Волоко- пинежская (в 120 вер. от Холмогор) — с 6 декабря, Верховаж- ская, так наз. „свальная", в середине марта, и ряд других. Возвращаюсь к Благовещенской: в 1670 г. был построен в с.
1 Шапки: „пухи бобровые, вершки отласные; пухи козловые, вершки киндячныо“, как значится в одной росписи их.
26*
403
Благовещенском гостинный двор, с 55 избами для приезжающих купцов, 53 лавками для торгу и 46 амбарами для склада товаров.1 Ярмарка была выдающейся по своему значению в крае; известно, что товары от нее шли к Архангельску, Коле к устью Онеги, в Холмогоры, в Москву, в Ярославль, в Сибирь. Для иллюстрации, я взял небольшую, сравнительно, группу (24) документов X. Т. И. 1674 г., и получил по некоторым товарам следующие итоги вывоза с Ваги по направлению только к Холмогорам. Везло товар, в общем, 40 человек, в течение 12—23 марта. Вывезено к Холмогорам их, и „посыльного“ товару (15-ти человек), всего: шелку разного около 86 ансырей, сукон сермяжных 60 концов,2 434 арш. и 12 локтей,3 холстов (хрящу и гладкого) 70 концов,4 1497 арш. и 64 локтя, крашенины 329 концов5 и 1435 арш., хмеля 20 пуд., 3 куля, 4 кипы и 1 мешок, пеньки 50 пуд., ложек „коряных с костью“ 3500 шт., ложек „прямизны“ (простых) 700, воску 22 пуд. 25 ф., сох- ральников 152 шт., железа кричного 116 криц, кумачу 68 шт., сафьяну и козлин 14 */2 юфтей и 39 шт., мыла 30 косяков, гвоздей носочных 56 коробок, ставцов 106 шт., окладов серебряных на иконы 4 шт., пшеницы 13 мешков, 6 мер и 2 осмииы, не считая разного другого товару.
Таможенный доход: до 1689 г. он не превышал 72 тыс. руб., в следующие годы эта сумма увеличивалась до 75 тыс. руб., но потом стала падать, из чего можно заключить, что сумму в 70 тыс. руб. можно признать среднею цифрою дохода казны с архангельской таможни.6 В этой связи интересна имеющаяся „роспись прихода Колмогорского таможенного сбору“ за 1649—1650 гг.7
Есть также роспись собранных таможенных пошлин голов таможенного сбору Ив. Мельцова и Дениса Петрова 1649— 1650 гг. Перечислены Холмогоры, Ненокса, Уна, Пенежской волок, Кулой и Емецкой. К ней присоединена роспись кабацких пошлин, собранных этими же головами. Перечислены только архангельские кабаки, которые различались по названиям: „зимний, притычный“ и т. д.; с них собрано было 324 руб. 13 алт., затем, на кабаках „Красном, Белом, Моховом,8 Банном, Сенном“ и на других кабаках собрано 986 р. 11 алт. 3 д.; „ушатной, ведерной и полуведерной продажи“ было на сумму 1830 руб. Здесь роспись обрывается.
1 М. Н. Мясников. Нечто о пятинах новгородских ... Северный Архив, 1827, № 9, стр. 28.
2 Конец 9—12 1/2 арш.
3 По „Торговой Книге“ локоть = 10 верш.
* Конец 16—27 арш.
5 8—10 арш. в конце.
6 Н. Костомаров. Очерк торговли Московского государства. СПб,, 1862, сгр. 77—-78.
7 Акты Х.Т.И.
8 В Архангельске еще в 1927 г. одна улица называлась Моховой,
404
Перейду к рассмотрению некоторых специальных вопросов, освещаемых документами X. Т. И.
Сбор „пятинных и запросных денег" 1634 года отразился в нашей коллекции росписью денег, собранных с 4 марта по 15 ноября 1634 г. с разных городов, лиц и с разных категорий населения. По ней, между прочим, можно проследить, что в некоторые дни деньги не поступали вовсе, в другие дни их скоплялось в сборе довольно много. Например, с вологжанина Игнатия Белавинского взято мая 3-го 40 руб., мая 4-го —100 руб., мая 6-го —15 руб., 8, 9, 11 мая ни с него, ни с кого иного ничего в приходе не было. Мая 14-го с Белавинского взято 240 руб. Итого с него взято было 395 рублей. Последняя запись сделана 15—XI: „Суконные сотни К. И. Мыльников по окладу платил рубль сполна. Из Царева-Кокшайского воеводы В. Тарбеева запросных 11 рублей 26 алт. 4 д." Тут роспись обрывается.
Сбор „новой соляной пошлины" 1646—1648 гг. отразился в коллекции ведомостью о количестве взятой соляной пошлины „за издержанную соль прежней покупки". Пошлина эта бралась в размере 5 алтын за пуд соли. Ведомости составлены по отдельным волостям и в каждой волости перечислены лица и указано то количество соли, с которого исчисляется пошлина. Есть, напр., роспись „Золотицкие вол. Сийского мон. старцом и монастырским крестьяном" за издержанную соль, которую они издержали в 1636 г. февраля с 7 числа. Итого, по Золо- тицкой и Кулуйской слоб. Сийского мон. на старце и на попе и на бобылях за издержанную соль прежней покупки за 183/* пуд. — 2 руб. 27 алт. г/2 Ден* Такие росписи есть почти по всем Двинским волостям, ближайшим к Поморью, но, к сожалению, в некоторой своей части — не полные. Росписи, поскольку в них имеется реестр „ неплатчим" эту пошлину, дают косвенное указание на количество лиц таких категорий, как Архангельские и Холмогорские таможенные подьячие, пушкари, воротники и др. Например, в числе „неплатчих" отмечено 28 пушкарей и затинщиков, 6 подьячих Холмогорской таможенной избы и 8 подьячих Архангельской таможни. Судя по другим нашим документам, сбор новой соляной пошлины не обходился без недоразумений. Имеется память 21 июня 1647 г. гостинной сотни торговых людей Б. Щепоткина и И. Мельцова целовальнику по сбору соляной пошлины П. Игнатьеву, которому поручено ехать в Емецкий стан для сбора недоимки и для доправки ее вдвойне на тех, которые откажутся платить. „А которые впредь учнутся сильны, о тех людях писать без поноровки гостинной сотни к Богдану Щепоткину в Холмо- горы". К этой памяти приложен именной список недоимщиков по Хаврогорской вол., всего 26 чел. Из них за 4 человеками числилось недоимки пошлин за соль в количестве от 1 до 2 пудов, за 14 чел. числилось недоимки пошлин за соль в коли-
т
честве от 15 грив, до 30 гривенок, наконец, за 8 чел. — от 10 и менее гривенок. Все должники недоимку уплатили по 5 алт. за пуд; собрано было 13 руб. 18 алт. 2х/2 Д.
Введение этой пошлины в 1646 г. в Поморской земле представляется нашими документами в следующем виде. На соляные усолья весной 1646 г. приехал торговый человек Ив. Фед. Мельцов, который опечатал все амбары с запасами соли, принадлежавшие монастырям. На период с весны до осени для личного потребления монахов оставлено было известное количество соли; так, Соловецкие получили ее около пуда для „дворового обихода"; этого, по их сказке, им хватило до октября месяца, ибо „рыбу покупали соленой". Столько же получили и монахи Николо-Корельского монастыря. Они, как и монахи Архангельского монастыря, добавляли в пищу морской рассол. Наконец, старцы Антониева-Сийского монастыря брали соль „из церена" по 1—1г/2 гривенки на неделю. Из документов мы узнаем, что размер „новой соляной пошлины" был 2 гривны за пуд. Для сбора пошлины были посланы торговые люди и гости. К выдававшимся „выписям"-разрешениям на вывоз соли прикладывали особые печати, которые имели надпись по кругу — „соляные новые пошлины", а в середине — „печать государева". Таких разрешений сохранилось в актах X. Т. И. несколько; преобладают данные монастырям: первая выпись относится к 4 мая 1647 г.; она дана одному старцу Кириллова монастыря на вызов к Холмогорам соли 2200 пуд. „мерных" из Ненокоцкого усолья.
Кириллов монастырь вывозит соль и из Золотицкого и Пушлахотцкого усолий, а также с Лопшенги и Неноксы. В мае 1647 г. из Ненокоцкого же усолия вывезено 6 человеками (Г. Е. Заверткин с тов.) по одной выписи „своей вари" 1300 пуд. Даже если бы не имелось у нас указанное выше соотношение (2200 и 1300 пуд.) размеров монастырского вывоза соли и размеров вывозя соли „мирскими людьми", то, все равно, роль монастырей Поморья как крупных солеторговцев — общеизвестна.
Затем идет ряд выписей старцам Спасо-Прилуцкого монастыря на вывоз к Холмогорам соли из Унского усолья; она идет в ладьях „в груз" и меряется в „Колмогорский припуск- ной пуд". По первым четырем выписям ими вывезено более 10 тыс. пудов.
Спаса-Нового монастырь, имевший в Варзужской волости свои вотчины, получал в свою пользу и торговые пошлины. Так, есть „выпись" 1673 г., данная приказчиком Жадеевым каргопольцу Ершову о взятии („по государевой жалованной грамоте") монастырской торговой пошлины за купленную Ершовым у монастырских крестьян рыбу.
Организация таможенного дела освещена в наших документах довольно разнообразными актами. Мы имеем наказ-
406
ныв памяти „таможенного и кружечного сборов головы" Д. Мельцова своим целовальникам. Вступив в свою должность в 1677 г. Д. Мельцов послал памяти целовальникам следующего содержания: быть ему (имя рек) на кружечном дворе целовальником с 1 сент. 186 года, от прежнего целовальника принять вино, оставшееся не проданным, также и пиво,1 принять „суды" и прочий инвентарь, затем — расписаться „по противням". Целовальник должен продавать вино в чарки по (такой-то) цене, а пиво — по (такой-то) цене. Затем, он обязан следить, чтоб не было тайного винокурения; „неявленное" вино „нмать на вел. государя". На случай недобора указано, что недоимка по сборам будет „доправлена" на целовальнике. Дата, имя целовальника и цена вина вписаны, вероятно, самим головою в заготовленный его канцелярией текст памяти. От этого же года дошли памяти целовальнику в Ненокоцком усолье,
0 продаже вина за ведро большими партиями по 40 алт., малыми по 1 руб. 20 алт., а на Кулое за ведро вина брать
1 р. 20 алт. Целовальники на местах самостоятельно варили пиво: из Неноксы Д. Мельцову донесли, что сварено 16 и 26 сент. 9 ушатов и более 5 ведер пива (из 3 четвертей хлеба); сообщая об этом, целовальники просили, между прочим, прислать им еще солоду и хмелю.
В нашем собрании есть также и акты целовальников по приему и сдаче должности.
Целовальники расписались по противням (1677 ноябрь —
1678 январь) в том, что один сдал, а другой принял вино, сосуды (отмечено: 1 кружка — ветхая), печать серебряную месячную „месяц август", бочки, трубки „пятинные", кули, наказную память головы и другое имущество. К этому акту приложено два „перемера" вина, оказавшегося на кружечном дворе.
Есть переписка о заготовке хлеба для винокурения. Хлеб заготовлялся агентами Д. Мельцова в Вологде. Во время этой работы имели место какие-то неясные сейчас их действия; во всяком случае, агенты Мельцова пишут ему о них, как о вещи, понятной им по обоюдному уговору. Наконец, земский староста, заподозрив Д. Мельцова в неправильном ведении отчетных книг, возбудил против него обвинение. В материалах
1679 г. есть некоторые подробности этой стороны деятельности лиц, представлявших Московскую администрацию XVII в. Впрочем, если судить по позднейшим документам, Мельцов был таможенным головой и в 1682 г.
Население к таможенным и другим сборам относилось несочувственно. Кроме случаев укрывательства товаров от таможенного досмотра, что иногда удавалось обнаружить только специальным исследованием с помощью щупа, товаропровозитель
1 „а плохого не принимать“.
407
стремился показать меньшее количество товара* чем он вез на самом деле, в расчете, что при беглом досмотре он провезет лишек неучтенным. Случаи, когда это не удавалось, видны из сопоставления цифр росписи, которую на товар подавал товаропровозитель, с цифрами целовальничьего досмотра или таможенной выписи. Обычно, если они не сходятся, то цифры росписи бывают меньше. С другой стороны, нельзя особенно доверяться и целовальничьим расчетам. Если клиент был заинтересован в том, чтоб заплатить пошлину подешевле, то таможенник боялся, как бы не получилось к концу года недобора против прошлогоднего сбора пошлины. Недобор грозил ему, по смыслу закона, правежем.
Для определения количества товара в тех случаях, когда, например, зерно шло в ладьях и других судах, насыпанным в закромы, сделанные обычно в носовой и кормовой части, употребляли измерение объема „сыпи", и переводили результат измерения в „четверти".1 2 Нельзя вполне безусловно доверяться оценке таможенных документов. По тем же причинам, о которых я говорил выше, продавец старался уменьшить цену товара, а таможенный целовальник старался ее увеличить.
Наконец, бывали случаи и попыток беспошлинной торговли. Документов, это иллюстрирующих, в нашей коллекции несколько. Например, ухтостровец Попов беспошлинно провез и держал в Холмогорах бочку красного вина. Когда это обнаружилось, ему был сделан допрос. Дело дошло до воеводы Хованского, который положил резолюцию об отобрании бочки вина „на государя", чтоб другим „неповадно было" торговать беспошлинно. Иногда для поимки нарушителей устава таможенного приходилось посылать приставов. В коллекции хранится документ 1678 г., из которого видно, что одна ватажка таких нарушителей сумела „отбиться" от посланного пристава.
Оценивая значение актов Холмогорской таможенной избы, мне кажется, можно будет согласиться с тем, что эти документы дают материал для изучения состояния торговли в северном крае Московской Руси XVII в. в районе, крайние точки которого составляют: Вологда, Повенец, Кола, Пусто- зерск, Устюг-Великий. В сопоставлении же с другими подобными материалами, они помогут охарактеризовать таможенное и кабацкое дело и, также, полностью сохраняют свое значение одного из источников для истории торговли и таможенного управления Московской Руси XVII в.
1 Например, в одном вакроме ржи шириной 1 саж. 12 вершк., длиной
2 саж. 23 вершк., толщиной 14 вершк. при переводе на четверти показано 48 четвертей.
408
E.H. КУШЕВА
ОБ ОДНОЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Поставленная в настоящее время в Институте истории Академии Наук СССР работа по изданию документов по истории отдельных народов Союза вызывает необходимость кри- тического обзора оставленного дореволюционной археографией наследства. Настоящая заметка касается той его части, которая дает документальный материал по истории среднеазиатских республик.
Среди дореволюционных публикаций документов по истории Средней Азии самое крупное место занимает издававшийся перед самой войной и в первые годы войны в Ташкенте штабом Туркестанского военного округа многотомный сборник материалов по истории завоевания Средней Азии. Его первые четыре тома, заключающие документы 1839—1843 гг., вышли в 1908—1914 гг. под заглавием: „Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края“ и с надписью: „Не подлежит оглашению“. С пятого тома „Сборник“ стал издаваться без этой надписи и под несколько измененным названием: „Туркестанский край. Сборник материалов для истории его завоевания“. В 1913—1915 гг. вышли томы V—VIII и XVII—XXII, охватывающие 1844—1852 гг. и — с промежутком—1864—1866 гг. Таким образом всего вышло 14 томов, по 20—30 печ. листов каждый. Все же издание было рассчитано на 30 томов и должно было доходить до 1876 г. — года окончательного покорения Кокандского ханства. В 1909 г., кроме первого уже напечатанного тогда тома, 18 вполне готовых были сданы составителем и хранились в архиве Туркестанского окружного штаба, а остальные подготовлялись к сдаче и, надо думать, были в ближайшие годы сданы. Подготовленные, но не изданные томы, вероятно, и сейчас хранятся в ташкентском архиве.
Появление „Сборника“ не вызвало никаких откликов в современной исторической и военно-исторической литературе, и
409
столичные историки просто не знали об его существовании.1 „Сборник“ был буквально „открыт“ академиком В. В. Бартольдом во время его научных командировок в Среднюю Азию. В отчете о командировке 1916 г. В. В. Бартольд бегло упоминает о „Сборнике“; в отчете о командировке 1920 г. он сообщает о нем подробные сведения и высказывает пожелание, чтобы появились в свет и остальные подготовленные томы: „Крайне желательно, чтобы были выпущены в свет недостающие томы „Сборника“.2 О необходимости допечатания „Сборника“ академик Бартольд говорил еще несколько раз в своей статье в I томе „Записок коллегии востоковедов“3 и в вышедшем в 1925 г. втором издании книги „История изучения Востока в Европе и в России“.4 Но несмотря на сообщенные В. В. Бартольдом подробные сведения о „Сборнике“ и несмотря на то, что он вошел в „Библиографию по Средней Азии“ Н. Я. Виткинд 1929 г., обширный документальный материал „Сборника“ до сих пор еще совершенно не использован исследователями, и „Сборник“ до сих пор остается очень мало известным, что в значительной степени объясняется его редкостью — так, даже Публичная библиотека им. Ленина не имеет его полного комплекта. Это оправдывает появление настоящего обзора.
В Центральном военно-историческом архиве в Москве сохранились 3 дела о составлении и издании интересующего нас „Сборника“.5 Они дают, хотя и не полностью, его историю и раскрывают организацию работы над ним. На этой стороне дела стоит остановиться, как потому, что она не лишена любопытных черт, так и потому, что знакомство с приемами работы над „Сборником“ помогает дать его оценку.
Вопрос об издании сборника документов по истории завоевания Средней Азии был поднят в 1901 г. тогдашним военным
1 Так, не знал о „Сборнике“ М. А. Полиевктов, который ничего о нем не упоминает ни в своем обзоре источников николаевского царствования в книге „Николай I“ (М., 1918), ни в статье: „Литература по внешней истории России XVIII—XIX вв. за 1900—1915 гг.“, напечатанной в 1916 г. в „Исторических известиях“, т. I. Не упоминает о сборнике и такой специальный труд, как вышедшая в 1915 г. книга С. В. Жуковского „Сношения России с Хивой и Бухарой за последнее трехсотлетие“.
2 В. Бартольд. Отчет о командировке в Туркестанский край летом 1916 г. Известия Акад. Наук, 1916, стр. 1241.
В В. Бартольд. Отчет о командировке в Туркестан. Август—декабрь 1920. Известия Российской Акад. Наук, VI серия, т. XV, 1921, стр. 192—193.
3 В. Бартольд. Туркестанская гос. библиотека и местная мусульманская печать. Записки коллегии востоковедов, т. I, 1925, стр. 100.
4 Стр. 263.
6 ЦВИА, ВУА, № 45081: „Об издании материалов по завоеванию Туркестана“ 1901—1905 гг. (дело Военно-учен, ком-та Главного штаба); ВУА, № 42636: „О собирании полковником Серебрениковым материалов для истории завоевания Туркестанского края“, 1903—1905 гг. (дело Архивно-историч. отделения Главного Штаба); ВУА, № 38260: „Об издании истории завоевания Туркестанского края“ 1909—1910 г. (дело Военно-историч. отделения Главного управления Генерального штаба).
410
министром А. Н. Куропаткиным во время его поездки в Ташкент. Интерес Куропаткина к такому предприятию понятен: он начал свою военную карьеру в Средней Азии в 1860-е годы, участвовал в ряде походов и служил там многие годы, занимая ответственные посты; истории завоевания Средней Азии посвящены его труды — „Туркмения и туркмены" (СПб., 1879) и „Завоевание Туркмении. (Поход в Ахал-текев 1880—1881 гг.)" (СПб., 1899). Очевидно именно Куропаткиным были определены хронологические рамки „Сборника"—1839—1876 гг.: его книга „Завоевание Туркмении" начинается „Очерком военных действий в Средней Азии" как раз за этот период. Организацию работы над „Сборником" Куропаткин поручил тогдашнему туркестанскому генерал-губернатору ген-лейт. Н. А. Иванову, также непосредственному участнику завоевания Средней Азии, служившему там с 1860-х гг., но сколько знаю, ничего не писавшему.1 Им была составлена докладная записка о предположенном издании и подыскан его составитель. Несмотря на большой объем предстоящей работы, был выбран не коллективный, а единоличный принцип работы. Составление „Сборника" было поручено военному инженеру полковнику А. Г. Серебреникову, занимавшему тогда пост начальника Семиреченской инженерной дистанции. Серебреников не имел, конечно, никакого специального исторического образования. Выбор остановился на нем очевидно потому, что он до того уже выступал в печати: в 1894 г. он участвовал в отправленной на Памир военно-рекогносцировочной партии и после этого поместил в „Военном Сборнике", „Инженерном журнале" и „Сборнике географических, топографических и статистических материалов по Азии" несколько очерков Памира, Шугнана и Ферганской области военно-топографического и военно-технического характера.2 Мне известна только одна его статья на историческую тему: „К истории кокандского похода", напечатанная в „Военном сборнике" за 1897 и 1899 гг.3 Статья эта написана на основании местных архивов, но носит узкий военно-исторический характер. По окончании работы над „Сборником" Серебреников вернулся к своей специальности военного инженера, был начальником Ташкентской инженерной дистанции и в 1914 г.— начальником управления по квартирному довольствию войск
1 Его некрологи см.: „Исторический вестник“, 1904, № 8; „Правит, вестник“, 1904, № 116; „Биржевые ведомости“, 1904, № 252, и в других изданиях.
2 Военн. инж. капит. Серебреников. Очерки Шугнана. Сб. геогр., топогр. и история, материалов по Азии, вып. 70, 1896, стр. 1—52; А. Серебреников. Очерк Шугнана. Военный сборник, 1895, № 11; А. Серебреников. Очерк Памира. Там же, 1899, №№ 6—10; А. Г. Серебреников. Памир и Памирские ханства. Инженерный журнал, 1894, №№ 11—12; А. Серебреников. Очерк строительных материалов Ферганской области и Памира. Там же, 1894, № 9.
3 1897, № 9; 1899, № 4.
411
Приамурского военного округа.1 Ничего в области истории рай военной истории он в последующие за работой над „Сборником" годы, повидимому, не писал.
Серебреникову были даны Ивановым „надлежащие указания" к работе, к сожалению до нас не дошедшие. Был составлен большой план работы по разысканию архивных материалов. Предполагалось обследовать архивы Петербурга, Москвы, Ташкента, Верного, Омска, Оренбурга и Тифлиса. За четыре года работы, 1902—1905 гг., эта программа была выполнена почти целиком, — не состоялась только поездка в Тифлис. Серебрениковым были пересмотрены следующие архивные фонды: в Ташкенте — Туркестанский окружной архив и фонд канцелярии туркестанского ген.-губернатора; в Верном: фонды штаба войск Семиреченской обл., областного правления Семи- реченского казачьего войска, управления верненского уездного воинского начальника и верненского уездного управления; в Омске — фонды штаба Сибирского военного округа и Сибирского отдельного корпуса; в Оренбурге— штаба Оренбургского военного округа и Оренбургского отдельного корпуса; в Петербурге архивы: министерства иностранн. дел, Морского министерства, канцелярии военного министра, Главного инженерного управления, общий архив Главного штаба и Военно-ученый архив; в Москве — Московское отделение архива Главного штаба. Всю работу по просмотру и отбору материала производил сам Серебреников. Дела Военно-ученого архива сохранили следы его довольно бесцеремонной работы: отобранные документы Серебреников отмечал красным или синим карандашом и подчеркивал для копииста слова, которые нужно было внести в заголовок, составлявшийся очевидно переписчиками. Сверял переписанные тексты отчасти Серебреников же, но главным образом его помощники, три офицера, откомандированные из полков для работы в архив в порядке служебного назначения. К 1906 г. вся основная работа по отбору и снятию копий была окончена, и Серебреников вернулся к своей основной службе. Первый том документов был напечатан только в 1908 г., уже после смерти ген. Иванова при преемнике его Тевяшеве. В дальнейшем печатание очень затянулось, так как были исчерпаны отпущенные на „Сборник" кредиты, а новые удавалось получать с трудом. В 1915 г. издание оборвалось не оконченным, хотя, как указывалось выше, материал для всех 30 предположенных томов был собран.
Таким образом „Сборник" был официальным изданием, предпринятым по инициативе военных — непосредственных участников завоевания Средней Азии — и выполнявшимся также военными людьми. Отсюда название „Сборника" — „Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края" и
1 См. Адрес-календарь на 1900—1914 гг.
412
основная цель его издания — прославление завоевательной политики царского правительства, цель, определенная и в предисловии к „Сборнику“ и в связанных с его печатанием документах: „ознакомление общества со славными страницами нашей истории“, „изучение военных действий по завоеванию Туркестанского края как уроков прошлого, как примера того, как с ничтожными средствами можно достигнуть громадных результатов“.
Введенное в заголовок „Сборника“ название „Туркестанский край“ понималось составителем очень широко, как Средняя Азия вообще, и задачей „Сборника“ было дать картину наступательного движения на Среднюю Азию как со стороны Каспийского моря, так и со стороны оренбургской и сибирской линий. Серебрениковым был обследован огромный архивный материал на эту тему. Но самый размах предприятия повел к его неудаче: Серебреников не сумел разобраться в массе поднятого им сырого материала, выделить существенное и систематически осветить наиболее значительные стороны истории продвижения в Среднюю Азию, хотя бы в рамках военной стороны этой истории. Приглядываясь к тому, как он работал над составлением своих томов, мы улавливаем один очень примитивный прием, который особенно заметен в первых 9 выпусках: часто Серебреников выбирает для тома какое-нибудь одно крупное дело, чаще всего из дел Военно-ученого архива, и печатает его целиком, документ за документом (за исключением разве самых незначительных); это дает ему основу тома, которую он затем несколько пополняет и разнообразит документами других дел и архивов. При таком приеме в „Сборник“ вводилось очень много документов мало значительных, и, наоборот, в нем оказывались не освещенными очень важные факты и события той же военной истории, которая так интересовала составителя. Например, годы 1844—1845—1846 заполнены огромным многотомным делом Военно-ученого архива: „По рапорту командующего Отдельным сибирским корпусом о предположениях ген,-м. Жемчужникова для действий в киргизской степи на будущее время. Тут же об устройстве в киргизской степи 3-х укреплений“. Из этого дела в „Сборник“ попала масса документов, касающихся технической стороны постройки степных укреплений, их снабжения, ведомственная переписка по этим вопросам, заключающая много мелочей. Но указанное дело освещало наступательные движения за 1844—1846 гг. только со стороны степи. Между тем в те же годы шла постройка Ново-Петровского укрепления на Мангишлаке, вызвавшая большие осложнения с Хивой, ряд враждебных действий со стороны хивинцев, попытки их поднять против России кайсаков и туркмен. Все эти события очень подробно освещены в делах того же Военно-ученого архива, но их Серебреников оставил в стороне. Между тем для более ранних годов он очень подробно использовал дела, относящиеся к обследованию Мангышлака и к подготовке
413
постройки там укрепления. Такого рода провалы встречаются в „Сборнике" постоянно.
Как указывалось выше, Серебреников работал в архиве министерства иностранных дел, и в его сборнике напечатан ряд документов этого архива. Обращение к архиву МИД выводило Серебреникова из круга узко военных вопросов и, казалось бы, должно было обогатить его сборник документами, освещающими вопросы продвижения на Среднюю Азию с более широких точек зрения — общей политики и международных отношений. Но этого как раз не случилось. Архив МИД использован Серебрениковым в самой слабой степени. Возможно, что это не только его вина: Серебреников был допущен к занятиям в архиве МИД „с тем условием, чтобы из предполагаемого издания были исключены бумаги, опубликование коих представляется неудобным по политическим соображениям". Можно думать, что Серебреникову в архиве МИД давали далеко не все. В его сборнике более или менее систематически использован материал по двум описям Азиатского департамента МИД — как раз наименее интересным — о посольствах к средне-азиатским владельцам и о приеме среднеазиатских послов. В делах этих описей очень много документов чисто официального порядка, касающихся внешней стороны и скрывающих за официальной парадной терминологией действительные мотивы и отношения. Такая основная опись, как опись 1—9, заключающая особенно важные и интересные дела, использована чрезвычайно слабо. Поэтому в „Сборник" не попали многие основные документы, общие записки, проекты, определяющие планы и программы действий русского правительства в Средней Азии или касающиеся вызванных наступательными действиями в Средней Азии осложнений в международных отношениях, особенно с Англией и Персией. Повидимому, даже тогда, когда подобного рода документы попадали в руки Серебреникова, он не понимал их значения. Так, он опускает составленную в 1840 г. в МИД записку о положении дел в Афганистане, отражающую меры, предпринятые в Афганистане Англией в противовес русскому движению на Хиву, и предположения русского министерства по этому поводу, и дает такую мотивировку этому пропуску: „Записка о положении дел в Афганистане не представляет особого интереса и здесь не прилагается".1
Слабое использование в „Сборнике" архива МИД объясняется еще одним обстоятельством. Как известно, огромное количество документов МИД написано на французском языке. Но Серебреников или не знал сам французского языка, или не хотел осложнить работы подыскиванием переводчиков или знающих французский язык копиистов. Во всяком случае, он брал в „Сборник" только документы, написанные по-русски. По-
1 Сборник, т. II, № 64.
414
нятно, что при таком приеме ни о каком сколько-нибудь полном и систематическом использовании дел МИД не могло быть и речи, и из просмотренных Серебрениковым дел МИД документы попадали в „Сборник“ не по признаку их интереса и значительности, а лишь в том случае, если они были написаны по-русски. Например в „Сборнике“ использовано дело Азиатского департамента МИД 1842 г. о посольстве Данилевского в Хиву. В этом деле наибольший интерес представляют собственноручные донесения Данилевского графу Нессельроде, дающие подробный отчет о ходе переговоров с хивинским ханом по ряду самых существенных вопросов. Но все эти донесения писаны по-французски и поэтому в „Сборник“ не вошли, а незначительные русские документы того же дела оказались в него включенными. Отказ от пользования французскими текстами вел к прямым курьезам: например, при использовании дела о посольстве 1842—1843 гг. хивинца Магомед-Эмина взята привезенная им грамота мяхтера графу Нессельроде, но не напечатана грамота хивинского хана Николаю I. Это объясняется тем, что в деле грамота мяхтера переведена на русский язык, а грамота хана — на французский.
Работа по обследованию архивных фондов, проведенная сотрудниками Института истории, в достаточной степени выяснила, как интересно и богато освещена в архивных документах экономическая сторона наступления на Среднюю Азию. В Серебреникове эта сторона не вызвала интереса, да она и не входила в задачу его труда. Поэтому он не обратился совсем к таким архивам, как архив министерства финансов, не были использованы им и те описи Азиатского департамента МИД, которые специально посвящены вопросам торговли с Средней Азией и экономической заинтересованности российских торговопромышленных кругов в ее завоевании. Больше того — часто, когда Серебреников встречал в использованных им делах документы, касающиеся специально экономических вопросов, он их опускал с трафаретным указанием: „Сведения эти не представляют в настоящее время интереса и поэтому здесь не приводятся“. Однако нельзя сказать, что он проводил это систематически, и кое-какие интересные документы экономического содержания в „Сборник“ все же попали. Но документы эти в „Сборнике“ случайны и они не дают сколько-нибудь полной и связной картины.
Само собой понятно, что у Серебреникова не было специального интереса к тем народностям и странам, на которые шло царское наступление. Так, встретив в приложении к одному документу подробный список киргизских и туркменских старшин, он его опустил с той же трафаретной оговоркой: „Список адай- цев и пр. не прилагается, так как не представляет интереса“.1 Не вошли совсем в „Сборник“ и те материалы описательного
1 Сборник, т. I, № 18.
415
характера, которые отлагались в делах Генерального штаба в результате посольств и экспедиций в среднеазиатские ханства и которые, на ряду с военно-топографическими сведениями, давали — и иной раз подробные и ценные — географические, статистические и этнографические обзоры, составленные на основании личных наблюдений.
Зато колониальная политика царского правительства оказалась освещенной в документах „Сборника“ чрезвычайно ярко* Повидимому, составитель „Сборника“ сам не понимал, какие темные иной раз картины изображают документы, собранные им для „освещения славных страниц нашего прошлого“. Так, он широко использовал дела, касавшиеся борьбы с так называемыми „мятежными“ или „хищными“ киргизами. Им почти целиком перепечатано дело Военно-ученого архива о борьбе с движением в степи, возглавлявшимся Кенисарой Касимовым.1 Но благодаря тому, что в вопросе о действиях в оренбургской степи министерства военное и иностранных дел очень расходились, и благодаря соперничеству тогдашних оренбургского и сибирского военных губернаторов Обручева и Горчакова, резко критиковавших друг друга в своих рапортах министерству, документы дают чрезвычайно яркую картину произвола действовавших в степи русских военных начальников и беспощадных карательных экспедиций, которые к тому же часто обрушивались на аулы, не находившиеся в связи с „мятежниками“, но подвергавшиеся тем не менее самому беззастенчивому грабежу со стороны казачьих отрядов. И все это Серебреников дает в своем „Сборнике“, не исключая документов, исходивших от киргизских султанов, которые жаловались на действия царских отрядов. Такой состав „Сборника“ не мог не отразиться на его судьбе. Когда в 1905 г. начальник штаба Туркестанского военного округа Евреинов запросил военного министра Поливанова: „Следует ли пускать в продажу сборник материалов“, тот ответил: „Если, как это надо полагать, в тексте издания не имеется материалов, не подлежащих оглашению, то распространение Сборника путем продажи, как способствующее ознакомлению общества со славными страницами нашей истории, только желательно..Между тем, первые 4 тома были выпущены с надписью „Не подлежит оглашению“, I том был напечатан всего в количестве 100 экз.,2 „Сборник“ совершенно не получил распространения, и издание его не было доведено до конца.
Теперь несколько слов о чисто археографической стороне издания. Конечно археографическая обработка документов, проведенная военным инженером и прикомандированными к нему из полков офицерами, должна была оказаться неудовлетвори-
1 Но посвященное тому же движению огромное дело Азиатского Департамента МИД, дополняющее дело ВУА, осталось вне поля его зрения.
2 Тираж остальных томов мне неизвестен. По всей вероятности оци также печатались в очень ограниченном количестве экземпляров.
416
тельной. В дальнейшем я дам примеры встречающихся в изданий ошибок и характеристику археографических приемов составителя, так как знакомство с этой стороной „Сборника" необходимо при использовании его материалов исследователем.1
В повторяющемся дословно в каждом томе коротком предисловии Серебреников так определяет принятые при издании документов археографические приемы: „Решено "было издавать материалы в сыром, совершенно необработанном виде, в виде точных копий не только самих документов, но и резолюций на них, надписей и пометок, имеющих нередко весьма важное значение". В действительности же это решение вовсе не исполнялось. Правда, по моим наблюдениям, вошедшие в „Сборник" документы напечатаны полностью — при проверке мне ни разу не пришлось уличить составителя в каких-либо сокращениях текста документов, в том числе тенденциозного и цензурного характера, и это огромное достоинство издания. Но язык документов систематически подвергался некоторой правке, „облагораживанию" и подновлению. Что же касается резолюций, надписей и помет на документах, то приходится сказать, что здесь „Сборник" совершенно не следует возвещенному в предисловии решению. Пометы и надписи на документах (которыми особенно богаты дела военного министерства, и которые часто представляют чрезвычайно большой интерес), как правило, опущены совсем без каких-либо на это указаний.2 Резолюции воспроизводятся, но далеко не всегда, а если воспроизводятся, то большею частью неудовлетворительно. Между прочим работавшие над „Сборником" совершенно не научились различать царские резолюции и в тех случаях, когда они не сопровождаются надписью, что резолюция царская, частенько их опускали без всякой оговорки, особенно если они писаны карандашом. Печатая неподписанную резолюцию, составитель обычно не дает никаких указаний, чья она; это в равной степени относится и к царским резолюциям и к резолюциям военных министров и других лиц. Немногие же попытки составителя определить авторов анонимных резолюций повели кочень большим курьезам. Так, к всеподданнейшему докладу военного министра Чернышева от 4 января 1843 г.3 дано такое курьезное примечание редакции: „На этом докладе военного министра им же самим положена резолюция, содержание которой почти целиком воспроизведено в отношении его ген.-губернатору Западной Сибири от 4 января 1843 г. № 19* почему она и не воспроизводится здесь". Понятно, что военный
1 Изложенная далее характеристика археографических приемов издания основана на сличении нескольких использованных Серебрениковым дел Военно-ученого архива и б. архива Министерства иностр. дел с напечатанными в „Сборнике“ текстами.
2 За исключением дат получения документов, которые отмечаются систематически.
3 Сборник, т. IV, ч* II, № 2 — ср. с делом ЦВИА, ВУА, № 1201.
27 Проблемы источниковедения
417
министр никак не мог положить свою резолюцию на всеподданнейшем докладе: на документе мы имеем изложение резолюции Николая I, сделанное рукою директора канцелярии военного министра генерал-майора Анненкова. Вот второй пример полной беспомощности составителя в воспроизведении и определении резолюций.1 После рапорта оренбургского военного губернатора Обручева военному министру Чернышеву от 12 июля 1843 г. напечатано: „Резолюция. Получено сего 20 июля с нарочным казачьим офицером. Мне неизвестен полковник Бизянов, коему предполагается дать важное полномочие. Так как генерал Обручев отнесся о сем же предмете к вице-канцлеру, то не благоугодно ли будет отложить разрешение сего представления до свидания с графом Нессельродом. Подожду. 20 июля". В этом напечатанном, как одна и неизвестно чья резолюция, тексте, резолюцией является написанное рукой Николая I слово „Подожду" с датой: „20 июля". Все остальное написано характернейшим почерком Чернышева и является отнюдь не резолюцией, а вопросом последнего к царю при докладе о рапорте Обручева. Очень неблагополучно в „Сборнике" с воспроизведением подписей, которые часто передаются неточно, а иногда и неверно (например, вместо „статс-секретарь К. Грот" — „статс-секретарь Грейг"), есть неверные и неточные даты, не всегда правильно определены в заголовках отправители и адресаты документов (так, в заголовке к одному документу 1843 г. мелкий чиновник Оренбургской пограничной комиссии Григорьев назван председателем комиссии и спутан с известным ориенталистом В. В. Григорьевым, действительно бывшим председателем комиссии, но в более поздние годы). В легендах при указании номеров дел встречается очень много опечаток.2 Справочного аппарата в „Сборнике" нет. Таким образом археографическая сторона издания очень слаба, и, пользуясь им, надо иметь в виду возможность неточностей и ошибок.
Подробный разбор „Сборника" показал, что он не удовлетворяет требованиям советского историка — ни со стороны содержания, ни со стороны археографического оформления. При таком положении вопрос о допечатании остающихся в рукописи томов „Сборника" должен быть решен отрицательно. Но вместе с тем „Сборник" пока остается самым обширным собранием документов по истории наступления на Среднюю Азию в XIX в. и борьбы против него и при том собранием, которое в некоторых своих частях, вероятно, незаменимо. Как я указывала выше, Серебреников обращался к местным архивам—Ташкента, Омска, Оренбурга, Верного. Архивы среднеазиатских республик очень пострадали в период гражданской войны — возможно, что многие
1 Сборник, т. IV, ч. II, № 29— ср. с делом ЦВИА, ВУА, № 1201.
2 Нужно заметить, что дела Военно-учейого архива значатся в „Сборнике*1 Но старой нумерации, которая еще в дореволюционное время была изменена.
413
из документов, напечатанных в „Сборнике", сейчас уже не могут быть найдены в подлиннике. Это заставит иной раз обратиться и к невышедшим томам „Сборника" как к первоисточнику.
Если бегло продолжить обзор дореволюционных публикаций по истории Средней Азии (ограничивая этот обзор официальными документами русских архивов и не выходя за пределы XIX в.), то можно указать, кроме „Сборника", только одну большую серию — томы „Актов Кавказской археографической комиссии", которые издавались с 1864 по 1904 г. В „Актах", охватывающих период с XVIII в. по 1866 г., напечатан ряд документов тифлисских архивов, которые отражают наступление на Среднюю Азию со стороны Кавказа и восточного берега Каспийского моря. Благодаря этому „Акты" служат необходимым дополнением „Сборнику", при составлении которого предполагавшийся обзор тифлисских архивов как раз не был осуществлен. Но для сотрудников Кавказской археографической комиссии центральной темой был Кавказ, и среднеазиатские мотивы за* нимают в огромных томах „Актов" самое скромное место.
Среди других публикаций преобладают издания определенного типа: чаще всего это собрания документов, освещающих наиболее яркие моменты русской агрессии на Среднюю Азию и издававшиеся вскоре после самого события непосредственными участниками военных действий — иногда с прямой целью оправдать эти действия или их инициаторов. Так, в 1868 г. Д. И. Романовский — в 1866—1867 гг. военный губернатор Туркестанской области и непосредственный продолжатель чер- няевских завоеваний — издает свои „Заметки по средне-азиатскому вопросу", в которых он оправдывает необходимость наступательных действий в Средней Азии и к которым дает в виде приложений более 150 страниц документов о военных событиях 1860—1867 гг. В 1882 г., в год смерти Скобелева, один из его почитателей издает собрание его приказов, которые в значительной степени относятся к деятельности Скобелева в Средней Азии — в Ферганской области в 1876—1877 гг. и в Закаспийском крае в 1880—1881 гг.1 В 1915 г., к годовщине взятия русскими Ташкента, один из сподвижников Черняева — Н. Абрамов — печатает в „Военном сборнике" и в „Военноисторическом сборнике" серию публикаций: „Черняев. К туркестанским боевым юбилеям. 1865—1915", имеющих целью оправдание действий Черняева в Средней Азии, подвергавшихся 3 свое время нападкам.2 Участник хивинского похода 1873 г. генерал Н. И. Гродеков дает ряд относящихся к этому походу документов в своей книге „Хивинский поход 1873 г.", вышедшей первым изданием в 1883 г. и вторым в 1888 г. Очень боль¬
1 Приказы генерала М. Д. Скобелева (1876—1882). Спб. 1882.
2 Военный сборник, 1915, № № 1, 6—12; Военно-исторический сборник, 1915, № 2.
27*
419
шое количество документов опубликовано тем же автором в его большом четырехтомном труде „Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880—1881 гг." (СПб. 1883—1884) и т. д. Среди публикаций подобного рода исключением являются такие издания, как публикации семипалатинского краеведа Н. Я. Коншина (осевшего в Семипалатинске политического ссыльного), давшего ряд публикаций из местных архивов, публикаций очень неудовлетворительных с археографической стороны, но вызванных интересом к истории Казахстана и к причинам упорной борьбы его населения с русским правительством.1
Говоря об изданиях документов официального происхождения, необходимо особо отметить публикации, которые носят несколько иной характер, чем указанные выше. На ряду с военным наступлением на' Среднюю Азию, шло изучение захватываемых областей. В результате военных экспедиций, походов, рекогносцировок и дипломатических миссий отлагались материалы и записки описательного характера —военно-географические, статистические, этнографические, — составлявшиеся обычно офицерами Генерального штаба. Материалы подобного рода печатались как в официальных изданиях Генерального штаба, так и в различных специальных журналах, преимущественно в изданиях Русского географического общества, и представляют значительный интерес. Но, как показывает сохранившаяся в одном из дел Азиатского департамента2 переписка помощника председателя Русского географического общества Литке с директором департамента Сенявиным об опубликовании в „Записках" Общества „Описания хивинского ханства" 1843 г. подполковника Данилевского, разрешение на печатание таких материалов давалось лишь при условии исключения мест, „неудобных для опубликования по политическим соображениям". И при сличении рукописи „Описания" с напечатанным в „Записках" Общества за 1851 г. (т. V) текстом обнаруживается, что из рукописи действительно были выкинуты все наиболее острые в политическом смысле фразы.
В задачи настоящей заметки не входит обзор публикаций документов частного порядка — писем, дневников, мемуаров, как и обзор публикаций документов, писанных на национальных языках. И то и другое требует специального рассмотрения, второе — и знаний востоковеда. Но понятно, что в условиях дореволюционного времени опубликование документов, исходивших от противной русской агрессии стороны или относившихся
1 Н. Коншин. Материалы для истории Степного края. Памятная книжка Семипалатинской области на 1900 г. Семипалатинск, 1900. То же в „Памятной книжке“ на 1902 г. Семипалатинск, 1901. То же в „Записках Семипалатинского подотдела Зап.-Сибирского отдела Русского география, общ.“, вып. 1 и 2, 1903 и 1905.
2 ЦАВП, МИД, 1—9, 1843 г., № 6 „По поводу записки подполковника Данилевского «Описание хивинского ханства» 1843 г."
420
к ней критически, было или невозможно, или встречало большие затруднения.1
Таким образом дореволюционная археография дает нам публикации, освещающие преимущественно военную сторону наступления на среднеазиатские области и подобранные с точки зрения агрессора. Между тем, в пореволюционное время сделано очень мало для замены этих публикаций новыми. Можно прямо сказать, что задача дать научное собрание документов по истории Средней Азии является одной из первоочередных задач советской археографии и советского востоковедения.
1 Примером может служить судьба рукописи Ахмета Кенисарина, сына внаменитого Кенисары, об его отце и брате, султане Садыке. Она была издана в 1889 г. в Ташкенте в русском переводе и в „обработке" Е. Т. Смирнова, снабдившего ее примечаниями, которые должны были по возможности обезвредить ее антирусский характер („Султаны Кенисара и Садык. Биографические очерки султана Ахмета Кенисарина; обработано для печати и снабжено примечаниями Е. Т. Смирновым". Издание Сыр-дарьииск. обл, статистич. комитета. Ташкент. 1889).
421
Ответственный редактор акад. Б. Д. Греков.
Редактор издательства Д. С. Лихачев.
Технический редактор Д. С. Бабкин.
Корректор В. А. Заветновсхий.
Подписано к матрицированию 1 февраля 1938 г. — Подписано к печати с матриц 4 мая 1940 г. — 422 стр.— Формат бум. 62 X 94 см. — 268/g п. д. 34 695 тип. вн. в печ. л. — 22,99 уч,- авт. л. — Тираж 2000 екз.—Леигор- лнт № 1745,- АНИ № 203.—РИСО № 499. —Заказ № 1508.
Типо-литография Издательства Академии Наук СССР. Ленинград. В. О., 9 линия, 12.