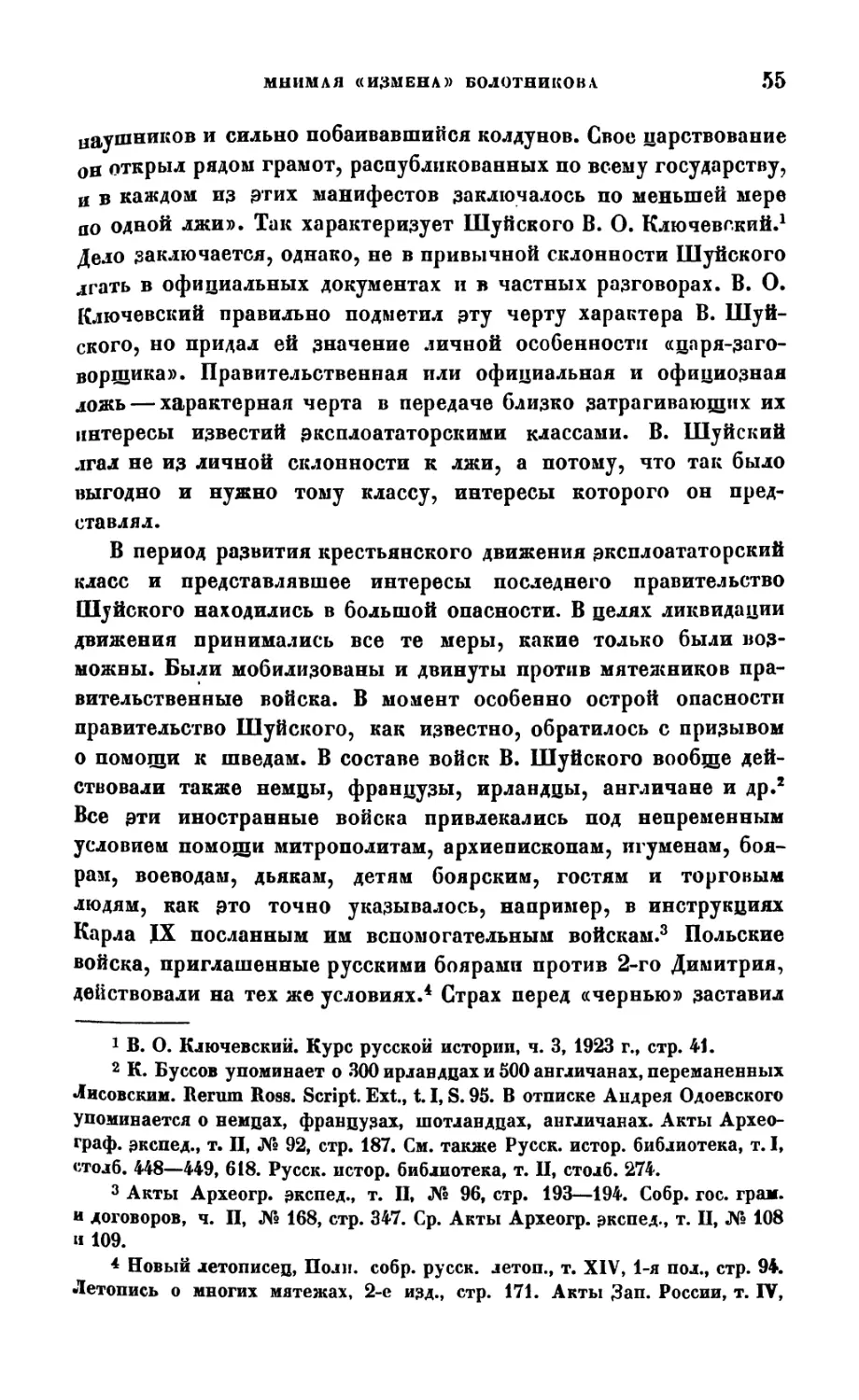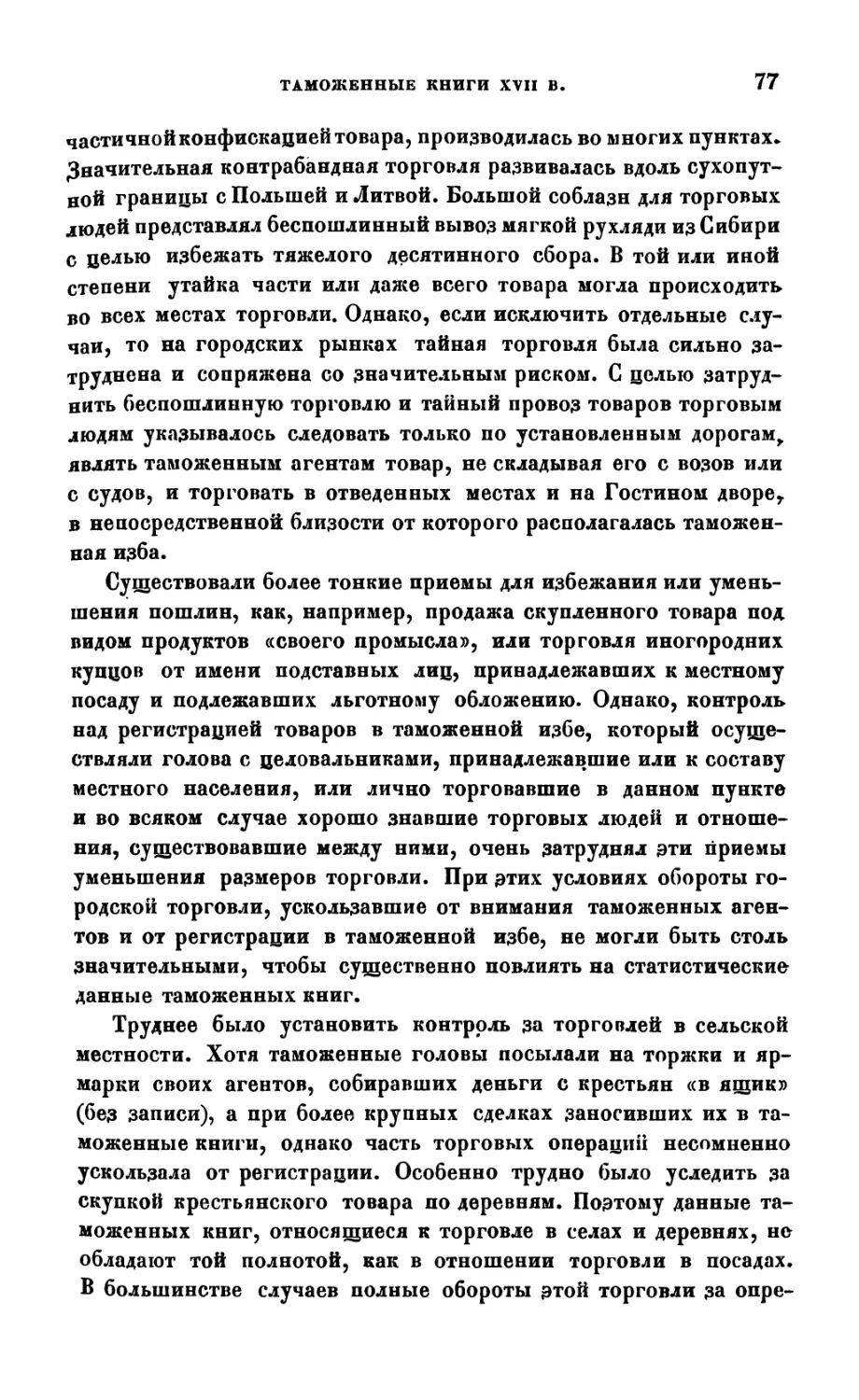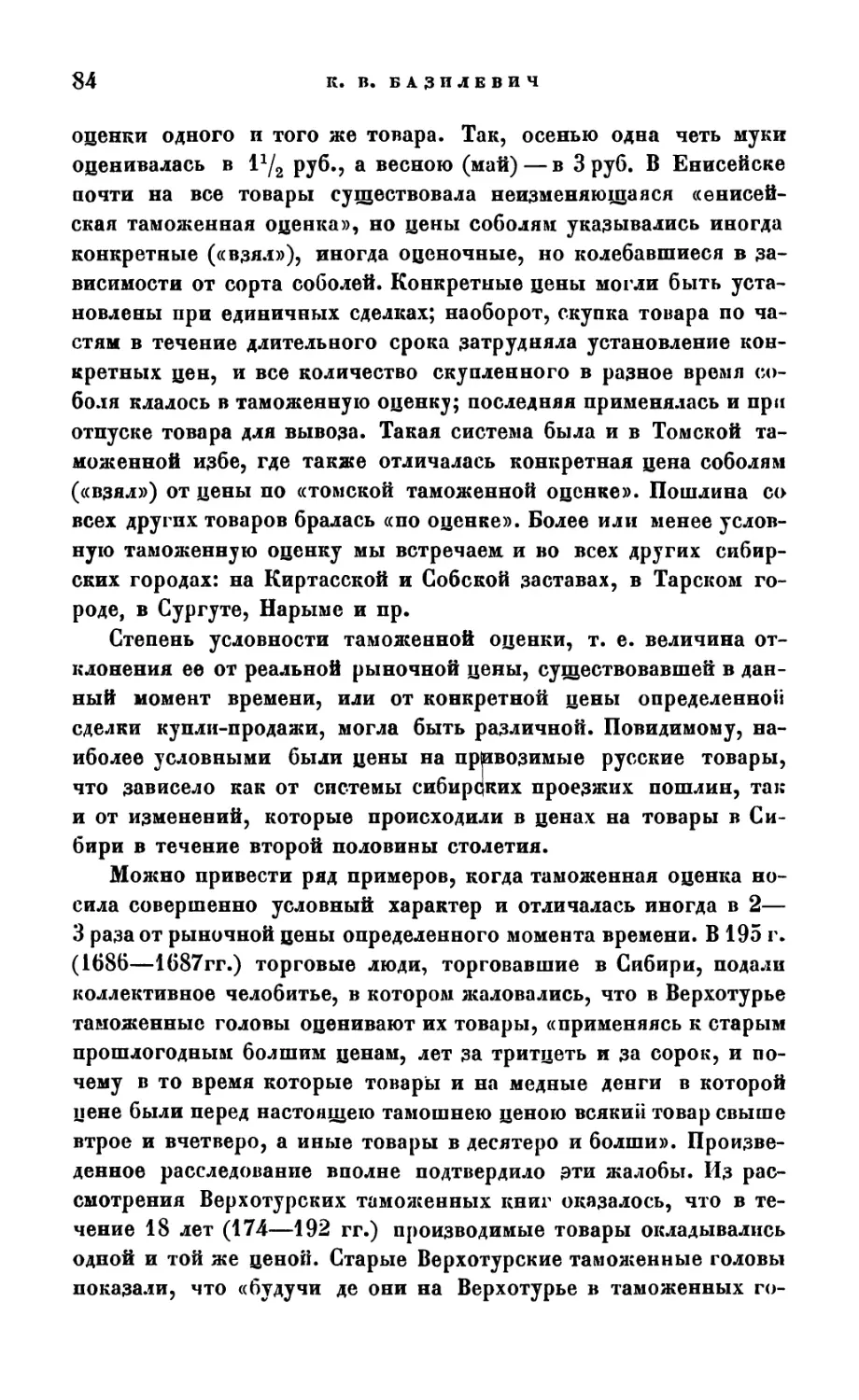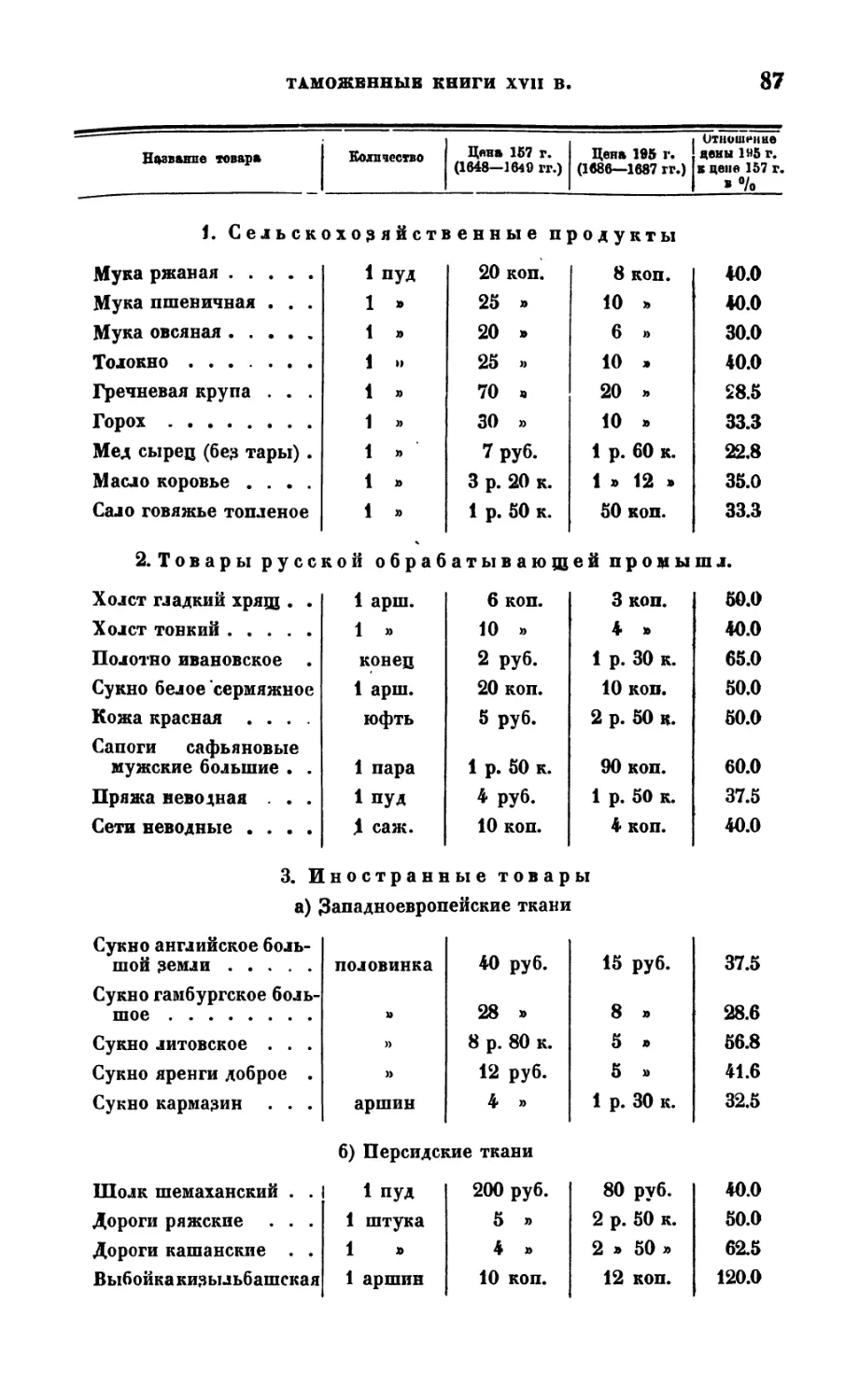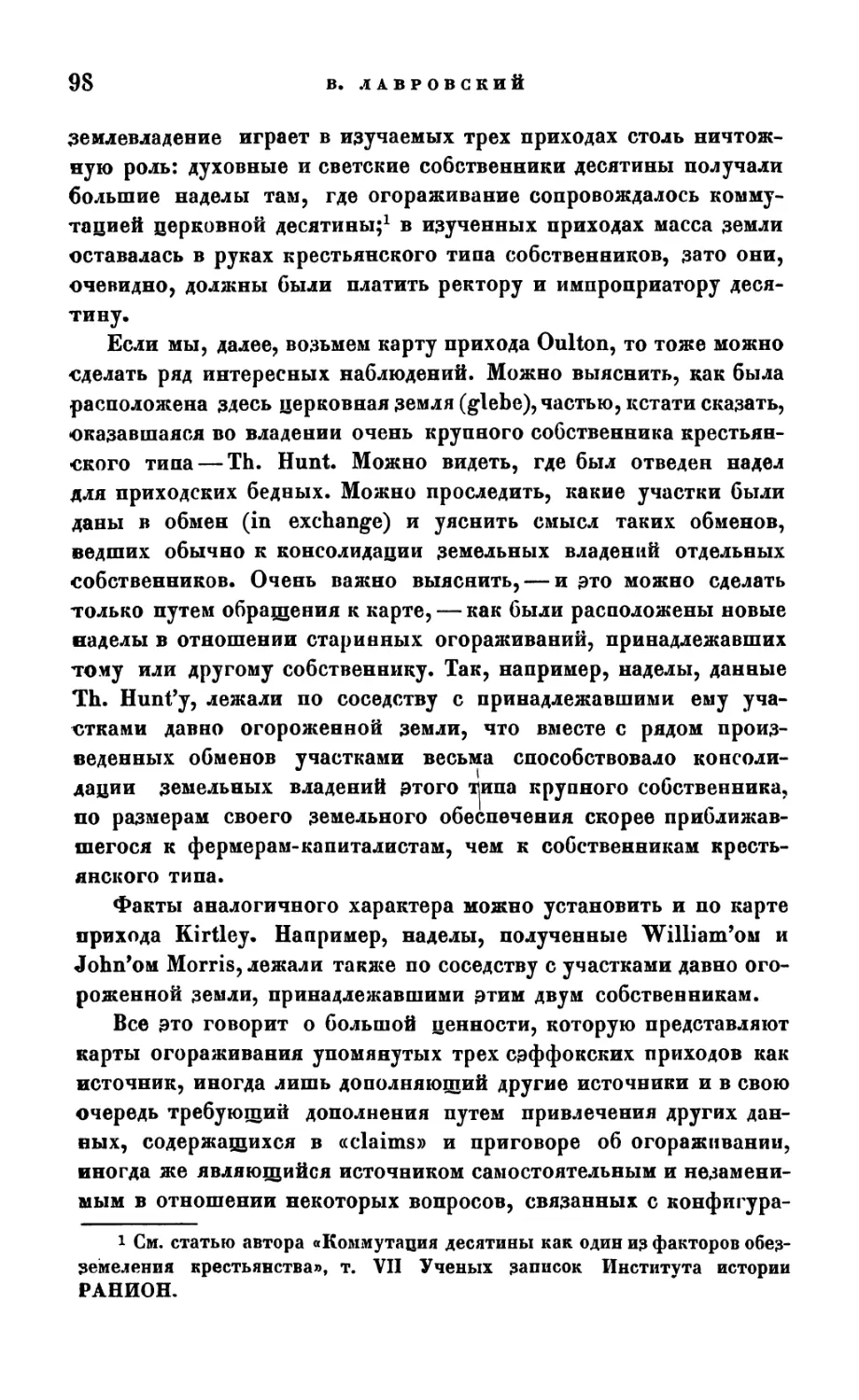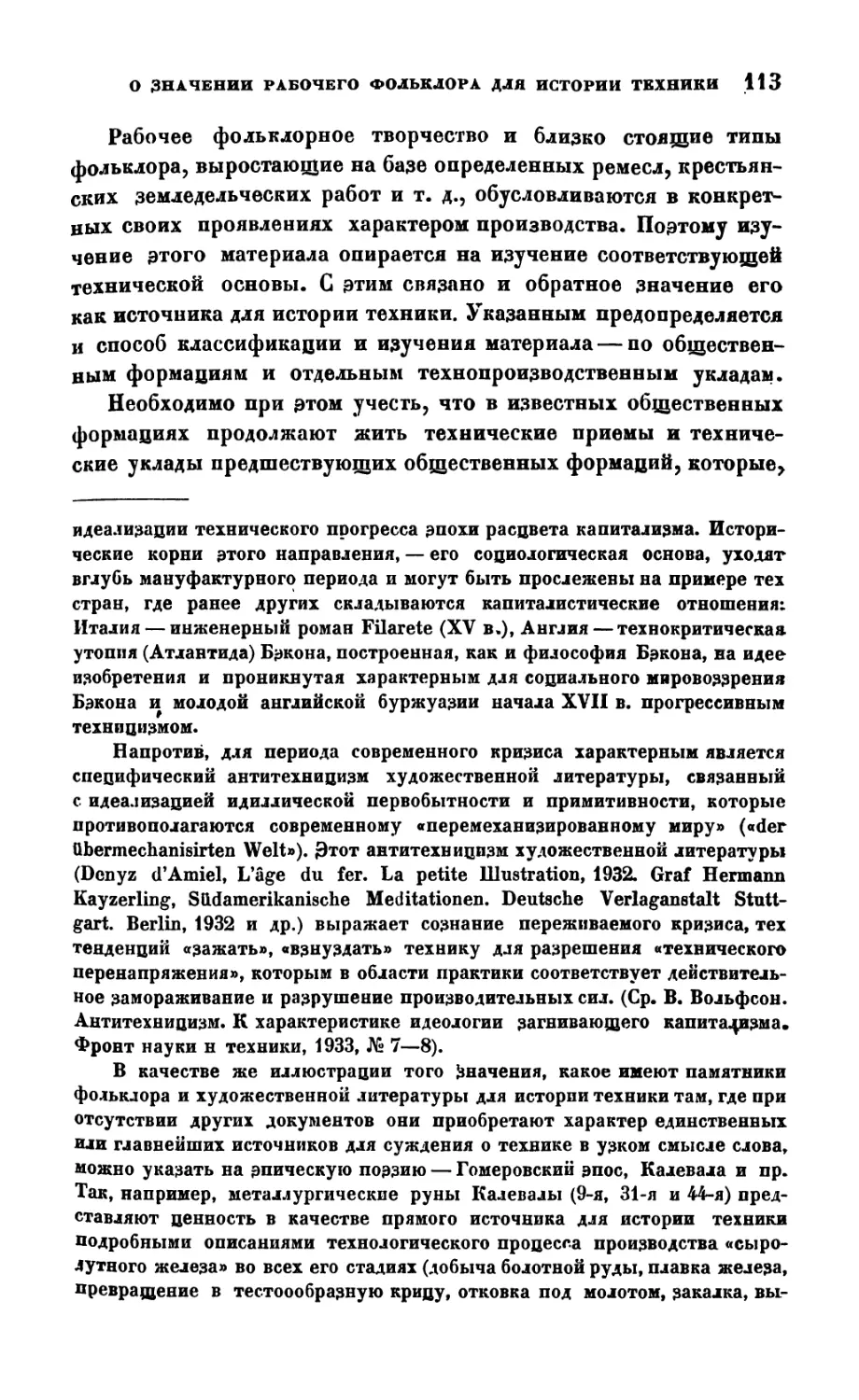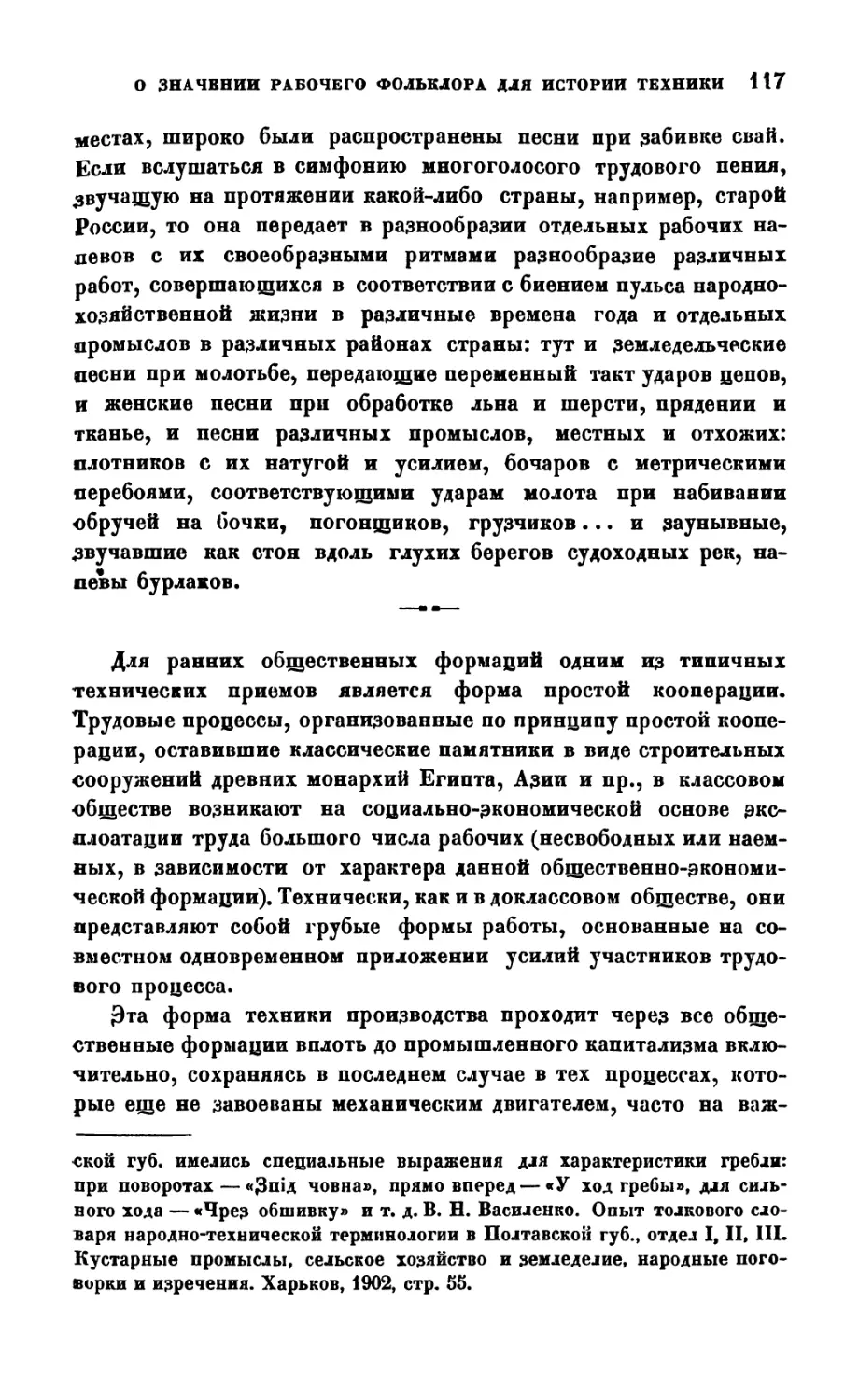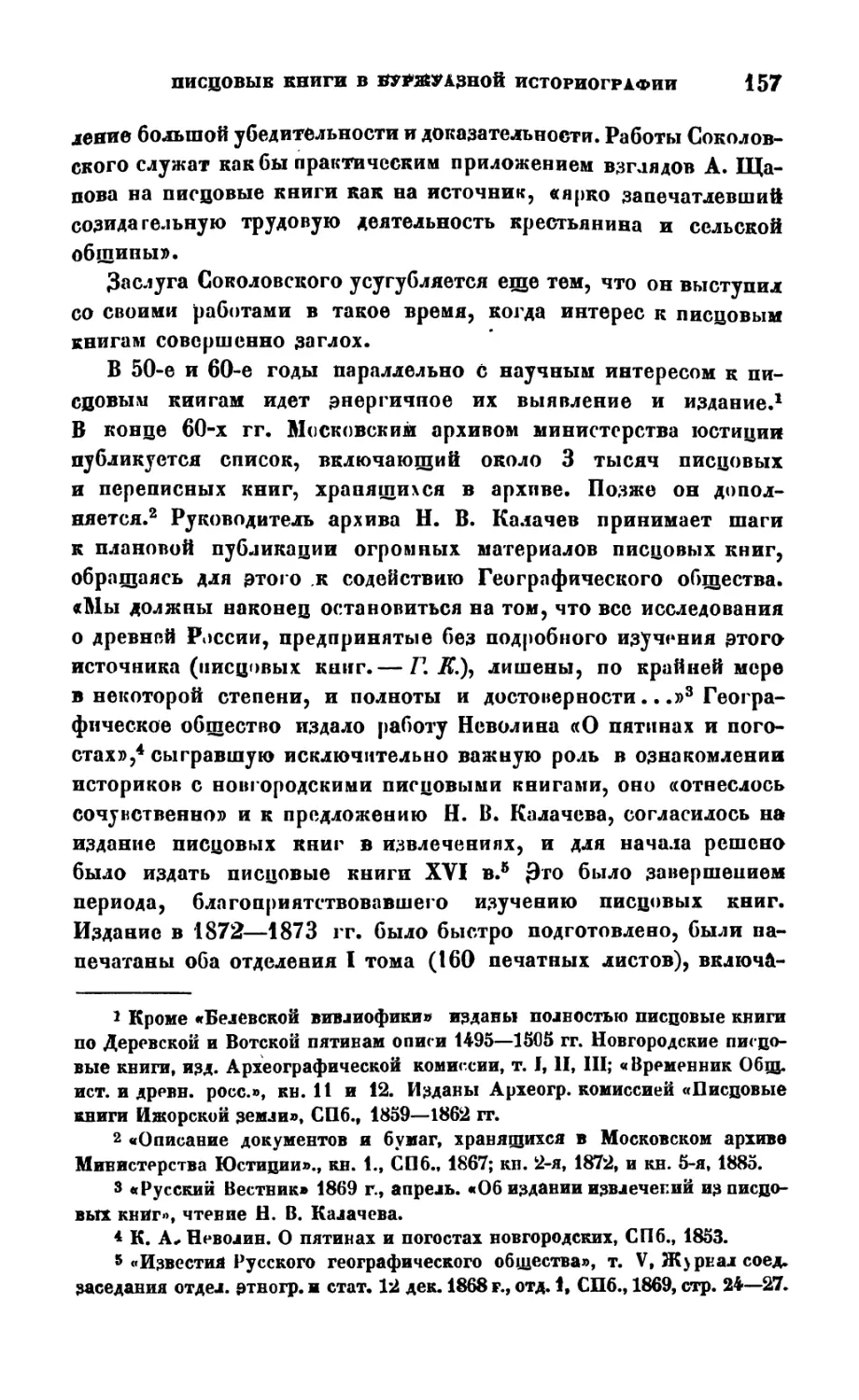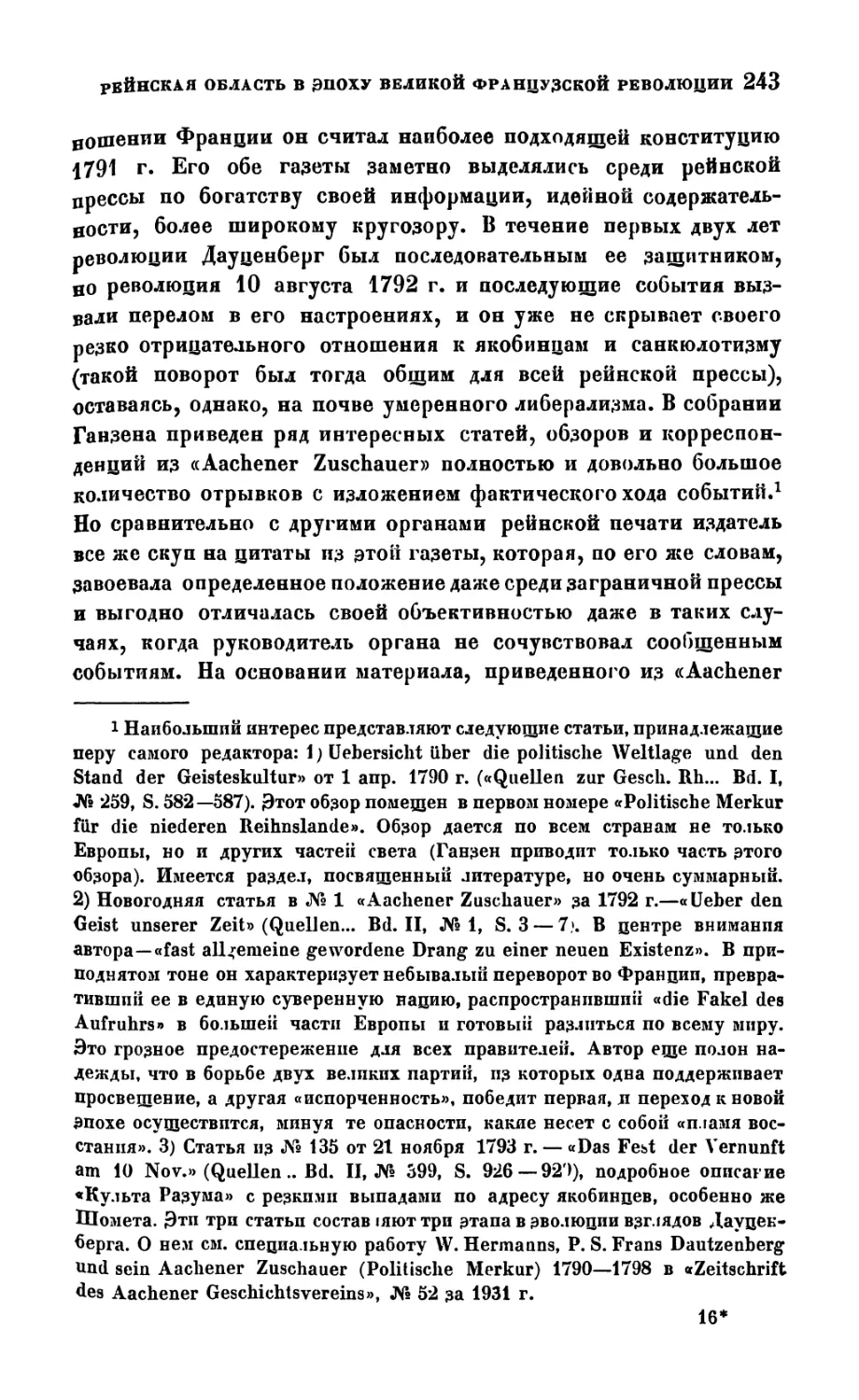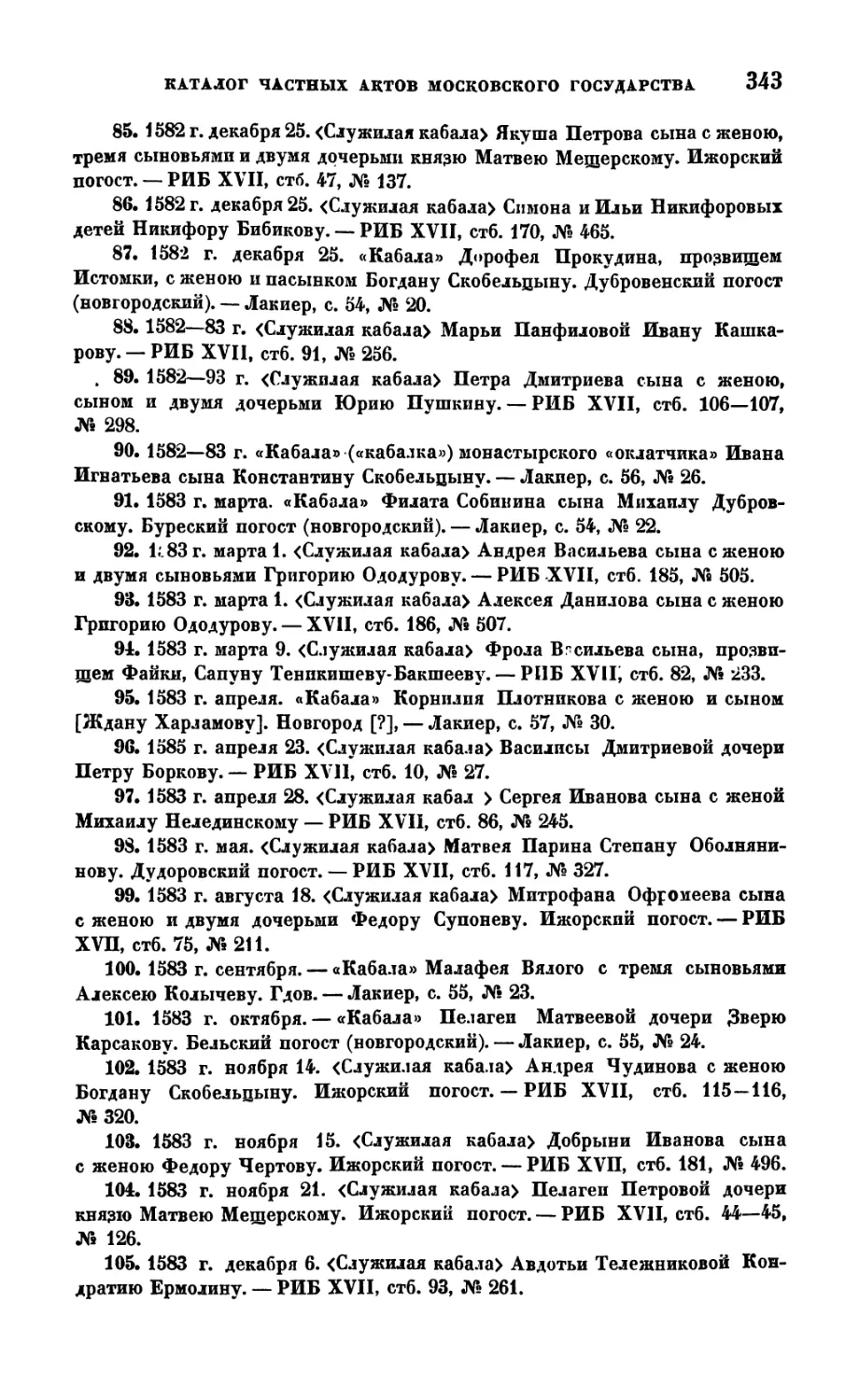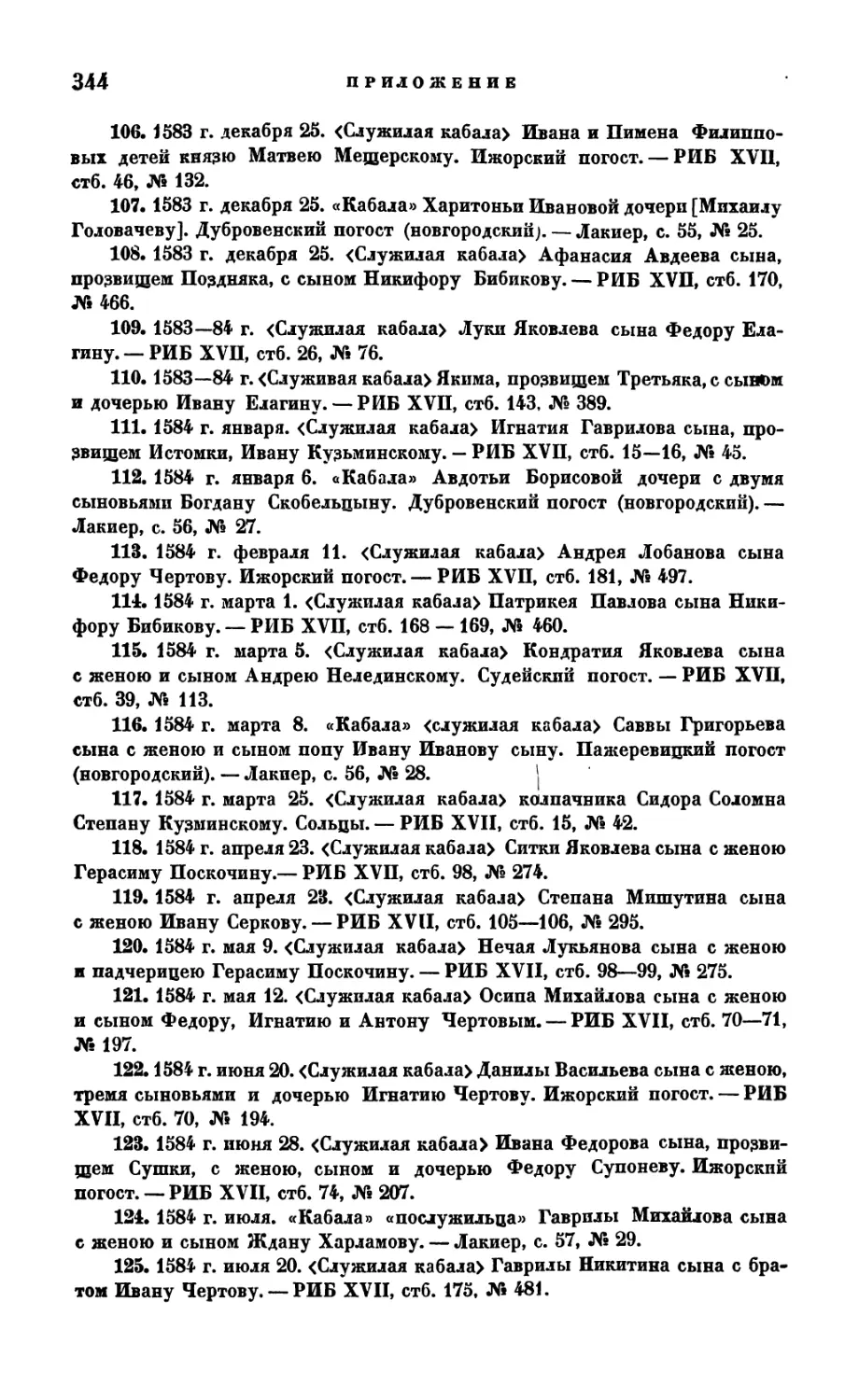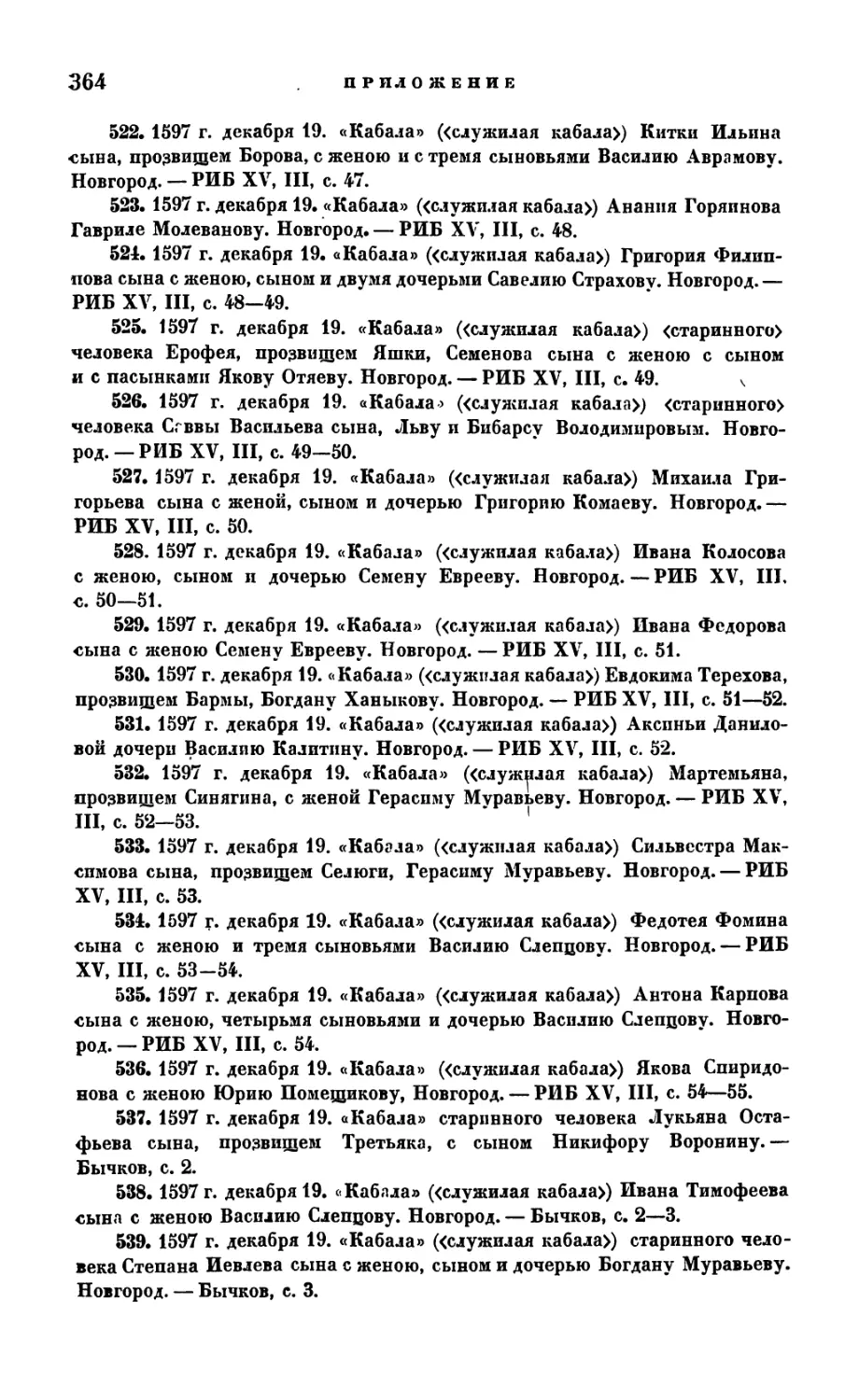Author: Троцкий И.М.
Tags: статьи источниковедение сборник методологические вопросы виды документов материалов по фондам
Year: 1936
Text
ТРУДЫ ИСТОРИК О-A РХЕО ГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АКАДЕМИИ НАУК СССР
★
Том XVII
ПРОБЛЕМЫ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
СБОРНИК ВТОРОЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР МОСКВА . 1936 . ЛЕНИНГРАД
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Е. А. Р ы д з е в с к а я. Слово «смерд» в топонимике 5
И. М. Троцкий. Элементы дружинной идеологии в «Повести
временных лет» 17
С. Н. Быковский. Мнимая «измена» Болотникова 47
К. В. Базилевич. К вопросу об изучении таможенных книг
XVII в 71
В. Лавровский. Карты парламентских огораживаний как источник по истории землевладения в Днглип конца XVIII — начала XIX в 91
В. Каменский. К вопросу о значении рабочего фольклора, трудовых песен и других типов фольклорного творчества как источника для истории техники 111
Обзоры
Г. К о ч и н. Писцовые книги в буржуазной историографии .... 145
Н. И. Покровский. Обзор источников по истории имамата . . 187
А. Е. Кудрявцев. Рейнская область в эпоху Великой французской революции. (О новом издании документов.) 235
A. Н. Н а с о н о в. О неизданной рукописи А. А. Шахматова: Обо¬
зрение летописных сводов 279
Археографические сообщения
B. П. Любимов. Об издании «Русской Правды» 299
Правила издания документов XVI—XVII вв. . ." 315
Приложение
Каталог частных актов Московского государства 333
Е. А. РЫДЗЕВСКАЯ
СЛОВО «СМЕРД» В ТОПОНИМИКЕ
І
0 смердах, как о социальном слое древней Руси, у нас имеется, как известно, довольно обширная литература. Если отдельных монографий, специально посвященных им, и не очень много, то, во всяком случае, у каждого историка можно найти анализ тех данных о смердах, какие сохранились в письменных памятниках, и целый рад замечаний по этому вопросу, до сих пор еще не вполне ясному.
Исторический материал, касающийся смердов как определенной категории населения, в той или иной мере зависимой от феодальных землевладельцев, достаточно всесторонне освещен в наше время в работе Б. Д. Грекова «Очерки по истории феодализма в России. Система господства и подчинения в феодальной деревне».1 Здесь можно дать по этому поводу лишь несколько дополнительных замечаний. Основная задача настоящей статьи — иная, более скромная и ограниченная: она сводится к изучению топонимических данных, т. е. местных названий, производных от слова «смерд», до сих пор не собранных и не изученных, между тем как они вполне заслуживают внимания. Наряду с производными от «смерд», русская топонимика по имеющимся у нас записям, начиная с летописей и древнейших актов и грамот и кончая Списками населенных мест и т. п. изданиями, доходящими до наших дней, заключает в себе данные, относящиеся и к другим социальным терминам, как холоп, роба, изгой, изорник, сябр (см., напр., Новгородские писцовые книги). Выявление и систематическое изучение имеющегося здесь фактического материала, представляющего собою следы общественного
1 Изв. ГАИМК, 1934, вып. 72, стр. 25—159. См. также статью С. Н. Чернова «О смердах Руси XI—XIII вв.» в сборнике ((Академия Наук — Н. Я. Марру», 1935, стр. 761—777.
6
Е. А. РЫДЗЕВСКАЯ
и экономического строя древней Руси, могли бы представить интерес для истории соответственных терминов и послужить, таким образом, дополнением к существующим историческим исследован иям.
Термин «смерд» встречается в топонимике не только у нас, но и в некоторых других странах, где он был известен и сохранился в составе местных названий.
Обращаясь, прежде всего, к нашей территории, мы видим, что ни одно социальное обозначение не дало столь богатого и столь разнообразного по форме производных отражения в топонимике, как слово «смерд».
Определяя географическое распространение его среди местных названий, необходимо, конечно, сделать следующую оговорку: распространенность производных от него в том или ином районе стоит в связи с тем, что здесь именно так назывался данный слой общества, но отсюда, разумеется, не следует, чтобы этот слой отсутствовал, как таковой, в какой-нибудь яругой области, где рассматриваемое нами обозначение его отразилось в топонимике значительно слабее, или не встречается вовсе. Только в таком условном смысле можно говорить о «смердьих центрах», намечающихся в топонимике.
Местные и речные названия, производные от «смерд», образуют, насколько можно судить по имеющемуся материалу, две большие территориальные группы. На первом месте стоит новгородско-псковская, где их чрезвычайно много как по Писцовым книгам, так и по Спискам населенных мест.1 Речные названия, вроде Смерда, Смерделя, Смердица и т. п., встречаются в бассейнах Волхова, Великой, Ловати, Чагоды, Суды и Шексны.2
Непосредственно к этой группе примыкает северная и северо- восточная— Двинская область (акты ХУ—XVII вв.) и северо- западная часть б. Вятской губ. (Список населенных мест).
Верхнее Поволжье (район Твери, Владимира и Ярославля) дает значительно меньше таких названий. Спорадически они встречаются в районе Калуги, в ЦЧО и на Украине; немного чаще — на западной территории нашего Союза (БССР).
1 В самом Пскове, напр., всем известны по псковским летописям Смер- дий мост и Смердьи ворота (XIV и XV вв.).
2 Для названий рек и озер этого района я пользовалась, главным образом, книгой Д. Ф. Шанько, Реки п леса Ленинградской области,. 1929.
СЛОВО ((СМЕРД)) В ТОПОНИМИКЕ
7
Вторая большая группа — западная: на ю.-з« — Волынь, Подолия, Холмский край (акты XVI—XVII вв.); сюда же непосредственно примыкает Галиция и Малая Польша, а к ним, в свою очередь, — остальная польская территория, Познань, Силезия и Восточная Пруссия. Целый ряд подобных названий имеется также в померанских и мекленбургских актах, начиная с XII в.
Довольно многочисленной является и литовская группа (районы Ковно, Вильно и Гродно).
Обзор немецких средневековых памятников, упоминающих о смердах (smurdi, smordi, smardones) в Германии, и характеристику полусвободного положения этого социального слоя, аналогичного тому, что мы знаем о русских смердах, дает С. В. Юшков в своей работе «К вопросу о смердах» (Саратов, 1923 г.) Эти данные собраны также у Ягича,1 у Пейскера1 2 и др., но местных названий, производных от термина «смерд», западно-европейские ученые, насколько мне известно, не касались и лишь между прочим приводили отдельные примеры в своих работах.
За неимением материала по балканским и придунайским странам, отмечу здесь лишь два известных мне названия такого рода в Румынии — Smarda и Smirdioasa.
Как уже было сказано выше, производные от «смерд» отличаются большим разнообразием форм: простейшие из них Смерди, Смерда, Smiord (название ручья в районе Витебска в польском документе XVI в.).3 Далее — наиболее простые производные, как Смердов, Смердово, Смердий, и наконец — такие формы, как Смердовичи, Смердомка, Смердомля, Смердынь, Смерделицы и мн. др.
Древне-русская форма «смеред» с полногласным -ере- вместо -ер-, которую мы встречаем в Новгородской IV летописи под 1136 г.,4 находит соответствие в местном названии Смередье
1 Рецензия на «Русские юридические древности» В. И. Сергеевича (Arhc. fur slav. Philol., 1891, XIII, стр. 285—300).
2 Cber die alteren Beziehungen der Slaven zu den Ttirkotataren und Ger- manen, 1905, стр. 134 сл.
3 Согласно объяснению, предлагаемому некоторыми исследователями для текста грамоты 1136 г. Изяслава Мстиславича Новгородскому Пантелеймонову монастырю, сюда же относится название села Смерд, переданного Изяславом этому последнему (см. С. Н. Чернов, ук. соч., 765—767).
4 См. А. А. Шахматов. К истории звуков русск. яз., 313 (ИОРЯС, 1902, VII, 1).
8
Е. А. Р Ы Д З Е В С К А Я
(Новгор. писц. кн., V, 463, Шел. пят. и Спис, насел, мест б. Пет. губ., № 1323, Гдовский у.).1
Довольно разнообразны по своим формам и образования, относящиеся ко второй, западной, группе; здесь прежде всего обращает на себя внимание чередование гласных в корне: в польских и немецких актах, начиная с XII—XIII вв., мы имеем Smerd-, Smierd-, Smard-, Smiard-, Smird-, Smord-, и образование без d, как, напр., Smarzewo.
II
В отношении исторического освещения вопроса о смердах могу сделать, как уже сказано выше, только несколько отдельных замечаний в связи с ((Очерками» Б. Д. Грекова. Указанием на сельских жителей — смердов, как на добывателей пушнины, можно считать, как мне представляется, то место ссВопрошания Кирикова» XII в., отмеченное в «Очерках», 42 (а также у С. Н. Чернова, ук. соч., 763) как определяющее смердов-крестьян, «иже по селом живоуть», где говорится: «оже то дроузии иадять веверичину и ино». В древней Руси беличий мех, как известно, был важной статьей пушного промысла и взимаемой с населения дани. Вопрос о съедобности белки сам по себе интересен не только с точки зрения народного хозяйства и экономического быта той эпохи, с которой мы в данном случае имеем дело, но и по связи своей со значением ЭТОГО животного, восходящим, вероятно, к каким-то очень древним тотемическим корням.
Смердов, как народную массу в составе ополчения, можно видеть, между прочим, в известии Новгородской ІУ летописи под 1216 г. о пеших воинах, вооружением которых являются «кыи и топоры».1 2 3 Этот текст дает нам, таким образом, сведения о вооружении, с которым смерд шел на войну: у него нечто вроде дубины, или палицы, п топор, который в его руках является ре только боевым оружием, как у княжеского дружинника, но и повседневным орудием производства.
Не лишенным интереса представляется и вопрос о смердах, как о низшем слое городского общества. В летописях и грамотах большинство данных говорит о них, прямо или косвенно,
1 Ср. у А. А. Шахматова, ук. соч., стр. 298 сл., подобные жеслучаи второго полногласия в современных русских говорах (жёредь, сёреп и т. п.).
2 Что это именно смерды, можно заключить по сопоставлению с дру¬
гими летописным известиями о составе ополчений.
СЛОВО ((СМЕРД)) В ТОПОНИМИКЕ
9
как о сельском населении. Ипатьевская летопись под 1159 годом сообщает о борьбе Ярослава Галицкого с Иваном Берладником и об эпизоде в Ушице, когда 300 смердов перебежало к Ивану из города, занятого Ярославом. Это краткое известие особенно интересно потому, что летопись, вообще, сравнительно редко сообщает что-нибудь определенное о настроениях и симпатиях широких масс и социальных низов. На основании этого места Барсов считал смердов городским населением,1 что представляется сомнительным: во-первых, эти смерды могли быть ополчением, стянутым в город из разных волостей по случаю войны, как мы видим в той же Ипатьевской летописи под 1245 г., когда Ростислав Галицкий собирает в Перемышль сссмерды многы пешьце»; во-вторых, во всех остальных текстах, где это наименование, казалось бы, распространяется на городское население, оно имеет значение не социального термина, а «словес величавых», выражающих высокомерное и пренебрежительное отношение, как у Олега Черниговского в Лаврентьевской летописи под 1096 г.; ср. название новгородцев смердами в летописных сводах московского периода (Воскр., Никон, и др.).1 2 3Как социальное обозначение это слово встречается в русских летописях и актах не позже XV в.; «смердовщина», как название какого-то вида побора, в новгородской грамоте 1598 г.,п является, повидимому, пережитком более старой социальной терминологии.
В XVI в. мы еще находим этот термин в одном русско-литовском акте (1511 г.), где он обозначает, как видно из текста, простолюдина, тяглого человека, противопоставляемого земянам как социальной группе более высокого порядка.4 «Смерд» и «смердовка» встречаются, кроме того, в тех же русско-литов- *ских актах XVI в. в качестве нелестного выражения, из-за которого подается жалоба в суд.5 Подобную же деградацию этого термина, приобретшего значение холоп, крепостной слуга, и т. п., мы видим в ряде пословиц, приведенных у Даля в его -словаре, к соясалению, без указания источника.
1 Очерки русс, истор. географии, 1885, стр. 286.
2 См. С. В. Юшков, ук. соч., стр. 6.
3 Дополнения к Актам историческим, I, JV* 148.
4 Литовская Метрика, стр. 704 (Русская Историческая Библиотека, XX).
5 Литовская Метрика, стр. 315 и Акты Виленской археографической комиссии, XVII, стр. 203.
10
Е. Л. РЫДЗЕВСКАЯ
В русских диалектах это слово, кажется, нигде не сохранилось; в белорусском есть «смердзь» в значении простой человек, мужик.1
Интересно, что оно появляется изредка в качестве личного имени в московских актах XYI в., напр., Смерд Иванов Плещеев, московский дворянин; в XY1 и XVII вв. известны также фамильные наименования Смердков, Смердов.
III
Что касается наиболее трудного вопроса, а именно — об этимологии слова «смерд», то филологи-индоевропеисты, как известно, объясняют его в связи со «смердеть» и прочей родственной группой; так значится в этимологических словарях: русского яз.—
А. Преображенского, и польского — А. Брюкнера; оба эти автора сопоставляют данные славянских языков и литовского. Лит. smir- das некоторые исследователи считают заимствованием из русского.1 2 Миклошич в своем «Etymologisches Worterbuch der slay. Sprachen» приводит две этимологии: одну в связи со «смердеть» и т. д., другую — с иранским mard, муж, человек, причем считает первую вероятной, а вторую — несомненно ошибочной.3
Новую этимологию слова «смерд» предлагает Г. А. Ильинский в своей статье «К вопросу о смердах»,4 связывая его через устанавливаемое им основное значение 8тыч1ъ «страдник» с семьей др.-верхн.-нем. smerzan «болеть, причинять боль», англ, smart «острый, горький», лат. mordere и греч. cru.£p§vd<; «страшный, ужасный»; отсюда значение «страдание, страда». Автор при этом допускает, что древнейшее значение слов smbrdb могло быть более широким, чем «страдник», и обозначало сначала человека, «находящегося в печальном, страдательном, пас¬
1 Носович. Словарь белорусского наречия, 1870.
2 К. Buga. Lit.-weiesruss. Beziehungen, 43 и 47 (Zeitschrift fiir slav. Phil., 1924, I); W. Schulze. Lit. smirdas, 153 (Zeitschrift fiir vergleich. Spracliforsch.,. 1924, LII).
3 Из литературы по этому вопросу напомню неудачное объяснение параллели «смер*— смердеть» у Пейскера (ук. соч., 118) и возражения Янко (Worter und Sachen, 1909,1,108). В виду этого параллелизма, не получившего до сих пор вполне удовлетворительного объяснения со стороны филологов,, приходится при собирании и систематизации топонимического материала отделять, по возможности, производные непосредственно от «смерд», как от социального термина, от местных и речных названий, связанных с группой «смердеть», как Смердячий ржавец, Смердячеє, Смердячка и т. п.
4 Slavia Occidentals, 1933, XI.
СЛОВО ((СМЕРД)) В ТОПОНИМИКЕ
If
сивном положении» (homo patiens), в каковом чаще всего оказывались пленники, захватываемые славянами во время набегов на соседние страны.1
Совершенно иную, чем у названных только что исследователей^ трактовку этого слова, свойственного всем славянским языкам в качестве общего обозначения сельского населения, дает Н. Я. Марр. Он видит в нем доисторическое племенное название, перешедшее в социальный термин, считает его гораздо более древним, чем язык исторических славян, а именно — шумерским или иберским, и относит его к иберской прослойке славян, в частности— восточных, т. е. русских.1 2
В связи с этим Н. Я. Марр указывает на передаваемые Лаврентьевской летописью под 1071 г. события в Ростовской области и на принимавших в них видное участие волхвов- смердов, в которых он видит представителей особого племенного образования с языческими верованиями.3 Исследователями давно уже отмечена этнографическая параллель к тому, что проделывали ростовские волхвы с «лучшими женами» для получения «обилья» по всем главным отраслям хозяйства — земледелию, бортничеству, рыболовству и пушному промыслу* Параллель эту дают нам некоторые мордовские обычаи, на которые указывает М. К. Любавский4 и Майнов.5 6 В этих обычаях видят пережиток человеческих жертвоприношений (так объясняет их Любавский), или же нечто вроде симпатической магии, как видно из замечаний А. Брюннера по этому поводу, в связи с отголосками аналогичных верований у литовского племени Голядь.*
Что смерды, как социальный слой, крепче держались язычества, чем верхушка общества, — совершенно понятно: в средо непосредственных производителей древние языческие кулуьты,. тесным образом слившиеся с хозяйственной ЖИЗНЬЮ, были более устойчивы, чем в среде, производством не занимавшейся и к тому же ближайшим образом связанной с внешними торговыми
1 Slavia Occidentalis, 1933, XI, 20—22.
2 Об яфетической теории, ПЭРЯТ, стр. 221 сл.; Чуваши-яфетиды,. стр. 56 сл. К мнению Н. Я. Марра присоединяется и С. Н. Чернов, ук. соч., 776.
3 Чуваши-яфетиды, стр. 56 сл.
4 Историческая география, 1909, стр. 121—122.
5 Journ. de la Soc. Finno-Ougr., 1889, V, 9—10 и 25—26, где автор сопоставляет их с летописными известиями 1071 г.
6 Starozitna Litwa, 31 и 138—139 (1904 г.).
12
Е. А. РЫДЗЕВСКАЯ
и политическими сношениями, которые и вели к распространению христианства.1
Из сообщения Новгородской I летописи о новгородских событиях 1228—1229 гг. мы знаем об участии смердов в восстании против Ярослава Всеволодовича и о благоприятной в отношении к ним политике Михаила Черниговского, призванного в Новгород вместо Ярослава. Мне хотелось бы сопоставить с этим известие Новгородской I летописи под тем же 1228 г. о ((великой крамоле простой чади» против новгородского архиепископа Арсения, который был изгнан на том основании, что из за него долго стоит тепло. В перечне новгородских архиепископов упомянуто по этому поводу, что были сильные дожди, и хозяйственные причины изгнания Арсения мотивированы несколько подробнее: «а нам нелзе ни сена добыти, ни уделати».1 2 Здесь в связи с движением социальных низов, очевидно тех же смердов и близких к ним по своему общественному положению городских слоев, всплывают древние языческие верования.3 Мотивировка выступления ((простой чади» против Арсения интересна по своей Экономической основе: повидимому, мы здесь имеем пережиток представления об ответственности руководящего в данной общественной организации лица (ясреца, вождя и т. п.) за судьбу сельского хозяйства, за урожай или недород. Подобные верования в их связи с социальным укладом и производственной деятельностью хорошо известны у целого (ряда племен и народов.4
IV
Возвращаясь к генезису слова «смерд» и к мнению Н. Я. Марра, подтверждаемому рядом приведенных им примеров перерастания этнического названия в социальный термин,5 я позволю
1 О восстаниях смердов в XI в. (1071 г. п др.), о роли языческой религии в этом протесте сельского населения против наступления со стороны феодалов, далее — об участии тех же смердов в городских движениях против правящих слоев и об историческом значении всех этих явлений см. А. В. Арциховский и С. В. Киселев «К истории восстания смердов 1071 г.» (Проблемы ист. мат. культ., 1933, № 7/8) и В. В. Мавродин «К вопросу о восстаниях смердов» (Проблемы ист. докапитал. общ., 1934, JVS 6).
2 Новгородская I летопись в изд. 1888 г., стр. 444.
3 Ср. сообщение той же летописи под 1227 г. о появлении в Новгороде волхвов, которые были сожжены на Ярославовом дворе.
4 См. Frazer, The golden bough, І, гл. VI, стр. 322 сл. (изд. 1911—1915 гг.).
5 ПЭРЯТ, ук. место.
СЛОВО ((СМЕРД)) В ТОПОНИМИКЕ
13
себе поставить вопрос, и притом с большой осторожностью, так как он требует разбора и освещения со стороны специалисте в-языковедов. Заключается он в следующем: нельзя ли связать слово «смерд» с племенным названием «Мордва»?
В связи с этим последним можно указать на многочисленные топонимические данные, а именно, названия, которые я здесь условно назову «мордовскими», встречающиеся не только в таких районах, где их можно связать с исторической, хорошо известной нам, приволжской мордвой. В общем, географическая схема здесь такова: районы Тульский, Рязанский, Московский, Новгородский,1 Белоруссия, Украина, Литва. Как примеры укажу речное название Мордвинка в басе. Припети и Семи,1 2 местные названия Мордва в районе Киева, Мордвинская, Мордвино, Мордвинки в БССР, Мордовщизна в Литве. К таким названиям, как Мордвиново, Мордвиновскос следует, конечно, относиться с осторожностью, так как они могут быть очень поздними и связываться с дворянской фамилией Мордвинов. С другой стороны, в Литовской Метрике Мордвиново упоминается в документе 1455 г., т. е. раньше появления этой фамилии, известной в среде московского служилого и поместного дворянства с ХУІ в. Волынские и литовские акты ХУІ—XVII вв. знают личное имя Мордвин.
Тот же район распространения имеют и производные от морд-, без следов суффикса -ва, как Мордыш, Мордасы, Mordyn, Mordyle (в польских актах, относящихся к Подолии и к самой Польше) и особенно часто в Литве — Morde, Mordele, Mordasy.
И те и другие Барсов в свое время объединял в одну группу, которую он, впрочем, не проследил дальше Тульского, Рязанского и Московского края, где он и считал их следами более западного, чем обычно думают, распространения племени Мордвы, известного нам на Волге.3
Вопрос здесь прежде всего в том, насколько можно усматривать в подобных названиях, встречающихся в таких далеких от мордовского Поволжья областях, как Белоруссия и Литва, остатки очень древнего доисторического слоя племенных и местных обозначений, и какое имеют при этом значение такие формы с суффиксом, как Мордва, Мордвин. В смысле фонетики здесь
1 Подразумеваю здесь всю область древнего Новгорода.
2 П. Л. Маштаков. Реки Днепровского бассейна, стр. 147 и 216.
3 У к. соч., стр. 56.
14
Е. А. Р Ы Д З Е В С К А Я
молено отметить чередование о и е в корне, как, напр., тверск. Мордвеза и Мердвеза, Подольск. Mordyii и Merdyn. По А. И. Соболевскому -ва является окончанием с характером суффикса, свойственного как славянскому, так и литовскому языкам; племенное название Мордва образовано так лее, как Волъхва, Литва, татарва.1 Древнейшие, дошедшие до нас в письменных памятниках, формы его, как известно, этого суффикса не имеют— Mordens у Иордана,1 2 где это название едва ли может вызвать сомнение, как и следующее за ним Merens — Меря; оба они, как замечает по этому поводу Миккола, только и ясны вполне •среди трудно поддающихся истолкованию племенных наименований у Иордана;3 различные списки Getica здесь вариантов не имеют. Далее — MopStx у Константина Багрянородного, Merdas, Merdinis у Рубруквиса, а у Плано Карпини — Mordui, Morduinos.
В смысле этимологии А.‘ И. Соболевский сопоставляет «Мордва» с др.-иранским mard, муж, человек, и вост.-финским murt в языке коми и удмуртов; ср. морд, mirde.4 Речное название Мордосы в бассейне Днепра Соболевский сближает с др.-иран- 'Ским mard-asa, людоед. Здесь мы подходим к андрофагам Геродота, помещаемым им близ среднего Днепра, и к хорошо известному объяснению Томашека: андрофаги—перевод скифского .mard^war, людоед, отсюда мордва.5
В связи с этимологией слова «смерд» мы видели, что др.- иранекое mard было привлечено в свое время к объяснению его Миклошичем и им же отвергнуто; отрицательно отнесся к нему в этом смысле и Пейскер,6 ссылаясь при этом на мнение Улен- бека. К этому отрицательному мнению присоединяется и Г. А. Ильинский.7
1 Русс.-скиф. этюды, ИОРЯС, XXVII, стр. 287.
2 Getica, в изд. Моммсена, стр. 88.
2 Finn.-ugr. Forscli., 1915, XV, стр. 60.
4 Об этой этимологии подробно говорит Н. Jacobsolin, Arier und Ugrofinnen, 1922 г., стр. 187 сл.
5 Kritik der attest. Nachrichten liber den skyth. Norden, стр. 7 ел. См. там же замечания этого автора о распространении доисторических финнов гораздо дальше на запад, чем в более поздние времена, о соприкосновениях мордвы с одной стороны — с западно-финскими, суоми-карельскими племенами, а с другой — с литовскими, и т. д.
в У к. соч., стр. 119.
7 У к. соч., стр. 20.
СЛОВО ((СМЕРД)) В ТОПОНИМИКЕ
15
В нашей современной науке для слова ((смерд» руководящими являются замечания Н. Я. Марра по этому поводу (см. выше). Им отмечены три групповые перегласовки с о9 u, a, smord, smurd, smard,1 которые мы видим в местных названиях западной топонимической группы (см. выше). Что касается судьбы начального «с», то Н. Я. Марр говорит о его исчезновении в группе других слов, генетически связанных, по его мнению, со словом «смерд)).1 2 Н. Я. Марр там же, и в той же связи, указывает на славянское — смерть, мертвый, и латинское mors, mortuus. Эти же корни Якобсон связывает с мордовским mirde, merda и соответственными словами в языке удмуртов и коми, к которым он и возводит племенное название мордвы.3
Вопрос о связи между рассматриваемыми здесь двумя терминами, социальным и этническим — далеко не новый: см. сопоставление польского smard с племенным названием мордвы, с привлечением сюда же иран. mard, но безо всякого анализа и аргументации, у S. В. Linde, Slownik j§zyka polskiego, У, 342, (изд. 2-е, 1859 г.).4 Эгот вопрос, лишь намеченный, таким образом, филологом, работавшим много лет тому назад, стоит, может быть, разработать на основании нашего нового метода языковедения в соответствующей ему углубленной постановке и широком освещении.
Со своей стороны могу лишь указать вкратце имеющийся у меня фактический материал по топонимике, который можно привлечь к исследованию, и добавить еще несколько отдельных замечаний по поводу него. Не лишенной интереса представляется мне такая форма, как Smordwa (волынекие акты XVI в.); аналогичное Смердва, теоретически возможное для русского языка
1 ПЭРЯТ, стр. 223.
2 Там же, стр. 224.
3 Ук. соч., стр. 187 сл. Лексические данные, которые мы находим как у Якобсона, так и у других ин гоевропеистов, сами по себе, конечно, еще не дают ничего, и не могут дать, для выяснения генезиса и семантики интересующих нас терминов; указываю на них лишь как на материал, который можно использовать при трактовке этого вопроса с точки зрения нового учения о языке, учитывая при этом, конечно, те изменения, которые внес в него Н. Я. Марр уже после того, как появились цитируемая здесь статья в ПЭРЯТ и «Чуваши-яфетпды».
4 О слове mard см. Н. Я. Марр. Язык, политика яфетич. теории и удмурт, яз., стр. 57 сл., 114 и 119—120; о морі, mirde — Д. В. Бубрих, К вопросу о хронол. мордвы, стр. 18 (Отчет ЛОИКФУН за 1928 г.).
16
Е. А. РЫДЗЕВСКЛЯ
с его образованиями на -ва (татарва, братва, и т. п.), мне не встречалось. Далее, в топонимике имеются такие образования, как рязанск. Мерединово,1 Смородск в БССР, Мородск в Литве; решить вопрос о их отношении к рассматриваемым здесь «смер- дьей» и ((мордовской)) группам и установить, какое место они занимают среди них, можно лишь путем тщательного анализа на основании учения Н. Я. Марра.
Начав с обзора местных названий, производных от древнерусского социального термина «смерд»—материала, который представляется, в общем, довольно четким и ясным, кончаю вопросом далеко не ясным и весьма сложным. Конкретным выводом относительно «мордовских» местных и речных названий, которых здесь пришлось коснуться, можно считать пока только то, что они идут гораздо дальше на запад, и дальше от приволжской мордвы, чем полагал в свое время Барсов (см. выше), когда он говорил, как с своей стороны и Томашек, о более западном распространении финских племен в доисторическое время.1 2 Критику предложенного Томашеком объяснения «андрофаги — mard^war— мордва» дает М. Р. Фасмер'в своей недавно вышедшей работе «Die Ostgrenzc der baltischen Stamme»,3 причем указывает, между прочим, на географическую несообразность сопоставления андрофагов Геродота с Мордвой. При нашей постановке вопроса это затруднение отпадает, так как ограничивать интересующий нас этнический термин приволжской территорией мордвы и вопросом о финских племенах как таковых, здесь, разумеется, не придется. Что Mordens у Иордана обозначает народ, живший на территории, где мы знаем историческую приволжскую мордву, представляется вероятным, судя по его тексту, НО ЭТО относится к УІ в. нынешней эры, между тем, как вопрос и об этом племенном названии, и о термине «смерд», поставленный с точки зрения новой науки о языке, ведет исследователя в несравненно более далекую древность.
1 Ср. у Барсова (ук. соч., стр. 52—53) владим. Мередево и Мередище — названия, которые этот автор считал мерянскими.
2 См. также Середонин, Историческая география, стр. 35—36 и 201, прим. 1.
3 Sitzungsber. derjPreuss. Akad. der Wiss., 1932, hist.-phil. Kl., XXIV, стр. 4.
И. М. ТРОЦКИЙ
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Конструируя свою гипотезу о предшествовавшем Повести временных лет ((Начальном своде», А. А. Шахматов уделил значительное внимание известному предисловию летописца, читающемуся в списках Новгородской I младшего извода, а также в ряде восходящих к ней позднейших летописных сводов (Софийская и др.). Предисловие это в концепции Шахматова играет весьма существенную роль, так как на нем в значительной степени базируется датировка предположенного Шахматовым —на наш взгляд весьма убедительно —1 Начального свода. Поэтому интер-
1 Мы элиминируем в настоящей работе возражения, сделанные по этому вопросу акад. В. М. Истрпным (Замечания о начале русского летописания. По поводу исследований А. А. Шахматова, Л., 1924). Хотя отдельные замечания акад. Истрина, несомненно, справедливы, отправная точка зрения его возражений настолько антиисторична, что не может* быть принята историческим источниковедением. Действительно, акад. Истрин зовет нас к старому представлению о летописце, «добру и злу внимающему равнодушно», некритически записывающему в свою летопись все попадающие в круг его осведомленности данные. Там, где Шахматов пытался установить некоторые, хотя бы формальные закономерности, акад. Истрин видит только случайные вставки, пропуски и изменения. Так, напр., Шахматов рассматривал рассказ Новгородской I (и, согласно его теории, Начального свода) об Олеге как воеводе Игоря, а не самостоятельном князе, как некоторый момент принципиального характера. Акад. Истрин сводит проблему к случайным вариантам устной традиции: «Одни могли называть Олега князем, другие — воеводой Игоревым; одни передавали, что Олег умер в Ладоге, другие — в Киеве» (стр. 81). Там, где Шахматов пытался найти некоторую, хотя и очень узко им толкуемую, преимущественно в смысле церковно-княжеских взаимоотношений, тенденцию, Истрин возражает: «Нет никакой нужды видеть здесь проявление и влияние различных противоположных симпатий и антипатий и в них видеть причину появления различных редакций „Повести". Симпатии и антипатии, конечно, могли обнаруживаться у авторов летописания, но это обнаруживание происходило непроизвольно, не будучи
18
И. М. ТРОЦКИЙ
претация предисловия дается Шахматовым довольно подробная.1 Прежде чем перейти к ее рассмотрению, напомним читателю содержание интересующего нас текста.
В заглавии I Новгородской стоит: ((Временник, еже есть на- рицается летописание князей земля руския и како избра бог страну нашу на последнее время и грады почаша бывати по местом преже новгородчкая волость и потом кыевская, и о поставлений Киева, како во имя назцася Кыев».
Если отбросить выражение «преже новгородчкая волость и потом кыевская», представляющееся очевидной вставкой новгородца, отстаивавшего приоритет своего города, то получим заглавие, никак не соответствующее составу новгородской летописи и значительно более узкое по составу, чем даже известное заглавие «Повести временных лет». Такое заглавие приличествовало бы гораздо меньшему по тематическому охвату летописному труду. К рассмотрению этого вопроса мы еще вернемся ниже, а сейчас перейдем к следующему за заглавием предисловию.
Первые его строки вполне соответствуют заголовку. Идет рассуждение о том, что Киев так же получил свое имя от Кия, как великие города древности по имени царей; автор указывает, что существуют предания, считающий Кия не князем, а перевозчиком или охотником. Далее он переводит к другой теме и с удовлетворением констатирует, что на месте, где «древле поганий жряху бесом на горах», ныне «церкви златверхия каменнозданныя стоят» и процветает вера. Затем он опять меняет тему и просит читателей уделить внимание его рассказу о древних князьях и их мужах. Нижеследующий текст является в предисловии центральным и заслуживает быть приведенным полностью: $
ни в коем случае преднамеренным» (стр. 235). Такой, по сути дела агностический, подход к источнику лишает дальнейшее исследование всякой почвы. Не считая возможным ни принять полностью схему Шахматова, ни согласиться с его методологией, мы все же предпочитаем отправляться от его построений, тем более, что некоторые из них, как увидим далее, выдерживают испытание и социального анализа летописи.
1 См. Предисловие к Начальному Киевскому своду и Несторова летопись (ИОРЯС, 1908, т. XIII, кн. I); см. также Разыскания о древнейших русских летописных сводах, СПб. 1908, стр. 5—12 и Повесть временных лет, т. I. СПб. 1916, стр. XXI—XXIII и 361 след. Во II т. «Повести временных лет» Шахматов, повидимому, предполагал заново обосновать всю конструкцию Начального свода.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
19
«Вас молю, стадо христово, с любовию приклоните уши ваши разумно: како быша древний князи и мужиеих, и како отбараху Ру- ския земле и ины страны придаху под ся; теи бо князи не зби- раху многа имения, ни творимых вир, ни продаж въекладаху на люди; но оже будяше правая вира, а ту возмя, дааше дружине на оружье. А дружина его кормяхуся воююще ины страны и бью- щеся и ркуще: „братие! потягнем по своем князе и по Руской земле!" [Не жадаху] 1 глаголюще: „мало есть нам, княже, двусот гривен". Они бо не складаху на своя жены златых обручей, но хожаху жены их в сребряных и расплодили были землю Pjcb- скую. За наше несытьство навел бог на вы поганыя; а и скоты наши и села наша и имения за теми суть, а мы своих злых дел не останом. Пишет бо ся: богатество неправдою сбираемо извертел; и паки: сбирает, и не весть, кому сбирает я; и паки: луче малое праведнику паче богатьства грешных многа. Да отселе, братия моя возлюбленая, останемся от несытьства своего, нь доволни будете урокы вашими, яко и Павел пишет: ему же дань, то дань; ему же урок, то урок».
И наконец, после заключительной благочестивой фразы автор обещает: «мы же от начала Рускы земля до сего лета и все по ряду известьно да скажем, от Михаила царя до Александра и Исакья».
Анализируя содержание предисловия, Шахматов датирует его концом XI в. При этом он исходит из следующих соображений. Предисловие это явно написано в Киеве, следовательно до татарского нашествия. Очевидно, «поганые» это не татары, а половцы. Далее Шахматов совершенно резонно обращает внимание на те «грехи», которые вызвали нашествие половцев, и указывает, что хотя летописец и горячо бичует пороки князей, «но он не обвиняет их в более значительных преступлениях: не слышим мы в его речах сетований против братоненавидения, взаимных раздоров, кровавых усобиц князей; князья разоряют страну продажами и вирами, но не наведением поганых, не ратным нахождениям для добывания себе волостей».1 2 Поэтому предисловие должно быть отнесено к эпохе, предшествовавшей разгулу княжеских войн XII в., т. е. к первой половине XII или к концу XI в. «Но
1 Вставляем, вслед за Шахматовым, из Софийской и Тверской. ВНовг. I этих слов нет.
2 Предисловие к Начальному Киевскому своду и Несторова летопись, НОРЯС, 1908, т. XIII, кн. I, стр. 220.
2*
20
И. М. ТРОЦКИЙ
трудно допустить, — пишет далее Шахматов, — чтобы оно принадлежало временам Мономаха и первых Мономаховичей, Мстислава и Ярополка: эти князья, высоко чтимые и современниками, оставили по себе в Киеве хорошую память; вряд ли они заслужили бы упреков в корыстолюбии и плохом управлении. Приходится возвести Предисловие ко времени Святополка (1093—1113)».1 Затем Шахматов указывает, что как раз Святополк заслужил обвинение в корыстолюбии, и путем различных соображений, аналогичных по характеру изложенным, приходит к выводу о том, что предисловие составлено в 1093—1096 гг.
Мы не задерживаемся на последнем вопросе, поскольку датировка «Начального свода» для настоящего рассуждения особого значения не имеет; и вообще поскольку в Новг. I киевские известия обрываются 1074 годом, общеобязательная датировка этого свода вряд ли осуществима, — во всяком случае доводам Шахматова можно противопоставить довольно веские возражения.* Что какой-то свод, составленный в последней четверти XI в., существовал и отразился в Новг. I младшего извода, нам кажется совершенно несомненным. И что идеология предисловия к Новг. I 1 21 Предисловие к Начальному Киевскому своду и Несторова летопись, ИОРЯС, 1908, т. XIII, к. I, стр. 221.
2 В цитированной статье Шахматов толкует еще в свою пользу хронологическую канву, намечаемую в предисловии «от Михаила царя до Александра и Исакья» («Александра» — ошибочно вместо «Алексея», вероятно, через «Олексу»), Обычно это указание толкуется соответственно тексту Новг. I под 1204 г. как упоминание об Алексее и Исааке Ангелах, византийских императорах начала XIII в.; Шахматов, путем чрезвычайно искусственной комбинации, персонифицировал эти имена в Алексея I Комнина и его брата Исаакия Севастократора, правивших в конце XI — начале XII вв., но летописью никак не отмеченных. Произвольность этого построения очевидна; впрочем, и сам Шахматов впоследствии отступил от своего предположения, указав в предисловии к своему критическому изданию «Повести временных лет» (стр. ХХП): «...возможно, что имя Исаакия вставлено позже составителем Софийского временника на основании помещенной им под 6712 г. (1204) статьи (читавшейся и в старшей, чем она, редакции Новг. I летописи) о взятии Царяграда латынянами». Наше изучение Новг. I показало, что в XIII в. в Новгороде был составлен летописный свод, объединивший летописную работу, ведшуюся при архиепископской кафедре и в Юрьевом монастыре. В числе источников этого свода была какая-то не новгородская летопись начала XIII в. и, думается, она-то и содержала и Начальный свод, и предисловие к нему, и рассказ о взятии Константинополя крестоносцами. Думается, что выражение «от Михаила царя: до Олексы и Исакья» было в этом источнике вполне уместно.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
21
позволяет датировать последнее концом XI века, можно, думаем, показать и без сложных и хитроумных, но не очень убедительных сопоставлений.
Вышеприведенный анализ предисловия, как легко заметить, грешит большой долей наивности даже, по сравнению с теми позициями буржуазной историографии, от которых обычно отправлялся Шахматов. Действительно, примеров ссбратоненавидения, взаимных раздоров, кровавых усобиц князей», которые, по мнению Шахматова, должны были привлечь негодующее внимание летописца XII в., можно сыскать в достаточном количестве и в XI в. Не говоря уже о событиях, последовавших за смертью Владимира, достаточно напомнить читающуюся в том же Начальном своде статью 1073 г., где говорится о борьбе Ярославичей, причем летописец находит в своем словаре достаточно сильные выражения для осуждения их, особенно Святослава: «Въздвиже диавол котору в братьи... А Святослав седе в Киеве, прогнав брата овоего, преступив заповедь отчю, паче же божию. Велик бо грех есть преступающе заповедь отца своего, не добро бо есть пре- отупати предела чюжаго». Точно так же достаточное количество случаев «наведения» если не «поганых», то все же иноземцев имело место в XI в. И если летописец не счел нужным в своем обвинительном акте против князей перечислить все эти обстоятельства, то, вероятно, не по тому, что такой практики еще не было, а потому, что его внимание больше привлекали другие мотивы. Точно так лее довольно примитивно представление о всеобщей любви современников и потомков к Мономаху и его сыновьям и такой же всеобщей неприязни к Святополку Изясла- вичу. Никто иной, как сам Шахматов, показал, что симпатии отдельных летописцев к отдельным князьям определялись отнюдь не «общим мнением», и весьма вероятно, что тот же летописец, который возвеличивал Владимира Мономаха, создавал и отрицательный образ его давнишнего конкурента Святополка.
Такой анализ, как видим, оказывается не убедительным. Попробуем подойти к разбираемому тексту с точки зрения содержащихся в нем обвинений и положительных требований.
Следует указать, что одну часть этой работы Шахматов в своей статье о предисловии пытался выполнить. Вот к чему он сводит обвинения летописца: «Осуждение князя за его алчность, за разорение народа вирами и продажами, за дурное управление (распущенность дружины) и, наконец, за навлечение гнева божия
22
И. М. ТРОЦКИЙ
(нашествие поганых), — все это вызвано поведением Святополка в первые годы его великого княжения .. . Осуждение дружины князя, корыстолюбивой, преданной роскоши и вместе с тем не воинственной, основывалось несомненно на отрицательных качествах Святополковой дружины, приведенной из Турова и заменившей старую дружину покойных Ярославичей ... Как пример распущенности и жадности дружины, составитель предисловия приводит требование ее, направленное к князю: „мало ми есть, княже, дву сът гривьн“. Конечно, это намек на какой-нибудь общеизвестный современникам факт».1 Те же положения Шахматов кратко суммирует в позднейшей работе: «Из того же предисловия видно, что составитель свода имел повод быть недовольным местным князем и его дружиной; он обличает их неправосудне и корыстолюбие».1 2
Внимательное чтение предисловия не дает, однако, возможности согласиться с этими выводами.
В самом деле, кого считает автор идеальным образцом, которому должны подражать современники? Это не только «древний КНЯЗИ», но и «мужие их», т. е. дружинники. Летописец совершенно определенно указывает и каковы были эти древние образцы, в чем поучительность их примера. Прославляются они за то, что вели активную военную политику и в ней видели основной источник обогащения. Смелая, воинственная, преданная своему князю дружина должна кормиться «воююще ины страны». Этим идеальным князьям и дружине противостоят осуждаемые автором современные порядки, при которых князья собирают «многое имение» не путем славных походов, а усиленным выкачиванием вир и продаж, повидимому, с точки зрения летописца не всегда справедливых, поскольку он выделяет «правую виру». Чем кормится дружина, потерявшая нормальный источник военной добычи, предисловие не сообщает, но, очевидно, и она принимает участие в этих неблаговидных способах обогащения. Столь понравившийся Шахматову текст о дружинниках, не удовлетворявшихся двумя стами гривен, мы затрудняемся точно интерпретировать.. Здесь, конечно, имеется в виду какой-то конкретный и общеизвестный факт, но едва ли он дает основания для каких-нибудь широких ВЫВОДОВ. Эт(> выпад не против друясинников вообще,,
1 Op. cit., стр. 266.
2 Пов. врем, лет, т. I, стр. XXIII.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
23
а против каких-то определенных лиц, ближе нам неизвестных, что я затрудняет дальнейшие толкования нашего текста.
Во всяком случае, автор вовсе не является врагом дружины вообще, как и князей вообще. Точно так же трудно согласиться с Шахматовым, что здесь имеется в виду только Святополк Изя- славич и его дружина. Святополк, действительно, вызывал нападки со стороны своего чрезмерного корыстолюбия, но аналогичным нападкам, как увидим ниже, подвергался не один Святополк. Автор здесь имеет в виду широкое общественное явление: ему не нравится самый порядок вещей, а не случайные извращения. Он считает ненормальными практикуемые его современниками методы обогащения, столь отличные от идеального порядка, при котором богатство добывается за счет чужого, а не собственного населения. Сводя антитезу летописца к социально-экономическим категориям, мы можем сказать, что летописец идеализирует военную добычу и дань с завоевываемых народов в противовес различным видам повседневной феодальной эксплоатации. При этом никак нельзя считать его враждебным по отношению к дружине. Если его кто и интересует, то это именно дружинники, которые, впрочем, не должны увлекаться обогащением и феодальными поборами.
Противопоставление последних дани — явление, в истории Киевской Руси несомненно сыгравшее значительную роль. С того момента, когда, с одной стороны, образование разноплеменной Киевской державы привело к освоению ею значительного числа народностей, а с другой — появление на месте слабых соседей — хазар могущественных половецких орд положило предел территориальной экспансии Киева, процесс феодализации страны пошел чрезвычайно быстрыми шагами. Эпоха завоевательных походов кончилась с Ярославом Мудрым, при котором был совершен и последний набег на Византию. Это обстоятельство было, как мы знаем, указано Марксом в ((Секретной дипломатической истории XVIII в.»: «При Ярославе господство варягов было сломлено, но вместе с ним исчезают и завоевательные традиции первого периода: начинается упадок готической России». Этот упадок и выразился в переходе от «вассалитета без ленных отношений или ленов, составлявшихся только из жалованья» к развернутой системе феодальной эксплоатации населения. Периодом этого перехода и приходится признать вторую половину XI в., когда, повиди- мому, происходило интенсивное освоение и земли, и крестьян
24
И. М. ТРОЦКИЙ
как аппаратом княжеской власти, так и отдельными феодалами церковного и светского характера. Этот социальный сдвиг нашел свое отражение и в различиях тематики и формулировки двух пластов древнейшей редакции Русской правды — Правды Ярослава и Правды Ярославичей. Он же является и предметом размышлений автора предисловия к Новгородской I.
Таким образом, социальный смысл ламентаций летописца позволяет отнести разбираемый текст ко 2-й половине XI в. и без справок о добродетелях Мономаха и его сыновей, к которым счел нужным прибегнуть Шахматов. Как увидим ниже, наш анализ подтверждает и более точно датировку, добытую Шахматовым путем формального изучения. Сейчас продолжаем наше рассмотрение идеологического смысла предисловия и попробуем точнее определить, чьи настроения оно выражало.
Вопрос о дружинных отношениях X—XI вв. не подвергся еще сколько-нибудь развернутому марксистскому анализу. Мы не будем пытаться ставить сейчас этот вопрос во всей его сложности. Для наших целей достаточно установить, что, говоря об интересах дружины вообще, автор предисловия по существу представлял только какой-то определенный слой дружины и писал обо всей дружине лишь исходя из довольно обычной аберрации наивного мышления, распространяющей частные интересы какой-нибудь группы на большие социальные массивы, на весь народ целиком (интересы своей группы и «Русской земли» у летописца, конечно, сливались). Но ко времени составления Начального свода дифференциация дружины зашла достаточно далеко; с другой стороны, и дружина развивалась, в основном, в том же направлении, что и весь господствующий класс, и трудно себе представить недовольство всей дружины новыми порядками, установившимися в связи с закреплением феодальных отношений. Итак, следует определить тот слой дружины, с позиций которого рассматривал современную ему действительность составитель Начального свода.
Процесс дифференциации дружины прослежен в нашей литературе довольно слабо. Ряд ценных наблюдений по этому вопросу сделал А. Е. Пресняков.1 В другом месте мы пытались проследить некоторые черты этого процесса в Киеве и Новгороде применительно к анализу употребления терминов «гридь», «бояре», «огнищане». В результате этого анализа мы пришли к выводу
1 Княжое право в древней Руси. СПб., 1909, стр. 220 след.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
25
о значительном росте социальной мощи боярства как раз в середине XI в.1 Выделение боярства — огнищанства, начавшееся, конечно, уже раньше, в XI в. прогрессировало, несомненно, чрезвычайно быстро, постепенно увеличивая кадры феодальной верхушки и делая разницу между ней и низшими феодальными слоями все заметнее. Вместе с тем менялось и положение верхушки. Уже в X в. мы видим зачатки феодальной династии Све- нельда, но источником ее социальной силы пока еще служит дань. Есть все основания полагать, что в руках феодальной династии Остромира (Вышата Остромирич, Ян Вышатич) уже находились крупные земельные владения.1 2
Боярство, являвшееся на ряду с церковью наиболее активным участником феодального грабеяса, едва ли могло разделять идеи автора предисловия о тщете накопления богатства и о необходимости умерять свои аппетиты. Таким образом, искомый нами слой дружины не может быть отоясдествлен с ее верхушкой. Но вряд ли это и та «младшая дружина», которую неоднократно встречаем мы в летописи как группу, находившуюся в XI в., в противоположность боярству, непосредственно при князе, составляя штат его ближайших помощников. Вот как характеризует эту группу на основании сведения всех имеющихся в нашем распоряжении данных Пресняков: «Ту часть дружины, которая сохранила непосредственную связь с домашним бытом князей и стояла всего неотлучнее при них, сближаясь и сливаясь с несвободной челядью, встречаем под названием — отроки, детские, пасынки. Их видим в троякой роли: они — личные слуги князя, они — его вооруженная свита, из них — младшие агенты княжого управления. Отроки то объемлются термином дружины, то противопоставляются дружине. Когда читаем, что князь идет куда-либо «в мале дружине», то в большинстве случаев не ошибемся, представив его окруженным детскими и отроками, хотя то же выражение означает и просто небольшой отряд. Отроки — это та «молодшая дружина», которая в течение всего рассматриваемого нами
1 Возникновение Новгородской республики, Известия Академии Наук СССР по Отд. общественных наук, 1932, № 5, стр. 352 след.
2 Подробнее обосновать эту мысль мы предполагаем в другом месте. В этой связи стоит напомнить весьма правдоподобную догадку Прозоровского, согласно которой Остромир был сыном Константина, посадника новгородского и, следовательно, внуком Добрыни, кормильца Владимира. Ср. нашу цит. статью, Известия АН по ООН, 1932, № 4, стр. 288.
26
И. М. ТРОЦКИЙ
периода всего более сохраняет черты дружины первичного типа: княжего двора, слуг княжих, и в бою, и в хозяйстве, и в управлении, и во всяких делах остающихся в полном распоряжении и личной зависимости от князя».1
Здесь нельзя согласиться с последней частью определения. Для Преснякова в разрешении проблем дружинного строя решающим моментом была степень сохранения связи с княжеским двором, «огнищем». Поэтому «молодшая дружина» кажется ему прямой продолжательницей первичной дружины, поскольку она остается при князе. А между тем характер княжого двора и, следовательно, функции его ближайшего окружения, несомненно, менялись. Однако самые выражения «старейшая дружина», «первая дружина», «молодшая дружина» дошли до нас только от конца XI в. Тогда же впервые «отроки» оказываются военной силой, до того они чаще всего противопоставляются воинам.1 2 Полагаем, что в связи с усилившимся переходом старших дружинников на положение оседлых землевладельцев, укрепились связи князя с аппаратом его двора; а рост значения последнего, нашедший такое выпуклое отражение в Правде Ярославичей, привел к объединению в некоторую целостную среду НИЗОВ дружины и княжеских слуг, частично являвшихся далее рабами. Недаром, как увидим ниже, летописцы стали путать представителей «младшей друишны» с тиунами.
Едва ли, однако, и в этой среде могла зародиться идеология,, подобная интересующей нас. Младшая друяеина, пополнявшая аппарат княжеского управления и в непосредственном княжом домене, и по отношению к населению вообще, была верным орудием княжеского накопления, служившего одновременно источ¬
1 Op. cit. стр. 242—243.
2 Напр., в рассказе об убиении Бориса и Глеба, после того как Борис отказывается исполнить совет дружины, «и се слышавше вой, разпдошася от него, Борис же стояше с отрокы своими». Упоминаемый там же отрок Бориса Георгий прямо определяется как «слуга». С другой стороны, Глеб, идущий «в мале дружине», сопровождается, повидимому, одними отроками; но они не в состоянии оказать вооруженного сопротивления — «отроци Глебови уныша». Впервые действует с отроками Святополк Нзяславич: «Свлтополк же поча сбирать вое, хотя на ня. И реша ему мужи смыслении: „не кушайся противу им, яко мало имаши вой“. Он же рече: „Имею отрок своих 700, иже могут противу им стати“» (Лавр. 1093). Точно так же и Василько Ростиславич мечтает о походах с помощью «дружины своей молот- шей» (Лавр. 1097). Повидимому, мы имеем здесь дело с явлением, характерным именно для конца XI в.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
27
ником и ее, «правого» и «неправого», обогащения. Те самые «виры» и «продажи», которые вызывают такое недовольство летописца, собирались именно этими вооруженными чиновниками князя, и меньше всего в их интересах было отказаться от сравнительно спокойного и безопасного грабежа зависимого населения во имя многотрудных и рискованных походов.
Был, однако, еще один слой дружины, в котором как раз легче всего могли найтись представители разбираемых нами взглядов. То были воины, основной кадр прежней дружины, не утративший своего значения и в изменившихся условиях, но оттесненный на второй план новыми силами. Характерно, что для этой группы так и не выработалось специального термина, они так и остаются «мужами». Изучая этот слой, Пресняков заметил, что «их присутствие подчеркнуто, когда летопись говорит, что князь „созва бояра своя и всю дружину свою", и рассказывает, как были избиты „бояре и вельможа и вся дружина", упоминает о „боярах и Bcqx мужах", о дружине и „вельможах". В них видим прежде всего основной боевой контингент личных военных СИЛ КНЯЗЯ.. И что для них характерно, так это то, как трудно и чем дальше, тем труднее, отличить их в тексте наших летописей от городских ополчений».1
Действительно, эту прослойку дружины летопись отмечает довольно часто, а еще чаще подразумевает. С особой ясностью выступает эта группа в рассказе о «Полку Игореве». Обозревая поле битвы после своего пресловутого поражения, Игорь вздыхает о потере близких и дружины: «Где ныне возлюбленный мой брат? где ныне брата моего сын? где чадо рожения моего? где бояре думающей, где мужи храборьствующеи, где ряд полъчный?» (Ипат., 1186). Как справедливо отмечает Пресняков, «мужи хра- борьствующие» — это, конечно, скорее поэтический образ, чем социальный термин; и тем не менее этому образу соответствует совершенно определенная социальная категория.
Но в условиях развивающегося феодализма война переставала, служить основным источником социальной силы. Средний слой дружины постепенно распадался, частично переходя в высшую категорию боярства, частично попадая в служебное положение далее относительно княжеского аппарата, частично, наконец, как отметил Пресняков, сливаясь с городским населением. Процесс
1 Op. cit., стр. 249.
28
И. М. ТРОЦКИЙ
ЭТОТ, как мы видели, обострился именно в XI в., и идеологию этой группы и выражает предисловие к Начальному своду, целиком глядящее в прошлое, когда основой княжеской власти был воин-дружинник, покорявший ссиные страны)), налагавший на них дань и не очень заботившийся о своих феодальных подданных или о статьях закона, установивших определенные размеры налогов и взысканий.
Если автор Начального свода стоял на такой точке зрения, то естественно ожидать, что он внес ее не только в предисловие, но и в самый текст летописи. Можно думать, что идеализация прежних князей и их взаимоотношений с дружиной должна была отразиться и в подборе конкретного материала и в тех или иных оценках; точно так же следует ожидать и большей конкретизации того недовольства, которое в предисловии сформулировано лишь в общей форме.
В одной из прежних работ нам уже приходилось указывать на недостаточность существующего ((потребительского» отношения к летописным данным и на необходимость интерпретировать последние в двояком разрезе: в плане их исторической правдоподобности и в плане той идеологии, которая характерна для того или иного летописца.1 В данном случае нам представляется чрезвычайно существенным проследить в Начальной летониси определенную систему взглядов, которую благодаря счастливому случаю — наличию предисловия — мы можем приурочить к определенному же летописному своду — именно Начальному своду. Если дальнейший анализ подтвердит только что высказанные предположения, то в результате мы придем, с одной стороны, к укреплению нашего наблюдения об идеологии составителя Начального свода, и с другой, к установлению некоторого критерия для оценки достоверности сообщений, обычно принимаемых на веру.
Прежде чем перейти, однако, к рассмотрению текстов, попытаемся определить, каким образом проводил технически автор предисловия свои установки, принимая во внимание, что ему в значительной степени приходилось иметь дело с уже готовым до него текстом, точные размеры которого установить мы не можем (гипотеза Шахматова в этом смысле может приниматься только для корректирования наблюдений, а не как отправной іі Возникновение Новгородской республики, Известия АН по ООН, 1932, М 4, стр. 273.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
29
цункт). Сказать по этому поводу что-нибудь исчерпывающее трудно, но один из приемов демонстрирует самое предисловие.
Дело в том, что оно представляется нам памятником сложного состава. Для того чтобы убедиться в этом, обратимся прежде всего к заглавию Начального свода, выше цитированному полностью. Как видно из этого заглавия, оно обещает объяснить только происхождение Киева и установление православия («Како избра бог страну нашу на последнее время»). Сопоставляя это заглавие о аналогичным в «Повести временных лет», замечаем, что последнее тоже далеко не адэкватно содержанию летописи и предлагает вниманию читателя лишь историю о том, «откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду руская земля стала есть» (цит. по Лавр.). И это заглавие по существу охватывает только часть всей летописи.
Вывод напрашивается сам собой. И тот, и другой заголовки восходят к какому-то летописному рассказу, который примерно соответствовал этим заголовкам и, следовательно, кончался зна-* чительно раньше, чем известные нам своды. Иначе говоря, заголовок Начального свода следует отнести к какому-то значительно более раннему памятнику, аналогичному тому, который Шахматов называл древнейшим киевским сводом.1 Но в таком случае можно предположить, что не только заглавие Начального свода, но и предисловие или какая-то часть его тоже восходят к более раннему источнику. Как мы уже видели, первые строки предисловия вполне соответствуют заголовку. Речь идет о происхождении имени Киева от Кия, о том, кто такой был Кий и о «промысле божии, еже яве в последняя времена». Все это точно корреспондирует с заглавием. Несколько увлекшись восторженным описанием церковного строительства, летописец возвращается к основной теме следующим переходом: «Мы же паки на последование возвратимся, глаголюще сице о начале Русьския земля и о князех, како откуду быша».
1 На принадлежность заглавия «Повести временных лет» какому-то более старому повествованию недавно указал акад. Н. К. Никольский в своей работе «Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании», вып. 1, Л. 1930, стр. 39 след. Попутно отметим, что гипотеза акад. Никольского о наличии среди источников «Повести временных лет» повествования, окрашенного Полянской тенденцией, представляется нам заслуживающей всякого внимания.
зо
И. М. ТРОЦКИЙ
После этого следовало бы ожидать как раз того текста, который следует в Новг. I за предисловием, является непосредственным развитием намеченной в предисловии программы и так и озаглавлен «Начало земли Руской».1 Вместо этого в Начальном своде читаем как раз рассмотренный выше текст о князьях и их ютношениях к дружинникам, о нашествии «поганых» и т. д. Естественно признать все это рассуждение за позднейшую вставку; да и техника вставки выпирает из предисловия, поскольку редактор предисловия (так теперь будет правильнее называть его) отграничил свою часть вводной фразой в конце: «Си же таковая», после •чего приписал: «Мы же от начала Рускы земля до сего лета и все по ряду известьно да скажем», т. е. дал вторую концовку, параллельную той, которая узке имелась в его источнике.
Таким образом, нам удалось обнаружить в технике проведения составителем Начального свода своих взглядов один из самых примитивных приемов — простую вставку. Можно ожидать применения этого приема и в тексте самой летописи, к рассмотрению которого мы и переходим.
Согласно обещанию летописца, идеальные отношения между князем и дружиной должны быть восстановлены из рассказов о «древних князьях». Однако в рассказах о первых князьях мы соответствующих моментов практически не обнаруживаем.
Естественно было бы ждать их появления в связи с деятельностью Олега, героя множества сказаний, бытовавших, конечно, и в XI в., перешедших в скандинавский эпос и, конечно, известных и летописцу, который сам на это указывает.1 2 А между тем, сведений об Олеге вообще чрезвычайно мало в Начальном своде.
Причину этого обстоятельства объяснил Шахматов, обративший внимание на то, что Олег в Начальном своде выступает не в качестве родственника Игоря, а в качестве его воеводы. Согласно подтверждаемой многими соображениями точке зрения
1 Признание цитированной выше фразы заключением предисловия к древнейшему своду облегчит нам объяснение происхождения заглавия «Повести временных лет», очень близкого к этой фразе по своему содержанию.
2 «Друзии же сказають, яко идущю ему за море и уклюну змиа в ногу» и т. д. Новг. I под 922 г.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
31
Шахматова, одной из своих задач составитель Начального свода «ставил создание ясной генеалогии киевских князей, непосредственно доведенной им до Рюрика в начале.1 При этом допускались всякие передержки: исторические князья переставали быть князьями, самостоятельные княжеские династии прикреплялись к родословному древу Рюрикова дома. Так Олег превратился в воеводу Игоря, так самозванцами оказались Аскольд и Дир, которым Игорь заявляет: «вы неста князя, ни роду княжа; но аз есмь князь, и мне достоить княжити», — так искусственно было связано с киевской княжой фамилией гнездо полоцких «Рогво- лодовых внуков».
Естественно, если Олег превратился в воеводу, то цикл сказаний о нем, знавших его в качестве князя, должен был остаться неиспользованным. На этом примере мы можем установить существенное для дальнейшего положение: составитель Начального свода черпал свои сведения из устных преданий, но делал это с известным отбором, согласно проводимым им взглядам и тенденциям.
Уже в рассказах об Игоре мы встречаемся с проявлением дружинных тенденций «предисловия», хотя и не в очень еще отчетливой форме. Еще Шахматов отметил, что мотивировка гибели Игоря дана в Новг. I подробнее, чем в Повести временных лет. Действительно, из последней мы никак не можем узнать, почему же «рекоша дружина Игореви: „отроци Свеньлъжи изоде- лися суть оружьем и порты, а мы нази“».1 2 Имя Свенельда нигде до сего не упоминается. Между тем из Новг. I мы узнаем, что Игорь отдал Свенельду дань с уличей и древлян, и это естественно объясняет возникновение недовольства в Игоревой дружине. Не будем вступать в полемику с Шахматовым по поводу его чрезвычайно сложных построений, согласно которым часть этих текстов отсутствовала в Начальном своде и попала в Новг. 1 из другого источника.3 Для нас важно, что Начальный свод такую мотивировку знал, а дублировка известий под 922, 940 и 942 гг. говорит, думается, только о том, что здесь составитель Начального свода осложнял свои источники какими-то добавлениями. Во всяком случае и причины похода — пожелание дружины
1 Разыскания о древнейших русских летописных сводах, СПб., 1908, стр. 315 след.
2 Лавр. 945.
8 Op. cit, стр. 99 след.
32
И. М. ТРОЦКИЙ
«а поиди, княже, с нами на дань, а ты добудеши и мы», и мотивировка неудачи тем, что Игорь отпустил воинов домой и отправился для дополнительного грабежа только с отроками „с малою дружиною", с точки зрения нашего летописца были вполне поучительны, независимо от того, внес ли он сам эти сведения в летопись или отобрал их из своих источников.
Княжение Игоря в глазах летописца было в общем не очень удачно. Зато в рассказах о Святославе мы находим целый ряд моментов, представляющих для нашега рассмотрения значительный интерес.
Исследователи довольно согласно утверждают, что и лето- писная характеристика, и различные детали походов Святослава имеют своим источником устную традицию, народные предания и песни. Положение это несомненно. Неизвестным остается только* когда эти предания были использованы летописью.
Шахматов без особых разысканий отнес почти весь этот материал к древнейшему своду, между тем сам же он считал необходимым признать самостоятельную работу составителя Начального свода над статьями о Святославе, поскольку можно констатировать известные интерполяции в тексте.
Мы не видим никаких оснований считать легендарные детали княжения Святослава ранними. Более того. Древнейший свод, по мнению Шахматова, был составлен в связи с утверждением в Киеве греческой митрополии. Как же при этом могло быть допущено прославление князя, который не только усердно воевал с Византией, но категорически отрицал православие и, судя по летописи, фактически помешал новой вере распространиться после крещения Ольги и тем самым отдалил торжество христианства на несколько десятилетий? О таком князе скорее всего можна было б ft ожидать какого-нибудь отрицательного отзыва, аналогичного тому, какой дается Владимиру в годы его язычества под. 980 г. Следы такого отношения мы и находим под 955 г., где в рассказе (несомненно, старом) о крещении Ольги далее приводятся насмешки Святослава над новой верой с приличной случаю сентенцией: „Онже не послуша матере, творяше норовы погань- ския, не ведый, аще кто матере не послушаеть, в беду впадеть, якоже рече: аще кто отца ли матери не послушаеть, то смерть приметь. Се же к тому гневашеся на матерь". Дальше естественна было бы ожидать сообщения о том, каким же образом Святослав совершил сугубый грех, прибавив, очевидно, к сыновнему не¬
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
33
послушанию еще и какие-то прямые обиды Ольге. Вместо этого мы находим довольно нейтральную библейскую цитату и неуклюжее объяснение, что Ольга все-таки любила сына и молилась за него „по вся нощи и дни, кормящи сына своего до мужь- ства его и до взраста его" (цит. по Лавр.]. Между тем, выше шла речь уже о взрослом Святославе, и концовка эта дела никак не спасает.
Полагаем, что статья 955 г. дает нам следы церковно-отрицательного отношения к Святославу, вытравленного позже в угоду иной точке зрения, положительно оценивавшей Святослава и заимствовавшей из устной традиции его пресловутую характеристику.
«Князю Святославу възрастшю и възмужавшю, нача вой совокупляти многи и храбры, и легъко ходя аки пардус, войны многи творяше. Ходя воз по собе не возяше, ни котъла, ни мяс варя, но потонку изрезав конину ли, зверину ли или говядину на углех испек ядяше, ни шатра имяше, но подъклад постлав и седло в головах; такоясе и прочий вой его вси бяху. И посылаше к странам, глаголя: хочю на вы ити».1
Эта поэтическая характеристика Святослава, побудившая М. С. Грушевского назвать его «настоящим запорожцем на киевском столе», совершенно совпадает с раскрытой нами выше воинственной идеологией. Как правильно заметил тот же Грушевский,1 2 в Святославе мы находим «maximum дружинности среди киевских князей». Детали образа мы сейчас выясним, но попутно следует отметить, что во имя прославления Святослава летописец готов пожертвовать даже исторической истиной. Не пожалев сообщить под 920 г. о поражении греками Игоря, Начальный свод рисует, однако, борьбу Святослава с Иоанном Ци- мисхием, как удачную, явно искажая фактическую историю дела (ниже мы увидим, что и здесь можно найти следы сочетания двух версий). Это обстоятельство было уже давно отмечено М. И. Сухомлиновым, довольно правильно интерпретировавшим тенденцию такого искажения, но напрасно ей доверившимся: «В преданиях старины, удержанных летописью, русские князья являются большею частью победителями, а не побежденными, какими правдивая летопись представляет их неоднократно во времена половцов. В начальную годину половецких набегов весьма естественно было
1 Лавр. 964.
2 Історія України-Руси, т. I, Львов, 1904, стр. 407.
Проблемы псточппковедеппя, II 3
и
И. М. І4!? О ЦК ИЙ
ДОрожить воспоминанием о счастливом времени первых князей, коих доблестные подвиги приводились в пример и писателями веков последующих».1
Итак, Святослав — доблестный дружинный вождь, воинским качествам которого вполне отвечает его скромность п бескорыстие— как идеальный князь „предисловия", он полагает, что «луче малое праведнику паче богатьства грешных».1 2 В рассказах Святослава есть еще один момент, обычно не замечаемый историками, но не ускользнувший от острого взгляда С. М. Соловьева, отнесшегося, впрочем, к этой детали с излишним доверием. Интерпретируя цитированное выше описание Святослава, Соловьев писал: (с... Святослав совершал свои подвиги с помощью одной своей дружины, а не соединенными силами всех подвластных Руси племен: и точно, при описании походов его, летописец не вычисляет племен, принимавших в них участие. Святослав Набирал воинов многих и храбрых, которые были во всем на него похожи: так можно сказать об отборной дружине, а не о войске многочисленном, составленном из разных племен. Самый способ ведения войны показывает, что она велась с небольшою отборною Дружиною, которая позволяет Святославу обходиться без обозу и делать быстрые переходы: он воевал, ходя легко, как барс, т. е. делал необыкновенно быстрые переходы, прыжками, так сказать, подобно названному зверю».3
То, что Соловьев воспринимал как изложение реальных событий, для нас является лишь Сгустком определенной тенденции. Действительно, предшественники Святослава выступали с большими, многоплеменными ополчениями: «Игорь и Олег пристрои- ста воя многы, и Варягы и Поляне й Словене и Кривичи» (Новг. I, 921), ной преемники Святослава поступали также: «Володимир же собра воя многы, Варягы, Словене, Чюдь, Кривичи» (Новг. X, 980 г.); Ярослав, собираясь против Болеслава и Свято полка, «совокупив Русь и Варягы и Словене» (Лавр. 1018) и т. п. Нет ни-
1 М. И. Сухомлинов. О древней русской летописи как памятнике литературном, СПб., 1856, стр. 122.
2 Кстати отметим, что спартанские вкусы Святослава мало совпадают с его известной речью о предпочтительности Переяславля перед Киевом. Речь эта более приличествовала купцу, чем скромному воину. Думается, что враждебная Святославу традиция акцентировала момент его ссор с Ольгой я небрежения к Киеву (ср. под 968 и 969 гг).
3 История России с древнейших времен, изд. «Общественной Пользы», т. I, стр. 141.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
35
каких оснований думать, что исторический Святослав поступал кначе. В его частых и трудных походах нельзя было, конечно, обойтись одним кадровым войском. Идеальный же дружинный князь действует так, как рассказано в летописи, в угоду представлению книжника из дружинной среды конца XI в.
Легко указать те случаи, когда Святослав и его дружина выполняют асоциальный заказ» составителя Начального свода. Так, довольно сухом рассказе 946 г. о походе Ольги на древлян внезапно пробивается эпический момент: ребенок Святослав асуну копьем... на древляны, и копие лете сквозя уши коневе. И рече Свенделд и Асмуд: „князь уже потягл, потягнем, дружино, и мы по князе ... “» Легко заметить, что Свенельд и Асмуд действуют как идеальные дружинники аПредисловия», которые акормятся, воююще ины страны и бьющеся и ркуще: „братие, потягнем по своем князе и по Руской земле"». Эти же desiderata выполняет Святослав и в рассказе 971 г. о борьбе его с Цимисхием (собственно говоря, характеристика Святослава в основном и строится на статьях 964 и 971 гг.).
971 г. в Начальном своде изложен с значительным отличием от Повести временных лет. Именно, в последней имеется договор Святослава с Цимисхием, отсутствующий в Новг. I; но и текст последней не представляется нам целостным. Рассмотрим самое начало статьи.
„В лето 6479 прииде Святослав к Переяславцю, и затворишася Волгаре в граде. Излезоша Болгаре на сечю противу Святославу, и бысть сеча велика, и одолеша болгаре. И рече Святослав воем своим: ауже нам зде пасти; потягнем мужеекы, о братие и дружино!» и к вечеру одоле Святослав и взя град копием и рече: асе град мой»".
Здесь чрезвычайно странным кажется совершенный вид «и одолеша болгаре». Если бы они действительно аодолеша», то Святославу уже не пришлось бы обращаться к дружине с призывом а потягнуть». Зт0 обстоятельство, очевидно, бросилось в глаза уже ближайшим продолжателям Начального свода. Лаврентьевский список дает поэтому аодалаху», Радзивиловский «одаляху», Академический и Погодинский аодоляху», а Ипатьевский окончательно раскрывает странное выражение в аодолеваху». Но принципу выбора наиболее трудного чтения нам, однако, придется остановиться на аодолеша», безвариантно читаемому во всех трех списках Новг. I. Понять это место можно только
3*
36
И. М. ТРОЦКИЙ
предположив, что в источнике Начального свода здесь кончалось изложение борьбы с болгарами, и соответственно значилось: сси одолеша болгары)). Но так как составитель Начального свода использовал материал дружинных саг о Святославе, то, изменив падеж, он прибавил речь Святослава, в результате чего и появился цитированный текст.
Сложнее определить, что принадлежит составителю Начального свода в рассказе о борьбе с Цимисхием. И здесь тщательный анализ обнаружит, пожалуй, следы двух повествовательных пластов. Во всяком случае к той же, отмеченной выше тенденции, относится речь Святослава к дружине, где он призывает ее «не посрамить земли русской» и ответ «воинов»: «где, княже, глава твоя, ту и главы наша сложим». Особенно показательно отношение Святослава к дани. Рассказ этот является блестящей иллюстрацией идей «Предисловия»:
«Онем же слом пришедшим и пакы поклонившимся ему, и положиша пред ним злато и паволокы. И рече Святослав, кроме зря, отроком своим: „возмете, кому что будет". Они же поимаша; аслы цареве, видевши тое, прпидоша ко царю. И съзва царь бояры своя и велможа... Рече един от ту предстоящих: „царю! искуси единою еще; пошли к нему оружье браньное". Он же послуша его и послаше ему мечь и иное оружье. Слу же цареву, принесъшю к Святославу, он же приим, нача любити и хвалити и целовати царя. И приидоша опять к царю и поведаша вся бывшая. И реша бояре: „лют сей муж хощеть быти, яко имения небрежеть, а оружье емлет и любит; имеся по дань". И посла царь, глаголя сице: „не ходи ко граду и возми на нас дань..." И даша ему дань; он же и на убиеныя имаше, глаголя яко „род его возметь"».
Совпадение взглядов летописца и Святослава полное. Что текст этот имеет типический характер, мы убедимся ниже, когда увидим повторение ЭТИХ мотивов, увидим и обратные примеры.
Ко всему сказанному следует добавить, что произведенный Шахматовым формальный анализ заставил его заподозрить использование в статье 971 г. иностранного источника. Дело в том, что целый ряд моментов, сообщаемых летописью, находит повторение в византийских памятниках. В особенности убедительно звучит совпадение речи Святослава дружине во время боя с греками с тем, что мы узнаем от Льва Диакона о речи, сказанной якобы Святославом на военном совете перед неудачным боем:
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
37
Нов г. I под 971 г.
Лев Диакон
И рече им Святослав: «уже нам иекамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посрамим земле Рускыя, но ляжем костью ту: мертвий бо сраму не имут, аще ли нобегнем, то срам имам, и не имам убежатп, нь станем крепко, аз же пред вами пойду; аще моя глава ляжеть, то промыслите о собе».
«Погибнет слава, сопу тница российского оружия, без труда побеждавшего соседственные народы и без пролития крови покорившего целые страны,—так говорил Святослав,—если мы теперь постыдно уступим римлянам. Итак с храбро- стию предков наших и с тою мы- слию, что русская сила была до сего времени непобедима, сразимся мужественно за жизнь нашу. У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить победителями или, совершивши знаменитые подвиги, умереть со славою» (перевод Д. Попова, цит. по Шахматову, Разыскания, стр. 124).
Для решения вопроса о том, кто же использовал этот иностранный источник—Древнейший или Начальный свод—у Шахматова материала не было. Для своей конструкции он признал, без особого обоснования, более подходящей версию Древнейшего свода. Все вышеизложенное заставляет, однако, отдать предпочтение в этом смысле Начальному своду, несомненно собиравшему всякий материал для прославления Святослава.
Кстати, отметим, что появление цитированной речи у Льва Диакона свидетельствует о довольно раннем зарождении устной традиции о походах Святослава. Лев Диакон—современник Святослава, хотя и не очевидец описываемых событий и писал значительно позже. Что эта устная традиция крепко держалась еще в конце XI в., видно хотя бы из слов Василька Ростиславича, сказанных им после ослепления Василию, повествование которого помещено в Повести временных лет под 1097 г. В этом рассказе Василько объясняет немилость к нему бога тем, что он слишком возгордился и возмечтал о чрезмерной славе: «Яко приде ми весть, яко йдуть ко мне Берендичи и Печенези и Торци и рекох в уме своемь: оже ми будуть Берендичи и Печенези и Торци, реку брату своему Володареви и Давыдови: дайта ми дружину свою молотшюю, а сама иийта и веселитася; и помыслих: на землю Лядьскую наступлю на зиму и на лето и возму землю Лядьскую и мьщю Русьскую землю; и посем хотел есм переяти Болгари Дунайскые и посадити я у собе; и посем хотех проситися у Свя-
38
И. М. ТРОЦКИЙ
тополка и у Володимира итти на Половцы, да любо найду собе славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю» (Лавр.),
Легко заметить, что завоевательные мечты Василька навеяны воспоминаниями о походах Святослава, а заключительная мотивировка непосредственно примыкает к речам Святослава1.
Образ Святослава—апогей дружинной идеологии. Дальнейшие князья уже не вызывают таких симпатий и восторгов составителя Начального свода. Однако соответствующие моменты мояшо найти и далее.
Летописные рассказы о Владимире очень сложны и являют следы ряда наслоений. Можно отчетливо проследить борьбу двух тенденций—отрицательной и прославительной. Тема эта чрезвычайно трудна, и на ней мы сейчас останавливаться не будем. Отметим лишь, что статья 996 г., составленная явно из различных фрагментов, содержит в себе и характеристику, соответствующую идеям ((Предисловия». Именно, вслед за рассказом о раздаче Владимиром милостыни и хлебосольстве его, сообщается: ((Егда же подпивахуся, начата роптати на князя, глаголюще: „зло есть, даваше бо нам ясти древяными лжицами, а не сребре- ными“. Се слышав Володимир, повеле исъковать лжицы сребрены ясти дружине, рек сице, яко „сребром и златом налести не имам дружине, а дружиною налезу злато и сребро, якоже дед мой и отець мой доискашася злата и сребра дружиною", 6е бо Владимир любя дружину и с ними думая о строении земьском и о ратех и о уставе земном» (Новг. I). Основной эпизод мотивирован аналогично отношению к богатству Святослава, а ссылка не только на отца, но и на деда, явно не соответствующая летописным фактам, вскрывает чисто идеологический характер всего рассказа. Последующая же приписка об участии дружины в управлении государством открывает и те требования, какие предъявляли в конце XI в. «мужи храборствующие», имевшие, как мы ниже убедимся, все основания считать себя оттесненными от невоенных дел. Думаем, что не ошибемся, если припишем весь ЭТОТ текст той же руке, которая нарисовала рыцарский образ Святослава.
Любопытно отметить, что Ярослав Владимирович обрисован в «Повести временных лет» без особой симпатии. Как известно,
1 Любопытно отметить, что в Ипатьевской перечня военных планов Василька нет. Но объяснение этого обстоятельства—дело сложное и требующее самостоятельного исследования.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
39
нц годы его княжения в Новг. I младшего извода приходится большой пропуск, и реконструировать относящиеся сюда статьи Начального свода очень трудно. Но единственная похвала Ярославу под 1037 г. относится к его деятельности в области церковного строительства и книжности его. Похвала эта в основных своих чертах могла читаться уже и в Древнейшем своде. Во всяком случае мы не видим следов тех вставок, основанных на устной традиции, к которым несомненно прибегал составитель Начального свода.
Думается, что обстоятельство это не случайно. Саги о Ярославе бытовали в то время и проникали в скандинавский эпос. Автор «Слова о полку Игоревен знает песни «старому Ярославу». Но нащ собиратель фольклора отбросил все эти предания. Полагаем, что в дружинной среде, из которой, по всей вероятности, и вышел наш летописец, намять о Ярославе хранилась не очень добрая— о его коварстве и скупости говорят нам скандинавские саги, в частности, Эдмундова сага. И в летописи Ярослав почти с первого же момента своего появления обнаруживает черты плохого отношения к дружине—в известном рассказе 1015 г. (по Новг. 1— 1016) о предательской бойне новгородских «нарочитых людей». Характерно, что летописец заставляет Ярослава публично осудить свой поступок, причем передача его речи в Новг. I и в «Повести временных лет» несколько разнится:
Новг. 1 под 1016 г. Лавр, под 1015 г.
Различие в чтениях может быть здесь объяснено и другими соображениями, но во всяком случае характерно, что в Новг. I мы находим тот же знакомый уже нам мотив, согласно которому дружина должна быть дороже золота. В Повести временных лет мотив этот выпал.
Таким образом, Ярослав открывает собою ряд князей, отношение которых к дружине ставится нашим летописцем под сомнение. И как бы для того, чтобы сильнее оттенить отрицатель-
(с исправлениями по Радз> и Акад.)
И се слышав Ярослав, заутра собра Новгородцов избыток и сътвори вече на поле и рече к ним: «любимая ноя и честная дружина, юже выисекох вчера в безумии моем, не то перво ми их златом окупити». И тако рче им...
Се слышав, печален бысть о отци и о братьи и о дружине; заутра же собрав избыток Новгородець. Ярослав рече: «о люба моя дружина, юже вчера избих, а ныне быша надобе». Утерл слез и рече им на вечи...
40
И. М. ТРОЦКИЙ
ные стороны Ярослава, всячески превозносится его антагонист Мстислав. Уже первое появление последнего на страницах летописи связывается с эффектным былинным рассказом о единоборстве Мстислава с Редедею косожским. Здесь прославляется Мстислав и храбростью своей, и нежеланием губить дружину, и покорением ((иных стран»—возложением дани на косогов (кстати отметим, что это в Повести временных лет последний случай завоевания русским князем соседней земли). 4
На основании устной же, повидимому, традиции изображается Мстислав под 4024 г. как идеально заботящийся о дружине князь. Располагая свое войско перед Лиственской битвой, Мстислав поставил в центре ополчение — северян, а дружину по флангам; таким образом, от боя пострадали преимущественно северяне. Обозревая на утро поле победы, Мстислав ссвидев лежаша сечены от своих Север и Варягы Ярославле и рече: „Кто сему не рад? се лежит Северянин, а се Варяг, а друясина своя целаа». (Лавр.).
И наконец, сообщение о смерти Мстислава заканчивается его характеристикой, напоминающей нам знакомые черты, идеальные с точки зрения Начального свода: (сБе же Мьстислав дебел телом, чермен лицем, великыма очима, храбор на рати, милостив, любяше дружину по велику, именья не щадяше, ни питья, ни едения браняше».
И по идеологическим моментам, и по приему использования устной традиции отмеченные тексты вполне укладываются в ту систему, которую проводил в своем труде, по нашему мнению, составитель Начального свода. Литературное единство этих трех текстов отмечал и Шахматов, признавая их вставками. Но Шахматов предполагал, что вставки эти сделаны были иеромонахом Никоном в составленном им в 1073 г. продолжении Древнейшего свода.1 Основанием для этого предположения послужило то обстоятельство, что под 1064—1066 гг. в летописи имеется несколько сообщений о происшествиях в Тмутаракани, записанных, по мнению Шахматова, на месте. Внести их в киевскую летопись мог только иеромонах Никон, как раз в эти годы побывавший в Тмутаракани. А если он вносил тмутараканские известия, то ему же и следует приписать вставки, касающиеся Мстислава.
Это рассуждение, на первый взгляд довольно стройное, все же не убедительно, и прежде всего потому, что самая идея свода
1 Op. cit, стр. ІЗ! след.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
41
1073 г. является одним из наиболее слабых звеньев Шахматов- ской конструкции, — по этому поводу в литературе высказаны довольны веские возражения. Здесь не место рассматривать эту проблему. Но во всяком случае, если бы записи о действиях Ростислава в Тмутаракани и были внесены Никоном, то это еще ничего не говорит о времени появления сведений о Мстиславе Тмутараканском. Характеристики Мстислава и Ростислава, при наличии симпатии к ним летописца, очень различествуют. Атмута- раканские моменты могли просочиться в летопись и после Никона,— сношения с Тмутараканью особенно оживляются с конца 70-х годов XI в., и в результате именно этих сношений, думается, проникли в Поднепровье тмутаракаиские эпические мотивы. Эти мотивы засвидетельствованы не только летописью, но и «Словом о полку Игореве», знающим и песни о «храбром Мстиславе, иже зареза Редедю пред полкы Косожскыми», и «красного» Романа Святославича, тмутараканского князя, повидимому, тоже эпического героя, но мало нам известного;1 и вообще Тмутаракань достаточно часто в «Слове» упоминается.
Таким образом, мы не видим решительно никаких препятствий к тому, чтобы отнести прославляющие Мстислава тмутара- канские тексты к Начальному своду, с общим направлением которого они, как мы уже убедились, вполне гармонируют.1 2
1 Отметим, кстати, что сообщение о смерти Романа Святославича в 1079 г. точно датировано; а между тем Шахматов многое строит на датировке смерти Ростислава в 1066 г. Указываемое нами обстоятельство скорее говорит в пользу наличия тмутараканских источников у составителя Начального свода.
2 В этой связи стоит вспомнить предположение, высказанное в свое время В. А. Пархоменко, хотя не очень им аргументированное. Именно Пархоменко заподозрил „...не был ли Мстислав местным тмутараканским князем, не из семьи Владимира святого? Не поэтому ли киевляне не приняли его, как чужого, столь энергично воспротивившись его вокняжению в Киеве? В таком случае возможно «усыновление» Мстислава Владимиру со стороны летописца — в угоду его любимой идее о единстве Руси и ее династии" (Начало христианства Руси, Полтава 1913, стр. 59, прим.) Действительно, о Тмутаракани мы до 1022 г. в летописи ничего не знаем. Единственное раннее упоминание относится к 988 г., где сообщается о распределении городов между сыновьями Владимира. Но искусственность этого распределения бросается в глаза и раскрыта Шахматовым, признавшим эту запись творчеством составителя Начального свода, производившего это размещение путем ретроспицированпя известных ему фактов XI в. Что операции над родством «древних князей» во имя интересов аРюрико- вой династии» этот летописец производил, мы уже видели выше (см.
42
II. M. TP о цки й
На Мстиславе, собственно говоря, и кончается ряд тех «древних князей», которых Начальный свод ставил в образец совре*- менникам. Когда летопись дальше хочет похвалить какого-нибудь князя, то речь идет не о его военных доблестях и не об отношении к дружине, а о любви его к церкви, моральных качествах и т. п. Правда, победу Святослава Ярославича над половцами в 1068 г. летопись мотивирует тем, что он, уподобляясь своему тезке-прадеду, призвал дружину: «потягнем, уже нам не лзе камо ся дети»; но гот же Святослав рисуется стяжателем, и по его поводу дается любопытное назидание.
Под 1075 г. рассказывается о приходе в Киев немецкого посольства: «В се же лето придоша ели из Немець к Святославу, Святослав же, величался, показа им богатьство свое; они же видевше бещисленое множьство, злато и сребро и паволокы, и реша: „се ни въ чтоже есть, се бо лежить мертво; сего суть кметье луче, мужи бо ся доищуть и болше сего"». В уста немецких послов вкладывается таким образом мысль, неоднократно уже нами отмеченная и в «Предисловии», и в сообщениях о Святославе, Владимире п Ярославе. Характерно, что в угоду своей тенденции автор исказил подлинные факты. На самом деле, Святослав не просто похвалялся перед немецким послом — своим, шурипом Бурхардтом — великолепием своей сокровищницы. Сложная международная обстановка угрожала киевскому князю союзом его изгнанного брата Изяслава с германским императором Генрихом 1Y. Святослав был вынужден откупиться, и, как сооб¬
стр. 31). Можно предположить, что такая же операция была произведена и в отношении Мстислава. В подтверждение этой гипотезы можно привести и некоторые летописные моменты. Так под 1003 г. в «Повести временных лет» значится: «Преставися Всеслав, сын Изяславль, внук В049- шмерь». Тот же текст в Начальном своде читается иначе; «Преставися Всеслав, сын Мстиславль, внук Володимир» (Новг. 1).И Мстислав и Изяслав— довольно сомнительные Владимировичи, и то, что разные редакции начальной летописи колеблются в приписании тому или другому сына, лишний раз это подтверждает. Далее следует обратить внимание, что в цитированной выше речи Мстислав заявляет, что северяне и варяги побиты кот своих», а его дружина цела. С его точки зрения (или, что то же самое, с точки зрения тмутараканского предания) северяне были ближе к варягам, чем к своему тмута рака некому союзнику. Характерно также, что Тмутаракань не попала в Ярославов ряд, да и в дальнейшем, повидимому, никогда, прочно не входила в состав киевской державы. Таким образом, включение Мстислава в киевские династические счеты могло мотивировать desiderata Киева в отношении Тмутаракани.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
43
щает в своих анналах Ламберт, Бурхардт «привез королю столько золота, серебра и драгоценных одежд, что никто не помнит, чтобы когда-либо такие богатства сразу привозились в немецкое государство. Этими дарами русский князь заплатил королю за то лишь, чтобы он не оказал помощи его брату, коего он изгнал из государства».1 Едва ли можно думать, что летописец не знал об истинной природе дела. Но его самолюбие воина могло быть оскорблено дипломатическими ходами Святослава, и эпизод этот был использован для посрамления Святослава и повторного декларирования дружинной точки зрения.
В изложении ближайших ко времени его работы лет составитель Начального свода, конечно, не мог злоупотреблять вставками и отсебятинами в духе излюбленных им аналогий и характеристик. 80-ые годы изложены им вообще довольно лаконично* Новое проявление дружинной точки зрения мы находим под 1093 г. в выпадах летописи по адресу умершего князя Всеволода Ярославича и сменившего его Святополка Изяславича.
По поводу Всеволода сообщается, что в старости он «нача любити смысл уных, свет творя с ними; си же начата заводити и негодовати дружины своея первыя и людей не доходити княже правды, начата ти унии грабити, людий продавати, сему не ве- дущу в болезнех своих».
Этот текст как раз вскрывает ту обстановку, о которой мы говорили, анализируя предисловие к Начальному своду. Гнев автора направлен как раз против «отроков», против того низшего, частью из рабов состоящего слоя дружины, который к этому моменту захватил в свои руки аппарат княжеского управления^ Очень показательно, что Ипатьевская летопись выражение «ти унии» прямо конкретизует в «тивуне», и здесь дело, конечно? не только в близости написания, но и в реальной однозначности этих категорий. Горюя о былом положении воинов, наш автор естественно исходит из интересов «всей» дружины, хотя на самом деле представители «дружины первыя»—бояре, вероятно, удовлетворялись создавшимся положением, находя в нем новые пути укрепления своей социально-экономической мощи. От имени той же дружины в целом выступает летописец и против Святополка, объясняя его военную неудачу тем, что он оскорбил половецких
1 М, Э- Шайтан. Германия и Киев в XI в. Летопись занятий постоянной) Историко-археографической комиссии, вып. і (34), Л. 1927, стр. 10—11.
44
И. М. ТРОЦКИЙ
послов, «не здумав с большею дружиною отнею и стрыя своего, совет створи с пришедшими с ним», а пришел он, как оказывается несколькими строками ниже, с ((отроками», которые квалифицируются как «несмыслении» и противопоставляются представителям дружинного опыта, амужам смыслениим», жалующимся вместе с автором ((предисловия», что ссземля оскудела есть от рати и от продаж».
Текст 1093 г., современный ((Предисловию», вводит нас в ту социльную обстановку, в которой зародилась сформулированная в ((Предисловии» идеология. Как известно, Шахматов считал статью 1093 г. с ее описанием горестных результатов нашествия «поганых» концом Начального свода. Нашим выводам это предположение никак не противоречит и скорее подтверждает их. При этом, однако, следует объяснить некоторый рецидив знакомой уже нам терминологии под 1097 г. в изложении событий, Обязанных с историей ослепления Василька Ростиславича. Выше мы уже приводили текст речи Василька, столь сближающий его образ с характеристикой Святослава Игоревича. В рассказе о борьбе между Святополком Изяславпчем и Владимиром Моно- махом, мать последнего и митрополит уговоривают его не воевать со Святополком и вспоминают по этому поводу об их предках, которые «землю • • • беша стяжали... '(трудом великим и храбрь- ствомь, побарающе по Русьской земли, < ины земли приискиваху». Последнее выражение даже текстуально близко фразеологии «Предисловия». Шахматов видел здесь только два возможных объяснения: либо «Предисловие» использовало выражение летописи, либо последняя взяла фразу из «Предисловия». А так как Начальный свод он датировал 1093 годом, то естественно и отдал предпочтение второму варианту.1 Мы видим, однако, еще одну возможность: Фраза «Предисловия» и летописи под 1097 г. могла быть написана одним и тем же лицом, вообще, как показал предыдущий анализ, охотно повторявшим одни и те же выражения. В таком случае дату окончания Начального свода придется несколько передвинуть. Для разрешения этого вопроса нужно, однако, произвести чрезвычайно сложный анализ статьи 1097 г., содержащей рассказ попа (?) Василия об ослеплении Василька. Для наших целей эта проблема, впрочем, особой важности не представляет.
1 Предисловие к Начальному Киевскому своду и Несторова летопись, ИОРЯС, 1908, т. XIII, кн. I, стр. 227.
ЭЛЕМЕНТЫ ДРУЖИННОЙ ИДЕОЛОГИИ
45
Проделанный анализ, думается, вполне подтвердил сформулированный в первой части статьи тезис. Идеологией «Предисловия» оказывается пронизанным весь летописный текст вплоть до конца XI в. Отдельные соображения могут показаться спорными, но общий вывод аргументируется всей совокупностью наблюдений. В заключение позволим себе выразить надежду, что некоторые тексты, часто цитируемые в литературе без всяких оговорок, в результате проделанной нами работы будут восприниматься критически и интерпретироваться не столько как реальное отображение фактов, сколько как сгустки определенной, локализуемой и социально, и во времени, идеологии.
С. Н. БЫКОВСКИЙ
МНИМАЯ «ИЗМЕНА» БОЛОТНИКОВА
Выдающийся вождь крестьянской войны начала XVII в. Иван Исаевич Болотников заклеймен буржуазной историографией «изменником». Видя во время осады царем Василием Шуйским г. Тулы в 1607 г. свое затруднительное положение, Болотников, будто бы, вступил с Шуйским в переговоры, заручился обещанием Шуйского о «помиловании», выехал из города верхом на коне через задние ворота, подъехал к «ставке» Шуйского и сдался «на милость» последнего. Во время этой добровольной сдачи Болотников яко бы обнажил свою саблю, положил ее себе на шею и предложил царю, если он сочтет нужным, рубить ему, Болотникову, голову; если же Шуйский его помилует, то он, Болотников, будет ему служить «верою и правдою», как служил до того Дмитрию, сыну Ивана IV. Он, Болотников, яко бы, твердо верил, что Названный Дмитрий — действительный сын Ивана IV, а потому и был ему так глубоко предан.
Обстоятельства этой «добровольной сдачи» в плен Болотникова, его «заверения», что он был предан Дмитрию только как оыну Ивана IV, его «клятвенные обещания» Шуйскому столь же верно служить отныне новому своему царю находятся в непримиримом противоречии с характером движения Болотникова. «А стоят те воры под Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы, и велят боярским холонем побивати своих бояр, и жены их и вотчины и поместья им сулят, * ШПЫНЯМ и безъимянником вором велят гостей и всех торговых яюдей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и о ко л шіч єство п дьячество» — писал со слов патриарха Гермогепа о движении олотникова митрополит Филарет.1 «Пострадахом и убьении
1 Акты Археограф, экспедиции, т. II, № 57, стр. 129.
48
С. Н. БЫКОВСКИЙ
быхом ни от неверных, но от своих раб и крестьян поругаеми и убиваеми. Бысть в лето 7115 году, собрахуся боярские люди и крестьяне, с ними же пристаху Украинские посацкие люди и стрельцы и казаки и начата по градом воеводы пмати и сажати по темницам. Бояр же своих домы разоряху и животы грабяху, жен яге их и детей позоряху и за себя имаху. В них же бысть старейшим князь Андреев человек Андреевича Телятевского Ивашка Болотников, собрався со многими людми»,— вторил Гермогену хорошо осведомленный об обстоятельствах движения современник и очевидец многих событий.1
Несмотря на явное расхоягдение данных о добровольной яко бы сдаче Болотникова и о характере движения Болотникова, вся дореволюционная историография упрямо твердила, что Болотников сдался в плен Шуйскому добровольно, что он, следовательно, изменил движению. Грозный Болотников, велевший побивать «всех бояр», «всех гостей» и «всех торговых людей», «побивавший» царских воевод, характеризовался в качестве какого-то наивного человека, слепо преданного Димитрию, которого ошибочно принимал за подлинного сына Ивана IV. Он оказывался носителем каких-то монархических идей, защитником традиций старой «рюриковской» династии, которую отстаивал от происков «разночинного» царя Шуйского, избранного «московскими пирожниками и сапожниками».1 2
В указанном направлении соответствующий эпизод был изложен еще Н. М. Карамзиным, выразившим свое отношение
1 Новый Летописец. Поле. собр. русск. летописей, т. XIV, 1-я пол., СПб., 1910 г., стр. 71. Сравн. Летопись о многих мятежах, М., 2-е изд., 1788 г. стр. 108. Оба цитируемых источника исходят из враждебных движению кругов, а потому, конечно, не могут быть приняты без анализа и критики. Здесь, однако, достаточно констатировать самый факт противоречия между мнимыми данными об «измене» Болотникова и показаниями цитируемых источников.
2 Так характеризует обстоятельства воцарения В. Шуйского, как известно, К. Буссов: «... olme Wissen und Bewilligung samtlicher Landstande allein von der Gemeinde in der Moecau... alien Kauf-Leuten, Piroschnicken nnd Saposchnicken... zum Eayser gekronet...» Conradi Bussovii Chronioon Moscoviticum. Rerum Rossicarum Scriptores Exteri, t. I, Petr., 1851. S. 64. Сравн. в перев. H. Устрялова, Сказания современников о Димитрии Самозванце, ч. 1, СПб., 1859 г., стр. 76, Маржерст, со своей стороны, отмечает: «хотя русский престол не избирательный, но как Дмитрий был последним в роде и никого от царской крови не осталось, то Шуйский получил корону чрез происки и хитрые ковы, подобно Борису Феодоровичу». Н. Устрялов, Сказания современников, ч. 1, стр. 303.
МНИМ ЛЯ ((ИЗМ5ШЛ)) БОЛОТНИКОВ А
49
к крестьянскому вождю словами: «миловать таких злодеев есть преступление». Придворный историограф осуждал не одного Болотникова, который в его глазах был не только политическим «вором», но и подлинным уголовным преступником, холопом, осмелившимся поднять руку на своих «господ». Он осудил вместе о Болотниковым и князя Телятевского, которого «из уважения к его именитым родственникам не лишили ни свободы, ни боярства». Он осудил вместе с князем Телятевским даже правительство, которое помиловало этого «преступника». «Слабость бесстыдная, вреднейшая жестокости», — восклицает Н. М. Карамзин по этому поводу.1
Аналогичными чертами характеризовал эпизод с «добровольной сдачей» Болотникова С. М. Соловьев.1 2 Само собою разумеется, не иначе описывали то же событие Д. Бутурлин,3 Н. Устрялов,4 вслед за ними Н. И. Костомаров,5 Д. И. Иловайский.6
В. О. Ключевский7 и С. Ф. Платонов8 вообще не нашли нужным остановить своего внимания на заключительном этапе движения Болотникова.
В советское время миф об «измене» Болотникова крестьянской революции повторил Н. Фирсов.9
Достойно замечания, что все упомянутые историки не могли не знать о существовании другой версии «сдачи» Болотникова —
1 Н. М. Карамзин. История государства Российского. Изд. Н. Морева, т. XII, СПб., 1897 г., стр. 43.
2 С. М. Соловьев. История России. Изд. «Обществ, польза», кн. 2, т. VIII, столб. 825.
3 Д. Бутурлин. История Смутного времени, ч. 2, СПб., 1841 г., стр. 95—96.
4 В Русской Истории, ч. 1, СПб., 1849 г., стр. 265, Н. Устрялов не счел нужным сколько-нибудь подробно остановиться на упомянутом эпизоде. Но свое понимание обстоятельств взятия войсками Шуйского г. Тулы он достаточно ярко выразил в подстрочных примечаниях к переводам совре- менников-иностранцев, писавших о «Смуте». См. Сказания современников 0 Димитрии Самозванце, ч. 1, 1859 г., стр. 419, примеч. 171.
5 Н. И. Костомаров. Смутное время Моек, государства. Собр. соч., изд. «Лит. фонда», кн. 2, стр. 297—298.
6 Д. И. Иловайский. История России, т. IV, М., 1894 г., стр. 90.
7 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. З, ГИЗ, 1923 г., стр. 47.
8 С. Ф. Платонов. Очерки по истории смуты в Моек, государстве AVI—xvn вв., СПб, 1899 г., стр. 343—344.
^ Н. Фирсов. Крестьянская революция на Руси в XVII в., ГИЗ, 1927 г<,
Проблемы источниковедения, II 4
50
С. Н. БЫКОВСКИЙ
о насильственном взятии его в плен Шуйским. Эт& версия, как показано будет ниже, хорошо представлена в источниках. Она была известна и старому историку Н. С. Арцыбашеву, который нашел уместным отметить в особом примечании наличие двух версий.1
В отличие от буржуазных историков, не доверяя старой историографии, только М. Н. Покровский не повторил мифа о «добровольной явке» Болотникова к Шуйскому. К сожалению, М. Н. Покровский, по условиям работы над своей «Русской историей», был лишен возможности детально обследовать данные источников и ограничился общим указанием: «последние солдаты «воровской» армии, выдав своих вождей (подчеркнуто мною. — С. Б.), целовали крест царю Василию».1 2 Среди вождей, выданных Шуйскому разгромленными царским войском повстанцами, он, коиечно, разумел и Болотникова.
Как видно из ссылок на источники, равно из изложения эпизода, Н. М. Карамзин, Д. Бутурлин, Н. Устрялов, Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев, Д. И. Иловайский — все одинаково основывали свое утверждение преимущественно на известии Конрада Буссова. Сообщение последнего включает диалог, происходивший яко бы между Болотниковым и Шуйским.3 Этот диалог почти дословно воспроизводят все названные историки, кроме одного Н. Устрялова, который, однако, в1 подстрочных примечаниях к переводу известий современников-иностранцев дает понять, что целиком доверяет М. Беру; последнего, как известно, он принимал за автора хроники, в действительности принадлежащей К. Буссову. В передаче упомянутыми историками обстоятельств «добровольной сдачи» Болотникова фигурируют и «сабля», кото-
1 Н. С. Арцыбашев. Повествование о России, ч. 3, 1843 г., прим. 922.
2 М. Н. Покровский. Русская история, т. 2, ГИЗ, 1933 г., стр. 4Я. Свою точку зрения по этому вопросу М. Н. Покровский вполне отчетливо выразил в заметке «Болотников» в эвциклопед. словаре Граната: «по занятии Гулы боярином Колычевым бил схвачен (подчеркнуто мною. — С. Б.), отправлен вместе с другими в Москву, а оттуда в Каргополь, где и был утоплен», — т. VI, в 7 изд., столб. 242—243.
3 Rerum Rossicarum Script. Ext. 1.1, S. 79. Cp. Сказ, современников о Димитрии Самозванце, ч. I, стр. 90—91. Перевод Н. Устрялова весьма приблизительный, в форме пересказа, значительно отступающий местами от оригинала действительной рукописи К. Буссова. См. соотв. замен. Я. Грота — Действительно ли Мартин Бер автор хроники. Труды, т. IV, СПб., 1901 г., стр. 29—31.
МНИМА.Я «ИЗМЕНА.)) БОЛОТНИКОВІ
51
РУЮ
«положил себе на шею» Болотников, и ((задние ворота»,
через которые он «ехал к Шуйскому», и «конь», на котором он «ехал» и т. п. детали, отмеченные' только в хронике К. Буссова.1
Отчасти, как видно из соответствующих ссылок, названные историки основывали свое мнение на официальных грамотах Василия Шуйского от 13 и 19 октября 1607 г., где сообщалось, что «тульские сиделцы» Телятевский, Шаховской и Болотников, «узнав свою вину», «добили челом» Василию Шуйскому, ему «крест целовали» и выдавали ему «григорьевского человека Елагина Илейку, что назвался воровством Петрушкою».1 2
Не приходится сомневаться в том, что существо «критических приемов» исследования источников названными выше историками сводилось: 1) к устранению категории всех тех источников, которые освещали эпизод иначе, чем К. Буссов и грамоты В. Шуйского; 2) это устранение «неудобных» источников не сопровождалось никаким анализом их по существу; 3) известия К. Буссова были без какого бы то ни было анализа приняты за основной источник; 4) грамоты В. Шуйского, как официальные, принимались «на веру», рассматривались как независимый и не связанный с хроникой К. Буссова источник, а потому — как подтверждающие сообщение К. Буссова.
У помянутые два источника — известие К. Буссова и грамоты В. Шуйского—являются основными источниками, содержащими версию об «измене» Болотникова. Дело заключается не только в том, что Н. М. Карамзин, Д. Бутурлин, Н. Устрялов и прочие историки главным образом на них и основывались. Кроме этих источников ту же версию поддерживают: 1) Петр Петрей, 2) Герк- ман, 3) автор «Historya Dmitra falszywegro», как предполагают, Будила, 4) Я. Велевицкий. Но эти источники — второстепенные.
Из них известия Петра Петрея, как это точно установлено, целиком основаны на сообщениях К. Буссова.3 Таким образом, известия Петра Петрея в расчет принимать не приходится вовсе.
1 Rerum Rossicarum Script. Ext., t. I, S. 79.
2 Собр. Гос. грам, и договоров, ч. 2, стр. 325. Акты Археограф. Экспедиции, т. II, № 81, стр. 173. См. также Архив П. Строева, т. П, Русская история, библ., т. XXXV, № 69, столб. 139.
3 Ex Petri Petrei Clironicis Moscoviticis. Rerum Rossicarum Script. Ext., t- I, SS. 214—215. См. разночтевия по шведской рукописи — там же, стр. 360.
4*
52
С. Н. БЫКОВСКИЙ
Очень подробно описывает эпизод со взятием г. Тулы Герк^- ман.1 Однако, Геркман сам не являлся ни современником, ни тем более очевидцем событий крестьянской войны начала ХУ1І в. Он жил в Москве много времени спустя, в царствование Михаила Федоровича.1 2 Сведения о событиях времени крестьянской войны он собирал, естественно, из вторых и третьих рук. Самое обилие подробностей о сдаче г. Тулы носит в описании Геркмана характер обычной легенды, которая принимает тем более пространную форму и изобилует тем большим количеством «деталей», чем дальше время ее новых переработок от времени описываемого ею события. Болотникова Геркман ошибочно называет «человеком Долгорукова», вместо — Телятевского;3 приписывает Шуйскому новый, крайне наивный разговор с Болотниковым, который будто бы показывал Шуйскому в целях своей реабилитации какой-то документ, и Шуйский яко бы придал этому документу большое значение, воскликнув: «простить его! простить его!»4 Геркман явно не понимает обстановки, расска^ зывая, что пленному Болотникову позволили свободно ходить по Москве, но в сопровождении приставов (!).5 Сомнительные подробности, неизвестные никому из современников событий, Геркман сообщает о казни «Петра Федоровича».6 Принимая все это во внимание и считаясь с тем, что версия об «измене» Болотникова широко гуляла в тех кругах, с которыми общался Геркман, его известиям о Болотникове не приходится придавать серьезного значения. Они не достоверны и но той путанице, которая в них имеется, и по тому, что он передавал «слухи», не будучи сам очевидцем событий, при том — «слухи» почтенной давности.
Записи Будилы и Я. Велевицкого также не современны событиям. Ни тот, ни другой авторы очевидцами осады г. Тулы не являлись и писали с чужих слов, «по наслышке». Будила не знает точно, когда была взята Тула. Явно «по наслышке» он сообщает, что «какой-то мельник» посоветовал В. Шуйскому затопить город, и этим содействовал взятию города, т. е. пра-
1 Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России. Изд. Археогр. ком., СПб., 1874 г., стр. 299—304.
2 Ibid., стр. V.
3 Ibid., стр. 302.
4 Ibid., стр. 303.
5 Ibid., стр. 303—304 (курсив мой.— С. Б.).
6 Ibid., стр. 304.
МНИМ А. Я ((ИЗМЕНА)) БОЛОТНИКОВА
53
вильное известие сопровождает недостоверными подробностями. Таком же образом он передает явный «слух», будто бы вместе с Болотниковым было утоплено (где? когда?) 4000 пленных повстанцев.1 Я. Велевицкий также не знает точно времени взятия г. Тулы, называя дату «около 24 ноября» (октября?—С. Б.)г Главную роль он приписывает в действиях повстанцев против правительственных войск «Петрушке», имея очень приблизительное представление о Болотникове — «какой-то Болотников». О судьбе Болотникова ему вообще ничего неизвестно.1 2 3 Таким образом, Будила и Я. Велевицкий следовали в своих сообщениях о Болотникове готовой версии, источники которой необходимо искать в более ранних известиях современников события. ЭТ() возвращает нас к хронике К. Буссова и грамотам Василия Шуйского как основным источникам, передающим упомянутую версию.
К. Буссов, будучи современником и даже очевидцем целого ряда событий первых лет крестьянской войны начала XVII в., отнюдь не являлся, однако, очевидцем взятия г. Тулы. Охотно сообщая вообще о всех тех городах, где он бывал, К. Буссов ни словом не обмолвился о том, что во время осады и падения г. Тулы он находился в этом городе. Описывая обстоятельства взятия г. Тулы войсками Шуйскою, К. Буссов не может сказать точно, когда и кто именно предложил устроить плотину на реке Упе; он дает явный простор своей фантазии, рассказывая, что «за бочку ржаной муки платили 100 гульденов», «пива не было и в помине» и т. д. Хорошо известно, что во время осады г. Тулы там находился сын К. Буссова, захваченный в плен Шуйским и вместе с другими пленными немцами сосланный затем в Сибирь.4 Таким образом, К. Буссов не являлся очевидцем взятия г. Тулы и в своих сообщениях о Болотникове следовал чьей-то чужой информации.
Известно, что К. Буссов состоял в 1601 г. на службе у шведского герцога Карла, впоследствии ставшего Карлом IX. К. Бус¬
1 Historya Dmitra falszywego. Русская историч. б-ка, т. I, СПб.» 1872 г., столб. 122—123.
2 Записки гетмана Жолкевского о Моек, войне, Изд. 2-е, П. Му ханов и. СПб., 1871 г., прплож., стр. 195—196.
3 Ibid., стр. 196.
4 Я. Грот. Действительно ли Мартин Бер автор хроники. Труды т. IV,
€П6., 1901 г., стр. 29. к
54
С. Н. БЫКОВСКИЙ
сов был главным интендантом завоеванных в 1600 и 1601 гг» Карлом областей в Лифляндии и Эстляндии. На этой службе он завязал какие-то отношения с Борисом Годуновым и обещал последнему сдать Мариенбург и Нарву. После того как план измены Карлу IX К. Буссовым и его сообщниками провалился, он переселился в Москву, предавшись первоначально правительству Годунова, затем столь же легко перейдя на сторону Названного Димитрия. В 1606 г. ему пришлось выехать из Москвы, и он жил в своих имениях под г. Калугой. Во время осады Калуги он находился в этом городе. В своей личной жизни постоянством в отношениях с своими покровителями и друзьями не отличался. Был вхож в различные круги.1 Известно далее, что его близкий родственник, Мартин Бер,1 2 3 едва не пострадал в числе 52 человек немцев, друзей К. Буссова, от руки второго Димитрия.8 Среди этих 52 немцев, очевидно, находился и сам К. Буссов.4 Авантюрист, совершенно случайно в течение короткого времени связанный с крестьянским движением, он не имел никаких действительных оснований питать симпатии к вождям этого движения. Он не мог и не хотел понимать их идеологию. Возвращенный с вступлением польских войск в Москву из вынужденной ссылки, сблизившийся немедленно с приближенными Сигизмунда III и с кругами боярства, поддерживавшего Сигизмунда, К. Буссов был ((СВОИМ человеком}) именно в этих кругах. Здесь он и почерпнул свои сведения о последних днях мятежной Тулы и о Болотникове. Но здесь именно и ((гуляла» версия об ((измене» Болотникова, версия офицального происхождения, как это подчеркивается отражением ее в грамотах В. Шуйского.
((После царя-самозванца на престол вступил князь В. И. Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой 54-летний боярин, небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изинтриговавшийся, прошедший огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой охотник до
1 Ibid., стр. 28—29, 31—32. Rerum Rossicarum Script. Ext., t. I, SS. Ш, VH. Bulletin de la Classe des Sciences historiques de l’Academie Imperiale dee Sciences de Sptb., t. VIII, Ш 20—21.
2 Я. Грот, указ, соч.; стр. 34.
3 Rerum Rossic. Script. Ext., t. 1, SS. 104—105.
4 Я. Грот, указ, соч., стр. 32.
МНИМАЯ ((ИЗМЕНА)) БОЛОТНИКОВА
55
наушников и сильно побаивавшийся колдунов. Свое царствование он открыл рядом грамот, распубликованных по всему государству, й в каждом из этих манифестов заключалось по меньшей мере до одной лжи». Так характеризует Шуйского В. О. Ключевский.1 Дело заключается, однако, не в привычной склонности Шуйского лгать в официальных документах и в частных разговорах. В. О. Ключевский правильно подметил эту черту характера В. Шуйского, но придал ей значение личной особенности «царя-заго- ворщика». Правительственная пли официальная и официозная ложь — характерная черта в передаче близко затрагивающих их интересы известий эксплоататорскими классами. В. Шуйский лгал не из личной склонности к лжи, а потому, что так было выгодно и нужно тому классу, интересы которого он представлял.
В период развития крестьянского движения эксплоататорский класс и представлявшее интересы последнего правительство Шуйского находились в большой опасности. В целях ликвидации движения принимались все те меры, какие только были возможны. Были мобилизованы и двинуты против мятежников правительственные войска. В момент особенно острой опасности правительство Шуйского, как известно, обратилось с призывом о помощи к шведам. В составе войск В. Шуйского вообще действовали также немцы, французы, ирландцы, англичане и др.1 2 Все эти иностранные войска привлекались под непременным условием помощи митрополитам, архиепископам, игуменам, боярам, воеводам, дьякам, детям боярским, гостям и торговым людям, как это точно указывалось, например, в инструкциях Карла IX посланным им вспомогательным войскам.3 Польские войска, приглашенные русскими боярами против 2-го Димитрия, действовали на тех же условиях.4 Страх перед «чернью» заставил
1 В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. 3, 1923 г., стр. 41.
2 К. Буссов упоминает о 300 ирландцах и 500 англичанах, переманенных Лисовским. Rerum Ross. Script. Ext., 1.1, S. 95. В отписке Андрея Одоевского упоминается о немцах, французах, шотландцах, англичанах. Акты Археограф. экспед., т. II, № 92, стр. 187. См. также Русск. истор. библиотека, т. I, столб. 448—449, 618. Русск. истор. библиотека, т. П, столб. 274.
3 Акты Археогр. экспед., т. II, № 96, стр. 193—194. Собр. гос. грам, и договоров, ч. П, № 168, стр. 347. Ср. Акты Археогр. экспед., т. П, № 108 и 109.
4 Новый летописец, Поли. собр. русск. летоп., т. XIV, 1-я пол., стр. 94. Летопись о многих мятежах, 2-е изд., стр. 171. Акты Зап. России, т. IV,
56
С. Н. БЫКОВСКИЙ
русских бояр просить Сигизмунда III отпустить па Московское царство Владислава. Патриарх Гермоген первоначально был против этого приглашения.1 Но когда он узнал, что при условии приглашепия Владислава Гонсевский немедленно лее выступит против мятежников, он дал свое сг>гласие.* 1 2 Бояре готовы были итти на большее. В конце 1610 г. они добровольно впустили в Москву польское войско.3 В переговорах с Сигизмундом бояре соглашались на допуск иностранцев-каголиков ко Двору, на постройку католических церквей по всей России;4 в то же время, настаивая на переходе Владислава в православие, русские бояре практически соглашались повременить с окончательным решением этого вопроса польским сеймом.5 Зги религиозные уступки русских бояр особенно характерны, поскольку им обычно была свойственна крайняя нетерпимость в вопросах веры и особенно — неприязнь к католицизму. За псе время крестьянской войны широко использовалась в интересах эксплоататорского класса церковь, которая вела непрерывную пропаганду против крестьянского движения. Зт°й пропагандой с самого начала руководил сам патриарх. Он рассылал циркулярные указания-инструкции митрополитам, последние инструктировали епископов и попов, которые на основании полученных ими инструкций выступали с проповедями в церквах. Памятниками этой агитационной кампании являются грамоты ростовского, ярославского и устюжского митрополита Филарета, цитирующего в своих окружных посланиях не дошедшие до нас в оригинале циркуляры Гермогена, равно одно уцелевшее послание самого Гермогена, выра-
№ 180. Сборы. Русск. историч. о-ва, т. 142, стр. 64. Собр. гос. грам, и договоров, ч. 2, № 200. Дневник С. Маскевича, в Сказ, современников о Димитрии Самозванце, ч. 2, стр. 44, 48. Сборы. Русск. историч. общ., т. 142, стр. 90, 99—100.
1 Новый летописец. Поли. собр. русск. лстоп., т. XIV, 1-я пол., стр. 101. Летопись о многих мятежах, 2-е изд., стр. 190. Собр. гос. грам, и договоров, ч. 2, № 224.
2 Русск. истор. библиотека, т. I, столб. 682.
3 Новый летописец, Поли. собр. русск. летоп., т. XIV, 1-я пол., стр. 102. Летопись о многих мятежах, 2-е изд., стр. 193. Русск. историч. библиотека, т. I, столб. 678. Сборн. Русск. историч. общества, т. 142, стр. 201. По сообщению С. Маскевича, некоторые бояре советовали полякам «сжечь Москву до основания, чтобы отнять у неприятеля все средства укрепиться». Сказ, соврем, о Димитрии Самозванце, ч. 2, стр. 65.
* П. Пирлинг. Димитрий Самозванец, М., 1912 г., стр. 200.
5 Собр. гос. грам, и договоров, ч. 2, стр. 456.
МНИМАЯ ((ИЗМЕНА)) БОЛОТНИКОВА
57
доющее благодарность митрополиту казанскому и свияжскому Ефрему за энергичные меры против повстанцев; сохранившаяся грамота Гермогена содержит конкретные указания, как инструктировать рядовое духовенство в борьбе с движением и как контролировать действия этого рядового духовенства. «Да смо- трил бы есп и над попы накрепко, чтобы в них воровства не было; а болыпи всих смотри над Софейским, да над Покровским, да над Ирининским: толке они не переменят своих обычаев, и им впопех не быти».1 Инструкцию о проповедях по церквам и о молебнах по случаю взятия Тулы рассылал непосредственно сам Шуйский.1 2 Деятельность церкви в указанном направлении не прекращалась в течение всего времени крестьянской войны начала XYII в.3
Среди различных мероприятий, которые осуществлялись эксплоагаторским классом в целях борьбы с крестьянской революцией, особое внимание обращает на себя рассылка грамот высшим духовенством и правительством по церквам. Содержание этих грамот показывает, что их составители преследовали задачу дезорганизации движения. Попытки этого рода шли в трех направлениях. Во-первых, тщательно подчеркивалось то обстоятельство, что мятежники действуют совместно с польскими и литовскими людьми, т. е. «еретиками», католиками, «врагами» православия. Подчеркивание этого обстоятельства было рассчитано на искусственное разжигание в массах националистических и религиозных настроений. Во-вторых, старательно перечислялись различные случаи насилий мятежников над церковью и «осквернений святынь»: «святые иконы обесчестиша, церкви святые конечно обругаша». Попутпо, разумеется, делалось напоминание об «аде», «грозящем» всем, кто «свернул с истинного и спасеного пути». В-третьих, наконец, особенно подробно сообщались все имевшие место случаи поражения восставших. Последнее было явно рассчитано на психическое воздействие на «колеблющихся» и готовых присоединиться к восстанию. Информация о поражениях восставших должна была деморализовать мятежные элементы, вызвать у них чувство недоверия к силе и прочности движения.
1 Акты Археограф, экснед., т. И, стр. 1*21—-129, 131)—135, 135—136, 138-139.
2 Ш ., стр. 173—175.
3 Например, Акты Археограф, экснед., т. II, стр. 1G4 —165,166—168,253. Собр. гос. грам, и договоров, ч. 2, № 275.
58
С. Н. БЫКОВСКИЙ
Именно на такой эффект были рассчитаны и упомянутые выше грамоты В. Шуйского, содержащие информацию о поражении мятежников. Не трудно понять, что известие об измене, о добровольной сдаче в плен главных руководителей движения должно было сыграть в деле дезорганизации и деморализации крестьянских масс, готовых примкнуть к движению, особенно значительную роль. Правительству В. Шуйского было выгодно возвещать официальную ложь, будто бы Болотников «вину свою узнал», «крест целовал», выдал «григорьевского человека Елагина Илейку, что назвался воровством Петрушкою». «Измена* виднейшего вождя движения сама по себе наносила тяжелый моральный удар всему движению. Известие, что Болотников, преданно служивший самозванному Димитрию, выдал яко бы другого «такого же» самозванца и тем самым засвидетельствовал, наконец, факт самозванства, должно было нанести движению другой такой же удар.
Широкая информация о добровольной сдаче в плен Болотникова и других вождей движения преследовала, однако, и другую цель. Соответствующий свет на это проливает замечание современника-иностранца Паэрле. Последний пишет: «приставы и стрельцы провели их (т. е. Болотникова, «Петра» и других вождей движения, захваченных в плен при\ взятии Тулы.—С. В1) в толпу народную посмотреть на изменников, только тайно, и по- видимому с великим опасением, а в самом деле водили их для того, чтобы они пересказали послам, как удачно идут дела великого князя... Бояре же радуются и торжествуют только для того, чтобы ослепить чернь и уверить послов в силе великого КНЯЗЯ, успевшего управиться с врагами и мятежниками.»1 Дело в том, что в то самое время, когда мятежная Тула доживала свои последние дни, в Москву приехали для переговоров польские послы.8 Правительство В. Шуйского, как правильно подметил это Паэрле, было заинтересовано в том, чтобы произвести на польских послов самое благоприятное впечатление в смысле своей прочности и успешной борьбы с революционным движением.
В силу сказанного официальная версия о добровольной сдаче в план Болотникова должна быть подвергнута сомнению. Она засвидетельствована официальными грамотами правительства 1 21 Сказания современников о Димитрии Самозванце, ч. I, стр. 221.
2 П. Пирлинг. Димитрии Самозванец, М., 1912 г., стр. 407—408.
МНИМАЯ ((ИЗМЕНА)) БОЛОТНИКОВА
59*
В. Шуйского и недостоверным известием К. Буссова. Будучи официальной, эта версия являлась вполне тенденциозной, рассчитанной на определенный, указанный выше политический эффект.
Более объективному, чем К. Буссов, другому современнику падения Тулы, Исааку Массе, который также не являлся непосредственным очевидцем ЭТОГО события, были известны две версии в рассказах о последних днях движения Болотникова. «Одни говорилп, что он сам себя выдал, другие, что его выдали изменники. Так погибли два предводителя восстания. Оба были замечательны и отличались храбростию», — передает он.1 Сам И. Масса более доверял второй версии: «в то время, когда (мятежники) совещались с поляками и казаками, (москвитяне) схватили Болотникова и умертвили его».1 2 В ряде исторических источников, относящихся к истории крестьянской войны начала XVII в., И. Масса занимает видное место.3 Он долгое время жил в России, в частности, с 1601 по 1609 г. почти без перерыва4 находился в Москве,5 понимал русскую речь,6 пользовался, с одной стороны, расположением дьяков и царедворцев,7 с другой,— имел широкое общение с низшими слоями московского общества, занимаясь торговыми делами. Все эти обстоятельства позволяют отнестись к известиям И. Массы с полным доверием.8
Другой современник событий, Паэрле, вовсе не знает версии о добровольной сдаче Болотникова, хотя, правда, его известия в данном случае не имеют решающего значения, так как^ он, не являясь непосредственным очевидцем события, ЛИШЬ ВСКОЛЬЗЬ упоминает: «в тот же день получено известие о покорении Тулы,
1 Сказания Массы и Геркмава о Смутном времени в России. Изд. Арх. ком., СПб, 1874 г., стр. 248—249.
2 Ibid., стр. 248.
3 Ibid., стр. I.
4 Ibid., стр. 155, И. Масса упоминает о пребывании по торговым делам в 1605 г. в Архангельске.
5 Ibid., стр. Ш, ср. стр. 72, 75, 78, 125, 185, 195, 250.
6 Ibid., стр. 188.
7 Ibid., стр. 5.
8 Более обстоятельные биографические сведения об. И. Массе — F. Ade- lung. Uebersicht der Reisenden in Russland, В. II, SS 217—221. Русск. пер ев. в Чтен. в Общ. Ист. и Древн., 1863—1864 гг. Histoire des guerres de la Moscovie (1601—1610) par Jsaak Massa de Haarlem, publie par M. Obolensky et van der Linde, Bruxelles, 1866.
60
С. Н. БЫКОВСКИЙ
принужденной к сдаче недостатком съестных припасов; простым ратникам великий князь даровал жизнь, а двух главных мятежников отправил в Москву пленниками. Их привезли торжественно 20 октября: главный назывался Федоровичем, потому что он выдавал себя за сына вел* кн. Федора Иоанновича, товарищ его и воевода был Болотников».1
Если придавать какое-либо значение этому известию, то во всяком случае оно может примыкать только ко второй версии, т. е. версии о насильственном захвате Болотникова в плен.
Чрезвычайно близкое к движению лицо, Марина Мнишек, точнее говоря, находившийся при ней польский посол Олесниц- кий, подобно Паэрле, знает только вторую версию: «13 октября во всех церквах был колокольный звон. Одни говорили, что Шуйский, взяв в плен Болотникова и Петрушку, возвратился в Москву: в самом деле такого содержания читали грамоты всему народу, согнанному в крепость. Другие, напротив того, утверждали, что Шуйский в очевидной опасности и просит народ молиться богу о спасении своей державы. Мы не верили ни тому, ни другому... 14 числа пронесся слух, что царь одних воров перебил, а других взял живьем... 2 ноября Болотников и Петрушка действительно были в Москве. Болотников, сказывают, хотел поймать Шуйского в сети, но не успел, и сам остался в тенетах, а войско его, заключив с царем договор, вышло из Тулы».1 2 Марина Мнишек и послы, при ней состоявшие, Олес- ницкий и Гонсевскнй, находились в это время в ссылке в Ярославле. Совершенно естественно, «дневник Марины» передает о Болотникове только «слухи», долетавшие в Ярославль. Поэтому и «дневник Марины» не может служить надежной точкой опоры в решении вопроса, какая из двух версий соответствовала действительным фактам. Тем не менее достойно внимания, что и этот источник знает только вторую версию, ничего не упоминая о первой. «Дневник Марины» в то же время подтверждает факт Энергичных действий по распространению официального сообщения о взятии Тулы со стороны правительства Шуйского: в Москве на чтение грамот Шуйского народ «гоняли» в крепость.
Известия И. Массы, Паэрле и Олесницкого позволяют установить факт существования другой, отличной от первой версии
1 Сказания современников о Димитрии самозванце, ч. 3, стр. 221.
2 Ibid., ч. 2, стр. 196—197.
МНИМАЯ ((ИЗМЕНА» БОЛОТНИКОВА
61
о взятии Болотникова войсками Шуйского в плен насильственным: путем. Вместе с тем становится очевидным, что эта вторая версия имела не менее широкое распространение среди современников.
Это направляет нас в сторону сохранившихся известий и повестей русских современников крестьянской войны начала XVII в. Упомянутые известия и повести доставляют нам основной материал для решенпя вопроса, какая из двух версий о Болотникове соответствует действительным историческим фактам. По характеру сообщений о последних днях осажденной войсками Шуйского Тулы и о Болотникове — все они могут быть разбиты на 5 групп. Каждая группа известий имеет в своем основании особый, самостоятельный источник. Ни одна пара этих источников, лежащих.в основании каждой из 5 групп известий, между собою не связана. Располагая группы известий в порядке исторической значимости каждой из них, будем иметь:
1- я группа. Столяров хронограф.1 Известие основано на записях очевидца событий.
2- я группа. 1) Новый летописец и 2) совпадающая с ним Летопись о многих мятежах.1 2 Известие основано на записях другого очевидца событий.
3- я группа. 1) Хронограф Сергея Кубасова, 2) так наз. Повесть кн. Ив. Мих. Катырева-Ростовского 1-й и 2-й редакций, 3) так наз. рукопись Филарета.3 Все три названных произведения в части известия об осаде и падении Тулы имеют один и тот же общий источник. Первые два произведения в этом известии совпадают почти дословно, представляя разные списки одного и того же произведения. В сравнении с утраченным источником в них имеется одинаковый пропуск. Рукопись Филарета в первоначальном тексте того же известия всего дальше от утраченного первоисточника. При окончательном редактировании в нее сделаны вставки. Источник, лежащий в основании
1 А. Попов. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции, М., 1869 г., стр. 338.
2 Поли. собр. русск. летоп., т. XIV, 1-я пол., стр. 77. Летопись о многих мятежах, 2-е изд., М., 1788 г., стр. 122—123.
3 Хронограф С. Кубасова — у А. Попова, указ, сборник, стр. 297; повесть Катырева — Русская Истории, библиотека, т. ХШ, изд. 2 и 3, столб. 687 и 666; Рукопись Филарета — сборник П. Муханова, 2-е изд., СПб., 1866 г., стр. 276 — 276.
62
С. Н. БЫКОВСКИЙ
•всех трех произведений, представляет записи современника, но не очевидца.
4- я группа. Сказание Авраамия Палпцына в 1-й и окончательной редакциях.1 В основании лежат записи современника, но не очевидца.
5- я группа. 1) Так наз. Иное сказание, 2) 2-я редакция хронографа.1 2 Имеют общий источник. Дословно совпадают в части интересующего нас рассказа. Автор источника — современник, но не очевидец.
При анализе Столярова хронографа А. Н. Попов подметил его пестрый состав. Дальнейшее изучение привело исследователя к заключению, что хронограф представляет компиляцию ,различных повестей, составленных в разное время.3 А. И. Маркевич, исследуя различные случаи местничества, со своей стороны, сделал наблюдение, что Столяров хронограф близко напоминает частные разряды или частные разрядные записи.4 Таковые существовали в XVI и XVII вв.5 6 Действительно, в интересующем нас месте названный хронограф представляет бесспорно разрядную запись. Рассказывая об осаде Тулы, автор интересующих нас записей отмечает: «а розряд был весь с царем Васильем».0 Ниже, сообщая о затоплении по приказу Шуйского Тулы, тот же автор продолжает: «и в государево розряде дьяком подал челобитную муромец сын боярской Иван С|умин сын Кровков, что он Тулу потопил водою реку Упу запрудил и вода-де будет JB остроге и в городе и дворы потопит и людем будет нужа ве-
1 Русск. История, библиотека, т. ХШ, 2-е и 3-є изд., столб. 501, ■ 2-е изд., столб. 1000—1001.
2 Ibid. т. ХШ, 2-е и 3-є изд., столб. 115. А. Попов, указ, сборн., стр. 196.
3 А. Н. Попов. Обзор хронографов русской редакции, я. 2, М., 1869 г. стр, 225—256.
4 А. И. Маркевич. История местнинества в Моек, государстве в XV— XVII в. Одесса, 1888 г., стр. 316, примея. 3 и стр. XLVII прплож. Соответствующее мнение было принято С. Ф. Платоновым. См. его Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в., изд. 2., 1913 г., стр. 340— 344. Позднее С. Ф. Платонов несколько изменил свою тояку зрения. См. его Столяров хронограф и его автор. Сборн. статей, поев. В. О. Ключевскому, М., 1909 г., стр. 18—28; то же — Статьи по русской истории, изд. 2, СПб., 1912 г., стр. 420—434.
5 А. И. Маркевич, указ, соя., стр. 447 и примея. 3. П. Н. Милюков, Официальная и частные редакции древнейшей разрядной книги, М. 1887 г., стр. 6—7, 15—18.
6 А. Попов, указ, сборник, стр. 335..
МНИМАЯ ((ИЗМЕНА» БОЛОТНИКОВА
63
ликая и сидети им во осаде не уметь. И царь Василей Иванович велел ему Тулу потопить»...1 Далее следуют подробности осуществления проекта Кровкова, выдающие очевидца события. Предшествующие записи, тесно связанные с данными, также свидетельствуют с полной очевидностью, что писал очевидец. Так, он точно указывает местные названия дорог и других географических пунктов, где стояли под Тулой различные отряды войска Шуйского.1 2 И вот этот очевидец, составлявший совершенно частные записи, не преследовавший при этом никаких политических целей, уверенно пишет: «и во 116 году перед покровом святые богородицы дни за три и за два учали к царю Ва- силыо Ивановичи) всеа Русин тулские осадные люди присылать бити челом и вину свою'приносить чтоб их пожаловал и вину им отдал и они вора Петрушку Ивашка Болотникова и их воров и изменников отдадут и в город Тулу прислал своих государевых воевод и ратных людей, и на самый празник покров пречистые тулские сиделцы царю Василию Ивановичю всеа Русии добили челом и в город государевых ратных людей пустили, а в Тулу послан от царя Василия боярин Иван Федорович Крюк Колычев и с Тулы в полки прислали к царю Василию вора Петрушку, что назывался царевичем, да князя Ондрея Васильевича Телятев- скова да вора Ивашка Болотникова, а тулских сиделцов привели ко крестному целованию за царя Василья».3
Уже одно это известие очевидца, сопоставленное с сообщениями К. Буссова, писавшего по наслышке, и грамотами В. Шуйского, преследовавшего социальные политические цели, заставляет предпочесть версию о насильственном захрате Болотникова Шуйским — версии о «добровольной сдаче» Болотникова. Но оно, как отмечено уже выше, находит себе, кроме того, полное подтверждение в другом источнике, автором которого был другой очевидец события. Запись этого второго очевидца вошла в состав Нового летописца и Летописи о многих мятежах.
Новый летописец передает известие о взятии Тулы сходно с рассказом Столярова хронографа, но безусловно отличается от него, с одной стороны, пропуском ряда подробностей, отмеченных в Столяровой хронографе, с другой стороны — наличием некоторых новых деталей, не известных из хронографа. Так,
1 А. Попов, указ, сборник, стр. 3157.
2 Ibid., стр. 336.
3 Ibid., стр. 338.
64
С. Н. БЫКОВСКИЙ
Новый летописец не упоминает, что свою челобитную Кровков подавал в разряд, откуда его направили к Шуйскому, не сообщает, что запруду на Уне делали из земли и соломы (пишет только о земле), «в мешках рогозинных)) (т. е. из рогожи), что «хлеб и соль у них в осаде был дорог», что из Тулы в лагерь Шуйского ежедневно являлись по 100, 200 и 300 перебежчиков, не сообщает даты падения Тулы и т. д. Напротив, в Новом летописце находим подробности, отсутствующие в Столяровой хронографе, о том, что Шуйский первоначально посмеялся над предложением Кровкова затопить Тулу, что в дальнейшем Кров- кову дали в помощь для сооружения плотины мельников, что вместе с «Петрушкой» и Болотниковым был выдан также Григорий Шаховской, вместе с Болотниковым в «поморские городы» был сослан «Федька Нагиба», а также «иные говарыщи»; всех этих деталей в Столяровой хронографе не имеется.
Рассмотрение известия Нового летописца (и Летописи о мно** гих мятежах) приводит к заключению, что в основании его лежало достоверное сообщение очевидца, который знал о насильственном захвате Болотникова в плен н ничего не слышал ни о какой «измене» Болотникова. Стоит напомнить, что, согласно исследованию С. Ф. Платонова, Новый летописец был составлен около 1630 г., т. е. много времени! спустя после окончания крестьянской войны;1 автор, как правило, более или менее беспристрастно излагал события, не обнаруживая никакой страстности в описании фактов времени крестьянской войны;1 2 автор отдельных известий и составитель Нового летописца — не одно и то лее лицо;3 составитель Нового летописца располагал разнообразными и хорошими источниками.4 С. Ф. Платонов отказался от определения исторической значимости и степени достоверности каждой из составных частей Нового летописца. Разбор известия о Болотникове свидетельствует о том, что в данном случае составитель Нового летописца располагал полноценным источником, заслуживающим полного доверия.
Сказанное о двух первых группах известий, собственно, уже решает поставленный выше вопрос, какая версия соответствует
1 С. Ф. Платонов. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVU в. как история, источи., 2-е изд., М., 1913 г., стр. 316—318.
2 Ibid., стр. 321—324.
3 Ibid., стр. 327—328, 330, 332—334.
•Ibid., стр. 327, 334.
МНИМАЯ (С ИЗМЕН А)) БОЛОТНИКОВА
65
действительным фактам. Остальные три группы известий лишь подтверждают делаемый вывод.
Третью группу известий составляют хронограф Сергея Кубасова, повесть кн. Катырева-Ростовского и рукопись Филарета. В основании всех трех произведений лежит один и тот же общий источник. Окончательная редакционная обработка всех трех названных произведений принадлежит не современнику крестьянской войны начала ХУІІ в. По мнению С. Ф. Платонова, второе из упомянутых произведений принадлежит князю Катыреву.1 Что же касается рукописи Филарета, то С. Ф. Платонов разделял мнение А. А. Кондратьева,1 2 будто бы повесть Катырева явилась прототипом рукописи Филарета.3 Позднее А. М. Ставрович, оспаривая выводы С.Ф. Платонова, все три упомянутых произведения приписала авторству Сергея Кубасова,4 который, по ее заключению, бесспорно пользовался хорошими источниками.5 Указанные выводы С. Ф. Платонова, в свете исследования А. М. Ставрович, необходимо отвергнуть вовсе, соглашаясь с нею, что составителем ((повести» был не Катырев,а Кубасов. Что касается рукописи Филарета, то, как увидим ниже, она не может быть приписана Кубасову ни в ее первоначальном виде, ни в позднейшей переделке.
Первоисточник, лежавший в основании названных трех произведений, лучше всего отразился в ((повести» и в хронографе Кубасова. Достаточно внимательно прочитать текст всех трех произведений, чтобы в этом не сомневаться. В рукописи Филарета читаем:6 «повеле ж (Шуйский. — С. Б.) хитра делателя изы-
1 С. Ф. Платонов. Древнерусские сказания и повести, стр. 261. Его жег Старые сомнения. Сборн. статей в честь М. К. Любавского, Пгр., 1917 г., стр. 172—180.
2 А. А. Кондратьев. О так наз. рукописи Филарета. Журн. Мин. нар. проев. 1878 г., сент. кн., стр. 30—37.
8 С. Ф. Платонов. Древнерусские сказания и повести, стр. 283,284 и след.
4 А. М. Ставрович. Сергей Кубасов и Строгановская летопись. Сборн. стат., поев. С. Ф. Платонову, Пгр., 1922 г., стр. 285—293.
5 Ibid., стр. 292. О Катыреве-Ростовском см. также П. Пирлинг, Димитрий Самозванец, М., 1912 г., стр. 488 —489. П. Васенко, О редакциях Повести кн. Ив. Мих. Катырева-Ростовского. Зап. Русск. Археол. общ.,, т. XI, вып. 1—2, СПб., 1899 г., стр. 378—384. А. С. Орлов, Повесть кн. Катырева-Ростовского и Троянская история Гвидо де-Колумна. Сборн. статей в честь М. К. Любавского. Пгр., 1917 г., стр. 73—98.
6 В неоговоренные нами круглые скобки заключены пропуски, сделанные редактором при окончательной обработке рукописи; в квадратные — вставки, сделанные им же.
Проблемы источниковедения, П
5
66
С. Н. БЫКОВСКИЙ
скати, дабы хто могл граду сему пагубу учинити. По повелению ж цареву обретеся такий хитродетелец [воин града Мурома, зово- мый Мешок Кровков], и даст обещание царю да потопит град той водою тоя реки Уны, на ней же град той создан бяше. Царь же повеле ему обещание сотворити. Сий же хитроделец сотвори на реке заплоту древяну и землею засыпа, яко есть достойно утверждение воде, тако и устрой, и помалу накопися вода, и возвра- тися вспять, и обыдоша весь град, яж ниоткуду ему бысть путь сух и яже во граде их бысть пища, все потопи и размы; а людие ж града того ужасни быша о сем и помалу оскудеша брашны и бысть на них глад велик зело, даж и до того дойде якоже (уж) £и] всяко скверно и нечисто (вкуша) [ядя] ху: кошки и мыши и иная подобная сим. (Лету ж 116 наставшу октября в 10 день)ту- ляне и сущ(им)[ии] во граде, не стерпеша толикова глада и потопления, приидоша к царю Василию и биша челом о своих винах царю Василию; и оного лживого царевича [Петрушку] и Ивашка Болотникова даша в руце его [лета 7116 году октября в 18 день]. Царь же Василей врагов своих одоле и победную песнь богу воспев, возвратися во царствующий град с радостию великою зело; а сего ж лживого царевича с собою приведе и по его достоинству повеле [злой] смерти предать: пред народом [обе- сити]».1 Хронограф Сергея Кубасову и повесть Каты рева воспроизводят тот же текст с некоторыми изменениями, а именно, придают всему тексту более литературную, точнее говоря, ^витиеватую форму, в них отсутствует дата «лету ж 116 наставшу октября в 10 день»; опущено имя Болотникова. В первоначальный текст рукописи Филарета рука позднейшего редактора внесла также ряд изменений, сохраняя стиль, вполне отличный от стиля повести Катырева и хронографа Кубасова. Более существенные из изменений следующие: 1) вычеркнута упомянутая выше дата, 2) вставлено имя «хитродельца» — «воин града Мурома, зовомый Мешок Кровков», 3) вставлено имя «царевича» — «Петрушка», 4) вставлена дата «лета 7116 году октября в 18 день», 5) вставлено слово «обесити». Совершенно очевидно, что в рукописи Филарета имя Болотникова вставлено напрасно, так как конец всего рассказа не согласуется с этим упоминанием о Болотникове. В конце речь идет о казни одного «Петрушки»; о Болотникове нет ни слова. Эта деталь подсказывает,
1 Сборник П. Муханова, 2-е пзд., стр. 275—276.
МНИМАЯ «ИЗМЕНА» БОЛОТНИКОВА
67
что составитель первоначальной редакции рукописи Филарета или вставил имя Болотникова по своей собственной инициативе, или же он пользовался какой-то другой редакцией источника, нежели составитель хронографа Кубасова и повести Катырева. Оба возможных решения вопроса исключают во всяком случае участие в составлении рукописи Филарета—с одной стороны, двух других произведений—с другой, одногоитого же лица, т. е. Сергея Кубасова. Последний отношения к рукописи Филарета не имел. Вместе с тем совершенно очевидно, что имя Болотникова по существу дела, а не с точки зрения литературной формы произведения, было включено в рукопись Филарета» (или в ее источник) с полным пониманием исторической обстановки. Составитель рукописи Филарета (или ее источника) знал эту обстановку, правда, не как очевидец событий, а по рассказам, устным или письменным, сведущих людей. На это указывает достаточно правильное описание второстепенных обстоятельств, знание собственных имен и т. д. Что писал все же не очевидец, ясно видно из наличия в его известии погрешностей, «общих» мест, неточ-. ностей. Перепутаны, например, даты взятия Тулы войсками Шуйского. Забыты Шаховской и Телятевский. Нет подробностей, как сооружалась плотина на река Упе. Таким образом, источник, лежащий в основании известий 3-й группы, представляет в сравнении с известиями 1-й и 2-й групп относительно меньшую ценность, хотя все же служит для подтверждения ЭТИХ известий.
Остается кратко упомянуть о 4-й и 5-й группах.
Сказание Палицына имеет в своем основании самостоятельный источник. Само сказание, по определению П. Васенко, в первой редакции было составлено в конце 1612 г.1 Эта дата, разумеется, не определяет времени составления источника, откуда составитель Сказания почерпнул свои сведения о Болотникове. Источник интересующего нас известия восходит к гораздо более раннему времени. Но он не обнаруживает следов очевидца
1 П. Васенко. Две редакции первых шести глав Сказания Авраамия Палицына. Летопись занятий Археография, ком., вып. 32, Пгр., 1923 г., стр. 35. См. также П. Васенко, Забелинская редакция первых шести глав истории Палицына. Сборн. статей в честь А. И. Соболевского, 1927 г. П. Г. Любомиров, Новая редакция Сказания Авраамия Палицына, Сборн. статей, поев. С. Ф. Платонову, Пгр., 1922 г. И. Забелин. Минин и Пожарский, прямые и кривые в смутное время. Изд. 4., М., 1901 г., стр. 204 и след*
5*
68
С. Н. БЫКОВСКИЙ
события и лишь подтверждает широкое распространение в массах населения версии о насильственном захвате Болотникова Шуйским.
Общий источник «Иного сказания)) и хронографа 2-й редакции в интересующей нас части, согласно исследованию С. Ф. Платонова восходит ко времени Василия Шуйского.1 Как и предшествующий, он не обнаруживает следов очевидца события и может служить лишь для подтверждения сделанного уже вывода*
Остается, следовательно, вне сомнения, что русские современники и очевидцы падения Тулы, ни в какой степени не заинтересованные в тенденциозном освещении событий, твердо знали о насильственном захвате Болотникова в плен войсками Шуйского. Болотников был схвачен во время осады Тулы, когда положение города стало безнадежным, и выдан Шуйскому. Грамоты Шуйского о добровольной сдаче Болотникова «на царскую милость» возвещали официальную ложь. К. Буссов, Геркман и другие авторы-иностранцы, приукрасившие подобное же известие различными вымышленными «деталями)), по существу следовали официальной ложной версии и сами очевидцами события не были. Болотников не изменял крестьянскому движению, которому оставался верен до конца.
Этот вывод, полученный путем ^анализа источников, вполне подтверждается сопоставлением фактов, относящихся ко времени крестьянской войны начала XVII в.
Выше было отмечено, что характер движения Болотникова находится в непримиримом противоречии с его «мнимой изменой)) движению. Беспощадный Болотников, расправлявшийся с боярами, дворянами, гостями, купцами, воеводами, не мог развивать свою революционную деятельность во имя мнимого сына Ивана ІУ только потому, что искренне верил, будто бы Названный
Димитрий ПОДЛИННЫЙ ПОТОМОК «Рюриковичей)). Он не мог столь
легко, как это описывает К. Буссов, перейти на сторону Шуйского. Он, крестьянский сын, бывший холоп князя Телятевского, не мог, подобно какому-то феодальному рыцарю средневековья, преподносить Шуйскому свою шпагу.
Как известно, после захвата в плен Болотникова Шуйский приказал сослать крестьянского вождя в Каргополь, выколоть іі С. Ф. Платонов. Древнерусские сказания и повести, стр. 69. См. также Б. Н. Кушева, Из истории публицистики Смутного времени, Саратов, 1926 г.
МНИМАЯ «ИЗМЕНА» БОЛОТНИКОВ А
69
ему глаза и утопить. Приказ Шуйского был выполнен. Жестокая казнь постигла и самозванного царевича Петра. Последний был повешен в Москве. Даже князей Шаховского и Телятевского, несмотря на их титулы, постигла кара, хотя и менее жестокая я тяжелая. Напротив, действительно имевший место в истории крестьянской войны начала XVII в. случай доподлинной измены движению имел совершенно иные последствия. Имею в виду Прокопия Ляпунова. Последний, являясь совершенно случайным для крестьянского движения человеком, действительно перешел я разгар борьбы восставших с правительственными войсками на сторону правительства. Прокопий Ляпунов не только не понес никакого наказания за свои прежние «многие вины» и «воровство», но ему был пожалован чин думного дворянина, какового он ранее не имел.
Исторические факты резко расходятся отданными об «измене» Болотникова. Со своей стороны, они заставляют признать, что Болотников был выдан Шуйскому насильственно. Он был взят в плен в тот момент, когда положение Тулы, осажденной Шуйским, стало в смысле дальнейшего сопротивления безнадежным.
13 апреля 1935 г.
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ КНИГ XVII в.
(ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ КРИТИКИ ИСТОЧНИКА)
I
Настоящий очерк имеет своей задачей рассмотреть проблему внутренней критики приходных таможенных книг XVIIвыявляющихся ценным источником по разнообразным вопросам экономической истории Московского государства.1 Огромный фактический материал, содержащийся в этих книгах, требует предварительного анализа в отношении полноты и точности сообщаемых данных.
Характер сведений, заносившихся в таможенные книги, и степень подробности и точности самих записей должны были удовлетворять требованиям действовавшей системы пошлин, падавших на торговую деятельность населения. Эта система в том виде, в каком она сложилась к началу XVII в., представляла механический’ конгломерат долголетних исторических напластований. Ее древнейшая основа, уходившая корнями в XIII—XIV вв., постепенно обрастала множеством мелких сборов, с трудом поддающихся систематизации. Можно отметить лишь несколько основных линий, по которым направлялось развитие таможенного обложения. Большинство пошлин, появившихся в XV—XVII вв., может быть генетически отнесено или к тамге, объектом которой первоначально являлась совершенная сделка купли-продажи, или к мыту—пошлине, падавшей на передвижение товаров и людей с торговой целью. В договорной грамоте вел. кн. Василия Дмитриевича с тверским князем Михаилом Александровичем (около 1398 г.)
1 Характеристике содержания таможенных книг посвящена наша работа «Таможенные книги как источник экономической истории России» («Проблемы источниковедения», сборник первый).
72
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
был установлен следующий порядок взимания тамги и мыта: «а тамги и осминичего от рубля алтын, а тамга и осминичее взять: а оже иметь торговати, а поедет мимо, знает мыт да коски, а более того пошлин нег».1 Впоследствии мыт дал начало большому числу проезжих пошлин (подужное, полозовое, посаженное, носовое, шестовое, побережное), причем основным объектом обложения являлись не сами товары, а средства передвижения (возы, сани, речные суда). В XVII в. мыт утрачивает первоначальное назначение и исчезает как самостоятельная пошлина, отчасти раздробившись на мелкие проезжие сборы, отчасти сохранившись в виде «замытной» в составе рублевой или проезжей пошлины.
Эволюция тамги и родственных ей пошлин (осминичная, десятая, кунная, порядная, весчая, номерная), облагавших деньги на покупку товаров или стоимость товаров, вывезенных на продажу, происходила в сторону объединения этих пошлин и образования единой рублевой пошлины, название которой появляется не раньше второй половины XVI в. В начале XVII в. тамга и мыт (замыт) упоминаются как составные части рублевой пошлины. Например, в таможенной грамоте Гороховца 141г. (1632—1633 гг.) указывалось: ссимать... со всякого товара рублевая пошлина, тамги по полуторе денги, да замытного по денге с рубля».1 2 В ряде случаев тамга и рублевая пошлина заменяют друг друга как синонимы. Наконец, название тамги как отдельной пошлины окончательно исчезает подобно мыту: уставная грамота 1653 г., как и Новоторговый устав 1667 г., знают только рублевую пошлину.
Самую многочисленную и очень разнообразную группу составляли пошлины, объектами обложения которых были различного рода услуги и действия, связанные со сбором пошлин в таможенной избе и с производством торговли. К ним относятся: гостиная, амбарная, поворотная, отворотная, контарная, свальная, подъемная, рукознобная, взбойная, врезная, подзамочная, писчая, узелки и др.
Для техники сборов и формы таможенных записей большое значение имела система исчисления пошлин. Все пошлины могут быть подразделены на две категории: на пошлины, взимавшиеся сцены товара—«ad valorem», и пошлины, в основу которых клались различные натуральные показатели.
1 Акты археографической экспедиции (в дальнейшем ААЭ), т. I, № 14.
2 ААЭ» т. III, № 241.
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
73
Первоначально с цены товара брались только тамга и осми- ничная половина, но в течение ХУІ и первой половины XVII в. яа стоимость товара был переведен и ряд других пошлин. Так, соединение с тамгой мыта привело к тому, что и мыт, потеряв свое прежнее значение проезжей пошлины с возов и судов, также стал взиматься с цены товара. В том же направлении шла эволюция проезжей пошлины. По таможенной книге гостя Романова 157 г. (1648—1649 гг.) проезжая пошлина состояла из двух частей: «дужной» пошлины, бравшейся в размере 3l/s денег с воза, и «замыта», взимавшегося со стоимости провозимого товара в размере одной деньги с рубля.1 На стоимость товара были полностью или частично переведены: перекупная, отвоз и привоз? весчая, поворотная, порядная. В Сибири, где таможенная система сложилась в конце XVI в., помимо десятой пошлины по стоимости товара исчислялись: отъезжая (например, в Верхотурье и в Тобольске), проезжая (на Обдорской заставе, с тех товаров, которыми торговые люди не торговали), померная с хлеба, печатная, записная, перекупная. Система обложения по цене товара требовала точного установления как количества товара, т. е. его веса, объема или числа единиц, так и стоимости единицы измерения. В некоторых случаях устанавливалась дифференциация обложения по роду товара (мед, воск, соль).
Многочисленные пошлины второй категории не требовали оценки товара, но зато устанавливали ряд других интересных для нас показателей — число торговых людей, их приказчиков, ярыжных и прочих людей, сопровождавших транспорты с товаром или лично приезжавших с торговой и промышленной целью, хотя бы и без товара, средство передвижения (число, тип и размер речных судов, число возов, саней, лошадей), время занятия амбара на гостином дворе.
Таким образом, система пошлин вызывала необходимость ведения подробных записей. Разнообразию и множеству мелких сборов мы обязаны тем, что таможенные книги сохранили большое число различных сведений, очень ценных для истории московской торговли и промышленности. Однако, степень подробности этих записей в различных городах была не одинакова, как и не одинакова была система пошлин. Последняя до 1653 г. уста¬
1 Государственный архив феодально-крепостной эпохи (в дальнейшем ГАФКЭ). Книга гостя Романова, № 2.
74
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
навливалась отдельно ддя каждого города таможенными грамотами и наказами таможенным головам, производившим сбор пошлин.
В тех случаях, когда не было таможенной грамоты, голова руководствовался книгами сборов за прошлые годы и обычаями, стремясь собирать так, как было «исстари». Заинтересованный в величине сбора, он мог допускать очень вольное толкование старой традиции, тем более, что само правительство поощряло его в действиях, которые вели к увеличению таможенного дохода. За сбор «с прибылью против прошлых лет» таможенный голова получал ценные подарки в виде шелковых тканей, серебряных сосудов и соболей, а иногда допускался к «государевой руке». Следующие примеры показывают, насколько разнообразна и неопределенна была система таможенных пошлин в отдельных городах. Когда в Гороховце старый таможенный голова, отбыв свой срок, увез с собою таможенную грамоту, новый голова собирал пошлину «примериваясь к прежним сборным книгам». Посылая ему новую таможенную грамоту, из Москвы писали: «а которая будет таможенная пошлина в сей уставной грамоте не написана, а в Гороховце изстари та пошлина сбирается, и та пошлина сбирати по прежнему, как имано изстари, и как во всем государстве казне прибыльнее».1 В Вятке в 1623 г., где'|ТОже не было таможенной грамоты, голова сам назначил таможенные ставки, руководясь обычаем и примером. В некоторых случаях было, наоборот, по несколько таможенных грамот, противоречивших друг другу. На Выми, например, было три таможенных грамоты: «первая Ростригина, а другая от бояр, а третья царя Василья,— а все те три грамоты указом не сойдутца».1 2 3 В 1653 г. торговые люди жаловались, что таможенные головы и целовальники «год от году безпрестани затевают новосчиеныя всякия лишныя напрасныя пошлины».8
Собранные в течение года пошлины записывались в таможенные приходные книги, которые являлись годовым отчетом таможенной избы. Записи должны были систематизироваться по роду пошлин. Еще во второй половине XVI в. указывалось писать
1 ААЭ, т. III, № 241.
2 П. Смирнов. «Экономическая политика Московского государства в XVII в.» (Русская история в очерках и статьях, под ред. М. В. Довнар- Запольского, т. III, Киев, 1912;.
3 ААЭ, т. IV, № 64.
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
75>
((большая тамга опроче, свальная и за мытная опроче».1 В XVII в. пошлины предписывалось записывать ((подлинно, порозну, по статьям, чтобы всякая статья отписывана была именно».1 2
В действительности, таможенные книги и по содержанию, и по форме были очень разнообразны. В ведении черновых записей и при составлении беловых книг, головы и нодъячие руководствовались книгами за прежние годы, ((примериваясь» к выработавшейся практике и к сложившимся обычаям таможенной избы. Поэтому самыми подробными и полными были книги старых торговых городов, сохранивших до половины XVII в. сложную систему многочисленных пошлин. К ним относятся сохранившиеся книги северных городов — Устюга В., Соли Вычегод- ска, Тотьмы, Тихвина. К ним по подробности записей приближаются книги Смоленска, Вязьмы, Торопца, Великих Лук, Твери,. Касимова, Устюжны Железопольской, Романова и некоторых южных городов, как, например, Тамбова,Яблонова,отчасти Курска. Очень подробными и полными были несохранившиеся таможенные книги приволжских городов, как ЭТО можно судить по выписям из них: Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Астрахани и др.
Можно отметить несколько градаций в переходе от подробных к самым кратким записям. Так, например, точная количественная регистрация товаров по каждому виду в некоторых случаях заменялась названием рода товара и указанием его общей цены. Иногда название товара давалось в самой общей форме — «моско- тильная продажа», «рыбная продажа» «соляная продажа» или даже «товарная продажа». К такому типу принадлежат таможен, ные книги многих южных городов: Севска, Оскола, Путивля, Белгорода, Усмани, Валуек, Коротяка и др. В большинстве случаев эти книги еще дают возможность установить состав торговых людей (социальный и по месту записи в тягло), состав товаров, обращавшихся на рынке, и оценочную стоимость продававшихся и покупавшихся товаров каждого рода.
Наконец, в тех пунктах, где производилась исключительно мелкая торговля с рук и возов, пошлинные деньги собирались «в ящик», и в таможенных книгах записывалась лишь общая сумма сбора по каждому месяцу. Такими являются книги Можай¬
1 Грамота 1588 г. Двинским таможенным целовальником (ААЭ, т. I, № 338).
2 ААЭ, т. Ill, № 24L
76
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
ска, Лихвина, Кром, Мосальска, Серпейска, Острогожска, Оль- шанска, Чугуєва и большого числа других незначительных городов.
Более однородными являются таможенные книги сибирских городов. В основе сибирской таможенной системы, сложившейся в конце XVI в., лежала десятинная пошлина, собиравшаяся в размере 10% с явленного товара деньгами (с общей суммы стоимости товара), или натурой (с количества товара). Торговые люди, приезжавшие с товаром «с Руси», обычно полностью уплачивали десятинную пошлину в одном из ближайших сибирских городов, чаще всего в Верхотурье или в Тобольске. Продвигаясь дальше на восток, они при продаже своих товаров платили лишь разницу между той оценкой товара, с которой была уплачена пошлина, и таможенной оценкой данного пункта. Такой же десятинной пошлиной облагался вывоз мягкой рухляди, причем очень часто пошлина взималась натурой.
В 1653 г. большинство мелких пошлин было уничтожено. В 1667 г. Новоторговый устав заменил остававшиеся мелкие пошлины одной рублевой пошлиной. Только в Сибири система таможенных пошлин сохранилась почти без изменений до конца столетия. Однако, эти реформы, поскольку можно судить по таможенным книгам тех городов, по которым они сохранились за периоды времени до и после таможенной реформы, не внесли существенных изменений в выработавшуюся местную практику ведения таможенных записей и составления таможенных книг.
II
Обширный статистический материал, заключенный в таможенных книгах, требует предварительной критической проверки, которая должна установить степень его полноты, точности и соответствия фактическим данным. Необходимо прежде всего выяснить, в какой мере регистрация торговых сделок охватывала всю торговлю, производившуюся в данном пункте. Не менее существенными являются вопросы о степени точности данных, касавшихся количественного определения продаваемых и покупаемых товаров, а также о степени соответствия таможенных оценок и зарегистрированных цен реальным рыночным ценам, существовавшим в данный момент времени.
Тайная торговля, с которой московское правительство боролось различными мерами, штрафами (протаможье) и полной или
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
77
частичной конфискацией товара, производилась во многих пунктах* Значительная контрабандная торговля развивалась вдоль сухопутной границы с Польшей и Литвой. Большой соблазн для торговых людей представлял беспошлинный вывоз мягкой рухляди из Сибири с целью избежать тяжелого десятинного сбора. В той или иной степени утайка части или даже всего товара могла происходить во всех местах торговли. Однако, если исключить отдельные случаи, то на городских рынках тайная торговля была сильно затруднена и сопряжена со значительным риском. С целью затруднить беспошлинную торговлю и тайный провоз товаров торговым людям указывалось следовать только по установленным дорогам, являть таможенным агентам товар, не складывая его с возов или с судов, и торговать в отведенных местах и на Гостином дворе,, в непосредственной близости от которого располагалась таможенная изба.
Существовали более тонкие приемы для избежания или уменьшения пошлин, как, например, продажа скупленного товара под видом продуктов ((своего промысла», или торговля иногородних купцов от имени подставных лиц, принадлежавших к местному посаду и подлежавших льготному обложению. Однако, контроль над регистрацией товаров в таможенной избе, который осуществляли голова с целовальниками, принадлежавшие или к составу местного населения, или лично торговавшие в данном пункте и во всяком случае хорошо знавшие торговых людей и отношения, существовавшие между ними, очень затруднял эти приемы уменьшения размеров торговли. При Этих условиях обороты городской торговли, ускользавшие от внимания таможенных агентов и от регистрации в таможенной избе, не могли быть столь значительными, чтобы существенно повлиять на статистические данные таможенных книг.
Труднее было установить контроль за торговлей в сельской местности. Хотя таможенные головы посылали на торжки и ярмарки своих агентов, собиравших деньги с крестьян (св ящик» (без записи), а при более крупных сделках заносивших их в таможенные книги, однако часть торговых операций несомненно ускользала от регистрации. Особенно трудно было уследить за скупкой крестьянского товара по деревням. Поэтому данные таможенных книг, относящиеся к торговле в селах и деревнях, не обладают той полнотой, как в отношении торговли в посадах. В большинстве случаев полные обороты этой торговли за опре-
78
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
деленный период времени не могут быть установлены. Наконец, следует иметь в виду, что некоторые акты купли-продажи не подлежали обложению, как, например, покупка на ((товарные деньги» т. е. деньги, полученные от продажи товара, а также мелкие покупки для собственного потребления. Впрочем, ЭТИ ограничения отражались не столько на общем обороте торговли в данном пункте, так как каждый акт купли-продажи имеет двусторонний характер, сколько на зарегистрированном обороте торговли определенных категорий населения (крестьян, посадских, иногородних купцов и др.), а также отдельных торговых людей.
При установлении оборотов торговли или размера единичных операций имеет большое значение не только полнота регистраций, но и техника самих записей в смысле точности количественных определений и денежных оценок. Таможенные книги дошли до нас почти исключительно в виде «беловых книг», т. е. книг, представлявшихся в центральные приказы в качестве годовых отчетов. Они содержат обработанные и систематизированные записи, в которых лишь с трудом можно уловить приемы работы таможенных агентов и технику первичной регистрации торговых сделок.
Поэтому при изучении вопроса особую ценность представляют сохранившиеся черновые таможенные Ікниги. Нам известны 2 черновые книги Устюжской таможенной избы 155 г. (1646—1647 гг.) и 181 г. (1672—1673 гг.), отрывок черновой книги Московской большой таможни 194 г. (1686 г.) и несколько тихвинских черновых книг.1 Рассмотрим черновые устюжские книги как наиболее интересные в этом отношении. Черновая таможенная книга 155 г. (1646—1647 гг.) сохранилась полностью и состоит из 9 частей. Из них наиболее ценными являются те части, в которых записывались торговые сделки иногородних торговых людей, усіюжских посадских людей и волостных крестьян и торговых людей гостиной сотни. іі Устюжские таможенные книги хранятся в ГАФКЭ (в фонде городовых книг Устюга В.); отрывки таможенной книги 194 г. Московской большой таможни — в Государственном историческом музее в Москве, Тихвинские таможенные книги — в Историко-археографическом институте Академии Ваук СССР (в архивном фонде Тихвинского монастыря). Дальнейшие поиски черновых таможенных записей, нужно полагать, значительно увеличат их число.
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
79
Черновая книга сохранила следы работы по систематизации записей в виде различного рода заметок для памяти, сделанных на полях. Например: «Зри выписать в свою книгу», «помнить выписать в устюжскую книгу. Выписан генваря в 1 день» (ошибочные записи переносились в другое место). «Переписано под Усовых статью» (запись ошибочно была занесена в статью Ре- вякиных). Против зачеркнутой записи «того ж дни Москвин Тимофей Абрамов приехал с Москвы на двух лошадях с товаром, едет в Сибирь», написано: «ся статья переписана назаде под ево ж статьею октября в 1 день». Встречаются многочисленные заметки, •относящиеся к переписке беловой книги: «по се место списано и справлено», «иногородной книги восмь тетратей спущено». На первой странице пошлин с проплавных судов написано: «справил Федор две тетрати и три тетрати справлены ж».
Вторая черновая книга той же устюжской таможенной избы относится к 181 г. (1672—1673 гг.). Она сохранилась в отрывке, содержащем записи устюжских посадских людей и волостных крестьян. Заметки на полях также указывают на работу по систематизации и составлению годового отчета. Например, против записи устюжанина Якова Козоманова, приехавшего с товаром с Архангельской ярмарки, стоит заметка для памяти: «о сем товаре допросить выписи. Тот де товар написан в той выписи мелочным товаром». В другом месте: «Сей Григорьев товар писать под ево Григорьеву статью на сей же тетрате, а зде не писати».
Изучение обеих устюжских черновых таможенных книг дает возможность установить технику таможенных записей. Каждый торговый человек, как устюжанин, так и иногородний, производивший в Устюге более или менее продолжительную торговлю, имел в таможенной книге свою «статью», которая начиналась в тот день, когда в первый раз после нового года (1 сентября) в таможенную избу являлся товар владельца. Например, «статья устюжанина Тимофея Лукоянова», «статья Никиты Федорова Устюжанина». Многие торговые люди, постоянно связанные с Устюгом, начинали свою «статью» в первых числах сентября, представляя остаток непроданных товаров—«осталый товар от прошлого гола». После первой записи оставлялось свободное место размером •в одну или несколько страниц, в зависимости от предполагаемого размера торговли. Затем в хронологическом порядке начиналась запись следующего торгового человека. В оставленных чистых -листах в течение года заносились все операции: прибытие нового
80
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
товара, приезды и отъезды приказчиков с товаром или без товара, продажи и покупки. Основанием для этих записей для более крупной торговли обычно служили росписи и явки, которые в письменном виде па отдельных листках бумаги подавали в таможенную избу сами торговые люди. Например, «Роспись гостиной сотни Василь я Алексеева Босово человека ево Якушка Денисова, что отпущено в сибирские городы ево Васильева товару гостя Кирила Алексеева Босово с человеком ево с Мосеем Федоровым»; далее следует подробное перечисление всего отправленного товара. Статья Ивана Васильева начинается следующей записью: «октября в 6 день Иван Васильев подал роспись осталому товару от прошлого года». Эта роспись, сделанная на небольшом клочке бумаги, была приложена к книге: «роспись в таможенную избу, что у меня Ивашки прошлово городовово товару в привозе})» Очень часто, вместо того чтобы переписывать в книгу товар, занесенный в роспись, последняя приклеивалась к соответствующему месту таможенных записей.
Во всех случаях явки товара последний подлежал количественной оценке со стороны таможенных агентов. Как мы отмечали, уже древнейшие таможенные грамоты во избежание злоупотреблений устанавливали правило, по которому до осмотра товар не должен был складываться с воза илр с лодки. При явке товара таможенные агенты или сами устанавливали количество каждого вида товара, или проверяли устные показания и поданные «росписи)). Против записей на полях заносилось имя того целовальника, который устанавливал и проверял количество товара: например, «ц. Ортемий» (т. е. «целовальник Ортемий»); «ц. Козьма»; «ц. Павел Михайлов» и т. д. Иногда оценку производил сам таможенный голова; «смотрил голова», или: «Ярославец Осиф Лаврентьев пришел от города Архангельска на судне у Ревяки- ных. Товару явил в проезд по досмотру головину»... (далее следует перечисление товара). В некоторых случаях можно установить те поправки, которые вносил этот осмотр в неправильные показания торговых людей, заинтересованных в преуменьшении количества своего товара. Например, 7 октября приплыл в лодке из Соли Вычегодской вологжанин Еремей Малафеев, явив 25 мер чеснока и лука. Против этой записи на полях написано: «по досмотру целовальника Василия Потапова луку и чесноку 60 мер». Носле записи крестьянина Яхренской волости Гаврилы Шеметова, доставившего на плоте с р. Юга 300 мер ржи из своих деревень,
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ ХУІІ В.
81
записано: «А по досмотру п. Емельяна 400 мер». При глазомерной оценке известную роль играли субъективные способности целовальников и их опытность, а также не исключена была и тенденция со стороны таможенных агентов в сторону увеличения количества товара, подлежащего обложению. Примером спора между владельцем и таможенным агентом может служить следующая запись. 18 июня старец Николы-Прилуцкого монастыря Фе- дорит привез в каюке 270 мер ржи и ячменя. Целовальник, осматривавший эту рожь, был повидимому, не согласен с определением ее количества, так как в черновой книге первоначально стояла запись: <са по досмотру ц. Порфенья триста мер». Слово ((триста мер» было потом зачеркнуто, и в беловой книге этого же года было записано 270 мер, и с этого количества была взята пошлина.
Значительно легче было определить количество товара в том случае, когда последний устанавливался общим счетом, как например: число шкурок зверя, юфтей кож, половинок сукна, концов полотна, отдельных готовых предметов одежды, изделий из металла, рыбы, кусков мыла и т. д. На полях соответствующих записей заносилось имя того целовальника, который «считал» товар. «Весчие товары» (соль, медь, воск, мясо, сало, металл, пряности, краски и пр.) подлежали обязательному взвешиванию на казенных весах. Необходимо иметь в виду разнообразие местных мер объема, а следовательно разницу в весе одного и того же объема, например четвертей ржи, для разных городов.
Основные таможенные пошлины XVII в. (тамга, десятая, рублевая) взимались не с количества, а с цены товара. Поэтому количественная оценка была лишь первым моментом к определению общей стоимости товара, исходившему из стоимости единицы измерения. Если в отношении натуральных показателей таможенные записи, за очень небольшим исключением, более или менее точно соответствуют фактическому количеству товаров, проходивших регистрацию, то в отношении ценностных показателей положение было несомненно более сложным. Между тем, степень соответствия цен, указанных в таможенных книгах, реальным рыночным ценам имеет большое значение при изучении ряда вопросов, требующих обработки статистического материала, и поэтому характеризует таможенные книги как исторический источник.
Как правило, цена, по которой взыскивались таможенные сборы, должна была соответствовать фактической продажной
Проблеын источниковедения, II 6
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
цене. По уртавной грамоте 1653 г. пошлину следовало собирать «но чему которой товар ценою на денги в продаже будет».1
В Новоторговом уставе 1667 г. предписывается собирать пошлины ас прямой продажной цены». Но установление действительной продажной цены для каждой торговой сделки при большом их числе и более или менее значительных колебаниях рыночных цен представляло известное затруднение.
Для более или менее крупной торговли апродажные цены» могли быть установлены лишь для единичных сделок, и то, в большинстве случаев, на основании показаний самих контрагентов Этих сделок. Еще труднее было установить апродажные цены» в тех случаях, когда товар, явленный в таможенной избе, распродавался по частям в течение нескольких месяцев, иногда в течение всего года. Наказы таможенным головам, отступая от точного смысла таможенного устава, говорят не об установлении фактической продажной цены, а об оценке товара авправду» — ачего которой товар стоит». •
Устюжская черновая таможенная книга 155 г. (1646—1647 гг.) позволяет с полной ясностью установить процесс этой оценки. В ряде случаев торговые люди сами сообщали апродажную цену», но последняя часто подвергалась пересмотру со стороны таможенных агентов. Например, 5 октября племянник Никифора Ре- вякина Ларион Самсонов заявил, что! он продал москвичу Семену Тимофееву 52 сорока 8 пупков собольих по 6 руб. 4 алт. 4 д., сорок и 27 фунтов струи бобровой по Iі/2 руб. за фунт. На полях книги против этой записи написано: а по таможенной оценке пупкам по семи рублев сорок, струи по два рубля фунт». В другові случае цена проданных им же 17 сороков соболей и 26 лисиц была показана в 841 руб. 13 алт. 1 д., а таможенной оценкой была установлена в 1350 руб. В большинстве случаев, когда таможенная пошлина взыскивалась в конце года, при регистрации актов продажи заносилось лишь количество проданного товара без указания цен. Последняя установилась после окончания года, когда подводился итог всем годовым операциям. Обычно это указывалось в конце каждой записи: апосле переписки... и после году по сей статье записному товару цена положена и пошлина обложена». Цена, установленная в конце года, не могла быть фактической ценой конкретных сделок купли-продажи.
і А АЭ» IV, № 64.
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
83
Очень часто в одной и той же таможенной избе применялась и оценка по фактическим рыночным ценам, и условная таможенная оценка, причем несоответствие последней рыночной цене могло раздвигаться до очень широких пределов. Условность оценки зависела не только от размера и характера торговли, но и от характера самих товаров. Одинаковую таможенную оценку было трудно, а в некоторых случаях и невыгодно применять «тем товарам, стоимость которых резко колебалась в зависимости от их качества и состояния, например, к ((мягкой рухляди». Даже в тех городах, где преобладала условная таможенная оценка, соболи и другие меха оценивались по отдельным сортам. •
Реальные рыночные цены или цены конкретной сделки купли- продажи могут быть установлены в записях таможенных книг в небольших западных, юго-западных и южных городах: Торопце («по продаже тот хлеб...», «по продаже то сукно. ••»), Белеве (пошлина берется «с продажи»), Курске (пошлина берется «по цене», или «с прямой продажной цены»), Карачаеве и других местах.
И сибирских городах применялась различная система оценки. В Верхотурье записи реальных цен наблюдаются только при мелких сделках; все остальные операции подвергались условной «верхотурской таможенной оценке». В Туринском остроге также пользовались и реальными ценами «по туринской таможенной оценке». В первом случае всегда указывалось: «продал», «взял», «дал». Стоимость купленного хлеба в некоторых случаях указана и в реальных ценах, и в ценах таможенной оценки, но последние, повидимому, близко соответствовали рыночным ценам. Такой же характер носило установление цен в Тюменской таможенной избе. Привезенный из России товар всегда оценивался по «тюменской таможенной оценке». Таможенные цены на ржаную муку изменялись в течение всего года в зависимости от рыночных цен, постепенно возрастая к летним месяцам. Например, в 1637 г. в марте одна четь муки стоила 1 р. 57*/2 к. — 1 р. 65 к.; в апреле цена повысилась до 1 р. 80 к., в первой половине мая— покупали четь муки за 2 руб., по таможенной оценке четь стоила также 2 руб.; во второй половине мая стоимость поднялась до 2 р. 50 к. Цены товаров, купленных в самом Тобольске, более или менее близко соответствовали рыночным ценам, но товар, привезенный из других городов, клался в «таможенную оценку». Однако, и в последнем случае существовали колебания в величине
6*
84
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
оценки одного и того же товара. Так, осенью одна четь муки оценивалась в 1г/2 руб., а весною (май)—в 3 руб. В Енисейске почти на все товары существовала неизменяющаяся «енисейская таможенная оценка», но цены соболям указывались иногда конкретные («взял»), иногда оценочные, но колебавшиеся в зависимости от сорта соболей. Конкретные цены могли быть установлены при единичных сделках; наоборот, скупка товара по частям в течение длительного срока затрудняла установление конкретных цен, и все количество скупленного в разное время соболя клалось в таможенную оценку; последняя применялась и при отпуске товара для вывоза. Такая система была и в Томской таможенной избе, где также отличалась конкретная цена соболям («взял») от цены по «томской таможенной оценке». Пошлина со всех других товаров бралась «по оценке». Более или менее условную таможенную оценку мы встречаем и во всех других сибирских городах: на Киртасской и Собской заставах, в Тарском городе, в Сургуте, Нарыме и пр.
Степень условности таможенной оценки, т. е. величина отклонения ее от реальной рыночной цены, существовавшей в данный момент времени, или от конкретной цены определенной сделки купли-продажи, могла быть различной. Повидимому, наиболее условными были цены на привозимые русские товары, что зависело как от системы сибирских проезжих пошлин, так и от изменений, которые происходили в ценах на товары в Сибири в течение второй половины столетия.
Можно привести ряд примеров, когда таможенная оценка носила совершенно условный характер и отличалась иногда в 2— 3 раза от рыночной цены определенного момента времени. В 195 г. (1686—1687гг.) торговые люди, торговавшие в Сибири, подали коллективное челобитье, в котором жаловались, что в Верхотурье таможенные головы оценивают их товары, «применяясь к старым прошлогодным болілим ценам, лет за тритцеть и за сорок, и почему в то время которые товары и на медные денги в которой пене были перед настоящею тамошнею ценою всякий товар свыше втрое и вчетверо, а иные товары в десятеро и болши». Произведенное расследование вполне подтвердило эти жалобы. Из рассмотрения Верхотурских таможенных книг оказалось, что в течение 18 лет (174—192 гг.) производимые товары окладывались одной и той же ценой. Старые Верхотурские таможенные головы показали, что «будучи де они на Верхотурье в таможенных го-
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
85
ловах ценили у приезжих торговых людей русские их привозные -товары, применялся прежних годов к записным товарным ценов- пым книгам, а для того ж де примеру в таможенной избе есть тетрать, почему какой товар ценою был в прежних давних годех, а та де тетрать воеводцкою и дьячею и никоторого прежних голов рукою не закреплена.))1 В Енисейской таможенной избе тетрадь с ценовными росписями появилась со 157 г. (1648—1649 гг.). В противоположность Верхотурской росписи, где последняя была неофициальным документом, Енисейская роспись была скреплена руками таможенных голов.1 2 Между тем, за 38 лет (с 157 по 195 г.) ((русские привозные всякие товары учали быть в Енисейку в продаже малою ценою». Получив указание брать пошлину по «продажной торговой прямой енисейской настоящей цене», таможенный голова 195 г. Иван Пивоваров «о продажной товарной цене на Гостине дворе всячески разведывал» и для «подлинного уверения» призвал в таможенную избу торговых людей и допрашивал их о «товарной продажной настоящей цене». После этого им была составлена новая роспись, к которой торговые люди приложили руки.3 Таким образом, и в этом случае наблюдается стремление фиксацию фактических сделок заменить оценкой по одинаковой цене, хотя и являющейся «продажной настоящей ценой».
В нижеследующей таблице приведена оценка некоторых товаров по Енисейским ценовным росписям 157 г. (1648—1649 гг.) и 195 г. (1686 —1687 гг.) (см. стр. 87—89).
Таможенный сбор 194 г. (1685—1686 гг.), собиравшийся в последний раз по росписи 157 г. (1648—1649 гг.), составил 2363 руб. 10 алт. 4у2 Д* Таможенный сбор следующего 195 г. (1686—1687 гг.), произведенный по новой росписи, составил всего 1496 руб. 11 алт. 2 д. Таким образом, недобор выразился оуммой в 866 руб. 32 алт. 4у2 д. Хотя часть этого недобора
1 ГАФКЭ. Сибирский приказ, ст. № 930.
2 ГАФКЭ. Сибирский приказ, кн. № 254. Список с ценовной росписи 157 г. (лл. 1—101), там же сравнение цен 157 г. с ценами 195 г. — «Перечневая выписка» (лл. 102—169). Подлинная ценовная роспись 157 г. была подписана торговым человеком гостиной сотни Алексеем Ушаковым, приказчиками и лавочными сидельцами гостей Гавриила Никитина, Астафья Филатова, Семена Лузина и торговыми людьми разных городов (л. 101 обр.).
3 ГАФКЭ. Сибирский приказ, ст. № 930,
86
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
следует отнести за счет мелких пошлин^ которые, несмотря на отмену их в Новоторговом уставе, продолжали собираться в сибирских городах (отъезжие, весчие, подъемные, печатные, избные), но разница в величине десятинного сбора, взимавшегося с цены товара, была тоже очень велика. Например с товара лавочного сидельца приказчика гостя Семена Лузина по старой росписи следовало взять десятую пошлину в размере 21 руб» 8 ал. 2 д., а по новой росписи десятая пошлина была взята в размере всего 5 руб. 25 алт. 5 д. С товара племянника приказчика гостя Астафья Филатова десятая пошлина должна была составить 16 руб. 3 ал. 2 д. По новой росписи фактически было взято 1 руб. 21 алт. 4 д.1
Из приведенной таблицы видно, что в Енисейске за 38 лет больше всего упали цены на сельскохозяйственные продукты, за которыми следовали европейские и некоторые восточные ткани. В частности, очень сильно упала цена на бухарские изделия. Персидские товары понизились в цене значительно меньше, а некоторые из них даже дали резкое повышение (выбойки и мит- кали). Меньше чем иностранные, но также понизились в цене товары русского производства.
Причина падения рыночных цен почти на все товары, особенно на привозные, представляет сложное явление, требующее специального изучения. Понижение цец на сельскохозяйственные продукты объясняется развитием в Сибири собственной сельскохозяйственной базы. Подешевение продуктов обрабатывающих ремесл также может быть поставлено в связь с развитием в Сибири домашней промышленности и городских ремесл. Помимо этих факторов, имели влияние обеднение пушных промыслов и общее сужение покупательной способности сибирского рынка. Сибирская торговля, развившаяся преимущественно на «мягкой рухляди», переживала затяжной тяжелый кризис.
Таким образом, в таможенных записях устанавливаются три категории цен: 1) цены конкретной сделки купли-продажи; 2) экспертные оценки таможенных агентов, более или менее близко совпадавшие с рыночными ценами данного года; 3) условная таможенная оценка, не изменявшаяся в течение многих лет, иногда в течение нескольких десятилетий, и совершенно не соответствовавшая рыночной стоимости товара. іі ГАФКЭ- Сибирский приказ» ст. № 930.
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
87
Название товара
Количество
Цена 157 г. (1648—1640 гг.)
Цена 195 г. (1686—1687 гг.)
Отношение дены 1Н5 г. в цене 157 г. в°/о
1. Сельскохозяйственные продукты
Мука ржаная
1 пуд
20 КОП.
8 коп.
40.0
Мука пшеничная . . .
1 В
25 в
10 в
40.0
Мука овсяная
1 в
20 В
6 в
30.0
Толокно
1 »
25 в
10 в
40.0
Гречневая крупа . . .
1 а
70 в
20 в
28.5
Горох
1 »
30 в
10 в
33.3
Мед сырец (без тары) .
1 В
7 руб.
1 р. 60 к.
22.8
Масло коровье ....
1 В
3 р. 20 к.
1 В 12 в
35.0
Сало говяжье топленое
1 В
1 р. 50 к.
50 коп.
33.3
2. Товары русской обрабатывающей промышл.
Холст гладкий хрящ . .
1 арш.
6 коп.
3 коп.
50.0
Холст тонкий
1 В
10 »
4 в
40.0
Полотно ивановское .
конец
2 руб.
1 р. 30 к.
65.0
Сукно белое сермяжное
1 арш.
20 коп.
10 коп.
50.0
Кожа красная ....
юфть
5 руб.
2 р. 50 к.
60.0
Сапоги сафьяновые мужские большие . .
1 пара
1 р. 50 к.
90 коп.
60.0
Пряжа неводная . . .
1 пуд
4 руб.
1 р. 50 к.
37.5
Сети неводные ....
Д саж.
10 коп.
4 коп.
40.0
3. Иностранные товары а) Западноевропейские ткани
Сукно английское большой земли
половинка
40 руб.
15 руб.
37.5
Сукно гамбургское большое
в
28 в
8 в
28.6
Сукно литовское . . .
»
8 р. 80 к.
5 в
56.8
Сукно яренги доброе .
в
12 руб.
5 в
41.6
Сукно кармазин . . .
аршин
4 в
1 р. 30 к.
32.5
6) Персидские ткани
Шолк шемаханский . .
1 пуд
200 руб.
80 руб.
Дороги ряжские . . .
1 штука
5 в
2 р. 50 к.
Дороги кашанские . .
1 в
4 в
2 в 50 в
Выбойка кизы льбашская
1 аршин
10 коп.
12 коп.
88
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
Продолжение
Название товара
Количество
Цена 157 г. (1648—1649 гг.)
Цена 195 г. (1686—1687 гг.)
Отношение цены 195 г. к цене 157 г. в %
Миткаль добрая . . .
1 штука
2 руб.
2 р. 50 к.
125.0
Миткаль средняя . . .
1
1 »
2 руб.
200.0
в) Бухарские и китайские ткани
Завеса бухарская . . .
1 штука
1 р. 50 к.
40 коп.
22.0
Фата бухарская бумажная
1 »
1 руб.
20 >,
20.0
Бархат китайский . . .
1 аршин
1 »
40 »
40.0
Камка лаудан добрая .
портище
4 »
4 руб.
100.0
Китайка добрая ....
конец
80 коп.
45 коп.
56.2
4. Металлы (иностранной и русской добычи)
Олово английское в блюдах, тарелях, братинах, кружках и прутах . .
1 пуд
16 руб.
7 руб.
43.7
Олово барабанское и галландское
1 >»
14 »
5 »
35.7
Медь красная в по лицах
1 »
10 »
6 р. 30 к.
63.0
Свинец „
1 »
4 »
1 » 60 »
40.0
Золото и серебро . . .
100 листов
\ а
1 руб.
33.3
Золото и серебро . . .
1 литр
14 р. 40 к.
19 »
131.9
Ртуть
1 фунт
40 коп.
1 »
250.0
Уклад корельский . . .
1 пуд
8 руб.
1 р. 60 к.
20.0
Железо прутовое . . .
1 >»
4 «
90 коп.
22.5
5. Бакалея
Перец
1 пуд
20 руб.
6 руб.
Гвоздика
1 »
80 >»
90 »
Винная ягода
1 »
10 »
2 в
6. Москательный товар
Квасцы
1 пуд
8 руб.
2 руб.
Купорос сапожный . .
1 »
4 »
3 »
Сандал
1 »
8 »
3 р. 50 к.
7. Мягкая
рухлядь
Лисица красная ....
1 штука
50 коп.
40 коп.
Выдра большая ....
1
2 руб.
1 р. 50 к.
30.0 112.5
20.0
25.0
75.0 43.7
80.0
75.0
ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ XVII В.
89
Продолжение
Название товара
Количество
Цена 157 г. (1648—1649 гг.)
Цена 195 г. (1686—1687 гг.)
Отношение цены 195 г. в цене 157 г. в %
Бобр рыжий большой .
1 штука
3 руб.
1 р. 50 к.
50.0
Росомаха
1 »
60 коп.
50 коп.
83.3
Песец белый
1
20 *
13 »
65.0
Горностай
1
4 »
6 »
150.0
Черевеса бобровая . .
1 фунт
80 »
70 »
87.5
Струя кабаргин ....
1 И
1 р. 50 к.
3 руб.
200.0
Экспертная оценка таможенных агентов как в отношении количественной регистрации товаров, так и в отношении их стоимости, во всяком случае преобладала в большинстве европейских городов. В ней, как отмечалось выше, несомненно немаловажную роль играл субъективный момент, зависевший и от степени подготовленности и опыта лиц, производивших оценку, и от стремления избежать недобора, связанного с длительной московской волокитой, губительно действовавшей на собственные торговые занятия. В таможенные головы и целовальники обычно выбирались торговые люди, не только хорошо знавшие товары и цены, но и условия торговли именно в тех пунктах, в которых они должны были производить таможенный сбор. На Архангельскую ярмарку посылались крупные московские капитализм, гости и торговые люди гостиной сотни, хорошо знавшие условия архангельской торговли; в поморских городах сбором пошлин занимались торговые люди этих же городов; в Сибирь посылались головы и целовальники также преимущественно из поморских городов, лично торговавшие в Сибири; в южных городах к сбору привлекались служилые и посадские люди южных уездов и т. д.
Когда в 163 г. (1654—1655 гг,) в Устюге В. выбрали в таможенные головы подьячего устюжской таможенной избы Проньку Лазарева, то последний в челобитьи писал, что его «хотят в конец погубити, а... государев сбор весь в ыстери учинить, что я холоп твой никаким товаром цены не ведаю, хто торговые люди в проданных своих товарех почнут цены таить или товары, и мне того всего не ведомо чем сыскивать, а тот твой государев таможенной збор збирать положен на гостей
90
К. В. БАЗИЛЕВИЧ
и торговых людей, что им торговые всякие промысли и товарные цены ведомы».1
Опасаясь недобора, таможенные головы и целовальники в общем склонны были преувеличивать цену по сравнению с рыночными ценами. Но возможны были и обратные случаи, когда таможенный голова, понижая оценку, старался привлечь в свой город иногородних купцов и этим выиграть на общей сумме сбора. Например, в 1646 г. по государеву указу была послана память в Устюжскую четверть о том, что торговые люди, выходившие из Сибири с мягкой рухлядью, продавали ее в Яренском городке, на Выми в Туринской слободке, на ярмарке в Туглиме, в Соли Вычегодской и в Устюге В., а таможенные головы «пошлины емлют самые малые уговором перед государевым указом многим менши для того, чтоб таможенному голове малою пошлиною торговых людей привести к себе В збор)).1 2
Таким образом, к товарным ценам, сообщаемым таможенными книгами, следует подходить с большой осторожностью- Использование этого материала требует предварительной критической оценки его в каждом отдельном случае.
1 ГАФКЭ- Прик. дела ст. лет 1653—1656 гг., № 53.
2 ГАФКЭ- Прик. дела ст. лет 1646 г., JV» 148.
В. ЛАВРОВСКИЙ
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В АНГЛИИ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX в.
Знакомясь в начале своей работы в лондонском Public Re- cord Office с различными типами архивных источников по истории обезземеления английского крестьянства и остановившись по ряду соображений на изучении так называемых Enclosure Awards— приговоров об огораживании конца XVIII — начала XIX в., автор Этих строк обнаружил, что ряд документов этого типа снабжен приложенными к ним картами, современными дате составления* того или другого приговора. Сопоставление приговоров, где карта отсутствует, с теми приговорами, к которым приложена одна, две или более карт огораживания, настолько убедило его в преимущественной ценности и богатстве конкретным содержанием именно этих последних документов, что при последующей своей работе он решил изучать лишь снабженные картами приговоры об огораживании: наличность приложенной к приговору карты огораживания являлась для него впредь определяющим моментом при выборе подлежавших изучению приговоров.
В результате этой работы были сняты копии с 75 подлинных карт парламентского огораживания, относящихся к 60 приходам, разбросанным редкой сеткой в пределах того района, где движение парламентских огораживаний в период войны Англии с революционной и наполеоновской Францией (1793—1815 гг.) было* весьма ярко выражено. Затем эти карты были подвергнуты изучению и дальнейшей обработке, имевшей целью выявить социальный облик английской деревни конца XVIII — начала XIX в.
Это оказалось вполне возможным. Внимательное изучение* карты, сопоставление нанесенных на ней данных с содержанием самого приговора об огораживании, к которому данная карта
92
В. ЛАВРОВСКИЙ
приложена, позволяют нарисовать детальную картину распределения земельной собственности между различными группами английского деревенского общества, судить о соотношении давно огороженной земли и новых наделов, отводившихся при огораживании парламентскими комиссарами, о расположении полученных отдельными собственниками участков, о размерах, иногда — характере последних и т. д.
Конечно, карты парламентских огораживаний в качестве источника весьма неоднородны по своей ценности. Попадаются карты, очень тщательно составленные, содержащие ряд важных деталей. Иногда карта носит, однако, более суммарный характер. Часто карты изображают весь огораживавшийся приход целиком — со всеми усадьбами, коттеджами, участками давно огороженной земли, общинными полями, выгонами и пустошами, разбитыми при парламентском огораживании на новые наделы. Но иногда на карте дана лишь часть прихода, например, только подвергавшиеся разделу выгоны и пустоши (commons and wastes).
Часто по самой карте мы можем судить о величине и точных размерах участков, отводившихся парламентскими комиссарами, даже не обращаясь к помощи самого приговора об огораживании: на карту бывают нанесены имена всех или большинства получивших наделы собственников, указаны в акрах, рудах и перчах размеры каждого надела, отмечены но только большие проезжие дороги, но указаны верховые и пешеходные тропинки, по которым молено пробраться через огороженные, обнесенные рвами и зеленой изгородью участки.
Стоит такую карту раскрасить условными цветами или отметить различной штриховкой участкй, принадлежавшие или вновь отведенные дворянам, духовенству или крестьянского типа собственникам, и у нас получится весьма наглядная и отчетливая картина распределения земельной собственности между различными классами английского деревенского общества. Обычно отмечаются на картах и производившиеся в связи с огораживанием обмены земельными участками между отдельными собственниками, которые утверждались комиссарами и затем заносились на карту. Но иногда мы можем судить по карте лишь о размерах вновь отведенных комиссарами наделов, в отношении же «old inclosures»—старинных огораживаний — таковые не указаны, или указаны для части давно огороженных участков, бывших предметом обменов, сопутствовавших огораживанию.
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
93
Многообразие в способах составления карт парламентского огораживания в разных приходах и графствах, различие в степени их полноты и точности, в технике и тщательности их исполнения затрудняют общую характеристику карт как источника.. Пользуясь ими, приходится в отдельных случаях индивидуализировать подход и способ извлечения из карт содержащегося в них материала в зависимости от характера самих карт, содержания и полноты приговора об огораживании и т. п. Иногда карты могут служить лишь в качестве дополняющего приговор источника, обратившись к которому можно гораздо отчетливее и полнее нарисовать себе картину данного случая парламентского огораживания. В других случаях карты дают новый материал, в приговоре отсутствующий. Иногда же карта может служить в качестве самостоятельного источника, дающего возможность не только проверить и дополнить изображение данного случая парламентского огораживания, получающееся на основании приговора, но и ответить на ряд таки& вопросов, самая постановка которых была бы невозможна, если бы мы располагали только приговором об огораживании без приложенной к нему карты.
Одним словом, изучение карт парламентского огораживания вызывает ряд вопросов, относящихся к «Verwendungsmoglichkeit» Этого источника, к своеобразным приемам и способам его использования, — вопросов, представляющих интерес в связи с общими проблемами картографического анализа и метода «науки о картах» (Kartenwissenschaft).1 Eckert, как известно, является большим энтузиастом карты, «картографического изображения, овладения (Beherrschung) и метода». Интерес к э;гому методу, кстати сказать, весьма возростал за последние годы.1 2 Автор настоящего небольшого очерка ставит себе задачу характери* зовать карты парламентского огораживания как источник на основании детального анализа нескольких документов этого типа, относящихся к трем случаям парламентского огораживания в графстве Сэффок. Эт0? во-первых, карты парламентского огораживания приходов Carlton Colvile, Oulton и
1 Eckert. Die Kartenwissenschaft als Lehrfach, Herman Wagner gedacht- nisschrift. Ergebnisse und Aufgaben geographischer Forschung, 1930, S. 75—78*.
2 H. G. Fordham отмечает «this recent revival of interest in Carto-biblio- graphy». Cm. Hand List of Catalogues and Works of reference relating to Carto- bibliography and kindred subjects for Great Britain and Ireland 1720 to 1927- Cambridge, 1928.
<94
В. ЛАВРОВСКИЙ
Kirtley, приложенные к приговору об огораживании этих приходов, датированному 1803 г.; для каждого из трех приходов -составлена отдельная карта.1 Во-вторых, карта огораживания прихода Westerfield,— приговор об огораживании относится к 1808 г.1 2 3 Наконец, последняя — пятая — карта рисует парламентское огораживание прихода Battisford,—приговор об огораживании относится к 1814 г.8 Все перечисленные карты составлены межевщиком (Land Surveyor) Robert’oM Corby из Kirstead в Норфоке.
Цель последующего анализа заключается в том, чтобы показать, какой материал содержится в этих пяти картах парламентского огораживания, каким образом — путем сопоставления карт и приговоров об огораживании — этот материал может быть добыт и послужить целям исследования, и что нового, по сравнению с приговорами, дает изучение приложенных к ним карт как самостоятельного источника.
1. Карты парламентского огораживания приходов Carlton Colvile, Oulton и Kirtley, Suffolk
Изучаемые карты касаются раздела общинных выгонов и пустошей (waste lands), произведенного во всех трех приходах в силу одного, общего для них акта парламента, изданного в 1801 г. Карты составлены Robert’oM Corby | в неодинаковом масштабе: карта прихода Carlton Colvile в полтора раза мельче остальных двух. Все три прихода примыкают друг к другу: Oulton лежит к северу от Carlton Colvile, с востока к последнему примыкает Kirtley. Огораживанием охвачена весьма значительная площадь земли — в общей сложности 4893 акра, 32 перча; но не вся площадь трех приходов дана на картах — «старинные огораживания» занесены на них далеко не полностью: на картах имеется ряд белых мест, не поделенных границами на отдельные участки, отграниченных лишь охватывающими их дорогами, как это мы видим на карте Carlton Colvile. Внутри охваченной дорогами площади расположены, очевидно, усадьбы и коттеджи отдельных собственников с относящейся к ним «давно огороженной» землей (old
1 List of Enclosure Awards, Public Record Office, Legal Search Room
L. 67. Carlton Colvile, Oulton and Kirtley, 44 Geo. Ш. 1804, T. Roll 202, «С. P. R. R. 885.
2 Westerfield, 50 Geo. III. 1809, M. Roll 50, С. P. R. R. 906.
3 Battisford, 54 Geo. III. 1814, T. Roll 61, С. P. R. R. 925.
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
95
inclosures). Но остальные «old inclosures» отмечены на картах, хотя размеры их обычно не даются; о них мы можем судить на основании так называемых «claims of inclosure», имеющихся для £тих приходов.1 В общем, картина распределения давно и вновь огороженной земли во всех трех приходах получается в достаточной мере полная, если судить лишь по картам, и гораздо более точная, если привлечь к исчислению площади под «old inclosures» и наделами другие источники — «claims of inclosure» и приговор об огораживании. Особенно тщательно и детально указаны конечно, новые наделы: помимо их границ на карту нанесены имена собственников, их получивших, или номера участков, по которым мы можем легко установить и имена самих собственников, получивших наделы, обратившись к тексту приговора об огораживании. Что касается размеров участков, то иногда они указаны цифрами на самой карте, но обычно участки лишь перенумерованы, и для того, чтобы установить их размеры, приходится обращаться к тексту приговора об огораживании и разыскивать под соответствующим номером данный участок, отведенный тому или другому собственнику.
Мы видим, что, анализируя и изучая карты парламентского огораживания приходов Carlton Colvilc, Oulton и Kirtley, все время приходится иметь под руками текст приговора об их огораживании и обращаться туда за необходимыми данными относительно размеров участков, принадлежащих тому или другому собственнику. Зато такое комбинированное изучение карт и приговора, весьма кропотливое, требующее большого напряжения и внимания, дает в результате отчетливую картину распределения земельной собственности в изучаемых приходах, расположения отдельных участков давно и вновь огороженной земли, о чем мы можем судить только по картам; обратившись же к приговору, можно установить размеры землевладения дворянского, духовного и крестьянского, выяснить их сравнительное значение в этих приходах, внести в карты огораживаний момент числа и точного измерения,1 2 которое может послужить исходным пунктом для дальнейших заключений и выводов.
1 Си. статью автора «Парламентское огораживание в графстве Сэффок <1797—1803)», Изв. Акад. Наук СССР, 1932, №№ 8, 9 и 10; 1933, № 2.
2 В возможности «измерения», которое допускает карта, Eckert видит одно из главных преимуществ, которое имеет «messende Geographie* перед родственными науками, см. Die Kartenwissenschaft als Lehrfach, S. 76.
96
В. ЛАВРОВСКИЙ
Одного взгляда на карты достаточно, чтобы убедиться в крестьянском характере приходов Carlton Colvile, Oulton и Kirtley; крестьянское землевладение здесь пользуется явным преобладанием. Если же обратиться к цифровым данным, содержащимся в приговоре об огораживании и «claims of inclosure»—заявлениях, подававшихся парламентским комиссарам отдельными собственниками, претендовавшими на получение надела в силу владения «старинными огораживаниями» и связанными с ними общинными правами, то мы можем это наглядное впечатление, получающееся от карты, оформить в виде ряда цифр и статистических выводов, дающих точную картину распределения земельной собственности в упомянутых трех приходах и ярко выраженного преобладания крестьянского землевладения.1
Мы видим, что статистические подсчеты чрезвычайно уточняют ту картину распределения земельной собственности в огораживавшихся приходах, которая получается при соответствующей обработке карт парламентского огораживания и выявления путем раскраски или штриховки содержащихся в них весьма интересных данных. Статистическая обработка материала, содержащегося в «claims» и в приговоре об огораживании, представляется тем более важной в целях дополнения и уточнения картины парламентского огораживания в том или ином нриходе, что карты являются хотя и очень ценным, но во многих отношениях далеко не безупречным источником; не говоря уже о наличии значительного числа пустых, белых мест, бросающихся, например, в глаза на карте Carlton Colvile, не всегда удается установить, кому принадлежит и обозначенный определенными границами участок давно огороженной земли. Это и делает весьма необходимым привлечение, помимо карт, других источников, рисующих картину распределения земельной собственности в огораживавшихся приходах, прежде всего приговора об огораживании, в котором, впрочем, речь идет в первую очередь о новых наделах, отведенных комиссарами, и лишь отчасти затрагивается вопрос и о распределении давно огороженной земли; затем, как
1 См. «Парламентское огораживание в графстве Сэффок (1797—1808)», Изв. Акад. Наук СССР, 1932, № 10, гл. II: в Carlton Colvile дворянское землевладение составляет, согласно claims и приговора, 36.1%, духовное — всего 2,1%, тогда как крестьянское достигает 61.8%; в Oulton дворянское — 32.76%, духовное — 2.19%, крестьянское — 65.05%; в Kirtley дворянское — 1.8%, духовное — 3.1 %, крестьянское же — 95.1 %.
К А. РТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
97
это оказывается возможным при изучении данного случая пар- ламентского огораживания в приходах Carlton Colvile* Oulton и Kirtley, очень желательно привлечение ссclaims», говорящих именно об участках давно огороженной земли, отчасти отмеченных, отчасти крайне суммарно нанесенных на карты огораживав ния. Возможно, конечно, и привлечение других дополнительных источников, могущих уточнить картину распределения земельной собственности в изучаемых приходах, полнее выявить классовый состав и относительный вес и значение различных видов землевладения— дворянского, духовного и крестьянского, например,, привлечение так называемых «Land Tax Assessments)), содержащих данные относительно размеров поземельного обложения*
Однако, указывая на важность, даже необходимость дополнения карт огораживания другими источниками по истории землевладения в огораживавшихся приходах, нельзя не отметить, что в некоторых отношениях карты представляют исключительную ценность и являются источником незаменимым. Было бы недостаточным, если бы мы вычислили точно процентное соотношение дворянской, церковной и крестьянской земли и в то же время ще обладали никакими данными относительно общей конфигурации данного прихода, о расположении общинных полей, ранее огороженных, и выгонов, подвергавшихся разделу в связи с парламентским огораживанием, если бы мы не знали, как были располо- жены, где были и кому были отведены новые наделы. Карты же дают в этом отношении чрезвычайно много интересных конкретных данных. Стоит, например, обратить внимание на то, как были поделены марши (share marshes) между различными собственниками на карте прихода Carlton Colvile. Внимательное рассмотрение карты вскрывает ряд новых деталей, OTcy/tcreyv ющих в тексте самого приговора об огораживании. Так, например, на карте огораживания прихода Carlton Colvile несколько раз встречаем отметку, что данный участок является копигольдом?, т. е. можем судить о том, как был распределен фригольд и копигольд на территории прихода, хотя бы частично. На той же карте отмечено, с какой части того или другого участка десятина платится R. Miles, Esq., и с какой — Rev. J. Ewen: деталь любопытная, свидетельствующая о запутанности отношений, связанных с уплатой церковной и импроприированной десятины. Кстати, то обстоятельство, что десятина не подвергалась здесь, в связи с огораживанием, коммутации, — одна из причин того, что духовное
Проблемы источниковедения, II 7
98
В. ЛАВРОВСКИЙ
землевладение играет в изучаемых трех приходах столь ничтожную роль: духовные и светские собственники десятины получали большие наделы там, где огораживание сопровождалось комму- тацией церковной десятины;1 в изученных приходах масса земли оставалась в руках крестьянского типа собственников, зато они, очевидно, должны были платить ректору и импроприатору десятину.
Если мы, далее, возьмем карту прихода Oulton, то тоже можно сделать ряд интересных наблюдений. Можно выяснить, как была расположена здесь церковная земля (glebe), частью, кстати сказать, оказавшаяся во владении очень крупного собственника крестьянского типа — Th. Hunt. Можно видеть, где был отведен надел для приходских бедных. Можно проследить, какие участки были даны в обмен (in exchange) и уяснить смысл таких обменов, ведших обычно к консолидации земельных владений отдельных собственников. Очень важно выяснить, — и это можно сделать только путем обращения к карте, — как были расположены новые наделы в отношении старинных огораживаний, принадлежавших тому или другому собственнику. Так, например, наделы, данные Th. Hunt’y, лежали по соседству с принадлежавшими ему участками давно огороженной земли, что вместе с рядом произведенных обменов участками весьма способствовало консолидации земельных владений этого т|ипа крупного собственника, по размерам своего земельного обеспечения скорее приближавшегося к фермерам-капиталистам, чем к собственникам крестьянского типа.
Факты аналогичного характера можно установить и по карте прихода Kirtley. Например, наделы, полученные William’oM и John’oM Morris, лежали также по соседству с участками давно огороженной земли, принадлежавшими этим двум собственникам.
Все это говорит о большой ценности, которую представляют карты огораживания упомянутых трех сэффокских приходов как источник, иногда лишь дополняющий другие источники и в свою очередь требующий дополнения путем привлечения других данных, содержащихся в «claims» и приговоре об огораживании, иногда же являющийся источником самостоятельным и незаменимым в отношении некоторых вопросов, связанных с конфигура-
1 См. статью автора «Коммутация десятины как один из факторов обезземеления крестьянства», т. VII Ученых записок Института истории РАНИОН.
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
99
£ией приходов, расположением участков давно и вновь огороженной земли и т. д.
Не следует забывать, что лишь благодаря картам и их анализу мы можем получить не только весьма наглядную и отчетливую жартину распределения земельной собственности, сосредоточившейся в результате огораживания в руках дворянских, духовных и крестьянского типа собственников, но и представить себе общую картину соотношения давно огороженной и подверженной действию общинных прав земли в период, непосредственно предшествовавший парламентскому огораживанию, сопоставив ее с тем новым видом, который приобретала деревня вслед за парла- зіентским огораживанием и в результате его.
2. Карта парламентского огораживания прихода Westerfield, Suffolk
Карта парламентского огораживания прихода Westerfield, составленная тем же Rob. Corby, носит существенно иной характер по сравнению с однотипными тремя картами приходов Carlton •Colvile, Oulton и Kirtley. Прежде всего, карта Westerfield’caoro огораживания изображает весь приход в целом: пустых мест на ней, подобных тем, которые имеются на карте Carlton Colvile, совсем нет. Другая, бросающаяся в глаза черта Westerfield’cKoft карты: она рисует приход почти сплошь огороженный. К моменту парламентского огораживания сохранились здесь лишь совершенно незначительные остатки неподеленных общинных земель {Westerfield Green, Common of Green) в центральной части прихода — по близости церкви, церковной земли (glebe) и к се в.-за п. от нее, по другую сторону главной проезжей дороги, крестообразно расходящейся из центра прихода.
Другая черта, бросающаяся в глаза при рассмотрении карты Westerfield’cKoro огораживания: в противоположность изученному выше случаю огораживания и карт, относящихся к трем сэффокским приходам — типично крестьянским, с огромным преобладанием крестьянского землевладения, — в Westerfield’e мы имеем дело с приходом, где крестьянское землевладение играет весьма незначительную роль: согласно приговору об огораживании Westerfield’a,1 собственники крестьянского типа получили іі Enclosure Award, Westerfield, 50 Geo. III. 1809, M. Roll 50, С. P. R. R. 906.
7*
100
В. ЛАВРОВСКИЙ
здесь всего-навсего 8.2°/0 площади вновь отведенных парламентскими комиссарами наделов. Преобладающим типом землевладения в этом приходе является дворянское — 43.5% площади новых наделов и духовное — 39.4% той же площади. Кроме того, 8.9% вновь огороженной земли получила корпорация г. Ипсича..
Если обратиться путем сопоставления нанесенных на карту и содержащихся в самом приговоре данных к более детальному анализу различных видов землевладения в приходе Westerfield, то мы обнаруживаем следующее. Наделы, при этом очень небольшие, так как огромную часть территории прихода составляют «давно огороженные)) участки, получили три дворянина, из которых один — Milleson Edgar, Esq. увеличил свой, полученный за общинные права, надел приблизительно па одну треть путем скупки общинных прав у шести других собственников — одного дворянина, одного духовного и четырех собственников крестьянского типа: на карте видно, из каких лоскутков, иногда очень мелких по размерам, сшит полученный этим благородным землевладельцем надел; прирезка к наделу, полученному им за принадлежавшие ему общинные права, других участков, данных за приобретенные им путем покупки ((rights of common» других собственников, в двух случаях даже за «rights of soil» собственников двух маноров,1 увеличила значительно наиболее крупный надел М. Edgar’a, Esq., данный ему, | как видно на карте, в непосредственном соседстве с рядом других, принадлежавших этому собственнику, давно огороженных участков. Кроме того, М. Edgar, Esq., значительно консолидировал свои земельные владения в приходе Westerfield путем обменов несколькими участками давно огороженной земли с корпорацией г. Ипсича.
Ряд наделов в Westerfield’e был, далее, получен несколькими духовными собственниками, и опять-таки на основании карты мы можем легко установить расположение этих наделов, получение которых округляло участки давно огороженной земли, которыми владел ректор прихода Westerfield — Rev. James Hitch и другой местный крупный духовный собственник Rev. John Davis Plestow. Затем, как видно на карте, корпорация г. Ипсича—bailiffs, burgesses and Commonalty of Ipswich — получила надел по соседству с землей, данной М. Edgar’y Esq., и три участка давно огорожен¬
1 Right of soil, принадлежавшее лорду манора Ghost Church otherwise Withepole House, купленное у Rev. W. Fonnereau, и right of soil, принадлежавшее лорду манора Bramford, купленное у Nathaniel Lee Acton, Esq.
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
101
ной земли в обмен от последнего и еще от двух духовных собственников.
Лишь обращение к карте позволяет нам установить смысл и значение всех этих земельных обменов и сделок для округления участков давно огороженной земли, принадлежавших различным -собственникам — дворянам, духовенству и корпорации г. Ипсича.
Наконец, что касается крестьянского землевладения, то собственниками крестьянского типа были получены в Westerficld’e ничтожные наделы: из семи таких собственников шестеро получили участки менее 1 акра каждый, и лишь один получил свыше якра земли (1 акр 1 руда 2 перча). Бедным прихода были отведены. .. 16 перчей земли.
Нужно, однако, напомнить, что землевладение собственников крестьянского типа, как и дворян, духовенства и корпорации г. Ипсича, не ограничивалось вновь полученными наделами: последние столь малы и незначительны по своим размерам именно -оттого, что по существу Westerfield давно огороженный приход, что огромная часть его площади занята «старинными огораживаниями» и что парламентское огораживание означало здесь ликвидацию совершенно незначительных остатков общинного землевладения. В приговоре об огораживании речь идет о разделе всего на всего 49 акров с небольшим (49 акров 6 перчей) общинного выгона; затем приговор об огораживании касается ряда произведенных обменов участками давно огороженной земли, в каждом отдельном случае обозначая точные размеры того или другого, бывшего предметом обмена, участка. Что же касается всей остальной давно огороженной земли, то о ней в приговоре об огораживании мы вообще не находим каких-либо данных, позволяющих судить о его распределении между отдельными собственниками и между основными классами деревенского населения. Это обстоятельство чрезвычайно увеличивает ценность и значение карты Wcsterfield’cKoro огораживания, которая приобретает значение самостоятельного источника: без нее, руководясь лишь содержащимися в приговоре данными, мы ничего не могли бы сказать о распределении земельной собственности на большей части территории прихода Westerfield.
Однако, обращаясь к изучению самой карты, мы обнаруживаем, что на все участки давно огороженной земли составителем жарты были нанесены имена тех собственников, которым принадлежал тот или другой давно огороженный участок. Отмечая ус¬
102
В. ЛАВРОВСКИЙ
ловным образом принадлежность этих участков земельным собственникам различных классов—дворянам, духовенству и т. д.,— путем штриховки или раскраски карты, мы получаем картину распределения земельной собственности во всем приходе в целом, а не на вновь лишь огороженных участках, данных комиссарами парламента в виде наделов, занимавших лишь незначительную площадь земли, о которой мы могли бы судить, если бы располагали одним лишь приговором об огораживании без приложенной к нему карты.
Но это еще не все. Ведь сама по себе штриховка или раскраска карты даст, правда, очень наглядную картину распределения земельной собственности, но в то же время картину лишь приблизительную, не дающую возможности сколько-нибудь точного численного выражения соотношения между землевладением различных классов населения данного прихода, подобно тому, как мы это имеем в отношении площади новых наделов, о которой мы можем судить на основании приговора.
Однако распредение одной лишь площади новых наделок между различньши слоями деревенского населения говорит еще не так много: мы можем судить об относительных размерах и значении дворянского, духовного, крестьянского и т. д. землевладения на вновь огороженной земле* Можем высказать в виде предположения, что и на давно огороженной земле соотношение между различными видами землевладения, — дворянским, духовным и т. д., было похожим, сходным с тем, что мы наблюдаем на новых наделах. Но уже это предположение было бы очень проблематичным, правда, иногда оправдывающимся в отношении отдельных приходов при сравнении давно и вновь огороженной земли и распределения той и другой между различными классами деревенского населения.
Располагая, далее, данными лишь о размерах наделов, полученных собственниками в силу приговора об огораживании, мы не могли бы, скажем, разбить собственников крестьянского типа на группы, отнести их к мелкому, среднему или крупному крестьянству, поскольку общая площадь землевладения каждого из таких собственников оставалась бы нам неизвестной. Но, оказывается^ что и в этом случае карта может притти к нам на помощь при условии применения к ее изучению и определению площадей и размеров отдельных участков давно огороженной земли планиметра, позволяющего с достаточной точностью определить об-
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
103
щие размеры землевладения каждого из собственников, упомянутых в приговоре или отмеченных на карте.
В отношении карты Westerfield’cKoro огораживания,—в виду скудости и бедности содержанием приговора, — мною этот способ исчисления участков и площадей с помощью планиметра был применен с результатами, представляющимися вполне удовлетворительными и позволяющими найти численное выражение как для землевладения каждой группы земельных собственников,— дворян, духовенства, корпорации г. Ипсича и собственников крестьянского типа, так и для того, чтобы занести каждого из отдельных собственников крестьянского типа в ту или иную группу — мелких, средних и т. д. собственников по общим размерам его землевладения на давно и вновь огороженной земле в приходе Westerfield.
Приводим полученные данные, сопоставленные с данными приговора об огораживании в отношении новых наделов (см. табл.).
Из этой таблицы видно, насколько более полной получается картина распределения земельной собственности в приходе Westerfield, если, не ограничиваясь данными в приговоре цифрами, произвести с помощью планиметра подсчет всей площади давно огороженной земли на основании приложенной к приговору карты. Оказывается, что площадь под наделами составляет всего лишь 4.3°/0 всей площади, вычисленной путем суммирования данных
Размеры дворянского, духовного, корпорации г. Ипсича и крестьянского землевладения по карте и приговору прихода Westerfield, Suffolk
Землевладение:
Наделы, полученные согласно приговору об огораживании
Старинные огораживания, ио- лученпые в обмен, согласпо приговору
Площадь старинных огораж ваиий, вычисленная по карте планиметром
Площадь наделов н старинных огораживаний но приговору н карте
a.
1
1 "•
I *•
р-
п.
а.
р*
н.
а.
Р«
П.
°/о
Дворян
21
2
18
16
0
23
415
0
32
436
3
10
38.1
Духовенства . . .
19
1
23
0
2
1
448
0
16
467
1
39
40.7
Корпорации г. Ипсича . . .
4
1
29
19
0
20
110
0
0
114
1
29
9.9
Собственников
крестьянского типа
3
2
16
•
•
125
0
32
128
3
8
11.3
Итого . .
49
0
6
35
3
4
1098
2
0
1147
2 1
1
1 є
і
104
В. ЛАВРОВСКИЙ
приговора и самой карты, т. е. площади наделов и давно огороженной земли, вместе взятых.
\ Правда, из окончательного подсчета видно, что процентное соотношение землевладения различных групп собственников не изменилось значительно по сравнению с подсчетом, исходящим лишь из распределения площади новых наделов. Доля дворянского землевладения понизилась с 43.5 до 38.1 °/0. Духовное при общем подсчете несколько возросло: с 39.4 до 40.7%. То же следует отметить и в отношении землевладения корпорации г. Ип- сича — увеличение с 8.9 до 9.9% и крестьянского — увеличение с 8.2 до 11.3%.
Итак, за счет сокращения процента дворянского землевла-* дения, в окончательном подсчете, основанном на суммировании данных приговора и карты, увеличился процент земли, приходящейся на долю остальных классов земельных собственников. Особенно следует отметить увеличение доли крестьянского землевладения. Кроме того анализ карты вскрывает наличность трех собственников крестьянского типа, владевших участками
Собственники крестьянского типа в приходе Westertield, Suffolk — по карте и приговору об огораживании
Имена собственников крестьянского типа
Наделы, полученные HUH согласно приговору об огораживании
Участки давно огороженной земли, которыми они владели, судя ио карте
Обміле размеры их землевладений по і|арте и приговору
Число собственников крестьянского типа, владеющих участками давно и вновь огороженной земли
а.
р.
и.
а.
р-
п.
а.
р-
п.
св
!
V
1—3
акра
3—10
акров
10-26
акров
25-50 I
акров
Abbott, Jeremiah
0
3
2
13
1
8
14
0
10
1
Algar, Robert . .
•
•
•
1
1
24
1
1
24
—
1
—
—
—
Andrews, Edward
0
0
22
•
•
0
0
22
1
—
—
—
—
Collett, Margaret
0
1
29
6
2
16
7
0
5
—
—
1
—
—
Edwards, Henry .
0
1
2
.
•
•
0
1
2
1
—
—
—
—
Everett, Isaak . .
•
•
•
5
3
8
5
3
8
—
—
1
—
—
Gross, Samuel . .
0
2
3
12
1
24
12
3
27
—
—
—
1
—
Holland, Samuel
.
•
.
45
1
24
45
1
24
—
—
—
—
1
Venn, Mary . . .
1
1
2
40
0
0
41
1
2
—
—
—
—
1
Weden, Dinah . .
0
0
20
0
1
8
0
1
28
1
—
—
—
—
Итого . .
3
і
2
0
125
0
32
128
2
32
1 3
1
і
1
2
2
2
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
105
давно огороженной земли, но не получивших наделов и не упомянутых в приговоре. С другой стороны, в приговоре встречаются имена двух собственников, получивших мелкие наделы из общинного выгона, хотя, судя по карте, их нет среди владельцев давно огороженной земли. В табл, на стр. 104 приведен список всех собственников крестьянского типа, упоминаемых в приговоре или отмеченных на карте, с указанием на размеры как их наделов, так и принадлежавшей им площади давно огороженной земли.
Таблица эта говорит о значении карты парламентского огораживания как не только дополняющего приговор, но и самостоятельного источника. Лишь суммируя данные приговора о величине полученных собственниками крестьянского типа наделов с данными о размерах давно огороженной земли, полученных путем подсчета ее площади по карте с помощью планиметра, мы получаем сколько-нибудь полное представление о размерах крестьянского землевладения в приходе Westerfield. Лишь вычислив общие размеры землевладения каждого из собственников крестьянского типа, мы можем разбить их на группы в соответствии с величиной участков: менее 1 акра, оті до 3 акров, более 3 — до 10 акров и т. д. Наконец, путем обращения к карте мы устанавливаем, что в приговоре могли быть упомянуты не все собственники крестьянского типа, владевшие землей в данном приходе.
3. Карта парламентского огораживания прихода Battisford, Suffolk
Остановимся, наконец, еще на одной карте парламентского огораживания прихода Battisford, составленной Robert’oM Corby и приложенной к приговору, датированному 1814 г.1
Как и в Westerfield’e, карта Battisford’cKoro огораживания рисует весь приход в целом, притом опять-таки приход, почти целиком огороженный за исключением небольших остатков общинных пастбищ в западной части прихода.
Что касается состава землевладения в Battisford’e, то в отличие от первых трех приходов Carlton Colvile, Oulton и Kirtley — типично крестьянских и от Westerfield’a, где преобладает духовное
1 Enclosure Award, Battisford, Suffolk, 54 Geo. III. 1814, T. Roll 61,
C.P.R.R. 925.
106
В. ЛАВРОВСКИЙ
и дворянское землевладение, в изучаемом нами приходе Battis- ford духовное землевладение ничтожно по размерам: на его долю приходится всего лишь 0.3% площади, отведенной комиссарами в виде наделов. Преобладающим типом землевладения здесь является дворянское — 60.5%' Н° и крестьянское землевладение достаточно сильно: собственники крестьянского типа получили здесь 39.2% площади отведенных комиссарами паделов.
По своему типу и приемам обработка карты Battisford’cKoro огораживания весьма сходна с картой прихода Westerfield. Так как наделы, отведенные комиссарами парламента, и здесь составляли очень небольшую часть всей площади прихода Battisford, и так как составлявший карту Rob. Corby и здесь не отметил размеров давно огороженных участков, то при сопоставлении приговора и карты и при подсчете площади благородного и крестьянского землевладения приходится прибегнуть к помощи планиметра, вычислив этим способом площадь давно огороженной земли, находившейся в руках того или другого класса земельных собственников.
Изучение данного случая парламентского огораживания лишь по приговору и здесь дало бы очень неполную картину: хотя под наделы была в Battisford’e поделена и значительно большая площадь земли —148 акров слишком (1^8 акров 14 перчей), по сравнению с Westerfield’oM (49 акров 6 [перчей), однако, все лее и в Battisford’e надельная земля составляет всего лишь 10.1% всей площади давно и вновь огороженной земли. Из этой площади в 148 акров 14 перчей шесть дворян землевладельцев получили 89 акров 2 руды 19 перчей земли, из которой 6 акров 3 руды 14 перчей был копигольд двух маноров,1 за который обоим этим дворянам— копигольдерам приходилось уплачивать плату за допуск одному — Adair Alexander, Esq., в размере 2 фунт, стерл. 12 шилл. 6 пенсов, другому — Alexander Samuel, Esq., 4 фунта 4 шилл. Так как огромная часть земли в Battisford’e, представляла собою давно огороя;енные участки, то новые наделы очень невелики по размерам: лишь в трех случаях они более 20 акров.
Еще одна характерная черта в распределении земельной собственности в этом приходе: хотя участки давно огороженной
1 1 акр 3 руды 37 перчей — копигольд манора Battisford otherwise Bishops Hall with Lyngs и 4 акра 3 руды 17 перчей — копигольд манора Battisford with Badley otherwise St. Johns.
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
107
земли консолидированы в довольно крупные владения, все-
дворяне собственники владеют землей, лежащей разбросанно— в разных частях прихода, как это видно на карте: черес- полосность землевладения весьма велика, уменьшить ее можно было путем ряда обменов. Однако, в отличие от многих других приговоров, приговор об огораживании Battisford’a почти не содержит данных об обменах участками. Нужно сказать, что и вновь отведенные наделы, лежавшие преимущественно в западной, узкой полосой тянущейся части прихода, расположенные, так сказать, на отлете, не только не способствовали уменьшению чересполое- ности владений, но, наоборот, иногда ее увеличивали. Правда, в некоторых случаях новые наделы были все же отведены по соседству с участками давно огороженной земли, принадлежавшими тому или другому собственнику. Но, в общем, парламентское огораживание оставляло в Battisford’e широкий простор для последующего землеустройства, которое должно было натолкнуться на большие трудности в связи с этой чересполосностью владений.
Нужно еще отметить, может быть, несколько парадоксальный факт: земельные владения собственников крестьянского типа оказываются более консолидированными по сравнению с дворят нами и новые крестьянские наделы чаще примыкают к участкам давно огороженной земли.
Итак, карта огораживания, лишь на основании которой мы и можем выяснить ряд вопросов, связанных с расположением давно и вновь огороженных земель и конфигурацией земельной собственности, является важным дополнительным источником при изучении огораживания прихода Battisford. И она приобретает значение источника самостоятельного, содержащего несравненно больше данных по сравнению с приговором, как только мы ставим вопрос о подсчете всей площади давно огороженной земли, принадлежавшей дворянам землевладельцам, всем вместе взятым, или каждому в отдельности; то же относится, конечно, и к возможности исчисления всей площади крестьянского землевладения на давно огороженной земле.
Как и в случае Westerfield’cKoro огораживания, обращение к помощи планиметра позволяет установить в достаточной мере полную и точную картину распределения земельной собственности в целом для изучаемого прихода. Приводим результаты подсчетов:
і08
В. ЛАВРОВСКИЙ
Размеры дворянского, духовного и крестьянского землевладения по карте и приговору прихода Battisford, Suffolk
Землевладение
Наделы, полученные согласно приговору об огораживании
Площадь старинных огораживаний, вычислен над но нарте планиметром
Площадь наделов и старинных огораживаний по приговору и варте
а.
р*
п.
а.
р*
п.
а.
р-
п.
°/о
Дворян
89
2
19
953
2
16
1043
0
35
71.34
Духовенства . . . Собственников кре¬
0
2
33
1
2
0
2
0
33
0.14
стьянского типа
57
3
2
359
0
0
416
3
2
28.52
Итого . .
148
0
14
1314
0
16
1462
0
30
Мы видим, что подсчет с помощью планиметра давно огороженных участков на карте прихода Battisford дает не толькр гораздо более полную и точную картину распределения земельной собственности, но и обнаруживает значительно большее преобладание дворянского землевладения во всем приходе в целом, чем об этом можно судить по приговору: не 60.5°/0? но 71.34% всей давно и вновь огороженной земли принадлежало, согласно общему подсчету, дворянам. Соответственно уменьшилась доля крестьянского землевладения с 39.2 до 28.52%* Все же крестьян- окое землевладение в приходе Battisford достаточно сильно, собственники крестьянского типа — многочисленны.
Помещенная ниже таблица, составленная на основании комбинированных данных приговора об огораживании и подсчетов, произведенных по карте с помощью планиметра, позволяет установить как общее число собственников крестьянского типа, так и размеры землевладения каждого из них на давно и вновь огороженной земле. Таблица служит лишней иллюстрацией того, какую ценность в смысле источника имеет карта огораживания, приложенная к приговору: весь второй столбец таблицы содержит данные о размерах землевладения собственников крестьянского типа, вычисленные на основании карты с помощью планиметра. Приговор об огораживании содержит данные всего лишь относительно 57 акров 3 руд 2 перчей крестьянских наделов, что составляет приблизительно лишь одну седьмую всей площади крестьянского землевладения на давно и вновь огороженной земле, исчисленной на основании комбинированного изучения приговора об
КАРТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ОГОРАЖИВАНИЙ В АНГЛИИ
109
огораживании и приложенной к нему карты: последняя в данном случае гораздо богаче содержанием, чем приговор, имеет ценность самостоятельного источника в отношении участков давно огороженной земли и вносит важные дополнения по сравнению с приговором в отношении новых наделов. Наконец, только суммирование данных приговора и карты, содержащей, кстати сказать, упоминание о трех собственниках крестьянского типа, не получивших
Собственники крестьянского типа в приходе Battisford, Suffolk, — по карте и приговору об огораживании
Нхева собственников
Наделе, полученные ИНН, согласно при. говору об огораживании
Участки давно огороженной земли, которыми они владели, судя по карте
Оби.не размеры крестьянского землевладения по приговору и карте
Число собственников крестьянского тина, владевших участками давно и вновь огороженной земли
крестьянского типа
а.
р-
и.
а.
р«
и.
1
а
1
1 Р'
п.
<1 акр.
1—3
аира
8-Ю
акров
*?§
к
25—50
акров
1 £ 1 -
и§
Baker, James . . .
2
1
21
15
2
32
18
0
13
_
1
»
Baker, William . .
0
3
27
7
0
32
8
0
19
—
—
1
—
—
—
Booking, Jsaak . .
0
2
27
.
.
.
0
2
27
1
Bradley, Robert .
.
.
.
56
0
0
56
0
0
1
Chandler, Thomas
0
0
13
.
.
.
0
0
13
1
Clover, John . . .
0
3
9
1
3
24
2
2
33
—
1
—
—
—
—
Cooper, James . .
1
0
13
0
3
8
1
3
21
—
1
—
—
—
—
Cooper, Jonathan .
1
2
37
6
1
8
8
0
5
—
—
1
—
—
—
Cooper, Samuel .
4
3
16
•
.
.
4
3
16
—
—
1
—
—
—
Cooper, Samuel . deceased, trustees
of
Cross, William . .
}0
3
36
•
.
•
0
3
36
1
—
—
—
—
—
]з
1
39
0
3
8
4
1
7
1
___
Durrant, James . .
4
2
21
и
0
0
15
2
21
—
—
1
—
—
Edwards, Henry .
1
1
38
13
1
13
14
3
И
—
—
1
—
—
Fayere, George . .
1
3
3
.
.
.
1
3
3
—
1
—
—
—
—
Fox, John . . . .
.
.
76
2
0
76
2
0
1
Green, William . .
3
1
22
15
0
0
18
1
22
—
—
—
1
—
—
Hayward, William
3
2
22
48
2
27
52
1
9
1
«unt, Ann ....
.
.
.
19
2
16
19
2
16
—
—
—
1
—
—
•arrold, Robert
0
3
8
.
.
.
0
3
8
1
bafflin, Philip. . .
0
1
38
.
.
.
0
1
38
1
—
—
—
—
Lucky, John . . .
0
3
4
6
0
16
6
3
20
—
—
1
—
—
—
Making, John . .
0
1
30
.
.
.
0
1
30
1
—
—
г
—
—
Jpking, Robert . .
0
1
16
.
.
•
0
1
16
1
—
—
—
—
—
pretty man, Robert
0
3
1
2
3
24
3
2
25
—
1
—
—
{lose, John ....
0
2
5
0
3
8
1
1
13
1
Southgate, William
0
1
5
0
2
0
0
3
5
1
^lelbing, Isaak . .
4
3
11
36
3
8
41
2
19
—
—
—
—
1
—
|uylor, William .
2
1
38
7
2
0
9
3
38
—
1
—
—
—
l^demau, William ^ord, Edward . . Woodward, Stephen Worledge, William
0
2
3
1
2
0
2
0
3
1
—
—
—
—
12
1
23
30
0
16
42
1
39
—
1
—
0
3
7
.
.
.
0
3
7
1
0
1
29
•
•
•
0
1
29
1
—
—
—
—
—
Итого . .
"і
3
2 |
3591
0 |
0 |
4161
1
3 1
2 |
10
5
7
5
2
3
ІІО
В. ЛАВРОВСКИЙ
наделов по приговору, но владеющих участками давно огороженной земли, дает возможность разбить собственников крестьянского типа на группы владевших землями менее 1 акра, 1 — 3 акра, <6олее 3—10 акров и т. д., принимая во внимание общие размеры их землевладения на давно и вновь огороженной земле.
Произведенный выше анализ пяти карт сэффокских огораживаний, относящихся к периоду 1803—1814 гг., достаточно убедительно говорит о ценности карт парламентского огораживания как источника по истории землевладения в Англии конца ХУШ — «начала XIX вв., позволяющего — особенно при сопоставлении с приговорами об огораживании и другими источниками — нарисовать весьма детальную и точную картину распределения земельной собственности между различными группами английского деревенского общества, судить о соотношении давно и вновь огороженной земли в различных приходах и уяснить существо того сдвига, который был связан с движением парламентских огоражйваний и связанной с ним аграрной революции, напряженно протекавшей в условиях войны Англии с революционной и наполеоновской Францией и континентальной блокады. Изучение этих 5 карт, отобранных автором из общего числа 75 карт, им изученных, позволяет сделать ряд выводов относительно значения карт парламентского огораживания как источника, иногда дополняющего, вносящего ряд новых данных и деталей в картину распределения земельной собственности по приговорам об огораживании, иногда — приобретающего большую самостоятельную ценность и по богатству содержания своего превосходящего приговоры об огораживании. Далеко не исчерпав всех Verwendungsmoglichkei- ten,1 всех скрытых в картах парламентского огораживания возможностей в отношении использования содержащегося в них богатейшего материала, автор лишь пытался на примере упомянуты* пяти карт вскрыть и показать те приемы и методы, пользуясь которыми можно выявить богатое содержание документов, представляющих большой интерес для суждения о судьбах английской деревни, в частности английского крестьянства, в столь острый переходной период, каким были особенно два десятилетия (1793—1815) бурного развития парламентских огораживаний и связанной с ними радикальной ломки старых форм деревенской жизни в Англии.
1 См. выше Eckert, Die Eartenwissenschaft als Lehrfach.
в. КАМЕНСКИЙ
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА, ТРУДОВЫХ ПЕСЕН И ДРУГИХ ТИПОВ ФОЛЬКЛОРНОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ИСТОЧНИКА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ
Вопрос о значении рабочего фольклора и других близко соприкасающихся с ним типов фольклорного творчества — трудовых песен, промысловых прозвищ, технических загадок, скороговорок и пр. как источника для истории техники почти не ставился до последнего времени в научной литературе.1 Между тем, в соответствии с реальным значением этого источника, памятники рабочего фольклора, на ряду с фольклором и художественной литературой вообще, постоянно используются в работах, посвященных как истории отдельных технологических процессов или отраслей техники, так и в сочинениях более общего характера, историко-технического и историко-экономического.1 2
Изучая фольклор (как и художественную литературу) в качестве источника для истории техники, необходимо этот способ изучения, хотя и тесно связанный с задачами и методами исследования того же материала литературоведческого, лингвистического, музыкальной этнографии и пр., уяснить в присущей ему •специфической проблематике. Один из основных вопросов, который при этом возникает, заключается в том, какого типа и^точ-
1 Некоторые соображения по этому вопросу имеются в статье Jean Pelseneer’a «Le folklore et l’histoire de la pensee scientifique», напечатанной ® Archeion’e 1934 r., vol. XVI, № 2.
2 Статья E. Kilbnrn Scott по истории сукноваляния: Early cloth Fulling and its Machineiy. в The Newcomen Society for the studdy of the history of Engineeng and Technology. Transactions, v. XII, 1931 — 1932; работа L. S. Wood’a и A. Wilmor’a по истории текстильной техники: The romance of the •cotton industry in England, 1927. Работы Ashton’a, Johansen’a, старая работа L. Beck’a по истории металлургии, историко-экономические сочинения Ashley, Mantoux и др. авторов.
112
В. КАМЕНСКИЙ
ники являются наиболее характерными для определенных общественных формаций и известных отраслей техники на разных стадиях их развития, а такя;е, какие именно стороны техники (в социальном смысле) получают характерное выражение в данного типа источниках на различных этапах развития общественного производства.
Поскольку в художественной литературе и в фольклоре в неисчерпаемом многообразии различных сторон жизни находят себе отражение и моменты, связанные с техникой, социальная обусловленность литературы и фольклора той средой, на почве которой они возникают, выраясается в том, что определенные памятники отражают технику именно данного конкретного общественного уклада, а также в самом характере этого отражения, в котором запечатлеваются не только реальные факты, но отношение определенных социальных групп к этим фактам.
Указанные два момента играют не одинаковую роль для изучения техники различных общественных формаций. Если для ((Эпохи машинной техники», и чем ближе к современности, тем в большей степени главное значение для истории техники должен иметь второй момент, то, напротив, для предшествующих общественных формаций, и чем дальше от современности к начальным стадиям общественного производства, тем больше памятники фольклора и художественной литературы, наравне с другими источниками, напр., памятниками археологии, играют роль, основных или единственных источников, и на ряду со вторым моментом получает большое значение и первый, т. е. конкретное воспроизведение самой техники, определенных технологических процессов, указания на характер орудий труда, приемов работы; и пр.1
1 Для иллюстрации первого может служить целое направление в худо- жесАенной литературе эпохи капитализма, которое можно проследить с промышленного переворота, начиная от поэмы о победоносном паре д-ра Дарвина (поэма д-ра Дарвина «Botanic Garden», в которой воспеваются будущие успехи победоносного пара в области транспорта на воде и на суше, была написана в 1791 г., в эпоху зарождения мысли и первых опытов применения пара в качестве двигателя для транспорта на основе предшествующего быстрого внедрения паровой машины Уатта в промышленность) до романов Жюль-Верна, Фламариона, Уэлльса и других авторов, с их своеобразной романтикой, устремленной в будущее, с тем реалистически-фан- тастическпм техницизмом, предвидением новых великих технических изобретений и открытий, которые характерны для победного шествия машины и
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 113
Рабочее фольклорное творчество и близко стоящие типы фольклора, выростающие на базе определенных ремесл, крестьянских земледельческих работ и т. д., обусловливаются в конкретных своих проявлениях характером производства. Поэтому изучение этого материала опирается на изучение соответствующей технической основы. С этим связано и обратное значение его как источника для истории техники. Указанным предопределяется и способ классификации и изучения материала — по общественным формациям и отдельным технопроизводственным укладам.
Необходимо при этом учесть, что в известных общественных формациях продолжают жить технические приемы и технические уклады предшествующих общественных формаций, которые.
идеализации технического прогресса эпохи расцвета капитализма. Исторические корни этого направления, — его социологическая основа, уходят вглубь мануфактурного периода и могут быть прослежены на примере тех стран, где ранее других складываются капиталистические отношения: Италия — инженерный роман Filarete (XV в.), Англия — технократическая утопия (Атлантида) Бэкона, построенная, как и философия Бэкона, на идее изобретения и проникнутая характерным для социального мировоззрения Бэкона и молодой английской буржуазии начала XVII в. прогрессивным техницизмом.
Напротив, для периода современного кризиса характерным является специфический антитехницизм художественной литературы, связанный с идеализацией идиллической первобытности и примитивности, которые противополагаются современному «перемеханизированному миру» («der Ubermechanisirten Welt»). Этот антитехницизм художественной литературы (Denyz d’Amiel, L’age du fer. La petite Illustration, 1932. Graf Hermann Kayzerling, SUdamerikanische Meditationen. Deutsche Verlaganstalt Stuttgart. Berlin, 1932 и др.) выражает сознание переживаемого кризиса, тех тенденций «зажать», «взнуздать» технику для разрешения «технического перенапряжения», которым в области практики соответствует действительное замораживание и разрушение производительных сил. (Ср. В. Вольфсон. Антитехницизм. К характеристике идеологии загнивающего капитализма* Фронт науки н техники, 1933, № 7—8).
В качестве же иллюстрации того Значения, какое имеют памятники фольклора и художественной литературы для истории техники там, где при отсутствии других документов они приобретают характер единственных или главнейших источников для суждения о технике в узком смысле слова, можно указать на эпическую поэзию — Гомеровский эпос, Калевала и пр. Так, например, металлургические руны Калевалы (9-я, 31-я и 44-я) представляют ценность в качестве прямого источника для истории техники подробными описаниями технологического процесса производства «сыродутного железа» во всех его стадиях (добыча болотной руды, плавка железа, превращение в тестоообразную крицу, отковка под молотом, закалка, вы-
114
В. КАМЕНСКИЙ
ее изменяя своей технической основы, модифицируют социально- экономическую структуру свою в недрах нового экономического уклада. Поскольку они обрастают фольклорным материалом, последний, отражая ту и другую сторону, подучает двойную выразительность в качестве исторического источника для той общественной формации, в недрах которой он зарождается и косвенно для той более ранней, на уровне которой находится техника данного производства. Например, песни работ, представляющих образцы простой кооперации, могут быть прослежены От самых ранних стадий общественного развития до периода развитой машинной техники, поскольку и здесь продолжают существовать отдельные виды грубой работы, требующие совместного приложения усилий многих людей. В каком аспекте будет исполь-
ковка готовых изделий), тех производственных отношений, с которыми были «вязаны данные примитивные технические приемы обработки железа (покупка молотобойца кузнецом за «три куска железных крючьев, кос пяток и шесть мотыг»), характера продукции (перечисление изделий), значения железа в общей системе хозяйства (заказ кузнецу топора крестьянином, отправляющимся «в лес ... на подсечку... рубить березы»).
Аналогичное значение имеют отдельные памятники художественной литературы, генетически связанные с определенным производством, для более поздних общественных формаций, где автор бывает хорошо с ним знаком и где он специально посвящает срое произведение его описанию. Здесь, как и в области фольклора, литературный памятник может иметь иногда значение основного или единственного источника, позволяющего судить о конкретном процессе развития определенной отрасли техники в рамках уже более высокого развития производительных сил и на основе точных историко-географических указаний и датировок. Примером может служить для эпохи позднего феодализма во Франции латинская поэма Fer- raria, написанная сыном французского железозаводчика в Вандерве в 1517 г., — документ, позволяющий с точностью установить наличие во Франции в конце XV — начале XVI вв. переделочного способа производства в период, когда как раз совершался в ряде стран переход к доменному процессу и в то же время в отдельных странах и старых промышленных районах еще продолжали господствовать так называемые штюкофены для изготовления железа непосредственно из руды.
Характерным источником, имеющим аналогичное значение для истории текстильной техники эпохи мануфактурного производства, является поэма XVI в. под названием Pleasant history of John YYinchcomb, рисующая производственный процесс на одной из английски! суконных мануфактур в перво і их обр ізования.
Подобные памятники имеются и в других национальных литературах, в частности в русской: стихи о «рудокопном деле» XVIII в., «металлургические стихи» крепостного поэта металлиста Егора Алипанова и др.
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 115
зоваться данный конкретный памятник в каждом отдельном случае, — будет зависеть от степени выразительности данного источника в том и другом отношении и от поставленной задачи. Далее необходимо учитывать и специфику самого фольклорного материала, поскольку образцы фольклорного творчества не являются окаменелыми остатками определенной общественной формации и той социальной среды, в недрах которой они возникают; но возникнув в определенной социальной среде на известном уровне общественного производства, например, среди определенной группы профессиональных рабочих, дальнейшее существование продолжав в изменившихся социальных условиях, например, попадая в среду другой профессиональной группы рабочих, они подвергаются трансформации, иногда полному переосмыслению всей образной системы.
Ниже в качестве основного источника будет рассматриваться рабочая песня в двух ее разновидностях — трудовой песни и рабочей песни в собственном смысле, связанной с рабочей средой, с привлечением попутно в качестве пояснения другого типа источников: пословиц, поговорок, отчасти и словарного материала, например, «прозвищ машин» и пр.
Подходя в рабочей песне, как к историко-техническому источнику, необходимо прежде всего учесть указанное разграничение материала на две большие области: с одной стороны, стоит трудовая песня, возникающая в условиях самого производства, его сопровождающая и организующая, которая характерна для всего периода и отдельных трудовых процессов домашинной техники, с другой—рабочая песня в собственном смысле эпохи машинизма, которая, в силу особенностей самой машинной техники, положения рабочего в процессе труда, отрывается от того технологического процесса, с которым она в качестве профессиональной рабочей песни связана своими социальными корнями. С этим различением связаны некоторые характерные свойства, присущие первой группе источников — трудовым песням, отчасти и другим примыкающим типам фольклора: техническим поговоркам, скороговоркам и пр. как источникам для истории техники, поскольку этого типа памятники органически связаны и составляют часть самого производственного процесса или являются как бы осколками его: промысловые или земледельческие поговорки, загадки воспроизводят ритмически и мелодически характер самих трудовых процессов, что придает им специ-
8*
116
В. КАМЕНСКИЙ
фическое значение как источникам для изучения различных техно- производственных укладов и отдельных технологических процессов домашинной техники (имеются в виду, конечно, механические производства; химическая технология может приниматься в расчет лишь в той мере, в какой здесь имеют место механические работы).
Трудовая песня соответствует уровню развития техники производства, при котором результаты работы определяются физическим усилием и ловкостью работника. Сопровождая работу, она передает ритм работы и в свою очередь организует ритмически работу.1
Там, где работа не имеет собственного ритма, песня дает ей ритм, соединяя усилия участников работы, подчиняющихся команде человеческого голоса для общего действия. На низших стадиях общественного развития трудовая песня сопровождает собой все главнейшие трудовые процессы, отражая характер господствующих промыслов и степень развития отдельных отраслей техники. У отсталых народов современности основные трудовые процессы всегда сопровождаются песней. Однако и на более высоких ступенях общественного развития ряд трудовых процессов, стоящих на уровне техники предшествующих укладов, также находят отражение в песне, і
Значение трудовой песни как Источника для истории техники связано прежде всего с тем, что соответственно с особенностями данного экономического уклада получает развитие тот или другой вид песен. У народов, живущих вдоль больших рек или морей, с развитой навигацией, при господстве техники гребного флота получают развитие песни гребцов (греки, римляне, ряд европейских народов, североамериканские индейцы, различные племена тихоокеанских островов). В отдельных случаях эти песни отражают в себе разнообразие приемов работы, например, изменение ритма песни с изменением ритма гребной работы в условиях глубокой и мелкой воды у новозеландцев или изменение напевов нильских корабельщиков при поднятии парусов, при вытягивании лодки с мели и т. д.1 2 В Голландии с ее земляными работами, с системой свайных построек в болотистых
1 С этой стороны трудовая песня была изучена ВОсЬег’ом.
2 На ряду с рабочей песней определенные технические приемы работы находят выражение и в других типах рабочего фольклора, например, в рабочих «технических выражениях» гребли. В рыбачьих промыслах Полтав-
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 117
местах, широко были распространены песни при забивке свай. Если вслушаться в симфонию многоголосого трудового пения, звучащую на протяжении какой-либо страны, например, старой России, то она передает в разнообразии отдельных рабочих напевов с их своеобразными ритмами разнообразие различных работ, совершающихся в соответствии с биением пульса народнохозяйственной жизни в различные времена года и отдельных промыслов в различных районах страны: тут и земледельческие песни при молотьбе, передающие переменный такт ударов цепов, и женские песни при обработке льна и шерсти, прядении и тканье, и песни различных промыслов, местных и отхожих: плотников с их натугой и усилием, бочаров с метрическими перебоями, соответствующими ударам молота при набивании обручей на бочки, погонщиков, грузчиков... и заунывные, звучавшие как стон вдоль глухих берегов судоходных рек, напевы бурлаков.
Для ранних общественных формаций одним из типичных технических приемов является форма простой кооперации. Трудовые процессы, организованные по принципу простой кооперации, оставившие классические памятники в виде строительных сооружений древних монархий Египта, Азии и пр., в классовом обществе возникают на социально-экономической основе экс- плоатации труда большого числа рабочих (несвободных или наемных, в зависимости от характера данной общественно-экономической формации). Технически, как и в доклассовом обществе, они представляют собой грубые формы работы, основанные на совместном одновременном приложении усилий участников трудового процесса.
Эта форма техники производства проходит через все общественные формации вплоть до промышленного капитализма включительно, сохраняясь в последнем случае в тех процессах, которые еще не завоеваны механическим двигателем, часто на важ-
скои губ. имелись специальные выражения для характеристики гребли: при поворотах—«Зпід човна», прямо вперед—«У ход гребы», для сильного хода — «Чрез обшивку» и т. д. В. Н. Василенко. Опыт толкового словаря народно-техническоё терминологии в Полтавской губ., отдел I, II, 1IL Кустарные промыслы, сельское хозяйство и земледелие, народные поговорки и изречения. Харьков, 1902, стр. 55.
118
В. КАМЕНСКИЙ
нейших участках народно-хозяйственной жизни (речной транспорт с его бурлацкой тягой в России и др. странах, огромное большинство строительных плотничьих работ и т. д.). Трудовая песня отражает элементарную техническую основу этих трудовых нроцессов, остающуюся той же самой в пределах промышленного капитализма, что и во всех предшествующих формациях. Соответственно той роли, какую она играет в работе, подавая сигнал к началу работы, контролируя работу, побуждая к соединенному и своевременному приложению усилий всех участников, она воспроизводит характерные черты, присущие грубой технике простой кооперации. Здесь прежде всего большую роль играет призыв к работе, иногда он звучит как простой возглас—«Holz her» немецких плотников или ритмическое чередование слов, организующих ряд повторных усилий рабочих — русская плотницкая песнь:
Эй ухнем, эй ухнем!
Еще разик, еще раз!
Эй ухнем, эй ухнем!
Разовьем мы березу?
Разовьем мы кудряву,
Ай да да, ай да, ай да да, ай да!
Разовьем мы кудряіу!
Эй ухнем, эй ухнем!
Еще разик, еще раз!
Эй ухнем, эй ухнем!
Или бурлацкая:
Ой раз, ой раз, еще раз, ой раз!
Ой раз, ой разок, ой раз!
Еще...
(протяжно, с последним усилием, при котором поддается вперед нагруженная барка).
В этих песнях работа часто доминирует и над содержанием, которое в большинстве случаев состоит из повторяющихся призывов к совместному действию, как, например, в русской бурлацкой песне:
Сходись, берись, ребятушки,
Давай ухнем!
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 149
Сошлись, взялись разудалые,
Давай ухнем!
Или в русской «Дубинушке»:
Ну, ребята, принимайся,
За дубинушку хватайся,
Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!
Идет, идет, идет!
Все дальнейшие строфы состоят в поощрении, в приглашении к работе, в понукании и начинаются с выражений: «нутка примемся за дело», «ну, ребята, не зевайте», «ну, тяните посильнее», «отпускайте в раз дружнее» и т. д. Здесь в содержании песни выступает ее значение как команды, которая может осуществляться и не только посредством человеческого голоса.1
♦ В трудовой песне простой кооперации в этих элементах шь нукания находят отражение специфические производственные отношения, обусловленные самой примитивной техникой и основанные на эксплоатации рабочего, так сказать, в качестве «instrumentum vocale» в собственном смысле слова, что связано с наличием старшего рабочего-запевалы, подгонялы (роль трудовой песни как орудия интенсификации труда в классовом обществе, связанная с проблемой подгоняния, проходящей через трудовые процессы различных способов домашинного производства, хотя и по-разному ставящейся, например, в ремесле и мануфактуре).1 2
Для техники простой кооперации типичное выражение этого имеется, например, в немецких песнях рабочих при забивке свай с помощьдо сваебитных баб (тяжелый чурбан, приподни-
1 В русских гравюрах XVIII в., изображающих работы по установке камня «грома» (для памятника Петра I), представлен барабанщик, стоящий на вершине камня и отбивающий такт с целью объединения усилий рабочих,, натягивающих канаты, которыми приводится в движение камень.
2 Песня «подгонялка» в качестве органической части самой работы как начало, организующее трудовой процесс, являясь показателен известного уровня техники производства, одновременно характеризует и соответствующий уровень «техники» эксплоатации труда, поскольку выполняет функции хозяйского ока, наблюдающего за работой, первоначально осуществлявшиеся самим хозяином в собственном лице или в лице приказчика («Торопись, вожатый, погоняй быков. Погляди, князь стоит и смотрит на нас», — говорит египетская песенка пахарей).
120
В. КАМЕНСКИЙ
мавшийся силой 8—12 рабочих посредством каната, перекинутого через шкив, укрепленный на столбах, и опускавшийся при •ударе по свае собственной тяжестью). В них особые строфы служили для понукания отстающих; туда проставлялись соответствующие имена рабочих. Эт& сторона производственных отношений, отраженная в рабочей песне, фиксировалась и законодательством. Так, например, согласно регламентации заработной платы рабочих баварского устава 1729 г. (параграф о заработной плате поденщиков) простому рабочему при водяных сооружениях назначалось 13, а запевале —14 крейцеров поденной платы.1
Элемент подгоняния выступает и в песне ремесленного и мануфактурного производства, где имеются процессы, требующие общего приложения усилий работников.
В описании техники ручного сукноваляния в Ирландии1 приводятся образцы песен, под ритм которых, сначала умеренный, затем все ускоряющийся, молодые девушки ударяли сукно о стол, приподымая его двумя руками и передвигая вдоль.
Но, wing and feather and song,
Toss till the web is strong...
В песнях, приуроченных к работам совместным, например, в одной мастерской, или земледельческим, но не требующим соединения общих усилий работников,! также содержится этот же элемент (немецкие песни рогожного и корзинного производства и пр., песни, связанные с различными работами с переменным тактом, например, песни при взрыхлении земли способом, применявшимся рабовладельцами в стране базутосов в Африке, при котором расставленные в ряд работники ритмически ударяли кирками в такт ускоряющейся песни, при рубке кукурузы на юге России и т. д).1 2 3
Стимулирующая роль песни, служащей для того, чтобы подгонять рабочих, основана на том, что, отражая ритм работы или организуя ритмически работу, песня подчиняет ее своему темпу, что используется при разных системах эксплоатации рабочего труда и в различных производствах.
1 Schmeller В. WOrterbuch, I, sp. 1021. Ср. Biicher, Arbeit and Rhyt- mus, 1896.
2 Указанная статья E. Eillburn Scott, Early cloth Fulling.
* А. Берс. Роль ритма в жизни народов. «Этн. обозрение», 1902, № 3, стр. 130.
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 121
На ряду с этим значением песни в ней выступают элементы, характеризующие физиологическую сторону трудового процесса {физическая натуга, тяжелый вздох и пр.), играющую решающую роль при грубой технике простой кооперации. В этом отношении характерными являются возглас «ухнем» и повторяющиеся междометия «ох» и «ах», служащие фонетическим подражанием тяжелому, но облегчающему грудь вздоху в песнях бурлацких, плотничьих и т. д.
Взяли молодцы,
Ох и еще разок!
Разудалые,
Ох и еще разок!
Как и бравые,
Ох и еще разок!
Горьки пьяницы,
Ох и еще разок!
Быть может, еще одна черта трудовой песни простой кооперации, правда, встречающаяся и в ряде других трудовых песен, а также в другого типа песнях, например плясовых, — чередование в конце песни бессвязных образов, облекающихся в форму коротких шутливых фраз, следующих одна за другой, является если не прямым отражением, то художественным перевоплощением определенных моментов, связанных с технической стороной трудовых процессов простой кооперации, — именно той стороной грубой техники простой кооперации, которая заключается в расточительном расходовании человеческой силы и вызывает психофизиологическую усталость работника.1 Чередование бессвязных образов, облекающихся в музыкальную форму повторяющихся отрывочных фраз, может быть, генетически и по своему психофизиологическому действию на участников трудового процесса (как и в аналогичных типах песен, связанных с процессами затраты физической энергии при работах й при танцах), упирается в указанную субъективную основу технопроизвод- ственного процесса простой кооперации. В новгородской бурлацкой песне (пелась при сенных барках: «Наша барка на мель стала...») сначала плавно развивающаяся мысль (погрузка барки,
1 Это с особенной отчетливостью выступает в условиях рабского хозяйства,— той «египетской работы», при которой по выражению древне-египетской песенки носильщиков, работники должны иметь «из меди сердце».
122
В. КАМЕНСКИЙ
барка стала на медь, вытаскивание барки с мели...), прерываемая характерными запевами, совпадающими с приложением усилий рабочих1 в условиях отупляющей тяжелой работы, повторяющихся однообразных усилий, начинает облекаться в безсвязные образы, которые непроизвольно всплывают и мелькают перед утомленным сознанием:
Как у Броницкого мосту Потонуло девок со сту.
(Запев)
Как у нашего Федота Подл омилися ворота.
(Запев)
Как у летнего у сада Продает мужик рассаду.
(Запев)
Утонула крыса в крынке Приходил кот на поминки.
(Запев)
Наши девки припо|гели,
Покупаться захотели.
(Запев)
Закипела в море пена,
Будет ветру перемена.
(Запев)
Трудовая песня отражает технику простой кооперации и со стороны определенных социально-экономических укладов в со-
1 Ой, дубинушка, охни!
Ой, зеленая, нейдет, пойдет, Ой раз, ой раз!
Еще разик, таки раз!
Еще маленький разок!
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 12$
ответстствии с различными формами эксплоатации труда. Так, если взять ту же русскую бурлацкую песню, то в ней имеются специфические черты, характеризующие положение техники простой кооперации в известных конкретных исторических условиях капиталистической эксплоатации труда, например, наличие рынка труда, скопление больших масс бурлаков в местах найма в оживленных торговых пунктах, наем рабочих и использование их, пока они, с одной стороны, трудоспособны, а с другой, пока длится сезон, — песни бурлацкого пьяного быта, уже оторвавшиеся от трудового процесса, зарождающиеся в пунктах скопления бурлаков среди скученных человеческих тел и гула сотен голосов, в которых бурлак поет про кабак, про любовь («Как пошли наши бурлаки на рынок гуляти, белорусы бурлаки урлапень, хвостень, вердер, ведрер, вердер тро..;.»);1 песни бурлака, лишившегося заработка с окончанием сезона, принужденного искать работы на зиму, песни подсобных бурлацких промыслов, например, записанная в Архангельске бурлацкая песня, рисующая зимовку русских бурлаков на Шпицбергене для промыслов:
(«Мы друг с другом сговорились И на Гурмант покрутились, Контракты заключили И задатки получили.
Прощай летние гулянки,
Под горою стоят барки...»).
Как указано было, трудовая песня в условиях домашинного* производства сопровождает не только трудовые процессы, организованные по принципу простой кооперации, но и единичные работы, отражая ритмический характер отдельных технологических процессов. В этом случае значение трудовой песни как источника для истории техники связано с тем, что песня может явиться основой для суждения об уровне техники данной отрасли производства. іі Эта черта получает косвенное отражение и в других типах фольклора: так, например, в географическом промысловом названии семеновцев (Нижегород. губ.) «лошкарями», «бурлацкими ложками» содержится намек на господствовавший в районе скопления огромных масс бурлаков лошкар- вый промысел.
124
В. КАМЕНСКИЙ
Так, например, один характер имеют мельничные песни при ручном мелении, древнейший образец которых представляет собой лесбийская песня, приводимая Плутархом, в которой, между прочим, как отмечает Bucher, в угоду ритму движений мельничного жернова нарушены обычные правила греческой метрики; и совершенно другой характер присущ песням мельников, соответствующим технике меления при водяном и ветряном двигателях.1 Один ритм имеет песня пряхи при ручной работе, подчиняющаяся ритмическому обращению веретена, и другой — при самопрялке, с ее ударами ноги, приводящей в движение прядильное колесо.
Трудовая песня отражает не только отдельные технические детали, приемы работы определенных технологических процессов, но и черты, характеризующие существо данного способа производства вообще, ремесла, мануфактуры и т. д.
Говоря о ремесле, следует поставить вопрос о том, как фольклорный материал, вырастающий на его основе, отражает специфику ремесленного способа производства.
В ремесленном способе производства в противоположность машинному, где рабочий подчиняется автоматически работающему орудию, он является активным участником процесса, заставляя орудие служить себе, и в то же время, в противоположность мануфактурному производству, с его тенденцией к расчленению цельного процесса на отдельные функции, распре-
1 Сказанное относится и к другим типам фольклора: загадкам, поговоркам, скороговоркам и т. д., поскольку в них ритмически отражается музыка данного производства. Ср., например, загадки про водяную мельницу:
«Где стук, где гром,
Там Захаров дом,
Где стукотня да громля,
Там Захарова родня».
Таких примеров из различных производств, для различных стадий развития техники можно было бы привести множество: ср., например, песни ручной молотьбы (цепами или палками) и песни молотьбы с помощью животных. Древнейший образец последних — египетская молотильная песенка молотильщиков, работавших с быками:
Молотите себе, молотите себе,
О быки, молотите себе.
{Русский перевод по книжке М. Э- Матье, Что читали Бгиптяне 4000 лет тому назад, Л., І935, изд. Госуд. Эрмитажа).
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 125-
деляемые между «частичными рабочими)), что связано с «упрощением» работы, он полностью осуществляет весь процесс производства во всех его стадиях и деталях. С этим связана сложность трудового процесса при ремесленном производстве у которой отвечает виртуозность работника, участвующего в каждой операции физически и интеллектуально (внимание, ловкость, сноровка), выступающего в условиях феодального разобщения ремесла, в различных отраслях сельского домашнего производства (деревенская ткачиха) в качестве мастера, во всех деталях знающего свое ремесло.1
Эти моменты, характерные для ремесленного производства, обнаруживаются в рабочем фольклорном творчестве, вырастающем на его основе.
Субъектный характер ремесленного производства, связанный с тем, что психо-физиологический трудовой процесс является основой технологического процесса, обусловливает ритмическую оформленность трудовой песни тактом производства; этим обусловлено и то, что техническая загадка-поговорка легко облекается в форму скороговорки, ритмически передающую характер работы.
Характерными в этом отношении являются поговорки, прибаутки, связанные с рядом женских работ в условиях сельской домашней промышленности, в особенности с тканьем. В соответствии со значением этой работы в хозяйстве и в деревенском быту, а также характером техники, нет, кажется, детали производства, приема работы, того или другого орудия, которые не нашли бы себе отражения в песне, обрядах, повериях, пословицах или загадках. На этом примере легко проследить, как отражаются характерные черты ремесленного производства в рабочем фольклоре.
В отличие от рабочего в машинном производстве, подчиненного хитро сконструированной машине, требующей от него лишь
1 Активность рабочего в процессе, элемепт мастерства, присущий ремесленной технике, обусловливается самой сущностью технопроизводствен- ного механизма ремесла, который заключается в единстве физических и технических органов работника, функциональное расчленение которого на отдельные действия в процессе производства, например, действие поножей и просовывание челнока при тканье, лишь обнаруживает сращенность отдельного биологического органа с его техническим коррелятом. (Ср. Э- Лейкин, Капитализм и система механического производства. История техники, сб. I, М., 1934, стр. 34).
126
В. КАМЕНСКИЙ
вполне определенных, заранее предусмотренных действий, деревенская ткачиха является активным фактором производства, начиная от подготовки к тканью—((снование», приготовления (скросен», ниток для тканья, посредством колочения их вальками (ср. выражение «псрут кроены»), наладки «кросен» и ткацкого станка,1 и до самой «премудрой работы», требующей искусства, внимания, уменья предотвратить или исправить случайности в работе, например, неравномерность краев ткани, косое положение, при котором один бок получается частый, другой редкий и т. д. (ср. выражение «бабских судеб много»).1 2
С этим связана обусловленная самой техникой производства, характерная для ремесла длительность соприкосновения, в процессе производства, работника со своим орудием и предметом труда. «Чтобы получить хороший клинок, нужно проковать его десять тысяч раз», говорит японская техническая поговорка из быта клинковых мастеров, намекая на технику повторных сварок и проковывания клинка.
Субъектный характер ремесленного производства, связанный с известным отношением работника к своей работе и орудию труда (любовное отношение, зоркое подмечание отдельных особенностей той или другой детали, внешнего вида, функций, характера движений и пр.), обусловливает то, что техническая характеристика ремесла легко облекается [в образную форму загадки (антропоморфирование и зооморфирование отдельных моментов и деталей). Характерны загадки, фиксирующие роль биологических органов в различных операциях, образующих целое данного производственного процесса; напр. галицийские загадки из области ручного прядения: «Пять дома мокрых, а пять в до розе сухих (пальцы у пряхи)»; «Пять овец стижок под идае,а пять прочь убигае» («Кужиль як прядут»).3 «Деревянные ноги, хоть все лето стой» (намек на то, что летом станок «отдыхает»), — говорит рязанская загадка про ткацкий стан, указывая на «ставы»—два деревянных бруска, имеющих по две «ноги» (в каждом сделано отверстие, куда вставляется вытесанная палка, сзади кладется
1 Ср. выражение «не припася основы, ткать не садятся».
2 Сюда же относится выражение, идущее из быта рогожников, применявших аналогичные приемы при тканье: поправиться «с кулька в рогожку». Ср. В. Добровольский, Кросна, «Этн. обозр.», 1902, № 1.
8 Ср. А. Сементковский, Малорусские загадки, Сборн. в память I Русского статистич. съезда, 1870—1872.
о ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 127
«навой», спереди «пришва»). «Какие зубы не кусают, не едят», говорится про бердо, имеющее вид длинного гребешка, у которого оконечности зубцов с обеих сторон закрыты палочками, куда продеваются нитки кросен. Ряд характерных загадок любовно отмечает особенности челнока, его внешнего вида, движения, положения в системе ткацкого стана; про челнок, имеющий вид бездонной лодки, в оба мысика которой упирается «прутик», рязанская загадка говорит: «желтенькая свинка, вырезана спинка»; новгородская загадка замечает: «слепой поросенок возле тына ползет», т. е. поперек натянутых ниток (или «бежит бесенок через темненький лесок»). Самарские, вятские, рязанские шутливые прибаутки загадывают про «нит» («нит» вяжется при помощи дбщечки из очень крепких ниток, наподобие цельной бахромы; в «нит» продеваются палочки; посредством шнурка «нит» привязывается к «к ру те л нам» или «котелкам»; при помощи «котелок» «нит» поднимается и опускается вниз):
Особый интерес представляют загадки, воспроизводящие самый процесс тканья, которые передают и такт ударов при работе на ткацком станке:1
1 Ритмы производственных процессов передаются и загадками, относящимися к прядильным и др. женским работам. Напр., мелькание мотовила при круговращательном движении, ускоряющемся или замедляющемся до остановки, воспроизводится в псковских загадках:
Вверх булды, Вниз булды, Перебулдышки.
Вверх бурды, Вниз бурды, По тем бурдам Вели бурды
Ногами пру, Брюхом тру, Где розинется, Тут ткну.
Четыре сестры Бегать шустры Одна за другой,
Не догонят ни одной
Четыре сестрицы Вперед гоняются, Одна другой Не догонит.
128
В. КАМЕНСКИЙ
Или:
Ногами топчу,
Другой потяну,
Животом нажму,
Два раза колону
Рукой шмыгну,
И опять начну.
Или:
Ногами мнет,
Расщеперит,
Брюхом трет,
Да и ткнет.
В этих
и аналогичных загадках с замечательной точностью
передаются и ритм, и самый
ход работы, в которой работник
или работница активно участвуют на каждом ее этане (ряд последовательно и одновременно осуществляемых движений при тканье: поднимание и опускание «ниченок» посредством надавливания ногами подножек, просовывание в образовавшийся от этого действия зев челнока с уточной нитью и пр.), являясь не только двигателем, но и применяя отдельные приемы—различные способы кидания «нита», хождения по поножам (напр., вместо обычных 2 «ниченок» применялись 3, 4 и до 12 с таким же числом подножек), от которых зависит рисунок ткани (ср. технические выражения: «кружками?, «рядками», «гречишной», «дорожками», «елкой», «рыбьей чешуей», «волной», «птицами», «зверями» и т. д. I
Характеристики ремесленных работ и орудий труда в фольклоре отражают кроме «виртоузности работника» значение и другого фактора, играющего на ряду с первым решающее значение в трудовых процессах ремесла, как бы они ни были элементарны, и обусловливающего производительность труда,— «совершенство» тех орудий, которые этот труд себе создал. Отсюда — обилие в социальной среде различных отраслей ремесленного производства характеристик тех элементарных орудий, без которых ни один ремесленник, согласно плотничьей поговорке, не мог бы существовать: «кабы не клин, да не мох, так бы плотник издох».
В фольклоре вообще и в частности в тех типах фольклора, которые здесь рассматриваются, находит себе широкое отражение еще одна характерная черта ремесленной техники — наличие «мистического» элемента, связанного со специфической замкнутостью ремесла, со значением мастерства в производстве, обладающего рядом секретов данной техники и их охраняющего.
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО. ФОДЬКЛОРД Д<£Я ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 1£9
ртот элемент, типичный вообще для ремесленного, производства, особенно расцветает на почве производств, где в силу самого характера их (горное дело, химическое производство, металлургия, гончарное дело) основные природные или технологические процессы являются непонятными для донаучного сознания.1 Это можно проследить на примере отдельных ремесл даже в рамках промышленного капитализма, там, где машинная техника не успела еще разрушить промыслов, основанных на элементарных технических приемах. «Мистическая сторона» — мифология ремесла, тесно переплетаясь с технической основой, на которой она иозникает? позволяет делать заключения о реальных условиях, приемах и характере данного производства.
Ряд поговорок, пословиц, технических выражений из области гончарного ремесла Полтавской губ. связаны, с циклом мифологических образов, отражающих технологический процесс данного производства. Напр,, поверье гончаров, что так называемы^ «глузики» или «каменчики» (мелкие известковые крупинки, попадающие в гончарное изделие), которые должны были начать свое «прорастание» после «страшного суду», подвергшись действию огня, начали уже теперь «расти» (отсюда техническое выражение «каменці ростуть як печарыцЬ, т. е. шампиньоны), указывает на имевшее место при обжиге гончарной посуды явление: «каменьці» или «глузики», попавшие в изделие после обжига, напитавшись влагой, начинали разлагаться и выпирали стенки горшков.
На ряду с мифологией ремесла каждый промысел обрастает толщей специальных поговорок, технических выражений и пр., іі Нередко «таинственность», окружающая данное ремесло, бывает связана с самой обстановкой труда, с реальными условиями технической стороны производства. Такое значение имеют циклы поверий о горных «демонах», вредящих рудокопам, находящих отражение еще в металлургических трактатах XVI в., напр., у Agricol’bi, которые первоначально возникают в условиях примитивной техники горных работ при. недостаточном креплении и угрозе постоянных завалов подземных разработок. Мифология клинкового производства феодального общества, в частности техники закалки клинка, также тесно связана с самыми условиями производства в темной кузнице перед закалкой, искусственно затемняемой, благодаря плотной за- веске окон, для. того, чтобы глаз мастера мог различать «переходящую гамму цветов раскаленного металла» и безошибочно определить «цвет, необходимый для закалки». Ср. В.В. Арендт, О технике древнего клинкового производства, со ссылкой на. работу, Hutterot, Das japanische Schwert-Mitteilung der deutschen Gesellschaft fiir Natur- und Volkerkunde Ostawiens, В. IV.
Проблемы источниковедения, П
9
130
В. КАМЕНСКИЙ
характеризующих отдельные стороны данного производства. Те же, например, гончарные поговорки указывают на самые приемы н условия работы, намекая и на особые, так сказать, ((профессиональные вредности» данного производства. Выражение <сяк мази купыть, то краше и круг пропыть» указывает на работу с гончарным кругом, который, вращаясь на деревянном стержне, вставленном в деревянную же лунку, при работе без подмазки должен был ужасно визжать и скрипеть, трату же на подмазку гончары считали для себя роскошью, выражаясь словами приведенной поговорки, что если еще мази купить, то лучше и круг пропить. Другая гончарная поговорка «глухий горшки повиз» — намекает на глухоту гончаров (работавших без подмазки).
Серия пословиц рыболовного промысла указывает на основные виды рыболовства — на прикормку и механическое рыболовство («идет рыба на блевку, идет и на блесну») и на специальные приемы ловли («удилища выбирай по лову, а крючок по рыбе», «тонко ссучишь, скоро оборвешь, толсто ссучишь, ничего не поіімаешь», «за толстой лесой молено полежать, а за тонкой посидеть впору» и т. д.1
Поговорки, скороговорки, пословицы различных производств деревни, начиная от земледельческих работ и кончая отдельными деревенскими промыслами, передают характер этих производств, отражая ритмы и музыку соответственных трудовых процессов: переменный такт ударов цепов при молотьбе, взмахи и посвистывание косы при косьбе, отбивание кос, своеобразный ритм ударов молотка при забивке обручей на бочки, музыку деревенской кузницы, работу по подъему воды из колодца, звон молочных струй при доении.2
1 Ср. Н. Домбровский. Рыболовные пословицы, журн. «Охота», 1891, декабрь.
2 Молотильные загадки Псковской, Самарской, Владимирской губерний, указывающие на орудия производства, в сатирической форме передающие характер работы отмолота снопов:
1) На Поляне,
На кугане Подрались дворяне.
Не видать ни костей,
Ни мастей,
Только видно где дрались.
2) Вились попы, Перебились попы, Переко л отились. Пошли попы, Неревешались.
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 131
В содержании их отражаются отдельные детали производств и технических приемов. Ряд земледельческих загадок намекает на различные способы кладки сжатых снопов в «крестцы», «бабки», «суслоны» по числу и расположению снопов в различных местностях: «на четыре брата пятый вверх ногами посажен», «девять братьев под одной маткой от дождя укрываются», «по волотке (верх снопа) сноп, по снопишку копнишка, из сно- пен одонье» и т. д. Выражение «хохлацкий цеп на все стороны бьет» указывает на особый способ молотьбы «через руку». В повсеместно распространенных в районах ручной молотьбы цеиами или палками молотильных загадках передаются, подобно как и в молотильных песнях, ритмы работы, а также отдельные технические детали производства. Например, самарские стишки:
Тороча, тороча,
Одна нога короче,
Полез под овин,
Оста ль ну сломил,1
указывают на особенность некоторых овпнов, которые в ряде областей делались в яме до глубины 5—6 арш. и имели еще так называемый «подлаз», шедший вдоль всего овина, через который проходили, «подлазили» внутрь овинной ямы «под овин» для разжигания огня.2
Прежде чем переходить к следующей стадии мануфактурного производства, отметим особо стоящие любопытные образцы ре-
3) Летят гусыш Дубовы носки,
Говорят — тототы, тототы.
Звукоподражательные сенокосные Псковской, Петербургской и Минской губерний:
1) Щука ныряет, Лес погибает.
Доильные:
2) Сорочка В осочке Посвистывает.
Села баба на сгибень, Промежу ногу бубень,
В обе руки тарабукн, Зачала играть в бубунь.
и т. д.
1 Садовников. Загадки русского народа, № 187.
5 Попов. Хозяйственное описание Периской губерьии, т. II, стр. 80.
9*
132
В. КАІІВНСКИЙ
месленного фольклорного творчества — явления звуковой уличной рекламы — выкрики странствующих ремесленников, оригинальные для различных категорий производств и для разных районов, своеобразные мелодические рисунки которых входили в качестве необходимой составной части в уличные симфонии различных городов.1
В этих коротких напевах уличной рекламы находят себе отражение отдельные мелкие черты, характерные для данных простых производств, с их элементарными трудовыми процессами и приемами. Поэтому они и могут представлять известный интерес для истории техники.
Вырастающее на технической основе ремесла, но обладающее специфическими особенностями мануфактурное производство также находит отражение, как и ремесло, прежде всего в трудовой песне. Английская поэма о суконной мануфактуре XVI в. говорит, между прочим, о том, что работа женщин-прядильщип сопровождалась песней. В песне рабочих стеклодувов на русских стекольных фабриках 80-х гг. XIX в., организация производства на которых находилась на уровне мануфактуры, говорится о пении песен «при стекольпом деле».
Рабочая песня мануфактуры имела своеобразные черты, обусловленные прежде всего ее специфической ролью как организующего начала в условиях мануфактурного разделения цельного в ремесле производственного процесса на отдельные функции к объединения в одном помещении «частичных рабочих», между которыми они распределяются. Так, например, трудовая песня стекольщиков пелась всеми рабочими данной мастерской, выполнявшими разлитые функции и объединенными в несколько однородных рабочих групп, расположенных вокруг «лавы» — печи, где производилось выдувание (группа состояла из одного обдсльщика мастера, двух выдувальщиков, одного относчика іі «Чинить, паять, кастрюль, лаханки»...— выкрикивал петербургский паяльщик. «А вот казаны, тазы починять», — крича і в Новочеркасске молодой парень, собирающий для починки худые ведра, кастрюли, тазы и пр., неся на длинной палке за спиной разбитый «казан» (котел). «Встав і ять стекла», — повторяли по разновіу свой речитатив в разных городах стекольщики. «Тэчпть кожи, ножницы, тэчить и быритвы править», «Тачить ножницы, ножи тачить», — выкрикивали точильщики, путешествовавшие со своими станками через плечо. (Ср. Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящ. при Этнограф, отд. ИОЛЕАЭ, т. I).
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 133
тальника и одного формодержателя мальчика). Песня ритмически яаправляла и объединяла работу отдельных рабочих в каждой бригаде, при параллельном ходе процесса во всех рабочих бригадах. Куплет запевалы сменялся припевом, подхватываемым стеклодувами, после которого следовали а глубокий вздох» («вздох старика», как говорит трудовая песня) п акт выдувания.
Здесь, в стекольном производстве, как и в мануфактуре вообще, рабочий еще не подчинен своему орудию (как в машинном производстве), поскольку биологические функции рабочего составляют основу производствен пых процессов («чтобы стекла выдувать»,— поет стеклодув, — надо сделать «вздох старика»), но *в то же время он подчиняется общему ритму работы всей мануфактуры в качестве одного из звеньев, включенного в общий процесс, осуществляемый различными группами специализированных рабочих, строго соотносящихся между собой количественно, соответственно относительной продуктивности каждой частичной операции. Как и при простой кооперации, у стеклодувов благодаря песне устанавливается общий ритм работы, однако на более высокой основе расчленения производства на отдельные операции — у стекольщиков последовательно (различными рабочими) и одновременно (разными бригадами) осуществляемыми.1
В условиях мапуфактуры с ее разделением производства на отдельные звенья и процессы со строго определенными количественными соотношениями между ними, которые, однако, в противоположность машинному производству должны реально осуществляться за счет индивидуальных усилий отдельных рабочих, огромную роль приобретает проблема подгоняния (система наказаний, штрафов, сдельщина и пр.). Трудовая песня^ как и при простой кооперации, выступает здесь в качестве орудия подгоняния, однако в условиях более сложного производственного процесса, противостоящего рабочему как внешняя принудительность Системы (общее с машинной техникой, чем определяется своеобразное техническое назначение песни) и в то же время не теряющего, в виду своей биологической основы, характера живого труда (общее с ремеслом, чем обусловливается иепхо-физио- логпческая возможность песни в условиях мануфактуры).
1 Анализу рабочих песен стекольщиков, на основе публикации собранного мной материала, я предполагаю посвятить специальную статью.
134
В. КАМЕНСКИЙ
Приведенное выше выражение из рабочей песни стекольщиков «вздох старика» указывает еще на одну характерную черту мануфактурного производства, основанную на разделении функции между «частичными рабочими» — одностороннее напряжение сил, определенных способностей отдельными специализированными рабочими с его разрушительным влиянием на организм (можно указать своеобразный рабочий «фольклор» намогильных надписей рабочих-стекольщиков на рабочих кладбищах при стекольных заводах, указывающий на предельный обычно для страдавших легочными болезнями стеклодувов возраст жизни до сорока лет).
В качестве образца рабочего фольклорного творчества, характеризующего мануфактуру на начальных стадиях развития СО стороны ее социально-экономического уклада в условиях перехода от ремесла1 можно привести один русский памятник конца
XVIII — начала XIX вв., связанный с быстрым ростом железного производства с. Павлова в XVIII в., на основе того превращения производителя ремесленника в капиталиста — владельца мануфактуры, которое выражает революционизирующую форму перехода от ремесла к мануфактуре.1 2
Этот памятник, представляющий собой «подметное письмо», написанное в стихах и вывешенное в 1800 г. «неведомо кем» на
1 В трудовой фольклоре отражаются и! параллельно идущие процессы; капиталистического разложения деревни, связанные с развитием «отхожих промыслов», отливом населения из деревни на заработки в город, на заводью («батюшка Питер бока наши повытер, братцы-заводы унесли годы, а матушка канава совсем доканала»), на юге России, уже в последней трети
XIX века, в районы крупных машинизированных помещичьих хозяйств (южно-русские «заработные песни»).
2 Так наз. «оптовые ремесла», по своей технической организации основанные на детальном разделении труда мпжду отдельными «кустарями», по социально-экономической же сущности связанные с полным подчинением «кустаря» капиталу, обрастают широкой толщей трудовою фольклора. Вместо или на ряду с географическими промысловыми прозвищами — шуточными эпититаии, которыми характеризуются отдельные хозяйственные районы, с господствующими в них производствами («уломский гвоздь» — череповецкий кузнец гвоздарь и т. д., возникают эпитеты, поговорки и пр., характеризующие типичные формы технической стороны мануфактурного производства, н пр., связанное с разделением труда появление «виртуозов» этого разделения («блоху на цепь посадили»—про «стальные д>ши» — тульских кузнецов; художественная обработка мотива — в рассказе «Левша» Н. С. Лескова), а также те социально-бытовые условия, в которые облекается этот «худший вид капиталистической эксплоатацшз» («не кует железо» молот, кует кузнецов голод» и проч.).
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 43$>
торговой площади с. Павлова «в виде ругательного отмщения* против местных богатых владельцев железных мануфактур, отражает ту социальную борьбу, в условиях которой совершался указанный переход от техники ремесла к мануфактуре,1
Документ начинается словами:
((Сколько ужа время, братцы, прошло,
Столька крови никогда из бедных не протекло*.
Прокламация вскрывает социальное расслоение и антагонизм, которые развились в условиях быстрого роста промышленности «русского Шеффильда» в конце XVIII в., характеризуемого выделением из среды местных ремесленников — кустарей заводчиков с многотысячными капиталами (Варыпаевы, Безбряз- говы, Акифьевы). Будучи крепостными гр. Шереметевых, они сами имели своих крепостных рабочих и фактически захватили в свои руки местную администрацию, в компетенцию которой входило, между прочим, разбирательство отношений между рабочими и их «хозяевами*, с цравом, по указанию последних, сажать рабочих под караул. В стихах описываются подвиги одного из таких представителей местного капитала, Семена Безбрязгова, который «из бедных кровь выпивает», их «до конца разоряет», расправляясь в то же время с ними, как с «бунтовщиками». Анонимный автор дает ему совет:
Ты иша и сам молад, в евте бы дела не вступал,
и беднась бы до конца с малыми детми не разорял.
Прокламация заканчивается словами:
А кому годна читай а письма нихто не снимай,
Но и само сниметца,
Когды везде ево слава умножитца,
До бедных такова крови пролития Ему будет честь, а бедным слезы.
В рабочем фольклоре конца мануфактурного периода находят отражение своеобразные сдвиги, происходящие в недрах мануфактурного производства, связанные с появлением накануне про-
1 Напечатан в очерке П. Фейнштейн. «Седо Павдово в начаде XIX в.» Изд; Истор. бытов. отд. Русск. музея, 1926 г.
136
В. li A M К Н С К U Іі
иышленного переворота ряда мапїин, которые служат выражением тенденции разрешить старыми средствами, путем их количественного усиления, новые задачи, возникающие перед производством (установка гигантских деревянных клинчатых воз- духодувных мехов старого типа при английских домнах накануне изобретения цилиндрической поршневой воздуходувки, с целью повысить силу дутья; огромное увеличение размеров — до 10 м. п более в диаметре водяных колес на металлургических заводах с той же целью и на рудниках для увеличения мощности водоотливных машин, по мере углубления шахт, накануне применения паровоіі машины Уатта в металлургии и горном деле и т. д.).
Особенность всех этих конструкций заключается в том, что не давая технически ничего принципиально нового, они в грандиозном мас штабе воспроизводят типичные машины или орудия, применявшиеся в мануфактурном производстве, что и отмечается в характерных ((машинных прозвищах», возникающих в рабочей среде данных производств, — «слоновая машина», построенная русским гидротехником Фроловым в 1783 г. на З^есгорском руднике на Ал гас,— гигантская вододействующая водоотливная машина с колесом, равным по размерам пятиэтажному дому (15 м в диаметре),1 ((Gercule si g» (геркулесова палица),1 2 установленный в конце XVIII в. в «Якорной кузнице» Сидерфорского завода в Швеции, монополизировавшего якорное производство в стране, молот, который, будучи подвешен над наковальней, поднимался усилием многих рабочих и спускался мастером в точку, где производилась сварка, и т. д.
1 А. Карпинский. Биографическое известие о жизни К. Д. Фролова, Горный журнал 1827 г., кн. VII.
2 Sixsten Konnow. Pelir Hillestrom ocli liaus bruck8 ocli. Следует оговориться, однако, что характер этого а прозвища» если и допускает возможность выведения его из рабочей среды, то из верхушки ее, состоявшей ИЗ квалифицированных мастеров —потомков тех «валлонских кузнсгов», которые в XVII в. занесли в Швецию «валлонский способ» переделки железа вместе с множеством французских технических выражений, вошедших в рабочий язык; отметим, что в ряде случаев, как например, в последнем прозвище ясно отражается ЬнрсдеАенная тенденция мануфактурного производства — стремление найти «выход к Машинному» путем освобождеї ия человеческой руки от ее ограниченности* создания механически работающей руки (ср. ук. работу Э« Лейкина). Показательно, что, наир., этот мо ;от мануфактурного производства, перешедший из рук единит ого кузнеца к коллективному молотобойцу, с кинематической точки зрения представляет прототип парового молота.
о ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ І37
В прозвищах машин отражены те специфические процессы, которые характеризуют, с одной стороны, превращение орудия к машину на почве мануфактуры, отчасти и ремесла (Нревраще- Ьие орудия ремесленника в машину в тех элементарных трудовых процессах, где рабочий действовал на орудие как простая двигательная сила, — переход, не революционизирующий производства), с другой — превращение орудия ремесленника, которым он непосредственно воздействовал на предмет '*руда, в машинное орудие,—переход, революционизирующий производство, составляющий исходный пункт промышленной революции.
Образцом первого типа превращения может служить, например, переход от ручного молота в металлургии к вододействую- Щему, который в отдельных странах и промышленных районах происходит на протяжении нескольких столетий. Однако сущность этого перехода, не революционизирующего, производства, остается повсюду одинаковой и прекрасно выражена в одном из русских машинных прозвищ, относящемся к водяному молоту, ft описании железного производства при Соловецком монастыре 1705 г. упоминается в числе оборудования осмолот большой, именуемый казак, которым тянут железо водою» («Опись вотчин Соловецкого монастыря 1705 г.»). «Казаками» назывались в XVI— &VII вв. на севере Московского государства вольнонаемные рабочие различных промыслов.1
Перенесение названия рабочего молотобойца на вододействую- |цйй молот выражает сущность указанног6 превращения орудия ремесленника в машину, не революционизирующего производства, заключающегося в простой замене двигательной функции рабочего силой механического, в данном случае, водяного Двигателя.
Напротив, ряд рабочих прозвищ машин иАй орудий эпохи Промышленной революции отражают отмеченный революционизирующий характер новых машин-орудий, вырывающих орудие Пз рук рабочего и превращающих его в автоматически действующее орудие машины.
Вместо эпически внешнего описания Мануфактурных машин; часто облеченного в образную форму, иногда (в случае загадки,
1 В. Кашин. Крестьянская железоделате іьная промышленность на побережье Финс кого залива по писцовым книгам 1500—1505 гг. Проблемы исто.. pfcfc докапиталистического общества, 1934, № 4, ctjp. ЗІ.
138
в. клнвнский
поговорки и пр.) подражающего ритму и музыке работы (ряд мельничных загадок и поговорок о водяном двигателе вообще: ((ОДИН говорит—полежим, другой говорит — побежим, третий говорит — повертимся», «трах, тарарах, стоит дом па горах, вода брызжется, борода трясется», «сидит старик над водой, трясет своей бородой...»), новые «прозвища» машин-орудий подмечают самую сущность вновь возникающих машин и значение прои^- веденного ими в производстве переворота.
В прозвищах машин, загадках, скороговорках и пр. ремесла и мануфактуры отражается роль машины как движущей силы, самих движений ее; здесь же внимание заострено на исполнительном механизме: откуда исходит переворот, поскольку к «машинному орудию» переходят те функции, которые в условиях ремесла и мануфактуры выполнялись рабочими аналогичным ручным орудием. Ряд «прозвищ машин» фиксируют этот момент превращенпя ремесленного орудия в машину.
В названии «going саге», данном английскими рабочими мод- слеевскому суппорту, произведшему переворот в области холодной обработки металла и положившему начало капиталистической технике в качестве основы для «машинного производства машин», выразилась главная идея новой конструкции, заключающаяся в принципе самоходности, который явился определяющим для дальнейшего развития техники холодной металлообработки и для изменения положения рабочего у машины.
Название «Nasmith steam arm», данное рабочими Несмитовой строгальной машине, фиксирует, так сказать, второй этап переворота— применение нового механического двигателя (паровой машины) для приведения в действие орудия, перешедшего от рабочего к машине, превратившегося из карликового орудия рабочего в циклопическое орудие машины (в руку паровой машины). Повидимому, в этих «прозвищах», как, например, в последнем, можно усмотреть и намек на еще не порванпую связь новой машины со своим ремесленным образцом, поскольку, например, «паровая рука» еще не успела всецело определиться в своей форме имманентными законами механики, а также, быть может, намек и на ту роль, какую новые машины должны были сыграть и действительно сыграли, как, например, та же «паровая рука» Несмита, по ут ерждению и самого ее изобретателя, в качестве орудия борьбы капиталиста-заводчика против бастующего рабочего. Аналогичный материал несомненно мог бы быть обнару¬
О ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 139
жен и в других отраслях производства. Особенно интересно было бы произвести розыскания в отношении текстиля для начального периода изобретения главнейших машин, вводящего в эпоху промышленного капитализма.1
Если рабочий ремесленник, любовно наблюдая за действиями своего орудия, подмечал его движения, часто изумляясь его устройству и ловкости, — оно, как живое, стоит (ткацкий стан), как свинка бежит (челнок с уточной нитью), как голубочек шмыгает под лубочек (кочетыг для плетения лаптей)..., то машинный рабочий, как перед непонятным, останавливается перед новым орудием труда — машиной, в которую вложена человеком «хитрость разума», использующая различные свойства тел в соответствии со своими целями, без непосредственного участия рабочего в процессе, и заставляющая их как силы действовать на другие тела.1 2
Удивление перед автоматически действующей на основе внутренней закономерности машиной, подчиняющей себе живой труд (в противоположность обратному отношению в ремесле), отражено в характерной русской «машинной загадке»: «с одного конца хиіро, с другого мудренее того, в середине ум за разум заходит».3
Говоря о рабочем фольклоре промышленного капитализма, следует прежде всего указать на то, что трудовая песня как элемент и фактор производственного процесса исчезает в новых условиях, становясь технологически ненужной и физически и психологически невозможной в реальной обстановке «машинного производства машин», с преобладанием прогрессивно уско¬
1 В качестве примера можно привести истолкование прозвища «mule», идущего из среды английских текстильных рабочих, прядильного ставка Кромптона, как машины-мула, соединившего в себе элементы своих предшественников— «jenny» Харгревса и «water frame» Аркрайта. Ср. Н. Gib- bine, The industrial history of England, 1890, стр. 158.
2 Ср. определение машины у Гегеля, приведенное в пятой главе «Капитала» Маркса.
3 Следует отмстить, однако, что эта загадка имеет несколько специфический характер, характеризуя, повидимому, тот процесс преобразования отсталого хозяйства, на основе импортной техники в условиях повторяющегося последовательно в различных странах промышленного переворота, при котором данная социальная среда сразу приходит в соприкосновение с уже высоко развитой техникой машинного производства.
V40
в. кХмкнский
ряющихся ротационных движении, в заглушающем Человеческий голос грохоте, треске и мелькании вращающихся валов* трансмиссионных ремней и шкивов* автоматически действующих 'Машин-орудий.
В рамках новой общественной формации, вместе с исчезновением трудовой песни* отображавшей характер трудовых процессов домашинного производства, сужается вообще до минимальных пределов значение фольклорных источников для изучения техники (в узком смысле), которая на новоаі этапе развития производительных сил основывается *на применении законов естествознания к производству.
При этом, однако, не только не умаляется, но возрастает роль рабочего фольклора как источника для характеристики социального отношения машинного рабочего к технике, вместе с возрастанием социальной заостренности песни и прогрессивно идущим расширением общественно-политического кругозора рабочего, на фоне отражения в фабрично-заводской песне и других про- явлениях рабочего фольклорного творчества техники со стороны тех социально-экономических моментов* которые Характеризуют машинный способ производства.
Если взять эпоху промышленного переворота, то очень характерной для движения техники в эуот период представляется сама тематика Некоторых рабочих пеісен Ь то Глубокое осознание грандиозных сдвигов в хозяйственной жизни, обусловленных великими техническими изобретениями ЭТОГО времени, которое в них проявляется. Так, например* на ббіщем фоне невиданно быстрого развития английской Металлургии, на 'основе применения минерального топлива сначала в доменном, а затем в переделочном процессе (пуддлингование), развития новых металлургических центров в стране, образования крупных капиталов и первых намечающихся географических перемещений металлургических центров (в международном масштабе) в песне рабочих Вилькипсоновского завода — одного из самых передовых английских производств, где нашли себе применение все нововведения металлургической техники этого времени* — дается оценка происшедшего переворота, начиная от указания причин, вызвавших появление пуддлингования в условиях крайнего оскудения древесного топлива в стране, до предвидения наступления огромных сдвигов в мировой металлургии (победы английского железа над шведским К русским).
о ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 14І
That the wood? of old England, would fail did appear Дпф tough i^on was. scarce, because charcoal, was dear,
By puddling and stamping he prevented that evil,
So the Swedes and the Russians may go to the. devil.1
Машинная техника, научно-организованная система массового производства, основанная на использовании новых мощных энергетических рессурсов, в которой роль рабочего деградирует до степени простого придатка к машине, противостоящая рабочему как капиталистическая система присвоения {(прибавочного продукта», олицетворяется в рабочей песне первоначально в образе «хозяина», который является воплощением социальной роли машинного производства.
Идущая вслед за технической нивеллировкой в условиях порабощения живого труда машиной нивеллировка жизненного уровня рабочих, доведенных хищнической эксплоатацией труда до состояния пауперизма, приводящего к отчаянию и деморализации, отражается в рабочей песне в виде горькой иронии над своей нищетой:
Что за хваты, за ребяты
У живут,
Носят ситцевы рубашки,
Об семидесят заплат...
Иногда песня облекается в форму добродушной автосатиры: пример, песня шахтера, который с приходом ((праздника воскресенья»... «уже до света пьян»...
В кабачок бежит детина,
Словна маковка цветет,
С кабака ползет детина,
Как лукошечка гола.
Ой гола-гола-гола,
В чем мамаша родила...
В рабочей песне, направленной против «хозяина», проходит другая, тесно переплетающаяся с ней характерная тема: возмущение против машин и всей системы машинного производства,
^Приведено в книге Afihton’a: Iron ад& Steel;in the industrial revolution, 1924.
142
В. КАМЕНСКИЙ
олицетворяемого в образе «завода» как материальной основы капиталистической эксплоатации, обусловливающей проклятые условия труда1 и прямой физический ущерб в виде массового травматизма. Ненависть против фабриканта сливается с возмущением против машин, против завода.
Лето красное проходит,
Зима морозна настает,
Ай ли, катай ли, покатывай, катай. ч Зима морозна настает,
У фабричных сердце мрет.
(Припев)
С полуночи встает,
На работу поспевает.
(Припев)
На машине задремал,
Праву ручку оторвал...
(Припев)
А в народе говорят, |
Фабриканта все бранит.
(Припев)
А постылый ты завод Перепортил весь народ.
(Припев)
Перепортил, перегадил...1 2
1 Ср. песнь шахтеров: «Что шахтерска жизнь проклята, кто не ведает про то»... поет рудничный рабочий, рассказывая о своей работе день и ночь «словно в каторге всегда...»
2 Здесь другой по сравнению с указанным выше в толковании машинного прозвища строгальной машины аспект той социальной борьбы вокруг машины, которая возникает с началом машинного производства и которая связана со значением машинного производства как материальной основы капиталистической эксплоатации. Там (в прозвище) машина выступала как орудие эксплоатации капиталистом рабочего; здесь — как объект «борьбы против машин» рабочих, характерной для начальных стадий развития машинизма.
о ЗНАЧЕНИИ РАБОЧЕГО ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ 143
Этот мотив может быть прослежен на почве развития иро¬
ничных производств (ср. выражение: <ся ослеп на оба глаза у мартеновской печи»...)
Рабочая песня, возникающая в социальной среде различных производств, трансформирующаяся часто при полном переосмыслении всей образной системы при переходе из одной социальной среды профессиональных рабочих в другую, с отражением соответствующих технических моментов, характерных для определенных отраслей производства, подвергается в настоящее время и собиранию и всестороннему изучению в рамках всего периода капиталистического производства, так же как и советский рабочий фольклор, в котором находят отражения различные моменты, связанные с осознанием роли техники в реконструкции хозяйства и быта, изменения психологии, в частности советской деревни и т. д. (указано в статье Ю. И. Соколова, Песни фабрики и деревни, Вестник проевещ., 1925, № 14).
Эти материалы, так же как и другие виды рабочего фольклорного творчества, должны быть изучены и в качестве источника для истории техники.
рабочей песни, бытующей в рабочей среде раз-
о
Б
З
О
р
ы
г. кочин
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ историографии
Писцовые и переписные; книги дошли до нас в числе, превышающем несколько тысяч. Включая описания почти всей территории Московского государства за период с конца XV по XVII в., они дают ценнейший материал' для изучения социально-экономической жизни сельского и городского населения. Писцовые кпиТи составлялись по указу государственной власти и лишь в редких случаях по частному почину феодалов. В них мы находим описание поселений, вотчин, поместий и крестьянских хозяйств, а в городах — и сведения о различных предприятиях городского населения; в них указывается мощность хозяйств, размер обложения в пользу государственной власти, доходы в пользу феодала, перечисляется тяглое, а, отчасти, и нетяглое население. Вотчинные писцовые книги, возникавшие по частному почину, служили целям более точного учета мощности хозяйств, входивших в состав вотчины, а вместе с этим п целям раскладки тягла внутри вотчины.1
Переписные книги меньше говорят о хозяйстве, но подробнее описывают тяглое население и часто поименно, с указанием возраста, перечисляют всех мужчин.
Писцовые и переписные книги возникли из нужд государственной власти, из насущных потребностей господствующего класса. Основная их цель — кадастр — совпадает с задачами учета земельного хозяйственного фонда в интересах наиболее эффективного его использования. Процесс усиления феодальнокрепостного гнета в XVI—XVII вв. вызывает необходимость закрепления п узаконения успехов феодалов. Писцовые и переписные книги фиксируют новые складывающиеся отношения іі Б. Д. Греков. Вотчинные писцовые книги. «Сборник статей по русской истории, поев. С. Ф. Платонову», Л., 1922, стр. 181—191.
ПроОхемы источниковедения, II 19
146
г. ко чин
зависимости крестьянина и играют в конце XVI и в XVII в. роль крепостных актов.1 Писцовые и переписные книги составлялись и в форме валовых описаний, охватывая одновременно большие территории, и в форме отдельных описаний мелкого мае штаба.
Исключительный объем материалов этих источников, віаесо- вый характер фиксируемых ими наблюдений, сосредоточение на вопросах экономических, особое внимание к широким массам тяглого населения, — на определенном этапе развития русской историографии стали вызывать повышенный интерес к писцовым книгам, сопровождавшийся большими разногласиями в оценке их.
I
В начальный период развития русской исторической науки и в период господства официальной историографии Карамзина изучавшей даже не столько историю «государства российского», сколько историю «государей российских», такой источник, как писцовые книги, был ненужен.
Они были хорошо известны русскому дворянству и в XVIII, и в XIX вв., но не как исторический источник. Генеральное межевание XVIII в., закреплявшее за русскими помещиками огромные пространства освоенной крестьянской земли и земли никем не освоенной, не могло но использовать результатов и опыта аналогичного и весьма удачного для феодалов мероприятияМосков- ской Руси — хозяйственных переписей XVI—XVII вв. Писцовые, переписные и межевые книги были основными удостоверительными актами на земельное владение прп генералы ом межевании.8
Помещики знали писцовые книги как акт, удостоверяющий древность их рода, их права на поместье; с писцовыми книгами считались и гражданское право и земельное законодательство.1 2 3 «Роль удостоверительного документа сохранялась за писцовыми книгами во всю первую половину XIX в., и в ней совершенно растворялось значение их как исторического источника.»4 * Упо-
1 Д. Я. Самоквасов. Арх. матер., т. II, М., 1909, стр. 16, 22, 24—25.
2 ИСЗм т. XVIII, 1766 г., 25 мая, «Пнстржция межевым губернским канцеляриям ..гл. I и II; гл. IV, пп. 1,23, 24; гл. IX, пп. 1 и 9; И. Е. Герман. Материалы к истории генерального межевания в России, «Известия Кон- стантиновского межевого института», Вып. 1—2, М„ 1910—1912.
3 Ма 'иновский. Исторический взгляд на межевание в России до 1765 г., СПб., 1844.
4 «Описание документов и бумаг, хранищпхея в Моек, архиве мин.
юстиции», СПб., 1869, кн. 1, стр. 1.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
147
пинания в исторической литературе о писцовых книгах в этот период попадаются лишь изредка и но на главной дороге исторической науки. Так, наир., в 20-х гг. В. Верх ставил вопрос о писцовых книгах как материале для статистики России.1
Впервые с писцовыми книгами знакомят нас не историки, а архивисты: в начале 40-х гг. П. Ивановым издаются обозрения писцовых книг по Новгороду и по Московскому уезду;2, им же в 1840 г. безрезультатно поднимается в Археографической комиссии вопрос об издании писцовых книг.1 2 3
На грани нового этапа в изучении писцовых книг, связанного с появлением буржуазной историографии, стоит речь К. А. Неволина «Об успехах іенерального межевания в России», произнесенная на акте Московского университета в 1847 г. Декларируя, что «собственность поземельная» есть «прочное основание всякой собственности», что «установление границ поземельного владения принадлежит к числу самых первых условий существования и развития человеческого общества», Неволин указывает, что «древние акты государственного межевания [писцовые книги. — /’• /Г.] представляют богатейший запас сведений по части государственного и народного хозяйства прежнего времени».4 В условиях распада феодально-крепостной системы эго внимание к «земельной собственности», к «государственному и народному хозяйству прошлого» легко объяснимо. Ученый-правовед говорит о том, что в ближайшие годы становится центром общего внимания и предметом дискуссий.
В 50-х гг. появляются первые научные издания писцовых книг. Э^о было время, когда крестьянский вопрос овладел помыслами всех и отодвинул на задний план остальные вопросы. Один пример из истории разработки писцовых книг показывает нам и остроту переживавшегося в 50-е годы политического момента, и непосредственную зависимость публикаций исторических источ¬
1 В. Берх. Путешествие в гор. Чердмнь и Соликамск для изыскания исторических древностей, СПб., 1821, стр. 199—200.
2 П. Иванов. Обозрение писцовых книг по Новгороду, М., 1841. Обозрение писцовых книг по Московскому уезду. М., 1840.
3 Прот. засед. Археогр. ком., в. I, СПб., 1885, стр. 553—554 (Засед. 6 февраля 1840 г.).
* К. А. Неволин. Полное собрание сочинений, т. VI, СПб., 1859, стр. 431—433.
10*
148
Г. К 04 ив
ников от политической настроенности. Вопрос касается издания писцовых книг Археографической комиссией. Археографическая комиссия была строго реакционным чиновничьим учреждением, где «высочайшее повеление)) охраняло людей от необходимости ставить л разрешать какие-либо вопросы. Мы уже указывали на отказ Археографической комиссии, мотивированный «высочайшими)) предначертаниями, издавать Казанскую писцовую книгу. П. Иванов вторично в 1848 г. — и на этот раз через министра народного просвещения — обращается в комиссию с подобным же предложением и получает тот же ответ из высочайшего рескрипта: «Писцовые книги поименованы последними в числе исторических материалов, назначенных к печатанию)).1 Через десять лет в 1859 г. комиссия «положила присту-і пить немедленно к изданию писцовых книг)). «Кроме; важности для русской науки, эта издание соответствует и современным требованиям русского общества, которое С полным: вниманием и обдуманностью стремится к разрешению одной из: важнейших задач нашего времени»,1 2 — так заговорили о писцовых книгах в Археографической комиссии. В писцовых книгах «нередко встречаются драгоценные указания на экономический быт разных сословий .. •, писцовые книги разъясняют во многом1 ту взаимную связь, в какой находились в древней России различные классы общества, в особенности! сословия земледельцев* и землевладельцев, независимо от начала укрепления...»3 Не случайность, что двое издателей писцовых книг4 оказываются представителями «славянофилов», в этот период наиболее активно выступавших в дворянской публицистике. Искание самобытных «земских начал» ведет славянофилов в Московскую допетровскую Русь. Самый выбор Беляевым для издания новгородских писцовых книг следует объяснить желанием дать яркие примеры отражения «земского начала». На основе писцовых книг Беляев утверждает о наличии общины и «мирской раскладки при платеже податей,
1 Прот. засед. Археогр. кеш., вып. П, СПб., 1886, стр. 383.
2 Нов горо іские писцовые книги, изд. Археогр. комиссиею, т. I, предисловие, СПб., 1859.
3 Ibid.
* И. Д. Беляевым изданы: писцовые книги Вотской пятины 1583 г.; «Временник Общ. ист. и др. росс.», 1850, кн. 6, и писцовые книги 1498 г.; «Временник», 1851, кн. 11 и 12; а Б. Елагиным — Белевская вивлиофика, М„ 1858.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 149
предоставленной общинам».* Указывая на особенности Новгородской земли, Беляев • делает догадки о сильных мерах, какие сбыли приняты в. кн. Иваном Васильевичем для уничтожения древнего новгородского быта в самом существенном и важном вопросе—иметь или не иметь народную собственность»/ т. е. черные земли. Интерпретация материалов писцовых книг у Беляева служит для мотивировки славянофильских взглядов на сельскую общину, на отношения зсмлевладельца-помещика с крестьянами.
Издание писцовых книг в 50-е годы —это мобилизация источника в условиях напряженной классовой борьбы. Славянофил И. Елагин, издающий ио настойчивому желанию И. В. Киреевского «Белевскую вивлиофику»/ на ряду с общими рассуждот ниями о своевременности издания писцовых книг, уже в предисловии указывает и на «мудрость наших предков» (допетровской 4>уси) и на ряд наблюдений по материалам изданных писцовых книг, которые должны убедить в губительных последствиях неустойчивой национальной политики конца XVII в. Н. Елагин не был искусным публицистом; он не имел данных, чтобы достаточно выгодно использовать издаваемый источник. Эту работу срочно выполняют другие* «Белевская вивлдофика» о писцовою книгою Белевского уезда появилась для того, чтобы послужить славянофилам в наиболее ответственный период их политической деятельности. • (
> Свежий и богатый материал Белевской писцовой книги дал возможность одному из столпов славянофильства К. С. Аксакову выступить заново перевооруженным1 * * 4 в защиту н общих теоретических установок славянофилов и практических предложений, выдвигаемых по крестьянскому вопросу, т. е. в защиту, своей политической программы. Указывая на ценность писцовых книг как источника и на большое значение переписей XVI — XVII вв^, К. С. Аксаков особенно подчеркивает «огромные труды нашей
1 И. Д. Беляев. О поземельном владении, в Московском государстве. «Временник», 1851, кн. It, стр. 78—79.
. з ibid. • • . і
8 Белевская вивлиофика, издаваемая Н. Елагиным. Собрание древних памятников об истории Белева и Белевского уезда. Список с писцовой книги Белевского >езда, т. I и И, М., 1858. Предисловие во П томе.
4 По поводу Белевской вивлиофики, изданной Н. Е. Елагцным. <Пол- пое собрание сочинений К. С. Аксакова, <г. I, изд. под редакцией И. С. Аксакова, М., 1889, стр. 469г—491. Статья /впервые была напечатана в.«Русской беседе», 1858 г., кн. III. . !
150
г, ко чин
допетровской гражданственности», указывая, что «правительство древней России по крайней мере знало Россию, знало страну, которою управляло».1
Найдя в писцовых книгах указания на крестьян, вышедших и вывезенных от помещика, К. С. Аксаков толкует эти факты как «несомненные свидетельства о существовании свободного перехода крестьян не только de facto, но и de jure, по крайней мере во времена царствования Михаила Федоровича».1 2 3 От свидетельств документа XVII в., истолкованных по-своему, он переходит к характеристике XVIII в. и к современности. Он говорит о несравнимости крепостного крестьянина допетровского с крестьянином его времени. «Слово одно да смысл не тот!» «Страшный, бесчеловечный смысл его (крепостного состояния XVIII—XIX вв. —1\ К.) нам хорошо известен. Принимая это слово в его нам хорошо известном значении, мы говорим, что крепостного состояния в России до Петра не было. Крепостное состояние есть дело преобразованной России».8
Подобную же задачу — убедить в приемлемости старых форм общественных отношений и для нового времени — К. Аксаков ставит в связи с вопросом о наделении крестьян землею. «Нигде lie говорится, — пишет К. Аксаков, — чтоб земля принадлежала помещику или вотчиннику... лес тоже не составлял, кажется, собственности помещика».4 «Земля русского народа принадлежит русскому народу и, через него, государству».5 «Земля не была помещичья, ... государство не думало уступать эти земли помещикам или вотчинникам в собственность •.. Помещик не мог, не имел права не дать земли крестьянину».6
Но для правильного понимания и оценки этих фраз необходимо помнить, что К. Аксаков — помещик, и из числа тех, у коих в пункте о размерах предлагаемого к нарезке крестьянского надела стоит наиболее низкая цифра.7 Эти слова напра-
1 Белевская вивлиофика, издаваемая Б. Елагиным, стр. 469.
2 Ibid., стр. 474—478 и 484.
3 Ibid., стр. 488—489. Ср. в том же томе ст. «О состоянии крестьян в древней Руси», стр. 396.
4 Ibid., стр. 489.
5 Ibid., стр. 485, 486. Ср. стр. 395, 396.
3 Ш.1., стр. 484—485.
7 Н. Рубинштейн. Историческая теория славянофилов и ее классовые корни. С6. «Русская историческая литература в классовом освещении», т. 1»
М., 1927, стр. 103.
ПИСЦОВЫВ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 151
клены к крайним реакционерам из собратий по классу. Убеждать их приходилось во многом, в частности и в право государства наделить крестьян землей, и в выгодности вольнонаемного труда.
Вопрос о вольнонаемном труде К. Аксаковым разобран особенно подробно; и здесь, для подтверждения своих размышлений о современности, он ищет и находит аргументацию в прошлом. Из сравпения размера помещичьей запашки и наличного числа крестьян и бобылей в прилегающих селениях, К. С. Аксаков определяет степень обеспеченности рабочей силой помещичьего хозяйства. Он останавливается на случаях, когда в писцовых книгах при наличии помещичьей запашки не указано ни бобылей, ни крестьян; последнее обстоятельство, по его мнению, указывает на то, что пашня производилась и наймом.1 ос Не могут быть иначе, кан наличием найма, объяснены,— говорит Аксаков, — примеры, когда пашня помещичья очень велика, а бобылей и крестьян очень мало».1 2 «В неоспоримое свидетельство, — пишет он,— что наем существовал в древней Руси, может быть приведено следующее место из Белевской писцовой книги, где говорится о поповской вотчине: и в ней на их [попов] две трети пашни паханыя наезжия из найму 28 десятин».3
Окончательный вывод автора раскрывает нам его основную мысль: ((Если же вольнонаемный труд так давно был у нас известен, то в настоящую минуту это допускает важные соображения и подкрепляет еще более мнение О ВОЗМОЖНОСТИ его и в наше время при новых условиях...»4
Однако совсем не трудно показать, что и писцовые книги истолкованы К. Аксаковым произвольно. Писцовые книги вообще редко указывают тех, кто работает у помещика, пашня помещичья также указывается далеко не вся. Писцовые книги интересуются лишь теми, кто попадет в тягло. К. Аксаков забыл указание Беляева, Знатока документа, что писцовые книги «отмечают количество народонаселения, ограничиваясь, впрочем, только владельцами имений и хозяевами домов, повинными платить податии итти в мирской разруб» (разрядка наша.—Г, /Г.).5
1 Сочивения т. I, стр. 470.
2 Ibid., стр. 471
3 Ibid., стр 473.
4 Ibid., стр. 473.
з И. Беляев. О поземельном владении в Московском государстве. «Временник», М., 1831, XI, стр. 73.
г : •
І52
Г,КОЧЙН ,
«Пащня наезжая из найму», так понравившаяся Аксакову, есть пашня, сдаваемая помещиком крестьянину за оброк. Зт<> видно хотя бы из следующего*, текста наказной грамоты середины XVI в: ссА что которых монастырских земль не исцахивают, ни дожен не искашивают, а дают в наймы, и теми наймы также делятся: архимандриту половина, а попом и дьяконом с чернци половина».1 Наем здесь не что иное, как оброк феодалу—монастырю. / ,
Мы видим как, исходи из жгучих вопросов современности, толкуют славянофилы и новый источник: аргументация их часто це точна, нередко смысл источника заведомо искажен, но всегда ясна одна, руководящая ими при исследовании, мысль: писцовые книги дожны быть использованы как новое средство в борьбе за их политическую программу.
Использование писцовых книг славянофилами не могло служить началом планомерных работ над этим источником. Признание Н. Елагина, что «писцовые книги день ото дня все более и бодее из ряда судебных доказательств отодвигаются в область истории»,1 2 — результат временных настроений.
Более стойкий интерес к писцорым книгам МОГ быть ЛИШЬ СО стороны буржуазной историографии, но в 50-е и 60-е гг. основное течение буржуазной историографии выражает свое внимание ц писцовым книгам лишь в публикации |их. Буржуазная историография, представленная в , 3TQT период «государственниками» Соловьевым и Чичериным, на данном этапе не доросла еще до включения в круг своих интересов вопросов народного хозяйства.
И
Реформа оставила крестьянство опутанным крепостническими пережитками. Крестьянский вопрос переходит в пореформенную Эпоху как революционная программа. Лагерь сторонников этой программы достаточно силен, чтоб выставить свои силы на всех участках идеологического фронта.
. .Бирьбу мы видим и на фронте исторической науки; она ведется по многим направлениям и в первую очередь по линии изучения судеб крестьянства. Выдвигается ряд историков, тёма-
1 Наказная грамота об общежитии монастырском. Акты Архрогр. экгп., т. I., СПб., 1836, стр. 484. Подобное же место см. «Временник», кя. XI,
01р. 118. * - ' I • > • і -.г.- .*•/•
2 Белевская вивдиофпка... т. II, Предисловие Н. Елагина, СЦб., 1858.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ историографии
153
тика которых целиком построена на исследовании прошлого крестьянства и, в частности, прошлого крестьянской общины. Наиболее яркой фигурой в этом ряду является А. Щапов.1 Писцовые книги для него самый богатый источник по «нашей сельской Руси, истории масс, так наз. простого, черного народа... А прочитайте летописи, — говорил в одной из своих лекций Щапов, — исторические акты до XVIII в., — кто устроил, основал, заселил, обработал русскую землю из-под лесов и болот? Кто, как не селянин общины... И так как колонизация, культура, рбстройка русской земли, почти до конца XVII в. и особенно до XVI в. имели единичный починочный характер, среди непочатых лесов и пустошей, то в актах, в писцовых книгах отметились даже имена всех первых основателей, строителей нашей обширной сельской Руси, отметились в названия сел, деревень и починков. Раскройте любую писцовую книгу—она испещрена именами этих строителей починков и деревень...»1 2 3 Из-за отсутствия ссылок у Щапова мы не можем показать как использованы им писцовые книги. Но несомненно автор ими пользовался широко.8
Мелкобуржуазная струя русской историографии в 70-с и 80-е гг. отражает влияние народничества. В тематике первое место отводится крестьянину, сельской общине, а из источников особое внимание привлекают писцовые книги. «Писцовые и переписные книги— грозная и несокрушимая твердыня)), • • • «исключительное значение их ... не моясет подлежать никакому спору, никакому сомнению)).4 Выдвинутые мелкой буржуазией историки имеют неоспоримые заслуги, перед русской исторической наукой между прочим и в том, что расширили круг ее источников: они привлекают данные этнографии, пережитки, народное творчество, обычное право. Для 60-х гг. яркий пример — Щапов. Его ученик Аристов в 70-е гг. разрабатывает народные песни о разбойниках.5 * На совершенно свежем материале написаны работы Ал. Ефименко.
1 См. характеристику Щапова — М. Ц’. Покрорский. Сб. «Историческая наука и борьба классов», вып. 2, Л., 1933, стр. 170.
2 Ibid., стр. 171.
3 А. Щапов. Историко-географическое распределение русского народонаселения, Соч., т. И, СПб*, 1906, стр. 182-364, ос,о6.204,205,234,300,306,321.
* Ал. Ефименко. Исследования народной жизни, вып. I, М., 1884, стр. 196.
5 Н. Аристов. Об историческом значении русских разбойничьих песен;
Воронеж, 1875.
154
г. кочин
Вопрос об источниках для этих историков — вопрос первостепенной важности. Занимаемая ими боевая позиция по отношению к представителям враждебных им направлений, в частности к историко-юридической школе, заставляет их обосновывать свои взгляды с особым вниманием к источникам.
Так «преимущественное внимание к прямым свидетельствам источника)) отмечается П. А. Соколовским как особое достоинство его работ.1 На этом пути и вырастает интерес к писцовым книгам. В работах П. А. Соколовского1 2 особенно выпукло выступает отношение мелкобуржуазной народнической историографии к изучаемым нами источникам. Страницы работ Соколовского пестрят ссылками на писцовые книги,3 создается внешне очень выгодное для автора впечатление строгой документальной обоснованности. По существу же дело обстоит не так благополучно. Примером может служить хотя бы трактовка автором вопроса о русской общине.4 Слабые места ее были подмечены и Чичериным и Ефименко.5 6 Нетрудно показать, с какою легкостью можно уничтожить аргументацию П. А. Соколовского и обратить использованный им источник против него самого.
Берем наугад несколько случайных примеров. В «Очерке» имеется следующее утверждение: «Погосты (новгородские. — Г. К*) отличались многолюдностью», следует^ ссылка: «Так, в погосте Сольцо в Жабенском погосте было 39 дворов».5 Берем из той же писцовой книги первый описанный погост: «Погост Ужинской . •. церковь • • •, а на церковной земле во дворе поп ... во дв. церковной дьяк..., понамарь... проскурница»,7 кроме дворов
1 П. А. Соколовский. Очерк истории сельской общины на севере России. Предисловие, СПб., 1877.
2 П. А. Соколовский. Очерк истории сельской общины на севере России, СПб., 1877. П. А. Соколовский. Экономический быт земледельческого населения России и колонизация юго-вост. степей перед крепостным правом, СПб., 1878.
3 Очерк, стр. 33—36, 53—61, 73—78; Экономия, быт, стр. 149—154, 158—160, 164—167.
4 Очерк, стр.83—88; Экономия, быт, стр. 156—160.
5 В. Герье и Б. Чичерин. Русский дилетантизм и общинное землевладение, М., .1878, стр. 200—201; Ал. Ефименко. Исследования народной жизнеь вып. 1, М., 1884, стр. 211.
6 Очерк, стр. 56. Ср. Новгородские писцовые книги, изд. Археогр. ком. т. I, стб. 629—680.
7 Новг. писц. книги, т. I, стб. 346.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
155
причта в погосте нет ничего. Погост Ситенской—то же самое.1 Да и в самом Жабенском погосте, кроме дворов причта, тяглых крестьянских дворов — 5 и непашенных — 4 двора.1 2 3.
Берем еще пример из «Экономического быта...»: «Крестьянин центрального Дмитровского уезда платил в 3 раза больше оброка за свою землю, чем новгородский крестьянин».8 Эт° утверждение П. А. Соколовский подкрепляет примером из Новгородской писцовой книги, где указывается, что оброк с одной обжи составлял 4 деньги и по коробье ржи и овса,4 а для Дмитровского уезда автор берет факт из писцовых книг, изд. Калачовым, где с выти оброк идет в 4 гривны.5 *Но на той же странице в Новгородской писцовой книге мы встречаем дер. Калинкино, где 1 двор и одна обжа «доходу (т. е. оброку.—jT.iT.) 10 денег пол-2 коробьи ржи, пол-2 коробьи овса, четка пшеницы», т. о. обложение в 2 раза выше, чем в приведенном Соколовским примере. А в д. Борки* с одной обжи оброка 15 денег и соответственно больший натуральный оброк: кроме всякого хлеба еще сыр, яйца, лен.. • Легко и для Дмитровского уезда найти меньшие оброки. В соседнем с указанным автором сельце Лук оброк с выти только по гривне,7 т. е. меньше в 4 раза, а в другом сельце, Иванищеве, по рублю,8 т. е. больше в 2г/2 раза, чем указано у Соколовского. Резко выделяется и другая особенность в ра работке источника: автор слишком доверяет своему источнику, всякое свидетельство источника он принимает на веру, все легко и просто переводит на наш язык, расценивает в формах современных автору отношений. Коробья (единица исчисления размеров запашки в писцовых книгах), например, приравнивается им десятине, с поразительною легкостью автор обжу и выть приводит к строго определенным мерам.9 Легко определяется соотношение обременительности барщины XVI в. с отработками 70-х гг. XIX в.,10 и столь же легко обнаруживается
1 Новг. ппец. книги, т. I, стб. 558.
2 Ibid., стб. 612.
3 Экономия, быт, стр. 37.
4 Но?г. писц. кн., т. I, стб. 623—624.
3 Писц. кн. XVI в., ч. І, отд. I, стр. 770.
в Ibid., стр. 521.
7 Писц. кн. XVI в., отд. I, стр. 769.
3 Ibid., стр. 770.
о Экономия, быт, стр. 19, 31, 35, 47, 49.
ю Ibid., стр. 40.
156
Г, К0ЧИЦ
в ХУІ в. аренда и притом как рядовое явление»1 Если вспомнить, что историки из лагеря, враждебного Соколовскому, стояли на уровне европейской исторической науки, то неудивительно, что бесхитростные примеры Соколовского дали повод Б. Чичерину квалифицировать своего, противника как «незнакомого е научными понятиями и приемами исследователя».1 2
Указания Б. Чичерина верны и в отношении наличия противоречий в аргументации Соколовского и в отношении отсутствия цельности во всей его исторической концепции» Сетуя на современных ему и предшествовавших историков, Соколовский пишет: «Никто не считает достойным науки уделить сколько-нцбудь внимания на исследование исторической судьбы многомиллионной массы, служившей базисом истории...» и, как бы поясняя, продолжает: «экономическая история — то, что заслуживает наибольшего внимания в жизни крестьянина».3 Но эти декларации не идут дальше установления объекта изучения. Крестьянство у Соколовского является пассивным, вызывающим сочувствие, но но действенным фактором истории. Термин «экошь мнческий быт» исчерпывает все содержание его «экономической истории». Надо заметить, что последнее справедливо не только в отношении Соколовского и историографии 70-х — 80-х гг., но и в отношении большинства ра(5от буржуазных историков вплоть до XX в.
Как бы строго мы ни относились к работам Соколовского, необходимо во всяком случае подчеркнуть, что Соколовский первый показал богатство содержания писцовых книг. Рабрты Соколовского рисуют яркие картины жизни деревни Московского государства. Перед читателем развертывается жизнь сел, деревень, починков, их возникновение, росі;4 5 рисуется картина крестьянского двора с надворными постройками, указаны величина и даже стоимость их; описывается хозяйство крестьянина — усадьба, поля, угодья; в цифрах показаны размеры запашки, сенокоса;6 описаны виды сельскохозяйственного труда, перечислены повинности, приводится бюджет крестьянина, — все рассказано понятным языком, сведено к понятным нам цифрам и создает впечат-
1 Экономия, быт, стр. 40—41.
2 В. Герье и Б. Чичерин. Русский дилетантизм* стр. 201.
3 Очерк, Предисловие.
4 Очерк, стр. 53—62; Экон. быт, стр. 149—154.
5 Очерк, стр. 29—32; Экон. быт, стр. 18—23.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ историографии 157
ленив большой убедительности и доказательности. Работы Соколовского служат как бы практическим приложением взглядов А. Щапова на писцовые книги как на источник, «ярко запечатлевший созидательную трудовую деятельность крестьянина и сельской общины».
Заслуга Соколовского усугубляется еще тем, что он выступил со своими работами в такое время, когда интерес к писцовым книгам совершенно заглох.
В 50-е и 60-е годы параллельно с научным интересом к писцовым книгам идет энергичное их выявление и издание.1 В конце 60-х гг. Московским архивом министерства юстиции публикуется список, включающий около 3 тысяч писцовых и переписных книг, хранящихся в архиве. Позже он дополняется.1 2 Руководитель архива Н. В. Калачев принимает шаги к плановой публикации огромных материалов писцовых книг, обращаясь для этого к содействию Географического общества. «Мы должны наконец остановиться на том, что все исследования о древней России, предпринятые без подробного изучения ЭТОГО источника (писцовых книг.— ЛІГ.), лишены, по крайней мере в некоторой степени, и полноты и достоверности.. .»3 Географическое общество издало работу Неволина «О пятинах и погостах»,4 сыгравшую исключительно важную роль в ознакомлении историков с новгородскими писцовыми книгами, оно «отнеслось сочувственно» и к предложению Н. В. Калачева, согласилось на издание писцовых книг в извлечениях, и для начала решено было издать писцовые книги XVI в.5 Эго было завершением периода, благоприятствовавшего изучению писцовых книг. Издание в 1872—1873 гг. было быстро подготовлено, были напечатаны оба отделения I тома (160 печатных листов), включА-
1 Кроме «Белевской вивлиофики» изданы полностью писцовые книги по Деревской и Вотской пятинам описи 1495—1505 гг. Новгородские писцовые книги, изд. Археографической комиссии, т. I, И, III; «Временник Общ. ист. и древн. росс.», кн. 11 и 12. Изданы Археогр. комиссией «Писцовые книги Ижорской земли», СПб., 1859—1862 гг.
2 «Описание документов я бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства Юстиции»., кн. 1., СПб., 1867; кн. 2-я, 1872, и кн. 5-я, 1885.
3 «Русский Вестник» 1869 г., апрель. «Об издании извлечений из писцовых книг», чтевие Н. В. Калачева.
4 К. А* Неволин. О пятинах и погостах новгородских, СПб., 1853.
5 «Известия Русского географического общества», т. V, Ж) риал соед. заседания отдел, ртногр. и стат. 12 дек. 1868 г., отд. 1, СПб., 1869, стр. 24—27.
І58
г. кочин
вшио писцовые книги ХУІ в.,1 оставалось написать предисловие и указатели, но полностью эти книги вышли в свет только через 20 лет.1 2 * Еще несколько раньше Археографическая комиссия прекратила издание Новгородских писцовых книг.
Значительно выше в методологическом отношении стоят работы над писцовыми книгами А. Никитского и А. Ильинского. Ильинский не успел высказаться, напечатав только одну главу своего труда.8
В глазах Никитского писцовые книги — исторический памятник первостепенной важности для географа, политико-экопома, юриста и историка.4 * Его статья об издании новгородских писцовых книг говорит о долговременной тщательной работе над Этим источником. Однако у Никитского в приемах разработки писцовых книг, отражающих на практике оценку их как источника, мы отмечаем с первого же взгляда близость к приемам П. А. Соколовского: и для Никитского писцовые книги — свод отдельных наблюдений, ценных лишь как единичные показания. Ссылки на отдельные места писцовых книг — единственный прием использования источника, усиление доказательности идет лишь за счет умножения этих ссылок. Прекрасное знакомство <с источником позволяет Никитскому избегать неловких положений, частых у Соколовского. В умелых руках разнообразный и многочисленный материал позволяет, без особых затруднений и натяжек, изображать ход развития хозяйства новгородской земли таким, каким он мыслится автору. Так, в глазах Никитского московское владычество вносит коренной переворот в хозяйство новгородской области. З10 сказывается прежде всего в перемене в строении помещичьего хозяйства, теряющего чрезмерную раздробленность, и в увеличении помещичьей за-
1 Писцовые книги, издаваемые Русским географическим обществом, ч. 1, Указатель. Предисловие, СПб., 1895.
2 Писцовые книги Московского государства, ч. 1, Писцовые книги XVI в., под редакцией Н. Калачева. Издание Русского географич. общ., отд. 2, СПб., U77. То же, ч. 1, отд. 1, СПб., 1872. Так значится на титульном листе, а на самом деле издание вышло в свет в 1895 г.
8 Работа Ал. Ильинского: Горо іское население Новгородской области в XVI в., Журн. Мин. нар. пр., 1876, июнь. Продолжение (глава вторая) в «Историческом обозрении»», т. IX, СПб., 1897, стр. 119—244, издано сп}стя 20 лет после смерти автора.
4 А. И. Никитский. Заметка об издании Новгородских писцовых книг,
Журн. мин. нар. пр., 1880, кн. 12.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 159
дашки.1 Нцкитский указывает на факты улучшения в устройстве крестьянских поселений, что, по мнению Никитского, выражается в фактах списывания деревень в одно место.1 2 Никитский говорит, что «с переорганизацией помещичьего хозяйства прилагалась дорога к барщине; причем в начальной своей форме барщина представляла явление, выгодное для обеих сторон».3 Помещики ссужают кресіьян семенами, чего не было ранее.4 Трехполье конца ХУ в. он готов также связать с деятельностью московских помещиков.5 ((Особенное внимание было посвящено московскими владельцами развитию луговодства»,6 а за луговодством и развитию скотоводства.7 По мнению Никитского мы в иис- цовых книгах имеем возможность наблюдаїь плодотворную преобразовательную деятельность московского помещика в Новгородской земле, хотя в условиях замены новгородских землевладельцев собственников московскими помещиками, временными владетелями,8 остаются не совсем понятны мотивы такой энергичной строительной деятельности москвичей. И стоит только обратиться от ссылок Никитскою к самим писцовым книгам, как перед нами раскроется произвольность толкования источника и несоответствие истинного содержания источника с картиной, нарисованной автором. Прежде всего обнаруживается, чі о явлениям единичным, даже исключительным автор иногда придает значение типичных явлений; так на примере двух помещиков Ивашки Кривого и Торха Плещеева строится утверждение о беспроцентной семенной ссуде, выдававшейся крестьянам. ЗакРаДывастся большое сомнение ввозможносіи выгод крестьянам от барщины даже в начальной ее форме. Неосновательно в списывании деревень в одно место видеть зэботы о благе крестьян, тем более, что справедливым было бы совсем не придавать практического значения этому списыванию как действию писцовой комиссии, ничуть не отражавшему каких либо реальных перемен в жизни списываемых деревень.9 Поло¬
1 А. И. Никитский. История эконом, быта В. Новгорода. „Чтения*, 1893 г., кн. I, стр. 208—214, 216.
2 Ibid., стр. 215.
3 Ibid., стр. 216.
4 Ibid., стр. 223.
5 Ibid., с і р. 221.
6 Ibid., стр. 223.
7 Ibid., стр. 227.
8 Ibid., стр. 206—207.
9 Для характеристики см. Новгородские писцовые книги, т. Ill, GQ6. 1868, стб. 4, 25, 60, 90, 91, 98.
160
г. ка^йй *
женин о росте помещичьей запашки, об изменениях в обложении крестьян, конечно, нуждаются в доказательствах на массовом материале, отдельные примеры случайны и могут быть обч манчивы. Переоценка исключительной деятельности московских помещиков тоже увлекает Никитского слишком далеко: показанный по некоторым районам большой закос, появление починков Никитский готов без достаточных оснований приписывать благодетельным последствиям московского владычества.
Ложность положения А. Никитского—результат непонимания цельности массовых наблюдений, зафиксированных писцовыми книгами.1 Между тем и Никитский и Соколовский на основе пис-' цовых книг пытались разрешать большие общие проблемы историй русского народного хозяйства и истории экономических взаимоотношений классов феодального общества.1 2 Их приемы, корнями идущие к Щапову к 50—60-м гг., приемы, отражающие неспособность названных ученых понять общие законы социально- экономических явлений, оказались неудовлетворительными, не' дали положительных результатов. Эти же приемы мы можем наблюдать и позднее, у представителей иных направлений в русской историографии. Первый тому пример — В. И. Сергеевич. *
В третьем томе «Древностей»3 Сергевич дает высокую оценку материалам писцовых книг, а Каждая глава книги отчетливо показывает приемы их использования. Это в основном все то же извлечение отдельных показаний, умножаемых для усиления доказательности.4 Единство приемов разработки писцовых книг существует уясе вне зависимости от различия общих установок историка: воззрения В. Сергеевича достаточно ясны, чтобы не смешивать их со взглядами Соколовского. Приемы Соколовского, характерные для мелко-буржуазной историографии 70—80-х гг., в последующее время находят приложение у историков весьма различных школ.
На ряду с теми, кто отводит писцовым книгам первое место среди источников, мы должны отметить историков, которые
1 А. С. Лаппо-Данилевский. Критич. заметки по истории нар. хоэ. в В. Бовг., СПб., 1895, стр. 56.
2 Ср. высказывания на стр. 1—2 «Истории эконом, быта В. Новг.» с тем, что есть в работах А. Никитского.
3 В. Сергеевич. Древности русского права, т. III. Землевладение, тягло, порядок обложения, изд. 2. СПб., 1911%. Предисловие, изд. 1, 1903.
4 Древности, т. Ш, изд. % стр. 4, 6, 8-11, 16, 17, 26, 27, 34 и др.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
161
пользуются материалами писцовых книг, ничуть не придавая им большого научного значения.1 Взгляд таких ученых на писцовые книги, как на источник, хорошо сформулирован Д. И. Багалеем в одном попутном замечании:
<с.. .Грамоты, отписки воевод и аналогичные им исторические источники, по своему документальному характеру, в общем должны быть признаны вполне достоверными. Иное дело писцовые книги: тут и при вполне добросовестном отношении к делу писцов ХУ И в. могли быть ошибочные сведения».1 2 Отрицательная оценка материала писцовых книг, однако, не мешает автору пользоваться ими, так как .только в писцовых книгах, по его признанию, сохранились многие, часто очень подробные указания о владениях и хозяйстве отдельных крупных и мелких феодалов, вообще сведения о глухих краях и окраинах Московского государства.
III
Мы наблюдали сравнительно примитивные приемы разработки писцовых книг, не соответствующие богатству их содержания и конструктивной сложности их. Развитие буржуазной историографии, сопутствующее развитию русского капитализма, приводит к попыткам по* иному подойти к нашему источнику.
К 90-м гг. русский капитализм стоял на твердых ногах. Успехи вызывают у буржуазии желание утвердить себя на корнях прошлого, создать свою купеческую генеалогию. Московское купече- чество в 80-х гг. издает 9 томов ((Материалов по истории московского купечества»3 и в 90-х гг. еще пять томов.4 На средства московской городской думы издаются ((Переписные книги города Москвы».5 На купеческие же средства издаются многотомные
1 С. Ф. Платонов. Очерки по истории смуты, изд. 3, 1910. Примечания, стр. 543—553. С. В. Рождественский. Служилое землевладение в Московском государстве XVII в., СПб., 1897, стр. 14—16, 27, 28, 32—34*, 39,41,155— 158, 164, 170, 171, 185, 187, 189—194 и др., а особенно стр. 189, где прямо дана ссылка на указатель к писцовым книгам.
2 Д. И. Багалей. Отзыв об исследовании И. Н. Миклашевского «К истории хоз. быта Моек, госуд.». Отчет о 37-м присуждении награгрд. Уварова, СПб., 1895, стр. 169—170.
8 «Матер, для истории моек, купечества», тт. I—IX, 1883—1889 гг.; к ним приложения: к I тому — 3 приложения 1884—1891 гг., к тт. II, III и IV по одному приложению. М., 1885.
4 «Матер, для истории моек, купечества», тт. I—V, М., 1892—1895.
5 «Переписные книги гор. Москвы», тт. 1—10, М., 1881—1893 гг. .
Проблейы источниковедения, II 11
162
г. ко чин
«Материалы для истории городов XVI, XVII и XVIII в.».1 Именитые купцы Трапезниковы, Крестовниковы, Боткины, Бахрушины доказывают в XVI—XVII вв. своих предков среди тяглого посадского населения, среди ремесленников, среди монастырских крестьян. Буржуазии нужна собственная наука. В арсенале буржуазных наук экономические науки стоят в первых рядах. В истории на первый план выдвигаются вопросы экономики прошлого, истории народного хозяйства. Меняется тематика, изменяется подход к историческому источнику. Буржуазная историческая наука заботится о наукообразной доказательности своих построений. Эта наукообразность находит свое выражение у буржуазных историков в стремлении строить работы на более широкой базе первоисточников, в критических высказываниях о документе, о старых схемах исторической науки.
Выступают крупнейшие из буржуазных историков — А. С. Лаппо-Данилевский, П.Н.Милюков,М. А. Дьяконов,С.Ф. Платонов, Д. И. Багалей, М. С. Грушевский; в этот же период оформляется Ключевским его, эклектическая по существу, но подкупающая разносторонностью и наружной стройностью концепция русского исторического процесса. В помощь историкам приходят экономисты, выступающие под флагом марксизма для оправдания капиталистических отношений—таковы выступления П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановского. Особые требования, предъявляемые к источнику, в связи с выдвигающимся интересом к вопросам Экономическим, приводят к тому, что писцовые книги оказываются в центре внимания буржуазных историков. «Именно их (писцовые книги. — Г. К.) нужно положить в основу исследования о русских городах, как и вообще всякого изучения внутреннего положения Московского государства и их уже данные пополнять по другим источникам»—такое мнение высказывается в работе Н. Д. Чечулина «Города Московского государства в XVI в.».1 2 По времени Это первая из того цикла работ 90-х годов, которые представляют
1 «Материалы по истории городов XVI—XVIII вв.» или «Материалы для истории городов XVII—XVIII вв.» Зарайск (1883 г.), Иркутск (1883 г.). Торопец (1883 г.), Устюг В. (1883 г.), Тула (1884 г.), Рязань (1884 г.), Ростов (1884 г.), Тобольск (1885 г.). Белев (1881 г.), Кунгур (1886 г.), Сибирские города (1886 г.), Углич (1887 г.), Вятка (1887 г.), Боровск (1888 г.), Пересмавль- Заіесскпй (1888—1891 гг.).
2 Н. Д. Чечулин. Города Московского государства в XVI в., СПб., 1889’ стр. 11.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
163
для нас особый интерес по их большому вниманию к разработке писцовых книг. Сложная тема, трудно поддающийся разработке источник, отсутствие у автора навыков в работе над материалами массовых наблюдений, наконец примитивность в постановке вопроса привели, однако, к тому, что Чечулин не справился ни с привлеченными источниками, ни с поставленной темой.
Более тонкие образцы изучения писцовых книг и пользования ими мы найдем у других авторов и раньше других у А. С. Лаппо-Данилевского. В своем первом крупном труде «Организация прямого обложения)),1 А. С. Лаппо-Давилевскнй много уделяет места писцовым книгам, в этом труде определяется и отношение его к писцовым книгам как к историческому источнику. Первое, что бросается в глаза, это двойственность в их оценке. С одной стороны, «недостатки писцовых книг лишь в незначительной мере умаляют то громадное значение, какое они имели в XVII веке». «Вообще можно сказать, что народные переписи, производившиеся в Московском государстве с XV века до второй половины XVII, за немногими исключениями, едва ли имели равные им правительственные предприятия в Зап. Европе в тот же период времени».1 2 С другой стороны, на десятке страниц перечисляются недостатки писцовых книг как исторического источника и делается вывод: «писцовые книги не могли служить вполне точным и удовлетворительным источником сведений».3
Лапио-Данилевский — националист и патриот. XVII век выбран Лаппо-Данилевским для изучения как эпоха наиболее резкого развития национальных особенностей русского государственного строя.4 Зтим °н напоминает К. С. Аксакова; сходятся они и в восторженной оценке московских переписей. Но в то же время Лаипо- Данилевский историк-государственник, продолжатель Чичерина и Соловьева,5 сделавший от них еще шаг вперед в возвеличении роли государства.
1 А. С. Л а ппо-Данилевский. Организация прямого обложения в Московском государстве со времени смуты до эпохи преобразования, СПб., 1890.
2 Ibid., стр. 214.
3 Ibid., стр. 2)3.
4 Предисловие к «Организации прямого обложения».
5 «Историческое Обозрение», сб. за 1890 г., т. I, СПб., 1890, Магистерский диспут Лапио-Данилевского, выступление Платонова и разъяснения Лаппо-Данилевского, стр. 293.
И*
164
г. к о ч и н
В противоположность Соловьеву и Чичерину для Лаппо-Дани- левского писцовые книги — один из важнейших источников, что однако не мешает ему выдвигать длинную цепь аргументов против достоверности массового материала писцовых книг.1 Но время Лаппо-Данилевского в истории буржуазии иное. Новое время выдвигает новые задачи. «Историческая наука, как мы понимаем ее современные задачи, ставит на очередь изучение материальной стороны исторического процесса, изучение истории экономической и финансовой, истории социальной, истории учреждений» — так определяется это новое Милюковым.1 2 3 Под влиянием этих, выдвинутых временем, новых задач «государственник» Лаппо- Данилевский занимается вопросами истории государственного хозяйства. Отсюда и неизбежность обращения к писцовым книгам.
Писцовые книги он рассматривает как нечто цельное, болео или менее законченно отражающее состояние хозяйства и положение населения Московского государства в различных его частях. Для него особенно ценны не отдельные показания, а общая картина. Для буржуазной историографии 90-х гг. единичные показания, которые так ценили Соколовский и др. его современники, мало убедительны, убеждают лишь общие данные, выраженные в средних отвлеченных единицах. Так, Лаппо-Данилевский считает крупным недостатком работ А. Никитского, что последний «метод средних величин и числовых отношений оставляет без всякого употребления. . . »8
«Изучение истории экономической, финансовой, истории социальной ...» ставит по-новому вопрос об источниках. Ищут источник по экономике прошлого, источник с массовыми цифровыми показателями, которые в глазах буржуа придают необходимую солидную внешность научному исследованию.
В 70-х гг. в крупнейшем Московском университете не было профессоров-историков, осведомленных в вопросах экономических.4 * В 90-х гг. мы этого уже не наблюдаем.
1 Организация прямого обложения, стр. 205—214.
2 Предисловие к первому изданию работы П. Н. Милюкова — Госуд. хоз* России в первой четверти XVIII ст., СПб., 1891.
3 «Критические заметки по истории народного хозяйства в В. Новгороде и его области за XI—XV вв.» Отзыв А. Лаппо-Данилевского о сочинении А. И. Никитского — История эконом, быта В. Новгорода, СПб., 1895, стр. 56.
4 Письмо А. Ильинского Н. Аристову в статье «Ал. Гр. Ильинский»,
Н И. Аристова, «Древняя и новая Россия», т. И, 1878, стр. 80. Ср.: Органи-
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ в БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
165
В связи С ЭТИМИ новыми требованиями писцовые книги среди исторических ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ЭПОХИ ХУ—ХУ II вв. не имеют конкурентов, Они являются неисчерпаемым источником ДЛЯ всякого рода цифровых показателей, писцовые книги становятся статистическим материалом,
В предисловии к Писцовой книге Н.-Новгорода, написанном А. Лаппо-Данилевским несколько позднее отзыва о работе Никитского, мы находим и прямое указание на то, что именно писцовые книги могут послужить необходимым для получения средних величин статистическим источником. Отмечая, что «по количеству довольно точных и разнообразных данных наряду с писцовыми книгами едва ли можно поставить какой-либо другой из современных источников», А. Лаппо-Данилевский указывает на важную для историка возможность, которую дают писцовые книги — <ше довольствуясь одними примерами, из массы наблюдений выводить средние величины, обнаруживающие, хотя и более отвлеченные, но за то и более общие черты изучаемых явлений».1 В своих работах он, правда, нечасто пользуется материалами писцовых книг, сводя их в таблицы, которые обычно служат иллюстрациями к разбираемым автором явлениям.* 1 2
В оценке писцовых книг как исторического источника к А. Лаппо-Данилевскому примыкает И. Н. Миклашевский. Он •согласен с отрицательной оценкой Лаппо-Данилевского, но в то же время видит возможность широко использовать ЭТОТ источник. Миклашевский пишет: «Для изучающего писцовые и переписные книги теперь, так сказать, ретроспективно, эти недостатки значительно умаляются в своем значении. Для изучающего хозяй¬
зацпя прямого обложения, А. С. Лаппо-Данилевского; Государственное хозяйство России в I четверти XVIII в., П. Н. Милюкова. На диспуте И. Н. Миклашевского по его диссертации «К истории хозяйственного быта Московского государства» — официальные оппоненты историк и статистик, а работа ставилась по кафедре истории сельского хозяйства.
1 «Русская истор. библ.», изд. Археогр. ком., т. XVII, СПб., 1896. «Писцовые и переписные книги XVII в. по Н.-Новгороду». Предисловие А. С. Лаппо-Данилевского (автор не указан). См. «Русский истор. журнал», кн. 6, 1920. Список трудов А. С. Лаппо-Данилевского, стр. 32.
2 «Организация прямого обложения»,стр. 513—518, 524—525,540—542,— «Разыскания по истории прикрепления владельческих крестьян в Московском государстве в XVI—XVII вв.» — отзыв А. Лаппо-Данилевского о книге М. Дьяконова «Очерки по истории сел. населения в Моек, госуд.» в 41-м отчете о присуждении наград гр. Уварова, отдельный оттиск, СПб., 1900, стр. 47—54.
166
г. к о ч и н
ственный быт какой-либо части государства в XVII в. писцовые и переписные книги остаются главным и наиболее ценным источником сведений».1 Подобная оценка становится как бы формулою в большинстве работ буржуазной историографии по писцовым книгам.1 2 Диссертация И. Н. Миклашевского о хозяйстве южной окраины целиком построена на материалах писцовых книг. Основной прием — подсчет показаний писцовых книг в разных направлениях. Характер поселений, категории населения, численность и движение его, характер землевладения, обложение зависимого населения — все это дается И. Н. Миклашевским в форме таблиц; на основе их и строится картина хозяйства изучаемой автором области. Однако привлечение богатого материала, огромный труд, потребовавшийся для составления таблиц, не привели автора к разрешению какпх-либо важных, с точки зрения историка, проблем. Труд И. Н. Миклашевского «представляет нечто среднее между исследованием и статистическим описанием))— таков вполне справедливый вывод его рецензента Д. И. Багалея.3
Нам важно отметить, что единичные показания отошли у Миклашевского на задний план.
Признание бесспорной необходимости оперировать сводными цифровыми показателями находит выражение в работах, специальная задача которых состояла в переработке малопоказательных сырых материалов писцовых книг в таблицы. Таковы работы Е. Щепкиной4 и И. Лаппо,5 появившиеся в начале 90-х годов.
1 И. Н. Миклашевский. К истории хоз. быта Моек, госуд., ч. I, Заселение и сельское хозяйство южной окраины XVII в., М., 1894, стр. 63.
2 Ю. Готье. Замосковный край в XVII веке, М., 1906, стр. 167—168.
A. Кауфман. К вопросу о приемах историко-экономического изучения писцовых книг. «Русский истор. журн.», Пгр., 1917, кн.З—4, стр. 147—151. Его же вводная статья в сборн. «Статист, семин. Петр.высш. жен. курсов», Новгор. писцовые книги в статист, обработке. I. Погосты и деревни Шелонской пятины по письму 1498 —1501 гг., Пгр., 1915, стр. 12—13. См. также многочисленные работы условно именуемой нами «киевской школы» (о них см. ниже).
B. Ф. Загорский, История землевладения Шелонской пятины в конце XV и XVI вв. «Журнал министерства юстиции», 1909, №№ 8—10 за окт.,ноябрь, дек.
3 Отчет о 37-м присуждении наград гр. Уварова. Отзыв Д. И. Багалея об исследовании И. Н. Миклашевского «К истории хозяйств, быта Моек, госуд.», СПб., 1895, стр. 207—208.
4 Е. Н. Щепкина. Тульский уезд в XVII в. Его вид и поселения по писцовым и переписным книгам, «Чтения», 1892, кн. 4.
5 И. Лаппо. Тверской уезд в XVI в. Его население и виды земельного владения, «Чтения», 1894, кн. 4.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
167
Развивающаяся марксистская мысль заставляла и буржуазных историков с большей осторожностью решать общие вопросы методологии истории и отдельные методологические проблемы, выдвинувшиеся в 90-е годы на первый план. В таком направлении идет работа и над нашим источником. Впервые резко ставит вопрос о приемах разработки писцовых книг и их научной ценности Н. А. Рожков в статье «К вопросу о степени достоверности ПИСЦОВЫХ КНИГ)).1
Появлению этой статьи сопутствовали занятия в архивах в период работы над книгой ((Сельское хозяйство в ХУІ в.» Это тот период, когда Рожков, по собственному признанию, развивался в сторону марксизма. Н. А. Рожков выступает при поддержке некоторых молодых ученых, объединившихся в Археографической комиссии Московского Археологического общества.1 2 При постановке вопроса о достоверности писцовых книг Н. А. Рожков указывает, что он думает «о научной обновлен- ности в сфере статистики с появлением земско-статистических комитетов)), а не о фактической казенной статистике первой половины XIX в.3 Это характеризует симпатии Н. А. Рожкова. Его постановка вопроса полностью направлена против Лаппо- Данилевского и Миклашевского; заключительное замечание Н. Рожкова «о легких, но сомнительных победах над „невежеством" древнерусских писцов»4 указывает на остроту разногласий с указанными авторами. В противоположность им Н. А. Рожков находит в писцовых книгах все качества, чтобы расценивать их как достоверный статистический источник. Он отмечает ясность и простоту программы древне-русских описаний, — употреблявшиеся меры обладают, по его мнению, необходимым для точности качеством — определенностью. «Писцовые книги в достаточной мере удовлетворяют точности отдельного наблюдения, выставляемого современною статистическою теориею».5 «В общем писцовые книги достаточно достоверный источник»—продолжает Рожков.— «Их отличительные особенности... большая узость задачи, обеспе¬
1 «Древности. Труды археограф, комиссии Моек, археол. общества», т. I, в. 2, М., 1898, стр. 185 -2(15.
2 «Ученые записки Института истории Ранион», т. V. Из воспоминаний о Б. А. Рожкове, М. М. Богословского, стр. 137—138. В комиссии были М. В. Довнар-Запольгкин, П. Иванов.
3 К вопросу о степени достоверности писцовых книг, стр. 185—186.
4 Ibid., стр. 200.
з Ibid., стр. 196.
168
г. ко чин
чивавшая за то больший успех выполнения, ... и отсутствие правильной научной обработки собранного материала... дают нам надежную точку опоры в нашей работе». «Не будем же с излишним скептицизмом относиться к одному из важнейших источников нашей истории...»1 Работа Н. А. Рожкова ((Сельское хозяйство Московской Руси ХУІ в.» является практическим приложением установок, выдвигаемых в статье. Мы видим в этой работе самое широкое использование материалов писцовых книг. Сведенные в таблицы, они служат опорою при доказательстве многих совершенно новых в то время точек зрения по отдельным проблемам истории Московского государства.
Бросается в глаза нагромождение таблиц, ссылок и цифровых показателей в процентах и абсолютных величинах. Ыо аргументация Рожкова, основанная на писцовых книгах, довольно часто не обладает достаточной убедительностью. Так напр., толкование термина «наезжая пашня», как показателя отхода от правильного севооборота, приводит автора к неправильному истолкованию цифр в таблицах, характеризующих севообороты.1 2 В этих же таблицах термину «перелог» придано значение признака переложной системы, на этом строятся важные выводы автора об упадке земледелия и о переходе к переложной системе. Источник же говорит о большом количестве «селений, превратившихся в пустоши, и писец ЭТИ запустевшие земли пишет в перелог до тех пор, пока эта земля не зарастет «лесом в бревно» или «лесом в руку».3 Запустение, сопровождающееся полным исчезновением населения в деревнях и селах, нет никаких оснований толковать как переход к переложной системе, этого не хочет говорить писец, он только, соблюдая интересы фиска, не перечисляет запустевшую землю в разряд навсегда заброшенных. В другом месте Рожков уже сам дает правильное толкование этому явлению.4 Показательным, но не в пользу Рожкова, является и прием при решении вопроса о системе хозяйства в пользу земледельческого или скотоводческого. В основу взято соотношение площади цосева к площади сенокоса, как 10:1.5 У Рожкова как будто бы
1 К вопросу о степени достоверности писцовых книг, стр. 198.
2 Сельское хоз. Моек, госуд. XVI в., стр. 64, 67—71.
3 Ср. данные Московского у. на стр. 68 и Писцовые книги, изд. Калачовым, стр. 39—283.
4 Сельское хозяйство, стр. 306.
5 Ibid., стр. 2.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
169
ость и документальные основания, устанавливающие норму подобного соотношения, но указ 1550 г., служащий этим основанием, истолкован Рожковым с привнесением произвольных пояснений, дополненных таким же необоснованным расшифрованием показаний писцовых книг о сенных покосах. Достаточно изучения небольшого числа данных писцовых книг о закосе, чтобы отвергнуть возможность какого-либо приближения к абсолютным цифрам,1 независимо от интереса к «угодьям», а практические возможности учесть «полянки», «росчисти», «россечи», «поженки» и т. п., в угодьях сенокосных следует признать несравнимо меньшими, чем для учета и описания запашки, а отсюда необходимость особого обоснования тому, чтобы пользоваться соотношениями пашни и заноса.
Приведенные примеры отмечают отсутствие критики источника и его показаний. У А. Лаппо-Данилевекого критика писцовых книг направлена к тому, чтобы выбросить этот источник, преодолеть его как преграду и очистить путь для поисков источников другого типа. В противовес такой критике, отрицательного свойства, должна быть противопоставлена критика, устанавливающая методы пользования источником. На основе оценки эпохи и окружения, создавших документ, на основе определения классовой его целеустремленности и отраженных в нем задач текущего момента, должен устанавливаться способ истолкования и понимания документа. Именно такая критика больше всего необходима в отношении писцовых книг. Н. А. Рожков в своей статье тоже говорит о критике писцовых книг— «надо обращать внимание на конкретные условия, под влиянием которых сложились дошедшие до нас отдельные списки разных писцовых книг», но он ограничивает содержание понятия «критики» внешнею критикою — происхождения документа, подлинности, доброкачественности его списков и т. п. При таком способе оценки источника, избавляющем исследователя от необходимости какой либо поверки его данных, Рожков оказывается в одном ряду с Соколовским.
Исследуя подход Рожкова к цифровому материалу, хочется напомнить яркие слова М. Н. Покровского:1 2 «Каленым железом
1 Г. А. Максимович. К вопросу о степени достоверности писцовых книг, Нежин, 1914.
2 М. Н. Покровский. С6. «Истор. наука и борьба классов». Вып. 1, Ответ т. Томсинскому, стр. 266, М.-Л., 1933.
170
г, ко чин
нужно выжечь представление, будто материалистическое объяснение истории есть ее цифровое объяснение... Цифрами можно охарактеризовать лишь наиболее элементарные экономические процессы,... обобщения более высокого порядка даже непосредственно в истории хозяйства требуют уже анализа (разрядка М. Н. Покровского) цифр».1 Такого анализа цифр мы не находим у Н. А. Рожкова. Случаен и подбор его цифр. Количественные показатели внешпего порядка загромождают книгу; таблицы, цифры в тексте и вереницы ссылок,1 2 не определяют* разрыва Рожкова с прошлым русской историографии, а лишь уясняют его связь с мелко-буржуазным ее течением.
Работы Рожкова не внесли в метод пользования писцовыми книгами ничего принципиально нового, но показывают, что историографические установки мелкой буржуазии несомненна испытали влияние марксизма. Признание решающей роли экономического фактора в историческом процессе, апелляция к показателям массового порядка и защита таких показателей, как единственно достаточных для исторического исследования, не могли не вызвать решительного отпора со стороны представителей реакционной и буржуазной историографии. В этом направлении и ставится вопрос об изучаемом нами источнике, и работа Рожкова подвергается резкой критике.
«В интересах науки и последователей г. Рожкова, число которых весьма значительно», выступает с подобной критикой В. И» Сергеевич.3 «Он (Рожков.—jГ. if.) — по мнению Сергеевича — нс довольствуется обыкновенными способами исследования, он стремится достигнуть более точных результатов и выражает свои выводы в цифрах. Ему мало указать на нескольких примерах, каковы были, например, размеры господских запашек, он желает определить их абсолютные и относительные размеры».
Критические замечания, отмечающие отдельные промахи Роликова, Сергеевич сопровождает констатированием «полной сго(Рож- кова. — jГ. К.) неопытности по части статистических выкладок», «совершенно впрочем извинительной, ибо изучение статистики для общих историков в наших университетах так же не обяза¬
1 М. Н. Покровский. С^. «Истор. наука и борьба классов». Вып. 1, Ответ т. Томен некому, стр. 266, М.-Л., 1933.
2 Сотни цифр — «Сельское хозяйство», стр. 111—115.
3 В. Сергеевич. Древности русского права, т. III. Землевладение, тягло, порядок обложения. Изд. 2, СПб., 1911, стр. 476. Первое изд. в 1903 г.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
171
тельно, как и ознакомление с элементарными понятиями права».1 Заключительная фраза рецензии о неподготовленности автора,, о преждевременном обращении к архивным источникам 1 2 — достаточна, чтобы требовалось дополнение к характеристике позиции самого В. Сергеевича. В предисловии В. Сергеевича к 111 тому ((Древностей» приведен длинный перечень вопросов, которые- могут быть освещены материалами писцовых книг.3 «Но все вопросы и перечислить нельзя...»—так выражается В. Сергеевичем признание высокой ценности писцовых книг. Писцовые книги, но характеру освещаемых вопросов, оценены и признаны буржуазной историографией, но в то же время ее тревожит то,, что разработка их может итти не только по линиям, приемлемым для буржуазных историков. Такую тревогу и недовольство Рожковым мы должны отметить и у крупнейшего из русских буржуазных историков — В. О. Ключевского. Два случая имел Ключевский, чтобы более или менее полно высказаться о писцовых книгах, — это отзывы о работе Чечулина «Города Московского государства XVI в.»4 и о работе Н. А. Рожкова.5 Двенадцать лет отделяют друг от друга два эти высказывания.
В первом отзыве В. О. Ключевский признает большую ценность писцовых книг как исторического источника и отмечает необходимость особых приемов в изучении их материала: удачному выбору приемов разработки, искусству исследователя придается решающее значение. Тема о городах и городском населении заставляет признать недостаточность одних писцовых книг, чтобы получить ответ па все возникающие в данном случае вопросы^ Ключевский особо подчеркивает необходимость использования числовых показателей, необходимость сведения в таблицы всех существенных данных писцовых книг: «Состав самых таблиц, должен быть соображен с цельным составом писцовых книг, следовательно основан на изучении последних в полном их объеме».6
1 В. Сергеевич. Древности русского права, т. III, изд. 2, СПб., 1911» стр. 48*2.
2 ;bid., стр. 485.
3 Ibid., предисловие.
4 Отчет о 33-м присуждении наград гр. Уварова, СПб., 1892.
5 Отчет о 44-м присуждении наград гр. Уварова, СПб., 1904. Мы цитируем по изданию Лит.-Изд. отдела. В. О. Ключевский. Отзывы и ответы, третий сборник статей, Пгр., 1918, стр. 375—420 и 421—445.
в Отзывы п ответы, стр. 380.
172
г. ко чин
Чечулину далеко не удалось овладеть богатым материалом писцовых книг, и труд его является малозначительным по результатам. В Ключевском это вызывает лишь желание подчеркнуть особые заслуги автора в преодолении трудностей при разрешении ряда частных, но важных вопросов по истории городов.
Иными настроениями веет от рецензии В. О. Ключевского на работу Н. А. Рожкова. Неоднократно указывая на то, что автор приступал к работе над источниками «с готовой схемой, построенной из общих политико-экономических и сельскохозяйственных представлений»,1 Ключевский не одобряет общих ее установок и отмечает предвзятость и необоснованность выводов автора. ((Автор усиленно искал осуществления этой (готовой, заранее созданной) схемы... вообще шел не от данных к выводам, а от предположений к данным)).8
Осуждение Н. А. Рожкова связано у Ключевского с изменениями его оценки писцовых книг как исторического источника. Давая достаточные указания по более простым вопросам, писцовые книги, по мнению Ключевского, оказываются неспособными отвечать на сложные проблемы истории.1 2 3 «В писцовых книгах и отдельных грамотах, уцелевших от ХУ1 в., исследователь сельского хозяйства находит дефектные, обрывочные данные, недостаточные для полного изучения предмета, и принужден рассматривать явления сквозь этот тусклый просвет, не дающий им всестороннего освещения».4
В отзывах для присуждения премий обычно было прянято особо перечислять достоинства рецензируемой книги. В оценке работы Рожкова, ставившего общие, крупные вопросы социально- экономической истории Московского государства, Ключевский находит возможным указать, что лишь «по весьма значительному ряду подробностей сельско-хозяйственной жизни впервые им [Рожковым] разработанных...» «исследование Рожкова надолго останется в руках изучающих».5
Даже в отношении «настойчивых статистических наблюдений» U. А. Рожкова Ключевским лишь указано, что «автор детально
1 Отзывы и ответы, стр. 432, 438.
2 Ibid., стр. 438—439.
3 Ibid., стр. 432.
4 Ibid., стр. 438.
3 Ibid., стр. 444.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
175
осветил много мелких малозаметных процессов, какие происходили в русском сельском хозяйстве ХУ1 века».1
Мы видим, как по сравнению с рецензией на работу Н. Д- Чечулина суживается здесь роль писцовых книг.
Эволюция во взглядах В. О. Ключевского на писцовые книги в сторону сужения их ценности и сведения ее до раскрытия лишь мелких частных подробностей народного хозяйства, требование более строгой критики писцовых книг и оправдания приемок пользования ими — говорят о тревоге за возможность слишком широких выводов на том, сравнительно новом, пути в разработка писцовых книг, по какому пошел Н. А. Рожков.
Более полная и законченная оценка методологических приемов, выдвинутых Рожковым постановкою вопроса о статистическом методе в применении к писцовым книгам, раскрывается в последующие годы. Рожков не был одинок. Рядом с ним вопрос о приложении статистического метода в истории поднимается и другими историками, при чем некоторые из них апеллируют к авторитету западно-европейской буржуазной историографии.1 2
Логическим завершением такого рода постановки вопроса о статистическом методе служит работа Н. Нордмана «Статистический метод в исследованиях древне-русского хозяйственного быта».3 Н. Нордман начинает с заявления о недостаточности существующих методов в исторических исследованиях о народном хозяйстве. «Неточности выражений, — заявляет Н. Нордман — и отсутствие указания «относительного веса» выводов и склонность распространять выводы за пределы рассматриваемого материала, без предварительного обследования этого приема, ведут к неточностям и противоречивым выводам... Уничтожить ЭТИ недостатки возможно лишь путем массового исследования данных^ обработки их статистическим методом».4
«Необходимо привлечь возможно большее количество факток и выразить их отношения в средних величинах; при этих средних,
1 Отзывы и ответы, стр. 444.
2 Н. Н. Любович. Статистический метод в приложении к истории. Изв. Варшав. унив., кн. IX, 1901. С. Богоявленский. Некоторые статистические данные по истории русского города XVII ст. Древности. Труды археогр. ком. Моек. арх. об-ва, т. 1, в. З, М., 1899.
3 Труды студентов эконом, отделения СПб. Полит, института, № 2,. 1909, ч. 1. Работа возникла в семинарии проф. М. А. Дьяконова.
4 «Стат. метод в исследовании древне-русского хозяйства быта»,, стр. 1—3.
174
г. кочин
а также по возможности и всех других выводах, обязательно указывать, на сколько фактов опираешься, сколько случаев за и против, т. е. давать наблюденную вероятность, а также — где ЭТО ВОЗМОЖНО — вычислить и вероятность истинную».1
«Эти истинные количественные отношения явлений дадут прочное обоснование для построения гипотез и открытия законов».1 2 Нордман проникнут уверенностью в универсальности £того метода и в коренном перевороте, им производимом. «Возможность установления объективного критерия..., в отлрчие от методов, применяемых в исследованиях по истории русского хозяйственного быта, где описание и выводы необходимо носят субъективный характер»3 — вот что, по своему глубокому убеждению, дает Н. Нордман в руки историка.
Не трудно в этих декларациях рассмотреть крайне упрощенный, доведенный до абсурда механистический подход к изучению исторического процесса. Цифра разрешает все вне зависимости от того, откуда она, какова действительная реальная ее значимость: числовой показатель — единственная мера вещей; вычеркивается вся сложность общественных классовых отношений, л только числовыми показателями определяется существо исторического процесса. 3& единственно мыслимым для Н. Нордмана статическим моментом исчезает исторический процесс с его диалектическим сложным развитием разнообразных комбинаций и переплетений. Нет необходимости останавливаться на полной неудаче Н. Нордмана в практическом приложении его метода к историческому исследованию.4 і
Фактический отказ от критики источника и оценки его данных, механическое сведение этих данных в таблицы, отсутствие какого-либо анализа цифровых показателей — все это сближает Н. А. Рожкова с откровенным до наивности механистом Н. Норд- маном. Статистический метод, в таком искаженном понимании, является особенностью работ Н. А. Рожкова на этом этапе.
1 «Стат. метод в исследовании древне-русского хозяйства быта», -стр. 15.
2 Ibid., стр. 17.
3 Ibid., стр. 84.
* Отчет о 53-м присуж гении наград гр. Уварова, СПб., 1912. Отзыв о сочинении Н. Нордмана «Статистика в русской истории. Опыт статистической обработки писц. новгородских оброчных книг ок. 1498 г.», составлен проф. А. А. Кауфманом, стр. 86.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
175
А между тем работа Н. А. Рожкова писалась одновременно ■с «Развитием капитализма в России» В. И. Ленина. Для В. И. Ленина тщательная переоценка и анализ статистических данных, критика работ буржуазных экономистов и земских статистиков — йервое и важнейшее звено их разработки.1 Последующей стадии разработки — группировке статистических данных, установлению средних величин — Ленин придавал не меньшее значение.1 2 Именно такие и только такие приемы тщательного изучения, глубокой критики статистических данных при строгой, четкой целеустремленности разработки их, обеспечивают успех работы. «Данные статистики, — говорит В. И. Ленин в отношении статистики конца XIX в., — должны быть обработаны так, чтобы процесс разрушения старого крепостнического, барщинного, отработочного натурального хозяйства и процесс замены его торговым капиталистическим земледелием мог быть изучен по этим данным».3 Если В. И. Ленин дает нам образец раскрытия исторического процесса в России в конце XIX в., образцы критики источников и анализа цифровых данных, то Н. А. Рожков, работая на материале писцовых книг, который он сам ассоциировал с земской статистикой,4 целиком во власти приемов мелкобуржуазной историографии.
Направленность работ Н. А. Рожкова, с резким выделением экономического фактора, все же вызвала критику и осуждение «со стороны господствовавшего течения в буржуазной историографии, а работа Н. Нордмана вызывает со стороны буржуазных историков критику лишь по существу грубо показанной механистичности в способе включения статистического метода в историческое исследование. Выступивший с критикой работы Н. Нордмана А. А. Кауфман не только дает подробный разбор работы Н. Нордмана, но и организует в течение ряда лет исследовательскую работу в специальном семинарии на Высших Женских
1 В. И. Ленин. Развитие капитализма в России, Соч., т. III, стр. 69, 363. К вопросу о нашей фабрично-заводской промышленности, т. II, стр. 365.
2 В. И. Ленин. Соч., т. II, то же, стр. 341—367, особ. стр. 344—347, 358, 359. Кустарная перепись 1894/1895 г. в Пермск. губ., там*же, стр. 195—276, особ. стр. 202—204, 206-212, 233—239, 258- 260; т. III, стр. 62—64, 07—70.
3 В. И. Ленин. К вопросу о задачах земской статистики, Соч., т. XVII, стр. 184.
4 Н. А. Рожков. К вопросу о степени достоверности писцовых книг, стр. 185—186.
176
г. ко чин
Курсах, с задачею установления, в какой мере допустимо приложение статистического метода в разработке писцовых книг.1
В принципе вопрос о приложении методов статистической обработки к писцовым книгам Кауфман решает в положительном смысле, осуждая лишь слишком решительные приемы Н. Норд- мана в этом направлении. В последующей работе, посвященной разбору книги А. М. Гневушева,1 2 3 Кауфман подчеркивает ценность писцовых книг: «Я вполне подписываюсь под заключением г. Гневушева об „исключительном месте“, занимаемом писцовыми книгами, по сравнению с другим историческим материалом, имеющимся в распоряжении исследователя». Среди устанавливаемых им крупных недочетов работы А. М. Гневушева, он указывает на его метод использования материалов писцового счета, ((который можно назвать чисто-статистическим».3 А. А. Кауфман осторожен и не высказывается, в какой степени и форме может находить приложение подобный чисто-статистический метод. В разборе работы А. М. Гневушева он ограничивается лишь указаниями на недостаточность пользования статистическими приемами при анализе таблиц-сводок материалов писцовых книг и в частности ((приемами каузального статистического анализа». З&дача историка в приложении статистического метода — по мнению Кауфмана — заключается в том, чтоб*л « пользоваться им но только как иллюстрационным приемом, не только как способом изображения фактов, но, главное, как орудием уловления причинных связей между изучаемыми им явлениями».4 Здесь несомненно много торжественных слов и многообещающих заверений. На деле же и статистическая разработка писцовых книг в семинарии Кауфмана ни в какой мере не доросла до «установления причинных связей и приложения каузального анализа».
Буржуазная историография так и не дала четкого и окончательного ответа на вопрос о приложимости методов статистики
1 Статистический семинарий Петрогр. Высших Женских Курсов. Новгородские писцовые книги в статистической обработке. Вып. 1, Логосты и деревни Шелонской пятины по письму 1498—1501 гг., Пгр., 1915.
2 А. М. Гневашев. Очерки эконом, и социальной жизни сел. населения Новгор. области после присоед. Новгорода и Пскова, т. I. Сел. население Новг. обл. по писцовым книгам 1495—1505 гг., ч. 1, К., 1915.
3 К вопросу о приемах историко-экономического изучения писцовых книг. «Русский исторический журнал», кн, 3—4, П., 1917, стр. 150—151,. 167—168.
4 Ibid., стр. 184—185.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
177
к разработке писцовых книг. Мы видим, что ее представители чаще высказываются за желательность такого использования статистики, но попытки практического приложения этого метода приводят, в общем, к ничтожным результатам. Хорошею иллюстрациею этому могут служить многочисленные труды историко-этнографического кружка при Киевском университете.1 Мы уже знакомы с отзывом А. Кауфмана о книге Гневушева,1 2 — одной из крупных работ, вышедших из «киевской» школы. А. Кауфман относит работу Гневушева к категории таких, где статистические приемы являются только иллюстрационным приемом; таблицы, занимающие больше половины книги, являются статистическим полуфабрикатом.3 «Киевская» школа* повторяет все то, что мы встречали в начале 90-х годов в работах Б. Щепкиной и И. Лаппо.4 Примитивность обработки цифрового материала, недостатки группировки данных, отсутствие анализа их приводят к тому, что даже в случаях, когда сама по-, становка темы настойчиво требует оценки и объяснения изучаемого явления, автор не в силах решить такую задачу. Ярким: примером служит работа Яницкого «Экономический кризио в Новгородской области XVI в».5 Кризис XVI в. хорошо был известен до работы Яницкого. Завершая его изучение, Яницкий,, естественно, должен был определить сущность этого кризиса, причины его и значение в социально-экономической жизни Новгородской области и всего Московского государства. Между тем работа, в основном состоящая из таблиц, лишь иллюстрирует; цифрами наличие кризиса и не дает ничего для его анализа.6 Яницкий обращается и к другому источнику, к обыскным книгам, но не может и из них извлечь ответа, он вынужден искать объяснения у авторитетов буржуазной историографии, выбирая решения без всякой связи с разработанными им материалами.7 Общим
1 Юбилейный сборник Истор.-этногр. кружка при универе, св. Владимира,. К., 1914.
2 См. выше стр. 176.
3 А. А. Кауфман. К вопросу изучения писцовых книг, стр. 168—170.
* Работы Гневушева, Сташевекого, Яницкого, П. Смирнова: «Орловский уезд в конце XVI в. по писцовой книге 1594—5 гг.» В Универе, изв. 1909 г., •NW» 1, 3, 5, 7—10; 1910, 3 и 5.
5 Н. Яницкий. Эконом, кризис в Новгор. обл. XVI в. (по писцовым книгам), К., 1915.
6 Ibid., стр. 101—111.
7 Ibid., стр. 111—131.
Проблемы источниковедения, II
12
178
г. к о чин
для киевской школы является особый интерес к вопросам народного хозяйства1 и особое внимание к писцовым книгам.1 2 По принятому шаблону каждая работа начинается вступительною частью, излагающею «критику» достоверности писцовых книг, таким же шаблоном оказывается и содержание этой критики. Неизбежно повторяются имена Лаппо-Данилевского, Миклашевского, Рожкова, и неизменно единообразно заключение: «и при ряде несовершенств писцовые книги все же представляют довольно точную статистику Московского государства».3
Сочетание настойчивости в постановке вопросов по истории народного хозяйства с боязнью выйти за рамки высказываний авторитетов буржуазной историографии находит свое объяснение в общих теоретических установках руководителя школы нроф. М. В. Довнар-Запольского.
В 1901 году во вступительной лекции, при назначении на профессорскую кафедру в Киеве, М. В. Довнар-Запольский раскрыл свои методологические установки; он не забывает упомяиуть и о Марксе и об историческом материализме, — но чтобы осуждать и корректировать их. В 1905 г., когда окончательно определился характер работ кружка, им переиздается эта программная речь.
«В настоящее время, — говорит Довнар-Запольский, — было бы ошибкою полагать, что формула исторического процесса, как она вылилась в учении Маркса, Энгельса и их последователей, является вполне обоснованной, подобно гегелевской философии для своего времени. Это обоснование пока не сделано удовлетворительно. Теперь ясно одно: важное и даже преобладающее значение экономического фак-
1 Список тем Истор.-этногр. кружка при универе, св. Владимира и изданных работ см. Юбилейный сборник статей кружка, стр. 2-6, 10—12. М. В. Довнар-Запольский. История русского народного хозяйства, т. 1, К., 1911, стр. 32. Примеч.
2 Все крупные работы написаны по писцовым книгам, как то работы: Гневушева, Сташевского, Яницкого, □. Смирнова, «Орловский у. в XVI в.» и «Города Московского государства первой половины XVII в., вып. 1, Киев. 1917, в. 2, Киев, 1919. Г. М. Белоцерковский, Тула и Тульский уезд в XVI— XVII вв., К., 1915.
3 Е. Ста ше век ни. Московский уезд по писцовым книгам XVI в., стр. 2—16. А. М. Гневушев. Очерки эконом, и социальной жизни Новг. обл., стр. 8—26. Н. Яницкий. Эконом, кризис в Новг. обл., стр. 2—5. Г. М. Белоцерковский. Тула и Тульский уезд. Введение.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
179
тора».1 Но в то же время для М. В. Довнар-Запольского дорог и другой лозунг: «назад к Канту». По его мнению исторический материализм «не разъясняет удовлетворительно соотношение вечно борющегося духа Канта к обширной сфере экономических фактов». Не найдя выхода из этого поистине трудного положения, автор призывает к эклектизму: «Лозунг „назад к Канту“ надо дополнить еще другим: „назад к Марксу^».1 2 Такой эклектизм присущ работам киевской школы, заимствовавшей от марксизма интерес к вопросам экономической жизни, но преследующей цели буржуазной историографии и потому обходящей вопросы классовой борьбы.
Удел буржуазной историографии — разложение и распад на ряд мелких, частных тем, «неразрешимых» проблем. Революционное движение в этом случае играет роль реактива, доводящего до наибольшей интенсивности процесс распада. После первой русской революции разложение русской буржуазной историографии становится очевидным фактом. Тематика ограничивается узким кругом мелких частных вопросов; от работ по общим вопросам историки переходят к разработке исторических источников самих по себе, к разработке вспомогательных исторических дисциплин и третьестепенных по существу вопросов. Наступил «монографически-архивні>ій период разработки русской истории», когда «утрата архивным изыскателем чувства общего, общей связи» и по прлзпанию лица, берущего под свою защиту буржуазную историографию,3 оказывается нежелательным, но неизбежным для буржуазной науки, явлением.
«Чем же живет теперь наша историография? Вместе с К. Аксаковым мы можем сказать, что у нас теперь нет „истории^, что „у нас теперь пора исторических исследований, не болееа». Так характеризует в это время русскую историческую науку С. Платонов в своих лекциях.4 Не нужно говорить, что сами представители этой науки не признают наличия упадка. Отсутствие обобщающих трудов оправдывается необходимостью «строго критического» отношения ко всем построениям исторической
1 М. В. Довнар-Запольский. Исторический процесс русского народа в русской исторической науке, М., 1905, стр. 31 (Разрядка автора).
2 Ibid., стр. 31—32.
3 И. И. Лап по. Соврем, состояние науки русской истории и задача ее университ. преподавания, Юрьев, 1906.
4 С. Ф. Платонов. Лекции по русской истории, И$д. 9, Пгр., 1915, стр. 19.
12*
180,
г. ко чин
науки. Яркий пример — А. С. Лаппо-Данилевский. В 90-х гг. развитие его интересов шло в сторону изучения вопросов экономики, вопросов общественных отношений в России;1 ко времени первой русской революции можно отметить крутой перелом: уход от постановки крупных исторических проблем с заменою их изучением вспомогательных исторических дисциплин. Десятки лет тратятся на подготовку издания документов Коллегии экономии.1 2 Особое внимание, уделяемое им частным актам, уход с головой в изучение дипломатики этих актов знаменует отказ от изучения других документов и, в частности, предпочтение частных актов писцовым книгам, актам по государственному внутреннему управлению и дипломатическим сношениям.3 А. С. Лаппо- Данилевский находит оправдание в ссылках на образцы западноевропейской исторической науки.4 Конечно, не ((крайние запросы научности, предельные требования полноты и цельности знания» являются истинной причиной сек преобладанию подготовительного исследования основ, методов и техники изучения... над конкретной исторической работой».5 Объяснение следует искать в обострении того внутреннего противоречия, которое свойственно содержанию всей буржуазной исторической науки этого периода. Методология истории, разработанная в духе неокантианства, защита тсидиографического» познания действительности раскрывают нам подоплеку агностицизма, целиком объясняющую и фактический отказ от исторического исследования и особые основания к предпочтению в разработке дипломатики частных актов другим источникам. В этот период фактический отказ от использования источника сопровождается и соответствующим отказом от разрешения каких-либо общих проблем истории.
Перейдем к работам московских историков. Ближе всего писцовыми книгами должен был заинтересоваться С. Б. Веселовский. Его большой двухтомный труд посвящен истории кадастра и обло¬
1 Ср. приводившиеся выше его отзыв о работе А. Никитского и предисловие к писцовой книге Н.-Новгорода.
2 Сборник грамот Коллегии экономии. Предисловие, Изд. Акад. Наук, Игр., 1922, стр. X—XIII.
3 План издания архивных документов XVI—XVIII вв., А. С. Лаппо- Данилевского, «Протоколы засед. ист.-фил©логического отд. Акад. Наук», 1900,1-е прилож. к засед. 25 окт. 1900 г.
4 Ibid.
5 А. П р е с н я к о в. А. С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель, «Русский исторический журнал», кн. 6, Пгр., 1920, стр. 89.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
181
жения в Московском государство, т. е. вопросам, полностью совпадающим с содержанием писцовых книг.1
Первое же ознакомление убеждает нас в чрезвычайно пониженной оценке писцовых книг как источника. Вспомним еще более раннее высказывание С. Б. Веселовского: ((Писцовые книги сами по себе не представляют достаточного материала для сколько- нибудь полного изображения экономического строя Московского государства».1 2
II том работы С. Веселовского чуть не целиком посвящен писцовым книгам. Мы находим подробный разбор подготовки работников писцовых комиссий (составлявших писцовые книги), обрисована картина работы комиссий, начиная с назначения ее членов и до завершения работы и утверждения ее центральными приказами. Чтобы вынести суждение о достоверности писцовых книг, ставится вопрос об источниках. Перечисляются многочисленные и разнообразные источники, сводимые к трем категориям: приправочные документы, данные личного досмотра и обмера и сведения населения. «При таких условпях, — говорит С. Б. Веселовский,— мне кажется более целесообразным спрашивать не то, как вообще писцы пользовались приправочными документами, а как пользовался ими данный писец».3 Достоверность писцовых книг зависит ют писца, от его отношения к делу — так требует ставить вопрос ученая точность.4 Указывается и на корректирующую роль местного населения при описании черных и дворцовых земель. ((Содействие тяглых людей писцам было настолько значительно и важно, что я, не боясь преувеличения, решаюсь сказать, что писцовые книги в некоторых частях (главным образом, в вопросах тягла) были плодом совместной работы писцов и населения».5
Большая роль, приписываемая населению, не вяжется с выводами автора об исключительном значении писцов в определении степени достоверности писцовой книги. С. Веселовский выдвигает проблему оценки качества работы писца, от ее решения
1 С. Веселовский. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства, Т. I, М., 1915; т. II, М., 1916.
2 Рецензия С. Б. Веселовского на книгу В. Готье «Замосковный край в XVII в., Ж. м. н. пр„ 1908, кн. 2, Отд. критики и библиографии, стр. 437.
3 Сошное письмо, т. II, стр. 78,
* Ibid., стр. 112—114.
5 Ibid., стр. 131—132.
182
г. ко чин
зависит оценка писцовой книги как источника. Разрешение этой проблемы упирается в решение большого ряда других частных, но, по мнению С. Веселовского, столь же решающих вопросов, — о сказках владельцев, о приправочных документах и качестве их, о досмотре.1 Последующее усложнение заключается в определении роли населения, степени фактического досмотра обмера земель, точности этого обмера.1 2 3 В «Сошном письме» вопросы социально-экономических взаимоотношений населения оказываются совершенно обойденными. В огромном по объему труде о прямых налогах вопросам тяжести налогового обложения уделено лишь мимолетное случайное внимание. Из заключительных замечаний к коротким главам о налогах мы узнаем, что оценка сравнительной тяжести обложения не входит в задачи автора, что условность и субъективность окладных единиц делает безрезультатным сравнение государственного тягла с другими видами податей и обложения.3 Таким образом все содержание работы о прямых налогах оказывается сведенным к описанию техники кадастра и обложения, техники разверстки податей и повинностей и мирской раскладки податей. С. Б. Веселовский — большой знаток архивного материала; раскрывая по архивным данным картину производства кадастра, он до такой степени ознакомился с приказным делопроизводством, что цак бы живет среди московских дьяков и подъячих XVII в. «Он почему то не хочет или не может взглянуть на эти явления из открывающей широкий кругозор исторической дали, подняться на высоту историка, и предпочитает оценивать явления с дьячьей точки зрения».4 Такое замечание вырывается у историка, который и сам далеко не способен к обозреванию широких исторических горизонтов. Не далее как в этой же рецензии М. Богословский пишет, что при исследовании налогов было вполне достаточно их описания,5 и считает излишними попытки С. Б. Веселовского вычислить сравнительную тяжесть повинностей.
Типичен уход С. Веселовского к специальной узкой теме, еще показательнее трактовка темы, говорящая о невозможности для
1 Сошное письмо, т. П, стр. 78.
2 Ibid., стр. 376.
3 Сошное письмо, т. I, стр. 153. .
4 М. М. Богословский, рецензия на работу С. Б. Веселовского а Сошное письмо», «Исторические известия», № 2, 1916, стр. 81.
5 Ibid., стр. 74. ...
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
183
автора подняться выше изучения техники приказного делопроизводства.
Объемистый труд С. Веселовского сопровождается еще более объемистыми двумя томами «Актов писцового дела».1 В предисловии к I тому С. Веселовский излагает свои воззрения на задачи исследователя, которые должны убедить читателя в непогрешимости его приемов работы. Здесь мы находим рассуждения о необходимости строгого научного обоснования для всякого исторического исследования, о высоких требованиях, предъявляемых к научной работе. «История, несомненно, переживает период специализации исследований». Для необходимого «сотрудничества обобщающих историков и монографистов» нужны два условия — планомерность и прозрачность. Прозрачность работы вполне зависит от каждого исследователя.1 2 «В некоторых английских домах кухня отделена от столовой стеклянным окном, так что из столовой видно все, что делается в кухне. Хозяин и гости имеют возможность доверчиво потреблять изготовленное».3Такою идиллическою картиною рисуется кухня буржуазной исторической науки. «Выдержанно-критическое отношение и постоянный скептицизм к историкам и к своей работе» необходимы в «борьбе с противонаучными склонностями».4 Вот причины, направляющие ученого историка, по словам С. Б. Веселовского, к специальному «глубокому», «критическому» изучению источников ради самих источников.
В разборе писцовых книг «глубина» и «критическое отношение» приводят к умножившимся новым узкоспециальным мелким проблемам. Зги проблемы неисчислимый Реальный результат — бесконечный ряд. сомнений, скептицизм, имеющий основою не действительную недоброкачественность документа (документ подлинный, он непосредственно отображает крупнейшие массовые явления социально-экономической жизни прошлого), а скептицизм— как проявление гниения и внутренней бессодержательности буржуазной исторической науки. Агностицизм — подлинная основа «глубоко-критическому» отношению к документам массовых явлений.
1 Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве, т. I, М., 1913; т. II, М., 1914 г.
2 Акты писцового дела, т. I, предисловие, стр. III—IV.
3 Ibid., стр. IV—V.
* Ibid., стр. V-VII.
184
г. ко чин
В таком же направлении исследования деталей происхождения писцовых книг и их источников велась работа В. Седашевым.1
В. Седашев связывает свою работу с изучением писцовых наказов; на основе их он желает определить, в какой мере требования наказов осуществлялись писцовыми комиссиями, как велась ими работа, в какой мере источники и техника описания делают достоверными материалы писцовых книг. Наличие специальной подготовки по технике межевания позволило В. Седа- шеву особенно детально разобрать вопросы об измерении земель писцовыми комиссиями. Вопросы о фактическом осмотре ХОЗЯЙСТВ, об измерении запашки, сенокосных и лесных угодий, о степени точности этих измерений разбираются с привлечением новых архивных материалов, внимание сосредоточивается на технических деталях межевания и оценки земель и угодий. Но результаты не вносят ничего практически ценного в понимание писцовых книг. ((Успех предположенного описания поставлен наказом в тесную связь с добросовестностью писца, долженствующего руководиться сознанием своего нравственного долга и важности выполняемого дела». Таким выводом, следующим за указанием сложности и ответственности задач описания, заканчивает В. Седашев изучение своего основного источника — наказа 1622 года.1 2 Ответы на вопросы, поставленные исследованием, заменены новыми усложненными проблемами. Исход критического изучения источника предрешается непрерывностью потока вновь возникающих частных проблем, в этом потоке бесследно теряются положительные достижения, вносимые свежими документальными материалами. С. Б. Веселовский подчеркивает свое единство с В. Седашевым:3 на первом плане в качестве решающего фактора — вопрос о добросовестности составителей писцовой книги.
Дополнительной иллюстрацией к подобным выводам и как результат скрупулезной богато документированной работы является
1 В. Седашев. Очерки и материалы по истории землевладения Московской Руси в XVII в. «Известия Константиновского межевого института», ВЫП. 2—3, М., 1912.
2 Ibid., стр. 144.
3 Сошное письмо, т. II. «А главное [исследователь] не должен забывать, что писцы работали очень различно и что даже показания одной и той же писцовой книги относительно различных категорий земель и различных случаев землемерия могут иметь очень различную научную цену»,— стр. 376.
ПИСЦОВЫЕ КНИГИ В БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
185
статья Г. А. Максимовича «К вопросу о степени достоверности писцовых книг».1 Выводы этой статьи ставят под сомнение все данные писцовых книг о сенных угодьях, а за ними и вообще данные об угодьях. Так порождаемая «глубоко-критическим» отношением к источнику непрерывная цепь мелких частных вопросов исключает возможность положительной работы над ним.
На этом обрывается творчество русских буржуазных историков в их работе над писцовыми книгами.
Различные формы разрешения вопросов, связанных с освоением писцовых книг как источника и именно с определением их места в историческом исследовании, с установлением приемов их разработки, отмечают отдельные ваяшейшие этапы в развитии буржуазной историографии.
Однако особое внимание к писцовым книгам, специальное изучение их оказались недостаточными для окончательной оценки нашего источника. По .нятые важнейшие вопросы остались неразрешенными: не разрешен вопрос о степени достоверности данных писцовых книг, об установлении приемов разработки писцовых книг, — не разрешен и вопрос о статистическом методе. Бесспорным может считаться, что писцовые книги — источник чрезвычайной сложности и безусловно большой ценности.
Строгая целевая установка в работе над документом, приложение четкого марксистского понимания исторического процесса в целом и отдельных явлений в нем, избавляя от беспредметности и беспочвенности буржуазной «критики», обеспечат положительные результаты в разработке писцовых книг. Конгломерат многочисленных накопленных наблюдений из писцовых книг и о писцовых книгах лишь в условиях марксистского анализа может стать картиною закономерных общественных явлений прошлого.
Писцовые книги искусственно вырваны из ряда других многочисленных актов московского приказного делопроизводства; в порыве националистических восторгов некоторые историки их выделяют в особый разряд творений, переросших эпоху. Между тем длинная цепь других «книг»—дозорных, сыскных, оброчных, ясачных, даточных, отписных, отдельных, селидьбенных, іі Г. А. Максимович. К вопросу о степени достоверности писцовых книг, Нежин, 1914.
186
г. ко чин
отвозных, записных, строельных, засечных, деловых, меновных, межевых книг, составляющих неразграниченное целое с переписными и писцовыми, эта цепь через «грамоты»—межевые, отдельные, ободнме, сыскные и т. п. — сливается в единый общий ряд источников, вышедших из московских приказных канцелярий.
Писцовые книги, в числе других свойств, — крепостные акт,ы на сельское население Московского государства, они закрепляют успехи наступления на этом участке; бесспорно первостепенную роль играют они и на другом участке агрессии — на участке колониальных захватов и эксплоатации. С этих сторон не раскрывалось, а замалчивалось содержание писцовых книг.
Слабо затронуты и богатейшие материалы по городам: на городских переписных и писцовых книгах резче всего заметен разрыв между большими тратами сил по публикации документов и малой степенью последующей разработки их.
Писцовые книги — многообещающий источник, особое внимание к нему буржуазной историографии является в этом случае хорошим поручительством. Очередная задача — привести в движение этот важнейший фонд; писцовые книги должны быть в постоянном обороте при всех работах по Московскому государству, они должны быть на постоянном учете исследователя при разработке всякого вопроса, к этому обязывает и охват писцовыми книгами всех важнейших сторон социально-экономических взаимоотношений населения и исключительная полнота территориального охвата.
В связи с этим выдвигается задача приведения их в состояние наибольшей доступности для научной разработки и, именно, не только публикации, а критики их, анализа содержания и классификации, т. е. задача изучения их как источника.
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
История национально-освободительного движения на вое- точном Кавказе во второй четверти прошлого века, в эпоху завоевания Кавказа русским царизмом, привлекала внимание многих исследователей. О войне в Чечне и Дагестане эпохи создания теократического государства мюридов, имамата, написаны были целые томы, и список литературы, трактующей о вопросах, разбираемых в настоящей статье, имеет не одну сотню названий- Внимание, уделявшееся эпохе завоевания Кавказа царскими, главным образом военными, историками, привело к тому, что значительная часть источников оказалась полностью или частично изданной ими, или хотя бы использованной. Правда, тут же нужно оговориться, что самые ценные, самые важные для советского историка документы все еще остаются погребенными в архивах: царизм издавал то, что диктовали ему интересы колониальной политики. Чтобы не быть голословными, укажем хотя бы на то обстоятельство, что чрезвычайно ценные и интересные материалы царской разведки сороковых годов о государственном строе и внутренних отношениях в имамате остались неопубликованными и не вошли даже в капитальное издание документов—«Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией». Другой аналогичный пример: Прушановский в своем дневнике1 указывает на записки бежавшего русского офицера Бра- новского, начальника стражи у второго имама Чечни и Дагестана Гамзат-бека. Записки эти и дело о Брановском, по словам Пру- шановского, попали в царские архивы, но света они не увидели.
Хотя много документов исключительного значения еще лежат в архивах, однако и то, что уже напечатано, вопреки воле буржуаз¬
1 Выписка из путевого журнала Генерального штаба капитана Пруша- повского. См. «Кавказский сборник», т. XXIII, стр. 22, примеч.
188
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
но-помещичьих историков и царских генералов,дает яркую картину и колониальной политики царизма. Лишь для освещения некоторых отдельных периодов мы не располагаем достаточным материалом, общие же линии различаются вполне отчетливо. Почти все источники изданы были еще до революции, разрабатывались и подготовлялись к печати идеологами колониальной политики царизма и поэтому требуют предварительной тщательной критики и очень осторожного подхода.
Источники, которыми мы пользуемся при исследований имамата, можно подразделить на две основные группы: документальные и литературные источники, оставленные нам в наследство царизмом, и источники горские, принадлежащие перу мусульманских ученых мулл. Первая группа неизмеримо многочисленнее второй. Если от царизма до нас дошли десятки и сотни тысяч документов, тысячи статей, заметок и т. п., то книги и статьи, идущие из гор, составляют небольшой список, не превышающий двух десятков названий; немногим больше количество напечатанных документов этого происхождения.
Понятно поэтому, что из напечатанного материала основным источником наших сведений об имамате являются документы, изданные царскими историками, и их литературные работы по архивным материалам. Историк должен учитывать специфическую направленность этих работ, стремление оправдать грабительскую колониальную политику, сводившееся к формуле: ((цивилизовать горские народы, прекратить их хищнические набеги, представляющие постоянную и значительную угрозу для русских поселений на Кавказе)). Создавались легенды о дикости горцев и неспособности их создать ((настоящее государство». Характерная черта горца, по работам царских историков, — его страсть к набегам, к «хищничеству». К рассказам о грабежах и набегах горцев нужно относиться с крайней осторожностью. Следует помнить, что Кавказская война была в значительной мере войной партизанской, и что происходившие в действительности набеги (немало их оказывается и просто выдуманными) являлись именно такими партизанскими действиями. Исключением являются лишь отдельные набеги, практиковавшиеся горскими феодалами и чрезвычайно близкие по характеру своему к хищнической деятельности баронов западноевропейского средневековья. Наконец, необходимо иметь в виду, что такие же
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
№
набеги производились и царской армией и в особенности поселенными на линии казаками.
Высокомерно-дворянское отношение царских офицеров к горцам часто не позволяло им видеть действительные отношения, создававшиеся в горской среде, и заставляло мерить одной меркой различные классы горского населения. Как пример фальсификации можно привести из «Обзора по управлению левым флангом кавказской линии за 1839 г.» фразу? относящуюся к Шамилю: «он начал проповедывать всеобщее равенство».1 Шамиль вовсе не стремился к равенству всех, что доказывается,, например, земельными пожалованиями. А между тем легенда о «всеобщем равенстве» муссируется во многих документах и работах царских историков.
Наконец, необходимо иметь в виду, что правительство узнавало о происшедшем в горах в лучшем случае из вторых рук, от лазутчиков. Правда, сведения эти проверялись довольно тщательно. Вот что пишет по этому поводу один из царских офицеров: «Сведения о численном состоянии могущих принимать участие в военных действиях чеченцев доставлялись постоянно лазутчиками и проверялись показаниями влиятельных лиц, никогда резко не противоречившими одно другому».1 2 Однако, н при этих условиях получались расхождения в показаниях и иногда существенные. Поэтому к данным такого рода нужно относиться осторожно и проверять их другими источниками, что для основных событий обычно бывает вполне ВОЗМОЖНО.
Перейдем теперь к группировке материалов, идущих из царского лагеря. Прежде всего нам придется выделить значительное количество книг, статей и заметок, не относящихся непосредственно к истории имамата и мюридизма, но трактующих о положении отдельных частей северо-восточного Кавказа в первой половине XIX в* Это, в основном, сведения путешественников и исследователей, сводные монографические работы, использовавшие неизданные источники, и небольшая группа документов. Сюда же могут быть присоединены и немногие напечатанные работы офицеров царской разведки, в которых имеются сведения о положении гор
1 Дело объед. Горского Исторического архива. Фонд штаба войск левого крыла Кавказской линии, дело № 3, 1839 г.
2 Левый фланг Кавказской линии в 1848 г., Кавказский сборник, т.ІХ, стр. 430, примеч.
190
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
накануне мюридизма и о внутреннем положении имамата. Особое место среди последних занимают работы царских офицеров, передававших высказывания Шамиля уже после окончания Кавказской войны. Вторую группу источников, имеющую важнейшее значение для изучения мюридизма и имамата, составляет царская официальная переписка эпохи Кавказской войны; в основном— это документы центральных архивов, архива наместничества кавказского и местных военных архивов. Значительная часть .этих документов издана, но много материала, представляющего для историка-марксиста выдающийся интерес, погребено еще, как мы говорили, в архивных связках. К третьей группе мы относим письма и мемуары лиц, действовавших на Кавказе в эпоху имамата. Зтот материал представляет иногда значительно больший интерес, чем даже официальная переписка, так как в воспоминаниях и письмах отражалось многое, что не могло найти место в официальных бумагах. Во всяком случае, третья группа источников оказывается весьма любопытным и часто чрезвычайно •ценным комментарием ко второй. Работ сводного порядка мы пока касаться но будем, к источникам они не имеют непосредственного отношения, так как сами написаны на основании этих последних.
Работы исследователей северо-восточного Кавказа в большинстве своем относятся к первой половине XIX в., т. е. к эпохе имамата или ко времени, непосредственно предшествовавшему началу мюридистского движения. Однако ряд ценных данных, в основном относящихся к тому же периоду, содержится и в работах позднейших исследователей. Поэтому нам придется рассмотреть здесь и работы, вышедшие во второй половине XIX в. и в XX в., так как в них встречаются либо сведения, непосредственно относящиеся ко времени имамата, либо описание явлений, хотя и продолжавших существовать позднее, но возникших в интересующую нас эпоху. Э^и мотивы позволяют нам в обзоре наших источников коснуться ряда работ, не современных эпохе, но полезных при ее изучении. Отдельные работы мы назовем ниже, мотивируя их привлечение к истории имамата и мюридизма.
Начнем с работ, посвященных Дагестану. На первом месте стоят здесь официальные записи горского обычного права, сборники адатов. Дагестанские адаты собирались окружными начальниками в 1865 и 1866 гг. и частично изданы в VII выпуске
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
191
«Сборника сведений о кавказских горцах)).1 Свод ряда дагестанцах адатов, составленный Комаровым, помещен в I выпуске того же «Сборника)).1 2 Упоминаемые тем же Комаровым адаты шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского остались неизданными.3 В отличие от сборников чеченских и кумыкских .адатов, составлявшихся в сороковых годах XIX в., дагестанские сборники представляют собой, в основном, сухое изложение процессуальных норм и перечисление показаний по делам уголовного характера. Наиболее интересные данные, касающиеся сословного сгроя и взаимоотношений различных групп населения, в разбираемых сборниках дагестанских адатов почти совершенно не представлены.4 Несколько выходит из этих рамок лишь свод Комарова, коротко сообщающий в первой главе о происхождении в Дагестане суда по шариату и адату и дающий некоторые любопытнее исторические сведения, относящиеся к борьбе шариата с адатами во времена мюридизма. Но для основных данных, необходимых историку-марксисту в работах по истории имамата, сборники дагестанских адатов дают очень немного.
Совершенно иной характер имеют работы исследователей и путешественников по северо-восточному Кавказу, писавших в интересующую нас эпоху или незадолго до нее, начиная с последней четверти XVIII в. Работы эти характеризуются недостаточной достоверностью целого ряда сведений. Сюда мы относим прежде всего «Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа» по материалам Гильденштедта начала семидесятых годов XVIII в. Работа эта, особенно в частях, относящихся к Нагорному Дагестану, составлена чрезвычайно небрежно; сведения, получавшиеся путешественником, не проверялись, и в результате книга изобилует ошибками. Приведем одну из них, показывающую, что Гильденштедт не представлял себе конкретных условий жизни народов, о которых ему пришлось писать. О двух обществах Верхнего Дагестана, Дидо и Унзо, Гильденштедт сообщает: «Жители варят также несколько селитры и делают порох, покупая серу за пшеницу, которой они нарочно
1 Адаты Даргинских обществ.
2 Комаров. Адаты и судопроизводство по ним (материалы для статистики Дагестанской облас ти).
3 Имеются в архиве Горского научно-исследовательского института.
* За исключением отдельных статей в сборнике шамхальских адатов.
192
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
богаты»1 (подчернуто мной. А. Z7.). И это автор утверждает относительно того самого Дидойского общества, о котором через пятьдесят лет по выходе работы Гильденштедта Берже сообщал: «Хлебопашество и скотоводство здесь не в завидном состоянии. Дидойцы, напротив того, чувствуют большой недостаток в хлебе, который они прежде вывозили из Кахетии». 1 2 Официальные данные второй половины XIX в. также свидетельствуют о резком недостатке хлеба у Дидойского общества. Неточность сведений Гильденштедта находит свое объяснение в том, что автор в Дагестан не проник. Он сам сообщает, что ничего не узнал о языке кайтагцев и табасаранцев, что внутрь Дагестанского округа его* не допустили, и что, наконец, поездка студента Крашенинникова из Кизляра в Тарки не дала результатов. Отсюда, разумеется, необходимость говорить по слухам и недостоверность рассказа. Значительно выше труда Гильденштедта по осведомленности «Историческое описание российской коммерции» Чулкова, выходившее в конце XVIII в., но сведения автора относятся главным образом к приморскому Дагестану; о внутренних областях его он знает мало. Несомненна осведомленность Чулкова о хозяйственной жизни дагестанских горцев: у него есть сведения не только о работорговле и торговле продуктами, земледелии и скотоводстве отдельных; ханств, — он совершенно правильно характеризует хозяйственное лицо основных частей Дагестана: шамхальства, Даргинского союза, Кайтага и Табаса- рани и т. д. Он пишет, например, об акушинцах: «у них пашней очень мало, но много скота, особливо овец, на которых шерсть несколько лучше, нежели на других в тамошних странах, чеп> ради и делают много сукна, которое во все тамошние земли раз- возится и потребляется подлым народом на платье; также и войлочные епанчи3 делают, однако, не очень хорошие».4 Сведения эти вполне согласуются с целым рядом позднейших данных, даже в подробностях: упоминается даже производство бурок, имеющееся в Даргинском союзе только в селении Бускры, причем бускринские бурки действительно считались по качеству ниже андийских. В общем, Чулкова можно для конца XVIII в. счи¬
1 Географическое и историческое описание и т. д., стр. 127—128.
2 Материалы для описания Нагорного Дагестана, Кавказский календарь, на 1859 г., стр. 253.
3 Бурка.
4 У к. соч., стр. 490.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
193
тать довольно надежным источником но истории дагестанской экономики.
Первая половина XIX в. дает нам целый ряд общих работ, в некоторых частях посвященных описанию северо-восточного Кавказа, как-то: Броневский, ((Новейшие исторические и географические известия о Кавказе»,1 Евецкий, ((Статистическое описание Закавказского края»,1 2 «Обозрение российских владений за Кавказом»,3 Зубов, «Картина Кавказского края».4 Авторы дают описание или всего Дагестана или приморской его части и в положении прибрежных ханств довольно хорошо осведомлены. В этой части их сведения о сельском хозяйстве, промышленности и отчасти торговле могут быть почти полностью использованы историком. Попадаются интересные сведения об обычаях, и небезынтересны очерки государственного устройства. Выяснить же классовый строй и классовые взаимоотношения по этим работам почти совершенно невозможно. Осведомленность авторов упомянутых работ о делах Нагорного и, особенно, Верхнего Дагестана вообще невелика, и использовать их здесь можно только в отдельных случаях, да и то после тщательной проверки. Особенно недостоверны приводимые почти всеми перечисленными авторами сведеняя о численности населения. Цифры брались «на-глаз», без всякой проверки, и в результате получились вопиющие расхождения. Так, например, для Каракайтага Броневский дает цифру в 25 000 дворов (от 100 до 150 тыс. человек), а Зубов указывает цифру в 65 000 человек.5 Данные Зубова несколько ближе к истине, чем данные Броневского, но и те и другие одинаково ненадежны даже в сравнении с крайне несовершенными и составленными «на-глаз» сведениями камерального описания, на которые опирается в своих работах Берже.
Совершенно особняком в этих описаниях в смысле достоверности и надежности стоит небольшая книжка подполковника генерального штаба Неверовского «Краткий взгляд на Северный и Средний Дагестан в статистическом и топографическом отношениях».6 Неверовский был одним из офицеров царской разведки
1 Вышла в 1823 г.
2 Вышла в 1835 г.
3 Вышла в 1836 г.
4 Вышла в 1835 г.
5 Позднейшие данные Неверовского (1847 г.) дают 10000 чел.
в Была напечатана также статьей в «Военном журнале».
194
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
в сороковых годах XIX в., в его руки попадали те сведения, которые доставлялись лазутчиками, и в архивах часто встречаются сводки добытых им данных.1 Поэтому осведомленность его сравнительно высока. Но данные, сообщаемые Неверовским, если исключить физико-географический очерк, сводятся исключительно к сообщениям о положении сельского хозяйства и промышленности в описываемых районах и совершенно умалчивают о классовых взаимоотношениях.
Значительную ценность представляют данные, характеризующие главнейшие торговые центры и предметы торговли в горах, но, к сожалению, Неверовский дает их слишком кратко, как бы мимоходом, и поэтому полной картины нс получается. В общем работа Неверовского выделяется в упоминавшейся выше группе описаний Дагестана лишь большей достоверностью.
Значительно ценнее группа статей конца пятидесятых и шестидесятых годов, в которых царские чиновники и офицеры, командированные правительством с различными поручениями в горы, сообщали свои наблюдения. На первом месте находится несомненно большая работа Воронова «Из путешествия по Дагестану», напечатанная в I и II выпусках «Сборника сведений о кавказских горцах», к сожалению незаконченная. Воронов путешествовал со специальным поручением выяснить экономическое положение обществ Нагорного j Дагестана и, приезжая в селения, собирал «джамааты», сельские сходы, где и ставил ряд интересующих его вопросов. Сообщения, добытые таким путеім, им записаны и изданы вместе с описанием самого путе- ществия. Маршрут Воронова — Верхний Дагестан, Тилитль, Авария, но данные, полученные в последнем районе, изданы не были. Работой Воронова исследователю приходится пользоваться очень часто, так как она дает, пожалуй, наиболее подробные сведения по упомянуюму району. Правда, оценки Воронова сильно отдают духом великодержавного шовинизма, но довольно тщательно записанный материал, сообщавшийся на джамаатах, дает возможность противопоставлять великодержавническим обобщениям конкретный фактический материал. Упомянем кстати, іі Окольничий характеризует работы Неверовского, напечатанные в «Военном журнале» 1847—1848 гг. как «собранные автором на месте по свежим следам и в высшей степени замечательные по достоинству изложе- ьиі» (Перечень последних военных событий в Дагестане, (сВоенн. сб.», 18 ^9 г., № % стр. S37, примеч.).
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
195
что материалы Воронова использованы были М. Н. Покровским в его работе «Завоевание Кавказа».1 Необходимо также иметь в виду, что Воронов путешествовал в 1867 г., т. е. через 8 лет после падения имамата. Большого значения, однако, эта поправка яе имеет: в большинстве случаев явления, имевшие место в конце шестидесятых годов, зародились или даже успели развиться в предыдущую эпоху, во время имамата.
Значительное количество других статей и заметок, разновременно появлявшихся в шестидесятых годах, могут служить историку лишь эпизодически, но нужно отметить, что в некоторых из них попа дается очень ценный материал. Из длинного сииска подобных сообщений приведем лишь некоторые, имеющие несколько ббльший интерес. Эт<> статьи в газете «Кавказ»: Н. 3* «Военно-Ахтынская дорога и Самурский округ»,1 2 дающая некоторые сведения, главным образом о самурских аулах. Между прочим, говоря о селении Борч, автор упоминает о наличии здесь ряда крупных владельцев овец: «В Борче в жаркой горной пустыне вы нередко найдете у лезгина до тысячи овец». В связи со встречей с андийским караваном на ахтынской дороге он сообщает мимоходом некоторые подробности об андийской торговле и ее судьбах после 1859 г. и т. п. К тому же типу относится статья Вучетича «Четыре месяца в Дагестане», также упоминающая о самурских обществах. Некоторые очень интересные данные о социальном строе дает И. Бахтамов в статье «Чирка или аул Чиркей». Он сообщает между прочим: «аул Чиркей состоит в настоящее время из 700 слишком дворов, из коих до 200 семейств считаются кулами (рабами), особожденными, одна- кож, на волю разновременно своими владельцами, а остальные жители считают себя узденями, свободными, никому не принадлежащими, самостоятельными; князей между ними нет». Сведения эгп представляют значительный интерес и имеют значение для разрешения проблемы феодализма на северо-восточном Кавказе. Они указывают на то обстоятельство, что, при отсутствии феодалов и феодальных отношений, в Чиркее существовали (очевидно в первой половине XIX в.) отношения рабства, что рабы составляли до 30°/0 населения, и что, наконец, рабовладельцами были уздени, рассматриваемые на северо-восточном Кавказе
1 Сб. «Дипломатия и войны царской России», стр. 209.
2 «Кавказ», 1864 г., № 1.
13*
196
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
обычно как свободное крестьянство. О Нагорном Дагестане также отрывочные сведения можно найти в сообщениях Костемеревского «Поездка в Гунибский округ» и Кр-го «3 дня в горах Калалайского общества». Мы не будем продолжать, так как список таких работ, повторяем, очень велик, и во многих из них историк сможет найти интересные указания на те или иные моменты, играющие довольно видную роль в истории, имамата.
Наконец, заканчивая характеристику группы работ, написанных путешественниками и исследователями, остановимся на двух трудах позднейшего времени. Это, во-первых, книга Маргграфа «Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа», дающая чрезвычайно ценный материал о положении кустарной промышленности и отдельных групп кустарей и ремесленников не только- в семидесятых годах, в то время, когда собирали материал, но и значительно раньше. Маргграф, описывая процесс обработки оружия в сел. Кубани, подробно останавливается на отношениях, сложившихся здесь между кустарями в результате детального разделения труда по операциям. Оказывается, что кустарь-ство- ловщик является эксплоататором по отношению к остальным кустарям. «Хозяева-стволовщики наиболее зажиточные из всех прочих кустарей, и получая заказы на ртволы, они, в сущности, готовят их только начерно, для остальных манипуляций отдают стволы в следующие руки. Они же, получая деньги за всю работу, рассчитываются с прочими кустарями».1 Некоторые, также чрезвычайно ценные данные по вопросу о кустарной промышленности имеются во второй из этих двух работ, в статье учителя Кардашева «Селение Карабудахкент»,1 2 причем Кардашев дает описание наиболее архаической формы ремесла.
Перейдем к работам о Чечне в первой половине XIX в. В сороковых годах генерал Фрейтаг, начальник левого фланга Кавказской линии, провел работу по собиранию чеченских адатов. Сборник этот позднее издан был в составе 2-го тома работы Леонтовича «Адаты кавказских горцев» и представляет собой основной документ, рисующий нам чеченские отношения середины прошлого века. Популярность сборника Фрейтага была очень велика, и данные его неоднократно переписывались почти
1 У к. соч., стр. 210.
2 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа,. XI.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 110 ИСТОРИИ ИМАМАТА
197
дословно целым рядом авторов. В числе их назовем Берже^ работа которого «Чечня и чеченцы!)1 представляет собой почти дословное заимствование из фрейтаговского сборника; Иванова, в статье «Чечня» 1 2 переписавшего (без указания источника) адаты этого сборника; многое из сборника выписано было Дуброви* ным, у которого заимствовало эти материалы подавляющее большинство позднейших авторов. В большинстве случаев заимство- ватели либо совершенно не указывают источника, либо указы* вают его неверно.
Сборник Фрейтага, датированный 1843 г., содержит не только одни адаты, но дает также краткий очерк истории чеченцев и некоторые сведения по истории чеченского землевладения. Эти данные должны быть использованы всяким историком-маркси- -стом, разрабатывающим историю Чечни. Так, в сборнике мы находим указание на то обстоятельство, что земли, поделенные между отдельными родами, «однако же не раздробились на участки между членами их, но продолжали попрежнему быть общею нераздельною собственностью целого родства»3 — классическая фраза, использованная большинством авторов, писавших о Чечне. Очень ценны сведения сборника о рабстве в Чечне. Между прочим, давая характеристику положения рабов, автор сборника замечает: «Положение лаев 4 в Чечне есть то безусловное рабство, которое •существовало в древнем мире».5
Наконец, нельзя обойти молчанием и ряд ценных сведений, •содержащихся в главе «О новом управлении, введенном Шамилем».6 Данные эти, очевидно, добыты от лазутчиков и представляют собой немаловажное дополнение других сообщений о характере имамата. Впрочем, для характеристики классовой сущности мюридизма фрейтаговский сборник дает немного, и отдельные замечания его часто требуют расшифровки. Однако общее указание на характер того слоя, на который опирался Шамиль в Чечне, мы можем пайти и у Фрейтага, например: «... он привязал к себе первые чеченские семейства».7
1 Кавказский календарь на 1860 г.
2 «Москвитянин» за 1859 г., .NIJV» 19 и 20.
3 Леонтович. Адаты кавказских горцев, т. П, стр. 79.
4 Рабов.
5 Ibid., стр. 80—81.
* Ibid., стр. 103.
7 Ibid., стр. 106.
198
Н.И. ПОКРОВСКИЙ
Но на ряду с крупными достоинствами, сборник содержит много весьма существенных недочетов: Фрейтас зачастую не понимает тех фактов, которые он описывает. Подходя к чеченцам как к дикарям, он совершенно не в состоянии разобраться в таких сложных вопросах, как взаимоотношения тейп, <спокровительство», вернее эксплоатация, слабых тейп более сильными, зарождение аристократии. Для него, с высоты его дворянского величия, все чеченцы совершенно равны, и великодержавная теория монолитности чеченского общества, уравнивающая чвсех чеченцев в дикости, не в малой степени поддерживается именно фрейтаговским сборником адатов. Вот одна из фрейтаговских характеристик: ((Гражданственность вообще у горцев стоит еще на низкой ступени образованности, почему в ней невозможно отыскать той определенности, которая заметна у народов более образованных. Адат можно назвать первым звеном соединения человека в общество, переходом его от дикого состояния к жизни общественной».1 Таким образом, для Фрейтага чеченцы еще не вышли окончательно из дикого состояния. Так же отзывается он о чеченцах и там, где нужно дать характеристику ша- милевской системы управления: ((Дабы обуздать вольность дикого> горца, он (Шамиль. Ы. П.) нашел нужным уничтожить адат, потворствующий слабостью своих постановлений буйным страстям чеченцев».2 1
Несколько менее видное, но все же очень значительное место занимает работа Лаудаева ((Чеченское племя», помещенная в VI выпуске ((Сборника сведений о кавказских горцах». Автор ее, чеченец, — колоритная фигура. Учился он в кадетском корпусе и к моменту издания работы имел чин ротмистра царской армии. С другой же стороны лицо Лаудаева достаточно хорошо характеризуется тем, что он занесен в ((список владельцам и пх холопам в Чеченском округе» 1 2 3 как один из немногих (в шестидесятых годах) чеченских рабовладельцев. Эт0—яркий представитель того слоя чеченских зсплоататоров, которые пошли на службу к русскому царизму и которые служили верной опорой военно-феодальной колониальной политики царской России на
1 Леонтоввч. Адаты кавказских горцев, т. П, стр. 92.
2 Ibid., стр. 107.
3 Объед. Горский исторический архив. Фонд канц. начальника Терской обл., Дела холопские, св. № 24, дело № 3. Об освобождении зависимых сословий в среднем военном отделе.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
199
Кавказе. Лаудаев усиленно подчеркивает «дикость» чеченцев и всеми силами защищает колониальную политику царизма. ((Общественная жизнь чеченцев во все времена представляла печальное зрелище; она не была обеспечена никакими условиями, и если благонамеренными людьми, по примеру соседей, предпринимались благие меры, то не было средств приводить их в исполнение.. • Почти до покорения их русскими, они имели одно право — право оружия».1 По Лаудаеву только царизм осчастливил Чечню: «Издавна вольные чеченцы наслаждаю і ся свободой только в настоящее время... Ныне они уже не походят на те нагие и голодные толпы, кои двенадцать лет тому назад, разоренные наибами, робко являлись под защиту русских».1 2
Лаудаев прилагает все силы к тому, чтобы оправдать грабеж Чечни царизмом. Он не стесняется средствами, пытается даже доказать, что ... чеченские земли издавна принадлежали не чеченцам, а русским. Для доказательства этого положения предпринимается большой экскурс в историю Кавказа, в результате которого «оказывается», что русские явились в Чечне прямыми преемниками татар: «Нет сомнения, что русские, по своему завоевательному духу, зашли в Чечню, вытеснили из нее ослабевших татар и поселились в ней житьем», причем, «русские были тогда не временными посетителями Чечни, готовыми оставить ее при первом случившемся неудобстве, но жили оседло...»3
Уходят русские из Чечни только после Петра. Но, «удалившись за Терек, русские, однако, не оставили своего притязания на оставленную „землю. Считая ее своей собственностью, они позволили чеченцам занимать плоскость на условиях... Условия Эти заключались в том, чтобы ими можно было оградить хищнические нападения чеченцев за Терек».4 Так оправдывает чеченский рабовладелец грабительскую колониальную политику царизма.
Работа, как говорится в предисловии, представляет собой только выдержки из рукописи Лаудаева, что, разумеется, снижает ее значение как исторического источника, так как редактирование, очевидно, изъяло немало интересных мест. Но, несмотря на все это, историк-марксист не может пройти мимо этой работы. Лаудаев хорошо знает чеченские отношения, он сообщает ряд
1 Op. cit., стр. 23.
2 Ibid., стр. 31.
3 Ibid., стр. 6.
* Ibid., стр. 7.
200
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
весьма существенных данных по вопросу о родовых взаимоотношениях, и, что особенно интересно, дает возможность разобраться во внутриродовых, вернее внутритейповых, отношениях, показывая, что и здесь царит тот же принцип эксплуатации, что и в отношениях междутейповых. Правда, эти данные Лаудаев приводит как бы нехотя, можно даже сказать, что он проговаривается, но тем интереснее его высказывания. Немаловажное значение представляют и те данные, которые приводятся Лау- даеяым по вопросу о рабстве, несмотря на наличие и здесь Попыток замазать истинное положение вещей.
Сравнительно с указанными основными капитальными работами по Чечне, остальные имеют гораздо меньшее значение. Так, статья капитана Самойлова «Заметки о Чечне», помещенная в журнале «PenepTjap и Пантеон», дает общий очирк Чечни в духе работ по Дагестану, печатавшихся в газете «Кавказ», но значительно обстоятельнее их. Основное содержание ее — состояние сельского хозяйства, промышленности и торговли у чеченцев, и поэтому статья может служить лишь дополнением к двум упомянутым выше основным работам.
Такой же характер имеют некоторые другие статьи, помещавшиеся в «Сборнике сведений о кавказских горцах». Из них назовем статью начальника Аргунского округа Ипполитова, типичного царского офицера.1 Работа его «Этнографические очерки Аргунского округа»1 2 содержит, однако, ряд интересных данных о социальном строе Чечни. Так, Ипполитов подтверждает сведения фрейтаговского сборника о положении рабов: «Они стояли вне всякого права: и собственность и жизнь их вполне Зависели от воли владельца».3 При всем стремлении этого великодержавного этнографа представить чеченское общество обществом равных, у него встречаются знаменательные оговорки; так, он пишет: «Впрочем, из того, что я сказал, касательно отсутствия в племенах чеченского происхождения всякого аристократического начала, не надо заключать однако же, чтобы стремления к нему вовсе в народе не существовало».4 Если сопоставить это
1 «Верная служба» Ипполитова не прошла незамеченной. В семидесятых годах отмежеван был ему в Нагорной Чечне участок в тысячу десятин удобной земли (см. Иваненков, Горные чеченцы, стр. 56).
2 «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. 1.
3 Ibid., стр. 43.
4 Ibid., стр. 45.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
201
заявление с другим местом той же работы, другой оговоркой, гласящей, что «фамилия Ахшипатой, вышедшая прежде других на плоскость Чечни и взыскивавшая когда-то подать за эту землю, признается за аристократическую»,1 то ценность заявлений о том, что сословных отличий ни в Чечне, ни между племенами, населяющими Аргунский округ, нет,1 2 станет ясна.
То же можно сказать и о статье Попова «Ичкерия», помещенной в ІУ выпуске упомянутого сборника. Наиболее ценным в статье Попова является список тейп, анализ которого помогает вскрыть некоторые моменты в междутейповых взаимоотношениях, а ряд мельком брошенных и часто тщательно затушеванных замечаний говорит о наличии эксплоатации в чеченском обществе.
На других работах XIX в., а их имеется значительное количество, мы останавливаться не будем и упомянем лишь об одной работе начала XX в., о статье Иваненкова «Горные чеченцы».3 Эта последняя, несмотря на то, что написана сравнительно поздно, дает описание ряда архаических черт в чеченской экономике и помогает разобраться в родовых взаимоотношениях, в частности же дает большой ценности конкретный материал о роли ростовщичества в разложении чеченского рода. Так, например, «мы видим отдачу земли владельцем ее в бессрочное условное пользование другому лицу за позаимствование у него какой-либо вещи из движимости, например, хлеба, скота, лошади, одежды и пр. Такое обязательство у чеченцев называется «керпесна» и заключается в том, что до тех пор, пока должник не отдаст взятой вещи или денег, заимодавец не возвращает землю и пользуется ею».4
Но особенно большое, можно сказать решающее, значение для историка имамата имеют приведенные Иваненковым данные о земельных пожалованиях Шамиля. Вот приводимый Иваненковым чрезвычайно показательный документ: «От покровителя верных мусульман имама Шамиля, моему близкому другу, моему наибу Алдаму:... извещаю, что я убедительно отрезал кусок земли одному человеку. А этот человек — моя правая рука, считающая у себя силу в половину моей армии— Ума Дуев. Он происходит из
1 «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. 1, стр. 5.
2 Ibid., стр. 43.
3 Терский сборник, вып. VII.
* Ibid., стр. 37—38,
202
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
самых высших людей по отцу и по матери.. .* А потому я дарю Ума Дуеву означенную землю, и чтобы никто из вверенного тебе наибства и жители Дзумсоя не препятствовали владеть ему землей».2 Прибавим, что участок имел 030 десятин, т. е. 10°/о. всей площади селений, составляющих Дзумсоевское общество. Подобные документы не оставляют сомнений в классовой направленности политики имама и являются бесспорным доказательством роста в горах нового дворянства.
Наконец, последняя в этом разделе группа работ — это сообщения современников о внутренних делах имамата. Сообщения эти представляют собой либо данные, собиравшиеся офицерами царской разведки во время их путешествий по горам, либо пересказы содержания бесед с видными представителями мюридизма, главным образом с Шамилем. По заданиям генерального штаба era офицеры неоднократно бывали в горах и некоторые из них издали сводки своих наблюдений. Большая часть подобных рукописей осталась, впрочем, неопубликованной, и лишь изредка встречающиеся в работах царских генералов ссылки свидетельствуют о богатствах, заключающихся в архивах.
Из числа изданных записок подобного рода необходимо упомянуть прежде всего о «Путевых записках штабс-капитана генерального штаба Прушановского».” (
Работа эта представляет выдающийся интерес, особенно в той части, которая трактует о начале мюридизма. Для первых моментов проповеди Курали Магомы, для мюридизма эпохи 1825— 1827 гг., Прушановскпй иногда оказывается едва ли не единственным источником, и широко распространенные рассказы о зарождении мюридизма* в кюринском ханстве черпают материал почти исключительно из «Записок» Прушановского. Такое исключительное положение этого источника заставляет нас подойти к нему с особой осторожностью. Кой-какие моменты у Прушановского могут быть проверены по другим источникам, в частности по мусульманским работам. И здесь вскрывается интересное обстоятельство: Прушановский, повидимому, имел
вполне надежных осведомителей, людей, знакомых с началом мюридизма. Стиль рассказов о Курали Магоме указывает на гор- 1 2 31 Характерное замечание. Оно показывает, как изо всех сил шамилев- < кие наибы выбивались в аристократию.
2 У к. статья, стр. 54.
3 Опубликованы в ХХШ т. «Кавказского сборника».
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА 203
скпе мусульманские источники сведений Прушановского; это сразу становится ясным, если только сравнить стиль разбираемой части записок с стилем хотя бы Гаджи Али или Магомета Тагира Карахского.1
Но при хорошем осведомлении Прушановский не сумел дать достаточно отчетливую картину хода событий, и в результате авторы, черпавшие материал у Прушановского, представили целый ряд фактов, относящихся к возникновению мюридизма в искаженном виде. Роль ширванского мюридизма как источника мюридизма дагестанского, Прушановским смазана, а вследствие этого заимствовавшие у него авторы почти совершенно опускали ее.1 2 Прушановский в своем рассказе неоднократно намекает на бухарское происхождение тариката. Вот что он пишет на первой же странице о Хас Магомете, перенесшем тарикат из Шир- вана в Дагестан: «У Муллы Магомета3 воспитывался в продолжение семи лет бухарец Хас Магомет... По истечении семи лет Хас Магомет удалился в Бухарцю, но точно ли он отправился в свое отечество, неизвестно, только через год опять возвратился к старому своему учителю».4 Далее следует рассказ о разговоре Хас Магомета с Муллой Магометом, в котором первый из собеседников, между прочим, говорит: «Я возвратился в твой дом,, чтобы передать тебе мудрость бухарских алимов, неизвестную в странах Дагестана».5 Кажется, все говорит в пользу поездки Хас Магомета в Бухару и «импорта», так сказать, из Бухары тариката. Ни слова о Ширване нет. И только дальше совершенно неожиданно оказывается, что собеседники отправляются для наставлений в тарикате в Ширван. Эта-то путаница и привела к тому, что кавказские историки в подавляющем большинстве своем не заглядывали в ширванскую историю; у историков буржуазно-помещичьих это хорошо вязалось с их общей концепцией: возникновение мюридистского движения ЭТО — результат фанатической агитации мулл, а тарикат—«импортный товар».
1 Подчеркиваю, что речь здесь идет не о фактах, а о самом характере рассказа и о методах исторического исследования, весьма характерных для мусульманских «авторов».
2 Ср. то, что говорится ниже о работе Окольничего.
3 Речь идет о дагестанском ученом Мулле Магомете из Ярага, который позже стал тарикатским шейхом в Дагестане.
4 Кавказский сборник, т. XXIII, стр. 1.
5 Там же, стр. 2.
204
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
При этих условиях социальное содержание тарикатского учения, подхваченного аульской вер чушкой, выхолащивалось окончательно. Критика рассказа Прушаповского, возможная при привлечении работ, касающихся ширванского мюридизма, например, работ Махмудбекова, поможет разбить великодержавническую концепцию царских историков по вопросу о происхождении мюридизма. Но и в тех частях, где Прушановский описывает события, непосредственно предшествовавшие восстанию 1830 г., ого рассказ далеко не совпадает со сведениями, которыеоиожно почерпнуть из официальной переписки, и может считаться нс везде достаточно достоверным. В общем «Путевые записки» являются источником недостаточно надежным, и пользование ими возможно при осторожном к ним подходе и при прямой или косвенной проверке данных Прушановского другими источниками. Это же необходимо иметь в виду и при использовании наиболее часто встречающихся в литературе версий, которые восходят обычно К «Запискам» Прушановского.1
Менее самостоятельны в целом, но частично основаны на оригинальных материалах, статьи упоминавшегося выше подполковника генерального штаба Неверовского «О начале беспокойств в Северном и Среднем Дагестане» и «Истребление аварских ханов». К тому, что было сказано о нем раньше, прибавим
1 Боденштедт в своем описании Кавказской войны сообщает о том, что при составлении главы, посвященной происхождению мюридизма, он руководствовался рукописью тарикатского шейха Хас Мухаммеда. Сличение текста Боденштедта с различными вариантами «Записок» Прушановского, имеющимися в ИВИА, показывает, что и последний немало заимствовал (прямо или посредственно) из сочинения Хас Мухаммеда. Таким образом, подробный рассказ о начале мюридизма, широко использованный в исторической литературе, восходит к единственному источнику и другими свидетельствами пока не проверен. К тому же этот источник недостаточно надежен: 1) первым автором широко распространенной версии является тари- катскип шейх, не слишком заботившийся об исторической точности своей передачи (обращает на себя внимание отсутствие в традиционном рассказе дат и наличие ряда невязок), не говоря уже о политической и классовой направленности всей работы и 2) имеющиеся в наших руках передачи рассказа Хас Мухаммеда прошли обработку такого завзятого великодержавника, как Прушановский. Сравнение его текста с текстом Боденштедта сразу указывает на большие изменения. Наконец, даже самый ранний вариант «Записок» Прушановского не старше 1840 года; это в то время, как события, описываемые им, относятся к середине двадсатых годов. Впрочем, и работа Боденштедта не может быть датирована более ранним временем.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
205
только, что в некоторых местах «Путевых записок» Прушанов- ский сообщает об использовании им данных Неверовского. Однако имеется и обратное заимствование, о чем говорят примечания к работам Неверовского. Наибольший интерес из работ Неверовского представляет «Истребление аварских ханов», впрочем также являющееся работой несамостоятельной.
Характерно, что рассказ Неверовского (и здесь отчасти совпадающий с «Путевыми записками» Прушановского) изобилует рядом легендарных подробностей, как, например, разговоры сыновей аварской ханши Паху Бике со своей матерью. Вообще Неверовский стремится изобразить убийство ханов мюридами как вероломство и особенно подчеркивает роль в этом деле Шамиля. Между тем, отношение, написанное командовавшим тогда отдельным Кавказским корпусом генералом Розеном гр. Чернышеву через несколько дней после события,1 с совершенной ясностью свидетельствует, что убийство не было подготовлено заранее и, даже больше того, что оно явилось следствием ссоры некоторых мюридов Гамзат-бека с ханами. Ни участия Гамзата, ни подстрекательства Шамиля здесь не видно. Этому противоречит и вся предыдущая политика Гамзата, всегда стремившегося к миру и союзу с ханами. Между тем, версия Неверовского была распространена чрезвычайно широко и заимствована большинством исторических работ, посвященных этому периоду. Итак,к работам Неверовского, относящимся к эпохе 1825—1834гг., приходится относиться с такой же осторожностью* как и к работам Прушановского. Мы находим ряд ссылок и на другие работы офицеров генерального штаба (как, например,, на рукопись Радожицкого об Аварском ханстве 1830-х гг. идр.), но все эти дневники, записки и т. п. остались неопубликованными. К этим работам близки сообщения царских офицеров, бывших в плену у Шамиля,1 2 в которых на ряду с значительным количеством материала, не представляющего почти никакой ценности для историка, встречаются и очень интереспые сообщения и наблюдения^ значительно пополняющие наши скудные данные по внутренней истории имамата.
1 От 9 августа 1834 г. № 738. См. Акты Кавказской Археографической комиссии, т. VIII, стр. 584.
2 «Восемь месяцев плена у горцев, проведенных рядовым Грузинского линейного № 10 батальона Иваном Загорским» и другие показания и описания.
206
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
Таковы, например, показания прапорщика князя Орбельяни, находившегося в 1842 г. в плену у Шамиля.1 Орбельяни рассказывает об истории своего пленения при занятии Шамилем Кумуха, путешествии под конвоем из Кумуха в Дарго, пребывании там, попытке к побегу и освобождении по размену пленных. $то, так сказать, первая часть ((показаний)). Вторая много интереснее. Она содержит следующие разделы: краткий очерк поприща Шамиля, управление Шамиля в духовном, административном и военном отношении (раздел имеет такое примечание: «Почерпнуто из разговоров с самим Шамилем и его приближенными))), Лидия, значение и важность ее и наступательный путь на нес. Во втором разделе можно найти целый ряд сообщений, рисующих организацию имамата и дающих характеристики ряда его деятелей. Этот раздел по существу представляет собой один из основных источников, вскрывающих сущность имамата. Укажем, например, на свидетельство Орбельяни о закате (2°/0 со окота, 5°/о с наличных денег, причем имеющие меньше 50 баранов заката не платят), на приводимое им перечисление наибов, сведения о муртазеках и пр. Кроме того, в показаниях разбросаны интересные замечания о значительных деятелях мюридизма, в частности о Джемал-Зддине, Гамзат-беке и др., о взаимоотношениях Ташов-хаджи с Шамилем и т\. п. Ряд данных, приведенных в ((показаниях)), очевидно, широко использовался авторами статей «Кавказского сборника», писавшими по архивным материалам.
Часть «показаний» Орбельяни была издана в виде приложений к статье Вердеревского «Плен у Шамиля»,1 2 но пользоваться Этой публикацией опасно. Прежде всего Вердеревскпй издал только первую часть «показаний», да и то без первых страниц. Во-вторых, то, что напечатано, подверглось редактированию, в результате чего были выброшены некоторые интересные и ценные замечания Орбельяни. Так, например, в фразе, «положим даже, что потеряв своих тысяч пять или шесть (что генералу Граббе ничего не значит, если он хочет достигнуть своей цели), мы успели бы занять ущелье» ... предложение, взятое в скобки, выброшено. А между тем оно достаточно ярко характеризует этого
1 Чеченский арх. фонд, переданный из Цевтрархива. Дело № 45.
2 «Отечественные записки» 1856 г., кн. 1—5. Упомянутое приложение находится в кн. 4. Опубликовано также в газ. «Кавказ», 1849 г., «№ 1—5, под заглавием «Рассказ офицера, бывшего в плену у Шамиля в 1842 г.».
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
207
«бравого» царского генерала, доведшего своим управлением Чечню до взрыва 1840 г. Таких примеров можно привести несколько.
Значительное количество данных по истории имамата находится в дневнике Руновского, бывшего приставом при Шамиле, когда этот последний после завоевания Кавказа жил в плену в Калуге. Согласно инструкциям, Руновский тщательно записывал содержание бесед своих с Шамилем, которые освещали ряд интересных вопросов по внутренней истории имамата. Дневник Руновского, хотя и не полностью, опубликован в т. XII «Актов Кавказской Археографической комиссии». Помимо этого Руновскому принадлежит большое количество статей и брошюр, посвященных отдельным вопросам истории имамата и являющихся в сущности повторениями дневника, а часто и дословными выписками из него: ((Взгляд на сословные права и взаимные отношения сословий в Дагестане»,1 «Кодекс Шамиля»,1 2 «Мюридизм и газават в Дагестане»,3 биография Шамиля4 и многие другие. Поскольку источником для всех этих статей послужил дневник, мы ссгановимся на нем.
Руновский в своих записях высказываний Шамиля, разумеется, фиксировал лишь то, что представлялось интересным правительству, поэтому многие ценные сведения даны им вскользь, как бы между прочим, и вследствие сбивчивости и неясности терминологии исследователю часто трудно восстановить истинное содержание сообщений Руновскої о. Но этим не исчерпываются особенности дневника. Передавая рассказы Шамиля, дневник тем самым отражает ту интерпретацию событий, какую давали мусульманские «ученые», муллы; интерпретация эта осложняется положением Шамиля как пленника царизма, что вело к сближению в некоторых случаях шамилевской точки зрения с официальной точкой зрения. Эги моменты Руновский усиленно выдвигает в своем дневнике на первый план. Наконец, Руновский не ограничивается записью высказываний Шамиля. Он обрабатывает их, стремясь каждый сообщаемый бывшим имамом факт осветить по-своему. В результате получается очень сложная обработка фактического материала, что заставляет исследователя проделывать большую работу по выяснению каждого факта, за¬
1 «Военный сборник», 1862 г., № 8.
2 «Русский вестник», 1862 г., т. 42, или газ. «Кавказ», 1863, № 3—7.
3 «Военный сборник», 1862 г., № 2.
4 Кавказский календарь на 1861 г. Напечатана под заголовком «Шамиль».
208
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
писанного в дневнике. Однако, несмотря на все эти недочеты, отказаться от пользования дневником Руновского нельзя; он бросает свет на значительную группу вопросов, неясных или совершенно не освещенных в других источниках. Кроме того, при надлежащем пользовании дневником можно иногда определить точку зрения бывшего имама на происходившее в горах в эпоху мюридизма, и, наконец, ближе подойти к проблеме взаимоотношений различных групп внутри мюридизма.
К числу таких интересных мест относится соообщение о частичной ликвидации крепостничества в горах при Шамиле, приводимые Руновским низамы (особенно интересен низам по обеспечению торговых сделок, фактически узаконяющий наиболее отвратительные формы ростовщичества).1 Немаловажное значение имеют приводимые Руновским факты, рисующие методы обогащения, практиковавшиеся наибами, как, например, Сугратлин- ским Курбаниляу1 2 и т. д.
Совершенно иначе следует отнестись к некоторым публикациям другого из приставов, Пржецлавского. Этот последний опубликовал статью «Несколько слов о военном и гражданском устройстве, существовавшем в Чечне и Дагестане во время правления имама Шамиля»,3 некоторые другие статьи и заметки и отрывки из своего дневника. Материал, сообщаемый Прже- цлавским, по качеству много ниже материала Руновского. Прже- цлавский иногда совершенно не понимает того, о чем пишет, путает совершенно элементарные вещи, и все его работы окрашены ненавистью к Шамилю, которого Пржецлавский трактует как природного «хищника».
В предисловии к «Дневнику» Пржецлавский пишет, что все прежние авторы статей о Шамиле «смотрели на моего калужского пленника сквозь розовую призму... Они чересчур прикрасили героя своих рассказов и, обманываясь сами, ввели в заблуждение читателя».4
1 Акты Кавказской Археографической комиссии, т. XII, стр. 1470.
2 Ibid., стр. 1506. «Всякие мастеровые, которыми Суграль славится,- должны были работать на Карбаниляу бесплатно». Это яркая иллюстрация к приводимому ниже заявлению Хаджи-Мурата, характеризующему доходы наиба обобщенно.
3 Напечатана в газ. «Кавказ», 1863 г., № 64.
4 «Шамиль в Калуге», Записки полковника П. Г. Пржецлавского, «Русская старина», 1877 г., октябрь, стр. 255.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА 209
Все это заставляет исследователя не доверять большинству сообщепий Пржецлавского и пользоваться ими только эпизодически. Вирочем, нужно сказать, что публикации Пржецлавского почти не содержат новых или малоизвестных фактов, так что и с этой стороны его работы особой ценности не представляют.
Перейдем теперь к изданиям архивных материалов. Количество изданных документов, как мы уже указывали, чрезвычайно велико, однако, характер публикаций зачастую таков, что большая часть появившегося в печати не может быть использована для истории имамата. Обычно для публикации производился отбор документов в разрезе чисто военной истории. Наиболее характерными документами этого типа являются журналы военных действий и донесения, составлявшиеся на основании таких журналов.
Журналы военных действий кое-что дают историку имамата, но к основным материалам они во всяком случае отнесены бьпь не могут. Несколько более ценны рапорты и особенно сообщения кавказского начальства в центр; среди этих документов попадаются иногда очень ценные сведения, но эти документы также в основном трактуют о стратегических планах, об экспедициях и сражениях, замечания же, касающиеся внутренней истории имамата, встречаются в них только изредка.
В документах часто встречаются искажения либо в результате недостаточной осведомленности, либо намеренные.1
На первом месте следует поставить капитальное издание документов: ((Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией)), состоящие из 12 томов1 2. Издание обнимает период от 1799 до 1862 г., но в первых томах помещен ряд документов более раннего времени. «Акты» представляют собой публикацию документов, извлеченных из архивов наместничества кавказского,, и являются для историка наиболее ценным материалом. Их основной недостаток — подбор материала, произведенный почти исключительно с точки зрения военной истории. Правда, каждый том включает так паз. «гражданскую часть», но так как весь северо-восточный Кавказ находился под управлением военных властей, то в гражданской части «Актов» документов по Чечне и Дагестану, за единичными исключениями, не встречается.
1 Особенно недостоверны цифровые данные о потерях горцев.
2 Собственно, томов 13, так как т. VI издан в двух частях.
Проблемы источниковедения, II
14
210
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
Поэтому для историка имамата имеет значение исключительно освоенная часть». Документы, входящие в эту последнюю, распределены по территориальным единицам, и рубрики «Дагестан» и <(Чечня» или близкие к ним (как, например, «левое крыло Кавказской линии» и т. п.) являются наиболее для нас интересными. Однако нужно иметь в виду, чго некоторые сведения, касающиеся северо-восточного Кавказа, встречаются и в других рубриках, поэтому при использовании «Актов» нельзя ограничиваться только той группой документов, которая помещена под заголовками «Чечня» и «Дагестан».
Материалы по истории имамата и мюридизма на северо- восточном Кавказе помещены в томах VII—XII, охватывающих период от 1827 до 1862 г., однако для ориентировки в годах, непосредственно предшествовавших имамату, необходимо обращаться и к предыдущему YI тому. Поэтому наш краткий обзор «Актов» мы начнем с этого тома, именно со второй его части, содержащей историю завоевания Дагестана и Чечни при Ермолове, т. е. с 1816 по 1826 г. Документы этого тома довольно подробно освещают отношения русского правительства с дагестанскими ханами, политику этих ханов, их постоянную грызню друг с другом, методы, применявшиеся царизмом для обеспечения повиновения их, и т. п. Документы, трактующие о начале мюридизма, отсутствуют. Чечня представлена слабее, поражает почти полное отсутствие документов о восстании Бей-Булата: несколько «всеподданнейших рапортов» Ермолова, относящихся к основанию Сунженской линии, и небольшое количество документов о подавлении восстания.
Седьмой том «Актов» охватывает время управления Паске- вича, 1827—1831 гг. Это период, когда складывается мюридист- ское движение, когда возникает имамат. Между тем, документация подготовки восстания невелика: песколько отношений Паскевича к Нессельроде и ряд второстепенных бумаг. Все же наиболее важные моменты освещены «Актами», как, например, осада Хунзаха Гази Мухаммедом, даны некоторые из прокламаций Паскевича, есть донесения Корганова. Почти нет документов о скандале, разыгравшемся в связи с деятельностью Корганова, нет ничего о деятельности Гази Мухаммеда до гимринского совещания и т. д. Из отдельных документов, представляющих интерес для историка, упомянем о напечатанной в VII томе «Записке об Аварском ханстве», дающей некоторый материал для характе-
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
211
рястики положения аварских ханов и, отчасти, взаимоотношений 0Х с «вольными» обществами Нагорного Дагестана. Документы, рисующие методы управления, применявшиеся царской администрацией, содержащие материалы о грабительстве царских чиновников и т. п., упоминания о которых имеются даже в статьях ультрапатриотического «Кавказского сборника», в «Акты» не попали.
Значительное количество документов, рисующих борьбу царизма с первым имамом, появляется в «Актах» лишь с восьмого тома. Большинство из них—официальная переписка по чисто поенным вопросам: рапорты и донесения местного начальства наместнику, или последнего в Петербург. Документация относится ко времени управления бар. Розена, т. е. к 1831—1838 гг. Материалы по внутренней истории имамата отсутствуют, и исследователю приходится пользоваться случайными разбросанными в официальной переписке сведениями. Из отдельных документов можно отметить здесь лишь следующие: окончание начатой в седьмом томе «Записки о сношениях с аварскими ханами», не представляющей, однако, особого интереса, предписание бар. Розена г.-м. Ланскому от 27 декабря 1834 г., № 688, данное в связи с назначением последнего военно-окружным начальником в Дагестане и содержащие чрезвычайно сжатый политический обзор Дагестана, и, наконец, несколько переводов писем Шамиля. Среди последних интересно письмо Шамиля, Ташов-Хаджи и других вождей мюридизма генералу Фезе в Тилитле в 1836 г., но и здесь из двух редакций письма «Акты» приводят только вторую, умалчивая о существовании первой, написанной в более независимом тоне.
Девятый том охватывает время управления Головина (1838— 1842) и Нейдгардта (1842—1844), т. е. наиболее интересную Эпоху истории мюридизма: время чеченского восстания 1840 г., успехов движения в Нагорном Дагестане, захвата мюридизмом Аварии, шахмальского восстания. Но по всем этим вопросам опубликованы документы почти исключительно военного характера — описание отдельных экспедиций и сражений. О причинах, восстаний эти материалы почти ничего не говорят, в то время і как материалы, обработанные в статьях «Кавказского сборника»,, показывают, что царское правительство особенно интересовалось причинами восстания. Редакция «Актов» не сочла нужным публиковать документы, говорящие о грабительском характере колониальной царской политики.
14*
212
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
Из отдельных документов, напечатанных в IX томе, обращает на себя внимание перепечатка изданного в 1877 г. в Риге ((Очерка положения военных дел на Кавказе с начала 1838 г. по конец 1842 г.», составленного Головиным и являющегося, таким образом, его отчетом. Затем известный интерес представляют: «Записка о каракайтагском народе, принадлежащем к управлению Дербентской провинции», датированная 21 марта 1838 г., и «Обзор Казикумухских дел в марте 1842 г., представленный при рапорте ген.-лейт. Фезе от 5 апреля 1842 г.,№ 28», рисующий подготовку и историю Казикумухского восстания 1842 г. и участие в этом восстании ханских и бекских слоев. Наконец, заслуживает упоминания «Выписка из журнала военных происшествий, случившихся на кавказской линии и в Черномории с 17 по 21 марта 1844 г.», главным образом благодаря заключающимся в ней данным о богатствах, накопленных известным чеченским наибом Шуаиб Муллой.
Том десятый, пожалуй, мог бы быть одним из наиболее богатых материалом томов «Актов». Архивные материалы показывают, что имеется значительное количество сведений о внутреннем положении имамата второй половины 40-х годов. Однако том этот, охватывающий время наместничества Воронцова (1845—1853), сравнительно очень беден. «Акты» дают главным образом военный материал. Наибольший интерес среди опубликованных в этом томе документов представляет «Записка, составленная из рассказов и показаний Хаджи-Мурата гв. ротм. Лорис- Мсликовым». Как показывает самый заголовок, это переработка показаний одного из виднейших шамилевских наибов, переработка, произведенная одним из царских офицеров, что уже само по себе заставляет осторожно подходить к документу, сделав соответствующую поправку при разработке проблемы классов и классовой борьбы внутри мюридистского государства. Тем не менее, историк должен использовать «Записку», так как она содержит высказывания Хаджи-Мурата, высказывания, ценные по своей современности событиям. Особенно бросается в глаза в записке лапидарная характеристика наибских доходов: «Доход наиба состоит в помощи рук вверенного ему края».1
Некоторый интерес представляет также переписка по вопросу о столкновении Хаджи-Мурата с Шамилем, рисующая с доста¬
1 Акты Кавказской Археографической комиссии, т. X, стр. 527.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
213
точным количеством подробностей события, происходившие в связи с этим в Аварии. Переписка дает редкую в истории мюридизма по полноте картину борьбы двух течений в имамате. Из остальных документов, напечатанных в X томе «Актов», историк может извлечь лишь отдельные, хотя подчас и очень важные, подробности, но изучение второй половины 40-х годов на севере-восточном Кавказе только по «Актам» без широкого использования иных источников совершенно немыслимо. Для того, чтобы понимать события, о которых так подробно говорят напечатанные документы, для историка обязательно знакомство с другими источниками, с сообщениями мусульманских авторов-кавказцев, а также с частной перепиской военного руководства.
Том одиннадцатый (наместничество Муравьева, 1854—1856 гг.) посвящен, в основном, документации по истории турецкой войны, и документов для истории войны на Кавказе почти совершенно яе содержит. То немногое, что Кавказская Археографическая комиссия сочла необходимым включил? в состав тома, интереса не представляет, и поэтому из всех томов «Актов» этот в наименьшей мере может быть использован историком имамата.
Несколько интереснее том двенадцатый, посвященный времени наместничества Барятинского (1856—1862 гг.). В этом томе опубликованы чрезвычайно объемистые, с множеством чисто военных деталей, журналы военных действий и составленные на •основании этих журналов рапорты, донесения, отчеты. Некоторый интерес представляют лишь донесения о походе к Шатою и об осаде Ведено и, особенно, переписка о назранонском восстании 1858 г., довольно подробно рисующая начало вспышки среди ингушей.
Впрочем, и здесь, как и в других документах, опубликованных в «Актах», отсутствует наиболее интересное: переписка Барятинского с военным министром об общем направлении царской политики на Кавказе, материалы о причинах восстания 1858 г. и т. п. Поэтому, XII том содержит очень немного действительно ценного материала и по ряду вопросов должен рассматриваться •лишь как дающий вспомогательный материал. В качестве основного источника могут быть использованы лишь отдельные упомянутые выше документы.
Значительно больший интерес представляют приложения к этому тому: отчеты Барятинского по управлению Кавказом
214
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
и особенно дневник Руновского. Первые дают общие сводные обзоры, дающие материал для истории колониальной политики царизма в эпоху завоевания. Некоторые характеристики Барятинского довольно ярко рисуют и внутреннюю политику имамата. О значении дневника Руновского нам приходилось уже упоминать. Само собой разумеется, что в «Актах» напечатана лишь часть дневника, но и напечатанное имеет достаточно большую ценность.
Перейдем ко второму довольно значительному изданию документов (хотя по объему оно ни в какой степени с «Актами» сравниться не может), к специальному XXXII тому «Кавказского сборника», который содержит документацию по истории Кавказской войны. Первая часть этого тома посвящена исключительно северо-восточному Кавказу и охватывает время с 1831 г* по конец 1841 г. Распределение документов здесь довольно неравномерно: последние годы—1840 и особенно 1841 — представлены вшого слабее, чем годы более ранние; поэтому в основном мы моясем считать, что разбираемый том заканчивается 1839 г- Общий характер подбора документов тот же, что и в «Актах»: тщательно замазывается сущность колониальной политики царизма, отбрасываются документы по внутренней истории имамата и т. д. И здесь, как и в «Актах», нет документов, разъясняющих причины восстания 1840 г., нет ничего о грабительских действиях кавказской администрации как русской, так и чеченской. Ряд докувіентов, опубликованных в «Актах», целиком повторен в «Сборнике».
Большая часть документов, впервые опубликованных в „Кавказском сборнике", мало дает для истории имамата, но некоторые из них все же представляют довольно значительный интерес* Таковы, например, переписка об убийстве аварских ханов, о смерти Гамзат-бека и о назначении нового аварского хана, группа документов о попытке царского правительства подкупить Шамиля и о свидании генерала Клюки фон-Клугенау с Шамилем. Значительный интерес представляют три документа, касающиеся событий 1841 г., причем последний из них под весьма характерным заголовком: «Обзор бедственного положения дел в Северном Нагорном Дагестане в 1841 г. и с кратким очерком предшествующих обстоятельств», вторые два — просто «Обзоры». Во всех трех дагестанское командование пытается «вскрыть» причины катастрофы 1840—1841 гг., но, разумеется, не затрагивая основной — грабительской колониальной политики царизма. В связи*
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
215
с этим в документах содержится кой-какой фактический материал по внутренней истории имамата. Наконец, в томе есть еще один специальный раздел: это документы о поездке Николая I на Кавказ в 1837 г. Никакого интереса этот раздел не представляет я свидетельствует лишь о (сверноподданничестве)) официальных царских историков, составлявших сборник.
Некоторые из отчетов и обзоров представителей царского командования издавались и отдельно. Так, изданы упоминавшийся уже аОчерк положения военных дел на Кавказе с начала 1839 г. по конец 1842 г.», составленный Головиным, и несколько отчетов по управлению Закавказским краем Воронцова.1 Последние вошли также в состав десятого тома «Актов». Материалы эти могут быть эпизодически использованы историком, хотя причесаны и приглажены они до такой степени, что едва ли не каждое слово этих отчетов должно быть подвергнуто проверке: до такой степени замазывают они истинное положение вещей. Кое-какие полезные для историка имамата сведения находятся и в более поздних отчетах начальника Дагестанской области,1 2 где, между прочим, даны некоторые весьма отрывочные сведения о рабах и части крепостных Дагестана в связи с работами комиссий «по освобождению зависимых сословий» и по сословно-иоземель- ным делам. В отчетах имеются также сведения, касающиеся положения ханств и политики царизма в отношении отдельных ханов. Все материалы, разумеется, сугубо официальны и с этой точки зрения и должны расцениваться.
Значительную ценность для понимания социального строя горцев представляют материалы, собиравшиеся царской администрацией в шестидесятых годах в связи с проведением крестьянской реформы у горцев. К сожалению, материалы полностью до сего времени не изданы, а большинству работающих по истории горцев в XIX в. приходится пользоваться лишь отрывочными и обобщенными статьями, помещенными в «Сборнике сведений о кавказских горцах», замазывавшими сплошь и рядом наиболее интересные моменты. Особенно относится это к Дагестану,— вопрос об узденских повинностях заботливо обходился в издаваемых комиссиями работах. Так, комиссии считают «зависимыми» лишь кулов, райятов и чагаров, которым и уделяют много месія,
1 За время с 15 марта 1845 г. по 1 января 184*6 г., за 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 и 1851 гг.
2 За время до 1 ноября 1863 г. и с 1 ноября 1863 г. по 1 октября 1869 г.
216
н. и, ПОКРОВСКИЙ
описывая повинности и права этих двух групп. Разумеется, не случайностью, не недосмотром царских чиновников, заседавших в комиссии, можно объяснить ЭТО. Мы несомненно имеем здесь определенную политическую линию. Царское правительство, ОНИ- равшееся в проведении своей грабительской политики на местных дагестанских феодалов, не признавало зависимости узденей. В «Краткой записке о зависимых сословиях в Дагестанской области» читаем: «зависимость узденей не заключает в себе ничего похожего на крепостное право и на обязанности, из этого права вытекающие».1 Эта формулировка была чрезвычайно важна для царизма, так как она позволяла основную массу дагестанского крестьянства оставить в зависимом от феодалов положении. В самом деле, в этом отношении «вся задача правительства заключается только в том, или следует узаконить обычаями установленный порядок •пользования землей», т. с. узаконить узденскне повинности, или же «изыскать средства к наделению узденей землей»,1 2.а что значит Это наделение — хорошо известно из и; оведения крестьянской «реформы» 186 L г. Вот почему в опубликованных документах по «освобождению зависимых сословий» в Дагестане ничего почти ее говорится об узденских повинностях. Для правильного понимания вопроса совершенно необходимо привлечение ряда других материалов, о которых мы скажем несколько ниже. То, что сказано о Дагестане, в значительной мере может быть отнесено и к материалам по Чечне и кумыкам. Здесь особенно резко проявляется великодержавническая концепция, замазывающая проблему классовых отношений в чеченском обществе. Чечне уделено вообще несколько слов, хотя архивные материалы позволяют сказать многое. Чрезвычайно поверхностно и освещение кумыкских отношений.
На ряду с этими публикациями необходимо упомянуть также статьи, посвященные отдельным дагестанским ханским домам, появившиеся в «Сборнике сведений о кавказских горцах» и являющиеся изложениями материалов комиссий «для определения личных и поземельных прав».3 Из них наиболее интересна статья
1 Архив канц. наместника, 1866 г., св. 8713, д. JV» 31/Ї, ч. 1. Цит. по копии, хранящейся в рукописном отделе библиотеки Сев.-кавк. горек, научно-иссл. инст-та.
2 Ibid.
3 Таковы статьи: «Шамха.ты Тарковские», «Сборник сведении о Кавказ-* ских горцах», вып. I, «Мехтуливские ханы», там же, вып. II.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
217
«Шамхалы Тарковские», дающая между прочим довольно подробные сведения о повинностях различных групп зависимого населения ханам и бекам. Использование этих данных наряду с данными комиссии по «освобождению зависимых сословий» совершенно необходимо для ориентировки в положении различных групп дагестанского крестьянства. В частности, статья дает конкретные материалы по вопросу об узденских повинностях. Такое же перечисление повинностей дает для Мехтулы статья «Мехтулин- ские ханы», содержащая кроме того интересные указания на отношение царскою правительства к узденским повинностям, указания, даваемые в примечании, между прочим, но бросающие яркий свет на основы, на которых базировалась поддержка горскими феодалами царской колониальной политики.
Чрезвычайно ценный материал для характеристики социально- экономического строя Дагестана можно, наконец, найти в ряде статистических сборников. Хотя сведения относятся ко второй половине XIX в., из них можно извлечь те данные, которые распространяются и на первую половину века. Таковы сведения о повинностях и в большой своей части сведения о промышленной специализации аулов. Из статистических сборников наибольший интерес представляет справочник «Дагестанская область. Сборник статистических данных, извлеченных из посемейных списков Закавказья»; хотя материал сборника относится к концу восьмидесятых годов, однако, данные о повинностях несомненно отражают положение, сложившееся уже в первой половине века, и поэтому ценны как дополнение материалов различных комиссий шестидесятых годов. Сведения особенно интересны потому, что они дают яркую картину положения узденей, которая была скрыта комиссиями.
Некоторую помощь может оказать исследователю и «Памятная книжка Дагестанской области на 1895 год», довольно по-* дробно рисующая территориальное размещение дагестанской промышленности. Наконец, отдельные публикации документов в изобилии рассеяны в различных трудах. Так, много документов напечатано в приложениях к «Запискам» Ермолова, к биографии Барятинского, составленной Зиссерманом, в качестве приложений к „Кавказскому сборнику", и т. п.
Особую группу документов представляют собой частные письма и мемуары представителей царизма на Кавказе. Из опубликованных писем наибольший интерес представляют письма двух намест-
218
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
ников Ермолова и Воронцова. Письма Ермолова1 дают много
ярких и красочных характеристик, вскрывающих характер царской колониальной политики и показывающих отношение официальных представителей царизма к горцам. Ниже мы приведем некоторые выдержки из писем Ермолова, показывающие, что «проконсул Кавказа» ясно и отчетливо понимал истинные цели завоевания и не стеснялся высказывать их вслух. Вряд ли можно найти в документации более циничные высказывания, чем то, что вышло из- под пера Ермолова. Отсюда интерес этой переписки для историка, занимающегося проблемами колониальной политики царизма.
Но для историка мюридизма ермоловская переписка ценна лишь как сводный матерал: она охватывает канун мюридистского движения. Письма Воронцова1 2 написаны в более дипломатическом стиле. Он тщательно прикрывает то, о чем Ермолов пишет не стесняясь. Поэтому переписка Воронцова часто оказывается только не лишенным значения дополнением к его официальным бумагам. Время от времени в письмах проскальзывают детали, отсутствующие в опубликованных официальных документах. Некоторые из сообщений Воронцова помогают осветить отдельные темные места в истории мюридизма, но в целом письма Воронцова гораздо менее интересны, чем письма Ермолова.
Значительно обильнее литература мемуарная. Многие из царских генералов, занимавших руководящие посты на Кавказе, писали мемуары,стремясь оправдать свою деятельность.Среди литературы этого рода можно назвать воспоминания генерала Ольшевского,3 Клюки фон-Клугенау,4 Зиссермана5 и многих других. Сюда же относятся «Записки» Ермолова. Интересно большинство мемуаров главным образом теми бытовыми штрихами и характеристиками, которые ярко рисуют методы колониальной политики царизма и отдельных представителей ее. Слишком много места
1 Переписка Ермолова с различными лицами напечатана в «русском Вестнике» за 1863 г., в «Русской Старине» за 1872 г. 'переписка с Закрев- сксм и Кикиным), в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 45, и других изданиях.
2 Напечатаны в «Русском архиве» в 1890 г. (переписка с Ермоловым) и в «Русской Старине» 1873 г. (переписка с Бебутовым). Кое-что опубликовано в «Архиве кн. Воронцова» и др.
3 Напечатано в «Русской Старине» 1893—1894 гг. под заглавием «Кавказ с 1861 по 1866 гг.».
4 Очерк событий на Кавказе в «Русской Старине» за 1876 г.
5 Двадцать пять лет на Кавказе. Вышло отд. изд.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
21»
в воспоминаниях занимают подробные описания сражений, в которых приходилось участвовать авторам, передвижений войск* планов командования.
Второй ти а источников, имеющихся в нашем распоряжении,— сочинения различных деятелей мюридизма и имамата или соприкасающиеся с ними работы мусульманских «ученых», мулл различного положения. Как мы указывали уже, работ этих очень мало, и они просто тонут в груде материалов, оставленных нам царизмом, но тем ценнее каждая запись, исходящая от лиц, близко стоявших к руководству мюридистским движением или пропове- дмвавших тарикат. Все эти работы проникнуты магометанским религиозным духом, что значительно обесценивает их. Даже авторы-«историки» причины крупнейших исторических событий сводят к воле Аллаха. Вот как объясняет, например, появление мюридизма один из подобных «историков», Магомет Тагир из Караха: «Аллаху угодно было обновить и возвеличить свою веру. Исполнителем своей воли он избрал ученого и мудрого мужа Казн Мухаммеда из селения Гимры».1 Примерно в том же духе отзывается о падении имамата Гаджи Али: «Гнев божий снизошел на Шамиля, и бог попустил его врагам завладеть казною его, драгоценностями и имением».1 2 3 Авторы страдают также отсутствием критического подхода к сообщаемым ими фактам и нередко выдают легенду и даже анекдот за несомненное и достоверное происшествие. У того же Магомета Тагира мы находим, между прочим, и такой рассказ, приведенный непосредственно за описанием разгрома Граббе в ичкерийских лесах: «Граф послал парочного сказать Шуайбу «ты не особенно кичись, дружище, что убил двух моих солдат, отправившихся в лес за дровами». Уллубий ответил ему: «Я не кичусь и не имею основания кичиться. Ты, граф, напраслину на меня взводишь. Я гораздо раньше тебя слышал, что два русских, отправившихся за дровами, убиты двумя чеченскими малютками, ходившими туда за ягодами».8
Мусульманские источники изображают мюридистское движение как движение всенародное, а имамат как государство, основанное на «справедливости». Особенно яркую в этом смысле
1 Три имама. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 45, стр. 54.
2 Сказание очевидца о Шамиле. Сб. сведений о кавказских горцах, вып. VII, стр. 71.
3 Цит. соч., стр. 139.
220
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
характеристику дает Гассан Алкадари: «После своего вступления во власть, — пишет он, — Шамиль-эффенди ввел среди народа очень справедливые порядки, желанный строй и законченное политическое и гражданское управление».1 Автор всячески подчеркивает демократизм Шамиля, его заботы о народе. «Уже не было таких вещей, как ханские порядки, вроде того, чтобы подчиненный перед начальством снимал шапку и все время стоял».1 2 Даже Гаджи Али, который не может умолчать о грабежах обогащавшейся верхушки имамата, этого нового эксплоататорского <;лоя, становившегося на место сброшенных крестьянским восстанием феодалов, оправдывает главу этой верхушки, Шамиля. чсДела,— пишет он, — приняли дурное направление, потому что поступки рабов были соединены с несправедливостью, и все старания Шамиля поправить дела были тщетны. Он оставался один, без помощников, и часто повторял слова одного арабского поэта: «Я вижу тысячу человек, строящих здание, которое может разрушить один; что же может построить один человек, когда сзади вего тысячи разрушителей».3
Мусульманские источники можно разделить на две категории, в зависимости от того, касалась ли их редакторская рука официальных царских историков или нет. Почти все работы представителей мюридизма и тар и ката либо редактировались царскими офицерами, издававшими их, либо писались уже с учетом велико- державнических требований. Поучителен в этом отношении пример Мугеддина Магомед Ханова, сочинение которого «Истинные и ложные последователи тариката» появилось в «Сборнике сведений о кавказских горцах». Кое-что об истории создания этой работы говорит Омаров в предисловии: «Мугеддин был арестован «месте с другими тарикатистами, и при освобождении его г. начальник Кавказского Горского управления предложил ему как человеку опытному, вполне знающему похождения тарикатистов, написать о сущности настоящего тариката и применении его на деле современными тарикатистами».4 Понятно, что в подобной обстановке Мугеддин вынужден был о многом умолчать. На это жалуется и Омаров: «к сожалению, — пишет он, — Мугеддин
1 Асари-Дагестан. „Сборник -материалов для описания местностей и племен Кавказа", вып. 46, стр. 134.
2 Ibid., стр. 135.
3 Ibid., стр. 35.
Д Сборник сведений о кавказских горцах, вып. IV, стр. 4.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
221
ігаписал на вторую часть этой темы весьма мало, ограничившись некоторыми анекдотическими рассказами».1
Учитывал мнения и взгляды царских генералов и Гаджи Али, он прямо заявляет: ((Цель моя при составлении этой книги была заслужить внимание и благосклонность людей просвещенных».1 2 И этим, разумеется, объясняется такой, например, ^исто великодержавный выпад: «Горцы дики, как сама природа, окружающая их, и хищны, как звери»,3 или расшаркивание перед кавказским командованием: «Теперь же корень войны, беспорядков и смут пресечен могуществом русских».4 Не будем продолжать, — характер работ, прошедших через руки царских редакторов, достаточно ясен: мы имеем здесь националистический подход плюс наслоение великодержавных тенденций. И лишь одна работа из числа опубликованных избежала влияния последних, сохранив во всей чистоте первоначальный вид, это «Три имама», написанная Магометом Тагиром из Караха и изданная уже после революции, в 1926 г. Вот почему историк не может пройти мимо этого сочинения, несмотря на всю его наивность и изобилие приведенных в нем легенд. Другая из опубликованных в русском переводе после революции работ, «Асари Дагестан» Гассана Алкадари, писалась еще в конце XIX в., тогда же была опубликована по-арабски и поэтому примыкает к той же категории, что и работы Гаджи Али, Мугеддина и др.
Перейдем теперь к разбору отдельных сочинений. Одним из наиболее важных и ярких является «Низам Шамиля», опубликованный в III выпуске «Сборника сведений о кавказских горцах». Содержание его сводится к следующим пяти документам: 1) Положение о наибах, 2) Предписание имама всем наибам, 3) Причины съезда в Андии, 4) Молитва, предписанная к прочтению после хутбы каждому совершающему пятничное служение (Джума намаз), 5) Приказание, отданное имамом при собрании в Хунзахе, в понедельник, 21 дня месяца шеввам 1273 года. О происхождении документов редакция сообщает, что «все эти положения выписаны из книги бывшего при Шамиле наибом и известного приверженца его Танус-Магомы».5 Интересно заме-
1 Сборник сведений о кавказских горцах, вып. IV.
2 Ibid., стр. 4.
3 Ibid., стр. 5.
4 Ibid., стр. 6.
5 Ibid., стр. 2.
222
H. И. ПОКРОВСКИЙ
чанне, брошенное редакцией по поводу перевода публикуемых документов: «По темноте и ошибочному изложению некоторых мест в арабском тексте, для проверки и разъяснения его, вызван был в Шуру Амир-хан Чиркееевский, бывший около 20 лет •секретарем Шамиля, и затем перевод сделан частью буквально, а частью с ^толкованиями и исправлениями Амир-хана».1 Что представляли собой эти «истолкования и исправления)) судить нельзя, так как исправленные места ни в тексте, ни в предисловии не оговорены, и мы имеем полное право считать, что редакторская рука коснулась документов. Мало тою, одно из примечаний (на стр. 12) показывает, что редакция считалась еще «с существованием какого-то «подлинного» текста и считалась, повидимому, не напрасно. Таким образом, опубликованные документы не являются точной копией и показания их не могут быть приняты как строго достоверные. Тем не менее, значение их {особенно первых трех) можно признать первостепенным. Прежде всего они освещают ряд темных мест в структуре государственной власти, говорят о взаимоотношениях различных представителей администрации имамата и т. д. А во-вторых, и это очень важно, они позволяют судить и о классовом характере власти и о методах обогащения наибов. Они, наконец, указывают нам и на борьбу, происходившую внутри верхушки имамата. Об этом достаточно ясно говорит первая глава «Положения о наибах»: «Должно быть исполняемо приказание имама.•• будет ли оно •согласно с мыслями получившего приказание или несогласно, или даже в том случае, если бы исполнитель считал себя умнее, воздержаннее и религиознее имама».1 2 Другая глава достаточно ясно намекает на противоречия между верхушкой имамата и массами, противоречия, чувствовавшиеся руководством: «не должно одобрительно относиться к мнению народа, клонящемуся к нарушению порядка в делах необходимых, как-то: в постройке оборонительных стен, в защищении границ, в пресечении неприятелю путей и прочего».3
Наконец, скажем еще несколько слов об авторе «низама». В предисловии со слов Амир-хана рассказывается, что мысль о снабжении напбов письменным наказом подал Шамилю находившийся при нем некто Гаджи Юсуф. О самом Гаджи Юсуфе
1 Сборник сведений о кавказских горцах, вып. IV, стр. 4.
2 Ibid., стр. 7.
3 Ibid., стр. 8.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
223
Амир-хан сообщает, что «первое знакомство Гаджи Юсуфа с Шамилем завязалось заочно», вскоре после 1846 г. Затем Гаджи Юсуф прибыл в Дарго и здесь «в короткое время... сделался при Шамиле влиятельным человеком», а вскоре после андийского собрания 1847 г. (где объявлен был «низам») получил назначение наибом в Гехи (в Чечне). ♦
Рассказ этот вряд ли может считаться достоверным. Во-первых, из донесений 1843 г. нам известно, что Гаджи Юсуф уже в это время, весной 1843 г., был назначен наибом Малой Чечни1 я, следовательно, появился в Дарго раньше этого года. Из того же документа можно видеть, что приезд Гаджи Юсуфа к Шамилю не мог быть раньше 1839 г. Уже упоминавшийся нами Гаджи Али, ученик Гаджи Юсуфа, указывает на 1840 г. как год его приезда. С другой стороны, тот же Гаджи Али, приписывающий влиянию Гаджи Юсуфа даже учреждение наибств и всячески выставляющий роль этого агента турецкого султана, умалчивает о роли Гаджи Юсуфа в составлении низама, хотя и сообщает некоторые подробности о совещании 1847 г. в Андии. Наконец, уже документы 1843 г. говорят о том, что авторитет Гаджи Юсуфа вряд ли мог стоять очень высоко: «Юсуф Гаджи на этом месте (малочеченского наиба. II. 17.) скорее вреден, чем полезен Шамилю. 3& короткое время, что он управляет наибством Малой Чечни, разного рода несправедливостями и взятками он успел заслужить ненависть чеченцев, и на него уже несколько раз они приносили жалобу Шамилю».2 Все эти данные заставляют нас очень •осюрэжно подходить к вопросу об авторе «низама». Нам кажется чрезвычайно сомнительным, чтобы «низам» исходил от лица, которое играло в имамате роль благодаря своим связям с Турцией. Вероятнее, что документы, вошедшие в «низам», составлены были либо самим Шамилем, либо одним из его ближайших помощников, дагестанских «ученых» мулл, а Гаджи Юсуф к категории последних, насколько нам известно, не принадлежал.3
1 О политическом состоянии Чечни со времен нового управления, введенного Шамилем. Чеч. архивн. фонд, переданный из Центрархива, дело JVS 104, 1842—1843 гг.
2 Ibid.
8 Проф. А. Н. Генко в статье «Арабская карта Чечни эпохи Шамиля» {Записки Института востоковедения Акад. Наук СССР, II, 1933 г., стр. 35), приводя ряд показании о Гаджи Юсуфе, склоняется к тому, чтобы признать показания А мир-хана наиболее авторитетными (особенно в датировке вре-
224
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
Из работ мусульманских историков, пытавшихся дать связную историю мюридизма, мы остановимся в первую очередь на неоднократно упоминавшемся выше ((Сказании очевидца о Шамиле» Гаджи Али Чохского. Общую характеристику этого сочинения мы дали выше. По свидетельству автора, он был «инженером Шамиля, начальником стражи, вел счет его прихода и расхода, числу низама (войска) и иногда исправлял должность казначея и мирзы при нем».1 Уже ЭТО одно позволяло ему быть в курсе- всех важнейших событий в имамате, что и придает особое значение его сочинению. Это последнее начинается с небольшого* предисловия, в котором дана краткая характеристика Дагестана,, после чего идет беглая заметка о порядке избрания дагестанских ханов. Эта последняя введена с тем, чтобы доказать правомерность захвата Аварии царизмом. Далее Гаджи Али посвящает два небольших раздела Гази Мухаммеду и Гамзат-беку. Здесь сообщения настолько сжаты и обобщены, что многого из них историк не извлечет. Подробное изложение событий начинается только с момента избрания Шамиля, и здесь можно найти значительное количество интересных данных. В частности, Гаджи Али посвящает специальный раздел Гаджи Юсуфу, говорит о совещании 1847 г. в Андии и т. д. Особый интерес имеют последние два раздела: «Дети Шамиля и их действия в Дагестане» и «Источники доходов и причина падения Шамиля». В первом из них Гаджи Али не находит слов, чтобы очернить Гази Мухаммеда,, старшего сына Шамиля, признанного его наследником. Характеристика Гази Мухаммеда достаточно интересна, чтобы привести ее: «Он скуп, дурного характера и трус. Народ считал его хорошим человеком, потому что он, как женщина, постоянно улыбался каждому, даже самым большим врагам своим».* 1 2 И, одновременно, сын имама объявляется величайшим притеснителем народа: «Если бы можно было горцев вьючить, как ишаков, и посылать в лес за дровами, то это делал бы Гази Мухаммед». С другой стороны обращает на себя внимание то обстоятельство, что о сопернике Шамиля и Гази Мухаммеда по имамату, об известном наибе Хаджи-Мурате, мы находим очень немного сведе-
меви наибства Гаджи Юсуфа). Указанный нами документ, как нам кажется, решает вопрос достаточно категорически, опорочивая свидетельство Амир- лана и подтверждая рассказ Гаджи Али.
1 Цит. соч., стр. 70.
2 Ibid., стр., 71.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
225
яий, но сведения эти говорят только в его пользу• Даже такой факт, как переход наиба к царизму обойден у Гаджи Али молчанием. Не исключена возможность, что автор ((Сказания очевидца о Шамиле» является представителем партии, враждебной Гази Мухаммеду, той партии аварских беков, которая поддерживала Хаджи-Мурата в его претензиях на имамское звание. Наконец, последний раздел разбираемой работы говорит о доходах Шамиля, давая ряд чрезвычайно ценных данных для общей характеристики имамата.
Иной характер носит повествование Магомета Тагира из Ка- раха. Мы указали на то обстоятельство, что сочинение «Три имама» не проходило через руки царских редакторов и в этом отношении представляет собой редкое исключение. Но однако работа заставляет разочароваться историка, который рассчитывал бы найти здесь обзоры реформ, проведенных Шамилем, описание экономической политики имамата и т. п. Работа Магомета Тагира это только описание чисто внешней истории мюридизма— сражений с «неверными» и поддерживавшими их мусульманами, переполненное анекдотами и совершенно недостоверными преданиями, примеры которых мы приводили уже выше. Нередко Магомет Тагир оговаривается многозначительным «говорят», однако своего мнения он не высказывает, предоставляя читателю самому разбираться в степени достоверности материала.
В этом смысле «Три имама» стоят много ниже «Сказания очевидца о Шамиле», так как Гаджи Али стремится все же определить степень достоверности находящегося в его распоряжении материала. Так, в предисловии к своему сочинению Гаджи Али пишет: «Я пожелал описать вкратце то, что сам видел и с тех пор, как я находился при Шамиле, а также и то, что я слышал от людей достоверных, но не включил сюда народных рассказов и толков, потому что часто они бывают ложны, как я и встречал много книг, наполненных пустыми рассказами, не имеющими никакой основательности».1 Однако нельзя не использовать работу Магомета Тагира как автора, близко стоявшего к делам имамата и сообщающего большое количество фактов, при условии проверки его свидетельств.2
1 Сказание очевидца о Шамиле, вьщ. VII, стр. 4.
2 Цит. соч. стр. 140—142.
Сб.
сведении о кавказских горцах,
Проблемы источниковедения, II
15
226
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
Меньший интерес представляет «Асари Дагестан» Гассана Алкадари,1 работа компилятивная и написанная, невидимому, с широким привлечением русских царских источников. Поэтому а Асари Дагестан» не представляет собой достаточно достоверного и полного источника. Вот один из примеров того, как путает автор события. Речь идет об упоминавшемся уже нами выше Амир-хане, о котором рассказывается, что в 1840 г. он сспоехал от Шамиля-эффенди в Константинополь, повидал там кое-кого из вельмож Турецкой империи и с ним было выслано оттуда в Дагестан много снаряжения, оружия и тканей».1 2 При ближайшем рассмотрении выясняется, что Амир-хан смог добраться лишь до побережья Черного моря и оттуда вернулся обратно, не найдя возможности переехать в Турцию. Об этом свидетельствует как рассказ самого Амир-хана, приведенный в предисловии к сс Низа му Шамиля», так и Магомет Тагир. Сообщение Алкадари оказывается легендой, очевидно позднейшего происхождения, или отголоском тех слухов, которые пущены были в специальных целях Шамилем.
Другой пример путаницы, допускаемой автором, — история казни младшего отпрыска аварского ханского дома, Булач- хана. Алкадари сообщает, что Гамзат-бек, второй имам Чечни и Дагестана, передал Булач-хана «нескольким лицам из своей свиты и отправил оттуда (из-п|)д Хунзаха. Н. П.) в свое селение Гоцатль, где этого мальчика казнили, сбросив в реку Койсу»,3 после чего Гамзат вступил в Хунзах. Стоит хотя мельком просмотреть переписку царского командования в 1834 г., чтобы убедиться в недостоверности сообщения. Булач-хан пережил второго имама и был казнен только Шамилем, опасавшимся, что царизм использует Булача для восстановления ханской власти в Аварии.4
1 Арабский печатный текст вышел в Петербурге в 1312 г. арабск. летосч. (1894—1895). Русский перевод опубликован в Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 46.
2 Цит. соч., стр. 142.
3 Цит. соч., стр. 132.
4 К цитированному месту комментатор делает примечание: «Козубский приписывает (очевидно по ошибке) это деяние Шамилю» (стр. 187). Казалось бы, следовало для установления факта обратиться к документам и, во всяком случае, не решать вопрос по интуиции. Комментатору вушно было просмотреть хотя бы ч. 1 т. XXXII «Кавказского сборника», чтобы не делать такого грубого промаха.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
227
Работа Алкадари все же имеет и свои достоинства. Эт0 своего рода био-библиографическое сочинение. В осАсари Дагестан» историк может найти необходимую ему (хотя часто слишком краткую) справку о том или ином видном деятеле магометанства в Дагестане первых трех четвертей XIX в. Принадлежа сам к верхушке магометанского духовенства, Алкадари хорошо знает всех выдающихся представителей его, хотя бы даже все (сученые» достоинства их ограничивались красивым почерком.
Прежде чем закончить разбор работ магометанских «ученых», остановимся еще на двух сочинениях, которые написаны в мемуарном стиле. Речь идет, во-первых, о работе «Выдержки из записок Абдуррахмана, сына Джемал-Эддинова о пребывании Шамиля в Ведено и о прочем»1 и, во-вторых, о «Воспоминаниях Муталима» Абдуллы Омарова.1 2 Первая из этих работ представляет собой перевод с арабской рукописи, сделанный, как показывают последние исследования акад. Крачковского,3 еще до окончания всей рукописи автором. Части воспоминаний, относящиеся к пребыванию автора в Ведено, имеют неоспоримый интерес, особенно те страницы, где Абдуррахман описывает устройство и деятельность «верховного совета» (диван-хана), говорит о введении нового порядка внутреннего управления, торговых льготах и т. п. Разделы, посвященные описанию жизни Шамиля в плену, значительно менее интересны; цель включения этих отрывков в издание достаточно ясна: буржуазно-помещичьим историкам они были нужны как доказательства дикости горцев. В настоящее время акад. Крачковским опубликована статья, трактующая об окончательном варианте воспоминаний Абдуррахмана, несколько отличающемся от опубликованного в переводе. Между прочим, акад. Крачковский отмечает «свободную манеру перевода» опубликованного варианта, что заставляет историка насторожиться и более критически подходить к данным, сообщаемым «выдержками».
Вторая из упомянутых здесь мемуарных работ, принадлежащая перу муталима (ученика муллы) Омарова, позже переводчика,
1 Изд. в Тифлисе в 1862 г. В том же 1862 г. печ. в газ. «Кавказ» (№№ 72-76).
2 Опубликованы в Сборнике сведений о кавказских горцах, вьщ. I и II.
3 Арабская рукопись воспоминаний о Шамиле, в Записках инст-та востоковедения Акад. Наук СССР, 1933 г., II, 1.
15*
228
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
работавшего вместе с Усларом, затем учителя школы в Кумухе, открытой царским правительством. Омаров близко соприкасается с колонизаторами Кавказа, и, понятно, его воспоминания сильно отдают великодержавничеством. С другой стороны, воспоминания его относятся главным образом к Казикумуху, т. е. к району, почти все время остававшемуся вне границ имамата. Поэтому наибольший интерес во всей работе представляют живо написанные характеристики дагестанского магометанского духовенства, и эту часть ((Воспоминаний)) историк-марксист сможет использовать для своих целей.
Помимо разобранных здесь работ исторического порядка историку мюридизма и имамата придется обращаться к мусульманским работам, трактующим о сущности тариката. Таких работ существует довольно значительное количество, но мы остановимся лишь на некоторых, наиболее видных из них. Основное содержание всех этих работ сводится обычно к богословским рассуждениям и правилам, трактующим об отношениях к шейху или определяющим поведение мюрида вообще. Все известные нам тарикатские наставления имеют, однако, довольно ярко выраженную цель — сделать мюрида послушным орудием в руках шейха. Так, шейх Джемал-эддин Казикумухский заявляет, что мюрид должен «не противиться никогда приказанию шейха, хотя бы он приказал ему броситься в огонь».1
Вторая характерная черта разбираемой группы сочинений — их позиция в отношении царизма. Мы располагаем только работами, изданными с соизволения правительства. Задачей их было доказать возможность использования тариката в интересах колонизаторской политики царизма. Поэтому-то Мугеддин и писал статью об «Истинных и ложных последователях тариката», поэтому редакция «Сборника сведений о кавказских горцах» в предисловии к сочинению Джемал-эддина заявляла: «Это учение почти всегда принималось за непосредственную проповедь о газавате или войне с неверными, и тарикатские мюриды, или ученики, смешивались с шамилевскими мюридами, тогда как в сущности учение о тарикате в задаче своей чуждо политических целей и направлено, собственно, к возвышению чисто религиозного духа своих последователей».1 2 Поэтому же, наконец, известный
1 Адабуль Марзия, Сб. сведений о кавказских горцах, вып. I, стр. 14.
2 Ibid., стр. 2.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА. 229
ориенталист, сын высланного из Дербента хаджи, профессор и член-корреспондент Академии Наук, Казем-бек, хорошо знакомый с мюридизмом, прямо обращает внимание царского правительства на возможности использования мюридизма и тариката. Он указывает на пример распространения мюридизма среди «русских татар». «Но в этом муридизме нет тени злоумышления: он основан на безвредных и даже полезных началах тарыката»; рассказав о живущем в Вятской губернии Ишане-Али, имеющем «маленький кружок муридов», автор с удовлетворением добавляет: «окружное начальство остается им совершенно довольным».1
Рассмотрим подробнее произведение наиболее известного из дагестанских шейхов, одного из первых проповедников мюридизма, Джемал-эддина Казикумухского, «Адабуль Марзия (правила достодолжных приличий)», опубликованное в первом выпуске «Сборника сведений о кавказскях горцах». В молодости своей он был мирзой у казикумухского и кюринского Аслан-хана и «за усердную службу и преданность получил три деревни в Кюринском ханстве». Уже это одно достаточно четко рисует нам классовое лицо Джемал-эддина. Позднее он делается тарикатским шейхом, однако, проповедуя тарикат, он вовсе не вкладывает в него того боевого содержания, которое характерно, например, для проповеди первого имама Гази Мухаммеда. Джемал-эддин не понимает и не хочет понимать тенденций аульской верхушки Дагестана использовать тарикат как средство для того, чтобы возглавить развертывающееся широкое крестьянское движение против местных феодалов и российских крепостников-колони- заторов; для этого Джемал-эддин слишком тесно связан с крупными феодальными кругами Дагестана. Вот почему в предисловии, написанном к «Адабуль Марзия» сыном шейха Абдуррахманом, мы находим такое место: «В начале имамства Казн Магомеда отец мой не соглашался с последним в его действиях против русских и возмущении дегестанского населения».1 2 И это правильно. Один документ, датированный еще 1843 г., сообщает, что Джемал-эддин «не вмешивался в перевороты, произведенные мюридизмом. Он не предвидел их, никогда не одобрял борьбы, в которую последователи его вступали с русскими, порицал
1 Муридизм и Шамиль, аРусское Слово», 1859 г., JV* 12, стр. 203.
2 Адабуль Марзия, Сб. сведений о кавказских горцах, вып. I, стр. 6.
230
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
напрасное кровопролитие и старается и теперь остановить оное».1 Этот отзыв о тарикатском шейхе вызвал переписку между командующим Отдельным Кавказским корпусом и военным министром. Последний сообщал, что «его величеству угодно, чтобы г.-а. Нейдгард изыскал какое-либо средство войти в непосредственные с ним (Джемал-эддином. Н. П.) сношения..,»? с целью «стараться склонить Джемала содействовать с его стороны к водворению спокойствия в Дагестане и к прекращению мятежных действий». ^
Все сказанное в достаточной мере характеризует и взгляды и политическую линию Джемал-эддина. Поэтому, разумеется, в «Адабуль Марзия», изданной к тому же уже после завоевания, мы не найдем призывов к борьбе, не найдем ничего, что напоминало бы нам о программе мюридизма тридцатых-сороковых годов. В этом смысле было бы гораздо интереснее сочинение первого имама Гази Мухаммеда, упоминания о котором встречаются у Гассана Алкадари и у Магомета Тагира из Караха, но его мы не имеем, и сохранилось ли оно вообще — неизвестно.
Содержание «Адабуль Марзия» сводится к изложению основных начал тариката, характеристику которых мы уже давали. Но помимо большого количества правил и указаний, сочинение содержит в себе перечень всех шейхов накшубандийского тариката, что между прочим позволяет проверить часто повторяемую версию о перенесении тариката из Бухары в Дагестан шейхом Хас Магометом. Список Джемал-эддина называет Хас Магомета ширванским и тем окончательно подтверждает то обстоятельство, что в Дагестан мюридизм пришел из Ширвана. Помимо основных пяти глав и заключения в «Адабуль Марзия» мы находим редакционное предисловие, предисловие переписчика (Абдуррах- мана) и послесловие от переписчика. О значении первых двух дополнений мы уже говорили выше, переписчик же сообщает, между прочим, что рукопись Джемал-эддина еще до передачи в редакцию подверглась сокращению. Этот момент также должен быть учтен исследователем.
Мугеддин Магомет Ханов, по сравнению с Джемал-эддином не более как ученик. Кое-какие биографические подробности о нем сообщает Абдулла Омаров в предисловии в публикации сочинения
1 а Показание прапорщика князя Орбельяни, находившегося в 1842 году в плену у Шамиля». Чеч. арх. фонд, перед. Центрархивом, дело № 145.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
231
Мугеддина «Истинные и ложные последователи тариката». Мугед- дин не представляет собой значительной политической фигуры, рто ясно уже из его.биографии, но все же он принимал участие в волнениях в 1868 г. в Закатальском округе и был арестован царским правительством. Понятно, что о боевой мюридистской проповеди его статья говорит не больше, чем «Адабуль Марзия». И действительно, содержание обоих тарикатских руководств расходится между собой очень незначительно, и статья Мугеддина скорее дополняет работу Джемал-эддина. В некоторых отношениях рядовой последователь тариката оказывается более болтлив, чем его шейх, и в главе «об истинных мюридах» и отчасти «о первоначальных внушениях шейха своему новому мюриду» звучат такие мотивы, каких нет у Джемал-эддина, мотивы равенства: «чтобы самый сильнейший вельможа и самый несчастный сирота казались ему одинаковыми».1 Но эго только далекие отголоски той проповеди, с которой выступил когда-то мюридизм, стремясь овладеть крестьянским национально-освободительным движением, направленным не только против крепостников-колонизаторов, но и против местных феодалов. Из этого не следует, что раньше равенство провозглашалось полным голосом. Вернее, осторожные, недостаточно членораздельные разговоры о равенстве всех мусульман во времена первого имама служили лишь приманкой, позволившей руководителям мюридизма, аульской верхушке, стать во главе крестьянства. Далее, в работе Мугеддина заслуживает внимания тот факт, что, распространяясь об «истинных» мюридах, т. е. мюридах, безопасных для царизма, о «ложных» он почти ничего не сказал, ограничившись несколькими анекдотами, рисующими обычные шарлатанские приемы, практикуемые духовенством, вообще, и мусульманским, в частности. Между тем, по самому смыслу задания, полученного Мугеддином, можно предполагать, чго под «ложными» проповедниками нужно было понимать шейхов, «злоумышлявших» против царизма. Мугеддин уклонился от выполнения задания, и мы лишены возможности использовать его работы для установления точек соприкосновения и расхождения между двумя типами тарикатской проповеди.
Наконец, чтобы закончить обзор этой группы работ мусульманских «ученых», упомянем о полемическом сочинении Сулей¬
1 Муридизм и Шамиль, «Русское Слово», 1859 г., № 12, стр. 6.
232
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
мана-эффенди — ((Описание поступков Шамиля против мусульманского шариата, которые были замечены Сулейман-эффендием во время его нахождения при нем». Смысл и направленность этой небольшой статьи ясны уже из заглавия. Сулейман пытается опорочить действия Шамиля, исходя из шариатских постановлений. Приведем лишь один пример аргументации автора: ((Имам, говорит Сулейман-эффенди, сопровождая действия свои силою оружия и предпринимая военные действия, нарушает тем самым главное условие тариката».1 В том же духе написана вся статья. Она интересна для историка лишь как одна из попыток агитации, которые предпринимались царским командованием для противовеса мюридистской проповеди. Вряд ли нужно добавлять, что попытки эти не имели никакого успеха.
В заключение остановимся на группе печатных работ, не являющихся уже источниками, но в силу ряда условий используемых историком. Речь идет о сводных статьях и книгах, написанных на основании архивов. Сводные работы царского времени отражают те же точки зрения, что и публикации документов и сообщения наблюдателей из состава царской разведки, они также наполнены подробностями чисто-военного характера, редко останавливаются на вопросах внутренней истории имамата и целиком проникнуты великодержав^ической идеологией. Достаточно привести две выдержки из( наиболее значительных работ этого типа, чтобы сказанное стало достаточно ясным. Первая из выдержек взята из известной статьи Окольничего ((Перечень последних военных событий в Дагестане (1843 г.)», напечатанной в ((Военном сборнике».1 2 Вот какую оценку дает горцам этот царский офицер: «В горах до сих пор господствует первобытная дикость, а если там и встречается кое-какая гражданственность, то ею мы обязаны магометанской религии, научившей горные общества жить и управляться хоть несколько по ((человечески».3 Окольничему вторит и Волконский, один из соавторов большой работы «Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 год в связи с мюридизмом», публиковавшейся в «Кавказском сборнике».4 К мюридизму он относится, как к «вредному
1 Сб. газ. «Кавказ» за 1847 г., перв. полуг., стр. 33—34.
2 «Военный сборник», 1859 г.
3 Ibid., 1859 г., № 1, стр. 112.
4 «Кавказский сборник», т. X—XX; статья принадлежит Волконскому, Фон-Климану и Кублицкому.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИМАМАТА
233
для нас1 стремлению горцев, порожденному их религиозны51 возбуждением и направленному к нарушению нашего спокойствия и политических прав».1 2 А грабительскую колониальную политику царизма аттестует как борьбу «за порядок, подчинение ему дикой свободы».3 Тот же тон выдерживают и авторы бесчисленного количества и других статей.
Иногда, однако, некоторые из этих великодержавных историков выбалтывают то, что держалось царизмом под запретом; такие места особенно интересны для историка, так как они позволяют ориентироваться в содержании некоторых неизданных документов. Так, например, А. Юров, один из авторов статьи «1848, 1841 и 1842 гг. на Кавказе»,4 говоря о чеченском восстании 1840 г., неожиданно прибавляет: «Впрочем достигнутых в данном случав результатов нельзя приписывать исключительно имаму, несмотря на его бесспорно недюжинные способности; мы сами посодействовали Шамилю, как только могли бы это сделать истинные его друзья». Речь идет здесь о гомерпческих размерах, которые приняло колониальное ограбление горцев (автор замазывает сущность колониальной политики царизма, обвиняя в злоупотреблениях низшую администрацию) в те времена, когда на Кавказской линии командовал Граббе и на левом фланге Пулло. Разумеется, документы, на оснований которых делались подобные выводы, не могли увидеть света при царизме.
На ряду с высказываниями такого типа мы нередко можем найти в статьях военных писателей случайные замечания о внутренней истории имамата. В большинстве случаев автор не оговаривает при этом источника своих сведений, но чаще всего такими источниками оказываются архивные материалы, сводки сведений, приносившихся лазутчиками. Приведем пример. В статье Юрова «1843 г. на Кавказе» имеется такое место: «Шамиль образовывал в описываемое время5 денежную кассу, которой он дал название — казна шариата. Для этой цели он обложил податью некоторые общества, как, например, Андию и Гумбет, кои платили по рублю серебром с дыма. Другие общества были беднее, а потому, не облагая их податью, он обратил только земли, при¬
1 Т. е. для царизма.
2 «Кавказский сборник», т. X, стр. 1.
3 Ibid., стр. 2.
4 «Кавказский сборник», тт. X—XIV. Ст. принадлежит Юрову и Н. В.
5 В 1843 г.
234
Н. И. ПОКРОВСКИЙ
надлежавшие мечетям, в казну шариата...»1 Это место почти целиком заимствовано из рапорта командующего войсками в Северном и Нагорном Дагестане Клюки фон-Клугенау командующему Отдельным Кавказским корпусом от 22 марта 1849 г., № 39,1 2 изменено немного лишь первое предложение. При ограниченном количестве опубликованных документов по внутренней истории имамата статьи военных писателей могут оказать историку немаловажную помощь в разыскивании материала.
Источниками работы Окольничего, кроме литературных, послужили официальные сведения из архивов Штаба Кавказской армии и войск "Прикаспийского края; ((Описание военных действий в Северном Дагестане в 1839 г.» Милютина; арабские рукописи (переводы): «Летопись о Дагестанских народах» Адагум-Кадия, «Жизнеописание Шамиля»; устные сведения от Мсал-Магомы (родственника и ученика Гази-Мухаммеда), Гайдар-бека (сподвижника Хаджи-Мурата) и др.3 При ближайшем рассмотрении оказывается, что Окольничий и не пытался подходить к своим источникам критически. Более того, он искажает и путает их показания. Возьмем, например, из его статьи краткое описание возникновения мюридизма в Дагестане. Окольничий здесь использовал работу Прушановского, о которой говорилось выше, позаимствовав ее, повидимому, у Неверовского. И вот какой вид приняла цитата: «Бухарец Хаз-Магомет, воспитывающийся у главного кюринского кадия Муллы Магомета, вздумал посетить родину и, вернувшись оттуда, передал своему учителю идеи мюридизма, уже с незапамятных времен усвоенные бухарскими учеными».4 Все оговорки Прушановского, глухо намекавшие на ширванский мюридизм, у Окольничего исчезли. Мюридизм оказался целиком и полностью «импортированным» из Бухары. О том, как это вяжется с общей великодержавнической концепцией, мы уже говорили выше. Этот пример показывает, что при использовании разбираемой категории работ необходимы большая осторожность и проверка приводимых ими данных всеми доступными историку средствами.
1 «Кавказский сборник», т. VI, стр. 46.
2 Чеченский архив, фонд, переданный из Центрархива, дело № 104.
3 «Военный сборник», 1859 г., № 2, стр. 337, примеч.
* «Военный сборник», 1859 г., JV* 2, стр. 346.
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(О НОВОМ ИЗДАНИИ ДОКУМЕНТОВ)
I
Научная разработка истории Рейнских земель представляет один из наиболее своеобразных и вместе с тем актуальных участков западноевропейской историографии. История Рейна с древнейших времен переплетается с крупнейшими событиями европейской истории и не может не привлекать к себе внимания исследователей. Перед последними открывается весьма многообразная сумма всякого рода научных проблем, охватывающих собою и экономику, и острейшие проявления классовой борьбы, и так называемую политическую историю и, в особенности, международные отношения. Разумеется, интерес буржуазной исторической мысли к «рейнским проблемам» никогда не был интересом чисто академическим; наоборот, разработка проблем «Rheinland’a» теснейшим образом была связана с злободневными политическими задачами, и это легко показать на каждом крупном этапе научной разработки рейнской истории, начиная хотя бы со времен франкопрусской войны и объединения Германии и кончая нашими днями. Многовековая борьба за Рейн определяла собою не только научный интерес немецкой и французской историографии, но и. самую тематику и основные линии изучения истории Рейнской области. Из всей суммы многообразных рейнских проблем, одна всегда стояла в центре внимания историков Германии и Франции и покрывала собою все остальные. Необходимо было исторически обосновать притязания на ту или другую прирейнскую территорию. А так как бассейн Рейна представляет совокупность многочисленных отдельных территорий, из которых каждая имеет свою особую историю, то это неизбежно порождало запутанные научные контраверзы и заводило буржуазную историческую науку
236
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
в тупик. Становится совершенно понятно, почему, несмотря на неослабевающий интерес к Рейну со стороны буржуазной историографии, несмотря на довольно многочисленную литературу по истории, географии и культуре рейнских земель, подлинная история «Rhcinland’a» по существу еще не написана. Правда, мы имеем целые исследования как по отдельным периодам рейнской истории, так и по отдельным частным вопросам, но они до сих пор не давали надежной базы для широких построений, для обобщающих работ. В этом отношении чрезвычайно показательна научная продукция по истории Рейна последних пятнадцати лет, когда интерес к Рейнской области сильно поднялся в связи с Версальским договором, а также с празднованием 1000-летия существования рейнских земель в составе Германской империи. Страницы исторических журналов запестрели статьями юбилейного характера, многие прирейнские университеты отметили знаменательную дату актовыми речами, появился ряд публикаций и по общей истории Рейна. Юбилейная дата неизбежно переплеталась с вопросом о французской оккупации, что в свою очередь выдвигало на первый план специфические проблемы, в особенности, конечно, вопрос об Эльзас-Лотарингии. Но вся эта довольно значительная публикация в подавляющем своем большинстве представляет интерес лишь с точки зрения уяснения и характеристики современного положения «рейнской проблемы». Для исторического и подлинно-научного раскрытия этой вековечной проблемы она дает сравнительно немного.1
1 В мою задачу не входит характеристика и оценка этих публикаций. Ограничусь только ссылкой на некоторые издания. Единственная попытка общего обзора истории Рейнской области сделана была в 1922 г. — это «Gescliichte dee Rheinlandes von der altesten Zeit bis zur Gegenwart». Von Aubin, Fringe, Hansen, Haskagen, Eoepp, Kuske, Levison, Platzhoff, Renard. Hrsg. v. d. Gesellschaft fur Rkeinische Geschichtskunde. Essen, 1922, Bd. I. Politische Gescliichte, Bd. II Kulturgeschichte. Статьи этой коллективной истории написаны виднейшими специалистами и для широкой публики представляют известную ценность. Stalin, Karl. Gescliichte Elsas - Lothrin- gen. Mlinchen - Berlin, 1920. (Vom Mittelalter bis zum Weltkrieg). Wentzeke, Der deutschen Einheit Schicksalsland. Elsass - Lothringen und das Reich im 19 u. 20 Jahrh. Mlinchen, 1921. Stegemann. Der Kampf urn den Rhein, 1924. Hansen, Preussen und Rheinland, 1924. Onken, Die historische Rheinpolitik, 1923/24. Из французских работ (и с французской же ориентацией) — см. Julien Rovere, Les survivances frangaises dans l’Allemagne Napoleo- nienne depuis 1815 a 1914. Paris, 1918. Robert Michels. Etudes sur les Relations historiques entre la France et les pays du Rhein. Revue hist., 1922, III—V.
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 237
Для советской историографии имеется и особый побудительный мотив вплотную заняться вопросами рейнской истории, поскольку они теснейшим образом связаны с международным рабочим движением XIX в., с деятельностью Маркса и Энгельса, с революцией 1848 г. Мы многого не поймем из событий германской революции 1848 г., если не уделим должного внимания громадной роли именно прирейнского района в ходе событий, с его экономикой, классовыми группировками, сложными историческими наслоениями. А можем ли мы похвалиться достаточными знаниями в этой области? Быть может, лучше всего нам известна по некоторым капитальным трудам буржуазной историографии более ранняя история Рейна, примерно до XV в., а дальше идет уже зияющий пробел вплоть до эпохи Французской революции, которая отчасти представлена в научной литературе.
XIX в. изучен уже гораздо хуже, несмотря на количественный рост литературы по истории Рейнских земель. Но существо вопроса в конечном итоге сводится к тому, насколько мы обеспечены источниками для того, чтобы изучение рейнских исторических проблем поставить систематически.
Опубликование документального материала по истории Рейна началось в Германии уже довольно давно. Эт0> прежде всего, публикации специальных научных обществ, возникавших и спорадически существовавших на протяжении всего XIX в. и вплоть до наших дней.1
Все такого рода предприятия не выходили в большинстве случаев за пределы краеведческого изучения Рейна, с уклоном в сторону выявления памятников искусства или же документов феодальной эпохи. Научное познание истории рейнских земель с давних времен децентрализовано, разбросано по отдельным провинциальным уголкам, и тому, кто захотел бы заняться проблемами рейнской истории, предстояло бы выявить материал, уже# опубликованный и затерявшийся в местных изданиях. Но и архивный материал, еще ждущий своего выявления, точно так же
1 Напр., «Annalen des historisclien Yereins fur den Niederrhein». Koln,. 1855—1929. Hefte 1—114. «Arcliiv fur die Gescliichte d. Niederrlieins». Koln, 1831—1875, Bde I—VII. «Beitrage zur Geschichte des Niederrlieins».DUsseldorf, 1889—1902. «Rlieinische Geschichtsblatter». Bonn, 1895—1914. Bde 1—X. Перечень далеко не исчерпывающий. Сюда же следует отнести и многочисленные краеведческие общества по отдельным рейнским провинциям и городам.
238
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
разбросан по отдельным рейнским городам. Зт0 обстоятельство сказывается и на том, что научная монографическая разработка не идет дальше изучения отдельных частных проблем и вопросов, не имея перед собой охвата целого и достаточно широкой исторической перспективы.1
Единственное исключение составляет научно-издательская деятельность «Gesellsrhaftfur rheinische Geschichtskunde» в Бонне, сумевшего опубликовать свыше 40 томов преимущественно источников по исгории прирейнских земель. Вокруг ЭТОГО общества объединились лучшие научные силы, развернувшие изучение рейнской истории по весьма широкой программе. Опубликование целой серии документов шло по различным направлениям, по хозяйственной истории прирейнских городов, истории правовых институтов, внутренней истории рейнских территорий, политическому движению.1 2 В данном случае мы имеем дело с попыткой
1 В этом отношении лучше всего дело обстоит в крупных университетских центрах как Кельн, Бонн. Укажем хотя бы на серию монографии, выпускаемых под общим заглавием: «Studien zur rheinisclien Geschichte», hrsg. у. A. Aim или «Кбіпег Studien zum Staats und Wirtschaftsleben» (под общим руководством Bruno Kuske).
2 Из многочисленных изданий этого общества укажем здесь наиболее важные, а в первую очередь — ценнейшую работу библиографического характера — «Bucherkunde zur Geschichte der Rheinlande», hrsg. y. Max Bar. Bd. I: Aufsatze in Zeitschriften und Sammehvei*ken bis 1915. 1920, LXh-716 S. Недавно была завершена многолетняя работа над изданием исторического атласа «Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz», hearh. von K. Schulteis, W. Fabricius und H. Forst в 10 тт. Bonn, 1895—1930.
На ряду с этим монументальным издан :ем в том же Бонне по поручению: « nstitut fur geschichtliche Landeskunde der Rheinlande» был издан для школьного употребления «Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz», hrsg. v. H Auhin, при участии многочисленных специалистов, 1926 г. Из публикаций документального характера отметим: «Quellen zur Rechts u. Wirtschaftsgeschichte der Rhein. Stadte», многотомное издание, распадающееся на серии по отдельным провинциям, «Quellenkunde zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien»—точно так же распадается на серии и томы. Большой интерес представляют и заслуживают особого рассмотрения «Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der polititshen Bewegung 1830— 1850». gesarnm. u. hrzg. v. S. Hansen. Bd. I, 1830-1845,1919, XVI, 944 S.
Наконец, издание источников по истории реннской области в эпоху Французской революции, которому и посвящена настоящая статья. Точное заглавие издания—«Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der franzosischen Revolution» 1780—1801, gesammelt und herausgegeben von Joseph Hansen. I Band (1780 — 1791), Bonn, 1931, LII-t-1095 S., II Band (1792— 1793) Mit den Register zu Band I u. II, 1933, 9І-НІ022 S.
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 239
централизовать издание архивных материалов, рассеянных по отдельным городам и провинциям, что уже само по себе дает возможность постановки больших исторических проблем. К числу таких проблем относится и история рейнской области в эпоху Великой Французской революции. Недавно вышедшие два тома изданий общества как раз посвящены этому вопросу.1 Постараемся на разборе именно этой коллекции документов, касающихся актуальнейшей исторической проблемы, показать, что она дает для изучения крупного, поворотного этапа в истории рейнской области, этапа, непосредственно предшествующего европей- ским революциям середины XIX в.
II
Побудительный мотив к опубликованию источников по рейнскому вопросу эпохи Французской революции для послевоенной и особенно фашизированной Германии не требует объяснений, и его не скрывает и сам издатель Ганзен, сумевший за сравнительно короткий период опубликовать два увесистых тома. Он прямо заявляет в первых же строках своего предисловия, что данное собрание документов отвечает назревшей потребности научного изучения вопросов, которые стали особенно актуальными в связи с последствиями мировой войны. В предисловии ко второму тому он подчеркивает, что новейшие французские работы по рейнской проблеме (Саньяка, Функ-Брентано, Бабелоне, Ровера) дают фальшивую картину отношений этой эпохи, — и единственное средство разоблачить фальсификации и искажения — Это возможно полнее и многообразнее выявить документальный материал, который б; дет сам за себя говорить. По этой же причине и объем издания по мере опубликования отдельных томов неизбежно стал увеличиваться. Издатель поставил своей задачей — охватить период с 1780 по 1801 г., т. е. до Люневильского мира, когда левый берег Рейна отошел к Франции. Предполагалось вместить весь материал в три тома (I—1780—1791; II—1792— 1797; III—1798—1801) с дополнительным четвертым томом, где намечено дать подробный указатель ко всему собранию.
Однако вышедший в 1933 г. II том охватил только два года (1792—1793),1 чрезвычайно важных, по мнению издателя, для
1 При этом к вышедшим двум томам уже даны в конце Птома подробные указатели (именной, географический и предметный).
240
Л. Е. КУДРЯВЦЕВ
восстановления подлинной картины первой французской оккупации левого берега Рейна. Несмотря, однако, на такое расширение рамок издания, есть основание предполагать, что завершение его не заставит себя долго ждать и с ним не случится того, что случилось с опубликованием тем же издателем документов, касающихся политического движения на Рейне с 1830 по 1850 гг.1
Материал вышедших двух томов собран из государственных, городских, университетских архивов и библиотек Берлина, Рены, Парижа и важнейших прирейнских городов — в особенности Кельна, Майнца, Трира, Ахена, Бонна, Кобленца. По содержанию он распадается на две основные группы: 1) документы официальные— всякого рода правительственные акты и переписка различных представителей и резидентов при отдельных территориальных государствах и 2) более разнообразные по своему типу документы, характеризующие настроение общества; сюда относятся: газеты, воззвания, отрывки из городских хроник, письма, стихотворения. В основу расположения материала взята хронологическая канва событий независимо от типа документов. Издание снабжено детальным аппаратом примечаний и комментариев, в которых приводятся расхождения в описаниях событий, взятые из различных органов прирейнской и парижской печати (преимущественно, впрочем, из «Monjjteur»), даются подробные библиографические указания по каждому отдельному вопросу, делаются исторические экскурсы и т. д. Кроме того, каждому тому предпослана характеристика основных групп документов, а во втором томе имеется и обзор событий, нашедших отражение в документах.1 2 Наконец, как уже отмечено было выше, к обоим томам даны подробные указатели. Не лишним было бы в конце такого громоздкого издания дать и библиографический указатель.
Из двух основных групп опубликованного материала вторая группа представляет, конечно, наибольший интерес, так как она
1 Название приведено выше. Первый том появился в 1919 г. Трудно рассчитывать на дальнейшее продвижение этого крайне важного для нас издания в условиях фашистской Германии.
2 Вводные статьи даны к каждому тому в отдельности, а общую характеристику всей намеченной публикации (по ее основному содержанию) издатель Ганзен дал еще раньше в особой статье: «Das linke Rheinu- fer und die franzosische Revolution 1789—1801» в «Mitteilungen der Deutschen Akademie», № 12, 1927, S. 421—455.
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 241
многообразнее и ярче отображает действительность. Мало того, она и с точки зрения проблем источниковедения имеет для нас большое значение. В частности это касается рейнской прессы, развитие которой тесным образом связано с событиями Французской революции. Газета и вообще повременная печать до сих пор мало используются в исторических исследованиях как источник. В таких хорошо разработанных областях, как история Великой Французской революции, мы имеем такие солидные работы (если не упоминать о более старой работе Gallois, Histoire des journaux et des journalistes de la revolution francaise 1789—1796—1845), как многотомная история французской прессы Гатена и ему же принадлежащая «Историческая и критическая библиография французской периодической печати», а также специальное исследование Кунова о французской печати эпохи революции, но даже и здесь приходится говорить о недостаточном внимании исследователей к этому своебразному, но чрезвычайно ценному источнику. История рейнской прессы еще ждет своего исследователя, а между тем она представляет собой громадный интерес с различных точек зрения и особенно в рассматриваемый нами период. Поэтому включение газетного материала в Ганзеновскую коллекцию оказывается вполне целесообразным, тем более, что издатель не ограничивается просто перепечаткой извлечений, но сопровождает их детальными экскурсами, имеющими самостоятельное значение. Не забудем, что периодическая печать не только исторический источник, но и всегда исторический факт большой социальной и политической значимости. В таком именно аспекте следует подходить и к прирейнской периодике.
До начала Французской революции рейнская печать не стояла на особенно высоком уровне, хотя уже служила до известной степени проводником просветительных идей, так наз. «Aufkla- rung». Но давние экономические, политические и культурные связи с более передовым Западом были причиной того, что революция 1789 г. нашла быстрое и многообразное отображение в общественных кругах рейнских провинций и городов и дала толчек к появлению здесь многочисленных органов печати. Ганзен дает довольно полный перечень рейнской прессы, но ему пришлось столкнуться с одним серьезным затруднением: отсутствием систематических коллекций газет в немецких архивах и книгохранилищах. Газета в этом отношении разделяет судьбу памфлетной лите-
Проблемы источниковедения. П 16
242
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
ратуры; она подвержена такому же бесследному исчезновению и так же плохо сохраняется, особенно в бурные революционные ЭПОХИ. Поэтому возможно более полное выявление рейнской периодики само по себе имеет большое значение. Некоторые из рейнских органов печати заслуживают того, чтобы на них немного остановиться. Любопытно, что пресса такого крупного центра на Рейне, как Кельн, несмотря на количественный перевес, носила преимущественно информационный характер, не выделяясь особенно ярко по своей политической окраске. Гораздо интереснее два органа печати, выходившие в Бонне—«Bonnische Intelligenzblatt» и «Gazette de Bonn». Обе газеты были хорошо осведомлены, располагали собственными корреспондентами в Париже и я целом сочувственно относились к событиям во Франции и актам Национального собрания, давая подробные сообщения о них, как и о событиях революции. Еще более интересна газета, выходившая в Аахене под редакцией одного из видных поклонников Французской революции Франца Дауценберга—«Politische Merkur fur die Niederen Reihnslande»,существовавшая с 1 апреля 1790 no 26 марта 1791 г., когда она была запрещена цензурой; непосредственным продолжением этого органа был «Aachener Zuschauer», просуществовавший с 1 июня 1791 г. по 1799 г., но тоже находившийся под цензурным гнетом. Руководитель ртих газет, Франц Дауцен- берг, — одна из интересных фигур на Рейне: уже его отец, по профессии золотых дел мастер, принадлежал в Аахене к «новой партии» и за свои политические взгляды подвергся тюремному заключению (в 1787—89 гг.). Франц Дауценберг был членом масонской организации, находился под сильным влиянием идей Монтескье и Руссо одновременно; в узких рамках родного города Аахена он мыслил себя республиканцем и демократом,1 но в от-
1 В издании Ганзена напечатано полностью наиболее раннее политическое произведение Дауценберга — «Meine Gedanken uber die in imserer Vaterstadt vorzunekmende Verbesserung, vermittelst Abschaffung wurklicher Misbrauche insbesondere und Befestigung unserer demokratischen Verfassung im ganzen Umgange». Oct. 1788—«Quellen zug Geschichte des Rkeinlandes...» Bd. I, № Ul, S. 313—322.
Появление этого трактата находится в связи с борьбой «новой» и «старой» партии из-за политического устройства старинного имперского города Аахена. Этот любопытный эпизод освещен и в данном собрании (см. в частности Bd. I, S. 110—112), а также в спецпаїьной работе G. Heusch, Die Aachener Verfassungskampfe von 1786—1792, Koln, 1927.
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ в ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 243
ношении Франции он считал наиболее подходящей конституцию 1791 г. Его обе газеты заметно выделялись среди рейнской прессы по богатству своей информации, идейной содержательности, более широкому кругозору. В течение первых двух лет революции Дауценберг был последовательным ее защитником, но революция 10 августа 1792 г. и последующие события вызвали перелом в его настроениях, и он уже не скрывает своего резво отрицательного отношения к якобинцам и санкюлотизму (такой поворот был тогда общим для всей рейнской прессы), оставаясь, однако, на почве умеренного либерализма. В собрании Ганзена приведен ряд интересных статей, обзоров и корреспонденций из «Aachener Zuschauer)) полностью и довольно большое количество отрывков с изложением фактического хода событий.1 Но сравнительно с другими органами рейнской печати издатель все же скуп на цитаты из этой газеты, которая, по его лее словам, завоевала определенное положение даже среди заграничной прессы и выгодно отличалась своей объективностью даже в таких случаях, когда руководитель органа не сочувствовал сообщенным событиям. На основании материала, приведенного из «Aachener * 2і Наибольший интерес представляют следующие статьи, принадлежащие перу самого редактора: 1) Uebersicht liber die politische Weltlage und den Stand der Geisteskultur» от 1 anp. 1790 r. («Quellen zur Gescli. Rh... Bd. I, J4I *259, S. 582—587). Этот обзор помещен в первом номере «Politische Merkur fiir die niederen Reihnslande». Обзор дается по всем странам не только Европы, но и других частей света (Ганзен приводит только часть этого обзора). Имеется раздел, посвященный литературе, но очень суммарный.
2) Новогодняя статья в № 1 «Aachener Zuschauer» за 1792 г.—«Ueber den Geist unserer Zeit» (Quellen... Bd. II, №1, S. 3 — 7». В центре внимания автора—«fast all sememe gewordene Drang zu einer neuen Existenz». В приподнятом тоне он характеризует небывалый переворот во Франции, превративший ее в единую суверенную нацию, распространивший «die Fakel des Aufruhrs» в большей части Европы и готовый разлиться по всему миру. Это грозное предостережение для всех правителей. Автор еще полон надежды, что в борьбе двух великих партий, из которых одна поддерживает просвещение, а другая «испорченность», победит первая, п переход к новой Эпохе осуществится, минуя те опасности, какие несет с собой «пламя восстания». 3) Статья из № 135 от 21 ноября 1793 г. — «Das Fest der Yernunft am 10 Nov.» (Quellen.. Bd. II, № 399, S. 926 — 929), подробное описание «Культа Разума» с резкими выпадами по адресу якобинцев, особенно же Шомета. Эти три статьи состав іяют три этапа в эволюции взглядов Дауцек- Ьерга. О нем см. специальную работу W. Hermanns, Р. S. Frans Dautzenberg und sein Aachener Zuschauer (Politische Merkur) 1790—1798 в «Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins», № 52 за 1931 г.
16*
244
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
Zuschauer» в обоих томах, позиция Дауценберга во время якобинской диктатуры все же остается не совсем ясной.1
Однако, в истории периодической печати на Рейне из всех прирейнских городов руководящее место несомненно занимает Майнц. Пышный расцвет революционной периодики в Майнце тесным образом был связан с деятельностью выдающихся майнцских «клубистов», обосновавшихся здесь с момента оккупации города французскими войсками. Среди них достаточно указать на Форстера, Меттерниха, Ведекинда, Гартмана, Мета ^ и др. ((Майнцская революция» вызвала полный переворот и в прессе.2 Начиная с 23 октября 1792 г. (с момента французской оккупации) в Майнце стали появляться один орган за другим: «Mainzer Na- tionalzeitung» под ред. G. W. Bohmer (1 ноября 1792 —17 апр. 1793), «Burgcrfreund»—под ред. Меттерниха (26 окт. 1792— 17 апр. 1793), «Neuer Mainzer Zeitung oder Volksfreund»—под ред. Форстера (1 янв. — 26 мая 1793), «Mainzer Intelligenzblatt» (3 ноября 1792 — 25 июля 1793), «Patriot» под ред. Ведекинда (14 ноября 1792—15 февр. 1793),1 2 3 «Der frankische Republikaner» под ред. Hartmann и Meuth (с 16 ноября 1792 по 15 дек. 1793), наконец — еженедельник «Der Kosmopolitischer Beobachter» (с 1 янв. по 21 марта 1793 г.).4
Разумеется, с уходом французов іпрекратила свое существование и революционная пресса, но і этот короткий расцвет составляет интересную страницу не только в истории майнцской революции, но и в истории революции на всем Рейне. Тем более приходится удивляться, что издатель Ганзен в использовании революционной прессы Майнца особенно скуп и сдержан. Он не дает характеристики отдельных органов печати и лишь в немногих случаях приводит в своем собрании материал майнцских газет и еженедельников. Правда, история майнцской революции
1 Quellen zur Geschichte des Rheinlandes etc.... Bd. II, Einleitung, S. 11—13.
2 История майнцской прессы изложена в специальной работе Н. Rotli, Die Mainzer Presse von der Mainzer Revolution 1792 bis zum Ende derzweiten franzosisclien Herrscliaft 1814. 1930.
3 По словам Ганзена, в этом органе помещались многочисленные речи вождей майнцской революции, см. Quellen... Bd. II, Einleitung, S. 17—18.
4 В рейнской прессе того времени была помещена информация о предстоящем выходе в свет еще одного органа под заглавием «Das rote Blatt».
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 245
нашла отображение в документах II тома,1 но Ганзен отдает явное предпочтение источникам, исходящим из контрреволюционного лагеря: в большинстве случаев это официальные донесения различных немецких властей или же корреспонденции консервативных органов печати. Ярко выраженная французская ориентация майнцских «клубистов» не вызывает симпатий у издателя, и в подборе материала (равно как и в примечаниях) сквозит стремление подчеркнуть, что во всей майнцской революции слишком заметна направляющая роль конвента и его агентов. Совершенно не использована издателем памфлетная литература майнцских революционеров, на которую только в единичных случаях делаются ссылки. Было бы чрезвычайно важно произвести точный учет этой ценнейшей категории первоисточников.2
Особое положение среди центров «просветительного» движения на Рейне занимал тогда г. Нейвид (Neuwied), составлявший вместе с тем и территорию одного из бесчисленных немецких княжеств, глава которого проводил политику веротерпимости и покровительства просветительным идеям. Во второй половине ХУШ в., особенно же с 80-х годов, Нейвид становится крупным центром масонства и иллюминатства. Французская революция раньше всего отозвалась именно в этом крошечном княжестве: уже в октябре в Нейвиде было предпринято издание важнейших революционных актов и сообщений о ходе событий во Франции.3 Неудивительно поэтому, что именно здесь появились наиболее богатые по содержанию органы периодической печати; из них в первую очередь следует указать на издания виднейшего рейнского публициста Морица Флавия Тренк-фон-Тондер, который с 1 янв. 1786 г. стал издавать «Politische Gesprache der Toten». Редактор ставил своей задачей не только информацию, но и политическую пропаганду, причем обращал большое внимание на
1 Об открытии якобинского клуба в Майнце Ганзен приводит корреспонденцию из «Aachener Zuschauer» и сопровождает ее обширной фактической справкой о деятельности майнцских «клубистов». Quellen... Bd. II, S. 530—542.
2 Ганзен ограничивается ссылкой, что еще в 1801 г. A. Elebe в своем «Reise auf deni Rhein» приводит перечень 121 памфлета, появившихся в Майнце в 1792/93 гг. Quellen..., Bd. Iі, S. 535.
3 Ганзен дает віт. своего собрания подробный перечень видных членов ордена иллюминатов в рейнских городах. Наибольшее количество дано по Майнцу и Нейвиду (из общего числа 120 — 50 в первом и 29 во втором),—см. Quellen..., Bd. I, S. 41—51.
246
А. Б. КУДРЯВЦЕВ
самый стиль и подачу газетного материала. Газета Тондера блистала остроумием, яркостью, заостренностью изложения и снискала себе громадную популярность далеко за пределами Рейна; она читалась нарасхват, по свидетельству одного современника, во всех немецких кофейнях и трактирах и являлась неиссякаемым источником для всякого рода крылатых словечек и обывательских претензий на остроумие и глубокомыслие. Редактор придерживался вначале умеренного просветительного направления (в духе просветительных реформ ИосифаII); скептически относясь^tcFrei- heitsfieber)), охватившей европейское общество накануне революции, он все же приветствовал отдельные акты Национального собрания, но дальнейший ход революции обусловил крутой поворот газеты в сторону контрреволюции и отказа от просветительных идей. Уже в сентябре 1791 г. Тондер решительно заявляет: ((нынешняя философия и глупость стоят на одной линии», а события 1792 — 93 гг., особенно казнь короля, окончательно превращают редактора и руководимый им орган в яростного сторонника дворянства, князей, французских эмигрантов и контрреволюционеров. Необычайный успех ccPolitische Gesprache der Toten» побудил редактора уже в 1788 г. расширить свое дело выпуском параллельно нового органа под названием ((Geheimer Briefwechsel zwischen den Lebendigen( und den Toten», который был известен под коротким названием ^Der Neuwieder». В 1790 г. оба органы были объединены, кроме того еще выпускались отдельные приложения. Но с переменой политической ориентации исключительный успех газеты обеспечивался уже ставкой на широкую обывательскую массу, напуганную революцией, которая перекинулась и на берег Рейна. «Der Neuwieder» решительно выступает против майнцских клубистов и всех немцев, ставших на сторону Франции, и в то же время стремится удовлетворить запрос массового читателя на острое словцо, что неизбежно снижало газету до уровня бойкого, вульгарного листка.1
Газета Тренк-фон-Тондера выходила в Нейвиде до 1795 г., а после этого еще продолжала издаваться во Франкфурте-на- Майне. Она представляет интересный опыт создания газеты,
1 О широкой популярности этого органа в обывательской среде интересные сведения сообщает ановимный автор «Reise von Mainz nach Koln im Februar 1794 in Briefen», Koln, 1795. Автор протестант, сторонник просвещения, приписывает успех газеты «испорченности вкуса» у местной публики.
рейнская ОБЛАСТЬ в ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 247
близкой по своему типу к современным нам органам буржуазной печати, но если брать ее как исторический источник, то ее информация вызывает серьезные сомнения в своей достоверности. Ганзеп в своем собрании широко использует материал этого реакционного органа,1 приводя оттуда целые статьи в основном тексте и многочисленные отрывки в примечаниях.
На ряду с изданиями Тренк-фон-Тондера в Нейвиде стали появляться и органы французских журналистов. Из них заслуживает внимания в особенности «Correspondence litleraire et secrete», начавшая выходить с 1791 г. под редакцией небезызвестного французского журналиста J. В. Mettra. Издатель и сам по себе представляет чрезвычайно любопытную фигуру на фоне бурных событий первых лет революции. Перед нами газетный предприниматель с широкими планами, но с весьма сомнительной моральной и политической репутацией. Он начал действовать еще задолго до революции (по авторитетным указаниям псторика французской прессы Гаттена «Correspondance litleraire et secrete» стал появляться уже в 1774 г. и прекратился,повидимому,в 1794 г.).1 2 Этот ловкий и беспринципный делец, очевидно, избрал Рейнскую область основной базой для различных литературных предприятий. О его деятельности до революции имеются только отрывочные сведения. Родился он в Париже в 1737 г., к 80-м годам он выступает в качестве прусского агента, около 1780 г. перебирается на жительство в Кельн, где вступает в иллюминатскую ложу «Тайна трех королей» и одновременно издает газету «Lc Nouvelliste politique d’Allcmagne». В 1789 г. Метра появляется в Нейвиде и Страсбурге, основывает «Societe typographique» и издает
1 О степени сохранности газет этого периода можно судить по тому, что в немецких библиотеках нет полных комплектов даже этого столь популярного органа.
2 Гавзен на этот общеизвестный факт, зафиксированный в библиографических изданиях Гаттена, Турно и др., почему-то не указывает. Правда, Этот журнал представляеі исключительную библиографическую редкость,— ни в одной европейской библиотеке нет целого комплекта, имеются лишь разрозненные Л°№ за отдельные годы. Считаем не лишним указать, что в коллекции Пассовера по французской революции,хранящейся в Библиотеке Академии Наук, имеется ряд №№ за 1791 — 1794 гг. и среди них ряд самых последних №№ (весна и лето 1794 г.), которые не зарегистрированы ни в одном из библиографических справочников, в том числе и в новейшем издании Monglond. Подробности об этом листке—см. Е. Hattin. Bibliographic historiqne et critique de la presse periodique franchise. Paris 1866, pp. 68—69.
248
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
«Journal des revolutions de l’Europe en 1789 et 1790». В этом же году выходит и упомянутая выше «Correspondance litteraire et secrete» одновременно в Ней виде и Париже. Этот ловкий и пронырливый делец уже тогда стяжал себе репутацию двусмысленного человека, на которого положиться нельзя. О нем Гримм в своей переписке сообщает, что это человек «с самым большим носом во Франции, а может быть и во всем мире».
Эта краткая, но выразительная характеристика вполне подходит к пронырливой фигуре Метра, который постоянно обивал пороги и Национального собрания, и Тюильри, жадно ловил любую сенсацию, подслушивал разговор, все эго облекал в легкую форму и предавал тиснению. Разумеется, продукция его представляет весьма сомнительный источник и наибольший интерес вызывает не столько информация, сколько сам информатор с его многообразной деятельностью. В собрании Ганзена отражен последний Этап биографии Метра, — это его секретная миссия к прусскому королю Фридриху Вильгельму II от имени французского правительства в сентябре 1792 г. с целью добиться перемирия и отвлечения Пруссии от союза с Австрией.1 Личность Метра и прусскому послу в Кельне показалась подозрительной, а австрийские официальные представители именуют его ccPamphletsschreiber», «Kleinsiichtiger zweideutiger Mann», не* заслуживающим доверия писакой. После этой неудачной миссий Метра, живя в Нейвиде, еще продолжает выпускать свой листок,1 2 но с половины 1794 г. его следы окончательно исчезают. Рейнская область с ее территориальной пестротой и скрещивающимися влияниями создавала благоприятную обстановку для деятельности подобного рода проходимцев и политических хамелеонов, как Метра. Характерно, что в том же Нейвиде обосновался с 1791 г. и известный «журналист эмиграции» F. Suleau, издававший «Journal de la contre- revolution», где выступал на защиту «старого порядка» и эми¬
1 Об этой миссии — см. Сорель, Европа и французская роволюция, т. Ш. Ганзен впервые публикует извлеченную из берлинского архива переписку по этому поводу прусского посла при Кельнском курфюрсте с Фридрихом II и другой дополнительный материал. Quellen.., Bd. II, S. 365—370.
2 Насколько можно судить по разрозненным №№ этого органа (за последние годы его существования), хранящимся в Библиотеке Академии Наук, направление его явно контрреволюционное. Авторы информаций, большей частью анонимные или скрывшиеся под инициалами, особенно охотно рассказывают всякого рода басни и сплетни про Марата и других деятелей революции.
РЕЙНСКАЯ ОБДАСТЬ В ЭПОХУ ВЕДИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 249
грации.1 Газета прекратидась в марте 1792 г., а в день переворота 10 августа того же года редактор был убит в Париже.
В любом прирейнском городе и владетельной территории издавались аналогичные органы печати, но большинство их находилось в зависимости от официальных органов и ими часто субсидировалось. Кругозор этих изданий был весьма не широк, информация бедна, политического лица не было. Но если ограничиться приведенными выше наиболее влиятельными органами рейнской печати, то мы в праве вывести определенное заключение о их большой политической роли в ходе революционных событий, ареной которых стала и сама рейнская область.
Ганзен в своих вводных очерках подробно останавливается на выяснении условий, в каких приходилось работать деятелям при- рейнской печати. В годы, непосредственно предшествовавшие началу революции, либеральная политика в духе умеренного просвещения отдельных владетельных князей давала возможность для Свободных суждений, тем более, что во многих случаях на Рейне не существовало предварительной цензуры (она была обязательна только для книг и журналов). Но с наступлением революции условия для прессы значительно изменились к худшему, в то время как количество печатных органов стало быстро расти, и они стали заметно выигрывать в яркости своего политического лица. Приходится однако констатировать, что издатель данного собрания крайне односторонне и тенденциозно расценивает роль рейнской прессы за годы революции, что вредно отразилось и на содержании вышедших двух томов. Его интересует в первую очередь, насколько органы рейнской печати были проводниками немецкого национального единства, и в силу этого он заранее скидывает со счета всю периодику, появившуюся за время французской оккупации левого берега Рейна, как явление извне навязанное и, следовательно, не типичное для умонастроений при- рейнского населения. Эт(> сильно умаляет значение данного собрания в той его части, которая основана на извлечениях из
1 В специально выпущенном проспекте — еще до выхода названной газеты—Sule.au заявляет: «La France est le foyer d’un volcan, qui inondera bientot de see laves brulantes toutes les contrees si Гоп ne se hate d’extirper jusqu’au germe de cet epouvantable fleau; c’est done contre le cratere de ce nouvel Etna que je veux appeller les efforts reunis de tous les souverains». Quellen... Bd. I. Einleitung, S. 36. О Suleau и его журнальной деятельности см. также у Hattin, op. cit., рр. 210—211.
250
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
редкой и малодоступной рейнской прессы. Такая односторонность в подборе газетного материала ставит серьезные затруднения исследователям, которые хотели бы заняться наиболее интересными и яркими эпизодами революции на Рейне, как, например, история майнцской революции или люттихской революции. О них приходится черпать материал или из официальных донесений, богато представленных в рассматриваемых томах, или же из контрреволюционной прессы, к которой издатель обращался гораздо чаще и охотнее. Малая сохранность революционной прессы не мочжет служить оправданием; ведь Ганзен одинаково жалуется и на плохую сохранность даже реакционной и умеренно-либеральной прессы. Но оттуда он главным образом и берет материал, стремясь не столько осветить фактический ход событий, сколько отобразить всю гамму настроений и течений широкой читательской массы. Однако явный перевес материала из контрреволюционной прессы неизбежно искажает подлинную картину умонастроений различных кругов немецкого общества на Рейне. И положение исследователя мало облегчается тем, что Ганзен попутно дает обширные экскурсы; они не избавляют от необходимости производить дополнительные разыскания. На его экскурсах лежит та же печать крайней односторонности и субъективизма в освещении этого любопытнейшего периода в истории рейнской прессы.
Ill
Другую группу источников, частично представленных в данном издании, но имеющих первостепенное значение для изучения революционного периода на Рейне, составляют памфлеты, хроники, дневники и частная переписка. По техническим причинам опубликование этого материала именно в этом собрании оказалось невозможным, но издатель Ганзен во всяком случае произвел тщательное обследование немецких книгохранилищ и библиотек и дает об этом довольно подробную информацию. Считаем необходимым остановиться на этой категории источников, выделив наиболее ценное.
До революции памфлетная литература и публицистика на Рейне не выделялась сколько-нибудь заметно ни яркостью, ни многообразием своего содержания, значительно уступая в этом отношении английской и французской литературе. Ее низкий уровень и бедность содержания легко объяснить общим культур¬
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 251
ным состоянием Германии XVIII в., представлявшей по красочному выражению Энгельса «навозную кучу», прикрытую гордой вывеской: — «Священная Римская Империя Германской нации». Общественное мнение высших и средних кругов германского общества формировалось и находило известное отражение в публицистике— лишь в ограниченных пределах немецких территорий и вольных имперских городов, в первую очередь на Рейне — в таких крупных университетских центрах, как Кельн и Бонн. Во второй половине XVIII в. в прирейнской Германии получили широкое распространение так наз. «Lesegesellschaften», где получались наиболее влиятельные органы местной и европейской печати, еженедельники и толстые журналы, но где можно было достать и памфлетную, публицистическую литературу, а также рукописные издания информационного и агитационного характера. Эти «общества для чтения» естественно стали играть роль клубов, — мест для свободного обмена мнений.1 Очень часто они же становились базой и для деятельности всякого рода масонских и иллюминатских организаций. Наибольшую известность приобрели эти общества в Майнце, Кобленце, Трире, Бонне и «Lesekabinette» в Кельне и Аахене. Вокруг этих обществ, а также университетов, и возникала памфлетная литература и публицистика, но круг ее тематики был узок и ограничен или же касался теоретических вопросов — в духе так наз. «Aufklarung».
Значительное место занимают трактаты об основах кантиапской философии, отвлеченные дискуссии о новых взглядах на государство и общество (под сильным влиянием идей Руссо и французских просветителей); а на ряду с ними стали появляться анонимные и псевдонимные памфлеты, отражавшие споры между либерально настроенными курфюрстами и папским нунцием по вопросам веротерпимости, аналогичные споры между двумя кон- курирующими университетами Кельнским и Боннским, из которых первый был центром католической ортодоксии, а второй — религиозного, а в дальнейшем и политического вольномыслия. В последнем случае на ряду с памфлетами и даже инвективами личного характера большой интерес представляют университетские речи видных деятелей университетов в Бонне, Кельне и Трире. іі О деятельности этих обществ имеется довольно много интересного документального материала в собрании Ганзена.
252
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
Этот предреволюционный период довольно хорошо документирован и снабжен детальными примечаниями в издании Ганзена. Начало революции во Франции оживило не только периодическую печать на Рейне, но и памфлетную литературу, придав ей яркий политический характер и расширив круг ее тематики. «Lesegesell- schaften» и возникавшие тогда клубы стали центрами революционной пропаганды идей «братства и равенства»; сюда стала попадать литература из Франции, появились и местные агитационные издания. Официальные представители власти жалуются на «einretzende unselige Schreibsucht», с которым bee труднее и труднее было бороться. На ряду с агитационными брошюрами стали появляться и революционные стихотворения и песни на темы о братстве и равенстве. Некоторые из них принадлежали таким крупным политическим деятелям на Рейне, как Бвлогий Шнейдер, составивший оду на взятие Бастилии. Но только с осени 1792 г., когда был оккупирован левый берег Рейна, в том числе и Майнц, можно говорить о расцвете политической памфлетной литературы в рейнских областях. Центром революционной пропаганды, естественно, стала Майнцская республика с ее богатой прессой и многочисленной популярной литературой, авторами которой были руководители местного клуба, профессора Майнцского университета. Здесь же появлялись и опыты революционной лирики. |
Насколько, однако, этот род документов учтен и выявлен в издании Ганзена? Приходится и здесь сказать буквально то же самое, что о революционной прессе. Трудно установить, в какой именно мере слабое отражение в этом издании революционной литературы объясняется причинами объективными, но что и в данном случае решающую роль играли политические симпатии издателя и редактора, — это не подлежит никакому сомнению.
Разумеется, в противовес революционной пропаганде на Рейне расплодилась весьма значительная и разнообразная контрреволюционная памфлетная литература; она находила себе поддержку у официальных представителей местной власти и поэтому оказа- залась более сохранной. В собрании Ганзена она достаточно полно представлена и внимательно комментирована, чего никак нельзя сказать о революционной литературе. По отношению к последней не делается никакой попытки произвести учет того, что сохранилось или известно хотя бы по названию. О майнцских
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 253
памфлетах имеется только одна короткая ссылка, которую мы уже приводили выше,1
Революционная литература на Рейне как источник помимо своего непосредственного значения для истории Рейнской области представляет громадный интерес и для изучения французской революции, но мы до сих пор не располагаем по Рейну такими библиографическими справочниками, какие имеются по французской революции.
Несомненный интерес представляет зато произведенный Ганзеном учет хроник и дневников, появившихся в течение революционного периода на Рейне. Совершенно понятно, что самая потребность записывать текущие события усиливается у представителей местного населения под впечатлением революции, круто изменившей всю последующую судьбу и историю Рейна. Ганзену удалось найти в книгохранилищах ряд таких своеобразных мемуаров и дневников. Авторы их, не профессионалы-литераторы, свои записки не предназначали к печати и поэтому могли свободнее рассказывать о своих впечатлениях. Уже это одно придает Этим документам большую историческую ценность. Некоторые из этих хроник были опубликованы, но большая их часть еще ждет издания.
Остановимся на наиболее интересных и ценных по содержанию. В Аахене имеются две хроники, из которых одна принадлежит неизвестному автору и носит заглавие «Сгопісае, was sich merkwiirdiges in Aachen zugetragen». Она охватывает период с 1770 по 1796 г., но подробно описывает события с начала революции и особенно с момента французской оккупации. Впрочем, при детальном изучении этой хроники обнаружилось, что ее автор черпал щедрой рукой из ccAachener Zuschauer» Дауценберга, не разделяя, однако, его симпатий к революции. Эта хроника все же содержит много и личных впечатлений автора.1 2
Другая хроника, гораздо более значительная по объему, составлена членом ордена миноритов Полихрониусом Гассманом
1 Относительно рейнской просветительной литературы Ганзен ссылается на новейшую работу Е. Ch. Zeim, Die rheinische Literatur der Aufkla- rung (Koin und Bonn, 1932). См. также ук. выше работу Н. Roth о майнцской революционной прессе.
2 Хроника была опубликована в местном журнале «Ане Aachener Vorzeit», XI (1898).
254
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
на латинском языке,1 охватывает период времени с 1659 по 1796, но ее автор решительный противник революции, а в его труде центральное место занимают события и факты, касающиеся орденской организации.
Неизмеримо крупнее по своему значению, как исторический источник, деревенская хроника из местечка Дормаген — неподалеку от Кельна. Автор, Иоганн Петер Дельговен (Delhoven) дал подробный рассказ о событиях с 1783 по 1823 г. в форме дневника,1 2 который он вел с 17-летнего возраста почти до самой смерти. В данном случае мы имеем дело с человеком, невидимому умным и наблюдательным, изображающим события вдумчиво и реалистически и с явным сочувствием к просветительным идеям. Даже и в последующие годы, когда революционные события приняли острый характер, Дельговен, не в пример другим своим соотечественникам, не изменил своей обычной уравновешенности и спокойно повествует о политических и социальных последствиях революции. Однако Ганзен считает нужным подчеркнуть, что хотя автор хроники в смысле культурном мыслит «ganz deutsch», он политически холоден и не заражен патриотизмом ни общеимперским, ни просто национальным, и к изменчивой судьбе Рейнской земли революционного периода подходит «чисто индивидуалистически», q точки зрения здравого рассудка и практической выгоды. К сожалению, Ганзен слишком скуп на выдержки из этой действительно интересной хроники. Он только в одном случае приводит целый отрывок (а именно новогоднюю запись от 1 января 1792 г.), а в остальных (весьма немногочисленных) довольствуется краткими извлечениями и ссылками в дополнение к другим материалам.3 Насколько можно судить по этим отрывкам, «политическая холодность» и отсутствие патриотизма у Дельговена сочетаются с определенными социальными симпатиями. Достаточно сослаться хотя бы на его новогоднюю запись, где, отмечая, что «никогда в этом столетии не
1 «Annales provinciae Coloniensis» — в 10 томах, хранящихся в рукописном виде в Дюссельдорфе и Аахене.
2 В рукописи он носит название «Clironik nieines Gebnrtsortes Dorma- gen». В сокращен ни ом ви*е она была недавно издавна — «Die rheinisclie Dorfchronik des Johann Peter Delhoven aus Dormagen», 1783—1823, lirsg. von H. Cardanus und R. Muller. 1926.
3 Quellen ... Bd. I, S. 71, 423, 469, 485, 852; II, 7, 460, 584, характеристика хроники дана в Bd. II, Einleitung, S. 11—25.
рейнская ОБЛАСТЬ в ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 255
было столь тревожного времени, как на пороге нового года» и что всюду господствует ((Rebellion» и ((подданные восстали против своих государей», он дальше подробно останавливается на тяжелом положении крестьянства, обремененного налогами и феодальными повинностями и приводит ряд примеров из местной ЖИЗНИ. Ниспровержение феодального порядка во Франции вызывает с его стороны полное сочувствие,1 его рассказы о люттихской революции, о восстании в Нидерландах, о событиях на Рейне осенью 1792 г. вполне конкретны и лишены какого-либо сочувствия к спасающимся бегством местным властям. Это придает его рассказам особую ценность, но характерно, что и к этому источнику Ганзен подходит с предвзятой точки зрения немецкого фашизированного национализма.
Из других хроник и записей мемуарного типа, приведенных Ганзеном, укажем на обширную рукопись кельнского юриста Иоганна Баптиста Фукса ((Roman meinesLebens», охватывающую период времени с 1757 по 1827 г.; из этой рукописи утрачена наиболее интересная часть — с 1781 по 1814 г., о чем тем более приходится сожалеть, что автор не чужд был просветительных идей, в революционный период занимал различные посты в Кельне и Трире и располагал богатыми жизненными впечатлениями.1 2
Другая хроника, вышедшая из Кельна, принадлежит перу августинца Schorrenberg’a, написана на латинском языке и охватывает время с 1780 г. по 1802 г.3 Ганзен частично использует эту хронику, но ее автор яростный католик и решительный противник революции.
1 Свой рассказ о первых месяцах революции в 1789 г. он сопровождает такими замечаниями: «Der geringste Burger kann zur hochsten Ehrenstelle gelangen; Adel und Bauer soli nach einem und uamlichen Gesetz gestraft und gerichtet werden; jeder soil das freie Jagdrecht geniessen und im ganzen Ko- nigreich kein Zehnte mehr gegeben werde. Von Paris aus pflanzte sich der Freikeitsgruss von Stadt zu Dorf durch ganzes Konigreich». Quellen... Bd. 1, S. 423, 2 Anm.
2 Первая часть этой рукописи с изложением событий до 1781 г. и краткое обозрение всей жизни автора было опубликовано: J. Heyderhoff, Johann Baptist Fuchs 1757 bis 1827. Erinnerungen aus dem Leben eines К diner Juri- eten 1912. Последняя часть находится в частном владении и до сих пор не издана. По словам Ганзена, эти записки дают много культурно-исторического материала.
3 Извлечение из этой хроники было изіано: Н. Cardanus, Кdin in der Franzosenzeit aus der Chronik des Anno Schorrenberg: 1789—1802 (1923), cm. также Hashagen, Das Rheinland und die franzosische Herrschaft. 1908.
256
Л. Б. КУДРЯВЦЕВ
Естественно ожидать, что в таком крупном центре рейнской революции, как Майнц, на ряду с расцветом периодики и памфлетной литературы должны были сохраниться и записи мемуарного характера. Ганзен ограничивается только одним перечислением рукописных сборников, ссылаясь на то, что они и раньше широко использовались и получили должную оценку.1 Остальные хроники и дневники, на которых останавливается Ганзен в вводной части II тома, или имеют узкий местный интерес, или же излагают преимущественно ход военных событий и притом с ярко рыра- женным враждебным отношением к революции. К этой категории относятся: подробный дневник обергофмаршала графа Людвига Иосифа Боос фон Вальдека о событиях в Кобленце с 1791 г. по 1795 г., ряд хроник и дневников из Саарбрюкена, преимущественно о событиях 1792—1793 гг. в этой пограничной области,1 2 и наконец, дневник книгопродавца и переплетчика Людвига Мюллера, уроженца г. Трира, ведшего записи с 1792 по 1802 г., ярого противника революции; дневник интересен, по словам Ганзена, для истории военных операций и характеристики настроений местного населения.3
Для того, чтобы исчерпать данную категорию источников, остается в двух словах остановиться на частной переписке. В данном случае речь может итти не столько о переписке таких крупных деятелей Рейнской области, как Георг Форстер, Иоганн Мюллер из Майнца,4 так как она давно уже издана и вошла
1 Считаем не лишним привести здесь этот перечень: Die Chronik des Schtitzenschreibers J. A. Schmidt 1792—1801, das Tagebuch des Fruchtmes- sers Easpar Roth 1792—1840, die Chronik des TUrmers auf S. Stephan Kaspar Schneider 1793—1846, Wittmansche Tagebuch, das Tagebuch der Pfarrers E. H. Turin, die Chronik von J. A. Simon. О хронике Каспара Шнейдера имеются сведения в старой работе Bockenheiraer, Die Mainzer Klubisten 1793 bis 1798 (1872), см. его же, Die Mainzer Klubisten in den Jahren 1792 und 1793 (1896). О хронике Simm привожу по Ганзену ссылку на диссертацию A. J6- ger, Daniel Dumont, ein Beitrag zur Quellengeschichte des mitterrheinischen Liberalismus (Frankfurt 1920, находится в рукописи).
2 Хроника Готтлиба, хроника купца Г. Л. Фридмонда и дневник местного адвоката Горстмана.
3 Модернизированные извлечения из этого дневника издал Lager в «Тгіег- isclie Chronik», Bd. 9 и 10 (1913/14), по словам Ганзена они не в состоянии заменить оригинала, который находится в Кобленце.
4 См. G. Forster, Samtliche Schriften, hrsg. у. S. Gervinus (1843). Joh. v. Muller, Samtliche Werke (1835).
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ в ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 257-
в даучный оборот, сколько о частных письмах людей средних, малоизвестных или даже совсем неизвестных.
Политическая жизнь на Рейне тогда еще только начиналась я в широких кругах еще не возникало острой потребности в обмене мнениями и впечатлениями общественного характера. Наиболее известна переписка упомянутого уже выше адвоката из Саарбрю- кена Горстманна. Но это скорее дневник в форме писем и притом пропитанный звериной ненавистью к революции.1 В немногих случаях Ганзен приводит случайно сохранившиеся письма одного аахенского жителя с интересными подробностями, но в целом эта категория источников, ценная для нас как наиболее непосредственное отображение действительности, еще ждет своего собирателя.
Таков круг документов, которые по замыслу издателя должны были отразить в его собрании положение и настроения общественных кругов Прирейнской Германии. Обширность, многообразие и специфический характер этого материала мешали, конечно, возможности дать его с надлежащей полнотой, и в этом издании не ему принадлежит ведущая и определяющая роль, причем, как мы видели, Ганзен использует его крайне односторонне, стремясь по возможности выявить на Рейне наличие сознания национального единства. Не менее характерна и упрощенная, в основном враждебная трактовка событий французской революции. Камнем преткновения не только для цитируемых в этом издании авторов- современников, но и для самого редактора, являются события после революции 10 августа 1792 г. На самом составителе и редакторе этого сборника лежит печать Тэновского подхода к периоду революционной диктатуры якобинцев, который часто обозначается и в тексте и в указателе как период «анархии». Кроме того (и это, может быть, самое главное) революционные события, перекинувшиеся на Рейн, связаны были с французской оккупацией, а ведь основной политический смысл такого рода изданий в фашистской іі Они изданы под таким названием: «Die Franzosen in Saarbrucken nnd (Ien deutschen Reichslanden im Saargan und Westrich 1792—1794 in Briefen von einem Angenzeugen», — в «Mitteilungen des Historischen Vereins fur die Saargegend», 1890, Heft 5. О политических симпатиях этого адвоката можно судить по следующей тираде: именно здесь раньше всего на немецкой почве «alles, was Robespierres schandlichen Gesellen Zerstorungssucht, Raub und Mordlust eingab, ungestort ausgeiibt wurde und das ganze System sich in alien Nuancen enthullte».
Проблемы источниковедения, П
17
258
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
Германии и заключается в том, чтобы исторически оправдать немецкие притязания на рейнскую территорию. Легко подобрать таких современников и такие документы рассмотренной категории, которые сами за себя будут говорить с полной «объективностью» то, что нужно сейчас сказать на данном этапе «национальной революции» в Германии. Во всяком случае источники, отображающие жизнь и настроения общества, занимают в этом издании хотя и значительное, но все же второе место, в центре же внимания издателя стояло опубликование архивного материала, официального характера. Мы не будем останавливаться на характеристике этой категории документов, так как в подавляющем своем большинстве это всякого рода правительственные акты и официальная информация о ходе событий. Попытаемся в заключение установить, что же именно дают и по какому кругу вопросов два вышедших тома для изучения революционного периода на Рейне.
ІУ
Поскольку издатель и редактор основной своей задачей ставил лишь выяснение фактической стороны революционных и внешних событий, характеристику общественных настроений и течений, в его собрании не получила достаточного отражения хозяйственная жизнь рейнской части Германии. Но все же на основании косвенных указаний весьма разнообразных источников вырисовывается картина хозяйственного упадка ряда прирейнских городов и в первую очередь наиболее крупного из них — имперского города Кельна.1 Последний не может бороться ни с конкуррен- цией Голландии, в частности Амстердама, ни даже с соседними — Дюссельдорфом, Эль6ерфельдом, Золингеном, Нейвидом и другими іі Вопрос об экономическом упадке Кельва — уже тогда оживленно дебатировался и ставился в непосредственную связь с преследованиями протестантов, см. в Quellen ... Bd. I, № 43, S. 114—116, выдержки из современной литературы, относящиеся к 1786 г. Несколько позднее очень интересную характеристику Кельна (а также и других крупных городов на Рейне) дает уроженец Бадена A. W. Schreiber в своем путешествии по Рейну в 1792 г., вышедшем в 1795 г. в Лейпциге под заглавием «Streifereien durch einige Gegenden Deutschlands». После 1802 г. автор был профессором эстетики и истории в Гейдельберге и Карлсруэ. Ему также принадлежат составленные совместно с майнцским профессором Niklas Vogt«Ansichten des Rheins von Mainz bis Dllsseldorf», Francfurt a. Main, 1806. Выдержки из «Streifereien» — см. в Quellen... Bd. П, S. 271—278.
рейнская ОБЛАСТЬ в ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 259
городами. Сравнительно с Кельном среднерейнские города, в особенности Майнц, Страсбург, находятся в более выгодном экономическом положении. Но если расценивать положение на Рейне в целом, то даже на основании редких указаний ганзеновских документов нельзя назвать это положение цветущим. Рейнская область после Вестфальского мира составляла обширную и выгодную базу для торгового преуспеяния Голландии.1
Прочное положение в прилегающих к Рейну районах, в частности в Гамбурге, занимала Англия, но даже и Франция, с меньшим удельным весом ее обрабатывающей промышленности, несмотря на тормозящую роль «старого^ порядка», не без успеха утверждалась экономически на левом берегу Рейна. В собрании Ганзена впервые публикуется очень любопытный документ из переписки трех великих курфюрстов на Рейне от 23 аир. 1791 г. Речь шла о принятии общегерманских мер для прекращения доступа французских товаров в Рейнскую область и вообще в пределы (ссвященной империи».1 2 Предполагалось, что таким путем можно сделать более сговорчивым Национальное собрание и положить предел (после захвата немецких владений в Лотарингии) дальнейшим продвижениям по направлению к берегам Рейна. В этой же связи вюртембергский резидент Пелетье несколькими месяцами спустя (в середине июня) посылает герцогу Карлу Евгению Вюртембергскому докладную записку, в которой указывает на застой рейнской торговли, в частности в Кельне, где длительная тяжба между городским магистратом и курфюрстом была широко использована голландскими фрахтовщиками. Пелетье настаивает на необходимости общеимперской таможенной политики, на необходимости заключения торговых договоров, чтобы обеспечить развитие немецкой промышленности, немецкого виноделия,3
1 См. об этом у Е. Baascli. Hollandische Wirtschaftsgescliichte. Jena, 1927, S. 289-300.
2 По этому вопросу мнениями обменялись кельнский курфюрст Макс Франц, трирский — Клеменс Венцеслав и майнцский курфюрст. Последний на предложение своего кельнского собрата ответил довольно с іержанно, выразив сомнение в осуществимости такой общей меры. В своем письме он указывает на противоречивость интересов отдельных государей. См. в Quellen... Bd. I, № 373, S. 812—815. Часть этой переписки была опубликована и раньше: Vivenst, Quellen zur Geschichte der deutsclien Kaiser-politic Osterreich wahrend der franzosischen Revolutionskriege, I (1873).
3 Пелетье, между прочим, жалуется на то, что «благородные немецкие вина» благодаря произвольным высоким пошлинам не получают широкого
17*
260
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
сбыт таких немецких продуктов, как лес, поташ, стекло, табак, туфы, фрукты и железо. Автор ссылается на пример Англии, которая «наводняет своими мануфактурами весь земной шар», а немецкой торговле не хватает «сильной руки», так как Privat- intcresse» по прежнему стоят на пути к преуспеянию Германии.* 1
Однако, стоит хотя бы бегло перелистать оба тома ганзенов- ского собрания, чтобы понять, что эти мечты о «сильной руке» и национальном единстве вдребезги разбивались о ту невероятную путаницу территориальных взаимоотношений и местных противоречий, которая проклятием тяготела над полуфеодальной Германией, не исключая и наиболее передовой Рейнской области. Материал источников, собранных Ганзеном, слишком недостаточен для того, чтобы восстановить подлинную картину экономического развития прирейнской Германии. В течение XVIII в., несомненно, и здесь на ряду с более передовыми странами происходит определенный перелом в сторону хозяйственного оживления и возрождения, но, к сожалению, и до сих пор этот участок в разработке истории Рейна представляет зияющий пробел, что в свою очередь мешает с достаточной глубиной изучить ход революции за рассматриваемый период, хотя бы даже и в тех рамках, какие даны в издании Ганзена.
Основной материал этого издания, в частности официальная переписка, ярко иллюстрирует ту картину территориальной чересполосицы, которая хорошо нам известна и по прежним историческим работам. И тем отчетливее на этом безотрадном фоне тяжб и пререканий великих и малых государей, цеховых руководителей и городских магистратов, назойливых попыток папского нунция отстоять незыблемость католической ортодоксии против доста¬
распространения и вытесняются французскими и испанскими только потому, что в этих странах существуют торговые договоры. Quellen... Bd. I, JVs 400, S. 866—870. В это время на Мозеле обсуждался проект улучшения виноторговли, см. об этом в статье Christoffel в «Тгіегег Zeitschrift», IV, 1929.
1 Подобные высказывания по вопросу о национальном единстве далеко не единичны. Так, напр., в анонимной брошюре «Beitrage zu den Verbesse- rungsYorschliigen in Betreff des Kais. freien Reichstadt Aachen, besonders ilirer Tuchmannfacturen» (1789) мы читаем: «Ueberhaupt hat der Deutsche nicht mehr notig, sichlhinter andere Nationen zu verstecken, sondern kann aus selbst- eigener Kraft handeln». И, по мнению автора, немцам не хватает только «Nationalstolz», чтобы подобно англичанам «unmogliches moglich zu та- chen». Quellen... Bd. I, S. 883.
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 261
точно умеренного либерализма некоторых владетельных князей, вечных конфликтов между конкурирующими городами,— выступают первые проблески назревающей революции. Несмотря на идеалистический, насквозь националистический подход Ганзена к материалу и на односторонний подбор последнего, при внимательном его изучении и при условии широкого использования ранее опубликованного материала, — представляется возможным проследить подготовку революции на Рейне. Причины ее, конечно, нужно искать именно здесь на месте, а не объяснять ее упрощенно только влиянием французской революции, как это делали и прежние историки и как подходит к данному вопросу Ганзен. Только при такой методологической установке изучение революции на Рейне приобретает смысл. К сожалению, количество документов, охватывающих предреволюционный период (с 1780 по 1789 г.), в данном сборнике не так велико, но среди отдельных документов имеется ряд весьма ценных для непредубежденного исследователя. Разумеется, самого издателя в первую очередь интересовали настроения и движения среди «образованного общества», и в этом случае он дал интересный материал. Развитие просветительных стремлений в Прирейнской Германии, так наз. «Aufklarung», хорошо представлено у Ганзена. По его материалам и обширным* * комментариям можно восстановить историю развития и деятельности упоминавшихся уже выше «Lesegesell- schaften». Еще больший интерес представляет публикуемая здесь сводка масонских и иллюминатских организаций,1 существовавших тогда на Рейне. На ряду с «обществами для чтения» и университетами они в обстановке назревания революции становились проводниками «просветительных идей» и даже центрами революционной пропаганды.
Чрезвычайно любопытен приводимый Ганзеном перечень наиболее видных членов масонских организаций с указанием их социального положения, профессии и данными о их литературной и общественной деятельности (перечень дает сведения о 120 членах в наиболее крупных городах Рейна). Среди них мы находим и таких
1 Quellen ... Bd. І, Де 24. «Verzeichniss der Mitglieder des Illuminatsor- dens in den Stadten Aachen, Bonn, Diisseldorf, Duisburg, Kettwiz, Eoblenz, Koln, Mainz, Netrwied und Trier». 1784, Februar, Neuwied, S. 41—58 (вместе с обширными комментариями). К ним примыкает напечатанный дальше
* (S. 68—74) обзор лож франкмасонов, иллюминатов и розенкрейцеров с богатейшими конкретными данными.
262
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
политических проходимцев и дельцов, как уже упомянутый выше Метра, но в подавляющем большинстве к масонам и иллюминатам принадлежали виднейшие представители буржуазной интеллигенции, вожди просветительного движения в Западной Германии, сделавшиеся в дальнейшем видными членами революционных клубов. Внимание исследователя в особенности должен привлечь личный состав масонских организаций в таких центрах, как Майнц, Нейвид, Бонн. Среди членов масонских и иллюминатских лож мы также найдем и таких, которые, не будучи сами заметными фигурами, находились в близких отношениях с такими гениями, как Бетховен, Гете. Несмотря на то, что история тайных организаций масонского типа давно уже изучалась, вся предшествующая историография слишком формально подходила к масонству и не умела разглядеть среди пестрого состава его членов те элементы, которые по своим убеждениям и характеру своей деятельности шли неизмеримо дальше неопределенных, расплывчатых идей, присущих масонству XVIII в. Не меньший интерес представляют документы, освещающие роль университетов в просветительном движении. В 70—80-х гг. XVIII в. происходит возрождение и реорганизация ряда университетов на Рейне: одним из первых последняя коснулась Майнцского университета (1784 г.), куда на ряду с католиками привлечены были протестантские профессора. В Майнце стали концентрироваться крупные научные силы, последовательные сторонники (спросвещения», а в дальнейшем и деятели майнцской революции. Среди профессоров мы находим в это время Георга Форстера, Иоганна Мюллера, Зем- меринга, Дорша, Ведекинда, историка Николая Фогга. Им приходилось вести упорную борьбу за свои убеждения — политические и философские.1
1 О майнцском периоде в жизни Форстера см. К. Klein. Forster in Mainz 1788 bis 1793. Gotha, 1863. О его политических взглядах—см. Hashagen. Das Rheinland und die franzosische Herrschaft, 1908.0 Иоганне Мюллере—см. К. Henking. Iohannes v. M tiller, 1928. О его политических взглядах см. P. Re- quadt. Iohannes von Mttller und der Historismus, 1929. Большой интерес представляют работы Н. Фогта по вопросу о наилучшем политическом устройстве: N. Vogt. Europaische Republik—1788. Europaische Staatsrelationen, 1805. См. также последнюю его работу Rheinische Geschichten und Sagen, 1836. Он ратовал за европейскую федерацию свободных государств, находился под влиянием и гей Монтескье, Руссо и Гердера. С после гним он был в личной переписке (1782—87). О немцем. М. Herrmann. Niklas Vogt. Ein Historiker der Mainzer Universitat. Dies. Miinchen, 1917.
рейнская ОБЛАСТЬ в ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 263
Майнц, как и единомышленный ему Бонн были центрами кантианской философии, вызывавшей резкие нападки со стороны католиков-ортодоксов. Не менее интенсивно развертывалась борьба и по вопросам политическим, в частности и по вопросу о наилучшем политическом устройстве Германии.1
На ряду с Майнцским столь же крупную роль играл вновь основанный тогда Боннский университет (первоначально, в связи с ликвидацией ордена иезуитов в Кельнском курфюршестве, была основана в Бонне в 1777 г. академия, а в 1783 — 1786 гг. она была преобразована в университет). G самого начала своего существования он стал мощным центром ((просвещения». Здесь собрались крупнейшие научные силы, которым суждено было сыграть и крупную политическую роль. Хорошо известна упорная борьба молодого прогрессивного университета в Бонне со старым Кельнским университетом, где прочно обосновались ярые ревнители католической ортодоксии и не менее решительные противники ((просвещения». Нужно отдать справедливость Ганзену, — на этот раз он не поскупился и достаточно полно и всесторонне отобразил в своем собрании эту яркую страничку из умственной жизни пробуждавшейся тогда прирейнской Германии. Недостаток места не позволяет дать хотя бы краткую характеристику материала, посвященного деятельности боннских профессоров. Из них крупнейшим политическим деятелем на Рейне был Евлогий Шнейдер, занимавший кафедру изящных наук в Бонне, но уже с 1791 г. вынужденный эмигрировать в Страсбург, где он окончательно самоопределился, как ревностный адепт революции; заняв там сначала пост викария, он скоро слагает с себя духовный сан и становится прокурором революционного трибунала. Личность Шнейдера давно уже привлекала внимание исследователей, и о нем имеется довольно значительная литература,1 2 но и до сих пор история его жизни и деятельности ВЫЗЫ¬
1 Под влиянием Руссо в Германии ХУШ в. пользовалась успехом идея маленького государства как лучшего убежища для свободы и личности; см. Sieber. Die Idee dee Kleinstaats bei den Denker dee 18 Jahrhunderts. Basel, 1920. К этому течению принадлежали Ю. Мезер, Гердер и Йог. Мюллер; сходные идеи высказывал и Н. Фогт.
2 Из более старых работ — см. F. С. Heitz. Notes snr la vie et les ecrits d’Euloge Schneider, 1862. Wogele, статья о Шнейдере в «Historische Zeit- schrift», t. ?7,1877, перепечатанная в его «Vortrage und Abhandlungen». Lpz., 1898. Muhlenbeck. Euloge Schneider 1795. Strassburg, 1896. Erhard, L. Eulo- gius Schneider. Sein Lehen und seine Schriften. Strassburg, 1895, Oliger —
.264
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
вает разноречивые суждения среди немецких историков, писавших о нем: от резкого осуждения за «измену» отечеству и «кровавую деятельность» в Страсбурге — до попыток реабилитации, стремления выставить его как умеренного якобинца, стоявшего в оппозиции к французским якобинцам и павшего жертвою «кровожадности» последних, в первую очередь Сен-Жюста.1 В собрании Ганзена отображен главным образом боннский период в жизни Шнейдера, с момента появления его в Боннском университете до переселения в Страсбург, причем материал собрания довольно хорошо освещает всю историю деятельности рейнских профессоров—ревнителей «просвещения» (преимущественно в Бонне и Майнце и лишь мимоходом в других центрах, напр. в Геттингене). В Бонне этому движению первоначально покровительствовал и курфюрст Кельнский, в торжественных актовых речах он выставлялся как идеал просвещенного государя. Нельзя сказать, чтобы адепты «Aufklarung» были в массе своей особенными радикалами. Они усиленно пытаются доказать, что «просвещение» не подрывает католической религии, что просветительные идеи могут только укрепить общественный порядок и заставят каждое сословие честно и разумно выполнять свой долг.* 1 2
в «Franziscanische Sdudien» IV, 1917. Из новых работ: Е. Nacken, Studien tiber Eulogius Schneider in Deutschland. Diss. Bonn, 1933. По словам Ганзена — должна вскоре выйти новая работа о Шнейдере Р. Paulin (в Страсбурге). См. также статью Braubacli «Die katholischen Universitaten Deutschlands und die franzosische Revolution», Hist. Jalirb., 1929. Шнейдер начинает привлекать внимание и французских историков. С 1931 г. в «Annaleshistoriques de la Revolution Fran^aise» печатается ряд этюдов о Шнейдере — Roger Saguel.
1 Обстоятельный разбор немецких работ о Шнейдере дает указанный выше Roger Saguel в своем первом очерке, в последующих очерках на основании главным образом материала из «Argos» он пытается восстановить подлинный облик Шнейдера и его деятельность в Страсбурге.
2 См., напр., речь куратора Боннского университета Вильгельма Шпигеля от 20 ноября 1788 г. — Quellen..., Bd. I, S. 328—336. Интересны рассуждения оратора о рабочем классе. Преподанное рабочему в умеренной дозе «просвещение» сделает его только сознательным — в пределах его же класса. Если же кто-либо вздумает выйти за пределы своего класса, то это будет уже «распущенность», а не «просвещение». Ведь количество рабочих относится к остальному населению, как 5 к 1, если эти % пожелают обратиться к «созерцательной жизни», то и они и государство в целом станут несчастными. Выразительно вторит Шпигелю один из его единомышленников — протестантский пастор Рейнике, выпустивший в 1788 г. анонимную брошюру «Ueber die Granzlinien der Aufklarung». Он разражается такой
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 265
Среди рейнских ((просветителей» Евлогий.Шнейдер заметно выделялся большой резкостью своих суждений уже тогда, в бытность свою профессором Боннского университета. Разумеется, ему приходилось свои высказывания облекать в форму, приемлемую для того избранного круга, в котором он время от времени выступал по должности профессора. Еще до появления в Бонне (в апреле 1789 г.) он пытался внушить своему «просвещенному» покровителю герцогу Карлу-Евгению Вюртембергскому обязанности монарха в духе идей Руссо, но «коронованному другу людей» такие проповеди пришлись не по душе, и Шнейдер вынужден был покинуть владения герцога. Явившись в Бонн, он произносит в университетском зале вступительную речь, стараясь доказать, что развитие изящных наук и искусств не находится в противоречии с католической религией; однако, католическая ортодоксия, гнездившаяся в Кельнском университете, очень скоро разглядела в популярном и талантливом профессоре опасного и вредного человека. С появлением Шнейдера в Бонне борьба между «просветителями» и ортодоксами необычайно обострилась; не забудем, что к этому времени революция во Франции была уже совершившимся фактом, и по мере развертывания событий, пробуждались революционные стремления на Рейне, становились более отчетливыми и политические взгляды Шнейдера. Документы, помещенные в первом томе издания Ганзена, довольно подробно освещают его деятельность в Бонне. С самого начала революции он открыто становится на ее сторону, написав известную оду на взятие Бастилии.1 Изданный им в 1790 г. сборник стихотворений вызвал переполох в официальных сферах и соответствующие меры против опасной книги. Материалы Ганзена позволяют внимательней присмотреться к личности Шнейдера и его духовной эволюции. Немецкая историография конца XIXв. достаточно затемнила этот вопрос, рассматривая личность Шнейдера под углом зрения немецкого национализма. В отношении * ітирадой: «Besonders bedenklicli ist das durchgangige Bestreben, den gemeinen Haufen, und insbesondere Bauer, noch mehr aufzuklaren als er es scbon ist. Allerdings hat er einen gewissen Grad von Einsicht zu seiner Bestimmung notig, und der muss ihm verschaft werden... aber ein superkluger Bauer ist eine unertragliche Kreatur».
і Напечатана в «Gedichten von Eulogius Schneider», 1790. По собственному признанию Шнейдера уже летние события 1789 г. окончательно определили его взгляды и сделали его горячим сторонником революции.
266
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
Германии XVIII в. самая возможность существования общенемецкого патриотизма чрезвычайно проблематична.1 Гораздо важней поставить перед собой другой вопрос, как формировался в Шнейдере активный революционер-якобинец. Но взятая в этом аспекте личность Шнейдера остается для нас неясной при свете материалов, опубликованных Ганзеном. Вопрос этот должен быть поставлен шире и глубже. Шнейдер был только один из наиболее ярких выразителей революционных стремлений на Рейне, и поэтому следует внимательней присмотреться и к его окружению. О единомышленниках и соратниках Шнейдера мы находим у Ганзена довольно значительный материал. Во всяком случае вся история борьбы «просветителей» и католиков-ортодоксов может быть по этому материалу прослежена от начала до конца 1791 г. Кельнские обскуранты, достойные потомки своих единомышленников XVI в., выступавших против немецких гуманистов, развернули широкую кампанию против прогрессивной профессуры, привлекли к ним внимание рейнских властей, и без того напуганных революцией, и сделали пребывание в немецких областях Рейна ревнителей «просвещения» невозможным. К концу ноября 1791 г. мы имеем массовый исход рейнских профессоров во французский Страсбург, где они были гостеприимно встречены епископом-конституционалистом Брен де л ем.1 2 3 Дальнейшая судьба
1 В упомянутой уже выше вступительной речи Шнейдера имеется лирическое отступление, в котором он говорит о разбросанных по Рейну «Denk- maler alter Deutschheit», которые должны были бы волновать сердца «ties Rheinlarulers». Но и здесь Шнейдер охотнее взывает к «Heilige Mutter Natur», как источнику, вдохновения, чем к национальному чувству. Ганзен, который при подборе материала пытается выявить наличие общегерманского патриотизма, вынужден призвать, что таковое тогда отсутствовало — за малыми исключениями. Представляет интерес сделанное им наблюдение, что слово «Rheinlander» (для обозначения жителей Рейнской области) стало широко применяться именно в это время. Quellen... Bd.I, S.373, Anm. 3, см. его-же «Rheinland und Rheinlander», 1925.
2 Из наиболее заметных фигур кроме Шнейдера следует указать майнц¬
ского профессора Дорша, претерпевшего ряд мытарств за свою приверженность к кантианской философии. Он, подобно Шнейдеру, обратился к политической деятельности в качестве убежденного республиканца. Ганзен дает подробные сведешя о профессорах-эмигрантах. Quellen... Bd. I, S. 1035— 1045. Из литературы о рейнских «просветителях» см. Stern, Alfr. Der Ein- flues der franzosischen Revolution auf das deutsche Geistesleben, 1923. Merkle. Die katolische Beurteilung des Aufklarungszeitalter, 1909. Schwarz. Der erste Kulturkampf in Preussen, 1925. За последние годы о немецком «просвещении» на Рейне опубликовал ряд работ Brauhach. Кроме отмеченной уже
рейнская ОБЛАСТЬ в ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ революции 267
рейнских просветителей уже тесно связана с революцией, очаги которой были разбросаны и по Рейну. Для изучения и уяснения подлинного смысла рейнской революции чрезвычайно важно показать, как она подготовлялась идеологически и именно под этим углом зрения подойти и к просветительному движению на Рейне. Ранний этап этого движения (т. е. до начала французской революции) представлен в собрании Ганзена рядом интересных и важных документов,1 но переход от проповеди широких и порою расплывчатых идей «Aufklarung» к более конкретной революционной пропаганде выявлен гораздо слабее. На подборе материала сказался предвзятый подход издателя к своей задаче. Для него революционный период на Рейне — это прежде всего период «французской оккупации)), и центр тяжести он переносит на революционизирующую роль Парижа; гораздо охотнее он стремится отобразить в своем издании то «отрезвление от революционного угара», какое стало проявляться в течение первого периода оккупации по мере развертывания событий в самой Франции.
Крайне тенденциозный подбор материала имеет вполне определенную цель — затушевать революционные моменты в рейнском движении и противопоставить «тлетворному» влиянию революции, идущей из Парижа, «здравый и трезвый» рассудок обитателей «Rheinland’a», предпочитающих «анархии» твердую и сильную власть. Но если издатель и редактор этого собрания, довольно
выше статьи о германских католических университетах и французской революции, недавно появилась его новая работа: «Die Kirchliche Aufklarung im katholischen Deutschland» — в Histor. Jalirb., 1934, Bd. 34, Heft. 1—2, но в ней исследуются только узкие вопросы религиозного воспитания. См. еще Gass. Das Strassburger Priesterseminar wahrend der Revolutionszeit, 1914. Его же, Konstitutionelle Professoren am Strassburger Priesterseminar, 1916. История Страсбурга за эти годы не представлена в этом издании, за исключением отдельных эпизодов; точно так же и страсбургский период деятельности Шнейдера отражен лишь мимоходом. Но об этом периоде обстоятельные и документальные сведения дает указанный выше французский автор R. Saguel. Из литературы о Страсбурге см. Heitz. Les societes politiques de Strassburg pendant les annees 1790 a 1795. 1863. E. Singuerlet. Strassburg pendant la Revolution, 1881. A. Schulte. Frankreich und das linke Rheinufer, 1913. Aulard. Confederation de Strassburg ou federation du Rhin (Juin 1790). Proces verbal avec un avertissement, 1919.
і См., напр., любопытный материал по истории школьной реформы на Рейне, — в частности проект программы по истории для V кл. Кобленцской и Трирской гимназии. Quellen... Bd. I, S. 117—128, 684—688.
268
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
полно, хотя и односторонне, отобразил документами ((просветительное движение» среди рейнской буржуазной интеллигенции, то зато крайне скупо он осветил нарастание революционных стремлений в других слоях рейнского общества, разделенного пестрыми территориальными перегородками. А между тем для исследователя, не зараженного фашистскими установками, — основная научная проблема и заключалась бы в том, чтобы установить: какова же социальная база рейнской революции.
Для разрешения этой проблемы документы, подобранные Ганзеном, дают лишь отдельные, разрозненные указания. Известный интерес представляют немногочисленные материалы о волнениях в ряде прирейнских городов, возникавших еще до 1789 г. Это преимущественно донесения местных властей своим государям. В начале 80-х гг. и даже раньше на Рейне возникали волнения по местным поводам или же на вероисповедной почве. Такова бесконечная и невероятно скучная эпопея в Кельне, где католики упорно боролись с попытками расширить гражданские права протестантов. Иначе протекала жизнь в других рейнских центрах; там уже имели место первые, хотя еще и слабые признаки назревающей революции. Так следует отметить волнения в Трире в марте и апреле 1785 г., брожение в городе происходило и в 1781 г. из-за налогового гнета. Наместник с тревогой доносит курфюрсту Трирскому Клеменсу Венцеславу о наличии среди горожан сильных республиканских настроений и склонности к мятежам, о распространяемых агитаторами «химерических слухах», что граждане хотят отдаться под покровительство французского короля и что ближайшие деревни по первому знаку набатного колокола готовы притти на помощь восставшим горожанам. В июле 1786 г. волнения среди трирских цехов повторились и уже носили более длительный характер,1 а в августе 1789 г. они вспыхнули вновь уже под непосредственным воздействием французских событий. Но предпосылки для движения были налицо не только в Трире, но и во всем курфюршестве, как об этом свидетельствуют заседания ландтага в Кобленце в ноябре — декабре 1788 г., где был резко поставлен вопрос о неравномерном распределении среди населения налогового бремени. Оно всей тяжестью ложилось на
1 Quellen... Bd. I, S. 92—96. Об этом движении имеется специальная статья J. Wagner. «Kf. Klemens Wenzeslans und das Anfflackern der Revolution im Erzstift Trier 1787—89» в «Rheinische Heimatsblatter», 1У, 1929. Cm. также Kentenich. Geschichte der Stadt Trier, 1915.
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 26£
крестьян, страдавших кроме того и от пережитков крепостничества.1 Министр курфюрста Думиник оказался, однако, глух к представлениям депутатов.
В 1786 г. начались волнения в австрийских Нидерландах, разросшиеся вскоре в настоящую революцию,1 2 которая эхом отозвалась и в рейнских областях. На Рейне брожение шло в том же Трирском курфюршестве — в Боппарде, Кобленце, Саарбурге, причем непосредственным поводом к волнениям была правительственная политика в отношении лесных угодий. Но эти <cUnru- Ьею> совпали уже с началом французской революции и под воздействием событий в Париже быстро стали принимать более широкий характер. Большое значение для дальнейшего хода событий на Рейне имела, кроме соседней Бельгии, также и революция, происшедшая во французском Страсбурге. О начале страсбургской революции (29 июля 1789 г.) рассказывает пространное письмо cceines Ungenannten», напечатанное в ccGeheimer Briefwechsel zwischen den Lebendigen und den Toten» (Koblenz, 1789) п воспроизведенное Ганзеном. События приняли здесь решительный характер, восстанием был охвачен весь Эльзас, причем большую роль играли крестьянские восстания. Соседство революционного Эльзаса не могло не отразиться на настроении низшего населения и в прилегающих немецких областях на Рейне. В Трире анонимный автор рифмованного памфлета призывал
1 Тяжелое положение крестьянства не только в Трирском курфюршестве, но и в других реннских провинциях засвидетельствовано показаниями современников. В Кельнском курфюршестве духовенству принадлежало 28% всей земли, дворянству —29%; в Трирском — духовенству 20%, дворянству —15% (Aubin. Geschichte des Rheinlandes yon der altesten Zeit bis zur Gegenwart. Bd. II, 1922). Из современников яркую и отчетливую картину положения рейнского крестьянства дает Sclionebeck в Malerischen Reise am Niederrhein, Bd. I, 1784; II, 1785; III, 1788/89, а также автор упоминавшейся уже «деревенской хроники» Дельговен (Die rheinische Dorfcliro- nik, 1783—1823). Протоколы прирейнских ландтагов до сих пор еще как следует не использованы. Из литературы см. Diesenfeld. Klemens Wenze- elaus, der letzte Knrfurst von Trier, seine Landstande und die franzosische Revolution (1789—1794) — в Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst. Erganzungsheft 17. Trier, 1912. Essers. Zur Geschichte der Kurkolnische Land- tage im Zeitalter der franzosischen Revolution 1790—1797. Gotha, 1909. Croon. Stande und Steuern in JUlich-Berg im 17 und 18 Jahrhundert, 1929. Springer. Die franzosische Herrschaft in der Pfalz 1792—1814, 1926.
2 Ганзен приводит сообщения о ходе событий из рейнских газет, а также официальные донесения.
270
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
к восстанию против курфюрста — а источника наших бед».1 Уже в августе пламя восстания охватило деревни и города Саарской области, где немецкие и французские владения причудливым образом переплетались друг с другом. То же самое происходило и в остальных областях левого берега Рейна: в Пфальце, Цвей- брюке, епископстве Шпейерском, ландграфстве Гессенском.1 2 18 августа началась революция и в Люттихском епископстве. Неспокойно было и в крупных рейнских городах — в Аахене, Бонне, Трире, Кобленце и даже консервативном Кельне, — где цехорые представители предъявили городскому совету 25 пунктов своих требований. Начиная с августа революция охватила подавляющую часть рейнских земель от Страсбурга вплоть до австрийских Нидерландов, где события приняли бурный характер. Значительная часть I тома собрания Ганзена заполнена сообщениями об «Unru- hen» в рейнских городах. Конец 1789 и весь 1790 год — это сплошной поток восстаний и мятежных выступлений. Характерно, что в Кельне волнения упорно повторялись, хотя у протестующего бюргерства не было особого желания следовать «парижскому образцу» («auf Pariser Art machen»). Тем не менее в городе было достаточно «unruhige Kopfe» и в конечном итоге пришлось принимать более решительные меры,3 вплоть до
1... «Fiirst Elemens, Ursach unsers Elends, Dbr Verderber unserer Stadt»... «BUrger wehret euch, ihr werdet durchdringep, Ihr habt das Recht in der Hand, Ihr werdet mit Pariser singen: Es lebe der BUrgerstand! Vivat!» Quel- len... Bd. I, S. 390.
2 Во всех этих областях мы наблюдаем в это время массовое восстание крестьян. Ганзен приводит корреспонденции реакционных газет, сопровождающих свой рассказ яростными нападками на «Rauberbanden», «des zflgel- lose Gesindel», на парижских «канвиба юв»: Повсюду, сообщают газеты, дымятся развалины замков и «многочисленные банды» грабят и опустошают. Нужно учесть, что в этих областях владете іьньїе особы были типичными представителями «старого режима» и здесь особенно были сильны пережитки крепостничества. Крестьяне немецких территорий быстро воспринимали лозунги французского крестьянства. Они требовали «gleiche Fre- beiten wie die Lothringen gewoanen haben». Quellen... Bd. I, S. 412—415.
3 История кельнских волнений довольно полно отражена у Ганзена. Он приводит выдержки из памфлетов, вышедших в связи с волнениями 4—5 окт. 1789 г. Последовавшие затем репрессии вызвали в декабре новые волнения, причем «мятежники» застав шли музыкантов играть «новую французскую песню» «£аіга». По язвительному замечанию одного памфлетиста это обошлось музыкантам довольно дорого, «denn die harraonische Zusam- menstimmung dieses Liedes war den aristokratischen Ohren des Senate unertraglich, die unschuldige Musiker wurden kriminal inquiziret und schan-
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 271
применения военной силы и арестов. С некоторым запозданием, а именно осенью 1790 г. серьезные волнения произошли н в Майнце;1 продолжали вспыхивать аналогичные волнения н в Трире и в других рейнских городах. Подавление бельгийской революции несколько подняло дух владетельных князей и их агентов, И репрессивные меры против ((Мятежников)) принимают более широкий характер. С конца 1790 г. и особенно в течение 1791 г. Рейнская область наводняется потоками французских эмигрантов, получавших радушный прием у многих рейнских государей, но в то же самое время вызывавших враждебное отношение к себе со стороны рейнского населения. С момента массового наплыва эмигрантов на Рейне намечается определенный перелом в ходе событий. Не за горами была и так наз. «французская оккупация», составляющая новый этап рейнской революции. Если суммировать все данные о восстаниях и мятежах, происходивших на Рейне до французской революции и в первые ее годы (до осени 1791 г.), то даже на основании того материала, какой мы находим у Ганзена,* 1 2 не только получается довольно отчетливая картина нарастания рейнской революции, но становится ясным, что эта революция выростала в первую очередь из местных предпосылок и что именно поэтому французские события могли оказать на нее столь могучее воздействие. При такой единственно правильной постановке проблемы рейнской
dlich misshandelt». Репрессии, однако, мало помогали, и в официальном донесении мы находим меланхолическое признание, что «der FreiheitsSchwin- del ist von unserm Reich noch nicht ganz entfernt». В соседнем Пфальце власти вынуждены были спасаться бегством, и, когда туда отправилась следственная комиссия из Маннгейма, то крестьяне преградили путь и повернули лошадей обратно, заявив, что «sie aus ebenso grossen Spitzbuben als ihre Beamten bestiinden».
1 По материалам Ганзена не совсем ясна причина выступлений ремесленников и части студентов, которые ворвались в здание университета на лекцию проф. истории Никласа Фогта и учинили і ад ним насилие.
2 Не следует забывать, что и в прежних публикациях, давно уже вошедших в научный оборот, мы найдем много ценного материала по данному периоду. Достаточно сослаться на издания работ Иоганна Мюллера, Форстера и др. В частности Форстер именно за эти годы совершил большое путешествие и выпустил в свет свои « Ansichten von Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Jnni 1790» (в 3-х tt.). Cm. также его —«Briefwechsel» в «Gessam. Schriften» и специальную работу A. Leitzmann. «Briefe und Tagebiicher Georg Forster von eeiner Reise am Niederrhein», 1893.
272
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
революции перед исследователем встает целый ряд новых вопросов, до сих пор еще не поставленных и не разрешенных научной историогра ф ией.
Прежде всего нам не ясны движущие силы назревающей революции; официальный и контрреволюционный характер документов, помещенных в издании Ганзена, мешает разглядеть социальный облик этого движения. Полнее всего, хотя и односторонне, выявлена роль рейнских «просветителей», но их социальная база остается невыясненной. Переход от теоретического просветительства к революционной деятельности (или для многих к отходу от революции) происходил в обстановке отмеченных выше ((Unruhen» и развертывания событий во Франции, и когда поток революции охватил и берега Рейна, — завершился процесс революционного самоопределения для многих ревнителей «Auf- klarung». Что в этих идеологических сдвигах большую роль сыграли и рейнские восстания, это становится ясным даже по материалам Ганзена, но спрашивается, какова же была роль идеологов в этом отношении и на какие силы они опирались. На эти вопросы в тех источниках, которые собрал Ганзен, ответа мы не находим. В реляциях официальных лиц и в корреспонденциях консервативных органов печати мы чаще всего видим почтенных бюргеров, иногда студентовр ремесленников и лишь где-то па заднем плане — массы, которые обычно именуются ((РбЬсЪ).
Очень слабо выявлена роль деревни, рейнского крестьянства и еще менее заметна роль городских низов. Без детального изучения положения народных масс города и деревни, без выяснения их роли в революционном движении рейнские события указанного периода выступают перед нами в искаженном виде без надлежащей исторической перспективы. Буржуазная историография подходит к этим проблемам, рассматривая их в рамках вековечной рейнской контроверзы об исторических правах Германии или Франции на рейнские территории. Как ни резко противостоят друг другу немецкая и французская точки зрения по этому вопросу, но обе они одинаково переносят центр тяжести на французскую революцию как решающий фактор в ходе рейнских событий. Разница заключается только в том, что одни подчеркивают гибельную отрицательную роль на Рейне французских «каннибалов», прикрывавших свои захватнические замыслы революционными лозунгами, а другие
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 273
наоборот толкуют о благодетельных последствиях французского периода для рейнских земель.
Мы более подробно остановились на этом начальном этапе рейнской революции потому, что изучение этого периода определяет собою правильную оценку и дальнейшего хода событий на Рейне. Материалы Ганзена, помещенные во II томе и охватывающие 1792 и 1793 гг., имеют дело уже с периодом первой французской оккупации левого берега Рейна. Наиболее крупным эпизодом этого периода (если иметь в виду именно немецкие территории) является несомненно ((майнцская революция».
Но когда обращаешься к изучению этого эпизода по материалам Ганзена, то испытываешь разочарование. Правда, он дает довольно значительное количество документов—или впервые публикуемых, или же редких и малодоступных. Они ПОЗВОЛЯЮТ до известной степени восстановить внешний ход событий, но даже и фактическая сторона дела отражена здесь на основании реакционных органов печати или официальных донесений; поскольку Ганзен выдвигает на первый план проблему ((левого берега Рейна», — то и ((майнцская революция» интересует его лишь как один из ((печальных» эпизодов французской оккупации. Между тем ((майнцская революция», — даже независимо от изучения общего хода революции на Рейне, — представляет исключительный интерес для исследователя. Для этого необходимо было бы обратиться к источникам, непосредственно отражающим ход событий; в частности большое значение имеет использование местной революционной прессы, но она, как мы видели, не нашла себе места в этом собрании. Вспомним, что второй том этого издания вышел уже после фашистского переворота Гитлера, — а в этом томе как раз и помещено наибольшее количество документов, касающихся Майнца.
Мы лишены возможности обозреть все содержание вышедших двух томов и ограничимся лишь краткими указаниями на наиболее крупные проблемы, получившие то или другое документальное отображение в этом издании. Обстоятельно дана история французской эмиграции и ее утверждения на Рейне, в частности в Кобленце. Ганзен приводит обширные донесения и официальную переписку, равно как и газетные сообщения о нарастающей волне эмиграции. Если эти впервые публикуемые документы и не вносят чего-либо существенно нового по этому во- просу, то они во всяком случае дают много весьма любопытных
Проблемы иотояняковеденяя, II 18
274
А. Б. КУДРЯВЦЕВ
деталей о поведении эмигрантов за границей и об отношении к ним как немецких князей и государей, так и населения. Довольно отчетливо обрисовывается по данным Ганзена формирование контр-революционных армий, а поскольку непосредственным толчком к организации ((крестового похода» против революционной Франции являлся Эльзас-Лотарингский вопрос, то и этот последний не мог не стать в центре внимания издателя и редактора данного собрания. А эго, ведь, и есть проблема «левого берега Рейна», резко разделившая немецких и французских историков на два враждебных лагеря. Ганзен, стремясь отобразить развитие эльзасской контроверзы, даст большое количество материала, причем с самого начала усиленно выдвигает на первый план завоевательные тенденции Национального собрания, а в дальнейшем и Конвента.
Столь же полно отражен и весь период французской оккупации, но и здесь Ганзен самым подбором материала проводит определенную мысль, что хозяйничанье французов на левом берегу вызвало «здоровую реакцию» среди рейнского населения; особенно с приходом к власти якобинцев оно заставило многих одуматься и освободиться от той «Freiheitsfieber», которая господствовала на Рейне в первые годы революции. Далее Ганзен тщательно подбирает материал, характеризующий отражение в сознании рейнского общества, в прессе и публицистике хода французских событий. 3™ главным образом корреспонденции рейнских газет из Парижа о крупнейших событиях в Париже и важнейших актах. Зтот материал хотя и не вносит чего-либо hobofo для изучения хода французской революции, все же представляет известный интерес для характеристики настроения отдельных, преимущественно реакционных кругов в рейнских областях. Лучше всего, как это и следовало ожидать, получила отражение политика многочисленных немецких государей, поскольку подавляющая часть материала состоит из официальных актов и переписки правительственных лиц. Многие из этих документов впервые извлекаются из немецких и австрийских архивов.
Таково в основном содержание двух вышедших томов «Источников по истории Рейнской области». Ими охвачена только часть революционного периода на Рейне — второй том заканчивается 1793 г. В историографии Рейна это первая пока попытка концентрировать материал, разбросанный по архивам и по отдельным редким и недоступным публикациям. Нетрудно, однако, пред¬
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 275
сказать, в каком именно плане будет дальше проводиться это издание. Исторический фронт в Германии в настоящее время полностью переключился на обслуживание «национальной революции» Гитлера, и фашистская историография несомненно приложит все усилия к тому, чтобы публикуемые ею документу асами за себя говорили», но говорили то, что согласуется с основными положениями фашистской «философии истории». Подбор материала, сделанный Ганзеном в первых двух томах (и особенно во втором), дает наглядный пример того, как фальсифицируется исторический процесс под маской «объективности». Политическая заостренность этого «солидного» предприятия видна на каждом шагу. Изучая материал Ганзена, мы наталкиваемся на совершенно определенные установки «третьей империи» по всей сумме так называемых «рейнских проблем». Совсем недавно получила разрешение одна из таких проблем — присоединение к Германии Саарской области; издатель услужливо дает исторический материал по этому злободневному вопросу, но дает в таком «ассортименте», который должен оправдать разгул фашистского террора в этой злополучной области в наши дни. Господство Здесь французских революционеров — это сплошная «анархия», Это «рука Парижа» — вот что выносит читатель, перелистывая документы, касающиеся этого вопроса. В таком же точно свете встают перед нами и другие революционные эпизоды на Рейне. Они настолько затушеваны и искажены самым подбором материала, что подлинный их смысл остается скрытым под наброшенным фальсификатором покровом.
Разумеется, и данное собрание принесет свою пользу в изучении этого яркого периода в истории рейнской области, но источниковедческой проблемы оно не разрешает. Материал Ганзена лишает возможности воссоздать научно обоснованную историю рейнской революции, но зато этот фашистский опыт издания первоисточников заставит обратить внимание советской историографии на этот совершенно игнорируемый ею до сих пор участок исторического фронта. Рейнская революция конца ХУШ века, развивавшаяся в тесном взаимодействии с Великой Французской революцией, еще не имеет своей истории. Буржуазная историография ею не занималась, как таковой, ставя и разрешая все «рейнские проблемы» в ультра-национ а диетическом аспекте. На современном гитлеровском этапе она, очевидно, попытается это сделать, опираясь на подобного рода издания,
18*
276
А. Е. КУДРЯВЦЕВ
как рассмотренное нами, но это еще более обязывает советскую историографию обратить сугубое внимание на этот политически актуальнейший участок исторического фронта. Не следует забывать, что немецкая фашистская историческая наука имеет позади себя прочно установившуюся традицию в освещении ((рейнских проблем». Стоит только указать хотя бы на почтенную уже по времени деятельность ((Gorresgesellschaft», носящего имя одного из крупнейших и ярких деятелей рейнской революции, Иосифа Герреса, — в молодости пламенного поклонника революции,1 а позднее (после 1800 г.) не менее ярого противника ее, одного из основоположников немецкого национализма. Это общество и до сих пор издает журнал ((Historische Jahrbuch», на страницах которого усиленно разрабатываются вопросы рейнской истории. В настоящее время этот орган является одним из ((столпов» фашистского исторического фронта.
Таким образом перед советскими историками встает трудная и сложная, но и необычайно важная задача — воссоздать подлинный ход революционных событий на Рейне, раскрыть их подлинный классовый смысл. И в этом плане открывается широкое поле для научной разработки целого ряда проблем, связанных с изучением судеб прирейнской Германии на крупном этапе ее исторического развития. Одна из наиболее важных проблем заключается в том, чтобы из сложного переплетения событий выделить то, что присуще самой рейнской области. Необходимо рассматривать рейнскую революцию как самостоятельное историческое явление, а не только как эпизод из истории Французской революции. Революционные события на Рейне имели свою внутреннюю логику; при всей разбросанности революционных очагов и разнообразии условий, вытекавших из территориальной чересполосицы, в развертывании событий на Рейне нельзя не усмотреть определенного единства, и перед будущим историком іі Об Иосифе-Гёрресе—имеется во II т. Quellen... лишь незначительный материал о молодых годах его жизни. В 1790 г. он учился в V классе Кобленцской гимназии, а через 2 года, перейдя уже в старший класс, он побывал в Майнце, где осенью 1792 г. образовалось а Общество друзей свободы и равенства» преимущественно из молодежи; на его собраниях произносили речи вожди Майнцской революции. 17 лет Геррес усердно посещал эти собрания и по его собственному признанию именно здесь он получил свою революционную зарядку. См. Quellen... Bd. П, S. 508, а также Reisse. Die weltumschauliche Entwicklung des jungen Joseph Gorres 1776—1806, 1926. Schellberg. G6rres. Koln, 1926.
РЕЙНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 277
в первую очередь встанет задача связного изложения хода событий в рамках всей рейнской области и всего революционного периода. При такой именно постановке изучения следует говорить уже о целом плане научной разработки истории Реййа данного периода. Реализация такого плана приобретает в настоящее время большую политическую значимость. Вместе с тем, глубокое и всестороннее изучение данного периода с точки зрения марксистско-ленинской методологии прольет яркий свет и на последующий этап рейнской истории, непосредственно связанный с великими именами Маркса и Энгельса.
А. Н. НАСОНОВ
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. А. ШАХМАТОВА: ОБОЗРЕНИЕ ЛЕТОПИСНЫХ СВОДОВ
Рукопись А. А. Шахматова, хранящаяся в Историко-археографическом институте Академии Наук СССР, заключает в себе 544 страницы в четверку, писанных мелким почерком и содержит следующие главы: 1) Лаврентьевская летопись, 2) Троицкая летопись начала ХУ в., 3) Радзивиловская или Кенигсбергская летопись, 4) Ипатьевская летопись, 5) Хлебниковская летопись, 6) Летописец русских царей (так называемый Летописец Переяславля Суздальского), 7) Синодальный список Новгородской 1-й летописи, 8) Отражения Владимирского полихрона XV в., Русский Хронограф, 9) Ростовский владычный свод XV в., 10)-Летописный свод 1448 г., 11) Комиссионный список Новгородской 1-й летописи, 12) Троицкий список Новгородской 1-й летописи, 13) Академический список Новгородской 1-й летописи, 14) Новгородская 4-я летопись, 15) Карамзинский список Новгородской летописи, 16) Новгородская 5-я летопись, 17) Первая редакция Софийской 1-й летописи, 18) Вторая редакция Софийской 1-й летописи,
19) Московско-Академический список Суздальской летописи,
20) Летописный сборник Авраамки и краткое извлечение из свода 1448 г. (Виленский, Супрасльский, Толстовский I № 189 и Синодальный № 154 списки), 21) Московский свод 1479 г., 22) Тихоновская редакция Ростовского владычного свода (Типографская и Толстовская I № 191 летописи), 23) Западнорусский сборник еп. Павла и краткое извлечение из свода 1448 г., 24) Рогожский летописец ХУ в., 25) Сказание летом вкратце ири сочинениях Игнатия Смольнянина и извлечение из свода 1448 г., 26) Западнорусские или литовские летописи, 27) Никоноровская и сходные с нею летописи (Великопермская, Кирилло-белозерская № 251 и Синодальная № 485). Каждая глава есть цельное исследование. После общего анализа идет специальный разбор Повести времен¬
280
А. Н. НАСОНОВ
ных дет иди текста до второго десятилетия XII в. данного свода иди списков (исключение — глава XXV). Главы I, III, VIII, X— XIV, XVI—XVII, XIX—XXI снабжены таблицами, изображающими отношение данной летописи к предшествующим ей сводам.
Согласно определению самого А. А. Шахматова, настоящий труд представляет собою исследование о летописных сводах, дошедших до нас в копиях или оригинальных списках; хотя попутно извлекаются указания на утраченные памятники летописания, но памятники, восстановленные путем сравнительного изучения, объектами непосредственных наблюдений не являются (исключение составляет глава X и отчасти главы II и XVI); последнюю задачу Шахматов откладывал до следующей части (см. главу X рукописи). Труд, сохранившийся в подлежащей- нашему рассмотрению рукописи, остался не вполне подготовленным к печати. О том, что Шахматов ((заканчивает труд по обозрению известных доселе летописных сводов)), было сообщено им самим на заседании Археографической комиссии 18 января 1911 г.1 Но труд не был закончен вполне в том объеме, как предполагал автор: ((обозрение)) охватывает значительное количество летописных сводов, но не все известные: нет, например, Никоновской летописи, Тверского сборника, Львовской летописи, Софийской 2-й, Воскресенской, Псковских летописей и некоторых других. В главе XIV— о Новг. 4-й летописи — Шахматов в примечании пишет, что о Карамзинском списке и списке Дубровского (Публ. библ., FIV 238) он скажет отдельно. Карамзинскому списку посвящена следующая XV глава, но главы, посвященной списку Дубровского, не имеется. Во-вторых, труд остался не вполне обработанным. В главе XXI о Московском своде 1479 г. — текст общего анализа должен был быть согласован с текстом анализа Повести временных лет и таблицей. На таблице, а равно и в тексте анализа Повести временных лет, указана Софийская 1-я л. в числе непосредственных источников московского свода и не указан свод 1448 г. В тексте же общего анализа в числе источников московского свода Софийская 1-я л. не отмечена, но указан свод 1448 г. На странице 3 главы XXI на полях вдоль текста, начинающегося словами: «В основании московского свода 1479 г.» ... и т. д., карандашом рукою А. А. Шахматова написано: «все это надо изменить в виду результатов анализа Пов. вр. лет (см. ниже)».
1 Лет. зан. Арх. ком. за 1911 г., стр. 5.
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. А. ШАХМАТОВА
281
Ср. также пометки на стр. 6—8 и 26 той же главы. Кроме того, в главе XI и гл. XVI приложенные таблицы не точно соответствуют тексту. В-третьих, в связи с результатами дальнейших работ, опубликованных в статьях А. А. Шахматова, в одной из глав автор предполагал внести изменения, а в другой, повиди- мому, дополнения. Так, в главе XX—о летописном сборнике Авраамки — против заголовка на полях карандашная пометка: «многое изменить ввиду моей рецензии на Каринского»: статья Шахматова по поводу книги Каринского была напечатана в Ж. М. Нар. Проев., июль, 1909 г.: «Несколько заметок об языке псковских памятников XIV—XV в.» (см. ниже). Карандашная пометка в начале главы XXVII — о Никоноровской л. — указывающая на связь изучаемого свода с материалом, сохранившимся в Ворон- цовском сборнике, и на статью Шахматова в сборнике в честь Корсакова (1913 г.) о Воронцовском сборнике, позволяет думать, что в главу XXVII Шахматов предполагал внести дополнения, подкрепляющие выводы его исследования (см. ниже). Следует заметить также, что карандашные пометки на стр. 314 и 224 главы о Новгородской 5-й летописи допускают предположение, что выводы главы XVI должны были быть автором пересмотрены (см. ниже).
Сравнение статьи Шахматова в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (т. XXV) о русском летописании 1915 г.) и «Пов. вр. лет», в. I (1916 г.), с предшествующими исследованиями А. А. Шахматова позволяет поставить вопрос: не изменил ли А. А. Шахматов своего взгляда по вопросу о времени соединения Софийского Временника с общерусским сводом и не отказался ли он от предположения о своде 1448 г.; но в рукописи мы не находим пометок, которые свидетельствовали бы о намерении Шахматова переработать главу X, посвященную новгородскому своду 1448 т., и внести соответствующие изменения в остальной текст.
Охватывая значительное количество дошедших до нас летописных списков, «обозрение» дает ряд новых, по сравнению с опубликованными работами А. А. Шахматова, исследований. Многие выводы были сообщены Шахматовым в статье в «Новом Энциклопедическом словаре». Особенно ценными с указанной точки зрения представляются главы XXII—XXVII.1 іі В предлагаемом обзоре содержания рукописи мы будем касаться только текста общего анализа сводов.
282
А. Н. НАСОНОВ
Наблюдения и выводы главы I (о Лаврентьевской л.) в общем совпадают с изложенными в статье «Исследование о Радзивилов- ской или Кенигсбергской л.», 1902 г. Но в отличие как от этого исследования, так и от статьи в «Новом энциклопедическом словаре)) Шахматов в гл. I «обозрения» доказывает, что в основе Владимирского свода 1185 г. лежали два сложных памятника: 1) Южшнрусский свод 1175 г. и 2) Суздальский свод, который передавал Повесть временных лет и южнорусские события XII в. сокращенно. Основанием предположению о существовании Суздальского свода, предшествующего своду 1185 г., служит: 1) запись событий 1176—1177 гг. современником, переданная не полностью в Лаврентьевской л., что показывает, что в распоряжении сводчика 1185 г. находился письменный источник, 2) различие в передаче южнорусского источника до 1110 г. и начиная с 1111 г. (обнаруживается сравнительным анализом Лавр, и Ипат. л.), позволяющее предполагать, что до 1110 г. передан один источник, а после 1110 г.—другой, причем последний представлял лишь краткую выборку из полного текста, 3) повторения некоторых известий в Лавр. л. в тексте свода 1185 г.
В статье «Симеоновская летопись ХУІ в. и Троицкая начала ХУ в.» (СПб., 1910) Шахматов указывал, что Троицкая л. местами дополняла и изменяла текст Лавр. л. на Юсновании других источников (о. с. стр. 94; то же в «Пов. вр. л.р, в. I, стр. LII).1 В небольшой главе II «обозрения» Шахматов, определяя отношение Троицкой л. к Лавр, л., отмечает, что дополнительный источник Троицкой л. в древнейших частях своих представлял собою владимирскую летопись. По поводу московского происхождения Троицкой летописи Шахматов обращает внимание, между прочим, на прибавку, сделанную к известию 1186 г. об изгнании новгородцами Ярослава Владимировича и приглашении князя Мстислава Давыдовича.1 2
Как известно, сходство Московско-Академической л. с Радзи- виловской заставило Шахматова первоначально предположить, что первая часть Моск.-Акад. сп., кончающаяся (как и Радз. л.)
1 О Троицкой л. — московском своде 1409 г.— см. также в статье: «Общерусские летописные своды XIV и XV в.». Ж. М. Н. Пр., сентябрь, 1900, стр. 194-200.
2 Троицкая л. была исследована М. Д. Приселковым; результаты исследования изложены в статье «Летописание XIV в.» (1922 г.), там же — ряд важных указаний о летописании XIV—XV вв.
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. а. ШАХМАТОВА
283
на 1206 г., не более, как копия с Радзив. сп., причем большую исправность Моск.-Акад. сп. он объяснял пользованием со стороны составителя М.-Акад. сп. и другой летописью. Показав в главе III «обозрения», что Моск.-Акад. список исправнее Радзив. на всем своем протяжении, Шахматов заключает, что М.-Акад. сп. не копия с Радзив., а оба они восходят к одному протографу (причем составитель М.-Акад. сп. подвергал текст исправлениям на основании другого или других источников). Этот вывод, имеющий значение в вопросе об иллюстрации Радзивиловского сп., был отмечен Шахматовым в статье: «Заметка о месте составления Радзивиловского (Кенигсбергского) списка летописи», напечатанной в сборнике в честь Д. Н. Анучина (М., 1913 г.), где Шахматов показал, что оригинал Радзив. сп. (т. е. общий протограф Радз. и М.-Акад. сп.) изготовлен в Западной Руси, вероятнее всего в Смоленске. Наблюдения главы III «обозрения» над составом оригинала Радзив. л. в общем совпадают с наблюдениями над составом Радзив. л., изложенными в статье: Исследование о Рад- зивиловской или Кенигсбергской летописи, 1902 г.
В главе ІУ Шахматов устанавливает соотношение между двумя частями Ипатьевской летописи, слитыми как будто механически: первой (начинающей с Пов. вр. лет), доведенной до 1198 г., после чего в ней читается обширная запись о закладке каменной стены в монастыре св. Михаила, что на Выдобыче, великим кн. Рюриком Ростиславичем, и второй (галицко-волынской), начинающейся вслед за похвалой Рюрику и описывающей события юго- западной Руси после смерти в. кн. Романа Мстиславича. Шахматов указывает на некоторую связь между обеими частями, о чем он писал в 1908 г. в предисловии ко второму изданию Ипат. л. Так, во второй части находим некоторые статьи, известные по другим летописным сборникам, в связи со статьями, вошедшим в первую часть (повесть о Калкском побоище, о нашествии Батыя на южную Русь; ср. Воскр. л.); с другой стороны, в первой части легко обнаруживаются статьи и известия несомненно галицко- волынского происхождения.
Первая часть — сложная компиляция, на что указывали и предшественники Шахматова и Шахматов ранее (1900 г.). Основной источник ее — Киевская летопись, доведенная до 1198 г., составленная в Михайловском Выдубецком монастыре, где игуменствовал Сильвестр. Выводы наблюдений Шахматова над этой последней летописью см. в «Пов. вр. лет», в. I, стр. XLIII—XLIV.
284
А. Н. НАСОНОВ
Шахматов’разбирает далее следующие вспомогательные источники первой части, отмеченные им в 1908 г. в ((предисловии» к Ипат. л.: Черниговскую летопись, сочувствовавшую Ольговичам; во вторых, источник, который сближается, прежде всего, с Воскресенской л. и, в-третьих, Галицко-волынскую л. (о чем мы упоминаем выше). В статье «Общерусские летописные своды» (1900 г., II, стр. 157, прим. 3) Шахматов о Черниговской л. говорит как о входившей в состав киевского свода, источника Ипат. летописи. Исследуя источник, который сближается с Воскр. л., Шахматов в «обозрении» приходит к выводу: предположение, что Воскр. л. и Ипат. л. независимо одна от другой соединяли известия суздальские с известиями южнорусскими, не выдерживает критики. 3™м источником, по мнению Шахматова, был Полин- хрон начала ХІУ в., о чем он писал в 1902 г., а также в «предисловии» к Ипат. л. и в «Нов. 3НЦ« Словаре», где в числе источников первой части Ипат. л., кроме перечисленных выше, названа летопись Переяславля южного.
В части Ипат. л., содержащей рассказ о галицко-волынских событиях, Хлебниковский список, как известно, не имеет хронологической сети. Шахматов, в согласии с другими исследователями,1 полагает, что Хлебн. сп. сохранил в данном случае особенность своего протографа, т. е. общего протографа Ипат. и Хлебн. списков. Но Шахматов указывает на возможность и другого предположения, согласно которому годы были поставлены в их общем протографе, ссылаясь [на проставленную на полях Хлебн. сп. хронологическую дату перед рассказом о Батыевом нашествии, сохранившуюся в Ипат. списке в тексте (см. гл. V «обозрения»).1 2
Анализируя «Летописец русских царей», содержащий Летописец Переяславля-Суздальского, служивший одним из источников этого свода, Шахматов (в гл. VI) устанавливает тесную связь между Летописцем русских царей и Никифоровским списком (в сборнике XV в., принадлежащем Академии Наук). Подводя итоги своему исследованию, Шахматов говорит, что «источниками летописной компиляции, сохранившейся в неполном виде в Ни- кифоровском и Московско-Архивском списках, служили: во-первых, Временник великих царств, т. е. Владимирский Полихрон
1 См. Дашкевич, Княж. Даниила Галицкого, Киев, 1873, стр. 6.
2 См. М. Грушевский. Хронологія подїй галицько-волинсьскої лїтописи, стр. З (оттиск из Зап. Наук. тов. їм. Шевченка, т. XL1, 1901).
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. А. ШАХМАТОВА
285
начала ХІУ в.; во-вторых, Киевский выдубицкий свод, быть может, в редакции, доходивший до 1198 г. (ср. пользование этой редакцией со стороны составителя Ипатьевской летописи); в-третьих, Переяславская летопись, доведенная до 1214 г.» Останавливаясь на вопросе о времени и месте составления этой компиляции, Шахматов приходит к выводу, что она составлена в XIV—XV вв. на западе или юго-западе России.
Приступая к разбору Синодального списка Новгородской 1-й летописи, Шахматов выделяет оригинал Синодальн. сп., доведенный до 1330 г. («начиная с последнего известия этого года,— пишет Шахматов, — идут разные почерки; последними записаны события 1337, 1345 и 1352 гг., причем содержание записей указывает на появление их в Юрьевском монастыре близ Новгорода»); смена почерков до 1330 г. не дает оснований предполагать об их разновременности.1 Определив источники Синодальной л. (Софийский влад, свод., позднейший извод свода Вояты и Полихрон нач. XIV в.) и останавливаясь на труде Германа Вояты, Шахматов проводит мысль, что в труде Германа владычный новгородский свод подвергся переработке и некоторым дополнениям по летописи южнорусской, т. е. ту мысль, которую он высказывал в статье «Общерусские летописные своды» (ноябрь 1900, стр. 188); к иному выводу по тому же вопросу Шахматов приходит в «Разысканиях» (1908 г.): Герман Воята «не был составителем свода, его труд заканчивался в сокращенной передаче своего оригинала; невероятно, — писал Шахматов, — чтобы, сократив свои новгородские известия, он вместе с тем позаботился пополнением их известиями киевскими» (стр. 202).
В главе VIII Шахматов исследует Русский хронограф в редакции, разделенной на главы (хронограф ред. 1512 г.), и редакции, неразделенной на главы (южнорусскую переделку конца XVI в.), частью опираясь на статью С. П. Розанова (Ж. М. Н. Пр., 1904, январь) и на свои предыдущие исследования. «Исследование,— пишет Шахматов, — дает нам основание говорить о следующих четырех изводах хронографа: о Пахомиевой первоначальной редакции 1442 г.; о редакции второй половины XV в., дополнив¬
1 В 1933 г. вышла работа И. М. Троцкого, в которой автор предлагает новые соображения о составе Синод, л.: в Синод, л., согласно исследованию Троцкого, имеем компиляцию владычного летописания с летописанием, производившимся при дворе Юрьевского архимандрита («Опыт анализа первой новгородской летописи». ИОН JVi 5).
286
А. Н. НАСОНОВ
шей хронограф известиями 1442—1451 гг. и сообщением о взятии Царьграда; о редакции 1512 г. и о южнорусской переделке, в основание которой легла вторая по нашему счету редакция», далее он указывает на 5-ю редакцию хронографа; редакцию 1599 г. и редакцию 1601 г., устанавливает их взаимоотношения и отмечает, что Никоновская л. пользовалась кроме хронографа ред. 1512 г. еще 2 й редакцией второй пол. ХУ в. Как известно, после статьи Розанова, напечатанной в Летоп. зап. Археогр. ком. за 1912 г., Шахматов принужден был отказаться от этого мнения в вопросе о том, какой редакцией или редакциями хронографа пользовалась Никоновская л. кроме ред. 1512 г., в связи с чем вернулся к прежнему взгляду на время составления Никоновского свода (см. ((Нов. энц. словарь», ср. Иосафовская летопись: Ж. М. Н. Пр., май, 1904 и Отчет о 40-м присужд. наград, гр. Уварова, СПб., 1899; см. также статью С. П. Розанова в ИРЯС, т. III, кн. 1,1930). Разбирая русский летописный источник хронографа, Шахматов приходит к выводу, высказанному им в статье ((Общерусские летописные своды» (Ж. М. Н. Пр., сентябрь 1900, стр. 125— 126).1
Глава IX—о Ростовском владычном своде ХУ в. — кроме наблюдений над Ермолинской летописью, из местных по статье Шахматова ((Ермолинская летопись и Ростовский владычный свод» (ИОРЯС, 1903 —1904 г.), заключает в се(1>е анализ Уваровского списка № 188 и Кирилло-белозерского № 454, хранящегося в Археографической комиссии (см. также П. С. Р. Л., т. XXIII, 1910). В Уваровеком списке Шахматов различает следующие четыре части: первую — от начала летописи до 1417 г, тождественную с Ермолинской л., вторую — до 1478 г., почти тождественную с текстом Никоноровской летописи; третью часть, от 1478 до 1489 г., которая не находит полных аналогий в тексте других летописей; четвертую — от 1490 до 1518 г. К Ростовскому владычному своду может быть возведена только первая часть. Но тогда как в Ермолинской л. список ростовских владык под
1 В статье, вышедшей в 1925 г., Розанов относил окончание составления первоначальной редакции хронографа ко времени немного позднее 1462 г. Соображения Розанова встретили возражения: см. А. Д. Седельников, Доси- фей Топорков и Хронограф, ИОД JV® 9, 1929. Работа Седельникова дает новый материал к решению вопроса о хронографе ред. 1512 г.; автор предположительно связывает деление на главы не с ред. 1512 г., а с редакцией, непосредственно следовавшей за ред. 1512 г. (там же).
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. А. ШАХМАТОВА
287
1396 г. доведен до Вассиана, в Уваровском списке он доведен до Трифона, откуда Шахматов заключает, что здесь мы имеем более раннюю редакцию Ростовского свода.
В Кирилло-белозерском списке Ростовский владычный свод можно проследить только в части до 1417 г. Э га редакция доходила по крайней мере до 1464 г., ибо читающееся в ней известие 1463 г. об обретении ярославских чудотворцев входило в состав #той редакции. Поэтому Шахматов полагает, что Вассиановская редакция, имеющаяся в Ермолинской л., отличалась от Трифоновской, повидимо іу, только прибавлением событий 1464—1472 гг., а также редакционными поправками.
Краткое резюме этого исследования см. также в ((Новом Энц. словаре)).
Попутно Шахматов упоминает в «обозрении» о более ранней редакции Ростовского владычного свода — ред. еп. Григория, отразившейся в общем протографе Соф. 1 и Новг. 4-й летописей.
Глава X посвящена Новгородскому своду 1448 г. Под Новг. сводом 1448 г. Шахматов разумеет общий источник Соф. 1-й и Новг. 4-й л., кончавшийся на 1422 г., но составленный в 1448 г., представлявший собою соединение Общерусского свода с Софийским Временником (сводом 1421 г.) и Ростовским влад, сводом. В последующих работах Шахматов, восстановляемое по Соф. 1-й и Новг. 4-й лл. соединение общерусского свода с Соф. Временником относил к 30-м гг., называя его условно Новгородско-Софийским сводом, а о своде 1448 г. не упоминал (см. статью в «Новом энц. словаре» и «Пов. вр. лет», в. I, 1916 г., стр. XLIX—L). К началу 30 *х гг. относил он и составление Соф. Временника (там же). В тех случаях, когда в «обозрении» говорится о своде 1448 г., в «Нов. энц. словаре» упоминается свод, условно называемый Новгородско-Софийским, а когда в «обозрении» говорится о Новг. своде 1433 г., в «Нов. энц. словаре» упоминается Соф. Временник (см. ниже).
Новое исследование и отчасти новое построение состава Комиссионного списка Новг. 1-й лет. Шахматов предлагает в главе XI. Отметив, что Комис. список писан двумя почерками, Шахматов устанавливает главные источники Комис. списка и определяет основной протограф Комис. сп., доходивший до 1432 г.; последнее можно обнаружить: во-первых, сравнением Комис. списка с Троицким; во- вторых, повторением под 1432 г. известия о возвращении княззй из Орды, причем в первый раз говорится, что они пришли «без
288
А. В. НАСОНОВ
великого княжения)), я во второй раз, что великое княжение по» лупил Василий Васильевич. В результате сложного исследования Шахматов приходит к выводу, что протограф Комис. списка (свод 1433 г.) составлен на оснований трех источников: 1) Новг. свода 1421 г. (т. е. Софийского Временника), 2) Синодальной лет., 3) Софийского владычного свода. Вскоре после 1448 г. этот протограф Комис. списка был переработан по своду 1448 г., причем текст с 1432 до 1439 г. взят из черновых дополнений к своду 1448 г. (оттуда же составитель первой ред. Новг. 4-й л. заимствовал рассказ 1422—1437 гг., а составитель Акад. списка Новг. 1-й л. продолжил свой текст до 1443 г.). Вскоре после этого свод подвергся дополнению в начале и в конце (1440—1446) на основании того же материала (ср. «Розыскания», стр. 381). Следует заметить, что приложенная к главе таблица не точно соответствует тексту: из нее можно заключить, что свод 1433 г* перерабатывался не только на основании свода 1448 г., но и на основании протографа Синод, списка; кроме того, в числе источников свода 1433 г. не указан Софийский владычный свод.
Согласно статьи в «Нов. энц. словаре», Новг. 1-я л. младшего извода по сп. Комис., Акад. и Толст, представляет собою переработку Софийского Временника, составленного около
1432 г., дополненную и исправленною по Новгородско-Софийскому своду. I
Разбирая Троицкий список Новгородской 1-й л., Шахматов в главе XIII «обозрения» сравнивает текст Троицкого сп. с Комиссионным списком и Новгородской 5-й л. и приходит к заключению, что Троицкий список положил в свое основание свод
1433 г.; но свод 1433 г. подвергся полной переработке со
стороны составителя Троицкого сп. на основании: 1) ка¬
кого-то списка Пов. вр. лет., 2) Комис. списка: в Троицком списке имеем статьи, восходящие к своду 1448 г.; таким образом, время составления Троицкого сп. определяется второй пол. ХУ в.
В главе XIII Шахматов выясняет, что Академ, список Новг. 1 л. составлен во второй пол. XV в. на основании трех источников: 1) Комиссионного списка, положенного в основание, 2) протографа Троицкого сп., и 3) свода 1448 г. Составителем Акад. сн. был, новидимому, поп Иоанн, имя которого читается» в молитвенном обращении летописца по поводу кончины Саввы, игумена св. Георгия.
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. А. ШАХМАТОВА
289
В главе XIV Шахматов рассматривает две группы списков Новг. 4-й л.: первую: Новороссийский и Голицы некий и вторую: Академический, Синодальный, Строевский и Фроловский. Первая группа ведет к редакции, доведенной до 1437 г., вторая — к редакции, доведенной до 1447 г. В виду большей близости текста обеих редакций до 1429 г., можно признать основную часть, доходящую до 1428 г., но прямых указаний на существование такой редакции нет. Источниками первой редакции служили Новгородская 1-я 1433 г. (вывод, отмеченный и в «Отзыве» о труде Шамбинаго, стр. 130),1 Новгор. свод 1448 г. и Рост, влад, свод в ред. арх. Ефрема (последний источник Новг. 4-й л. отмечен в том же «Отзыве», стр. 130). Составитель второй редакции Новг. 4-й л. сблизил текст первой редакции с Академ, списком Новг. 1-й л. и сводом 1448 г. В статье «Общерусские летописные своды» Шахматов указывал на Новг. свод 1448 г. и на Новг. 1-ю л. как на источники Новг. 4-й л., но на Новг. 1-ю л. не в редакции 1433 г., а в редакции 1437 г.; о Ростовском влад, своде не упоминал, а первую редакцию Новг. 4-й л. считал производной от редакции, сохранившейся в Карамзин- ском списке (см. ниже). В «Нов. энц. словаре» Шахматов говорит, что Новг. 4-я л. восходит к Новг.-Софийскому своду, сверенному и согласованному еще раз с Софийским Временником, причем в нее вошли дополнения из Рост. влад, свода времен арх. Ефрема.
В главе XV «обозрения» Шахматов приходит к выводу, что составитель протографа Карамзинского списка исправлял Новгородскую 4-ю л. второй редакции по своду 1448 г. (см. также «Разыскания», стр. 299, примеч. 1 и «Отзыв» о труде Шамбинаго, стр. 130).
Глава XVI содержит большое исследование о составе Новгородской 5-й л., как Шахматов условно называет летописный свод, не переходивший за 1446 г., который может быть восстановлен по Хронографическому списку Новгородской 4-й л. и по сокращенной редакции новгородской летописи, сохранившейся в сп. Погод. № 1404а второй половины XVI в. и некот. другим (ср. «Общерусские летописные своды», стр. 95—96; о третьей ред. Новг. 4-й л. и несколько замечаний о Новг. 5-й л. в «Отзыве» на труд Шамбинаго, стр. 102 и 130; ср. также П.С.Р.Л., іі Отчет о ХП присужд. премий митр. Макария в 1907 г., СПб., 1910.
1Q
Проблемы источниковедения, II х
290
А. Н. НАСОНОВ
т. IV, ч. II, в. І, изд. 1917 г.). Шахматов доказывает в «Обозрении)), что источником Новг. 5-й л. были: Новг. 4-я л. во второй редакции, Новг. 1-я л. в ред. 1433 г. и свод 1448 г.; Шахматов замечает, что, исследуя Пов. вр. лет по Новг. 5-й л., можно обнаружить еще два источника Новг. 5-ой л., повидимому, ничуть не отразившиеся на остальной части этой летописи. Шахматов приводит указания на связь составителя Новг. 5-й л. с церковью Пантелеймона в Новгороде. Хронографический список дополнил изучаемый текст по другому, не-новгород^кому своду (с 1446 по 1496 гг.); Новгородско-Псковская л. (сп. Погод, и др.) дополнила тот же текст текстом Псковской 1-й л. (от
1447 до 1547 г.), причем составитель сократил текст Новг. 5-й летописи (см. также предисловие к IV т. ч. И, в. I П. С. Р. Л., изд. 1917 г.). Текст, который в «обозрении» Шахматов относит к Новг. 1-й л. ред. 1433 г., в «Новом энц. словаре» он называет текстом Софийского Временника.
Как мы уже говорили, таблица, приложенная к главе XVI, не точно соответствует тексту.
Известно, что в статье «Общерусские летописные своды» Шахматов производит редакцию Соф. 1-й л., отразившуюся в списках Карамзина] и О[боленокого] от редакции, отразившейся в списках Т[олстовском], В[оронцовском], Б[альзеровском] и др., а следы большей древности текста в списках К. О. он объясняет тем, что эта редакция дополнила первую текстом общерусского свода 1423 г. (см. «общерусские летописные своды», стр. 103—107, 117). В главах XVII и XVIII «Обозрения» Шахматов подвергает детальному исследованию обе редакцйи и приходит к выводу, что древнейшей, первональной редакцией является та, которая представлена списками К и О; редакция, представленная спискам Т, В, Б и др., положила в свое основание список, к которому восходит протограф КО. (Ср. Отчет о 40-м присужд. наград гр. Уварова, 1899 г., стр. 151). Главным источником первой редакции (КО) был свод 1448 г. Но для известий XI—XII вв. был привлечен еще «Киевский летописец». Положив в свое основание список, к которому восходит протограф КО, вторая редакция Соф. 1-й л. дополнила его по московскому своду. В «Новом энциклопедическом словаре» на место свода
1448 г., общего протографа Соф. 1-й и Новг. 4-й л., поставлен Новгородско-Софийский свод в соответствии со сказанным выше.
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. А. ШАХМАТОВА
291
Московско-Академический список Суздальской лет. [рукоп.
6. М. Дух. акад. № 5 (182)] Шахматов рассматривает вслед за Софийской 1-й л. (в гл. XIX) потому, что вторая часть Моск.- Акад. списка (от 1206 г. до рассказа о взятии Батыем Козельска включительно) заимствована из Соф. 1-й л. (по сп. КО). Первая часть, как известно, родственна Радзивиловской л. (см. выше о гл. III), а третья часть (от 1238 до 1418 г.) восходит, как доказывает Шахматов, к Ростовскому владычному своду. Согласно взгляду, изложенному в статье «Общерусские летописные своды» (стр. 120; см. также «Исследование о Радзивиловской или Кенигсбергской летописи», стр. 22), в распоряжении составителя изучаемого сборника «была собственно не Ростовская л., а извлечение, сделанное из Общерусского свода, может быть по заказу из Ростова, для составления по нему местной летописи». Еще ранее Шахматов высказывался, что в этой части Моск.- Акад. л. мы имеем сокращение Ростовской л. 1419 г. (отчет о 40-м присуждении наград гр. Уварова, СПб., 1899, стр. 154). На основании анализа текста Шахматов в «обозрении» приходит к выводу, что третья часть Моск.-Акад. сп. извлечена из Ростовского свода, что это был Ростовский владычный свод в редакции арх. Ефрема, что Ефремовская редакция в общем повторила Григорьевскую, дополнив ее, однако, в конце вставками из общерусского летоп. свода — полихрона 1423 г.; сама Григорьевская редакция была составлена на основании Ростовского свода и общерусского в редакции, предшествующей Полихрону 1423 г. Извлекая текст из Ефрем, редакции для третьей части изучаемого свода, составитель его сокращал этот текст. В кратком виде вывод исследования над Моск.-Акад. списком приведен в «Новом «энц. словаре».
Глава XX содержит обширное исследование о летописи Ав- раамки и родственных ей списках,1 результаты которого были сообщены Шахматовым частью в «Отзыве» о труде Шамбинаго, в статье «Несколько заметок об языке псковских памятников» (Ж. М. Н. Пр., июль 1909) и в «Нов. энц. словаре», причем в последних двух работах с некоторыми изменениями, касающимися происхождения протографа лет. Авраамки. В «обозрении» Шахматов говорит, что текст, отразившийся в лет. Авраамки до іі Ранее несколько замечаний о составе лет. Авраамки было сделано Шахматовым в статье «Общерусские своды» (стр. 140—141) в связи с исследованием о сокращенной редакции общерусского свода.
19 ♦
292
А. Н. НАСОНОВ
1309 г., был соединен с текстом Новг. 5-й л. в Смоленске; уже оттуда компиляция перешла в Псков. В статье «Несколько заметок. ..» Шахматов, признавая вероятным, что Синод, сп. № 154 может восходить к сборнику, составленному, как и сам Синод, сп., в Пскове, имея далее в виду большую вероятность того, что Новгородские летописные источники подверглись соединению и переработке в Пскове, чем в Смоленске, признает лет. Авраамки копией с летоп. свода, составленного во Пскове. Утверждение, что летопись Авраамки списана с псковского оригинала, главным образом основывается на языке этой летописи по Виленскому списку. Этот Псковский летоп. свод, завезенный в Смоленск, лег в основание еще двух смоленских летописей: 1) дошедшей до нас в Толст. 1-й № 189 летописи XV в. и 2) дошедшей до нас в Супрасльском списке, принадлежащем Моек, главн. архиву М. И. Д., первой пол. XVI в (ук. соч., стр. 152—153). В главе XXIII ((обозрения)) Шахматов дает сравнительный анализ первой части лет. Авраамки (до 1309 г.) и летописца еп. Павла и далее доказывает, что текст первой части лет. Авраамки имел продолжение, сохранившееся в лет. еп. Павла: в лет. еп. Павла часть до 1309 г. сходна с лет. Авраамки, а часть с 1309 г. представляет собою продолжение первой части, т. е. кратких извлечений из свода 1448 г., соединенных с хронографом; так как лет. еп. Павла кончается 1461 г., Шахматов предполагает, что свод 1448 г., ведшийся, вероятно, при дворе новгородского владыки, имел продолжение, откуда составитель изучаемой компиляции извлекал материал. В «Нов. энц. словаре)) Шахматов на место «кратких извлечений из Новгородского свода 1448 г.» ставит в данном случае «сокращенную выборку из Новгородско- Софийского свода, продолженную новгородскими известиями до 1461 г.»
Сравнительное изучение так называемой Ростовской летописи (сохранившейся в сборнике архива Мин. ин. дел № 20/25 с Воскресенской летописью привело Шахматова к восстановлению московского свода 1480 г., о чем он сообщил в 1900 г. в статье «Общерусские летописные своды». Шахматов указывал на три источника Московского свода 1480 г.: 1) Моек, свод 1472 г., отразившийся в Никоноровской и Волог.-Пермской л. 2) Софийская 1-я л. и 3) Общерусский свод 1423 г. О Троицкой л. он писал, что «связь Троицкой летописи с Московским сводом 1480 г. очевидна, но очевидно также, что связующим звеном был свод
О НЕИЗДАННОЙ рукописи а. а. ШАХМАТОВА 293
1472 г.» (ук. соч., стр. 152—159). Сравнительное изучение Воскресенской л. с так называемой Ростовской л. и списком Дубровского привело в 1904 г. Шахматова к заключению, что «Московский свод 1480 г. (доведенный до 1479 г.) принадлежал к разряду сводов великокняжеских: он восходил к более древнему своду 1472 г., лежащему в основании Воскресенской летописи (отсюда сходство Ростовской и Воскресенской лл.); в части 1472— 1479 гг. он дополнен по летописям, из года в год ведшимся в Москве—великокняжеской и митрополичьей».1 В «Отзыве» на труд Шамбинаго Шахматов указывает на Эрмитажный список № 416 6 и условно называет свод, дошедший до нас в этом неисправном и позднем списке, сводом 1480 г., отмечая также параллельные тексты в Типогр. л. и Толст. 1 л. № 191 и в так назыв. Ростовской и в Воскр. летописях, и пишет, что он представлял собою соединение Московской л. с Соф. 1-й л. и другими источниками (ук. соч., стр. 132 и сл.). В «Пов. вр. л.», в. 1 (1916 г.), мы читаем, что Эрмитаж* сп. представляет соединение Соф. 1-й л. с Московским сводом (стр. LY). В главе XXI «Обозрения», в которой Шахматов Московским сводом 1479 г. называет условно свод, дошедший до нас в Эрм. сп. и в соединении с иными сводами в других летописях, Шахматов на приложенной к тексту таблице показывает в числе ^источников Москов. овода 1479 г. только свод 1472 г. и Московскую княжескую летопись. Что же касается Троицкой лет., Соф. 1-й л. и общерусского свода 1423 г., то они показаны в числе источников Москов. свода ред. 1456 г. (отразившегося в Бальзеровском и сходных с ним списках Соф. 1-й л.), к которому восходит Москов. свод ред. 1472 г.; к перечисленным источникам Москов. свода;ред. 1456 г. присоединен еще Ростовский влад. свод. Как мы говорили выше, текст главы XXI не вполне согласован с таблицей и с текстом той же главы, специально посвященной Пов. вр. лет. Разбирая источники Московского свода, Шахматов (в тексте общего анализа) не указывает на Соф. 1-ю л., но останавливается на своде 1448 г.
Отмечая (в «Обозрении») Рост. влад, свод как источник Московского свода второй пол. XY в., Шахматов, напомнив о следах древней Владимирской летописи в тексте первой пол. XIII в. іі О так назыв. Ростовск. лет. см. в Чтениях О. ист. и др.росс., 1904, кн. 1, дополнительные замечания, стр. 171.
294
А. Н. НАСОНОВ
дошедшего до нас Московского свода второй половины XV вв> пишет: сене нахожу возражений против предположения, что она (т. е. древняя Владимирская летопись) дошла до него (т. е. до составителя Московского свода второй пол. XV в.) в составе Рост, свода» (ср. «Общерусск. лет. своды», стр. 158—159).
В главе XXII — о Тихоновской редакции Рост. влад, свода — изложено исследование о Типографской и Толстовской I № 191 летописях, краткое резюме которого Шахматов ввел в статью в «Новом знц. словаре». Изучаемые летописи были изДаны в 1921 г. в XXIV т. П. С. Р. Л., где в предисловии отмечено, что сравнение обоих списков дает возможность судить о протографе Типогр. л. Несколько замечаний о Типогр. сп. со ссылкой на издание 1784 г. находим в статье Шахматова «Ермолинская летопись и Рост. влад, свод» (1903—1904 гг.).
Тихоновской редакцией Ростовского свода Шахматов называет в «Обозрении» текст, до 1484 г. включительно, общий Типографской л. и Толст, списку. В этом тексте Шахматов различает две части: первую, до 1423 г. включительно, и вторую, с 1425— 1484 гг. Основным источником первой части является Московский свод ред. 1479 г., а другим источником — какой-то свод, сходный с Лаврентьевской л. Шахматов полагает, что этим вторым источником была Ростовская летопись. То, что в тексте восходит не к Московскому своду, а к летописи, сходной с Лаврентьевской, Шахматов признает взятым из Ростовского владычного свода ред. арх. Ефрема, положенного в основание Тихоновской редакции Рост, свода.
Вторая часть изучаемого текста (с 1425—1484 г.) основывается, во-первых, на погодно ведшихся в Ростове летописных записях, во-вторых, на записях, ведшихся в Вологде, в-третьиху на митрополичьей летописи, ведшейся в Москве.
Текст Тихоновской редакции Рост. влад, свода (кончавшийся на 1484 г.) в Типографском списке продолжен до 1528 г. известиями какого-то особенного Московского свода (местами совпадающего с Львовск. и Соф. 2-й лл.), в тексте которого вставлены угличские статьи и известия.
В Толстовском сп. свод 1484 г. продолжен текстом весьма сходным с Софийской 2-й и Львовск. лл.
В главе XXIV Шахматов подвергает анализу Рогожский летописец. Указав на статьи, предшествующие русской летописи, и на тождественность в их рассказе с летописцем Авраамки, Шах¬
О НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ А. А. ШАХМАТОВА
295
матов, переходя к анализу текста русской летописи, говорит, что ограничивается «лишь краткими замечаниями относительно возможности разбить ее на несколько частей, в зависимости от сходства и связи с теми или иными летописными сводами», и предупреждает, что в его задачу сене входит исследование всего состава Этой летописи».
Шахматов различает первую часть, оканчивающуюся известием, 1288 г., вторую — с 1288 по 1327 г., почти тождественную с соответствующим текстом Тверского сборника, третью — с 1328 по 1374 г. — представляющую собою компиляцию известий, читающихся в Симеоновской л., с известиями Тверского сборника, и четвертую, сходную с текстом Симеоновской летописи.1
В первой части, согласно исследованию Шахматова, оказывается ряд летописных статей, сходных или тождественных с лет. Авраамки, что указывает на их общий источник; последнее подтверждается сравнением Рогожского летописца с летописцем еп. Павла. Но составитель Рогожского лет. дополнил их общий источник в тексте XII и XIII вв. из иного источпика: какого-то суздальского свода, который сходствовал с Лавр, и Радз. лл., но не совпадал с ними, причем, начиная с 1239 г., заметна близость к Московско-Академическому списку (см. о гл. XIX): очевидно, что Рогожский летописец, с одной стороны, а составитель Московски-Акад. сп., с другой, сокращали один и тот же источник. В ((Новом энц. словаре» Шахматов говорит, что в первой части Рогожек, летописца (до 1288 г.) основной источник (общий протограф Рогожек, л., лет. Авраамки и лет. еп. Павла) ((соединен с не дошедшим до нас Рост. влад, сводом, тождественным с тем, который был использован Московско-Акад. списком».
«Сказание летом в кратце» при сочинениях Игнатия Смоль- нянина и ((Извлечение из свода 1448 г.» рассматриваются в главе XXV. Это «Сказание», обнимающее события до 1405 г., сохранилось в списках хождения Игнатия Смольнянина и предшествует описанию Солуня и Афона (Софийском — б. Пет. дух. ак. № 1464 и Академическом — Акад. Наук, № 16. 8. 13); Игнатий был спутником смоленского епископа Михаила, сопровождавшего іі Построение генеалогии тверских летописных сводов было предложено в 1930 г. А. Н. Насоновым (ИОН, № 9—-10); предварительное сообщение вышло в 1926 г. (ДАН-13, ноябрь—декабрь).
296
А. Н. НАСОНОВ
митр. Пимена в его путешествии в Царьград в 1389 г. Ряд известий «сказания» принадлежит самому Игнатию. Бстественно встает вопрос: составлено ли ((сказание летом в крат це» самим Игнатием или же другим лицом для включения летописных данных Игнатия в общую русскую хронологическую сеть. Шахматов убедительно показывает, что следует остановиться на второй возможности: почти весь текст «сказания» возводится к тому памятнику, который восстанавливается путем сравнения. летописи Авраамки, Рогожского летописца и летописца еп. Павла, т. е. к краткому извлечению из свода 1448 г., сделанному во второй пол. ХУ в. Таким образом, сказание было составлено не самим Игнатием, а редактором его сочинений; этот редактор, как предполагает Шахматов, был сам смольнянин.
Глава XXVI посвящена западнорусским или литовским летописям, изданным в XVII т. П. С. Р. Л. Выделив общий литовским сводам текст, Шахматов останавливается на распределении материала в отдельных списках, отмечает, что распределение летописного материала в протографе Уваровского списка более позднее, чем распределение его в Супрасльском, Никифоровском и Акад., и не видит затруднений к тому, чтобы текст протографа Уваровского списка возводить к тексту протографа Супр., Ник. и Акад.; этот последний памятник он дДя краткости называет протографом Супр. списка. В начале его читались вводные статьи, затем излагалась общерусская летопись до 6954 г.; наконец, в ней был помещен текст Летописца князей Литовских. Так как Летописец князей Литовских известен и вне соединения с общерусской летописью (напр. в Виленском сборн. вслед за лет. Авраамки), Шахматов заключает, что существовал общерусский свод, доходивший до 6954 г., в западнорусской обработке. Он был впоследствии соединен с Летописцем князей Литовских. Дальнейшая история литовского летописания отразилась на разных этапах, во-первых, в Уваровском списке, во-вторых, в списках Румянц., Патриарш., Археолог, и Рачинского.
Обращаясь к анализу протографа Супр. списка, Шахматов говорит, что источник западнорусских известий его — смоленского происхождения. Общерусская летопись, таким образом, обрабатывалась в Смоленске, где на основании нескольких источников был составлен общерусский свод. Много внимания уделяет Шахматов определению источников этого общерусского свода. Подводя итоги исследованию о протографе Супр. списка, Шах¬
О НЕИЗДАННОЙ рукописи а. а. ШАХМАТОВА
297
матов пишет, что «этот памятник составлен в Смоленске из соединения общерусского летописного свода с Летописцем в* князей Литовских в начале ХУІ столетия. Общерусский летописный свод составлен тем же лицом или, может быть, другим предшествующими компилятором на основании четырех источников: митрополичьего свода, доведенного до 6954 (1446) г. в списке, сделанном в 1498—1502 гг.; Новгородской 4-й летописи; Софийской 1-й летописи первой редакции; западнорусских летописных источников. Из первого источника — митрополичьей летописи заимствованы: а) вводные статьи, б) несколько вставок в части до 1309 г., в) часть 6818—6896 гг., г) ряд вставок в части 6891— 6926 гг., д) часть 6927—6935 гг., е) некоторые известия под 6945, 6952, 6953 и 6954 гг.» ...
Перечисляя в 1901 г., в статье «О Супрасльском списке западнорусской летописи» (Лет. зап. Арх. ком.) источники протографа Супр. списка, Шахматов не называет Соф. 1-юл. В «Новом энц. словаре» приведены результаты исследования, имеющегося в гл. ХХУІ «Обозрения».
В обширной главе XXVII Шахматов рассматривает списки, содержащие материал для восстановления Московского свода редакции 1472 г.: Никоноровскую л. и сходные с нею: Великопермскую, Кирилло-белозерскую № 251 и Синодальную № 485, из которых Никоноровская оканчивается известием 1471 г., а родственные ей списки имеют продолжения, заходящие в XVI в., в основной же части явные вставки из других источников. Так, Великопермская (или Вологодско-Пермская) продолжена после 1471 г. до 1528 г. рассказом, близким к тексту Воскресенской и Никоновской летописей и имеет не мало вставок, относящихся до Вологды и Перми. Кирилло-белозерский и Синодальный в общем тождественны между собою (последнее общее известие — под 1538 г.). В части 1315—1528 гг. Великопермская летопись в общем тождественна с протографом Кирилло-белозерского и Синодального списков. Но составитель протографа Кирилл, и Синод, сп., как доказывает исследование главы XXVII, положив в основание своего труда текст Великопермской летописи, с одной стороны, продолжил летописный рассказ событиями 1529—1538 гг., а, с другой стороны, дополнил его вставками нескольких обширных статей. Источником для дополнения служил летописный свод, близкий к 1-й редакции Соф. 1-й лет., но далеко не тождественный с нею; это был Московский свод, повидимому, в редакции 1538 г.
298
А. Н. НАСОНОВ
Первая часть Никоноровской летописи является сокращением первой редакции Соф. 1-й л. со вставками и исправлениями по московскому своду. Вторая часть — с 1420 по 1471 г. — есть текст Московского свода; он близок к Московскому своду 1479 г., но представляет собою более раннюю редакцию (редакцию 1472 г.). В отличие от статьи ((Общерусские летописные своды» (1900 г.), где указан еще третий источник — сокращенная редакция общерусского свода,—Шахматов в ((Обозрении» все известия Никоноровской л. возводит к указанным двум источникам.
Когда нашелся считавшийся утраченным Воронцовский сборник и Шахматов подверг обследованию имеющийся в нем летописный свод, был обнаружен новый материал для восстановления Московского свода редакции 1472 г. (см. А. А. Шахматов. Несколько слов о Воронцовском историческом сборнике ХУІ в* Сборн. статей в честь Д. А. Корсакова, Казань, 1913 г.; см. также в цит. статье в а Нов. энц. словаре» о Великопермской л. и о летописи Воронцовского сборника).
АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
в. П. ЛЮБИМОВ
ОБ ИЗДАНИИ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
Историко-археографический Институт Академии Наук СССР приступил к подготовке издания Русской правды, являющейся, как известно, важнейшим источником по социальной истории древнейшей Руси и вместе с тем историческим ИСТОЧНИКОМ В фШОМ широком смысле этого слова.
Какова (вкратце) история предыдущих изданий этого памятника, в чем значение настоящего издания, и каким оно должно быть?
I
Есть такие немногие памятники, как древнейшие летописи, как Русская правда, как Слово о полку Игореви, которые с несравненной силой привлекают к себе исследователя.
Но Русская правда, приковывая к себе внимание, на ряду с этим и отстраняет от себя: к ней не легко подойти вплотную.
Большое количество списков этого памятника далеко еще не все приведены в известность, а из тех, что и выявлены, изучены лишь немногие и далеко не все расклассифицированы. Самая классификация списков, идущая от Калачова, представляет из себя лишь предварительный его опыт и является слишком суммарной и неполной. Вопрос требует пересмотра и детальной разработки. Вот первые трудности, встающие перед исследователем и издателем.
Но стоит лишь внимательно заняться Русской правдой, как изучающий ее столкнется с необходимостью изучить не только Русскую правду самое по себе, но и те кодексы, в состав которых она входит, ибо, если по своему происхождению и содержанию Русская правда является памятником самостоятельным, то в письменной традиции наш памятник не является таковым. До нас не дошло ни одной рукописи (за исключением подделок), которая имела бы своим содержанием одну Русскую правду. Русская правда есть всегда часть того или другого массива: или это летопись, или древне-русский юридический сборник «Мерило праведное», или огромный сборник канонического и общегражданского права «Кормчая книга», или же сборники иного рода, как
300
В. П. ЛЮБИМОВ
юридические, так и другие. И Русская правда, входя как часть в такое целое, жила вместе с этим целым. История ее текста поэтому должна изучаться вместе со всем кодексом, что подчеркнул и стал осуществлять уже Розенкампф в своем известном труде о Кормчей книге, в которой наш памятник особенно часто встречается.
Не даром Калачов должен был дать исследования не только о самой Русской правде, но и о Мериле праведном й о Кормчей книге, — исследования, впрочем, предварительного характера.1 Ключевский связал вопрос о происхождении Русской правды с Кормчей книгой, и если его гипотеза неверна, то может быть это случилось потому, что вопрос о связи этих памятников не изучен, а самые памятники не изданы.
Зато исследование проф. Стратонова о происхождении краткой редакции Русской правды привело к очень важным и обоснованным выводам именно потому, что оно связано с изучением летописи.1 2 На эту сторону данной работы, на связанность изучения летописи, как целого, с Русской правдой, как частью, и обратил внимание в своей рецензии А. Е. Пресняков, отметивший этот метод в относительно недавней работе С. В. Юшкова о древнерусских юридических сборниках, в которые входит и Русская правда.3
Итак, и изучение, и издание Русской правды необходимо так или иначе связать с рядом других памятников, которые также большею частью не изданы, не изучены, не расклассифицированы.
Но трудности не меньшие, а может быть еще большие, заложены в самом нашем памятнике. Написанная на древнерусском народном языке, она тем не менее представляет громадные трудности для понимания как по скудости источников, современных се образованию, так и по лаконичности ее выражений, прилагаемых к отдельным казусам, за которыми исследователю надо открыть целые обширные понятия, целые большие явления общественного и хозяйственного порядка. Это труднейший памятник для толкования, с чем приходится считаться исследователю и издателю ее. Издателя это обязывает к особой точности при воспроизведении его текста.
Может быть всеми указанными обстоятельствами в значительной степени и объясняется, что хотя о Русской правде имеется обширнейшая литература, но все это или работы по отдельным вопросам, касающимся ее, или фрагменты в общих больших тру-
1 Николай Калачов. Исследования о Русской правде, ч. I. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской правды. М., 1846 (2-е издм СПб., 1880). Его же. О значении Кормчей книги в системе древнего русского права, М., 1850. Его же. Мерило праведное. Архив историко-юридических сведений, отд. ПІ., М., 1850 (2-е изд.» СПб., 1876).^
2 И. А. Стратонов. К вопросу о составе и происхождении краткой редакции Русской правды, Казань, 1920.
3 С. В. Юшков. К истории древнерусских юридических сборников (ХШ в.), Саратов, 1921.— Рецензия А. Е. Преснякова в журн. «Книга и революция», № 1 (13), 1921 г., с. 45—47.
ОБ ИЗДАНИИ ((РУССКОЙ ПРАВДЫ»
301
дах по истории. И только два труда посвящены Русской правде как целому, как памятнику.
Один отстоит от нас на 88 лет (1846 г.). Это знаменитые «Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской правды» Калачова, представляющие юлько первый выпуск большого задуманного им труда об этом памятнике. Но и в таком виде это есть самое важное из всего, что имеется о Русской правде, и от чего исследователю приходится отправляться и теперь не только в отношении текстов памятника, но и в отношении массы сведений о памятнике как с внешней стороны, так и со стороны его содержания, а равно в отношении других памятников, находящихся с ним в особенной связи.
Другой общий труд о Русской правде, опирающийся не на подлинники, а на печатные издания ее и на литературу, относится к самому недавнему времени и принадлежит иностранному ученому: известный четырехтомный труд проф. Боннского университета Гетца 1910—13 гг.1
И вот по вопросу, непосредственно интересующему нас, Гетц в заключительном, четвертом, томе своего труда указывает, что он должен был отказаться от решения некоторых существенных вопросов вследствие неудовлетворительности существующих изданий нашего памятника, и при этом говорит о настоятельной необходимости нового издания списков Русской правды с соблюдением всех современных научных требований; это, по справедливому его замечанию, есть «nobile officium русских филологов и историков».1 2 3 *Действительно, в отношении изданий Русской правды дела обстоит очень печально.
Открыта Русская правда впервые в краткой редакции Татищевым 197 лет тому назад, в 1738 г., но напечатана только в 1767 г. Шлецером. Пространная же редакция издана впервые в 1788 г. по списку, найденному и списанному Крестининым. В дальнейшем, в конце XVIII в. и первой половине XIX в., имели место несколько изданий частью новых списков, частью перепечатки прежних. Из них самое полное (по 7 спискам) издание. 1844 г. Эвальда Тобина, который издавал, однако, не с подлинников, а с ранее вышедших печатных изданий, но некоторыми указаниями и чертами это издание ценно и по сие время. Так было до появления в 1846 г. указанного труда Калачова.
И до сих пор приходится пользоваться текстами почти исключительно из этой работы Калачова и его же отдельным учебным изданием четырех списков Русской правды, без точной передачи палеографических и орфографических признаков.8 При этом по
1 Leopold Karl Goetz. Das Russische Recht (Русская Правда). В. І—IV. Stuttgart, 1910—13.
2 Goetz. Das Russ. Recht. В. IV, S. 20.
3 H. Калачов. Текст Русской правды на основании четырех списков
рази, редакций, М., 1846 (след. изд. — М., 1847, СПб., 1881, СПб., 1889).
302
В. П. ЛЮБИМОВ
преимуществу пользуются последним изданием, так как в первой работе Калачов ставил себе задачу дать лишь именно ((предварительные)) сведения для дальнейшего. В ней мы не находим текста памятника в том виде, как он имеется в подлинниках. Разбив памятник на небольшие отрывки или статьи по отдельным предметам, Калачов привел их не в порядке следования их в памятнике, а по модернизованной юридической системе, напечатав сначала статьи, относящиеся к государственному праву, затем к гражданскому праву и т. д. Калачова неоднократно упрекали в такой перетасовке материала, — упрек не вполне заслуженный. Своей задачей он ставил дать изложение содержания Русской правды, как это делали историки-юристы по юридическим институтам, предпослав своему изложению в каждом случне соответствующие места из памятника и исполнив это необычайно добросовестно, так как хотя полностью текст приводится лишь по двум спискам (Синодальному и Академическому), нов вариантах использованы еще 44 списка и приписанные на полях и в текстах варианты отдельных мест шести из тех же списков.
Полное же общее издание Русской правды, с напечатанием, как он считал нужным, всех древних и важнейших списков, с подведением вариантов из других списков и с передачей палеографических и орфографических признаков, Калачов рассматривал как последующую работу, первую после его ((Предварительных сведений», и, можно думать, подготовлял ее, но смерть помешала ему.1
В дальнейшем издавались некоторые немногие новые отдельные списки и производились перепечатки с прежних изданий.
В 1904 г. Сергеевич издал тексты трех списков: Археографического— краткого, Троицкого — полного с некоторыми дополнениями из других списков и кн. Оболенского—сокращенного. Но это издание, считавшееся многими исследователями лучшим, ъ действительности далеко стоит от подлинников как по самым приемам издания (деление на статьи, неточность транскрипции и т. д.), так и по огромному количеству опечаток (см. ниже).
Наконец, около 30 лет тому назад начал подготовку материалов к новому изданию Русской правды Павлов-Сильванский, но чзмерть остановила работу, и после него остались лишь незначительные заметки (хранящиеся в Академии Наук СССР), не поддающиеся использованию (как сообщал мне лично покойный А. Е. Пресняков).
В таком положении и осталось дело вплоть до мировой войны и до Октябрьской революции. И в 1915 г. чешский ученый Кад- лец писал, что ((после Калачова не было ни одного русского ни историка права, ни филолога, который взял бы на себя хоть и не іі Калачов. Предварит, юрпдич. сведения для полного объяснения Русской правды, 1846, стр. 54 примечание. Его же. Текст Русской правды «а осн. четырех списков. 1846.
ОБ ИЗДАНИИ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
303
легкую, но зато благодарную задачу нового изучения всех дошедших списков Русской правды и критического издания, на основании такого изучения текста, этого выдающегося памятника с соблюдением всех научных требований».1
В итоге, исполнение этого дела, как многих и многих насущных дел науки и культурного строительства, осталось в наследство Советскому Союзу.
С тех пор, хоть и не сразу, задача издания нашего памятника ставится не только как опыты отдельных ученых, но и как задача научных учреждений.1 2 Вообще же за последнее время можно отметить следующие работы, относящиеся к изданию, а также новому исследованию списков Русской правды, из каковых три последние работы уже связаны непосредственно с мыслью об общем издании ее текстов:
1. В 1925 г. в изд. Первой Софийской летописи издан текст Русской правды, так называемой «Карамзинской редакции» по списку Оболенского, с местами из б вариантов. Эг° поздняя группа нашего памятника. Текст приготовлен П. Г. Васенко.3 Для общего издания Русской правды эта работа может дать указания по вопросу, какой текст для списков данной группы следует принять за основной — Карамзинский ли, как принял Калачов, или иной список.
2. Следующая в хронологическом порядке работа принадлежит автору настоящей статьи. В 1924 г. в заседании секции русской истории Института истории в Москве4 и в 1929 г. в Археографической комиссии Академии Наук в Ленинграде (в подкомиссии по подготовке изд. Русской правды) мною были доложены результаты моей исследовательской работы над подлинным Троицким списком ХІУ в., в связи с изучением Мерил праведных и других списков Русской правды, показавшие, что в ряде мест этот основной и важнейший список пространной Правды читался до сих пор неверно (в 1929 г. исследование расширено в сравнении с 1924 г.). Исследование это дало также критику изданий этого списка как Калачова, так и Сергеевича, обнаружив в них ошибки против подлинника, особенно много в изд. Сергеевича (см. ниже), показав вместе с тем, что это последнее воспроизвело текст не с подлинника, а с издания Калачова, внеся лишь много искажений.5 Текст же из издания Сергеевича, как известно, воспроизвел Гетц и пользовался им в своем четырехтомном исследовании.
1 - Archiv fur slavische Philologie». В. XXXVI, Heft 1—2, S. 284. Перевод цитаты мой.
2 См. жури. «Борьба классов», J\£ 1—2, 1924, стр. 375 (сообщ. Б. Д. Грекова).
3 ПСРЛ. Т. V. Изд. 2. Софийская первая летопись. В. I., Л., 1923.
4 См. Из отчета Института истории за 1924 — 1925 акад. год, «Ученые зап. Инст. истории», Т. Ш, М., 192'*, стр. 391.
5 В. П. Любимов. Палеографические ваблодегия над Троицким списком Русской правды. ДАН, № 6/В 1929 г., стр. 104—114, что составляет краткое извлечение из доклада.
304
В. П. ЛЮБИМОВ
В той же работе мною предложены приемы для издания с возможно точной передачей подлинника (распределение текста по строкам, точная транскрипция, нумерация статей в точном согласии с подлинником по киноварным заголовкам или абзацам и т. д.) и дана новая транскрипция Троицкого списка.
3. В 1930 г. вышла в свет работа покойного акад. Е. Ф. Кар¬
ского «Русская правда по древнейшему списку», в которой дана новая транскрипция с подлинника Синодального списка XIII в., с приведением вариантов мест по ряду других списков, с фотомеханическим воспроизведением всего Синодального текста, введением и словарем. Эт<> издание ценно тем, что оно впервые дает текст в такой транскрипции, которой может пользоваться для специальных работ каждый исследователь — историк, филолог, палеограф. Отсутствие точного издания текста и было одной из причин того, что наш памятник мало исследовался филологами. Приемы транскрипции те же, что предлагались и мною в указанной работе по Троицкому списку (лишь без нумерации статей и без надстрочных знаков; кроме того, к сожалению, есть ряд ошибок и опечаток, см. ниже). Во введении Карским дается также впервые в литературе краткий филологический разбор текста. Что же касается остальной части введения и словаря, то они научной ценности почти не представляют. Не давая ничего оригинального, они используют отрывочно и случайно лишь небольшое количество литературы, опираясь при этом нередко на устарелые работы, без обоснования такого выбора. Покойный Е. Ф. Карский, выдающийся филолог, не был знатоком в области древнерусских памятников права. |
Указанные работы Е. Ф. Карского и моя стоят в связи с начатой с осени 1928 г. Археографической комиссией Академии Наук СССР подготовкой к изданию Русской правды по всем спискам, каковая работа, однако, в конце 1929 г. прервалась.1
4. Приблизительно с того же времени или несколько раньше приступила к подготовке издания Русской правды Археографическая комиссия Всеукраинской Академии Наук, поручившая эту работу проф. С. В. Юшкову.1 2 3Укажем также на статью С. В. Юшкова об одном памятнике, стоящем в связи с Русской правдой—«Правосудие митрополиче» (его доклад 1928 г. в указанной подкомиссии по подготовке изд. Русской правды в Ленинграде), с опубликованием памятника.8
Заметим, что еще известный канонист Павлов, впервые в исследовательской литературе обративший внимание на этот памятник, отметил, что он составлен «из разных видоизмененных статей Правды и Ярославова устава».4
1 Отчет о деятельности Академии Наук СССР за 1928 г., стр. 274,275,277.
2 Работа С. В. Юшкова вышла в свет уже после сдачи в печать настоящей статьи и заслуживает специального рассмотрения.
3 «Летопись занятий Археогр. комиссии», вып. 35, Л., 1929, стр. 115—120-
* А* Павлов, «Книги законные», СПб., 1885, стр. 38, прим. 2.
ОБ ИЗДАНИИ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
305
II
Итак2 до сих пор не было не только издания Русской правды по всем дошедшим спискам, но не было и издания по сколько-нибудь значительному количеству списков (труд Калачова, как мы видели, есть только предварительная работа).
Но значение, а вместе с тем и приемы предстоящего издания определяются не только ЭТИМ, но, конечно, прежде всего, значением самого памятника. Значение это слишком известно, и останавливаться на нем нет надобности. Но не лишним будет отметить некоторые исторические проблемы из числа тех, которые в настоящее время стоят в порядке дня и разрешение которых находит основание в нашем памятнике.
Для исследователя по истории Киевской Руси, для изучающего экономику и общественные отношения трудно назвать другой памятник, который по своему значению мог бы быть сравниваем с Русской правдой.
Не даром исключительное внимание было уделено этому памятнику М. Н. Покровским, который с него и начал свои работы по русской истории (см. его «Отражение экономического быта в „Русской правде^» в сборнике «Русская история с древнейших времен» под ред. Сторожева. М., 1898, стр. 518—528) и широко использовал ее также во всех своих трех курсах истории. М. Н. Покровский же вместе с М. М. Богословским и Н. А. Рожковым дали и перевод на современный язык пространной Правды — по Троицкому списку (см. тот же сб. «Русская история с древнейших времен», стр. 446—470 и 2-е изд. его — «Киевская Русь». М., 1910, стр. 575—600).1
Образовавшись в своем полном составе в течение нескольких столетий, начало же своим нормам ведя от грани с доисторическими временами, Русская правда отразила в себе ряд исторических периодов, но по преимуществу ЭТО источник по истории феодализации и раннего феодализма, т. е. по той проблеме истории нашей страны, которая особенно трудна и которая в науке стала особо актуальной. Не даром уже работы Павлова-Сильвав- ского, который был занят, главным образом, более поздним феодализмом, все же в значительной степени касаются и Русской правды. В трудах М. Н. Покровского и других наш ранний феодализм относится прямо к Киевской Руси (см. работу С. В. Юш-
1 Переводчики придерживались, хотя, может быть, и не вполне, толкований и перевода, дававшихся на семинариях Ключевским (ср. А. М. Большаков и Н. А. Рожков, История хозяйства России в материалах и документах, в. I, 2 изд., Л., 1926, стр. 75—79 и примеч. 1 на стр. 75). О том, что это есть коллективная работа Богословского, Покровского и Рожкова, мне известно со слов покойного М. М. Богословского (сообщено это было им на семинарии по Русской правде в I МГУ в 1923—24 г. и в Археографической комиссии АН — в заседании подкомиссии по подготовке изд. Русской правды в 1929 г.).
Проблемы источниковедения, И
20
306
В. П. ЛЮБИМОВ
нова).1 А недавние работы Б. Д. Грекова ведут начальный период феодализма более определенно — от времени краткой Русской правды.1 2
Это и источник по истории труда (закупы, холопы, ремесленники и т. д.).3
Русская правда дает разнообразный и не малый материал и историку материальной культуры (земледельческие орудия, предметы пчеловодства и других промыслов, речные и морские суда, оружие, монеты и пр.).
Остановившись в своем формировании лишь к концу ХУ в., Русская правда в отдельных нормах, в отдельных чертах далеко пережила эту грань, особенно на Украине, в Белоруссии, на севере Руси, а осколки ее, может быть, найдутся даже и теперь. Для этнографа, для историка права и быта важны как изучение таких остатков, так и сравнение их с материалом из жизни других народностей. А это подводит нас к этнографии национальных меньшинств.
Не в менішей мере связаны с Русской правдой и задачи реконструкции древнего народного языка. С этой стороны Русская правда при углубленном изучении ее должна дать филологу едва ли не больше, чем почти все памятники: Русская правда, как заключает Шахматов именно из ее языка, возникла не в духовной среде.4
Литература по древнему периоду нашей истории за последние полтора десятка лет, как известно, весьма невелика.
Но характерно то, что в этой небольшой литературе из исторических памятников главное внимание советских ученых привлекает Русская правда. Вот неполный спйсок авторов этих работ 1920—1933 гг. (у некоторых авторов, по несколько работ): П. А. Аргунов, С. И. Борисенок, Б. Д. Греков, Г. А. Ильинский (рецензия), Е. Ф. Карский, В. 11. Любимов, Н. А. Максимейко, И. И. Полосин, А. Е. Пресняков (рецензия), Н. А. Рожков (переиздание прежней работы о Русской правде и части новых работ), Н. Л. Рубинштейн, И. А. Стратонов, И. М. Троцкий (рецензия), А. Н. Филиппов, С. Н. Чернов, С. В. Юшков, И. И. Яковкин и др. Есть и ряд работ, ждущих напечатания.
Отметим одно замечание из рецензии И. М. Троцкого в журнале ((Историк-марксист», как относящееся непосредственно
1 С. В. Юшков. Феодальные отношения в Киевской Руси. Ученые записки Саратовского Гос. университета, т. Ш, вып. IV, 1925, стр. 1—108.
2 Б. Д. Греков. Начальный период в истории русского феодализма. Вести. АН СССР № 7, 193'* г., стр. 14—18. Его же. Главнейшие этапы истории русской феодальной вотчины в изд. ИЛИ, Хозяйство крупного феодала xvn в., стр. ХХШ и сл.
3 См., напр., Н. Рожков, Очерк истории труда в России, М. — Л., 1924, стр. 11—26.
4 О письме А. А. Шахматова см. L. К. Goetz, Das Russische Recht, в. IV, S. 63 и 6i, прим. 1. E. Ф. Карский также говорит: «Наш памятник производит впечатление произведения, написанного начисто народном русском языке» («Русская правда по древнейшему списку», стр. 20).
ОБ ИЗДАНИИ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
307
к нашей теме: называя Русскую правду ссодним из основных источников социальной истории древней Руси», он указывает далее, что ((источник этот продолжает оставаться далеко не изученным и спорным. Одной из основных тому причин, — справедливо прибавляет И. М. Троцкий, — является отсутствие полного критического издания всех списков Русской правды».1
С печатных учебных изданий тексты Русской правды за последние 16 лет трижды переиздавались.8
Но роль Русской правды идет, как известно, дальше пределов СССР, как памятника, имеющего глубокое значение в деле изучения истории славян и других народов в свете сравнительно-исторического изучения, на что обращено внимание и иностранных ученых. Не лишним тут будет заметить, что Русская правда дает правовые нормы, вскрывающие социально-экономические основания быта не столько в статике, сколько в динамике, сообщает их в разной форме, относимой к разным временам, начиная с кровной мести, т. е. от более раннего времени, чем Варварские правды, в коих кровной мести уже нет. Вместе с тем, это древнейший из правовых памятников славянских народов.
Эти краткие замечания в общем намечают те важные проблемы, к разрешению которых следует подходить от текстов нашего памятника.
III
Как показывают и наш, и западно-европейский опыт, такого рода издания, как подготовляемое издание «Русской правды», если и повторяются, то через долгий срок. И работа по подготовке этого издания должна быть проделана так, чтобы последующие исследователи и издатели, по мере возможности, были избавлены от труда снова обращаться к массе рукописей.
В связи со всем вышесказанным представляется целесообразным дать издание в следующем виде:
Часть I — тексты Русской правды. Ч. II — описание рукописей, заключающих в себе тексты Русской правды. Ч. III — по литературе о Русской правде.1 2 3 Ч. IV — указатели.
Не касаясь пока указателей и III части (в которой возможны библиография литературы, комментарии по литературе и т. д.), остановимся на 1 и II частях.4 * *1 «Историк-марксист» № 8, 1928 г., стр. 186—187.
2 В 1918 г. переиздано Б. Д. Грековым с изд. Сергеевича, в 1928 г. А. И. Яковлевым и .1. В Черепниным с изд. Калачова, в 1934 г. Б. Д. Грековым, В. П. Любимовым и Г. Е. Кочиным.
3 Эта нумерация частей не предрешает порядка их выпуска. Если, напр.. часть, (скованная на использовании литературы, будет готова ранее, она может быть и раньше выпущена.
4 Предлагаемые принципы издания еще не получили окончательного
утверждения Историко-археографического института и являются материа¬
лом для обсуждения. — Ред.
20*
308
В. П. ЛЮБИМОВ
Часть L 1. Русская правда издается по всем сохранившимся спискам, какие представится возможным привести в известность; исключаются лишь те несколько списков нового времени (XVIII— XIX вв.), относительно которых не будет никаких сомнений, что они являются лишь простыми копиями других наличных списков.
По предварительным моим разысканиям число списков должно быть около 100 (указание Калачова, приводимое им со слов Строева о том, что одних кормчих, заключающих Русскую правду, существует не менее 300, очевидно, ошибочно). Необходимы дальнейшие разыскания в разных хранилищах.1
2. «Немногие из них (списков Русской правды), — говорит Калачов, — были столь счастливы, что сделались предметом отдельных изданий и ученых объяснений; даже, по какой то странной игре случая, эти списки, обратив на себя однажды общее внимание любителей древности, с тех пор несколько раз перепечатывались, между тем как другие скрывались в совершенной неизвестности или только мельком были указаны в изданиях...»1 2 И Калачов, как мы уже видели, в полном издании, которое он собирался дать, считал нужным напечатание всех древних и важнейших списков, с подведением вариантов из других списков.
Это именно теперь п надлежит сделать. По предварительным моим соображениям о классификации и различных чертах списков общее число списков как основных, так и некоторых других, характеризующих подвиды редакций, составит приблизительно списков 15. Из них: 1 —XIII в., 2 — XIV в., 1 —XVI в., 1 — XVII в., остальные — XV в. Вот эти-то списки и следует напечатать полностью. Напечатание их целиком даст, во-первых, разнообразие списков в цатуре; во-вторых, очень упростит знакомство с подводимыми вариантами; в третьих, даст возможность наглядно представить историю текста, в частности, точной передачей киноварных надписаний и инициалов, характеризующих историю текста и деление на статьи (о значении киноварных надписей см. у Розенкампфа, Калачова, Сергеевича).
Указанное число списков, подлежащих напечатанию полностью, никак нельзя считать большим по сравнению хотя бы с тем, что списков «Устава св. Владимира» (тоже памятник эпохи
1 Указания о списках Русской правды см. у Калачова, у Н. Никольского, Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений, СПб., 1906, и в некоторых др. изданиях. Кроме того, мне известны вновь открытые за последние годы: 1 список в Гос. Публ. Библиотеке в Ленинграде, открытый В. Ф. Покровской, несколько списков в Гос. Историч. Музее в Москве, открытых Н. П. Поповым, и несколько списков в Публ. Библ. СССР им Ленина в Москве, открытых мною. Н. П. Поповым и мною о списках этих сообщено было в 1929 г. в Археограф. Комиссию АН СССР, а также С. В. Юшкову, что послужило ему для подготовки изд. Русской правды Всеукраинской Акад. Наук.
2 Калачов. Предварит, юридич. сведения... 1846, стр. 43.
ОБ ИЗДАНИИ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
309
феодализма) пришлось напечатать полностью 26 (вместе с некоторыми старинными изданиями).1
На необходимость для исследователя иметь под руками самые списки (а не отдельные места из вариантов) указывает и Сергеевич,1 2 Как важно было бы это, показывает и недавняя работа Н. А. Максимейко об интерполяциях в тексте пространной Русской правды.3
Кроме того, необходимо напечатание тех статей Русской правды, которые, помимо нахождения их в списках ее, встречаются в несколько иной редакции в тех лее рукописях и отдельно: «Володимера князя суд о послушестве», «О мужи кроваве» и другие, если встретятся, с подведением к ним вариантов. Такие «блуждающие» статьи, быть может, прольют свет на историю текста памятника.
3. При решении вопросов о расположении текстов в печати и о транскрипции возникает много трудностей.
Еще Калачов мечтал о параллельном расположении текстов, «дабы все списки молшо было обозревать одним разом и сравнивать представляющиеся между ними разные отмены».4 Так именно и расположены тексты Салической правды в известном издании Гессельса — в восьми столбцах и 9-й столбец ссылок на литературу.5 Наше издание по количеству списков не может в точности следовать примеру Гессельса, да и в его издании тексты пришлось печатать слишком мелким шрифтом.
Второе затруднение относится к транскрипции. В данном издании, как основном, надо дать списки с возможной точностью— так, как они есть в натуре. Такого рода транскрипция необходима для филолога, для специальных работ историка; п палеограф тут найдет настолько материала, насколько может передать типографская техника. Тексты, изданные так, могут послужить и для ряда последующих издании разных типов и разного чпела текстов. Но для многих работ достаточна и более удобна упрощенная транскрипция, приближающаяся к современному нам написанию.
Третье затруднение заключается в цитировании текстов. Точность издания текстов требует, чтобы в них не вносить деления на статьи, какого нет в самых текстах, отметив лишь имеющиеся в подлинниках киноварные надвисання п инициалы, служившие в древности делению на статьи. А между тем деления на статьи, принятые Калачовым н Сергеевичем, так глубоко вошли в науч¬
1 Р. И. Б. Памятники древне-русского канонического права, ч. II, в. 1, П., 1920, стр. 1—72.
2 В. Сергеевич. Лекции и исследования по древней истории русского права, СПб., 1910, стр. 80.
3 «Праці Комісії для впучивання захлдньо-руського та українського права», в. VI, Киів, 1929, стр. 1—34.
4 «Предв. юрид. сведения для полного объясн. Русской правды», 1846. О. 77.
5 Hessels et Kern, Lex Salica. London, 1880.
310
В. П. ЛЮБИМОВ
ный оборот, что без показания этих делений возникнут громадные трудности в пользовании литературой, не говоря уже о том, что эти деления и сами но себе имеют научное значение, как толкования памятника. Приведение нумерации этих делений на полях не достаточно, так как надо точно знать, каким именно словом начинается статья; а указать это двойное деление в самих транскрипциях текстов вертикальными чертами—значит привнести в них нечто чужое и в то же время загромоздить тексты, которые и без того будут снабжены ссылочными цифрами для вариантов.1
Выход может быть только один: кроме воспроизведения всех подлежащих списков в точной транскрипции, с подведением вариантов, несколько из них напечатать, как приложение, и в упрощенной транскрипции, без вариантов, и при том особой брошюрой. Эт0 увеличит издание в размере от 3 до 5 печатных листов (в зависимости от числа списков — см. ниже п. 5), но зато будут достигнуты наглядность и большое удобство при пользовании. В то же время это явится готовым материалом и для особого (учебного) издания.
Детально форма издания показана ниже — см. пн. 4, 5, 6.
При этом надо заметить, что все издание с указанным приложением будет но размерам все же меньше издания Lex Salica, так как последняя гораздо длиннее Русской правды.
4. Указанные выше в п. 2 списки, подлежащие печатанию полностью, должны быть напечатаны точно, с передачей орфографических и палеографических признаков (как думал и Калачов).
Списки печатаются строка в строку с подлинника (как это слелано, напр., в отношении древнейшей части Leges Visigotbo- rum в Monumenta Germaniae historica).1 2
Списки печатаются отдельно по группам, напр., два кратких, несколько списков Троицкой группы и т. д. В пределах каждой данной группы тексты располагаются параллельными столбцами (как, напр., в издании ((Устава св. Владимира»).3
Титла не раскрываются; сохраняются все особые буквы — ъ, ь, 'Ь, юсы и пр.; передаются знаки препинания подлинника и по возможности надстрочные и иные знаки. Руководством могут служить ((Правила издания грамот Коллегии Экономии», с заменой, однако, церковно-славянского шрифта гражданским.4
1 Сравнение числа статей в Троицком, напр., списке таково: по подлиннику (кивоварь) 58, по Калачову — 115, по Сергеевичу — 153.
2 М. G. h. Leges Visigothorum. 1902. Legum codicis Euriciani fragmenta. C. 1—32. — Lex Salica в Mon. Germ. hist, еще не издана. '
3 P. И. Б. XXXVI. От изд. «Устава св. Владимира» можно заимствовать только прием параллельного печатания текстов. «Устав» издан не по всем указанным в издании спискам; в полном отрыве от рукописей, в состав коих он входит; транскрипция неточная; в ряде мест за основу берутся, без всякой мотивировки, более поздние рукописи; есть пропуск дат рукописей и т. д.
^ Правила издания сборника грамот Коллегии Экономии. П., 1918. — Гражд, шрифт, как в изд. Ипатьевской и Лаврентьевской летописей 1923,
ОБ ИЗДАНИИ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
311
Эти приемы транскрипции были предложены мною еще в 1924 г. в докладе в Институте истории в Москве (см. выше), где и получили одобрение.1
С такими приемами напечатан в 1930 г. и Синодальный список Е. Ф. Карским, с устранением им, однако, надстрочных знаков. В рецензии на это издание проф. Г. А. Ильинский, справедливо усматривающий ценность издания именно в его фило~ логической и палеографической точности, указал вместе с тем на устранение надстрочных знаков как на недостаток.* 1 2 Заметим, что воспроизведение знаков, сложное в больших памятниках, как летописи, не представит такого труда в кратком памятнике, каким является Русская правда.
На полях нумеруются строки списков, а также и статьи в точном согласии с подлинниками, считая статьи по киноварным надписанилм и киноварным инициалам.
К текстам соответственно подводятся под строкой варианты отдельных мест и палеографические примечания.
5. Из указанных списков несколько списков (основные) печатаются, кроме того, вторично особой брошюрой (это приложение или 2-й выпуск 1 части). Списки печатаются без вариантов и примечаний, в упрощенной транскрипции, сплошной печатью, а не по строкам подлинников. Но располагаются они по возможности параллельно. Нельзя соблюсти параллельности только в отношении краткого списка, но все же надо напечатать его в первом столбце, равно как и вторую часть Синодального списка против несовпадающей в большей части по порядку второй части других пространных списков; а вставную часть списков типа Карамзин- ского выделить (сокращенные списки типа списка Оболенского поддаются параллельному печатанию, за исключением двух-трех мест). В текстах этого приложения и следует означить статьи и начала их по Калачову и Сергеевичу вертикальными чертами двух видов (сохранив вместе с тем нумерацию статей согласно киноварным указаниям подлинников). Желательную полноту дали бы тут 6-7 списков. Это приложение, как отдельная брошюра, в раскрытом виде, вместе с соответствующими раскрытыми страницами указанных точных транскрипций текстов, в совокупности дадут полную возможность обозревать все списки «одним разом», по выражению Калачова. Если напечатать в этом приложении меньше семи списков, то это будет не так полно и наглядно, но все же цель в значительной степени будет достигнута.
6. Приложение вместе с тем, будучи отпечатано отдельным оттиском, с присоединением небольшого соответствующего вве-
1926—1928 гг. Из русских изданий приближается к предлагаемым приемам также «Псковская судная грамота», изд. Археография, комиссии, СПб., 1914. Но все же то издание значительно менее точно.
1 См. протокол Секции русской истории Института истории от 1 дек. 1924 г.
2 «Byzantinoslavica», 1930, II, стр. 437.
312
В. П. ЛЮБИМОВ
дения, может быть выпущенным и как особое издание. Оно послужило бы и как издание учебное и как общедоступное по цене и размерам для всякого; тогда как все издание в целом очень дешевым быть не может.
Итак, в недрах одного издания будет два издания: а) одно для специальных работ, а также для ряда последующих изданий разных типов; б) другое издание — настольное для всех.
7. Второе приложение к общему полному изданию (или 3-й выпуск 1 части): фотомеханическое воспроизведение в натуральную величину целиком, по крайней мере, одного краткого списка, трех пространных (пергаментные Синодальный, Троицкий и Пушкинский) и по одной странице из всех тех остальных списков, которые будут напечатаны полностью. Приложение Это должно составить также отдельную брошюру в целях удобства одновременного параллельного пользования с транскрипциями.
Хотя Синодальный список уже воспроизведен в издании Карского, но не в натуральную величину; да кроме того, его следует дать все равно и в настоящем издании в целях полного охвата им всего материала.
8. Изданию должны сопутствовать предисловие (о значении
Русской правды как источника и пр.), введение (о классификации списков, делении на статьи и т. д.), библиография всех прежних изданий памятника, палеографическая статья о списках Русской правды (особенно о Троицком списке и о некоторых других) и иные сведения, какие по ходу работы и по свойству предмета представятся нужными.1 \
9. Так как описание рукописей составит II часть издания, то в I части надлежит дать только перечень списков Русской правды лишь с краткими указаниями на рукописи (примерно: название списка Русской правды; название рукописи, в коей список находится; дата; место хранения рукописи; название рукописного собрания или фонда, шифр или № рукописи).
Часть II. 1. Описание всех рукописей, заключающих тексты Русской правды.
Описание каждой рукописи должно дать как краткое палеографическое ее описание, так и описание ее содержания. Содержание рукописей типических описывается последовательно, статья за статьей. В описании других рукописей возможно ограничиться указаниями на совпадения или отличия от основной рукописи данной группы.
1 Кроме уже названных изданий Вестготской и Салической правд некоторые указания разных черт для нашего издания можно почерпнуть также и из др. аналогичных европейских изданий, в частности Konrad Beyerle, Lex Baiuvariorum. Munchen. MCMXXV1 (1926), — с учетом того, что это издание Баварской правды не по всем ее спискам, а только по одному списку (Инголыптэдтскому), и что Баварская правда, как одна из поздних Правд,— менее ценный памятник, чем Русская правда.
ОБ ИЗДАНИИ ((РУССКОЙ ПРАВДЫ))
313
Рукописи, заключающие списки Русской правды, печатаемые полностью, будут, вероятно, теми, которые описываются постатейно. Сколько будет, сверх того, рукописей, подлежащих такому же описанию, сказать трудно.
2. Наибольшее количество списков Русской правды находится в Кормчих книгах (русской редакции). Из этих рукописей только три имеют подробные научные описания: Новгородская (Синодальная) кормчая XIII в. (описания Уидольского и Срезневского) и две Румянцевских ХУ и XVII вв. (описание Востокова). Ценны также описания нескольких Кормчих Строева, хотя они менее подробны и менее точны, имея характер библиографических справочников. Справочный характер имеет и ряд описаний других Кормчих другими авторами, из коих не все удовлетворительны и с точки зрения справочников. При этом имеющиеся описания разбросаны по разным изданиям описаний, являющихся зачастую большой библиографической редкостью. Очень многие Кормчие совсем не описаны.
Списки, помещенные в Кормчих (за исключением, может быть, двух-трех?) идут от списков типа Троицкого. Классификация Кормчих в значительной степени совпадает с классификацией помещенных в них списков Русской правды (на что до сих пор не было обращено внимания). Тип описания (в отношении фиксирования тех или иных деталей, подробности или краткости и т. д.) и определится после работы по классификации Троицкой группы списков Русской правды на подвиды и после классификации самих Кормчих (тогда же определится возможность или невозможность сокращенного описания части Кормчей, содержащей постановления специально канонические). Что же касается Новгородской кормчей, то следовало бы прямо перепечатать описание ее Срезневского (дополнив некоторыми примечаниями, необходимыми в виду ссылок Срезневского на описания его других Кормчих), имея в виду как значение этой рукописи, так и то. что описание Срезневского является библиографической редкостью.1
3. «Мерило праведное» описано Калачовым, но это описание несколько устарело; на его основе должно быть дано новое подробное описание.
4. Из рукописей, содержащих Русскую правду, изданы только несколько летописей и Пушкинский сборник (ХІУ в.). Эти РУК0~ писи, как изданные, подлежат лишь самому краткому описанию.
5. Другие сборники как летописные, так и иного рода, в виду их большого своеобразия, описываются индивидуально, что не представит особых затруднений вследствие их небольшого размера и пока небольшого числа. іі И. И. Срезневский. Обозрение древних русских списков Кормчей книги. СПб. 1897, стр. 85—112. Шрифт при перепечатке следует принять не церк.-славян., а гражданский, как для списков Русской правды.
314
В. Н. ЛЮБИМОВ
6. В описаниях или отдельно от них возможно напечатание отдельных кратких фрагментов текстов, если таковые имеют особое значение для текстов Русской правды. Важно отметить вообще все признаки (как палеографические, так и по содержанию), так или иначе имеющие отношение к Русской правде.
7. Необходимы точные библиографические сведения как об имеющихся описаниях рукописей, так и о напечатанных где-либо тех или иных статьях из этих рукописей, с указанием, насколько исправно они напечатаны.
8. II часть должна включать: введение с общей характеристикой рукописей, их классификацией и т. д., и иные сведения, какие по ходу работы и по свойству предмета представятся нужными.
В отношении всех частей издания должны соблюдаться следующие положения:
1. Вся работа проводится как исследовательская работа.
Это положение относится не только к таким моментам, как, напр., классификация рукописей и текстов, но и к самой транскрипции текстов. Доказательством необходимости его может служить история с Троицким списком Русской правды. С ЭТИМ списком и с Троицким ((Мерилом праведным» имели дело Калачов, Сергеевич и ряд других исследователей; и никто из них не заметил тех подчисток и исправлений, которые удалось увидеть мне. Ни для кого из них самый текст Троицкого списка не был в должной мере объектом исследования (да и при специальном внимании к нему не сразу удалось заметить все надлежащие места); а восстановление текста в связи! с определением времени и других черт пришлось связать с изучением всей рукописи. Все исправления в текстах вообще должны быть внимательно прослежены. В некоторых списках необходимо остановиться на приписанных вариантах и т. д.
2. Должны быть приложены всемерные усилия к недопущению ошибок и опечаток в текстах, цитатах, заголовках статей (в описаниях) и т. д., каковыми пестрят предыдущие издания. Так, в тексте Троицкого списка в 1-м и 2-м изд. Калачова мною найдено 9 ошибок, в 3-м и 4-м издании прибавлено еще 2 опечатки; Сергеевич присоединяет к этому в своем 1-м издании более 60 ошибок и опечаток, а во втором более 70. И в последнем издании Синодального списка Карского мною найдено 5 ошибок, из коих одна, меняющая совсем смысл статьи, не опечатка, а ошибка при транскрипции.1 Немало ошибок и опечаток в вариантах. Есть ошибки и в примечаниях.
Необходимо усилить внимание и умножить проверку в обеих стадиях: и при транскрипции и при печатании.
1 Вместо: «А оже боудоуть холопи татыв... ихъ же кндзь продажею не казнить» напечатано а... продажею казнить». В а то, что это ошибка транскрипции, указывают приводимые варианты. См. КарскиЗ, Русская правда по древн. сп., стр. 39.
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XVI—XVII вв.
Имея основной своей задачей публикацию исторических материалов, Историко-археографический институт Академии Наук СССР і естественно обратил внимание на выработку правил издания этих материалов в целях внесения единообразия и точности приемов в свою издательскую деятельность. 1 2
До сего времени в русской литературе наиболее полным и систематическим руководством в этой области являлись изданные Академией Наук в 1922 г. «Правила издания сборника грамот Коллегии Экономии». Однако правила эти не могли удовлетворить ПАИ, стремящийся выработать приемы издания документальных текстов гораздо более разнообразного содержания.
Достаточно, например, указать, что НАИ стал перед задачей регламентации изданий, не только передающих подлинный текст целиком, но дающий его в извлечениях (регесты), каковые способы передачи текста вовсе не предусматривались названными «Правилами».
Вместе с тем ПАИ не мог не считаться с проведенной в революционные годы реформой русского правописания, которая совершенно не учтена «Правилами издания сборника грамот Коллегии Экономии», всецело базирующимися на старой орфографии.
Если «Правила издания сборника грамот Коллегии Экономии» явились, до известной степени, основой и отправным пунктом в разработке издаваемых ныне ПАИ «Правил издания документов XVI—XVU вв.», то вся дальнейшая работа по их составлению всецело была проведена ПАИ на основании издательского опыта последних лет как своего, так равно и других учреждений и лиц, причем все такого рода издания подвергались детальной критике. Издаваемые ПАИ «Правила» не являются чем-то отвлеченным, оторванным от живой практической работы, а, наоборот, выросли из самой жизни.
В своих изданиях ИАИ стремится возможно точно передавать тексты документов XVI—XVII вв. для исторического их изучения, полагая.
1 В дальнейшем — ИАИ.
2 Помимо печатаемых ныне «Правил издания документов XVI—XVII вв.» ИАИ выработаны также «Правила по подготовке к изданию и печатанию делопроизводственных документов XVHI—XX вв.», которые будут напечатаны в следующем номере «Проблем источниковедения».
316
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XYI—XVII ВВ
что исчерпывающая передача всех особенностей написания, способная удовлетворить также и филологов-лингвистов, не входит в его задачи и воз- можна лишь при фототипическом, а не типографском способе воспроизведения рукописи.
Практическая работа ПАИ над изданиями текстов и соответствующий его опыт сказались на некоторой неравномерности частей предлагаемых «Правил». Если первая их часть, т. е. передача текста полностью, разработана сравнительно полно, то новые в практике русской археографии методы передачи текстов в сокращенном или переработанном виде (регесты и таблицы) изложены здесь, по недостаточности еще практического опыта, лишь в сжато-схематической форме, в виде первоначальных наметок.
Подготовленные к изданию документы снабжаются соответствующими заголовками. К каждому документу приводится «легенда», служащая для исследователя контрольно-справочным аппаратом. Всему сборнику в целом предпосылается предисловие, освещающее и подчеркивающее научноисторическое значение публикуемых в нем документов и, кроме того, дается также специальное «археографическое введение», излагающее общие принципы и методы работы по подготовке данного материала к изданию.
Текст издания, в зависимости от его характера, снабжается вспомогательным аппаратом: разнообразными указателями, библиографией, историко-географическими картами и т. п.
Из изложенного видно, что, помимо основного момента — точной передачи подлинного текста — окончательное оформление каждого данного издания требует целого ряда дополнительных работ научно-вспомогательного и контрольно-справочного характера. Все эти добавочные работы в той или иной мере также нашли свое отражение в предлагаемых ниже «Правилах». I
Опубликовывая выработанные им «Правила издания документов XVI— XVH вв.», ПАИ хорошо сознает, что «Правила» эти даже в наиболее разработанной их части не являются исчерпывающим руководством для разрешения всех вопросов, могущих возникнуть перед издателем в процессе его работы. Каждое новое издание может выдвинуть специальные, частные вопросы, не предусмотренные в настоящих «Правилах». Здесь указаны лишь основные принципы издательской работы ПАИ. С другой стороны, ПАИ не рассматривает свои «Правила» как нечто окончательно сложившееся, не допускающее никаких изменений. Представляется весьма возможным, что дальнейший опыт как самого ПАИ, так и других учреждений и лиц, работающих в той же области, внесет в них те или иные поправки, изменения и дополнения. ПАИ тем не менее считает, что опубликование выработанных им «Правил», даже в данной, далеко не совершенной, редакции, принесет некоторую пользу нашей науке.
Настоящие «Правила» выработаны акад. Б. Д. Грековым, В. Г. Гейша- ном, Р. Б. Мюллер, К. Н. Сербиной и Н. С. Чаевым.
А. ВЫБОР И УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕКСТА
1. Текст документов воспроизводится по подлиннику. В случае отсутствия подлинника — по черновику или по лучшему ИЗ списков.
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XVI XVII ВВ.
317
2. При наличии нескольких списков одного и того же документа, в случае существенных отличии различные редакции воспроизводятся в тексте полностью.
В. При наличии незначительных расхождений разночтения смыслового характера оговариваются в примечаниях.
Б. ПЕРЕДАЧА ТЕКСТА
I. Передача текста полностью
4. Текст документов передается с соблюдением особенностей правописания подлинника со следующими отступлениями: «ъ» в конце слов опускается, буквы «Ъ», «і», «а1», «о», «?», «V» заменяются «е», «и», «о», «ф»„ «кс», «и».
5. Текст документов печатается с раскрытием титл и вязи с соблюдение»! правил, указанных выше в § 4. Все надстрочные буквы вводятся в строку, причем к буквам, произносимым в настоящее вревія мягко, добавляется «ь».
Напр.:
Васка — Васька
6. Приставки-предлоги соединяются со словами или отделяются от них согласно с современным правописание»!.
7. Все собственные имена, личные и географические, пишутся с прописных букв.
8. В наименовании центральных и провинциальных учреждений первое слово пишется с прописной буквы.
Напр.:
Посольский приказ
Приказ тайных дел
Астраханская воеводская изба
9. Наименование частей учреждений (столы, повытья и т. п.) пишутся со строчной буквы.
Напр.:
стол денежных дел
10. Производные от собственных имен и географических названий пишутся со строчной буквы.
Напр.:
новгородский гость
11. В наименованиях монастырей и церквей, комбинированных из названий географического и агиографического все части наименования пишутся с прописной буквы.
Напр.:
Кирилло-Белозерский монастырь
Троице-Сергиева лавра
318
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XYI XVII BB.
12. В многословных наименованиях церквей и монастырей с прописной буквы пишутся только слова, обозначающие основной признак названия, независимо от порядка их расположения; в случае затруднительности установления этого признака, с прописной буквы пишется первое слово названия.
Напр.:
церковь Воздвижения честного и животворящего креста господня
церковь живоначальные Троицы
13. Названия праздников пишутся со строчной буквы.
Напр.:
троицын день
рождество пресвятой богородицы
ильин день
14. Явные описки писцов и допущенные ими пропуски букв при передаче текста восстанавливаются без примечаний и без скобок; подлинное ошибочное чтение приводится в примечании лишь в том случае, если исправление меняет смысл текста.
Напр.:
[В тексте:] за годы
[В подстрочном примечании:] В подлиннике: загоны
15. Пропущенные писцами по невнимательности целые слова, нару¬
шающие смысл фразы, но легко восстановляемые^, печатаются в квадратных скобках на предполагаемом месте пропуска й оговариваются в примечании. 1
16. Если в тексте документа встречаются слова или фразы неясные по смыслу и не поддающиеся бесспорному исправлению, то соответствующие места текста оставляются без изменения с оговоркой в примечании: Так в подлиннике.
17. Части текста, неразборчиво написанные или утраченные в рукописи, но восстановленные по смыслу, печатаются в квадратных скобках без примечаний; восстановленные по другим данным (напр. на основании другого списка) оговариваются в примечаниях.
Напр.:
[В тексте:] сбежал
[В подстрочном примечании:] В подлиннике оборвано; восстановлено по сп. XVIII в.
18. Утраченные и не восстановленные по смыслу части текста, неразобранные места, а также пробелы, оставленные в тексте писцами, обозначаются тремя точками с соответствующей оговоркой в примечании и с указанием приблизительного размера утраченной или неразобранной части текста (число букв, слов, строчек). Пропуски в дате обозначаются тремя точками без оговорок и примечаний.
ПРАВИЛА. ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XYI XVII BB.
319
19. Слова текста, допускающие вследствие неразборчивости их написания несколько разночтении^ снабжаются примечаниями с указанием воз* можных разночтений или истолкований.
Напр.:
[В тексте:] не опасно1
[В подстрочном примечании:] 1 Может быть прочитано и так: неогласно
20. Поправки и вставки редакционного характера, сделанные составителем документа, как то: перестановки, зачеркнутые слова, вставки, подчистки текста, и т. п., не меняющие его смысла, в примечаниях не оговариваются; исправления же по содержанию текста, меняющие его смысл, оговариваются с приведением в примечании первоначального чтения.
21. Текст документов расчленяется в составных его частях при помощи абзацов и знаков препинания, которые употребляются применительно к правилам современного правописания.
22. Клаузулы актов отделяются друг от друга точками.
23. Конечный протокол (разновидность документа, дата, место написания, имя писца, свидетелей или приложивших печати и т. п.) отделяется от предыдущего текста точкою.
21. Заглавие документа, если оно не связано органически с его текстом, а составлено копиистом или относится ко времени более позднему, чем самый документ, отделяется от текста, печатается с абзаца и набирается в разрядку.
25. Частицы, вроде: «де», «же», «ли» и т. п. печатаются отдельно от того слова, к которому примыкают.
26. Частица «ж», написанная в подлиннике со взметом, перед гласными передается «ж», а перед согласными «же».
27. Прямая речь, приводимая в документе, помещается в кавычках.
28. Встречающиеся в тексте сокращения, сделанные самим писцом, раскрываются, кроме часто повторяющихся сокращений в писцовых книгах, сотных и т. п.
Напр.:
во]дворе — передается: во дв. или особым типографским значком (в), деревня — дер., место пустое — м. п.
29. Встречающиеся в тексте названия мер длины, веса, денежных единиц и т. п. передаются сокращенно только в тех случаях, когда они следуют за цифровым обозначением. В прочих случаях эти названия передаются полностью.
Напр.:
5 руб. 8 алт. 2 д., 8 п. 5 ф., рубль 20 алт.
30. Часто встречающийся в документах, после царского имени сокращенный титул «всея великия и малыя и белыя России самодержец» заменяется буквой «т», заключенной в прямые скобки [т.] Полный титул заменяется взятыми в те же скобки буквами «п. т.» [п. т.]
320
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ХУІ ХУІІ ВВ.
31. В зависимости от рода издаваемого материала могут передаваться сокращенно и другие слова, если они часто повторяются; так при издании писцовых книг можно сокращать слова: деревня — дер., починок — поч., волость — вол. и т. п.
32. Все принятые в данном издании сокращения должны быть перечислены в археографическом введении.
33. Славянская буквенная цифирь и цифры, написанные словами, передаются арабскими цифрами. Такие выражения как «за двести за сорок за пять рублей» передаются — «за 200 за 40 за 5 руб.» К цифрам с падежным окончанием прибавляется дефис и это окончание.
Напр.:
5-ти, 1678-го году
34. Своеобразные цифровые выражения в роде «полшеста», «дву», «полтретьятцать» и т. п. передаются словами, как они написаны в подлинном тексте.
35. Вслед за текстом документа с абзаца помещаются подписи, скрепы, адреса и т. п. записи под общими набранными курсивом заголовками: «По листам». «По сставам». «На обороте». «Вверху сстава» и т. п. Если записи разнородны, то каждая из них пишется с абзаца.
Напр.:
По листам: Диак Павел Матюшкин
На обороте: В Пермь Великую воеводе нашему Льву Ильичу Волкову да дьяку нгшему Ивану Мптусову
125-го декабря в 6 день привез государеву грамоту кангородец
Митька Челеев
36. Среди подписей грамоты на перворі месте помещается подпись царя, затем скрепа дьяка и после нее справа.
Напр.:
Царь и великий князь Федор Иванович всеа Руспи
Дияк Андрей Щелкалов
Справил подьячеи Тпмошка Осипов
37. Надписи помещаются вслед за подписями, с абзаца, если они разнородны, и, по возможности, в порядке их написания: адрес раньше надписи адресата о получении грамоты и т. п.
Напр.:
На обороте: Диак Богдан Тимофеев
На Колмогоры воеводе нашему Миките Михайловичю Пушкину
38. Пометы резолютивного характера помещаются вслед за подписями и надписями под особым набранным курсивом заголовком: «Пометы». При наличии нескольких помет они печатаются в строку, отделяясь точками.
Напр.:
Ломеупы: Дать грамоту. Записать в книгу. Государь слушал и бояре
приговорили...
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XVI XVII ВВ.
321
39. Приписки к документу, сделанные как тем же, так и другим почерком, приводятся в примечании со сноской в соответствующем месте текста.
Напр.:
1 На полях: Сбежал во 165-м году
10. Подтверждения помещаются после всех надписей, если последние более раннего происхождения, с абзаца, под особым набранным курсивом заголовком: «Подтверждение» или «Подтверждения», если их несколько; в последнем случае они располагаются в хронологическом порядке, каждое с абзаца. Дата каждого подтверждения помещается перед его текстом, отделяется от него точкою и тире и набирается курсивом.
Напр.:
На обороте: Царь и великий князь всеа Русин
Диак Андрей Щелкалов
Подтверждения: 1606 г. января 27. —Лета 7114-го генваря 27...
1615 г. апреля 23. — Лета 7123-го апреля в 29 день...
11. Наличие печати ил л следов ее, если таковая утрачена, отмечается курсивом, вслед за текстом, после подписей. Описание печати ограничивается следующими главнейшими данными: 1) размер (малый, большой), 2) материал и его окраска, 3) принадлежность и 4) степень сохранности. Способ прикрепления печати оговаривается только в том случае, если печать вислая.
Примечание: Изображение на печати и надписи на ней приводятся лишь в случаях, заслуживающих почему-либо особого внимания.
Напр.:
Малая печать черного воска якутского воеводы В. Н. Пушкина
Большая государственная печать красного воска, хорошо сохранившаяся
12. Если документ печатается с частичными пропусками, то на место купюр ставятся три точки с непосредственно следующим за ним пояснением, набираемым курсивом;
Напр.;
... Далее следует изложение челобитной, см. Д£ 5 II.II. Сокращенная передача текста а) Регесты
13. Регесты — сокращенная передача текста отдельного документа — имеют целью дать сжатые сведения как об основном содержании документа, так и об его форме.
11. В зависимости от содержания и значения документов регесты могут быть краткими и пространными.
15. Краткие регесты могут сужаться до элементов, составляющих заголовок документов с расширенной тематической его частью.
Проблема источниковедения, II
21
322
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ХУІ ХУП ВВ.
46. Пространные регесты могут заключать в себе более детальное изложение основных клаузул документа в порядке их следования, с приведением из них наиболее характері ых цитат.
47. Регесты обя ательно снабжаются заголовками, легендами и, в случае необходимости, примечаниями.
48. Наличие знаков удостоверения документов, передаваемых в форме регест, как то: печатей, помет, скреп и т. п., оговаривается в соответствующем месте легенды.
6) Документальные таблицы
49. Документальные таблицы являются одной из форм сокращенной передачи текста.
50. В форме документальных таблиц можно передавать только материал однообразный, повторяющийся и, преимущественно, материал с цифровыми данными, встречающимися в большой массе: проезжие, ценовные, таможенные выписи и т. п.
51. В зависимости от целевой установки издания, документальные таблицы подразделяются на 1) передающие текст данной разновидности целиком и 2) передающие текст лишь в той или иной его части.
52. В одну таблицу сводятся документы только однородные по своей юридической природе (один вид документов) с одинаковым формуляром.
53. В таблицу сводятся лишь типичные клаузулы документа.
54. Расположение рубрик в таблицах должно строго соответствовать клаузулам типичного формуляра документов.
55. Итоги (цифровые) даются по каждой рубрике в конце таблицы. Если же встречается необходимость в частных итогах, они выносятся в специальные боковые рубрики.
56. Никакие дополнения к тексту, кроме итогов, не могут вводиться в таблицу составителем.
57. При заполнении таблиц не следует придерживаться языка подлинника; к цитатам следует прибегать лишь в особо характерных случаях {при затруднительности передач і современным языком).
58. Как наї менование рубрик, так и текст таблицы должны формулироваться возможно короче и конкретнее.
59. В тексте таблиц не употребляются ни знаки препинания, ни прописные буквы (кроме собственных имен). Наименования основных рубрик пишутся с прописных букв. Наименования подрубрик — со строчных букв.
60. В легенде к таблицам, кроме обычных сведений, обязательно: 1) оговаривается разновидность сводимых в таблицу документов с приведением образцов, 2) отмечаются опущенные клаузулы, 3) здесь же оговаривается наличие печати.
61. Таблицы снабжаются подробными текстуальными примечаниями, в которые вносятся, между прочим, и нетипичные клаузулы, не вошедшие в рубрики таблиц.
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XYI XYII BB.
323
В. НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
I. Составление заголовков
62. Заголовок документа должен заключать в себе следующие обязательные элементы в их последовательном порядке: а) порядковый номер, б) дату, в) обозначение разновидности, г) обозначение лиц пли учреждений, являющихся отправителем и адресатом документа, или наименование действующих лиц, места д) краткое изложение содержания документа применительно к тематике данного сборника.
63. Всем документам дается валовая нумерация. Порядковый номер ставится перед заголовком и отделяется от него точкою и тире.
64. Даты документов, выраженные в летосчислении «от сотворения мира», переводятся на современное летосчисление. Вслед за годом обозначается месяц и число, причем эти даты не отделяются одна от другой никакими знаками. Слово год передается сокращенно одною буквою «г.» с точкою, слово годы передается «гг.»
Напр.:
[В тексте:] Лета 7043 генваря в 3 день
[В заголовке:] 1535 г. января 3
65. Название месяца ставится в родительном падеже, независимо от того, следует ли за ним число или не следует; в последнем случае прибавляются три точки для обозначения пропуска числа.
Напр.:
1532 г. ноября ...
66. Год, указанный в документе по летосчислению от сотворения мира без упоминания месяца, переводится на современное летосчисление путем обозначения двух смежных годов, причем для обозначения второго из них приводятся только последние две цифры.
Напр.:
[В тексте:] 7038.
[В заголовке:] 1529—30 ъ.
67. Если приблизительная дата недатированного документа устанавливается на основании каких-либо точно датированных фактов, либо упоминаемых в самом тексте документа, либо известных из позднейших приписок (например, часто встречающиеся на обороте пометы о времени вручения данного документа адресату), то при издании таких документов дата выражается путем добавления к цифровому обозначению года соответствующих слов, как то: «не ранее», «после» или наоборот «ранее», «не позднее» такого-то года, месяца и числа, смотря по смыслу.
68. При отсутствии в тексте документа каких-либо дат, определяющих время его написания, для установления -датировки привлекаются данные, известные из других источников. Напр., в случае упоминания в тексте документа имен исторических лиц или событий — соответств> ющие хронологические данные. Такие случаи обязательно оговариваются в легенде.
21*
324
ПРАВИЛА. ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XVI XVII ВВ.
69. Если факты, определяющие время написания недатированного документа, сами имеют дату, выраженную только лишь годом «от сотворения мира» без указания месяца, то такого рода документы датируются: не ранее 1 сентября следующего за упомянутым в тексте года в переводе его на современное летосчисление; напр., если в тексте недатированной челобитной указывается на что-либо, имевшее место «в прошлом 7136 г.», то челобитная эта датируется: «Не ранее 1628 г. сентября 1».
70. При установлении даты с промежутком в несколько лет, предельные годы обозначаются целиком и отделяются друг от друга тире.
Напр.:
1676—1682 гг.
71. Если для датировки документов в тексте их нет никаких бодее или менее точных данных, то датировка устанавливается на основании палео-, графических данных по столетиям, с указанием, по возможности, к началу .средине или концу какого века данный документ относится.
72. Наименование разновидности документа определяется, по возможности, согласно с подлинной его терминологией, извлекаемой из текста документа или из записей на обороте, или из современных документу заголовков, списков с него и т. п.
73. Если в тексте подлинника наименование разновидности документа приведено в форме неправильной, т. е. не соответствующей его содержанию, пли необычной (купная вместо купчая, душевница .вместо духовная), а также при наличии в тексте различных терминов, определяющих разновидность данного документа, в заголовке принимается термин, наиболее соответствующий юридической его сущности и наиболее распространенный.
74. Документ, не содержащий в тексте наименования той разновидности, к которой он относится, озаглавливается по аналогии с другими документами того же вида.
75. Встречающиеся в тексте общие наименования документов, вроде «грамота», «запись», «память», «крепость» и т. п. заменяются более специальным термином, служащим для их обозначения, причем в случае невозможности подыскания более узкого термина, сохраняется наименование подлинника, но с дополнительными указаниями на специальное содержание данных документов.
76. В заголовке документа обязательно отмечается, от кого он исходит и к кому направляется, или кто именно в совершении данной сделки участвует.
77. Данные об официальном положении лиц, отправляющих и получающих документ или совершающих сделку, этим документом закрепляемую, должность, место их службы и т. п., в заголовке отмечаются.
78. В документах, исходящих от верховной власти, по возможности обозначается тот приказ, пз которого данный документ исходит. То же правило соблюдается и при обратных случаях, т. е. при составлении заголовка документов, адресованных на имя верховной власти в тот или иной приказ*
79. Если в документе упоминается несколько адресатов, причем они находятся между собою в соподчиненных отношениях (напр., воевода и дьяк), то в заголовке документа приводится имя лишь старшего из них.
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XVI XVII ВВ.
325
То же правило применяется и в тех случаях, когда данный документ написан от имени нескольких лиц, находящихся в таких же взаимоотношениях.
80. В заголовках асотных», выписеи из писцовых книг, переписных, дозорных и т. п. книг обозначаются как имена писцов, так и имена должностных лиц, выдавших выпись или сотную, если имена их отмечены в тексте документа.
81. Если из текста документа явствует, что число действующих лиц больше трех, то в заголовке обозначается имя лишь первого из них с соответствующим указанием на участие остальных, например, с добавлением слов: такой-то ас товарищами» пли, если упоминанаемые в тексте лица не связаны между собою в тесную группу, — такой-то а и другие», или аи многие другие» (точное число участвующих лиц не отмечается).
82. В случае заключения сделки от имени лиц, связанных семейными узами, в заголовке документа, излагающего таковую сделку, приводится имя лишь главного члена семьи с упоминанием остальных описательно: «с женой и двумя сыновьями» и т. п.
* 83, Если в документе содержится изложение сделки, заключенной кем-
либо по приказу третьего лица, то имя приказавшего заключить сделку приводится в заголовке на ряду с именем того, кому заключение ее поручено.
81. Имена, отчества, фамилии и прозвища отмечаемых'в заголовке действующих лиц приводятся полностью. Личные имена, употребляемые в тексте в своеобразных старинных обозначениях, с трудом поддающиеся переводу на современную редакции форму, например аПерхурпй» вместо Порфирпй, аОлфромей» вместо Варфоломей и т. п., сохраняются в заголовке без изменений. Имена уничижительные, а раві о выраженные в наименованиях, хотя и отличающихся от правильного произношения, но не вызывающих затруднений для их расшифрования, — обозначаются в общеупотребительных полных формах.
Пр и м е ч а н и е: При издании документов, касающихся националов, личные имена приводятся в транскрипции, установленной редакцией.
85. Отчества действующих лиц передаются в заголовках с сохранением той формы, в какой они обозначены в подлинном тексте, т. е. или сохраняя окончания на «вич», пли в притяжательной форме, пли с прибавлением слова а сын».
86. Встречающиеся в тексте документа указания, определяющие место составления или действия данного документа, обязательно должны быть отмечены в заголовке.
87. Если документ был составлен в одном месте и затем отправлен в другое (напр., грамота, исходящая от центральной власти и направляемая в тот или иной уезд, или частное письмо, отправленное из одного уезда в другой), то и место составления и место направления документа должны быть указаны в заголовке.
Примечание: В документах, исходящих от центральной^’власти из Москвы, город этот в заголовке не упоминается, как сам собою разумеющийся.
326
ПРАВИЛА. ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XVI XVII ВВ,
88. На ряду с наименованиями деревень, пустошей и т. п. мелких территориальных обозначений, в заголовке документа приводятся названия административных делений, в которые они входят (волость, стан, уезд и пр.), в зависимости от характера издания; напр., в издании, охватывающем документы по одному уезду, достаточно указать географическое наименование стана пли волости; в издании документов по разным уездам необходимо указывать и названия этих уездов.
89. Содержание документа передается в заголовке возможно более кратко с соблюдением требований современного литературного языка. Цитаты рекомендуются лишь для передачи встречающихся в документах своеобразных и характерных выражений, технических терминов и т. п. Все взятые из текста цитаты ставятся в кавычки.
90. Если содержание документа касается многих различных предметов, в заголовке следует, по возможности, объединять их каким-либо наиболее общим определением. Если, однако, разнообразие содержания документа не поддается никакому обобщению, то необходимо привести главнейшие части содержания, отметив наличие остального термином «и другие», «и опрочем», и т. п. В подобных случаях полезно применять систему расчленения заголовка на пункты.
Напр.:
1650 г. сентября 15. — Отпуска приказчика с. Мурашкина Позс'ея Внукова боярину Борису Ивановичу Морозову о 1)... 2)... 2)... и о прочем.
91. Отдельные документы, имеющие между собою внутреннюю СВЯЗЬ (как напр. челобитные, допросные речи, сказки, судебные решения по дан- лому судебному делу, или памяти и отписки по ^акому-либо определенному вопросу и т. п.), объединяются при издании в| «дело», снабженйос одним общим заголовком. Этот заголовок составляется согласно соответствующим параграфам настоящих правил. Каждый документ набирается с абзаца и перенумеровывается римскими цифрами в порядке хронологической последовательности и снабжается, в случае необходимости, подзаголовком, заключающим: дату, наименование разновидности, имена отправителя — адресата.
92. Если в составе такого рода «дел» имеются так называемые «привходящие» документы, т. е. документы, имеющие самостоятельное законченное значение и вне связи с данным делом, при том часто хронологически значительно более ранние (напр, купчие, прилагаемые в качестве доказательства права владения на спорные участки земли и т. п), то документы эти могут быть выделяемы из состава «дела» и издаваемы отдельно под соответствующей датой и заголовком, но с обязательными оговорками как в легенде к самостоятельно изданному такого рода документу, так и в соответствующем месте «дела» из коего он был выделен.
93. При датировке «дела» проставляются крайние даты, т. е. полные даты первого и последнего из печатанных в «деле», документов, причем даты эти отделяются друг от друга тире.
Пр имечание: Даты встречающихся в «делах» более ранних
«привходящих» документов при этом во внимание не принимаются.
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XVI XVII ВВ.
327
II. Составление легенд
94. Каждый документ сопровождается легендой, которая должна заключать в себе в последовательном порядке следующие данные: 1) место хранения документ1, его шифр и объем, 2) археографические сведения о документе, 3) указание на предшествующие издания текста документа, если таковой был опубликован ранее, 4) обоснование редакторской обработки текста.
95. При обозначении места хранения документа и его шифра отмечается: наименование архивохранилища, наименов ние фонда, делопроизводственная или архивная часть последнего, год дела, № дела, заголовок дела (если он имеется),объем (листаж) дела, листы, на которых данный документ находится.
Напр.:
ГАФКЭ. Архив Оружейной палаты, столбец № 67 па 27 сставах;
ветхий; сст. 5—7 об. черновик.
96. Обязательно отмечается количество сставов столбца или листов книги (считая и пустые сставы и листы). Если столбец или книга печатаются не полностью, указывается также, на каких сставах или листах находится публикуемый документ.
Напр.:
Столбец на 28 сставах; сст. 11—14.
97. Прп издании книг, формат их отмечается в легенде. Формат сставов столбца отмечается только в тех случаях, когда он представляет какие-либо особенности.
9S. В тех случаях, когда указанные сведения являются общими для всех напечатанных в сборнике документов (напр. из одного архивного фонді и т. п.) такие сведения выносятся в археографическое введение и не повторяются в каждой легенде.
99. Если печатается несколько документов из одного и того же дела, то подробная легенда дается лишь при первом хронологически идущем документе, а во всех последующих случаях делается ссылка на этот документ.
Напр.:
ГАФКЭ. Архив Оружейной палаты,см. легенду к Л? 1; сст. 153.
100. В археографические сведения о документе входят указания на то, является ли данный документ: списком, черновиком и т. п., а также на степень сохранности. Время написания списка, в особенности если список писан значительно позже оригинала, оговаривается,хотя бы только приблизительно.
Напр.:
Список конца XVIII в.
101. В случае однородности печатаемых документов с формальной их стороны (напр., все документы — черновики ит. п.) сведения о их однородности выносятся в археографическое введение и не оговариваются в каждой легенде.
102. Писчий материал оговаривается лишь в том случае, если документ писан не на бумаге, а на каком либо другом материале (напр., пергамене, бересте и т. д.).
328
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ XYI XYII BB.
103. В случае поврежденности документа отмечаются только особенно на значительные повреждения. Утрата частей документа (начала, середины, конца) обязательно оговаривается.
104. Заставки и заслуживающая внимания буквенная вязь, слова и буквы, наведенные золотом или писанные киноварью, а также другие особенности внешнего оформления подлинного текста отмечаются.
105. В легенде дается обоснование всем случаям, когда: а) документ печатается не полностью, б) к нему подводятся варианты из других текстов, в) данные, приводимые в заголовке документа, почерпнуты не из текста самого документа, а из каких-либо иных источников и т. п.
106. В тех случаях, когда издаваемый текст был уже целиком или частично напечатан, в легенде перечисляются все его издания.
107. В обоснование редакторской обработки текста входит аргументация выбора текста, если таковой имеется в нескольких списках; обоснование датировки, если документ не датирован; обоснование авторства и т. п.
108. Легенда к таблице кроме всех элементов обычной легенды должна содержать: а) указание типичного образца сводимых в таблицу документов (желательно процитировать образец полностью), б) указание на способ обработки материала, в) перечень клаузул, не вошедших в таблицу, г) описание печатей.
III. Примечания
109. Примечания разделяются на реальные и текстуальные.
110. Реальные примечания касаются содержания документа, в них даются сведения справочного характера об упоминаемых в тексте предметах, событиях и лицах, имеющих непосредственную связь с основной тематикой тома. При сносках эти примечания отмечаются буквами.
111. Текстуальные примечания касаются текста документа (указания на пропуски, искажения, непрочитанные слова и т. п.) и при сносках отмечаются цифрами.
Напр.:
1 В подлиннике: В толке
2 Зачеркнуто: И мостов не мостить
112. Реальные примечания помещаются или непосредственно под строкой, или в конце книги; текстуальные — только под строкой.
113. В примечаниях к таблицам, кроме обычных, вносятся и те нетипичные, но представляющие интерес клаузулы документов, которые в таблице не помещены.
IV. Указатели
а) Личных имен
114. В указатели личных имен вносятся все встречающиеся в тексте имена лиц в следующем порядке: а) фамилия, 6) имя, в) отчество, причем фамилия от имени никаким знаком препинания не отделяется.
Напр.:
Стрешнев Федор Степанович 45.
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ХУІ XVII ВВ.
329
115. Отчество лица с окончанием на а ев», «ов» и т. п. сопровождается буквой вс.» (сын).
116. Прозвище соответственно помещается на первое или второе место, смотря по тому, употребляется ли оно в смысле фамилии или имени.
Напр.:
Кочерга Иван Лукьянов с. 27 Елизар, прозв. Ребро, Иванов с. 44
117. При отсутствии фамилии, лицо упоминается под его личным именем, за которым следует его отчество; при отсутствии отчества — под одним именем.
Напр.:
Василий Иванов с. 5,9 Григорий 12
118. Разночтения личных имен в указателе объединяются под современной редакции формой, при чем все они перечисляются в скобках при последней; сверх того каждая из них упоминается самостоятельно с соответствующей ссылкой.
Напр.:
Афанасий (Офонос) 24 Офонос, см. Афанасий Кудрявцев (Дьяволков) Василий 15, 43.
Дьяволков Василий, см. Кудрявцев Василий Хаджи-Юсуф (Суфа-Хаджи, Суфи-Хозя) 35, 40 С у ф а - X а д ж и, см. Хаджи-Юсуф С[уфи-Хозя, см. Хаджи-Юсуф
119. При имени лица по возможности отмечается его социальное положение, местожительство, а также титул, должность и занятие. Все эти сведения отделяются от имени запятой.
Напр.:
Шишмоляев Григорий Иванов с., мурашкинец 4 Баскаков Устин, подьячий Земского приказа 10 Мезецкий Борис Иванович, кн., воевода 5, 17 Григорий Данилов с., сапожник 42
120. В указателе должны быть отмечены все последовательные изменения в социально-бытовом положении данного лица.
Напр.:
Мезецкий Борис Иванович, кн. 5; двинской воевода 17
б) Географически хна званий
121. Указатель географических названий включает все встречающиеся в данном тексте географические наименования.
122. Разночтения географических наименований объединяются под современной формой, причем все они перечисляются в скобках при послед¬
330
ПРАВИЛА. ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ХУІ XYII BB,
ней; сверх того, каждое из них упоминается самостоятельно с соответствующей ссылкой.
Напр.:
Алатырскин (Алатарский, Алаторский) у. 18, 36, 75 А л а т а р с к и й у., см. Алатырский у.
Алаторский у., см. Алатырский у.
Аральское (Хививское) море 4, 10 Хивинское море, см. Аральское море
123. При наличии в тексте дополнительных наименований, более точно определяющих административное (или географическое) положение опиЬы. ваемого пункта, в указателе приводится лишь ближайшее к нему (из числа упоминаемых) наименование. В свою очередь последнее наименование, самостоятельно вынесенное в указатель, дополняется указанием на следующее более крупное деление, и т. п.
Напр.:
Брейтово с. Тимонинского стана 8 Тимонинский стан Ярославского у. 8, 14
121. Наименования упоминаемых в тексте более крупных административных делений, обнимающих собою описываемый географический пункт, приводятся в ука- ателе (или опускаются) в зависимости от характера самого издания. Если, например, все издаваемые документы приурочены к определенной административной единице (уезду, волости, стану и т. п.), то наименование этой единицы в указателе не повторяется. При изданиях документов, относящихся к разным уездам, наименования последних необходимо сохранять.
в) Предметный
125. Предметные указатели должны составляться применительно к целевой установке издания; в них вносятся, в первую очередь, термины, связанные с основной тематикой данного тома.
126. Наименования личного, географического и предметного указателя не отделяются никаким знаком препинания от перечисления страниц. Если указатель сост/ вляется к нескольким томам, перед перечислением страниц римской цифрой указывается том, а пагинация отдельных томов отделяется точкой с запятой.
Напр.:
Селивестров Лука Памфилов (Панфилов) с., кр. Койдокурской вол. I, 623; II, 28, 350
г) Хронологический
127. В тех случаях, когда документы расположены не в хронологическом порядке, к сборнику прилагается хронологический указатель входящих в его состав документов.
128. В хронологический указатель вносятся: а) дата печатаемого документа, 6) номер, под которым документ значится в сборнике, и в) страница.
ПРАВИЛА ИЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ХУІ ХУІІ ВВ.
331
129. В зависимости от характера издаваемых документов к сборнику могут быть даны и другие виды указателей — терминологический, указатель разновидностей документов и т. п.
V. Археографическое введение
130. Археографическое введение, представляя собою расширенную легенду ко всему изданию в целом, содержит: а) перечисление использованных фондов, их историю и указания степени использования каждого из них, б) характеристику публикуемых документов, а также просмотренного, но не вошедшего в сборник материала, в) описание характера и хода подготовительных работ по изданию, в частности вопрос об отборе материала, г) изложение приемов данного издания (условные обозначения и сокращения, принятые изданием, таблицы, и т. п.), д) план издания; е) обзор предшествующих изданий.
VI. Оглавление
131. Оглавление содержит полностью как заголовки отделов, так равно и заголовки всех входящих в сборник отдельных документов.
Г. ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
132. Текст издаваемых документов, а также записей и надписей на них набирается прямым шрифтом; заголовки, описания печати и редакционные вставки в текст — курсивом; легенды — курсивным петитом; порядковый номер — полужирным. В подстрочных примечаниях подлинный текст передается прямым петитом, а редакционные добавления — курсивным петитом.
133. Начальные основные названия в указателях печатаются в разрядку, остальные набираются прямым шрифтом.
131. При издании книг счет листов подлинника отмечается на полях печатного текста цифрами, в середине же текста в соответствующих местах ставится разделительный знак||. При издании столбцов количество сставов данного столбца указывается в легенде, а в печатном тексте знаком || отмечается лишь начало каждого нового сстава (кроме первого) без указания на полях порядкового его номера.
ПРИЛОЖЕНИЕ
КАТАЛОГ
ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
Составление каталога частных актов было предпринято в 1903 г* А. С. Лаппо-Данилевским и было делом ряда семинариев, им руководимых. Задачею этого каталога явилось собрать данные* об актовом материале, который разбросан в великом множестве* не только специальных сборников документальных публикаций, но имеется и в исторических монографиях (в их тексте и в специальных к ним приложениях), и в популярных и даже в казеннопропагандистских (вроде описаний монастырей) книнжах, и на страницах журналов (не только специально-исторических, но и общих), а также в старых газетах, совсем теперь забытых, как напр., разного рода губернских и епархиальных ведомостях. Неудивительно, что работа, так широко поставленная, заняла целый ряд лет. Потребовался просмотр огромного количества печатного материала, который, за отсутствием полной исторической библиографии, надлежало предварительно еще установить*
Еще более сложным оказался другой вопрос, связанный с установлением характера самого каталога. Каталог должен был преследовать задачу — дать достаточные библиографические указания для разысканий о том, где напечатаны определенные виды актов, нужные тому или другому исследователю. Разрешение Этой, на первый взгляд узкой задачи (отметим, что расширение этой задачи до раскрытия всего содержания акта превратило бы каталог в собрание регест), натолкнулось на ряд трудностей* Неразработанность русской дипломатики оставляла без всяких надежных указаний и вопросы развития акта в его целом, и вопросы развития отдельных актовых разновидностей. В то же время, благодаря неустойчивости документальных форм XV— XVII вв., обусловленных рядом причин, ни содержание актов,, ни их формуляр, ни их терминология, равным образом не давали прочной опоры для поставленной библиографической работы*
334
ПРИЛОЖЕНИЕ
Работа по каталогу не могла не вести за собою целого ряда предварительных дипломатических разысканий. Это было второй причиной, затягивавшей работу.
Вопрос о составе каталожной записи был предрешен библиографическими целями. Надлежало, прежде всего, установить, к какой разновидности надо отнести тот или иной из каталогизируемых актов. Акт мог или сам содержать точное обозначение той разновидности, к которой относится (напр., меновная), или давать только общее обозначение акта, не определяя самой разновидности (напр., грамота, запись), или давать даже в иных •случаях ошибочные определения. Кроме того, для актов, записанных в книги, встречающихся в судных делах и т. п., мы •обладаем еще теми их определениями, которые давали им их современники. Вся эта довольно сложная подчас цепь не всегда совпадающих определений нашла себе в каталоге следующие разрешения: общая рубрика, под которою печатается описание группы актов (в данном выпуске: полные, докладные, служилые кабалы), представляет собою то определение акта, к которому пришли составители каталога в результате работы над актом; s описании же каждого отдельного акта те обозначения разновидности или обозначения общего характера, которыми акт сам себя называет, помещены в двойных кавычках (« »), те же обозначения, которые даны акту современными писцами, судьями и т. п., записавшими акт, или вообще и(и пользовавшимися, помещены в угловые скобки (< >). Кроме имен контрагентов, при обозначении которых помещается также их социальное происхождение, профессия и т. п., в описании давалось географическое обозначение местности, в которой акт был заключен; •однако эти данные далеко не всегда имеются в актах.
Каталог, содержащий массу важнейших библиографических материалов для всякого рода работ по экономической и социальной истории, давно уже готовый к печати, ждал своего опубликования. В настоящем выпуске печатаются материалы его к трем актовым разновидностям, связанным с историей холопства.
Составители
Принятые сокращения
Знак обозначает, что акт сохранился лишь в отрывке.
АЮБ = Акты, относящиеся до юридического быта древней России. £ычков = И. А. Бычков. Отрывок Новгородской кабальной книги 1597 г., «Летопись занятий Археографической комиссии», в. 22.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 335
Егоров = В. А. Егоров. Отрывки из Новгородских кабальных книг 7108 г., «Летопись занятий Археографической комиссии», в. 24.
Лакиер = А. Б. Лакиер. Акты, записанные в крепостной книге XVI в., «Архив историко-юридических сведений», 1855, кн. П, I половина.
Оп. Лин. арх., Н = Н. Н. Селифонтов. Подробная опись 272 рукописям конца XVI до начала XIX ст. второго (шевлягинского) собрания «Линевского архива». СПб., 1892.
Преображенский и Альбицкий = И. Преображенский и Н. Альбицкий. Подробная опись 962 рукописям начала XVII до начала XIX столетий «Долматовского архива». СПб., 1895.
РИБ = Русская историческая библиотека.
Юшков = А. Юшков. Акты XIII—Х\ГП вв., представленные в разрядный приказ. Чтения в М. О. И. и Др., 1898 г., № 2—3.
1. ПОЛНЫЕ
1. [XV в.]. «Полная» Василия Секиры (Секирина?) Косицкого на Бориса Кремнева сына. Верея. — РИБ XVII, № 527.
2. [XV в.]. «Полная» Михаила Секирина на Петра Юрьева сына с женою. Верея. —РИБ XVII, № 514.
3. [XV в.]. «Грамота» Михаила Секирина на Савву Васильева сына с женою. Верея. — РИБ XVH, № 513.
4. [XV в.]. [Полная] Александра Михайловича на Акулика Иванова сына с женою. Верея. — РИБ XVII, № 145.
5. [XV в.]. «Грамота» Василия Пушкина на Харланика Еремеева сына с женою и детьми. Дмитров. — РИБ XVU, № 411.
6. [XV в.]. <Полная> Михаила Тиркова на купленного у Осипа Осипова сына Овдына Андроника с женою и детьми. Кострома. — РИБ XVII, № 516.
7. [XV в.]. «Полная» Андрея Русина Тиркова на Тита Петрова сына Фатьянова с женою и детьми. Кострома. — РИБ XVII, № 517.
8. [XV в.]. <Полная> дьяка Останка на Настасью Ананьиву дочь с дочерью. Новгород. — РИБ XVH, № 409.
9. [XV в.]. «Полная»... Афанасьева сына Чюркина на Якова Никифорова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 291.
10. [XV в.]. Полная (<докладная>) Ивана Новокщонова на вольную девку Авдотью Иванову дочь Костыгпна, идущую замуж за новокщоновского холопа Захара Гридцына сына. — РИБ XVH, № 359.
11. [XV в.]. «Полная» Федора Новокщонова на Ивана Андреева сына с женою. Новгород. — РИБ XVII, JVI 348.
12. [XV в.]. «Полная» Василия Аврамова сына на Алфсрия Севастьянова сына с женою. Переяславль. — Р11Б XVII, № 377.
13. [XV в.]. «Полная» Василия Аврамова сына на Алферья Севастьянова сына с женою. Переяславль. — РИБ XVII, JV1 550.
11. [XV в.]. «Докладная» (<полная>) Юрия Алексеева сына на Настасью Саввину дочь с дочерью. Суздаль. — РИБ XVII, № 549.
15. [XV в.]. ^ <Полная>. — РИБ XVII, № 528.
336
ПРИЛОЖЕНИЕ
16. 1482 г. февраля 4. «Полная» Федора Нащокина на Василия Усково Гридина сына Шалимова. Новгород. — РИБ XVU, № 511.
17. 1488 (?) г. сентября 5. «Полная» Ивана Новокщонова на Фрола Савелова сына. Новгород. — РИБ ХУП, № 350.
18. 1488—89 г. «Полная» Семена Сеславина на новгородца Федора Афанасьева сына. Новгород. — Лакиер, с. 34, № 4.
19. 1490 г. сентября 3. «Полная» Ивана Новокщонова на Кузьму Иванова сына Бучарова. Новгород. — РИБ ХУП, № 351.
20. 1490 г. сентября 20. «Полная» Ивана Новокщонова на Арину Тимофееву дочь с дочерью. Новгород. — РИБ ХУП, № 353.
21. 1490 г. сентября. «Грамота» Михаила Муравьева на москвит;ина Павла Тимошкина сына. Новгород. — РИБ XVII, № 163.
22. 1491 г. января, «Полная» Семена Сеславина на новгородца Кондрата Иванова сына. Новгород. — Лакиер, с. 35, № 5.
23. 1492 г. октября 9. «Полная» Ивана Новокщонова на Андрея Мануйлова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 352.
24. 1492 г. декабря 25. «Полная» Прокофия Пустошкина на новгородца Михея Фомина сына. Новгород. — Лакиер, с. 35, № 6.
25. 1493 г. января 23. «Полная» Федора Нащокина на Семена Данилова сына. —РИБ XVII, № 121.
26. 1493 г. июля 2. «Полная» Семена Мякинина на новгородца Остафия Иванова сына, Новгород. — РИБ XVII, № 533.
27. 1494 г. февраля 17. «Полная» черемисица Федора сына на Левицу Илейкина сына. Новгород. — РИБ XVII, № 561.
28. 1495 г. января 5. «Полная» Прокофия Пустошкина на новгородца Евдокима Саввина сына. Новгород. — Лакиер, с. 35—36, № 7.
29. 1495 г. февраля 2. «Полная» Семена Мя^шнина на Алексея Попова сына Давыдова с женою и детьми. Новгород. —ІРИБ XVII, № 534.
30. 1495 г, июля 13. «Полная» Ивана Новокщонова на Мавру Гридину дочь Михалеву. Новгород. — РИБ XVII, JV° 349.
31. 1496 г. марта 30. «Полная» Андрея Глотова на переяславца Василия Гридина сына Кропоткина. Новгород. — РИБ ХУП, № 302.
32. 1497 г. апреля 22. «Грамота» Никиты Коротая Михайлова сына на Михаила Окулова сына с женою и детьми. — РИБ XVH, № 183.
33. 1499 г. марта 24. «Полная» Дмитрия Обольянинова на новгородца Данилу Иванова сына с женою и детьми. Новгород. — РИБ XVII, *N1 328.
34. 1499 г. марта 26. «Полная» Дмитрия Обольянинова на новгородца Ивана Данилова сына с женою и детьми. Новгород. — РИБ XVII, № 173.
35. 1499 г. декабря 30. «Полная» Ивана Новокщонова на купленных у новгородца Ивана Павлова сына детей его. Новгород. — РИБ XVII, № 354.
36. 1501 г. февраля 5. «Полная» Ивана Глотова на Гридю Ретку Алексеева сына и его детей. Новгород. — РИБ XVII, № 301.
37. 1503 г. февраля 16. «Полная» Семена Картмазова на новгородца Тру фана Мартьянова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 373.
38. 1504 г. июня 29. «Полная» Семена Картмазова на Ивана Антуфьева сына Картмазова. Новгород. — РИБ XVII, № 372.
39. 1507 г. марта 15. «Полная» Ивана Новокщонова на Кузьму Лукьянова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 355.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 337
4:0. 1510 г. октября 15. «Полная» Семена Сеславина на новгородца Василия Гридина сына. Новгород. — Лакиер, с. 32, № 1; В. Сергеевич. Древности русского права, изд. З, СПб., 1909, т. I, с. 145.
4:1* 1510 г. декабря 14. «Полная» Григория Новокщонова на купленных у Татьяны Зиновьевой дочери Гордеевой сына ее Гридю с женою и детьми. Новгород. — РИБ XVII, № 102.
42. 1511 г. марта. «Полная» Григория Мордвинова Муравьева на новгородца Тимофея Андронова сына с женою и детьзш. Новгород. РИБ
XVII, № 63.
43. 1511 г. декабря 11. «Полная» Ивана Новокщонова на Блпзну Васюка Труфанова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 347.
44:. 1512 г. марта 12. «Полная» Михаила Воррнина на Карпа Сухова с сыном. Новгород. — РИБ XVII, № 509.
45. 1515 г. января 2. «Полная» Василия Шумихи на новгородца Кузьму Федорова сына с женою и детьми. Новгород. — РИБ XVH, № 538.
46. 1515 г. февраля 7. «Полная» Тимофея Мпткова на Ивана Филиппова сына, прозвищем Лычника, с женою. — РИБ XVII, № 512.
47.1515 г. октября 17. «Полная» Ивана Скобельцына на псковитянина Кузьму Денисова сына. Новгород. — Лакиер, с. 33, № 2.
48. 1516 г. марта 12. «Полная» Василия Шумихи на новгородца Давыда Тимохина сына. Новгород. — РИБ XVII, № 537.
49. 1517 г. марта 29. «Полная» Василия Шумихи на Никиту Аникиева сына Москотина с сыном. — Новгород. — РИБ XVII, JV» 536.
50. 1520 г. мая 5. «Полная» Федора Скобельцына на Михаила Гридина сына Неродова. Новгород. — РИБ XVII, JVS 315.
51. 1520 г. июня 9. «Полная» Ивана Новокщонова на Ивана Савелова сына. Новгород. — РИБ XVH, № 346.
52. 1523 г. декабря И. «Полная» Неклюда Бутурлина на купленного у городенского погоста Пиана Назарьева сына — сына его кровопуска Димитрия. - РИБ XVII, № 227.
53. 1525 г. декабря 17. «Грамота» Неклюда Бутурлина на переяславца Владимира Григорьева сына Добрынина. Новгород. — РИБ XVII, № 228.
54. 1526 г. апреля 23. «Полная» Андрея Пустошкина на новгородца Власа Патрикеева сына Волосана. Новгород. — Лакиер, с. 34, № 3.
55. 1527 г. февраля 13. «Полная» Неклюда Бутурлина на чеботника Першу Григория Иванова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 226.
56. 1527 г. июля 29. «Полная» Неклюда Бутурлина на Матвея Куску Никифорова сына Борзово. Новгород. — РИБ XVII, № 230.
57. 1529 г. марта 1. «Полная» Неклюда Бутурлина на новгородца Никифора и Сергея Степановых детей. Новгород. — РИБ XVII, № 232.
58. 1531 г. февраля 28. «Полная» Якова Левшина на Тараса Родионова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 329.
59. 1531 г. сентября 13. «Полная грамота» Неклюда Бутурлина на ростовца Илью Кузмина и его жену новгородку. Новгород. — РИБ XVII, № 224.
60. 1554 г. июня 4. «Полная» Афанасия Новокщонова на Григория Вялого и Фрола Игнатовых детей Литвинова. Новгород. — РИБ XVII, № 356.
Проблемы источниковедения, II
22
338
ПРИЛОЖЕНИЕ
2. ДОКЛАДНЫЕ
1. 1492 г. ноября 13. «Докладная» Григория Мордвинова Муравьева на Гридицу Федькова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 62.
2. 1601 г. января 9. «Докладная» Ивана Новокщонова на калужанина Дмитрия Якушева сына. Новгород. — РИБ XVII, № 357.
3. 1507 г. июня 12. «Докладная» Ивана Новокщонова на новгородца Павла Никифорова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 358.
4. 1509 г. апреля 2. «Докладная» Беклкма Скобеева ва'новгородца Минея Иванова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 375.
5. 1509 г. апреля 2. «Докладная» Собаки Скобельцына на тверянина Степана Данилова сына. Новгоро і. — Лакиер, с. 311, № 1.
6. 1509 г. июня 8. «Докладная» Собаки Скобельцына на ржевитина Ивана Гридина сына. Новгород. — Лакиер, с. 31, № 2.
7. 1551 г. декабря 8. «Докладная» Александра Степанова сына Зубатого на Никона Позюева сына Новикова. Новгород. — А. А. Э. т. I, №237; В. Сергеевич. Древности русского права, изд. 3, СПб., 1909, т. I, с. 146—147; М. Владимирский-Буданов, Хрестоматия по истории русского права, изд. 4, К., 1901, вып. U, с. 239.
8. 1536 г. октября 16. «Доклашая» 3**о6ы Лошакова на Алферия Булгака Иванова сына Хабарова. — Лакиер, с. 32, № 3.
9. 1567 г. июня 14. «Докладная» Афанасия Новокщонова на Давыда Семенова сына Бакшина. Новгород. — РИБ XVII, № 501.
10. 1394 г. апреля 15. «Докладная» Михаила Муравьева на дмитровца Гридицу Терехова сына. Новгород. — РИБ XVII, № 164.
11. 1587 г. января 30. «Докладная» Алферья Бегичева на Федора Моисеева сына Гаврилова с женою и детьми. Москва. — Юшков, с. 240—241, №228. 1
12.1588 г. февраля 9. «Докладная» Бахтеяра Изъединова на Матвея Аврамова сына Данилова. Москва. — Юшков, с. 245, № 234.
13. 1588 г. марта 28. «Докладная» Кузьмы Безобразова на Никиту, прозвищем Истому, Ильина сына Федорова с женою и детьми. Москва.— Юшков, с. 246, № 235.
14. 1589 г. ноября 10. «Докладная» Семена Чемоданова на Томилу и Федора, прозвищем Горяина, Онуфриевых детей Слотиных. Москва.— Юшков, с. 266—267, № 247.
15. 1592 г. мая 31. «Докладная» Елизарья Вы лузги на на Ульяна, прозвищем Казарииа, Васильева сына Морозова с жевою и дочерьми. Москва.— Юшков, с. 274—275, № 256.
16. 1597 г. марта 13. «Докладная» Мортвина Муравьева на новгородца Фалалея Иванова сына. Новгоро і. — РИБ XVH, № 337.
17. 1600 г. июня 3. «Докладная» Кузьмы Безобразова на Лукьяна, Фрола, прозвищем Миныпука, и Алексея Смирновых детей Васильева. Москва. — Юшков, с. 276—277, № 259.
3. СЛУЖИЛЫЕ КАБАЛЫ
1. 1509—10. Кабала Аксиньи Дьяконовой Ивану Кониеву.— Юшков, с. 66, № 78.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
339
2.1514—15. Кабала Юрия... Подивникова Алексею Коже. — Юшков, с. 79. № 93.
3. 1514—15. Кабала Ивана... Дмитрию Сунбулову. — Юшков, с. 79, JV*. 94.
4. (1515—15). Кабала Тимоши... Якову Алексееву. — Юшков, с. 83, JV* 98.
5. 1516—17. Кабала полоняника Ефима Антонова с женою и сыном Василию Алабину. — Юшков, с. 85—86, № 102.
6.1518— 19. Кабала Авертея Турая Лонкова Василию Хирину.— Юшков, с. 92, № 108.
7. 1518—19. Кабала... Мальца "Степанова сына с женою и сыном Василию Кобякову. — Юшков, с. 91—92, № 107.
8.1518— 19. Кабала... с женою и детьми [Василию] Кобякову.— Юшков, с. 91, № 106.
9, 1533—34 г. <Служилая кабала> Власа Наумова сына Богдану Назимову. Вотская пятина. — РИБ XVII, стб. 213, № 558.
10. 1562—63 г. <Служилая кабала) Агапия Сарцева Григорию Есипову. — РИБ XVII, стб. 25, № 71.
11. 1562—63 г. «Кабала» Ивана Зайцева, прозвищем Приезжего, ч> женою и двумя сыновьями Константину Скобельцыну. — Л аки ер, с. 47—48, № 1.
12. 1563—64 г. <Служилая кабала) Алексея Григорьева, прозвищем Сворга, с женою Григорию Есипову. — РИБ XVII, стб. 25—26, № 74.
13. 1563—64 г. «Кабала» Василия Семенова сына с дочерью и сыном Злобе Пушкину. — Лакиер, с. 48, № 2.
14. 1565- 66 г. <Служилая кабала) Никифора Прокофьева сына князю Василию Мышецкому. ЛопскиЗ погост. — РИБ XVH, стб. 166, JV* 450.
15. 1566—67 г. <Служилая кабала) Анны Юрьевой дочери Григорию Есипову. — РИБ XVH, стб. 26, JVI 75.
16. 1566—67 г. «Кабала» Фомы Никифорова сына с женою и падчерицею Степану и Алексею Лошаковым. — Лакиер. с. 48, JVI 3.
17. 1566—67 г. «Кабала» Афанасия Окулова сына, прозвищем Пылая, с женою и двумя сыновьями Степану и Алексею Лошаковым. — Лакиер, с. 49, № 4.
18. 1567—68 г. <Служилая кабала) Лариона Васильева Григорию Есипову. _ РИБ XVII, стб. 25, № 72.
19. 1567—68 г. <Служилая кабала) Марьи Зворыкиной Григорию Есипову. — РИБ XVII, стб. 25, № 73.
20. 1567—68 г. <Служилая кабала) Дмитрия Кондратьева Федору Кобы- лину. —РИБ XVII, стб. 52, № П7.
21. 1568—69 г. «Кабала» Осипа Белого сына с женою и двумя сыновьями Константину Скобельцыну. — Лакиер, с. 49, № 5.
22. 1569—70 г. «Кабала» Якима Захарьева сына с женою Степану и Алексею Лошаковым. — Лакиер, с. 49. № 6.
23. 1570—71 г. <Служилая кабала) Федора Алексеева сына Федору Кобылину. — РИБ XVII, стб. 51—52, JVI 146.
24. 1570—71 г. «Кабала» Анны Въялицыной с сыном 3*юбе Пушкину. Павскпй погост (новгородский). — Лакиер, с. 50, № 9.
22*
340
ПРИЛОЖЕНИЕ
25. 1570—71 г. «Кабала» Карпа Белохнова с женою Олуферпю Лошакову. Щипедкий погост (новгородский). — Лакиер, с. 51, JV* 10.
26. 1571 г. мая. — «Кабала» Хавроньи Олфимовой дочери Григорию Огареву. Дегожский погост (новгородский). — Лакиер, с. 50, № 7.
27. 1571 г. декабря 6. «Кабала» Лукьяна Васильева сына с женою Ждану и Докуне Чернышедким. Дремятский погост (новгородский). — Лакиер, с. 50, № 8.
28. 1571—7*2 г. <Служилая кабала> Филиппа Игнатова сына с сыном и дочерью Гавриле и Юрию Путиловым. — РИБ XVII, стб. 84—85, № 240.
29. 1571—72 г. «Кабала» Симона Тарасова с женою и двумя сыновьями Константину Скобельцыну. Дятелитскпй погост (новгородский). — Лакиер, с. 51, JVS И.
30. 1572 г. сентября 15. <Служилая ка6ала> Петра Иванова сына с женою Борису Секирину. — РИБ XVII, стб. 5, № 10.
31. 1572—73 г. «Кабала» Моисея Онаньина сына с матерью, женою и двумя сестрами Богдану и Андрею Костицким. Орлинский погост (новгородский).— Лакиер, с. 51, № 12.
32. 1573 г. апреля 13. <Служилая кабала> Семена Романова сына Андрею Нелединскому. Судогский погост. — РИБ XVH, стб. 62, № 174.
33. 1573 г. мая 9. <Служилая кабала) Акулины Коняевой Ивану Кашка- рову. — РИБ XVII, стб. 91—92, J4* 257.
34. 1573—74 г. <Служплая кабала) Дарьи Потылкиной Матвею Зиновьеву. Городенский погост. — РИБ XVII, стб. 41, JV® 117.
35. 1574 г. марта 1. <Служилая кабала) Андрея Самуилова сына с женою Никифору Бибикову. — РИБ XVII, стб. 172, № 474.
36. 1574—75 г. «Кабала» Дмитрия Олферье^а сына с сыном и дочерью Григорию Есипову. — РИБ XVH, стб. 24, JVs 68. ,
37. 1575 г. августа 18. <Служилая кабала)1 сапожного мастера Павла Васильева сына Никифору Бибикову, -г- РИБ XVII, стб. 171, № 470.
38. 1575 г. декабря 6. <Служилая кабала) Онуфрия Григорьева сына, прозвищем Чаг, с женою и тремя сыновьями князю Матвею Мещерскому с сыном. Ижорский погост. — РИБ XVH, стб. 47, JVs 135.
39. 1575—76 г. <Служилая кабала) Григория Бороздина Богдану Скобельцыну. Ополецкий погост. — РИБ XVII, стб. 115, JVs 317.
40. 1575—76 г. «Кабала» Тимофея Борисова сына с женою и сыном Александру Квашнину. Щипедкий погост (новгородский). — Лакиер, с. 52, JVs 13.
41. 1576 г. ноября 1. <Служилая кабала) Павла Иванова сына, прозвищем Сучки, с сыном и двумя дочерьми князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 48—49, № 141.
42. 1576 г. декабря 6. <Служилая кабала) Макара Юмшакова с женою и сыном Ивану Чертову. — РИБ XVU, стб. 175, JVs 482.
43. 1576—77 г. «Кабала» Василия Иванова сына Пауку [?] Косидкому. Опоцкий погост (новгородский). —Лакиер, с. 52, JVs 14.
44. 1576—77 г. «Кабала» Давыда Власьева сына с женою Григорию Огареву. — Лакиер, с. 52, JVs 15.
45. 1577 г. марта 25. <Служилая кабала) Макара и Киприяна, прозвищем Тяжаловых, князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 48, № 140.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 341
46* 1577 г. июня 29. <Служилая кабала> Тимофея Ижеренина Игнатию Чертову. — РИБ ХУЛ, стб. 71, № 198.
47. 1577 г. июня 29. <Служилая кабала> Ивана Сидорова сына, прозвищем Шпшелы, с женою и сыном Федору, Игнатию и Антону Чертовым
РИБ XVII, стб. 71, № 199.
48. 1577 г. июня 29. <Слуяшлая кабала> Максима Скокова с женою
и двумя сыновьями Федору, Игнатию п Антону Чертовым. РИБ XVII,
стб. 71—72, № 200.
49. 1577—78 г. <Служилая кабала> Матвея Клементьева сына с женою и сыном князю Василию Мышецкому. Лопский погост. — РИБ XVII, стб. 166, JVs 451.
50. 1578 г. января 7. <Служплая кабала> Дениса и Анны Игнатовых детей Федору Супоневу. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 76, № 214.
51. 1578 г. января 11. <Служилая кабала> Григория Никитина сына с женою и двумя сыновьями Федору Супоневу. — РИБ XVII, стб. 75, № 212.
52. 1578 г. декабря 6. <Служилая кабала> Михаила Семенова сына, прозвищем Богданки, Ивану Коспцкому. — РИБ XVII, стб. 100—101, № 281.
5В. 1578 г. декабря 25. <Служилая ка6ала> Якова, Терентия и Спиридона, прозвищем Третьячки, с женами и детьми Федору Супоневу. — Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 76. № 216.
54. 1578 г. декабря 25. <Служилая кабала) Алексея Иванова сына, прозвищем Менщика, с женою и четырьмя дочерьми Федору Супоневу. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 75, № 209.
55. 1578—79 г. «Кабала» Агея Павлова сына, прозвищем Третьяка, Василию Лодыгину. — Лакиер, с. 53, № 16.
56. 1579 г. июня 29. <Служилая кабала) Лазаря Дмитриева сына с женою, двумя сыновьями и дочерью Ивану Чертову. — РИБ XVII, стб. 175—176, № 480.
57. 1580 г. февраля 26. <Служилая кабала) Саввы Яковлева сына с женою Михаилу Кузминскому. — РИБ XVII, стб. 16, JVI 46.
58. 1580 г. апреля 23. <Служилая кабала) Кузьмы, Михаила с женою и Ирины Родионовых детей князю Матвею Мещерскому с сыном. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 48, № 139.
59. 1580 г. мая 9. <Служилая кабала) Матвея Васильева сына князю Василию Мышецкому. — РИБ XVII, стб. 166, № 452.
60. 1580 г. ноября 14. <Служилая кабала) Тимофея Фомина сына с женою и сыном князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 47—48, № 138.
61. 1580 г. декабря 6. <Служилая кабала) Дмитрия Федорова сына с сестрой Ивану Чертову. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 174, № 479.
62. 1580—81 г. <Служилая кабала) Фофана Иванова сына Матвею Зиновьеву. Любытский погост. — РИБ XVII, стб. 40—41, № 116.
68. 1580—81 г. «Кабала» Ефросиньи Некраски Федоровой дочери Алексею Колычеву. Щепецкий погост (новгородский). — Лакиер, с. 53, № 17.
64. 1580—81 г. «Кабала» Хрисанфа, прозвищем Посника, Семенова, сына с женою Поснику Колычеву. Щепецкий погост (новгородский).— Лакиер, с. 53, № 18.
342
ПРИЛОЖЕНИЕ
65.1581 г. января 6. <Служилая ка6ала> Василия Черного князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 47, JVI 136.
66. 1581 г. января 7. <Служилая ка6ала> Мартына Матвеева сына с женою и лвумя сыновьями Федору Супоневу. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 76, JVS 215.
67. 1581 г. января 15. <Служилая кабала> Тимофея Васильева сына с женою князю Василию Мышецкому. — РИБ XVII, стб. 166, № 453.
68. 1581. апреля 27. <Служилая кабала> Федорі Федорова сына с женою и дочерью Федору Супоневу. — РИБ XVII, стб. 76, № 213.
69. 1581 г. мая 9. <Служилая кабала> Михаила Иванова сына, прозвищем Воробья, с женою Федору Супоневу. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 75, № 210.
70. 1581 г. мая 9. <Служилая кабала> Мартына Тарасова сына с женою и двумя дочерьми Федору Супоневу. — РИБ XVII, стб. 78, № 218.
71. 1581 г. мая 9. <Служилая ка6ала> Никифора Онисимова сына с сыном и дочерью Корыстному и Остальцу Опалевым. — РИБ XVII, стб. 87—88, № 249.
72. 1581 г. мая 9 <Служилая кабала> Степана Прокофьева сына, Михаила и Василия Ильиных детей Богдану Скобельцыну. — РИБ XVII, стб. 115, № 318.
73. 1581 г. мая И. <Служплая кабала> Андрея Борисова сына, прозвищем Щербинки, с женою Федору Супоневу. — РИБ XVII, стб. 76—77, № 217.
74. 1581 г. июля 20. <Служплая кабала> Василия Подлоского с сыном Игнатию Оболнянинову. — РИБ XVE, стб. 160, № 433.
75. 1581 г. ноября 15. <Служилая кабала> Константина, прозвищем
Бурки, Ильина сына князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост.— РИБ XVII, стб. 46, № 131. |
76. 1581—82 г. «Кабала» Андрея Ефимьева сына Дмитрию Скобельцыну. Новгород [?]. — Лакиер, с. 54, № 21.
77. 1582 г. января 1. <Служилая ка6ала> Бориса Тимофеева сына князю Василию Мышецкому. — РИБ XVII, стб. 166—167, № 454.
78. 1582 г. января 1. <Служилая кабала> Семена Яковлева сына с женою и сыном Григорию О до Дурову. — РИБ XVII, стб. 186, № 508.
79. 1582 г. мая. «Кабала» «послужильца» Павла Васильева сына Тихому [?] Мяхкову. Порхов. — Лакиер, с. 53—54, № 19.
80. 1582 г. октября 18. <Служилая кабала> Михаила Федорова сына с женою Григорию Сысоеву. — РИБ XVII, стб. 101—102, № 285.
81. 1582 г. ноября 1. <Служилая кабала) Леонтия Казачка Богдану Буйносову. — РИБ XVU, стб. 149, № 407.
82. 1582 г. ноября 8. <Служилая кабала) Екатерины Михайловой дочери с двумя дочерьми князю Матвею Мещерскому. — РИБ XVII, стб. 44, № 125.
S3. 1582 г. декабря 1. <Служилая кабала) Алексея Иванова сына с женою, и двумя сыновьями Богдану Скобельцыну. — РИБ XVII, стб. 115, № 319.
81. 1582 г. декабря 6. <Служилая кабала) Василия и Федора, прозвищем Хутко, Дурново князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 46, JV. 133.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 343
85. 1582 г. декабря 25. <Служилая кабала) Якуша Петрова сына с женою, тремя сыновьями и двумя дочерьми князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, сто. 47, № 137.
86. 1582 г. декабря 25. <Служилая ка6ала> Симона и Ильи Никифоровых детей Никифору Бибикову. — РИБ XVII, стб. 170, JVs 465.
87. 1582 г. декабря 25. «Кабала» Дорофея Прокудина, прозвищем Истомки, с женою и пасынком Богдану Скобельцыну. Дубровенский погост (новгородский). — Лакиер, с. 54, JVs 20.
88. 1582—83 г. <Служилая кабала) Марьи Панфиловой Ивану Кашка- рову. — РИБ XVII, стб. 91, JVs 256.
. 89. 1582—93 г. <Служплая кабала) Петра Дмитриева сына с женою, сыном и двумя дочерьми Юрию Пушкину. — РИБ XVII, стб. 106—107, JVs 298.
90. 1582—83 г. «Кабала» («кабалка») монастырского «оклатчика» Ивана Игнатьева сына Константину Скобельцыну. — Лакиер, с. 56, JVs 26.
91. 1583 г. марта. «Кабала» Филата Собинина сына Михаилу Дубровскому. Буреский погост (новгородский). — Лакиер, с. 54, № 22.
92. 1;.83г. марта 1. <Служилая кабала) Андрея Васильева сына с женою и двумя сыновьями Григорию Ододурову. — РИБ XVII, стб. 185, JVs 505.
93. 1583 г. марта 1. <Служилая кабала) Алексея Данилова сына с женою Григорию Ододурову. — XVII, стб. 186, № 507.
94. 1583 г. марта 9. <С.іужилая кабала) Фрола Васильева сына, прозвищем Файки, Сапуну Тенпкишеву-Бакшееву. — РИБ XVII; стб. 82, № *233.
95. 1583 г. апреля. «Кабала» Корнилпя Плотникова с женою и сыном [Ждану Харламову]. Новгород [?], — Лакиер, с. 57, JVs 30.
96. 1585 г. апреля 23. <Служплая кабала) Василисы Дмитриевой дочери Петру Боркову. — РИБ XVII, стб. 10, № 27.
97. 1583 г. апреля 28. <Служилая кабал ) Сергея Иванова сына с женой Михаилу Нелединскому — РИБ XVII, стб. 86, № 245.
98. 1583 г. мая. <Служилая кабала) Матвея Парина Степану Оболняни- нову. Дудоровскпй погост. — РИБ XVII, стб. 117, JV® 327.
99. 1583 г. августа 18. <Служилая кабала) Митрофана Офроиеева сына с женою и двумя дочерьми Федору Супоневу. Ижорский погост. — РИБ XVH, стб. 75, JVs 211.
100. 1583 г. сентября. — «Кабала» Малафея Вялого с тремя сыновьями Алексею Колычеву. Гдов. — Лакиер, с. 55, JVs 23.
101. 1583 г. октября. — «Кабала» Пелагеи Матвеевой дочери Зверю Карсакову. Бельский погост (новгородский). — Лакиер, с. 55, JVs 24.
102. 1583 г. ноября 14. <Служилая кабала) Андрея Чудинова с женою Богдану Скобельцыну. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 115—116, JVI 320.
108. 1583 г. ноября 15. <Служилая кабала) Добрыни Иванова сына с женою Федору Чертову. Ижорский погост. — РИБ XVn, стб. 181, JVs 496.
104. 1583 г. ноября 21. <Служилая кабала) Пелагеи Петровой дочери князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 44—45, JVs 126.
105. 1583 г. декабря 6. <Служилая кабала) Авдотьи Тележниковой Кон- дратию Ермолину. — РИБ XVII, стб. 93, JVs 261.
344
ПРИЛОЖЕНИЕ
106. 1583 г. декабря 25. <Служилая кабала) Ивана и Пимена Филипповых детей князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVH, стб. 46, № 132.
107. 1583 г. декабря 25. «Кабала» Харитоньи Ивановой дочери [Михаилу Головачеву]. Дубровенский погост (новгородский). — Лакиер, с. 55, JV* 25.
108. 1583 г. декабря 25. <Служилая кабала> Афанасия Авдеева сына, прозвищем Поздняка, с сыном Никифору Бибикову. — РИБ XVH, стб. 170, JV* 466.
109. 1583—84 г. <Служилая ка6ала> Луки Яковлева сына Федору Елагину. — РИБ ХУП, стб. 26, № 76.
110.1583—84 г. <Служивая кабала> Якима, прозвищем Третьяка, с сыном и дочерью Ивану Елагину. — РИБ ХУП, стб. 143, № 389.
111. 1584 г. января. <Служилая кабала> Игнатия Гаврилова сына, прозвищем Истомки, Ивану Кузьминскому. — РИБ ХУП, стб. 15—16, № 45.
112. 1584 г. января 6. «Кабала» Авдотьи Борисовой дочери с двумя сыновьями Богдану Скобельцыну. Дубровенский погост (новгородский). — Лакиер, с. 56, № 27.
113. 1584 г. февраля 11. <Служилая ка6ала> Андрея Лобанова сына Федору Чертову. Ижорский погост. — РИБ ХУП, стб. 181, № 497.
111. 1584 г. марта 1. <Служилая кабала> Патрикея Павлова сына Никифору Бибикову. — РИБ ХУП, стб. 168 — 169, № 460.
115. 1584 г. марта 5. <Служилая кабала> Кондратия Яковлева сына с женою и сыном Андрею Нелединскому. Судейский погост. — РИБ ХУП, стб. 39, № ИЗ.
116. 1584 г. марта 8. «Кабала» <служилая кабала> Саввы Григорьева
сына с женою и сыном попу Ивану Иванову сыну. Пажеревицкий погост (новгородский). — Лакиер, с. 56, № 28. j
117. 1584 г. марта 25. <Служилая кабала) колпачника Сидора Соломна Степану Кузминскому. Сольцы. — РИБ XVII, стб. 15, № 42.
118. 1584 г. апреля 23. <Служилая кабала) Ситки Яковлева сына с женою Герасиму Поскочину.— РИБ ХУП, стб. 98, № 274.
119. 1584 г. апреля 23. <Служилая кабала) Степана Мишутина сына с женою Плану Серкову. — РИБ XVII, стб. 105—106, № 295.
120. 1584 г. мая 9. <Служилая кабала) Нечая Лукьянова сына с женою и падчерицею Герасиму Поскочину. — РИБ XVII, стб. 98—99, № 275.
121. 1584 г. мая 12. <Служилая кабала) Осипа Михайлова сына с женою и сыном Федору, Игнатию и Антону Чертовым. — РИБ XVII, стб. 70—71, № 197.
122.1584 г. июня 20. <Служилая кабала) Данилы Васильева сына с женою, тремя сыновьями и дочерью Игнатию Чертову. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 70, № 194.
123. 1584 г. июня 28. <Служилая кабала) Ивана Федорова сына, прозвищем Сушки, с женою, сыном и дочерью Федору Супоневу. Ижорский погост. —РИБ XVII, стб. 74, № 207.
121. 1584 г. июля. «Кабала» «послужильца» Гаврилы Михайлова сына с женою и сыном Ждану Харламову. — Лакиер, с. 57, № 29.
125. 1584 г. июля 20. <Служилая кабала) Гаврилы Никитина сына с братом Ивану Чертову. — РИБ XVII, стб. 175, JV* 481.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
345
126.1584 г. июля 20. <Служилая кабала> Ивана Яковлева сына с женою, «ЫНОМ и дочерью Ждану и Никите Тырковым. — РИБ XVII, стб. 194, № 518.
127.1584 г. августа 15. <Служилая кабала> Афанасия, Авдотьи и Смирении
Строевых и Лукерьи Степановой дочери Игнатию Чертову. РИБ XVII,
«тб. 125, № 343.
128. 1584 г. октября 1. <Служилая кабала> Авдотьи Федоровой дочери Ивану Самарину. — РИБ XVH, стб. 164—5, JV® 447.
129. 1584 г. октября 8. <Служилая ка6ала> Ефимьи Юрьевой дочери Богдану Ододурову. — РИБ XVII, стб. 207, № 544.
130. 1584 г. октября 26. <Служилая кабала> Марьи Григорьевой дочери Семену Жогину (?). — РИБ XVII, стб. 148, № 404.
131. 1584 г. октября 26. <Служилая кабала) Антона Борисова сына Семену Озжогину (?). — РИБ XVII, стб. 148, № 405.
132. 1584 г. ноября 22. <Служилая кабала) Олфера, прозвищем Оллуйка, Ильина сына князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, «тб. 49, № 142.
138. 1584 г. декабря б. <Служилая кабала) Дениса Алексеева сына « женою Федору Коротаеву. — РИБ XVII, стб. 67, № 186.
134. 1584 г. декабря 6. <Служилая кабала) Филиппа Григорьева сына, прозвищем Скокуна, с женою и с двумя сыновьями Никите Супоневу. Ижорский погост. — РИБ XVH, стб. 74—75, № 208.
135. 1584 г. декабря 6. <Служилая кабала) Ивана Вдовкина с женою Богдану Скобельцыну. Ижорский погост. — РИБ XVII, стр. 116, № 321.
136. 1584 г. декабря 6. <Служилая кабала) Белки Спициной дочери, Матрены Матвеевой дочери и Неждахи Мишуковой дочери Богдану Скобельцыну. — РИБ XVH, стб. 116, № 323.
137. 1584—85 г. <Служилая кабала) Федора Климова сына Тихону Ододурову.— РИБ XVH, стб. 30—31, № 89.
138. 1584—85 г. <Служилая кабала) Минки Климова сына с сыном Тихону Ододурову. — РИБ XVII стб. 31, № 90.
139. 1584—85. <Служилая кабала) Петра Васильева сына с женою и сыном Федору Коротаеву. — РИБ XVII, стб. 67, № 187.
140. 1584—85 г. <Служплая кабала), Леонтия Григорьева сына, прозвищем Богданки, Федору, Игнатию и Антонию Чертовым. — РИБ XVII, •стб. 124, № 341.
141. 1584—85 г. <Служилая кабала) Афанасия, прозвищем Фоки, и Аверкия Дмитриевых детей Федору, Игнатию и Антонию Чертовым. — РИБ XVII, стб. 124—125, № 342.
142. 1584—85 г. «Кабала» Ивана Верзяги Ивану Кузминскому, РИБ XVH, стб. 142, № 387.
143. 1584—85 г. <Служилая кабала) Матрены Филипповой дочери Олферию Гурьеву. - РИБ XVII, стб. 149—150, № 408.
144. 1584—85 г. <Служилая кабала) Афанасия Филиппова сына Степану Оболнянинову. Дудоровский погост. — РИБ XVII, стб. 160, 432.
145. 1584—85 г. <Служилая кабала) Варвары Константиновой дочери с сыном Никифору Бибикову. — РИБ XVII, стб. 170. № 464.
146. 1584—85 г. <Служилая кабала) Анания Истомина Ивану Бибикову.—РИБ Х\ Й, стб. 171, № 471.
346
ПРИЛОЖЕНИЕ
147. 1584—85 г. <Служилая кабала> Дмитрия, прозвищем Болвана, и Алексея, прозвищем Борана, Истоминых Ивану Бибикову. — РИБ XVII, стб. 171—2, № 473.
148. 1584—85 г. о Кабала» Марины, прозвищем Некраски, Дементьевой дочери Зверю Карсакову, Бельский погост (новгородский) — Лакиер, с. 58, № 32.
149. 1584—85 г. «Кабала» Ивана Гутка Семенова сына с женою и двумя сыновьями Ивану Сеславину. — Лакиер, с. 58, № 33.
150. 1584—85 г. «Кабала» Дмитрия Захарьева сына с двумя сыновьями Злобе Пушкину. — Лакиер, с. 58, № 34.
151. 1584—85 г. «Кабала» Ивана Окулова сына [Михаилу Головачеву].
Клин. — Лакиер, с. 58, № ‘*5. 4
152. 1585 г. января 1. <Служивая кабала> Митрофана Петрова сына и Семена Пикуева сына с женою Богдану Скобельцыну. Ижорский погост.—РИБ XVII, стб. 116, № 322.
153. 1585 г. марта 1. <Служилая кабала> Томилки Григорьева сына с двумя сестрами Андрею Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 36, № 106.
154. 1585 г. марта 1. <Служилая кабала> Михаила Захарьева сына Федору Супоневу. — РИБ XVH, стб. 74, № 205.
155. 1585 г. марта 25. <Служилая кабала> сапожного мастера Ивана Тимофеев! сына Андрею Обухову. — РИБ XVII, стб. 178, № 492.
156. 1585 г. апреля 20. <Сл\ жилая кабала> Тараса Никифорова сына с женою, сыном и дочерью Поснику Рындину. — РИБ XVII, стб. 207, № 545.
157. 1585 г. апреля 23. <Служилая кабал; > Ефимьп Кобелевой с дочерью Матвею и Федору Барановым. РИБ XVII, стб. 54, JVI155.
158. 1585 г. апреля 23. <Служилая кабала> Михаила Трофимова сына,
прозвищем Кобеля, с сыном и дочерью Севастьяну Чуркину с сыном. — РИБ XVII, стб. 105, № 293. |
JL59. 1585 г. апреля 23. <Служилая кабала> Афанасия Петрова сына, прозвищем Томилки, Федору Арцыбашеву. — РИБ XVII, стб. 107, № 299.
160. 1585 г. апреля 23. <Служплая кабала> Ефима Власьева сына с женою и Павла Алексеева Богдану Скобельцыну. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 116-117, № 324.
161. 1585 г. апреля 23. <Служилая кабала) Степана Семенова сына с сыном Ждану и Никите Тырковым. — РИБ XVII, стб. 194, № 520.
162. 1585 г. мая 9. <Служплая кабала) Севастьяна и Марф г Сергеевых детей князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 44, № 124.
16В. 1585 г. мая 9. <Служилая кабала) Тараса, Семена и Анны Воевод- киных князю Матвею Мещерскому. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 46-47, № 134.
164. 1585 г. мая 9. <Служилая кабала) Семена Петрова сына с женою и сыном Никифору Бибикову. — РИБ XVII, стб. 171, № 472.
165. 1585 г. мая 9. <Служилая кабала) Василия Волохова Ждану и Никите Тырковым. — РИБ XVII, стб. 194, № 519.
166. 1585 г. мая 27. <Служплая кабала) Марьи Лаврентьевой дочери с сыном и двумя дочерьми Игнатию Чертову. Ижорский погост. РИБ XVII, стб. 69—70, JVt 193.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 347
167. 1585 г. июня 11. {Кабала} Владимира Максимова сына Ивану Карт- мазову. — РИБ XVII, стб. 141, № 383.
168. 1585 г. июня 19. <Служилая ка6ала> Никиты Матвеева сына Гавриле Путилову. — РИБ XVII, стб. 84, № 239.
169 1585 г. июля 1. {Служилая кабала} Аксиньи Исаковой дочери Пос- нику Оболнянпнову. Хрепельский погост. — РИБ XVII, стб. 177, № 489.
170. 1585 г. июля 21. {Служилая кабала} Данилы Иванова сына с женою и тремя сыновьями Федору, Игнатию и Антону Чертовым. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 72, № 201.
171. 1585 г. сентября 1. {Служилая кабала} Ильи Иванова сына, прозвищем Собинки, с женою, тремя сыновьями и внучкой Григорию Ододурову.
РИБ XVII, стб. 185, № 504.
172. 1585 г. сентября 1. {Служилая кабала} Марьи Васильевой дочери с двумя сыновьями Григорию Ододурову. — РИБ XVII, стб. 185, № 506.
173. 1585 г. сентября 8. {Выкупная служилая кабала} Кирюка Андреева сына с женою и дочерью Федору Корыткову. — РИБ XVII, стб. 123, № 338.
171. 1585 г. сентября 26. {Служивая кабала} Гаврилы Матвеева сына Ратаю и,К... у Крекшиным. Село Тисово. — РИБ XVII, стб. 143—144, № 390.
175. 1585 г. октября «Кабала» Клима Федорова сына Петру Васильеву. — Лакиер, с. 57, № 31.
176. 1585 г. октября 6. {Служилая кабала} Григория, прозвищем Журавля, Степанова сына с женою, сыном и дочерью Ивану Матвееву. Сольцы. —РИБ XVII, стб. 14, № 40.
177. 1585 г. ноября {Служилая кабала} Аграфены Яковлевой дочери Третьяку Савину — РИБ XVII, стб. 54, № 154.
178. 1585 г. ноября 14. {Служилая кабала} Настасьи Степановой дочери Борису Вельяшеву. Коломенский погост. — РИБ XVII, стб. 53, № 150.
179. 1585 г. ноября 14. {Служилая кабала} Офеопенті, прозвищем Нечайки, Давыдова сына Богдану Зеновьеву. — РИБ XVII, стб. 88, № 250.
180. 1585 г. декабря 25. {Кабала} Ивана Романова сына Воину Новок- щонову. - РИБ XVII, стб. 134, № 369.
181.1585—86 г. {Служилая кабала} Федора Конанова Афанасию Неелову Бельская волость. — РИБ XVII, стб. 96, № 269.
182. 1586 г. января 1. {Служивая кабала} Федора Афанасьева сына, прозвищем Толмача, с женою Петру и Гавриле Глотовым. — РИБ XVII, стб. 110, № 305.
183. 1586 г. января 1. {Служивая кабала} Василия Любаческого с женою Петру, Гавриле и Андрею Глотовым. — РИБ XVII, стб. 110, № 306.
181. 1586 г. января 1. {Служивая кабала} Марьи Ивановой дочери с сыном Меньшому Глотову с тремя сыновьями — РИБ XVII, стб. 110, № 307.
185. 1586 г. января 1. {Служилая кабала} Афанасия Иванова сына Ивану Бибикову. — РИБ XVII, стб. 170, № 467.
186. 1586 г. января 1. {Служилая кабала} Никиты и Демида Мелеховых детей Никифору Бибикову. — РИБ XVII, стб. 170, 171, № 468.
187. 1586 г. января 3. {Служилая кабала} Михея Попова, прозвищем Томилки, Федору, Игнатию и Антону Чертовым. Сольцы. — РИБ XVII* стб. 70, № 196.
348
П Р ИЛ О Ж Е Н И Б
188. 1586 г. февраля. <Служилая ка6ала> Ивана Петрова сына Петру и Гавриле Глотовым. — РИБ XVII, стб. 109, № 303.
189. 1586 г. февраля. <Служилая кабала> Афанасия Степанова сына с женою и дочерью Петру и Гавриле Глотовым. — РИБ XVII, стб. 109— 110, № 304.
190. 1586 г. февраля 6. <Служилая ка6зла> Василия Федорова сына « женою Захарию Бибикову. — РИБ XVII, стб. 169, № 462.
191. 1586 г. апреля. <Кабала> Кузьмы и Акима Перских Ивану Сабурову. — РИБ XVII, стб. 23, № 67.
192. 1586 г. мая 9. <Служилая кабала> Марка Иванова сына с женою, -сыном и двумя дочерьми Курдюму Миткову и его сыну. — РИБ XVII, стб. 43—44, № 123.
193. 1586 г. мая 10. <Служилая кабала> Карпа Лукина сына с женою и дочерью Игнатию Чертову. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 72, № 202.
194. 1586 г. мая 27. <Служплая ка6ала> Афанасия Тимофеева сына Григорию Назимову. Новгород [?] — РИБ XVII, стб. 212—213, № 557.
195. 1586 г. июня 29. <Служилая кабала) Клементия Кособрюхова, прозвищем Вавулы, Андрею Обухову. Хрепельский погост. — РИБ XVII, стб. 178, № 491.
196. 1586 г. июля 20. <Служилая кабала) Тимофея Савельева сына 45 женою Борису Секирину. — РИБ XVII, стб. 5, № 11.
197. 1586 г. июля 29. «Кабала» Ивана Иванова сына, прозвищем Воронка, с двумя сыновьями и дочерью Богдану Скобельцыну. — Лакиер, с. 59, № 36.
198. 1586 г. июля 31. <Служилая кабала) Петра Михайлова сына Феоктисту Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 60—61, № 171.
199. 1586 г. августа 10. <Служилая кабала) Петра Яковлева сына Герасиму Муравьеву. — РИБ XVII стб. 7, № 16. |
200. 1586 г. августа* И. <Служилая кабала) Василия Иванова сына Герасиму Муравьеву — РИБ XVII, стб. 8, № 19.
201. 1586 г. октября. <Служилпя кабала) Остафия Федорова сына с женою и сыном князю Василию Мышецкому. — РИБ XVII, стб. 167, № 455.
202. 1587 г. февраля 15. <Служилая кабала) Михаила Федорова сына Федору Бестужеву. — РИБ XVII, стб. 11, № 30.
203. 1587 г. мая 6. <Служплая кабала) Семена Иванова сына с женою Якову Колоколцову. — РИБ XVII, стб. 88, № 251.
204. 1587 г. июля 20. <Служилая кабала) Петра Пелячева Борпсу Секирину с сыном. — РИБ XVII стб. 5, № 12.
205. 1587 г. июля 20. <Служилая кабала) Артемия Уконовского с женою н дочерью Петру Савину. — РИБ XVII, стб. 54, № 153.
206. 1587 г. сентября 18. <Служилая кабала) Тимофея Иванова сына, Кузьмы и Василия Тимофеевых детей Сонцовых Федору, Игнатию и Антону Чертовым. Новгород. — РИБ XVII, стб. 70, № 195.
207. 1587 г. декабря 25. <Служилая кабала) Емельяна Иванова сына, прозвищем Жилки, с женою и сыном Федору Коротаеву. Водская пятина, Полужская половина. — РИБ XVII, стб. 67, № 188.
208. 1588 г. января 12. <Служилая кабала) Ивана Иванова сына Казарину и Владимиру Масленицким. Городенский погост. — РИБ XVII, стб. 150, № 410.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 349t*
209. 1588 г. января 20. <Слуяшлая кабала» Ульяна Лазарева сына, прозвищем Первого, Герасиму Муравьеву. —РИБ XVII, стб. 7—8, № 18.
210. 1588 г. января 28. <Служилая кабала» Михаила Филиппова сына Михаилу Мостофину. — РИБ XVII, стб. 10, № 26.
211. 1588 г. марта 10. <Служилая кабала» Василия Панкратьева сына Степану Боборикину. — Р0Б XVII, стб. 99, № 277.
212. 1588 г. марта 13. <Служилая кабала> Ермолая Захарьева сына,.
прозвищем Остатки, с женою Степану и Ивану Кузминским. РИБ XVII
стб. 13—14, № 37.
213. 1588 г. марта 25. <Служплая кабала> Григория Ефремова сына с женою и сыном Федору Коротаеву. — РИБ XVII, стб. 67, № 185.
214. 1588 г. марта 30. <Служплая кабала> Степана Андреева сына с женою Степану Косицкому. — РИБ XVII, стб. 101, № 282.
215. 1588 г. апреля 26. <Кабала> Михаила Ворыхалова, прозвищем Истомин, с женою Воину Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 133—Ш, № 368.
216. 1588 г. июля. <Служплая ка6ала> Гаврилы, прозвищем Новичаг Андреева сына с женою и сыном князю Матвею Мещерскому. — РИБ XVII, стб. 45—46, № 130.
217. 1588 г. августа 13. <Служилая кабала> Евпла Афанасьева сына, прозвищем Селянинки, с женою и двумя сыновьями Герасиму Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 7, № 17.
218. 1588 г. октября 11. <Служилая кабала> Леонтия Дорофеева сын» Ивану Кузьминскому. — РИБ XVII, стб. 15, № 44.
219. 1588 г. октября 20. <Служилая ка6ала> Федора Афанасьева сына с женою, сыном и двумя дочерьми Ивану Серкову. Новгород. — РИБ XVII,. стб. 106, № 296.
220. 1588 г. октября 21. <Кабала> Афанасия Логинова сына с сыном Ивану Картмазову. — РИБ XVII, стб. 140, № 382.
221. 1588 г. декабря 4. <Служплая кабала) Саввы Фофанова сына, прозвищем Сати, Ивану Серкову. — РИБ XVII, стб. 106, № 297.
222. 1588 г. декабря 17. «Кабала» Василия Васильева сына, прозвищем Гралева, с женою и Харлампия Васильева сына, прозвищем Санюка, Дмитрию Скобельцыну. — Лакиер, с. 59, № 37.
223. 1588 г. декабря 25. <Служплая кабала) Якуша Михайлова сына Богдану Малышеву. — РИБ XVII, стб. 87, № 248.
224. 1588—89 г. <Служплая кабала) Терентия Власьева с женою, тремя сыновьями и дочерью Герасиму Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 8, № 20.
225. 1588—89 г. <Служилая кабала) Авдотьи Ивановой с сыном Герасиму Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 9, № 23.
226. 1588—89 г. <Служилая кабала) Антона Софонтьева сына с женою Андрею Боранову. — РИБ XVII, стб. 17, № 51.
227. 1588—89 г. <Служилая кабала) Леонтия Игнатьева, сына, прозвищем Томилки, с женою Ивану Коротаеву. — РИБ XVII, стб. 153, № 416.
228. 1588—89 г. <Служилая кабала) Ивана Федорова сына Ивану Коротаеву.— РИБ XVII, стб. 153, № 417.
229. 1589 г. января 22. <Служилая кабала) Трофима Антонова, прозвищем Богданки, с женою и сыном Клементию Гурьеву. РИБ XVII, стб. 99г М 276.
350
ДРИЛ ОЖЕНИВ
230. 1589 г. января 23. «Кабала» Григория Афанасьева сына [Степану Скобельцыну]. Шелонская пятина, Зарусская половина. — Лакпер, с. 59, JV138.
231. 1589 г. января 24. <Служилая кабала> Аксиньи Ивановой с дочерью Алексею Одинцову. — РИБ XVII, стб. 213—214, № 560.
232. 1589 г. января 28. <Служплая кабала> Павла Семенова сына, прозвищем Т[р]етьяка,с сыном Андрею Новокщонову.—РИБ XVII, стб. 36, № 104.
233. 1589 г. января 28. <Служилая каб ла> Ивана и Луки, прозвищем Семушки, Дмитриевых детей Андрею Новокщонову. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 36, № 105.
234. 1586 г. января 29. <Служилая ка6ала> Никандра Федорова сына, прозвищем Третьяка, Игнатию Оболнянинову. — РИБ. XVII, стб. 158, № 427.
235. 1589 г. февраля. <Выкупная кабала) Назария Иванова сына, прозвищем К зарина, с женою и сыном Андрею Пагосову. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 161, № 436.
236. 1589 г. февраля 13. <Служилая кабала) Григория Родина с женою и Андрея Родина Ивану Самарину. — РИБ XVII, стб. 164, № 444.
237. 1589 г. февраля 21. <Служил я кабала) Обросимки Никитина сына с женою Ивану Кузминскому. — РИБ XVII, стб. 15 № 43.
238. 1589 г. февраля 23. <Служилая кабала) Прасковьи Жгутовой Борису Вельяшеву. — РИБ XVU, стб. 53, № 149.
239. 1589 г. февраля 24. <Служилая кабала) Гаврилы Степанова сына с женою Игнатию Чертову. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 124, № 340.
240. 1589 г. марта 9. <Служилая кабала) Ивана Яковлева сына, прозви¬
щем Нечайки, с женою и двумя сыновьями Ивану Коротаеву^—РИБ XVII, *тб. 152, № 413. (
241. 1589 г. марта 9. <Служилая кабала) Парфена Емельянова сына, прозвищем Истомки, с женою и сыном Ивану Коротаеву. — РИБ XVII, стб. 152, № 414.
242. 1589 г. марта 9. <Служилая кабала) Василия, прозвищем Коренева, с женою и сыном Ивану Коротаеву. — РИБ XVII, стб. 153, № 415.
243. 1589 г. марта 10. <Служилая кабала) Афанасия Патрикеева сына, прозвищем Латыша, Игнатию Оболнянинову. — РИБ XVII. стб. 158, № 426.
244. 1589 г. марта 15. <Служилая кабала) Ивана Пасынкова, прозвищем Скорика, Игнатию и Антонию Чертовым. — РИБ XVII, стб. 125, JV* 344.
245. 1589 г. мирта 17. <Служилая кабала) Тимофея Трофимова сына с женою Елене Кобылиной. — РИБ XVII, стб. 162, № 438.
246. 1589 г. мгрта 23. <Служилая кабала) Михаила Семенова сына •с женою и с сыном князю Василию Мышецкому. — РИБ XVII, стб. 167, № 456.
247. 1589 г. марта 26. <Кабала) Владимира Кусова с сыном Воину Новокщонову.—РИБ XVII, стб. 133, № 367.
248. 1589 г; марта 28. <Служилая кабала) Исаака Константинова сына Григорию Муравьеву. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 20, № 58.
249. 1589 г. 30. <Сл\ жилая кабала) Фомы Тимофеева сына Степану Лаптеву. — РИБ XVII, стб. 173, № 477.
250. 1589 г. апреля 2. <Кабала) Ивана Истомина Воину Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 134, № 370.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 351
251* 1589 г. апреля 2. <Ка6ала> Федора Суботина с женою Воину Новок- щонову. — РИБ XVII стб. 134, № 371.
2о2* 1589 г. апреля 10. <Служилая ка6ала> Федота Клементьева сына Федору Супоневу. — РИБ XVII, стб. 77, № 219.
253* 1589 г. апреля 12. <Служилая кабала> Алексея Васильева сына Ивану Муравьеву. Передольный погост. —РИБ XVII, стб. 20, № 59.
251. 1589 г. мая. <Служилая кабала> Купра Максимова сына с женою Богдану Зеленину. — РИБ XVII, стб. 208, № 547.
255. 1589 г. июня 10. <Служилая ка6ала> Василия Распопина Ивану Муравьеву. Новгороі. — РИБ XVII стб. 20, JV* 60.
256. 1589 г. июня 29. <Служилая кабала> Григория Иванова сына с женою Ивану Самарину. — РИБ XVII, стб. 163—164, № 443.
257. 1589 г. августа 21. <Служплая кабала> Леонтия Алексеева сына Третьяку Савину. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 53, JV* 151.
258. 1589 г. сентября 8. <Служилая кабала) Петра Максимова сына, прозвищем Пяшки, с женою Степану Лаптеву. — РИБ XVII, стб. 172, № 475.
259. 1589 г. октября 20. <Служилая кабала) Семена Резвого князю Матвею Мещерскому с сыном. — РИБ XVII, стб. 45, JV* 127.
260. 1589 г. ноября 14. <Служилая кабала) Назария, прозвищем Каза- рпвка, с женою, двумя сыновьями и двумя дочерьми Петру Тушину. Коломенский погост. — РИБ XVII, стб. 161—162, № 437.
261. 1590 г. февраля 2. <Служилая кабала) Григория Леонтьева сына Петру Савину. — РИБ XVII, стб. 53—54, № 152.
262. 1590 г. марта 12. <Служилая кабала) Ивана Софонтьева сына Игнатию Оболнянивову. Новгород. — РИБ XVII, стб. 157, JN* 424.
263. 1590 г. марта 12. <Служилая кабала) Ивана Алексеева сына, прозвищем Воротилы, Поснику Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 177—178, № 490.
264. 1590 г. апреля 10. <Служплая кабал ) Григория, прозвищем Фот- кина, Игнатию Оболнянинову. - РИБ XVII, стб. 157—158, № 425.
265. 1590 г. апреля 30. <Служплая кабала) Ивана Резвого Ивану Рындину.—РИБ XVII, стб. 97, № 271.
266. 1590 г. июня 29. <Служилая кабала) вдовы Татьяны Лазаревой дочери Михаилу Нелединскому. — РИБ XVII, стб. 86, JV* 246.
267. 1590 г. сентября 8. <Кабала) Василия Гаврилова сына с женою Воину Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 133, № 366.
268. 1590 г. сентября 14. <Служилая кабала) Сергея Игнатьева сына с женою Ждану Тыркову. — РИБ XVII, стб. 194—195, № 521.
269. 1590 г. сентября 14. <Служилая кабала) Сергея Игнатьева сына с женою Ждану Тыркову. — РИБ XVII, стб. 195. JV* 522.
270. 159* > г. ноября 1. <Служиля кабала) Максима Семенова сына с женою Алексею Одинцову. — РИБ XVII, стб. 213, JV* 559.
271. 1590 г. декабря 10. <Служилая кабала) Авдея, прозвищем Ратайки, Константинова сына Богдану Боркову. — РИБ XVII, стб. 205, № 540.
272. 1590 г. декабря 19. <Служилэя кабала) Никиты Яковлева сына с женою Герасиму Муравьеву. — РИБ. XVII, стб. 8, JV* 21.
273. 1591 г. января. <Служилая кабал; ) Ивана Яковлева сына, прозвищем Хрипа, с женою и сыном Андрею Милославскому. — РИБ XVII, стб. 17, JV* 48.
352
ПРИЛОЖЕНИЕ
274, 1591 г. января. <Служнлая ка6ала> Остатки Васильева сына с женою, двумя сыновьями и дочерью Адриану Милославскому. — РИБ XVII, стб. 17, № 49.
275.1591 г. января. <Служилая ка6ала> Григория Андреева сына с женою и тремя сыновьями Андрею Милославскому. — РИБ XVII, стб. 17, JVI 50.
276. 1591 г. января 16. <Служилая кабала> Бремея Резвого Ивану Рындину. — РИБ XVII, стб. 97, № 272.
277. 1591 г. февраля 21. <Служилая кабала) Якуша Семенова сына с женою, сыном и дочерью Ивану Краснослипову. — РИБ XVII, стб. 211, № 552.
278. 1591 г. марта 23. <Служилая кабала) Андрея Савельева сына Василию и Богдану Линевым. — РИБ XVII, стб. 10, № 28.
279. 1591 г. апреля 28. а Кабала» Григория Носкова Полуехту Колычеву.— Лакиер, с. 29—60, № 39.
280. 1591 г. мая 1. <Служилая кабала) Ивана Белянина Ивану Самарину. — РИБ XVII, стб. 164, JVI 445.
281. 1591 г. июня 29. <Служилая кабала) Василия Антонова сына с женою Афанасию Неелову. — РИБ XVII, стб. 95, № 265.
282.1591 г. июня 29. <Слу жилая каб.ла) послу жильца Игнатия Артемьева сына Афанасию Неелову. — РИБ XVII, стб. 95, № 266.
283. 1591 г. июня 29. <Служилая кабала) Афанасия Иванова сына с женою и сыном Афанасию Неелову. РИБ XVII, стб. 96, № 267.
284. 1591 г. июня 29. <Служилая кабала) Федора Ананьина сына Афанасию Неелову. — РИБ XVII, стб. 96, № 268.
285. 1591 г. июля 8. <Служилая кабала) Григория Шумилова Степану Вралову. — РИБ XVII, стб. 144—145, № 393.
286. 1591 г. августа 15. <Служилля кабала) Кузьмы Матвеева сына с женою и дочерью Михаилу Мустофину. — РИБ XVII, стб. 9, № 24.
287. 1591 г. сентября 1. «Кабала» Олиски Артемьева сына, прозвищем Налиски, с женою, сыном п дочерью Ждану Харламову. — Лакиер, с. 60, № 40.
288. 1591 г. ноября 8. <Ка6ала) Акима Кондратьева сына, прозвищем Третьяка, Воину Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 132—133, № 365.
289. 1591 г. декабря 25. <Служплая кабала) Якуша Петрова сына с женою Поснику Неелову. — РИБ XVII, стб. 102, № 286.
290. 1591 г. декабря 25. «Кабала» Лаврентия Васильева сына, прозвищем Жданка, Дмитрию Скобельцыну. — Лакиер, с. 60, JV* 41.
291. 1591 г. декабря 28. <Служилая кабала) Ивана Федорова сына с женою Ратаю Крекшину. — РИБ XVII, стб. 144, № 391.
292. 1591—92 г. «Служилая кабала» Филиппа Лукьянова сына Гавриле Бекетову. Ивангород. — РИБ XVII, стб. 56, № 161.
293. 1591 — 92 г. <Служилая кабала) Фомы Фатьянова сына, прозвищем Истомки, с женою Ивану Коротаеву. — РИБ XVII, стб. 153, JV* 418.
294. 1591—92 г. <Служилая кабала) Дмитрия Андреева сына, прозвищем Вторки, с женою Ивану Коротаеву. Боровичи. — РИБ XVII, стб. 153—154, JV* 419.
295.1591—92 г. «Кабала» Кондратия, прозвищем Позлейки, Огаркова с женою и сыном Дмитрию Скобельцыну. — Лакиер, с. 61, JVs 42.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 353
296» 1592 г. января 20. <Служилая кабала) Григория Иванова сына с женою Роману Кушелеву.— РИБ XVII, стб. 86, № 244.
297. 1593 г. февраля 1. <Ка6ала> Михаила Максимова сына с женою, сыном и дочерью Воину Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 132, № 464.
298. 1593 г. марта 19. <Кабала> Меркурика, прозвищем Бажина, с двумя сыновьями Воину Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 131, JVs 360.
299. 1593 г. марта 21. <Кабала> Ивана Григорьева сына с женою Воину Новокщонову. Новгород [?]. — РИБ XVH, стб. 132, № 363.
300. 1593 г. марта 30. <Кабала> Данилы Васильева сына с женою Воину Новокщонову. Новгород [?]. — РИБ XVH, стб. 132, «N1 362.
301. 1593 г. марта 30. <Кабала> Селивана Дмитриева сына с женою Воину Новокщонову. — РИБ XVH, стб. 131, № 361.
302. 1592 г. апреля И. <Служпвая кабала) Матвея Федорова сына Меншому Боркову. — РИБ XVU, стб. 144, «№ 392.
303. 1592 г. апреля 23. <Служилая кабала) Антона Якимова сына с женою Богдану Ододурову. — РИБ XVH, стб. 3, № 3.
304. 1592 г. і преля 23. <Служилая кабала) Степана Иевлева сына Ивану Самарину. — РИБ XVH, стб. 164, № 446.
305. 1593 г. мая 4. <Служилая кабала), Исаака Антипьева сына, прозвищем Богданки, Федору Бутурлину. Новгород [?]. — РИБ XVH, стб. 78. № 221.
306. 1592 г. июня 29. <Служилая кабала) Евдокима Васильева сына Василию Зиновьеву. — РИБ XVII, стб. 40, № 114.
307. 1592 г. июля 9. <Служплая кабала) Ефима Сухого Ивану Чертову. — РИБ XVH, стб. 175 —176, № 483.
308. 1592 г. декабря 17. <Служплая кабала) Тимофея Григорьева сына, ирозвцщем Тишки, Богдану Линеву. — РИБ XVII, стб. 11, № 29.
309. 1593 г. февраля 6. <Служилая кабала) Василия Алексеева сына Ивану Суслову. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 19, № 57.
310. 1593 г. марта 3. <Служилая кабала) Степана Федорова сына, прозвищем Ярыги, с женою, сыном и дочерью, Михаилу Мустофину. — РИБ XVH, стб. 9 — 10, № 25.
311. 1593 г. марта 23. <Служилая кабала) Ильи Григорьева сына, прозвищем Меженки, Андрею Новокщонову. Новгород. — РИБ XVH, стб. 36, № 107.
312. 1593 г. мая 9. <Служилая кабала) Павла и Саввы, прозвищем Санки, Григорьевых детей с женами и с детьми и Матвея Григорьева сына Федору Чертову. Ижорский погост. — РИБ XVII, стб. 181 —182, № 498.
313. 1593 г. июня. «Кабала» Марьи Григорьевой дочери Григорию Огареву. — Лаки ер, с. 61, № 43.
314. 1593 г. июля 27. <Служилая кабала) Исаака Иванова сына, прозвищем Богданки, Федору Бутурлину. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 77— 78. № 220.
315. 1593 г. августа 6. <Служилая кабала) Кирилла Артемьева сына с женою и с сыном Богдану Ододурову. — РИБ XVII, стб. 3, № 4.
316. 1593 г. августа 15. <Служила*я кабала) Андрея Денкова Ивану Краснослипову. — РИБ XVH, стб. 211, № 553.
317. 1593 г. августа 29. <Служилая кабала) Феофилакта Федорова сына, прозвищем Дружинин, Богдану Ододурову. — РИБ XVH, стб. 3, № 5.
Проблемы источниковедения, II ^
354
ПРИЛОЖЕНИЕ
318. 1593 г. сентября 8. <Служидая кабала> Обросима Гаврилова сына с женою Посвику Неелову. — РИБ XVII, стб. 102, № 287.
319. 1593 г. декабря 8. <Служилая кабала> Марфы Овчинниковой Гавриле Бекетову. Ивангород. — РИБ XVII, стб. 56, № 160.
320. 1593—94 г. <Служилая ка6ала> Фомы Иванова сына с женою Ивану Коротаеву. Боровичи. — РИБ XVH, стб. 154, № 420.
321. 1594 г. мая 8. <Служилая кабгла) овчинника Василия Григорьева сына Гавриле Бекетову. Ивангород. — РИБ XVU, стб. 56, № 162.
322. 1594 г. июня 3. <Служилая кабала> Онуфрия Анцына сына князю Матвею Мещерскому. Новгород. — РИБ XVII, стб. 45, № 128.
323. 1594 г. июля 2. <Служилая кабала) Афанасия Игнатьева с^гаа Андрею Нелединскому. — РИБ XVII, стб. 39, № 112.
321. 1594 г. июля 15. «Кабала» Степан0, прозвищем Посника, и Якова, прозвищем Дружинки, Федоровых детей Полуехту Колычеву. — Лакиер, с. 61, № 44.
325. 1594 г. сентября 27. <Служилая кабала) Юрия Якупова Ивану Суслову. Новгород. — РИБ XVII, стб. 19, № 56.
326. 1594 г. сентября 1. <Служплая кабала) Алексея Иванова сына князю Семену Мещерскому. Новгород [?]. — РИБ XVn, стб. 64, № 179.
327. 1594 г. ноября 22. <Служи іая кабала) Алексея, прозвищем Будилкп, Андрею Секирину. Новгород. — РИБ ХМ, стб. 6, № 14.
328. 1594 г. декабря 3. <Служилая кабал ) Семена Горячева князю Алексею Мещерскому. — РИБ XVH, стб. 34, № 99.
329. 1594 г. декабря 14. <Служилая кабала) Терентия Проскурнина, прозвищем Жданки, князю Федору Мещерскому. — РИБ XVU, стб. 45, № 129.
330. 1594 -95 г. «Кабала» Игнатия Иевлева сына Дмитрию Лодыгину.
Себеж. — Лакиер, с. 61—62, «N1 45. |
331.1595 г. января 21. <Служдлая кабала) Игнатия Иванова сына Сте- паву Косицкому. — РИБ XVH, стб. 100, № 280.
332. 1595 г. марта 25. <Служилая каба іа) Никиты Федорова сына, прозвищем Мишки, Петру Глотову. — РИБ XVH, стб. Ill, JVI 310.
333. 1594 г. апреля 1. <Служилаа кабала) Григория, Саввы и Никиты Федоровых детей Ивану и Никите Тырковыи. — РИБ XVH, стб. 195, JVI523.
331. 1595 г. апреля 5. <Служилая кабала) Тихона, прозвищем Первушки, и Юшки Чесноковых Ивану Тыркову с двумя сыновьями. — РИБ XVH, стб. |?5, № 524.
335. 1595 г. апреля 5. <Служи іая кабала) Степана Иванова сына Ивану Тыркову с двумя сыновьями. — РИБ XVII, стб. 195, JVI 525.
336. 1595 г. апреля 5. <Служилая кабала) Дмитрия Латыша Ивану Тыркову с двумя сыновьями. — РИБ XVII, стб. 195, № 5*26.
337. 1595 г. апреля 23. <Служилая кабала) Селиверста Яковлева сына с женою Ивану Кашкарову. — РИБ XVII, стб. 91, № 255.
338. 1595 г. апреля 23. <Сіужилая кабала) Поташа Васильева сына Ивану Кашкарову. — РИБ XVII, стб. 91, № 254.
339. 1595 г. мая. <Служилая кабала) Саввы Сидорова сына с женою Поснику Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 177, JVI 486.
310. 1595 г. мая. <Служилан кабала) Наша Гаврилова сына с женою Поснику Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 177, № 487.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
355
341. 1595 г. <Служилая кабала> Ивана Прокофьева сына Поснику Оболвявинову. — РИБ XVH, стб. 187, JV® 488.
342* 1595 г. мая 9. <Служилая кабала> Петра Андреева сына с женою Ивану Кашкарову. — РИБ XVD, стб. 92, № 258.
343. 1595 г. мая 9. <Служилая кабала) Ивана Васильева сына Петру Глотову. Ивангород. — РИБ XVII, стб. Ill, JV* 311.
344. 1595 г. мая 17. <Служплая кабала> Афанасия Корнилова сына Гавриле Бекетову. Ивангород. — РИБ ХУЛ, стб. 55, № 158.
345. 1595 г. мая 31. <Служилая кабала> Петра Симонова сына Степану Кузминскому. — РИБ XVH, стб. 14, № 39.
346. 1595 г. июня 2. <Служил-я ка6ала> Василия Олуфьерева сына Степану Кузминскому. — РИБ XVII, стб. 14, № 38.
347. 1595 г. июня 6. <Служилая кабала> Захара Степанова сына Елене Кобылиной. — РИБ XVII, стб. 162, № 439.
348. 1595 г. июня 21. <Служилая кабала) Лаврентия Попова, прозвищем Жданки, Герасиму Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 8—9, JV® 22.
349. 1595 г. сентября 1. <Служилая кабала) Кондратия Дмитриева сына, прозвищем Ушака, с двумя сыновьями и двумя дочерьми Игнатию Оболня* винову. —РИБ XVII, стб. 158, № 428.
350. 1595 г. сентября 8. <Служплая кабала) Акима* Андреева сына с женою и сыном Андрею Обухову. — РИБ XVII, стб. 178, № 493.
351. 1595 г. сентября 23. <Служилая кабала) Василия Федорова сына князю Василию Мышецкому. Новгород. — РИБ XVII, стб. 167, № 457.
352.1595 г. октября 1.<Служилая кабала) Михаила Афанасьева сына г. женою и сыном Ивану Языкову с двумя сыновьями.—РИБ XVII, стб. 83, № 235.
353. 1595 г. декабря 10. <Служилая кабала) Дорофея Рябова Василию Неелову Новгород [?]. —РИБ XVII, стб. 212, № 556.
354. 1595 г. декабря 15. «Кабала», <служилая кабала) Якова Леонтьева сына с женою и сыном князю Ивану П\тятину, у которого Яков с женою служили раньше. — РИБ XV, III, с. 6.
355. 1595 г. декабря 25. <Служилая кабала) Григория Дорофеева Степану Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 157, № 423.
856. 1595—96 г. <Служилая кабала) Ивана Федорова Константину Горбову. - РИБ XVI*, стб, 12. № 33.
357. 1595—96 г. <Служплая кабала) Емельяна Иванова Михаилу Горбову.— РИБ XVII, стб. 12, № 34.
358. 1595—96 г. <Служилая кабала) Саввы Чючакова Андрею Бара- вову. —РИБ XVII, стб. 18, № 52.
359. 1595—96 г. <Служплая кабала) Федора Березина Степану Рахманову. - РИБ XVII, стб. 26, № 77.
360. 1595—96 г. <Служилая кабала) Дейки [Демки?] Федорова, прозвищем Гриши, Степану Рохманову. — РИБ XVII, стб. 26—27, № 78.
361. 1595 — 96 г. <Служилая кабала) Аксиньи Давыдовой дочери Алексею Обухову. — РИБ XVII, стб. 27, № 80.
362. 1595—96 г. <Служилая кабала) Филиппа Иванова сына с женою Матвею Зиновьеву. — РИБ XVII, стб. 40, № 115.
363. 1595—96 г. <Служилая кабала) Ивана Медведева Богдану Малышеву.—РИБ XVII, стб. 87, № 247.
23*
356
ПРИЛОЖЕНИЕ
364* 1595—96 г. <Служивая кабала) Алексея Кондратьева Ивану Гурьеву. — РИБ XVII, стб. 94, № 263.
365. 1595—96 г. <Служилая кабала) Ивана Волкова князю Никифору Мещерскому. — РИБ XVII, стб. 103—4, № 290.
366. 1595—96 г. <Служилая кабала) Филиппа Курицына Василию Лев- тину. — РИБ XVII, стб. 120, № 332.
367. 1595—96 г. <Служилая кабала) Тимофея Маслендева Василию Левшину. — РИБ XVII, стб. 120, № 333.
368. 1595—96 г. <Служилая кабала) Бориса Иванова Степану Вралову. — РИБ XVII, стб. 145, № 394.
369. 2595—96 г. <Служилая кабала) Кузьмы Иванова Казарину Воронину. — РИБ XVII, стб. 145, № 395.
370. 1595—96 г. <Служилая кабала) Ивана Гаврилова, прозвищем Томилки, Игнатию Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 159, № 430.
371. 1595—96 г. <Служилая кабала) Афанасия Зиновьева Игнатию Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 159, № 431.
372. 1595—96 г. <Служилая кабала) Степана Кузьмина сына, прозвищем Зайца, Даниле Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 160, JVI 434.
373. 1595—96 г. <Служилая кабала) Александра, прозвищем Сыдавково, Ивану Самарину. — РИБ XVII, стб. 163, № 442.
374. 1595—96 г. <Служилая кабала) Ивана Матвеева Пятому Воронину. — РИБ XVII, стб. 187, № 510.
375. 1595—96 г. <Служплая кабала) Антона Федорова Федору Секи- рину. — РИБ XVII, стб. 198, № 530.
376. 1596 г. января 2. <Служилая кабала) Федора Андреева сына Петру Тушину. Новгород. — РИБ XVU, стб. 160—1, № 435.
377. 1596 г. февраля 2. <Служилая кабала) Игнатия Леонтьева сына
Степану Оболнянинову. — РИБ XVII, стб. 117, 325.
378. 1596 г. февраля 12. «Кабала» Ивана Иванова сына, прозвищем Богатого, Полуехту Колычову. — Лакпер, с. 62, JVI 46.
379. 1596 г. февраля 20. <Служилая кабала) Фадея Михайлова сына князю Василию Мышецкому. — РИБ XVII, стб. 168, № 458.
380. 1596 г. февраля 28. <Служилая кабала) Харитона Ёлпстратьева сына, прозвищем Горянка, Тихону Ододурову. — РИБ XVII, стб. 30, № 88.
3S1. 1596 г. марта 12. <Служилая кабала) Федосьи Лоппуевой князю Василию Мещерскому. — РИБ XVII, стб. 29, № 85.
382. 1596 г. марта 23. <Служилая кабала) Якуша Ржевптина Федору
Бутурлину. Новгород. — РИБ XVII, стб. 81, JVI 229. «
383. 1596 г. марта 25. <Служплая кабала) Ивана Степанова сына, прозвищем Кулика, с женою Богдану Ододурову. — РИБ XVII, стб. 4, JVS 7.
354. 1596 г. марта 25. <Служилая кабала) Абрама Герасимова сына Бакаке Неелову. — РИБ XVII, стб. 27, № 79.
355. 1596 г. марта 25. <Служилая кабала) Силюна Зеритцкого с женою и сыном Григорию Шепякову. — РИБ XVII, стб. 29, № 86.
386. 1596 г. марта 25. <Служилая кабала) Нестора Яковлева с женою Федору Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 58—59, № 165.
387. 1596 г. марта 25. <Служилая кабала) Кондратия Остафьева сына Федору Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 59, № 166.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 357
888. 1596 г. марта 25. <Служилая кабала> Василисы Ламбасовой, прозви- щем Лобахи, с сыном Ивану Краснослипову. — РИБ XVII, стб. 211 JV» 554
389. 1596 г. марта 26. <Служилая кабала> портного мастера Онисима Савина сына Федору Бутурлину. Водская пятина. — РИБ XVII стб 78 JV* 223.
390. 1596 г. марта 28. <Служилая ка6ала> Алексея Селяпкина Федору Бутурлину. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 78, JV* 222.
391. 1596 г. марта 29. <Служилая кабала> Гаврилы Тимофеева сына Ивану Языкову с двумя сыновьями. — РИБ XVII, стб. 83, № 236.
392. 1596 г. марта 29. <Служилая кабала> Федосьи Микулиной дочери с дочерью Ивану Языкову с двумя сыновьями.—РИБ XVH, стб. 83—4, Л* 237
393. 1596 г. марта 31. <Служилая кабала> Андрея и Исаака Васильевых Федору Супоневу. Новгород. — РИБ XVII, стб. 74, № 206.
391. 1596 г. августа 24. <Служилая ка6ала> Кирилла Гончарова Гавриле Путилову. Новгород [?]. — РИБ XVII, стб. 84, № 238.
395. 1596 г. августа 30. <Служилая кабала> Прокофия Белянина Антонию Чортову. Новгород. — РИБ XVII, стб. 123 —124, JVt 339.
396. 1596 г. сентября 1.<Служплая кабала> Ивана Ильина сына Василию Воронину. —РИБ XVII, стб. 96—97, № 270.
397. 1596 г. сентября 1. <Служилая кабала> Максима Иванова сына, прозвищем Горемыки, Андрею Обухову. — РИБ XVII, стб. 178—179, № 494.
398. 1596 г. сентября 25. <Служплая кабала> Ивана Иванова сына Богдану Ододурову. — РИБ XVII, стб. 4, № 6.
399. 1596 г. ноября 14. <Служплая кабала> Авдотьи Телищиной с сыном и четырьмя дочерьми Тихону Ододурову. — РИБ XVU, стб. 31, JVs 91.
400. 1596 г. ноября 14. <Служилая ка6ала> Максима Данилова сына с женою Тихону Ододурову. Коломенский погост. — РИБ XVU, стб. 31, № 92.
401. 1596 г. ноября 14. <Служилая кабала> Моисея Максимова сына с женою Тихону Ододурову. Коломенский погост. — РИБ XVII, стб. 32, № 93.
ч 402. 1596 г. декабря 20. <Служилая кабала> Ивана Трофимова Дмитрию Зеленину. — Новгород. — РИБ XVII, стб. 142, № 386.
403. 1596—97 г. <Кабала> Андрея Афанасьева князю Ивану Мещерскому. — РИБ XVU, стб. 146, № 398.
404. 1597 г. января 2. <Служилая ка6ала> Василия Дружинина Василию Хвостову. Новгород. — РИБ XVII, стб. 146, № 397.
405. 1597 г. января 10. <Служилая кабала> Дементия Васильева сына, прозвищем Собинки, Никону Бутурлину. Новгород. — РИБ XVH, стб. 81, № 231.
406. 1597 г. января 27. <Служилая кабала> Мины Тимофеева, прозвищем Томилки, Василию Волкову-Курицыну. — РИБ XVII, стб. 28, № 81.
407. 1597 г. января 27. <Служилая кабала> Деяна Тимофеева сына Василию Волкову-Курицыну. — РИБ XVH, стб. 28, № 82.
408. 1597 г. февраля 13. <Служилая кабала> Акима Никитина сына, прозвищем Якуша, Феоктисту Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 60, № 169.
409. 1597 г. февраля 14. <Служилая кабала> Ивана Григорьева сына Ивану Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 69, № 192.
410. 1597 г. февраля 14. <Служилая кабала> Анисьи Васильевой дочери, прозвищем Дочь, с сыном Максиму Ковезину. — РИБ XVII, стб. 122, №336.
358
ПРИЛОЖЕНИЕ
411. 1597 г. февраля 14. <Служилая кабала> Дементия Есипова сына Феоктисту Муравьеву. — РИБ XVII, стб. 60, № 170.
412. 1597 г. февраля 15. <Служилая ка6ала> Сидора Ману хина прозвищем Меншика, Севастьяну Чуркину. — РИБ XVII, стб. 105, № 294.
413. 1597 г. февраля 16. <Служилая кабала> Степана Мартынова сына Матвею и Федору Барановым. — РИБ XVII, стб. 54, № 156.
414. 1597 г. февраля 21. <Служилая кабала> Аксиньи Григорьевой дочери Роману Шуклинскому. — РИБ XVII, стб. 12—13, JVs 35.
415. 1597 г. февраля 22. <Служилая кабала> Ивана Иванова сына князю Семену Мещерскому. — РИБ XVH, стб. 64, № 178.
416. 1597 г. февраля 26. <Служилая кабал > Степана Захарьева Роману Кушелеву. —РИБ XVII, стб. 85, JVs 241.
417. 1597 г. марта 4. <Служилая кабала) Якуша Лопкова Григорию Муравьеву. —РИБ XVII, стб. 34—35, JVs 101.
418. 1597 г. марта 13. «Кабала» Якова Матвеева сына Степану Пустош- кину. — Лакиер, с. 62, JVs 47.
419. 1597 г. марта 20. <Служилая кабала) Григория Борисова сына, прозвищем Мряшки, с женою Григорию Ододурову.— РИБ XVH, стб. 148, № 403.
420. 1597 г. марта 26. <Служилая кабала) Никифора Филиппова сына, прозвищем Докучайки, Григорию Ододурову. — РИБ XVII, стб. 147, № 401.
421. 1597 г. марта 26. <Служилая кабала) Степана Семенова сына, прозвищем Быка, с двумя сыновьями Григорию Ододурову. — РИБ XVII, стб. 147—148, JVs 402.
422. 1597 г. апреля. <Служилая кабала) Степана Басильева сына Гавриле Бекетову. Ивавгород. — РИБ XVII, стб. 55—56, № 159.
423. 1597 г. апреля 1. <Служилая кабала) Степана Труфанова сына с женою Ульяне Трусовой. — РИБ XVII, стб. 32\ № 94.
424. 1597 г. апреля 1. <Служилая кабал ) Ивана Труфанова сына с женою Ульяне Трусовой. — РИБ XVII, стб. 32. JVs 95.
425. 1597 г. апреля 1. <Служилая кабала) Василия Семенова сына с женою Ульяне Трусовой. — РИБ XVII, стб. 33, JV® 96.
426. 1597 г. апреля 6. <Служидая кабала) Мины, прозвищем Ушачка, Кузьмина сына Богдану Ододурову. — РИБ XVII, стб. 4, JV1 8.
427. 1597 г. апреля 6. <Служилая кабала) Изота Устинова сына, прозвищем Ивашки, Семену Малышеву. — РИБ XVH, стб. 4—5, JVs 9.
428. 1597 г. мая 9. <Служилая кабала) Емуферья, прозвищем Федора, Кондратьева сына с двумя сыновьями Андрею Новокщонову. — РИБ XVII, стб. 37, JVI 108.
429. 1597 г. мая 2. <Служилая кабала) Якуша Васильева сына Ивану Воронину с сыном. Новгород. — РИБ XVII, стб. 145, JVI 396.
430. 1597 г. мая 9. «Кабала» Емельяна Васильева сына князю Ивану Белосельскому. — Лакиер, с. 63, JV® 48.
431. 1597 г. июня 11. <Служилая кабала) Ивана Потапова князю Ивану Мещерскому. Новгород [?]. — РИБ XVH, стб. 146, JVs 399.
432. 1597 г. июня 23. <Служплая кабала) Исаака Тимофеева сына, прозвищем Жданки, Богдану Волкову. — РИБ XVH, стб. 28, JV*s 83.
433. 1597 г. июня 29. <Служилая кабала) Давыда Иванова сына Лобану Лугвеневу. — РИБ XVII, стб. 65, JV® 181.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 359
434. 1597 г. июня 29. <Служилая кабала> Федора Иванова сына, Лобану Лугвеневу. — РИБ XVII, стб. 66, JVs 182.
435. 1597 г. июля 8. «Кабала» Пахома Иванова сына с двумя сыновьями Полуехту Колычеву. Деревская пятина. — Лакиер, с. 63, № 49.
436. 1597 г. декабря 15. <Служилая ка6ала> старинного послужильца Василия с женой и сыном Ивану Молеванову. Новюрод. — РИБ XV, III, с. 1.
437. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала>) Зиновии, прозвищем Дружининой, с дочерью Ивану Молеванову. Новгород. — РИБ XI, III, с. 2.
438. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала>) Ивана Огорелка с женой Ивану Молеванову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 2—3.
439. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала)) старинного человека Анания Тимофеева сына с женой Ивану Молеванову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 3.
440. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала» Кирилла Емельянова сына, прозвищем Нечая, Казарину Унковскому, у которого Кирилл Нечай раньше «служил добровольно». Новгород. — РИБ XV, III, с. 3—4.
441. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала» Ивана Андреева сына, прозвищем Истомина, Казарину Унковскому, у которого Иван Истомин раньше «служил добровольно». Новгород. — РИБ XV, III, с. 4.
442. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала» Измаила Федорова сына, прозвищем Майка, с женою и сыном Ивану Кутузову. Новгород. - РИБ XV, III, с. 4—5.
443. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» Архипа Наумова сына, прозвищем Юрьева, с женою Евфимье Кутузовой, у которой Архип Юрьев раньше «служил добровольно». Новгород. — РИБ XV, III, с. 5.
444. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» старинного человека Михаила Остафьева сына Никифору Воронину. Новгород. — РИБ XI, III, с. 5-6.
445. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» Евдокима Денисова сына с женою, сыном и дочерью Алексею Колычеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 6-7.
446. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» старинного человека Федора Михеева сына, прозвищем Ширяя, с женою и двумя сыновьями Авдотье Колычевой. Новгород. — РИБ XV, III, с. 7—8.
447. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» Андрея Малашова Поснику Колычеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 8.
448. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» Матвея Филатова сына с женой, сыном и дочерью Авдотье Колычевой. Новгород. — РИБ XV, III, с. 8—9.
449. 1597 г. декабря 15. «служилая кабала» человека вольного Осипа Карпова сына подъячему Ждану Молеванову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 9.
450. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» Петра Иванова сына с женой Леонтию Молеванову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 9 -10.
451. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» Михея Васильева сына с женой Леонтию Молеванову. Новгород. — РИБ XV, III, с 10.
360
ПРИЛОЖЕНИЕ
452. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая ка6ала>) старинных людей Юрия и Игнатия Вялых князю Семену Кропоткину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 10—11.
453. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала>) старинного человека Афанасия Сумарокова, прозвищем Докучая, князю Семену Кропоткину. Новгород. — РИБ XV, III, с. И.
454. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала» старинных людей Игнатия, прозвищем Первого, и Макара, прозвищем Сусоя, Жужловых князю Семену Кропоткину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 11—12.
455. 1597 г. декабря 15. «Кабала» (<служилая кабала» старинного человека Степана Вялого князю Семену Кропоткину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 12.
456. 1597 г. декабря 15. «Кабала» «служилая кабала» старинного человека Артемия, прозвищем Третьяка, Клементьева сына князю Семену Кропоткину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 12—13.
457. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Родиона Андреева сына с женою, сыном и двумя дочерьми Ивану Секирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 13.
458. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Степана Гаврилова сына с женою с двумя дочерьми Ивану Секирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 13—14.
459. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Семена Иванова сына с женой, сыном и дочерью Ивану Секирину. Новгород. — РИБ XV III, с. 14.
460. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Сидора Григорьева
сына с женою и двумя дочерьми Борису Секирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 14—15. ) '
461. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Трофима Павлова сына и Лариона Павлова сына, прозвищем Чмышка, с женой и сыном Ивану Секирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 15.
462. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» старинных людей Леонтия Никитина сына с женою Борису Секирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 15—16.
463. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Ефимьи, жены Юшки Павлова сына, Василию Завалишину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 16.
464. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» старинного человека Лариона, прозвищем Севрюка, Поликарпова сына с женой князю Александру Ростовскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 16—17.
465. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Сысоя Гаврилова сына князю Александру Ростовскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 17—18.
466. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Степана Гаврилова сына князю Ивану Путятину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 18.
467. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Филиппа Бекле- шева с женой, сыном и двумя дочерьми Юрию Чирикову, у которого они «преж сего» служили. Новгород. — РИБ XV, III, с. 18—19.
468. 1597 г. декабря 16. «Кабала» «служилая кабала» Андрея Ларионова сына с женой и сыном Игнатию Нагому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 19.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 361
469. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) старинного человека Степана Иванова сына с сыном Игнатию Нагому Новгород РИБ
XV, III, с. 19-20.
470. 1597 г. декабря 16. <Служилая кабала> Степана Романова сына с женой, сыном и дочерью Петру Быкову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 20.
471. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) Василия Онисимова сына псковскому помещику Ивану Ломакову. Новгород. РИБ XV,
III, с. 20—21.
472. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служплая кабала>) Василия Фефилова сына князю Григорию Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 21.
478. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) старинных людей Никона Яковлева сына, прозвищем Истомки, с женой князю Матвею Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 21—22.
474. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека <полоняника> Тимофея Ганнуева сына князю Григорию Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 22.
475. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<слуяшлая кабала>) <старинного> человека Ефрема Янусова сына, прозвищем Анцы, князю Федору Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 22—23.
476. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Никулы Лаврова сына, а по-латышски Петрика, с женой князю Григорию Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 23.
477. 1597 г. декабря 16. «Кабала» * (<служилая кабала>) <старинного> человека Федора, прозвищем Кручины, Жданова, князю Матвею Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 24.
478. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) Бориса Степанова сына с женою и сыном князю Матвею Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 24.
479. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служплая кабала>) Якова Анцына сына, князю Григорию Мещерскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 24—25.
480. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) Якуша Феофанова сына, прозвищем Третьяка, Никите Оклячееву. Новгород.—РИБ XV,III,c.25.
481. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) Григория Латукова сына Никите Оклячееву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 25—26.
482. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Федора Кузьмина сына, прозвищем Вертячего, с женой Андрею Боркову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 26.
483. 1597 г. декабря 16. «Кабала» (<служилая кабала>) Федора Андреева сына с женой, двумя сыновьями и двумя дочерьми Андрею Боркову. Новгород.—РИБ XV, III, с. 26—27.
484. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служплая кабала>) Кузьмы Данилова сына с женой Андрею Лупандину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 27.
485. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Прокофия Федотьева сыра с сыном и дочерью Малюте Лупандину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 27—28.
486. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) Харитона Федорова сына с. тремя сыновьями Андрею Лупандину. Новгород. — РИБ Х\, III, с. 28—29.
362
ПРИЛОЖЕНИЕ
4:87. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного человека Семена Власьева сына с женою Никифору Обухову. Новгород.— РИБ XV, III, с. 29.
488. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) Григория Андреева сына Ивану Обухову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 29.
489.1597 г.декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>)Устипьи и Матрены Петровых дочерей Ивану Обухову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 29—30.
490. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) Ермолая Моисеева сына с женою Алексею Забелину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 30.
491. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабпла>) <старинного> человека Петра Еремеева сына Алексею Забелину. Новгород. — РИБ !XV, III, с. 30—31.
492. 1597г. декабря 17. «Кабали» (<служи*ая кабала>) Михаила Иванова сына Ивану и Семену Пановым. Новгород. — РИБ XV, III, с. 31.
493. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) Афанасия Сидорова сына с женою Василию Аврамову, у которого Афанасий Сидоров служил «преж сего». Новгород. — РИБ XV, III, с. 31—32.
494. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) Петра Пантелеева сына с женой Андрею Боркову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 32.
495. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) Якуша Ильина сына с женою Докучаю Небарову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 32—33.
496. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Якуша Петрова сына Докучаю Небарову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 33.
497. 1597 г. декабря 17. «Кабала» (<служилая кабала>) купленного латыша> Никифора, прозвищем Кушника, Осипу Попову. Новгород.— РИБ XV, III, с. 33—34.
человека Матвея Анцыфер іу Ногину. Новгород.—
РИБ XV, III, с. 34.
499. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Маковея Карпова сына Богдану и Степану Жуковым. Новгород. — РИБ XV, III, с. 34—35.
500. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Якима Никифорова сына, прозвищем Якуша, с женой и тремя сыновьями Обросиму Терпи- горову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 35—36.
501.1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Артемия Артемьева сына, прозвищем Найденка, Степану Кузминскому. Новгород. — РИБ XV. III, с. 36.
502. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Самсона Андреева сына, прозвищем Шамши, с женою, двумя сыновьями и тремя дочерьми Борису Секирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 36-37.
503. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Моисея Ананьина сына с женой, двумя сыновьями и дочерью Леонтию Щоголеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 37.
504. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного человека Андрея Коняева с женой и сыном Леонтию Щоголеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 37—38.
498. 1597 г. декабря
ка6ала>) <старинного>
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 363
505. 1597 г. дек бря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Алексея Гордеева сына с женою Тимофею Нармацкому. Новгород.—РИБ XV, III, с. 38.
506. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Евстрата, прозвищем Первушина, Федорова сына, с женою Василию Дирину. Новгород.— РИБ XV, III, с. 38—39.
507. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старпнного> человека Савелия Пахомова сына с женою Василию Дирину. Новгород. — РИБ XV, III, с 39.
508. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Федора Нестерова сына с женою Василию Дирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 39—40.
509. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Терентия Кузьмина сына с сыном Федору Дирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 40.
510. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Макария Глупы- шева Григорию Лопухину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 40—41.
511. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Василия Андреева сына с женою, тремя сыновьями и двумя дочерьми Богдану и Степану Жуковым. Новгород. — РИБ XV, III, с. 41—42.
512. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинного> человека Ивана Остафьева сына с женой и двумя дочерьми Никифору Воронову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 42.
513. 1598 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Ильи Харитонова сына с женою и дочерью Ивану Обернибесову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 42—43.
514. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служплая кабала>) Исака Никифорова сына с женою, сыном и дочерью Осипу Ощирину. Новгород.— РИБ XV, III, с. 43.
515. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Ивана Игнатьева сына, прозвищем Межеки, с женой, двумя сыновьями и дочерью Афанасию Боранову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 43—44.
516. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Ивана Григорьева сына с женой, двумя сыновьями и двумя дочерьми Афанасию Боранову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 44-45.
517. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) <старинных> люд й Михаила, прозвищем Мосона, и Юрия Федоровых детей Богдану Крекшину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 45.
518. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Ивана Остафьева сына князю Семену Кропоткину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 45.
519. 1597 г. декабря 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Конона Никитина сына с двумя сыновьями Юрию Калитеевскому. Новгород. — РИБ XV, III, с. 46.
520. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Гаврилы Олфе- рова сына Федору Секирину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 46.
521. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала>) Силуяна Тимофеева сына, прозвищем Богдана, Гавриле Молеванову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 46—47.
364
ПРИЛОЖЕНИЕ
522. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала>) Китки Ильина сына, прозвищем Борова, с женою и с тремя сыновьями Василию Аврамову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 47.
523. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала>) Анания Горяйнова Гавриле Молеванову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 48.
524. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала>) Григория Филиппова сына с женою, сыном и двумя дочерьми Савелию Страхову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 48-49.
525. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служплая кабала)) <старинного>
человека Ерофея, прозвищем Яшки, Семенова сына с женою с сыном и с пасынками Якову Отяеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 49. ч
526. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служплая кабала)) <старинного> человека Саввы Васильева сына, Льву и Бибарсу Володимировым. Новгород. — РИБ XV, III, с. 49-50.
527. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Михаила Григорьева сына с женой, сыном и дочерью Григорию Комаеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 50.
528. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Ивана Колосова с женою, сыном и дочерью Семену Еврееву. Новгород. — РИБ XV, III, о. 50—51.
529. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Ивана Федорова сына с женою Семену Еврееву. Новгород. —РИБ XV, III, с. 51.
530. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Евдокима Терехова, прозвищем Бармы, Богдану Ханыкову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 51—52.
531. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Аксиньи Даниловой дочери Василию Калитину. Новгород. — РИБ XV, III, с. 52.
532. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служ^ілая кабала)) Мартемьяна,
прозвищем Синягина, с женой Герасиму Муравьеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 52—53. ’ ' 1
533. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Сильвестра Максимова сына, прозвищем Селюги, Герасиму Муравьеву. Новгород. — РИБ XV, III, с. 53.
534. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Федотея Фомина сына с женою и тремя сыновьями Василию Слепцову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 53-54.
535. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Антона Карпова сына с женою, четырьмя сыновьями и дочерью Василию Слепцову. Новгород. — РИБ XV, III, с. 54.
536. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Якова Спиридонова с женою Юрию Помещикову, Новгород. — РИБ XV, III, с. 54—55.
537. 1597 г. декабря 19. «Кабала» старинного человека Лукьяна Оста- фьева сына, прозвищем Третьяка, с сыном Никифору Воронину.— Бычков, с. 2.
538. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Ивана Тимофеева сына с женою Василию Слепцову. Новгород. — Бычков, с. 2—3.
539. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала)) старинного человека Степана Иевлева сына с женою, сыном и дочерью Богдану Муравьеву. Новгород. — Бычков, с. 3.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 36S
540. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала>) Дмитрия Евсеева
сына с женою и сыном Остафию Муравьеву. Новгород. Бычков, с. 4.
541. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала>) Афанасия Федорова сына, прозвищем Краско, с женою, тремя сыновьями и дочерью Евстафию Муравьеву. Новгород. — Бычков, с. 4—5.
542. 1597 г. декабря 19. «Кабала» (<служилая кабала>) старинного человека Михаила Матвеева сына с сыном и дочерью Евстафию Муравьеву^ Новгород. — Бычков, с. 5.
543. 1597 г. декабря 20. «Кабала» (<служилая кабала>) старинного человека Михаила Иванова сына, прозвищем Серого, с женою и сыном Федору Супоневу. Новгород. — Бычков, с. 5—6.
544. 1597 г. декабря 20. «Кабала» (<служилая кабала>) Феодосия Зеленина Степану Рохманову. Новгород. — Бычков, с. 6.
545. 1598 г. января 6. «Кабала» Семена Макарьева сына с сыном Григорию Огареву. — Лакиер, с. 63, № 50.
546. 1598 г. января 26. «Кабала» (<служилая кабала>) Наума, прозвищем Нечая, Труфанова сына с женою и дочерью подъячему Поместной избы Петру Лисину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 53—54.
547. 1598 г. сентября 14. с Кабала» (<служилая кабала>) Евфимьп Семеновой дочери, прозвищем Голубы, с дочерью Федору и Климентию Вороновым. Шелонская пятина, Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 118, № 131,1.
548. 1598 г. октября 1. «Кабала» (<кабала служилая>) вольного человека Ивана Семенова сына Климентию и Федору Вороновым. Шелонская пятина, Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 118—119, № 131, I.
549. 1598 г. декабря 6. «Кабала» (<кабала служилая>) Ильи Григорьева сына, прозвищем Межени, с женою и сыном Ивану Румянцеву. Шелонская пятина, Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 119, № 131, I.
550. 1598 г. декабря 7. «Кабала» (<кабала служилая>) Ивана Леонтьева сына Ивану Румянцеву. Шелонская пятина, Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 120, № 131, I.
551. 1599 г. марта 1. «Кабала» (<кабала служилая>) вольного человека, сапожного мастера Никиты Семенова сына Максиму Косицкому. Шелонская пятина, Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 120—121, № 131, I.
352. 1599 г. марта 1. «Кабала» (<кабала служилая>) вольного человека Андрея Григорьева сына князю Петру Белосельскому. Шелонская пятина,. Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 121, № 131, I.
553. 1599 г. марта 16. «Кабала» (<кабала служилая>) вдовы Анны Федоровой с двумя сыновьями, Ивану Татищеву. Шелонская пятина, Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 122, № 131, I.
554. 1599 г. апреля 1. «Кабала» (<кабала служивая>) Данилы Третьякова, прозвищем Томилки, вольного человека, Тихону Мяхкову. Шелонская пятина, Зарусская половина..— АЮБ II, стб. 123, № 131, I.
555. 1599 г. апреля 11. «Кабала» (<кабала служилая>) вольного человека Ивана Алексеева сына Игнатию Харламову. Шелонская пятина, Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 123—124, № 131, I.
556. 1599 г. сентября 3. «Кабала» (<служилая'кабала>) сапожного мастера <жнвшего в бобылех> Исая Тим ... сына Ивану Мелницкому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 1—2.
366
П Р ИЛ ОЖЕНИВ
557. 1599 г. сентября 8. «Кабала» (<служплая кабала>) Емельяна, просвище О беря, Иванова сына Степану Теглеву. Обонежская пятина.— Егоров, с. 11.
558. 1599 г. сентября 8. «Кабала» (<служилая кабала)) Захария Гаврилова •сына с женою Степану Теглеву. Обонежская пятина. — Егоров, с. 12.
559. 1599 г. сентября 8. а Кабала» (<служилая кабала>) Парасковьи, прозвищем Пелаггиды, Тимофеевой дочери Воину Харламову. Обонежская пятина. — Егоров, с. 18—19.
560. 1599 г. сентября 8. «Кабала» (<служилая кабала>) Кондратия, Февро- нии и Ирины Степ новых детей Путяте Садалову. Обонежская пятина.— Егоров, с. 19—20.
561. 1599 г. сентября 10. «Кабала» (<служилая кабала)) Сидора Васильева сын Василию и Павлу Алексеевым. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 2.
662. 1599 г. сентября 15. «Кабала» (<служилая кабіл >) Андрея Павлова сына Ивану Обреимову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 2—3.
563. 1599 г. сентября 17. «Кабала» (<служилая кабала)) Григория Карпова сына Степану Иголкину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 3.
564. 1599 г. сентября 18 .«Кабала» (<служилая кабала)) Кузьмы Яковлева ‘сына Василию Лутохину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 3—4.
565. 1599 г. октября 1. Кабала» (<служилая кабала)) Ивана Матвеева сына с женою и детьми Степану Теглеву. Обонежская пятина. — Егоров, с. 13—14.
566. 1599 г. октября 1. «Кабала» Г<служилая кабала)) Захария Иванова •сына, прозвищем Калужанина, с женою Степану Теглеву. Обонежская пятина. — Егоров, с. 14 — 15.
567. 1599 г. октября 1. «Кабала» (<служилая кабала)) Силы, Алексея, Ивана и Пимепа Кириловых детей, прозвищем Юховых, Денису Боранову. Обонежская пятина. — Егоров, с. 16.
568. 1596 г. октября 1. «Кабала» Афони Прокофьева сына, прозвищем Кропача, Петру Обольянинову. Вотская пятина. — Егоров, с. 27—28.
569. 1599 г. октября 1. . Кабала» Степана Григорьева сына, прозвищем Матандина, Петру и Ивану Обольняниновым. Вотская пятина. — Егоров, с. 28.
570. 1599 г. октября 3. «Кабала» (<служилая кабала)) Прасковьи Мар- темьяновоп дьякону Томиле Дровневу. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 4.
571. 1599 г. октября 17. «К бала» (<служилая кабл >) «портного мастера» Корнпла Васильева сына, прозвищем Сухого, Никифору Обухову. Новгород.—РИБ XV, Ш2, с. 5.
572. 1599 г. октября 17. «Кабала > (<служилая кабала)) Афанасия Семенова сына, который «ходил по наймом в казаках», Алексею Обухову. Новгород. —РИБ XV, Ш2, с. 5-6.
573. 1599 г. октября 23. Кабала» (<служплая кабала)) Евтихия, прозвищем Левы, Калехова Леонтию Хвостову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 6.
574. 1599 г. октября 25. «Кабала» (<елужилая кабал )) крестьянского сына Ивана Захарьева сына Василию Пыжову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 6—7.
575. 1599 г. октября 28. «Кабала» (<служплая кабала)) портного мастера» Кирилла Моисеева сына Михаилу Бундову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 7.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 367
576. 1599 г. октября 30. «Кабала» «служилая кабала>) Василия Яковлева сына Никите и Степану Вышеславцевым и Якову Вышеславцеву. Новгород.—РИБ ХУ, Ш2, с. 7—8.
577. 1599 г. ноября 1. «Кабала» (<служилая кабала>) Степана Голосова Василию и Ефимию Телепвевым. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 8.
578. 1599 г. ноября 7. «Кабала» «служилая кабала>) гулящего человека Лукьяна Васильева сына Богдану Лутохину. — Новгород, РИБ ХУ, Ш2, с. 8—9.
579. 1599 г. ноября 15. «Кабала» «служилая кабала)) Игнатия Яковлева сына Федору Бухвостову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 9.
580. 1599 г. ноября 23. «Кабала» «служилая кабала)) бывшего «дьячка» Семена, прозвищем Коромыслова, Мурату Мордвинову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 9—10.
581. 1599 г. ноября 23. «Кабала» «служилая кабала)) старинного холопа Емельяна Тимофеева сына, прозвищем Кубышки, Воину Завалишину с сыном. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 10—11.
582. 1599 г. ноября 28. «Кабала» «служилая кабала)) Ивана Афанасьева сына Ивану Дементьеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 11.
583. 1599 г. ноября 30. ^ Кабала» «служилая кабала)) Василия Аввакумова сына Ивану Милюкову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. И—12.
584. 1599 г. декабря 1. «Кабала» «служилая кабала)) «послужильца» Михаила Иванова сына, прозвищем Мишки, Ивану Аисину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 12.
585. 1599 г. декабря 2. «Кабала» «служилая кабала)) Спиридона Фомина сына, прозвищем Первушки, Семену Львову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 12—13.
586. 1599 г. декабря 4. «Кабала» «служилая кабала)) <крестьянского сына) Наума Леонтьева сына, прозвищем Жука, Дею Хвостову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 13.
587.1599 г. декабря 6. «Кабала «служилая кабала)) Аграфены Семеновой дочери с детьми Федору Коротневу. Обонежская пятина. — Егоров, стр. 17.
588. 1599 г. декабря 18. «Кабала» «служилая кабала)) <старинного холопа) Михаила Гаврилова сына Ивану Ерохову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 13—14.
589. 1599 г. декабря 19. «Кабала» «служилая кабала)) Никона Иванова сына, прозвищем Кости, Павлу Оничкову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 14.
590. 1599 г. декабря 23. «Кабала» «служилая кабал )) Василия Михайлова сына Василию Зиновьеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 14— 15.
591. 1599 г. декабря 25. «Кабала» «служилая кабала)) Устиньи Федоровой дочери Петру Маринину и его сыновьями. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 15.
592. 1599 г. декабря 26. «Кабала» «служилая кабала)) Ильи Романова сына Савве Мартьянову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 16.
593. 1599 г. декабря 28. «Кабала» «служилая кабала)) Ивана Дмитриева сына, Алексею Острецеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 16—17.
594. 1599 г. декабря 28. «Кабала» «служилая кабал г)) Степана Мику- лина сына с дочерью Пятому Кирпшну. Новгород. — РИБ XV, 1112» с. 17.
368
ПРИЛОЖЕНИЕ
595. 1599 г. декабря 30. «Кабала» (<служилая кабала>) сына стрельца Григория Степанова сына Павлу Байкову. Новгород. — РИБ XV, Ш2г с. 17—18.
596. 1600 г. января 1. «Кабала» (<служилая кабала)) Савелия, прозвищем Ершова, Ивану Харламову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 18.
597. 1609 г. января 2. «Кабала» (<служилая кабала)) Лариона, прозвищем Книги, Гневашова Тимофею Лутохину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 18—19.
598. 1600 г. января 3. «Кабала» (<служилая кабала)) Андрея Иванова сына, прозвищем Первого, «государеву дворцовому дьяку» Григорию Трусову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 19.
599. 1600 г. января 5. «Кабала» (<служилая кабала)) Корнила, прозвищем Томилки, Федорова сына подъячему Первому Карпову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 19—20.
600. 1600 г. января 6. «Кабала» (<служилая кабала)) Ивана Меркурьева сына Борису Вунковскому. Обонежская пятина. — Егоров, с. 21.
601. 1900 г. января 7. «Кабала» (<служплая кабала)) «бобыля» Евдокима, прозвищем Первого, Леонтьева сына Никифору Неклюеву. Новгород.— РИБ XV. Ш2, с. 20.
602. 1600 г. января 7. «Кабала» (<служилая кабала)) Никиты Истомина, прозвищем Ивашки, Григорию Языкову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 21.
603. 1600 г. января 9. «Кабала» (<служилая кабала)) Мирона Григорьева сына Богдану Палпцыну. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 21—22.
604. 1600 г. января 10. «Кабала» (<служилая кабала)) Кирила Назарьева сына, прозвищом Богданки, Никифору Обухову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 22.
605. 1600 г. января 10. «Кабала» (<служилая кабала)) Леонтия Алексеева
сына Третьякову Назимову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, —23.
606. 1600 г. января 10. «Кабала» (<служилая кабала)) сапожного мастера Федора Бовыкина, прозвищем Богданки, с женою и двумя сыновьями Артемию Пуляеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 23.
607. 1600 г. января 13. «Кабала» (<служилая кабала)) Ивана и Василия Мануевых Ефиму Коковцеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 23—24.
608. 1600 г. января 13. «Кабала» (<служил я кабала)) Владимира Трофимова сына Осипу Афанасьеву. Новгород. — РИБ XV, Ш3, с. 24.
609. 1600 г. января 18. «Кабала» (<служилая кабала)) Дмитрия Филипьева Богдану Малышеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 24—25.
610. 1600 г. января 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Семена Федорова сына Акулине Оничковой. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 25—26.
611. 1600 г. января 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Василия Яковлева сына Михаилу Оничкову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 26.
612. 1600 г. января 19. «Кабала» (<служилая кабала)) Авдотьи жены Давыда Федорова сына Степану и Горчаку Завалишиным. Новгород: — РИБ XV, Ш2, с. 26—27.
613. 1600 г. января 19. «Кабала» (<служплая кабала)) Андрея Филиппова сына с женою подъячему Дворцового приказа Василию Конанову. Новгород. — РИБ XV. Ш2, с. 27—28.
614. 1600 г. января 21. «Кабала» (<служплая кабала)) Семена Черменина Андрею Шуйгину с сыном. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 28.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 369
615. 1600 г. января 24. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Ивана Ми... Богдану Терпигореву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 28—29.
616. 1600 г. января 24. «Кабала» (<служилая кабала>)... Семенова сына
с женою и дочерью Борису Елагину. Новгород. — Егоров, с. 6 7.
617. 1600 г. января 25. «Кабала» (<служилая кабала>) Стахея Сергеева сына дьячку Вешняку, Новгород. — Егоров, с. 6.
618. 1600 г. января... «Кабала» (<служилая кабала>) Мины Васильева сына Тимофею Второву. Новгород. — Егоров, с. 7—8.
619. 1600 г. января... «Кабала» (<служилая кабала>) Григория Иванова, сына Михаилу Вельяминову. Новгород. — Егоров, с. 8.
620. 1600 г. февраля 10. «Кабала» (<служилая кабала>) Ивана Степанова сына с женою и детьми Петру Болкашину. Обонежская пятина.—Егоров, с.22
621. 1600 г. февраля 10. «Кабала» (<служплая кабала>) Андрея Иванова сына Поташева Ивану Вобернабесову (Обернибесову?). Обонежская пятина.— Егоров, с. 23.
622. 1600 г. февраля 10. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Михаила Кузьмина сына Михаилу Харламову. Обонежская пятина. — Егоров, с. 24.
623. 1600 г. февраля 10. «Кабала» (<служилая кабал а >) Макария Кле^ ментьева сына Родиону Воронову. Обонежская пятина. — Егоров, стр. 25.
621. 1600 г. февраля И. «Кабала» Игнатия Иванова сына, прозвищем Рожон, Никифору Шавкалову, Вотская пятина. — Егоров, с. 28.
625. 1600 г. февраля 11. «Кабала» (<служилая кабала>) Григория, прозвищем Гульдя, Михаилу Румянцеву. Новгород. — Егоров, с. 8.
626. 1600 г. февраля 18. «Кабала» (<служилая кабала>) Ивава Петрова сына митрополичьему сьдну боярскому Исаку Борзово. Новгород. — Егоров, с. 10.
627. 1600 г. февраля 20. «Кабала» (<служилая кабала>) Василия Иванова сына Фадею Маврину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 29.
628. 1600 г. февраля 21. «Кабала» (<слуяшлая кабала>) Емельяна Яковлева сына Петру Усакову сыну... Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 29—30.
629. 1600 г.февраля 23. «Кабала» (<служилая кабала>) Павла Коростлева Михаилу Кочевину, Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 30.
630. 1600 г. февраля 25. «Кабала» (<служилая кабала)) Гурейки... Феодосию Лутьянчикову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 31.
631. 1600 г. февраля 27. «Кабала» (<служилая кабала)) Никиты Ошурова сына Михаилу Лопухину. Новгород. — РИБ XV. Ш2, с. 31—32.
632. 1600 г. февраля 27. «Кабала» (<служилая кабала)) Филиппа Иванова сына прозвищем Жданки, Павлу Алексееву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 32.
633. 1600 г. февраля 27. «Кабала» (<служилая кабала)) Константина Мянчина Ивану Чертову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 32—33.
631. 1600 г. февраля 28. «Кабала» (<служплая кабала)) Осипа Федорова сына Борису Белеутову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 33.
635. 1600 г. февраля... «Кабала» (<служилая кабала)) Ивашки... Леонтию Щеголеву- Новгород. — Егоров, с. 8—9.
636. 1600 г. февраля... «Кабала» (<служилая кабала)) Куземки — Федору Бестужеву. Новгород. — Егоров, с. 9.
637. 1600 г. марта 2. «Кабала» (<служилая кабала)) Василия Олексина Ивану Поскочину. — АЮБ II, стб. 125, № 131, П; РИБ XV, Ш2, с. 34—35.
Проблемы источниковедения, II 24
370
ПРИЛОЖЕНИЕ
638. 1600 г. марта 2. «Кабала» (<служилая кабала>) Степана Романова сына, про-вищем Богданки, Афанасию Еремееву. — АЮБ II, стб. 125—126, JV* 131, II; РИБ ХУ, Ш2, с. 35.
639. 1600 г. марта 3. «Кабала» (<служилая кабала>) Ивана Курышина князю Ивану Мещерскому. — АЮБ II, стб. 126—127, № 131, II; РИБ ХУ, Ш2, с. 35—36.
640. 1600 г. марта 3. «кабала» (<служилая кабала>) Ивана Жилина Богдану Палицину. — АЮБ II, стб. 128—129, № 131, II; РИБ XV, Ш2, с. 37—38.
641. 1600 г. марта 7. «Кабала» (<служилая кабала» Михея Кулакова, прозвищем Мишука, Григорию Чирикову. Новгород.—РИБ XV, Ш2, с. 38.
642. 1600 г. марта 7. «Кабала» (<служилая кабала» Ивана Михайлова Ивану Савину. Новгород —РИБ XV, IHg. с. 38—39.
643. 1600 г. марта 7. «Кабала» (<служилая кабала» Василия Левашова Макарию Козлянинову. Новгород — РИБ XV, Ш2, с. 39.
644. 1600 г. марта 7. «Кабала (<служилая кабала» старинного холопа Михаила Семенова сына, прозвищем Шагая, Афанасию Терпигореву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 39-40.
645. 1600 г. марта 7. «Кабала» (<служилая кабала» старинного холопа Олфера Никитина сына, прозвищем Терюхи, Афанасию Терпигореву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 40.
646.1600 г. марі а 8. «Кабала» (<служивая кабала»Никиты Мокеева сына, прозвищем Смирки, Своитину Измайлову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 40.
647. 1600 г. марта 8. «Кабала» (<служплая кабала» Авдотьи Кондратьевой Своитину Измайлову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 40—41.
648. 1600 г. марта 8. «Кабала» (<служилая кабала» Дементия Широкова Дмитрию Милюкову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 49.
649. 1600 г. марта 8. «Кабала» (<служилая кабала» старинного холопа Семена, прозвищем Горлищева, Федору Семенскому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 41-42
650. 160(> г. марта 9. «Кабала» «служилая .кабала» старинного холопа Игнатия Дементьева сына Богдану Семенскому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 42.
651. 1600 г. марта 10. «Кабала» «служилая кабала» старинного холопа Афанасия Артемьева сына Матвею Кадыеву. Новгород. — РИБ XV. Ш2, с. 42-43.
652. 1640 г. марта 11. «Кабала» «служилая кабала» Нестора Герасимова сына, прозвищем Томилы, Илье Козину, у которого Нестер Герасимов раньше жил «в козакех». Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 43.
653. 1600 г. марта 12. «Кабала» «служилая кабала» Ануфрия Иванова сына Алексею Хохлову Л опаку. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 43—44.
654. 1640 г. марта 14. «Кабала» «служилая кабала» Никиты Истомина Гурию Сукину. Новгород — РИБ XV, Ш2, с. 45.
665. 1600 г. марта 15. «Кабала» «служилая кабала» Ивана Степанова сына Тихону Дубровскому. Новгород. — РИБ, XV, Ш2, с. 45.
656. 1600 г. марта 16. «Кабала служивая» Михаила Лукьянова сына с женою Михаилу Пустошкину. Боровичский стан. — АЮБ II, стб. 130— 131, J4* 131, 111.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 371
657. 1600 г. марта 16. «Кабала служивая» Федора, прозвищем Суханки, с женою, Кирилла, прозвищем Третьячки, и Несюра Попковых Михаилу Пустошкину. Боровичский стан. — АЮБ II, стб. 130, № 131, 111.
65S. 1600 г. марта 18. «Кабала» (<служалая кабала>) Матрены Широковой Василию Завалишину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 45—46.
659. 1600 г. марта 18. «Кабала (<служилая кабала» Авдотьи Давыдовой дочери, прозвищем Белки, Василию Завалишину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 46.
660. 1600 г. марта 20. «Кабала» «служилая кабала» «старинной» Аксиньи Широковой Захарию Завалишину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 47.
661. 1600 г. марі а 20. «Кабала» «служилая кабала» «старинной» Аксиньи Тимофеевой дочери Захарию Завалишину. Новгород. — РИБ XV, Ш2. с. 47—48.
662. 1600 г. марта 26. «Кабала» «служилая кабала» Михаила Константинова сына, Ездоку Козляникову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 48.
663. 1600 г. марта 29. «Кабала» «служилая кабала» крестьянского сына Павла Афанасьева Василию Оничкову. Новгород. — РИБ XV. Ш2, с. 49.
664. 1600 г. марта 29. «Кабала» «слуншлая кабала» Ивана Симанова сына Третьяку Назимову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 49—50.
665. 1600 г. марта 30. «Кабала» «служилая кабала» Харитона Исакову сына с женою и детьми Василию Змиеву. Обонежская пятина. — Егоров, стр. 26.
666. 1600 г. апреля 2. «Кабала» «служилая кабала>)крестьянского сына Моисея Кирилова, прозвищем Богдашки, Афанасию Секирину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 50.
667. 1600 г. апреля 2. «Кабала» «служилая кабала» старинного холопа Макария Мартемьянова сына, прозвищем Жданова, Леонтию Лодыжен- скому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 50—51.
668. 1600 г. апреля 3. «Кабала» «служилая кабала» Герасима, прозвищем Гараша, Новикова Симе и Тимофею Пвковым. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 51—52.
669. 1600 г. апреля 4. «Кабала' «служалая кабала» Исаакия Третьякова Герасиму Муравьеву. Новгород.—РИБ XV, Ш2, с. 52
670. 1600 г. апреля... «Кабала» «служилая кабала» Григория Иванова сына Трефилу Муравьеву.—РИБ XV, Ш2, с. 52—53.
671. 1600 г. апреля 7. «Кабала» Кприлы Микулина сына Григорию и Василию Мптекиным. Вотская пятина. — Егоров, стр. 28—29.
672. 1600 г. апреля 7. «Кабала» «слуншлая кабала» Филиппа Андреева сына, прозвищем Третьяка, Тихомеру Курицыну. Новгород, — РИБ XV, Ш2, с. 54.
673. 1600 г. апреля 8. «К бала» «служилая кабала» крестьянского сына Сергея Дмитриева Ивану Чертову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 54—55.
674. 1600 г. апреля 13. «Кабала» «служилая кабала» Харитона Садофь- ева сына Семену Язычкову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 56.
675. 1600 г. апреля 18. «Кабала» «служилая кабала» Ивана Семенова сына Павлу Алексееву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 56—57.
676. 1600 г. апреля 21. «Кабала» «служилая кабала» Карпа Иванова Богдану и Гавриле Лутохиным. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 57.
24*
372
ПРИЛОЖЕНИЕ
677. 1600. г. апреля 23. а Кабала» Никифора, прозвище Гришки, и Кирила Васильевых детей Акинфу Муравьеву. Вотская пятина. — Егоров, с. 29.
678. 1600 г. апреля 23. «Кабала» Авдотьи Яковлевой дочери с дочерью Поснику Обольянинову. Вотская пятина. — Егоров, с. 29.
679. 1600 г. апреля 23. «Кабала» Олуферья Васильева сына, прозвище Смирного, с женою и дочерью Федору Бестужеву. Вотская пятина.—Егоров, с. 29—30.
680. 1600 г. мая 5. «Кабала» (<служилая кабала>) Андрея Васильева сына Борису Бекетову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 58—59.
681. 1600 г. мая 19. «Кабала» (<служилая кабала» крестьянского сына Якова Михайлова сына Артемию Измайлову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 59—60.
682. 1600 г. мая 13. «Кабала» (<служилая кабала» Софьи Гридиной подъячему Федору Линеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 60.
683. 1600 г. мая 15. «Кабала» (<служилая кабала» Алексея Васильева сына Дмитрию Кослухому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 60—61.
681:. 1600 г. мая 31. «Кабала» (<служилая кабала» Афанасия Иванова сына Даниле Сегзанову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 61.
685. 1600 г. июня 1. «Кабала» Семена Матвеева сына с женою Семену и Григорию Абрамовым. Вотская пятина. — Егоров, с. 30.
686. 1600 г. июня 2. «Кабала» (<служилая кабала» Тимофея и Марфы Панфнльевых детей Петру Савину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 61—62.
687. 1600 г. июня 4. «Кабала» (<служплая кабала» Тараса Федорова сына Федору Рясницыну. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 6'*.
688. 1600 г. июня 8. «Кабала» (<служилая кабала» Матвея Мартынова сына Третьяку Назимову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 64—65.
689. 1600 г. июня И. «Кабала» (<служилая крбала» Василия Степанова сына Ивану Лугвеневу. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 65—66.
690. 1600 г. июня 14. «Кабала» (<служилая кабала» Ивана Иванова сына, прозвищем Менщика, князю Михаилу Мышеокому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 66.
691. 1600 г. июня 15. «Кабала» (<служилая кабала» Софронтия Фаддеева Ждану Богомолову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 66—67.
692. 1600 г. июня 16. «Кабала» (<служилая кабала» Онанпя Федорова Ивану Обреимову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с 67—68.
693. 1600 г. июня 18. «Кабала» (<служилая кабала» портного мастера Сергея, прозвищем Семена, Алексеева сына Анне Обернибесовой. Новгород.—РИБ. XV, Ш2, с. 68.
694. 1600 г. июня 22. «Кабала» (<служилая кабала» монастырского дьячка Бориса Зубова, прозвищем Богдана, Василию Мотякину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 68—69.
695. 1600 г. июня 22. «Кабала» «служилая кабала» Василия Козлова Василию Мотякину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 69.
696. 1600 г. июня 22. «Кабала» «служилая кабала» портного мастера Амоса Онаньина сына, прозвищем Юрьева Василию Мотякину. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 70—71.
697. 1600 г. июня 23. «Кабала» «служилая кабала» Спиридона Котова Василию Мотякину. Новгород. — РИБ XV, 1Н2, с. 71.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 373
698* 1600 г. июня 27. «Кабала« (<слуяшлая кабала)) Ивана, прозвищем Кондрата, Павлова сына Некарю Оболнянинову. Новгород — РИБ XV IIL <5. 71—72. ’
699. 1600 г. июля14. а Кабала» (<слу живая кабала>)Пантелея, прозвищем
Лервуши, Калина сына Никите Масляницкому. Новгород. РИБ XV, Ш2,
с. 72—73.
700. 1600 г. июля 9. «Кабала служилая» Карпа Ларионова сына, прозвищем Ивашки, Ивану Загоскину. Боровичскпй стан. — АЮБII, стб. 131
132, № 131, 111.
701. 1600 г. июля 11. «Кабала» (<служилая кабала)) Андрея Федорова сына Ивану Дементьеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 73.
702. 1600 г. июля 14. «Кабала» (<служилая кабала)) бобыльского сына Никифора Ермолина сына, прозвищем Бекреня, Григорию Путятину. Новгород.— РИБ XV, Ш2, с. 73—74.
703. 16Э0 г. июля 17. «Кабала» (<служилая кабала)) Дорофея Остафьева сына Богдану и Гавриле Лутохиным. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 74.
704.1600 г. июля 18. «Кабала» (<служилая кабала) Семена, прозвищем Федыш, Михайлова сына Адриану Милославскому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 75—76.
705. 1600 г. июля 20. «Кабала» Степана Евьева сына Федорову и Степану Самарину. Вотская пятина. — Егоров, с. 30.
706. 1600 г. июля 20. «Кабала» Ивана Серебряникова Федору и Степану Самариным. Вотская пятина. — Егоров, с. 30—31.
707. 1600 г. июля 20. «Кабала» Степана Меркурьева сына кн. Михаилу Белосельскому. Вотская пятина. — Егоров, с. 31.
708. 1600 г. августа 1. «Кабала» Петра Юрьева сына Богдану Ададу- рову. Вотская пятина. — Егоров, с. 31.
709. 1600 г. августа 8. «Кабала» (<служилая кабала)) Гаврилы Иванова •сына с сыном Григорию Кобелеву. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 76.
710. 1600 г. августа 10. «Кабала (<служилая кабала)) бобыльского сына Федора Трофимова Степану Коситцкому. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 76—77.
711. 1600 г. августа 15. «Кабала» (<служилая кабала)) сына стрельца Ивана Михайлова Ефимию Коковцову. Новгород. — РИБ XV, Ш2, с. 77—78.
712. 1602 г. января 26. «Кабала» Григория Федорова сына с женою, сыном и двумя дочерьми Нижегородскому Печерскому монастырю. Нижний Новгород.— Н. П. Си ливанский. Акты о посадских людях-закладчиках. Летопись занятий археографической комиссии, в. 22, с. 254.
713. 16Э6 г. февраля 20. <Служивая кабала) Прокофия Степанова сына с женой, дочерью и падчерицею Ивану Пустошкину. Боровичскпй стан. — АЮБ, И, стб. 24-25, № 127, 1.
714. 1613 г. июля 25. «Кабала» (<служилая кабала)) Тимофея Трофимова с женою Ивану Вельяминову. Муром. — Акты Московского государства, иэд. Академией Наук, под ред. Н. А. Попова, т. I, с. 288—289.
715. 1614 г. апреля 5. «Кабала» Андрея Михайлова сына с женою Григорию Оболнянинову с сыновьями. Вотская пятина.—АЮБ II, стб. 25, №127.
716.1618—1619 г. «Кабала» вольного человека портного мастера Ильи Михайлова сына с женою Андрею Маслову. Чтения в Обществе истории
374
ПРИЛОЖЕНИЕ
и древностей Российских при Московском университете, 1916, кн. II, отд. I, с. 123, № 161.
717* 1622 г. апреля 3. «Кабала служилая» Максима Степанова сына с женою Осипу Страхову. Боровичский стан. — АЮБ II, стб. 26, № 127, III-
718. 1625 г. марта 4. «Кабала» Купреяна Иванова сына с женою Игнатию Жемчужникову. — Труды Орловской ученой архивной комиссии, вып. 6, с. 17, № 23.
719. 1630 г. декабря 21. «Кабала» Алексея Федорова с женою Ивану Посулщикову. Суздальский уезд. — Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, т. VII, с. 133 — 131.
720. 1633—34 г. «Служилая кабала» старинного человека Иванам Денисова Алимпию Куломзину. — Преображенский и Альбицкпй, с. 35, № 148.
721. 1635 г. января 21. «Кабала» Терентия Иванова сына подьячему Раз- бойного приказа Федору Чеснову. Москва. — Временник Демидовского юридического лицея, кн. 52, 1890, с. 194, № 145.
722. 1635 г. марта 22. «Кабалг» вольного человека Ивана Савельева с женою Марии Ивановне Высоцкой. Кострома. — Н. Н. Селифонтов. Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол, первого собрания «Линевского архива» с двумя приложениями. СПб., 1891 г., с. 31, «N1 176.
723. 1635—36 г. «Кабала» (<служилая кабала>) Якима Красовского Григорию Беседному. Вологда. — АЮБ I, стб. 592—593, № 93, I.
721. 1636—37 г. «Кабала» Панкратия Харитонова князю Андрею Козловскому. — АЮБ И, стб. 26—28, № 127, IV.
725. 1637 г. сентября 5. «Служилая кабала» Аникпя Федорова с женою
Василию Посулщикову. Суздальский уезд.—Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, т. VII, с. 134. |
726. 1639 г. марта И. «Служилая кабала» рольного человека портного швеца Данилы Петрова сына Григорию Чоглокову. — АЮБ И, стб. 27, № 127, V.
627. 1639—1640 г. «Кабала» Ивана Сергеева сына, прозвищем Беляя, князю Андрею Козловскому. — АЮБ И, стб. 28, JVs 127, VI.
728. 1641 г. ноября 19. с Служилая кабала» старинного человека Устина Кузьмина, прозвищем Черноброва, с женою Федору Головцыну. — Преображенский и Альбицкий, с. 36—37, № 149.
729. 1641 г. декабря 29. «Кабала» Спиридона Иванова, прозвищем Докучая, Андрею Львову. — Хр. Лопарев. Описание рукописей императорского общества любителей древней письменности. Ч. I, СПб., 1892, с. 189, № 18.
730. 1642 г. января 9. ( Кабала» старинных людей Ивана Борисова сына с дочергю псковскому помещику Степану Парфеньевичу Елагину. — Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому, М., 1909, с. 325.
731. 1642 г. марта 7. «Служилая кабала» Емельяна Иванова сына, прозвищем казака, пусторжевскому помещику Афанасию Дубровскому. — Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому, М., 1909, с. 325—326.
732. 1642 г. августа 29. «Служилая кабала» Агафона Игнатьева сына с женою Прокопию Юшкову. Порхов. — Журнал землевладельцев, 1858, JV* 3, отд. II, с. 59, № 2.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 375
733. 1643 г. февраля 22. «Служилая кабала» Киприяна Петрова сына с женою Петру Голевкину. Шуя. — Владимирские губернские ведомости, 1858, № 7, часть неофициальная, с. 26, № 7.
734. 1643 г. марта 16. «Служилая кабала» старинного человека Михаила Семенова Федору Головцыну. — Преображенский и Альбицкий, с. 37, № 150.
735. 1644—45 г. «Служилая кабала» вдовы Татьяны Колучиной с. детьми Гавриле Борисову, у отца которого Татьяна Колучина с детьми были «старинными послужильцами». Муром. — Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского дворца, т. VI, с. 156.
736. 1616 г. февраля 55. «Кабала» (<служилая кабала» старинного человека Кирилла Поликарпова Михаилу Алалыкину. — Оп. Лин. Арх., кн. II, с. 19, № 80.
737. 1646 г. октября 12. «служилая кабала» вольного человека Дмитрия Севастьянова сына Алексею Глебову. — И. Д. Беляев*, Законы и акты, устанавливающие в древней Руси крепостное состояние. Архив исторических и практических сведений, относящихся к России 1859, квша II, с. 98.
73S. 1647 г. ноября 18. «Кабала служилая» Кирилла Макеева сына, прозвищем Чеснока, Семену Федорову. Суздальский уезд [?]. — Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, т. VII, с. 134.
739. 1649 г. ноября 4. «Кабала служилая» Семена Елистратова сына с женою с сыном Григорию Голгнкину. Сузд «ль. — В. Борисов. Старинные акты, служащие преимущественно дополнением к описанию Шуи и его окрестностей, М., изД. Я. Горелина, 1853, с. 128—129, № 73.
740. 1655 г. января 3. «Служилая кабала» Савелия Савинова сына Григорию Пустошкину. Бежецкая пятина. — АЮБ II, стб. 28—29, JV* 127, VII.
741. 1656 г. августа И. «Кабала служилая» Калины Иванова сына, прозвищем Посерихи, Матвею Федорову. Суздаль. Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, т. VII, с. 134—135.
742. 1659 г. февраля 28. «Служилая кабала» Татьявы Григорьевой дочери Степану Чемесову. Арзамас. — Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, ч. И, М., 1897, с. 121.
743. 1663 г. марта 20. «Служилая кабала» Евтифея Прокофьева Григорию Пустошкину. Ярославль. — АЮБ II, стб. 29—30, № 127, VIII.
744. 1663 г. декабря 12. «Служилая кабала» (<служивая кабала» Лаврентия Прокофьева Григорию Пустошкину. Ярославль. — АЮБ* II, стб. 30-31, JVs 127, IX.
745. 1668 г. января 25. «Служилая кабала» вольного гулящего человека Ивана Кондратьева Михаилу Чеглокову.—АЮБ II, стб. 31—33, № 127, XI.
746. 1669 г. июня 9. «Кабала» Федора Никитина сына, прозвищем Янке- евича, с женою и сыном дворянину Михаилу Чеглокову. Обонежская пятина. — АЮБ II, стб. 31, JVI 127, X.
747. 1670 г. пюня 2. «Кабала» (<служилая кабала» вольного человека Василия Захарова сына Коротного с женою и сыном Григорию Дмитриевичу Строганову. Нижний-Новгород. — А. Введенский. Торговый дом XVI — XVII вв., Л., 1921, с. 56 - 58.
748. 1670 г. июня 29. «Кабала» (<служплая кабала» строгоновского по- служивца Ивана Федорова сына Багина Григорию Дмитриевичу Строгонову. — А. Введенский, с. 59.
376
ПРИЛОЖЕНИЕ
749. 1673—74 г. «Кабала» (<служилая ка6ала>) Максима Омельяшова Василию Суворову. Кашин. — АЮБ I, стб. 593—594, JVs 93, II.
750. 1675 г. января 15. «Служилая кабала» вольного человека Григория Ловчикова с женою князю Федору Козловскому. Москва. — Труды Рязанской ученой архивной комиссии, т. XVII, вып. 3, с. 182—183.
751. 1675—76 г. «Служилая кабала» вдовы Марьи Степлновой с детьми Федору Протасьеву. Москва. — АЮБ I, стб. 594—595, JVs 93, III.
752. 1676 г. декабря 14. «Служилая кабала» вольного человека Михаила Васильева Ивану Головцыну. Кострома. — В. Борисов, Описание города Шуи и его окрестностей с приложением старинных актов, М., 1851, с. 398— 399, № 75.
753. 1677 г. января 16. а Служилая кабала» Мокея Иванова сына с женою Марфе Бекетовой. Арзамас.—Труды Саратовской ученой архивной комиссии, в. XXV, отд. I, с. 79, JVs 52.
754. 1677 г. августа 13. «Служилая кабала» Алексея Иванова с женою и детьми стряпчему Кормового дворца Алексею Ножневу. Москва. — АЮБ I, стб. 596—597, JVs 93, IV.
755. 1680 г. августа 13. «Служилая кабала» Андрея Маслака с женою и двумя сыновьями стольнику Ивану Неронову. Москва. — Русский Вестник, 1841 г., т. 3, с. 477.
756. 1680 г. августа 13. «Служилая кабала» Викулы Зубкова с женою и сыном стольнику Ивану Неронову. Москва. — Русский Вестник, 1841 г.г т. 3, с. 478.
757. 1690 г. декабря 20. «Служилая кабала» вольного гулящего чело¬
века Пахома Титова сына псковскому помещику Сергею Роздерпшину. Псков [?]. — М. А. Дьяконов. Сельское население Московского государства в XVI — XVII вв., СПб., 1898, с. 135. |
758. 1682 г. июля 26. «Служилая кабала» ^вольного гулящего человека» Бориса Котельнина Луке Останкову. Казань. — Труды Саратовской ученой архивной комиссии, XXV, отд. I. с. 79—80, № 53.
759. 1682 г. декабря 21. с Служилая кабала» Якима Медведева с женою вдове Марфе Суворовой. Кашин. — АЮБ I, стб. 597—598, JVs 93, V.
760. 1183 г. июля 7. «Служилая кабала» Савелия Иванова Афанасию Ножневу. Переяславль Залесский. — АЮБ I, стб. 598—599, JVS 93, VI.
762. 1692 г. декабря 16. «Служилая кабала» Афанасия Васильева князю Борису Козловскому. Москва. — АЮБ II, стб. 32—33, № 127, XII.
763. 1684 г. февраля 4. «Служилая кабала» Михаила Федорова князю Борису Козловскому. Кострома. — АЮБ II, стб. 33—34, JVs 127, XIII.
764. 1684 г. апреля 12. «Служилая кабала» Ивана Блинова с двумя сыновьями стряпчему Петру Воронову. Шуя. — Владимирские губернские ведомости, 1858, JVI 7, часть неофициальная, с. 28, JVs 12.
765. 1684 г. мая 13. «Служилая кабала» Ивана Роскоскина с женою Василию Тарбееву. Ярославль. — Преображенский и Альбицкий, с. 38, JVs 155.
766. 1684 г. июня 29. «Служилая кабала» вольного человека Алексея Семенова с женою и детьми стряпчему Григорию Кривцову. Волхов.—Труды Орловской ученой архивной комиссии, вып. 6, с. 16—17, JVs 26.
767. 1684 г. августа 21. «Служилая кабала» Ивана Роскоскина с женою Василию Тарбееву. Романов.—Преображенский и Альбицкий, с. 38—39, JVs 156.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 377
768. 1784 г. сентября 18. «Служилая кабала» старинного человека Макара Гаврилова Ивану Алалыкину. Москва. — Он. Лин. Арх., кн. II, с. 19
20, №81.
769. 1685 г. марта 26. «Служилая кабала» Василия Бушуя с женою и с детьми князю Борису Козловскому. Москва. — АЮБ И, стб. 34, № 127 XIV.
770.1685 г. июля 29. «Служилая кабала» вольного человека Григория Нечаева с сыном стольнику Федору Селиванову, у отца которого Григорий Нечаев был «послужильцем». Зарайск. — Труды Рязанской архивной комиссии, т. XXV, в. 2, приложение: А. В. Селиванов. Материалы для истории рода рязанских Селивановых, ведущих свое начало от Кичнбея,
ч. II, с. 50—51.
771. 1687 г. апреля 18; «Служилая кабала» «вольного человека» Ивана Кириллова сына Гавриле Мамину. Нижний-Новгород. — АЮБ II, стб. 36— 37, № 127, XVI.
772. 1687 г. июня 30. «Служилая кабала» вольного человека (за смертью прежнего владельца) Дмитрия Григорьева сына с женою стольнику князю Якову Кропоткину. Нижний-Новгород. — Труды Саратовской ученой архивной комиссии, вып. 22, с. 162—163.
773. 1687 г. июля 16. «Служилая кабала» «вольного человека» Ивана Шулывдина стольнику Семену Плещееву. Нижний-Новгород. — И. Д. Беляев, Законы и актыГ установляющие в древней Руси крепостное состояние. «Архив исторических п практических сведений, относящихся до России» 1859, книга II, с. 99—100.
771. 1687 г. ноября 28. «Служилая кабала» вольного человека Игнатия Ливанова Ивану Меньшому Алалыкину. Суздаль. — Оп. Лин. Арх., кн. II, с. 20, № 82.
775. 1687 г. ноября 28. «Служилая кабала» <вольного человека) Степана, прозвищем Лобана, с женою Шану Меньшому Алалыкину. Суздаль. — Оп. Лин. Арх., кн. II, с. 20, № 83.
776. 1688 г. января 7. «Служилая кабала» вольного человека Василия Кордюкова (Курдюкова) Семену Сухачеву. Болхов. — Труды Орловской ученой архивной комиссии, вып. 6, 1889, с. 17, № 7.
777. 1688 г. мая 27. «Запись» Герасима Акинфиева сына с женою и дочерьми Григорию Кривцову с женою и детьми. Болхов. — Труды Орловской ученой архивной комиссии, вып. 6, с. 18, № 75.
778. 1689 г. мая 16. «Служилая кабала» вольного человека Петра Иванова Василию Тарбееву. Пошехонье. — Преображенский и Альбицкий, с. 39, № 157.
779. 1689 г. июня 30. «Служилая кабала» вольного человека Дмитрия Григорьева сына с женою стольнику князю Якову Кропоткину. Нижний- Новгород. — Труды Саратовской ученой архивной комиссии, в. 26, отд. I, с. 13—14, № 62/
780. 1689 г. сентября 21. «Служилая кабала» «вольного человека» Семена Прокофьева сына стольнику Ивану Давыдову. Белев. — АЮБ I, стб. 599 600, №93, VII.
781. 1689 г. ноября 19. «Служилая кабала» Никиты Падучева Василий) Суворову. Кашин. —АЮБ II, стб. 37—38, № 127, XVII.
378
ПРИЛОЖЕНИЕ
7S2. 1689 г. декабря 22. «Служилая кабала» Корнилия («Картошки», «Карнилки») Марье Ивановне' Шушериной. Перемышль. — Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина, ч. 10. М., 1902, с. 329.
783. 1690 г. февраля 9. «Служилая кабала» Василия Татарина с женою и с детьми стольнику князю Борису Козловскому. Москва. — АЮБ II, стб. 38—39, № 127, XVIII.
784. 1691 г. февраля 3. «Служилая кабала» вдовы Татьяны Родионовой дочери с сыном Пелагее Чириковой. Москва. — Материалы исторические и юридические района 6. приказа Казанского дворца, III, с. 85—85, № 64.
785. 1691 г. февраля 13. «Служилая кабала» вольного человека Кузьмы Савельева с женою Василию Тарбесву. Пошехонье. — Преображенский и Альбицкий, с. 40, № 158.
786. 1791 г. июня 3. «Служилая кабала» бывшего «крепостного человека» Юрия Романова с женою, сыном и дочерью стольнику Клементию Миленину. Москва. — Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, вып. 6, с. 237, № 66.
787. 1692 г. февраля 27. «Служилая кабала» Терентия Яковлева Василию Даудову. Москва. — Летопись занятий археографической комиссии, вып. 5, отд. I, с. 98, JV® 61, II.
788. 1692 г. декабря 23. «Служилая кабала» Марии Медведевой Василию Суворову Москва. — АЮБ I, стб. 600—601, № 93, VIII.
789. 1693 г. января 12. «Служилая кабала» Ивана Жилки рейтарского строю поручику Ивану Качееву. Москва. — АЮБ I, стб. 601—602, J» 93, IX.
790. 1695 г. декабря 4. «Служилая кабала» Кузьмы Михеева стольнику Ивану Чичерину. Козельск.—Русская Вивлиофпка или собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики и древней русской литературы, издаваемое Николаем Полевым, т. I, М., 1833, с. 402—404, Л 12, I.
791. 1696 г. января 16. «Служилая кабала» Ивана Корова Василию Тар- бееву. Москва. — Преображенский и Альбицкий, с. 40—41.
792. 1696 г. октября 2. «Служилая кабала» Осипа Васильева с тремя сыновьями и дочерью Василию Ржевскому. — АЮБ II, с. 267, № 252; В. Сергеевич. Русские юридические древности I, пзд. 2-е, СПб., 1902, с. 160; В. Сергеевич. Древности русского права, I, пзд. 3-є, СПб., 1909, с. 166; Архив Строева, I, с. 722, № 377.
793. 1697 г. января 5. «Служилая кабала» Анны Харламовой жене стольника Федосье Давыдовой. Белев. — Н. Полевой. Русская Вивлиофпка, т. I, с. 404—405, № 12, II.
794. 1698 г. января 13. «Служилая кабала» Ивана Матвеева с женою и братом стольнику Матвею Федорову. Суздаль. — Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, т. VII, с. 139—140.
795. 1688 г. апреля 11. «Служилая кабала» Федора Дернина стольнику Матвею Федорову. Суздаль. — Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, т. VII, с. 138—139.
КАТАЛОГ ЧАСТНЫХ АКТОВ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
379
796. 1698 г. апреля 11. «Служилая кабала» Ивана Дернина стольнику Матвею Федорову. Суздаль. — Действия Нижегородской ученой архивной комиссии, т. VII, с. 139.
797. 1698 г. октября 14. «Кабала» (<кабала служпвая>) Василия Ефимьева сына «вольного человека» князю Петру Белосельскому. Шелонская пятина. Зарусская половина. — АЮБ II, стб. 117, № 131,1.