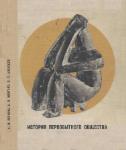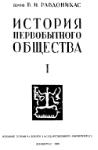/
Text
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА
АКАДЕМИК НАУК СССР
II. II. ЕФИМЕНКО
II ИР В О Б Ы I И О Е
ОБЩЕСТВО
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
ВТОРОЕ
ДОПОЛНЕН НОЕ
И ПЕРЕРАБОТАННОЕ
ИЗД A Н II Е
г о <: л д л р с т в 1: пион
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ленинградские отделение
19 5 0
9
К-91
Книга «Первобытное общество» построена на архео-
логических источниках, относящихся к наиболее раннему
периоду первобытной истории (палеолиту). Особенное
внимание уделено в ней фактам, почерпнутым архео-
логическими исследованиями на территории СССР.
Главная ее цель — ориентировать советского чита-
теля в современном состоянии знания но данному раз-
делу исторической науки.
Ответствеввый редактор М. В. Зеиченко.
Технический редактор К. .V. Казанский.
Оформление книги и рисунки исполнены
к. м. Казанская.
Сдано в вабор 10 августа 1937 г.
Подилсаво в печать 14 декабря 1036 г.
Уч.-авт. д.60. Печатных л. Зй’/д-Н'/д еборп.-f-
10 вклеек. Пум. л. 20>/j. Злаков в печатном
листе 118.000. Тираж 10 000. Ленгорлпт Зв 432.
Заказ 1734. Цепа книги 18 руб. Переплет 2 руб.
Переплетпо-брошпровонные работы произво-
дились в типографии "Искра*.
Напечатано во 2-й типографии ОГПЗа
РСФСР треста »11олпрраФКнпга»
"Печатный Двор» пм. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчпвская, 20.
»
О Г Л А В Л Е И И Е
ОТ РЕДАКЦИИ ВВЕДЕНИЕ VIII 1
Насть I
ДОРОДОВАЯ СТАДИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Современная эпоха в геологическом представлении 13 Глава
Ландшафтные попса или зоны <16 перваг
Колебания климата в современную эпоху 19
Наносы и почвенный покров 21
Время образования современных почв 21
Древпечствертичпоо время 26
Следы древнейших оледенении 27
Геологические периоды 28
Смена ландшафтов в третичном периоде п прогрессирующее охлаягдепие земли 31
Кромсрскпй лесной слой 37
Начальная пора плейстоцена 39
Развитие ледников в четвертичное время 40
Причины четвертичного оледенения 43
Длительность четвертичного периода 46
Жизнь современных ледников 48
Великое оледенение Европы 50
Вюрмское время 53
Эпоха максимального развития скапдппаво-фпнллидского ледника 54
Вопрос о до-рпсском оледенении 56
Повторность четвертичных оледенений 58
Г Л А В А ВТОР А Я
ГЕОЛОГИЯ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ПЕРВОБЫТНОЙ ИСТОРИИ
Изменение облика земли в четвертичное время. Суша к море 65 Глава
Геологические явления вне области оледенения 68 втораj
История речных долин 69
Плейстоценовые террасы 71
Время образования речных террас п их отношение к заселению восточноевро-
пейской равнины 75
Палеолитические поселения эпохи нижних террас 77
Верхние террасы и их*возраст ... ... 80
IV
01 JI ABJIEHllE
Лёсс 83
Времи отложения лёсса 88
Животный и растительный мир ледникового периода 92
Теплая фауна раннего плейстоцена у5
Межледниковые слои Рабутца 101
Конец миидсль-рисской межледниковой эпохи. Таубах 102
Животные п растительные остатки среднего плейстоцена 104
Природные условия в позднее ледниковое время 108
Геологическая хронологизация палеолитической истории Европы 112
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
первобытное стадо
I'.iuun Вопрос о происхождении человека 11г>
третьи Питекантроп 127
Синантроп 12'.)
Появление человека в Европе 137
Первые орудия труда. Эолиты 141
Кремень и его значение в первобытной технике 147
Археологические ступени палеолита 150
Историческая периодизация палеолита 154
Шелльское время 158
Природные условия шслльской эпохи 163
Условия залегания шелльских орудий 165
Назначение ручного рубила 16'.)
Шелльская орда 172
Распространение шелльских находок 182
Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т .1 Я
ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММА НА
ОБЗОР ПАМЯТНИКОВ
Глава Ашёльскос время 190
четвертин Природная среда и характер наносов среднследипкового времен» 198
Растущее значение охоты 202
Ранняя пора среднего палеолита .204
Ашёльскпс стопики Абхазии 208
Премустьсрская стадия 208
Кник-Коба, нижний горизонт 217
Множественность типов кремневого инвентаря и мустьерскую эпоху 220
Иижипй грот Мустье 222
Пластины лсваллуа 226
('.топики типа микок, их время 227
Стоянки Крыма 235
Пльскал 247
Остатки мустьерской эпохи на Донце и в бассейне Днепра 251
Г Л .1 В А II Я Т Я Я
ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММА ИА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
мустьерской всеми
Глава Камень и кость в технике мустьерской эпохи 256
пятая Природная обстановка. Мир животных .. •• 265
ОГЛАВЛЕНИЕ
V
Охота 269
llofp.TeiiDi) мустьерцев 277
Эндогамная орда 281
Погребения 290
Неандерталец 294
Тасманийцы 200
Переход к верхнему палеолиту 303
Часть 1Т
ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОДА
ГЛАВА ШЕСТАЯ
РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
Природные условия в конце ледникового времени 307 Глава
.'Заселение пещер 313 шестая
Перхиепалеолнтпческие отложения пещер, их подразделение на эпохи 321
Некоторые черты материал!.пой культуры кроманьонцев 329
Вопрос о B(i:iiiHi;nonein>ii родовой организации 342
ГЛАВА С Е Д I, М А Я
ОРННЬЯКО-СОЛЮТРЕПСКОЕ ВРЕМЯ
Начальная нора верхнего палеолита 350 Глава
Орниьякекое время. Ранняя и средняя пора 355 седьмая
Поздняя пора ориньяка 361
Солютрейское время 363
Охота па мамонта и дикую лошадь 368
Поселения охотников орпньяко-солютрейского времени 375
Зимние жилища 380
ГЛАВА ВО С Т, М А Я
ОРННЬЯКО-СОЛЮТРЕПСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Техник;) ориш.яко-солютрейской эпохи 394 Глава
Изображения женщины. Значение этих изображений 4 0’1 восьмая
Изображения животных 425
Погребения 4 28
Кроманьонец 631
Остатки орипьяко-солютройского времени на территории СССР 436
Пещера Сюрень I и Крыму 441
Коетепки 442
Стоянка поздпсор1нп.п1.С).ого времени н Воржеве 456
Гагарипо 458
Бердыш 467
ГЛАВА Д Е В ЯТ А Я
МА Д.1ЕНСКОЕ ВРЕМ Я
Поздняя пора верхнего палеолита 469 Глава
Характер охоты в мадлепское время .................................. 473 девятая
VI
ОГЛАВЛЕНИЕ
Поселения мадлепцсв 483
Стоянки солютрейско-мадленсього времени 496
Мез нн 499
Мальта 508
Иркутск-, находка у госпитали 515
Г Л Л В А ДЕСЯТАЯ
МАДЛЕПСКОЕ ВРЕМЯ. II1МЯТ1111КП СССР
Глава Мадленское общество 517
десятая Некоторые особенности мадленского искусства 530
Кос.тенки II, III, IV 541
Карачарово 544
Поселения мадленского времени на Днестре 545
Стоянка на Кирилловской улице в Киеве 546
Типы стоянок- раннего мадленского времени в восточной Европе 550
Стоянки позднего мадленского времени 555
Гонцы 556
Боршево 11, нижний горизонт 560
Другие местонахождения 563
Г Л л вл од и и я л д ц л т л я
ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Глава Особенности геологической истории Сибири в четвертичный период 566
одиннадцатая Памятники мадленской эпохи 571
Афонтова гора 574
Палеолитические стойбища нижней террасы Енисея 577
Характер мадленской культуры Енисейского края 580
Палеолитические остатки иа Ангаре, Верхоленская гора 585
Томская находка. Находка на Губерле. Палеолитические памятники Алтая 588
Палеолитические стоянки Забайкалья и Северного Китая 589
Г Л л В А ДВЕНАДЦАТАЯ
АЗПЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
Глава
двенадцатия
Начало современной эпохи
Боршево II, верхний горизонт
Кирилловская стоянка, верхний горизонт
Журавка
Палеолитические стоянки Днепрсстроя
Рогалик
Позднейшая нора палеолита
Нансийская стадия
Пещерные стоянки Кавказа и Крыма
Конец палеолитического времени
593
593
595
596
598
600
602
610
616
622
ОГЛАВЛЕНИЕ
VII
Перечень таблиц
I. Хронологии позднего ледникового и послеледникового вре-
мени. II. Хронология позднего ледникового и послеледникового вре- между 20 я t 21
мени по Обермайеру 22
III. Соотношение геологических явлений и колебаний климата
для Европы и тропических областей по S, A. Huzayyin’y IV. Периодизация четвертичного периода по Булю V. Европа в четвертичное время между 62 99 112 и ИЗ
VI. Питекантроп (реконструкция) » 128 и 129
VII. Стадии древнечетвертичного периода и эпохи палеолита по
Мортилье » 144 и 145
VIII. Археологические факты, характеризующие первобытное
(палеолитическое) время » 176 и 177
IX. Бедро питекантропа. Череп синантропа X. Неандерталец (реконструкция) между 187 296 и 297
XI. Орудия для обработки дерева (Костенки I) » 400 и 407
XII. Наскальные изображения из Лосселя » 416 н 411
XIII. Головка пещерного льва и антропоморфная головка из Ко-
стенок I (фототипия) » 424 п 425
XIV Головка полуживотного-получеловека из Костенок I (фото-
типия) » 432 и 433
XV. Женская статуэтка из Костенок I (1923 г.) » 440 и 441
XVI. Женская статуэтка из Костенок I (1936 г.) (фототипия) » 448 и 449
XVII. Женская статуэтка пэ слоновой кости (Гагарине) » 464 и 465
XVIII. Женские статуэтки (Мальта) » 512 и 513
XIX. Изображение мамонта (Мальта) » 568 и 569
XX. Изображение бизонов из Альтамиры (в красках) » 608 н 609
ОТ РЕДАКЦИИ
Живой интерес широких масс советского читателя и учащихся к исто-
рии и в частности к истории первобытного общества, ставит с особой
остротой вопрос о соответствующей научной литературе. Основополож-
ники марксизма-ленинизма в своих работах и выступлениях неодно-
кратно показывали, какое огромное значение имеет изучение истории
для создания целостного диалектико-материалистического мировоззрения.
В связи с этим исключительную роль приобретают у нас обобщающие
труды, подводящие итоги современным научным исследованиям по тому
или иному разделу исторического знания.
Настоящая книга представляет собой опыт такого обобщения в опре-
деленной области исторического прошлого. Как показывает ее заглавие,
она имеет своим предметом вопросы, связанные с древнейшими этапами
первобытного общества. Будучи написана на основе фактов, относящихся
к древнему каменному веку, так называемому палеолиту, она ставит
своей целью разработку одного вида источников — археологических.
Поскольку автор, как специалист именно в данной области знания, не
привлекает или использует в ограниченной степени иные виды источни-
ков, необходимых для всестороннего освещения первобытных эпох, —
этнографию, языкознание, антропологию ит.д., его труд скорее является
руководством по палеолиту, чем развернутой историей первобытного
общества. Знания автора, крупного советского специалиста по археоло-
гии палеолита, определяют положительные качества книги. П. П. Ефи-
менко, как и его сотрудникам и ученикам — С. Н. Злмятнину, Г. П. Сос-
новскому, М.М. Герасимову, П.И. Борисковскому, А.П. Окладникову,
С. А. Семенову, С. Н. Бибикову, А. Н. Рогачеву и др. — принадлежит
значительная доля участия в большой и плодотворной работе по изуче-
нию палеолита, где советская наука имеет крупнейшие достижения.
Наши современные знания по палеолиту на территории СССР в пода-
вляющей своей части есть результат деятельности советских ученых
после Великой Октябрьской социалистической революции. Достаточнб
назвать такие важные комплексы памятников, как, например, стоянки
Костенки I, Мальта, Гагарино, Тимоновка, Елисеевичи, палеолитические
местонахождения Крыма, Кавказа и др., получившие по своему научному
значению мировую известность. Методика раскопок палеолитических
местонахождений в СССР разработана заново, с подходом к памятнику
как к историческому источнику. Благодаря этому у нас впервые были
открыты, например, жилища в верхнем палеолите, остающиеся до сих
пор не замеченными буржуазными археологами, применяющими уста-
релую вещеведческую методику.
ОТ РЕДАКЦИИ
IX
Археологические факты, как документальный материал, восходящий
к наиболее отдаленным эпохам первобытной истории, представляют боль-
шую историческую ценность. Разработка материалов, относящихся к па-
леолиту, составляет одну из важных задач советской исторической науки.
Правильное понимание, правильное истолкование археологических фак-
тов требуют определенной методологической направленности. Наиболее
отдаленные эпо^и человеческой истории являются одной из излюбленных
областей лживых измышлений и спекуляций реакционной части бур-
жуазных ученых. Фашистские лжеученые откровенно пытаются исполь-
зовать эту область знания для антинаучной фальсификации истории
в духе своей каннибальской, человеконенавистнической расовой теории.
Только марксизм-ленинизм ставит перед исторической наукой и архео-
логией, как специальным разделом исторического знания, задачи подлин-
ного научного исследования и разрешает их. Этим объясняются значи-
тельные успехи советской археологии в деле освещения древнейших эпох
первобытности. Прямым и весьма важным долгом советской археологии
является разоблачение всех и всяческих антинаучных фальсификаций и
ложных идей в этой области и разработка всей полноты фактов, относя-
щихся к вопросам палеолита на основе единственно правильного и по-
длинно научного метода, созданного основоположниками марксизма-
ленинизма .
Работа П. П. Ефименко подводит итоги достижениям советской науки
в области изучения палеолита. В ней собран большой археологический
материал, относящийся к палеолитической эпохе, причем основное вни-
мание автор уделяет материалу, добытому советскими исследователями.
Книга представляет определенный шаг по пути преодоления формальных,
вещеведческих традиций, до сих пор целиком господствующих в бур-
жуазной археологии. Она является опытом исторического истолкования
археологических фактов на основе марксизма-ленинизма. В заслугу
автору надо поставить его интерпретацию верхнего палеолита как ранней
ступени материнского рода. Привлекаемые им археологические факты
весьма убедительны в смысле наличия в эту эпоху значительно более
высоких форм культуры, чем это допускалось ранее. Можно считать
правильным выставленный им тезис о матриархальной организации
общества уже в ориньяко-солютрейское время. Его объяснение превраще-
ния неандертальского типа человека в кроманьонский тип в связи с разви-
тием первобытной общественной организации, в частности с переходом
от стадии кровнородственной семьи к роду, дает вполне удовлетворитель-
ное истолкование этого важного факта и направлено против расовой
теории.
Однако книга содержит в себе ряд недоработанных мест. Не все поло-
жения автора являются целиком приемлемыми и бесспорными. По вопросу
о возникновении родовой организации автор нечетко изложил свой мате-
риал, не полностью использовав известное положение Энгельса: «Воз-
никнув на средней ступени дикости и продолжая развиваться на высшей
ее ступени, род, насколько позволяют судить об этом наши источники,
достигает своего расцвета на низшей ступени варварства» (Ф. Энгельс,
Происхождение семьи, частной собственности и государства, 1937, стр.
208).
Недостаточно разработана автором и важная проблема отношения
археологических эпох к ступеням дикости, в частности в его изложении
остается недостаточно выясненным под этим углом зрения вопрос о месте,
занимаемом верхним палеолитом. Вообще вопросы периодизации перво-
X
ОТ РЕДАКЦИЩ
битной истории в освещении автора, несомненно, требуют дальнейшего
углубления и серьезной ьыверки со стороны других видов исторических
источников.
Автор не дал в своей книге развернутого изложения вопроса о палео-
литическом искусстве в связи с мышлением первобытного человечества
и не использовал при этом ценных выводов нового учения о языке ака-
демика Н. Я. Марра .
I? числу существенных недостатков книги должно быть отнесено то
•обстоятельство, что автор, стремясь по-новому подойти к материалу, все
же не преодолел в полной мере традиций буржуазной археологии. Это
сказывается в распределении материала, в терминологии, принятой авто-
ром, и в освещении ряда частных вопросов.
В книге имеются и спорные положения, требующие дальнейшей про-
верки и исследования. Обособленную позицию в советской науке автор
занимает по вопросу о синантропе, относя его к сравнительно позднему
времени (синхроничному со временем клэктона Западной Европы). Автор
считает, что наличие огня, охоты на крупных животных и признаки
каннибализма позволяют относить эти находки к начальной поре сред-
ней ступени дикости. Большинство же советских археологов и антропо-
логов полагает, что синантроп представляет переходную ступень между
питекантропом и гейдельбергским человеком.
Необходимо особо отметить некоторую дробность терминологии автора.
Вряд ли уместно также частое употребление термина «орда» по отноше-
нию к разным ступеням общественной организации первобытного обще-
ства. Пользуясь термином «разделение труда», автор далеко недостаточно
подчеркивает, что он имеет в виду естественное разделение труда в эпоху
палеолита. Смешение наименований археологических периодов и исто-
рических этапов (например, на стр. 194 ашёльское время названо исто-
рическим этапом), допускаемое автором, — ошибочно и может привести
читателя к неправильному выводу о том, что археологическая хроноло-
гизация совпадает с исторической периодизацией развития общества.
Указанные недостатки в известной мере обусловлены сложностью и
малой разработанностью разрешаемых в книге проблем.
Несмотря на указанные недочеты, книга П. П. Ефименко —
важное и содержательное исследование, знакомящее широкие круги
советских читателей с большим и интересным конкретным материалом по
древнейшей истории СССР
Книга, насыщенная огромным фактическим материалом, ставящая и
часто успешно и оригинально разрешающая узловые вопросы истории
первобытного общества, несомненно, будет служить основным пособием
для всех интересующихся древнейшей историей и, в частности, историей
нашей родины.
Можно высказать уверенность, что дальнейшая работа по изучению
первобытно-общинного строя будет поднята на еще большую высоту и
еще больше приблизится к требованиям, предъявляемым партией, пра-
-вительством и товарищем Сталиным к советской исторической науке.
Прежде чем обратиться к изложению вопросов древнейшей (палеоли-
тической) истории общества, которым посвящена настоящая книга, нам
представляется необходимым остановиться на характеристике основных
задач советской науки о первобытности. Мы должны осветить те крае-
угольные методологические положения, которыми руководился автор
и вне которых немыслима научно построенная история первобытного
общества.
К настоящему времени наукой накоплен огромный фактический ма-
териал по первобытной истооии. Ряд крупных прогрессивных ученых —
не только корифеи науки Дарвин, Морган, но и такие выдающиеся ее
деятели, как Буше де Перт, Лайелль, Мортилье и другие — своими иссле-
дованиями проложили правильный путь в этой области знания, бывшей
еще в первой половине XIX века скорее областью фантазии и домыслов,
чем областью науки.
Однако твердый методологический фундамент для научного понимания
и разрешения коренных вопросов истории первобытного общества (вклю-
чая сюда и ранние эпохи этой истории, — то, что мы называем палеоли-
том) мы находим лишь в работах основоположников марксизма-лени-
низма. Открытый и разработанный ими гениальный по своей глубине
и научной плодотворности метод диалектического материализма есть
единственный подлинно научный метод исследования, применение кото-
рого в области первобытной истории мы имеем возможность видеть
в трудах Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
Маркс и Энгельс в течение всей своей жизни проявляли глубокий
интерес к первобытной истории, придавая ей особенное значение как
необходимому звену в последовательном, целостном диалектико-материа-
листическом мировоззрении. В этом мировоззрении правильное осве-
щение древнейших эпох человеческой истории играет чрезвычайно
важную роль. Только так можно понять, например, ряд высказываний
Энгельса. * 1 Равным образом и Маркс развитие науки о первобытности
и интерес к ней связывал с пониманием исторического процесса в целом
и перспективами социалистического движения.
Когда в середине XIX века молодая наука о первобытном состоянии
человечества шла от открытия к открытию, достигнув крупных успехов,
когда она, в частности, пришла к пониманию первобытного общества
1 Архив Маркса и Энгельса, т. 1 (VI), 1933, стр. 251.
1 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
ВВЕДЕНИЕ
как общества примитивно-коммунистического, — Маркс охарактеризовал
эти успехи исторической науки как «вторую реакцию» против француз-
ского рационализма XVIII века (первой реакцией он считал романтиче-
ский интерес к средневековью). «Вторая же реакция, —и она соответ-
ствует социалистическому направлению, хотя эти ученые и не подозревают
своей связи с ним, — пишет Маркс, — заключается в том, чтобы загля-
нуть за средневековье в первобытную эпоху каждого парода. И тут-то
они, к своему изумлению, в самом древнем находят самое новое, вплоть до-
уравнителей такого рода, которые привели бы в ужас самого Прудона». 1
Основоположники марксизма учитывали, какую ценность для социа-
листического движения имеет материалистическое изучение первобыт-
ности, вскрывающее исторические условия происхождения классов,
частной собственности, государства, моногамной семьи, религии и других
атрибутов классового общества, которые буржуазная наука ложно объя-
вляет извечными и якобы коренящимися в природе общества, а потому
не подлежащими изменению.
Мы можем найти, поэтому, в произведениях Маркса и Энгельса
ряд положений, непосредственно касающихся первобытной истории.
Особо важное значение для понимания первобытных эпох имеют
такие труды, как «Происхождение семьи», являющееся, по словам
Ленина, одним из основных сочинений современного социализма, 2 как
работа Энгельса о роли труда в процессе очеловечения обезьяны, как его
статья о Марксе, как черновики писем Маркса к Злсулич и другие.
В названных трудах и в высказываниях Маркса и Энгельса мы находим
целостную научную концепцию истории первобытного общества, дающую
ответ на все основные вопросы, связанные со становлением и развитием
этого общества.
Наиболее существенные моменты первобытной истории человечества
Марксом и Энгельсом в сжатом виде были изложены уже в 40-х годах
XIX в. в «Немецкой идеологии», 3 где они предвосхитили многие выводы
современной науки. В дальнейшем от внимания Маркса и Энгельса не-
ускользает ни одно сколько-нибудь крупное открытие в области перво-
бытности.
Прекрасным примером внимания основоположников марксизма к во-
просам, связанным с первобытной историей, является оценка, данная
Энгельсом 4 открытиям Буше де Перта (основателя археологии палео-
лита) в ту эпоху, когда огромное большинство ученых специалистов
относилось к этим открытиям не только с полным пренебрежением, но и
с нескрываемой враждебностью. Нужно сказать, что и такие вопросы,
как вопросы геологии, находки остатков ископаемого человека, дарвинов-
ское учение и проблема антропогенеза всегда вызывали живейший инте-
рес со стороны Маркса и Энгельса.
Они неизменно отмечали каждое открытие, каждый успех передовой
науки, осуждая рутину и раболепство перед устарелыми традициями,
тормозящими успехи подлинного научного исследования. Так, 20 мая
1863 г. Энгельс писал Марксу: «С каким трудом прокладывают себе" до-
рогу новые научные открытия даже в совершенно неполитических обла-
стях, об этом лучше всего свидетельствует книга Ляйэлля «Antiquity of
Man». Еще в 1834 г. Шмерлинг нашел в Люттихе ископаемый череп из
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 34.
2 В. И. Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 364.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV.
* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIII, стр. 149.
ВВЕДЕНИЕ
Энгиса и показал его Ляйэллю; тогда же он написал и свою толстую
книгу. И несмотря на это до настоящего времени ни один человек не счел
достойным труда хотя бы серьезно исследовать это дело». 1
Маркс и Энгельс высоко оценили и известный труд Л. Моргана,
вышедший в 1877 г. Они считали особенно важным данное Морганом
материалистическое объяснение развития семейно-родовых отношений,
нашедшее в его труде прочную фактическую основу. Известно, с каким
вниманием отнесся Энгельс к открытию Л. Я. Штернбергом группового
брака у гиляков.
Таким образом, и в этой области научного исследования, как и во
всех других, Маркс и Энгельс шли по тому пути, который Ф. Энгельсом
определяется следующимобразом: «... во всех этих научных исследованиях,
охватывающих такую обширную область и требующих массового мате-
риала, какие-либо подлинные достижения возможны лишь в результате
долголетней работы. Легче нащупать по отдельным вопросам новую и
правильную точку зрения...; но охватить весь материал сразу и располо-
жить его по-новому можно только после исчерпывающей его обработки —
иначе такие книги, как «Капитал», появлялись бы гораздо чаще». 2
Созданная Марксом и Энгельсом диалектико-материалистическая
концепция истории первобытного общества имеет руководящее значение
для работы советских историков первобытности. Мы укажем здесь лишь
некоторые ее положения применительно к наиболее ранним эпохам перво-
бытного общества.
Прежде всего сама проблема происхождения человека и человеческого
общества с исчерпывающей ясностью и научной убедительностью была
поставлена и разрешена основоположниками марксизма как один
из величайших скачков в истории природы. Вместо хищнического присвое-
ния даров природы, свойственного животным, стадо высших обезьян
в начале четвертичного периода превращается в первобытное человеческое
стадо, начинающее производить необходимые ему средства существования
с помощью искусственных органов — орудий труда. И во всей последую-
щей истории человечества труду принадлежит решающее значение.
Поэтому средства труда, в широком смысле слова, могут являться
показателем развития производительных сил человеческого общества
на разных его исторических стадиях.
Специфическую черту первобытного общества составляет то, что это
общество характеризуется коллективностью производства и потребления.
«...В более древних общинах, —писал Маркс, —производство ведется
сообща и распределяются только продукты, — и добавляет, — этот перво-
бытный тип коллективного или кооперативного производства был, разу-
меется, результатом слабости отдельной личности, а не обобществления
средств производства». 3 Очевидно, общность производства жизненных
средств и общность их потребления были необходимым условием суще-
ствования общества на начальных ступенях его исторического развития.
Поэтому связанность отдельных индивидуумов в общественные коллек-
тивы имеет место уже в самом начале человеческой истории, с момента
зарождения человеческого общества.
Рассматривая первобытное состояние общества с его коллективным
производством, коллективной собственностью и коллективным распре-
делением, как первую историческую, общественно-экономическую фор-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIII, стр. 149.
2 Архив Маркса и Энгельса, т. I (VI), 1933, стр. 236—237.
3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVII, стр. 681.
ВВЕДЕНИЕ
мадию, Маркс и Энгельс указывают на огромную роль, которую
играют на этой исторической ступени родственные, семейно-брачные
отношения.
«Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом
в истории служит в конечном счете производство и воспроизводство
непосредственной жизни. Но оно, в свою очередь, бывает двоякого рода.
С одной стороны — производство средств существования, предметов
питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с дру-
гой — производство самого человека, продолжение рода... Чем меньше
пока еще развит труд, чем более ограничено количество его продуктов...,
тем сильнее проявляется доминирующее влияние на общественный строй
уз родства». 1
Уже первобытное человеческое стадо, характеризующееся неупорядо-
ченными половыми отношениями, так называемым промискуитетом,
представляет собой первичное общественное образование. Здесь род-
ственная связь, конечно, еще совершенно не осознанная, служила, тем
не менее, естественной спайкой, «карнальной связью» отдельных инди-
видов.
К более высокой ступени развития первобытного общества относится
постепенное ограничение полового общения и возникновение семьи,
основанной на кровном родстве. В семье этого типа брачные группы оказы-
ваются уже разделенными по поколениям. Историческое значение кровно-
родственной семьи явствует из того факта, что все последующее развитие
семьи предполагает существование этой исходной формы. Насколько
позволяют судить об этом археологические источники, данной истори-
ческой эпохе отвечает весь, или почти весь, длительный период среднего
палеолита (ашёль-мустье).
Известно, какое значение в развитии первобытного общества имел
групповой брак. Групповой характер семейно-брачных отношений сохра-
няется, как это устанавливает Энгельс, и на той ступени развития семьи,
которая исторически связана с возникновением рода. Факты этнографи-
ческого порядка, наблюдения над брачными отношениями австралийцев,
полинезийцев и некоторых других народностей дают возможность вое-,
произвести путь, по которому шло развитие группового брака.
На определенном этапе общественного развития стремление к ограни-
чению кровосмешения, проявляющееся без ясного осознания цели, при-
водит к запрету полового общения между братьями и сестрами, а затем
и между отдаленными родственниками с материнской стороны. Отсюда
берет свое начало происхождение родовой организации, конституировав-
шей точно очерченный круг родственников по женской линии, не могущих
вступать в брачные отношения между собой. «Первобытное коммуни-
стическое общее хозяйство (унаследованное от предшествовавшей сту-
пени. — П. Е.), которое еще долго господствует на средней ступени
варварства без всяких исключений, определяло максимальные размеры
семейной группы, изменявшиеся в зависимости от условий, но для
каждой данной местности более или менее определенные. Но как только
возникло представление о непозволительности половых отношений между
детьми одной матери, это должно было сказываться при дроблениях
старых и при основании новых общин людей, живущих вместе и сообща
ведущих свое хозяйство (Hausgemeinden) (эти общины не обязательно
совпадали с семейной группой). Ряд сестер или несколько таких групп
Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 8.
ВВЕДЕНИЕ
сестер становились ядром одной общины, их родные братья — ядром
другой». 1
Этот прогресс был бесконечно важнее первых брачных ограничений,
свойственных кровнородственной семье, так как племена, у которых
половые отношения между братьями и сестрами были воспрещены, должны
были «развиваться быстрее и полнее», чем племена, сохранившие кровно-
родственную семью. Последние же, в силу действия естественного отбора,
были обречены на вымирание.
Так возникает экзогамная организация, имевшая огромное прогрес-
сивное значение в истории первобытного общества. Прекрасную иллюстра-
цию к этому исключительно важному положению Энгельса дает быстрое
исчезновение примитивного, так называемого неандертальского типа
человека и смена его более совершенным «современным типом» человека
на рубеже среднего и верхнего палеолита.
Происхождение рода, составлявшего основу общественного устройства
на протяжении последующей истории доклассового общества, непосред-
ственно связано с изживанием практики брака внутри отдельных семей-
ных общин. При всех формах групповой семьи остается неизвестным, кто
является действительным отцом ребенка, но всегда известно, кто его
мать. Отсюда очевидно, что при существовании группового брака про-
исхождение устанавливалось лишь с материнской стороны, а потому
признавалась лишь женская линия. Таким путем возникает порядок
со счетом родства лишь по матери, исключением из родственной группы
отцов, как принадлежащих к другому роду, запрещением брака внутри
всего круга родственников с материнской стороны и т. д. — то-есть то,
что характеризует материнский род.
История возникновения материнского рода представляет для нас
особенный интерес. Он, несомненно, зарождается очень рано — на это
мы имеем прямые указания уже в верхнепалеолитическое время. Типич-
ной исходной формой материнского рода, хотя и не единственной, как
это думал Морган, Энгельс считает гавайскую семью пуналуа, при ко-
торой группа (или несколько групп) сестер, состоящих в браке с группой
мужчин, становится основным ядром одной общины, тогда как их едино-
утробные братья—ядром другой. Другую, более примитивную форму груп-
пового брака, которую также необходимо учитывать в вопросе о воз-
никновении рода, представляет брачная система австралийцев, где она,
в простейшем ее виде, состоит в делении племени на два брачных класса.
Внутри последних половые отношения строго запрещены и, наоборот,
эти отношения имеют полную свободу между мужчинами и женщинами,
принадлежащими к разным брачным классам. Здесь не отдельные инди-
видуумы, а целые большие группы людей — брачные классы — считаются
находящимися в состоянии брака.
Однако, из каких бы исходных форм семейно-брачной организации
ни происходило в том или ином случае зарождение рода, и на этом
историческом этапе продолжает действовать закон естественного отбора,
все более ограничивающий круг родственников, находящихся в браке.
В конечном счете, путем постепенного суживания этого круга, перво-
начально охватывающего все племя, внутри которого господствует
брачная общность, фактически становится невозможным существование
всякого вида группового брака. Его сменяет в эпоху расцвета матриар-
хального рода парная, легко расторжимая семья, отнюдь не разрушаю-
1 Там же, стр. 51.
ВВЕДЕНИЕ
щая унаследованного от более ранних эпох коллективного домашнего
хозяйства и не ослабляющая ни сплоченности членов рода, ни господ-
ствующего положения женщины.
Таким образом история первобытного общества представляет собой
процесс развития общественной организации, основанной на естественных
связях. Поэтому такое значение имеет для первобытной эпохи история
семейно-брачных отношений. Интересующий нас древнейший период
первобытной истории заканчивается, насколько об этом можно судить
по археологическим данным, тогда, когда практика группового брака
идет к своему отживанию и на смену ему приходит парная семья.
Наряду с семейно-брачными отношениями показателем исторического
движения первобытного человечества являются его успехи в производстве
средств существования. Принимая схему Моргана, его разделение перво-
бытного состояния по ступеням культуры, Энгельс указывает, что это
деление отвечает известным нам фактам и может потребовать каких-либо
исправлений лишь в результате накопления «значительного нового ма-
териала». Рассматриваемое в настоящей книге палеолитическое время
следует относить к эпохе дикости, характеризуемой Энгельсом как эпоха
«преимущественно присвоения готовых продуктов природы».1
Таковы в кратких чертах основные положения, которые дают пред-
ставление о взглядах Маркса и Энгельса на первобытное общество, в част-
ности на интересующее нас наиболее раннее время первобытной истории.
Мы не говорим уже о том огромном обилии фактов, мыслей и указаний,
которые содержатся в трудах Маркса и Энгельса и без которых разреше-
ние многих вопросов первобытной истории являлось бы для нас невоз-
можным.
Дальнейшее развитие марксизма после смерти Маркса и Энгельса
стало делом Ленина, поднявшего его на еще бблыпую высоту в соответ-
ствии с современной Ленину исторической действительностью. В трудах
Ленинэ. поразительных по силе и глубине научной мысли, нашли свое
место и проблемы первобытной истории.
Так, в лекции «О государстве» 2 с исчерпывающей ясностью им охарак-
теризована сущность первобытного коммунизма. В его письме к А. М.
Горькому имеется место, весьма важное для понимания древнейших эта-
пов первобытной истории: «...«зоологический индивидуализм», — писал
Ленин, — обуздала не идея бога, обуздало его и первобытное стадо и
первобытная коммуна». 3 В этих определениях, устанавливающих две
основные эпохи в истории первобытного общества [эпоха становления —
первобытное стадо, эпоха развитых первобытноколлективистических
отношений — первобытная община], дается решение важнейшего во-
проса, касающегося периодизации первобытной истории. Очевидно, что
указанные определения, теснейшим образом связанные с периодизацией,
принятой Марксом и Энгельсом, должны быть положены в основу нашего
понимания первобытности. Под первобытным стадом (как исторической
стадией) мы понимаем начальный период в истории первобытного обще-
ства, отвечающий низшей ступени дикости. Вместе с более развитыми
формами хозяйства на средней ступени дикости и сложением кровнород-
ственной семьи возникает та общественная организация, которую
мы называем первобытной коммуной. В работе «Что такое «друзья на-
1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 37.
2 В. И. Ленин, Соч., т. XXIV
1 В. И. Ленин, Соч., т. XVII. стр. 85.
ВВЕДЕНИЕ
рода» и как они воюют против социал-демократов?», где Ленин
излагает основные положения исторического материализма, дается
глубокий анализ семейно-родовых отношений первобытного общества. 1
Было бы большой ошибкой ограничивать значение Ленина для интере-
сующей нас области исторической науки только некоторыми его высказы-
ваниями. Ценность для нас отдельных положений, которые мы находим
у Ленина, вытекает из ленинской методологии в целом, из материалисти-
ческой диалектики как мощного орудия научного анализа. Ленинская
диалектика, учение Ленина о всестороннем и полном противоречий исто-
рическом развитии является для нас единственно надежным орудием
исследования. Вот почему глубокое изучение научного наследства Ле-
нина, конкретного применения диалектики во всех его трудах вооружает
каждого историка, какими бы эпохами он ни занимался, умением по-
ленински подходить к фактам и их интерпретации.
Непревзойденные образцы диалектики мы находим у великого Ста-
лина — гениального продолжателя дела Маркса — Энгельса — Ленина,
овладение трудами которого дает историкам первобытных эпох правиль-
ное направление их работы и столь же необходимо как и овладение тру-
дами Маркса, Энгельса и Ленина. В исторической действительности, осо-
бенно в наше время, в условиях обостренной классовой борьбы, научное
исследование, цели и методы научного познания имеют вполне опреде-
ленное политическое содержание. В то время, как советская наука,
являющаяся передовой, революционной наукой современности, ставит
своей целью объективное познание истории человеческого общества, бур-
жуазная наука оказывается бессильной разрешить эту задачу. В част-
ности, в понимании первобытных эпох современная буржуазная^ н'аУка
заметно отходит от материалистических позиций, завоеванных старым
поколением буржуазных исследователей. Вопреки твердо установленному
единству происхождения человечества, общности путей развития перво-
бытного общества и тождеству основных исторических ступеней для всего
человечества в целом, — современная буржуазная наука в лице многих
ее представителей пытается отрицать эти факты, сводя содержание исто-
рического процесса даже для начальных эпох первобытности к каким-то
измышленным ею «культурам». Этим объясняется возможность широкой
фальсификации научного знания, культивируемой реакционными кру-
гами буржуазных ученых и в области первобытной истории. В ней осо-
бенно сильно сказывается стремление доказать извечность неравенства
отдельных групп человечества, дать «научное» обоснование классовой
организации буржуазного общества и угнетения колониальных народно-
стей. В наиболее обнаженном виде эти политические вожделения бур-
жуазной реакции представлены в «трудах» фашистских этнографов и
археологов. Разоблачение фашистских мракобесов и их человеконенавист-
нических расовых теорий, очищение науки от подобных «теорий» имеет
особенное значение для плодотворного роста научного знания.
В своем докладе на XVII съезде партии товарищ Сталин разоблачил
теорию «высших» и «низших» рас и показал, что расовая теория так же
далека от науки, как небо от земля. Это прямое указание товарища Ста-
лина должно быть твердо усвоено историками первобытного общества,
так как борьба против расовой теории, которая в современной буржуаз-
ной археологии и этнографии играет очень важную роль,'является одной
из важнейших задач подлинной исторической науки.
1 В. И. Ленин, Сон., т. I, стр. 67, 69, 96 и др.
ВВЕДЕНИЕ
В замечаниях на конспекты учебников истории товарищ Сталин вместе
с товарищами Кировым и Ждановым указали советским историкам на
необходимость строгой конкретности в исследованиях, на необходимость
овладения всей полнотой фактов, на необходимость борьбы против анти-
научного схематизма и псевдосоциологизма, которыми засоряли совет-
скую науку подлые троцкистские, бухаринские и иные вредители.
Товарищ Сталин неоднократно призывал советских ученых к борьбе
против устарелых традиций, тормозящих развитие науки. В своей речи
на приеме работников высшей школы в Кремле 17 мая 1938 г. он гово-
рил о процветании науки, «...той науки, люди которой, понимая силу
и значение установившихся в науке традиций и умело используя их
в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций, которая
имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки,
когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для
движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые
нормы, новые установки». 1 Эти указания имеют ближайшее отношение
к истории вообще, но также и к первобытной истории, в которой уста-
релые, ложные традиции очень сильно тормозят развитие науки. Не
говоря уже о фашистских фальсификаторах науки, обобщающие работы
большинства буржуазных ученых, касающиеся первобытности, с кото-
рыми приходится иметь дело советскому читателю, являются совершенно
неприемлемыми по своим методологическим установкам: основными дви-
жущими силами истории в них объявляются миграции племен и народов,
заимствования и т.п. Благодаря Н. Я. Марру советской наукой в зна-
чительной степени изжиты увлечения миграционизмом, теорией заимство-
вания, индо-европеизмом в его специфической форме учения об особых
путях исторического развития для населения Европы. Все же и в рабо-
тах советских ученых, занимающихся первобытной историей, часто ска-
зываются влияния устарелых традиций. Они достаточно еще чувствуются
и в археологических работах в виде преклонения перед буржуазными
авторитетами, в формальном, узко вещеведческом подходе к археологи-
ческому материалу, увлечении_частностями в ущерб правильному исто-
рическому освещению явлений и т. д. Перед советской наукой стоит за-
дача преодоления этих тормозящих ее рост влияний. Советский ученый,
овладевая марксистско-ленинской методологией, может и должен быть
в подлинном смысле передовым ученым.
Почетная задача разработки первобытной истории на основании тру-
дов Маркса, Энгельса, Лёнина, Сталина — ответственна и сложна. Ее
решение посильно лишь всему коллективу советских археологов, этно-
графов, антропологов и языковедов. Автор не имел возможности исполь-
зовать все виды источников по первобытной истории. В этом смысле
название настоящей книги шире ее содержания. Она посвящена в основ-
ном разработке одного вида источников — данных археологии, в част-
ности археологии палеолита.
Необходимость создания обобщающей работы по палеолиту диктуется
уже тем обстоятельством, что старые переводные книги вроде Обермайера
и Осворна ни в какой мере не могут удовлетворить советского читателя.
Они могут служить лишь примером той путаницы во взглядах, той исто-
рической бессодержательности, которая характеризует эту область зна-
ния даже у ее крупных представителей в буржуазных странах.
Весьма показательно, что в области палеолитических исследований,
1 «Правда» от 19 мая 1938 г.
ВВЕДЕНИЕ
советская археология за короткое время успела добиться крупнейших
успехов, являющихся ее посильным вкладом в великое дело социалисти-
ческого строительства нашей родины. Западноевропейская же наука, не-
смотря на огромное накопление новых материалов, явно идет назад.
Иначе как регрессом науки, ее разложением нельзя назвать те антинауч-
ные теории — теорию миграций, представление об извечности расовых
и культурных типов (вроде «культуры ручного рубила» и «культуры пла-
стинки») и иные откровения подобного же характера, которые пропове-
дуются большинством буржуазных ученых. Сама методика раскопок па-
леолитических стоянок на Западе такова, что ее нельзя назвать иначе,
как совершенно ненаучной, кустарной методикой. Ведущиеся там рас-
копки палеолитических памятников не ставят целью выяснение обста-
новки древнего обитания; планы, чертежи и вообще точная документа-
ция для них до сих пор совершенно не считаются необходимыми.
Лишь этим можно объяснить, например, тот поразительный факт, что
западноевропейская археология, располагающая огромным числом па-
леолитических поселений, раскапывавшихся в течение почти ста лет со
времен Шмерлинга, Лартэ, Дюпона, не сумела разглядеть на них остат-
ков палеолитических жилищ. Факт существования уже в раннюю пору
верхнего палеолита, прочных долговременного типа жилищ, установлен-
ный советскими археологами, впервые раскрывает одну из очень важных
сторон жизни первобытного человечества. Исследованные за последние
годы на территории СССР такие первоклассные по своему значению па-
мятники, как Костенки I, Гагарино, Афонтова гора, Мальта, Буреть,
Тельманская стоянка, Елисеевичи, пещерные местонахождения Крыма,
Кавказа, Средней Азии и т. д., относящиеся как к очень древним эпохам,
так и к более поздней поре палеолита, вносят много нового, принци-
пиально важного в освещение первобытности. Они значительно расши-
ряют наши представления о хозяйственной жизни первобытной общины,
дают возможность судить о приблизительной численности общественных
групп, о значении женщины в эту эпоху, об идеологии возникающего
материнского рода и т. д.
Успехи советской археологии в этой области теснейшим образом свя-
заны с ее ростом как марксистско-ленинской науки. Применение новой,
разработанной советскими учеными методики раскопок и совершенно
иное понимание задач научного исследования вещественных памятников,
чем это свойственно буржуазной археологии, дает СССР уже теперь воз-
можность занять ведущее положение в изучении палеолита. Претворение
в конкретном исследовании всего богатства научного знания, содержа-
щегося в трудах основоположников марксизма-ленинизма, обеспечивает
советской археологии подлинно научную направленность. Результаты,
достигнутые советской археологией в деле изучения палеолита в значи-
тельной степени объясняются также планомерным, организованным ха-
рактером раскопочных работ. Последние из года в год охватывают новые
территории Союза. Следует сказать, что эти работы обычно осуще-
ствляются в настоящее время в СССР по принципу комплексных исследо-
ваний — с привлечением геологов, палеозоологов и палеоботаников, что
дает вполне осязательные положительные результаты.
Первое издание настоящей книги (вышедшее в 1934 г. под названием
«Дородовое общество») содержало ряд ошибочных положений, в част-
ности, например, по такому важному вопросу, как вопрос о времени
появления рода. Собрав целый ряд фактов, свидетельствующих о суще-
ствовании в верхнем палеолите достаточно развитого коллективного до-
10
ВВЕДЕНИЕ
машнего хозяйства, отметив наличие для этой эпохи признаков, харак-
теризующих матриархальный семейно-общественный строй, автор, как
показала критика, не довел свой анализ до конца, не сделав из этого
единственно возможный вывод — о возникновении рода уже в ориньяко-
солютрейское время. Неверно, в противоречии с Энгельсом, в первом
издании был освещен вопрос о возникновении экзогамии. Явно непра-
вильно мадленская эпоха противопоставлялась ориньяко-солютрейскому
времени как особая стадия, характеризующаяся признаками распада
матриархальной организации. Весьма недостаточным был, да в значи-
тельной степени и остается, анализ эпипалеолита как определенного
отрезка первобытной истории. Правда, эта проблема является одной из
труднейших в истории палеолитического общества. Здесь указано лишь
наиболее существенное из того, что требовало исправления в первом изда-
нии. Подготовляя настоящее издание, автор стремился исправить допу-
щенные им ранее ошибки и дополнить книгу новыми данными.
Товарищеская критика коллектива Института, в котором работает
автор, помогла ему внести существенные исправления в первое издание;
она же помогла ему во многом в ходе подготовки настоящего издания.
Автор ясно видит необходимость дальнейшей работы по улучшению каче-
ства книги. Только на этом пути достижима конечная цель, поставлен-
ная партией и товарищем Сталиным и для археологии — создание полно-
ценного обобщающего труда, удовлетворяющего высоким требованиям
советской науки.
Автор
ЧАСТЬ 1
ДОРОДОВАЯ СТАДИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ф. ЭНГЕЛЬС
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
«Мы знаем только одну единственную науку, науку истории.
Рассматривая историю с двух сторон, ее можно разделить на
историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны не-
разрывно связаны; поскольку существуют люди, история природы
и история людей взаимно обусловливают друг друга».
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. 1 V, стр. 8J
СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
Человек не в одно время и не на одном уровне развития занял все
обитаемое им в настоящее время пространство, то, что можно назвать,
пользуясь терминологией естественных наук, его ойкуменой.
Процесс заселения континентов Европы, Азии, Африки и Северной
и Южной Америки, наконец Австралии, то-есть тех огромных пространств
суши, где человечество успело распространиться и закрепиться в очень ран-
ние эпохи своей истории, длился, несомненно, чрезвычайно долго, в течение
сотен тысячелетий и даже в настоящее время, при современном состоянии
культуры и техники, еще далеко не может считаться законченным.
Овладение земной поверхностью должно было иметь исключительно
большое значение в истории человеческого общества. Воздействуя на при-
роду, человек еще в большей степени сам испытывал, как мы увидим ниже,
непосредственное влияние природного окружения и на свою физиче-
скую организацию, и на характер и направление своего хозяйственного
и культурного развития.
Разнообразие условий природной среды не могло не найти своего
отражения в многообразии хозяйственного и бытового облика перво-
бытных общественных групп, поскольку оно способствовало сложению
тех или других конкретных исторических вариантов единого и всеобщего
исторического развития человечества, развертывавшегося на основе
своих внутренних закономерностей в процессе своего самодвижения.
Приходится, конечно, учитывать, и это очень существенно для пра-
вильного понимания истории человеческого общества, что природа ока-
Природв
среде
14 Ге! АВ А ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
зывает влияние на человеческое общество в условиях непрерывного изме-
нения этого последнего.
Это влияние могло осуществляться, лишь преломляясь в создававшейся
общественной среде, тем самым далеко не одинаково на разных этапах
общественно-хозяйственного развития: «... лишь только прекращается
первое животное состояние, — писал Маркс, — собственность [человека]
над природой всегда уже опосредована его существованием как члена
общины, семьи, рода и т. д., его отношением к другим людям, которое обу-
словливает его отношение к природе». 1
Естественно поэтому, что чем далее мы уходим назад вглубь истории
человеческого общества, тем могущественнее сказывалось влияние при-
роды на людей. Если в наше время строительство коммунизма осу-
ществляется в условиях возрастающего в своей действенности господ-
ства человека над природой, господства, нивеллирующего роль в социаль-
ной жизни различия физико-географической среды, то для первобытного
общества было, наоборот, характерно, по словам Энгельса, полное подчи-
нение человека окружающей его, но чуждой ему, неразумной внешней
природе. Таким образом очевидно, что без ясного представления об усло-
виях природной среды, в которой приходилось жить и действовать перво-
бытному человеку, было бы невозможно понять и древнейшие эпохи чело-
веческой истории.
Геологиче- Рассмотрение условий природного окружения, в которых протекало
скаясовре- существование первобытных обществ, населявших некогда Европу и
ценность северную Азию, будет целесообразнее начать с выяснения вопроса, что
представляет собой с этой точки зрения современная нам эпоха.
Сопоставляя эти условия в настоящее время и в отдаленные периоды
ранней истории человеческого рода, мы полнее и ярче поймем, что пред-
ставляла природная среда, когда складывались первые общественные
образования людей с их своеобразным социально-хозяйственным строем.
Время, охватывающее несколько последних тысячелетий, в геологии
носит название позднечетвертичной, а также современ-
ной эпохи, или голоцена.
Некоторые, преимущественно немецкие, геологи со времен Букланда
(1823) определяют ее как аллювиальную эпоху (аллювиум — намыв,
отсюда аллювиальная эпоха — это время господства намывных отложений,
оставленных реками и озерами), противопоставляя ей дилювиум (от ди-
лювиум — потоп), то-есть время образования валунных наносов, так как,
по первоначальным представлениям геологов, валунные отложения сред-
ней и северной Европы были оставлены наступанием моря, имевшим
характер потопа.
Вместе с временем, предшествующим современной эпохе, древ-
нечетвертичным, или плейстоценом (Лайелль, 1839), обе
эти фазы составляют последний большой отдел геологического прошлого
земли, который выделяется геологией под общим именем чет в-е р-
тпчного периода.2
1 К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, 1936, Стр. 285.
2 Термин «четвертичный» (Qualernaire) введен в науку 11. Денуайе (1829).
В современном смысле его употребляет Могло, предложивший для него название
(juarlaire, которым пользуются, главным образом, в Германии. Название «ледни-
ковый период», предложенное Шимпером (1837), мало употребительно в геологии.
Термин «голоцен» дан современным французским геологом Огом для обозначения
послеледникового времени, отвечающего в истории человечества неолиту и после-
дующим историческим ступеням общественного развития.
СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
15
Обращаясь к тому, что представляет собой геологическая современ- Продоли.и-
иость, мы, естественно, должны отвлечься от привычных для нас взглядов, тельпоеть ее
которые связывают современную эпоху с гигантским ростом техники, с до-
стижениями человечества в области культурных приобретений и пере-
живаемыми современным обществом громадными социальными сдвигами.
Пригодные для нашей цели критерии приходится искать в области самой
природы, в тех ее проявлениях и силах, которые действовали на земле
задолго до появления человеческих обществ.
Прежде всего следует отметить продолжительность во времени окру-
жающих нас условий природы: наблюдения, охватывающие многие сто-
летия, дают достаточно свидетельств в пользу того, что эти условия на-
ходятся в состоянии относительно устойчивого равновесия. Во всяком
случае, на протяжении целого ряда человеческих поколений в них не
удается заметить существенных изменений.
Конечно, известные изменения имеют место постоянно и происходят
на наших глазах. Необходимо иметь в виду сильное и многообразное воз-
действие, которое оказывает современное человеческое общество во все-
оружии его техники на природную среду. Особенно разительным в этом
смысле является изменение ландшафта в результате внедрения земле-
дельческой культуры. Очевидно, этим приходится объяснять такие
факты, как вымирание или переселение многих животных, в более ран-
ние эпохи находивших в Европе благоприятные условия для своего
размножения.
Мы знаем, что всего на протяжении немногих столетий в восточной
Европе исчезли, например, дикая степная лошадь, тарпан, описанная
академиком Гмелиным в XVIII веке, затем дикий бык, тур, близкий
родственник, если не предок, домашнего рогатого скота, который, по исто-
рическим данным, должен был водиться в южной России еще в XVI веке,
а несколько раньше, в XII веке, был известен в лесах Германии. Равным
образом, почти вымер другой представитель крупных травоядных — евро-
пейский бизон, зубр, который играл очень большую роль в жизни перво-
бытного населения Европы. То же самое можно было бы указать в отно-
шении некоторых растений, например, связанных с девственными степями.
Совершенно ясно, что мы здесь имеем дело с результатом воздействия,
общественного человека на природу.
Однако, если брать природную среду в ее облике, не измененном
вмешательством человека, то ее условия сохраняются, например, в той же
Европе, насколько мы знаем, в течение очень долгого времени.
Значительный интерес представляет с этой точки зрения изучение
свайных поселений эпохи неолита 1 в Швейцарии, где в прибрежном
иле вместе с остатками древней жизни сохранились в очень хорошем
состоянии различные остатки растений — плодов и т. п. Последние по-
казывают, что за несколько тысячелетий до нашей эры берега Невша-
1 Нельзя не указать на условность и малую содержательность таких терминов,
принятых в археологии, как палеолит, неолит, каменный век и т. п., в их примене-
нии в качестве исторических категорий. Их возникновение связано с младенческим
состоянием науки о первобытном обществе. Однако ими приходится пока пользо-
ваться ва неимением более подходящих понятий для обозначения определенных хро-
нологических отрезков ранней истории человеческих обществ. Вообще, вопросы тер-
минологии для истории первобытного, дородового и родового общества, в ее конкрет-
ных местных формах и этапах, приобретают в настоящее время несомненную актуаль-
ность. Нельзя забывать, что мы здесь имеем один из наиболее отсталых участков
исторического знания, невероятно засоренный в буржуазной науке всякого рода
псевдо-научными построениями.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
тельского и других озер Швейцарии были покрыты более или менее той
же растительностью, что и в настоящее время; там росли те же породы
деревьев и кустарников, которые и до настоящего времени свойственны
этой области Европы. 1
Доказательства обратного порядка, которые иногда приводят в защиту
изменения природных условий Европы в течение исторического времени,
вряд ли можно считать особенно убедительными. Если, например, неко-
торые древние писатели — Цезарь, Плиний, Тацит 2 и др. — рисуют
среднюю Европу около начала нашей эры как страну с исключительно су-
ровым климатом, занятую непроходимыми лесами и болотами и населен-
ную необычайными животными, то многое в этом изображении, есте-
ственно, относится за счет своеобразного восприятия указанными авторами
того контраста, который существовал в эту эпоху между мягким кли-
матом и давно культивируемой природой Италии и относительной суро-
востью диких лесных пространств Европы, еще слабо затронутых земле-
дельческим хозяйством.
Видимо, прав Г. Сараув, когда он сомневается в возможности относить
к средней Европе известие о северном олене, обитавшем, по сведениям,
передаваемым Цезарем, в это время где-то на восточных окраинах Гер-
цинского леса.3
В отношении восточной Европы Геродот за пять веков до нашей эры
рисует приблизительно те же условия климата и смену ландшафтов,
которые наблюдаются и сейчас на нашем юге. 4
Только на севере Европы, в области Балтики и прилегающей терри-
тории, уже в современную эпоху отчетливо выступает картина довольно
значительных изменений физико-географических условий, которые испы-
тала эта часть материка, — возможно, в связи с отмеченными здесь боль-
шими поднятиями суши и перемещением береговой линии бассейна Бал-
тийского моря и связанной с ним системы больших озер.
ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЯСА ИЛИ ЗОНЫ
Говоря о состоянии устойчивости, характерном для современной гео-
логической эпохи, мы должны, естественно, понимать его как явление отно-
сительного порядка, так как здесь несомненно имели все же место извест-
ные перемещения границ степи и леса, лиственных и хвойных лесных мас-
сивов и т. д., а следовательно, и некоторые перемены в мире животных.
Однако общий режим климата Европы за это время не подвергался суще-
ственным изменениям. Его характеризует широкое распространение не
только в восточной, но и в средней и западной Европе лесных пространств
с их типичным животным населением — благородным оленем, кабаном,
1 Более или менее полный список растительных остатков эпохи свайных построек
приводится в старом труде Рютимейера (L. Riltimeyer, Die Fauna der Pfahlbauten der
Schweiz, Basel, 1861). Ср. также Keuweiler, Die prahistorische Pflanzenreste Mittel-
europas mil bes. Beriicksichtigung der schweizer. Funde, 1906.
2 Ср., например, выражения Тацита: «Да и кто, не говоря об опасности страш-
ного и незнакомого моря, оставив Азию, Африку или Италию, станет стремиться
в Германию, невзрачную страну С суровым климатом, неприятную для обитания и
на вид, если только она ему не родина?». «Она наводит страх своими лесами или оттал-
кивает болотами» {Тацит, Германия, русак, пер. Модестова, 1886, см. гл. II, V,
стр. 41, 43).
3 Georg Sarauw, Das Rentier in Europa zu den Zeiten Alexanders und Caesars, Ko-
henham, 1913, стр. 30 и др.
1 Ср. В. В. Докучаев, Наши степи прежде и теперь, Спб., 1892, стр. 99.
ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЯСА ИЛИ ЗОНЫ
17
бобром, лесным европейским бизоном-зубром и пр. Даже остатки такого
типичного обитателя тайги, как лось, известны в швейцарских свайных
поселениях (Рютимейер), причем он водился и южнее — в северной Италии
(Ломбардии). 1
Особенности истории первобытного человеческого общества в его
конкретных типах на территории Европы и Азии не могут быть поняты,
однако, без учета другого важного момента в природных условиях совре-
менной эпохи — разнообразия физико-географического режима, нахо-
дящегося в прямой зависимости от распределения солнечного тепла и
осадков. С этой точки зрения современная эпоха представляет собой ко-
нечный этап той стадии в истории земли, когда, с постепенным убыванием
внутренней теплоты земного шара, солнечная энергия становится основ-
ным регулятором климата нашей планеты.
Различие температурных и, следовательно, климатических условий,
создавшееся вследствие этого процесса для северных окраин материков
нашего полушария и для южных областей, находит наиболее яркое выра-
жение в так называемых ландшафтных поясах, или зонах, сменяющихся
в определенной последовательности в меридиональном направлении.
Передвигаясь с юга на север на территории СССР, можно наблюдать
эту смену поясов с характерной растительностью, почвами, с особым
животным миром. 2
В южном Крыму и Закавказье, то есть на крайнем юге Союза, в пре-
делы последнего заходит субтропическая средиземноморская зона с высо-
кими средними годовыми температурами в 12°—16° Ц. Однако в тех
же приблизительно широтах к востоку, в азиатской части Союза, климат
отличается сравнительно большей континентальностью, так как здесь
осадков бывает мало и жаркое лето сменяется довольно холодной зимой.
Этот пояс засушливых полупустынных пространств средней Азии пред-
ставляет преимущественно полынную или типчаковую степь с бедной
гумусом сероземной почвой, чередующуюся с песчаной или каменистой
пустыней. В отношении ландшафта — это область распространения осо-
бого мира растений и животных, хорошо приспособившихся к условиям
существования среди сухих равнин.
Из животного населения, до сих пор сохранившегося в более глухих
местностях центральной Азии, можно назвать такие типичные формы,
как антилопу-сайгу, дикого осла, дикую степную лошадь и ряд мелких
животных, главным образом из отряда грызунов — тушканчика, суслика,
степного хомяка и др. Этот мир животных в сравнительно очень недавнее
время пользовался широким распространением и в более северной черно-
земной полосе степей Западной Сибири и Украины, а еще раньше, в усло-
виях, предшествовавших современной эпохе, встречался на всем про-
странстве Европы, куда проникали холодные степи ледниковой эпохи.
Если, как мы увидим ниже, степи и открытые пустынные равнины с их
обитателями могут быть рассматриваемы, по крайней мере для Европы
и северной Азии, как угасающий пережиток предшествующего геологи-
ческого времени, то сменяющие их в средней полосе Союза лиственные,
а затем хвойные леса с их миром животных представляют ландшафт
1 Находки костей лося, тура, дикого кабана, благородного оленя и других
типично лисных животных составляют обычное явление в торфяниках Украины.
Та же типичная лесная фауна входит в состав отбросов жилья в эпоху так назы-
ваемых трипольских поселений Украины.
2 По В. П. Семеиову-Тян-Шанскому, Типы местностей Европейской России и
Кавказа, «Записки Р. Г О.», т. LI, 1915.
2 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
Европа и
Азия
!8 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
более характерный для соответствующих шпрот Евразии в современную
эпоху.
Хвойные леса типа сибирской тайги занимают огромную территорию
на всем пространстве севера Европы и Сибири. Они отвечают климатиче-
скому поясу, где умеренное, достаточно дождливое лето сочетается с очень
холодной зимой.
Севернее, где средние годовые температуры падают ниже 0°, на смену
лесу, который не выдерживает суровости климата полярных окраин
Евразии, приходят бесплодные заболоченные пространства — тундры с низ-
корослой ивой, карликовой березой, лишайниками и мхами, почти без-
жизненные зимой в течение долгой полярной ночи и оживающие летом,
когда сюда приходят стада северных оленей, появляются из нор поляр-
ные грызуны и к немногим зимующим птицам (сова, полярная куропатка)
присоединяется масса перелетных птиц, прилетающих сюда на гнездовья
из южных стран.
На Новой Земле или Шпицбергене, при средней годовой температуре
до — 10° и ниже, ландшафт имеет еще более суровый характер. Возвы-
шенны? части суши бывают покрыты вечными льдами, спускающимися
к морю; только кое-где среди обломков скал пробивается скудная расти-
тельность, дающая возможность существовать и здесь наиболее нетребо-
вательным представителям полярной фауны.
Если к перечисленным поясам прибавить область тропиков с ее роскош-
ной растительностью и исключительно богатым и разнообразным миром жи-
вотных, мы получим те главные зоны, которые охватывают весь земной шар.
'«верная Интересно, что условия, подобные Европе и Азии, наблюдаются в
Америка в QeBepHOft Америке, где за поясом тундр, занимающих обширные про-
странства на севере этого материка, к югу следует массив хвойных лесов
из сосны, ели, лиственницы, пихты, за которыми идут лиственные леса
из дуба, клена, орешника, бука, тополя, ясеня и т. д., представленные
породами, очень близкими европейским. Южнее они окаймлены степями,
главным образом злаковыми, сходными с черноземной степью так назы-
ваемого Старого Света. Мир животных, заселяющих леса и пастбища
Северной Америки, имеет в своем составе таких животных, как северный
олень — карибу, канадский олень — вапити, близкий благородному оленю
Европы и сибирскому маралу, лось, бизон, песец, медведь, волк и т. п.,
то есть формы, частью совершенно сходные, частью родственные европейско-
азиатским.
Причивы Первопричину сходства этих черт, общих для всего северного полу-
жвльиоети шария, приходится видеть в одинаковых условиях, которые сложились
в результате охлаждения полярной области, ставшей тем центром, около
которого должны были расположиться в виде концентрических кругов
ландшафтные зоны холодных и умеренных широт.
Для нас особенный интерес имеет то обстоятельство, что если взять
природные условия, как они развертываются от полярных областей к
югу, — мы их перечислили выше, — в этих сменяющихся комплексах
растительного ландшафта и животного мира можно видеть черты гораздо
более древних ландшафтов, выработавшихся в иные геологические периоды.
Можно сказать даже, что чем дальше находится данный пояс от полярной
области — центра охлаждения материков северного полушария, — тем
более древний характер он сохраняет.
Действительно, европейское Средиземноморье и отвечающие ему ши-
роты Азии и Северной Америки имеют в составе своей фауны и флоры
такого рода особенности, которые позволяют их выводить по крайней мере
КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
19
из позднетретичного времени. Леса из смоковниц, лавров, платанов, магно-
лий, вечно зеленых дубов, поросшие виноградной лозой, которые сейчас
можно найти только в субтропической области Евразии, являлись обычным
типом лесов средней Европы в эпоху плиоцена. Картины еще более от-
даленных геологических периодов, как известно, воспроизводит тро-
пический мир южной Азии, с\фрики, центральной и южной Америки.
Наоборот, значительная часть животного населения холодных про-
странств северного полушария впервые появляется здесь, насколько мы
знаем, не раньше начала ледникового времени.
Из сказанного мы можем заключить, что природные условия современ-
ной эпохи представляют собой достаточно сложную картину, ключ к кото-
рой приходится искать в прошлом земли.
Ознакомившись с распределением географических ландшафтов на
земной поверхности в настоящее время, вернемся к весьма важному для
вас вопросу о продолжительности современной геологической эпохи.
КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
Известная устойчивость во времени климатических условий, характер-
ных для современной геологической эпохи, не означает, конечно, неиз-
менности этих условий. Ранее намеченные нами ландшафтные зоны не
оставались постоянными, заключенными в определенных границах. На-
оборот, в более или менее отдаленном прошлом они испытывали, судя
по имеющимся данным, значительные перемещения.
Об этом говорят, например, такие факты, как отдельные островки степи,
разбросанные в настоящее время на севере среди бесконечной сибирской
тайги (Якутия). На восточноевропейской равнине степи также имелп,
как это показал еще Докучаев, гораздо более широкое распространение
к северу. В это, пока еще точнее не определенное, но, несомненно, раннее
время голоцена степные растения‘проникли в современную лесную зону,
в Кировскую область и на север Тульского и Рязанского краев, где
сохранились, например, на песчаных холмах среди поймы Оки. 1 Это
должно было происходить в относительно более засушливый период,
когда ландшафт, связанный с степной растительностью, занимал значи-
тельные пространства средней полосы европейской территории СССР.
По некоторым данным отдельные участки степи встречались тогда, видимо,
почти до широты озерной области.
Указанное явление уже давно обратило внимание почвоведов, устано-
вивших, что лесные почвы в области, расположенной к югу от Оки, обра-
зовались за счет более древних черноземов, которые находятся в состоя-
нии деградации. Таким образом, лес в современную эпоху обнаруживает
движение на юг, распространяясь за счет степных пространств.
К какому времени голоцена должен быть отнесен этот засушливый и
более теплый ^степной», или, как его называют, ксеротермический, период,
оставивший многочисленные следы на восточноевропейской равнине, —
об этом можно говорить сейчас лишь более или менее предположительно.
По господствующим представлениям, он должен был иметь место в отно-
сительно не слишком отдаленное время — суббореальную стадию в исто-
1 В качестве примера можно указать участок Оки под Серпуховом, где со свое-
образным дюнным ландшафтом связана реликтовая степная растительность (как
ковыль и другие виды). Ср. Почвенный покров, в Сб. «Московский край», М., 1926,
стр. 88. То же можно сказать в отношении животного населения лесной полосы,
где степные реликты составляют обычное явление. Л. Серебровский, История жи-
вотного мира СССР, 1935, стр. 107.
Распростра-
нив ие степи
ва север
Вопрос
о времени
засушливого
периода
20
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Причины
колебаний
климата
рии северо-западной Европы — не более трех тысяч лет назад (бронзовый
век западной Балтики). Такое предположение основано на факте нахо-
ждения в торфяниках средней и северной Европы, как и на территории
восточноевропейской равнины, так называемого пограничного горизонта,
отвечающего времени высыхания торфяных болот, когда последние оде-
вались кустарниками и лесом.
Однако это явление — образование слоя древесных остатков в торфя-
никах — происходило не только в указанную эпоху, но и раньше, в бо-
реальный период, также, как полагают, отличавшийся cVxiim и теплым
климатом, более теплым, чем в настоящее время. Таким образом, уже
в бореальный период, отвечающий Анцпловому озеру в истории Балтий-
ского бассейна (следовавшему за холодным Иольдиевым морем), степные
растения начали свое продвижение на север вслед за отступающей тундрой.
С другой стороны, вряд л и можно относить к поздней поре современной
эпохи другое характерное явление, связанное с условиями засушливого
климатического режима, — образование цепей дюи на песчаных простран-
ствах по берегам рек средней и восточной Европы. 1 Сопровождаясь
во многих местах по Оке, Сожу, Десне, Неману, Донцу остатками тарде-
нуазских поселений, эти дюны сформировались в гораздо более раннее
время голоцена, по крайней мере в эпоху Иольдиева моря, более десяти
тысяч лет назад (до начала образования чернозема в степной зоне). 2
Нижеследующая таблица (табл. I) может дать представление о масштабах
времени,с которыми приходится иметь дело в отношении современной эпохи.
В основу ее положена хронология позднеледникового и послеледникового
времени, разработанная Де-Геером. Из этой таблицы нетрудно видеть
также, насколько ошибочным является мнение о якобы одновременности
так называемой стадии маглемозе и азильской эпохи,— предположение,
исходя из которого многие западноевропейские исследователи сводят
верхнепалеолитическую историю человечества к заключительному периоду
последнего оледенения. В помещенной на стр. 22 хронологической схеме
(табл. II) Обермайер исходит из таких именно взглядов.
Большой интерес представляет вопрос о причинах колебаний климати-
ческих условий в Европе в послеледниковую эпоху — смены холодного кон-
тинентального климата более теплым, то засушливым, то влажным, то снова
умеренным, как в настоящее время. Может быть, прав П. И. Броунов,
видевший в этих изменениях климатического режима следствие переме-
щений основного регулятора типов погоды — зонального барического
рельефа, происходивших в результате то некоторого ускорения, то за-
медления во вращении земли. 3
1 Исключение составляют береговые дюны, вроде Сестрорецких, возникшие в сра-
внительно позднее время, по выходе прибрежной полосы из-под уровня моря.
2 В согласии с крупными западноевропейскими исследователями к тому же
заключению о раннем возрасте материковых дюи средней и восточной Европы
приходит и К. К. Марков (Древние материковые дюны Европы, «Природа», Л? 9,
1928, стр. 798), относящий их к эпохе до распространения лесной раститель-
ности, т. е. к позднеледниковому или началу послеледникового времени (18—8 ты-
сяч лет назад). То же утверждают и польские авторы в отношении дюн надпой-
менных террас Польши, датируемых стоянками свидерского типа. Несомненно все же,
что образование дюн в областях, не занятых ледником, в отдельных случаях для
той же восточной Европы относится к гораздо более раннему времени. Ср. Б. Ф. Зе-
мляков, О древних материковых дюнах Казанского и Ветлужско-волжского лево-
бережья, «Труды Комиссии по изуч. четверт. периода», IV, 1935, стр. 287
3 П. И. Броунов, О происхождении ледниковых эпох на земле, «Природа», А? 7—12,
1924, стр. 50. Ото объяснение он считает возможным применить и к плейстоценовым
оледенениям.
ТАБЛИЦА I
1 да Датирующие явления в истории ландшафта восточной Европы Археологические памятники
Восточной Европы Западной Балтики
и Новое время Железный век
ti- ll е Развитие дюн в северной полосе Поздний неолит с гре- бенчатой керамикой Ранний неолит с гре- бенчатой керамикой Стоянки с макролити- ческим инвентарем Стоянки тарденуаз- ского типа Дюнные стоянки свидерского тппа Рогалик Журавка Кирилловская стоян- ка, верхний гор. Боршево II, верхний гор. Бронзовый век Позднейший каменный век
Поздний каменный век Стадия кьёккен- мёхдингов
Развитие дюн в северной полосе Начало образования чернозема Начало отложения аллювия пойм Образование дюн на пер- вой надлуговой террасе в средней и южной по- лосе Исчезновение северного оленя на Украине Отложение лёсса (позд- нейшего) на надлуговой террасе 2-го уровня Исчезновение мамонта и сибирского носорога
Стадия маглемозе
(Исчезновение се- верного оленя в южной Балтике) Стадия лингби (тарденуазское н позднейшее азп.тьское время)
Аренебургскан стадия (позднее ази.ть- екое время)
Раннее азильское время
Образование надлмовых террас 2-го уровня в бас- сейне Днепра Гонцы, Кирилловская стоянка, нижний гор., Боршево II, нижний и средний г-ты Мадленское время
(СОСТАВЛЕНА АВТОРОМ)
От настоящего времени ДО 500 л- ло н. Балтийское । море j Л/уа 1 1 1 прокладным п влажный i ВРЕМЯ БУКА Увеличение сосны 1 И ЕЛИ и березы 1 Развитие торфяников 1 Возникновение островов в дельте Невы
500 3000 .1. до н. 3000 33oi д. до н. X Древне- Балтийское море Ытпеа Ледники (горные) северной Сканди- навии в их совре- менных границах СУББОРЕАЛЬНЫЙ теплый и сухой вУ западной БалтикТ Сметанные ду- о осШаднин Одл гике. ВРЕМЯ БУКА бовые леса Высыхание торфяников (образование верхнего пограничного горизонта с пнями сосны и березы) Максимум ладожской трансгрессии — обра- зование Невы (1800 л. до н. э.'
Литориновое море АТЛАНТИЧЕСКИЙ теплый и влажный ВРЕМЯ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ Распространение вла- голюбивой растительно- сти (плющ, тисс и др.) Развитие торфяников В долине Невы — залив до р. Тосны
5300 1 7300 л. ДО И. а. Анцпловое море (опреснение) Послеледниковое затухание оледенения БОРЕАЛЬНЫЙ теплый и сухой Сосна и оереза Проникновение южной степной расти- тельности на север (ковыль и др.) Высыхание торфяников (нижний ярус пней). Начало образования торфяников. Поднятие суши. Р. Тосяа течет до Крон штадта
7500 1 7900 л. до я. а. Иольдиевое море Средне-шведская остановка СУБАРКТИЧЕСКИЙ холодный .ЛЕСОСТЕПЬ ВРЕМЯ БЕРЕЗЫ П СОСНЫ Обилие озер Граница оледенения Вся Приневская впадина затоплена морем идет по сальпауселькс
7900 1 11500 л. до н. э. 11500 1 13000 л. до н. Ледниковый пресноводный бассейн (Фенносканднйская конечная морена) Готская стадия (отступания) Южно-шведская остановка Датская стадия (отступания) АРКТИЧЕСКИЙ Смягчение климата в средней и южной Европе АРКТИЧЕСКАЯ ФЛОРА (Dryas octopetala) в южной Балтине и окрестностях Ленинграда и Вологды, южнее — субарктические степи, березовые и сосновые леса. Балтийско-Беломорский пояс конечных морен
Продвижение леса на север
Около 20000 л. ДО н. э. Балтийская остановка Ширина безлесной зоны в период отступания ледника в северной Гер- мании 300 — 400 к.и (по Веберу) внутренняя гряда главного пояса конечных морен
Предположи- тельно 25000-30000 л. до н. о. Впадина Бал- тийского моря занята льдами Вюрмское оледенение (максимум) Моховая тундра в юж- Леса северного ной Германии (Шуссен- типа в пред- рид) горьях Крыма Внешняя гряда главного пояса конечных морен
ХРОНОЛО1 ИЯ ПОЗДНЕГО ЛЕДНИКОВОГО И ПОСЛЕЛЕДНИКОВОГО ВРЕМЕНИ
ТАБЛИЦА I
( да Датирующие явления в истории ландшафта восточной Европы Археологические памятники
Восточной Европы Западной Балтики
и Новое время
• Железный век
Развитие дюн в северной полосе Поздний неолит с гре- бенчатой керамикой Ранний неолит с гре- Бронзовый век Позднейший каменный век
бенчатой керамикой Поздний каменный век
j Стоянки с микролити- ческим инвентарем Стадия кьёккен- мёддпнгов
н- Развитие дюн в северной полосе Стоянки тарденуаз- ского типа Стадия маглемозе
а Начало образования чернозема (Исчезновение се- верного оленя в южной Балтике)
е Начало отложения аллювия пойм Образование дюн на пер- вой надлуговой террасе, в средней и южной по- лосе Исчезновение северного оленя на Украине Дюнные стоянки свидерского типа Стадия лингби (тарденуазекое и позднейшее азпльекое время)
Рогалик Журавка Ареисбургекап стадии (позднее ази.ть- екое время)
Отложение лёсса (позд- нейшего) на падлуговой террасе 2-го уровня Исчезновение мамонта и сибирского носорога Кирилловская стоян- ка, верхний гор. Боршево II, верхний гор. Раннее азпльекое время
Образование налоговых террас 2-го уровня в бас- сейне Днепра Гонцы, Кирилловская стоянка, нижний гор., Боршево II, нижний и средний г-ты Мйдленское время
(СОСТАВЛЕНА АВТОРОМ)
НАНОСЫ И ПОЧВЕННЫЙ покров
21
НАНОСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ
Приведенная выше таблица показывает, что условия жизни природы,
отвечающие современной эпохе, установились по геологическому масштабу
в сущности очень недавно. Об этом свидетельствует уже небольшая толща
наносов, которые могут быть отнесены к современной эпохе. Как и в другие
геологические периоды, главную роль среди этих образований играют
осадки водного происхождения, отложившиеся на дне или на побережье
рек, озер и морей.
На карте Евразии они не занимают особенно значительных площадей.
В большинстве случаев они имеют вид более или менее узкой полосы,
следующей за очертанием современных водоемов. Очевидно, что рельеф
страны к этому времени был разработан почти во всех деталях.
В речных долинах этим образованиям соответствует пойма реки, ее
низменность, заливаемая в половодье. В западинах озер они окружают
живое зеркало воды, имея вид торфяных или заболоченных пространств.
На морском поберея«ье эти наносы образуют полосу галечников, песчаных
пляжей и болот. Такие отложения нередко содержат остатки растений
и животных, которые попадали сюда с суши.
Их изучение позволяет составить представление об изменениях, испы-
танных некоторыми областями Евразии и в позднечетвертичное время.
Как правило, указанные отложения, однако, содержат растительность
и виды животных, которые до последнего времени удерживаются в тех
же местностях или, во всяком случае, водились там в недавнем историческом
прошлом. Часто встречаются в них и остатки человеческой культуры,
относящиеся к различным историческим периодам — начиная от совре-
менности и вглубь времени, до более поздней поры родового общества,
так называемой неолитической эпохи. Наиболее древние известные в этих
условиях находки типа озерной стоянки Маглемозе в Дании восходят по
крайней мере за 8—10 тысяч лет до нашей эры.
Гораздо более широко распространенным продуктом современной эпохи,
чем наносы, вызванные действием собственно геологических факторов,
является почвенный покров, одевающий поверхность земли. Его прихо-
дится рассматривать как очень сложный продукт разрушения поверхност-
ных геологических напластований, создавшийся в результате длительного
взаимодействия минеральной и органической, — биологической среды.
В наших условиях он встречается повсюду, за исключением крайнего се-
вера и песчаных или каменистых пространств на юге, где слишком скудная
растительность не может дать материала для накопления перегнойных
веществ, необходимых для образования почв.
В своем распространении почвы находятся в непосредственной зави-
симости от общего климатического режима и затем от характера расти-
тельности. Как ландшафт в целом, почвенный покрои образует ряд поясов
или зон, которые сменяются от едва окрашенных гумусом сероземных почв
Узбекистана к тучным черноземам украинских степей и далее к бедным
лесным суглинкам и болотистым почвам севера.
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВ
Вопрос о времени и условиях, в которых должен был образоваться
современный почвенный покров северного полушария, представляет
с многих точек зрения значительный интерес.
Наносы
Почвы
ТАБЛИЦА 11
Современная эпоха Длительность 1 900 г. н. а.
Послеледнико- вое время Позднеледни- ковое время „ Литориновое время Климатический оптимум г . г (эпоха, кьеккенмеддингов) по Де-Геер\: 7 000 л. ‘ по Ooep.'faiiepv: 8-9 000 л. ’ 6—7000 до и. а.
Окончательное таяние ледника
4. Отступание ледника (Скандннапская стадия) Лпциловое время (маглемозе, азилъ) 2 000 л. 2 300 л. 8 500 — 9 500 л. до и. а.
Среднешведская остановка (Фепноскапднйская конечная морена) 3. Отступание ледника (Готская стадия) 3 000 л. 3 300 л. 12 — 13000 л. до и. а.
Юткношведская остановка (Шопен — конечная морена) ио Пенку: «ООО л.
Иольдиепое время ( мадлен) 18—19 000 л. до и. а.
2, Отступание ледника (Датская стадия) 0 000 к
Балтийская остановка (Балтийская конечная морена) 3 000 л. Г. — 0 000 л. 23 — 25000 л. до и. а.
1. Отступание ледника (Германская стадия)
ХРОНОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО ЛЕДНИКОВОГО 11 ПОСЛЕЛЕДНИКОВОГО ВРЕМЕНИ - ПО ОБЕРМАПЕРУ
(Obertnaier, Di/niia/c/irotio/oi/n', faiiUM-ilioii der Vori/esrhirhlr, lid. II, /925, стр. 401,1
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВ
Можно предполагать, что современный почвенный покров начал фор-
мироваться в то время, когда в связи с повышением температуры и увели-
чением количества осадков сильно замедлились процессы накопления
минерального материала. Непосредственной причиной этого должна была
явиться более богатая растительность, которая закрепила поверхность
страны и которая в то же время должна была стать источником усиленного
отложения гумуса.
Если мы обратимся к работам почвоведов, то ответа на вопрос о времени
возникновения даже таких типичных и хорошо изученных почвенных
образований, как чернозем, покрывающий сплошной полосой степные
пространства восточноевропейской равнины, мы, однако, у них найти
не сможем. Это объясняется тем, что почвоведы рассматривают почву
исключительно как продукт выветривания (химического и механического
разложения) коренных пород, являющихся в процессе своей переработки
источником образования мелкозема почв, органические составные части
которых происходят за счет жизнедеятельности растений и животных.
Отсюда понятно, что чернозем, как и всякая другая почва, по этим
представлениям не нарастает в прямом смысле слова или, скорее, нарастает,
так сказать, вглубь, а не вверх, захватывая в процессе почвообразования
глубже лежащие слои материнской породы. Как вывод из этого следует,
что почвообразование само по себе не ограничивается какими-то опреде-
ленными рамками времени. Оно зависит от древности ландшафта, с кото-
рым связана данная почва, от характера материнской породы, раститель-
ности, рельефа, климата и протекает как путем накопления гумуса, так
и посредством просачивания его в среду нижележащей породы. 1
Глубина, до которой доходит почвообразовательный процесс, иначе
мощность почвы, определяется, таким образом, согласно тому же толко-
ванию, совокупностью многих условий. Последние составляют специальную
область почвоведения, на которой мы ближе сейчас останавливаться
не можем.
Однако, по существу, точка зрения, установившаяся в почвоведе-
нии со времени классических исследований Докучаева, не может удовле-
творить археолога, постоянно имеющего дело с вещественными остатками
разных эпох, погребенными в толще чернозема, ибо она не объясняет
наблюдаемых им фактов. Правда, сам Докучаев считается с находками,
встречающимися в черноземе, и дает им свое объяснение: «про нахо-
димые здесь остатки всегда можно сказать, что они
попали сюда еще во время отложения коренной по-
роды (большей частью, дилювий) или уже после обра-
зования чернозема, чрез различного рода норы».2Дру-
гими словами, Докучаев считает, что археологические памятники, встре-
чающиеся в почвенном горизонте, или находились уже в коренной породе
(делювиального, аллювиального или какого-либо иного происхождения)
до ее превращения в чернозем, или попали сюда случайным путем в резуль-
тате перерыванин почвы. Последнее, то есть попадание находок в чернозем
1 Со взглядами почвоведов на процесс нарастания почв, в частности чернозема,
что имеет большой интерес для археологов, постоянно имеющих дело с почвенным
покровом, можно познакомиться, например, по — К. Д. Глинка, Почвоведение, изд. 5,
М., 1927; Б. Б. Полынов, Почвы и их образование, изд. 2, Л., 1926, стр. 75, и по дру-
гим работам.
Первоисточником этих взглядов в значительной степени являются труды нашего
крупнейшего почвоведа В. В. Докучаева, в частности его большое исследование «Рус-
ский чернозем», Спб., 1883.
В. В. Докучаев, Русский чернозем, стр. 344.
Взгляды
почвоведов
Залегание
археологи-
ческих
остатков и
почве
24
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
с поверхности почвы, естественно, приходится отбросить, поскольку оно
совершенно не может объяснить образования «культурного слоя» —
обычного скопления остатков первобытных эпох в том или другом гори-
зонте почвы.
Остается другое толкование — возможность первоначального зале-
гания остатков в коренной породе, за счет которой произошел чернозем.
Это объяснение представляется, действительно, единственно возможным,
если отрицать нарастание чернозема (как и других почв) вверх путем по-
степенного накопления мелкозема почвы. Иными словами, нужно пред-
положить, что, как правило, все эти остатки поселений, начиная от нео-
лита и кончая сравнительно близким нам временем, которые археолог
открывает на разных уровнях в толще чернозема, или занесены сюда слу-
Рис. 1. Разрез почвенного слоя (А) и под-
почвы (В) с указанием относительного
положения культурных остатков.
1. — Эпоха раннего железа. 2. —Эпоха
бронзы. 3. — Поздний неолит. 4. — Ма-
вролитические (кампинийские) остатки.
5. —Микролитические (тарденуазские)
остатки. 6. — Поздиий палеолит.
нарастания почвы, он приходит к выводу, что на образование чернозема
в этих местах должно было потребоваться несколько тысяч лет. 1
чайно, или первоначально были по-
крыты геологическим наносом, пре-
образовавшимся уже совсем недавно
в почву.
Весьма малая вероятность такого
предположения очевидна. Во всяком
случае, оно никем и никогда не было
доказано.
Остатки человеческой деятельно-
сти, встречающиеся в слоях почвы
на разных ее уровнях, дают возмож-
ность ближе определить эпоху, к ко-
торой относится появление чернозем-
ного покрова наших степей. На рис. 1
показано обычное залегание в чер-
ноземе памятников, принадлежащих
разным эпохам истории человече-
ского общества.
Еще академик Рупрехт в 60-х го-
дах прошлого столетия обратил вни-
мание на то обстоятельство, что ран-
ние русские курганы под Черниго-
вом успели покрыться слоем почвы,
правда, значительно меньшей мощ-
ности, чем чернозем окружающих
полей. Вычисляя отсюда скорость
1 Рупрехт, Геоботаническое исследование о черноземе, Прилож. к т. X «Записок
Акад, наук», XS 6, 1866.
Сам Докучаев не отрицал возможности судить в известной мере о возрасте чер-
ноземной почвы на основании толщины растительного слоя, хотя и полагал, что здесь
играло роль не столько накопление органического вещества, сколько преобразова-
ние материнской породы в почву. Некоторые данные о времени, необходимом для
возникновения почв, указаны уже старыми авторами. Сюда относятся, например,
наблюдения над образованием слоя почвы на известняковых стенах Ста рола доже кой
крепости (Рупрехт, Докучаев). Новейшая почвоведческая литература, не изменяя
своего принципиального отношения к вопросу об условиях образования почв, со-
держит ряд фактов, показывающих, что почвенный покров становится заметен уже
через 50—-100 лет, а в 1000—1500 лет достигает в некоторых случаях нормального
состояния. Ср. И. Н. Соколов, О возрасте и эволюции почв в связи с возрастом мате-
ринской породыи рельефа, «Труды Почвенного института Акад, наук СССР», в. 6, 1932,
стр. 6 и сл.
2'г
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВ
В. А. Городцову мы обязаны более точными наблюдениями над ско-
ростью нарастания чернозема в условиях Украины, по среднему течению
Донца. Во время своих раскопок степных курганов между Изюмом и Бах-
мутом в начале XX века он имел возможность наблюдать разницу в толще
древнего черноземного покрова, сохранившегося под насыпью курганов,
и современной почвы на соседних участках степи.
В среднем мощность современного чернозема на водоразделах в усло-
виях целинной степи оказалась равной 0, 75 м, с небольшими колебаниями
в ту или другую сторону, тогда как под курганами мощность того же черно-
зема достигала всего0,33—0.40 иг. Исходя из предположения, что наиболее
ранние из исследованных курганов «с окрашенными костяками» относятся
ко времени за 6000 лет до наших дней, В. А. Городцов исчисляет скорость
накопления чернозема в 5—6 мм в столетие и начало процесса его образо-
вания относит за 12 000 лет до настоящего времени. 1 Если датировать древ-
нейшие из этих курганов 4000—4500 лет, что представляется, видимо,
более вероятным, — скорость нарастания чернозема окажется еще более
значительной. Возможно, что приводимые цифры, в смысле измерения мощ-
ности чернозема, не удовлетворяют требованиям почвоведческой мето-
дики. Возможно и даже вероятно, что нарастание чернозема идет вовсе
не равномерно и поэтому вычисление скорости его формирования не
является таким простым делом. Все это не меняет, однако, дела по
существу.
Решающие заключения на этот счет могут быть получены лишь большим
количеством наблюдений, притом наблюдений, сделанных в разных райо-
нах. Однако нельзя отрицать, что выводы названного исследователя
имеют большую ценность. Они подтверждаются множеством фактов,
доказывающих, что чернозем, как и другие виды почв, не образуется
лишь за счет переработки материнской породы, как предполагал Доку-
чакв, а, действительно, нарастает за счет все новых и новых отложений
минерального и органического вещества.
К таким факсам относится, например, наблюдение В. А. Городцова
над залеганием неолитических орудий в одном исследованном им место-
нахождении в Донецкой области, встреченных им непосредственно
под черноземом, на границе с лёссовой подпочвой. 2 Отсюда следует, что
обитатели древнего поселка жили здесь в эпоху, когда чернозем лишь
начинал покрывать украинские степи.
Если в отдельных случаях нахождение культурных остатков неоли-
тического возраста под почвой можно объяснять сравнительной молодостью
данного почвенного образования, зависящей от случайных причин, — как
постоянно повторяющееся явление оно не допускает подобного истолко-
вания. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с мате-
риалами археологических исследований, имевших дело с памятниками
эпохи бронзы, неолита, в особенности же раннего неолита — стадии кам-
пиньи.
Мы видим, действительно, что слои, связанные со следами обитания
кампинийского времени, залегают под почвенным горизонтом
(на надпойменных террасах и коренном берегу речных долин) одинаково
в верховьях Волги под Ржевом (И. Т. Савенков), в окрестностях Куйбы-
шева (В. В. Гольмстен, П. П. Ефименко), на Донце под Изюмом (Н. В^
1 В. Л. Городцов, Археология, т. I, Каменный период, М., 1923, стр. 70, 71.
2 В. А. Городцов, Результаты археологических исследований в Бахмутском у.
Екатеринославской губ. 1903 года, «Труды Х111 арх. съезда в Екатеринославеъ, т. I,
М., 1907, стр. 214 и 311.
Время
образования
чернозема
26 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Сибилев, П. П. Ефименко) и Ворошиловградом (С. А. Локтюшев), на Дне-
пре 1 и т. д. Что касается предшествующих им тарденуазскмх остатков,
то эти последние никогда in situ не встречаются в почве. 2
Сходные условия залегания тех же остатков в западной Европе и ана-
логичные факты, отмеченные для Сибири, позволяют думать, что изменение
климата в начале современной эпохи — в сторону потепления и повышения
влажности — должно было иметь более или менее общий характер на всем
пространстве северной Евразии.
У нас имеются, таким образом, основания думать, что современный поч-
венный покров Европы восходит ко времени, приблизительно совпадаю-
щему с концом так называемого эпипалеолита и эпохой маглемозе, которое
приходится отодвигать, видимо, не менее чем за 10 тысяч лет до нашего
времени.
Образование Наблюдения над торфяниками показывают, что для их возникновения
торфяников в средней и южной полосе восточной Европы, для накопления в них ра-
стительных остатков было необходимо тоже изменение климата от сурового
континентального режима позднеледниковой поры в сторону условий,
характерных для современности. Начало развития торфяников специа-
листы-торфоведы относят к бореальному периоду (стадия анцилового моря
Балтики). 3 Можно думать, что именно в эту эпоху должно было начаться
и формирование современного почвенного покрова страны.
Происхожде- Трудно сказать без специальных исследований, каким путем происхо-
ди'* мелко- дит накопление мелкозема и более грубого материала — «скелета», обу-
дема ночв словливающее рОСТ почвы. Однако представляется очень вероятным, что
в этом участвуют делювиальные процессы, в результате которых почвы
склонов всегда являются более мощными, чем почвенный покров плато.
Для последнего же приходится принять, повидимому, перенос ветром
минеральных частиц в виде пыли. Таким образом, процесс геологического
накопления не прекращается в этих условиях и в современную эпоху, .но
он становится чрезвычайно замедленным по сравнению с тем, что мы имели
в предшествующее время.
ДРЕВНЕЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ
Под отложениями современной эпохи, часто уже непосредственно под
почвой, залегают геологические образования совершенно иного характера
и другого, гораздо более отдаленного времени. Их изучение делает оче-
видным, что современной эпохе предшествовал период, когда материк
Евразии имел совершенно другой облик.
Оледенение Это было время, когда надвинувшиеся с севера льды покрывали всю
Европы северную половину Европы. На востоке ее они шли в виде сплошного
ледяного массива очень далеко к югу, спускаясь в бассейны Днепра и Дона.
Громадные массы льда, которые у своих истоков представляли пласт,
толщиной, очевидно, не меньший, чем в 1—2 км, а скорее значительно
1 По материалам исследования палеолитических местонахождений в районе
Днепростроя.
2 И. И. Ефименко, Мелкие кремневые орудия..., «Рус. антроп. журнал», т. XIII,
вып. 3—4, 1924, стр. 214 (Яйла), стр. 221 (Западный Буг), стр. 224 (Ока) и пр. Для
Польши ограничусь указанием на известную стоянку Свидры Вельке под Варшавой
с характерным для подобных стоянок залегапием неолитических и тарденуазских
орудий непосредственно под почвенным горизонтом, тогда как «свидерские» остатки
связаны с нижележащим слоем песка.
3 «Известия Главного Ботанического сада СССР», т. XXIX, в. 3—4, 1930,
стр. 378. Здесь имеются в виду, конечно, современные торфяники, а не торфяники
ископаемого типа.
СЛЕДЫ ДРЕВНЕЙШИХ оледенении
27
больший, медленно перемещались в южном направлении. Своей тяжестью
они стирали и выравнивали горные кряжи, выпахивали и бороздили более
мягкие пласты земной поверхности, перенося весь этот минеральный ма-
териал в виде ила, песка и камней к своим окраинам, часто за тысячи
километров.
Значение этого оледенения для ландшафта Европы, в значительной
мере также и Азии, было очень велико. Оно должно было наложить
отпечаток не только на всем занятом им обширном пространстве, но и
далеко вне его непосредственных границ. Не менее значительным должно
было быть влияние его на растительный и животный мир. Климатиче-
ские и ландшафтные зоны в областях, лежавших вне оледенения, были
им сдвинуты далеко к югу. По окраинам ледника широкой полосой тяну-
лись бесплодные пустынные пространства, еще не успевшие одеться расти-
тельным покровом. За ними шли в пределах современной Украины мохо-
вые тундры, по которым бродили северный олень и другие полярные 'жи-
вотные — мускусный овцебык, песец, а также приспособившиеся к суро-
вым условиям этой эпохи толстокожие гиганты, — такие как мамонт и
шерстистый носорог.
На западе эти обитатели тундры кочевали на всем пространстве, сво-
бодном от льдов, от окраин ледника до берегов Средиземного моря.
Все говорит за то, что ледниковая эпоха продолжалась чрезвычайно
долго и льды не оставались в стационарном состоянии. Под влиянием
каких-то причин, вероятно и связи с изменениями в количестве осадков и
колебаниями годовых температур, они то продвигались вперед, то отходи-
ли к северу. Вместе с отступанием ледника передвигались границы тундры,
и на освободившихся пространствах расселялась луговая и лесная расти-
тельность. Временами и степи проникали далеко вглубь Европы, протя-
гиваясь до побережий Атлантического океана; вместе с ними передвига-
лись на запад в пределы современной Франции, Бельгии, южной Англии
и Германии типичные представители равнинных пространств централь-
ной Азии — антилопа-сайга, тушканчик, корсак и другие.
Время, к которому относится это замечательное и не вполне еще объяс-
ненное великое оледенение Европы, предшествовало современной эпохе
и в геологии носит название ледникового периода, или древнечетвертич-
ной эпохи, также плейстоцена и квартера.
СЛЕДЫ ДРЕВНЕЙШИХ ОЛЕДЕНЕНИЙ
Нужно сказать, что оледенение, предшествовавшее современной геоло-
гической эпохе, не было первым появлением ледяных покровов на поверх-
ности земли. Сейчас известны следы довольно обширных по занятой ими
площади оледенений в отложениях, относящихся к очень древним геоло-
гическим периодам — архейскому времени, кембрию, девону, пермской
эпохе. Они открыты в настоящее время в очень многих пунктах земного
шара — в Индии, Китае, Австралии, южной Африке, Северной Америке —
и представляют настоящие ледниковые отложения, заключенные в толщах
древних наносов. Местами такого рода моренный нанос с характерными
ледниковыми валунами может быть прослежен на протяжении тысяч
квадратных километров.
Относительно происхождения этих образований существуют различ-
ные взгляды. Некоторые полагают, что они могут представлять собой древ-
ние полярные области, переместившиеся вследствие или передвижения
земной осн, или даже изменения местоположения континентов. Такое
Происхожде-
ние древних
валунных
наносов
28 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
объяснение встречает, однако, слишком много возражений и предста-
вляется мало вероятным, тем более, что оно плохо вяжется с общеизвест-
ными фактами господства в ранние геологические эпохи относительно
высоких и равномерных температурных условий на всем земном шаре.
Представляется гораздо более правдоподобным, что эти древние оле-
денения были обусловлены чисто местными причинами и возникали в ре-
зультате процессов горообразования, которые в то время неспокойного
состояния земной коры имели особенно грандиозный характер. Целые
горные массивы поднимались высоко за пределы охлажденных слоев атмо-
сферы, и обильные осадки, подобные тропическим ливням, питаемые уси-
ленным испарением влаги с поверхности морей, должны были выпадать
на них в виде снежных покровов, дальше превращавшихся в лед. У нас
нет оснований думать, чтобы .эти высокогорные ледники, вообще говоря,
значительно отражались на климатическом режиме и органической жизни
соседних областей.
Единственным исключением в этом отношении является поздний ка-
менноугольный период, когда ледники получают весьма широкое распро-
странение в южном полушарии, явившись, видимо, даже причиной фор-
мирования особой так называемой глоссоптериевой флоры.
Для того чтобы несколько ориентироваться в этих фактах, вспомним
историю земли, как она рисуется геологией.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ [ПЕРИОДЫ
Пройдя стадию туманности согласно известной теории Канта—Лапласа,
затем звездную стадию, когда наша планета представляла собой сначала
огненно-жидкий, потом более плотный пластический шар, медленно
одевавшийся твердой оболочкой, корой шлаков, — она в конце концов
должна была все же охладиться настолько, что на ее поверхности стала
возможной конденсация воды, раньше находившейся в газообразном
состоянии.
Накопившиеся в огромном количестве водные пары образовывали
в эту эпоху вокруг нашей планеты непроницаемую завесу облаков, откуда
непрерывно низвергались на землю колоссальные массы воды. Таким
образом получили свое начало первозданные океаны, которые, однако,
в течение очень долгого времени сохраняли настолько высокую темпера-
туру, что никакая жизнь в них еще была невозможной. К этой азойской
эпохе относятся самые древние пласты осадочных пород.
К этому времени, очевидно, должно относить образование первых
щитов суши, которые явились остовами материков в последующие геоло-
гические периоды.
Вся дальнейшая история земли отмечена постоянным прогрессирую-
щим охлаждением. Глубоко скрытые в толщах земной коры геологические
напластования ранней эпохи известны в сравнительно немногих пунктах
земного шара, где древние породы выходят на поверхность благодаря
тому, что заключавшие их горные складчатые массивы оказались в после-
дующее время разрушенными до основания. Они известны в Канаде,
у нас в Карелии и соседней Финляндии, на Урале и в области Днепров-
ской гряды, затем в районе Байкала и т. д.
Первые В самых верхних отложениях этого времени, которое носит название
организмы археозойской эры, появляются уже первые достоверные следы простейших
растительных и животных организмов в виде морских водорослей, коль-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ
29
чатых червей и т. п., хотя, очевидно, начало жизни приходится относить
к еще гораздо более раннему времени.
Археозойская эра — это эпоха бурной вулканической деятельности,
когда на поверхность земли изливались потоки жидкой магмы, давшие
начало таким подстилающим отложения всех последующих геологических
эпох горным породам, как граниты, диабазы, сиениты. Интересно, что
первые следы оледенений появляются уже в это древнее время — в связи,
очевидно, с. усиленным горообразованием.
Первичная, или палеозойская, эра, подразделяющаяся на пять эпох:
кембрийскую, силурийскую, девонскую, каменноугольную и пермскую,
также должна считаться чрезвычайно длительным периодом, измеряемым
многими миллионами лет. Она также отмечена усиленной вулканической
деятельностью, которая, очевидно, вызывалась прогрессирующим охла-
ждением и сжиманием оболочки земного шара.
Породы, слагающие эту группу, носят признаки значительных пере-
мещений, бывают изогнуты, собраны в складки, изломаны и т. д. Осадоч-
ные образования палеозоя — морской ил, глина, песок — вследствие
страшных давлений, вызванных такими перемещениями, оказываются
превращенными в плотные сланцы, кварциты, известняки.
Уже к началу первичной эры в соответствующих отложениях стано-
вятся известны довольно разнообразные, преимущественно морские,
организмы, принадлежащие, однако, первоначально исключительно к низ-
шим формам, — кораллы, медузы и пр. Позже появляются панцырные
и ганоидные рыбы, ракообразные, некоторые виды моллюсков, на суше —
насекомые, а к концу палеозоя — и первые четвероногие из амфибий
и рептилий. Среди наземной растительности преобладают древовидные
папоротники, хвощи, плауны и другие низшие виды.
Изучение растительности палеозойской эры, хорошо известной, на-
пример, по каменноугольным отложениям, указывает на то, что в течение
всего этого периода животный мир и растительное царство, а следовательно,
и климатические условия были совершенно одинаковы как под тропиками,
так и в полярных областях (Шпицберген, Гренландия), которые были
покрыты теми же лесами гигантских папоротников. Таким образом, не-
достаток солнечного тепла и света в области полюсов, где и тогда должны
были происходить смены полярного дня долгой 4—5-месячной полярной
ночью, очевидно, компенсировался внутренним теплом земного шара.
Характер растительности и наблюдения над условиями выделения оса-
дочных образований, особенно некоторых солей из морской воды, позво-
ляют утверждать, что в конце палеозойской эры средняя годовая темпера-
тура в Европе не могла быть ниже 22—25° Ц. В это время наша планета
еще представляла собой огромную теплицу, атмосфера которой была
насыщена горячими парами, окутывавшими весь земной шар.
В продолжение вторичной, или мезозойской, эры, которую составляют
эпохи триасовая, юрская и меловая, господствуют спокойные, мало
нарушенные осадочные образования. Особенным распространением поль-
зуются известняки, глины, мергель, рыхлые песчаники. Это время спо-
койствия земли, ослабленной вулканической ее деятельностью.
Температура земной поверхности в этот период продолжает пони-
жаться, но весьма медленно. Кораллы, которые могут жить в воде, темпе-
ратура которой не спускается ниже 20°, в это время еще строили свои
островки — коралловые рифы — в морях, омывавших Гренландию. Еще
в юрский период однообразная растительность одевала всю поверхность
суши, не обнаруживая различия в Индии, Европе, Северной Америке и в
Палеозой
Мезозой
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
современной Антарктике. Однако к концу мезозойской эры начинает ста-
новиться заметным охлаждение в областях, расположенных вокруг полю-
сов, которое постепенно охватывает более северные части Европы. Это
еще не были холода в прямом смысле слова. Роскошная растительность
уходит далеко на север. Но стволы деревьев с явственными годичными
Геологические
К.1 АССЫ Ж И BOTH Ы X
эры
З-
периоды
беспозвон.) рыбы а.мфиб11п|рептилпп| птицы |млекоппт|челов.
Кембрийский
Трстпчпып
Меловой
Юрский
Девонский
Силурийский
Каменно-
угольный
Триасовый
Пермский
M.eeko-
нипь.
Преодл.
формы
человек -
о
Протерозой
Лрхеозой
Рис. 2. Геологические периоды и развитие организмов.
(Стена составлена по материалам Геологического Института Академии На;к СССР и по Ю. Л. Жемчужников!
кольцами начинают показывать впервые смену более благоприятных лет-
них сезонов вегетации менее благоприятными зимними. Таким образом,
к концу мезозоя на полюсах, в связи с более быстрым их охлаждением,
внутренний жар земли заметно теряет свое значение, и солнечная энер-
гия как источник тепла начинает играть главную роль.
Возникновение в течение мелового периода высшего типа растений —
покрытосемянных, которые, появившись сначала в области арктической
суши, быстро завоевывают другие материки, может иметь объяснение
в свете того же факта — значения, приобретаемого солнечным теплом
и светом. Наиболее важным условием, благоприятствовавшим их распро-
странению, явилось наличие у покрытосемянных приспособленности
СМЕНА ЛАНДШАФТОВ В ТРЕТИЧНОМ ПЕРИОДЕ
8t
к яркому незащищенному солнцу, отсутствующей у папоротников, сагов-
никовых и древних хвойных.1
В отношении развития органической жизни это было время ее дальней-
шего расцвета на суше и воде. В особенности характерным для этой эпохи
является господство гигантских рептилий — наземных и морских ящеров.
Однако уже достаточно рано в течение мезозойской эры появляются первые
млекопитающие типа низших млекопитающих — сумчатых, а равно и
первые птицы, вооруженные зубами, которые сохраняют еще явственные *
черты пресмыкающихся.
Третичный и четвертичный периоды составляют вместе кайнозойскую Кайнозой
эру — время млекопитающих, когда новые виды растительности и новая
фауна быстро овладевают сначала умеренными, затем и ниже расположен-
ными широтами земли. В течение чрезвычайно долго длившегося третич-
ного периода, который в иастоящее время подразделяется на четыре или
пять эпох — эоцен, олигоцен, миоцен и плиоцен, к которым вначале еще
прибавляют переходное время от мезозоя — палеоцен, вновь наблюдается
пробуждение усиленной тектонической деятельности, изменяются очерта-
ния материков и морей, растут новые ряды гор, перерезающих Европу
и Азию цепями величайших горных массивов.
СМЕНА ЛАНДШАФТОВ В ТРЕТИЧНОМ ПЕРИОДЕ И
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ
Возвращаясь к вопросу о появлении ледникового покрова в умерен-
ных областях Евразии, следует сказать, что оледенение, развившееся
в четвертичную эпоху, представляет совершенно другую картину, чем
более ранние оледенения, следы которых известны в древнейших геоло-
гических отложениях.
В течение долгого времени охлаждение земли идет, видимо, более
или менее равномерно, во всяком случае не отражаясь явственным образом
на ухудшении климатических условий. Однако в начале третичного пе-
риода оно уже начинает становиться значительно более заметным.
Прежде всего уже непонятно быстрое исчезновение гигантских репти- Перелом в
лий к концу мезозоя, в меловую эпоху, можно рассматривать, видимо, истории
как одно из следствий охлаждения земли. Прежний теплый и однообраз- органической,
ный климатический режим земного шара, не знающий резких колебаний
температуры, сменяется в эту эпоху иными условиями. Вероятно, в этом
смысле сыграл известную роль и процесс интенсивного горообразования,
совпавший с концом мезозойского периода, поскольку он должен был
влиять в сторону ухудшения климатических условий, будучи связан с зна-
чительными температурными колебаниями и сухостью климата матери-
ков. С другой стороны, резкое усиление тектонической деятельности,
следовавшее за длительным периодом покоя, сопровождалось большими,
не раз повторявшимися наступаниями и перемещениями моря, что не
могло не отразиться и на мире растений и животных. Но еще в большей
степени должно было сказываться в этом процессе обновления фауны
и флоры некоторое общее охлаждение, сначала наблюдающееся только
в полярных областях.
Можно думать, что уже к началу третичного периода оно приводит
к тому, что солнечная энергия становится определяющим фактором кли?
мата земного шара. Тогда смена дня и ночи, летних и зимних сезонов
с их различием температур могла революционизирующим образом влиять.
1 Е. В. Вульф, Историческая география растений, 1936, стр. 100.
Ji-2
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
на развитие жизни на земле. Весьма показательно, что именно в ото время
теплокровные животные — млекопитающие и птицы, — в гораздо мень-
шей степени зависевшие от внешних условий, чем низшие; холоднокров-
ные позвоночные, начинают брать верх над освобождающими им место
в природе гигантскими пресмыкающимися. 1
У о цен В палеоцене (раннем эоцене) и собственно эоцене средняя и
южная Европа обнаруживает еще признаки тропического климата.
В это время суша северного полушария то соединяется в один огром-
ный материк с перерывами на месте несуществующих ныне морей, то
вновь происходит разобщение Америки и Евразии, и последняя расчле-
няется на огромные причудливо очерченные острова, изрезанные про-
ливами и лагунами. Однако, как говорит Лаппаран, несмотря на все эти
перемещения моря, основные массивы суши в эту эпоху все более и более
приобретают свои современные черты.
В Европе, где процесс горообразования еще не достиг значительного
развития, господствовали тогда равнины из меловых и песчаных отло-
жений, обнажившиеся после отступания моря. В реках, многочислен-
ных пресноводных озерах и лагунах водились крокодилы, большие бо-
лотные ящерицы и черепахи, на суше — древнейшие, позже вымершие,
странные млекопитающие. Леса состояли из разнообразных пальм, дре-
вовидных папоротников, лавров, фикусов, эвкалиптов, тюльпанных де-
ревьев, причем уже в это время к ним в Европе примешивались породы
с опадающей листвой — первые буки, тополи, дубы, ясень, береза и пр.
На севере же, в Гренландии, Исландии и на Шпицбергене, росли леса,
поражающие богатством и разнообразием видов растительности, отве-
чающие климатическим условиям современной южной Европы, из разно-
образных пород — секвой, болотных кипарисов, лип, платанов, дубов,
тополей и представителей более теплолюбивых пород, как магнолии,
тюльпанные деревья, лавры, виноград и пр.
Щ.шгоцен Описанные нами условия продолжают сохраняться ив олигоцене
Европы, хотя «в общем по сравнению с эоценом олигоценовый климат
отличался понижением температуры, уменьшением влажности и более
резким обозначением времен года». 2 Судя по многочисленным остат-
кам растительности по южному побережью Балтийского моря, где
окаменевшая смола хвойных деревьев сохранилась в виде янтаря, обыч-
ная древесная растительность здесь состояла из сосен, елей, секвой,
кипарисов, дубов, каштанов, березы, клена, то есть имела характер
умеренно-теплой флоры. Однако находки остатков гвоздичных деревьев
и пальм указывают на то, что средняя годовая температура в этой части
Европы была не менее -(-15°—|-18о, то есть отвечала современной южной
Испании и Италии. В Европе для этого времени устанавливаются следую-
щие .годовые температуры (О. Геер) — в северной Италии 4-22°, Швей-
царии —|—20,5°, Шпицбергене -|- 9° и на земле Гринеля -ф8° Таким обра-
зом, уже в олигоцене в северном полушарии начинают намечаться опре-
деленные климатические зоны. Причем разнообразие климатических усло-
вий усиливалось тектоническими процессами, приведшими к образованию
ряда горных хребтов, рассекавших болотистые низменности, составляв-
шие преобладающий элемент ландшафта Европы.
В это время вся южная часть европейской территории СССР (в извест-
ной мере также Западная Сибирь и Казахстан) покрывается наступающим
1 Ю. А. Жемчужников, Курс палеофаунистики, 1934, стр. 256 и сл.;
2 М. А. Мензбир, Очерк истории фауны европейской части СССР (от начала
третичной эры), 1934, стр. 69.
СМЕНА ЛАНДШАФТОВ В ТРЕТИЧНОМ ПЕРИОДЕ
88
мелководным морем, затем выходя на значительном протяжении из-под
его уровня. Свидетелем этих событий являются мощные толщи песков,
отчасти превратившихся в плотные песчаники, 1 распространенные на
Украине и уходящие в Заволжье. Эти песчаные равнины были покрыты
болотистыми лесами субтропического характера с пальмами нипа и са-
баль, которые ближе всего напоминали ландшафт современных Филип-
пинских островов. 2
В интересующих нас сменах ландшафтов и климатов, подготавли-
вающих наступление четвертичного периода, наиболее характерную осо-
бенность следующего отдела третичного периода приходится видеть в ши-
роком распространении с начала миоцена 3 травянистой растительности
в виде обширных степных и луговых пространств, служивших пастбищами
для новых видов животных — травоядных, сменяющих прежние листо-
ядные формы млекопитающих. 4 Миоцен приходится рассматривать как
последнюю эпоху третичного времени, когда материк Европы сохраняет,
в известной степени, тропические черты. Такой характер ландшафта
проявляется не столько в растительном покрове Европы, который со-
держит приблизительно тот же список древесных пород, что и в олиго-
цене, сколько в населяющем ее мире животных. Последний может со-
перничать по разнообразию форм с наиболее богатой фауной современ-
ных тропиков, что относится, правда, преимущественно к южной и, осо-
бенно, юго-западной части Европы. Различие природных условий для
западной и восточной Евразии становится, однако, явственно заметным
уже в олигоцене. В Сибири ина Дальнем Востоке, даже в самых нижних
третичных слоях, нет ни пальм, ни вечнозеленых тропических и подтро-
пических растений, обнаруженных в Европе, хотя между Тургаем, Том-
ском и Сахалином и до крайнего севера Сибири (Анадырь) простираются
однообразные леса из секвой, таксодий, буков, каштанов, кленов, топо-
лей и т. д. (Криштафович).
Равнины Европы более всего, по общему мнению геологов, напоми-
нали собой к концу миоцена степные пространства Восточной Африки
с их разбросанными рощами и густыми зарослями кустарников. Будучи,
отчасти, населены теми же африканскими животными — жирафами, раз-
нообразными видами антилоп и газелей, страусами и т. д., они давали
приют предкам слонов, носорогов, тапиров, свиней, оленей и первых
настоящих хищников — саблезубых тигров (махайродов), медведей, гиен
и др.
Распространение степей в южной Европе (в средней и северной Европе
преобладала лесная растительность) и вообще в области Средиземья
вызвало в позднюю пору миоцена чрезвычайное развитие травоядных,
на первое место среди которых следует поставить гиппариона, форму,
близкую к лошади. Что, однако, особенно интересно — это первое появле-
Миоцен
1 Плотные кремнистые кварцитоподобные песчаники из третичных отложений юга
европейской т, рритории СССР часто использовались первобытным человеком в эпоху
палеолита и ь оолее позднее время в качестве материала для изготовления орудий.
2 А. Н. Криштафович, Курс палеоботаники, 1933, стр. 276.
3 В трехчленном делении третичных отложений, предложенном Ч. Лайеллем,
миоценовыми (от peiuv тк — менее новый) названы отложения, занимающие
промежуточное положение между эоценовыми и плиоценовыми. По современным
представлениям третичный период делится на два больших отдела — палеоген и нео-
ген. Последний, включающий миоцен и плиоцен, характеризуется приближением
фауны и флоры к ее современному состоянию.
4 Ю. А. Жемчужников, ук. соч., стр. 226, 227; М. А. Мензбир, Очерк истории
фауны европейской части СССР, 1934, стр. 86.
3 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
84 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
пие здесь антропоморфных обезьян, близких к шимпанзе и гиббону (Dryo-
pithecus, Pliopithecus).
Как ни близко стоят многие из указанных нами животных к совре-
менным обитателям тропиков, все же природные условия Европы в эту
эпоху не были тропическими, — даже в наиболее благоприятно располо-
женной южной и юго-западной ее части. Медленно, но достаточно явственно
и повсеместно в Евразии идет ухудшение климата, нашедшее свое выра-
жение в окончательном исчезновении пальм во всей средней и восточной
Европе и в продолжающемся вытеснении лесов из вечнозеленых тепло-
любивых растений древесными породами с опадающей листвой.
Плиоцен Как в миоцене, так и в следующем за ним плиоцене Европа и Азия
испытывают неоднократно чередующиеся эпохи поднятия и опускания
более или менее значительных частей континентов, связанные с продол-
жающимся процессом охлаждения земного шара и образованием горных
цепей. Следствием этого было то отступание, то новые прорывы моря,
к концу миоцена почти освободившего средиземноморский бассейн, чтобы
затем вновь затопить большую часть средиземноморской впадины, за
исключением ее восточной части, занятой эгейской сушей. Такие же
явления происходят и на юге, и на юго-востоке современной восточно-
европейской равнины, где, не исчезая окончательно, море то расширяет
свои пределы, то превращается в отдельные замкнутые, опресняющиеся
бассейны.
Не легко разобраться в сложной картине плиоценовой истории ма-
терика Евразии, исчисляемой не одним миллионом лет — до наступления
четвертичного периода. Природные условия несомненно не оставались
одними и теми же на протяжении этого огромного промежутка времени.
Можно думать, что господствующий растительный ландшафт тогда со-
ставляли леса, спустившиеся из более высоких широт в южные области
Европы.
Такую мысль высказывает Депап в отношении растительности запад-
ной Европы, которая в течение всей третичной эры обнаруживает при-
знаки постепенного передвижения к югу тропических видов, замещав-
шихся наступающими с севера более холодными, выработавшимися
в арктических областях элементами флоры. Этот процесс для поздней-
шего третичного времени хорошо иллюстрируют следующие данные,1 *
составленные для местонахождений средней Европы (ее приатлантиче-
ской части), идущих через весь плиоцен:
Кромер (Англия) . 57о экзотических или угасших видов.
Тегелен (Лимбург) . 40’/о, » » » »
Кэстл-Еден (Англия) . 547с, » » » »
Ревер (Лимбург) 88э/о, » » » »
Пон-де-Гель (Канталь) . 94°/0. » » » »
Раетитель- Естественно поэтому, что в пределах той же области Европы уже
иые зовы в более раннюю пору плиоцена намечаются вполне определенные кли-
матические и растительные зоны. Если средняя годовая температура
на юге Франции, судя по тем же растительным остаткам, в плиоцене
(плезансиене) достигала ф20°, что oti ечает условиям субтропиков, — на се-
вере Франции она спускалась до 15° Поэтому, в то время как в области,
прилегающей к Средиземью, pt ели еще пальмы, здесь же, на склонах
Альп и далее к северу в средней Европе, получают распространение леса
1 G. Depape, Le monde des plantis а Vapparition de Г homme. Flores recentes de France,
des Pays-Bas, d'Angletcrre, «Annales de la Sociite Scientijique de Bruxelles», t. ALVIII,
1928, serie B, prern. jasc., стр. 80.
СМЕНА ЛАНДШАФТОВ В ТРЕТИЧНОМ ПЕРИОДЕ 35
из пород умеренных областей — бука, дуба, клена, тополя, ивы и пр.,
а севернее начинают преобладать хвойные леса.1
Мир животных в плиоцене также постепенно приобретает черты совре-
менной фауны, хотя в нем присутствует еще значительное число видов,
свойственных южным широтам.
В юго-западной Европе, нужно думать, это было время теплого и
влажного климата, когда особенное распространение получают густые
леса, а берега рек изобилуют пастбищами, удобными для огромного
количества различных травоядных. Растительность этого времени, среди
которой удерживается еще много теплолюбивых пород, сохраняющихся
в настоящее время в субтропической области северного полушария, ука-
зывает на мягкий равномерный климат, напоминающий современное
Средиземье.
Климатической особенностью плиоцена Европы является чрезвычайно Ландшафт
большое количество осадков, когда, например, во Франции, по имеющимся восточной
данным, выпадало дождей не меньше (около 130 с.и), чем на юге совре- в цдиоцвше
менного Китая, отличающегося исключительной влажностью климата.
Несмотря на скудость сведений о плиоценовой флоре восточной Ев-
ропы, известно, что она состояла уже почти исключительно из пород
с опадающей листвой, и вечнозеленые виды в отложениях этого времени
на русской равнине перестают встречаться. На Украине сохранившаяся
растительность для этой эпохи представлена древесными породами, отве-
чающими лесам умеренных областей, и остатками болотных растений.
Однако в конце третичного периода на восточноевропейской равнине
на берегах Черного моря, представлявшего в то время опресненный замкну-
тый бассейн, собственно большое озеро, оставшееся на месте обширного
Сарматского моря миоценовой эпохи, еще водились такие животные, как
предок слона — мастодонт, близкий к лошади — гиппарион, древнейшие
виды носорогов, махайроды и. пр., хотя в основном фауна плиоцена на
востоке Европы, как и в Сибири, стоит уже очень близко к современной.2
В более позднее время, на рубеже третичного и четвертичного периодов, Усиление
когда на севере начинает зарождаться ледник, влияние охлаждения похолодания
полярных областей на климат Европы становится еще более заметным.
Уже в процессе обеднения лесной флоры в местонахождениях западной
Европы родами и видами, в исчезновении в ее составе тропических форм
и форм, свойственных восточной Азии и Америке, в приближении ее
к современной флоре Европы приходится видеть прямой результат изме-
нения климатических условий к концу плиоцена в сторону значительного
похолодания. Параллельно с этим идет увеличение количества остатков,
принадлежащих травянистой, луговой, растительности, за счет лесной
растительности.
В отложениях этого времени южной, отчасти и средней Европы —
в Италии, Франции, Англии, Бельгии, юго-западной Германии — на
смену более древней типичной фауне позднего плиоцена, во главе с масто-
донтом и гиппарионом, появляются новые виды животных. Новая фауна,
отчасти, вероятно, представлявшая пришельцев (например гиппопотам),
проникавших в Европу через мосты суши, связывавшие ее с Африкой и
южной Азией, становится широко известной в отложениях конца тре-
тичной и начала четвертичной эпох.
1 Депап, ук. соч., стр. 93; В. Л. Комаров, Происхождение растений, изд. Акад,
наук СССР, 1935, стр. 115 и Сл.
2 М. А. Мензбир, ук. соч.. Стр. 132 и сл.
36
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Появление
валунов
в морских
отложениях
Ее представителями являются: один из древнейших видов слона —
южный слон (Elephas meridionalis), этрусский носорог (Rhinoceros et-
ruscus), большой гиппопотам (Hippopotamus major) и целый ряд других
животных, которые представлены здесь своими древними, позже исчезаю-
щими видами. Это первые, по крайней мере для Европы, настоящие быки,
лошади, олени, кабаны, медведи, крупные хищники из породы кошачьих,
и мн. др.
Однако в распоряжении геологии имеются и прямые, весьма инте-
ресные факты, свидетельствующие об ухудшении климата в плиоцене
Европы. Один из наиболее замечательных фактов подобного рода дает
изучение плиоценовых отложений по северному побережью Черного моря.
Здесь, в разных местах на юге УССР, в толще понтического известняка
(понтический бассейн существовал в эпоху раннего плиоцена на месте
Черного моря, захватывая более или менее широкую полосу прилегающей
суши) были найдены большие валуны гнейса, гранита, кварцита и другие,
происхождение которых из пород, складывающих так называемую По-
дольско-Днепровскую кристаллическую гряду, не может вызвать сомне-
ния. Перенос этих валунов нередко за сотни километров (такие находки
известны, например, в окрестностях Одессы) и отложение их среди или-
стых осадков морского дна не допускает иного объяснения, кроме участия
пловучего льда, уносившего вмерзшие в него обломки скал далеко в
открытое море. 1
Покойный академик А. П. Павлов, говоря об остатках животных, проис-
ходящих из раннеплиоценовых наносов южной Украины, на основании
которых мы можем составить некоторое представление о мире млекопи-
тающих, населявшем берега Понтического моря, с своей стороны ука-
зывает на значительное обеднение животного населения восточной Европы
по сравнению с предшествующим временем. Он считает возможным по-
ставить этот факт в связь с наступлением условий более холодного кли-
мата в начале плиоцена. Это понижение температуры не было особенно
продолжительным и не имело еще характера «эпохи оледенения», но оно
все же может быть рассматриваемо как первая заметная волна похоло-
дания, оставившая свои следы во всей Европе от южных окраин евро-
пейской территории СССР до южной Франции.
Усиливающееся похолодание сказывалось одинаково в появлении
в нижнеплиоценовых отложениях Голландии и северо-западной Германии
моллюсков, свойственных холодным северным морям, в развитии древес-
ной растительности, представленной сосной, елью, березой, ольхой, кле-
ном, грабом и др., в центральной Франции, в значительном увеличении
ледников в Альпах, оставивших после себя мощные слои галечников,
и т. д. За этой волной похолодания должен был следовать длительный
период потепления, сменившийся к концу плиоцена новым наступанием
холода, приносимого как морскими, так и воздушными течениями со
стороны полярной области, очевидно уже в сильной степени охваченной
нарастающим понижением температуры.
Краги На юго-восточном побережье Англии, к северу от устья Темзы, уже
с начала XIX века стала известна серия очень интересных геологических
напластований, подстилающих ледниковый нанос, которые имеют отчасти
характер морских осадков, отложившихся в прибрежных водах, частью
же представляют нанос речной дельты. Последний, очевидно, был оставлен
1 А. П. Павлов, Геологическая история европейских вемель и морей в связи с исто-
рией ископаемого человека, 1936, стр. 153.
КРОМЕРСКИЙ ЛЕСНОЙ СЛОЙ 37
рекой или реками, впадавшими некогда в морской бассейн, находив-
шийся на месте Северного моря, который в эту эпоху еще не имел со-
общения с Атлантическим океаном через Английский канал и Ла-Манш,
так как здесь существовал мост суши, соединявший Англию с материком.
Значительная часть указанных образований, которые носят название
крагов, должна быть отнесена ко времени, непосредственно предшество-
вавшему четвертичной поре, то есть последнему отделу третичного вре-
мени — среднему и верхнему плиоцену.
Действительно, в песчаных отложениях, залегающих в основании бе-
реговых обрывов, которые обычно обозначаются именем «красный краг»,
и в покрывающем его «норвичском краге», нередки находки костей весьма
характерных для плиоцена животных — мастодонта (Mastodon arvernensis)
и гиппопотама. Остатки других животных также свидетельствуют о тре-
тичном возрасте этих наносов. Однако моллюски, происходящие из этих от-
ложений, представлены уже видами, которые имеют определенно выражен-
ный северный характер, причем чем выше горизонт, тем эта черта высту-
пает более резким образом. В частности, красный и норвичский краги
и залегающие поверх их чайльсфордские морские слои содержат много-
численные раковины таких моллюсков, которые обитают в настоящее
время только в полярных морях и не могут развиваться при более высокой
температуре морской воды. 1
Их проникновение к берегам Англии может быть объяснено только
существованием в эту эпоху холодных морских течений, спускавшихся
на юг со стороны полярного моря. Это было первое дыхание ледниковой
эпохи.
Весьма интересно, что зарождавшийся ледник оказывал влияние на Охлаждение
жизнь моря и в гораздо более южных областях. С'редизем-
Холодные морские течения Атлантического океана, очевидно, в резуль- иого мо₽я
тате прорыва вод на месте Гибралтара, в конце третичного периода за-
несли представителей северных морских моллюсков (например Cyprina
Islandica) в Средиземное море, где они известны в отложениях Сицилии
и южной Италии (сицилийский ярус).
Такие факты не могут не служить доказательством того, что в срав-
нительно раннюю пору, видимо даже предшествовавшую началу четвер-
тичной эпохи, ледник уже получил более или менее значительное развитие
на севере Европы.
КРОМЕРСКИЙ ЛЕСНОЙ СЛОЙ
Проходят еще какие-то большие промежутки времени, измеряемые,
вероятно, многими десятками тысяч лет, когда влияние надвигающегося
ледника становится, наконец, заметным и в характере растительности,
покрывающей пространства средней Европы.
Выше чайльсфордских морских отложений в тех же береговых обры- Раститель-
вах юго-восточной Англии залегают глинистые образования, которые ноеть
носят название кромерского лесного слоя (Forest Bed). Они отложились
в дельте большой реки, видимо Рейна, который в эту эпоху впадал в Се-
верное море значительно дальше, чем теперь, —у северных берегов Англин.
Кромерский слой содержит много остатков растительности, среди которой
преобладают хвойные, такие, как пихта, ель, сосна обыкновенная, сосна
горная и другие; за ними идут лиственные породы, которые до сих пор
1 A. de Lapparent, Traite de Geologie, 5-me id., t. Ill, 1906, стр. 1648.
38 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
встречаются в этой местности, — вяз, ольха, дуб, бук, тисс, ива, бе-
реза и пр.
Таким образом, отвечая условиям климата, уже достаточно близко
напоминающим современные условия Англии, эта растительность, в со-
ставе которой совершенно отсутствуют теплолюбивые формы, такие, как
магнолии, виноградная лоза и многие другие, придававшие особый отпе-
чаток растительности той же полосы Европы в позднетретичное время,
свидетельствует с несомненностью о наступающем режиме ледниковой
эпохи. Особенностью кромерского слоя является также чрезвычайное
богатство различных видов травянистой растительности, что, с своей
стороны, говорит об условиях, близких к современной эпохе. Таким был
ландшафт западной Европы в начале четвертичного периода в этих ши-
ротах — Кромер находится около 52° с. ш.; южнее, во Франции, он со-
храняет значительно более мягкий характер.
Несмотря на умеренный, даже скорее прохладный климат, который
рисуется списком растительности кромерского лесного слоя, наземная
фауна, остатки которой были собраны в том же слое, носит еще отпечаток
типичной фауны южного происхождения, унаследованной раннечетвер-
тичной эпохой от третичного времени.
Животный В списке животных из кромерского слоя можно назвать южного слона
ми₽ или слона Вюста (Elephas Wiisti), этрусского носорога (Rhinoceros etrus-
cus), большого гиппопотама (Hippopotamus major), махайрода (Machae-
rodus cultridens), лошадь обыкновенную и Стенона (Equus caballus fos-
silis, Equus Stenonis), крупного плиоценового бобра (Trogontherium Cu-
vieri), вместе с представителями современной лесной фауны Евразии. 1
Лесной слой в обрывах Норфолька в своей верхней части перекры-
вается чередующимися слоями пресноводных и морских отложений, при-
чем самая верхняя толща, состоящая из пресноводных отложений, содер-
жит уже остатки типичной растительности полярной зоны — полярную
иву, низкорослую березу, северные виды мха и пр. Все это венчается
ледниковой глиной, содержащей валуны северных кристаллических
пород. Последние должны были приноситься ледниками из горных областей
Скандинавии, очевидно через неглубокую котловину Северного моря,
которая в значительной части в эту эпоху представляла собой сушу.
Южная фауна в отложениях средней Европы, таким образом, отно-
сится ко времени, когда зарождавшийся северный ледник пользовался
уже довольно значительным распространением и, во всяком случае,
не только оказывал влияние на температуру моря, где холодные течения,
шедшие от берегов Норвегии, уносили далеко на юг отрывавшиеся от
ледника пловучие льды, но сказывался в той или иной степени п на ра-
стительном ландшафте Европы.
В вопросе о времени, к которому должен быть отнесен кромерский
слой (и приблизительно одновременные с ним отложения Франции — сен-
престский ярус), нет единства мнений. Одни из ученых помещают его
в самом конце плиоцена, другие, следуя за Огом, значительно передви-
гают вглубь времени нижнюю границу четвертичного периода. Учитывая
1 Еще Г. де Мортилье указал на то, что находки остатков мускусного овцебыка
и других северных животных, которые иногда связывают с лесным слоем, в действи-
тельности не имеют к нему никакого отношения. Дело объясняется тем' что этот слой
погружен ниже уровня моря (вовремя прилива), и кости животных собираются здесь
после бурь, размывающих береговые обнажения (La Prehistoire, стр. 383). Странно,
что на столь сомнительных данных некоторые авторы (например Осборн) считают
возможным основывать появление полярных видов млекопитающих в самом начале
плейстоцена.
НАЧАЛЬНАЯ ПОРА ПЛЕЙСТОЦЕНА
3»
условность подобных определений, мы все же можем видеть в кромерском
лесном слое начало серии материковых образований, запечатлевающих
характерные черты наступающей ледниковой эпохи.
НАЧАЛЬНАЯ ПОРА ПЛЕЙСТОЦЕНА
У нас нет оснований думать, что развитие оледенения в этих началь-
ных фазах должно было вызвать особенно значительное ухудшение кли-
матических условий на всем пространстве материка Европы. Оно должно
было наступить значительно позже в связи с дальнейшим развитием
ледниковых явлений, изменившим природную обстановку Европы.
Это обстоятельство находится в прямой связи с условиями образования Условия
ледников. Не раз высказывалось мнение, что рост скандинавского лед- образования
ника в начале четвертичной эпохи мог быть вызван сравнительно не- ледников
большим понижением температуры на севере Европы, всего на 4—5°,
при условии обильных осадков, выпадающих в виде снегового покрова.
Снеговые массы, накапливавшиеся в горных областях и не успевшие рас-
таять в течение короткого и относительно холодного лета, являлись
постоянным источником образования ледников, медленно распростра-
нявшихся в соседних пониженных частях материка.
Известно, однако, что современные горные ледники могут спускаться
в местности с довольно высокими годовыми температурами, не оказывая
заметного влияния на климатический режим смежных областей. Рази-
тельные примеры подобного рода дают Огненная Земля и, в особенности,
Новая Зеландия, где ледники достигают зоны, лежащей всего на 100—
200 .и над уровнем моря, и окружены роскошной растительностью с дре-
вовидными папоротниками и пр.
Очевидно, нечто подобное приходится представить и в отношении Ландшафт
раннеледнпкового времени, когда расселявшиеся впереди ледника леса ранней поры
из хвойных и лиственных пород умеренной зоны медленно вытесняли плейстоцена
наследие позднетретичной эпохи — полутропические леса платанов, маг-
нолий, сассафрас, лавра. Вместе с ними двигались к югу такие животные,
как гиппопотам и южный слон, мало приспособленные к условиям на-
ступающей ледниковой эпохи.
Эта фауна во главе с гиппопотамом, южным слоном, этрусским носо-
рогом и рядом других животных, сохранившихся в раннечетвертичное
время от эпохи плиоцена, в начальную пору ледникового периода удер-
живается, как было уже сказано, только в юго-западном углу Европы,
между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Вне этой области,
на севере и северо-востоке Европы, в это время, очевидно, складывают-
ся условия, неблагоприятные для ее распространения. В частности,
на востоке Европы и в Сибири древняя теплая фауна начала четвертич-
ной эпохи почти неизвестна, вероятно, потому, что здесь рано уста-
новился более суровый и континентальный климатический режим, кото-
рый проявляет себя и в настоящее время.
Очевидно, здесь значительно раньше сказалось влияние охлаждения,
шедшего с севера, которое имело своим результатом вытеснение более
теплолюбивых форм растительности и животных третичной эпохи в самую
начальную пору четвертичного времени. Этой же причиной можно объяс-
нить весьма характерное прерывчатое распространение многих животных
и растений, дошедших до нас от третичной эпохи, которые, с одной сто-
роны. известны в Европе, с другой — на дальнем востоке Азии и отсут-
ствуют на территории Сибири.
40
Начало
оледепевяа
Плювиаль-
ный период
ГЛАВА первая:, ледниковый период
Все же нужно сказать, что вопрос о времени начала более или менее
значительного развития оледенения на севере и в горных областях се-
верного полушария остается недостаточно выясненным. Мы не можем
утверждать с полной уверенностью, связывается ли накопление льдов
и продвижение их из полярных областей на юг с последним отделом
в истории земли, четвертичным периодом, или, скорее, относится еще
к позднетретичной поре.
В настоящее время большинство геологов склоняется к мнению, что
первое наступание полярного ледника должно было иметь место еще
в конце третичного периода. В пользу такого предположения, действи-
тельно, как мы видели, говорит резкое похолодание моря, омывавшего-
в конце третичного времени берега западной Европы, и постепенное
вытеснение растительности южного характера из ее более северных обла-
стей, хотя ледниковые наносы, достоверно относящиеся к столь раннему
времени, пока не открыты.
Другие считают, что развитие оледенения полярных областей
представляет характернейшую черту именно четвертичного периода,
с которого и следует вести начало последнего. Пока этот вопрос
представляется еще недостаточно разъясненным. Однако нельзя за-
бывать, что в том или другом решении вопроса кроется значительная
доля условности. Все зависит от того, какой критерий положить в основу
разделения двух периодов, граница между которыми не всеми геоло-
гами проводится одинаково.
РАЗВИТИЕ ЛЕДНИКОВ В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ
Оледенение Европы в четвертичное время представляется следствием
условий, создавшихся в той или иной степени для всего земного шара,
хотя оно и получило наибольшее развитие в северном полушарии. Про-
являясь в накоплении льда у полюсов и в прогрессирующем понижении
температуры на прилегающих частях материков, оно, с другой стороны,
должно было найти известное отражение и вне своих непосредственных
границ, в частности в субтропических и тропических широтах.
Действительно, на очень многих горных цепях в области тропиков
отмечены следы некогда имевшего место значительного распространения
ледников, которое, очевидно, отвечает ледниковой эпохе умеренных обла-
стей земного шара. Например, в экваториальной Африке на Килиманд-
жаро и Кении, так же как в Южной Америке по всей цепи Анд и на Кор-
дильерах, снеговая линия была в то время ниже современной на 0,5—1 км,
и ледники имели несравненно большее развитие, чем в настоящее время.
Прямым отражением тех же условий в тропических странах прихо-
дится считать время, которое здесь обычно называется плювиальным
периодом. В эту эпоху, вследствие исключительно обильных осадков,
реки п озерные бассейны были переполнены водой, и уровень их стоял
на много десятков метров выше современного уровня. Свидетелем этого
времени являются сухие ложа рек и водоемов, затем береговые террасы,
прежние берега водных вместилищ, значительно поднятые над уровнем
современных бассейнов.
М. Буль в своем недавнем обзоре результатов археологических иссле-
дований в Кении (восточная Африка) пишет по этому поводу следующее:
«Известно, что в этой части восточной Африки имеются озера, например
озеро Накуру, в настоящее время находящиеся на пути к быстрому высы-
ханию. Они окружены древними пляжами, расположенными на разной
РАЗВИТИЕ ЛЕДНИКОВ В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ
41
высоте и позволяющими проследить последовательное изменение их
уровня. Это нечто вроде ископаемых дождемеров, аналогичных большим
плейстоценовым озерам Северной Америки... С другой стороны, изучение
напластований в археологических местонахождениях показывает чере-
дование слоев субаэрального происхождения и аллювиальных наносов.
Верхние озерные террасы и аллювиальные слои пещер и убежищ могут
соответствовать периодам наибольшей интенсивности плювиальных явле-
ний и могут быть поставлены в параллель с различными фазами европей-
ского оледенения». 1
Даже такие большие пустыни, как Сахара, в данную эпоху предста-
вляли местности достаточно орошенные, покрытые богатой растительно-
стью и населенные разнообразным миром животных. Однако, насколько
можно судить по характеру растительных и животных остатков, сколько-
нибудь значительного понижения температуры "экваториальные области
в ледниковое время, видимо, не испытывали (ср. табл. III).
В южном полушарии оледенение не захватило обширных районов.
Это становится понятным, если взглянуть на карту этого полушария.
Здесь господствует море, и материки не подходят близко к полярным
областям. Только Южная Америка представляет в этом смысле исклю-
чение, простираясь до 55° ю. ш.; ее оконечность — южная Патагония и
Огненная Земля — является поэтому единственной областью в южных
широтах, которая испытала оледенение материкового типа, весьма сход-
ное с европейским, но имевшее значительно меньший масштаб. Однако
влияние понижения температуры, принесенного ледниковой эпохой, ска-
залось повсюду в горных районах южного полушария, не только в Южной
Америке и Африке, но ина Новой Зеландии и в альпийской области юго-
восточной Австралии, которые были покрыты в это время обширными
ледниками.2
Другую картину дает в этом отношении Северная Америка. Здесь
оледенение, имевшее центром территорию, лежавшую вокруг Гудзонова
залива (северная Канада), получило чрезвычайно широкое развитие и
охватило большую часть материка, спускаясь южнее 40° с. ш., то есть
значительно дальше к югу, чем в Европе. Граница наибольшего распро-
странения великого оледенения здесь местами проходит на широте Малой
Азии, Сицилии, южной Испании. Площадь, занятая им, превосходила
по крайней мере в два, а то и в три раза площадь европейского оледене-
ния и в наибольшем поперечнике имела до 7000 км.
В своем характере оно обнаруживает поразительное сходство с оле-
денением Европы. Центром его на севере явились области выходов кри-
сталлических пород — последние остатки древних горных массивов, —
питавшие и здесь продуктами своего разрушения, в частности валунами
кристаллических пород, морены огромного материкового ледника. В на-
стоящее время область древнего оледенения Северной Америки предста-
вляет типичный скалисто-моренный ландшафт, напоминающий Сканди-
1 М. Boule, La paleontologie humaine en Afrique orientale, <L’ Anthropologies, t. XL,
Л» 1—2, 1930, стр. 206.
2 ГТрегорн установил, что ледники Кении спускались по меньшей мере на 2700 м
ниже современных. То же известно и в отношении Килиманджаро. В Австралии лед-
ники доходили в Австралийских Альпах у Аделаиды до 1000 м от уровня моря, в Тас-
мании до 700 м. В Новой Зеландии следы прежней деятельности глетчеров наблю-
даются до уровня моря (Herz, Die Eiszeiten und Hire Ursachen, 1909, стр. 103). Другие
авторы (ср. Четвертичный период, Б.С.Э.) приводят несколько иные цифры,
что не меняет, однако, основного факта — большого развития ледников в горных
областях южного полушария.
Оледенение
в), южпом
полушарвв
Оледепепи
Северной
Америки
42
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Оледенение
Северной
Азии
Некоторые
цифровые
дпппые
навию или Финляндию. Она окружена широким поясом холмистых морен
с массой мелких и крупных озер. На юге распространение североамери-
канского ледника отмечено линиями валов концевой морены, которые
тянутся поперек всего материка. Сходство природных условий Северной
Америки и Европы особенно подчеркивается близостью, почти тожде-
ством, животного и растительного мира в широтах, отвечающих области
оледенения, что свидетельствует об одинаковых судьбах, переживавшихся
материками северного полушария в ледниковое время.
Действительно, на развернутой карте северного полушария, взятой
в полярной проекции, можно видеть, что североамериканский и евро-
пейский ледники в ледниковое время должны были представлять, в сущ-
ности, одну огромную область оледенения, центр которой находился
приблизительно в современной Гренландии. И в настоящее время эта
страна в гораздо большей степени, чем иные полярные области северного
полушария, сохранила свой ледяной щит (рис. 6).
Как можно видеть на той же карте развития ледниковых явлений,
в северном полушарии материковое оледенение окаймляет, таким обра-
зом, северную часть Атлантического океана и прилегающие области,
омываемые полярным морем. Наоборот, побережья Тихого океана в тех
же широтах подверглись оледенению в несравненно меньшей степени.
Северная Азия даже в своей полярной части не имеет признаков сплош-
ного оледенения. Следы местных оледенений известны в районе Таймыр-
ского полуострова, в Якутской области и на горных хребтах восточной
Сибири. Большим распространением здесь видимо пользовались, как и
на Аляске, покровные льды, имевшие характер «мертвых» пластов льда,
в противоположность ледникам находившиеся в состоянии покоя. Их
остатки до сих пор сохраняются на севере Сибири.
В настоящее время оледенению Сибири придают большее значение,
чем это принималось раньше, когда существование его многими почти
вовсе отрицалось. Однако масштабы распространения ледников в Азии
ие могут итти ни в какое сравнение с тем, что мы знаем о Европе и Се-
верной Америке.
Очевидно, причину этого явления приходится искать не в отсутствии
понижения температуры, которая на севере и востоке Сибири настолько
понижена, что там могло бы существовать оледенение и в настоящее время,
а в том обстоятельстве, что здесь не было подходящих условий для вы-
падения осадков в тех количествах, которые были необходимы для обра-
зования обширного материкового оледенения гренландского типа.
Таким образом, главной действующей силой ледниковой эпохи является
атмосферная влага, которая в области высоких широт и в горных районах
проявляла себя накоплением снега и льда, в других же местах земного
шара сказывалась при соответствующих условиях в значительном уве-
личении количества циркулирующих вод и чрезвычайном усилении про-
цессов размыва поверхности суши и накопления аллювиальных наносов.
Для образования ледников увеличение количества осадков должно
было, естественно, сочетаться с известным понижением температуры
в северных областях нашего полушария. Развитие оледенения должно
было, в свою очередь, с течением времени оказать сильное и многообраз-
ное воздействие на природный режим всего северного полушария, в осо-
бенности его средних широт.
Распространение ледникового покрова, который только в север-
ном полушарии во время своего максимального развития должен
был занимать колоссальную площадь в 20—25 миллионов кв. км,
ПРИЧИНЫ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
48
является, конечно, фактом исключительного значения для четвертичной
эпохи.
Вот некоторые цифры, которые приводит современный французский
геолог Ж. Дю6уа. В период наибольшего развития плейстоценового оле-
денения ледники должны были покрывать в обоих полушариях более
41 миллиона кв. км (что соответствует приблизительно 70 миллионам
куб. км льда) и более 36 миллионов кв. км в эпоху последнего оледенения
(около 58 миллионов куб. км), тогда как в настоящее время они занимают,
в круглых цифрах, 15 миллионов кв. км (около 19 миллионов куб. км).
Это составляет в процентах 8, 7 и 3 всей поверхности земли. Таким обра-
зом, если принять одинаковость прочих условии, в случае растаивания
современных ледников, уровень океана должен был бы подняться на
38—58 м, и, наоборот, в эпоху максимального оледенения он должен
был быть ниже современного уровня на 131 м и на 90—100 м в эпоху
последнего (вюрмского) оледенения.
ПРИЧИНЫ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
Что же было причиной, вызвавшей такое развитие ледников? В на-
стоящее время имеется много объяснений причин ледниковой эпохи,
однако ни одно из них не является настолько убедительным, чтобы не
вызывать ряда более или менее серьезных возражений. Первое затруд-
нение, возникающее при выяснении этого загадочного явления, встает
в связи с вопросом, следует ли считать его явлением, периодически повто-
рявшимся в течение четвертичного времени, которое’, таким образом, мо-
жет быть, предстоит пережить нашей планете в какое-то относительно
близкое время, пли же его следует рассматривать как следствие таких
условий, которые один раз, но на очень долгое время, сложились на нашей
планете в эпоху плейстоцена.
Если принять очень распространенный среди геологов взгляд о су-
ществовании в четвертичное время повторных оледенений, которые не
раз охватывали материки северного полушария в продолжение ледни-
кового периода, сменяясь периодами затухания ледниковых явлений, то,
очевидно, придется признать, что причины оледенений также имели
повторяющийся, периодический характер. В этом случае обычно их
усматривают в условиях космического порядка, главным образом в умень-
шении доставляемой земле солнечной энергии. Последнее могло быть
вызвано непосредственным уменьшением количества тепла, посылаемого
солнцем, причем это явление можно было бы пытаться связать с пе-
риодическим— то усилением, то ослаблением радиации солнца.
Другие видят причину оледенения в космических завесах, поглощав-
ших лучистую энергию солнца при прохождении солнечной системы через
космическую туманность, или в изменении положения самой земли в ее
отношении к солнцу, например в ее периодическом удалении от него
и т. п. Аррениус полагал, что периодические колебания температур
на земной поверхности должны были зависеть от деятельности вулканов,
выделявших углекислоту, которая, будучи мало теплопрозрачной, предо-
храняла землю от потери тепла через лучеиспускание в мировое про-
странство. Однако, помимо того, что ни одно из указанных обстоятельств
не имеет достоверного характера, их общим недостатком является то, что
они пытаются найти причины повторения ледниковых эпох в понижении
температуры, которое само по себе не может объяснить накопления огром-
ных масс льда, концентрировавшихся на определенных участках суши.
Гипотеза о
периодично-
сти оледене-
ний
44
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
В более поздних работах, главным образом зарубежных ученых,
пытающихся найти причины периодичности оледенений, не имеется пока
ничего, что выходило бы из круга тех же мало убедительных и противо-
речивых представлений. В среде некоторых геологов значительным влия-
нием сейчас пользуются взгляды Миланковича, 1 2 строящего на периоди-
ческом изменении взаимного положения солнца и земли многотысяче-
летнюю кривую уменьшения и увеличения доставляемого солнцем тепла.
С другой стороны, имеются попытки связать эпохи оледенения с фазами
орогении (Рамзай) — значительного поднятия суши и процессов горо-
образования — как следствия изменения той же солнечной радиации.
Некоторые, следуя за Кеппеном и Вегенером в объяснении изменения
климатов земли в прошлом перемещением материков и, тем самым,
изменением положения полюсов в отношении суши, вообще отрицают
существование ледникового периода. Эти авторы полагают, что никаких
особых ледниковых эпох в истории земли не было и более холодный
климат около полюсов земной коры существовал всегда. Такие взгляды
находят поддержку во взглядах Симсонл о значении изменения солнеч-
ной радиации в том смысле, что увеличение этой радиации вызывало не
уменьшение, как это принято думать, но развитие ледниковых явлений.
Воейков Уже известный русский метеоролог А. И. Воейков обратил внимание
на то обстоятельство, что значительное общее понижение температуры,
настолько значительное, что оно могло вызвать замерзание северной
части Атлантического океана, должно было бы весьма неблагоприятно
отразиться на испарении влаги и. следовательно, на ее выпадении в виде
снега в области питания ледников северного полушария. Это можно
видеть, например, на северных окраинах Сибири, где выпадение осад-
ков, несмотря на близость Ледовитого океана, в общем ничтожно и, во
всяком случае, совершенно недостаточно для развития сколько-нибудь
значительных ледниковых покровов.
Броунов Поэтому гипотеза, предложенная П. И. Броуновым и объясняющая
возможность развития оледенений перемещением так называемого затро-
пического барометрического максимума в связи с ускорением вращения
земли и создаваемым этим иным распределением температур и усилением
снегопадов в умеренных широтах обоих полушарий, представляется во мно-
гих отношениях более правдоподобной, чем перечисленные выше гипотезы. -
Лаппараи Само понижение температуры, как правильно указывают Лаппаран
и ряд других авторитетных геологов, вообще не является фактором,
обусловливающим развитие ледниковых явлений. В той же Сибири по-
люс холода, наиболее низких годовых температур, приходится на Якут-
скую область, в частности на район Верхоянска, 3 где, однако, явлений
оледенения не замечается. Сходный пример представляет и Аляска.
1 Против взглядов Миланковича, помимо приведенных общих соображений, го-
ворит значительное число предполагаемых нм оледенений (11) и непродолжительность
этих оледенений (5000—11000 лет), —совершенно не в соответствии с наблюдаемыми
фактами.
2 П. И. Броунов, О происхождении ледниковых эпох на земле, «Природа», А? 7—12,
1924, стр. 42. Нужно сказать, что интересная идея Броунова является, в сущности,
лишь развитием мыслей Воейкова, Гармера и Гейница, для которых он сумел найти
обоснование не в отношении одного северного, но для обоих полушарий.
3 Средняя годовая температура Верхоянска —17\ на 20° ниже, чем в Ленин-
граде: зимой морозы доходят до —68э. В то же время в южной Гренландии на той
же шпроте, при более умеренном климате, наблюдается обширное оледенение ма-
терикового типа. В западной Патагонии и на южном острове Новой Зеландии лед-
ники развиты там, где средняя годовая температура равна 4-10°, что объясняется
большими зимними снегопадами й умеренной температурой лета.
ПРИЧИНЫ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
45
Очевидно, только значительная влажность в связи с понижением темпе-
ратуры, имевшая следствием выпадение значительных количеств осадков
в виде снега, могла, как сказано было выше, явиться непосредственной
причиной оледенения, охватившего землю во время ледниковой эпохи.
Ряд крупных географов и геологов указывает, что для этого было доста-
точно понижения температуры всего на 3—5°, которое падало бы на лет-
нее время, тогда как зимние стужи могли в эту эпоху вовсе не иметь
характера особенно резких падений температуры. 1
Другая группа гипотез выдвигает более частные причины развития
этого рода явлений.
Они сводятся к таким предположениям, как возможность в прошлом
отклонения теплого течения Гольфстрема, которое в настоящее время
оказывает очень сильное влияние на климатические условия Евразии,
поддерживая относительно повышенную температуру в омываемых им
приполярных областях Атлантики. Другие исследователи, как Де-Геер,
придают большое значение поднятию суши в северных областях Европы
и Америки, которое должно было превратить их в гигантские ледниковые
цирки. Подобные предположения представляются по существу дела
более вероятными, и указываемые факты в той или иной мере, несомненно,
имели место в течение ледниковой эпохи. Однако они сводят ледниковую
эпоху к явлениям, связанным с северным полушарием, тогда как оче-
видно, что она в той или иной степени проявляла себя на всей поверх-
ности земного шара.
Таким образом, удовлетворительного объяснения причин великого
оледенения материков северного полушария до сих пор не найдено, тем
более, что до сих пор все же не разрешен окончательно вопрос о числе
и характере плейстоценовых оледенений.
Некоторая часть геологов с известным основанием утверждает, что
ледниковый период представляет собой один длительный процесс, правда,
сопровождающийся то ростом, то замиранием ледниковых явлений.
Нужно принять во внимание, что наблюдения над современными лед-
никами материкового типа показывают, какое большое значение должны
были иметь и в прошлом для развития оледенения распределение теплых
и холодных морских течений, режим влажных, дающих осадки ветров
циклонического характера и пр. Начавшееся оледенение само должно
было регулирующе влиять в отношении умеренности зимних температур
и, наоборот, понижения средних температур лета, что, очевидно, созда-
вало благоприятную обстановку для дальнейшего накопления снега и льда.
Существует весьма правдоподобное предположение, что в развитии
большого материкового оледенения могла иметь место известная циклич-
ность, зависящая от ряда причин, в которых важнейшую роль должно
было играть так сказать «самоуничтожение» ледника. Последний на опре-
деленном этапе неизбежно должен был обусловливать наступление анти-
циклонической погоды, быстро приводившей к уменьшению осадков,
1 Этой же точки зрения придерживается и М. А. Мензбир (ук. соч., стр. 141}:
«Метеорологи отнюдь не видят надобности приписывать ледниковому периоду
холодный арктический климат. Я пришел к этому заключению на основании
изучения фауны ледникового периода». По Гейму, «уже фактом своего существо-
вания ледник создает условия для своего продолжения (fiir sein Fortbestehen)».
По Marchl, похолодание в ледниковое время является скорее следствием, чем при’
чиной наступания ледников». Герц утверждает, что небольшое понижение темпе-
ратуры могло, если оно приходилось на летние месяцы, вести к накоплению льда,
которое являлось само зародышем дальнейшего нарастания глетчеров (Norbert
Herz, Die Eiszeiten und ihre Vrsachen, Leipzig und Wien. 1909, стр. 139).
Частные
причины
развития
оледенения
4G
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
сухости и континентальности климата, а следовательно, и к отступанию
ледникового покрова, пока ранее действовавшие силы не начинали вновь
оказывать влияния на его повторное наступание. 1 Нам кажется, во всяком
случае, очевидным, что великое оледенение, вызванное определенными,
в первую очередь климатическими условиями, по существу представляет
один из этапов в общем процессе прогрессирующего охлаждения земли.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
Рассматривая разнообразные явления, которые имели место в ледни-
ковую эпоху, обычно устанавливают их последовательность в связи
с геологической историей материков в течение древнечетвертичного вре-
мени.
Как и для более ранних геологических периодов, эта хронология
по необходимости является относительной, а не абсолютной, что вполне
понятно, поскольку чрезвычайно трудно найти такого рода опорные
вехи, которые позволили бы перевести на язык цифр, хотя бы и тысяче-
летий, длительность жизни ледников, отступания и наступания моря,
работы рек и т. д.
В такой же мере это затруднительно и в отношении тех изменений,
которые испытали животный мир и растительный мир ледникового времени.
Очевидно, более или менее то же приходится сказать и о древнейшей
истории человеческих обществ, которая сама по себе при настоящем
состоянии наших знаний не имеет сколько-нибудь точных и абсолютных
критериев протяженности во времени.
Несмотря на трудность задачи, все же сделан ряд попыток подойти,
хотя бы и очень приблизительно, к хронологическим масштабам истории
великого оледенения Европы и Северной Америки. Далеко не все они
могут считаться удовлетворительными по методу исследования, и выводы
их довольно сильно расходятся.
Лстрономи- Одни из них основываются на явлениях астрономического порядка,
ческие поскольку авторы их в этого рода фактах видят причину ледникового
вычисления периода. В качестве примера укажем па известную теорию Кголля, осно-
вывавшего свои выкладки на периодическом изменении наклона земной осп
в ее отношении к эклиптике, которая описывает круг в течение десяти
с половиной тысяч лет. Связанное с ним периодическое удлинение зимнего
времени и сокращение лета должно было, по мнению Кролля, способ-
ствовать развитию ледников. Подобный ж'е цикл явлений Кролль и другие
авторы видят в изменении формы земной орбиты, ее эксцентриситете,
благодаря чему земля 200 тысяч лет назад была удалена от солнца в про-
должение лета на северном полушарии гораздо больше, чем в настоя-
щее время, что могло быть причиной развития обширного оледенения.
Аналогичные вычисления разработал в недавнее время Милднкович. Мы
видели, однако, что гипотезы астрономического порядка не дают удовле-
творительного объяснения ледниковой эпохи.
f Хронологические исчисления, подобные приведенным нами, имеют уже
ту слабую сторону, что они рассматривают оледенение северного и южного
полушарий как явления, разделенные огромными промежутками вре.
1 Подобные взгляды на условия возникновения и исчезновения ледников очень
близки к выше отмеченным представлениям крупных метеорологов и географов о при-
чинах ледниковой эпохи.
Геологиче-
ские мас-
штабы четнер-
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА 47
мени, для чего у нас нет решительно никаких оснований, тем более, что
и в настоящую эпоху накопление льдов наблюдается совершенно оди-
наково в полярных областях обоих полушарий.
Другие исследователи пользуются для хронологических определений
различного рода наблюдениями над ходом геологических процессов.
Подобные попытки относятся еще к 50—60-м годам прошлого столетия
и не раз повторялись в последующее время. Так, пробовали вычислить
время, потребовавшееся на разработку ложа рек в областях, раньше
занятых ледником, вычислялся рост озерных и речных наносов и т. п.
Считать, однако, их удовлетворительными по методу наблюдения мы не
можем, и результаты этих выкладок дают достаточно пеструю картину.
Во всяком случае, большинство ученых, занимавшихся этими вопро-
сами, расценивает длительность современной эпохи не менее, чем в 10—
15 тысяч лет. При соблюдении того же масштаба время, которое должно
было протечь от начала четвертичной эпохи, принимается обычно от
200 тысяч до миллиона лет. В цифрах этого порядка приходится исчислять
время появления человека где-то на грани третичной и четвертичной
эпохи.
Если определение времени, падающего на древнечетвертичную и со-
временную эпохи, у всех авторов, не исходивших из астрономических
выкладок, носит вполне предположительный характер, небезынтересно
все же привести некоторые из этих цифр 1 (см. табл, на сл. стр.).
Особняком среди других работ по точности и остроумию применяв- Де-Геер
мого метода стоят исследования известного шведского ученого Де-Геера
над скоростью отступания ледника в пределах его последней, скандинав-
ской, фазы. Изучая слои, оставленные в раннее, после-иольдиевое время
Балтийского бассейна, он обратил внимание на то, что тающий ледник
отлагал на дне водоема тонкие слои ила, различающиеся по своему со-
ставу в зависимости от зимнего и летнего сезонов. Благодаря широкому
распространению этих образований, «ленточных глин», получилась
возможность наблюдать годичный прирост водных осадков.
Прослеживая их шаг за шагом по мере отступания ледника, Де-Геер
установил, что на продвижение ледника из южной Швеции к северным
ее окраинам потребовалось около 5000 лет. Это движение по годам было
неравномерным, но, в общем, к концу отступание ледника шло все уско-
ряющимся темпом. Общую длительность современной эпохи от конца
ледникового времени Де-Геер исчисляет в 10—12 тысяч лет, причем эту
цифру приходится признать минимальной (табл. I, стр. 22—23, вкладка).
Во сколько же раз нужно увеличить это количество лет, чтобы исчис-
лить время весьма продолжительного, совершавшегося крайне медленно
процесса — сначала продвижения ледника до пределов современной
Украины и Донской области, а затем его отступания? Надо при этом иметь
в виду, что развитие ледниковых явлений, как показывают многочислен-
ные наблюдения, должно было сопровождаться неоднократными перио-
дами отхода и повторного наступания.
Интересно привести некоторые цифры, иллюстрирующие отношение Хронология
во времени современной, древнечетвертичной или ледниковой эпохи и геологиче-
третичного периода, которые вместе составляют кайнозойскую эру (век скихявлевии
млекопитающих с их последним звеном — человеком), к более ранним
периодам истории земли. Эти циф)ры имеют, конечно, лишь приблизи-
1 И. Boule, Les hommes jossiles, изд. 2, 1923, стр. 30 и 60; Н. Obermaier, Dilu~
pialchronologie, «Reallexikon der Vorgeschichle» von M. Ebert, Bd. II, 1925, стр. 406;
Г. Осборн, Человек древнего каменного века, рус. пер., 1924, стр. 39 и др.
48
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
АВТОРЫ Четвертин- I ный период в целом (или ледниковое время) Современная эпоха
1863 — ч. лайелль 800000 лет
1874 —д. дэна 720 000 » —
1893—у. эпгем. 100000 » —
1900—г. мортилье 240000 » 18000 лет
1900 — у. соллас 400000 > 17 000 >
1914 — пильгр нм 1290000 » — >
1914 — дж. Генки 620000 » — »
1914 — г. осборп 500 ОСО » 25 000 »
1921 — А. ИЕН к 500000 />
1000000 » 20000
1923 — м. Буль 125 000 » 8—15 000
1925 — г. ОБЕРМАЙЕР 600000 » 14—15 000
1927 — И. БАЙЕР 200 000 /> 10000
тельное значение, поскольку они определяют длительность геологических
эпох на основании отвечающей им толщи наносов, накопление которых,
конечно, не могло происходить равномерно.
Наблюдения над скоростью накопления осадков, выносимых реками
в море, позволило геологам (Соллас) в качестве приблизительной средней
принять как срок, необходимый для отложения 1 м породы, около 1000 лет.
Это определение является, несомненно, очень условным.
Однако открытие радиоактивности позволяет, видимо, подойти с бо-
лее точными методами к определению времени минеральных образова-
ний и, следовательно, к возрасту содержащих их геологических отложе-
ний. Видимо, можно считать наиболее точно установленными этим
методом дату эоцена, колеблющуюся между 30 и 70 миллионами лет, и
особенно дату девона, для которого имеется наибольшее количество
точных определений минералов, —около 320—400 миллионов лет. На-
чало образования земной коры по тем же определениям относится к пе-
риоду времени около 1—2 миллиардов лет (см. табл, на стр. 49).
Несравненно меньшие цифры, чем это обычно принимается геологами,
дает М. Буль как в отношении мощности осадочных образований,
так и для длительности геологических эпох вообще,—начиная с архе-
озоя. По его представлению, отношение эпох современной, древне-
четвертичной и третичной должно быть выражено в пропорции 1 : 10 : 200.
Отсюда его оценка длительности их в 10—12 тысяч лет, 125 тысяч лет и
2 500000 лет.
Близких взглядов держится и Байер, 1 принимая для аллювия, ди-
лювия и третичного времени пропорцию 1 : 20 300 (соответственно —
10 тысяч лет, 200 тысяч лет и 3 000000 лет), против обычно,принятого
геологами отношения 1 60 600.
ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕДНИКОВ
Известное представление о великом европейском леднике в смысле
условий его образования можно составить на основании наблюдений
1 J. Bayer, Der Mensch im Eiszeitalter, Leipzig. 1927, стр. 201.
49
ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕДНИКОВ
ХРОНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭПОХ (ПО ФЕРСМАНУ)
| Геологические эпохи Мощность осадочных отложений Начало данного периода
Современная — 25 тыс. лет
Древнечетвертичпая 1 200 м 800 » »
Третичная 19 000 » 30—<0 млн. лет
Меловая 13 000 »
Юрская 2 500 »
'1 риасовая 5000 »
Пермская ... 3 500 »
Каменноугольная 8 500 » 300
Девонская 6 500 » 320—400
Кембро-силурийская 17 500 » 900
Докембрийская свыше
24 500 »
Всего около 100 000 м
1 Ыразование земной коры 1 500—2 000 »
Образование солнечной системы 3 000 »
над современными глетчерами горных областей, встречающимися на всех
более значительных хребтах Европы и Азии.
Повсюду в этом отношении можно наблюдать более или менее оди-
наковую картину. Выпадающие снега, накапливаясь в обширных горных
котловинах, так называемых ледниковых цирках, в результате сильного
давления вышележащих пластов и колебания температуры, с течением
времени отвердевают и превращаются в ледяную массу. Образующийся
ледник вследствие пластичности льда начинает медленно двигаться по
склону. Глетчер, питаемый усиленным льдообразованием при достаточ-
ном обилии влаги в воздухе и постоянном выпадении ее в виде снега,
может спускаться очень низко за пределы границы вечньГх снегов —
в область луговой и даже лесной зоны, тогда как в бедных осадками
областях ледники не образуются даже при условиях достаточно низких
температур.
Последнее можно видеть на многих горных массивах, где южные,
более теплые, но богатые осадками склоны дают начало гораздо более
крупным и ниже спускающимся ледникам, чем северные, более холодные
склоны, находящиеся в этом смысле, казалось бы. в лучших условиях.
Общеизвестный пример этого рода представляют Гималаи, где на север-
ных склонах граница вечных снегов лежит на 5300 м выше уровня моря,
тогда как на юге Гималайского хребта она спускается до 4900 м. Ледники
отсутствуют и на холодных, но сухих плоскогориях Тибета, достигающих
высоты в 5000—6000 .и над уровнем моря. Той же причиной, как мы ви-
дели, можно объяснить отсутствие ледников на севере и северо-востоке
Сибири, где чрезвычайно низкие годовые температуры даже в настоящее
время вполне благоприятны для образования обширных ледяных покро-
вов, тем более, что здесь имеется как бы зачаток оледенения в виде явле-
ния вечной мерзлоты.
С другой стороны, Гренландия и Антарктическая область, где осадков
выпадает достаточно, одеты сплошным ледниковым панцырем, площадь
4 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
Значение
атмосфер»
ных осадков
в образова-
нии ледни-
ков
50
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
которого измеряется сотнями тысяч квадратных километров. Таким
образом, мы снова приходим к заключению, что одним из важнейших
условий для развития оледенения является климат достаточно влажный,
не столько чрезмерно холодный, сколько отличающийся большим количе-
ством атмосферных осадков.
Гео.тогаче- Образующийся ледник оказывает мощное воздействие на окружаю-
екое действие щИй горный ландшафт. Он дробит и обтесывает обломки горных пород,
ледника оторванные давлением льда или расколотые благодаря колебанию тем-
пературы. Отдельные скалы, противостоящие движению ледника, округ-
ляются, шлифуются, превращаются в куполовидные возвышения, и,
таким образом, горная, скалистая местность, которая испытала его дей-
ствие, постепенно получает характерную сглаженность, выдающую су-
ществование ледника там, где он уже давно угас.
Минеральный материал, так называемая морена, увлекаемый и перено-
симый движущимся ледником в виде массы грязи, щебня и валунов,
частью оставляется им по пути движения в виде пласта «донной» морены,
частью выносится к его окраине и откладывается в виде скоплений —
«конечной» морены. При долгом стационарном положении ледника по его
краю постепенно образуются целые валы нагроможденного материала
из ила, гальки п валунов. Талые воды перемывают морену и выносят
за ее пределы на далекие пространства песок и глину, откладывая их
на окружающих равнинах.
Мощность Тот же характер имеют и обширные материковые ледники полярных
ледникового областей, которые, в сущности, являются последним пережитком лед-
покрова никовой эпохи. Гренландия, обширная страна, занятая сплошным ледни-
ковым покровом, достигающим, по мнению Нансена, толщины более
1500 м, а по данным экспедиции Вегенера (1935) в центральных частях
до 2700 м, и медленно движущимся из центральных возвышенных частей
страны к своим окраинам, в частности к фиордам Баффинова залива,
близко напоминает то, что некогда представляла собой Европа. Но, без
сомнения, оледенение Европы отличалось гораздо более грандиозным
масштабом.
Мощность древнего оледенения довольно точно установлена в ряде
горных областей Европы по распространению валунов, бороздам и шра-
мам, сглаженности скал и т. д. Пенк для центральных Альп принимает
толщу льдов в 2500.ч, для среднеальпийской области — 2200 ж, Брюкнер
для верхней долины Роны — 1600 м. Гейки для Англии — 1200 .и,
Торроддсон для Исландии — 1000 м. Отсюда ясно, что толща собственно
материковых ледников Европы и Северной Америки должна была изме-
ряться многими тысячами метров.
ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ ЕВРОПЫ
«Предположим, — говорит Овермайер, — что какой-нибудь из глетче-
ров совершенно стаял бы, — из него исчезли бы лед и снег, сбежала бы
вода, но сам он, тем не менее, сохранился бы в виде скелета, состоящего
из соответственным образом расположенных ледниковых отложений.
Прежде всего остались бы на своих местах боковые морены, которые
окаймляли его края и медленно передвигались по направлению к долине.
В последней мы нашли бы конечную морену, расположенную в виде
полукруга, и могли бы в точности воспроизвести очертания подходившего
к ней ледника. Самое дно глетчера было бы покрыто толстым слоем ледни-
ковых обломков, которые осели бы из исчезнувшей водяной массы; кроме
ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ ЕВРОПЫ
51
того, было бы заметно отполированное и исцарапанное ложе его, покрытое
глиной, и в тех местах, где из него выдавались скалистые гребни, нахо-
дились бы характерно обточенные бараньи лбы. Таким образом, благо-
даря этим следам, оставленным прежней деятельностью глетчера, мы
были бы в состоянии восстановить его внешний вид в прежние времена
и могли бы определить толщину его слоя, так как она должна была бы
соответствовать вышине боковых морен. Наконец, петрографический
состав обломочного материала позволил бы во многих случаях опреде-
лить приблизительное протяжение его прежней области питания — его
фирновых полей, — так как эти обломки большей частью возникают
из скал более высоких областей, и в них должны, следовательно, содер-
жаться те же самые каменные породы, как на вершинах. В виду того,
что яи одно иное явление природы не может создать такого комплекса
характерных во всем своем целом отложений, мы были бы в состоянии
сказать с полной уверенностью, что имеем перед собой действительно
скелет древнего глетчера, — никакая ошибка не была бы в данном случае
возможной». 1
Такую картину мы действительно имеем в Европе, в особенности в обла-
сти, расположенной вокруг Балтийского моря.
Ледники, покрывавшие в эпоху особенного развития оледенения всю
северную и значительную часть средней Европы, питались массами
льда, которые накапливались в Скандинавии и в Финляндии, соста-
влявших вместе обширный горный массив Фенноскандии. Меньшие
центры оледенения имели место и в других горных районах более северной
полосы Европы. Так, например, хорошо сохранившийся ледниковый
ландшафт указывает на существование оледенения в горных областях
Шотландии, распространявшегося в ледниковую эпоху почти на всю
территорию Великобритании и Ирландии, хотя последние имели также
свои местные центры развития ледников. В восточной Европе такие
местные оледенения существовали в области Нс вей Земли и Се-
верного Урала. Но в эпоху наибольшего развития ледниковых явлений
все они сливались в один колоссальный ледяной массив.
На восточноевропейскую равнину массы льда двигались главным
образом со стороны Финляндии и Карелии, которые должны были в то
время представлять довольно большие возвышенности, позже почти стер-
тые благодаря продолжительному воздействию ледника. В исчезновении
этих возвышенностей сыграло, видимо, известную роль и значительное
опускание древнего кристаллического щита Фенноскандии, происшед-
шее в ледниковое время.
Весь северо-запад РСФСР, вместе с соседними Финляндией, Эстонией
и вообще с восточной частью Прибалтики, сохраня?т необыкновенно
свежие черты бывшего здесь некогда оледенения. Там, где, как в Фин-
ляндии п Карелии, поверхность страны состоит из твердых горных пород,
ландшафт имеет в этом смысле особенно выразительный характер. Тер-
ритория Финляндии и Карелии обилует полированными и изборожден-
ными скалами, ледниковыми котлами, громадными валунами, оторван-
ными и окатанными ледником, а также в значительной своей части
покрыта наносом из разрушенного материала, образующим морен-
ные всхолмления или заполняющим западины и складки горного ланд-
шафта.
Центры
оледенения
Оледенение
Балтики
1 Н. Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, стр. 25 (рус. пер. Обермайер, Доисто-
рический человек).
52 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
На геологической карте Финляндии можно видеть параллельные
валы, тянущиеся на юге страны от Ганге, то есть юго-западного угла
Финляндии, по направлению к северо-востоку в обход Ладожского озера.
Эти дугообразные валы, которые носят местное название сальпаус-
сельке, обращенные своей выпуклостью в сторону равнины восточной
Европы, представляют собой конечные морены, окаймлявшие ледник
в период его отступания. Продолжение их можно видеть по ту сторону
Балтийского моря, в средней Швеции, которую они пересекают в области
больших озер. Они свидетельствуют о том, что ледник надолго задержи-
вался в южной Скандинавии и в районе Финского залива перед тем,
как отойти к северу.
По всей Финляндии встречается также множество то более коротких,
то более длинных вилообразных, иногда разветвляющихся гребней, так
называемых озов или — в Карелии — сельг, которые, как правило,
бывают расположены в перпендикулярном направлении к окраинам лед-
ника, то есть к валам конечной морены. Одно из наиболее вероятных
объяснений, которое им дается, говорит, что они образовались благодаря
заполнению моренным (флювио-глациальным) материалом подледниковых
тоннелей, прорытых водными потоками. Своим направлением с северо-
запада на юго-восток они указывают путь движения ледника со стороны
Ботнического залива. На тот же путь движения льдов указывают и ледни-
ковые «шрамы», то есть борозды, оставленные ледником на скалах и
камнях.
Сходный ландшафт наблюдается и южнее, вне собственно-кристал-
лической гряды, в частности, например, в пределах Псковского, Новго-
родского и Калининского краев. Сложная система валов и всхол-
млений, образующая здесь так называемую Валдайскую возвышен-
ность, дает возможность различить те же черты строения леднико-
вого ландшафта с конечными моренами и озами. Такие же моренные
всхолмления тянутся к западу, в Эстонии, и к югу, в БССР, Латвии
и Литве. Они окаймляют широким поясом восточное побережье Балтий-
ского моря и связываются с поясом валообразных морен, проходящих
через Польшу и северную Германию в направлении на полуостров Ютлан-
дию. Описывая обширную дугу вокруг Балтийского бассейна, эта линия
морен одним своим концом упирается в оконечность Ютландии, другим
же теряется где-то у южного берега Белого моря.
Морены, лежащие в указанной черте, отмечают границы, до которых
распространялся ледник в последнюю длительную фазу своего существо-
вания. Этому оледенению дают обычно название балтийского, так как
его морены не выходят далеко за пределы Балтийского бассейна. Область
распространения балтийского оледенения на карте прослеживается по
массе мелких озер, образовавшихся из вод растаявшего ледника в склад-
ках моренного ландшафта, в многочисленных углублениях средн его
грив и всхолмлений. Вне конечных морен балтийского оледенения тя-
нется полоса песчаных равнин, так называемых зандровых полей, отло-
женных водами ледника из мелкого материала моренного наноса.
Еще недавно балтийскому оледенению многие приписывали значение
самостоятельного оледенения — последнего большого наступания север-
ного ледника, отвечающего последней ледниковой эпохе. В настоящее
время большинство авторитетных геологов видит в полосе балтийских
морен лишь одну из фаз угасания последнего оледенения, граница кото-
рого во время наибольшего развития проходила значительно дальше
на юге и юго-востоке.
ВЮРМСКОЕ ВРЕМЯ
Имеется основание думать, что область балтийских морен соответ-
ствует все же какой-то довольно длительной фазе оледенения и может
быть рассматриваема как одна из последних вспышек отступающего оле-
денения. За это говорит особенная свежесть моренного ландшафта, окай-
мляющего Балтийский бассейн, отмеченная исследователями одинаково
в южной Скандинавии и вдоль южного и восточного берегов Балтики —
в северной Германии, Польше и у нас в Северо-западном крае, тогда как
вне этой черты моренный ландшафт имеет значительно измененный ха-
рактер.
Некоторыми геологами балтийскому оледенению в последнее время
придается значение самостоятельной ледниковой эпохи — неовюрмской.
Убедительных соображений в пользу такой точки зрения привести было
бы невозможно (она базируется, главным образом, на горизонтах иско-
паемых почв в лёссе), так как время, разделяющее вюрмское оледене-
ние — его предшествующую стадию — от балтийской стадии, вряд ли
могло бы быть все же особенно значительным.
ВЮРМСКОЕ ВРЕМЯ
Область балтийских морен окружена несколькими концентрическими
рядами конечных морен, сохранившихся лишь в виде более или менее
разорванных участков. С ними связаны гряды всхолмленного моренного
ландшафта, которые идут от побережий Северного моря через всю сред-
нюю Германию и Польшу на верхнее течение Днепра. Таких поясов
конечно-моренного ландшафта насчитывается обычно и на западе Европы
и у нас по крайней мере три или четыре. Их сближенность и характер
материала, из которого сложены эти морены, заставляют думать, что
они оставлены тем же оледенением, которое оставило балтийские морены,
но в более ранних стадиях его развития и отступания.
Что касается максимального распространения этого оледенения, оно
может быть прослежено по так называемой донной, а также по уцелевшей
во многих местах конечной морене, замыкающей внутри себя целую
серию концентрически расположенных ледниковых валов и всхолмлений,
идущих в сторону Балтики. По принятому в настоящее время мнению,
границы ее в Германии и Польше проходят по линии так называемой
вислянской конечной морены, пересекающей Вислу близ впадения в нее
р. Буга. Отсюда граница этого оледенения идет к верховьям Днепра и
Волги и далее на Сухону, где ее следы теряются, появляясь вновь уже
у устьев Печоры.
Как можно видеть на карте, помещенной в трудах II Международной
четвертичной конференции, 1 в пределах СССР оледенение, отвечающее
вислянскому оледенению Германии и Польши, оставило свои следы в виде
внешней гряды, окаймляющей мощный пояс моренных всхолмлений,
тянущийся от верхней Волги и Днепра до Балтийского моря. Его можно
было бы назвать Ютландско-Печорским оледенением, так как концы
огромной дуги его конечных морен упираются с одной стороны в Ютлан-
дию, с другой — в низовья Печоры.
За указанной границей широкой полосой идет пояс песчаных про-
странств, представляющих собой мелкий вынос морены. Перерабатывае-
мые водой и ветрами в эпоху отступания ледника, они послужили источ-
Конечные
морены
Максималь-
ное распро-
странение
северного
ледника
1 СГруды 11 межд. конф. АИЧПЕ», вып. 1, 1932, стр. 96, 97.
54
ГЛАВА первая: ледниковый период
Рпс. 3. Ландшафт Валдайской возвышенности в ледниковое время.
ВалеПанвя
ледяного
покрова
Валунный
суглинок
ником для отложения так называемого лёсса, — тонкого суглинка, бога-
того известью, который сопровождает южные окраины этого оледенения
на всем пространстве от Рейна до Днепра и Оки.
Этому большому оледенению дают обычно названые вюрмского, так
как его отожествляют с последним большим оледенением Альп, которое
Пенком названо этим именем. Вюрмское оледенение, длившееся очень
долго, во всяком случае не меньше двух-трех десятков тысяч лет, видимо,
сопровождалось периодами наступания и отступания, чередовавшимися
с периодами, когда ледник находился в стационарном состоянии и когда
формировались пояса конечных морен. Только очень долгим существо-
ванием этого оледенения можно объяснить различную степень сохране-
ния ледникового ландшафта в пределах занятой им области.
Интересно, что и для последнего оледенения Альп Пенк и Брюкнер
устанавливают наличие значительных колебаний и постепенное зату-
хание, сопровождавшееся периодами остановок и даже временного разра-
стания ледников. Это обстоятельство представляет особенное значение,
так как оно дает возможность более детального сопоставления истории
хорошо изученного вюрмского оледенения Альп с отдельными этапами
североевропейского оледенения. В частности, например, балтийская
зона морен, затем конечно-моренные гряды Финляндии и Швеции мно-
гими рассматриваются не без основания как фазы, отвечающие по вре-
мени остановкам в отступании альпийских ледников — так называемым
бюльской, гшницкой и даунской стадиям последнего оледенения Альп.
ЭПОХА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СКАНДИНАВО-
ФИНЛЯНДСКОГО ЛЕДНИКА
Вюрмскому оледенению предшествовало время, когда северный лед-
ник имел еще более значительное распространение. Хотя за пределами
большого пояса вюрмских морен и нет хорошо выраженного моренного
ландшафта, однако пласт ледникового наноса из песков и глин с валунами
местных и северных горных пород прослеживается на обширных простран-
ствах вне этого пояса. Толщина его достигает иногда многих десятков
метров.
Часто ледниковые отложения здесь бывают представлены грубой
красноватой железистой глиной, «валунным суглинком», содержащим
в большем или меньшем количестве разнообразные включения — дресву,
северные валуны, кремневую гальку, обломки местных, подстилающих
ложе ледника пород, перемешанные с ледниковым илом. Неотсортпрован-
ность, беспорядочное смешение всего этого разнообразного материала
ЭПОХА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕДНИКА
65
Рис. 4. Тог же ландшафт в современную эпоху.
указывает на то, что он отложился без участия водных потоков. В этом
заключается один из наиболее характерных признаков ледникового на-
носа в отличие от слоистых осадков, оставленных водой.
Распространение валунной глины и эрратических валунов отмечает Границы
границу наибольшего продвижения ледника. Она идет от Таймырского максималь-
полуострова и низовьев Енисея на Обь, приблизительно к месту впадения И°™рад^я°
в нее Иртыша, затем, пересекая Уральский хребет несколько южнее 60° ледников
с. ш., от верховьев Печоры направляется на Пермь и через среднее
течение р. Вятки — па низовья Ветлуги. Отсюда граница максимального
распространения ледника резко уклоняется на юг п почти по прямой
линии, если брать ее в основном направлении, водоразделом Волги и Дона,
несколько западнее Суры и Медведицы, спускается за 50° с. ш. Затем,
правым берегом Дона, она опять круто поднимается на север к Туле,
чтобы другим выступом спуститься в бассейн Днепра почти до Днепро-
петровска.
Далее к западу она проходит чуть севернее Карпат и через среднюю
Германию направляется к устью Рейна, оставляя в Англии свободным
от льдов лишь крайний юг страны до Темзы (несколько севернее).
Таким образом, площадь, занятая материковым оледенением Евразии
в эпоху его максимального развития, измеряется 4000 км в на-
правлении с запада на восток и около 2500 км с севера на юг, то есть общей
цифрой до 10 миллионов кв. км. К этой цифре должна быть прибавлена
обширная площадь, занятая альпийским оледенением и меньшими лед-
никами других горных хребтов Европы и Азии.
В данной фазе своего распространения ледник, двигавшийся с севера,
главным образом из тех же областей, лежащих вокруг Балтийского моря,
сносил до самых дальних южных окраин материал разрушенных им гор-
ных пород. Наблюдения над характером принесенного ледником мате-
риала позволяют в известной степени восстановить общую картину этого
оледенения.
Пользуясь этим признаком, по петрографическому составу валунов,
рассеянных в ледниковых глинах Германии, Польши и Литвы и евро-
пейской части СССР, можно судить о том, какими путями и из каких райо-
нов оледенения двигался ледник.
Так, по различному составу валунов в массе моренного материала
удается отличить ледниковые потоки, шедшие из южной Швеции, Гот-
ланда, Финляндии, побережий Ладожского озера, не говоря уже об
окраинных центрах оледенения, существовавших на западе Европы,
например в гористой частп Ирландии, северной Англии, Шотландии
и у нас в области Новой Земли и Северного Урала.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
об
Необходимо полагать, что и этот ледник, накопивший огромное ко-
личество моренного материала, должен был всхолмить страну, оста-
вляя в период своего отступания гряды моренных валов и возвышений,
конечные морены, озы и т. д.
К краям ледника они, конечно, могли быть менее выражены, чем.
к северу, где ледниковый покров был гораздо более мощным и содержал,
естественно, больше всякого рода включений. Однако в южной части
русской равнины и на Украине, как правило, характерный ледниковый
ландшафт, в сущности, совершенно отсутствует, и моренные образования
представлены слоем валунного наноса. Обрывки конечных морен известны
здесь лишь в очень немногих местах. 1
Геологнче- Очевидно, такое различие в ландшафте северной и южной зоны
иоетъ макси- м0Ренных образований следует объяснить тем, что ледниковый пе-
мального риод продолжался чрезвычайно долго, и мы имеем здесь дело с
оледенения фазами оледенения, разделенными значительными промежутками вре-
мени. Естественно предположить, что в эпоху образования морен в
области Валдайской возвышенности и Финляндии ландшафт древнего
оледенения по его южным окраинам должен был подвергаться дей-
ствию всякого рода денудационных процессов, сгладивших ледниковый
рельеф страны.
К какому времени плейстоцена относится это огромное развитие се-
верных ледников, сыгравшее исключительно большую роль в разработке-
современного ландшафта всей средней, отчасти и южной Европы, остается
не нполне выясненным. Вернее, в этом смысле имеются два различных,
противоречащих друг другу взгляда. Одни, как М. Буль, видят в рис-
ском оледенении первое проявление деятельности ледников в четвер-
тичный период, помещая более ранние оледенения в третичное время.
Отсюда рисское оледенение с этой точки зрения совпадает с ранней порой
плейстоцена.
Другие, и таких подавляющее большинство, считают, что максималь-
ное оледенение при всей своей длительности может отвечать лишь сред-
ней фазе квартера. Последнее мнение имеет серьезную опору во всех
известных нам фактах.
Сложная система моренных наносов средней Европы в течение долгого
времени давала место самым различным толкованиями вызывала большие
дискуссии в специальной литературе. В частности, оставались совершенно
неясными характер и геологический возраст очень сильно сглаженной
линии конечных морен, прослеживающейся в виде разобщенных участ-
ков моренных валов между границами максимального оледенения и вюрм-
ским поясом конечно-моренных образований. Этот пояс конечной мо-
рены, проходящий у нас вдоль Припяти, через верхнюю Оку и Дмитров-
скую гряду Московского края, в последние годы получил название пояса
Варта-Вычегда.
Сейчас установлено окончательно, что в нем нельзя усматривать
самостоятельной стадии оледенения, так как он отмечает лишь позднюю
фазу отступания рисского ледника в направлении к Балтийскому морю.
ВОПРОС О ДО-РИССКОМ ОЛЕДЕНЕНИИ
Мы уже видели, что первые признаки заметного понижения темпе-
ратуры в Европе восходят к концу третичного периода — к плиоцену.
Находки обломков пород, происходящих из области днепровской крм-
1 С. А. Яковлев, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. I, 1932, стр. 94.
ВОПРОС О ДО-РИССКОМ ОЛЕДЕНЕНИИ 57
сталлической гряды, в понтических известняках в окрестностях Одессы
позволяют думать, что морозные зимы, сковывавшие ледяным покровом
реки и, может быть, даже прибрежные части моря, берут начало уже
с ранней поры плиоцена. Поскольку этот факт получает подтверждение
в других подобных находках, сделанных по северному побережью Чер-
ного моря, правда, в отложениях, относящихся уже к концу плиоцена
(Богачев), их трудно объяснить иначе, чем допущением возможности
заноса обломочного материала пловучими льдами в открытое море.
Это были как бы первые предвестники надвигающейся ледниковой
эпохи. Что в этом нельзя видеть явления случайного порядка — говорят
явственные признаки, хотя, быть может, и временного, похолодания в пли-
оценовых отложениях Голландии, в крагах южной Англии и в морских
террасах сицилийского яруса на побережье Средиземного моря.
Первое значительное понижение температуры, очевидно связанное Гюнцскос
уже с развитием ледников в горных областях и в приполярных широтах оледепеине
северного полушария, часто ставят в связь с гюнцом — первым оледене-
нием Альп по известной схеме Пенка и Брюкнера. Такое заключение
является довольно правдоподобным, хотя как-будто непосредственно и не
доказанным.
В эпоху гюнца, — получившего название от р. Гюнц (притока Дуная),
в верховьях которой хорошо представлены моренные образования, отно-
симые к древнейшему оледенению Альп, — водные потоки, устремляв-
шиеся из-под ледников на соседние равнины, оставили следы своей дея-
тельности в виде широких, но еще неглубоких долин, заполненных
галечниковым и песчаным наносом.
Только еще намечающиеся в гюнцскую пору речные долины в после-
дующее время значительно углубляют свой водоток. В результате раз-
мыва древнее дно этих долин с их галечниковым покровом часто сохра-
няется лишь в виде отдельных участков. Эти древние речные галечники,
расположенные на значительной высоте вдоль современных речных долин,
известны одинаково как в области, прилегающей к Альпам, — по р. Роне
во Франции, и в южной Германии, — так и в северных предгорьях Пире-
нейского хребта и в других местах.
Во всяком случае, из сказанного можно сделать вывод, что уже в плио-
цене, который в приатлантических областях Европы отличался, как
мы говорили, вообще достаточно теплым и чрезвычайно влажным кли-
матом, на материке Европы складываются условия, благоприятные для
прорывов холодных масс воздуха и холодных морских течений далеко
на юг — в качестве предвестников длительного понижения температуры
в четвертичное время.
Более определенно можно говорить о следующем оледенении, следы Миндельеко
которого довольно отчетливо прослеживаются в некоторых областях оледенение
Европы. Правда, вопрос о том, имело ли место в Европе значительное
развитие северного ледника, оставившее свои морены в эпоху, предше-
ствующую его максимальному распространению, до недавнего времени
решался по большей части отрицательно, поскольку исследования, про-
изводившиеся в России, Польше, Скандинавских странах, Германии и
Англии, постоянно приводили к установлению лишь двух горизонтов
морены, соответствующих последнему — вюрмскому и более раннему — рис
скому оледенениям. 1 Отдельные геологи и на западе, и у нас, допускав-
шие вслед за Гейки и Пенком существование большего числа оледенений,
Например, A. Lapparent, Traite de Geologic, m. Ill, 1906, стр. 1668 и сл.
68
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
обычно не имели достаточно твердой опоры в фактах для подтверждения
такой точки зрения.
Однако более детальные наблюдения, особенно к северу от Альп,
внесли новые моменты в эту картину. В результате стратиграфического
и петрографического расчленения моренных отложений Германии уда-
лось доказать, что из-под морены так называемого максимального оле-
денения (рисского пли оледенения заале) местами на довольно зна-
чительном протяжении выдвигается морена, имеющая значительно боль-
шую геологическую древность.
От рисской морены ее отделяет очень большой период времени, о чем
можно судить по размерам происходивших тогда эрозионных процессов:
например, Эльба под Дрезденом в эпоху между эльстером (так назы-
вается в Германии древнейшее оледенение) и заале успела углубить
свою долину на 100 м. 1
Раннее — ольстерское наступание северного ледника, отложения кото-
рого в виде нижнего горизонта морены были первоначально открыты в бу-
ровых скважинах под Гамбургом, позже было установлено для окрестно-
стей Берлина, а в настоящее время, как мы сказали, констатировано и в не-
которых других местностях Германии — вне области распространения
рисского ледника. По общему мнению геологов, оно может быть поставлено
в параллель с миндельским оледенением Пенка.
К миндельскому оледенению относят сейчас и нижнюю морену Англии.
В последнее время следы того же раннего оледенения начинают нахо-
дить и в Польше, хотя вполне достоверно для Польши устанавливаются
лишь два последующих оледенения. Что касается европейской террито-
рии СССР, то здесь вопрос о миндельском оледенении остается еще мало
выясненным.
Значительное большинство наших геологов считает возможным при-
нять его существование, исходя все же из соображений более или менее
косвенного порядка — из наличия древних речных террас (верхняя тер-
раса Днепра), присутствия лёсса под отложениями рисской морены на
Украине и т. д. Однако самой морены миндельского оледенения в ясном
стратиграфическом соотношении с рпсским валунным наносом до сих
пор ни в Польше, ни на территории СССР найти не удается,2 что может,
естественно, вызвать сомнение в сколько-нибудь значительном распро-
странении миндельского оледенения в восточной Европе.
Геологи склонны отнестись с большой осторожностью к некоторым
указаниям на следы миндельского оледенения, будто бы наблюдающиеся
на Жегулях в Среднем Поволжье и прослеживаемые до Нижнего По-
волжья и даже Заволжья (А. П. Павлов) и в нижнем междуречье Дона
п Волги на Ергенях (П. А. Православлев).
ПОВТОРНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИИ
Если представить себе общую картину моренных отложений Европы,
имеющих общий центр в горных районах северной Балтики и охваты-
1 Р. Граман, О границах древнейших оледенений северной Германии, «Труды
II межд. конф. АИЧПЕ», в. II, 1933, стр. 24. Интересно отметить указание
Грамана, что соотношение границ более древних и более поздних оледенений говорит
решительно против столь модной сейчас гипотезы о перемещении полюсов, которое
будто бы имело место и в четвертичное время.
2 По мнению большинства советских геологов, миндельская морена прослежи-
вается все же в Лпхвине, Одинцове и некоторых других пунктах.
ПОВТОРНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИИ 59
вающих эту область широкими, с течением времени суживающимися
дугами, можно было бы думать, что в сущности мы имеем здесь дело
с одним грандиозным четвертичным оледенением, оставившим следы
своего развития и последующего скачкообразного отступания.
Однако такой взгляд слишком упрощал бы действительные факты.
Представление о перенесенном северным полушарием ледниковом пе- Первые
риоде сложилось к середине XIX века в результате весьма успеш- сведения о
ного развития геологии. До этого времени среди геологов пользовалось ••едннкввои
распространением мнение, что послетретичные наносы средней и север- пеРи*»*«
ной Европы, содержащие валуны северных кристаллических пород,
были оставлены великим потопом или наступанием полярного моря.
По объяснению Ч. Лайелля, предложенному им в 30-х годах XIX века,
плавающие льды надвинувшегося с севера моря, подобно айсбергам
Гренландии, должны были разносить обломки горных пород, оторван-
ных полярными ледниками, и рассеивать их по дну моря.
Только в результате наблюдений над современными ледниками Европы,
которые сделали очевидным их широкое развитие в прежнее время, стало
пробивать дорогу представление о гигантских ледниках, некогда суще-
ствовавших на севере Европы и в ее горных областях. Этим достиже-
нием наука в значительной степени обязана работам Венетца (1833),
Шарпантье (1834) и Агассиса (1840). К 50—60-м годам относятся
работы швейцарских геологов Морло и О. Геера, развившие представле-
ния о ледниковой эпохе и ее значении для времени, предшествовавшего
геологической современности.
В известном труде «Геологические доказательства древности человека»,
появившемся в 1863 г., знаменитый Чарльз Лайелль, один из основа-
телей современной геологии, стоит уже целиком на точке зрения совре-
менных представлений о ледниковой эпохе. Позже, к середине 70-х го-
дов, новые взгляды на происхождение наносов, содержащих северные
валуны, получают широкое признание, в частности, и в трудах русских
геологов.
Вместе с тем уже в 1857 г. Морло выступил с указанием, что Альпы Межморен-
пспытали не одно, а по крайней мере два значительных оледенения, сме- ныеотложе-
нявшихся периодами отступания ледниковых массивов. В некоторых ння
местностях он наблюдал, что ледниковые образования явственно раз-
деляются мощными слоями озерно-речных (дельтовых) отложений, в ко-
торых попадаются, например в окрестностях Цюрихского озера в Дюрн-
тене, остатки древней фауны — слона, носорога и пр. и древесной расти-
тельности, представленной породами, свойственными умеренным
широтам Европы, — сосной, елью, березой.
Этот факт в настоящее время не вызывает сомнений. Можно считать
достаточно прочно установленным, что ледниковый покров надвигался
на Европу не раз; отмеченные моренными образованиями различного
характера главные фазы его распространения в северном полушарии,
одинаково в Европе и Северной Америке, являются, таким образом, не
просто историей нарастающего оледенения. Они должны были чередо-
ваться с эпохами значительных и долго длившихся регрессивных дви-
жений.
Многие ученые считают даже, что в эти периоды ледниковый покров
совершенно освобождал занятые им пространства материков пли, по
крайней-мере, откатывался далеко в глубь северных нагорий. Собственно
говоря, прямыми доказательствами периодического исчезновения евро-
пейского ледника для первых фаз его развития (гюнц—миндель) пока
60 ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
наука не располагает, и подобные представления имеют в значительной
мере гипотетический характер. Однако значительные колебания границ
оледенения являются бесспорным фактом, подтверждаемым многочислен-
ными наблюдениями, сделанными в различных областях Европы.
В северной Германии в ряде мест можно различить налегание гори-
зонтов морены, между которыми залегают слои морских и пресноводных
осадков с раковинами моллюсков, остатками растений и наземной фауны.
Сходные отложения, главным образом озерного характера, известны во
многих значительно отдаленных пунктах на территории РСФСР. Отсюда
следует, что самый факт существования межморенных отложений, сви-
детельствующих о более или менее длительных перерывах в накоплении
ледниковых наносов и об отступании ледников, не может вызвать ни-
каких сомнений.
Повтор- Присутствие подобных образований с растительными остатками между
весть оледе- двумя отложениями морен является серьезным аргументом в пользу
нений гипотезы о повторном характере оледенений, имевших место в течение
ледниковой эпохи.
Эта гипотеза получила особенное подкрепление в сравнительно не-
давних исследованиях Пенка и Брюкнера над оледенением Альпийской
области, исследованиях, сыгравших исключительно большую роль в исто-
рии геологического истолкования явлений великого европейского оле-
денения.
В результате многолетних тщательных наблюдений над моренными
отложениями Альп этим ученым удалось установить, что ледники четыре
раза спускались с горных хребтов Альпийской области значительно ниже
границ их современного стояния. В это время льды сплошным плащом
покрывали всю область современных Альп и совершенно заполняли до-
лины Швейцарии, в частности одну из самых больших из известных гор-
ных долин земного шара, в которой расположены Женевское и Невша-
тельское озера, и через нее переносили валуны альпийских пород на
соседний хребет Юры.
В промежутках между периодами наступания ледников снеговая
линия снова возвращалась к вершинам хребтов, иногда выше даже
современных границ. Эти четыре эпохи оледенения обозначены были Пен-
ком в хронологической последовательности именем гюнцской, миндель-
ской, рисской и вюрмской эпох.
Обычно третья эпоха Пенка, рисская, отвечающая наибольшему раз-
витию альпийского оледенения, ставится в параллель с максимальным
оледенением Европы, а последняя, вюрмская, как было сказано, еще
недавно сближалась с балтийским оледенением, хотя, по господствую-
щим в настоящее время взглядам, балтийская область морен представляет
лишь позднюю фазу отступания вюрмского оледенения. За вюрмской
стадией следовали, по мнению Пенкэ, меньшие по размерам, как бы
затухающие наступания альпийского ледника.
Нужно сказать, что следы прежних больших оледенений, которые
в ряде случаев также имели повторный характер, наблюдаются на всех
более или менее значительных хребтах Европы и Азии, хотя нигде не
изучены с такой тщательностью и полнотой, как древнее оледенение
альпийского района.
Число В высшей степени ценные наблюдения, которыми наука обязана
оледенений Пенку, Брюкнеру и их предшественникам в деле изучения Альп, есте-
ственно поставили перед геологами, занимающимися изучением европей-
ского оледенения, вопрос о том, не следует ли видеть в истории оле-
ПОВТОРНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ
61
денения Альп отражение некоторых общих процессов, испытанных
климатом Европы в послетретичное время. По этим представлениям
великий европейский ледник должен был пережить то же, что переживал
ледяной покров Альп, то есть в нем можно было бы различить четыре
эпохи развития ледниковых явлений, чередующиеся с периодами зна-
чительного отступания ледниковых массивов.
В этом важном вопросе среди геологов наблюдается, однако, чрез-
вычайно большой разнобой мнений, что объясняется отчасти и тем обстоя-
тельством, что многое в истории оледенения Альп, на которой основана
схема Пенка, не является еще окончательно разрешенным. 1
Одни из геологов склоняются к тому, чтобы считать за самостоятельные
ледниковые эпохи чуть ли не каждую из цепей конечных морен, наблю-
дающихся в областях, расположенных вокруг Балтийского моря. На
этой точке зрения, например, стоит известный английский геолог Джемс
Гейки, который насчитывает шесть ледниковых эпох. Очень многие гео-
логи, увлеченные результатами работ Пенка и Брюкнера, убеждены в воз-
можности отыскать в моренных наносах материковой Европы следы тех
же четырех или даже пяти оледенений.
Наконец, имеется достаточное число ученых, которые продолжают
считать ледниковую эпоху одним длительным периодом, сопровождав-
шимся большими положительными и отрицательными перемещениями
ледникового покрова.
По этому поводу один из видных специалистов по четвертичной гео-
логии, проф. С. А. Яковлев, говорит следующее: «Надо сказать, что
о количестве ледниковых и межледниковых эпох и о характере и назва-
ниях их мнения различных ученых очень расходятся. Пенк для Альп
доказывает существование 4 ледниковых и 3 межледниковых эпох,
Айгнер и Ротплец признают 3 ледниковых и 2 межледниковых эпохи,
Дрпгальский и Лепсиус считают все ледниковое время в Альпах единым.
Для западной Европы Гики дает 6 ледниковых и 5 межледниковых эпох,
Вюст, Зергель, Иекель стоят за 4 ледниковых и 3 межледниковых эпохи,
Гагель и Линетов признают 3 оледенения, такого же мнения придержи-
ваются Ваншафе, Кейльгак и большинство остальных ученых. Но есть
также и сторонники 2 оледенений с одной межледниковой эпохой (Мен-
цель, Корн). Кроме полиглациалистов, то есть сторонников нескольких
самостоятельных ледниковых п межледниковых эпох, среди европейских
ученых имеется значительная группа моноглациалистов, во главе кото-
рой стоит Гейниц. По мнению моноглациалистов, весь ледниковый период
был временем одного сплошного оледенения, не прерываемого более
теплыми межледниковыми эпохами. Размеры ледников подвергались
лишь частичным увеличениям и сокращениям, в силу чего при сокраще-
нии льдов на отложенных ими ранее моренах отлагались озерные, реч-
ные или морские осадки (по близости моря к краю ледников), в которые
погребались селившиеся на них флора и фауна. Новое увеличение льдов
покрывало эти осадки, в большей части уничтожало их путем выпахи-
вания, но местами они уцелевали и после вторичного сокращения льда
оказывались прикрытыми моренами. Так как сокращения и увеличения
1 «Неточность геоморфологических и макростратиграфических методов в горных
областях еще больше, чем на равнинах. И альпийское расчленение Пенка и Брюк-
нера ни в коем случае не настолько безошибочно, как часто принято это считать.
Например, в последней работе Пенк многие образования, ранее определявшиеся им
как рисс-вюрмские межледниковые, признает теперь за миндель-рисские» (Г Гаме,
'/Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. I, стр. 41).
ТАБЛИЦА HI
Северны Сев. Европа в широты Альпийская область Средиземье Сахара-Лравийскап эона Экваториальная зона Восточной Африки ч Геологические Фазы
После климати- ческого оптимума^ Усыхание. Колебашш климата Усыхание. Колебания климата Слабые колебания Современная
Климатический оптимум i Теплая фаза Теплый? Новыш. уровня моря? «Неолит». Теплая (?) дождливая фаза Накурская дождливая фаза
Начало после- ; ледниковья Поаднеледниковая стадия Датское отсту- пание. ВЮРМ I и II Висла Постепенное усыхание После-мопастир- ское отступание моря. Дождливый климат Условия пустыни. Ископаемые дюны Плювиальная фаза II. Частично-прохладный климат Сухая фаза Камблийская II. Более сухой интервал Камблийская I 1 После-дилювиальнан J (переходная) 1 | Верхний дилювий
Заале-Висла (межледниковье) РиссВюрм (межледниковье) Монастирское наступание моря. Сухой климат. Вулканическая деятельность Межплювиальная. Ископаемые дюны. Вулканическая деятель- ность Межплювиальная. Вулканическая деятель- ность Средний дилювий
Заале РИСС Отступание моря. П редположительно прохладный и дождли- вый климат Плювиальная фаза 1 Камассийская плюви-
Эльстер-Заале (межледниковье) Эльстер Миндель-Рисс (межледниковье) МИ ИДЕЛЬ Тирренское наступание моря. Теплый дождливый климат Отступание моря. Предположительно прохладный и дождли- вый климат (Предположительно теплее в среднюю пору) альная фаза (Теплее в среднюю пору) Нижний дилювий
Доледниковое время Гюнц-Миндсль (межледниковье) гюнц Милаццкая и Си- цилийская фазы. Холодный климат До-плювиальная (постепенное наступление прохладного и дождливого климата) До-плювиальная фаза До-дилювиальная эпоха
СООТНОШЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И КОЛЕБАНИЙ КЛИМАТА ДЛЯ ЕВРОПЫ И ТРОПИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ
('По S. Л. Uuzayiiirt’y - ITJ6)
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
ПОВТОРНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ 68
ледников повторялись не однажды, то таким образом возникали много-
кратные перекрытия слоистых озерных и морских отложений пластами
морен; межморенные слоистые осадки, таким образом, представляют не
отложения самостоятельных межледниковых эпох, а знаменуют лишь
фазы сокращения ледниковых покровов, подстилающие же и покры-
вающие их морены соответствуют не отдельным ледниковым эпохам,
а лишь стадиям увеличения льдов».
Взгляды русских геологов отражают разногласия, имеющие место
на Западе: среди них имеются сторонники различных оценок ледни-
ковой эпохи, хотя большинство придерживается трех-четырех, реже
двух оледенений.
Построения полиглациалистов, следующих в своем изображении кар-
тины европейского оледенения за Пенком или Гейки, имеют по большей
части все же достаточно гипотетический характер, поскольку они коли-
чество оледенений выводят из поясов конечноморенных образований,
из числа речных террас, из горизонтов выщелачивания лёсса и т. п.
Однако, если отбросить этого рода схемы, основанные, как справедливо Доказатель-
отметил И. Байер, на допущениях более или менее произвольного харак- стванеодно-
тера, а не на строго выверенных фактах, в настоящее время все же трудно р^з^тия
было бы возражать .против неоднократного наступания ледника не только ледников
в горных областях, но и на севере Европы.
В подкрепление такой точки зрения можно привести ряд наблюде-
ний. Отметим наиболее существенные:
1. Стратиграфия моренных отложений, налегание одна на другую
отдельных толщ донных морен разного возраста.
2. Петрографический состав моренных наносов, не одинаковый в более
древних и более поздних моренах.
3. Различный характер моренного ландшафта, в частности его зна-
чительная сглаженность в областях, занятых ранним оледенением, по
сравнению с последующим оледенением. ,
4. Многочисленные случаи находок в средней и восточной Европе меж-
моренных отложений с остатками растительных и животных организмов.
5. Наблюдения в более северных районах, где, как например, с одной
стороны, в южной Швеции, с другой — в Карелии, удается различить
на скалах два пересекающихся направления ледниковых шрамов. С ними
связано также различие валунов в верхней и нижней частях морены.
Исходя из таких наблюдений, для области, занятой северным лед-
ником, удается установить три указанные нами выше морены — мин-
дельскую, рисскую и вюрмскую, если пользоваться терминологией Пенка.
Отвечая значительному развитию ледников и их последующему отступа-
нию, каждая из этих эпох, весьма возможно, сопровождалась повторными
колебательными движениями ледникового покрова.
Межморенные отложения, заключенные между слоями ледниковых
наносов, дают возможность составить известное представление о кли-
матических условиях и характере растительного и животного мира в эпохи,
следовавшие за таянием и отходом ледника и предшествовавшие его
новому продвижению на юг.
К вопросу о характере межледниковых эпох нам придется вернуться
в следующей главе, где мы рассмотрим явления, происходившие в чет-
вертичное время в областях, не занятых ледником. Там мы увидим, что
широко распространенные взгляды на ледниковые и межледниковые
эпохи как на чередующиеся циклы развития, с одной стороны, поляр-
ных условий — времени господства тундры и арктических животных,
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
64
с другой — «теплой» фауны и флоры — не находят подтверждения в ма-
териале, которым располагает археолог.
Подразделе- При наличии довольно серьезных разногласий во взглядах на общую
аиеплейсто- перспективу нарастания и отступания северного ледника, в дальнейшем
цена нам придется придерживаться подразделения древнечетвертичной эпохи,
которое не противоречит взглядам значительного большинства геологов
и дает в то же время возможность увязки с историей ледникового периода
других сторон жизни той же эпохи, нас непосредственным образом инте-
ресующих. Оно исходит из оценки максимального оледенения Европы
как кульминационной точки ледникового времени, которая делит лед-
никовую эпоху на две половины.
В раннюю фазу ледникового периода, предшествующую максималь-
ному оледенению, в области Скандинавии, Финляндии, Балтийского
бассейна уже накапливаются массы снега и льда и, видимо, уже происхо-
дят первые значительные передвижения льдов к югу. В более позднюю
пору, следующую за максимальным развитием ледниковых явлений,
ледник сильно сокращается в размерах, хотя ещё"надолго остается в пре-
делах области вюрмского оледенения.
Подразделение ледникового периода на три фазы — раннеледни-
ковую, отвечающую до-миндельскому и миндельскому времени, средне-
ледниковую, совпадающую с максимальным распространением ледни-
ков, — куда мы включаем миндель-рисское, рисское время и начало
рисс-вюрма, — и позднеледниковую, знаменующуюся развитием последнего
большого оледенения, — имеет существенное значение для понимания
разнообразных явлений как жизни природы, так и древнейшей истории
самого человека и его культуры. Трехчленного деления плейстоцена,
хотя обычно несколько в иных рамках, придерживается большинство
французских авторов (Буль, Ог, Дешелетт, Майе и др.). Оно, несомненно,
дает значительные удобства в хронологическом расположении факти-
ческого материала по плейстоценовой истории Европы в увязке с древ-
нейшей историей человеческого общества.
Изображение носорога пещ. Фон-де-Гом, Дордонь, Франции'.
ГЛАВ А
В Т О В А Я
Ч. ЛАЙЕЛЛЬ
ГЕОЛОГИЯ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ПЕРВОБЫТНОЙ
ИСТОРИИ
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА ЗЕМЛИ В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ.
СУША И МОРЕ
Четвертичный период является эпохой, с которой соединено пред-
ставление об окончательном сформировании облика земли. Действительно,
к этому времени складываются современные материки и уходят в свои
берега океаны и моря, их омывающие. Однако окончательное равно-
весие между океаном и сушей не было достигнуто в эту эпоху, как, видимо,
его нет и в настоящее время.
Медленные, едва заметные, так называемые вековые (эпейрогеннче-
ские) поднятия и опускания суши, так же как тектонические про-
цессы, в частности образование гор, вероятно, еще долго будут ме-
нять очертания материков.
В раннюю пору четвертичной эпохи эти явления играли в жизни
земли заметную роль. В конце третичного времени на юге европейской
части СССР, на месте прежнего обширного миоценового Сарматского
моря, являвшегося заливом океана, образуются замкнутые, постепенно
опресняющиеся бассейны. Такой замкнутый бассейн представляло
и Черное море, сообщавшееся «дно время каналом, проходившим на
месте Маныча, с другим обширным бассейном того же происхождения,
занимавшим всю Арало-Каспийскую низменность.
;В начале четвертичного времени между этими бассейнами соединение
еще существовало. Позже оно прерывается, и Черное море приобретает
характер озера с почти опресненной водой. По мнению Н. А. Соколова,
эта озерная стадия Черноморского бассейна соответствует по времени
появлению мамонта и отложению южно-русского лёсса, то есть отно-
сится к середине ледниковой поры — периоду максимального продви-
жения скандинаво-финляндского ледника.
Той же точки зрения придерживается и Н. И. Андрусов, по мнению
которого так называемое Древне-Эвксинское озеро-море, существовавшее
5 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
История
Черномор-
ского бас-
сейна
66
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Рнс. 5. Очертание материка Европы в раннем плейстоцене.
на месте современного Черного моря, может быть датировано эпохой
рисского оледенения.
По прежним представлениям, осолоненис этого бассейна произошло
в конце ледникового времени, когда на месте Дарданелл и Босфора, где
раньше существовала глубокая речная долина, образуется прорыв
и нахлынувшие воды Средиземного моря значительно поднимают уро-
вень этого бассейна. Речные устья и ближайшие части долин рек, впа-
дающих в Черное море, при поднятии уровня вод и наступании моря были
затоплены и образовали современные черноморские лиманы и бухты.
Исследования последних лет показали, однако, что история Черно-
морского бассейна носит значительно более сложный характер, чем это
думали ранее. В частности, установлено, что и в более раннюю пору
четвертичного периода была эпоха (стадия Карангатского моря по А. Д.
Архангельскому), когда
этот бассейн осоло-
няется вследствие при-
тока вод из Средиземья.
Не так легко решается и
вопрос о синхронизации
его отдельных стадий с
эпохами оледенения во-
сточноевропейской рав-
нины.
Однако открытие в тер-
расах, сохранившихся
на большой высоте
над современным уров-
нем (40—100 м) по во-
сточному берегу Чер-
ного моря в районе Су-
хуми, орудий раннего
палеолитического воз-
раста делает для нас осо-
бенно интересным выя-
снение его четвертич-
ной истории, в особен-
ности в увязке с хорошо
ужеразработаннойисто-
риейСредиземногоморя.
Каспий В эпоху, когда Черное море представляло собой озеро с пониженным
уровнем, Арало-Каспийская низменность была занята обширным сое-
диненным бассейном Каспия*и Арала. Воды его стояли значительно выше
(на 100 лт) современного уровня. На севере этот полупресповодный бас-
сейн простирался далеко вглубь степной низины, лежащей между Волгой
и Ником, и почти приходил в соприкосновение с двигавшимся по Волж-
ско-Донскому водоразделу с севера ледником. А.Н. Карпинский, 1 а позд-
нее и Шегрен, 2 высказал довольно вероятное предположение, что повы-
1 А. И. Карпинский, Очерк физико-географических условий Европейской России
в минувшие геологические периоды, Приложение к т. LV «Записок Акад, наук», 1887,
стр. 31.
2 Hj. Sjogren, Veber das diluviale Aralokas р ische Meer und die nordeuropdische Ve-
reisung, «Jahrbuch der K.-K. Geologischen Reichsanstalt», Bd. XL (1890), Wien, 1891r
стр. 56, 58 и др.
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА ЗЕМЛИ В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ. СУША II МОРЕ
67
Рис. 6. Гранины распространения ледникового покрова в Европе и Северной Америке.
Затемненные области заняты льдами в настоящее время. Границы оледенений:
заштрихованной линией показано максимальное оледенение, черной линией —
меньшие по размерам оледенения.
шение уровня и опреснение Каспийского моря (как и Черного) в эту
эпоху могли явиться следствием поступления громадного количества
талых вод, питаемых ледником. К концу же ледниковой эпохи, вследствие
интенсивного испарения и значительно меньшего поступления воды,
Каспийское море уменьшается в своих размерах, а затем теряет сооб-
щение с Аралом.
Таким образом, в раннюю пору четвертичного времени южная часть
СССР, ее европейской территории, была отрезана с юга значительными
водными пространствами, препятствовавшими расселению животных со
стороны южной Азии и Африки, чем, быть может, отчасти объясняется
бедность фауны этой эпохи даже в области побережий Черного моря.
В то время как на юге восточной Европы происходили описанные
перемещения моря, в западных ее областях имели место подобные же
явления. Если южная часть СССР в первую половину ледниковой эпохи
была почти изолирована на востоке и на юге от соседних областей, южная
Европа, наоборот, в начале плейстоцена, была тесно связана мостом
суши, проходившим через Апеннинский полуостров, Сицилию, Мальту,
с побережьем Африки. Любопытным свидетелем этого сообщения между
континентами являются карликовые породы слонов и других животных,
известные в отложениях Мальты и Сицилии, в которых приходится
видеть выродившихся благодаря островной жизни потомков древнечетвер-
тичной фауны.
Еще большие перемены испытала восточная часть Средиземного моря.
В начале четвертичной эпохи здесь тянулась обширная горная страна,
соединявшая Малую Азию и Грецию. Только позднейшее опускание
ее ниже уровня океана было причиной образования Эгейского моря
с его островками, представляющими вершины затопленных горных це-
пей, а затем и прорыва его в Черное море (рис. 5).
Такие же изменения в очертании суши известны и на крайнем западе
Европы: Британия и Ирландия с прилегающими мелкими островами
Очертания
материка
Европы
Перемещеиия
береговой ли-
нии па севере
«8 ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
в это время составляли одну обширную страну, являвшуюся продолже-
нием материка Европы. Это сообщение, вероятно, должно было суще-
ствовать очень долго, почти до конца ледниковой эпохи, так как не только
человек, но и животные и растения позднеледникового времени свободно
переселялись сюда с континента.
Значительные движения моря происходили в это время и на севере
восточной Европы, и в смежных областях Сибири. Еще в эпоху макси-
.. мального оледенения, когда ледник покрывал большую часть европей-
(ибирп ской территории СССР, простираясь на восток за Уральский хребет,
по переслаиванию моренных глин и слоев морского происхождения можно
видеть, что Ледовитый океан катил свои воды далеко к югу от нынешних
границ. История наступания полярного моря, видимо повторявшегося
не один раз, еще недостаточно известна, да и отложения его часто оста-
ются немыми, не содержащими остатков животных, или содержат рако-
вины полярных морских моллюсков.
Ко времени отступания последнего ледника в области Балтийского
моря, представляющего собой широкий пролив Ледовитого океана, сооб-
щавший его с Северным морем, наблюдается уже прочное заселение его
вод морской фауной. В последующее время, в связи с вековым поднятием
Скандинавии и прилегающих областей, бассейн Балтийского моря зна-
чительно сокращается; оно опресняется и теряет сообщение как с Се-
верным морем, так и областью бореальной трансгрессии. Последователь-
ные стадии в истории Балтийского моря, прекрасно освещенные работами
скандинавских ученых, представляют большой интерес, так как в них
отражается история постепенного заселения Скандинавии и северной
Европы вообще как растительными и животными группами, так и чело-
веком. Но эти страницы истории европейского материка должны быть
отнесены уже к современной геологической эпохе.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ВНЕ ОБЛАСТИ ОЛЕДЕНЕНИЯ
Далеко не вся поверхность Европы была покрыта ледником даже
в пору его наибольшего распространения. Вне его границ, к югу, на
территории современной Франции, значительной части Германии и на
обширных равнинах восточной Европы и Сибири, шли пространства,
которые доступны были действию всех природных агентов, формирующих
поверхность земли. Эти пространства не представляли собой дикой бес-
плодной пустыни. Они были покрыты растительностью, давали приют
многочисленным видам животных и во многих местах были уже, не-
сомненно, населены человеком, следы которого уходят очень далеко
в глубь ледникового времени.
В каких условиях приходилось жить человеку, на фоне каких явле-
ний природы протекала история древнейших человеческих обществ?
Подобные вопросы, имеющие, конечно, огромное значение для истории
первобытного человечества, могут быть поставлены и разрешены только
в связи с уяснением тех процессов, которые происходили в областях, не
занятых ледниковым покровом.
Геологичс- Из явлений, имевших место в экстраглациальных (внеледниковых)
квяделтель- областях, наибольший интерес в этом отношении для нас представляет
ность рек ист0рия формирования долин современных рек.
В течение всего древнечетвертичного времени реки являлись геоло-
гическим фактором, наиболее значительным по масштабу своей деятель-
ИСТОРИЯ РЕЧНЫХ долин в»
ности, сильнее всего влиявшим на облик суши. Образующиеся на севере
ледники должны были давать, особенно в эпохи таяния и отступания,
колоссальные массы воды, которая, прокладывая путь к морским во-
доемам, неизбежно производила, в соответствующих масштабах, размыв
пластов древних геологических наносов или откладывала приносимый
ею из предледниковых областей разнообразный измельченный минераль-
ный материал.
В своих отложениях, накопившихся за громадные промежутки вре-
мени от первых начальных моментов углубления речной долины до совре-
менного их состояния, реки должны были запечатлеть с большей пол-
нотой, чем какой-либо иной вид геологических образований, жизнь
материков в течение всего четвертичного времени. Они представляют
поэтому один из наиболее надежных и наиболее полных источников для
восстановления истории пространств суши, не занятых ледником.
Особенно важно для нас то обстоятельство, что речные наносы по-
стоянно содержат остатки сухопутных животных, а иногда и наземных
растений, характеризующих последовательные моменты древнечетвер-
тичного времени, — остатки, как правило, совершенно отсутствующие
в ледниковых отложениях, являющихся с этой точки зрения мертвыми
образованиями.
Нельзя забывать, что реки и речные долины всегда играли особенную
роль в жизни человеческих групп. С ними были связаны удобные пути
расселения и сообщений, лучшие убежища и хорошая охота. Поэтому
остатки человеческого обитания нередко сохраняются в древних отло-
жениях рек или, еще чаще, в наносах, покрывающих береговые склоны
речных долин.
ИСТОРИЯ РЕЧНЫХ ДОЛИН
Реки Евразии обычно текут в низменных долинах, затопляемых в по- Пойми
ловодье, прорывая русло в отложениях этих долин. Их течение сопро-
вождается рядом стариц, озерков и затонов, указывающих на частые укло-
нения рекив пределах ее пойменной низины. Пойма бывает сложена реч-
ными осадками, которые образуются ежегодно при весенних разливах,
когда река несет большое количество минерального материала. Такой
характер имеют реки, связанные с равнинными пространствами север-
ного полушария.
Существуют наблюдения, доказывающие, что пойменная луговая тер-
раса постепенно растет, и уровень рек в связи с этим имеет тенденцию
повышаться. На многих наших реках в этих отложениях встречаются
слои деревьев, главным образом так называемого черного или морёного
дуба, образовавшиеся из некогда росшего по берегам рек и поваленного
разливами и буреломами старЬго леса. Такие слои залегают обычно на
значительной глубине от поверхности поймы, что указывает на значи-
тельное нарастание поймы в относительно близкое к нам время.
Довольно часто в отложениях поймы на разной глубине прослежи-
ваются слои погребенной почвы, прикрытые наносом, образующимся при
ежегодных разливах рек. В этих слоях почвы, которая, очевидно, оде-
вала поверхность поймы в периоды более спокойного состояния рек,
встречаются остатки обитания, иногда временные становища, иногда
более прочные поселения, относящиеся к разным эпохам раннего периода
человеческой истории. Известны случаи, когда слои древней почвы с остат-
ками этого времени уходят ниже современного уровня реки.
70
Время
образования
поймы
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Подобных примеров можно было бы привести довольно много, в част-
ности и для восточной Европы.
В этом отношении большой интерес представляет пойма Оки, на-
пример окрестности г. Спасска (Рязанской обл.), 1 где в обрывах
лугового берега можно видеть на разной глубине от поверхности слои
погребенной почвы, заключающие остатки, которые дают возможность
судить о скорости нарастания отложений поймы. Если в почве, одеваю-
щей береговую террасу, попадаются обломки посуды и другие предметы
эпохи сравнительно поздних русских поселений по Оке (XIV—XV вв.),
ниже, на глубине 0,55—0,80 м, встречается грубая керамика, вылеплен-
ная от руки, без гончарного круга, которую можно относить к концу
I тысячелетия нашей эры. Еще ниже, в следующей гумусной прослойке,
на глубине 1,10—1,35 м, встречается керамика с «сетчатым» узором, отно-
сящаяся к раннему типу этого рода посуды, которую приходится да-
тировать временем около тысячелетия до нашей эры. В слое древней
почвы, в основании берегового обрыва, на глубине свыше 4 м, залегают
остатки неолитической эпохи в виде каменных орудий и обломков харак-
терно орнаментированных сосудов. Отсюда естественно сделать вывод,
что речная пойма не является сложившимся образованием, но нарастает
в течение современной эпохи.2
Для озерных стоянок можно указать поселение каменного века по
южному берегу Ладожского озера, исследованное Иностранцевым, ко-
торое перекрывают толстые слои более поздних наносов, образовавшихся
в эпоху поднятия уровня Ладожского озера, до его прорыва в р. Неву.
Такие Hie находки, обычно связанные с древними горизонтами почвы,
известны для многих других рек средней и южной полосы европейской
территории СССР — например на Дену у с. Боршева (под Воронежом),
на р. Сев. Донце в окрестностях г. Изюма и пр. 3
Таким образом, уже со времени позднекаменного века реки восточной
Европы успели накопить многосаженные толщи наносов, которые за-
полнили и выровняли речную долину. Буровые скважины также под-
тверждают, что поймы бывают сложены мощными слоями позднейших
речных образований.
1 По наблюдениям автора.
3 В. Л. Городцов, К вопросу об установлении натурального масштаба времени
по аллювиальным отложениям в долинах рек Окской системы, «Труды секции археол.
Инет, археол. и искусствозн.», в. II, М., 1928, стр. 18. Городцов приводит интересное
наблюдение, показывающее, что почвенные прослойки в пойме Оки не представляют
лишь местные почвенные образования на повышенных участках заливной низины,
так как они прослеживаются на значительном протяжении по обоим берегам реки.
3 В виде примера можно сослаться на сделанную нами находку поселения вре-
мени катакомбной керамики эпохи бронзы (около 2000 лет до н. э.) в пойменных отло-
жениях Дона, связанного с горизонтом погребенной почвы. Среди остатков животных,
кроме домашних, — бык (мпото), овца, лошадь (единично), собака, — В. И. Гро-
мовым определены лось и северный олень (?) или косуля. (П. П. Ефименко, Жилище
времени бронзы, открытое на пойме Дона в окрестности с. Костенок, «Проблемы
истории докапит. обществ», Л? 5, ГАИМК, 1934, стр. 46.) О слоях погребенной почвы
в пойме см. Н. Н. Соколов, О возрасте и эволюции почв в связи с возрастом материн-
ских пород и рельефа, «Труды Почв. инет. Акад, наук СССР», в. 6, 1932, стр. 18.
Б. Ф. Земляков видит в образовании горизонтов погребенной почвы в отложениях
поймы явление, связанное с ксеротермическим периодом (ср. его статью — О послелед-
никовых колебаниях климата и их значении в археологии, «Проблемы истории до-
капиталистических обществ», № 2, 1934, стр. 57). Повышение уровня рек в близ-
кое нам время подтверждают также наши наблюдения, относящиеся к надлуговой
террасе Дона против с. Костепок, где можно было заметить следы подъема весенних
вод лишь в верхних горизонтах наноса, перекрывающего древнее поселение срубно-
хвалынской стадии.
ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ТЕРРАСЫ
Отсюда ясно, что в прежнее время реки текли значительно глубже,
чем в настоящее время, и пойменные долины в том виде, как они известны
ныне, представляют результат деятельности рек в какое-то близкое к нам
время.
В одних случаях поименная низина заполнялась песчано-глинистыми
отложениями, чередующимися с прослойками почвы, в других их за-
полнение происходило за счет образования торфа, или состоит, как это
обычно бывает в предпустынной полосе, из однородного тонкого илистого
суглинка, или, наконец, может представлять собой галечниковый нанос.
Во всех этих случаях буровые скважины ниже отложений поймы часто
открывают речные образования иного характера и гораздо большей
древности.
Во всей толще поймы, насколько это можно установить, встречаются,
как было указано, остатки животных и растений, принадлежащих к ныне
живущим видам, и остатки человеческой культуры, не выходящие за
пределы современной, в геологическом смысле, эпохи. В тех отдельных
случаях, когда в пойме находят кости вымерших животных, например
мамонта, не трудно показать, что они попадали сюда случайно, в резуль-
тате размывания более древних геологических пластов.
Времени заполнения пойменной низины современным наносом должно
было предшествовать время ее углубления и формирования. Оно отно-
сится, видимо, в большинстве случаев к началу современной эпохи и долж-
но было соответствовать периоду большей активности речных вод, ко-
торые в это время не успевали отлагать приносимый материал, а энер-
гично размывали древнее дно речной долины. 1 Прежние берега этого
многоводного речного потока, русло которого позже стало слишком
обширным для уменьшающейся в размерах реки и было заполнено совре-
менным. аллювиальным наносом, прослеживаются над поймой в виде
склона так называемой надлуговой террасы.
ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ террасы
Надлуговая терраса представляет собой уступ, возвышающийся над
пойменной низиной чаще по левому, но иногда и по правому берегу реки.
По правому берегу она по большей части мало заметна, так как сливается
в общем уклоне береговой возвышенности, окаймляющей обычно пра-
вые берега речной долины. К тому же она часто бывает размыта вслед-
ствие поступательного движения речного потока вправо (в северном
полушарии). 2 Напротив, по левому берегу большинства рек восточной
Европы она хорошо развита и тянется широкой полосой.
1 «Аллювиальная эпоха (т. е. голоцен. —П. Е.) была временем формирования
луговых террас украинских рек... Точная датировка отдельных фаз этого послед-
него этапа преобразования украиншШго долинного ландшафта пока еще едва ли воз-
можна, так же как и точная хронология колебаний эрозионной базы украинских рек —
уровня Черного моря — в голоцене еще не дана. Если базироваться на событиях
севера и северо-запада Европы, тогда естественнее всего предположить, что эрозион-
ная фаза, предшествовавшая отложению осадков пойменных террас, вызвана под-
нятием суши в анциловое время — век сосны и березы. В конце анцилового и в ли-
ториновое время, в связи с опусканием, могла начаться седиментация на луговых
террасах, происходило дальнейшее развитие торфяников и их опускание». Д. Соболев,
О четвертичном морфогенезе на Украине, «Труды II мемсд. конф. АИЧПЕ», вып. II,
1933, стр. 101.
2 «Всякое тело, движущееся горизонтально в каком-нибудь месте земли, неза-
висимо от направления движения отклоняется в северном’полушарии вправо, а
в южном влево». П. II. Броунов, Бурс физич. географии, Петроград, 1917,
стр. 19.
Характер
наносов
поймы
Нижняя
надлугоиая
терраса
72
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Два уровня
пняших
террас
Различный
характер
речных
наносов
Надлуговая терраса состоит из однородных слоистых, большей частью*
песчаных отложений. Поэтому ее поверхность, переработанная ветром,
бывает покрыта песчаными дюнами. Вековые сосновые боры, составляю-
щие там, где они уцелели, характерный ландшафт речных долин восточ-
ной Европы, выдают ее присутствие и среди черноземных степей нашего
юга. 1 Надлуговая терраса является свидетельницей того времени, когда
уровень реки был на много метров (обычная высота террасы 10—15 .к)
выше ее современного уровня, и река текла в ложе, по сравнению с ко-
торым современная пойменная долина является совершенно ничтожной.
На небольших сравнительно реках, как Донец или Десна в их среднем
течении, прежнее русло, намечаемое надлуговой террасой, измеряется
многими километрами. В отложениях этих мощных потоков, очевидно
питавшихся водами тающего ледника, проложило свое современное
русло большинство рек приледниковой полосы Европы и Сибири.
Изучение надлуговой террасы — ее взаимоотношения с ледниковыми
образованиями в более северных районах — позволило (Г. Ф. Мирчинк)
более или менее точно определить возраст этой террасы как бюльский,
то есть отвечающий стадии балтийского оледенения.
Можно думать, что надлуговая терраса, в частности, например, украин-
ских рек, образовалась не сразу, так как в ней часто удается заметить
два уровня. Более высокий ее уровень, превышающий пониженную часть
на 5—10 м, по мнению некоторых авторов представляет собой самостоя-
тельную, более древнюю (среднюю) террасу. Характернейшей особен-
ностью этой террасы является присутствие на ней лёссового покрова,
часто достаточно мощного.
Выше этой террасы, на разной высоте, иногда на 40 и более метров
над уровнем реки, сохраняются следы еще более высокого стояния вод,
в виде так называемых верхних надлуговых террас (рис. 8). Время их
образования относится к еще более ранней поре ледниковой эпохи, когда
реки текли значительно выше или даже только еще начинали углублять,
свою долину.
Различные условия жизни рек в настоящее время и в ледниковую
эпоху интересно отражаются в характере наносов, из которых сложены
современная пойма и древние террасы более крупных рек Европы. Если
взять реки восточной Европы, текущие среди равнины, их пойма, как
мы уже говорили, состоит преимущественно из иловатых глинистых
осадков, чередующихся с слоями почвы или прослойками торфа. В эпоху,
когда формировалась надлуговая терраса, прежние многоводные потоки
позднеледникового времени откладывали, как правило, более грубый,
более тяжелый материал — кварцевый песок.
Наконец, еще более ранние террасы наших рек южной полосы часто
содержат окатанную гальку, которая, очевидно, могла переноситься
только очень быстро текущей водой.
Но наиболее древние отложения речных долин Украины, могущие
быть отнесенными к эпохе первоначального формирования обширных
речных стоков, снова имеют, как правило, характер тонких лёссовид-
1 Остатки сосны в торфяниках у Днепровского лимана (Гнлея —античных авторов)
указывают па распространение боров, видимо еще очень недавно, по всему течению
Днепра. Сосновые боры, тянувшиеся вдоль песчаной террасы южных рек европей-
ской части СССР, прорезывали почти всю черноземную полосу. Эти боры с их торфя-
ными болотами, реликтовой растительностью северного типа и таким животным насе-
лением, как лось, медведь, бобр и т. д., являются живым воспоминанием об условиях
по крайней мере конца ледниковой эпохи.
плейстоценовые террасы
них образований (так называемые пресноводные мергели или пресно-
водные суглинки Украины).
Состав отлагавшегося реками минерального материала нельзя не
поставить в связь не только с изменявшейся активностью реч-
ного потока, но и с прямым воздействием великого северного оле-
денения.
Большая грубость материала в тех наносах, которые относятся к более
раннему времени, указывает на гораздо большую активность рек лед-
никовой эпохи, чем мы это видим в настоящее время.
Движущийся к югу ледник передвигал с собой огромную массу раз-
мельченного материала, который должен был разноситься реками, пи-
тавшимися в значительной мере водами ледника. При его отступании
уменьшалось количество вод, несомых рекой, падала их кинетическая
энергия, и, естественно, река откладывала более мелкий нанос.
Ту же картину, но еще более определенную, представляет запад Европы,
где толстые слои галечника, отложенные реками в раннечетвертичную
пору, выстилают дно и склоны речных долин, тогда как более поздние,
лежащие на них слои речного аллювия состоят из песков и ила. Такое
чередование наслоений обычно, например, в карьерах террас Соммы,
Сены, Темзы и других рек, в частности в тех хорошо известных место-
нахождениях, с которыми связаны находки остатков древнейших эпох
человеческой культуры.
Строение речных долин делает очевидным, что в их истории должны
были чередоваться эпохи накопления минерального материала (акку-
муляции) с периодами размыва (эрозии), когда речные потоки разра-
батывали свое ложе.
В самую начальную пору четвертичного времени реки обширной
умеренной полосы Евразии текли по равнине в широких, еще только
начинавших намечаться руслах. Благодаря неразработанности рельефа
они часто представляли собой обширные, но неглубокие озера и боло-
тистые западины, соединенные мелкими протоками. Такую картину
рисует Докучаев для начальной истории рек южной России, то же го-
ворит Лаппаран в отношении рек западной Европы. Позже, вероятно
под влиянием увеличения количества текучих вод, которым, очевидно,
должно было быть отмечено начало ледниковой эпохи, наблюдается уси-
ление процессов размыва и углубления речных долин.
В отношении некоторых рек западной Европы считается, что они
успели значительно углубить свои долины очень рано. Во всяком слу-
чае, в последующее время в связи с наступанием ледника долины рек
снова заполнялись аллювиальным наносом до высоты, намеченной отло-
жениями верхних террас. Отступание и новое развитие ледников должно
было вызвать размыв и заполнение, создавшие нижележащие террасы.
Явление того же порядка, хотя и в меньшем масштабе, представляет
п образование поймы. Так как в целом размывающая сила реки больше
накопляющей силы, в итоге этого процесса мы наблюдаем все растущее
углубление долин.
Такая точка зрения пользуется широким распространением в гео-
логических трудах. Она ставит в прямую связь жизнь реки с историей
европейских оледенений. Продвижение ледника должно было усиливать
процессы размывания и выноса минеральных частиц, которые затем
отлагались в более спокойном течении реки в ее низовьях или же в море.
И, обратно, меньшие массы воды в межледниковые эпохи способствовала,
накоплению этого материала в речных долинах.
73.
Проиехож
ние речи)
долин
74 ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Если теоретически предполоя?ение о связанности истории речных
долин с историей оледенений является вполне естественным, в действи-
тельности оно наталкивается на большие затруднения. В этом вопросе
как п в других вопросах, касающихся четвертичного времени, среди
геологов существуют серьезные разногласия.
Нужно учитывать, что в формировании речных долин принимали
участие многообразные факторы. Здесь играло роль большее пли мень-
шее количество воды, поступавшей в реки, что могло зависеть как от
общих климатических условий, так и от состояния ледников, в течение
очень долгого времени покрывавших значительную часть страны.
Однако нельзя утверждать с уверенностью, в какие именно периоды
в реки, водный режим которых зависел от ледника, должно было посту-
пать больше воды — в эпоху влажного климата, когда на севере Евразии
п на горных цепях шло образование льдов и продвижение их на рав-
нины, или, наоборот, в то время, которое совпадало с периодом энер-
гичного таяния и отступания ледников. Среди геологов нет окончатель-
ной договоренности даже относительно того, с чем связано накаплива-
ющее и размывающее действие текущих вод, — с увеличением пли умень-
шением их количества, с большим или меньшим полноводней реки.
Кроме того, ледник не оставался в состоянии покоя. В моменты своего
движения вперед он неизбежно должен был деформировать и заполнять
своими наносами ранее выработанные долины стока подледниковых вод.
Нужно принять во внимание также, что формирование речных долин
вне границ оледенения, затем внутри области, занятой максимальным
оледенением, и, наконец, для рек, расположенных в пределах морен эпохи
угасания ледниковых явлений, очевидно, не могло происходить в одно
и то же время. Даже отдельные части таких больших рек, как Волга
и Днепр, образовались, как устанавливают геологи, не в одну эпоху.
Наконец, — и это одно из наиболее важных обстоятельств, обусло-
вливавших формирование речных долин, — участки суши испытывали
в продолжение плейстоцена так называемые эпейрогенические (или эпи-
рогенические) колебания, поднятие и опускание, что сказывалось на ходе
процессов размыва и накопления.
Если учесть, что это явление могло итти с положительным или отри-
цательным знаком в разных частях долин крупных рек и что оно могло
повторяться в последующие эпохи, — сложность картины будет доста-
точно ясна, даже если не говорить уже о таком факте, как особенности
геологического строения, — например, различный характер горных пород
тех территорий, где создавались речные долины.
Этим объясняется затруднительность дать какую-то общую схему
строения для рек восточной Европы и северной Азии, ориентированную
на одновременно действовавшие факторы, обусловившие формирование
долин этих рек. *.
Поэтому было бы преждевременным считать, что строение речных
долин нашей части света, в частности число их .террас, отражает всегда
черты одного и того же процесса.
Было бы затруднительно, вместе с тем, непосредственно связывать
речные террасы с последовательными эпохами великого оледенения, как
это полагают горячие приверженцы теории полиглациализма, в частности
пенковского четырехкратного оледенения северного полушария. 1
1 Сказанное заставляет скептически отнестись к попыткам свести явления эрозии
и аккумуляции в речных долинах Европы к схеме Ш. Депере, установленной для
террас Средиземного моря.
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЧНЫХ ТЕРРАС
75
Сравнивая, например, строение долин Дона и Днепра, мы видим в пер-
вом случае в районе Воронежа, если судить по материалам П. А. Ники-
тина, 1 хорошо развитую верхнюю семидесятиметровую террасу еще
плиоценового возраста. С другой стороны, по течению Днепра доказанным
может считаться лишь существование террасы миндель-рисского возраста.
Здесь более древние террасы, если они не были размыты при наступании
ледника, должны быть погребены, как полагают некоторые геологи, ниже
уровня реки, под толщей позднейших наносов.
Однако нельзя все же отрицать, что история речных долин, по- край-
ней мере в Европе и северной Азии, представляет ряд общих явлений, по-
скольку изменение природных условий во всем северном полушарии,
начиная с конца третичной эпохи, шло более или менее в одном направле-
нии.
Работами советских геологов за последние годы сделано очень много
для уяснения четвертичного прошлого отдельных частей СССР. В част-
ности, много сделано и по интересующему нас вопросу — истории речных
долин, хотя исследователи находятся все же еще лишь на пути к его
разрешению.
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЧНЫХ ТЕРРАС И ИХ ОТНОШЕНИЕ
К ЗАСЕЛЕНИЮ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ
История образования речных долин восточной Европы интересует
нас, прежде всего, с точки зрения возможности увязки древнейшей исто-
рии человеческих обществ с явлениями природной среды, как они раз-
вертывались в четвертичное время. Заключая в себе остатки животных и
растений вместе с остатками человеческой культуры, речные террасы
различной давности дают исследователю необходимый масштаб для гео-
логической датировки как животного п растительного мира, так и че-
ловеческих поселении.
Мы видели, что луговая, или пойменная, терраса рек восточной Европы
образовалась в довольно близкую к нам пору уже современной эпохи.
Время ее углубления сопоставляют с анциловой стадией Балтики, тогда
как ее заполнение аллювиальными осадками продолжается до настоящего
момента.
Таким образом, нужно предполагать, что формирование пойменной
низины отвечает во времени всему более позднему историческому периоду
от начала неолитической ступени.
Если принять во внимание такие факты, как находки на пойме (на-
пример на Донце в окрестностях Изюма) поселений кампинийского
типа, начало седиментации луговой террасы приходится относить, оче-
видно, по крайней мере к стадии маглемозе, а может быть, и к не-
сколько более раннему времени (тарденуазская стадия).
Расположенные вне поймы на окраинах первой надлуговой террасы
тарденуазские и свидерские (ранне-тарденуазские) поселения принадле-
жат тому времени, когда, в связи с углублением рекой ее нового русла,
закончившееся формирование этой более древней террасы позволило
группам первобытного населения перенести свои стойбища на удобные
для обитания приречные песчаные дюны.
1 П. А. Никитин, Четвертичные флоры Низового Поволжья, «Труды Комиссии
по изучению четвертичного периода», III, 1933, стр. 81. Ср. Г. Ф. Мирчинк, Геоло-
гия четвертичных отложений (литограф, курс), 1934, лекция 2, стр. 7.
76
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Время
формирова-
ния падлуго-
вой террасы
Но и первая надлуговая, 10—15-метровая терраса не имеет большой гео-
логической давности. Весьма ценные наблюдения Г. Ф. Мирчинка, о кото-
рых было упомянуто выше, позволяют с достаточной уверенностью подойти
к вопросу о ее геологическом возрасте. Ему удалось проследить, как
нижняя надлуговая терраса Днепра севернее Орши через сопряженную
с ней террасу р. Оршицы упирается в полосу зандров, тянущуюся вдоль
конечно-моренной гряды, идущей на Витебск, Торжок ит. д., то есть при-
надлежащую моренному поясу балтийского (бюльского) оледенения. 1
Поскольку нижние надлуговые террасы имеют один и тот же харак-
тер по всему течению Днепра и его притоков, а также и на многих ре-
ках бассейна Дона, их бюльский возраст может считаться в общем уста-
новленным достаточно точно.
Следует думать, что мощная толща слагающих эту террасу песчано-
глинистых наносов отложилась в относительно длительный период уга-
сания ледниковых явлений, совпадающий со временем отступания бал-
тийского оледенения, — до окончательного таяния северного ледника.
Нижняя над-
Рис. 7. Переход зандров вюрмского оледенения во вторхю
надпойменную террасу Днепра.
(По Г. Ф. Мирчивку)
пойменная терраса
первого уровня
отделяется невысо-
ким уступом или
непосредственно пе-
реходит в следую-
щую террасу, кото-
рую мы будем назы-
вать нижней тер-
расой второго
уровня. Для рек
Днепровского бас-
сейна высота ее
обычно лишь на не-
много метров (са-
мое большее 5 —
10) превышает уровень первой надлуговой террасы. Уже это обстоя-
тельство, в связи с весьма сходным характером образующих ее
песчано-глинистых напластований, указывает на то, что она не могла
образоваться во время, особенно удаленное от формирования первой
террасы.
Поэтому ее обычно и рассматривают как нижнюю надлуговую тер-
расу, но более высокого уровня.
Ее существеннейшей особенностью является то обстоятельство, что
слагающий ее слоистый нанос кверху переходит сначала в слоистый
же, а затем более или менее типичный лёсс или лёссовидный суглинок
(или супесь). *•
Исследования Г. Ф. Мирчинка в области верхнего Днепра дают
возможность определить возраст и этой террасы. Ему удалось констати-
ровать тот факт, что здесь, между Оршей и Смоленском, где Днепр де-
лает крутой поворот к западу, проходя почти рядом с моренной грядой
вюрмского оледенения, средняя (20 nt) терраса Днепра переходит в зандры
этой морены (рис. 7).
1 Г. Ф. Мирчинк, О физико-географических условиях эпохи отложения верхнего
горизонта лесса на площади европейской части СССР, «Известия Акад, наук СССР»,
1928, № 2, стр. 126.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ НИЖНИХ ТЕРРАС
Сравнительно небольшой промежуток времени, потребовавшийся, ви-
димо, на отступание ледника от внешнего к внутреннему (бюльскому)
поясу главной конечноморенной гряды, может служить объяснением отме-
ченной выше связи нижней и средней террасы.
Весь этот процесс приходится представлять себе таким образом, что
после образования террасы верхнего уровня (вюрмской) приток вод
бюльской стадии содействовал некоторому углублению части речной
долины, а затем, в период отступания ледника, — ее заполнению новыми
слоями песчано-глинистого наноса. Весьма показательно, что если мы
вычтем из разности высот террас обоих уровней толщу лёсса, покры-
вающего вторую из них, их высотное различие оказывается совсем не-
значительным. 1
Таким образом, в период, когда нижняя терраса составляла еще живое
течение широкого водного потока (имевшего, вероятно, уже тенденцию
к углублению русла на месте современной поймы), ее вышедшая из-под
воды полоса представляла собой низкий, едва поднимавшийся над водой
берег, начавший вскоре покрываться лёссовидным наносом.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ НИЖНИХ ТЕРРАС
Время, истекшее между образованием той и другой террасы, имеет
для нас большой интерес, так как с ним оказываются связанными явле-
ния первостепенного значения для истории первобытного общества и окру-
жавшей его природной среды.
Как можно видеть на схеме (рис. 8), показывающей обычное строение
речных долин в области среднего Днепра и его притоков и место, которое
занимают в речных долинах остатки первобытных поселений, отложе-
ния нижней над луговой террасы являются до сих пор
в этом смысле немыми, если не говорить о тарденуазских стоянках,
принадлежащих эпохе, когда формирование этих террас уже было совер-
шенно закончено.
В значительном числе палеолитические находки известны зато для
более высокой — 15-метровой террасы. В ней они занимают стратигра-
фически два разных уровня.
Стоянки первой группы залегают в верхней части раз-
реза, в слоях лёсса и делювиального наноса (иногда также погребенной
почвы), которыми заканчивается образование нижней террасы второго
уровня. Сюда принадлежат, кроме упомянутых стоянок Днепростроя,
Журавка, Боршево II — ее верхний горизонт, также верхний горизонт
Кирилловской стоянки в Киеве и некоторые другие. Это те поселения,
расположенные на низменном берегу недалеко от воды, вероятно еще
затапливавшиеся при высокц^ половодьях, которые являлись свидетелями
стояния реки в пределах нижнего уровня надлуговой террасы. 2
1 Для района палеолитических стоянок Днепростроя (Дубовой, Кайстровой и
Осокоривки) мы имеем такие цифры: средняя высота нижней надлуговой террасы
(первого уровня) — 6—7 м, для террасы верхнего уровня с палеолитическими остат-
ками— 10—11 м. Толща лёсса и лёссового делювия второй террасы—3—4 м. За-
кономерность таких соотношений уровней данных террас показывают и другие па-
леолитические местонахождения, известные в подобных условиях — Гонцы, Жу-
равка и др. Ср., например, Г. Ф. Мирчинк, Геологические условия нахождения па-
леолитических стоянок в СССР и их значение для восстановления четвертичной исто-
рии, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. V, 1934, стр. 52, рис. 6 (разрез Гонцовской
стоянки).
2 Ту же картину дают и поздние палеолитические поселения долины Енисея,
связанные с нижней надпойменной террасой (см. гл. XI).
Лзильская
группа
памятников
78
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ II ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
В отношении геологического времени эти стоянки синхроничны, таким
образом, первым стадиям отступания балтийского оледенения. Археоло-
гически они все принадлежат позднейшей поре верхнего палеолита —
азильской эпохе.
Их стратиграфия чрезвычайно характерна. Это многослойные па-
мятники, сохраняющие следы неоднократно возобновлявшихся кратко-
временных, вероятно большей частью сезонных стойбищ с незначитель-
ным скоплением культурных отбросов.
С точки зрения окружавших человека природных условий стоянки
этой группы в первую очередь характеризуются полным исчезновением
остатков мамонта, встречающихся в огромном количестве еще в поселе-
ниях мадленской эпохи. Место мамонта здесь занимают представители
современной степной и лесной фауны млекопитающих с примесью, однако,
северных форм (северный олень). Последний, правда, также вскоре пе-
BejiipajdVJbHoe со
правого береги •kf,b,li .Ь'И'Г
Памятники
мадленского
возраста
Рис. 8. Схема строения долины р. Днепра в районе Киева.
Крестиком (X) обозначены условия нахождения остатков верхнепалеолитиче-
ского времени для стоянок среднего Днепра: раннемадленские — в основании
П-й надлуговой террасы (Кирилловская стоянка, нижний горизонт), азильские—
в верхней части террасы, главным образом в лёссе.
1. — Современный поименный аллювпй. 2.— Древний аллювий 1-й надпойменной террасы. 3. — Дреп-
ппй аллювпй ‘2-й надпойменной террасы. 4. — Эоловый лёсс вюрмского времени. 3—6. — Рпсские
Флювпоглациальные суглинки (Рисс-Вюрм). 7. — Рпсскал дойная морена. 8. — Подморенные флювио-
глациальпые суглинки (Рисе). 9. —Болотные отложения 3-йтеррасы (Мвндель-Рпсс).9а. — Миндельский
лёсс. 10.—Лнпдельские пески 3-й террасы. 11. — Коренные породы.
По Г. Ф. Мпрчпнку).
рестарт встречаться и отсутствует в большинстве азильских местонахо-
ждений среднего течения Дона и Днепра.
Если учесть, как мы увидим ниже, что исчезновение мамонта на
восточноевропейской равнине относится к эпохе балтийского оледенения,
данное нами определение времени, разделяющего образование террас
обоих уровней, как бюльского становится еще более вероятным.
Что для Украины и среднего Дона эта эпоха вовсе не говорит о суро-
вости климатических условий, но, наоборот, обнаруживает признаки
значительного потепления, как это мы знаем и в отношении азильских
местонахождений западной Европы, — показывают, между прочим, остатки
моллюсков, определенные для стоянок Днепростроя, среди которых
имеется целый ряд теплолюбивых форм.
Стоянки второй группы занимают иное положение в от-
ложениях той же террасы. Они залегают значительно глубже и, что осо-
бенно важно, связаны с эпохой седиментации аллювиальных наносов, сла-
гающих эту террасу.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ НИЖНИХ ТЕРРАС
79
Правда, далеко не всегда охотничьи орды позднего палеолитического
времени выбирали для своего пребывания места, обычно затопляемые
водой. Они предпочитали, естественно, селиться на более высоких участ-
ках берегового склона, не подвергавшихся подобной угрозе (например
Гонцы, Супонево). Но в некоторых случаях удается найти поселения,
имеющие прямое отношение к интересующей нас террасе.
Один из наиболее интересных памятников этого типа представляет
Боршевская II стоянка (па Дону) с ее тремя горизонтами палеолитиче-
ских остатков. Хотя она приурочена к очень невысокой террасе Допа,
в половодье заливаемой водой, такое явление не говорит о позднем
(то есть современном) геологическом возрасте этой террасы. Г. Ф. Мир-
чинк совершенно правдоподобно объясняет положение надлуговой тер-
расы ниже уровня поймы опусканием этой части долины Дона, про-
исшедшим, очевидно, уже в самом конце плейстоцена или в современ-
ную эпоху, в результате чего позднейшие наносы скрыли под собой
более древние образования.
В эпоху, когда надлуговая терраса уже сформировалась и успела
покрыться значительным слоем почвы, люди выбрали это место на бе-
регу Дона для своего обитания. В последующую пору, в конце лед-
никового периода, поверх горизонта ископаемой почвы отложился до-
вольно мощный пласт намывного делювиального суглинка.
Таким образом, и по составу находок, и по общим условиям залегания
верхний палеолитический слой Боршева II не отличается существенно
от остальных, ранее нами перечисленных стоянок первой группы. На
несколько большую древность его указывает более архаический облик
его инвентаря и присутствие таких форм, как северный олень и рос-
сомаха, наряду с обычными — лошадью, зайцем, лосем.
Иной характер носят второй и, в особенности, третий горизонты куль-
турных остатков, относящиеся к нижележащим аллювиальным отложе-
ниям той же террасы. По составу вещественных находок ближайшее
сходство они обнаруживают с Гонцовской стоянкой, с которой их сбли-
жает и наличие значительного количества остатков мамонта. И Гонцы,
и нижний горизонт Боршева II не оставляют сомнения в своем мад-
ленском возрасте, являясь типичными памятниками более позднего мад-
лена восточноевропейской равнины.
Не менее показательным в смысле условий своего залегания является
раннемадленский нижний горизонт Кирилловской стоянки в Киеве,
замечательный заключенными в нем огромными скоплениями костей ма-
монта. В противоположность верхнему, азильскому, слою той же стоянки,
прикрытому лишь пластом лёсса (правда, достигающим 10 м), нижний
горизонт стоянки находится в основании террасы на древнем цоколе
из коренных пород берега и, ^аким образом, предшествует накоплению
всей огромной 22-метровой толщи ее делювиально-аллювиальных отло-
жений.
Отсюда мы должны сделать вывод, что формирование надлуговой террасы
второго уровня, вюрмский возраст которой является признанным боль-
шинством геологов, охватывает время приблизительно от начала мад-
лена до азиля.
Такой вывод имеет для нас особенно существенное значение, так Kai?
он показывает несостоятельность взгляда, укрепившегося у нас в результате
неправильного определения возраста некоторых палеолитических стоя-
нок Украины (Журавка, стоянки Днепростроя), на верхний палеолит
как на историческую ступень, относящуюся целиком к послевюрмской
ЙО ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
эпохе. Этот взгляд, широко культивируемый до недавнего времени в уче-
ных кругах западной Европы, не имеет под собой, в действительности,
никаких серьезных оснований.
ВЕРХНИЕ ТЕРРАСЫ И ИХ ВОЗРАСТ
Значительно труднее сказать что-либо определенное о более древних
террасах речных долин европейской части СССР, поскольку — это нужно
определенно признать — и условия первоначального формирования их,
и вообще более ранние фазы их развития до сих пор остаются крайне слабо
освещенными. Что можно считать установленным для рек Украины —
это существование еще одной, верхней, 40-метровой террасы. Ее относят
к рисскому времени, поскольку во многих случаях удается наблюдать,
что донная морена максимального оледенения перекрывает эту террасу.
Дон Обычно считают, что в основании отложений верхней днепровской
террасы можно различить наносыминдельской ледниковой эпохи. На Дону,
по некоторым наблюдениям, ранние четвертичные слои верхней террасы
покоятся на аллювиальных отложениях плиоценового возраста.
Поскольку природная среда древнечетвертичного времени предста-
вляет для нас интерес лишь в той мере, в какой она освещает исторические
судьбы первобытного человечества, у нас нет оснований останавливаться
на деталях спорных геологических проблем. Для нас важно поэтому
в немногих словах наметить то, что является более или менее достоверно
установленным для истории речных долин в довюрмское время.
Днепр В эпоху развития максимального оледенения основные водные маги-
страли южной части восточноевропейской равнины, как Дон и Днепр,
служившие для спуска вод наступающего и тающего ледника, предста-
вляли собой гигантские водные артерии. Противоположные берега Днепра
ниже Киева для этого времени прослеживаются на расстоянии 50—100 км.
Нужно думать, что это была целая система озер и протоков, располо-
женных в обширной ложбине стока, вероятно периодически затапливае-
мой талыми водами, надвигавшимися со стороны ледника.
Карта гидрографической сети в эпоху рисса показывает, какие огром-
ные размеры имели тогда долины рек системы Днепра, Южного Буга и Дне-
стра, складывающиеся в целую систему чрезвычайно широких, но сравни-
тельно неглубоких протоков, имевших благодаря подпруживающему дей-
ствию ледника иные очертания и иное направление, чем в настоящее
время. 1
Что касается еще более ранней эпохи, то имеются основания полагать,
что чрезвычайно широко распространенные в южной части русской рав-
нины в основании древнечетвертичной толщи так называемые красно-
бурые глины, относящиеся частью еще к плиоценовому, частью к послеплио-
ценовому времени, могли образоваться лишь на обширных заболоченных
пространствах в условиях еще очень слабо разработанного рельефа страны.
Сходство их с латеритами Индии (см. стр. 188) и отсутствие в них каких-
либо растительных или животных остатков делает весьма вероятным та-
кое их происхождение.
На этом крайне еще общими чертами вырисовывающемся фоне ранне-
плейстоценовой истории страны, чрезвычайно большое значение приобре-
1 Ср. «Труды межд. конф. АИЧПЕ», в. II, 1933, стр. 79 и в. III, 1933, стр. 39
дг 54.
ВЕРХНИЕ ТЕРРАСЫ И ЦХ ВОЗРАСТ
81
тает недавняя находка, сделанная недалеко от Днепропетровска в районе
с. Кодак, где в древней террасе Днепра с орудиями мустьерских типов
собрана фауна, считающаяся характерной для миндель-рисской межлед-
никовой эпохи (Elephas trogontherii, Cervus megaceros илиeurycerosи др.).
Открытые в основании мощной многослойной толщи лёсса и террасовых
образований очень невысоко над уровнем Днепра, эти находки показы-
вают, во-первых, недостаточную обоснованность принятых до сих пор
представлений о соотношении ранних террас Днепровской долины.
Во-вторых, что еще важнее для пас, они говорят о несравненно боль-
шей древности заселения человеком европейской территории СССР, чем
это допускалось раньше.
Лучше изученные ран-
нечетвертпчные отложе-
ния речных долин север-
ной Франции позволяют
нам несколько ближе ра-
зобраться в ранней исто-
рии плейстоцена. Нельзя
сказать все же, чтобы и
Рис. 9. — Схематический разрез речной долины.
(По Ойермайеру)
здесь, в прпатлаптической
части Европы, хотя для
нее известны многочисленные находки раннеплейстоценовой фауны и
остатки человеческой деятельности, восходящие к древнейшей поре
четвертичного периода, история речных долин была разработана с доста-
точной степенью ясности.
Для классических местонахождений северной Франции по Сомме, Сомма, С«
Сене и Марне обычно принимается наличие трех плейстоценовых тер- Мариа
рас, расположенных приблизительно на высоте 10, 25—30 и 40 м над
уровнем реки. 1
Странным образом, эти террасы имеют сходное строение, будучи сло-
женными из мощных слоев галечников и песков, переходящих кверху
в тонкий глинистый нанос, и дают одинаковую последовательность смены
животных: от «теплой» фауны бегемота и древнего слона в отложениях
галечников — к фауне мамонта и северного оленя в верхних слоях (то есть
в делювиальном наносе, покрывающем эти террасы). Туже картину пред-
ставляют и остатки человеческого обитания, которые во всех трех тер-
расах позволяют проследить горизонты с находками шелльского, ашёль-
ского, мустьерского и верхнепалеолитического времени.
Разгадку этого странного явления, не поддававшегося до сих пор
сколько-нибудь удовлетворительному объяснению, мы находим в новей-
ших работах французских и английских исследователей.
Толчок для наблюдений g этом направлении дали труды Ш. Депере.'
Этому ученому удалось показать, что вдоль побережья Средиземного
моря наблюдается четыре яруса террас различного возраста, располо-
женных на высоте около 100—60—30—20 м над уровнем моря, с кото-
рыми связаны и террасы рек, впадающих в Средиземноморский бассейн.
Эти террасы, названные им, начиная с верхней, — Сицилийской, Ми-
лаццкой, Тирренской и Монастирскоп, имеют свою характерную фауну
и, по мнению Депере, охватывают весь плейстоцен, начиная с гюнцского
ледниковья.
1 J. Bayer, Der Mensch ini Eiszeitaller, Theil I—11, 1927, стр. 40 и сл.
6 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
82
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Перенесенные на почву северной Франции результаты исследований
Ш. Депере сделали очевидным, что представления прежних авторов, за-
нимавшихся изучением террас Сены и Соммы, требуют существенных
исправлений. Это касается, главным образом, условий находок палеолити-
ческих орудий и остатков фауны. Последние нередко оказываются здесь,
во вторичном залегании, вымытыми из более древних, выше лежащих
террас. Понятно, что это приводило к неправильному признанию одно-
временности совершенно в сущности различных образований.
Подобный случай Депере констатировал в отношении известного ме-
стонахождения Шелль на Марне, по которому получила свое название
древнейшая эпоха человеческой истории, где орудия шелльских типов
происходят из перемытых отложений более древнего возраста.
Если взять лучше изученные еще со времен Прествича и Лайелля
местности Соммы в районе Аббевиля и Сент-Ашёля, их стратиграфия
в свете новых данных 1 дает возможность сделать ряд весьма интересных
заключений.
Верхняя, 40-метровая терраса Соммы в ее основных напластова-
ниях лучше всего характеризуется такой фауной млекопитающих, как
Elephas meridionalis, Elephas antiquus в его архаической разновидности,
Rhinoceros etruscus и пр.,то есть такими видами, которые, по общему мне-
нию геологов и палеонтологов, существовали в Европе лишь в самом на-
чале плейстоцена. Эти остатки в тех же слоях сопровождаются в ряде
мест по Сомме типичными шелльскими рубилами.
Средняя, 30-метровая терраса Аббевиля и Сент-Ашёля в подсти-
лающем горизонте из крупного гравия содержит рубила позднего
шелльского типа, носящие следы сильной выщербленности в результате
их перемещения из первоначального места залегания — возможно, в верх-
ней террасе. Таким образом, эта терраса не могла образоваться раньше
конца шелльского времени, скорее же относится уже к ашёльско-мустьер-
скому времени.
Темза Подобную же обстановку показывают находки древней фауны и палео-
литических орудий в террасах Темзы и других рек юго-восточной Англии.
Благодаря близости ледника, подходившего почти вплотную к долине
Темзы, здесь имеется большая, чем где-либо в Европе, возможность син-
хронизации стадий оледенения с историей древнейшего заселения Европы
человеком.
В этой части Англии описан ряд местонахождений, где орудия шелль-
ского возраста встречаются в верхних террасах морского побережья,
как и в аналогичных отложениях, уходящих вдоль рек в глубь острова.
Некоторые из этих находок (Clacton, Barnfield Pit) интересны тем, что
здесь шелльские рубила залегают в наносах ледникового происхождения
вместе с валунами северных пород и носят признаки обработки ледциком.
Уав Особенного внимания в этом смысле заслуживают разработки гравиев
в Уоррн-Хилл (Warren Hill), в 40 км к северо-востоку от Кэмбриджа,
расположенные на возвышенном плато над р. Узой, притоком Ларка,
то есть уже в области распространения морены северного ледника.
В виду особенного значения этого местонахождения для выяснения
стратиграфического соотношения шелльских орудий и первого оледене-
ния Англии, оставившего нижний пласт морены (Kimmeridge Boulder
Clay), приведем его описание по недавно опубликованным данным Брейля.
1 Н. Breuil, Les industries a eclat du paleolithique ancien, Le Clactonien, «Prehistoire»,
t. /, /. 11, стр. 175.
ЛЁСС
88
В основании отложений невысокого плато поверх очень тонкой, светло-
серой, слегка желтоватой глины, очень напоминающей глины Contorted
beds в Кромере, залегает довольно сложный комплекс ледниковых обра-
зований из песков и галечников, часто включающих куски мела, кремне-
вые желваки и многочисленные валуны кварцита. Этот нижний горизонт
моренного наноса (нижний Till) содержит вместе с тем значительное число
шелльских орудий в таком состоянии (расколотые, выщербленные и избо-
рожденные), которое, по мнению английских геологов, показывает, что
они были выпаханы первым большим оледенением (миндельским) из
отложений более древней, доледниковой речной террасы. Выше идут
сильно размытые слоистые пески и гравии с орудиями поздних ашёльских
типов, которые местами оказываются прикрытыми верхним моренным
наносом (Chalky Boulder Clay). Сверху в разрезе залегают пески эолового
происхождения с отдельными находками кремней верхнепалеолити-
ческого облика.
Нетрудно видеть, что приведенные нами наблюдения совершенно
меняют оценку возраста древних террас юго-восточной Англии (содержа-
щих орудия шелльских типов), установившуюся со времен Лайелля,
который помещал их в эпоху, следовавшую за большим оледенением,
достигавшим долины Темзы.
ЛЁСС
Влияние климата ледниковой эпохи сказывалось не только на режиме
вод, циркулировавших на поверхности суши, и на колебаниях уровня
морей и океана.
Во внеледниковой области материков северного полушария мы находим
разнообразные геологические образования, происхождение которых тесно
связано с условиями, созданными эпохой оледенения.
Вне пределов морены (иногда и на самой морене максимального оле-
денения) залегают на громадных пространствах восточной, а также сред-
ней, а частью и южной Европы, затем в Сибири, средней Азии и на даль-
нем востоке азиатского континента — в северном Китае и Монголии —
особыеглины, или, правильнее, суглинки, которым дают название «лёсса».
Типичный лёсс — это особый вид суглинка светложелтого цвета,
богатый известью, очень тонкий и весьма однородный. Он сильно порист,
то есть пронизан мелкими пустотами и канальцами, и не обнаруживает
слоистости, которой обладают породы, отложенные водным путем. Зале-
гая ровным пластом на речных водоразделах, он спускается в речные до-
лины, овраги и балки, стремясь как бы сгладить древний расчлененный
рельеф. Однако его нет, например, на пойме, и вообще он не спускается
ниже определенной границы, намеченной надлуговой террасой, что ука-
зывает на эпоху, когда он перестал отлагаться.
С происхождением лёсса связано много гипотез. В своей недавно
опубликованной работе акад. В. А. Обручев 1 сводит многочисленные
гипотезы, созданные для объяснения происхождения лёсса, к восьми
основным. Это гипотезы — аллювиальная, ледниковая, морская, озерная,
делювиальная, космическая, эоловая и почвенная. Если оставить в сто-
роне гипотезу о космическом происхождении лёсса (то есть его образо-
вании из космической пыли), в пользу которой не может быть приведено
Свойства
тивнчног
лёсса I
Происхиг
иве лес
1 В. А. Обручев, Проблема лёсса, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. II, 1933,
стр. 115.
84
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
достаточно серьезных доводов, остальные гипотезы несомненно прило-
жимы в топ или другой степени для объяснения образования лёсса и
сходных с ним лёссовидных суглинков.
Однако, если говорить лишь о типичном лёссе, обладающем всеми
свойствами, характерными для этой породы, — однородностью, отсутствием
слоистости,. отношением к рельефу, присущим только типичному лёссу,
залегающему и на высоких точках водоразделов, и на пониженных склонах
долин, — ни одна из гипотез, связывающих образование лёсса с деятель-
ностью воды, не может дать удовлетворительного объяснения этим его
особенностям. Таким образом, нам приходится в данном случае исключить
из своего рассмотрения гипотезы, связующие происхождение лёсса с дея-
тельностью рек (аллювиальная), переносом его ледниковыми водами
(ледниковая), временными потоками и дождевыми ручьями (делювиаль-
ная) или видящие в нем отложение озер пли морей. В значительной мере
это относится и к ((почвенной» пли ((элювиальной» гипотезе Л. С. Берга,
поскольку этот ученый допускает лишь водное происхождение материн-
ской породы, из которой путем последующего химического и механиче-
ского выветривания и процесса почвообразования образуется лёсс.
Во всех этих случаях участие воды должно было бы сказаться в слои-
стости наноса, в его отмучивании, в присутствии в его толще всякого
рода включений, например прослоек песка или мелкой гальки, чего не
бывает в типичном лёссе, который нередко образует большие толщи
совершенно однородного тонкого суглинка, измеряемые десятками мет-
ров.
Эоловый лёсс Поэтому все же наиболее вероятным является взгляд, принятый зна-
чительным большинством геологов, что лёсс откладывался, главным
образом, эоловым, то есть воздушным путем, будучи переносим ветрами
в виде облаков пыли. Такой процесс образования лёсса, естественно,
был возможен только при условии определенного ландшафта и очень
сухого климата, который, вероятно, должен был иметь место в некоторые
периоды истории великого северного ледника.
По мере отхода ледника большие площади моренных образований и
еще не успевшие покрыться растительностью песчаные поля, окаймляв-
шие конечные морены, подвергались энергичной переработке ветрами,
которые уносили мелкие частицы минерального материала и затем от-
лагали их в более пли менее отдаленных местностях.
Это явление должно было иметь закономерный характер вследствие
создававшейся в области ледников антициклонической погоды — с ветрами,
падавшими с ледника на прилегающие равнины.
Можно до известной степени проследить и направление этого пере-
носа, так как более крупные частицы пыли скорее оседают из воздуха,
чем мелкие, которые уносятся значительно дальше. Таким путем при изу-
чении состава лёсса в некоторых районах Украины, затем в пределах
Орловского края удалось констатировать, что частицы лёсса увеличи-
ваются в размере по направлению к северо-западу. 1 Очевидно, обширные
песчаные равнины Белоруссии и Литвы в свое время служили источником
энергичного лёссообразования. Такие же наблюдения сделаны и в отно-
шении лёсса Германии.
Значение Видимо, было бы неправильно слишком обобщать этот факт в том смысле,
постоянных что развевание фенами (ветрами, дувшими с ледника) зандровых полей
ветров-------------------------------------------------------------------------
1 Г. Ф. Мирчинк, О физико-географических условиях эпохи отлоэ!сения верхнего
горизонта лёсса на площади европейской части СССР, «Известия Акад, наук СССР»,
Отделение физико-математических наук, 1928, Л? 2, стр. 137.
71ЁСС
85
Рис. 10. Карта Европы, показывающая господствующие ветры
по южной окраине вюрмского оледенения и распределение пло-
щадей лёсса.
(По Г. Ф. Мпрчпику)
н вообще минерального материала, накопленного по окраинам ледника,
должно было иметь место в одинаковой мере по всей окраине ледников.
Г. Ф. Мирчинк указывает, что в вюрмское время в действительности вынос
пыли ветрами происходил лишь на определенных участках экстраглаци-
альноп области, где, благодаря соседству горных массивов, создавались
условия, благоприятные для сильных постоянных токов воздуха в этих
«коридорах». Такими горами для восточной Европы были Карпаты, по-
чему господствовавшие здесь восточные ветры, прорываясь между север-
ными склонами Карпат и ледником, в виде широкого веера разносили
лёссовую пыль на пространстве от зоны накопления моренного материала
в Белоруссии и на верхнем Днепре до Черного моря (см. карту, рис. 10).
Такие же ветры,
отклонявшиеся в
западном напра-
влении, должны
были откладывать
лёсс в средней,
частью и южной
Германии (по Рей-
ну и в бассейне
Дуная) и в обшир-
ной лёссовой обла-
сти северной Фран-
ции. Нельзя не
признать, что кар-
та, составленная
Г. Ф. Мигчинком,
может, действи-
тельно, дать объ-
яснение распро-
странения вюрм-
ского лёсса в
Европе.
Эоловая гипо-
теза происхожде-
ния лёсса возник-
ла, однако, перво-
начально не в применении к лёссовым наносам Европы, обязанным своим
происхождением деятельности ледника. Признанным автором этой гипо-
тезы является известный Рихтгофен, предложивший ее для объяснения
возникновения лёссовых образований в северном Китае и юго-восточной
Монголии. Поскольку здесь отсутствуют следы значительных оледенений,
очевидно, что условия, благоприятные для переработки ветром материала
разрушенных горных пород, создавались и в некоторых пустынях се-
верного полушария.
Действительно, обширные каменистые и песчаные пустыни централь-
ной Азии оказываются окруженными с востока, севера и запада (со стороны
Китая, предгорной полосы Сибири и Средней Азии) полосой лёссовых
отложений. Так образовались плодородные лёссы северного Китая путем
осаждения в течение многих десятков тысячелетий массы пыли, перено-
сившейся некогда ветром из внутренних частей пустыни Гоби.
В настоящее время придается гораздо меньше значения участию в деле
отложения лёсса Китая периодически возникавшим водным потокам,
S6 ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ II ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
чем это думал Рихтгофен, считавший, что образование лёсса шло в зна-
чительной степени все же за счет переработки местных пород (он еще не-
достаточно учитывал роль зон развевания).1 Для нас, во всяком случае,
важно, что Рихтгофен с достаточной убедительностью выяснил связь
процесса лёссообразования, где бы он ни происходил, с условиями за-
сушливого, континентального климата и деятельностью ветра, особенно
проявляющейся в этой природной обстановке.
Возражения Несмотря на появляющиеся в специальной литературе возражения
против эоло- против возможности образования лёсса эоловым путем, вряд ли можно
В0Гжие1гаяХв' считать эоловую гипотезу сколько-нибудь серьезно поколебленной. Нап-
лёсеа более существенные возражения, выдвигаемые Л. С. Бергом для подкре-
пления его почвенной гипотезы, сводятся: 1) к невозможности допустить
эоловое накопление столь значительных толщ мелкозема, 2) к отсутствию
в лёссе признаков (в частности, отсутствию гумуса), доказывающих его
отложение в виде пыли на равнинах, имевших растительный покров,
сходный с современной степью, 3) к нахождению в нем валунов и нередким
случаям перехода типичного лёсса в слоистую породу. 2
Не входя в критику этих положений, поскольку это является делом
специалистов, должно заметить, что условия находок палеолитических
остатков в лёссе в подавляющем большинстве случаев не дают основа-
ния думать, что они могли подвергаться действию водных потоков. Палео-
литические поселения сохраняются в той обстановке, в какой они существо-
вали в эпоху, когда их обитатели выбирали для жилья удобные, сухие,
очевидно покрытые растительностью участки береговых возвышенностей.
Иные воз- Во всяком случае, чрезвычайно горячая полемика, возникавшая время
нежности от времени в связи с эоловой гипотезой и другими объяснениями про-
Ле<вам|?30' вхождения лёсса, имела тот положительный результат, что позволила
наметить возможность применения этих взглядов к частным случаям
лёссообразования, протекавшего в разнообразной обстановке, склады-
вавшейся в эпоху плейстоцена на окраинах великого северного ледника
и в пустынных областях северного полушария.
Просматривая литературу по лёссу восточноевропейской равнины,
начиная со старых, но не потерявших своего значения трудов А. В. Гуро-
ва, П. Я. Армашевского, В. В. Докучаевэ и кончая новейшими работами
советских геологов — Д. Н. Со6олева, В. И. Крокоса, Г. Ф. Мирчинка
и многих других исследователей, нетрудно убедиться, что лёсс, вернее,
породы лёссового типа должны были, действительно, откладываться
самым иазличным путем, чаще всего в виде выноса отмученного мате-
риала морены флювио-глациальными потоками, также в виде речного или
озерного наноса, затем в результате переработки морены максимального
оледенения или иных пород мелкими дождевыми струйками и т. д. При
этом, объединяющим моментом в процессе преобразования столь различных
отложений в лёсс должен был явиться определенный, резко выраженный
континентальный режим.
Во многих случаях удается доказать, что лёсс может получаться в виде
1 В. А. Обручев, Проблема лёсса, стр. 123.
2 Объяснение, даваемое Л. С. Бергом происхождению лёсса, сводится в немногих
словах к тому, что он рассматривает последний как породу, образующуюся на раз-
личном материнском субстрате — аллювиального, делювиального или водноледни-
кового происхождения, который затем в результате процессов почвообразования
преобразуется в лёсс. Соображения Л. С. Берга обстоятельно изложены в его первой
статье — О происхождении лёсса, «Известия Р. Г. О.», т. LII, 1916, в. VIII, стр. 581,
а также в других его работах, и недавно повторены, правда, в несколько измененном
виде, в «Трудах II межд. конф. АИЧПЕ», в. 1, 1932, стр. 68.
ЛЕСС
.87
тонкого ила при разливах рек пустынно-степной полосы, муть которых
по своему составу очень близка к лёссу. Нильский ил, так же как ил
Миссисипи и рек средней Азии, мало чем отличается от типичного лёсса.
Таким образом, в пониженных частях речных долин он мог в условиях
ледниковой эпохи во многих случаях оставляться во время речных поло-
водий. Затем он мог откладываться и несомненно откладывался в виде
делювия — очень тонкого продукта разрушения различных пород, ко-
торый постепенно намывается на склонах при таянии снега, во время
дождей и т. п. Во всяком случае, в образовании лёсса в Европе очень
большую роль должен был сыграть ледниковый ил, который перераба-
тывался и переносился силой ветра и воды.
То, что типичный лёсс, то есть лёсс, получившийся в результате медлен-
ного накопления тонкого, отмученного мелкозема на поверхности суши,
должен был образоваться в условиях сухого климата и степного ланд-
шафта,— доказывает его состав и его структура.
Характерная пористость лёсса объясняется тем обстоятельством, что
он должен был оседать на покрытых травой равнинах и с течением времени
перерабатывался растительностью, корни которой пронизывали его
сетью мельчайших канальцев. Это, несомненно, не могли быть тучные
черноземные степи, подобные современным украинским степям, поскольку
в лёссе мы не находим значительной примеси гумуса, темноцветного органи-
ческого образования, которое окрашивает почвы при условии достаточного
увлажнения. Наоборот, он содержит всегда большое количество извести
в распыленном состоянии, которая отсутствует в нормальных степных
почвах черноземного типа, хорошо промываемых дождевыми осадками.
Таким образом, лёсс скорее является продуктом засушливой—«(сероземной»
степи или полупустыни, такой, какую мы знаем в современной Средней
Азии.
На подобные физико-географические условия указывают и раковинки
наземных моллюсков, находимые в лёссе, а равным образом и кости жи-
вотных, принадлежащие типичным представителям среднеазиатских сте-
пей. Однако в лёссе встречаются остатки и таких животных, как перво-
бытный бык, сибирский носорог, мамонт, благородный олень, по-
лярные грызуны и другие, которые предпочитают жизнь в лесу или в
Основное
условие —
засушливый
климат
н степной
ландшафт
тундре.
Из этих фактов можно заключить, что лёсс образовывался в эпоху
сухого и достаточно сурового климата, когда тундра простиралась да-
леко к югу, сменяясь холодными засушливыми степями, тогда как в бо-
лее защищенных долинах рек могли расти леса, дававшие приют лесным
животным.
В своем географическом распространении в европейской части СССР
лёсс известен почти на всемчпространстве Украины, затем в бассейне
Дона и Волги, правда, приобретая здесь, как это было выяснено А. П.
Павловым, характер делювия, продукта разрушения местных пород, а
не типичного лёсса. К северу он довольно далеко заходит за границу
максимального оледенения. В частности его северный рубеж составляет
долина р. Оки, хотя лёссовидные суглинки известны и севернее, напри-
мер в долине Клязьмы, и встречаются даже местами в Вологодском
крае.
Это свидетельствует о том, что отложение лёсса относится к эпохе,
следовавшей за наибольшим развитием оледенения. Однако начало его
образования относится к более раннему времени, отчасти даже предше-
ствовавшему максимальному, так называемому рисскому оледенению.
88
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
ВРЕМЯ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЁССА
Ряд наблюдений говорит за то, что лёсс слагается из нескольких гори-
зонтов, которые должны быть приурочены к разному времени. В лёссе
водораздельных возвышенностей, который является в общем более древ-
ним, чем лёсс склонов, часто бывает заметна темная прослойка, так назы-
ваемый гумусный лёсс, который, как это установлено, представляет собой
древний, погребенный в лёссе почвенный горизонт. Такие прослойки
представляют явление нередкое и в позднейших лёссовых отложениях —
лёссах склонов речных долин.
Присутствие почвенных слоев требует допущения, что сухой климат
лёссовой степи сменялся на некоторое время более влажным климатом,
когда замедлялись процессы лёссообразования и на орошенных осадками
степях шло образование почвы лугового или черноземного типа.
Связь отло- Должно заметить, что связь отложений лёсса в экстраглацпальной
«кеиля лёееа зоне с повторным развитием ледниковых явлений, в настоящее время
олГонени11 более или менее общепризнанная, выдвинута была сравнительно очень
недавно, в особенности исследованиями Зкргеля. Последний основывает
свою точку зрения на соподчиненности лёсса в его распространении ко-
нечным моренам последовательных оледенений, на отсутствии лёсса
в межморенных отложениях, 1 на фауне лёсса, содержащей в своем со-
ставе главным образом виды, свойственные степи и тундре, и т. д.
До этого времени, то есть до 20-х годов текущего столетия, в геологи-
ческих работах господствовало, в значительной мере под влиянием взгля-
дов П. А. Тутковского, 2 диаметрально противоположное представле-
ние, по которому отложение лёсса шло в засушливые межледниковые
эпохи, чередовавшиеся с холодными и сырыми эпохами оледенения, когда
начиналось образование почв. Однако против такого толкования го-
ворит, например, тот факт, что лёсс не простирается на морену последнего
(вюрмского) оледенения и в своем распространении обнаруживает зави-
симость от полосы выноса измельченного минерального материала этой
морены.
По мнению большинства западноевропейских и советских геологов,
как оно отражено в работах, вышедших за последние 10—15 лет, пери-
оды почвообразования должны были совпадать с более теплыми меж-
ледниковыми эпохами или периодами отступания ледников.
Лёсс с этой точки зрения есть продукт холодных и резко континенталь-
ных эпох наступания ледника.
С другой стороны, некоторые геологи все же еще продолжают при-
держиваться противоположных взглядов, считая лёсс продуктом меж-
ледникового или даже, в значительной степени, послеледникового вре-
мени. С последним толкованием было бы особенно трудно согласиться,
хотя бы уже потому, что лёсс всегда содержит древнечетвертичную фауну
и следы поселений охотничьих обществ эпохи мамонта и северного оленя.
1 «Das allgemeine Fehlen des Loss unter Moranen muss unbedingt als ein urspriin-
gliches angesehen werden; es ist unvereinbar mit der Annahme eines interglazialen
Alters des Loss». W. Soergel, Losse, Eiszeiten und paldolithische Kulturen, Eine Gliede-
rung und Altersbestimmung der Losse, Jena, 1919, стр. 23.
2 И. Тутковский, К вопросу о способе образования лёсса, «Землеведение», 1—2,
1899, стр. 213. Работы Тутковского сыграли большую роль в понимании происхо-
ждения лёсса за счет перевевания ветрами, дувшими с ледника (фенами), выноса
морены — вопреки первоначальным возражениям Анучина, Воейкова и др.
ВРЕМЯ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЁССА
8»
Уже быстрота и прямолинейность, с которой одни взгляды на такие
важные вопросы четвертичной истории, как время и условия образования
лёсса, сменились в среде геологов совершенно иными взглядами, пре-
красно характеризуют ту неустойчивость и недостаточную продуманность,
которая находит себе место во всем комплексе проблем четвертичной
геологии и которая в значительной мере объясняется абстрактностью
и схематизмом построений, связанных с так называемым полиглациа-
лизмом.
Если исходные положеия Зёргеля не могут, видимо, вызвать особых
возражений, так как, действительно, у нас имеются все основания думать,
что лёссовый покров Европы и северной Азии доля;ен был образоваться
в особых условиях климатического режима, созданных надвиганием
северного ледника,— его выводы в отношении времени лёссообразования,
принятые в значительной мере и советскими геологами, способны вызвать
большие сомнения.
Нам представляется одинаково мало обоснованным и отнесение Зёр-
гелем мустьерских памятников Европы к поздним отложениям лёсса —
«молодому» лёссу, соответствующему по его взглядам послерисской (вюрм-
ской) фазе оледенения, откуда вытекает значительное омоложение в геоло-
гическом масштабе времени всей первобытной истории человечества, и
требуемое его схемой шестикратное обязательное отложение лёсса в ги-
потетически конструируемые им эпохи наступания ледников. При этом
и сам Зёргель в известной мере ощущает искусственность своего построе-
ния и затруднительность приурочить образование отдельных толщ лёсса
к следовавшим одно за другим оледенениям. 1
Вопрос о времени отложения лёсса имеет для нас особенное значение
по находкам в нем на всем пространстве Евразии, от Франции до Китая,
культурных остатков человека ледниковой эпохи. Культурные остатки
сопровождают лёсс во всех его горизонтах, охватывая значительный
период времени от так называемого ашёльско-мустьерского до конца
мадленского времени. Как мы увидим ниже, из этого следует, что начало
образования лёсса не могло намного предшествовать эпохе максимального
оледенения уже по одному тому, что теплая фауна ранней ледниковой
поры в лёссе вообще никогда не встречается. Для лёссовых отложений
одинаково как Европы, так и Азии, наоборот, характерна холодная фауна,
принесенная надвигающимся ледником.
Естественно думать, что условия теплого и влажного климата, отли-
чавшие ранний плейстоцен, не могли благоприятствовать отложению
лёссовой пыли.
Для того чтобы несколько разобраться в попытках геологов точнее
определить эпоху, к которой относится отложение лёсса, нужно помнить,
что единственным пока общим церилом времени для всей плейстоценовой
истории Европы и северной Азии остается история развития северного лед-
ника.
Отсюда геологическая датировка явлений, имевших место в областях,
лежавших вне границ распространения моренных образований, является
возможной лишь при условии увязки их с той или другой фазой развития
континентального оледенения.
Взгляды
Зёргеля
на время
отложения
лёсса
Теплая фауна
раннего плей-
стоцена не
встречается
в лёссе
1 Soergel, ук. соч., стр. 81. Нужно заметить все же, что Зёргель включает в вюрм-
ское оледенение в качестве первой его стадии какое-то промежуточное оледенение,
следовавшее за риссом, которое будто бы соответствует максимальному оледенению
Альпийской области. Ср. таблицу, приложенную к работе Soergel’a. — Die Jagd der
Vorzeit, 1922.
90 ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ II ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Расчленение Для лёсса эта возможность заключается, прежде всего, в его залегании
лесса на на вечных террасах разного возраста и в его расчленении на отдельные
горизонты г ггг г г
горизонты зонами выщелачивания или слоями ископаемой почвы.
Насколько свободно, обычно, оперируют определением возраста лёсса
по таким признакам, показывают, например, рассуждения Солласа 1 ка-
сательно лёсса северной Франции, в которых он, исходя из двух неизвест-
ных— времени образования лёсса и времени образования террасрешает
одно из другого. Схема его рассуждений такова: так как древний лёсс об-
разовался в течение третьего ледникового периода (вернее, в тирренское
время), то третья и вторая террасы Соммы, на которых он залегает, должны
относиться соответственно к нижнему милаццкому и нижнему тиррен-
скому времени. Новый лёсс лежит непосредственно на первой террасе —
как и на более древних — и является продуктом четвертого оледенения
(верхнее монастирское время); поэтому эта терраса принадлежит ниж-
нему монастирскому времени.
Новый лёсс разделяется на три горизонта прослойками гравия, отве-
чающими трем дождливым периодам в позднеледниковой истории север-
ной Франции, и т. д.
В основе представлений о древности лёсса нередко лежит идея, что
каждое наступание ледника должно было иметь свой цикл отложения
лёсса,— идея, которую нельзя не рассматривать как исходящую из чисто
априорных, совершенно неубедительных допущений.
Не приходится думать, как это иногда принимается геологами, наибо-
лее увлеченными схемой Зёргеля, что каждая прослойка, разделяющая
толщу лёсса, — в виде зоны выщелачивания или слоя почвы, — должна
была, с другой стороны, отвечать эпохе отступания ледника и длитель-
ному периоду потепления и увлажнения. Недостаточность одного этого
признака отчетливо ощущается более осторожными исследователями. 2
Отношение Весьма важным фактом, из которого приходится исходить в оценке
егокмореннм возраста украинского типичного эолового лёсса, является залегание его
северного главной толщи на морене максимального оледенения. Отсюда следует,
оледенения чт0 соответстВуЮщИд горизонт лёсса может быть отнесен ко времени,
следующему за отступанием рисского ледника, то есть к рисс-вюрмской
и последующей эпохе.
Молодой лёсс Мы не знаем точно, когда должен был начаться процесс образования
этой толщи лёсса (jungerer Loss—немецких авторов). По мнению Зергеля,
она отложилась в эпохи наступания ледников, три раза возобновлявшегося
со времени рисскогооледенения (jungerer Loss I, jungerer Loss II, jungster
Loss), которым соответствовало распространение тундро-степного ланд-
шафта, тогда как в периоды отступания ледников поверхность лёсса
подвергалась действию процессов выветривания. Такое утверждение носит,
однако, чисто теоретический характер.
Что можно считать более или менее достоверным — это то, что процесс
перевевания морены рисского оледенения, очевидно, должен был начаться
после отхода ледника к северу и спада предледниковых вод, оставивших
после себя значительные толщп флювио-глациального наноса, покры-
вающего рисскую морену в бассейне Днепра.
Несомненно, что особенно энергично лёссовая пыль откладывалась
1 W Sollas, Ancient Hunters, III Ed., London, 1924, стр. 147.
2 Ср., например, Д. Н. Соболев, О стратиграфии четвертичных отложений
Украины, «Бюллетень Комиссии по изуч. четверт. периода», Л» 2, 1930, стр. 17;
Г. Ф. Мирчинк, Стратиграфия, синхронизация и распространение четвертичных
отложений Европы, «Труды И межд. конф. АИЧПЕ», в. III, 1933, стр. 118.
ВРЕМЯ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЁССА
91
в более холодное и засушливое время, сопровождавшее отступание лед-
ника в пределы его вюрмской фазы.
Но, как мы видели, этот процесс продолжался еще довольно долго
и после отступания вюрхмского ледника, свидетелем чего является до-
статочно мощная толща лёсса, покрывающая второй уровень нижней
террасы украинских рек. Исчезновение остатков мамонта в культурных
отбросах палеолитических стоянок, прикрытых этим лёссом (Кириллов-
ская стоянка — верхний горизонт, Журавка и др.), как и соображения
стратиграфического характера, о которых мы говорили выше, бесспорно
свидетельствуют о бюльском возрасте этого позднейшего лёсса. 1
Возвращаясь к схеме Зёргеля, укажем еще, что если он прав, таким
образом, в датировке самого позднего лёсса средней Европы бюльской
стадией, он, несомненно, ошибается, увязывая его с мадленской палеолити-
ческой эпохой. Время этого лёсса определяется наличием в нем только
что нами названных памятников (Кирилловская стоянка — верхний гори-
зонт. Журавка); к ним мы можем добавить целый ряд поселений того же
типа — стоянки Днепростроя, Рогалик на Донце и т. д., которыми закан-
чивается собственно палеолитический период восточной Европы.
Несравненно менее выясненным является вопрос об отложении лёсса Древний лё
в предшествующую эпоху, то есть так называемого древнего лёсса (alterer
Loss). Очевидно лёсс в рисское время мог накапливаться лишь вне границ
максимального оледенения, заходившего далеко в глубь южнорусской
равнины. Поскольку, однако, нижние горизонты лёсса в этих местах по
большей части не содержат никаких характерных остатков ни в смысле
фауны, ни в отношении следов деятельности человека, выделение их
по другим признакам является и затруднительным, и мало надежным.
Условность и бездоказательность обычных геологических схем, осно-
вывающих на присутствии в лёссе большего или меньшего числа гори-
зонтов погребенных почв равное им количество межледниковых эпох,
лучше всего иллюстрируется находкой у с. Кодак, в районе Днепро-
петровска.
Остатки мустьерской стоянки здесь залегают в древней террасе, располо-
женной невысоко над уровнем Днепра, в слое песков и глин озерно-речного
происхождения, и перекрыты мощной толщей лёсса, достигающей 20—25 м
и разделенной на 4—5 ярусов ископаемой почвой. Для совершенно ана-
логичного разреза лёссовой толщи в окрестностях Днепропетровска
В. И. Крокос 2 принимает четыре или пять наступлений эпохи оледенения.
Вряд ли все же можно допустить, что мустьерское время от нас отделяет
такое большое число ледниковых и межледниковых эпох. Во всяком случае,
никаких доказательств в пользу этого привести было бы невозможно.
Присутствие слона трогонтерия, считающегося характерной формой
миндель-рпсской межледниковой эпохи, вместе с сибирским носорогом,
оленем с гигантскими рогами,«. бизоном, благородным и северным оленем
указывает на время этой находки. Во всяком случае, геологическая
обстановка не противоречит возможности синхронизировать ее с началь-
ными стадиями днепровского оледенения.
Если учесть, что геологическая древность лёсса достаточно изучена Начало обр:
в Германии, где эти отложения могут быть привязаны к моренам север- эовапиилёс1
1 Г. Ф. Мирчинк, О физико-географических условиях..., 1928, стр. 133; он же, Геоло-
гические условия нахождения палеолитических стоянок в СССР и их значение для, вос-
становления четвертичной истории, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. V, 1934,
стр. 65.
2 Путеводитель экскурсий второй четверт.-геолог, конференции, 1932, стр. 154.
92
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
ного и альпийского оледенений, для нас особенное значение имеет опреде-
ление времени древнейшего лёсса Германии, содержащего остатки ашёль-
ского типа. Как Байер, так и Зёргель помещают отложения лёсса с мустьер-
скими находками в эпоху максимального оледенения, а более ранний
лёсс с ашёльскими остатками — в предшествующее межледниковье. 1
Вигерс, который в общем стоит на той же точке зрения из-за ошибоч-
ного определения Маркклееберга с его типичными мустьерскими наход-
ками поздним ашёлем, относит ашёльское время к риссу. Отсюда и древний
лёсс Германии, Бельгии и Франции Вигерсом относится к эпохе макси-
мального оледенения.
Если учесть стратиграфическое положение глинистого горизонта,
разделяющего слои травертина в долине Ильма, который сопоставляют
с древним лёссом (см. стр. 104), приходится думать, что первое образование
лёсса должно было начаться в непосредственно предрисское время. Об
этом говорит фауна этого лёсса и заключающиеся в нем нередко остатки
поселений с орудиями позднеашёльских типов. Что же касается предполо-
жения о возможности более ранних отложений лёсса, 2 3 все наиболее серьез-
ные авторы, изучавшие отношение к лёссу находок фауны и палеолити-
ческих остатков, признают существование более раннего лёсса вполне
гипотетичным.
ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛЕДНИКОВОГО
ПЕРИОДА
На предшествующих страницах мы изложили в общих чертах те факты
геологического порядка, которые позволяют составить известное пред-
ставление о физико-географических условиях древнечетвертичного вре-
мени. Эти факты говорят о длительном, усиливающемся с течением вре-
мени процессе понижения температуры и ухудшении климатического
режима Европы, наступившем вслед за охлаждением полярных областей
и развитием континентального ледника на севере Европы.
Климатические условия ледниковой эпохи, насколько мы знаем, не
оставались постоянными. Они были подвержены известным колебаниям
в смысле повышения или понижения температуры, увеличения или умень-
шения влажности, что не могло не отражаться на накоплении или стаива-
нии ледяного покрова, наступании или отступании ледника и общем ре-
жиме областей, лежащих вне области оледенения.
Причины этих явлений для нас остаются не вполне ясными. Во всяком
случае, установлено, что они имели не местный и не частный характер,
но в той или иной мере находили отражение если не на всем земном шаре,
то по крайней мере в северном полушарии.
Вполне естественно, что стройная система повторных оледенений,
которая была установлена Пенком для альпийского горного массива,
побуждала исследователей и в великом европейском оледенении отыски-
вать такую же правильную смену ледниковых эпох, чередующихся с эпо-
1 Поскольку такой вывод не вяжется со схемой Зёргеля, требующей образования
лёсса обязательно в определенные фазы ледникового времени, он вынужден перекроить
ледниковые эпохи и максимальное оледенение помещает в вюрм, а ашёль растягивает
на предшествующие межледниковую и ледниковую эпохи.
3 Зёргель в своей совершенно кабинетной схеме, о которой приходится говорить
п виду се большого влияния на построения, в частности, и советских геологов, древний
(alterer Loss I) и древнейший (altester Loss) лёсс помещает в до шелльское время, соот-
ветственно параллелизпруя их с миндельским и гюнцским оледенениями.
ЖПВОТНЫЙИ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
93
хами межледниковыми, а с ними поставить в связь и все остальные факты,
наблюдаемые в истории ледникового времени.
Весьма соблазнительно рисовать картину ледникового периода таким
образом, что каждое из последовательных оледенений Европы неиз-
бежно вызывало свой цикл геологических явлений в смысле усиления
деятельности рек, отложения лёсса, изменения характера почвенных
образований и т. д. С тою же правильностью, казалось, должен был при
наступании и отступании ледника видоизменяться и ландшафт Европы:
полярная тундра, травянистая степь, хвойные и лиственные леса по-
следовательно сменяли друг друга во время чередовавшихся ледниковых
и межледниковых эпох. Отсюда естественно, что и животный мир Европы
претерпевал одновременно такие же изменения.
Наступающий ледник приносил с собой обитателей тундры — север-
ного оленя, песца, овцебыка и других животных, которые по мере от-
хождения ледника вытеснялись животными умеренного пояса, а расцвет
межледниковой эпохи с ее мягким климатом снова давал возможность
возвратиться на старые места, на берега Темзы пли Рейна, временно
отступившим на юг представителям субтропической фауны — бегемоту,
древним видам слонов и носорогов, махайроду, ископаемому бобру и
другим животным. Такова в общих чертах реконструкция явлении ледни-
ковой эпохи, которую предлагает теория полиглациализма в ее крайнем
проявлении.
Однако подобное истолкование явлений ледниковой эпохи, как бы
оно ни казалось соблазнительным благодаря своей стройности и кажу-
щейся правдоподобности, в действительности наталкивается на большие
трудности фактического порядка. У нас прежде всего нет уверенности
в том, что чередование оледенений, если оно имело место, действительно
вызывало с известной ритмичностью ту пли иную работу рек, ветра,
изменение климата и пр. Наоборот, имеется достаточно данных, чтобы
утверждать, что, например, отложение лёсса началось сравнительно
поздно, не ранее середины ледникового времени, что речные террасы
вовсе не должны неизбежно повторять фаз оледенения, так как размыв
речных долин и их заполнение аллювиальными наносами зависели не
только от развития оледенения, но и от других причин, и т. д. Можно
вообще сказать, что взаимные отношения ледника и его морен с чертами
физического ландшафта средней и южной Европы вовсе не предста-
вляют такой гармонической и простой картины.
С другой стороны, представляется несомненным, что связанное с ги-
потезой множественных самостоятельных ледниковых и межледниковых
эпох утверждение о периодических переселениях животного мира имеет
совершенно априорный характер и никаких серьезных подтверждений
в палеонтологических фактах не находит. В этом смысле достаточно по-
казательными являются слова Г. Осборна, авторитетного палеонто-
лога и убежденного сторонника четырех оледенений и широких мигра-
ций древнечетвертичных животных в ледниковое время, который ока-
зывается вынужденным признать, что три первые ледниковые эпохи не
оставили никаких следов холодной фауны в соответствующих отложениях
Европы вне области оледенения.
«Надо признать, — говорит он, — что для местностей, удаленных
от больших ледников, каковы долины Соммы и Марны, у нас нет других
данных для отличия ледниковых эпох от межледниковых, кроме продуктов
эрозии террас и отложений на них... У нас нет доказательств того, что
в странах западной Европы, удаленных от ледников, господствовал
Прсдполагз
мая
цикличное
в изменен!
ландшафт
Европы
Недогаэаи
ность nepi
дичееких
пррсселмц
животньг
•4
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ II ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
суровый климат до наступления во всей стране очень сильных холодов
и условий тундрово-степного климата, предшествовавших четвертому
оледенению и заставивших окончательно исчезнуть всех азиатских и
африканских млекопитающих... Раньше предполагали, что в ледниковый
период во всей западной Европе был крайне холодный климат и что все
животные, любящие тепло, как слон, носорог, бегемот, ушли на юг,
чтобы снова появиться здесь только в более теплые межледниковые эпохи.
Однако нет прямых доказательств удаления этих, как предполагалось,
менее выносливых животных и распространения по Европе более вы-
носливых арктических и степных видов до наступления четвертого ледни-
кового периода».1 И, однако, с непоследовательностью, характеризующей
ту путаницу, которая до сих пор господствует в работах буржуазных
ученых в отношении ледникового периода, в том же труде, говоря о второй
межледниковой эпохе, он замечает, что к концу этой эпохи «северный
олень начал распространяться в охваченных холодом областях запад-
ной Европы, и есть основание думать, что он проник далеко на юг, даже
до Пиреней». 2
Байер, конечно, прав, когда он оценивает взгляды Зёргеля, развитые
им в его известной схеме, как основанные на совершенно недостаточном
и неправильно понятом материале. Схема Зецгеля, содержащая весьма
дробные деления плейстоцена на климатические циклы, отличается лишь
внешней, совершенно неубедительной точностью хронологических ис-
числений. Так, по Зергелю, мадленская эпоха будто бы заканчивается
за 21 тысячу лет до настоящего времени и имела продолжитель-
ность в 45 тысяч лет, солютрейская эпоха длилась 5 тысяч лет, ориньяк-
ская — 38 тысяч лет, шелльское время начинается за 429 тысяч лет
до нашего времени и т. п. 3 Такие построения, вообще говоря часто
встречающиеся в четвертичной геологии, носят, к сожалению, совер-
шенно произвольный характер и явно неспособны вести вперед науку.
В смене фауны, которую можно проследить от начала четвертичного
времени до современной эпохи, мы видим, таким образом, как это указы-
вал в свое время еще Г. де Мортилье, повсюду отражение одной климати-
ческой волны, проявляющей себя постепенным похолоданием. Последнее
ясно обозначается еще в эпоху наступания максимального оледенения
первым появлением мамонта и сибирского носорога и достигает высшей
точки своего развития после максимального оледенения в вюрмское
время, являющееся эпохой господства в средних широтах Евразии при-
полярной фауны и флоры, чтобы в современную эпоху вернуться к
гораздо более мягкому климату и соответствующему растительному ланд-
шафту и миру животных.
Такое обстоятельство представляет весьма серьезный довод против
представления о ледниковых и межледниковых эпохах как чередующихся
циклах, связанных с обновлением животного и растительного мира. Это
не значит, конечно, что повторное развитие оледенения не влияло очень
серьезным образом на животное население внеледниковых пространств
Европы и Азии. Но это воздействие изменяющейся природной обстановки,
насколько мы знаем, вовсе не шло по такому простому пути, как это ри-
суется некоторым полиглациалистам. Наступление ледника должно
1 Г. Осборн, Человек древнего каменного века (рус. пер.), Л., 1924, стр. 47 и 50.
2 Там же, стр. 95.
3 W. Soergel, Die Gliederung und absolute Zeitrechnung des Eiszeitalters, «Fortschrittc
der Geologic und Paldontologie», H. 13, Berlin, 1925. Рецензия Байера на эту работу поме-
щена в «Eiszeit», Bd. II, И. II, стр. 136.
ТЕПЛАЯ ФАУНА РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
95
было иметь своим следствием прежде всего смещение ландшафтных зон,
несомненно все же неодинаковое для ранней и для поздней поры плейсто-
цена, и создание новых типов ландшафта, что влекло за собой частью ги-
бель, частью приспособление к новым условиям животного населения, кото-
рое в течение ледникового времени выделяет ряд специализированных
групп млекопитающих, приспособившихся к жизни в тайге, в степи или
тундре.
Изложим в кратких чертах историю природного ландшафта, как она
развертывалась вне области оледенения в интересующую нас эпоху.
ТЕПЛАЯ ФАУНА РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
Уже со второй половины третичного времени животный мир Европы
начинает приобретать новые черты: в эту эпоху появляются многие формы
животных, удерживающиеся до настоящего времени. В общем, однако, он
еще носит субтропический характер.
В лесах Европы в эпоху миоцена обитают крупные человекообраз-
ные обезьяны, представителей которых сейчас мы встречаем в тропиче-
ской Африке и по южным окраинам и архипелагам Азиатского материка.
На травянистых равнинах бродят стада антилоп и газелей, водится
предшественник слона — мастодонт и близкий к лошади — гиппарион,
затем древнейшие виды носорогов, жирафов и т. д.
Фауна эта была распространена в позднем миоцене во всей Европе.
С несколько измененным и значительно обедненным обликом она встре-
чается на юге европейской части СССР и в плиоцене, в отложениях так
называемого понтического времени, относящихся к эпохе образования
Черноморского бассейна.
Позже, когда на севере начинает зарождаться ледник, его влияние
впервые становится заметным в животном населении Европы.
В отложениях этого времени на юго-восточном побережье Англии, ча- Древне
стью морского, берегового характера, частью откладывавшихся в устьях
рек, ясно обнаруживается проникновение с севера первых полярных
пришельцев — северных моллюсков, обитающих ныне у берегов Исландии
и в Ледовитом океане. Морские раковины смешиваются здесь с представи-
телями древней наземной фауны, указывающими на то, что охлаждение
идет первоначально в морских течениях и не отражается заметно на оби-
тателях суши.
Здесь мы встречаем таких животных, характерных для эпохи, переход-
ной от третичного к четвертичному времени, как южный слон {Elephas meri-
dionalis), древний слон {Е. antiquus), этрусский носорог {Rhinoceros etrus-
cus), лошадь Стенона {Equus Stenonis), большой гиппопотам {Hippopotamus
major), ископаемый бобр {Trogontherium Cuvieri), саблезубый тигр {Machae-
rodus cultridens) и другие вымершие ныне животные, вместе с представи-
телями современной нам фауны, как обыкновенный бобр, дикий кабан,
бык, благородный олень, лось, лошадь и т. п.
Уже соотношение вымерших и ныне живущих форм свидетельствует
о древности фауны кромерского лесного слоя (11 видов животных плио-
ценовых, 6 плейстоценовых, но позже вымерших, и 21 ныне живущих),
который приходится относить к самому началу четвертичного периода.
Подобная же фауна, во глав§ с южным слоном, этрусским носорогом, Ф'
большим гиппопотамом, лошадью Стенона и другими вымершими ви- юа
дами, встречается в это время по всей южной и средней Европе (типич-
ные местонахождения — Сен-Прест во Франции и Мосбах в Германии),
96 ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Рис. 11. Южный слон {Elephas meridionalis
(Реконструкция К. И. Казанского)
где она то сочетается с более древними формами, как мастодонт, и при-
надлежит позднетретичному времени, то появляется в самых ранних
слоях четвертичных отложений. В местонахождениях Европы кости этих
животных залегают часто в речных отложениях самых верхних уровней —
на верхних террасах, отмечая то время, когда речные воды катились ещ<
почти в одном уровне с равниной и углубление русла рек только еще на
чиналось. Фауну этого времени называют по имени наиболее характерной
животного — фауной южного слона. * 1 II.
Фауна В следующую эпоху влияние наступающего ледника (как предполг
гиппопотама гает большинство геологов — в его миндельской фазе) начинает сказь
ваться на животно
мире Европы, кот'
рый получает н
сколько иной хара
тер. Южный ело
этрусский носорс
лошадь Стенона и i
которые другие ви
животных постелек
исчезают и смепя)
ся иными форма!
мо'жет быть част
пришлыми с юга
соседних контиг
тов, хотя еще у;
живающими че
фауны теплых О'
стей. Во главе жи
иого населения э
времени должен
прежде всего п<
влен г и п п о п о
почти тождестве
с современным бегемотом, населяющим реки и озера центральной и
ной Африки, и отличающийся от последнего лишь несколько
крупными размерами.
Гиппопотама можно считать животным, наиболее характерны!
раннечетвертичной поры, задолго предшествовавшей максимал
оледенению Европы. Его распространение в эту эпоху указывает
что первое время накопление льдов на севере Европы не отрая
значительно на общем понижении температуры, и реки Фр»
южной Англии, Бельгии, в отложениях которых встречаются мн
елейные остатки этогЪ животного, не говоря уже о более южных
стях, имели теплую воду и не покрывались льдами и в зимнее врг
Гиппопотама в отложениях этого времени сопровождает д
слон {Elephas antiquus), сменяющий более древнего юясного
затем носорог Мерка {Rhinoceros Merckii), махайрод, ископаемы)
1 Фальконер (Га1сопег) первый в 1865 г. начал различать три главных ф
ческих комплекса, сменивших друг друга в четвертичное время на территории
I. Elephas meridionalis, Rhinoceros etruscus, Hippopotamus major. Cera
torum, Trogontherium Cuvieri {Forest Bed).
II. Elephas antiquus, Rhinoceros Merckii, Hippopotamus major.
Ill 'Elephas primigenius, Rhinoceros tichorinus.
ТЕПЛАЯ ФАУНА РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
97
Рис. 12. Область распространения остатков
бегемота в раннеплейстоценовых отложениях
Европы.
пещерный медведь и пещерная гиена, полосатая гиена, некоторые другие
крупные хищники, а затем кабан, барсук, лошадь, большерогий и благо-
родный олени, лось, первобытный бык (тур), бизон и другие представи-
тели фауны, издревле населявшей леса и пастбища Европы. Теплая фауна
древней поры ледниковой эпохи встречается главным образом в речных
отложениях верхней террасы, а отчасти и более низких террас, но здесь,
видимо, в большинстве случаев уже в переотложенном состоянии.
К тому же раннему времени должны быть отнесены и некоторые на-
ходки, сделанные в восточной Европе. Например, в отложениях близ
Тирасполя на Днестре вместе с зубром {Bos priscus), благородным оленем,
лосем {Alces latifroiis), болыперогим оленем {Cerons euryceros) были опи-
саны М. В. Павловой лошадь Стенопа, один вид носорога (этрусский
носорог), затем несколько
разновидностей древнего и
южного слона и другие ви-
ды животных. В древних
речных террасах Румынии
не раз были находимы так-
же остатки фауны с древним
слоном и носорогом Мерка
во главе. Представители той
же фауны во главе с древ-
ним слоном и носорогом Мер-
ка встречаются и в Пред-
кавказье и в нижнем По-
волжье. Севернее же, па Ук-
раине и в центральных обла-
стях европейской части Со-
юза, фауна ранней поры лед-
никовой эпохи почти неиз-
вестна, за исключением от-
дельных находок костей сло-
на трогонтерия. Его рассматривают как непосредственного предка ма-
монта, потомка южного слона, видимо приспособившегося к условиям
более холодного климата.
Определение возраста фауны гиппопотама и древнего слона, отчасти Теплаяфауиа
п более ранней фауны, содержащей в своем составе такие древние относится к
формы, как южный слон, этрусский носорог, лошадь Стенона и пр., времеии У
имеет для нас особенное значение, так как постоянными спутниками
ее в древних речных наносах западной Европы являются культур-
ные остатки, кремневые орудия, с несомненностью свидетельствующие
о том, что к этому времени человек уже прочно населял, по крайней мере,
наиболее западные области нашего материка — Францию, Англию, Ита-
лию, Бельгию. Остатки эти относятся к шелльской эпохе.
Подытоживая известные в настоящее время факты, можно считать
вполне достоверным, что теплая фауна предшествовала середине ледни-
кового времени, то есть максимальному распространению ледника и по-
явлению фауны мамонта, которая удерживается затем до конца леднико-
вой эпохи. Такой точки зрения придерживаются сам Пенк, творец теории
четырех оледенений, затем Гейниц, один из лучших знатоков древнечетвер-
тичной фауны, Байер и другие видные ученые. Наконец, Г. де Мортилье,
авторитет которого в подобных вопросах, несмотря на те поправки, ко-
торые вносят в его построения новые факты, следует оценивать достаточно
7 П. И. Ефименко. Первобытное общество—1734
98
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Ландшафт-
ные пояса в
раннем
плейстоцене
высоко, считает теплую фауну установленной им шелльской эпохи не-
сомненной предшественницей великого рисского оледенения Европы.
Остатки теплой фауны, встреченные в пределах СССР, также не возбу-
ждают сомнения в своем до-рисском возрасте.
Из того, что нами было сказано, ясно, что попытки некоторых геоло-
гов и палеонтологов расчленить историю животного мира Европы на чере-
дующиеся смены теплой и холодной фауны, отвечающие (вместе с повтор-
ным возобновлением отложения лёсса, образованием морских и речных
террас и т. д.) межледниковым и ледниковым эпохам, носят характер
абстракции, совершенно не подтверждаясь научно проверенными фактами.
Увлечение представлением о множественности оледенений побудило
многих палеонтологов и геологов западной Европы примкнуть к тому
течению, которое чрезвычайно приближает к нам время появления чело-
века в Европе. Эти ученые считают возможным относить теплую фауну,
так же как и культурные остатки, с ней связанные, так называемый
«древний палеолит», к последней межледниковой эпохе, следовавшей за
максимальным оледенением и закончившейся развитием балтийского
ледника.1
Главным, если не единственным, основанием для такого взгляда
является соображение, что «теплая фауна», как ее назвал Годри, которая
сопровождает остатки древнепалеолитической культуры, в последующее
время, в стоянках среднего и верхнего палеолита, сменяется фауной
«холодной», держащейся затем до конца ледниковой эпохи.
С точки зрения циклических теорий ледниковых явлений такая смена
могла иметь место только в одну и, очевидно, последнюю ледниковую
эпоху. Теплой фауне, таким образом, в более раннее время опять должна
была предшествовать холодная фауна, и они чередовались столько раз,
сколько раз эпохи ледниковые сменялись теплыми межледниковыми
эпохами. В действительности, как мы уже говорили, все поиски не обна-
руживают и следов подобной смены.
Заслуживает большого внимания тот факт, что теплая фауна ранне-
ледникового времени известна только в определенной, довольно ограни-
ченной области — отчасти средней, но главным образом южной и юго-
западной Европы. В частности, остатки характернейшего животного этой
эпохи — бегемота — встречаются только на запад от Рейна, за который
он, видимо, не переходил. 2 Во всяком случае, ни в остальной Европе,
ни в средней Азии и Сибири находки его неизвестны.
Таким образом, было бы неправильно рассматривать природные усло-
вия Евразии в раннечетвертичное время как нечто единое. Здесь на-
мечаются своп климатические и ландшафтные зоны, причем, очевидно,
значительная часть Европы и северной Азии уже очень рано оказывается
захваченной прогрессирующим понижением температуры.
Мы видели, что это понижение температуры и общее ухудшение кли-
матических условий,*110 общему мнению палеоботаников и палеозоологов,
для всей восточной Евразии (включая восточную Европу) явственно на-
1 Нужно сказать, что эта точка зрения, которой придерживается, например,
М. Буль (см. табл. IV), по существу противоречащая всем известным нам фактам,
сейчас находит все меньше и меньше сторонников.
2 Редкие находки остатков этого животного в отложениях раннечетвертичного
времени, сделанные в Германии, относятся, насколько мы знаем, почти исключительно
к левобережью Рейна. Они имеются, например, в глинах Йокгрима в Пфальце (ср.
W. Soergel, Die Saugetierfauna des altdiluvialen Tonlagers von Jockgrim in der Pjalz. cZeit-
schrijt d. D. G. G.», Bd. 77, 1925, A? 3), где их сопровождает типичная фауна начальной
поры плейстоцена — этрусский носорог, слон трогонтерий, ископаемый бобр.
ТАБЛИЦА IV
9»
Геологиче- ские подраз- деления Геологические явления j lla.ieoino.io- j Ар.хеологиче- 1 м... гнческне сапе подразде- ,kh0"ae ,ыс особенности I ления | люди
J 1 период 1 Голоцен u.tif современная •нюха Новый аллювий. Торфяники. Климат, близкий к | современному j Современ-1 ные виды. Домашние животные (ЖЕЛЕЗО Металл! БРОНЗА ‘медь НЕОЛИТ Переходная Ното sapiens Ното sapiens fossilis. Расы— Шансе лад, Кро-.мапьон, Гримальди
V н и .г </ » к | 1 Верхние отложения | пещер. ! Верхний горизонт j лёсса. Климат холод- | ный, сухой; господ- ство степей и тундр.1 ПОСЛЕЛЕДНИКОВАЯ ' ФАЗА Фауна степи. Эпоха северного оленя. Фауна 1>ХНПП nUEOJUl g 1—1 о ха - АЗПЛЬ МАДЛЕН | СОЛЮТРЕ j ОРППЬЯК
Ч е т в е р т и ч иий Плейстоцеи I Среди н Н Заполнение пещер наносами. Образова- ние лёсса. Аллювий только нижних уров- ней. МОРЕНЫ ПОСЛЕДНЕГО БОЛЬШОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ Климат холодный и влажный Эпоха мамонта. Elephas primigeni- us, Rhino- ceros ticho- rhinus и др. 1 II Г 0 111'Г, МУСТЬЕ АШЁЛЬ ШЕЛЛЬ Ното Neander- thalensis
/I и ж н «а Древнейшие отложе- ния пещер. Аллювий средних и нижних террас. Известковые туфы БОЛЬШАЯ МЕЖЛЕДНИКОВАЯ ФАЗА Климат мягкий. МОРЕНЫ ПРЕДПОСЛЕД- НЕГО БОЛЬШОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ Эпоха гип- попотама. Hippopo- tamus aniphibius, Elephas antiquus, Rhinoceros M erckii 11 Il II II11'1111 Homo Dawsoni Homo Heidelber- gensis
Третичный период Плиоцен 1 Верхни и 1 к Аллювий плато. БОЛЬШАЯ МЕЖЛЕДНИ- КОВАЯ ФАЗА. БОЛЬШОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ Эпоха юж- ного слона. Elephas meridiona- lis, Rhinoce- ros etruscus, Equus Stenonis
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА ПО БУЛЮ (1923)
100
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
мечаются уже в неогене — во второй половине третичного периода, про-
должаясь, несомненно, и в четвертичное время. Один этот факт может
служить опровержением тех взглядов, по которым ледниковые эпохи
возникали под влиянием более или менее случайно сложившихся косми-
ческих причин или являются результатом, например, перемещения по-
люсов.
К сожалению, у нас имеется еще слишком мало фактического мате-
риала для того, чтобы дать сколько-нибудь полную картину распределе-
ния ландшафтов в раннем плейстоцене (до-миндельское и миндельское
время), к которому приходится относить появление первых групп чело-
вечества на территории Европы. Однако на основании находок древне-
плейстоценовой «теплой» фауны можно полагать, что ландшафтные зоны
в значительной мере следовали тогда современным климатическим поясам
(в их соотношении, а не в смысле тождества с ними), причем первые на-
ступания ледника не внесли в это положение существенных изменений.
Только значительно позднее, уже в вюрмское время, волна холода,
распространившая континентальные условия до побережья Средиземного
моря и Атлантического океана, является показателем коренных перемен
в климатическом режиме Европы.
Как мы уже говорили, растительные остатки кромерского лесного
слоя в юго-восточной Англии, относящегося к началу плейстоцена, имеют
характер флоры пастбищ и лесов умеренной в смысле температуры и влаж-
ной зоны. Можно думать, что подобные леса, сопровождавшиеся более
или менее обширными пространствами, покрытыми богатой луговой расти-
тельностью, с такими их обитателями, как широколобый лось, больше-
рогий олень, различные виды быков и пр., тянулись в эпоху Мосбаха,
Мауэра, Тираспольского гравия через всю среднюю Европу до берегов
Черного моря.
Несколько южнее, в той же приатлантической части Европы, расти-
тельный ландшафт, однако, обнаруживает более благоприятные черты.
1’аетитель- Растительность, современная гиппопотаму и древнему слону, сохра-
нив остатки нилась здесь до настоящего времени главным образом в виде отпечатков
в отложениях известковых источников, а также в иле, содержащем из-
весть,— в слоях древних озерных отложений. Она известна по многим по-
добным местонахождениям, главным образом во Франции, где одно из
наиболее важных местонахождений растительных остатков раннеплейсто-
ценового времени составляют туфы Ла Селль-су-Морэ, и указывает, с
своей стороны, на климат не жаркий, но теплый, в то же время очень
влажный и весьма равномерный, не знающий резких температурных коле-
баний и морозных зим. Наряду с обычной для приатлантической области
Европы современной лесной растительностью, в ней представлены такие
виды, как канарскии и обыкновенный лавр, смоковница, самшит (кавказ-
ская пальма), иудино дерево и другие растения теплой средиземноморской
зоны. Условия их произрастания дают основания думать, что температура
на севере Франции или в юго-западной Германии не спускалась в эту
эпоху, даже в холодное время года, ниже 8° (Сапорта).
Литвин Относительно мягкому климатическому режиму, хотя и более умерен-
ному, отвечает в это время, насколько известно, растительность и на
восточноевропейской равнине. Нужно сказать, что мы пока еще мало ।
знаем об этой первой стадии ледниковой эпохи на востоке Европы. Но '
в известных озерных слоях Лихвина на Оке (на юго-западе Московской
области), предшествующих отложениям морены главного оледенения,
растительные остатки свидетельствуют о климате умеренно-теплом и более
МЕЖЛЕДНИКОВЫЕ СЛОИ РА БУТЦА
101
мягком, чем современный климат средней полосы восточной Европы.
В озерном мергеле Лихвина, прикрытом отложениями морены, можно
наблюдать интересное явление: верхний горизонт его содержит такие
древесные породы, как бук, тисс, граб, орешник и др., то есть указывает
на преобладание широколиственных лесов, свойственных более южной
зоне Европы.
Ниже в этих отложениях подобные породы сменяются хвойными —
преимущественно елью, с примесью сосны и березы, которые и соста-
вляли главным образом в это время леса по Оке. Это явление должно
быть, вероятно, объяснено таким образом, что более раннее продвижение
ледника, очевидно имевшее место еще в миндельское время, вызвало
отступание лиственного леса. Последний вновь распространяется к северу
по мере таяния ледника, чтобы в последующее время окончательно усту-
пить свое место лесам умеренного типа, а затем степи и тундре.
Боголюбов, первый обстоятельно исследовавший это местонахождение,
указывает, что, судя по подсчету слоев, озерные отложения Лихвина
должны были потребовать на свое образование приблизительно 6—8 ты-
сяч лет. 1 Ниже они переходят в лёссовидный нанос, а сверху их покры-
вает слой погребенной почвы. Некоторые геологи, в частности А. П. Пав-
лов, рассматривают озерные отложения Лихвина как межледниковые,
так как их подстилают флювиоглациальные пески с валунами, по мнению
этих геологов оставленные миндельским оледенением, достигавшим в этих
местах долины Оки. Выше же они перекрыты мореной рисского оледене-
ния. Таким образом, если оценивать озерные наносы Лихвина как меж-
ледниковые, миндель-рисские, что, видимо, весьма вероятно,—межледни-
ковое время, разделяющее две фазы наступания северного ледника,
должно было длиться довольно долго, во всяком случае не менее 10—15
тысяч лет. Но его продолжительность могла быть и значительно большей. 2
Чрезвычайно показательно для условий миндель-рисского времени,
что первоначальное (миндельское) развитие ледника не оказало, оче-
видно, серьезного влиянии на характер растительного ландшафта, лишь
сдвинув несколько к югу леса из буков и грабов, которые вскоре после
ухода ледника снова занимают свои места в пределах Московского края,
будучи вытеснены окончательно лишь огромным развитием рисского оле-
денения.
МЕЖЛЕДНИКОВЫЕ СЛОИ РАБУТЦА
Ближайшую аналогию Лихвину мы имеем в средней Европе на терри-
тории Германии, где в окрестностях Галле, недалеко к западу от Лейпцига,
около четверти века известно местонахождение у д. Рабутц с отложе-
ниями межледникового возраста.
Уже положение Рабутца значительно к югу от границы вюрмского
(вислянского) оледенения и так называемой вартинской стадии отступа-
1 Боголюбов был одним из первых, кто применил подсчет годичных слоев для
определения времени озерных отложений.
2 Интересно, что в лёссе под мореной максимального оледенения, поверх озерных
отложений, Боголюбов отмечает находку костей сибирского носорога и мамонта, тогда
как в условиях, аналогичных лнхвинским озерным отложениям, в том же районе им
был найден череп Cervus euryceros oerticornis. Геологические условия и богатые расти-
тельные остатки Лихвина не раз описывались за последние годы — В. Н. Сука-
чевым, В. С. Доктуровским, Г. Ф. Мирчинком, А. И. Москвитиным и др. Ср., напри-
мер, А. И. Москвипгин, Новое о лихвинском обнажении, «Бюлл. Моск. общ. испыт.
прир.», Отд. геологии, т. IX '!—2', 1931, стр. 174.
102
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
ния рисского ледника, в пределах моренных наносов двух более ранних
оледенений — эльстера и заале (миндель и рисе), определяет время за-
ключенных между ними отложений. Как в Лихвпне, Рабутцкое место-
нахождение имеет характер озерных образований, мощностью до 6—7 м,
заполнивших небольшой водоем в складках древнего ледникового рельефа.
Нижний горизонт озерных отложений (glazialer Beckenton), непосред-
ственно залегающий на морене миндельского оледенения, представляет
типичное образование ледникового бассейна, содержащее (по Веберу)
остатки полярной растительности. Вышележащие слои — II—III—IV—
рисуют картину смены растительности тундры сначала горизонтом с пре-
обладанием сосны (II), затем дуба (III) и, наконец, в эпоху установив-
шихся наиболее благоприятных климатических условий, — белого бука
"(IV). Все это покрывает верхняя морена из песков с валунами, переходя-
щая в песчаную глину. 1
Мы не отметили выше, что лихвпнекий озерный нанос в своей основной
толще, по данным Боголюбова, во времени должен был отвечать фауне
слона трогонтерия —• предшественника мамонта. Аналогичную фауну
содержит и Рабутц; здесь для III горизонта известны находки Elephas
antiquus и Rhinoceros Merckii. Что особенно интересно — это открытие в тех
же слоях несомненно обработанных кремней, которые имеют тот же ха-
рактер, что и в Таубахе, то есть представляют собой атипические, лишь
изредка подретушированные отщепы, изготовленные из кремня коричне-
вой окраски.
С точки зрения обычных представлений полиглациалистов межледни-
ковые слои Рабутца могут быть интерпретированы лишь в качестве свиде-
тельства в пользу смены холодного ледникового периода теплым меж-
ледниковым. Однако ничто не доказывает законности такого объяснения
фактов. И в данном случае, как и в Лихвине, мы видим скорее, что первое
значительное распространение ледников к югу не могло еще окончательно
вытеснить из пределов средней Европы ни лесов из дуба и бука, ни связан-
ной с ними фауны — древнего слона и носорога Мерка.
Этим объясняется и то затруднение, которое испытывают геологи, па-
леонтологи и палеофитологи, стоящие на позициях полиглациализма,
когда им приходится указать для соответствующих областей Европы холод-
ную фауну и флору, отвечающую миндельскому оледенению. 2
КОНЕЦ МИНДЕЛЬ-РИССКОИ МЕЖЛЕДНИКОВОЙ ЭПОХИ.
ТАУБАХ
Признаки В конце первой стадии ледникового периода фауна средней и западной
похолодания Европы заметно изменяет свой характер. В ней давно уже исчезли такие
древние виды животньц, как гиппопотам, южный слон, этрусский носо-
рог, махайрод, ископаемый бобр и некоторые другие, являвшиеся в отло-
жениях Европы в до-миндельское п ранне-мпндельское время как бы на-
следием третичного времени. Это исчезновение древних «теплых» форм
1 Обстоятельное описание Рабутца и соответствующую литературу можно найти
v J. Bayer'& н его труде «Der Mensch bn Eiszeitalter», Teil. I—II, 1927, стр. 137—143.
2 Ср. соображение flaug’a, что миндельскан фауна (для Франции) неизвестна
(Traite de Geologic, II, стр. 1772); Депап — флора гюнца и минделя во Франции неиз-
вестна (Le Monde des plantes а Г apparition de Г котте, стр. 87). В том же положении
находятся и советские полиглациалнеты. И. В. Серебровский правильно указывает,
что в миндельскую эпоху в не занятых ледником местностях должна была обитать та
же фауна, которая здесь существовала в до-миндельское и после-мнндельское время
{История мсивопшого мира СССР, 1933, стр. б С>).
КОНЕЦ МИНДЕЛЬ-РИССКОЙ МЕЖЛЕДНИКОВОЙ ЭПОХИ
103
объясняется, конечно, тем, что они не могли приспособиться к более
суровым условиям жизни и были вынуждены или вымереть, или отступить
на юг за Альпы и Пиренеи.
В средней Европе, как и в отложениях Лихвина, растительность этого
времени отражает тот же процесс наступающего охлаждения. В лесах
средней Европы и на побережье Атлантики растут теперь дуб, береза,
лещина, сосна и нет вечнозеленых пород средиземноморского типа.
Некоторые местонахождения Франции дают возможность наметить
время этого перелома в условиях природной обстановки, поставив их
в связь с памятниками палеолита. Наиболее интересным из них являются
известные туфы Ла Селль-су-Морэ в долине Сены, где в нижних отло-
жениях сохрани-
лись многочислен-
ные остатки расти-
тельности с значи-
тельной примесью
средиземноморских
форм (смоковница,
Канарский лавр,
самшит), тогда как
в верхних слоях
туфа теплолюбивые
виды исчезают, сме-
няясь древесными
породами, отвечаю-
щими более умерен-
ному климату со-
временной средней
Европы. Эти верх-
ние напластования
датируются наход-
ками ручных рубил
ашёльского типа.
Рис. 13. Мамонт.
'Реконструкции К. М. Казанского)
Если Ла Селль-су-Морэ указывает, видимо, на начальные стадии ухуд- Таубах
тения климатических условий, принесенного миндельским оледенением, Эрингсдо
его заключительные фазы рисует одна из наиболее интересных групп
палеолитических памятников Европы — Таубах и Эрингсдорф (Германия).
Здесь в очень близких условиях к тому, что дает Ла Селль-су-Морэ, на
древних отложениях р. Ильма залегает мощный пласт травертина (извест-
ковый туф), разделенный па два горизонта глинистым слоем, в котором
германские геологи видят образование, аналогичное древнему лёссу.
Нам придется еще говорить о культурных остатках, собранных в туфах
Таубаха и Эрингсдорфа, которые имеют характер так называемого ати-
пического инвентаря, подобного найденному в Рабутце и во многих других !
раннепалеолитических местонахождениях Европы. Сейчас нас интере- |
суют лишь природные условия, поскольку они запечатлелись в открытых |
здесь растительных и животных остатках. :
Оба названных местонахождения расположены в области морен древ-
нейшего, миндельского, оледенения Германии; поэтому отложения нижней
террасы Ильма с валунами северных пород и раковинами северных и
высокогорных моллюсков, подстилающие туфы, могут быть отнесены
только к этому оледенению, что определяет после-мпндельский возраст
самого содержащего интересующие нас находки травертина.
104
Нижний
травертин с
древним
слоном п
носорогом
Мерка
Верхний
травертин
е сибирским
носорогом
Умеренно-
холоднал
фауна
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Слои нижнего травертина (Ь—с—d—е—f) дают остатки раститель-
ности, млекопитающих и моллюсков, показывающие, что, по мере отхода
ледников к северу, климатические условия в долине Ильма становятся
более благоприятными, хотя лесная растительность здесь содержит по-
роды современной умеренной зоны Европы, средн которых хвойные зани-
мают уже значительное место.
Древний слон и носорог Мерка особенно характерны для нижнего
травертина Таубаха и Эрингсдорфа: это последние представители древней
фауны млекопитающих, на которых в это время главным образом здесь
и охотился человек. Их в качестве добычи охотничьих орд сопровождают
медведь, первобытный бык и бизон, дикая лошадь, большерогий олень,
кабан и пр.
Уже в верхних слоях нижнего яруса туфов в Эрингсдорфе были об-
наружены изделия человека типичного мустьерского облика, 1 что, оче-
видно, не позволяет относить остатки, встречающиеся в Таубахе и Эрингс-
дорфе, к той чрезвычайно ранней археологической ступени (до-шелль или
шелль), к которой склонны были относить эти находки некоторые иссле-
дователи, например тот же Обермайер.
Верхний ярус травертинов, который образует с нижним ярусом одно
целое геологическое образование, отложившееся, по мнению Байера,
в сравнительно короткий промежуток времени в конце миндель-рисской
эпохи, дает уже остатки сибирского носорога, вытесняющего более древ-
нюю форму — носорога Мерка. В покрывающем туфы делювии встречаются
только мамонт и его спутники, предвещающие наступление рисской эпохи.
ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ СРЕДНЕГО
ПЛЕЙСТОЦЕНА
В начале средней поры ледникового периода, соответствующей по вре-
мени развитию максимального оледенения, животный мир Европы обна-
руживает характерные черты смешения более древних видов с новыми,
пришлыми, явно принесенными волною холода надвигающегося ледника.
Вскоре представители более древней фауны исчезают в местонахожде-
ниях средней Европы, правда, долго еще удерживаясь на юге, на полу-
островах и островах Средиземного моря. Их сменяет повсюду типичная
умеренно-холодная фауна среднего плейстоцена
во главе с мамонтом (Elephas primigenius), сибирским носорогом
(Rhinoceros tichorhinus), затем пещерным медведем, пещерным львом,
пещерной гиеной, большерогим оленем (Cervus megaceros) и обыч-
ными животными леса и лугов — кабаном, благородным оленем, перво-
бытным быком и бизоном, лошадью, волком, лисицей, бобром, зайцем,
барсуком. Но кроме них встречаются уже, хотя пока еще и не так
часто, пришельцы крайнего севера — северный олень, песец, россомаха.
Это время господства холодного, но влажного климата, без особенно
резких зимних стуж, который позволял держаться в более южных мест-
ностях Европы лиственным лесам, сменявшимся к северу хвойными
лесами таежного типа.
Животный мир эпохи рисского оледенения хорошо известен по много-
численным стоянкам, относящимся к концу среднего палеолита, то есть
уже собственно к мустьерскому времени. Нам важно указать здесь лишь
1 И. Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, 1912, crp. 152, рис. 86.
ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ СРЕДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
105
те из этих находок, которые дают возможность более точной геологи-
ческой датировки. При этом заметим, что о появлении мамонта непосред-
ственно в пред-рисское время мы можем судить не только по остаткам его
в Таубахе и Эрингсдорфе, но для восточной Европы — по находкам
костей мамонта в отложениях, подстилающих морену максимального
оледенения, на что имеется целый ряд указаний, исходящих от таких авто-
ров, как А. В. Гуров, В. В. Докучаев, Н. Соколов, Соболев, Мир-
чинк и др.
Значительное большинство мустьерских поселений на европейской
территории СССР расположено далеко вне области оледенения, что за-
трудняет их синхронизацию
с развитием ледниковых
явлений. Мы упоминали о
мустьерском местонахожде-
нииус.Кодак в окрестностях
Днепропетровска, относя-
щемся, поимеющимсяданным,
ко времени наступления дне-
провского оледенения и со-
держащем фауну, характер-
ную для ранней рисской
эпохи. Как и в верхнем тра-
вертине Таубаха и Эрингс-
дорфа, в ней встречается кое-
где, очевидно еще пережи-
точно сохраняющаяся, более
древняя форма слона трогон-
терия, предшественника ма-
монта, хотя здесь уже по-
являются и северные виды,
Рис. 14. Область распространения остатков
мамонта в четвертичных отложениях Европы.
например северный олень.
Появление в Европе первых представителей типичной северной фауны
в позднее время миндель-рисакого межледниковья доказывает и известное
местонахождение Гоксн (Суффольк —на юго-востоке Англии), описанное
впервые в 1800 г. Джоном Фрером, добывшим здесь большое количество
прекрасно сохранившихся позднеашёльских ручных рубил, украшаю-
щих собрания Британского музея.
Как и в Рабутце и Лихвине, пресноводные слои Гокса, изучавшиеся
в 60-х годах XIX века Прествичем и Лайеллем и многими геологами в
последующее время, отложились в небольшом бассейне, расположенном
в депрессии морены древнейшего, миндельского, оледенения Англии (Kim-
meridge Boulder Clay), и сверху прикрыты моренным наносом более позд-
него оледенения (Chalky ^oulder Clay). Судя по тому, что в основании
озерных образований — в глине и слое торфа с растительными остатками
и пресноводными моллюсками, — залегающих непосредственно на морене,
нет никаких следов влияния холодного климата, приходится думать,
что отложения Гоксн во времени далеко отстоят от первого оледенения.
Действительно, уже в вышележащей темной кирпичной глине на-
блюдаются признаки приближения нового оледенения в виде остатков
аркто-альпийских мхов и карликовой березы. Следующий слой галечника
с орудиями позднеашёльских типов содержит и фауну — кости мамонта,
лошади и северного оленя. Лежащий на галечнике слой торфа с бога-
тыми остатками растительности и со сходной фауной показывает, что
Гокеп
106
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
растительный ландшафт южной Англии в эту эпоху вовсе не имеет ха-
рактера тундры. Здесь растет береза, орешник, дуб, вяз, сосна, шотланд-
Гундиебург
Маркклее-
бсрг
ская ель.
Интересно, что встреченные в Гоксн под и над галечником с ангель-
скими рубилами обработанные кремни имеют ближайшее сходство с ати-
пическим инвентарем средней Европы.
Одно из наиболее важных по ясности геологической картины место-
нахождений Германии, заключающих раннюю фауну мамонта, мы
имеем в Гундисбурге (окрестности г. Магдебурга), находящемся, как
и Рабутц, в области, занятой лишь двумя оледенениями — Ольстер
и заале.
В песчаных и галечниковых наносах Гундисбурга, заключенных
между двумя горизонтами морены, вместе с остатками мамонта, сибирского
носорога и лошади, в пер-
вом десятилетии XX века
были открыты орудия
обычного для памятников
этой эпохи в средней
Европе облика в виде
атипического кремневого
инвентаря из крупных
массивных пластин, почти
лишенных вторичной обра-
ботки.
Ф. Вигерс, изучавший
условия находок на месте,
как и Байер, не сомнева-
ется в необходимости отно-
сить межледниковые отло-
жения Гундисбурга к ка-
кому-то заключительному
моменту миндель-рисского
межледниковья. 1
Рис. 15. Посорог, найденный в Стархни (Восточная
Галиция).
Почти к тому же времени, что и Гундиебург, хотя, видимо, несколько
более позднему, принадлежит другое важное местонахождение, открытое
в том дне богатом находками районе Германии — в Маркклееберге (в 8 км
к югу от Лейпцига).
Не отличаясь по составу фауны от первого отмеченного нами место-
нахождения, Маркклееберг наряду с атипическим кремневым инвентарем
дает (по Якобу) дисковидный нуклеус, вернее грубое рубило мустьер-
ского типа, и весьма характерный набор орудий, отвечающий позднему
мустье (рис. 85). 2
Геологический возрЪст находок в Маркклееберге определяется обще-
признанным залеганием их в отложениях ледникового происхождения,
что заставляет относить их к эпохе наступления рисского оледенения,
которое в своей кульминационной фазе затронуло и, отчасти, переработало
(следы окатывания на кремнях) речные галечники, содержавшие остатки
1 Fritz Wiegers, Diluvialprdhistorie als geologischeWissenschaft, Berlin, 1920, стр. 107;
.Josef Bayer, Der Mensch irn Eiszeitalter, Teil. I—II, стр. 100 —114 (указана литера-
тура). Равным образом см. описание Гундисбурга у Obermaier’tx, R. R. Schmidt’n
11 ДЕ
2 К. II. Jakob, Das Alter der palaolitischen Fundstatle Markkleeberg bei Leipzig,
«Praeh. Zeitsc.hrл. Г, 1913, стр. 331—339.
ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ СРЕДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
107
обитания мустьерского человека. Оценивая это обстоятельство, Байер
считает возможным относить стоянку в Маркклееберге ко времени, не-
посредственно предшествовавшему максимальному развитию второго се-
верогерманского оледенения.
Мы не можем не упомянуть также о весьма интересной на- Канал
ходке довольно большого числа типичных мустьерских орудий уже Рейн—Герне
в западной Германии, в Рурской области, — при проведении канала
Рейн—Герне, — сопрово?кдавшихся фауной, близкой к Кодацкой стоянке.
В список ее входят мамонт, сибирский носорог, первобытный бык и бизон,
северный, большерогий и благородный олени, лошадь и кабан. Что осо-
бенно важно — это то, что кости животных и изделия человека в находках
канала Рейн—Герне
связаны с нижним
горизонтом морен-
ного ианоса един-
ственного в ЭТОЙ
местности рисского
оледенения. Судя по
всей геологической
обстановке, речь в
данном случае мо-
жет итти или о време-
ни, непосредствен-
но предшествующем
максимальному раз-
витию рисского лед-
ника, или, — что,
какполагд.ет Байер,
менее вероятно,—
об эпохе отступания
ледника, когда его
Рпс. 16. Шерстистый носорог (Rhinoceros tichorhims).
(Реконструкция К. М. Казанского;
талые воды могли
переотложить мо-
ренный нанос в
Эмшерской долине.1
Растительные остатки эпохи максимального оледенения еще очень
мало известны.
Однако установлено, что вдоль окраин рисского ледника уже про-
стирались настоящие моховые тундры, населенные представителями
холодной фауны (Гагель). Несколько дальше к югу шли леса из сосны,
березы и ели, но уже на недалеком расстоянии от ледника благо-
даря влажности и относительной мягкости климатических условий этой
ледниковой эпохи произрастали широколиственные леса более южного
типа, включавшие не только дуб и его спутников, но и такие породы, как
тисс, бук и граб.
Что последние не могли в это время отступить далеко в южном на-
правлении— показывает то обстоятельство, что в сравнительно короткое
рисс-вюрмское межледниковье они быстро распространяются к северу,
так как остатки относительно теплолюбивой растительности вновь ста-
новятся обычными в межледниковых отложениях, предшествующих
последнему оледенению.
Раститель-
ные остатки
1 Ср. разрез у Bayer’a, Der Mensch itn Eiszeitalter, Teil. I—II, стр. 14'1.
108
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ Л ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ В ПОЗДНЕЕ ЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ
Фауна
северного
оленя
Фауна последней стадии ледниковой эпохи в Европе в сущности
остается довольно близкой к фауне средней поры плейстоцена. Попрежнему
во главе ее еще довольно долго стоят мамонт и сибирский носорог. Однако
здесь в большем числе начинают встречаться представители полярной, а
иногда и степной фауны. Оби-
Полярные п
Рис. 17. Область распространении остатков
сибирского носорога в четвертичных отлоя;е-
ниях Европы.
Зато в охотничьих стоянках человека
лие остатков северного оленя,
бывшего в это время излюблен-
ной добычей человека, дало
основание некоторым ученым
выделить позднеледниковую
эпоху под именем века се-
верного оленя. Особенное
развитие фауна тундры и
степи получает в позднее
вюрмское время, когда по-
степенно вымирают или пе-
реселяются крупные хищ-
ники — пещерный медведь,
пещерный лев, леопард, пе-
щерная гиена, уходит боль-
шерогий олень, а в самых
поздних местонахождениях
перестает встречаться и ма-
монт со своим постоянным
спутником — носорогом.
конца ледниковой эпохи ста-
етевныевиды новятся обильными остатки животных, которые в настоящее время встре-
чаются только на крайнем севере нашего полушария — северного оленя,
мускусного овцебыка, песца, россомахи, мелких полярных грызунов и т.п.
К ним примешиваются иногда типичные животные степи — антилопа-
сайга, тушканчик, сурок, степная лисица-корсак и др. Смешение пред-
ставителей леса и луга, степи и тундры говорит в пользу того, что в эту
эпоху климатические зоны были сильно сдвинуты и растительный ланд-
шафт мог меняться на близких расстояниях, в зависимости от местных
условий. На дне долин он мог быть иным, чем на склонах возвышенно-
стей илина плоскогорьях, между речными долинами. На него оказывали,
влияние и общие условия—широта местности, близость ледника, моря и т. д.
Во всяком случае, характер фауны позднеледниковой эпохи указывает
на то, что это время отличалось климатом очень суровым. В эту эпоху
полярные животные во главе с северным оленем продвигаются далеко на юг
Европы. Только особенно благоприятно расположенные области, как
Пиренейский и Апеннинский полуострова и Балканы, защищен-
ные горами от влияния ледника, не знали вторжения северных пришель-
цев, хотя, например, северный олень проникал до побережья Средизем-
ного моря, в окрестности Ментоны, и переваливал на южные склоны
Пиренейского хребта, а на востоке Европы в это время он водился на
горных пастбищах южного Крыма и, видимо, даже за Кавказским хребтом.
Шуеееврид Что климатические условия средней Европы в конце ледниковой эпохи
близко напоминали условия крайнего севера — па это указывает полярная
растительность, сохранившаяся в некоторых местонахождениях, относя-
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ В ПОЗДНЕЕ ЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ
109
щихся к этому времени. Так, на юге Германии, в Шуссенриде, еще в 60-х
тодах прошлого столетия была открыта стоянка палеолитического человека,
где особенно благоприятные условия способствовали прекрасному сохра-
нению культурных и растительных остатков. Человек жил здесь у неболь-
шого водоема, берега которого были покрыты густым моховым покровом,
подобным тому, который растет сейчас за полярным кругом и служит
пищей северному оленю. Это животное и в Шуссенриде было главной до-
бычей человека. На него охотились и хищники — медведь, волк, песец
и россомаха. Сюда заходила, однако, и лошадь, табуны которой водились
в соседних, более богатых растительностью долинах.
О природной обстановке вюрмской эпохи дает представление не только
богатейший материал стоянок верхнего палеолита, известных почти
на всем пространстве Европы п северной Азии, но и искусство перво-
бытного человека, чрезвычайно живо воспроизводящее окружающий его
мир животных. С этим нам придется ознакомиться уже в последующих
главах.
Последовательная смена
сообществ животных — теп-
лой фауны древнейшего типа
(южного слона, этрусского
носорога и лошади Стено-
на) фауной гиппопотама п
древнего слона, затем выми-
рание древних, еще плиоце-
новых видов (гиппопотама,
махайрода), наряду с доволь-
но длительным переживанием
носорога Мерка, слона тро-
гонтерия и поздней разно-
видности древнего слона, на-
конец появление новых при-
шельцев — мамонта и сибир-
Смены плей-
стоценовой
фауны в
Европе
ского носорога — характери- ,, ,о
г г „ Рис. 18. Область распространения остатков
зуют этапы плейстоценовой северного оленя в Европе (в поздпем плейстоцене
истории Европы. и в голоцене).
Эта смена форм млекопи-
тающих ясно прослеживается в террасах речных долин, где древней-
шая фауна залегает в аллювиях плато, следующая за ней — на более
высоких террасах (или в наносах, выстилающих дно долины) и, на-
конец, последняя — в отложениях нижних террас. В эпоху господства
холодной фауны (средний плейстоцен) начинается и отложение лёсса:
самые древние горизонты лёсса не содержат животных ранней поры
плейстоцена.
С очень раннего времени, *как мы увидим ниже, человек был свиде-
телем всех описанных перемен. В речных наносах западной Европы встре-
чаются его орудия, перемешанные с костями животных ранней поры
плейстоцена. В эпоху же среднего плейстоцена, в связи с наступлением
холода, человек впервые начинает заселять пещеры, которые ему при-
ходится оспаривать у пещерных хищников — медведя, льва, гиены.
Остатки охотничьей добычи человека и его соперников по обитанию
пещер дают нам особенно богатый материал для восстановления фауны
этой эпохи.
В тех районах, где человек мог пользоваться естественной защитой
по
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ II ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Территория
СССР
пещер и скальных навесов, заселение их, продолжавшееся до конца
ледникового времени, дает возможность проследить в их напластованиях,
шаг за шагом, историю человеческих обществ и их культуры и вместе с тем
мир животных, среди которого и за счет которого происходило существо-
вание древнего человека; в этом отношении пещеры являются в своем
роде единственным источником по полноте и разнообразию сохраняемых
ими остатков.
На востоке Европы, в частности на территории СССР, где находки
человеческих поселений ледникового времени, так же как и остатки жи-
вотных, пока менее изучены, чем на западе, трудно проследить в опре-
деленной последовательности те изменения, которые претерпевал живот-
ный мир во вторую половину ледниковой эпохи. Но и в этих находках
в общем находит отражение та же описанная нами выше картина измене-
ния фауны.
Некоторые пещеры Крыма, судя по недавним раскопкам в Киик-
Коба, Чокурче и других гротах, дают фауну, характерную для сред-
Рис. 19. Ледниковые и межледниковые эпохи в соотношении со стадиями палео-
литической истории — по Пенку.
Кривая показывает колебания ледникового покрова в плейстоцене. Горизон-
таль — современная граница оледенения.
ней поры ледникового времени. В предгорьях Крыма жили в это время ма-
монт и носорог, водились большие стада благородного и большерогого
оленей и других травоядных, в ущельях гор скрывались хищники —
пещерная гиена и пещерный медведь. В составе этой фауны уже по-
являются такие характерные представители приледникового мира живот-
ных, как северный олень и песец.
Кодацкая стоянка под Днепропетровском с фауной, близкой к крым-
ским стоянкам, дает возможность, как мы видели, отнести памятники этого
времени к эпохе наступания рисского ледника.
Более древние лёссовые верхнепалеолитические памятники нашего
юга, например стоянки в окрестностях Воронежа — Костенковская I
и Боршевская I, содержат массу остатков мамонта, тогда как северные-
формы в стоянках этого времени еще относительно редки. Напротив,
Бойцовское, Мезинское и другие местонахождения, относящиеся к более
поздней эпохе верхнего палеолита, кроме мамонта, носорога, лошади,
быков, оленей и т. д. знают типичных представителей тундры — север-
ного оленя, мускусного овцебыка, песца — уже в большом числе.
Весьма вероятно, что объяснение этого факта следует видеть не только
₽ различии географического положения этих памятников, но и в их отно-
шении к фазам развития последнего — вюрмского оледенения. Значи-
тельно труднее восстановить то, что происходило в описываемое время.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ В ПОЗДНЕЕ ЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ
111
в северной Азии. Во всяком случае, известно, что там очень рано, где-то
па грани третичного и четвертичного времени, устанавливаются климати-
ческие условия, довольно близкие к современным. В связи с этим холод-
ная фауна получает там распространение в значительно более раннюю
эпоху плейстоцена и держится без больших изменений в своем составе
до конца ледникового периода.
Наконец, ледниковое время идет к своему угасанию. Исчезают такие
формы, как сибирский носорог и мамонт, являвшиеся пережитком дале-
кой эпохи плейстоцена, уходят в горные области и отступают на север
представители полярной природы, откочевывают на восток обитатели
степи — для Европы наступает пора современной эпохи с ее значительно
более теплым и сначала сухим, затем более влажным климатом. Ланд-
шафт Европы, где он сохранился в известной неприкосновенности,
является преимущественно лесным ландшафтом с особым миром живот ных,
приспособившихся к существованию в условиях умеренных широт.
Таким образом, мы можем сказать, что в голоцене здесь вновь восста-
. Фауна древнею слона Фауна Мамонта
Фауна южного слона Со пот ре
и слона Трогонтерия Дошелль Шелль Ашёль Орпнь/тк Мадле п
_____________ • ! Мустье ' । •
«». : 1 । ; !
ПЛИОЦЕН______ПЛЕЙСТОЦЕН^____________ ] i i I L
X / МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ X i ! i f
МИНДЕЛЬ ™CC ВЮРМ
Рис. 20. Ледниковые п межледниковые эпохи — по Банеру.
Обозначения — как и на предыдущем рисунке.
навливается та природная обстановка, которая существовала за несколько
десятков тысяч лет ранее —в предвюрмское время. Истекшее времяуспело,
однако, наложить свою печать на ландшафт и на животное население
Европы.
Как совершился переход от суровой эпохи северного оленя к совре-
менным условиям климата, флоры и фауны, остается недостаточно осве-
щенным, по крайней мере, для значительных пространств Европы и Азии.
Во всяком случае, по мере отступания ледника ландшафт и животный
мир в умеренных широтах северного полушария лишь медленно прини-
мали современные черты. Этот процесс прослеживается, например, в пе-
щерных стоянках Франции, Бельгии, Германии, где к концу ледниковой
эпохи становится заметным уменьшение остатков северного оленя и по-
степенное вытеснение его благородным оленем в качестве охотничьей до-
бычи человека.
Это была, очевидно, пора, когда Балтийское море впервые после вюрм-
ского времени стало освобождаться от льдов и его побережья начали
заселяться полярными животными, отступающими за уходящими ледни-
ками. Вскоре за ними явился на берега Балтийского моря и человек.
Изучение торфяников, значительно подвинувшееся за последнее время,
видимо, позволяет говорить о некоторых колебаниях климата, имевших
место в послеледниковое время не только в средней и северной Европе,,
но и в ее более южных областях.
Переход к
современной
эпохе
112
Послеледни-
ковое поте-
пление
Время поя-
вления совре-
менной рас-
тительности
в Крыму
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ И ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
Остатки растительности, главным образом пыльцы, в торфяниках
Арденн, Вогез, Юры, Оверни, Пиреней показывают, как древние по-
слеледниковые леса из сосны, березы и ивы, соответствующие еще до-
статочно холодному, преимущественно степному ландшафту начала го-
лоцена, сменяются постепенно лесами более мягкого климата. Из по-
следних сначала получает распространение обыкновенный орешник,
затем на смену ему приходят «дубравы» с преобладанием дуба, липы, вяза.
Другими словами, в этой смене растительности мы видим совершенно ту же
последовательность, что и в торфяниках района южной Прибалтики.
В этот период страны западной Европы должны были пользоваться
несколько более благоприятным климатом, чем в настоящее время. Если
наблюдения ботаников правильны, к концу этого времени, предположи-
тельно совпадающему с концом неолита, в характере растительности
снова отражается некоторое ухудшение природных условий в смысле
умеренного похолодания, на что указывает происходящее вытеснение
в горных областях западной Европы дубовых лесов лесами из буков и сосен,
которые удерживаются и в современную эпоху в смешении с другими
хвойными и лиственными породами.
На существование влажного климатического режима в какое-то более
раннее время современной эпохи указывает образование торфяников с нео-
литическими остатками в области Сены и Соммы. Но и южнее, в за-
падных Пиренеях, в Астурии, могут быть установлены довольно значи-
тельные колебания климата в прошлом. Полагают, что раковинные кучи
в Кантабрии, сопровождающие места астурийских (ранненеолитических)
поселений, относятся к климатическому оптимуму в Испании, то есть
к его более теплой и, особенно, более влажной фазе.
В следующую, более сухую эпоху скопления раковин на морских по-
бережьях превратились в настоящую брекчию, а еще позже, видимо
в связи с наступлением периода, отличавшегося более обильными дожде-
выми осадками, большая часть раковинных скоплений подверглась раз-
рушению.
Изучение растительных остатков, сохранившихся в виде угля в древ-
них пещерных поселениях, открытых в области второй гряды крымских
гор, позволяет довольно точно определить время, когда здесь устанавли-
ваются условия, характерные для современной эпохи. По наблюдению
А. Ф. Гаммерман, 1 насколько можно судить по растительным сообществам,
это должно было произойти в тарденуазское время (то есть не менее,
чем за 12—15 тысяч лет назад), когда росшие ранее в крымских пред-
горьях леса северного типа из осины, березы, рябины обыкновенной и ивы
сменяются дубовыми и кленовыми рощами. В слоях скифского времени
(Шайтан-Коба) имеется уже полный список современной растительности
этой зоны — дуб, кизил, грабинник (Carpinus), клен, вяз и пр.
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЗАЦИЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ ЕВРОПЫ
Заканчивая обзор фактов, рисующих условия природной среды и их
изменение на протяжении древнечетвертичного времени, чтсбы резюми-
ровать то, о чем мы говорили выше, мы должны будем вкратце наметить
1 А. Ф. Гаммерман, Результаты изучения четвертичной флоры по остаткам дре-
весного угля, «Труды II мезкд. конф. АИЧПЕ», в. V, 1934, стр. 70—72.
ТА
ТАБЛИЦА V
вия залегания палео- тических остатков Типичные памятники на территории СССР
Дюнные стоянки у водоемов. Нтаткв поселений под горизонтом (временной почвы. Заселение возвышенностей 1йлы, Арденн и пр.) Памятники тарденуазского типа распро- странены от верховьев Волги до Черного и Каспийского морей, а также в степях, прилегающих к Аральскому морю
рхппе слон гротов и ) бежшц Боршево II (верхний горизонт), Кирилловская (верхний горизонт), Журавка, Рогалик
1ёссы и суглинки, врывающие вторую (пойменную террасу и склоны долин. Пещерные наносы Гонцы, Боршево II (нижний горизонт), Елисеевичи, Костенки II—IV, Кирилловская (нижний горизонт), Мезпн, Мальта. Костенки 1, Гагарине, Бердыж Сюрень I. Хергулис-Клдэ, Таро-Клдэ, Тельманская (под Воронежем)
гжпие. слои гротов п убежищ. Речные и озерные террасы времени редпего плейстоцена. -у гл инки береговых склонов Киик-Коба (верхний горизонт). Чокурча (Крым). Ильская (Северный Кавказ). Деркул (Северный Донец). Кодак (Днепр) * Киик-Коба (нижний горизонт) Стоянки на 80—100-метровой террасе ио Черноморскому побережью в районе Сухуми
Остатки встречаются ассеянио в древнем лювин речных террас и отложениях плато
Известны только в юго-западной Европе (в области Средиземья, а также Франции, Бельгии, южной Англии)
t I Е
АВЛПЦА V
Геологические подразделения Геологические явления Растительный ландшафт 1 Европы
ГОЛОЦЕН 1 или современная | эпоха НАЧАЛО СОВРЕМЕННОП ЭПОХИ Продолжающееся смягчение климата. Озерные отложения под современ- ными торфяниками. Углубление поймы. Образование дюп на надпойменных 1 террасах (и их заселение человеком) Сходный с современным. Степь п лесостепь занимают еще значи- тельные пространства Блан
н ы й период ЦЕН I 1 поздний ОТСТУПАНИЕ ВЮРМСКОГО ЛЕДНИКА i 1 В10РМСКАЯ ФАЗА ОЛЕДЕНЕНИЯ РИСС-ВЮРМСКОЕ ВРЕМЯ Морены балтийского оледенения Смягчение климата. Отложение позднейшего лёсса. Образование нижней надпойменной ! террасы I Морены еюрмского оледенения Климат сухой и холодный. Отложение лёсса. Образование второй надлуговой террасы Климат влажный и умеренный i i Продвижение леса > па север IIреобладанпе холодной степи п тундры. Южнее —хвойные леса Преобладание лиственных лесов Ф, К к / К к< (В ВЭ1
Ч е т в е р пг и ч Е Й С Т О средний РИССКАЯ ФАЗА ОЛЕДЕНЕНИЯ МИНДЕЛЬ-РИССКОЕ ВРЕМЯ • Морены максимального оледенения Климат влажный и холодный. Местами — отложение нижних горизонтов лёсса. Размыв древних террас Климат влажный и умеренный Преобладание хвойного леса (тайги) с участками степи. На юго-востоке преобладание степи. (В области Средиземья -- лиственные леса) По окраинам ледника- полоса тундры. Южнее — лиственные | леса На элас ласт По (В с
1 S 1 1 ранний 1 МИНДЕЛЬСКАЯ ФАЗА ОЛЕДЕНЕНИЯ ч ДОЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ Морены миндельского оледенения Климат влажный и умеренный. Размыв и переотложение древних аллювиальных наносов (с шелль- скими остатками) j Климат мягкий и очень влажный. । Образование, верхних террас 1 Лиственные леса । Растительность <• релизе м и о морского типа в южной Англии п северной Франции Рс Фа о
Третич- ный nevuod ПЛИО- ЦЕН верхний КОНЕЦ ВЕРХНЕГО ПЛИОЦЕНА
ЕВРОПА В ЧЕТВЕРГ
ТАБЛИЦА V
потный мир Европы Археологическое время Условии залегания палео- литических остатков Типичные памятники на территории СССР
^временная фауна шый олень, лось, дикие <и, кабан, бобр и пр. | i ТАРДЕНУАЗ (эпипалеолит) Дюнные стоянки у водоемов. Остатки поселений под горизонтом современной почвы. Заселение возвышенностей (Яйлы, Арденн и ир.) Памятники тарденуазского типа распро- странены от верховьев Волги до Черного и Каспийского морей, а также в степях, прилегающих к Аральскому морю
а благородного оленя ?рный олень отходит вправлении Балтики А ЗИЛЕ 1 Верхние слои гротов и )бежит Боршево II (верхний горизонт), Кирилловская (верхний горизонт), Журавка, Рогалик
уна северного оленя у — исчезновение мамонта Зияя фауна мамонта у — увеличение количества северных форм. астн Средиземья удержи - последние представители «теплой» фауны) МАДЛЕН СОЛЮТРЕ Лёссы п суглинки, покрывающие вторую надпойменную террасу и склоны долин. Пещерные наносы Гонцы, Боршево II (нижний горизонт), Елисеевичи, Костенки II—IV, Кирилловская (нижний горизонт). Мезин, Мальта. Костенки I, Гагарине, Бердыж Сюрень I. Хергулис-Клдэ, Таро-Клдэ, Тельманская (под Воронежем)
ОРПНЬЯК
1няя фауна мамонта сибирского носорога о-востоке степная фауна — рий, верблюд и пр. (в об- едиземья — Elephas antiquus i Hhinoceios Merckii) ?.ч фауна древнего слона а носорога Мерка ти Средиземья—гиппопотам) МУСТЬЕ ПРЕМУСТЬЕ (ашёль, клзктон) Нижние слон гротов п убежищ. Речные и озерные террасы времени среднего плейстоцена. Суглинки береговых склонов Киик-Коба (верхний горизонт). Чокурча (Крым). Ильская (Северный Кавказ). Деркул (Северный Донец). Кодак (Днепр) Кинк-Коба (нижний горизонт) Стоянки на 80—100-метровой террасе по Черноморскому побережью в районе Сухуми
я фауна древнего слона и носорога Мерка РАННИЙ АШЁЛЬ 1 i Остатки встречаются рассеянно в древнем * аллювии речных террас и отложениях плато
гиппопотама, южного и этрусского носорога ШЕЛЛЬ Известны только в юго-западной Европе (в области Средиземья, а также Франции, Бельгии, южной Англии)
ный слон- и мастодонт
И- ВРЕМЯ. ((’ОСТАВЛЕНО АВТОРОМ)
ренин | Геологические явления Растительный ландшафт Европы Животный мир Европы Археологическое вре
НАЧАЛО РЕМЕПНОП .ЭПОХИ Продолжающееся смягчение климата. Озерные отложения под современ- ными торфяниками. Углубление поймы. Образование дюн на надпойменных террасах (и их заселение человеком) Сходный с современным. Степь и лесостепь занимают еще значи- тельные пространства Современная фауна Благородный олень, лось, дикие быки, кабан, бобр и пр. | i ТАРДЕНУАЗ (длипалеолит)
ТУПАНИЕ РМГКОГО 1ДПИКА Морены балтийского оледенения Смягчение климата. Отложение позднейшего лёсса. Образование нижней надпойменной террасы I Продвижение, леса ; на север Фауна благородного оленя Северный олень отходит в направлении Балтики АЗИЛЬ
1 1СКАЯ ФАЗА ДЕЛЕНИЯ Морены еюрмского оледенения Климат сухой и холодный. Отложение лёсса. Образование второй надлуговой террасы Преобладание холодной степи п тундры. Южнее —хвойные леса Фауна северного оленя К концу — исчезновение мамонта Поздняя фауна мамонта МАДЛЕН СОЛЮТРЕ
ВЮРМСКОЕ ВРЕМЯ 1 К.1имат влажный и умеренный 1 • Преобладание лиственных лесов К концу — увеличение количества северных форм. (В области Средиземья удержи- ваются последние представители «теплой» фауны) ОРПНЬЯК
'.КАЯ ФАЗА ЩЕНЕНИЯ Морены максимального оледе.сення Климат влажный и холодный. Местами — отложение нижних горизонтов лёсса. Размыв древних террас Преобладание хвойного леса (тайги) с участками степи. На юго-востоке преобладание степи. (В области Средиземья-- лиственные леса) Ранняя фауна мамонта и сибирского носорога На юго-востоке степная фауна — эласмотерий, верблюд и пр. (в об- ласти Средиземья — Elephas antiquus и Rhinoceros Merckii) МУСТЬЕ
ЕЛЪ-РИССКОЕ ВРЕМЯ Климат влажный и умеренный По окраинам ледника — полоса тундры. Южнее — лиственные леса Поздняя фауна древнего слона и носорога Мерка (В области Средиземья—гиппопотам) ПРЕМУСТЬЕ (ашёль, клэкто
НДЕЛЬСКАЯ ФАЗА ВМЕНЕНИЯ Морены миндельского оледенения Климат влажный и умеренный. Размыв и переотложение древних аллювиальных наносов (с шелль- скими остатками) | Лиственные леса Ранняя фауна древнего слона и носорога Мерка РАННИЙ АШЁ
ЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ 1 Климат мягкий и очень влажный. Образование верхних террас ) Растительность средиземноморского типа в южной Англии п северной Франции Фауна гиппопотама, южного слона и этрусского носорога ШЕЛЛЬ
:ц ВЕРХНЕГО ЛНОЦЕНА Южный слон, и мастодонт
ЕВРОПА В ЧЕТВЕРТИЧНОЕ BPEMJI. (СОСТАВЛЕНО АВТОРОМ)
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЗАЦИЯ ПАЛЕОЛИТА ЕВРОПЫ
113
те основные положения, из которых мы исходим в отношении геологи-
ческой датировки палеолитических памятников Европы.
При этом следует повторить еще раз, что единственным надежным
критерием, дающим возможность более или менее точной геологической
хронологизации плейстоценовой истории Европы, является история
оледенения, то есть повторное развитие и отступание великого северного
ледника. Лишь используя эти колебания ледникового покрова, иногда,
видимо, настолько значительные, что они дают некоторое основание
говорить о ледниковых и межледниковых эпохах, мы можем иметь более
или менее правильную перспективу во времени и для всякого рода иных
явлений, имевших место в областях, не занятых ледником. В частности,
это относится и к истории интересующего нас первобытного общества.
В настоящее время приходится считать доказанным, что европейское
оледенение распадается на три более или менее самостоятельные фазы,
условно обозначаемые по альпийскому оледенению как миндельская,
рисская и вюрмская ледниковые эпохи. Мы их можем также назвать
ранним, средним и поздним плейстоценовым оледенением Европы.
Эти повторные вспышки ледниковых явлений, которым, возможно,
предшествовали более ранние колебательные движения ледников, свя-
Расчленение
плейстоцено-
вой истории
Европы:
По фазам
оледенения
занные с какими-то изменениями в климатических условиях северного
полушария, естественно не делят плейстоценовую историю Европы на
равные периоды времени. Последнее оледенение, вюрмское, по всем дан-
ным было наиболее коротким. И, видимо, наиболее длительным было
первое, миндельское, оледенение, если брать это оледенение в его разви-
тии и отступании. Ему предшествовало время, которое некоторыми рас-
сматривается как межледниковое, но которое в свете тех фактов, кото-
рыми мы располагаем, правильнее считать доледниковым. 1
Второй ряд фактов, существенно важный для понимания палеоли-
тических памятников Европы,—это геологические явления вне области оле-
денения, то есть речные и морские террасы, отложение лёсса, стадии фор-
мирования рельефа страны и т. д. Если мы не можем принять упрощенную
схему, видящую в явлениях этого порядка лишь производное повторного
наступания и отступания ледников, это не значит, конечно, что их объяс-
нение не лежит во многом в истории оледенения Евразии. Даже при той
переоценке, которую требуют, например, вопросы времени отложения
лёсса, возраста речных террас и пр., необходимость как-то поставить их
в связь с развитием ледников ощущается всеми достаточно ясно.
Наибольшее значение для нас имеет, однако, история плейстоценовой По фаупо
фауны, поскольку она ближайшим образом переплетается с историей
самого человека и остатки животных чаще всего встречаются на местах
палеолитических поселений. Бесспорным фактом является, что на про-
тяжении истории первобытного человечества, как мы знаем ее по палеоли-
тическим памятникам Европы, мир животных испытывает поразительные
перемены, которые имеют, однако, свою закономерность и ни в какой
мере не отвечают теоретической схеме полиглациалистов.
В находках фауны, сопровождающей места человеческого обитания,
начиная с наиболее ранней эпохи и кончая геологической современностью,
удается проследить смену семи характерных фаунистических комплек-
1 Ср. 5. A. Huzayyin, Glacial and pluvial episodes of the diluvium of the old world',
a review and tentative correlation, vol. XXXVI, febr., «Man» 1936. На табл. Ill мы поме-
шаем составленную им сводку новейших данных в отношении ледниковых явлений
Европы п колебаний климата в тропических странах.
8 П. II. Ефименко. Первобытное общество — 1731
114
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГЕОЛОГИЯ II ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ
сов, которые в своем целом, как мы уже видели, охватывают все четвер1-
тичное время.
Первый, Находки, сделанные в южной Англии и на верхних террасах рек север-
древиейший, ной франции, дают основание утверждать, что древнейший из этих ком-
Фатшстичс- плексов, представленный фауной южного слона (Elephas meridionalis),
еких этрусского носорога (Rhinoceros etruscus) и лошади Стенона (Equus Ste-
оетаткои nonis), по времени, если не в целом, то в известной части, совпадает
с ранней порой так называемой шелльской эпохи. Геологическая дати-
ровка его — доледниковое (до-миндельское) время.
Второй Второй комплекс, который можно назвать фауной гиппопотама или
комизекс ранней фауной древнего слона, с такими характерными формами, как
древний слон (Elephas antiquus — его ранняя разновидность), гиппо-
потам (Hippopotamus major), носорог Мерка (Rhinoceros Merckii), махай-
род (Machaerodus cultridens) и др., является обычным в слоях, содер-
жащих шелльские орудия. Можно думать, скорее, однако, в виде пред-
положения, так как прямых доказательств этого мы все же пока не имеем,,
что фауна гиппопотама и древнего слона не уходит далеко в эпоху мин-
дельского оледенения. Весьма вероятно, что ухудшение климатических
условий, принесенное этим оледенением, и было причиной отхода теплой
фауны к побережью Средиземного моря, где она удерживается по край-
ней мере до рисского времени.
Третий Во всяком случае, уже в миндель-рнсское время эта раиияя фауна
в местонахождениях средней Европы (Рабутц, Таубах), как, очевидно, и
в восточной Европе, сменяется (третий комплекс) поздней фауной древ-
него слона, представленного его поздней разновидностью, затем поздней
формой слона — трогонтерия, уже очень близкого к мамонту, и носо-
рогом Мерка. Фауна этого типа сосуществует во Франции, Англии и
Германии с остатками так называемой ранней ашёльской, или премустьер-
ской (ее ранней—клэктонской фазой), эпохи. Время ее исчезновения для
более умеренных широт Европы в пред-рисское время хорошо датируется
геологически целым рядом местонахождений.
Четвертый Четвертую группу составляет ранняя фауна мамонта и сибирского
носорога, известная по многочисленным мустьерским местонахождениям
как восточной, так и западной Европы. Появляясь вместе с наступанием
рисского оледенения, она удерживается еще в эпоху его отступания и
в сущности в довольно мало измененном виде переживает и в вюрмское
время.
Пятый Однако в эпоху развития вюрма, что совпадает, видимо, в основном
с так называемой солютрейской эпохой (Байер), в связи с усилением конти-
нентальности климатических условий в Европе эта фауна значительно
обогащается арктическими видами (пример — Пржедмост, Мезин и
другие стоянки). Это наш пятый фаунистический комплекс.
Шестой Наконец в мадленское время, отвечающее первой стадии отступания
вюрма и отмеченное господством тундры и ее обитателей на обширной
территории Европы вплоть до Альп и Пиреней, наиболее характерным
видом становится северный олень. Мамонт начинает исчезать в находках
этой эпохи—по крайней мере в приатлантической части Европы.
Седьмой Затем, начиная с азильского времени, намечается климатический
перелом к современности, приводящий к распространению в Европе
животного населения, связанного с обитанием в лесах умеренной
зоны.
Если к этим фактам прибавить то, что мы знаем в отношении орнито-
и ихтиофауны, а также растительного покрова, получается достаточно
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЗАЦИЯ ПАЛЕОЛИТА ЕВРОПЫ
115
отчетливая картина изменений природной среды, сопровождавших чело-
века со времени его появления в Европе (см. табл. V). Она имеет мало
общего с изображением этих условий, даваемым такими авторами, как
Обермайер, Осборн, Зёргель и др.
Говоря о природных условиях ледникового периода, нельзя, однако,
забывать, что и тогда, вне всякого сомнения, имели место те же явления
зональности, которые мы можем наблюдать в настоящее время. Было бы
ошибкой полагать, что ландшафт Европы имел одинаковый характер
вблизи ледника и в областях, расположенных на значительном расстоянии
от него.
Уже в эпоху наступания рисского оледенения мы можем говорить
о тундровой зоне, об области, занятой лесами, и полосе степей, которые,
как и ныне, простирались главным образом на юго-востоке Европы,
о чем свидетельствует так называемая хазарская фауна среднего и ниж-
него Поволжья. Распространение верблюда, эласмотерия и некоторых
других животных дает возможность приблизительно наметить границы
этих степей в миндель-рисское и в рисское время,1 тянувшихся от Забай-
калья до Карпат и далее, отдельными участками, до Рейна.
В это же время на берегах Средиземного моря, в Ментоне и на Апеннин-
ском полуострове еще водились такие животные, как гиппопотам, с кото-
рыми, казалось, нам трудно было бы связать представление о леднико-
вом периоде, переживавшемся в это время Европой.
Явления
зональности
в плейсто-
цене
1 В. И. Громова (Новые материалы по четвертичной фауне Поволжья, «Труды
Комиссии по изуч. чете, пер.», II, 1932, стр. 176) в своей интересной монографии
волжской плейстоценовой фауны намечает северную границу степи в эту эпоху
приблизительно в области нижнего течения Камы.
Изображение лошади
(Ла-Мадлен, Франция).
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
БУШЕ ДЕ ПЕРТ
ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
«Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между чело-
веком и природой, процесс, в котором человек своей собственной
деятельностью обусловливает, регулирует и контролирует обмен
веществ между собой и природой. Вегцеству природы он сам про-
тивостоит как сила природы. Для того, чтобы присвоить веще-
ство природы в известной форме, пригодной для его собственной
жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу есте-
ственные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Действуя посред-
ством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то
же время изменяет свою собственную природу'-'.
«Такую же важность, как строение останков костей имеет
для изучения организации исчезнувших животных видов, останки
средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-эко-
номических формаций».
(К. Маркс, Капитал, т. 1, 1936, стр. 1'28 и 130)
ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
К началу четвертичного времени мир живой природы в результате
чрезвычайно долгого процесса развития, продолжавшегося многие мил-
лионы лет, начинает приобретать знакомый нам облик. Это можно сказать
в особенности в отношении наиболее высоко организованных животных,
то есть млекопитающих^ время расцвета которых приходится на пред-
шествующий четвертичному — третичный период.
В самом деле, уже к концу третичной поры мы можем наблюдать, как
уменьшается количество форм млекопитающих, которые поражали своим
исключительным разнообразием в третичное время. Параллельно с обед-
нением мира млекопитающих к концу этого периода происходит и более
или менее заканчивается их специализация в определенных типах (тра-
воядных, хищников, грызунов и т. д.) из обобщенных форм раннетре-
тичной эпохи. Таким образом, в отложениях Европы, относящихся к са-
мому начальному времени четвертичного периода, мир млекопитающих
оказывается уже представленным — например в кромерском лесном слое
ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
П7с
(Forest Bed) в юго-восточной Англии — такими видами животных, которые
и сейчас населяют леса и травянистые равнины Евразии.
Несколько иначе, видимо, стоит вопрос в отношении человека. Дей-
ствительно, согласно общему закону биологического развития, чем выше
организована данная форма, то есть чем она более сложна и более совер-
шенна, тем, как правило, она должна появиться позже в цепи возни-
кающих форм, другими словами, тем, так сказать, ближе ее место к вер-
шине родословного дерева живой природы.
При сравнении человека с окружающим миром животных у нас не
возникает сомнения в том, что человек должен быть поставлен во главе
их прежде всего с точки зрения своей физической организации. Среди
других млекопитающих его выделяют такие признаки, как развитие
мозга, которое далеко превосходит строение мозга самых в этом отноше-
нии высокостоящих животных — человекообразных обезьян. Ему свой-
ственно вертикальное положение тела, в огромной степени уменьшавшее
давление силы тяжести на череп, в связи с чем стоит также диференциа-
ция конечностей, освободившая передние конечности — руки — для ра-
зумной, целесообразной работы. Таким образом, как существо высшей
организации, человек должен был появиться позже других животных.
Насколько мы знаем, в отложениях, относящихся к третичному периоду,
остатки человека, действительно, до сих пор не известны; нужно думать,
что они и не заходят в глубь этого времени.
Первые достоверные находки остатков нашего человекообразного Четвертпч-
предка, как мы сейчас увидим, приходятся на время, лежащее на рубеже вый период
третичного и четвертичного периодов. Можно сказать, таким образом, э')а ,,еловека
что появление человека отмечает новую эру в истории земли — четвер-
тичный период, являющийся эрой человека, деятельность которого ста-
новится новым, чрезвычайно важным фактом в жизни природы. 1
Устанавливая родство человека с животным миром, нетрудно ука- Ближайшие
зать очень много признаков из области сравнительной анатомии, эмбрио- родственники
логии, физиологии и т. д., которые ближайшим образом связывают чело- человека
века с другими млекопитающими. Сравнительное изучение человека и
животных дает в то же время достаточное количество фактов, позволяю-
щих установить его ближайших родственников в ряду высших позвоноч-
ных. Общеизвестно, что их приходится искать среди той группы обезьян,
современными представителями которых являются оранг-утан, гиббон,
горилла и шимпанзе, обитающие в лесах южной Азии, Зондских остро-
вов и экваториальной Африки.
В отличие от других, нижестоящих форм обезьян, эти виды объеди-
няются в семейство антропоидов — человекообразных обезьян. Они
имеют достаточное число характерных особенностей, которые позволяют
рассматривать современных антропоидов как ближайших родственников
человека. Сюда мы относим развитие головного мозга, так же как спо-
собность к вертикальному хождению, правда, у антропоидных обезьян
проявляющуюся лишь в зачаточной форме. Сюда же относятся намечаю-
щееся выделение руки как органа действия, отсутствие хвоста и другие
черты, которые не известны у прочих обезьян.
Представление об эволюционном развитии всего органического мира,
включая сюда и человека, неразрывно связанного со всей живой приро-
1 В связи с этим некоторые геологи предлагают изменить название четвертичного
периода на такое, которое указывало бы на связь его с человеком, —антропоген, антро-
новой и т. д. Ср., например, И. М. Губкин, Основные задачи изучения четвертичных
отложений, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. I, 1932, стр. 24.
118
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Развитие дой, представление о том, что человек есть последнее звено в цепи общей
представав- эволюции, результат скачка от биологического к социальному, является
о единстве для нас настолько естественным, что старые взгляды церковников, согласно
происхо- которым человек был создан по доброй воле господа бога, кажутся нам
ждеиия сейчас наивными и смешными. И все же приходится констатировать,
«рганичсско- чт0 научное, то есть диалектико-материалистическое понимание проис-
го мира Х0?Кдения человека сложилось, в сущности, совсем недавно, как одно из
завоеваний быстро развивавшегося в прошлом и позапрошлом столетиях
естествознания. 1
Первый серьезный удар теологическим учениям был нанесен посте-
пенно пробивающей себе путь в научном сознании теорией единства раз-
вития всего органического мира, которая устанавливает прямую связь и
общность происхождения человека со всеми другими животными суще-
ствами. Эта теория, правда в еще не оформившемся виде, чувствуется
уже в первых построениях натуралистов XVIII века, отражающих рево-
люционную идеологию буржуазии периода ее борьбы за власть с феодаль-
ной аристократией.
Собственно, начиная уже с Линнея, включившего в свою общую
классификацию животных и человека под обычным двойным латинским
названием Homo sapiens, все крупные натуралисты волей-неволей стано-
вятся на этот путь в истолковании места человека среди окружающей
его природы.
После Линнея естествоиспытатели-материалисты рассматривают че-
ловека как одного из представителей млекопитающих, тесно связанного
с ними всеми чертами своей организации. Этим признанием единства
природы человека и животных намечается путь к идее единства развития
всего животного мира, то есть к идее эволюции, усвоение которой было
подготовлено в известной степени Лейбницем — его учением о непрерыв-
ности развития вселенной.
На рубеже XIX века ряд таких крупных ученых, как Бюффон, Ла-
марк и другие, прежнему представлению о замкнутости и извечности
видов, которые могут в конце концов сменяться только в результате миро-
вых катастроф, «катаклизмов», противопоставляют учение об изменчи-
вости, трансформации организмов. Ламарк рисует даже гипотетическую
картину происхождения человека от расы четвероногих.
Ч. Дарвин Вопрос о происхождении человека, поставленный материалистами
XVIII века, был разрешен все же значительно позднее — во второй поло-
вине XIX века— эволюционистами во главе с Чарльзом Дарвином, дока-
завшими единство и закономерность развития всего животного мира и
установившими последовательность этого развития.
В своем труде «Происхождение человека и половой отбор» (1871)
Дарвин собрал достаточно фактов, с полной убедительностью свидетельство-
вавших о возникновении человечества из ветви антропоморфных обезьян
третичного периода. Однако в объяснении этого процесса Дарвин, как и
его наиболее смелый ученик Геккель (Haeckel), стоят на чисто биологи-
ческой позиции, распространяя и на человечество в его происхождении
те же законы эволюции, которые применяются Дарвином для объяснения
исторического движения организованной природы.
1 Еще в середине XIX века официальный представитель церкви, епископ оксфорд-
ский, считает возможным объявить противным христианству признание за челове-
чеством древности большей, чем шесть тысяч лет. См. V erneau, Les origines de I’huma-
nite, стр. 59.
ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
119
Только диалектическому материализму мы обязаны последовательно
материалистической постановкой проблемы происхождения человека.
В этом смысле замечательный набросок Энгельса, синтезирующий все
наиболее важное, что дала по этому вопросу наука, является одним из
крупнейших завоеваний человеческой мысли.
В своей замечательной «Диалектике природы» Энгельс рисует яркую
картину происхождения человека: он указывает, что в конце третичного
периода, много сотен тысяч лет назад, где-то в жарком поясе — вероятно,
на южных окраинах древнего обширного материка Азии — жила высоко-
развитая порода человекообразных обезьян, далеко превосходившая
другие родственные виды. Можно предполагать, как это думает Дарвин,
что наши отдаленные волосатые предки имели бороды и остроконечные
уши. Жили они стадами на деревьях.
«Первым следствием обусловленного их образом жизни обычного для
них способа передвижения (лазать, карабкаться), при котором руки
выполняют совсем другие функции, чем ноги, было то, что эти обезьяны
постепенно перестали пользоваться руками при передвижении по поверх-
ности земли, стали усваивать прямую походку. Этим был сделан реши-
тельный шаг для перехода от обезьяны к человеку.
Все еще ныне живущие человекоподобные обезьяны могут стоять
прямо и двигаться при посредстве одних ног, но только кое-как и беспо-
мощно. Их естественное передвижение совершается в полувыпрямленном
положении п предполагает употребление рук. Большинство из них упи-
раются тыльными сторонами сжатых в кулак пальцев рук в землю и
передвигают тело с поднятыми в воздух ногами, между длинными руками,
подобно хромому, двигающемуся при помощи костылей. В общем мы и
теперь еще можем наблюдать у обезьян все переходные ступени от хожде-
ния на четвереньках до хождения на двух ногах. Но ни у одной из них
последнее не стало нормальной формой передвижения». 1
Было ли, однако, вертикальное положение тела при передвижении
по земле тем главнейшим фактором, который обусловил у наших обезья-
ньих предков их дальнейшее прогрессивное развитие?
Крупнейший антрополог второй половины XIX века Брока, еще до
открытия питекантропа прекрасно обрисовавший значение прямохожде-
ния в процессе очеловечения обезьяны и связанного с этим превращения
руки в орган труда (un merveilleux instrument du travail), принимает верти-
кальное положение тела как явление чисто биологического приспособления.
Не может быть никаких сомнений в том, что вертикальное положение
тела явилось тем приобретением, которое, с своей стороны, обусловило и
другие человеческие черты, как формирование стопы, форму таза, харак-
терный для человека изгиб позвоночника, посадку черепа, обеспечившую
развитие головного мозга и т. д. Но все эти особенности, наметившиеся
уже у предка человека, не являются случайным биологическим приобре-
тением, зависевшим от выработавшейся привычки к прямохождению.
Их, как самое прямохождение, отличающее человека от высших обезьян,
нельзя понять, по мнению Энгельса, вне зависимости от такого факта,
как приобретение рукой предшественника человека способности к гораздо
более разнообразным и сложным действиям, чем это наблюдается у тех
же высших обезьян, живущих в естественных условиях.
«Чтобы прямая походка могла стать у наших волосатых предков
сначала правилом, а потом и необходимостью, нужно было, чтобы руки
Энгельс
Значение
руки
в процессе
очеловечения
обезьяны
1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1936, стр. 50.
120
Роль труда
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
уже раньше специализировались на других функциях. Уже у обезьян
существует известное разделение функций между руками и ногами.
Как уже раньше замечено было, при лазании пользуются руками иначе,
чем ногами. Первыми пользуются преимущественно для целей собирания и
удержания пищи, как это уже делают некоторые низшие млекопитающие
при помощи своих передних лап. При помощи рук некоторые обезьяны
строят себе гнезда на деревьях или даже, как шимпанзе, навесы между
ветвями для защиты от непогоды. Руками они схватывают дубины для
защиты от врагов или бомбардируют последних плодами и камнями.
При помощи рук они выполняют в плену целый ряд простых операций,
подражая соответствующим действиям людей. Но именно тут-то и обна-
руживается, как велико расстояние между неразвитой рукой даже наи-
более подобных человеку обезьян и усовершенствованной трудом сотен
тысячелетий человеческой рукой. Число и общее расположение костей в
мускулов одинаковы у обоих, и тем не менее даже рука первобытнейшего
дикаря способна выполнить сотни работ, недоступных никакой обезьяне.
Ни одна обезьянья рука не изготовила когда-либо хоть бы самого гру-
бого каменного ножа». 1
Известную роль в подготовке прямохождения должен был, видимо,
сыграть способ передвижения по деревьям, свойственный высшим обезья-
нам — в вертикальном положении с помощью рук, захватывающих выше
расположенные ветви. Но одним из основных условий прогрессивного
развития человекоподобного существа на пути от обезьяны к человеку
должно было явиться пользование руками для добывания пищи, постройки
убежищ на деревьях, защиты от нападения и т. д., то есть растущая актив-
ность в приспособлении к внешним условиям и растущая способность
противостоять им.
«Поэтому операции, к которым наши предки в эпоху перехода от
обезьяны к человеку, на протяжении многих тысячелетий, постепенно
научились приспособлять свои руки, могли быть вначале только очень
простыми. Самые низшие дикари, даже такие, у которых приходится
предположить возврат к звероподобному состоянию с одновременным
физическим вырождением, все же стоят выше тех промежуточных существ.
До того как первый булыжник при помощи человеческих рук мог пре-
вратиться в нож, должен был пожалуй пройти такой длинный период
времени, что в сравнении с ним знакомый нам исторический период
является совершенно незначительным. Но решительный шаг был сделан,
рука стала свободной и могла совершенствоваться в ловкости и мастер-
стве, а приобретенная этим большая гибкость передавалась по наследству
и умножалась от поколения к поколению». 2
В своем анализе условий, в которых должно было протекать очелове-
чение обезьяны, Энгельс исходит из последовательной диалектико-мате-
риалистической оценки его как процесса самодвижения — активного
творчества новой формы в сложном процессе ее жизнедеятельности и взаи-
модействии с окружающей природой. По Энгельсу качественное отличие
человека от животного выражается в трудовой деятельности. «Труд
создал самого человека». 3 «Рука таким образом является не только
органом-труда, она. также его продукт». 4 Расширяя кругозор, содей-
ствуя все большему сплочению первобытных людей в обществе, труд вызвал;
1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1936, стр. 50—51.
2 Там оке, стр. 51.
3 Там оке, стр. 50.
• 4 Там оке, стр. 51.
ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЕЛОВЕКА
121
потребность в речи. Труд и развитие членораздельной речи привели к раз-
витию мозга и оформлению Ното, возникновению человеческого обще-
ства из стада обезьян. Очеловечение обезьяны представляет новое
качественное образование, скачок в эволюционной линии, причем пред-
посылки этого скачка накапливаются весьма длительно.
В противоположность взглядам Энгельса, в гипотезах относительно Взгляды
происхождения человека буржуазных ученых значительная роль всегда натуралистов,
отводится причинам чисто внешнего порядка.
Особенно распространенным, главным образом в кругах естествен-
ников — зоологов и геологов, является представление, переносящее центр
тяжести решения вопроса о становлении человека в область геологиче-
ских явлений и подчеркивающее чисто биологические моменты в ущерб
диалектической стороне процесса, которую необходимо предполагать
в истории очеловечения. В известной степени в плену у подобных пред-
ставлений оказываются и некоторые советские ученые и даже такие
крупные, как акад. П. П. Сушкин. Последний1 развивает мысль,
что человек должен был произойти где-то в центральной Азии, где медлен-
ное поднятие горной области в течение третичного времени должно было
создать для человекообразной обезьяны, вероятно дриопитека — круп-
ного третичного вида антропоида, — необходимость перейти от обитания
на деревьях к жизни среди открытых горных пространств. Этому благо-
приятствовало и то обстоятельство, что крупные хищники обычно избе-
гают горных районов.
В приспособлении к новым условиям у этих обезьян выработалась
привычка подниматься на задние конечности для того, чтобы ориенти-
роваться в окружающем, а затем это было закреплено естественным отбо-
ром и дало начало вертикальному положению тела.
Под влиянием суровости климата эти наши предки, наряду с прямо-
хождением, скоро усвоили знание огня, то есть вступили на путь приоб-
ретения чисто человеческих навыков. В своем объяснении антропогенеза
акад. Сушкин стоит близко к тем ученым натуралистам, которые в исто-
рии земли отводят эпохам горообразования и связанным с ним измене-
ниям климата и привычных условий обитания вообще значение основных
причин развития живой природы.
Взгляды Сушкина и близкие к ним взгляды Шлоссера (1924) и Абеля
(1931) совершенно правильно оспариваются антропологом М. Ф. Нестур-
хом, указывающим, что, например, не так давно открытая в горных
областях экваториальной Африки очень любопытная «горная горилла» —
так называемая «Gorilla, beringei», 2 приспособившаяся к жизни на
открытых пространствах в условиях, очень близких к идеальному ланд-
шафту, рисуемому Сушкиным, все же преимущественно передвигается
на четырех конечностях, тогда как гиббон, типичный обитатель лесов,
приобрел прямохождение в обстановке тропического леса. Отсюда есте-
ственно сделать вывод, который делает Г. Миллер, что для первоначаль-
ного развития прямохождения изменение ландшафта на месте праро-
дины человека вовсе не является чем-то обязательным.
Поэтому весьма распространенное представление, что только попав Очеловечс-
в условия открытой равнины, вследствие постепенного превращения лес- ние—процесс
г ч. г 1 — саморазви-
ного ландшафта в степной, предок человека мог с течением времени усвоить тпя
1 П. П. Сушкин, Высокогорные области земного шара и вопрос о родине первобыт-
ного чемв-ка, «Природа», Л» 3, 1928 стр. 268 и сл. (И другие более ранние его статьи —
1918 и 1922 гг.).
2 М. Ф. Нестург, Человек и его предки, М., 1934, стр. 353 и сл.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Я22
новый способ передвижения на задних конечностях, не может быть при-
нято как бесспорное; тем более, что древнейшие известные нам остатки
человека, вернее предка человека, но усвоившего уже такие его физи-
ческие качества, как прямохождение, найдены на Яве среди типичной
фауны лесной тропической зоны.
Некоторые наши зоологи, например П. В. СЕРЕВровский,^гридержива-
ются взглядов, довольно близких к изложенным выше, полагая, что очело-
вечение обезьяны было связано с осушением субтропических областей север-
ного полушария (например той же центральной Азии), где постепенное
сокращение и исчезновение лесов «должно было вести к таким важным
предпосылкам очеловечения, как выпрямленная походка, высвобожденные
руки и т. д.». Прямохождение Серебровский считает специализацией,
приобретенной в условиях степного ландшафта. 1
* Приходится думать, однако, что и вертикальное положение тела
у нашего предка могло быть только другой стороной того же намеченного
выше процесса саморазвития и не могло, конечно, возникнуть только
в результате таких более или менее случайных причин, как поднятие части
материка или превращение леса в какой-то области Азии в степь.
Энгельс в вышеприведенном изложении его взглядов на происхожде-
ние человека высказывает исключительно глубокую и правильную мысль,
когда он особенно подчеркивает, в противоположность догадкам естество-
испытателей, что возникновение человеческих качеств представляет про-
цесс саморазвития, очевидно, в первую очередь связанный с деятельностью
нашего предка, направленной на поддержание его существования.
Значение Превращение стада обезьян в первобытное стадо людей происходило
.’расселении там, где существовал вид высших обезьян, являвшихся ближайшими
предками человека. Широкое расселение далеких предков человека и
приспособление их к разнообразной, изменчивой природной обстановке
должно было сыграть очень большую роль в деле очеловечения. Действи-
тельно, появление предка человека на обширных пространствах Евразии,
от Китая до западной Европы, в очень раннюю эпоху — несомненно
свидетельствует о том, что он выработал уже ряд новых привычек, осво-
бодивших его от необходимости обитания в лесах тропической области.
Кажется все же сомнительным, чтобы он в это время окончательно поте-
рял связь с лесом, доставлявшим ему прежде всего обильную и легко
добываемую пищу.
Это активное приспособление предка человека с ростом области его
обитания к меняющимся условиям природной среды, не вылившееся
у него в биологическую специализацию, создающую зависимость от
окружающей обстановки, а, наоборот, все в большей степени осво-
бождавшее его от этой зависимости, должно было в очень большой мере
стимулировать тот процесс саморазвития, о котором говорит Энгельс. 2
Поэтому особенно странным кажется желание многих натуралистов —
геологов и зоологов — свести причину антропогенеза к смене климати-
ческих условий, будто бы принесенной в начале четвертичного времени
гюнцским или миндельским оледенением.
1 История животного мира СССР, стр. 2'i.
2 Более или менее общеизвестным со времен Дарвина и Уоллеса является факт
весьма благоприятного биологического действия, которое оказывает приспособляемость
к перемене природной обстановки как растительных, так и животных видов. Этим,
в частности, объясняют роль переломных эпох в истории органического мира для прош-
лых геологических периодов, связанных с значительными вертикальными и горизон-
тальными перемещениями суши.
ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 128
В трудах современных антропологов, посвященных вопросам пропс- Родословное
хождения человека, можно найти целый ряд гипотетических схем, пытаю- ДеРеи0 чело-
щихся воспроизвести родословное дерево человека и человекооб- века
разных обезьян. Приходится, однако, сказать, что эти схемы не носят
характера достаточно обоснованных научных построений. В сущности,
в гораздо большей степени они отражают характерную для современной
буржуазной науки тенденцию строить искусственные теории, выводящие
человека по особым линиям развития — независимо не только от совре-
менных высших обезьян, но и от известных нам ископаемых плиоцено-
вых форм их, вроде дриопитека, плиопитека, палеопитека и пр.
Подобные построения исходят по большей части из совершенно недо-
казанного положения, что человеческая ветвь очень рано выделилась
из общего ствола приматов, что должно было будто бы произойти по
крайней мере около середины или даже начала миоцена, то есть многие
миллионы лет назад, когда мир млекопитающих не имел почти ничего
общего с тем, который сейчас населяет материки земного шара. Они
рассматривают обычно человека в его современных и древних формах
как ряд самостоятельных типов, также имеющих более или менее древнее
и независимое развитие.
Нетрудно заметить, что в такого рода построениях, недостоверность
которых явствует уже из их разнообразия, вполне отчетливо выступает
по существу реакционная тенденция к ревизии дарвиновского учения
об эволюции органического мира, как раз в вопросе, наиболее заострен-
ном с общественно-политической точки зрения —• в вопросе происхожде-
ния человека. Идее развития, стадиальной трансформации, здесь проти-
вопоставляется идея изначально заложенных качеств и отличий.
Поэтому вполне понятна та резкость, с которой крупный специалист
по вопросам антропогенеза в его биологической стороне геккелианец Ганс
Вейнерт выступает против попыток в вопросе о происхождении человека
обойти высших обезьян и отнести зарождение человечества в туманное
прошлое каких-то ранних геологических периодов. «Последняя сомнитель-
ная попытка, — говорит Вейнерт, — опровергнуть или по крайней мере
обезопасить теорию происхождения от обезьяны заключается в утвер-
ждении, что человек с давних пор обладает «человеческой» душой несмотря
на ряд предков, ничем не отличавшихся от животных по своему внешнему
виду и по строению своего тела. Каждое существо естественно обладает
интеллектуальными способностями, свойственными его роду. Однако
«настоящий человек» среди ископаемых ящеров был бы такой же химерой,
как и ящерица с «человеческой душой» среди крокодилов!... Тот, кто
несмотря ни на что считает возможным подобные выводы, совершенно
не замечает, какие многообразные связи п какое далеко заходящее сход-
ство соединяет человека с человекообразными обезьянами... Теория проис-
хождения человека прямо от низших животных, исключающая предше-
ствующую связь его с приматами и в особенности с человекообразными,
обезьянами, настолько бессмысленна, что по сравнению с нею примитив-
нейшая история мироздания примитивнейших народностей кажется ум-
ственным просветом». 1 К этой характеристике трудно что-нибудь при-
бавить.
Мы мало пока знаем об отдаленнейшем нашем предке третичной поры, Предок
только еще начинавшем путь развития, ведущий к человеку, Как известно, человека
основоположник учения о трансформации видов Чарльз Дарвин в решении
Г. Вейнерт, Происхождение человечества, рус. пер., Биомедгиз, 1935, стр. 19.
124 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
вопроса о происхождении человека ограничился установлением связи
его с более низкостоящими животными формами, не дав определенных
выводов о его родословной.
Исходя из идей, развитых Дарвином, естествоиспытатели XIX века
склонны были усматривать в современных человекоподобных обезьянах
если не непосредственных предков человека, то такие формы, которые
пережиточно сохраняют черты организации, весьма близкие к нашим
животным предкам. Однако в настоящее время подобные взгляды совер-
шенно законно рассматриваются как несколько упрощающие действи-
тельную историю отдаленного прошлого человеческого рода. Значительно
подвинувшееся изучение высших обезьян позволяет притти к заключе-
нию, что эти формы представляют уже значительную специализацию
по сравнению с исходным видом, явившимся некогда их общим предком
с человеком.
* Нетрудно видеть, что нашим предком вряд лп можно было бы считать
какого-нибудь могучего антропоида, подобного оранг-утану или горилле,
громадная физическая сила и мощный челюстный аппарат которых, тре-
бующие соответствующего строения костного скелета, должны были бы
слишком задерживающе влиять на физическое формирование, в частности
на развитие черепа и мозга их потомков. Наоборот, значительно более
правдоподобным кажется, что это было относительно слабое существо,
сила которого при столкновении с врагами могла заключаться преиму-
щественно в большей интеллектуальности, большей ловкости, а также втом,
что наш обезьяноподобный предок умел действовать сплоченной группой.
Такую точку зрения весьма интересно обосновал в свое время (1895)
талантливый французский антрополог Л. Манувриз, от которого ее вос-
принял М. Буль, один из лучших современных знатоков сравнительной
анатомии приматов. Если он заходит, быть может, слишком далеко в пред-
ставлении о преувеличенно малых размерах отдаленного предка человека,
его высказывания по данному вопросу все же, несомненно, заслуживают
внимания. Придет день, говорит он, когда будет найдено в отложениях
значительно более древних, чем слои Пильтдауна, человекообразное
существо небольшого роста, обладающее способностью к почти прямому
положению, с черепной коробкой, относительно очень большой по сравне-
нию с объемом его тела, но по своим абсолютным размерам гораздо мень-
шей, чем у всех до сих пор открытых человекообразных.
Это будет настоящий эоантроп. 1
Нужно сказать, что правильное понимание соотношения линии раз-
вития человека и высших обезьян было уже в свое время формулировано
с достаточной определенностью Энгельсом. «Для того чтобы в процессе
развития выйти из животного состояния и осуществить величайший
прогресс, какой только происходит в природе, требовалось еще кое-что:
недостаток сил отдельной особи для самозащиты надо было возместить
объединенной силой и коллективными действиями орды. Из тех условий,
в которых в настоящее время живут человекообразные обезьяны, переход
к человеческому состоянию был бы прямо необъясним; эти обезьяны про-
изводят скорее впечатление отклонившихся боковых линий, обреченных
на постепенное вымирание и, во всяком случае, клонящихся к упадку». 2
Если современная антропология совершенно законно отказывается
видеть в ныне сохранившихся антропоидах — горилле, шимпанзе, оранге
1 М. Boule, Les homines jossiles, 1923, стр. 176.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 20.
ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
125
и гиббоне — возможных предков человека, тем не менее вполне естественно
поставить вопрос, какой же из этих видов человекоподобных обезьян
стоит в более близком генетическом родстве к человеку.
В настоящее время большинство ученых полагает возможным рас-
сматривать человека (вместе с его ранними, исходными формами) в каче-
стве систематической единицы — семейства Hominidae, равнозначной чело-
векообразным обезьянам (Anthropomorphae), которые вместе с низ’шими
узконосыми обезьянами Старого Света и широконосыми обезьянами Аме-
рики составляют особый подотряд приматов. 1 Нужно сказать, что обще-
признанных, вполне сложившихся представлений по систематике особенно
высших обезьян в их соотношении с человеком пока не существует, так
как многие исследователи склонны по-своему рассматривать и система-
тическое положение человека, имеете отдельных видов человекоподобных
обезьян в восходящем ряду высших млекопитающих. 2
Считается установленным, что предками приматов являются древние
насекомоядные мелового периода, от которых в процессе диференциации
произошли хищные, копытные, грызуны, рукокрылые — ветви млеко-
питающих третичного времени. Уже в начале третичного периода в соот-
ветствующих отложениях становятся известными первые, еще весьма
близкие к насекомоядным, очень маленькие по размерам животные, кото-
рые успели выработать черты, свойственные современным полуобезьянам—
лемурам (древние лемуры). Расцвет лемуров приходится на эоцен, когда
вместе с ними появляется, видимо, несколько более прогрессивная форма
полуобезьян — долгопяты, сохранившиеся в виде современного маки, или
долгопята (Tarsias), крайне странного маленького зверька, ведущего
ночной образ жизни.
Обычно принимают, что от этих примитивных животных развилась
та группа обезьян, в которых можно видеть предков всей большой груп-
пы узконосых обезьян (катарины) Старого Света.
Из более ранних предковых форм настоящих обезьян особенной извест-
ностью пользуются находки в Файюме (Египет), где среди богатой олиго-
ценовой фауны удалось обнаружить остатки небольших, еще довольно
примитивных обезьян, получивших название парапитека, мерипитека, про-
плиопитека. Некоторые особенности строения этих обезьян позволяют
рассматривать их как ближайших предков человекообразных, которые,
с своей стороны, становятся известны в отложениях миоцена уже на широ-
ких пространствах Старого Света — в Европе, Азии и Африке.
Среди обезьян позднего миоцена известны такие формы крупных
человекообразных с еще не слишком диференцированными признаками,
которые естественно рассматривать как возможных предков человека.
Еще Дарвин обращает внимание на одну из таких форм ( Dry epithecas),,
считая ее вероятным нашим ^миоценовым предком. 3
В специальной антропологической литературе давно уже, особенно же
после находки Дюбуа на острове Яве, большое внимание уделяется про-
блеме, с каким из видов современных человекообразных обезьян нахо-
Происхожде-
ние
приматов
1 Деникер, Человеческие расы, рус. пер., 1902, стр. 18 и сл. Обычно в основную
систематическую единицу — отряд приматов — включают и полуобезьян (Prosimiae),
рассматривая все эти группы в целом как порядок высших млекопитающих. В клас-
сификационных подразделениях обезьян у разных авторов имеются все я;е довольно
существенные расхождения. Ср., например, М. Вебер, Приматы, рус. пер., 1936,
стр. 176, 199 и др.
2 М. Ф. Нестурх, ук. соч., стр. 23 и сл.
3 У Дарвин., Происхождение человека и половой отбор, рус. пер., 1814, Стр. 124.
128
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Какой вид
высших
обезьян стовт
ближе всего
к человеку
дится в ближайшем родстве человек. Тот или другой ответ на этот вопрос--
в значительной степени предрешает и то, каким образом должна быть
построена родословная человека.
Имеется довольно много соображений в пользу того, что из всех чело-
векообразных обезьян наиболее близко к человеку стоит африканская
группа — горилла и шимпанзе, причем последний вид обнаруживает
к нему особенную близость (Швальбе, Грегори, Вейнерт).
Что вопрос этот все же еще очень далек от своего разрешения — показы-
вает тот факт, что другие достаточно авторитетные ученые, которым нельзя:
отказать ни в широком знании материала, ни в вполне объективной его-
интерпретации (Дюбуа, Манувриэ и др.), гораздо большее значение
придавали и придают общим признакам, обнаруживающимся у человека
с гиббоном.
Указанию сторонников африканской гипотезы происхождения чело-
века (к ним принадлежал еще Дарвин) на наличие у гиббона чрезмерно
длинных передних конечностей, слишком выраженных клыков и т. д.
эти ученые противопоставляют соображение, что современный гиббрн сам
является специализированной формой, тогда как у его предка, общего,
с человеком, эти черты могли быть значительно менее выражены.
В связи с этим большой интерес представляет неожиданная находка
в Монголии (1924) в сравнительно поздних слоях зуба предковой формы
гиббона, отличавшейся очень крупным ростом.
М. Ф. Нестурх, 1 ссылаясь на Шлоссера, относит ее к четвертичному
времени, тогда как Дэвидсон Блэк,2 указывает,, что она была сделана
Андерссоном в Эртемте, во внутренней Монголии, в отложениях средне-
плиоценового возраста.
Некоторые авторы, например Клаач, 3 придерживаются взгляда, для
нас совершенно неприемлемого, что отдельные ветви человечества могли
произойти от различных видов человекообразных обезьян — одни от-
оранга, другие от гориллы или близких к ним видов. Глубоко реакцион-
ная сущность такого рода воззрений не требует пояснений. Во всяком
случае, никаких серьезных оснований в пользу происхождения чело-
вечества от разных предков привести было бы совершенно невозможно.
Одно из существеннейших обстоятельств, препятствующих разреше-
нию вопроса о родословной человека, как биологической формы, заклю-
чается в том, что значительное большинство до сих пор открытых в ран-
них геологических отложениях высших обезьян представлено небольшими,
остатками в виде главным образом зубов или обломков челюстей, а не
находками скелетов. Таким образом, особенности строения этих ископае-
мых видов до сих пор остаются в значительной степени, к сожалению,
не выясненными.
Что кажется все же бесспорным, это то, что порода обезьян, явив-
шихся предком человека, представляла собой еще очень мало специали-
зированную форму, которая уже по одному этому могла пользоваться
значительно более широким распространением в области Старого Света,,
чем это доступно для современных человекообразных.
1 М. Ф. Нестурх, ук. соч., стр. 352.
2 Davidson Black, Fossil man in China, стр. 47 и 104.
3 Hermann Klaatsch, Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur
(von A. Heilborn herausgegeben), 1922, стр. 89 и сл. Клаач допускает возможность,
что неандертальцы и негры (!) происходят от формы, близкой к горилле, тогда как
ориньякский человек и индогерманцы ведут свою линию от оранга. Фашистский ха-
рактер такой концепции очевиден.
ПИТЕКАНТРОП
12г
ПИТЕКАНТРОП
Геологиче-
ский возраст
Находка, сделанная д-ром Дюбуа на острове Яве в самом начале девя-
ностых годов прошлого столетия (1891—1892) и опубликованная им
впервые в 1894 г., дает возможность ближе познакомиться с тем промежу-
точным звеном, гипотетически установленным Ч. Дарвином, которое-
связывает человека с высшими обезьянами. Речь идет о получившей
мировую известность находке черепной крышки, бедра и нескольких
зубов в древнем речном наносе р. Бенгаван в местности Триниль в цен-
тральных областях Явы. Эти замеча-
тельные остатки были собраны среди
остатков богатейшей фауны — слонов
(Stegodon), носорогов, гиппопотамов,
тапиров, крупных хищников и жвач-
ных, — населявшей острова Зондского
архипелага, очевидно, в эпоху, когда
эти острова представляли продолже-
ние материка Азии.
Состав животных в отложецвдх
Бенгавана позволяет довольно тЛйю
определить геологический возраст этой
важной находки. По мнению самого
Дюбуа и других авторитетных ученых,
она, видимо, относится к самому концу
плиоцена, хотя по некоторым другим
данным ее можно помещать и в на-
чальную пору четвертичного периода.1
Времени ее в европейских отложениях
соответствует фауна южного слона (Е 1е-
phas meridionalis), которая известна
одинаково в самых поздних слоях
третичных образований и в ранних
наносах четвертичной эпохи.
Первая работа, относящаяся к на-
ходкам вТриниле, была опубликована pIK; 21. Черепная крышка питекан-
Дювуа в Батавии еще в 1894 г. 2 тропа.
И уже в следующем 1895 г. откры-
тие, сделанное на острове Яве, вызвало оживленные споры в науч-
ном мире. Одним из немногих антропологов, правильно оценивших зна-
чение этой находки, был Л. Млнувгиэ, давший ряд ценных исследований
о яванском питекантропе. 3
1 Сводку данных относительно фауны, растительных остатков и геологии отложе-
ний Бенгавана можно найти у Байера — J. Bayer, Das geologische Aller des Pithecanthro-
pus erectus Dubois, «Die Eiszeit», Bd. Ill, H. II, 1926, стр. 98.
По мнению van Es’a, опубликовавшего недавно монографическое исследование
по вопросу о геологическом возрасте остатков питекантропа, они должны быть отне-
сены к раннечетвертичному времени.
2 Eug. Dubois, Pithecanthropus erectus, eine menschenahnliehe Uebergangsfortn aus
Java, Батавия, 1894.
’ L. Manouvrier, Discussion du «Pithecanthropus erectus», comnie precurseur presume
de I'homme, «Bull, de la Soc. d’Anthrop. de Paris», t. VI (IV ser.), 1895, стр. 12—47 и
в особенности его вторая статья в том же томе Бюллетеней—Deuxieme etude sur-
le «.Pithecanthropus erectus», стр. 553—
128
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАЛО
Рис. 22. Реконструкция черепа питекантропа.
О)|> .Манувриэ)
Физические Изучение остатков, открытых в Триниле, которым посвящена уже огром-
«tcooeniiocTii ная литература, позволяет признать их принадлежащими существу,
стоявшему довольно близко к человеку, хотя это существо замечательным
образом сочетало в себе и зверообразные признаки. Оно имело объем
мозга около 900 куб. см, то есть гораздо более низкий, чем у примитив-
ных групп человечества, но в то же время значительно превышающий
объем мозга человекообразных обезьян. С этим у него связывалось и
строение черепа — уплощенный черепной свод, маленький убегающий
лоб, огромные надглазничные выступы, которые должны были придавать
Л? о наружности зверообразный характер.
С другой стороны, это было крупное (рост его исчисляется в 160—
170 см) человекоподобное существо, обладавшее настоящим человече-
ским бедром и, очевидно, вполне владевшее вертикальной походкой,
хотя способ прикреплениямышц
и некоторые особенности бедра
говорят за то, что оно пере-
двигалось покачиваясь на не-
сколько согнутых конечностях
и, как полагает Дювуа, еще
нуждалось при передвижении
в помощи длинных рук. Это
существо было названо пите-
кантропом {Pithecanthropus етес-
tus), то есть обезьяно-челове-
ком прямостоящим.
Изучение черепа питекан-
тропа, продвинувшееся впереди
недавние годы в связи с произ-
веденной Е. Дюбуа расчисткой
этого черепа от заполняющей по-
роды, позволило приттв к некото-
рым дальнейшим заключениям,
в значительной степени попол-
няющим прежние сведения о нем.
Резюмируя вкратце их результаты, скажем, что в отношении яванской
находки все более определенно складывается представление, что пите-
кантропа следует рассматривать как существо, весьма близкое к человеку,
стоящее по своему развитию в самом начале пути, пройденного человеком.
Ближайшие Что касается его ближайших родственников, тотаковыми из существующих
цыдствепиики антропоидных обезьян являются, с одной стороны, шимпанзе, с дру-
интекавтропа го^— гиббон, в особенности последний, который обладает черепом, в боль-
шей мере, чем у каких<либо других человекообразных обезьян, при-
ближающимся к человеческому. На это сходство в свое время обратил
внимание еще Манувриэ. Ныне сам Е Дюбуа, после почти сорокалетнего
углубленного изучения вопроса, вновь возвращается к мысли о возмож-
ном происхождении питекантропа из исходной формы, близкой к гиббону.
Однако современного гиббона с его чрезмерно длинными передними конеч-
ностями и мощными клыками приходится рассматривать как форму,
уже значительно уклонившуюся от первоначального типа, давшего начало
человеческому роду.
Наиболее интересно то, что питекантропа от его предка, обезьяны,
отделяет уже большой пройденный путь. На это указывает такая чисто
человеческая черта, как хожденцег в вертикальном положении.
СИНАНТРОП
12
Особенности строения бедра питекантропа не оставляют в этом сом- Строение
нения, хотя, с другой стороны, как мы говорили, способ прикрепления бедра
бедра в сочЛененип, затем посадка черепа и некоторые другие черты строе-
ния скелета питекантропа свидетельствуют, что он не владел вполне
устойчивой и уверенной походкой — вероятно, по той причине, что зна-
чительная часть его существования проходила еще на. деревьях. По-
следнее естественно представить себе в условиях окружавшего его тро-
пического леса, каким был, очевидно, мир Явы и в это отдаленное время.
Правильность реконструкции освоения питекантропом вертикального
положения тела, предлагаемой Дюбуа, получила подтверждение в не-
давней находке еще трех или четырех бедренных костей питекантропа,
обнаруженных тем же исследователем (1933) среди старых палеонтоло-
гических сборов из Триниля. 1 2 Они способны укрепить нас в мнении,
что питекантроп, действительно, не порвал еще окончательно с пребыва-
нием на деревьях.
Еще более любопытной чертой питекантропа является относительно Вместимость
огромная вместимость черепа, достигавшая у питекантропа 900, даже черепа
может быть 930 куб. см. Между тем как наибольший объем его у гориллы
достигает всего 600 куб. см, а в среднем у наиболее крупных человеко-
подобных обезьян, гориллы и оранг-утана, он не больше 500 куб. см,
при нормальных 1400—1600 куб. см у большинства народностей земного
шара.
Может быть, с несколько измененными чертами, но в общем на той же
стадии развития, как увидим ниже, предшественник человека появляется
и в Европе. Очевидно, эта форма, выдержавшая испытание в трудных
условиях борьбы за существование и оказавшаяся жизнеспособной, уже
в начале четвертичного периода получила широкое распространение на
материке Евразии. Вероятно, в это же время она проникает в Африку,
хотя нашумевшая находка части черепа так называемого австралопитека,
сделанная в 1924—1925 гг. в южной Африке, вряд ли может быть рас-
сматриваема как переходная форма от обезьяны к человеку, так как она
скорее представляет молодую человекообразную обезьяну, которая вообще
имеет в строении черепа гораздо больше человеческих черт, чем взрослые
особи. -
СИНАНТРОП
До сравнительно недавнего времени яванский питекантроп мог счи-
таться единственной находкой, правда подтверждавшей дарвиновскую
теорию происхождения человека, но которую многие антропологи пытались
объяснить как более или менее случайную боковую форму, не имеющую
прямого отношения к родословному дереву человека. В недавние годы сча-
стливый случай обнаружил остатки существа, по физическому складу до-
вольно близкого к яванскому питекантропу, на другом конце Азии,
в окрестностях Бейпина (Пекина). В виду того, что эти замечательные
находки еще сравнительно мало известны, нам придется остановиться
на них несколько подробнее.
Местность, где были найдены указанные остатки, находится в 50 км Место
на юго-запад от Бейпина, на окраине горной цепи, ограничивающей находки
1 Ср. «Антрон. журнал», Л? 1—2, 1934, стр. 143.
2 М. Вебер, ук. соч., стр. 254. М. Ф. Нестурх стоит в этом вопросе на другой
точке зрения, рассматривая австралопитека как предковую форыУ питекантропа
(там же, стр. 255. — Прим. пер.).
9 II. II. Ефименко. Первобытное общество — 1734
130
ГЛАВА ТРЕТЬЕ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Число
найденных
особей
Уеловил
залегания
остатков
еиниптропа
с запада приморскую равнину Чили. Здесь существуют ломки извест-
няка, при разработках которого постоянно обнаруживаются расселины,
заполненные частью красноватым суглинком, частью всякого рода обло-
мочным материалом, иногда цементированным сталагмитовым натеком:
в этих расселинах уже давно были известны остатки ископаемой фауны.
В этих условиях были сделаны и первые открытия синантропа.
Еще во время своих экскурсий в этой части Китая в 1918 и 1921 гг.
известный исследователь Андерссон (J. G. Andersson) обратил внимание
на богатые костеносные отложения Чжоу-Коу-Тяня. В 1921—1923 гг.
здесь были начаты раскопки палеонтологом Отто Здлнским, которому
удалось найти в одной из карстовых западин зуб, остановивший на себе
его внимание своим явственно человеческим обликом. К 1926 г. отно-
сится открытие второго человеческого зуба в тех же условиях.
Эти находки не могли не вызвать к себе — в виду условий, в которых
они были сделаны, и характера сопровождающей их раннеплейстоценовой
фауны — огромного внимания всего ученого мира. С 1927 г. геологической
службой Китая1 здесь были поставлены обширные раскопки, в процессе
которых было вскрыто свыше 12 тысяч куб. м известняка и костеносных
отложений и добыто огромное количество остатков животных. Среди них
до настоящего времени найдено не менее 24—25 особей существа, назван-
ного синантропом.
По последнему подсчету Вейденрейха, 2 находки в Чжоу-Коу-Тяне
представлены десятью-одиннадцатью детскими особями синантропа в воз-
расте от 5 до 13 лет, двумя подростками — 14—18 лет и двенадцатью
взрослыми, приблизительно в равном числе мужчин и женщин.
В глубокой расселине, где были открыты остатки синантропов, во
время раскопок были собраны многочисленные кости пещерных хищни-
ков — тигров, медведей, в особенности же гиен, части скелета и копро-
литы которых особенно изобиловали в боковых промоинах и в нижних
слоях отложений, заполнявших огромную карстовую западину, обра-
зовавшуюся в известняках, видимо, в какую-то древнюю геологическую
эпоху. Присутствие пещерных обитателей, как отчасти и характер самих
напластований, делает в известной степени вероятным, а в настоящее время
почти общепризнанным, существование на месте находок пещеры или
навеса, привлекавшего этих животных, стаскивавших сюда свою добычу,
как-то: остатки носорогов, лошадей и т. п.
Еще более правдоподобным это является в свете самого факта нахо-
док здесь многочисленных остатков примитивного человеческого существа.
В том виде, как она описывается, костеносная расселина Чжоу-Коу-
Тянь представляет карстовую воронку, достигающую 50 м глубины, резко
суживающуюся к основанию, которое переходит в узкий и очень глубокий
колодец, 1 ымытый поверхностными водами, постепенно размывавшими
относительно легко разрушающуюся известняковую породу. Когда воронка
еще не была заполнена наносом, сюда, естественно, сносились с соседних
мест вместе с бурными дождевыми потоками всякого рода остатки.
Чертеж (рис. 23) дает возможность ориентироваться в условиях
залегания остатков синантропа на месте главных находок ископаемой
фауны холма Чжоу-Коу-Тянь. На приведенном разрезе можно видеть
мощные пласты известнякового конгломерата (4), состоящие из глинистого
1 Geological Survey — Геологический комитет.
2 Franz Weidenreich, The Sinanthropus population of Chouhoutien (Locality I) with
a preliminary report on new discoveries, «Bulletin of the Geological Society of China», Vol.
XIV, A? 4, стр. 649.
СИНАНТРОП
131
наноса, переполненного обломками породы, с покрывающими их слоями
плотной глины (2) и остатками старых ломок (1 и 3). Налево, в верхней
части конгломератов, буквы SB обозначают линзообразное включение
желтоватого травертина, местами получившего в результате выветрива-
ния консистенцию глины, в которой были найдены отдельные части че-
репа, зубы и обломки челюстей взрослых и молодых синантропов, в отдель-
ных случаях даже детей. В нижней части толщи конгломерата буквами
SA и SG отмечены места таких же находок, связанные здесь с менее плот-
ными глинистыми отложениями; темной полоской в обоих случаях обо-
значена прослойка углистого цвета, которой, как мы увидим ниже, дается
совершенно неожиданное объяснение.
Главные находки остатков'синантропа были, однако, сделаны еще
ниже, на глубине от 23 до 53 м от современной по-
Рис. 23. Разрез наслоений на месте находок синантропа в Чжоу-Коу-Тяпь
(под Бейпином).
вер хно ст и, в узком колодце, которым заканчивается воронкообраз-
ное дно древней расселины (SG—SF), где вместе с многочисленными
костями хищников и травоядных, среди других разрозненных частей че-
репов нескольких особей синантропа, была открыта в 1929 г. почти целая
черепная коробка молодого синантропа. В следующем году в сходных
условиях была найдена вторая черепная крышка взрослого индивидуума.1
Таким образом, эти остатки попадались во всей толще отложений, Пещерные
заполнявших углубление в известняках Чжоу-Коу-Тяня. Самый факт обитатели
находки такого большого числа человеческих существ древнейшего типа
на столь незначительном пространстве сам по себе представляется весьма
знаменательным и наталкивает на мысль о существовании здесь какого-то
1 Особенно интересные находки остатков синантропа относятся к 1936—1937 гг..
когда в результате продолжающихся поисков были обнаружены три новых, более пол-
ных черепа синантропов, целая верхняя челюсть с 6 сохранившимися зубами и фраг-
менты костей нижней и верхней конечностей — двух бедренных и одной плечевой.
К несчастью, последовавшее затем варварское вторжение японцев остановило даль-
нейшие раскопки в Чжоу-Коу-Тяне, имеющие такое огромное значение для мировой
науки. Подробнее об этих находках см. «ТУагиге» за 1937 (13)11 и 11)ХН} и 1938 гг.
(2/1V). также очерк Г И. Петрова, Новое, о синантропе, «Вестник знания», 1938, № 7,
стр. 10.
132 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
ч
места их жилья. 1 Большинство авторов, описывающих эти замечатель-
ные открытия, склоняется к мысли, что мы имеем здесь дело с пещерными
обитателями, которые, очевидно, должны были оспаривать у хищников
занятую ими пещеру или расселину.
Такое мнение находит видимое подтверждение в открытии в тех же
отложениях Чжоу-Коу-Тяня остатков кострищ и каменных орудий, при
всей своей грубости неоспоримо свидетельствующих, что их могло оставить
только разумное человеческое существо.
Присутствие в наслоениях Чжоу-Коу-Тяня как кострищ, так и со-
провождавших их изделий из камня (и, по некоторым предположениям,
даже из кости) доказывает, что это существо уже вышло из состояния,
отвечающего наиболее низкой ступени культуры.
Коллективный труд Дэвидсон Блэка, Тейлар де, Шардена, Юнга и
Пей, подводящий итоги раскопкам, выполненным в Чжоу-Коу-Тяне до
1932 г. (включительно), позволяет составить определенное представле-
ние, по крайней мере, о фактической стороне находок.
Кострища Она нам представляется сейчас в следующем виде. На приведенном
нами выше разрезе основного местонахождения костей древнечетвертйч-
ных животных на месте искусственной пещеры Котцетанг можно видеть
под толстым слоем плотного известнякового конгломерата глинистый
слой с ясно прослеживаемой в нем черной прослойкой. Последняя, как
можно считать установленным, имеет характер настоящего кострища или
скорее основания кострища, поверх которого расположены более светлые
слои золы в смеси с глиной. Здесь часто встречаются камни, покрытые
копотью, И обожженные кости. Что еще интереснее, здесь геологом Пен
были собраны многочисленные расколотые куски кварца —• породы, не
встречающейся в ближайшем соседстве с пещерой Котцетанг.
Но и далее в слоях, заполняющих верхнюю часть карстовой воронки,
было обнаружено присутствие следов обширного кострища, оставившего
мощный пласт (до 7 at) зольных наслоений, которые некоторыми сравни-
ваются с так называемыми ленточными отложениями кострищ пещеры
Мас д’Азиль, исследованной Пьеттом. Из того факта, что в основании
этого скопления наблюдается такая же черная прослойка, состоящая из
частиц древесного угля, считается даже возможным делать вывод, что
здесь, видимо, раз зажженный огонь должен был гореть непрерывно в те-
чение очень долгого времени, в течение сотен и тысяч лет, пока не накопи-
лась огромная семиметровая толща золы. Находки костей, испытавших
действие огня, закопченных камней и расколотых кусков кварца имели
место и в этом кострище, равным образом и выше, в покрывающих оба
кострища конгломератах. Этот факт позволяет с уверенностью говорить
об использовании синан«ропами расселины в скале в качестве убежища.
Изделия из Что касается изделий из кварца, хотя эта порода плохо поддается
камня обработке, все же, судя по воспроизведениям, помещенным в труде,
изданном Блэком, мы здесь имеем порядочное количество довольно разно-
образных орудий, хотя, конечно, и очень грубых.
Сюда входят массивные, кругом обтесанные камни, может быть слу-
жившие для раскалывания костей, затем дисковидные орудия, скребло-
образные, приготовленные гз отщепов, с подретушовкой по краю, орудия
типа остроконечника и пр.
Некоторые из орудий, приготовленные из лучшего материала (горного
хрусталя), позволили древним людям Чжоу-Коу-Тяня получить достаточно
1 См., например, одно из первых более обстоятельных описаний условий находок
синантропа в «Ь’Anthropologies, 1931, Л° 1—2, стр. 1.
СИНАНТРОП
133
хорошо отделанные ретушью, вполне законченные вещи, приближаю-
щиеся к орудиям эпохи мустье. Присутствие последних в слоях, содер-
жащих остатки синантропа, может вызвать вполне законное недоумение,
если, как это допускали еще недавно, смотреть на синантропа не как на
разумное существо, а как на предка человека на стадии питекантропа.
Особенно интересная находка была сделана на месте главного кост-
рища, где Брейлю удалось подобрать целый ряд крупных орудий, изгото-
вленных из какой-то изверженной породы, видимо диабаза, некоторые из
коих имели вид двусторонне обтесанных рубил. К сожалению, благодаря
разложению этой сравнительно мягкой породы, при вынимании орудий
они распадались в порошок. Хотя как Брейль, так и другие авторы отка-
зываются дать какое-нибудь определение возраста описанных ими изде-
лий из камня исходя из европейских масштабов, все же они не отрицают
их сходства с мустьерской, вернее премустьерской техникой западных
местонахождений. Как можно видеть из приведенного нами простого пе-
речня видов изделий, такое сопоставление является, очевидно, достаточно
правдоподобным.
Оно еще более укрепляется тем, что находки в Чжоу-Коу-Тяне не огра-
ничиваются изделиями из камня. Здесь, по Брейлю, наблюдается исполь-
зование кости для приготовления орудий и хозяйственной утвари. Правда,
это несколько иначе освещено в упомянутом выше большом коллективном
труде под редакцией Блэка, где говорится о частых находках обожжен-
ных и расколотых костей животных, но обработка кости для производ-
ственных целей не находит подтверждения. 1 * * * * * * В
В общем, сравнивая каменные изделия Чжоу-Коу-Тяня с европейскими
находками, можно сказать, что вопреки мнению Брейля и других авто-
ров они вовсе не составляют чего-то, не имеющего себе аналогий. Наобо-
рот, этот каменный инвентарь поразительно напоминает, в частности,
клэктонские стоянки Европы с их грубыми отщепами и дисковидными
орудиями, ашёльский (премустьерский) возраст которых в настоящее
время не встречает возражений со стороны наиболее авторитетных иссле-
дователей.
Какие яге выводы могут быть сделаны из изложенных нами как
будто бы совершенно неожиданных открытий? Для Брейля это является
неоспоримым доказательством того, что синантроп, остатки кото-
рого встречаются не только в нижней толще отложений Чжоу-Коу-
Тяня, но и сопровождают описанные ранее скопления золы, будучи
еще предком человека, стоял уже на относительно высокой ступени
культурного развития. Брейль не останавливается на этом; он идет
дальше и склонен думать, что не только здесь, но и в древних озер-
ных наносах Нихована (Nihowan), принадлежащих к самому началу
плейстоцена или даже концу третичного времени, судя по остаткам
гиппариона и халикотериума1? уже имеются доказательства деятельно-
сти этого существа в виде обожженных и обработанных костей живот-
ных.
Мнение
Брейля
1 Davidson Black, Teilhard de Chardin, С. C. Young and IP C.® Pei (edited by
D. Black), Fossil man in China, The Choukoutien cave deposits with a synopsis of our pre-
sent knowledge of the late cenozoic in China, 82 рис., 3 табл, и в карт., «Geological Memoirs»,
series A, number 11, Peiping, 1933. Содержит весьма обстоятельное, хорошо иллю-
стрированное описание находок в Чжо-Коу-Тяне.
Результаты исследования места находок синантропа регулярно публикуются
в «Bulletin of the Geological Society of China». Из них особенно интересны работы
В 1 а с k ’ a, Pei, недавняя статья WEidEnrEich’a и другие.
134
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Оставляя последний вопрос в стороне, в виду явной тенденциозно-
сти Брейля, и ограничиваясь лишь находками в Чжоу-Коу-Тяне. имею-
щими, очевидно, бесспорный характер, мы наталкиваемся на первый
трудно усваиваемый факт, как совместить примитивность синантропа
с относительной сложностью его хозяйственной деятельности. А та-
ких загадочных моментов, как мы увидим, здесь имеется достаточно
много.
Почему кости синантропа могли здесь скопиться в таком большом
числе, если это место служило лишь для его обитания? Почему они встре-
чаются столь рассеянно, например, на дне глубокой карстовой впадины
под толстым слоем сталагмитового натека, значительно ниже кострищ,
притом вместе с костями животных, явно попавшими сюда вне всякой
связи с деятельностью человека? Почему остатки синантропа сводятся,
совершенно непонятным образом, почти исключительно (кроме небольших
фрагментов бедра и плечевой кости) к находкам зубов, челюстей и облом-
ков черепа?
Такой характер остатков вполне обычен для находок ископаемых
обезьян, часто становившихся жертвой каких-либо крупных хищников,
но совершенно необъясним в отношении человека.
Вряд ли нас в какой-либо степени может удовлетворить странная
гипотеза Брейля, видящего в находках обломков нескольких десятков
черепов синантропа прямое указание на особый обряд, при котором
черепа умерших сородичей должны были в течение долгого времени сохра-
няться, очевидно из чувства пиетета, обитателями скального убежища.
Подобный обычай мог бы иметь известное правдоподобие для мустьерской
эпохи, о чем говорят некоторые находки в пещерах Франции и Бельгии.
Однако в отношении синантропа, если его считать, как это склонен делать
Брейль, существом, стоявшим в начале пути развития человечества, это
представляется совершенно невероятным.
Столь же мало правдоподобным остается предположение, о чем пишет
Брейль, тех ученых, которые ищут объяснения странного сочетания, с одной
стороны, такого примитивного существа, с другой стороны, орудий и
обстановки охотничьего становища мустьерской эпохи в том, что жив-
ший здесь неандерталец охотился на синантропа, сохранившегося до
этой поры в отдаленных областях Азии, и которые видят в находках
черепов последнего не что иное, как трофеи охоты.
Объяснение Очень наивной кажется и высказанная недавно в его сводке по находкам
Вейденрейха в Чжоу-Коу-Тяне мысль Вейденрейха, что здесь мы имеем лагерь синан-
тропов-каннибалов, охотившихся на себе подобные существа — на тех же
синантропов, из-за их черепов, как это практиковали, например, папуасы.
Мы знаем, что в таких случаях, например в Крапине, где имеются прямые
указания на наличие людоедства, среди других остатков, прежде всего
встречаются расколотые кости от наиболее мясистых частей тела — длин-
ные кости конечностей, затем лопатки, тазы, позвонки, ребра и т. д. Ничего
подобного в Чжоу-Коу-Тяне нет. Вместе с тем, никак нельзя себе вообра-
зить, к чему склоняется Вейденрейх, что синантропы охотились только
за черепами. 1
Почему Остается, в сущности, не вполне выясненным и основной факт, действи-
остатки тельно ли остатки синантропа связаны с культурными остатками отло-
сипантропа жений Чжоу-Коу-Тяня. Имеющиеся данные, во всяком случае, нельзя счи-
вовеейтолще тать Д°статочными Для вполне положительного ответа на этот вопрос,
отложений --------------------------------------------------------------------
1 Weidenreich, ук. соч., стр.
СИНАНТРОП
135
В виду этого может возникнуть подозрение, не попали ли остатки
синантропов сюда случайно — тем же путем, как и остатки махайрода
и других животных, что является вполне обычным в условиях карстового
рельефа. Рассеянность остатков синантропов на разных уровнях в 50-ме-
тровой толще наноса не противоречит такому предположению, скорее,
наоборот, говорит за него.
Но и такое предположение до дальнейшего накопления фактов остается
совершенно гипотетическим.
Во всяком случае, если смотреть на синантропа как на существо, Место сиван-
стоявшее (как и питекантроп) на самой начальной ступени развития тропа п исто-
общественного человека, является непонятным, как это существо, во- 1’,,И,|р(.тва°Ве
преки законам истории, могло сразу достигнуть относительно высокого
уровня культуры. А охота на крупных животных, кости которых встре-
чаются в расселине Чжоу-Коу-Тянь, как и обитание «в течение тысяч
лет» на одном и том же месте у горевших здесь костров и наличие много-
численных орудий из камня, а может быть, и кости, — никак не может
рассматриваться как начальное состояние первобытности.
У нас нет оснований надеяться, что до дальнейших более тщательных
и более объективно поставленных исследований столь важный для науки
вопрос о синантропе и его месте в истории человечества получи> полную
ясность. Чтобы, однако, сколько-нибудь приблизиться к его разрешению
на основании уже имеющихся данных, нам нужно рассмотреть два во-
проса. Это, во-первых, вопрос о геологическом возрасте отложений,
с которыми связаны находки синантропами, во-вторых, вопрос о том, что
представляет собой синантроп в его физическом строении.
Геологический возраст остатков синантропа может быть установлен, Геологиче-
вообще говоря, лишь на основании того, что нам известно о плейстоцено- <>кий возраст
вых образованиях и их фауне на территории северного Китая. При этом
приходится иметь в виду, что до недавнего времени в Китае знали только
один вид напластований, принадлежащий четвертичной эпохе, — знаме-
нитый желтый китайский лёсс с его характерной фауной, как и в Европе
относящейся к более поздней поре ледникового периода. Эта фауна,
представленная шерстистым сибирским носорогом, первобытным быком,
благородным и большерогим оленем, лошадью Пржевальского, диким
•ослом, верблюдом, пятнистой гиеной и некоторыь и другими видами
животных, в общем обнаруживает очень большое сходство с холодной
фауной лёссовых отложений, окаймляющих приледниковые пространства
Евразии, начиная от Забайкалья и кончая Францией и южной Англией.
Геологические исследования, которые велись в Китае после империа-
листической войны, выяснили, что под лёссом, который в настоящее
время всеми исследователями относится к поздней поре плейстоцена,
залегают мощные слои песков, глин и суглинков, относящихся к значи-
тельно более раннему времени.'Типичное местонахождение этого рода
представлено озерными отложениями Нихована. 1 Отчасти они образо-
вались, вероятно, еще в конце плиоцена, судя по присутствию таких
животных, как гиппарион и халикотериум, но в значительной своей толще
принадлежат уже четвертичному периоду.
Фауна Чжоу-Коу-Тяня занимает как бы промежуточное место между Фаупа
первой — лёссовой, или так называемой стадией Мелан (Malan stage),
и второй — нихованской, будучи, однако, более сходной со второй фау-
ной. Кроме многочисленных и весьма разнообразных хищников — мест-
1 С характерной фауной, описанной Тейлар де Шарденом и Пивето.
13(>
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Особенности
физического
типи синап
троил
пых видов волков, лисиц, диких собак (Суоп), медведей, гиен, махайро-
дов (немного), — здесь встречаются остатки слонов (Elephas nomadicus),
тех же, которые известны и в лёссовых находках, носорога типа Мерка
и сибирского носорога, бизона, лошади (Equus sanmeniensis), какого-то
вида верблюда и пр.
Таким образом, вопрос о возрасте интересующих нас отложений,
сохранивших остатки синантропа, вовсе не решается так просто в смысле
очень большой их геологической древности, как это обычно принято
думать.
Если принять во внимание относительно южное положение провин-
ции Чжили, защищенной стеной гор с севера и северо-востока, то здесь,
как и на юге Европы, фауна описанного типа, несомненно, должна была
удержаться позже, по крайней мере до наступления рисской фазы оле-
денения. К тому же в составе ее отсутствуют виды, свойственные древнему
плейстоцену, за исключением махайрода, который мог быть здесь пе-
режиточной формой.
Таким образом, при современном состоянии знания мы имеем до-
вольно широкие границы для определения геологического возраста синан-
тропа, из которых, однако, должно быть исключено как позднее, после-
рисское, ^ак и начальное время четвертичного периода.
Что представлял собой синантроп в отношении физического строения —
об этом мы можем судить пока только почти исключительно на основании
остатков его черепных костей и зубов. Но и они говорят очень много.
После находки черепной крышки синантропа первоначально казалось,
что он принадлежал к древнейшему типу человеческих существ. Дей-
ствительно, он как будто должен был сочетать признаки безусловно чело-
веческие, как человеческое строение зубов, отсутствие выдающихся
клыков, свойственных челюстному аппарату высших обезьян, — с очень
небольшим объемом мозга, н.е превышавшим объем мозга питекантропа
(около 900 куб. см), и общим весьма еще примитивным характером строения
черепа.
Однако открытие второй черепной крышки синантропа и более углу-
бленное изучение ранее добытых остатков заставило существенно изме-
нить эти взгляды.
Удалось показать, что первая находка принадлежала не взрослому
индивидууму, как думали раньше, а молодому в возрасте всего около
16—17 лет. Второй череп, уже несомненно взрослого синантропа, имел
несравненно большую вместимость мозговой полости, достигавшую не
меньше, чем 1150 куб. см, а скорее больше. Такой объем мозга, притом
женской особи, заставляет помещать синантропа в ряду уже совершенно
человеческих существ. По мнению Дювуа, мужчина синантроп, учитывая
обычное соотношение величины черепной коробки и объема мозга у муж-
чины и женщины, должен был иметь вместимость черепа около 1300
куб. см. 1 В этом отношении, как подчеркивает Дюбуа, синантроп стоял
уже несравненно ближе к неандертальцу, чем к исходному типу чело-
века — питекантропу. Того же взгляда придерживается и Грдличка.
Вместе с тем строение черепа синантропа обнаруживает черты все же
гораздо большей примитивности, чем это наблюдается у неандертальцев,
известных нам по их остаткам в Европе. Это касается строения нижней
челюсти — очень массивной и лишенной подбородочного выступа, упло-
1 Eug. Dubois, The Shape and the Size of the Brain in Sinanthropus and in Pithecan-
thropus, «Proceedings of Kon. Academic van Wetlenshappen te Amsterdam», vol. XXXVI.
Л«.4,, 1933, стр. 422.
ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ
137
щенности черепного свода, характерных треугольных очертаний череп-
ной крышки в вертикальной проекции, суженной в лобной части и сильно
расширяющейся к затылку, огромных надглазничных валиков и т. д.
Однако и здесь некоторые признаки сближают синантропов с неандер-
тальцами, основываясь на чем ряд исследователей склоняется к тому,
чтобы видеть в синантропе человека, далеко ушедшего в своем развитии
по сравнению с питекантропом.
Очень показательно, что Г. Вейнерт, первоначально особенно под-
черкивавший тождество обоих названных типов (синантропа и пите-
кантропа), в заключение приходит к тому, «что синантроп — несомнен-
ный человек и что он имеет позади себя весьма солидный период чело-
веческого развития и отнюдь не является такой переходной стадией, как
питекантроп». 1
Резюмируя изложенное выше, 2 мы приходим к выводу, что синантроп
представляет собой значительный дальнейший шаг в развитии челове-
ческого типа.
Очень любопытно указание Вейденрейха на замечательную изменчи-
вость признаков, наблюдающуюся в дошедших до нас остатках синантро-
пов. Поскольку это подтверждается и другими исследователями, может
встать вопрос, не является ли эта изменчивость характерной особенностью
человеческой организации на начальном этапе формирования неандер-
тальского типа человека, тем более, что подобная же особенность отме-
чена и для остатков человека, происходящих из Крапины.
ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ
В вопросе о происхождении человека, как мы видели, многое остается
не вполне dine выясненным наукой, и потому каждая новая находка имеет
для нас исключительно большой интерес. Не следует забывать все же,
что именно в этом вопросе в наибольшей степени проявляется стремление
современной буржуазной науки в ее реакционных течениях исказить
великую идею развития, поскольку эта идея является оружием, заострен-
ным против господствующих классов буржуазного общества. Совершенно
пран французский ученый Верно в своем утверждении, что взгляды
многих представителей современной западноевропейской антропологии
на происхождение человека определяются тем, что диктуется церковниками.
Древнейшие человекоподобные обезьяны, через которых проходит
линия развития, ведущая к человеку, впервые становятся известными
в эпоху миоцена. В это время — в среднем миоцене — остатки их по-
являются и в отложениях Европы. Из открытых здесь остатков чело-
векоподобных обезьян можно назвать находку плечевой кости крупного
ископаемого антропоида в Сен-Годан во Франции и бедренной кости из
Эппельсгейма близ Майнца, а также обломки челюстей и отдельные
1 Г. Вейнерт, ук. соч., стр. 203.
2 В среде советских антропологов и археологов нет еще вполне сложившегося
мнения относительно времени, к которому должны быть отнесены остатки синантропа
и места, занимаемого им в истории древнейшего человеческого общества и развитии
самого физического типа человека. Большинство, однако, стоит на иных позициях
в этом вопросе, чем автор настоящей книги, придерживаясь мнения о чрезвычайной
древности синантропа. Ср., например, М. Ф. Нестурх, ук. соч., стр. 380 и сл., и дру-
гие работы. Последнее утверждение трудно, однако, увязать с той характеристикой,
которую дает Энгельс нижней ступени дикости. Охота на крупных животных и при-
менение огня по Энгельсу являются признаками уже ее средней ступени.
138
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
зубы, происходящие из третичных отложений Франции, Швейцарии,
Германии и пр.
Эти остатки принадлежат, несомненно, не одному, а нескольким не
только видам, но и родам антропоморфных обезьян, в одних случаях
стоящих как-будто ближе к гиббонам, чаще же в какой-то мере прибли-
жающихся к шимпанзе и горилле. В этом смысле определение названных
остатков не всегда является надежным, поскольку иногда даже новые
роды ископаемых обезьян устанавливаются по находке одного зуба.
Во всяком случае следует считать вполне достоверным, что крупные
антропоморфные обезьяны находили вполне благоприятные условия для
своего существования в течение второй половины третичного периода не
только на юге, но и в средней Европе, к северу от Альп.
Считается, что в миоцене в Европе обитали дриопитеки, плиопитеки
и грифопитеки. В нижнем плиоцене здесь жили те же дриопитеки, педо-
питексы, неопитеки и некоторые крупные высшие обезьяны. В среднем
плиоцене человекообразные обезьяны в Европе становятся очень ред-
кими, а в верхнем совсем исчезают. К концу плиоцена на юго-западе
Европы удерживаются только макаки.
Из названных человекообразных обезьян древний плиопитек пред-
ставляет собой настоящего гиббона, который в миоценовое время, видимо,
являлся постоянным обитателем лесов юго-западной и центральной
Европы. Педопитекс, известный пока только по находке бедренной кости
в Эпельргейме, также, по особенностям строения бедра, ближе всего стоит
к современному гиббону. Неопитек, систематическое положение которого
неясно, определен по находке зуба в отложениях Швабской юры. Грифо-
питек — также представленный одним зубом из миоценовых песков Вен-
ского бассейна, — видимо, не отличается существенно от дриопитеков.
В трудах, посвященных этим вопросам, из ископаемых европейских
антропоидов чаще всего упоминается дриопитек. Правда, некоторые
авторы (например Вейнерт) рассматривают дриопитека как искусственно
созданный род, в который, благодаря недостаточности фактических дан-
ных, часто механически включают по существу разнородные остатки.
Для нас важно, однако, другое: всеми признается, что европейские дрио-
питеки характеризуются отсутствием специализации и той обобщен-
ностью признаков, которая должна была отличать третичного предка
человека.
Насколько известно, ни дриопитек, ни другие человекообразные обе-
зьяны не доживают в Европе до верхнего плиоцена, — очевидно в связи
с надвигающимся похолоданием, которое становится заметным уже со
среднего плиоцена.
Вопреки Монтандону и его гипотезе ологенеза, то есть зарождения
человечества в разных условиях на всех материках от различных по
происхождению предков, Цам приходится считаться с фактом отсутствия
среди хорошо изученной европейской фауны конца третичного времени,
то есть более поздней поры плиоцена, остатков человекообразных обезьян,
хорошо представленных, как мы уже говорили, в отложениях европей-
ского миоцена. Этот факт, обычно недостаточно учитываемый, отмечает,
между прочим, и М. А. Мензбир, который считает возможным поставить
его в связь с изменениями, испытываемыми животным миром Европы при
переходе от миоцена к плиоцену. «Фаунистическая граница между мио-
ценом и плиоценом, — говорит он, — выражена весьма резко. Антропо-
морфные обезьяны не доходят до плиоцена в Европе: повидимому вымерли
Dryopithecus и гиббоны, представленные в верхнем миоцене Эпельс-
ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ
139
гейма Pliohylobates». 1 Исчезает также ряд хищников, травоядных
и т. д.
Приходится учитывать то обстоятельство, что Европа, в сущности
говоря, представляет относительно небольшой участок суши, как бы угол
Азии, а в прежнее время отчасти и Африки; естественно поэтому, что в ее
фауне отражаются изменения, происходившие на этих больших конти-
нентах. В более позднее время четвертичного периода можно заметить,
как в Европе получают распространение холодные, полярные и степные
формы, выработавшиеся на равнинах северной Азии. В более раннюю пору
здесь появлялись животные жарких областей — те или другие виды сло-
нов, носорогов, бегемотов, крупных хищников и т. д. Не было бы ничего
удивительного, если бы и предок человека явился в Европу с юга или юго-
востока, из более жарких областей, где мы, очевидно, должны предполагать
его родину.
К какому же времени следует отнести его появление в Европе?
В этом отношении значительный интерес может иметь замечание
того же Мензбира, что для плиоцена Европы особенно замечательным
фактом представляется неожиданное появление на этом материке беге-
мота, который, таким образом, получает в это время очень широкое распро-
странение одинаково в южной Азии,
Африке и южной Европе. Естественно
может встать вопрос, не в это ли,
очевидно, особенно благоприятное по
своим климатическим условиям время
произошло
морфного предка человека
pony?
Начало XX века принесло
вые находки, дающие некоторый
риал для суждения о древности
века в этой части света.
Особенно важное место среди них
ЗАКА (1907) нижней челюсти в песках Мауэра, близ Гейдельберга в Гер-
мании, 2 которая позволяет признать за человеком в Европе очень большую
древность. Большая глубина залегания (24 м), характер напластований,
из которых она была извлечена, остатки сопровождавших ее животных,
таких, как древний слон, этрусский носорог, лошадь, близкая к лошади
Сгенона, — все это говорит о том, что воды р. Неккара отложили здесь,
на дне древней долины, свои наносы, пески и гравий в эпоху, близкую
к эпохе питекантропа, то есть в какое-то начальное время плейстоцена.
Этому вполне соответствует облик самой челюсти, очень массивной, с пол-
ным отсутствием подбородка и^с очень примитивной формой зубов, хотя
уже вполне человеческих. Подобные признаки, сближающие гейдель-
бержца с питекантропом, свидетельствуют о том, что существо, которому
проникновение антропо-
в
Ев-
пер-
мате-
чело-
Рис. 24. Гейдельбергская челюсть.
занимает находка Отто Шётен-
Времи
появления
человека
Гейдельберг-
ская находка
1 Мензбир, ук. соч., стр. 119. Однако утверждение Менэвира требует некоторой
поправки. Остатки человекообразных обезьян известны из отложений нижнего плио-
цена Европы (понтический ярус) и, видимо, переходят даже в средний плио-
цен. Только в верхнем плиоцене они окончательно перестают встречаться в Ев-
ропе (ср., например, указание О. Авеля в цитированной ранее книге М. Вебера,
•стр. 312).
2 О. Schoetensaek, Der U nterkiefer des Homo Heid-elbergensis aus den Sanden von
Mauer bei Heidelberg, Leipzig, 1908. См. также статью Mac-Curdy, «Revue anlhropo-
logique», 1912, стр. 103.
140
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
как они восстановлены
Шимпанзе.
Неандерта-
лец из
Ja Феррасп.
Рис. 25. Нижняя челюсть
шимпанзе, гейдельбергского
человека, неанадертльца и
современного человека.
Схема показывает профи-
лировку челюсти и форми-
рование подбородка.
Современный
человек.
Г епдельбергский
человек.
принадлежала эта челюсть, представляет собой связующую форму между
высшими обезьянами и человеком.
Пильтдауп- Вскоре после открытия «гейдельбергского человека» была сделана
ские остатки ДруГая находка, уже в Англии, опубликованная в 1912 г. геологом Г. Дау-
соном и палеонтологом С. Вудвардом, — остатков черепа и нижней челюсти
в Пильтдауне, на юго-востоке Англии, близ побережья Ламанша. Насколь-
ко могло быть выяснено, они залегали в гравиях верхней террасы р. Аузы,
впадающей в Ламанш у города Ньюгевна, и сопровождались древней
фауной, видимо, также относящейся к раннему плейстоцену. В том виде,
Вудвардом, эти остатки представляют странное
сочетание необыкновенно примитивной, в сущ-
ности совершенно обезьяньей челюсти (челюсти
шимпанзе) с объемистой мозговой коробкой,
обнаруживающей все признаки высокого, чисто
человеческого развития. Вудвард назвал это
существо эоантропом, предшественником чело-
века, обычно же остатки эти известны в антро-
пологической литературе под именем пильтдаун-
ского человека.
Эта неожиданная находка вызвала оживлен-
ные споры. В самом деле, в том виде, как она
была опубликована, она требовала принятия
совершенно невероятного положения, что пред-
шественник человека в эпоху питекантропа уже
разделялся на две расы: одну, представленную
питекантропом, которая имела строение черепа
такое, как и можно было ожидать у существа,
только что еще отделившегося от животных,
тогда как другая, в лице эоантропа Даусона,
наряду с зверообразной челюстью, обладала уже
черепом современного европейца, с объемом
мозга в 1300 — 1400 куб. см, при полном отсут-
ствии надбровных дуг и других черт низшего
строения.
Как оценивать эти странные факты? В нашем
ученом мире до недавнего времени считали воз-
можным принимать пильтдаунскую находку
всерьез, как нечто трудно объяснимое, но в то
подкрепленное авторитетом западноевропейских
исследователей. Крупный специалист в вопросах палеоантропологии,
покойный академик Д. Н. Анучин, полагал, что открытие в Пильт-
дауне является серьезйЫм аргументом против старого представления
о прямом и преемственном пути развития человека, и высказал мне-
ние, что «линий развития человека была не одна, что родов и видон
человека было несколько, но что только одному из них {Homo sa-
piens — разумный человек) было суждено дожить до настоящего вре-
мени». Подобные взгляды находят отражение и в работах других антро-
пологов СССР. Однако в последние годы более критическое отношение
к выводам буржуазной науки позволило значительно осторожнее расцени-
вать значение пильтдаунских остатков. Нужно сказать, что невозможное
сочетание высокоразвитого черепа и обезьяньего челюстного аппарата
эоантропа вызывает более или менее скептическое отношение к нему и
среди более осторожных антропологов и палеонтологов Запада. С этой.
же время достаточно
Hl
ПЕРВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА. ЭОЛИТЫ
точки зрения прежде всего заслуживает внимания тот факт, что ни усло-
вия, ни возраст этих находок никем не были точно установлены.
Известно, что разрозненные куски черепа, вернее двух черепов, обло-
мок нижней челюсти и несколько зубов были извлечены в разное время,
главным образом из куч гравия, в карьерах для добывания балласта,
в общине Пильтдаун. Если одни считают возможным относить эти находки
еще к третичному периоду, руководствуясь тем, что в слое, откуда про-
исходит по крайней мере часть этих остатков, были находимы зубы харак-
терного плиоценового животного — мастодонта, другие приурочивают их
скорее к довольно поздней поре ледниковой эпохи.
Можно было бы предполагать, как это делают Грдличка и ряд других
авторов, что мы имеем здесь два разных существа: крупного антропоида,
ироде дриопитека, и человека, близкого к ориньякскому обитателю Ев-
ропы.
Такое объяснение, само по себе весьма правдоподобное, в известной
мере затрудняется тем, что, насколько известно, ни в верхнем плиоцене,
ни тем более в плейстоцене на территории Европы до сих пор не было
открыто каких-либо остатков человекоподобных обезьян. Тем менее ве-
роятно рассчитывать встретить их в Англии, где признаки значительного
похолодания несомненно восходят уже к третичному времени. Каково
бы ни было действительное происхождение этих остатков, которые, не-
смотря на поднятый вокруг них шум, могут вызывать серьезное сомнение
в своей достоверности, ясно одно, что они широко используются, с одной
стороны, реакционными, с другой — недостаточно критически настроен-
ными кругами буржуазных ученых как аргумент в пользу изначального
расщепления человечества на «низшие» и «высшие» типы, «низшие» и «выс-
шие» расы.
Пока же нам приходится присоединиться к наиболее объективно сфор-
мулированному мнению М. Буля (1935), что пильтдаунская находка,
н виду ее спорности, до выяснения всех обстоятельств, с ней связанных,
должна быть оставлена в стороне при разрешении проблемы происхо-
ждения человека. 1
Счм петель-
ный харак-
тер цильт-
даунеких
остатков
ПЕРВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА. ЭОЛИТЫ
Основным фактом очеловечения, согласно взглядам Энгельса, явля-
лась растущая активность в приспособлении к внешним условиям и ра-
стущая способность противостоять им. Только это обстоятельство позво-
ляет нам понять те условия, в которых совершался переход от обезьяны
к человеку.
В истории освобождения Передних конечностей в качестве органа дей-
ствия, конечно, большую роль должен был играть способ передвижения,
усвоенный предком человека, его переход к обитанию на земле. Оставляя
ведра тропического леса, в процессе расселения по земному шару, предок
человека должен был все более осваиваться с пребыванием на открытых
пространствах. Из этого не следует все же, что обезьяноподобный предок
человека перестал пользоваться деревьями прежде всего как наиболее
надежным убежищем.
1 М. Boule el J. Piveteau, Les joss lies: Elements de Paleontologie, Paris, 1935 (no
рецензии в «Мапл, о. XXXVI, Febr., 1935).
142
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Целый ряд крупных исследователей считает, что не только предок
человека, но и человек на наиболее ранних этапах своего развития был
еще в той или иной степени связан с жизнью на деревьях. Некоторые
ученые из особого способа лазания (брахиации), свойственного предку
человека, считают даже возможным вывести первоначальную дифферен-
циацию конечностей и вертикальное положение тела, закрепленное в даль-
нейшем передвижением по земле.
Если этот способ передвижения с помощью передних конечностей мог
иметь некоторое биологическое значение у обезьяны, совершенно оче-
видно, что он не играл никакой роли в выработке руки, каковая могла
сформироваться только в связи с ее трудовыми функциями.
Некоторые факты свидетельствуют в пользу лесного образа жизни не
только питекантропа, но, может быть, еще и шелльского человека.
В пользу этого обстоятельства говорит уже то, что древнейшие следы
человеческой деятельности, так же как до сих пор известные, наиболее
ранние остатки самого человека, обычно встречаются вместе с предста-
вителями лесной фауны — бегемотом, слоном, носорогом. В этом нас
убеждает и тот, давно уже установленный факт, что использование пещер
и навесов под скалами в качестве убежищ начинается только со средней
поры палеолита, тогда как остатки, относящиеся к древнейшей поре
палеолита, в этих условиях до сих пор нигде неизвестны.
Характер Что же должно было побуждать предка человека спускаться с де-
питании ревьев и проводить значительную часть своего существования на земле,
подвергаясь, очевидно, постоянной опасности со стороны таких врагов,
как крупные хищники — махапрод и др.? Нужно думать, что в этом
главную роль уже тогда должны были играть поиски пищи.
Весьма вероятно, что та порода обезьян, которая позже дала начало
человеческому роду, уже в какую-то раннюю пору плиоцена должна была
в некоторой степени перейти к наземному образу жизни. Такие примеры
можно найти среди многих высших обезьян, а также и некоторых из
человекообразных (особенно гориллы, но также и шимпанзе). Некоторые
авторы не без основании утверждают, что и третичный дриопитек также
уже должен был приобретать некоторые навыки наземной жизни.
Будучи по строению зубов всеядным существом, наш предок в про-
цессе очеловечения легко мог перейти от чисто растительного питания
к потреблению, наряду с плодами, молодыми побегами, корнями и клуб-
нями некоторых растений, также яиц, насекомых, червей, пресмыкаю-
щихся и мелких млекопитающих. Энгельс, в своем уже не раз цитирован-
ном нами очерке, совершенно справедливо особенно подчеркивает значе-
ние растущего разнообразия пищи как «химической предпосылки» очело-
вечения. w
Такой характер питания, требовавший гораздо большей активности
в смысле поисков пищи и в смысле самого процесса ее добывания от суще-
ства, которому природа не дала соответствующих приспособлений и кото-
рому, очевидно, приходилось прибегать к помощи какого-нибудь сучка
или острого камня для вырывания из земли кореньев и червей или для
разбивания гнилого пня, чтобы добыть оттуда личинки насекомых, мог
явиться тем начатком трудовой деятельности, из которого выросли новые
функции руки и иной способ передвижения, освободивший руки для труда.
Вместе с тем на открытых пространствах предок человека вынужден был
искать какое-нибудь средство защиты в борьбе с более сильными врагами.
Такие средства он находил в той же палке или камне. Таким образом,
эти естественные орудия, используемые более или менее случайно,
ПЕРВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА. ЭОЛИТЫ
14»
в минуту нужды или опасности, с течением времени становятся неотъемле-
мой частью его существования. «Процесс труда», создавший не только
человека, но него историю, «начинается только при изготовлении орудий»,.1
Было бы, конечно, совершенно неправильно представлять себе это как
нечто совершившееся в какой-то небольшой отрезок времени. Если пере-
ход от животного к человеку, от биологического к социальному, является
одним из наиболее ярких проявлений диалектического процесса, все же
очевидно, что здесь речь может итти только о крайне медленном накопле-
нии навыков в пользовании теми или другими случайными приспособле-
ниями, на которое требовались многие и многие тысячелетия, раньше
чем опыт повседневного существования мог быть закреплен овладевшим
им сознанием.
Очевидно, что только в результате чрезвычайно долго длившегося
процесса развития могли выработаться и закрепиться наследственностью
новые черты физической организации и усложненная структура моз-
говой коры, отличающая человека от обезьяны. «Сотни тысяч лет, —
говорит Энгельс, — в истории земли имеющие не большее значение,
чем секунда в жизни человека, — наверное протекли, прежде чем воз-
никло человеческое общество из стада карабкающихся по деревьям
обезьян». 2
«Этот процесс развития не приостановился с момента окончательного
отделения человека от обезьяны, но у различных народов и в различные
времена, различно по степени и направлению, местами даже прерываемый
попятным движением, в общем и целом могуче шествовал вперед, сильно
подгоняемый, с одной стороны, а с другой — толкаемый в более определен-
ном направлении новым элементом, возникшим с появлением готового
человека, — обществом». 3
Естественно предполагать, как мы уже не раз отмечали, что на началь-
ном этапе в этом процессе большую роль могла сыграть природная среда,
поставившая одну из групп высших обезьян, приближавшихся в ходе
своего развития к человеку, в такую обстановку, когда активный способ
добывания пищи, требовавший употребления подобных (см. выше) зачаточ-
ных орудий, давал им значительные преимущества в условиях существова-
ния. Одновременно с этим должна была расти и крепнуть социальная спаян-
ность, превращавшая стадо карабкающихся по деревьям обезьян в чело-
веческое, хотя и самое примитивное, общество, объединенное совмест-
ным трудом.
Вместе с усложнением способа добывания пищи должна была расти Зачатки
потребность и в более целесообразных приспособлениях для ее добывания. ОРУДПЙ W*
От первого попавшегося под руку сучка дерева, бросавшегося тогда,
когда в нем не было надобности, предок человека переходил к употребле-
нию палки для копания или дубины для защиты, которая его сопровождала
постоянно и, естественно, требовала лучшей, более целесообразной
отделки.
Вместе с тем убитое животное или подобранный твердый плод должны бы-
ли побуждать предка человека отыскивать в природе что-нибудь, что могло
бы заменить отсутствующие у него естественные приспособления, вроде силь-
ных, разрывающих челюстей. Таким предметом мог явиться кусок пер-
вого попавшегося острого и достаточно твердого камня, которым можно
было удобно обстругать или заострить палку, снять кору или разрезать
1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1936, стр. 54.
2 Там же, стр. 53.
3 Там же. стр. 53.
144
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
толстую шкуру животного, чтобы затем разделить добычу на куски.
Естественно, что предшественник человека мог рано обратить особенное
внимание на кремень, который дает в естественных условиях в природе
очень острые и прочные обломки.
Имеется предположение, что первое применение заостренных кусков
кремня относится к очень давнему времени, к началу четвертичного
периода или даже еще к третичной эпохе, когда, как мы видели, поя-
вляются первые очеловеченные типы антропоидов. Само по себе такое пред-
положение кажется довольно вероятным. В самом деле, уже на стадии
питекантропа предшественник человека мог подбирать подобные камни
и пользоваться ими для тех или иных своих целей.
Были ли они, однако, вообще где-либо обнаружены? Среди западно-
европейских ученых имеется ряд убежденных сторонников того, что
подобные древнейшие орудия действительно
Золеты
Рас. 26. Эолиты.
1, 2, 4.—Эоценовые кремни
из Клермона (Франция). 3. —
Кремневый отщен из Пюи-Кур-
ни (Франция). 1/2 н. в.
(1, 2, 4 — по БреГию и Буиссони, 3 —
по Г. п А. Мортилье)
существуют и даже известны в довольно
большом количестве. За такие первичные
орудия, так называемые эолиты (от грече-
ского «эос» — заря, «литое» — камень), прини-
мают расколотые куски кремня, часто со
следами как бы употребления в виде вы-
щерблин или даже подправки острого края,
которые встречаются в древних напласто-
ваниях.
Их отыскивают не только в раннечет-
вертичных отложениях, среди галечников
речных террас западной Европы, где было
бы естественно рассчитывать встретить очень
ранние следы деятельности не только чело-
века, но и его прцдка, так как в этих от-
ложениях известны кремневые орудия очень
ранних эпох палеолита. Предполагаемые
древнейшие изделия человека указывают в
слоях, которое относятся к гораздо более
раннему времени, чем начало четвертичной
эпохи, где расщепленные кремни залега-
ют вместе с костями мастодонтов, гиппари-
Тенэ
онов и других животных, живших в эпо-
ху плиоцена, и даже в еще более древних геологических наносах.
Первые подобные находки восходят к 60-м годам прошлого столетия,
когда, в особенности после выхода в свет знаменитого труда Ч. Лайелля
и ряда открытии, сделанных во Франции и Бельгии, чрезвычайно
вырос интерес к древнечетвертичному человеку. Одним из первых и наи-
более известных местонахождений, поставивших проблему эолитов,
является местность Тенэ (Thenay) во Франции, которая привлекала
внимание нескольких международных археологических конгрессов и
вызвала весьма оживленные дискуссии.
В Тенэ аббату Буржуа, занимавшемуся геологическими исследова-
ниями, удалось найти в отложениях третичного возраста значительное
число кремней, из которых многие были расщеплены и даже носили
следы действия огня, что было объяснено как особый прием раздро-
бления кремня посредством обжига на костре. Затруднение в призна-
нии их изделиями человека заключалось в том, что они были
собраны в слое мергеля, который, по определению геологов, от-
ТАБЛИЦА VII
ТАБЛИЦА VII
Время палеолита Наименование эпохи Климат п геологические явления Фаза оледенения Фауна и Флора Орудия труда
Окончание Турасская (Tourasslen) । I Очень похок на современный Послеледниковое время СОВРЕМЕННАЯ ФАУНА И ФЛОРА Благородный олень изобилует. Северный олень уже исчезает. .Тесная растительность Переход от палеолита к неолиту Упадок изделий из камня и кости. Характерны плоские гарпунь1 из рога благородного оленя
ВЕРХНИЙ Мадленская (Magdallnlen) Холодный и сухой. Образование покровных суглинков с неокатанной щебенкой (делювий) по склонам речных долин Угасание оледенения Широкое распространение СЕВЕРНОЙ ФАУНЫ А1амонт па пути к исчезновению. Полярные мхи в южной Германии. ft Высокое развитие обработки кости и рога. Для кремневой техники характерны узкие удлиненны6 пластинки. Обилие резцов. Расцвет искусства
ПАЛЕОЛИТ Солюгрейская (Solutreen) « Умеренный и сухой. Отступание ледников Угасание оледенения Много диких лошадей Северный олень. Мамонт. Исчезновение носорога Совершенствование изделий ив камня. Обработка камня с помощью отжима. Появление наконечников „лавролистпых* и с боковой выемкой. Первое появление скребков
СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ Мустьерская (JVloust6rlen) Холодный и влажный. Особенное развитие ледников. Усиление деятельности рек— размыв долин, образование нижних террас Максимальное развитие оледенения ХОЛОДНАЯ ФАУНА И ФЛОРА Мамонт. Шерстистым носорог. Пещерный медведь. Мусвусный овцебык Ручные остроконечники и скребла. Широкие, массивные нластяиы. Ретушь наносится только по верхней стороне орудия- Исчезновение ручных рубил
Переход — Ашёльская (АсЬеи1ёеп) Умеренный и влажный. Отложепие суглинков па водоразделах. Аллювиальные наносы верхних террас Надвигающееся оледе- нение ПЕРЕХОДНАЯ ФЛОРА И ФА УНА Появление мамонта Исчезновение EH'pha* antiquits Смешение тесаных и ретуши- рованных орудий. Более тщательно обработанные, меньшне по размерам, более правильные по форме ручные. рубила
нижний ПАЛЕОЛИТ Шелльская (СйсПёеп) Теплый и влажпый. Заполнение древнего дна речных долин наносами. Аллювиальные отложения самого низкого уровня Доледниковое время ТЕПЛАЯ ФЛОРА Средиземноморская растите ль- ность в долине р. Сены. ТЕПЛАЯ ФАУНА Гиппопотам, носорог Мерка. Древний слои. । Вымирание последних третичных Единственное орудие ив камня грубое ручное рубило обтесанное крупными сколами с Двух сторон
ПЕРВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА. ЭОЛИТЫ
145
ложился в раннем миоцене, то есть в чрезвычайно отдаленную эпоху,
когда материк Европы имел совершенно другие очертания и иной природ-
ный облик: его покрывали тропические леса, в реках и озерах води-
лись крокодилы, мир млекопитающих поражал своим своеобразием.
Это не помешало Буржуа, а затем Г. де Мортилье и ряду других ученых
признать кремни Тенэ подлинными орудиями, оставленными ^предше-
ственником человека». 1
Мортилье горячо поддерживал признание подлинности эолитов Тенэ
как изделий предшественника человека, исходя из чисто материалисти-
ческих представлений. Ему казалось, что признание происхождения че-
ловека от обезьяноподобного предка дает основание рассчитывать встре-
тить первые зачаточные орудия в очень ранние геологические эпохи.
На той же точке зрения стоял и выдающийся французский палеонтолог
Годри.
Эолиты Тенэ ставят те же вопросы, которые были
выдвинуты последующими открытиями в Отта в Пор-
тугалии, Пюи-Кур ни в Кантале (в центральной Фран-
ции) и в многочисленных местонахождениях Бель-
гии, описанных в более позднее время ярым при-
верженцем теории эолитов, геологом Рюто,—вплоть
до последних публикаций Рид Мойра, собравшего
эолитические кремни в окрестностях Ипсвича на
юго-востоке Англии в древних пресноводных и
частью морских береговых отложениях, где они,
правда, были известны и ранее по работам Эбвота
(Abbot) и других исследователей. Относительно по-
следних находок положительный отзыв, в смысле их
признания древнейшими изделиями человека, был
дан на Льежской сессии Интернационального антро-
пологического института в 1921 г. 2
Все эти открытия вызывают совершенно закон-
ное недоумение. Кажется странным, что эолиты, если
стоять на точке зрения их значения как орудий труда,
хотя бы и самых несовершенных, встречаются одина-
ковой в раннечетвертичных наносах, и в отложениях такого древнего воз-
раста, как Тенэ, где трудно было бы искать непосредственных предков чело-
века, 3 причем, однако повсюду они имеют более или менее сходный харак-
тер. По большей части они представляют неправильные кремневые сколы
с острыми краями, которые иногда бывают как бы подправлены последую-
щими ударами, так называемой ретушью.
Разгадку проблемы эолитов дают наблюдения над условиями залегания
кремней в природе. Если присмотреться к естественным выходам кремня,
Рис. 27. Эолиты.
Эоценовые кремни из
Клермона (Франция).
х/2 н. в.
Эолиты —
результат
естественно-
го раскалы-
вания крем-
ня
можно видеть, что в таких местах, наряду с целыми сростками или кусками
кремня, встречаются и разнообразные обломки и осколки, которые трудно
отличить от эолитов. Можно считать доказанным, что в подобных отложе-
ниях эолиты образуются естественным путем в результате растрескивания,
нажима, удара о камень и т. д. Среди множества разнообразных оскол-
1 G. et A. de Mortillet, La Prehistocre, 1910, стр. 70.
2 L. Capitan., Les silex tertiaires d’Ipswich; см. также другие статьи и дискуссию
.в «Revue anthrop.», 1922, стр. 126 и 225.
3 Еще Бойд-Даукинс рассматривал как совершенно невероятный анахронизм —
возможность допустить появление человеческого существа в столь отдаленное геоло-
гическое время, как начало миоцена.
10 П. П. Ефпмснко. Первобытное общество — 173Г
146
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТА ДО
Следы огпя
Рис. 28. — Кремневый отщеп с характер-
ными признаками намеренного отделения
от куска кремня.
Слева показана «отбивная» сторона,
справа—разрез: Р—ударная площадка,
В — отбивной бугорок, С—выщербле-
ние от сильного удара, D—волнистость
кремня.
Призпякп,
отличающие
намеренно
расщеплен-
ные кремни
ков бывает возможным выделить некоторую серию камней, которые в той
пли другой степени напоминают изделия человека. Многие из них носят
следы как бы подправки, которая получалась вследствие действия тех же
естественных сил природы. Особенно часто подобные осколки встре-
чаются среди камней, передвигаемых водой. Нужно сказать, что и эолиты
часто происходят из древних речных пли озерных отложений.
Нельзя считать решающим и присутствие на некоторых эолитах следов
действия огня, поскольку мы знаем, что лесные и степные пожары возни-
кают в естественных условиях без вмешательства человека. Приходится,
таким образом, с большой осторожностью подходить к эолитам как ору-
диям труда нашего ископаемого
предка. Нельзя не считать явно не-
обоснованными попытки видеть в
эолитах доказательство появления
человека в Европе задолго до того
времени, когда по общим законам
развития млекопитающих он мог вы-
ступить как разумное, пользующееся
орудиями существо.
Этой точки зрения придержива-
ются и более критически настроен-
ные буржуазные ученые, которые
считают, что было бы чрезвычайно
трудно указать сомнительные следы
употребления на обломках кремня,
в огромном числе рассеянных в древ-
них геологических наносах. 1 Но, ра-
зумеется, в принципе вряд ли было
бы правильно отрицать, что питекан-
троп мог употреблять простые, есте-
ственно расколотые кремни для тех
или других надобностей.
Если мы склонны относиться
скептически к эолитам, происходя-
щим из древних геологических пла-
стов, это не значит, что кремень не
дает возможности отличить естествен-
ные обломки от таких, которые были
обработаны рукой человека. Внимательное изучение позволяет наметить
ряд признаков, свойственных кремневым сколам, полученным намеренно,
которые только в оченг^редких случаях воспроизводятся природой. При со-
поставлении с подлинными изделиями, хотя бы самыми грубыми, естествен-
ное происхождение эолитов может быть доказано без особого труда.
К числу таких признаков относятся (ср. рис. 26, 27, 28, 45 и др.) из-
вестная правильность и целесообразность огранения наружной поверх-
ности отщепленной пластины, что является результатом последовательных
сколов с одного и того же куска кремня; они обычно производились для
того, чтобы выровнять неровности кремневого желвака и удалить кору,
после чего он уже был пригоден для дальнейшего расщепления. Затем
приходится учитывать характер так называемой отбивной поверхности,
1 Очень показательно, что в последнее время признание подлинности, например»
эолитов Ипсвича .можно считать значительно поколебленным.
КРЕМЕНЬ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПЕРВОБЫТНОЙ ТЕХНИКЕ
147
нижней плоскости раскола, которая у отщепа, полученного намеренно,
всегда имеет характерную волнистость, сходящуюся к точке удара, отме-
ченной так называемым ударным бугорком; эта волнистость может быть
сильнее или слабее выражена в зависимости от качества материала и от
направления и силы удара. Далее имеет значение так называемая
ударная площадка — участок края кремня, по которому пришелся
удар, — которая у сколов, отделенных без определенной цели, всегда
имеет случайный характер и бывает непропорционально велика по отно-
шению к величине самого скола, в противополояшом же случае является
определенным образом рассчитанной (ср. рис. 27 — верхний и 28) и т. д.
Указанные признаки, которые имеются на любом кремневом отщепе
из палеолитической стоянки, как правило, отсутствуют у так называемых
эолитов, что свидетельствует об их естественном происхождении.
КРЕМЕНЬ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПЕРВОБЫТНОЙ ТЕХНИКЕ
Широкое применение кремня в первобытной технике объясняется тем,
что в природе нет другого материала, столь же распространенного, легко
используемого и обладающего столь же ценными качествами, которые
имеет кремень, — его твердостью, способностью давать режущие края
и своеобразным свойством раскалываться на тонкие пластины — тем, что
в минералогии называется раковистым изломом. Последнее качество дает
возможность при известном навыке отщеплять от куска кремня сколы
разной величины и формы и позволяет достигать в результате накопления
технического опыта большой степени совершенства в обработке этого ма-
териала.
Это объясняет нам, почему кремень и сходные с ним породы камня на
всем пространстве земного шара выступают в ранние эпохи человеческой
истории в роли исключительно важного материала для изготовления пре-
имущественно всякого рода обрабатывающих орудий. Только всего около
2—3 тысяч лет до н. э., и то далеко не всюду, он начал заменяться в этом
значении металлом. Не следует забывать, что еще в XV — XVII веках
значительная часть населения земного шара находилась на стадии упо-
требления каменных орудий (почти вся Северная и Южная Америка,
Австралия, Полинезия, Меланезия и т. д.).
Где имеются залежи кремня, там человек широко использовал его
для своих целей уже с древнейшей поры палеолита. Лучшим по качеству,
наиболее твердым и однородным считается темный меловой кремень, хотя
человек применял и другие сорта •— юрский, каменноугольный и даже
пресноводный кремень третичного возраста, обычно менее плотный и до-
вольно легко растрескивающийся. Там, где кремень не встречается, перво-
бытный человек с успехом обрабатывал яшму, роговик, халцедон и даже
вулканическое стекло, обсидиан, которые, в смысле твердости и способ-
ности раскалываться на пластины с острыми режущими краями, стоят
в общем близко к кремню.
При недостатке подходящего материала человек был принужден
пускать в дело более мягкие силикатные породы, как кварцит, плотный
песчаник, кремнистый известняк и т. п.
Овладение кремнем и близкими к нему породами как материалом для
изготовления орудий — использование полезных свойств этого мате-
риала — имеет свою весьма продолжительную историю, представляющую
одну пз наиболее интересных, но еще очень слабо разработанных глав
Свойства
кремня
Овладение
этим
материалом
ГЛАВА. ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
истории общественной техники. В процессе развития первобытного об-
щества открывались все новые и новые перспективы для многообразного
применения кремня и вообще каменных пород как сырья, как пред-
метов труда.
От первых попыток сначала простого использования, а затем расще-
пления кремня предком человека, которые относятся еще к началу чет-
вертичного периода, — за сотни тысяч лет до нашего времени, — до
чрезвычайно высокой и крайне диференцированной по типам орудий
техники камня высоко развитых обществ Месопотамии. Египта, Цен-
тральной Америки (непосредственно предшествовавшей распространению
металла) — идет долгий путь освоения человечеством этого незаменимого
материала для изготовления орудий труда.
Усложнение и совершенствование приемов обработки кремня, шед-
шее в течение веков в направлении, обусловленном полезными свой-
ствами материала, рука об руку с ростом производительных сил пер-,
вобытного общества, определяет общий характер развития техники
изготовления каменных орудий. Этапы этого развития имеют опре-
деленную последовательность на всех материках и обнаруживают не-
сомненное сходство, по крайней мере в основных чертах, для совер-
шенно различных территорий.
Это обстоятельство имеет большое значение по одному тому уже, что
оно дает известный критерий для расчленения истории первобытного обще-
ства на периоды, характеризующиеся определенными приемами изгото-
вления орудий и подбором их инвентаря.
Мы не можем упускать из вида и то обстоятельство, что смены типов
орудий И приемов их изготовления служат часто единственным надеж-
ным источником для установления времени тех или других находок, в ко-
торых 'раскрываются условия жизни и деятельности человека леднико-
вого периода. Это в особенности важно в тех нередких случаях, когда ни
условия геологического залегания, ни остатки фауны не могут дать более
точных указаний для определения возраста памятников человеческой
культуры.
Из сказанного не следует, однако, что мы, —учитывая эту естествен-
ную закономерность в развитии первобытном технологии кремня, — могли
бы считать правильной точку зрения буржуазной науки, склонной видеть
в кремневом инвентаре самодовлеющую область культуры со своими осо-
быми законами развития (наподобие законов развития живых организмов).
В современной буржуазной археологии, насквозь пропитанной формаль-
ным, вещеведческим подходом к фактам, относящимся к первобытной исто-
рии, орудия труда наделяются несвойственной им самостоятельной жизнью.
Отсюда вытекает весьма распространенный в некоторых кругах уче-
ных взгляд на кремневые орудия палеолита как на «руководящие ископае-
мые» плейстоцена. Что еще хуже, им часто приписывается какое-то
мистическое сродство с той или другой расой или группой человечества,
вроде пресловутых «культур» рубила и кремневой пластины.
Ни факты, которыми мы располагаем, ни наши общие представления
о роли кремня в истории человеческого общества ни в какой мере не
согласуются с подобными «биологическими» или «метафизическими» точ-
ками зрения в отношении интересующих нас явлений. Нам придется
в дальнейшем еще не раз возвращаться к этому вопросу.
Общеизвестно, что камень, в частности кремень, как и другие породы
со сходными свойствами — твердостью и своеобразной «пластичностью»,
не только являются весьма важным материалом первобытного производ-
КРЕМЕНЬ й ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В,, ПЕРВОБЫТНОЙ ТЕХНИКЕ 140
ства, но и составляют преобладающие, а часто единственные дошедшие до
нас вещественные остатки первобытных эпох человеческой истории.
Естественно поэтому поставить вопрос, в какой мере подобный инвен- Смена типов
тарь, так называемая «кремневая индустрия» палеолита, пригоден для кремневого
определения времени (исторической принадлежности) памятника, с кото- Ип”лоолите °
рым он оказывается связанным в геологических напластованиях.
Еще Г. де Мортилье в конце 60-х годов прошлого столетия на осно-
вании материалов, собранных Буше де Пертом и его последователями
в речных отложениях северной Франции и южной Англии, а также резуль-
татов исследований пещерных поселений той же Франции и Бельгии, про-
изводившихся в эти годы Эдуардом Ларте и другими лицами, удалось
набросать ту схему, из которой выросла принятая в настоящее время
хронологическая классификация палеолитических остатков Европы.
В этой схеме, развитой в известном труде Le Prehistorique, 1 наиболее
важным моментом является разделение палеолитических памятников на
три группы, основанное на прогрессе технических приемов обработки
кремня. Эти три группы памятников составляют его (Мортилье) древний,
средний и поздний (или верхний) отделы палеолитической истории чело-
вечества.
Это деление создавалось чисто эмпирически, в процессе накопле-
ния фактических данных из сравнения более ранних и более поздних
остатков человеческой деятельности, датируемых стратиграфическими
условиями (условиями их залегания) и характером сопровождающей их
фауны. Все же за этой периодизацией в представлении Мортилье стоит
идея развития, то есть преемственного усложнения технических приемов
в связи с историческим развитием человеческого общества. Совершенно
правильно и последователи Мортилье, и его ожесточенные враги-клери-
калы считают Мортилье одним из наиболее горячих защитников идеи
трансформизма, одним из наиболее крупных ученых с подобными взгля-
дами в области археологии. 2
На приводимой нами таблице (табл. VII), взятой из упомянутого труда,
можно видеть те существенные особенности, которые отличают технику
палеолитических эпох по Мортилье. От грубых рубил шелльской эпохи
развитие техники, как показывает эта таблица, идет к более усовершен-
ствованным рубилам ашёльского типа, чтобы затем смениться новым
приемом — расщеплением кремня широкими сколами, что характеризует
средний палеолит, и в верхнем палеолите дает место наиболее совер-
шенному способу утилизации кремня (в смысле приемов его расщепле-
ния и подретушевки), связанному с оформлением призматических сколов.
Весьма поучительно сопоставить с идеями, которыми руководился
Мортилье, те надуманные, заумные идеи о людях — «носителях руч-
ного рубила», «носителях культуры клинка» и т. и., которыми живет
современная буржуазная наука в лице ее представителей, ее признанных
авторитетов. Не развитие общества, не общечеловеческие ступени куль-
туры, а столкновение рас и «культур», влияние одного «культурного
типа» на другой видят эти авторы в далеком, да и в гораздо более
близком прошлом человечества.
1 Le Prehistorique, Antiquite de I’homme. Первое издание относится к 1883; четвер-
тое издание с измененным названием La Prehistoire вышло в 1910 г. Третье (1900)
и четвертое издания принадлежат двум авторам — Габриелю и его сыну Адриану де
Мортилье.
2 Ср. Dechelette, Manuel d’archeologie prehistorique... 1908, I, стр. 8: «Gabriel de
Mortillet compt parmi lea adeptes les plus ardents de la doctrine transformiste».
150
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Палеолит и
неолит
Они не склонны оставить для палеолитической истории человечества
никаких других задач, кроме столкновения и перемещения «культур»,
с одной стороны, и с другой—совершенно формального построения
эволюции отдельных типов вещей, часто совершенно неспособного
удовлетворить серьезным требованиям научности.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ ПАЛЕОЛИТА
Приступая к изложению древнейшей истории первобытного обще-
ства на территории Европы и Азии, мы должны помнить, как складыва-
лись те представления и та терминология, которыми нам приходится
пользоваться как наследием буржуазной науки.
Как и сама наука о «доисторическом человеке», или первобытная
археология, эти представления и эта терминология строились вполне
эмпирически — на основании того вещественного материала, связанного
с человеческой деятельностью, который вскрывался лопатой исследова-
теля в геологических напластованиях пещер и речных террас, относя-
щихся к четвертичной эпохе.
Вполне естественно, что, сравнивая и систематизируя эти остатки,
находя для них общие типы и устанавливая их изменения в слоях разного
времени, археологическая наука того времени (60-е — 70-е годы XIX века)
первоначально не могла не следовать по пути, проложенному ранее гео-
логией. Накопив в результате уже первых исследований достаточно боль-
шой материал в виде находок изделий из кремня в отложениях, предше-
ствующих современной геологической эпохе, она группирует слои древ-
них наносов, сохраняющие остатки человеческой культуры, в отделы,
характеризуемые определенными видами изделий, стратиграфическими
условиями и фауной, присваивая им наименование эпох.
Термин палеолитическое время (древний камень) в противоположность
времени неолита (новый камень), вошедший в научный обиход еще в 60-х
годах прэшлого столетия (предложен Джоном Лёббоком), до сих пор обще-
употребителен для обозначения того периода первобытной истории, кото-
рый заканчивается для северного полушария вскоре после начала совре-
менной геологической эпохи.
Если мы учтем, что продолжительность геологической современности,
самой' краткой геологической эры, исчисляется все же такой цифрой
тысячелетий, которая далеко превосходит все масштабы, известные пись-
менной истории, уже этот один факт дает основание усматривать в пред-
шествующей геологической эпохе время, соответствующее иной, более
ранней и более примитивной ступени в истории человечества.
Очевидно, однако, что не в явлениях геологического порядка нам
приходится искать те факты, на которых может быть построено разделение
эпох первобытной истории человеческого общества.
Что касается деления «каменного века» на два основных этапа — древ-
ний и поздний каменный век (палеолит и неолит), то в качестве истори-
ческого оправдания такого деления можно указать на существующее в среде
археологов 1 мнение, что окончание палеолитической эпохи совпадает
с появлением первого каменного топора, являющегося, по их предста-
влениям, показателем нового, высшего этапа, достигнутого первобытной
техникой.
1 G. Schwantes, Das Beil als Scheide zwischen Palaolithikum und Neolithikum, «Arch.
fur Anthrop.», X.E., XX, 1923, стр. 13.
'АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ ПАЛЕОЛИТА
151
Этот взгляд, исходящий из факта отсутствия обычного, хорошо извест-
ного каменного топора в находках, относящихся даже к поздней поре
палеолита, и, наоборот, массового распространения такого топора в посе-
лениях неолитической эпохи, имеет за собой некоторые основания уже
в том смысле, что неолитическая техника бесспорно располагает несрав-
ненно более разнообразными, сложными и совершенными средствами труда,
чем палеолитическое время. Однако, приходится заметить, что, как
мы увидим ниже, вопрос о появлении топора вовсе не является таким
простым, как это принято обычно думать. Мы не можем считать, не иска-
жая действительности, что палеолитическая техника была вовсе лишена
рубящих орудий.
Мало могут помочь нам и старые представления, восходящие к Лёб-
боку, по которым палеолитический и неолитический периоды разли-
чаются, первый — как отвечающий технике тесанного, второй — поли-
рованного и просверленного камня. Мы знаем, что полирование и про-
сверливание каменных орудий получает распространение только в более
позднюю пору неолитической эпохи, а не в ее раннее время. Вместе с тем,
эти приемы — полирование и просверливание — не были чужды и палео-
литической технике.
По наиболее распространенному в среде археологов представлению,
палеолит заканчивается довольно неопределенным, в смысле границ во
времени, кругом памятников, принадлежащих к так называемым эпипа-
леолиту и мезолиту и являющихся некоторым промежуточным, как бы свя-
зующим звеном между палеолитической и неолитической ступенями куль-
туры. Как мы видим, такого рода ответ по существу не содержит ничего
для решения вопроса о том, на чем же может быть основано, с точки
зрения требований исторической науки, разделение палеолитического и
неолитического периодов первобытной истории.
Приблизиться к разрешению этой задачи мы, очевидно, можем, все же
лишь отдав себе отчет в том, на чем строится или должна быть построена
периодизация древнейшей истории человеческого общества.
Ниже мы познакомимся с фактами, которые покажут нам, что в доступ-
ных археологу материальных остатках древней человеческой культуры
перед нами раскрываются ступени развития самого первобытного общества.
В этих фактах мы найдем отражение исторического движения перво-
бытного общества, совершавшегося на протяжении огромного по своей
длительности промежутка времени: от начальных форм общественной
жизни — первобытного стада к высшим формам — родовой организации,
складывающейся в эпоху верхнего палеолита.
Не приходится доказывать, что для понимания исторического процесса,
который находит свое отражение в остатках палеолита, для его расчлене-
ния на стадии, или эпохи, наука нуждается прежде всего в масштабах
времени, в хронологическое расположении накопленных фактов.
Если для позднего исторического периода, связанного с письменностью,
имеется возможность распределения исторических событий по годам,
столетиям и тысячелетиям, для эпох более ранних, лежащих за пре-
делами письменной истории, эта возможность почти отсутствует. Как
бы ни были в отдельных случаях остроумны и совершенны приемы
хронологизации геологических напластований, вроде метода Де-Геера,
пока они не могут обещать вывести нас сколько-нибудь далеко за черту
геологической современности. К тому же они пока могут быть применены
лишь к некоторым видам геологических образований, как некоторые
озерные и морские отложения, что очень ограничивает возможность при-
Определени<
времени
палеолити-
ческих
остатков
152
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Три стадии
обработки
премия в
палеолите
ложения геохронологических масштабов времени к фактам первобытной
истории. С другой стороны, например, метод радиоактивности имеет дело
с такого рода явлениями, которые дают отсчет времени в цифрах, слишком
больших для того, чтобы ими можно было воспользоваться для ранней
истории человеческого общества.
Отсюда следует, что в качестве необходимого нам мерила времени как
хронологической основы палеолитической истории мы, пока, имеем воз-
можность использовать лишь общий процесс развития неорганической
и органической природы, то есть факты, взятые из области смежных
естественно-исторических наук, имеющих дело с четвертичным периодом
(геология, палеоботаника, палеозоология). Нужно сказать все же, что
и сами археологические остатки могут служить известным показателем
изменений, совершавшихся внутри человеческого общества на протяжении
десятков и сотен тысячелетий, которыми исчисляется палеолитический
период.
Что касается первой группы явлений, мы уже видели в двух преды-
дущих главах, что окружавшая человека природная обстановка дей-
ствительно предоставляет возможность расчленения плейстоцена, на про-
тяжении которого развертывалась ранняя история человеческого обще-
ства, по крайней мере в условиях Европы, на вполне определенные, до-
статочно выясненные в их последовательности во времени геолого-хроно-
логические отрезки. В основании этого расчленения лежит стратиграфи-
ческий метод — метод наблюдения над соотношением слоев, содержащих
остатки, относящиеся к разным геологическим моментам в истории земли.
Тот же стратиграфический метод наблюдения является драгоценным
орудием для археолога в смысле возможности установления возраста
отложений, заключающих остатки палеолитической культуры.
Большой заслугой Мортилье было то, что, исходя из стратиграфиче-
ского расчленения палеолитических местонахождений Франции, он пер-
вый дал набросок хронологической классификации палеолита.
Основываясь на несомненно имевшем место, вполне закономерном
усложнении и усовершенствовании, наблюдающемся на протяжении па-
леолита в технике обработки камня и в сменах типов основных, «руково-
дящих» орудий труда, Мортилье склонен был все же к чрезмерной перео-
ценке значения развития техники «в себе», как и вообще к значительному
упрощению исторической действительности. В его представлении кремне-
вый инвентарь палеолитического периода живет какой-то самодовлеющей
жизнью. Ручное рубило древней стадии палеолита трансформируется
в последующее время в мустьерский остроконечник; последний в свою
очередь столь же последовательно и преемственно превращается в солю-
трейский наконечник и т. rf: Все это происходит в его изображении с такой
же преемственной последовательностью, с какой развиваются биологи-
ческие виды. Во взглядах Мортилье очень ярко сказывается узкоэволю-
ционистское, ограниченное понимание исторического процесса, свой-
ственное мелкобуржуазной радикальной интеллигенции, которую, не-
сомненно, представлял в науке этот выдающийся ученый. 1
Однако при всем этом его стремление доказать закономерность про-
грессивного развития человеческого общества, стадиальность историче-
ского процесса, совершающегося в восходящем движении от первобытных
ступеней человеческой истории к современности (стремление, направлен-
1 Ср.' П. И. Борисковский и С. Н. Замятнин, Габриель де Мортилье, «Проблемы
истории докалит, обществ», .№ 7—8, 1934, стр. 88.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ ПАЛЕОЛИТА
153»
ное своим острием против его яростных и непримиримых противников —
клерикалов), нельзя не считать весьма положительным моментом в воз-
зрениях Мортилье и его школы.
Во всяком случае установленные Мортилье стадии в обработке кремня
н, соответственно этому разные типы инвентаря, связанные им с ступе-
нями палеолита, имеют до сих пор существенное значение в нашем пони-
мании палеолитической истории человечества. Поскольку Мортилье уда-
лось показать, что эти три стадии палеолита, по крайней мере в Европе,
закономерно сочетаются с характерной фауной — теплой, умеренно-хо-
лодной и холодной (фауной гиппопотама, мамонта и северного оленя),
отмечающей последовательные этапы в истории природной среды плей-
стоцена, им была тем самым разрешена важнейшая проблема геологиче-
ской хронологизации ранней истории человеческого общества.
Мы уже видели, что как ни извращался этот основной факт на про-
тяжении последних 30—40 лет «полиглациалистами», с одной стороны,
и, с другой, клерикально настроенными археологами, 1 новые и новые
его подтверждения заставляют объективно мыслящих ученых придержи-
ваться в вопросе хронологизации палеолита взглядов Г. де Мортилье.
Мы говорили сейчас все же лишь об одной стороне интересующего нас
вопроса. Принимая как историческую действительность указанные выше
этапы в развитии техники, мы вправе искать объяснение их не просто
в эволюции культуры, как это делает Мортилье, а в тех ступенях исто-
рического развития, которые должно было пройти человеческое общество
на пути от дикости к варварству и цивилизации.
Мы уже отметили выше, что почти вытеснившие школу Мортилье бур-
жуазные археологи (и этнологи) новейшей формации, воспитанные в духе
взглядов «культурно-исторической школы» патера Шмидта, стремятся
устранить из археологии всякую историческую концепцию, напоминаю-
щую о развитии человеческого общества, заменяя ее идеей перемещения
и столкновения разнотипных культур. На этом нам придется еще не раз
останавливаться в дальнейшем.
Интересно, с какой последовательностью и необычайной настойчи-
востью, без открытого объявления войны идеям трансформизма, что
могло бы скомпрометировать позиции церковников, ведется эта борьба
с наследием, оставленным в археологии прогрессивными учеными прош-
лого века.
Одним из этапов этой борьбы является и новое, широко пропаганди-
руемое деление палеолитической истории на два периода — нижнего (или
древнего) и верхнего (или позднего) палеолита. Чтобы понять смысл этого
деления, нужно учесть вытекающие отсюда следствия.
Этим, во-первых, утверждается мысль, что древнейшее, самое началь-
ное состояние культуры едва зарождающегося человеческого общества
ничем существенно не отличается от его последующей фазы (средний па-
леолит), отвечающей совершенно иным условиям и геологической, и обще-
ственной (исторической) обстановки и отделенной от начальных этапов
первобытной истории периодом времени, исчисляемым сотнями тысяче-
летий.
Во-вторых, доказывается, что и так называемый верхний палеолит
является не ступенью в развитии человеческого общества и самого чело-
1 Относительно влияния католической церкви на археологию, в особенности
в вопросах, касающихся ископаемого человека, ряд интересных фактов сообщается
в указанной выше работе И. И, Борисковского и С. Н. Замятнина (ук. соч., стр. 104»
и др.).
154
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
века (неандерталец — кроманьонец), но может быть понят лишь как по-
явление на исторической сцене новых, неведомо откуда взявшихся рас
верхнего палеолита, не имеющих ничего общего с неандертальцем.
В той мере, в какой «система эпох палеолита», построенная по прин-
ципу геологических систем и, естественно, поэтому не могущая претен-
довать на глубокое проникновение в сущность процесса развития перво-
бытного общества, все же в какой-то мере отображает историческую реаль-
ность, она не может не иметь для нас значения при рассмотрении фактов,
на которых строится история первобытно-общинного строя. Нельзя
забывать, что она дает в систематизированном виде огромный, прове-
ренный и хорошо датированный фактический материал, располагая
его по хронологическим этапам палеолитической истории.
Таким образом, хотя и с существенными поправками, «эпохи» палео-
лита занимают определенное место в нашем понимании ранней истории
человеческих обществ. Вопрос заключается в том, какое содержание
должно быть вложено в понятие «эпох» палеолитической истории.
Как увидит читатель, мы не имеем основания принять без очень серьез-
ной критики многие из представлений, усвоенных археологией, в част-
ности и по важнейшему для нас вопросу — периодизации палеолита.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПАЛЕОЛИТА
Историческая периодизация наиболее ранних эпох первобытного со-
стояния человеческого общества в значительной степени определяется
смыслом и значением археологических подразделений палеолита, уста-
навливаемых на основании дошедших до нас вещественных остатков чело-
веческого труда, а отчасти также и костных остатков самого палеолитиче-
ского человека.
Факты того и другого порядка отмечают развитие человеческого об-
щества — от этапа к этапу, от одной исторической ступени к следующей
более высокой ступени — в течение сотен тысячелетий палеолитической
истории. Если вещественные остатки труда дают возможность судить
о производственной деятельности первобытного общественного коллек-
тива, об уровне его потребностей и способах их удовлетворения, —
изменяющийся физический тип человека в какой-то мере отображает и
другую сторону того же исторического процесса: условия «воспроизвод-
ства» самого человека.
В последующем изложении, в главах, посвященных шеллю, мустье и
верхнему палеолиту, мы должны будем рассмотреть фактический материал,
позволяющий составить определенное представление об этом процессе.
Все решающие проблему периодизации палеолита установки мы имеем
в трудах основоположников марксизма-ленинизма. Исходя из их взгля-
дов и учитывая данные, накопленные современной наукой, можно притти
к выводам, имеющим для нас руководящее значение.
Гениальному проникновению Маркса мы обязаны разработкой диа-
лектико-материалистического метода, дающего ключ к объяснению законо-
мерности явлений, происходящих в природе и обществе. Величайшее
открытие в области исторической науки -— учение исторического материа-
лизма, в котором Маркс, по определению Ленина, «...указал путь к все-
объемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, разви-
тия и упадка общественно-экономических формаций...»,1 дает возможность
3 В. И. Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 13.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПАЛЕОЛИТА 155
понять, в частности, и условия возникновения и развития общества на
интересующих нас древнейших его ступенях.
Характернейшей особенностью первобытного, доклассового общества
является то, что оно возникает и развивается как общество «первобытно-
коммунистическое» со свойственным ему коллективным способом произ-
водства, коллективной собственностью и коллективным потреблением.
Не менее важно и то, что это общество уже с момента своего зарождения
и до эпохи своего разложения является обществом, основанным на род-
ственной связи составляющих его индивидуумов, почему его понимание
невозможно без изучения истории развития присущих этому обществу
«естественных связей» — семейных и родовых отношений.
В процессе своего становления, расцвета и последующего распада
«первобытно-коммунистическое» общество проходит ряд ступеней, ряд ти-
пических состояний. Говоря словами Маркса, «архаическая или первич- ,
ная формация земного шара состоит из целого ряда наслоений различных
периодов, из которых одни ложились на другие. Точно также архаическое
образование общества вскрывает перед нами ряд различных типов, отме-
чающих собою последовательные эпохи». 1
Своего расцвета первобытно-коммунистическое общество, как об этом
подробно писал Энгельс в «Происхождении семьи», достигает в родовом
обществе, основанном на матриархате, на господстве женщин. В последую-
щее время матриархальное родовое общество сменяется патриархальным
родовым обществом, уже выходящим за пределы интересующего нас ран-
него периода первобытной истории.
Но родовое общество (матриархальное) развивается сравнительно уже
достаточно поздно — на средней и высшей ступени дикости по определе-
нию Энгельса— Моргана. Ему должно было предшествовать более прими-
тивное состояние общественных связей, которое можно назвать «дородо-
вым» обществом. Приходится думать, что и дородовое" общество не пред-
ставляет собой вполне единую и целостную стадию: ему отвечает во вре-
мени чрезвычайно длительный процесс развития, за которым — в начале
и конце которого — можно разглядеть два разных общественных образо-
вания. Действительно, дородовой период первобытной истории, начинаю-
щийся не менее, как следует предполагать, чем за 500 тысяч лет до нашего
времени, в эпоху когда стадо очеловечившихся обезьян переходит к про-
изводству первых орудий труда, заканчивается в такой исторической
обстановке, где человеческое общество получает все признаки несравненно
более высоко организованного общественно-производственного коллек-
тива. Новая, более высокая ступень исторического развития здесь нахо-
дит свое выражение в более совершенных формах производственной дея-
тельности, в значительном улучшении средств труда, в завоевании огня
и т. д.
Как мы увидим ниже, наиболее характерной чертой различия для
начальной и поздней эпох дородового общества, по археологическим источ-
никам, является переход от вполне бродячего существования (не свя-
занного с какими-либо определенными местами обитания), свойственного
людям древнейшего палеолита, к обитанию в стойбищах, становящихся
местом повседневной жизни первобытных групп в эпоху мустье. В связи
с этим нельзя не вспомнить замечательное указание Ленина, определяю-
щее основные периоды доклассового общества как первобытное стадо
Архив Маркса и Энгельса, кн. I, 1930, стр. 281.
156
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
и первобытную коммуну. 1 В этом определении, устанавливающем два-
основные эпохи в истории первобытного общества, как мы уже отметили,
ранее, дается решение важнейшего вопроса, касающегося периодизации
первобытной истории.
Выделяя первобытное стадо, как наиболее раннюю ступень развития;
первобытного общества, мы рассматриваем последующую историю этого
общества как эпоху первобытной коммуны, которая в свою очередь имеет
определенный исторический водораздел в возникновении экзогамной ро-
довой организации — рода, основанного на материнском праве. Отсюда
мы можем говорить о трех основных ступенях первобытности: первобыт-
ном стаде, первобытной дородовой коммуне и первобытной родовой
коммуне.
В соответствии с несложностью технического вооружения, с простым
характером орудий труда, и источники существования человека на всей
палеолитической ступени остаются еще весьма простыми. «Что первобыт-
ный человек получал необходимое как свободный подарок природы, —
это глупая побасенка... Никакого золотого века позади нас не было,
и первобытный человек был совершенно подавлен трудностью существо-
вания, трудностью борьбы с природой», — указывает Ленин. 2 Основ-
ными источниками существования палеолитического человека были соби-
рательство растительной и всякой иной пищи,.а также охота, к которой
позже присоединяется рыболовство. Только к концу палеолита, судя по
некоторым находкам, сделанным на территории СССР, мы можем отно-
сить первое приручение животных (собака, может быть олень), широкое
развитие которого принадлежит уже времени варварства, и, возможно,
зачатки земледелия (в южных, жарких областях земного шара).
Как известно, еще в, своих ранних работах («Немецкая идеология»,
«К критике политической экономии» и других) основоположники мар-
ксизма особенное значение в качестве основногр вида производства (и пер-
вой формы кооперации) на начальной ступени человеческой истории при-
давали охоте и рыболовству.
В замечательном очерке «Роль труда в процессе очеловечения
обезьяны» Энгельс считает мясную пищу важнейшим условием разви-
тия человека («мясная пища явилась необходимой предпосылкой развития
человека»3) и первые орудия труда рассматривает как орудия, обеспечи-
вавшие мясное питание. С последним он связывает и усовершенствование,
имевшее огромное значение — «пользование огнем». Он справедливо ука-
зывает, что «исключительно охотничьих народов, как они описываются
в книгах, т. е. таких, которые живут только охотою, никогда не суще-
ствовало ; для этого добыча от охоты слишком ненадежна».4 Действительно,
мы знаем, что даже такие народности, как эскимосы, чукчи и другие народ-
ности севера, в жизни которых мясная пища, добываемая путем охоты
и рыболовства, играет огромную роль, не могли бы существовать без ра-
стительной пищи.
Тем не менее значение охоты проявляется уже в том, что ступени раз-
вития первобытного общества по Энгельсу в значительной мере опреде-
ляются совершенствованием охотничьего вооружения и обеспеченностью
продуктами охоты.
1 В. И. Ленин, Соч., т. XVII, стр. 85.
2 В. И. Ленин, Соч., т. IV, стр. 182.
3 Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1936, стр. 54—55.
4 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 31.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПАЛЕОЛИТА
1»
Условия существования человеческого общества на начальной, наибо-
лее примитивной ступени его развития Энгельс, еще до появления книги
Моргана, характеризует как первобытное собирательство.
Следующую ступень он видит в переходе к мясному питанию, в связи
с этим в применении огня, появлении наиболее простых жилищ и одежды,
что обеспечило человечеству «...переход от равномерно жаркого климата
первоначальной родины в более холодные страны...», 1 то есть дало воз-
можность человеку рассеяться «...по всему обитаемому миру, он един-
ственное животное, которое в состоянии было это сделать». 2
В своем «Происхождении семьи» Энгельс, характеризуя ступени
.дикости, излагает по существу те же мысли, лишь в более развернутом
виде.
Собранные современной наукой факты полностью подкрепляют разра-
ботанную основоположниками марксизма периодизацию древнейших сту-
пеней истории первобытного общества.
Перво6ытное стадо. Соответствует наиболее первобытному
состоянию человеческого общества. Детство человеческого рода. Его ха-
рактеризует собирательство и охота в ее зачаточных формах. Орудия
труда еще весьма грубы. Господство неупорядоченных половых отноше-
ний (так называемый промискуитет). На этой начальной ступени чело-
век мог жить только в условиях «равномерно жаркого климата».
Мы увидим, что такое определение целиком соответствует установлен-
ному по археологическим и антропологическим источникам дошелль-
скому и шелльскому времени.
Йервобытная дородовая коммуна. Характеризуется до-
быванием и применением огня, появлением оружия — палицы и копья,
вообще совершенствованием средств труда. Производство и потребление,
как и раньше, имеют коллективный характер. Развитие естественного
разделения труда. Растительное питание более или менее широко допол-
няется при удачной охоте мясной пищей. Огонь, простейшие жилища,
возникающие на местах стойбищ, а также одежда из шкур способствуют
расселению человечества на большей части земли. Ограничение полового
общения: групповой брак ограничивается поколениями складывающейся
кровнородственной семьи.
Археологически этой стадии отвечает отчасти ашёльское, главным же
образом мустьерское время. Физический тип человека в эту эпоху пред-
ставлен на всех материках неандертальцем, предшественником современ-
ного человека.
Первобытная родовая коммуна (материнский род).
Как историческая стадия родовая коммуна тесно связана с дальнейшим
увеличением производительности труда, совершенствованием средств
труда, естественным разделением труда и более высокой организацией
общества, складывающегося теперь уже из первичных родоплеменных
образований.
Главным источником существования на ранней ступени родовой ком-
муны остается охота и собирательство. Однако все более заметным стано-
вится и роль рыболовства. Средства существования определяются теперь
в значительной мере природной, географической обстановкой: в более
•северной, приледниковой области Европы и Азии преимущественное зна-
чение приобретает охота, тогда как на юге, например, вдоль побережий
Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1936, стр. 55.
Там же.
158
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Средиземного моря, этому времени отвечает усиление собирательства,,
переходящего позже в зачатки земледелия.
В настоящее время мы, исходя из многочисленных фактов, разработан-
ных советской наукой, можем считать установленным, что родовое обще-
ство возникает и проходит первые ступени своего развития в верхнем па-
леолите. Это доказывается появлением в верхнепалеолитическое время
более или менее оседлых поселений и связанных с ними прочных, долго-
временного типа больших жилищ; зарождением и расцветом палеолити-
ческого искусства, в котором изображение женщины сразу начинает
играть главенствующую роль; появлением в верхнем палеолите высшего
типа человека, сменяющего древний, примитивный неандертальский тип
и т. д.
Благодаря успехам советской археологии, совершенно по-новому осве-
щающим верхнепалеолитическое время как историческую эпоху, мы имеем
возможность, в свете современных данных, рассматривать верхний палео-
лит как значительно более высокую ступень исторического развития, чем
это принимается до сих пор буржуазной наукой.
Более того, изучение поселений, относящихся к поздней поре верх-
него палеолита — одинаково на европейской и азиатской территории
СССР, — показывающее изменение характера этих поселений (в мадлене
и азиле), дает нам все основания считать, что в конце верхнего палеолита
уже намечается переход от группового к парному браку, присущему вре-
мени расцвета материнской родовой организации. 1
Как известно, Энгельс указывает, что, «возникнув па средней ступени
дикости и продолжая развиваться на высшей ее ступени, род, насколько
позволяют судить об этом наши источники, достигает своего расцвета на
низшей ступени варварства». 2 Ввиду этого, при наличии всех перечис-
ленных фактов мы имеем основание относить верхний палеолит к сред-
ней и, возможно отчасти к высшей ступени дикости — ее начальной поре,
предшествующей тому, что мы называем ранним, докерамическим неоли-
том. Нельзя, конечно, считать этот вопрос полностью разрешенным.
Однако в свете данных, добытых советской наукой, мы имеем право на-
деяться притти к его окончательному разрешению.
ШЕЛЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
Следы человеческой деятельности на материке Евразии могут быть,
прослежены в очень раннюю эпоху. Если не принимать во внимание на-
ходки эолитов за их недостоверностью, можно все же утверждать, что чело-
век появляется здесь в древнейшую пору последнего геологического (чет-
вертичного) периода.
Мы мало осведомлены о его первоначальных судьбах. Однако физи-
ческий тип питекантропа, гейдельбержца и синантропа, древность которых
не вызывает сомнений, указывает на пройденный длительный путь пред-
шествующего развития от животного к человеку.
На стадии питекантропа, то есть где-то на грани третичного и четвер-
тичного времени, появляется уже существо, обладающее всеми зачатками
человеческой организации — вертикальным положением тела, руками,
предназначенными для действия, развивающимся головным мозгом, та-
1 «Парная семья возникла на рубеже между дикостью и варварством, большей
частью уже на высшей ступени дикости, в отдельных случаях только на низшей сту-
пени варварства» (Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 69).
2 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 208.
ШЕЛЛБСЕОЕ ВРЕМЯ
15»
ким, которого не имеет ни одна из обезьян. Если мы и не можем связать
питекантропа с определенными находками изделий из камня, все же оче-
видно, что он, может быть, и не умея еще расщеплять кремень, должен
был пытаться использовать этот материал или другие попадающиеся ему
обломки камня для тех или иных целей.
Начальный период палеолита отмечен появлением орудий труда, грубо
обтесанных каменных изделий, определенная форма которых уже не мо-
жет вызвать сомнений в их смысле и значении, — они, так сказать, доку-
ментируют появление общественного человека. Подобные находки широко
распространены в раннечетвертичных наносах приатлантических стран
Европы, так же как в области Средиземья, а затем и в ряде внеевропей-
ских стран. Их сопровождают
остатки теплой фауны, харак-
терной для эпохи, предшествовав-
шей максимальному оледенению.
Время, к которому относятся
эти орудия, названо было Г. де
Мортилье шелльской эпохой, по
имени небольшого городка Шелль
под Парижем, на р. Марне, где
с древними отложениями реки, из-
давна разрабатываемыми для добы-
вания песка и щебня,связано одно
из наиболее богатых и лучше изу-
ченных местонахождений рубил,
сопровождающихся типичной фау-
Находки в
Шелае
ной раннего плейстоцена.
Неоднократно описывавшееся
в археологических и геологических
трудах (Мортилье, Шуке, Амегино
и др.), это место находок орудий
Рис. 29. Разрез верхней террасы р. Марны
у Шелля (Франция), показывающий разлив
шелльских отложений в мустьерскую эпоху.
1. — Покровный суглинок. 2. — Пески
мустьерской эпохи. 3. — Гравий и галеч-
ник шелльского времени. Черное пятно в
середине — валун. 1/50 н. в.
(По Мортилье)
раннепалеолитических типов пред-
ставляет небольшое «плато» (древ-
нюю террасу р. Марны), располо-
женное к востоку от г. Шелль,
которое огибается рекой, образующей здесь широкую дугу. Цоколь террасы
из третичного мергеля, несущий древнеаллювиальные пески и галечники,
расположен всего на 0,5—1 м над заболоченной нижней (современной)
террасой реки и на 4 м над уровнем самой реки (40 м над уровнем моря).
Толщина наноса, покрывающего террасу, достигает, по Мортилье, 8 м.
На приведенном разрезе (рис. 29) можно видеть в верху отложений
террасы покровный песчанистый лёсс, содержащий верхнепалеолитические
остатки. Ниже—пески и галечники с орудиями мустьерских типов, опре-
деляющими возраст этого аллювия, и типичной «холодной» фауной —
мамонтом, северным и благородным оленем, лошадью, быком и пр.
Поднявшиеся в мустьерское время воды Марны, отложившие эти на-
носы, частично размыли более древние напластования террасы, что хорошо
передает разрез, составленный Г. де Мортилье. 1
В толще нижних отложений, состоящих также из галечников и песков
(разрабатываемых здесь в качестве балласта), встречаются типичные
1 G. et A. Mortillet, La Prehistoire, 1910, стр. 557—558 и 500; также J. Bayer, Der
Mensch im Eiszeitalter, 1927, стр. 53.
ICO
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
шелльские рубила и сопровождающие их грубые кремневые отщепы вме-
сте с костями Elephas antiquus, Rhinoceros Merckii, Hippopotamus major,
Trogonlherium Cuoieri, Ursus spelaeus, лошади, очень близкой к Equus
Stenonis, Cerons capreolus, Cerons sp., Bos sp.
иереотлоясе- В последнее время некоторые авторы, 1 основываясь на данных Депере,
ние шелль- приходят к заключению, что в Шелле, как и во многих других подобных
еких остатков СдуЧаях находок шелльских рубил в отложениях нижних плейстоценовых
террас (явление, часто наблюдающееся в местонахождениях Франции
и южной Англии), имеет место переотложение этих остатков из аллювия
террас, расположенных значительно выше в отношении уровня реки.
Это объясняет остававшееся до сих пор непонятным залегание древней
«теплой» фауны раннего плейстоцена и отвечающих ей по времени шелль-
ских орудий в наносах всех трех речных террас северной Франции, к чему
нам еще придется вернуться ниже.
Отсюда делается даже вывод о нетиппчности Шелля и существует
предложение заменить самый термин «шелльская эпоха» именем другого
местонахождения, где те же орудия известны in situ, термином «аббеви-
лиен» (аббевильская эпоха). Такое предложение вряд ли может встретить
какое-либо сочувствие, поскольку название «шелльская эпоха» прочно
привилась в науке. К тому же приходится принять во внимание, что
у этих авторов, желание заменить один термин другим вызвано в зна-
чительной мере постоянным стремлением католического духовенства на-
сколько возможно умалить авторитет Г. де Мортилье.
Ручное Находки, сделанные в Шелле и других местонахождениях этого рода,
рубило мало разнообразны. По большей части они представляют собой массивные,
несколько уплощенные валуны, оббитые сколами с двух сторон таким
образом, что эти последние получают вид грубого и тяжелого орудия
более или менее миндалевидной формы с заострением на одном конце
(рис. 31—33). Такое орудие удобно захватывается рукой в определенном
положении — так, чтобы основание орудия, которое часто сохраняет
естественную корку или образует намеренно сбитую для этой цели пло-
щадку, получало упор в ладони.
Первоначально это древнейшее орудие человеческого труда, ставшее
известным по находкам, сделанным в северной Франции, получило на-
звание сент-ашёльского топора. Позже в археологической литературе оно
получило наименование ручного рубила (coup de poing — название, пред-
ложенное Мортилье). Это условное обозначение должно было подчерк-
нуть его характерную особенность — употребление орудия непосред-
ственно от руки.
В шелльских местонахождениях ручное рубило очень варьирует по
-своей форме, величине, качеству отделки, даже по материалу, из кото-
рого оно бывает изготовлено.
Однако, при этом, оно повсюду сохраняет некоторые общие, при-
сущие ему особенности.
Наиболее обычная, наиболее распространенная форма шелльского
ручного рубила — это несколько удлиненная, овальная, более или менее
миндалевидная форма. Оно всегда бывает несколько (часто значительно)
утолщено, расширено и закруглено в основании. Кверху шелльское ру-
било постепенно утончается, образуя на этом конце более или менее гру-
бое острие.
1 « Pre his to ire», t. I, jasc. II, 1932, стр. 125.
ШЕЛЛБСКОЕ БРЕМЯ
161
Верхняя и нижняя поверхности орудия бывают уплощены, тогда как
боковые края, образованные с помощью подтески, всегда остаются все же
достаточно неровными.
Наряду с этой типичной формой ручного рубила, в тех же шелльских
слоях встречаются орудия, довольно значительно от него отличающиеся.
Они бывают более округлыми или более вытянутыми, иногда с режущим,
а не заостренным концом, иг. д. В общем же эти уклонения от основной
формы примитивного рубила по большей части носят все же случайный
характер.
Неустойчивыми являются и размеры орудия. Вес его колеблется от
50—70 гр (у маленьких экземпляров) до 2 кг. Нужно заметить, что умень-
шение размеров рубила, вообще говоря, наблюдается в более позднее,
после-шелльское время, в связи с его иным производственно-техническим
применением в условиях ашёльской и мустьерской эпох.
Шелльские же рубила, как правило,- отличаются более крупными
размерами и значительным весом. Вполне обычными для шелльских
слоев являются рубила в 18—20 см и более в длину, при соответствую-
щей толщине и весе. Подобные заостренные, удобно помещавшиеся в руке
и достаточно тяжелые кремни являлись в эту эпоху достаточно эффек-
тивным орудием труда, естественно, для определенных производственных
целей.
Удерживаясь в употреблении в течение очень долгого времени, шелль-
ские рубила, хотя и медленно, все же претерпевают известные изме-
нения, так что в их типах запечатлевается некоторый прогресс техники,
имевший место в продолжение шелльской эпохи.
В раннюю пору шелльской эпохи они бывают более грубы и более
массивны, часто с небольшим количеством сколов, приостривающих
конец орудия. Позже, когда ручное рубило приобретает более опреде-
ленную форму, оно имеет очертание миндалины, то есть более острый
верхний конец и широкое круглое основание. Если вначале общий
вид ручных рубил, происходящих из шелльских отложений, в значи-
тельной степени зависит от формы самого валуна, потом они становятся
более уплощенными, так как их поверхность стесывается повторными
сколами.
Однако в течение всей шелльской эпохи они сохраняют грубую,
примитивную отделку; сильные удары, которыми они обтесывались
поочередно то с одной, то с другой стороны, давали орудию неровную
поверхность и зигзагообразно профилированный край. По этим призна-
кам шелльские рубила довольно легко отличаются от рубил следующего,
так называемого ашёльского времени (рис. 35).
Вопреки мнению некоторых ученых, основывающемуся на старых
предположениях Картальява и Гами, представляется совершенно не-
правдоподобным, чтобы это древнейшее орудие могло насаживаться на
рукоять наподобие топора австралийцев. Против этого говорит прежде
всего сама форма орудия — постоянно наблюдающееся сильное утолще-
ние в нижней половине, что, очевидно, мешало бы укреплению его в руко-
яти. Кроме того, нельзя не учитывать естественной последовательности
в развитии и усложнении человеческой техники, которая в условиях
шелльской эпохи вряд ли могла бы дойти до применения такого относи-
тельно сложного усовершенствования, как рукоять. Иначе пришлось бы
ожидать встретить у шелльского человека, едва на-чинавшего накапли-
вать некоторый технический опыт, такие относительно сложные куль-
турные навыки, как умение изготовлять ремни из шкур животных или
11 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
162
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Сопрово-
ждающий
инвентарь
Вопрос о так
называемых
до-шелльских
орудиях
шнуры из растительных волокон для укрепления своих орудий, что ни-
как не вяжется с общим уровнем его развития. 1
Где было возможно, ручные рубила всегда изготовлялись из кремня,
но при отсутствии кремня его заменяли кварцит, плотный песчаник и
другие породы.
Не так давно господствовало убеждение, опиравшееся главным обра-
зом на авторитет Мортилье, что ручное рубило является единственным
изделием из камня, которым пользовался человек в раннюю пору палео-
лита. Однако уже Амегино и Шукэ 2 в начале 80-х годов указывали, что
в том же Шелле, в древних наносах Марны, ручные рубила постоянно
сопровождают грубые кремневые пластины, правда довольно случайных
очертаний, но которые, однако, трудно было бы объяснить как отброс,
получившийся при выделке крупных орудий, как это думал Мортилье.
После исследований Коммона в северной Франции, в богатых место-
нахождениях шелльской эпохи на р. Сомме, можно считать установлен-
ным, что первичное орудие постоянно сопровождается подобными пласти-
нами. Отчасти, конечно, они должны были получаться при обтесывании
ручного рубила, поэтому на них первоначально не было обращено доста-
точного внимания, но они часто
бывают более крупных размеров
и, очевидно, намеренно отще-
плялись человеком от куска
кремня или кремневого жел-
вака.
Этого рода отщепы очень
грубы и никогда не имеют вида
законченных орудий, так как
наблюдающаяся на них под-
правка острого края пластины
чаще всего оказывается «псевдо-
ретушью», получившейся тем же
естественным путем, как она по-
лучалась на эолитах, хотя на
все пр..знаки намеренного скалы-
Рис. 30. Грубые орудия из отщепов со стоянки
шелльского времени РеФаим близ Иерусалима.
Кремень. 1/3 н. в.
(Сборы автора)
этих отщепах всегда можно отыскать
вания.
Собственно уже на основании общих соображений в подобных грубых
сколах можно видеть простейший режущий инструмент, потребность
в котором у первобытного человека должна была возникнуть очень рано.
Весьма вероятно, что откалывание таких пластин и навело его затем на
мысль использовать остающийся заостренный кремневый валун в ка-
честве ударного орудия, значительно более целесообразного, чем просто
поднятый кусок кремня.
Что режущий инструмент, простой бесформенный откол от кремневого
желвака, представляет очень древнее орудие, едва ли не первое орудие
человека, намеренно изготовленное им из камня,—показывают интерес-
ные наблюдения того же Коммона в отложениях Соммы в окрестностях
Амьена. Ему удалось доказать, что на второй террасе Соммы в некоторых
местах массивные кремневые отщепы, несомненно отделенные рукой чело-
1 Укрепленное на деревянной рукояти шелльское рубило С точки зрения исто-
рической перспективы представляло бы явление .тем более невозможное, что в этом
виде оно, очевидно, должно было играть роль настоящего топора, боевого чекана и
т. п. Мы внаем, насколько поздно появляются этого рода орудия.
2 J. Dechelette, Manuel d’archeologie prehistorique..., v. I, 1908, стр. 66.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ШЕЛЛЬСВОЙ эпохи
163
века, залегают в древнейших отложениях, как он полагает, ниже гори-
зонтов, содержащих типичные шелльские рубила. Иногда вместе сними
встречаются первые предшественники рубил в виде валунов с очень не-
большим количеством сколов на конце. В других местах эти же слои
содержат характерную фауну древнего плейстоцена — древнего и южного
слона, гиппопотама, этрусского носорога и носорога Мерка, махайрода,
лошадь Стенона и др. Эти находки были названы им до-шелльскпми. 1
Первоначально наблюдения Коммона в отношении условий зале-
гания подобных орудий и аналогичные находки кремневых отщепов
в несомненно очень ранних отложениях речных террас Франции, Бельгии
и южной Англии, без сопровождения ручных рубил, заставили предпо-
лагать, что в начале использования кремня для производственных целей
имел место долгий период, представлявший собой особую эпоху — до
появления ручного рубила. Чаще всего ее обозначают как стрепийскую
стадию (Strepien), пользуясь термином Рюто.
Однако в настоящее время, вопреки мнению Менгина, 2 если осно-
вываться на новом фактическом материале, этот взгляд должен быть
пересмотрен. Особенное значение с этой точки зрения представляют
для нас находки в южной Англии, недавно весьма обстоятельно описан-
ные А. Б РЕЙЛ ЕМ.
Опубликованные им данные позволяют притти к заключению, что
в местонахождениях южной Англии, обычно считающихся типичными для
находок стрепийских (Соллас) или клэктонских (Брейль) отщепов, как
Reading, Swanscombe и др., эти орудия или сопровождаются ручными
рубилами шелльского типа, или чаще даже залегают в слоях более позд-
них. На этом нам придется остановиться подробнее в следующей главе
(стр. 212), где мы рассмотрим также соответствующие находки из других
мест западной Европы. Здесь же заметим, что более тщательное изуче-
ние условий залегания так называемых до-шелльских орудий дает основа-
ние думать, что хотя кремневый отщеп несомненно играет гораздо боль-
шую роль на самых начальных ступенях палеолитической культуры,
чем это думал Г. де Мортилье, однако ручные рубила в их первичных
формах, видимо, появляются уже в эту раннюю эпоху.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ШЕЛЛЬСКОИ ЭПОХИ
Возвратимся теперь к вопросу, что представляла собой в это время
среда, окружавшая человека. Отчасти мы уже говорили об этом в пред-
шествующей главе. В эпоху, к которой относятся первые обработанные
кремни из древних наносов Франции, южной Англии и Бельгии, мир жи-
вотных еще не утратил характера, который он имел в конце третичного
времени. Этот факт устанавливает близкую аналогию по крайней мере
древнейших шелльских находок с тем, что известно относительно усло-
вий жизни питекантропа и гейдельбержца.
В слоях наноса в Чжоу-Коу-Тяне под Бейпином мы видим также до-
вольно древнюю фауну, но здесь она носит более смешанный характер
и тяготеет, если принять во внимание местные условия, скорее уже к сред-
нему плейстоцену.
1 V. Comment, Les industries de Vancien Saint-Acheul, «L'Anthropologies, XIX,1908,
стр. 527; F Comment, Chronologic et stratigraphie des industries protohistoriques, neo-
lithiques et paleolilhiques ect., «Congres intern, d’anthrop. et d’archeol. prehistor.s, XIV
session,Geneve, 1912, t. I, стр. 239;H. Obermaier, Pra-Chelleen, «Realleiikon der Vorgesch s,
Bd. X, 1927—1928.
2 0. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit, 1931, стр. 93.
164
Фауна
Остатки бе-
гемота
Флора
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Очевидно, время, к которому должны быть отнесены шелльские ос-
татки, не может быть слишком удаленным от стадии становления чело-
века, которую мы называем стадией питекантропа.
В древних террасах Сены, Марны, Соммы, Темзы вместе с этими ору-
диями встречаются кости южного слона, древнего слона, носорогов этрус-
ского и Мерка, махайрода, лошади Стенопа и других рано вымерших
форм, которые в этих частях Европы исчезают ко времени распростра-
нения первого значительного оледенения северной и средней Европы.
Еще Мортилье отметил важность находок вместе с орудиями шелль-
ской эпохи костей бегемота, который является теплолюбивым животным
и избегает водоемов с недостаточно высокой температурой. Вместе с тем
это животное ведет оседлый образ жизни. Последнее делает понятным
ограниченную область находок остатков гиппопотама в Европе. Оче-
видно, он в меньшей степени, чем другие крупные млекопитающие, мог
приспособиться к надвигающемуся охлаждению, которое принесло с со-
бой начало ледниковой эпохи. Его остатки чрезвычайно многочисленны
на побережье Средиземного моря, на Апеннинском полуострове и на
островах Сицилии, Мальте, где в четвертичное время выработалась даже
особая карликовая порода гиппопотамов. Затем он встречается во Фран-
ции, отчасти Бельгии, южной Англии, но Рейн составляет северную гра-
ницу, за которую в четвертичную эпоху он не переходит (см. карту рас-
пространения этого животного в Европе, рис. 12). Отдельные очень ред-
кие находки остатков Hippopotamus major известны в южной Германии
лишь для наиболее ранней поры плейстоцена — переходной от третич-
ного времени.
Следует заметить, что Рейн является границей распространения и
ручных рубил шелльских типов, которые в большом числе известны в се-
верной Франции и в южной Англии и совершенно отсутствуют в Герма-
нии и в более восточных областях Европы. Вряд ли такое совпадение
случайно; оно представляет интересный штрих, рисующий природные
условия, в которых проходило существование шелльцев.
Мы видели в предшествующей главе, что остатки растительности
вполне подтверждают эту картину. Леса северной Франции (туфы Селль-
су-Морэ) из смоковницы, Канарского лавра, самшита, иудина дерева,
вечнозеленого дуба и многих других пород указывают на мягкий климат,
сходный с климатом Средиземья, но более влажный и более равномер-
ный. К этому списку можно было бы прибавить грецкий орех, дикую
черешню, виноград и другие плодоносные породы деревьев и кустарников,
которые должны были снабжать шелльского человека в периоды созревания
обильными запасами пищи. Сходная растительность известна в отложе-
ниях этой эпохи в центральной и южной Франции. На основании подоб-
ных остатков изучавший ее известный ботаник Сапорта полагает, что
температура шелльской эпохи не должна была опускаться в этой части
Европы и в холодное время года ниже + 8° Ц.
Однако в растительности, покрывавшей берега Норфолька в Англии,
затем ряда местонахождений Германии и более высоко расположенной
Швейцарии в это время начинает уже чувствоваться надвигающееся по-
холодание, которое вело к смене лесов средиземноморского типа холод-
ными лесами, свойственными в настоящее время северным областям на-
шего полушария.
Что касается южных стран, в частности Африки, где ручные рубила
древнего облика встречены уже во многих местах,— здесь история плейсто-
ценовой фауны не настолько еще известна, чтобы, основываясь на ней,
УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ШЕЛЛЬСКИХ ОРУДИЙ 165
можно было сказать что-либо определенное об условиях природной среды
в шелльское время. Обычно шелльские остатки здесь относят к раннему
плювиальному периоду.
По мнению Ликея (Lhaket), занимавшегося изучением палеолитических
местонахогкдений в британской восточной Африке, главным образом в Ке-
нии, в шелльское время в этих широтах еще переживают представители
типичной плиоценовой фауны, например гиппарион. Однако это утвер-
ждение встречает скептическое отношение со стороны других.специалистов.
УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ШЕЛЛЬСКИХ ОРУДИЙ
Ручные рубила древнейшего типа и сопровождающие их грубые кремне-
вые отщепы, от которых ведет начало все последующее развитие челове-
ческой техники, происходят по большей части из карьеров для добывания
песка, гравия и булыжника, для которых в западной Европе очень часто
используются пласты древних речных наносов, образующие террасы
вдоль береговых возвышенностей многих более крупных рек.
Впервые такие находки были сделаны в 30-х—40-х годах прошлого Буше де Перт
столетия (первая находка ручного рубила была сделана в 1832 г.
в Аббевиле) в разработках древних речных наносов на севере Франции
в долине р. Соммы. На них обратил внимание археолог Буше де
Перт, который с большой проницательностью оценил значение своего
открытия и стал систематически собирать кремневые орудия, попадаю-
щиеся в песках и гравии древних террас Соммы в окрестностях Аббевиля,
где они добывались вместе с балластом при строительных разработках.
Он наивно думал, что открытые им грубые кремневые «топоры» принад-
лежали первому населению Европы, погибшему в водах библейского
всемирного потопа вместе с древними породами животных — слонов,
носорогов, гиен и т. п. Обладая большей наблюдательностью, он дает
достаточно точное описание условий залегания кремневых орудий в
слоях древних наносов вместе с остатками исчезнувшей фауны. 1
Открытия БушЕ де Перта, пробивавшие первую серьезную брешь
в представлениях о происхождении человека, встретили крайне неодобри-
тельное отношение со стороны господствующих кругов французских
ученых, и нужно было еще пятнадцать лет упорной борьбы Буше де Перта
и его немногочисленных сторонников, чтобы сделать очевидным факт
присутствия изделий человека в геологических отложениях, уходящих
в раннюю пору четвертичного периода.2
Это стало возможным тогда, когда английские ученые Прествич, Дж.
Эванс, Ч. Лайелль, обследовав на месте карьеры Соммы и познако-
мившись с коллекциями,'•собранными Буше де Пертом, признали не-
оспоримую подлинность изделий первобытного человека, против кото-
рой и были главным образом направлены возражения противников Буше
де Перта, и несомненную древность их геологического залегания.
Время, к которому должны быть приурочены шелльские остатки, Стратигра-
лучше всего выясняется при ознакомлении с условиями находок шелль- Ф11Я речных
ских изделий. Уже труды первых исследователей во главе с Лайеллем n}J,a1”oeoB е
дают достаточное представление о характере их залегания. Позднейшие остатками
1 Boucher de Perthes, Antiquites critiques et antediluvieunes, 3 тома, 1847—1864.
- Еще в 1863 г. Энгельс в своей переписке с К. Марксом отмечает значение откры-
тий Буше де Перта (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч, т. XXIII, стр. 149).
166
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
наблюдения вносят некоторые дополнительные детали в эту картину, не
меняя существенно основных фактов.
Древние террасы Соммы, Сены, Марны, прислоненные к склонам
речных долин, являясь свидетелями постепенного углубления рекой ее
нередко очень широкой и глубокой долины, имеют в основании более или
менее мощные пласты гравиев и галечников, оставленные в эпоху наиболее
энергичной разработки рекой ее ложа. На них залегают пески — также
речного происхождения. Все это покрывает плащ глинистых наносов
и более или менее типичного лёсса, иногда с прослойками обломков по-
род, составляющих коренной берег, в виде, например, мелового щебня,
кремневой гальки и т. п., которые, очевидно, сносились с соседних возвы-
шенностей в периоды выпадения особенно сильных дождевых осадков.
Коммон, который с большой тщательностью во время своих много-
летних изысканий исследовал террасы Соммы в окрестностях Амьена —
местности, приобревшей мировую известность своими остатками древне-
палеолитической эпохи,-—устанавливает, что нижние слои террас дают
всегда одинаковую картину. В самом низу толщи древних речных на-
носов, галечников и песков встречаются орудия до-шелльского типа,
то есть, правильнее говоря, относящиеся к древнейшей поре шелльской
эпохи. Выше идут находки грубых ручных рубил типично шелльского
облика с сопровождающими их массивными кремневыми отщепами. На-
конец, в песках и глинистом наносе, покрывающем толщу древних речных
отложений, обычно попадаются более совершенные орудия тех же типов,
которые Коммон относит к позднешелльской или к раннеашёльской эпохе.
Выше их в определенной последовательности сменяются остатки средней
и поздней поры палеолита.
Правильность наблюдений Коммона, подтверждаемая всеми исследо-
вателями древнепалеолитических местонахождений северной Франции,
дает прочную базу для определения геологического возраста древнего
палеолита. Эти наблюдения решительным образом опровергают взгляды
сторонников позднего появления человека — где-то между третьим и
последним, четвертым, оледенением Европы.
Изыскания Ольт дю Мениля (Ант du Mesml) подтверждают, что в этих
отложениях представлена фауна, относящаяся к самой ранней поре четвер-
тичного периода. Руководящими формами в ней являются такие характер-
ные животные, как южный и древний слон, большой гиппопотам
и др. В вышележащих слоях, где прогресс человеческой техники
сказывается в находках лучше сделанных орудий, потомки третичных
обитателей Европы, как южный слон, махайрод, гиппопотам, исчезают
совершенно, и на смену им появляются остатки мамонта и сибирского
носорога.
Нужно думать, что чэтот процесс изменения фауны, шедший парал-
лельно с изменением климата и ландшафта Европы, должен был обни-
мать огромный промежуток времени, что дает представление о хроно-
логических масштабах, с которыми приходится подходить к истории пер-
вых человеческих обществ, появляющихся на территории Евразии.
Разрез речной долины, вырытой в коренных породах, со слоями нано-
сов, оставленных рекой в течение древней поры плейстоцена, показывает,
что галечники и гравии, содержащие находки наиболее ранних крем-
невых изде ши, обычно встречаются на разных уровнях. Мы видим эти
слои, с одной стороны, в виде ложа из галечника и вообще грубого аллю-
вия, выстилающего дно современной долины, с другой — террас по склону
долин, часто на значительной высоте над современным уровнем реки.
УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ШЕЛЛЬСКИХ ОРУДИИ
167
Поверх этих образований, связанных непосредственно с деятельностью
реки, залегают глинистые отложения иного характера. Эти последние,
по принятому в настоящее время среди геологов взгляду, следует рас-
сматривать как лёссовый нанос, отчасти измененный благодаря различ-
ным процессам перемывания и выщелачивания. В нижних слоях лёсса
(так называемый древний лёсс), обычно отделенных от верхней толщи
горизонтом погребенной почвы или зоной выщелачивания, встречаются
остатки деятельности человека среднего палеолита, то есть ашёльско-
мустьерской эпохи, тогда как верхние части разрезов террас содержат
исключительно остатки поздней поры палеолита и последующего вре-
мени — вплоть до современной эпохи.
Как мы уже видели в предшествующей главе, толще лёссовых отло-
жений отвечает уже совершенно особый мир животных, принесенный
волной холода развивающейся ледниковой эпохи.
В работах новейших французских исследователей, геологов Дннизо,
Дюбуа, Шапю, посвященных речным долинам северной Франции, мы
находим в общем ту же картину: с одной стороны, мы здесь имеем более
древние отложения верхней, средней и нижней террас с теплой фауной
начальной поры плейстоцена и, с другой, — покрывающие их наносы,
которые всегда уже дают холодную фауну среднеледникового времени
и находки ашёльско-мустьерского кремневого инвентаря.
Подводя итоги тому, что говорилось ранее в отношении геологического Общие вы-
возраста шелльской эпохи, мы можем, таким образом, установить следую- ще^и® “’’“J,,
шее; пости шелль-
1. В долинах рек западной Европы, где древние речные наносы со- екИх остат-
провождаются остатками фауны, всегда наблюдается определенная после- ков
довательность в изменении ее состава. Своими звеньями она имеет поздне-
плиоценовую фауну мастодонта (отложения водораздельных плато),
затем фауну южного слона, этрусского носорога и лошади Стенона, фауну
гиппопотама в сочетании с ранней разновидностью древнего слона и ран-
ними формами слона трогонтерия, фауну поздней разновидности древнего
слона и носорога Мерка, фауну сибирского носорога и мамонта, фауну
северного оленя и, наконец, современную лесную фауну. Остатки
южного слона, этрусского носорога, так же к "а к и
бегемота и его спутников, уже сопровождают на-
ходки шелльских и так называемых д о-ш е л л ь с к и х
орудий.
2. Шелльские изделия, как и современные им остатки теплой фауны,
пользующиеся широким распространением в юго-западном углу Европы,
никогда не встречаются на морене северного оледенения, хотя их на-
ходки известны у его окраин. Наоборот, наблюдения последнего времени
в долине Темзы и Ларка дают\материал для утверждения, что уже древ-
нейшее (миндельское) оледенение перекрыло своими
наносами места шелльских становищ.
3. Лёссовые отложения, которые охватывают обширный период вре-
мени от поры, предшествующей максимальному распространению ледни-
кового покрова в Европе, вплоть до конца ледниковой эпохи, никогда не
содержат остатков, которые шли бы глубже так- называемого поздне-
ашёльского и мустьерского времени.
Указанные соображения с достаточной определенностью фиксируют Доледппко-
время, к которому Приходится относить остатки деятельности человека выи возраст
древнепалеолитической эпохи. Принимая во внимание то, что было ска-
зано раньше, приходится самым решительным образом отвергнуть, как
168
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Виепшие
признаки
древности
рубил
необоснованные и явно тенденциозные, попытки свести всю историю палео-
литического человечества к поздней поре ледникового периода, то есть
к последней, — вюрмской, или балтийской, — ледниковой эпохе и послед-
ней межледниковой эпохе, как это делают многие западноевропейские
авторы. Искусственность и тенденциозность стремления буржуазных
ученых крайне уменьшить время появления человека и таким образом
оторвать шелльца, как первого представителя зарождающегося челове-
ческого общества, от его предшественников — гейдельбержца и питекан-
тропа — представляются совершенно очевидными, очевидными настолько,
что даже Брейль после всех колебаний оказывается вынужденным при-
знать, вслед за Мортилье, которого так не любят современные «попон-
ствующие» палеоэтнологи, глубокую древность шелльских остатков.
Такое крайнее уменьшение времени появления человека действи-
тельно совершенно не оправдывается известными нам фактами. Ну;кно
сказать, что многие из недавних сторонников подобных взглядов вы-
нуждены в настоящее время, чтобы сохранить известную логичность
построения, отходить в сторону значительного увеличения древности чело-
века. Одни из них переносят начало палеолита в более раннюю межледни-
ковую эпоху, миндель-рисскую, даже гюнц-миндельскую, 1 другие, как
Буль, разрешают затруднение еще более простым способом, передвигая
два первых оледенения Альп и предполагаемые отвечающие им оледе-
нения севера Европы в третичное время. Однако бездоказательность
большинства подобных построений представляется достаточно ясной,
поскольку они основываются обычно не на фактах, а на более или менее
априорных построениях, не имеющих опоры в прямых наблюдениях.
То, что сделано в последние годы в Англии, где имеются особенно
благоприятные условия для решения вопроса о геологическом возрасте
шелльских остатков, так как лишь в этой части Европы морены древних
оледенений непосредственно соприкасаются с местонахождениями шелль-
ских орудий, в сущности вполне подтверждает мнение старых француз-
ских исследователей. Мортилье, как известно, относил установленную
им шелльскую эпоху к очень древней—(«доледниковой» поре четвертичного
времени, и эта точка зрения, в общем, является наиболее приемлемой,
поскольку она лучше, чем что-либо иное, увязывает историю палео-
литического человека с историей ледникового периода.
Шелльские рубила, оставленные человеком на речном берегу и погре-
бенные, вероятно, в продолжение сотен тысячелетий в толщах песка и
гравия, обычно имеют и внешние признаки древности. Их поверхность
бывает покрыта толстым слоем патины, появляющейся на кремне в ре-
зультате обесцвечивания или, наоборот, благодаря окрашиванию его на-
ружной корки железистымжсолями. Часто они бывают окатаны или имеют
блестящую, как бы стекловидную поверхность, как результат долго-
временного трения в песке и гравии. Это является одним из доказательств
того, что многоводвые реки раннеледниковой эпохи, древняя Сомма, Сена.
Темза, катили в это время свои воды па много десятков метров выше
современного уровня, напоминая мощные водные артерии Нового Света —
Амазонку, Миссисипи и др.
С другой стороны, наблюдения показывают, -что шелльские остатки
нередко встречаются во вторичном залегании, будучи переотложены
1 После ознакомления с геологическими условиями, в которых встречаются шелль-
ские орудия в южной Англии, Брейль счел необходимым изменить свое прежнее мне-
ние и и последних своих, работах, как уже было сказано, относит шелль к до-миндель-
скому времени, что для Англии фактически означает доледниковое время.
НАЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО РУБИЛА 169»
при размывании древних речных террас и формировании террас более
низких уровней. Подобные кремни носят особенно ясно выраженные
следы окатанности и всякого рода повреждений.
НАЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО РУБИЛА
Что представляют собой материальные остатки шелльской эпохи, ее
кремневый инвентарь, — то есть почти единственное, что сохранилось
до наших дней от- этого отдаленного времени? Таков первый вопрос,
встающий перед нами, когда мы пытаемся вскрыть условия, в которых
происходило оформление человеческого общества на древнейшем этапе
его развития. И затем, если в кремневой технике шелльской эпохи мы
имеем примитивнейшие, начальные формы орудий труда, можем ли мы
видеть в них орудия того же производственного значения, тех же функций,
что и в последующее время, в эпоху мустье, или же, наоборот, в них сле-
дует искать отображение специфических условий эпохи становления
человека?
Этот вопрос, казалось, было бы трудно обойти, однако в работах совре-
менных буржуазных ученых мы не находим ничего существенного, что
давало бы возможность разрешения этой чрезвычайно важной проблемы.
Их гораздо больше интересует типология шелльских рубил, чем общие
вопросы исторического развития первобытного общества.
В ( бщем же взгляды на этот вопрос современной археологии мало Назначение-
ушли вперед по сравнению с тем, что было сказано еще Мортилье, видев- рубила пл
шим в ручных рубилах шелльского времени орудия достаточно широкого Мортилье-
и разнообразного применения, которое, однако, точно фиксировать не
представляется возможным.
Правда, Капитан,1 а за ним и Обермайер, следуя за д’Аси и Ольт дю По другим.
Менилем, склоняются к признанию за различными разновидностями авторам
шелльского ручного рубила различного назначения, видя в вытя-
нутых, более заостренных рубилах один тип инструмента и в более
широких, овальных и пр. — другие виды орудий. 2 Такую точку зрения
вряд ли, однако, можно считать правильной. Во всяком случае, она совер-
шенно неубедительна в отношении более ранних шелльских рубил, форма
которых достаточно случайна, определяясь в значительной степени ха-
рактером валуна, использованного для их приготовления.
Всё же наблюдения Коммона, Брейля, Рюто, Дюбалена делают не
подлежащим сомнению, что человеческая техника не начинается с ручного
рубила, как думал Мортилье. Вернее, рубило является не единственным
и далеко не универсальным орудием древнего палеолита: рядом с ним
существовали и ему, возможно, отчасти даже и предшествовали простейшие
орудия — острые кремневые сколы, полученные расщеплением валуна.
Однако, если в грубых сколах, встречающихся в шелльских и так
называемых до-шелльских отложениях, можно предполагать с большим
вероятием простейшие режущие орудия, потребность в которых могла
возникнуть, как мы уже говорили, в очень раннюю пору, еще на стадии
1 Capitan, Les divers instruments chelleens et acheuleens compris sons le terme de coup
de poing, «Bevue de I’lscole d'Anthrop. de Paris», У annee, A« 1900, стр. 376.
2 Оеермайер различает четыре типа шелльских орудий: первичный тип — мин-
далевидный и возникающие в более позднее время—овальный, дисковидный и заострен-
ный; Н. Obermaier, Die Steingerate des jranzbsischen Altpa.ldolitikums, «Mitt. d. Prdh.
Kom. d. K. Abad. d. IViss.», Bd. JI, At 1, 1908, стр. 66.
170
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
'Ударное
орудие
Способ
держания
в руке
Яе орудие
охоты
t
питекантропа, — ручное рубило не поддается такому легкому объяснению.
Какова же была его роль в чрезвычайно простой, зачаточной технике пер-
вобытного человеческого общества?
Шелльское ручное рубило (coup de poing), как говорит уже его назва-
ние, данное французскими исследователями, представляет орудие, при-
менявшееся для нанесения удара — его заостренным концом.
Для подобного назначения кремневый желвак действительно труд-
но было бы использовать более целесообразно. Это показывает не только
общая форма рубила — грубо оббитые края, неровное и массивное
заострение, затем крупные размеры и соответствующий вес, но и самый
способ держания его в руке. Шелльские рубила всегда имеют в основа-
нии, обычно несколько сбоку, так называемую пятку (talon) — гладкую
площадку, явно предназначенную для того, чтобы при сильном ударе
орудие не могло поранить руку.
В отношении способа держания шелльского рубила имеются две точки
зрения. По Мортилье 1 оно должно было браться рукой таким образом,
чтобы его основание, вернее пятка, упиралась в мякоть большого пальца.
Такой прием является единственно возможным по отношению ко многим
изученным Мортилье экземплярам рубила. Однако Коммон 2 указывает,
что имеются рубила, для которых приходится принять другой способ
держания — кистью руки таким образом, чтобы большой и указательный
пальцы приходились не на нижней и верхней поверхности, а по краю
рубила.
С своей стороны Обермайер подтверждает, что известные ему экзем-
пляры дают пли тот, или другой способ, причем они показывают значи-
тельное преобладание праворукости у людей шелльской эпохи. Он ука-
зывает также, что большие, массивные рубила держались только полной
рукой в обхват, по способу Мортилье. 3
Приходится учитывать, что ручное рубило менее всего было при-
годно для употребления в качестве охотничьего оружия, так как любая
дубина или заостренная палка были более удобны при преследовании до-
бычи или для защиты при нападении какого-нибудь сильного зверя, так
же как и любой увесистый камень, который можно было бросить в убегаю-
щее животное. Вместе с тем широкая распространенность ручных рубил
в южной и западной Европе, в Африке и на южных окраинах Азии, то
есть всюду, где в настоящее время известны следы древнего палеолита,
заставляет думать, что оно имело значение в каких-то очень важных
сторонах жизни древнего человека. В каких именно, это можно, конечно,
решать только предположительно, поскольку нам приходится иметь дело
с человеческим обществом на самых ранних этапах его становления. Во
всяком случае, объяснение роли этого орудия в жизни шелльского чело-
века приходится искать в условиях окружавшей человека среды, в его
образе жизни и прежде всего в источниках добывания пищи.
Не так давно одним из наших молодых археологов, ставившим своей
целью доказать значение охоты в шелльскую эпоху, было высказано пред-
положение, что ручное рубило могло служить охотничьим оружием, на-
пример, в виде метательного камня. Такое соображение не имеет под собой
достаточных оснований. Ручное рубило подходит для этой цели не в боль-
шей, а, конечно, в гораздо меньшей степени,'благодаря своей форме, чем
любой другой увесистый камень.
1 G. et A. de Mortillet, Musee prehistorique, 2-e ed.
- ч-Revue de I’Ecole d’ Anthrop. de Paris», XVI, 1906, стр. 236.
3 Obermaier, Die titeingerdte des franzdsischen Altpaldol., стр. 82.
НАЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО РУБИЛА
171
Естественно задать вопрос, почему же возникает ручное рубило, ка-
ким хозяйственным нуждам древнейшего человека могло оно удовлетво-
рять? Почему вообще появляется это относительно не такое уж простое
орудие в столь раннюю эпоху и почему в последующее время, в условиях
охотничьего хозяйства среднего палеолита, ашёльско-мустьерской эпохи,
Ручное ру-
било—орудие
собиратель-
ства
оно или исчезает вовсе, или изменяет свое назначение, превращаясь из
приспособления для нанесения удара в чисто рабочий — режущий, ско-
блящий и т.п. — инструмент? Мы знаем, что, как правило, определенные
типы кремневых изделий, раз возникнув, не исчезают, если они отвечают
определенным произ-
водственным функциям
и эта функция не сни-
мается последующим
развитием.1
Мы говорили, что
в процессе очеловече-
ния нашего животного
предка огромную роль
должна была играть
активизация способов
добывания пищи и свя-
занные с этим зачатки
трудовой деятельности
в виде разрывания
почвы в поисках съедоб-
ных корней и т. п.
Можно думать, что пер-
воначально для этой
цели служил первый
оказавшийся поблизо-
сти обломок ветви или
случайный острый обло-
мок камня.
Но умение раскалы-
вать валун для того,
чтобы получить крем-
невый осколок, пред-
ставляющий наиболее
Рис. 31. Типичные шелльские рубила.
(Франция)
простое орудие, которым обладал человек.
вероятно уже очень рано должно было натолкнуть его на мысль
о большем удобстве для указанной цели оббитого валуна перед случай-
ным обломком камня. Так возникает орудие, которое мы называем руч-
ным рубилом, в котором, следует полагать, первобытные орды должны
были нуждаться для выкапывания мелких животных из нор, добывания
червей и насекомых из земли пли древесных пней, выкапывания ко-
реньев и т. д. Такое орудие должно было сопровождать человека, есте-
ственно, повсюду в его повседневных поисках пищи. Этим можно объяснить
многочисленность ручных рубил в шелльских находках.
1 Чрезвычайно интересно, но пока мало понятно появление примитивного «ручного
рубила», хотя, очевидно, с каким-то иным хозяйственным назначением, в качестве
основного орудия каменной техники еще раз — в самом начале неолита, при переходе
первобытного населения Европы от полубродячего существования охотничьих орд
азнльско-тардепуазской эпохи к вновь укрепляющейся оседлости в раннекампнньен-
ское время.
172
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Ну5кно представить себе, что, расширяя свои возможности в смысле
разнообразия источников получения пищи, куда, наряду с раститель-
ной пищей, постепенно стало входить и питание мясом, начиная от
всевозможных низших животных и кончая уже, вероятно, сравни-
тельно крупными млекопитающими, первобытное человеческое стадо
должно было притти к необходимости использования заостренного ва-
луна в качестве универсального орудия своей хозяйственной деятельно-
сти. Однако, судя по некоторым этнографическим параллелям, шелльское
рубило могло иметь и иное значение.
Тасканий- Орудие, аналогичное ручному рубилу, удержалось в живом употре-
<*кое руон.ю блении еще в начале XIX века у наиболее отсталой народности земного
шара — у обитателей острова Тасмании. Этот факт, заслуживающий боль-
шого внимания, отмечают Соллас, Бальфур и другие авторы. 1
Тасманийское рубило имело вид массивного куска каменной породы,
грубо отделанного несколькими сколами таким образом, что в общем оно
получало овальную форму, заострение на одном конце и более массивное
основание, которое непосредственно захватывалось рукой. Чрезвычайная
грубость отделки тасманийского рубила зависела, вероятно, и от качества
материала, так как для его изготовления обитатели острова пользовались
плотным песчаником за отсутствием более подходящих пород.
Хотя ближе о нем известно мало, все же мы знаем, что оно отчасти
заменяло тасманийцу топор и служило, вероятно, для обрубания жердей,
из которых он изготовлял свое оружие — копье и дубину. Но у тасма-
нийцев оно сохранило особую функцию, которую можно считать, вероятно,
очень древней: им пользовались при лазании на деревья, делая зарубки
на стволе, например во время охоты за некоторыми породами животных,
живущих в дуплах деревьев.
Если считать, что шеллец не порвал с жизнью в лесу, при том спо-
собе лазанья на деревья, который Дюбуа считает вероятным для пите-
кантропа и которое, по мнению Клаача, отличает наших предков от выс-
ших обезьян, ручное рубило и в условиях шелльской эпохи могло иметь
подобное же применение, так как очевидно, что шелльский человек вполне
еще мог пользоваться деревьями в качестве, например, весьма надежного
убежища от крупных хищников раннего плейстоцена.
I
ШЕЛЛЬСКАЯ ОРДА
Вопрос о том, что должно было представлять собой первое челове-
ческое общество, является мало выясненным. Он является одним из наибо-
лее трудных для истории первобытного человечества, поскольку почти
единственное, чем мы непосредственно располагаем для суждения об об-
щественно-хозяйственных условиях этой эпохи, это дошедшие до нас
орудия из камня, хотя последние известны в значительном числе и уже
со времен Буше де Перта не могут возбудить сомнения в своей достовер-
ности.
Трудности, встающие перед попыткой реконструировать характер
общественных образований и материальную, зачаточную «культурную»
1 W. .S', Sollas, Ancient Hunters, 1924, стр. 112; Henry Balfour, The Status of the
Tasmanians among the Stone Age peoples, «Proceedings of ttie Prehistoric. Society of East
Anglian, V, 1925, стр. 1. Грубые «ручные топоры» типа, близкого к тасманийским, в
1930 г. были найдены при раскопках Tindale и В. G. 'Macgraith на острове Кенгуру
у южных берегов Австралии, недалеко от Аделаиды. Ср. «Anthroposn, Bd. XXXI,.
Н. 1-^2, 1936, стр. 12 п сл.
178
ШЕЛЛЬСКАЯ ОРДА
среду шелльскои эпохи, усугубляются и тем обстоятельством, что было бы,
очевидно, невозможно ожидать для этой стадии сколько-нибудь близких
параллелей среди самых отсталых из ныне живущих народностей земного
шара, так как при всей своей первобытности они имеют уже за собой сотни
тысяч лет предшествующего развития. Попытаемся все же наметить наибо-
лее существенные из тех черт, в которых рисуется нам эта эпоха.
В отношении шелльской эпохи как стадии развития человеческого
общества приходится выбирать между двумя совершенно различными
точками зрения. Поскольку от этого зависит то или другое понимание
всего имеющегося фактического материала — прежде чем перейти к даль-
нейшему рассмотрению последнего, нам придется остановиться на сущ-
ности расхождения в освещении пути развития первобытного общества
на его древнейших этапах.
Для Энгельса, который не раз обращался к этим вопросам, как и
для Моргана, древнейшая ступень развития человеческого общества ри-
суется как состояние перехода от животного к человеку, длившееся, оче-
видно, чрезвычайно долго, — вероятно, несравненно дольше, чем вся
последующая исторпя человечества. Такое представление о древнейшем
прошлом человеческого общества вполне понятно для диалектика-мате-
риалиста, надлежащим образом оценивающего силу биологической инер-
ции, которая в течение сотен тысячелетни должна была тяготеть над
рождающимся человеческим обществом.
«Выделившись первоначально из царства животных, — в тесном
смысле, — люди вступили в историю еще в полуживоТном состоянии:
дикие, беспомощные перед силами природы, не знакомые со своими соб-
ственными силами, они были бедны, как животные, и производили немногим
больше их». 1
Конечно, превращение животного в человека было одним из наиболее
важных известных нам в природе скачков, превращении из одного состоя-
ния, из одного качества в другое. Этот процесс было бы невозможно объ-
яснить, исходя лишь из чисто эволюционных представлений. Все же мы,
следуя за Энгельсом, должны думать, учитывая глубокие изменения,
испытанные видом обезьян, являвшимся предком человека, что этот пере-
ход занял весь первый огромный по длительности период человеческой
истории.
В противоположность буржуазным ученым, ищущим чисто внешних
факторов, обусловивших процесс очеловечения, Маркс и Энгельс рас-
сматривают становление человека как процесс имманентный, долженство-
вавший совершаться в сложном взаимодействии внешних воздействий и
внутренней закономерности.
Энгельс особенно подчеркивает значение, которое должно было иметь
в возникновении человеческих качеств обособление руки как органа
действия, играющего все возрастающую роль в поддержании существо-
вания предка человека. Увеличивающаяся активность предка человека
в деле добывания средств существования, переход от чисто растительного
к всеядному питанию, с возрастающим значением потребления мяса,
должны были явиться, следовательно, прямой предпосылкой целесо-
образного человеческого труда. Последний приходит, как указывает
Маркс, с изготовлением первых орудий из камня и дерева.
Таким образом, в течение многих и многих тысячелетий первое челове-
ческое общество находилось на низшей, примитивнейшей ступени разви-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Соч., т. XIV, стр. 181.
Представле-
ния Энгель-
са— Моргана
174
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Мортилье
Взгляды
современных
буржуазных
археологов
тия, в состоянии, которое недалеко ушло от животного, живя собиратель-
ством и мелкой охотой («1а chasse-cueillette>>, по выражению Декэмпа),
еще без знания огня, жилища, одежды, с простейшими зачаточными ору-
диями труда. Это древнейшее общество, еще находившееся целиком под
властью природы, должно было распадаться на небольшие стадные группы,
ведшие случайное, бродячее существование. Каждый отдельный член
орды настолько был слабо вооружен в борьбе с окружающей природой,
что не в состоянии был в одиночку бороться -за существование. Коллектив
ный способ добывания средств существования являлся в этих условиях
единственно возможным. Универсализм орудий первобытного челове-
ческого стада шелльской эпохи показывает, что разделение труда на этой
исторической стадии отсутствовало, а существовали лишь самые прими-
тивные зародыши простого кооперирования труда. Никаких запретов
в области семейнобрачных отношений, разумеется, не существовало.
Господствовали совершенно свободные, неупорядоченные половые отно-
шения, т. е. промискуитет.
Однако при всей незначительности культурных приобретений,
отвечающих этой ступени, ее нельзя не рассматривать как огромной
исторической важности шаг от животного к человеку, от стаи к
обществу.
Отвечает ли изложенное представление фактам, собранным наукой?
Мы должны сказать, что отвечает в полной мере.
Мортилье, основатель французской палеоэтнологической школы,
представитель старой радикальной буржуазной интеллигенции, стоял,
как и многие другие его замечательные современники, на достаточно
последовательной эволюционистской позиции, рассматривая историю
палеолитического общества как процесс преемственного и закономерного
развития. Из таких взглядов он исходит в созданной им системе эпох
палеолита. В этом построении шелльская эпоха является начальной
порой человеческой истории, эпохой первобытнейшего состояния, в ко-
тором зачаточные формы культуры естественным образом сочетаются
с чрезвычайной примитивностью самого человеческого существа — его
физической организации.
Не являясь глубокими, часто будучи даже довольно поверх-
ностными, исторические воззрения Мортилье все же отражают ма-
териалистические представления старого поколения французских архео-
логов.
Взгляды современных западноевропейских палеоэтнологов, занимаю-
щихся вопросами палеолита, свидетельствуют о совершенно других
установках. Мы видим у них, наоборот, стремление к утверждению из-
вечности форм человеческой культуры.
Так, Обермэйер наделяет шелльского человека знанием огня и начат-
ками всевозможных технических навыков. По его изображению, шелльцы
занимались массовой охотой на крупных толстокожих, вырывая для их
поимки огромные ловчьи ямы, которые они прикрывали ветвями. Так же
успешно они охотились на диких лошадей, зубров, гигантских и благо-
родных оленей, ловя их, например, арканами. Лагери этих охотничьих
племен, по словам того же автора, располагались на полянах, расчищен-
ных от кустарников, где строились хижины, как это делают и современ-
ные малокультурные народности. Здесь же находились очаги, где, оче-
видно, готовилась пища; расположенные кругом жилища костры служили
для отпугивания хищных животных. Естественно, что шелльский охот-
ник для охоты на толстокожих должен был обладать разнообразным
ШЕЛЛЬСКАЯ. ОРДА
175
оружием, по крайней мере из дерева, и набором различных инструментов
для их изготовления. 1
Зергель, которому принадлежит известная работа по вопросу об охоте
в палеолитическое время, также, не смущаясь, приписывает шелльским
ордам охоту на бегемота, древнего и южного слона, носорога Мерка
и т. д. Даже гейдельбержец, возможный современник питекантропа, по
его мнению, преследовал уже этих животных, завлекая их в ямы-ло-
вушки. 2
Л. Пфейффер, 3 давший неплохой очерк техники каменного века,
идет по этому пути еще дальше: он утверждает, что в шелльскую эпоху
существовали уже <<болыпие торговые центры» на Сомме в окрестностях
Аббевиля, где в массе изготовлялись полузаконченные ручные рубила.
Цо наряду с грубыми орудиями, которые употребляли «рабы» и вообще
«низший слой населения», по предположению Пфейффера, в эту эпоху уже
существовали и значительно лучшие изделия, которыми могли пользо-
ваться только «богатые группы шелльцев».
И подобные вещи, чудовищно искажающие историческую перспективу,
пишутся совершенно серьезно.
Такие взгляды на начальное время человеческой истории видных со-
временных представителей западноевропейской науки закономерно соче-
таются у них с теорией, видящей единственное и универсальное объясне-
ние прогресса человеческой культуры с древнейшей поры человеческой
истории в нашествиях и переселениях. Появление и распространение
шелльской «культуры» в Европе, если следовать этим авторам, открывает
собой ряд миграционных волн, которые приносили на этот континент все
новые и новые расовые типы и новые формы культуры.
С этими взглядами нам придется еще иметь дело при рассмотрении во-
проса о происхождении мустьерской, ориньякской и других так назы-
ваемых «культур» палеолитической эпохи.
Путь проникновения шелльцев в Европу в современной археологиче-
ской литературе обычно рисуется таким образом, что возникшая где-то
на востоке Средиземья, вероятно в Передней Азии, шелльская куль-
тура, с ее руководящим признаком — употреблением ручного рубила,
была разнесена переселениями по северному берегу Африки, а затем по
мостам суши, существовавшим на месте Апеннинского и Пиренейского
полуостровов, получила распространение в западной Европе.
Это представление кажется особенно странным, если принять во вни-
мание, что решительно никем не оспариваемая достоверность гейдельберг-
ской находки говорит о высокой древности заселения Европы ближай-
шими предками шелльцев. К тому же, известные нам орудия зачаточ-
ных шелльских типов из Аббевиля и других мест западной Европы отри-
цают необходимость рассматривать шелльского человека как первого
пришельца в Европу, принесшего уже ранее сложившиеся формы куль-
туры.
По мнению тех же буржуазных авторов, эта миграционная волна дол-
жна была столкнуться с другой волной колонизации, которая шла в про-
тивоположном направлении, с востока Европы, и остановила движение
шелльца на определенном рубеже, намеченном северной и восточной гра-
ницами, находок шелльских рубил. Эта вторая волна переселенцев, может
1 Obermaier, Jagd, «Beallex. d. Vorgesch.», Bd. VI, 1926.
2 Soergel, Die Jagd der Vorzeit, стр. 106.
3 Pfeiffer, Die Steinzeitliche Technik und ihre Beziehungen zur Gegenwart, Ein Bei-
trag zur Geschichte der Arbeit, Jena, 1912, стр. 44.
•
176
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
быть еще более древняя, чем первая, принесла с собой раннюю мустьер-
скую (иначе говоря, премустьерскую) культуру, характерной чертой
которой является полное отсутствие ручного рубила и употребление мел-
ких, очень грубых отщепов, сходных по своим признакам с «сопровождаю-
щим» кремневым инвентарем шелльских местонахождений.
Не считая целесообразным останавливаться на всех этих передвиже-
ниях «культур», рисуемых буржуазными авторами, за их полной недока-
занностью и исторической неправдоподобностью, отметим, что в совре-
менной буржуазной науке такого рода взгляды пользуются очень широким
распространением. Без всякой критики, вопреки элементарному научному
смыслу, принимается как нечто достоверное, например, существование
особых «теплолюбивых» групп человечества (подобных «теплой» фауне
древнечетвертичного времени), возвращавшихся в Европу в межледнико-
вые эпохи, и людей «не боявшихся холода», обитавших здесь в периоды
развития оледенения. 1
Из сказанного не следует, что мы должны отрицать возможность зна-
чительных передвижений отдельных групп человечества в те или другие
эпохи даже первобытной истории. Без этого нельзя было бы понять чрез-
вычайное расширение границ обитаемой зоны в северном полушарии,
например, в мустьерское время или в эпоху верхнего палеолита.
Дело заключается в том, что в основе миграционистских представле-
ний лежат идеи реакционной культурно-исторической школы этнологов,
которая рассматривает первобытное общество не в его стадиальном стано-
влении, а как изначально распадающееся на ряд расовых типов с при-
сущими им на протяжении всей истории «элементами» материальной и ду-
ховной культуры. В древнем палеолите, по представлениям буржуазных
миграционистов,таковыми являются шелльские«носители ручного рубила»
и премустьерские обладатели техники «сколов» и особой культуры.
Какие археологические факты используются для подобных построений
и какие действительные выводы они позволяют сделать, к этому нам еще
придется вернуться в дальнейшем.
Таубах Заметим, кстати, чтобы была ясной фактическая необоснованность
взглядов на шелльское время как на эпоху, характеризующуюся охот-
ничьим образом жизни и сравнительно высокими формами культуры,
что их сторонники опираются на очень небольшое число неправильно
освещаемых находок.
Значительную долю превратных представлений об условиях жизни
шелльского человека внесли старые находки в Таубахе в Германии (см.
стр. 215), которые совершенно ошибочно считали возможным относить
к очень ранней поре плейстоцена. Здесь действительно имеются следы кост-
рищ, сопровождающееся скоплениями костей носорога Мерка, лошади
и других животных и кремневым инвентарем—из грубых неопределенной
формы отщепов, то есть, как мы видим, остатки настоящего охотничьего
лагеря. Мы, однако, сейчас знаем вполне достоверно, что подобные орудия
в виде грубых кремневых отщепов, сопровождающиеся холодной фауной
среднеледниковой эпохи или последними представителями более древней
1 В качестве «научного аргумента» в пользу якобы свойственных тем и другим
группам человечества особых приемов обработки кремня допускается совершенно
абсурдное утверждение, что двусторонняя обтеска кремня (для изготовления ру-
бил) была более трудной в ледниковое время, так как кремень плохо колется при
низкой температуре. Подобный дикий вздор можно найти у авторов, считающихся
авторитетами в буржуазной археологии. Ко всему этому трудно было бы отно-
ситься сколько-нибудь серьезно, если бы подобные «труды>) не создавали невероят-
ной путаницы в головах западноевропейских читателей.
Низшая ступень дикости I Средняя ступень дикости
. /л i Развитие Физического ,х
Археологические подразделении Особенности техники । Т1Ша челОвека Зпохп иервобытнон истории
ЭПИ ПАЛЕОЛИТ Переход Т АРДЕНУ АЗСКОЕ ВРЕМЯ Правильно ограненные нуклеусы и пластинки (применение отжима)
Ll и и и вмени и и геологической эпохе ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ ОРИНЬЯКО- СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ Призматический нуклеус и удлиненная пластинка Обработка кости КРОМАПЬОНЕЦ И И ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЫСШЕГО ТИПА ЧЕЛОВЕКА РОДОВАЯ КОММУНА Материнский род
f Позднее (собственно мустьерское)
СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ ! МУСТЬЕРСКОЕ ВРЕМЯ Раннее (примитпвпо- мустьерское, ашёльское, клэктонское) Дисковидный нуклеус и треугольная пластина » НЕАНДЕРТАЛЕЦ 1. СИНАНТРОП ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА Кровнородственная семья
Позднее (включая ранние ашёльскпе остатки)
1 ДРЕВНИЙ ПАЛЕОЛИТ ШЕЛЛЬСКОЕ ВРЕМЯ Раннее (включая т. л. дошелльские остатки) Двусторонние обтесанные каменные орудия и грубые массивные отщепы ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЧЕЛОВЕК ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО Господство неупорядоченных половых отношений
I ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
| (на рубеже третичного и четвертичного Первое употребление ПИТЕКАНТРОП
периодов) орудий
177
ШЕЛЛЬСКАЯ ОРДА
фауны, имеют очень широкое распространение в Европе (всегда встре-
чаясь в обстановке охотничьих становищ), но ничего общего с шелльской
стадией не обнаруживают.
В частности в отношении Таубаха специалист по вопросам палео-
лита Германии Р Р Шмидт с достаточным основанием помещает инте-
ресующие нас нижние слои этой стоянки в позднеашёльское время,
к которому относятся также Эрпнгсдорф, Рабутц и другие местонахо-
ждения средней Европы. О геологическом возрасте этих местонахожде-
ний мы уже говорили раньше.
Другую подобную находку представляет открытый относительно не-
давно древнечетвертичный охотничий лагерь в Торральба в Испании, где
грубые массивные рубила были собраны также среди целого скопления
убитых рукой человека слонов, носорогов, оленей и пр. Об этой важной
находке нам придется сказать в следующей главе. Здесь же ограничимся
напоминанием, что так называемая теплая фауна, встреченная в Тор-
ральба, в области Средиземья переживает несравненно дольше, чем,
скажем, во Франции. Elephas antiquus, Rhinoceros Merckii, даже гиппо-
потам в Италии и Испании встречаются еще в мустьерское время, при-
чем носорог Мерка живет в северной Испании, в области Пиреней, вплоть
до среднеориньякского времени, то есть заходит уже. в верхний палеолит
(пещера Кастильо). Об этом говорят такие авторы, как Буль и Воф-
рей. Многочисленные факты в этом направлении сообщает и Овермайер
в своей книге «Ископаемый человек в Испании».
Сам Овермайер считает возможным относить Торральба к поздней поре
шелльской эпохи. Такую мысль он высказывает в своей книге «Fossil
man in Spain», указывая вместе с тем, что кажущаяся примитивность
каменного инвентаря Торральба, в его изделиях типа рубил, зависит от
мало пригодного для этой цели материала — известняка, из которого
изготовлено большинство орудий, 1 тогда как рубила из кварцита и хал-
цедона отличаются здесь значительно лучшей отделкой.
На ненадежность определения времени охотничьего лагеря в Тор-
ральба шелльской эпохой указывают находки таких же грубых рубил
в гроте Обсерватории, около Ментоны, которые бесспорный знаток француз-
ского палеолита Брейль без колебаний относит к ашёльскому времени.2
Сейчас приходится считать совершенно похороненной гипотезу, давно
вызывавшую сомнение и у более осторожных западноевропейских ученых,
что культурные остатки с теплой фауной нижних слоев ментонских гротов и
других пещерных стоянок Италии, вроде грота Романелли, могут предста-
влять особый тип развития шелльской культуры — без ручного рубила.
Ни у кого из серьезных авторов в настоящее время не возникает сом-
нения, что культурные отложения гротов Ментоны и соответствующие
пещерные местонахождений Апеннинского полуострова с их теплой
фауной относятся к эпохе мустье.
Отсюда мы можем сделать важный для нас вывод, что шелльские ос-
татки, как это*утверждали еще старые французские авторы, ни в одном из
известных нам случаев не сопровождаются ни кострищами, ни скопле-
ниями костей животных, то есть не встречаются в такой обстановке,
которая говорила бы об охотничьем образе жизни шелльца, имея в виду,
естественно, только крупную охоту, в особенности охоту на толстокожих —
слона, носорога, бегемота, — явно невозможную для шелльского чело-
1 У к. соч., cip. 179.
2 Le Claclonien, стр. 186.
12 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1731
Торральба
Грот Обсер-
ватории
Отсутствие
следов
стойбищ
j 78 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
века при отсутствии соответствующих орудий охоты и соответствующих
приспособлений.
Физический Грубость и простота шелльских орудий указывают на то, что древ-
облик нейший человек, едва отделившийся от антропоида, проходил тогда са-
ше.ыьца мые начальные ступени общественного развития. Это было существо,
вероятно, еще достаточно обезьяноподобное, одетое довольно густым
покровом волос, служившим ему защитой от холода, хотя, как мы видели,
температура в эту эпоху в местностях, где встречаются следы его существо-
вания; значительно не понижалась даже в зимнее время. О физическом
облике шелльского человека можно говорить только гадательно, поскольку
его остатки до сих пор не открыты. Однако близость по времени шелльских
орудий к находкам остатков гейдельбергского человека может служить
аргументом в пользу того, что шеллец по физической природе вряд ли
особенно успел далеко уйти от своего близкого предка — питекантропа.
Речь Обладал он, можно думать, лишь зачаточной речью, причем в ка-
честве средства общения и выражения мысли он пользовался, как ука-
зывают Л. Морган 1 и Н. Я. Марр, главным образом движением, мимикой,
наконец жестом. Такая «кинетическая» речь должна была вырабатываться
постепенно из необходимости согласованных действий небольших перво-
бытных орд. От нее зависела самая возможность их существования в окру-
жении сильных врагов, среди которых человек в одиночку был тогда почти
беззащитен. Было бы, однако, совершенно неправильно представлять
себе шелльского человека в виде «немого». М. Ф. Нестурху 2 удалось
собрать весьма яркий и поучительный материал, свидетельствующий, на-
сколько большое значение имеет звук для выражения той или иной,
эмоции даже у высших обезьян, ведущих стадный образ жизни.
Разнообразие издаваемых ими звуков, которые у гиббонов, по неко-
торым данным, носят даже характер ритмического' «пения», позволяет
говорить о существовании у некоторых высших обезьян условных звуко-
вых сигналов, предупреждающих о тех или иных явлениях, касающихся
жизни стада. Что такой сигнальный язык в несравненно уже более услож-
ненном, так сказать очеловеченном виде имелся и у шелльцев, — в этом,
конечно, не может быть никакого сомнения.
Runpue Довольно темным является вопрос о культурных приобретениях
об огне шелльского общества. Употребление огня, очевидно, ему еще не было
известно. По крайней мере следов огня в виде кострищ или омоложенных
костей на местах, где находятся шелльские орудия, совершенно не встре-
чается. Правда, некоторые авторы, в том числе Обермайер, наделяют
шелльского человека этим знанием, как, впрочем, и рядом других
познаний; вряд ли, однако, это имеет за собой достаточные осно-
вания. Обычно ссылается на случаи находок в шелльских слоях
кремневых орудий со следами действия огня. Мы видели, что такой же
аргумент на основании кремней Тенэ Буржуа приводил для доказательства
употребления огня предшественником человека уже в раннем миоцене.
Вероятно, шелльские люди и не испытывали особой потребности в огне,
с которым, конечно, они должны были быть знакомы, например, по лесным
пожарам, вызванным молнией.3 Теплый климат шелльского времени поз-
1 Лъюис Морган, Древнее общество, Ленинград, 1934, стр. 6.
2 М. Ф. Нестурх, Человек и его предки, Москва, 1934, стр. 215.
3 Энгельс, в своем труде «Происхождение семьи...», характеризуя ступени перво-
бытной культуры, определенно указывает, что древнейшую эпоху человеческой исто-
рии — «детство человеческого рода» — приходится мыслить как ступень, предшествую
шую применению огня.
ШЕЛЛЬСБАЯ ОРДА
17*
волял им существовать, по прибегая к защите пи в гиде одежды, ни в виде
огня или естественных прикрытий, пещер или навесов, — шелльские
остатки совершенно неизвестны в этих условиях.
Это не значит, конечно, что полезные свойства огня (свет, тепло) были не-
известны человеку по крайней мере в более позднюю эпоху шелля. Уже
тот факт, что на следующей историческо!! ступени огонь, очаг — ко-
стрище, становится неотъемлемой частью человеческой культуры, пока-
зывает, что освоение огня должно было начаться значительно раньше.
Но его роль в шелльское время не могла быть еще сколько-нибудь зна-
чительной.
Во всяком случае, нам кажутся совершенно неприемлемыми взгляды
многих буржуазных авторов, видящих в огне главную причину — ка-
кую-то мистическую силу, приведшую к очеловечению обезьяны. Для.
нас, как и для Энгельса, это лишь одно, правда одно из числа чрезвы-
чайно важных приобретений культуры, явг.вшееся значительным шагом
•вперед по пути освобождения человеческого общества от гнета природ-
ных условий.
Некоторые авторы, как Овермайер, Зёргель и др., еидят доказатель-
ство извечности огня, охоты на раннеплейстоценовых толстокожих, на-
личия соответствующего вооружения, охотнич1их лагерей и т. и. не
только у шелльца, но и у его непосредственного предка, в некоторых,
на наш взгляд совершенно сомнительных, находках вроде Крёльпа
в Тюрингия, Шппхерн в Эльзасе и т. д. 1
Это дает повод некоторым авторам совершенно произвольно выделять,
какую-то особую древнейшую алитическую (докаменную) — «деревян-
ную» культуру человека.
Другие особенное значение придают находкам в Латейнерберг (в Бо-
гемии), где кости этрусского носорога, маханрода, слона трогонтерия
со следами действия огня будто бы являются доказательством охотничьей
деятельности человека в эпоху, в которую еще не существовало офор-
мившихся каменных орудий.
Нужно думать все же, что в течение шелльской эпохи, особенно в ран-
нюю его пору, человек не был еще настоящим охотником, удовлетво-
ряясь ловлей преимущественно мелких животных, а также собиранием пло-
дов, кореньев, улиток, насекомых и т. п. Во всяком случае, его охота на
крупных животныхмоглаиметьв этуэпоху лишь более или менее случайный
характер. Кости бегемотов, слонов, носорогов и т. п., которые составляют
очень обычную находку в древних речных наносах и иногда попадаются
совместно с шелльскими ручными рубилами, никогда, насколько известно,
не имеют, например, признаков намеренного раскалывания для добы-
вания мозга, как это делал первобытный охотник во все времена.
Шелльский человек очень ояютно посещал отмели рек, где он находил
материал для своих орудий в гиде речных голышей, среди которых не-
трудно было подыскать наиболее пригодные по форме и размерам для
изготовления орудий. Берега, особенно изобиловавшие подобным мате-
риалом, посещались им часто, на что указывает значительное число
находимых здесь рубил и отщепов, хотя в эту эпоху они не образуют
больших скоплений, а бывают рассеяны в толще наносов.
Однако иногда, как в Шалосс на юге Франции и в окрестностях Сент-.
Ашёля на Сомме, некоторые находки указывают на существование как бы
Охота
Мест»
выделке
орудий
1 П. И. Ворисковский, Исторические предпосылки оформления так наг\.
«Ното sapiens», «Проблемы истории докипит, обществ», Л? 1—2, 1935, стр. 27.
180
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Примитив-
нейшая
ступень
культуры
небольших мастерских, где шелльский человек занимался обработкой
кремневого материала. Очевидно, здесь он мог находить и пищу в виде
речных ракушек и т. д. Возможно, что рыбу он еще не употреблял в пищу;
во всяком случае, относительно тасманийцев, наиболее первобытной
народности нашего времени, сохранилось любопытное свидетельство, что
они, используя в качестве продуктов питания моллюсков, морских ежей
и других обитателей моря, к рыбе питали'почти суеверное отвращение.
Мортилье указывает, что шелльские рубила всегда бывают изгото-
влены из местных пород камня; отсюда следует, что человек в эту пору
не совершал больших передвижений, придерживаясь местностей, где
природа давала то, что нужно было для его существования. Жил он,
вероятно, главным образом на более возвышенных местах, на плато, в ро-
щах, изобиловавших плодовыми деревьями, откуда периодически спу-
скался к реке, как это делают и животные. Нужно сказать, что ручные
рубила довольно часто встречаются на таких возвышенных пунктах, го-
сподствующих над речными долинами.
В отношении шелльской эпохи трудно говорить о сколько-нибудь
сложной хозяйственной деятельности, поскольку это выходило бы за пре-
делы того, что могла давать человеку окружающая природа для удовле-
творения его ближайших потребностей. Потребности же эти были настоль-
ко просты и первобытны, что они могли быть удовлетворяемы целиком
тем, что человек брал из природы непосредственно, не затрачивая уси-
лий на претворение того, в чем он испытывал необходимость.
Правда, он обладал уже существенным приобретением человеческой
культуры — орудиями труда. Значение этого факта с исторической точки
зрения нельзя преуменьшать, поскольку в изделиях шелльского времени,
в особенности в ручных рубилах с их постоянно повторяющейся харак-
терной формой, заложена уже определенная целесообразность, связанная:
с умением использования такого рода материала, как камень. В этом
-отношении роль их в первобытном человеческом обществе была, несо-
мненно, чрезвычайно велика.
Мы уже говорили о роли, которую должно было играть ручное рубило
на стадии первобытного собирательства и охоты в ее еще зачаточных
формах, на которой стояли первые едва оформившиеся человеческие
общества. Это время Энгельс и Морган определяют как низшую ступень
дикости, детство человеческого рода, предшествующее возникновению
организованной охоты, — то, что мы не можем наблюдать ни на одной из
современных культурно-отсталых народностей, давно уже вышедших
из этого состояния, но что мы должны признать для отдаленного прошлого,
если будем стоять на точке зрения происхождения человека из царства
животных.
Чтобы несколько представить себе первобытнейшее состояние челове-
ческого общества, мы можем все же в известной мере, в качестве неко-
торого приближения, воспользоваться современными наиболее отсталыми
группами человечества, поставленными благодаря неблагоприятным окру-
жающим условиям в обстановку, которая должна быть характерна для
рождающегося человечества.
Для таких народностей, как тасманийцы, австралийцы, бушмены,
некоторые племена, населяющие тропические леса южной Америки,
кубу на о. Суматре и пр., определяющей чертой их хозяйственной и куль-
турной жизни является крайняя необеспеченность существования. Боль-
шей частью они живут кочевой жизнью, проводя все свое время в непре-
станных поисках то фруктов и ягод, то корней, клубнейи побегов съе до б-
ШЕЛЛЬСЕАЯ ОРДА
181
ных растений, с удовольствием поедая все, что они могут найти, — яще-
риц, лягушек, черепах, гусениц, личинок жуков и т. п. Периоды голодовок
составляют для них обычное явление. Охота же, особенно в условиях
девственного тропического леса, дает нередко очень мало.
Все они поражают наблюдателей изощренной и изумительной лов-
костью, с которой они почти без всяких приспособлений, делая нарубки
на деревьях, как тасманийцы и австралийцы, или втыкая деревянные
колышки, как делают кубу, влезают в погоне за мелким зверьком или
с целью собирания плодов на самые высокие, совершенно гладкие деревья.
Мы видели, что шелльское ручное рубило, которое можно рассматри- Усложнение
вать как наиболее характерный, «руководящий» тип орудия этой эпохи, формы руч-
не появляется сразу в законченной форме. Древнейшие рубила предста- иого Рубила
вляют просто валун, приостренный на конце двумя-тремя сколами. В вы-
шележащих горизонтах наносов это орудие приобретает более правиль-
ную и более законченную форму.
На основании подобных наблюдений можно
наметить три стадии, которые проходит это ха-
рактерное орудие в процессе своего усложнения
в течение шелльского времени.
Первая стадия — когда ручные рубила, по-
являясь впервые в слоях очень ранних постплио-
ценовых наносов, имеют наиболее грубый, не-
законченный облик. Вторая, по имеющимся дан-
ным, характеризуется очень грубыми рубилами,
преимущественно вытянутой формы, с очень мас-
сивным основанием, сохраняющим по большей
части корку валуна, из которого оно было изгото-
влено. Третья дает лучшие и целиком обработан-
ные рубила, среди которых преобладает остро-
миндалевидный тип орудия наряду с овальным
и даже дисковидным, — хотя и в позднюю пору
шелльской эпохи они сохраняют массивность,
грубую оббивку сколами и неровные,притуплен-
ные края.
Если мы лишены возможности ближе представить изменения в усло-
виях жизни шелльского человека, которые скрываются за совершенствова-
нием форм ручного рубила, сам этот факт делает очевидным, что изменения
в условиях существования человеческого общества все же в какой-то сте-
пени имели место в течение тех огромных промежутков времени, которые
приходится предполагать для шелльской эпохи. Некоторое приблизитель-
ное представление о масштабах последних можно получить, например,
из наблюдений над нередко очень мощной толщей наносов, содержащих
остатки так называемых до-шелльской и шелльской эпох, которые от-
вечают периоду первоначального формирования многих долин больших
рек западной Европы.
Если мы правы в истолковании ручного рубила как главного орудия
добывания пищи, заменяющего, в условиях складывающегося челове-
ческого общества и зарождающейся техники обработки камня, случайный
камень или обломок ветви, которыми мог пользоваться еще предок чело-
века, очевидно, что усложнение примитивного собирательства должно
было сыграть большую роль в истории первобытного общества на этой
древнейшей его ступени. Однако не в меньшей, вероятно, степени —
и чем позже, тем все в больших размерах — растущая потребность
1S2
, ГЛАЁА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
в мясе делает и охоту, — в каких именно формах, мы пока этого не знаем,—
одним из весьма важных источников существования человека. Без этого,
вероятно, не мог бы быть завершен процесс очеловечения, который имел
место в течение древнего палеолита.
Чрсзвычай- Учитывая крайнее несовершенство вооружения и слабую организо-
пая длитель- ванность первобытного коллектива, нельзя не видеть в этом несоответ-
ской эпохи ств™ растущих потребностей и имеющихся средств их удовлетворения ха-
рактерного состояния неустойчивости, которая должна была сопровождать
человеческое общество до момента возникновения новых, более сложных
и совершенных средств охоты, появление коих отмечает следующую сту-
пень общественного развития, так называемую эпоху среднего палеолита.
Во всяком случае, необычайная продолжительность шелльского времени,
которое, по мнению большинства ученых, исчисляется сотнями тысяч
лет, говорит об исключительно низком уровне развития производительных
сил в этот древнейший период человеческой истории и о чрезвычайно мед-
ленном процессе их накопления.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШЕЛЛЬСКИХ НАХОДОК
Если мы обратимся к вопросу о распространении шелльских остатков,
то для Европы, странным образом, они известны только в определенной
и достаточно ограниченной ее западной и юго-западной области. При-
чину этого явления, очевидно, следует искать в условиях природной среды,
складывающихся в раннюю пору ледниковой эпохи, которые заставляли
шелльского человека придерживаться территории, наиболее благоприят-
ной в смысле климата, средств питания и пр.
Территория Для нас особенный интерес имеет вопрос, жил ли человек в эту эпоху
СССР в ран- на территории СССР. Приходится констатировать, что, к сожалению, ни
,,е'1 ПенеСТ°" °ДНОЙ находки этого времени ни в европейской, ни в азиатской части
СССР до сих пор неизвестно, хотя, казалось бы, более южные области
Союза представляют для этого довольно благоприятные условия. Для
Украины и Северо-Кавказского края это приходится, видймо, отчасти
объяснять особой обстановкой, сложившейся в Причерноморье в начале
плейстоцена.
Начало древнечетвертичной эпохи на территории современной УССР
отмечено значительным развитием наносов водного происхождения.
Древнейшими из этих плейстоценовых отложений являются так назы-
ваемые красно-бурые глины, которые покрывают сплошным мощным
пластом пространства Харьковской, Днепропетровской и других обла-
стей УССР. Интересно, что эти загадочные образования, залегающие
в основании четвертичных отложений, оказываются совершенно мерт-
выми, то есть не содержат остатков ни животных, ни растений.
Хотя стратиграфическое положение краснобурых глин Украины до
сих пор остается невыясненным, и мы не знаем, относятся ли они ко вре-
мени, предшествующему началу развития ледников на севере, или отчасти,
может быть, уже отвечают последнему (миндельское время), кажется до-
вольно вероятным, что эти глины образовались в условиях значительного
увлажнения (что и является причиной красного цвета породы) на об-
ширных заболоченных равнинах, подобно латериту Индии. 1
1 Ср., например, А. П. Павлов, Геологическая история европейских земель и морей,
1936, стр. 205.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШЕЛЛЬСКИХ НАХОДОК
183
Их часто перекрывают так называемые пресноводные мергели, или
пресноводные лёссовидные суглинки, несомненно озерного происхожде-
ния, образовавшиеся в многочисленных бассейнах, покрывавших в ран-
нюю пору ледникового времени обширные пространства левобережной
Украины. 1 У самого побережья Черного моря известны отложения
приблизительно той яте эпохи с многочисленными раковинами пресно-
водных и полупресноводных моллюсков, очевидно образовавшиеся
в обширных покрытых водой низинах. Только по окраинам южно-рус-
ской равнины, в области, с одной стороны, днепровско-днестровской
кристаллической гряды, с другой — в предгорьях Кавказа, в начале
плейстоцена могли существовать условия, более благоприятные для
жизни как крупных млекопитающих, так и человека.
Такая фауна слонов, носорогов и пр. сохранилась в древнеаллювиаль-
ных наносах, складывающих террасы р. Кубани, п в отложениях Днестра
в районе Тирасполя, датируемых начальным временем плейстоцена.
Рис. 33. Грубые ручные рубила шслльской стоянки РеФаим около
Иерусалима.
Кремень. */. п. в.
(Сборы автора)
Предкавказье п днестровское Прикарпатье представляют пока един-
ственные местности в восточной Европе, где встречаются остатки
животных, близких к формам, сопровождающим шелльскпе находки
западной Европы.
В эту эпоху между Днестром и Волгой тянулась равнина с слабо рас-
члененным рельефом, без резко выраженных холмов и водоразделов.
Только на месте современных речных долин едва намечались ложбины,
служившие стоком для вод надвигающегося оледенения. Равнинная, слабо
расчлененная страна была покрыта густой сетью озер и болотистых за-
падин, соединенных протоками.'•Такне стоячие и медленно текущие воды
оставили слон песков и суглинков, на более возвышенных местах пере-
ходящих в лёссовидные образования, что указывает уже на начало отло-
жения лёссов.
В верхних слоях пресноводных суглинков начинает чувствоваться
близость ледника. Они становятся более грубыми, перекрываются пе-
сками, что, очевидно, связано с растущей активностью текучих вод. В них
изредка уже встречаются валуны, которые, по мнению Н. Соколова, до-
ставлялись плавающими льдами, отрывавшимися от окраин северного
1 Там же, стр. 204.
184
Находки
в райопе
Сухуми
Франция
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
ледника. Это уже заря собственно ледниковой эпохи, вместе с которой
начинает устанавливаться более сухой и холодный, более континенталь-
ный климат, принесший с собой фауну слона трогонтерия, затем ма-
монта и сибирского носорога. В последующее время остатки последних
становятся все более многочисленными в отложениях южной полосы
восточной Европы, не захваченной надвигающимся оледенением.
В этот период огромный приток вод с севера размыл и заполнил слоями
наносов долины больших рек Украины. О количестве вод, двигавшихся
со стороны развивающегося ледника, говорит ширина, например, Дне-
провской долины, достигающей местами в эту эпоху более 40—50 кило-
метров.
Нужно думать, что указанным выше обстоятельством — широким
распространением заболоченных пространств в начале плейстоцена —
объясняется поразительная бедность всей толщи наносов юга европей-
ской территории СССР, до эпохи развития ледниковых явлений, остат-
ками млекопитающих. Очевидно, подобные природные условия были мало
благоприятны и для расселения первых человеческих обществ. Значи-
тельно более благоприятными в этом смысле ио своим природным усло-
виям являются более далекие предгорные районы юга — области Крыма,
Кавказа, также средней Азии. Весьма возможно, что организованные
поиски соответствующих остатков могут дать здесь положительные ре-
зультаты.
Находки, сделанные в 1934—1935 гг. в районе Сухуми экспедицией,
организованной Институтом антропологии, археологии и этнографии
Академии наук СССР, являются в этом смысле чрезвычайно показатель-
ными. Правда, открытые здесь, в глинистых отложениях, покрывающих
древние береговые террасы (расположенные на 30—40 м и 100 м над
уровнем моря), многочисленные кремневые орудия относятся не к столь
раннему времени, как шелльская эпоха. Однако обработанные кремни,
собранные на верхних 100-метровых террасах вдоль Черноморского
побереягья Абхазии, имеют типичный клэктонский облик и предста-
вляют собой группу памятников, относящуюся к достаточно ранней поре
плейстоцена. Находки кремневых изделий в районе Сухуми являются
одними из древнейших для восточной Европы, восходя к времени так
называемого ашёля.
Во всяком случае, эти находки могут нами рассматриваться как дока-
зательство того, что берега Черного моря были заселены человеком за-
долго до рисского времени, может быть еще в эпоху, близкую к миндель-
ской стадии оледенения Европы.
В наибольшем числе орудия шелльских типов открыты, как было уже
сказано, на территории современной Франции в наносах Соммы, Сены,
Марны, также, хотя и h меньшем числе, на юго-западе Франции. Однако
здесь, как и вообще в западной Европе, можно указать сравнительно не-
много местонахождений, где геологические условия находок обработан-
ных кремней и сопровождающая их характерная раннеплейстоценовая
фауна позволяют с полной достоверностью относить их к древнейшей
поре человеческой истории.
В этом отношении особенной и вполне заслуженной известностью
пользуется долина Соммы, преимущественно ее часть, расположенная
между Аббевилем и Амьеном, где первые ручные рубила шелльского
времени были открыты еще сто лет назад Буше де Пертом. Возле обоих
указанных пунктов при разработке балласта и при всяких иных земляных
работах в древних аллювиях Соммы собраны многие тысячи шелльских
18»
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШЕЛЛЬСКИХ НАХОДОК
кремней, разошедшихся по музеям и частным собраниям всего
мира.
Мортилье полагает, что если особенно богатые находки шелльских ору-
дий связаны преимущественно с тремя главными центрами — Аббеви-
лем, Амьеном и округом Морейль-сюр-Авр (маленький приток Соммы),
то это, видимо, должно объясняться скорее случайными обстоятель-
ствами — преимущественным наличием здесь разработок древних речных
наносов и вниманием, проявленным к этим остаткам: в Аббевиле — Буше
де Пертом и его учениками, в Амьене — Риголло и в округе Морейль —
Эрнестом д’Аси.
Может быть этим отсутствием систематических поисков можно объ-
яснить значительно меньшее, сравнительно, количество находок шелль-
ских орудий и в более южных областях Франции, хотя и Здесь, например
в Мариньяке (департамент Жиронды), известны находки шелльских ру-
бил в ясных условиях стратиграфического залегания.
Кроме Франции и Бельгии (в последней они известны в небольшом
числе), шелльские рубила встречаются также и в южной Англии, глав-
ным образом в долине Темзы — в Reading, Swanscombe и других местах, 1
где они сопровождаются обычной теплой фауной начальной поры плей-
стоцена — гиппопотамом, древним слоном, носорогом Мерка, ископае-
мым бобром [Trogontherium Cuvieri), лошадью Стенона и пр. Этот
факт свидетельствует о том, что в данное время, как впрочем, видимо, и
до конца ледникового периода, Англия составляла еще одно целое
с европейским континентом.
Орудия шелльских типов в достаточном числе известны и в место-
нахождениях южной Европы, хотя здесь находки их пока еще недоста-
точно изучены. В большом количестве они имеются в Испании, где древ-
ние террасы долины р. Мансанареса в окрестностях Мадрида дают ряд
пунктов находок шелльских рубил, напоминающих по обилию собран-
ного материала местонахождения Соммы в северной Франции. Из более
известных стоянок здесь можно назвать Сан-Изидро — местонахождение,
открытое еще в 1862 г.
Что касается Италии, то хотя здесь имеется много местонахождений,
откуда происходят орудия типа ручных рубил, — начиная от долины По
(Имола) к югу по западным и восточным склонам Апеннин до южного
конца полуострова (Веноза и Le Murge),-—однако только одно из них —
на острове Капри — достаточно изучено в смысле условий залегания
этого рода орудий. Возраст рубил, собранных на о. Капри, по всем имею-
щимся сведениям не может вызвать сомнения. Из ряда находок шелль-
ского типа, сделанных на Капри, наибольший интерес представляет место-
нахождение, открытое в 1906 г. I. Cerio при закладке фундамента здания
на высоте 150 м над уровнем моря.
Многочисленные орудия типа^ массивных рубил из кварцита, кремня,
трахита, сопровождающиеся грубыми отщепами, отчасти с подретуширов-
кой, носящей более или менее случайный характер, залегали здесь в толще
красноватой глины, подстилающей слой вулканических туфов. Судя по
тому, что толстый пласт этой глины не содержит вулканического пепла,
можно думать, что ее отложение относится еще к эпохе, предшествующей
началу вулканических явлений в районе Неаполя. В это время остров
Капри был еще, несомненно, соединен с материком. Из фауны, собранной
в том же слое, можно указать древнего слона, носорога Мерка, гиппо-
Англия
Испания
Каире
Sollas, Ancient Hunters, 1924, стр. 159.
186
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Эывншпекнп
полуостров
потама, кабана, благородного оленя, пещерного медведя и других жи-
вотных. 1
Не вполне понятно, почему палеолитические остатки шелльского и
ашёльско-мустьерского времени, представленные ручными рубилами, —
в общем чрезвычайно многочисленные в Италии, хотя и носящие здесь
по большей части случайный характер, — совершенно неизвестны на
соседнем Балканском йолуострове, тем более, что они очень нередки и на
восточном берегу Средиземного моря — в Сирии и, особенно, в Пале-
стине. Это можно объяснить, вероятно, лишь тем обстоятельством, что
южная часть Балканского полуострова, более пониженная и более при-
годная для жизни палеолитического человека в раннюю и среднюю пору
плейстоцена, какими представляются в особенности долины южной Маке-
донии, Фессалии, Аттики и Пелопоннеса, была окружена в эту эпоху
водными пространствами и высокими, трудно проходимыми горамп, пре-
Рис. 34. Ручное рубило из
Торральба (Испании).
Кварцит. 2/5 н- в-
(Но ОбермаНеру)
пятствовавшпмп се заселению челове-
ком.
Остатки шелльского времени отсут-
ствуют и в средней Европе. Мы говорили
выше, что условия, складывающиеся здесь
в раннем плейстоцене в связи с развитием
миндельского оледенения, видимо, затруд-
няли шелльскому населению возможность
проникновения в эту часть Европы, где
прогрессирующее понижение температуры
создавало мало благоприятную обстановку
для жизни первых- человеческих групп,
еще не пользовавшихся огнем, не знав-
ших одежды, жилища и пр. Очевидно,
шелльцы и не испытывали по своей мало-
численности и разбросанности на огром-
ных пространствах материков потребно-
сти заселения таких мест, которые не
являлись для них почему-либо особенно
Отсутствие
шелльских
остатков
в области
морей
привлекательными.
Некоторые ученые, как Овермайер п другие, склонные рассматривать
возникновение человеческого общества как явление позднее, имевшее
место в последнюю межледниковую эпоху, пытаются подкрепить свою
точку зрения ссылкой на находки ручных рубил на морене максималь-
ного оледенения. Их ищут или в северной Германии, пли в области аль-
пийского оледенения. Овермайер приводит, например, случай находки
ручного рубила в Вустров-Нихаген на побережье Балтийского моря в
северной Германии. Ссылаются также на находки рубил в западной ча-
сти предальпийской зойы в Шалль-де-Боан п в Конльеже. Эти находки
ручных рубил на морене максимального и даже балтийского оледенения,
однако, только по недоразумению могут быть относимы к древнему па-
леолиту. 2 Теперь достаточно известно, что ручные рубила совершенно
примитивного облика еще раз появляются в технике первобытного на-
селения Европы в эпоху гораздо более позднюю, на заре нового камен-
ного века. Они отмечены во многих пунктах средней и северной Европы
1 Vaufrey, Lc Paleolithique italien, стр. 19.
2 Bayer, Dei- Mensch ini Eiszeilaller, стр. 93 и 107; П. П. Ефименко, Некоторые
находки каменных орудий в Тверской и Новгородской губ., стр. 79.
ТАБЛИЦА IX
Бедро питекантропа п
современного челове-
ка (для сравнения).
В 1937 г. па Яве iiafi-
деп еще одни череп
питекантропа, очень
близкий к черепу, от-
крытому Дюбуа, ио
отличающийся еще
меньшим объемом
мозговой коробки
(730 с.м“). Там же со-
браны обломкп челю-
сти (напоминающей
гейдельбергскую).
Череп синантропа (в восстановленном виде) и реконструкция.
Относится к новым находкам черепов синантропа, сделанным в ноябре 1936 г.
БЕДРО ПИТЕКАНТРОПА. ЧЕРЕП СИНАНТРОПА.
188
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО
Трентон
и в большом количестве собраны на территории СССР по верхнему тече-
нию Волги под Ржевом' и Старицей. В недавнее время в Испании,
в провинции Астурии, открыт ряд таких местонахождений, доставивших
множество чрезвычайно грубых ручных рубил, которые, очевидно, были
оставлены на морском побережье некоторыми группами собирателей-
рыболовов самой ранней поры неолита с очень своеобразным и примитив-
ным укладом культуры.^
Совершенно недоказанным является и палеолитический возраст се-
вероамериканских находок, в частности рубил из наносов р. Делавар
в Трентоне, о которых много писали в свое время Вильсон и другие амери-
канские авторы. Вопреки довольно распространенному представлению
о палеолитической древности трентонских рубил, 1 мы уже давно скло-
Африка
Рис. 35. Двусторонние обтесанные ручные
рубила ашёльского типа.
1.—Иа Мадраса (Индия). Кварцит, ок. '/3 н. п;
2. — Из страны Сомали (Африка).
Роговик, ок. 1/3 и. в.
(По коллекции Британского музея)
няемся к мнению относительно
ранненеолитического, «макро-
литического» характера этих
находок, хотя имеются сторон-
ники и их эпипалеолитиче-
ского возраста.
Ручные рубила древнепалео-
литического типа известны и
вне указанных выше областей
приатлантической и средизем-
номорской территории Европы.
Они встречаются по всему се-
веру Африки до Египта вклю-
чительно, затем в стране Сома-
ли, в Кении, а также в цен-
тральной Африке.
В последнее время они были
обнаружены и во многих пунк-
тах в южной части африкан-
ского материка, особенно в ре-
зультате работ южноафрикан-
ского исследователя PEringEy’n
и его учеников.
Если в большинстве случаев
африканские находки рубил до-
вольно неопределенны по своему
геологическому возрасту, так
как они чаще всего встречаются
Азия
на поверхности почвы, .что позволяет некоторым авторам говорить о их
верхнепалеолитическом времени,-—южноафриканские рубила ранних типов
лучше освещены в смысле условий их залегания. Известно, что они часто
встречаются в геологической обстановке, довольно близкой к европейской,
например, в песках и галечниках древних террас р. Вааль, 2 и, очевидно,
относятся к какой-то достаточно ранней поре плейстоцена, хотя все же
их отношение к европейским находкам этого типа не может быть точно
установлено.
В Азии находки подобных орудий отмечены, главным образом, на
гористых побережьях Сирии и Палестины, затем в латеритовых образо-
1 Fossil man, стр. 93.
2 «А’Anthropologies, v. XL, № 3, 1930, стр. 209.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ШЕЛЛЬСКИХ НАХОДОК
18»
ваппях окрестностей Мадраса и в других местностях Индии. Насколько
.известно сейчас относительно этой последней страны, где грубые ручные
рубила из кварцита встречаются в большом числе в верхних слоях лате-
ритовых толщ, полагают, что в эпоху отложения суглинков, превра-
щенных в процессе выветривания в характерные латеритовые образова-
ния, — значительные пространства Индии представляли собой совершенно
необитаемые болотистые пустыни. Только в плювиальную эпоху, вероятно,
отвечающую раннеледниковому времени Европы, обильные дожди должны
были способствовать образованию стоков в равнинных областях Индии,
которые начинают заселяться бродячими группами шелльцев.
Питекантроп (реконструкция).
ГЛАВА
Ч Е Т В Е | Р ТАЯ.
Ч. ДАРВИН
ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
ОБЗОР ПАМЯТНИКОВ
АШЁЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
Ручное рубило нельзя считать, как мы видели, единственным орудием
шелльской эпохи. Однако это орудие приходится рассматривать как
характернейшее орудие производства в этот начальный период челове-
ческой истории. Во всяком случае, оно запечатлевает в своем грубом и
однообразном облике условия существования наших предков на прими-
тивнейшей стадии культуры, будучи неразрывно связанным с собира-
тельством в его самых первобытных формах и с образом жизни, также еще
не отошедшим делеко от того, каким приходится представлять себе суще-
ствование питекантропа.
Агаельское Перемены, которые должны были накапливаться с течением времени
рубило в росте потребностей человека, в овладении материалами, доставляемыми
природой для удовлетворения этих потребностей, проявлялись в мед-
ленном, но неуклонном совершенствовании ручного рубила в продолже-
ние шелльской эпохи.
Как ни длителен был этот процесс, так как каждое небольшое улуч-
шение в технике отделки ручного рубила должно было достигаться и за-
крепляться опытом многих поколении, к тому времени, когда наступа-
ние скандинавского ледника начинает заметно сказываться в составе
мира животных и характере растительности северной Франции, это
первичное орудие труда испытывает уже заметные изменения.
Если в более раннее время его форма в значительной степени опре-
делялась естественной формой валуна, то теперь большая тонкость от-
делки, для которой человек начинает применять мелкие стесы, как бы
остругивающие кремень, дает рубилу правильность и целесообразность.
АШЯЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
19Ь
очертаний, недостижимые для шелльских изделий. Вместе с тем, со-
храняя тот же основной тип миндалины и двустороннюю обтеску, ручные
рубила начинают все более заметно варьировать в своем внешнем виде и,
очевидно, в своем назначении.
Эти поздние рубила становятся значительно менее массивными и
более уплощенными, приобретают острые режущие края, причем среди них
встречаются экземпляры то овальных очертаний, то удлиненные, с вытя-
нутым и как бы кинжаловидным острием, то треугольной формы млн
почти круглые — так называемые дисковидные рубила и т. п. Как и в
шелльское время, в эту эпоху рубило продолжает, однако, первона-
чально оставаться единственным орудием вполне законченного типа, хотя
и сопровождается всегда значительным количеством грубых пластин и
отщепов более или менее случайного характера, число которых в стоян-
ках этого времени заметно увеличивается по сравнению с предшествую-
щим периодом. Этот «сопровождающий» инвентарь в стоянках более
ранней ашёльской поры в настоящее время называется часто клэктон-
ским — клэктонской «ин-
дустрией».
Время, отвечающее в
истории палеолитической
культуры этой ступени,
названо по имени одного
из наиболее известных ме-
стонахождений подобных
орудий, Сент-Ашёля, пред-
местья г. Амьена в север-
ной Франции, сент-
ашёльской, или про-
сто ашёльской эпо-
Рис. 36. Схематический разрез речной долины.
1. — Коренные породы. 2, 4. — Галечники и пески.
переходящие в глинистый нанос. 5, 6. — Лёсс.
7, 8. — Позднейший аллювий.
(По Кайеру)
хой.
Первоначально этим
именем Г. де Мортилье на-
звал свою древнейшую
эпоху, для которой он
позже предложил назва-
ние шелля, имея в виду, что Сент-Ашёль дает одновременно рубила
и более ранних, п позднейших типов.
В четвертичных наносах Соммы, прислоненных к меловому плато-
Сент-Ашёля, которые во многих местах разрабатываются для добывания
балласта еще со времени Буше де Перта, наблюдается отчетливая после-
довательность напластований, дающая возможность, как мы уже отме-
тили ранее, проследить ход изменений, претерпеваемых каменным палео-
литическим инвентарем в период, следовавший за шеллем.
В древних гравиях и песках, оставленных Соммой в .эпоху ее бур-
ной деятельности и залегающих в основании толщи древних террас,
встречаются исключительно орудия шелльских типов. Но уже в верх-
них горизонтах песков появляются орудия, которые мы охарактеризо-
вали выше. Ручные рубила поздпего типа продолжают встречаться и
в покрывающих пески слоистых суглинках, испытывая дальнейшие из-
менения и в смысле уменьшения размеров, и в отношении большей тон-
кости отделки. Выше их залегают горизонты, содержащие типичный
мустьерскнй инвентарь; еще.выше идет лёсс с культурными остатками.
верхнепалеолртического возраста.
192 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
(ореходный
характер
ашёльской
эпохи
Сам Г. де Мортилье, характеризуя ашёльскую эпоху, подчеркивает
ее промежуточный, переходный характер.1 Однако он считал возможным
рассматривать ее как некоторую стадию в культурном развитии палео-
литического человечества, занимающую хронологически и типологически
определенное место между теплой эпохой шелля с его грубыми ручными
рубилами и холодной эпохой мустье с ее совершенно иной техникой об-
работки кремня и иными условиями существования, когда выступающие
на первый план охота и обитание в пещерах рисуют новую жизненную
обстановку первобытного общества.
МортильЬ выделял ашёль, руководствуясь фактами, какие были в его
распоряжении; в его построении, основанном на учете прогрессивного
развития первобытной техники, ашёльская эпоха характеризуется дли-
тельным переживанием ручного рубила, не остающегося, однако, в преж-
нем состоянии, но приобретающего
новые свойства — в смысле вели-
чины, веса, пропорций и тонко-
сти отделки. Вместе с тем, как
указывает тот же автор, в эту
эпоху входит в употребление ряд
новых орудий, изготовленных дру-
гими приемами, с такими призна-
ками, которые затем получают до-
минирующее значение в технике
среднего палеолита. Если оставить
в стороне самый факт изменения
техники в течение ашёльского
времени, совершенно правильно
отмеченный Мортилье, нельзя
Рис. 37. Разрез древней террасы р. Марны
у Шелля (Франция). Вертикальное переме-
щение шелльских слоев.
1.—Покровный суглинок. 2.— Пески му-
стьерской эпохи. 3. — Гравий и галечник
шелльского времени. 1/50 н. в.
(По Мортллье;
сказать, чтобы взгляды этого ав-
тора на ашёльское время предста-
вляли для нас значительную исто-
рическую ценность. Как исследо-
ватель с очень узким историческим
кругозором, Мортилье не подни-
мается до действительного понима-
ния процессов, имевших место в
среде первобытного общества на древнейших этапах.
Однако современные западноевропейские археологи в своей ревизии
эволюционистских построений Мортилье уходят далеко назад по сравне-
нию с главой старой французской археологической школы. Удерживая
ашёльскую эпоху как время, когда в технике продолжают господствовать
ручные рубила более "совершенного типа, они рассматривают это явле-
ние совершенно без всякой увязки его с темп процессами, которые
должны были совершаться внутри человеческого общества,— как будто
развитие техники шло по своим собственным путям и вырастало лишь
из изобретательских способностей первобытного человека. Археологи
новейшей школы, считающие даже взгляды Мортилье слишком ради-
кальными для себя, предпочитают видеть в ашёльской стадии те же
столкновения различных «культур» (в данном случае «культуры рубила»
и «культуры пластинки»), которыми они пытаются объяснить историческое
движение человечества на протяжении всей палеолитической ступени.
i La Prehistoire, Стр. 232.
AJIlEtBCKOE ВРЕМЯ
193
Несомненно, что ашёльское время, судя по находкам, сделанным
в Европе, представляет собой некоторый новый этап в развитии палео-
литического человечества. Однако ряд новых, опубликованных в послед-
ние годы материалов, создает необходимость в значительной степени пере-
смотреть то, что выдвигалось в защиту ашёльской эпохи как самостоя-
тельной фазы палеолита.
Остановимся прежде всего на условиях природной среды, склады-
вающихся в эту эпоху. Основным фактом, освещающим обстановку,
создающуюся для человеческого существования во время, следующее
за шеллем, является исчезновение таких характерных животных, как
бегемот, южный слон, махайрод.
Только древний слон и носорог Мерка продолжают еще встречаться
в наносах ашёльского времени, хотя и они идут к вымиранию, заменяясь
формами, успевшими приспособиться к новым условиям, — мамонтом и
шерстистым носорогом. При этом еще раз напомним, что в более южных
областях Европы эти древние породы толстокожих еще очень долго
находили для себя вполне благоприятную природную обстановку: там
остатки их составляют обычное явление в палеолитических местона-
хождениях не только среднего, но и начала верхнего палеолита.
Наконец, наступающий ледник окончательно вытесняет последних
представителей ранней плейстоценовой фауны из пределов средней Ев-
ропы к побережьям Средиземного моря. От окраин ледника до Пиренеи
п Альп и на всем пространстве восточной Европы расселяются такие виды
животных, как мамонт, сибирский носорог, пещерные хищники, лоси,
различные виды оленей, диких быков, лошадей и другие представители
типичных млекопитающих среднеледникового времени. Лиственные леса,
.господствовавшие еще в раннеашёльскую пору, как показывают находки
остатков растительности в известняковых туфах Селль-Су-Морэ (Фран-
ция), затем сменяются на значительных пространствах Европы хвойными
лесами с участками степи, где начинает откладываться приносимая холод-
ными северными ветрами из областей оледенения моренная пыль, даю-
щая начало образованию лёссов.
Все эти разительные перемены испытал человек во время так назы-
ваемой ашёльской эпохи.
Но представлению Мортилье, переходный характер ашёльской сту-
пени обозначает, что она является тем звеном, которое должно было
связать контрасты и в условиях природы, и в жизни человеческого
общества, с одной стороны, доледникового, с другой — ледникового вре-
мени.
Приходится, однако, учитывать, что если в раннюю пору ашёлн, в со-
ответствии с характером природной среды, условия существования чело-
века могли пе испытывать заветных изменений по сравнению с шелль-
ской эпохой — во всяком случае, его орудия сохраняют в основном преж-
ний характер н продолжают встречаться в тех же приблизительно усло-
виях, рассеянными в толще наносов, — позже обстановка радикально
меняется. Мы увидим ниже, что типичные ашёльские стоянки предста-
вляют собой настоящие лагери охотников за крупными травоядными и
даже хищниками, вроде пещерного медведя. На места охотничьих стой-
бищ в результате удачных охот сносилась масса добычи, причем человек
обычно, где это было возможно, стремился защитить свои обиталища от
неблагоприятных внешних условий. Начиная по крайней мере с средне-
ашёльского времени, оп использует для этой цели естественные пещеры и
убежища под нависающими скалами, где жизнь первобытных охотничьих
13 II. II. Ефименко. Первобытное общество — 1731
Природная
среда
Новые усло-
вия суще-
ствовании
194
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Формальный
признак
ашёлыкон
«тупспк
Ашёльекое
время —
новый исто-
рический
этан
групп протекала вокруг мест, где горели костры, где происходила вы-
делка орудий из камня, приготовление пищи и т. д.
Что же объединяет, по господствующим в современной буржуазной
археологии представлениям, эти столь различающиеся менаду собой мо-
менты в истории первобытного человечества — шелльское и ашёльское
время, покрывающиеся обычно одним общим понятием древнего палео-
лита?
Собственно, единственное обстоятельство — употребление двусторонне
обтесанных орудий. Действительно, такие орудия в виде рубил удержи-
ваются от эпохи шелля до конца ашёльского времени, встречаясь не-
редко и в стоянках с инвентарем мустьерского типа. Но уже по
крайней мере с середины ашёльской поры эти орудия только по
внешним, формальным, признакам могут быть названы ручными ру-
билами. Их часто также называют для этого времени «бифасами» (дву-
сторонниками) — по их отделке крупными сколами с той и с другой
стороны. Назначение этих орудий с течением времени существенно из-
меняется. Очевидно, имевшие место глубокие сдвиги в условиях суще-
ствования человеческого общества благодаря консерватизму первобытной
техники не сразу сказываются на способах обработки кремня. Раз усвоен-
ные приемы держатся чрезвычайно упорно, хотя «рубило» позднеашёль-
ского времени по своим производственным функциям часто не имеет реши-
тельно ничего общего с ручным ударником шелля и раннего ашёля. Это
маленькие инструменты, чрезвычайно тонко отделанные, с очень острым
концом и хорошо сработанным режущим краем. Значительный толчок
в их усовершенствовании дает применение для их изготовления не ва-
луна, как в прежнее время, а кремневого скола.
Такие орудьица, целые мастерские которых известны в местонахо-
ждениях позднеашёльского времени, только совершенно условно можно,
назвать «ручными рубилами», поскольку этим подчеркивается их преем-
ственная связь с настоящими рубилами древнего палеолита. Совершенно
очевидно, что громадное большинство их не служило, да и не могло по
своей хрупкости и очень небольшой величине служить для нанесения удара.
Это были орудия самого различного употребления (что сказывалось и
в разнообразии их облика), удерживавшиеся техникой первобытных охот-
ников, пока они не вытесняются более простыми по способу изготовления,
но вместе с тем и более целесообразными орудиями сколотой техники,
характерными для более поздней поры среднего палеолита. Последние
имели большое преимущество хотя бы уже потому, что требовали не-
сравненно меньше труда для своего приготовления, почему они легко могли
заменяться по мере использования.
Уже многообразие видов рубилец позднеашёльской поры и появление
наряду с ними значительно более устойчивых и более законченных видов
орудий на отщепах, чем это дают слои с находками, относящимися
к раннему ашёльскому времени, указывает на усложнение материальной
базы первобытного общества. Одновременно это свидетельствует о за-
рождении новых потребностей, удовлетворение которых должно было
итти уже в эту эпоху по пути возникновения различных видов хозяй-
ственной деятельности внутри ранних первобытнокоммунистических обще-
ственных образований.
За отсутствием хорошо исследованных памятников, которые можно
было бы относить, с одной стороны, к раннему ашёлю, с другой — к шелль-
скому времени, мы лишены возможности ближе судить об изменениях,
претерпеваемых человеческим обществом на рубеже той и другой архец-
АШЁЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
195
логической эпохи. Очень возможно, что раннеашёльское время, как исто-
рическая стадия, является собственно еще естественным продолжением
шелльской эпохи, за грубым обликом каменной техники которой должен
был несомненно скрываться рост человеческого коллектива в различных
его проявлениях. Нужно иметь в виду к тому же, что по крайней
мере уже к концу древнего палеолита должно было в большей сте-
пени увеличиться значение охоты как источника средств существования,
с чем, неизбежно, были связаны и улучшение вооружения, и охотничья
техника вообще, и освоение огня, и укрепление ряда чисто человеческих
навыков и потребностей.
Отсюда понятно, что в более позднюю пору ашёля все эти приобре-
тения человеческой культуры складываются в картину огромного, с точки
зрения масштабов примитивного состояния человеческого общества, исто-
рического сдвига, корни которого мы попытаемся проанализировать ниже.
Насколько мы можем понять относящиеся сюда факты, между начальной
и более поздней порой того, что обычно именуется ашёльской эпохой,
видимо, действительно приходится время, когда массовая охота на та-
ких животных, как слоны, носороги, пещерные медведи и другие, за-
селение пещер, изменение приемов обработки кремня и т. д. указывают
на переход первобытного населения Европы из одной исторической эпохи
в другую.
Давно уже известны некоторые стоянки типа Таубаха и Эрингсдорфа Стоянки
близ Веймара, в долине р. Ильма (Германия), где иногда удерживаются, бсз «рубил»
наряду с холодной фауной, последние представители более древней фауны
в виде древнего слона и носорога Мерка, — факт, указывающий на отно-
сительно ранний возраст этих местонахождений. В этом отношении Тау-
бах имеет особенный интерес как местонахождение, многократно иссле-
довавшееся и давшее значительное количество находок. Кремневый инвен-
тарь Таубаха совершенно не содержит ручных рубил, то есть орудий дву-
сторонне обтесанных форм. Он напоминает скорее мустьерский инвентарь
более поздних стоянок палеолита, однако без сложившихся, опреде-
ленных типов орудий, — будучи представлен примитивными сколами
с грубой подправкой рабочего края, и то наблюдающейся далеко не
всегда. Вместе с тем эти чрезвычайно первобытные кремневые орудия,
вряд ли далеко ушедшие по простоте технических приемов от того, что
дают изделия синантропа в пещере Чжоу-Коу-Тянь, сопровождают остатки
настоящих охотничьих становищ с очагами и значительными скоплени-
ями костей животных.
Вообще, судя по германским и по бельгийским находкам, в этой
части Европы в ашёльских местонахождениях ручные рубила, как пра-
вило, почему-то отсутствуют. Подобное явление отмечено, однако, и для
некоторых стоянок ашёльского времени в Англии, во Франции и т. д.
Такие места поселений известны в настоящее время в довольно большом
числе. Их обычно теперь называют премустьерскими по сходству их ка-
менного инвентаря, состоящего из примитивных отщепов, с инвентарем и
техническими приемами эпохи мустье; в иных случаях они носят также
название клэктонских местонахождений, стоянок с пластинами типа
леваллуа и пр. В своем месте нам еще придется вернуться к их рас-
смотрению.
Некоторые авторы (Дешелетт, Обермайер, Бёркитт и др.) склоняются
иногда к тому, чтобы считать эти памятники первобытной истории очень
древними, одновременными с шелльскими стоянками Франции. В действи-
тельности, однако, нет оснований сомневаться, что они относятся к той
*
196
Два тина
ипвеитвря
(овершс11-
ствованне
техники
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
переломной лоре ашёля, когда в известной степени, вероятно, в связи
с прогрессирующим похолоданием, человек вынужден был перейти от
собирательства, как главного источника существования, it охотничьему
хозяйству, со всеми вытекающими отсюда следствиями в отношении
техники и материальной культуры вообще. Поздний (после-шелльский)
возраст клэктонских стоянок достаточно хорошо показан и последней
обстоятельной работе Брейля, специально посвященной этим вопросам.
Интересно, что этот переломный момент не одинаково сказался в ка-
менной технике различных групп первобытного населения Европы, одни
из коих сумели приспособить своп старые производственные навыки в
вкусы к новым потребностям, удержав и видоизменив ручное рубило,
тогда как другие его отбросили очень рано и перешли к совершенство-
ванию приема изготовления орудий из отщепов, которыми, как мы помним,
в той или другой степени пользовался и человек шелльского и ранне-
ашёльского времени.
Мы можем (-казать иначе, что так называемые типичные ашёльские
стоянки с ручными рубилами в действительности являются памятниками,
отвечающими характерным особенностям первобытного общества на его
второй стадии, т. е. их приходится относить уже к эпохе среднего палео-
лита.
Можно сказать больше: тщательное изучение многих известных место-
нахождений среднего палеолита во Франции, производившееся в послед-
ние годы, показало, что ашёльские стоянки в действительности не пред-
ставляют явления, обособленного во времени. Действительно, мы увидим,
что в пещерных местонахождениях с хорошо выраженными напласто-
ваниями эпохи среднего палеолита, как, например, в нижнем гроте Мустье,
слои с инвентарем мустьерского и ашёльского характера, с ручными
рубилами и без рубил, часто чередуются, указывая тем самым на одно-
временное существование в этой части Европы двух различных приемов
приготовления орудий — «ашёльского» и «мустьерского».
Совершенно ту же картину можно видеть в отложениях р. Соммы, где,
судя по последним исследованиям Брейля и Л. Козловского, 1 лишь
подтверждающим данные Коммона и более ранние сведения д’Аси, наблю-
дается постоянное чередование горизонтов с ручными рубилами поздних
типов и кремневого инвентаря иного характера с преобладанием орудий,
изготовленных на сколах.
В главе, третьей нами были изложены те довольно скудные сведения,
которыми мы можем располагать в отношении первых проявлений исто-
рического, уже внеживотного существования человека. Мы видели, что
древний палеолит заканчивается заметным совершенствованием техники.
Если в это время наиболее характерным ее элементом продолжает оста-
ваться ручное рубило, уже в начале ашёля оно приобретает новые черты,
неизвестные в шелльскую эпоху.
Вместе с тем, если так называемый сопровождающий инвентарь ранне-
анлёльской эпохи, становящийся основой прогрессивного развития перво-
бытной техники на следующих этапах, не имеет здесь еще того характера
законченности, который он получает в последующий период (в поселениях
мустьерского времени), и представлен в известных нам раннеашёльских
находках более или менее грубыми, пеоформпвшимпся опцепамн, — эти
отщепы все же начинают появляться в верхних слоях аллювиальных
1 Hreuil et Kosloashi, Etudes de stratigraphic paleolithique dans le nord de la
France, la Belgique et TAngleterre, «1А Anthropologies, 1931 --1934.
АШЁЛЪСКОЕ ВРЕМЯ
197
наносов древних террас северной Франции в заметно большем числе. Та-
ким образом, от так называемых до-шелльских (т. е. раннешелльских)
н шелльских слоев, до слоев, содержащих хорошо выделанные ангель-
ские ручные рубила, имеет место несомненный и, видимо, значительный
прогресс техники первобытного общества и его культуры.
К с,ошалению, детали его остаются еще мало выясненными. Объясня-
ется это главным образом тем обстоятельством, что известные нам древне-
палеолитические остатки представляют по большей части более или ме-
нее случайные находки, сделанные в карьерах при добывании песка и
гравия. Только в немногих случаях систематический контроль над этими
выработками дает возможность увязать подобные находки с определен-
ными горизонтами древних наносов и составить известное представление
об изменениях, происходивших в условиях существования человече-
ского общества на его наиболее ранних ступенях. Наблюдения, много
лет производившиеся Коммоном в северной Франции, в карьерах р.
Соммы, позволили установить в этом отношении ряд весьма ценных
фактов.
Изменение кремневого инвентаря, которое удается проследить для
шелльского и ашёльского времени, 1 сопровождающееся изменением ха-
рактера самих мест обитания, свидетельствует, нужно думать, о том,
что и условия хозяйственной жизни, то есть добывание средств существо-
вания, не оставались одними и теми же в течение этого долгого периода
времени, исчисляемого сотнями тысяч лет.
Постепенное ухудшение условий природной среды, многочисленные
признаки которого наблюдаются в остатках органической жизни, встре-
чающихся в слоях, содержащих орудия ашёльского типа, должно было
в первую очередь сказываться на изменении характера растительности,
на большей трудности для человека находить источники питания за счет
плодов, кореньев и т. и., что должно было в тем большей степени вызывать
перенесение центра тяжести в области питания на охоту за более крупной
добычей.
Такую картину представляет обстановка человеческого существова-
ния, которую мы можем восстановить в эпоху, следующую за шеллем, по
крайней мере на значительных пространствах соединенного материка
Евразии.
Только возрастающее значение охоты делает понятным то, что осо-
бенно рельефно выступает в истории человека в среднеледниковое время,
то есть рост общественных связей, первое оформление настоящих орд
охотников (в соответствии с весьма низким физическим и интеллек-
туальным их уровнем, еще в высокой степени первобытных), со всем не-
сложным аппаратом их материальной и духовной культуры. В первую
очередь, конечно, имея в виду, то, что нам ближе всего известно, — из-
делия из кремня, обнаруживающие черты дальнейшего совершенствова-
ния, хотя и на другом пути, чем тот, по которому шло развитие техники
в предшествующую эпоху.
^Обычно по указанному выше чисто внешнему признаку--наличию двусторонне
оббитых орудий — к древнему палеолиту относят одинаково шелльское и ангель-
ское время. Еще более распространено в современной буржуазной археологии
включение в представление о древнем палеолите всего огромного периода первобыт-
ной истории человечества от самой его начальной ступени до эпохи верхнего палеолита,
связанной с расцветом техники, возникновением искусства и пр.
Мы склонны относить к древнему палеолиту, рассматриваемому нами как опре-
деленная историческая стадия, только памятники шелльского и, может быть, ран-
него ангельского времени.
198
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ХАРАКТЕР НАНОСОВ СРЕД НЕ ЛЕДНИ-
КОВОГО ВРЕМЕНИ
Новые условия существования, в которых складывались культурные
черты этой эпохи, получают свое отображение в геологической обстановке
находок остатков среднепалеолитического времени, весьма отличной от
той^в которой встречаются орудия древнего палеолита.
Геологичс- Переход от древнего к среднему палеолиту нередко связывается с
еиий возрвст изменением природных условий, вызванным наступлением последней,
среднего четвертой по пенковской схеме, ледниковой эпохи, сменившей последнее
палеолита теплое межледниковое время. Мы уже выяснили априорность и бездока-
зательность подобных взглядов, основывающихся в значительной мере
на ошибочных заключениях, сделанных в свое время М. Булем. Вместе с
Мортилье, Пенком, Брейлем, Байером, Вигерсом и др. мы можем принять,
что позднеашёльское и мустьерское время совпадает, конечно более или
менее приблизительно, со среднеледниковой эпохой, то есть временем,
отчасти предшествующим, отчасти совпадающим с развитием максималь-
ного оледенения Европы (риссом).
В результате новейших исследований становится все более ясным, как
это прекрасно показал в частности Байер, что так называемому рисскому,
или эаальскому, оледенению Германии отвечает то, что мы называем
собственно мустьерской эпохой, то есть с ним связаны остатки поселений
с характерным кремневым инвентарем и холодной фауной. Последние
никогда, как указывает Байер, не встречаются в Германии на морене
максимального оледенения.
Этот факт приходится понять таким образом, что памятники, относя-
щиеся к позднему ашёльскому и мустьерскому времени, частью являются
одновременными с максимальным оледенением Европы, частью же от-
носятся к более ранней — миндель-рисской эпохе.
Начало этой исторической ступени, которое соответствует тому, что
условно мы можем назвать клэктон — премустье, уходит в гораздо более
раннее время плейстоцена. Рабутц, Таубах, Эрингсдорф и другие место-
нахождения средней Европы с атипическим инвентарем раннего мустье
несомненно принадлежат, как мы видели, миндель-рисскому времени.
Отсюда следует, что собственно ранний ашё^ь, возможно, восходит еще
к первому — миндельскому, или эльстерскому, оледенению Европы. Это
было время обильных осадков, которые вместе с потоками, вытекавшими
из-под ледника, энергично размывали наносы, оставленные реками в шелль-
скую эпоху и заполнившие их долины на значительную высоту мощными
слоями галечников и песков. z
Такую картину мож'Но наблюдать, например, в разработках балласта
в Шелле под Парижем, в долине Марны (рис. 37). То же наблюдается
в окрестностях Аббевиля на Сомме, как ив самом Париже, в долине Сены,
где древние галечники и гравии с орудиями шелльских типов, лежащие
в основании речных террас, бывают размыты и затем перекрыты слоистыми
песками мустьерского времени.
Мортилье приводит ряд интересных указаний на то, что между отло-
жениями шелльской и мустьерской эпох должен был протечь очень
значительный период времени. Так, например, толща шелльских пластов
нередко носит следы образования складок, сбросов и трещин, которые,
очевидно, происходили в результате значительных перемещений, вызван-
ных поднятием долин.
ПРИРОДНАЯ СРЕДА СРЕДНЕЛЕДНИНОВОГО ВРЕМЕНИ
199
Подобные явления в северной Франции наблюдаются исключительно
в древнейших — шелльских аллювиальных наносах и мустьерских слоев
не затрагивают.
Период особенно усиленной активности рек, совпадающий с ранней
порой среднеледникового времени, затем сменяется временем более спо-
койной деятельности, когда речные потоки начинают отлагать песча-
ные наносы, в которых иногда содержатся орудия человека и холодная
фауна во главе с мамонтом и сибирским носорогом.
Наглядное представление об изменениях, которые испытали долины
рек и берег моря в эту эпоху в северной Франции, дает схема (рис. 38),
составленная Вайзон де Праденом.
На ней изображено положение береговой линии, во-первых, в эпоху
•существования стоянок ашёльского времени в Гавре, 1 затопленных в на-
стоящее время морем, и, во-вторых, во время максимума углубления дна
долины Соммы, которое, судя по находимым здесь и в аналогичных
отложениях Ламанша
остаткам фауны, отно-
сится к ранней поре
мустьерской эпохи.
Третий момент дает
изученная Вайзон де
Праденом береговая сто-
янка позднемустьерско-
го времени Мон-Доль, 2
которая была оставлена
человеком вследствие
начавшегося опускания
суши и надвигания
моря, и, наконец, со-
временный уровень оке-
ана.
Эта схема, с одной
стороны, рисует усло-
вия, в которых про-
исходило образование
речных долин в среднеледниковое время, с другой, — она является
интересной иллюстрацией для геологических масштабов, которые не-
обходимо учитывать для понимания истории палеолитического чело-
вечества.
Колебании
береговой
ЛИНИН
Шелль Дшельское
время
го
Современный \
|0 уровень моря
10 «етр.
Мустьсрское
древнее
время
позднее
Верхний
палеолит
Максимальный
уровень
поднятия моря
Стоянка Моп-Доль
Стоянка
па иляже
v Гопра
Максимальное углубление долиии
Соммы"р
Рис. 38. Колебания уровня моря в плейстоцене в северо-
западной Франции.
Максимальному понижению уровня моря отвечает
гравий с остатками мамонта отмелей Ламанша (время
перехода холодной фауны в Англию).
(Схема Вайзон де Црадена;
Из нее явствует, что в долине Соммы море в раннечетвертичное время,
очевидно, не раз проникало далеко в глубь страны, почти до Аббевиля. По-
следний факт был установлен в свое время еще Чарльзом Лайеллем.
Свидетелем этого наступания'моря являются дельтовые (речно-морские)
образования, перекрывающие более древние речные наносы с шелль-
скими орудиями и теплой фауной.
В этих напластованиях из грубого гравия и слоистых песков, отло-
жившихся при впадении древней Соммы в морской залив и залегающих
1 Кроме известной стоянки в самом! Гавре, открытой Роменом (G. RomAin)
с ашёльскими рубилами и пластинами типа леваллуа, здесь позже найдена большая
мастерская, равным образом под уровнем моря, с инвентарем отщепов клэктонских
типов (Breuil, «Prehistoire», t. I, fasc. II, 1932, стр. 179).
a Vayson de Pradenne, La station paleolilhique du Mont-Doi, «L’Anthropologies,
Ml—3, 1929, стр. 1.
200
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Кодак
Бердыж'
иа высоте от 5—10 до 14 .о выше современного уровня моря, встречаются
остатки мамонта и сибирского носорога совместно с морскими и речными
моллюсками.
Этому периоду наступания моря, отвечающему, видимо, концу ледни-
ковой эпохи и, возможно, связанному с таянием основного ледникового
массива, в северной Франции должно было предшествовать время, когда
море стояло значительно ниже и когда в раннюю рисскую пору между
материком Европы и Англией существовало сообщение, позволившее ледни-
ковой фауне, в частности мамонту и сибирскому носорогу, распростра-
Деркул
Рис. 39. Разрез береговой террасы р. Де.ркуд па месте
.мустьерской стоппки (Донбасс).
Е —верхний горизонт аллювиальных песков. D —слой
галечника с мустьерскими орудиями. С — нижний
горизонт аллювиальных песков. В мергель.
А — мел.
(С,оставлен автором,
ниться на территорию
острова.
Затопленный позд-
нее морем мост суши
до сих пор прослежи-
вается в виде полосы
отмелей и островков Ла-
манша, сохранивших
многочисленные остат-
ки названной фауны.
Сходную геологиче-
скую обстановку для на-
ходок мустьерской эпо-
хи мы видим и на дру-
гом конце Европы. Ука-
жем, например, на сто-
янку нар. Деркул1 при
впадении его в Донец,
открытую автором в
1924 г., где мы имеем
картину, очень близ-
кую к той, которую да-
ют французские место-
нахождения. В берего-
вом обрыве древней тер-
расы, разминаемой Деркулом, орудия мустьерских типов залегают на
размытой поверхности древшгх речных наносов — грубых песков, содер-
жащих окатанную гальку и в свою очередь перекрытых песками, оста-
вленными вновь поднявшимися, но уже более спокойными водами Донца
в мустьерскую эпоху (рис. 39).
Более сложную, но не менее интересную в геологическом отношении
картину дают отмеченные ранее находки в Кодаке близ Днепропетровска,
где типичные мустьерски»- орудия обнаружены в отложениях древней
надпойменной террасы Днепра, относящейся к раннему рисскому вре-
мени (см. стр. 81).
Имеется интересное указание, что найденные в Бердыже иа Соже
орудия мустьерских типов, отличающиеся от основной массы находок
этой верхнепалеолитической стоянки признаками окатанности, воз-
можно происходят из более древних слоев, залегающих под мореной
максимального оледенения.
Следы человека среднего палеолита сравнительно редко встречаются
1 П. II. Ефименко, Находки остатков мустьерского времени на р. Деркуле, «Па-
леолит СССР», ГАИМК, 1935, стр. 13.
ПРИРОДНАЯ СРЕДА СРЕДНЕЛЕДНИНОВОГО ВРЕМЕНИ
201
в речных отложениях,—в тех случаях, когда мустьерец, по примеру
шелльца, приходил иногда на отмели во время спада воды, вероятно,
в поисках материала для кремневых изделий или подстерегая добычу.
Места его постоянных становищ находились выше по склонам долин, куда
не достигали речные разливы. Они бывают прикрыты более или менее
толстым слоем того особого вида суглинка, который носит название лёсса.
Влияние надвигающегося великого оледенения на условия природ-
ной среды, которые начинают складываться в среднеледниковую эпоху,
особенно ярко проявляется в том, что во многих местностях Европы это
было время, когда впервые стали откладываться значительные толщи
лёсса: мы знаем, что питающим резервуаром для образования лёсса
являлась главным образом деятельность северного ледника, приносив-
шего в своем движении па юг массу размельченного материала в виде
ледникового ила.
Весьма вероятно, что породы подобного состава и структуры могли
откладываться и в более раннюю пору четвертичного периода, например
в виде осадков, оставлявшихся реками во время разливов. Можно ду-
мать все же, что тогда обилие текущих вод не позволяло им накапливаться
в заметном количестве, вызывая усиление процессов размывания, что
имело результатом решительное преобладание в эту эпоху процессов
эрозии над аккумулятивной деятельностью рек. Однако на обширных
равнинах восточной Европы, Сибири, Китая, где уже в раннее время
четвертичного периода ландшафт, видимо, представлял преимущественно
открытую степь, слои так называемых красных глин или красного лёсса,
лежащие в основании древнечетвертичных наносов, как будто указывают
па начало образования лёссовидных пород задолго до середины ледни-
ковой эпохи.
Вообще говоря, типичный лёсс можно рассматривать как продукт
главным образом пустынно-степного ландшафта, который в ледниковое
время имел широкое распространение в умеренных широтах всего север-
ного полушария.
В Евразии это было время усиленного накопления отложений,
обязанных своим происхождением деятельности различных природных
агентов, что, очевидно, приходится ставить в связь с общими условиями
климата, установившегося в эту эпоху. Деятельность рек, периодически,
может быть, усиливающаяся, отражая жизнь ледника, в общем заметно
ослабевает. Реки окончательно вырабатывают свой водоток. Наносы ста-
новятся более тонкими, галька и гравий сменяются песками, затем илом.
Склоны и террасы речных долин начинают одеваться .лёссовым по-
кровом.
Таким образом, процесс лёссообразования представляет как бы об-
ратную сторону общего изменения климата, связанного с уменьшением
осадков и более континентальным режимом страны, которое идет усили-
ваясь вплоть до конца ледниковой эпохи, когда откладываются главные
массы лёсса.
До недавнего времени, под влиянием господствующих представлений
о позднем появлении человека в Европе, лёсс склонны были рассматри-
вать как образование, связанное преимущественно с послеледниковой и
отчасти межледниковой эпохой, причем считали, что слои погребенной
почвы отмечают моменты наступления оледенения в его последней фазе.
В настоящее время среди геологов преобладает, наоборот, воззре-
ние, что лёсс является прямым продуктом влияния надвигающегося
ледника.
Лёее-
•202
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Значение
ухудшения
природных
условий
Для нас важно, во всяком случае, что в западной Европе, где во всей
толще лёсса известны остатки человеческой культуры, он начинает от-
кладываться в определенную пору ледникового периода, непосредственно
предшествующую надвиганию максимального оледенения, что дает воз-
можность геологического приурочения остатков палеолитической куль-
туры. В нем известны находки уже исключительно холодной фауны, так
как теплая фауна раннего палеолита к этому времени должна была от-
ступить далеко на юг. Важно также, что в его нижних горизонтах никогда
не находят шелльских и раннеашёльских изделий. Таким образом, на-
чало образования лёсса совпадает с тем переломом в условиях существо
вания человека, который мы можем проследить в первой половине так
называемой ашёльской эпохи.
РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОХОТЫ
Развитие оледенения, — вернее, все усиливающееся влияние матери
нового оледенения северного полушария на климат и природную об
становку областей, лежащих вне зоны непосредственного охлаждения, —
явилось одной из важных причин тех изменений в хозяйственной и обще
ственной структуре первобытного общества, которое мы наблюдаем npi
переходе от древнего к среднему палеолиту.
Действительно, в условиях надвигающегося оледенения возникаю'
новые потребности — в защите тела от холода, то есть в одежде, в убе
жище, в согревающем огне. Равным образом значение мясного питанш
должно было очень усилиться в новых, неблагоприятных климатические
условиях. Понятно, что новые формы производства, новая бытовая обета
новка были бы невозможны без соответствующих орудий труда, в кото
рых эти новые запросы человеческого существования могли найти сред
ства для своего удовлетворения.
Таковыми приходится представить себе простейшее оружие — копь
и дубину, острые кремни для расчленения туши зверя и выделки шкуры
подобные же инструменты для изготовления некоторых приспособлений ]
утвари из дерева и т. д. Возникновение неизвестных ранее нужд с течение!
времени должно было привести к появлению новых форм кремневых ору
дий, новых приемов их приготовления. Правда, весь этот запас техниче
ских средств в течение всего среднего палеолита оставался бедным и весьма
несложным, но его создание все же требовало громадных творчески:
усилий целых поколений первобытного человечества.
Сложение нового общества, основой существования которого стано
вится охота в качестве главного и постоянного замятия, нельзя не рас
сматривать как весьма длительный процесс. Он должен был быть связа:
с постепенным ухудшением климатических условий, исчезновением бога
того растительного ландшафта шелльской эпохи, сменившегося в средне
ледниковое время мрачной тайгой и засушливой холодной степыр, кото
рые борются между собой р так называемую позднеашёльскую и мустьер
скую пору.
Однако было бы совершенно неправильно изображать дело таким об
разом, что надвигание ледника явилось единственной причиной, вызы
вавшей переход к этим новым формам существования первобытного об
щества, как это довольно часто приходится слышать. Конечно, в условия:
Европы ухудшение климата, принесенное оледенением, сыграло огром
ную историческую роль — ускорило, дало направление и дальнейше
203
РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОХОТЫ
развитие этому процессу, тем более, что, как мы увидим далее, продол-
жающееся ухудшение этих условий в вюрмское время создало в конце
концов для обширных пространств Евразии такого рода природную
обстановку, которую в настоящее время можно найти только у полярного
круга.
Но, повторяем, было бы ошибкой думать, что только природные усло-
вия, сложившиеся в Евразии, были причиной и началом этого процесса,
если брать его в масштабе истории всего человечества. Мы знаем, что пере-
ход от случайной охоты и добывания преимущественно растительной
пищи и мелких животных эпохи древнего палеолита к охотничьему образу
жизни среднего палеолита с его техникой, подчиненной новым источникам
получения пищи, и характерным примитивно-охотничьим укладом куль-
туры происходил закономерно и вне этих условий, в частности в южных
областях, в тропическом и субтропическом поясах Африки и Азии, где
влияние оледенения северного полушария, несомненно, не могло оказать
в этом смысле сколько-нибудь заметного воздействия на природное окру-
жение первобытных человеческих обществ.
Этот процесс, очевидно, происходил повсюду, хотя и не одинаковым
темпом — то более ускоренно, то замедляясь в зависимости от внешних
условий. В иных случаях он мог быть вызван, например, тем, что перво-
бытные группы в процессе расселения попадали в местности, относительно
бедные плодами, съедобными кореньями и пр. или, наоборот, дававшие
возможность более или менее легкой и продуктивной охоты.
Но в основном это, вероятно, был естественный процесс, предста-
влявший некоторое завершение долгой и упорной борьбы зарождающегося
человеческого общества с окружающей природой. В этом смысле охотни-
чий образ жизни — необходимый этап в процессе становления обще-
ственного человека, выросший из охоты на мелких животных, суще-
ствовавшей несомненно и в предшествующую эпоху.
Он был тесно связан с растущей потребностью человека в мясе и жиро-
вых веществах, что, как указывает Энгельс, видимо, необходимо рас-
сматривать как следствие растущей активности людей, которая должна
была прежде всего требовать усиленного питания мозга. «Мясная пища
содержит в почти готовом виде наиболее важные элементы, в которых
нуждается организм для своего обмена веществ. Мясная пища сократила
как процесс пищеварения, так и продолжительность других, соответ-
ствующих явлениям растительного царства растительных процессов в
организме и сберегла этим больше времени, элементов и энергии для ак-
тивного выявления животной, в собственном смысле слова, жизни. И чем
больше формирующийся человек удалялся от растительного царства,
тем более он возвышался также над животными..., мясная пища явилась
необходимой предпосылкой развития человека...». 1
Нет оснований предполагать, чтобы этот переход совершился всюду,
где человек успел распространиться в эту эпоху, в одно время. Наоборот,
естественнее думать, что он раньше мог произойти в областях, в той или
иной мере затронутых влиянием великого оледенения, где для человека
создавалась необходимость или приспособляться к этим условиям, или
отступить. В более благоприятных в смысле условий питания местностях
земного шара, в частности в тропических областях, переход к охоте на
крупных млекопитающих, как постоянному источнику существования, мог
наступить значительно позже. Все это остается вопросом до дальнейших
Причины
перехода
к охотничь-
ему образу
жизни
1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1936, стр. 5fi—55.
•204
Первые
охотничьи
етоибища
в Европе
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
систематически поставленных поисков остатков человеческой культуры
в четвертичных наносах Азии и Африки, которые, к сожалению, в этом
отношении очень мало исследованы.
К тому, что известно в настоящее время о внеевропейских находках
остатков человека плохи среднего палеолита, мы еще вернемся ниже.
РАННЯЯ НОРА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА
Первые проявления переломного состояния в развитии человеческого
общества, которое привело к смене стадных групп человеческих существ
шелльской эпохи охотничьими ордами среднего палеолита, мало еще
известны.
Можно предполагать, что этому моменту в наносах Франции отвечает
процесс дальнейшего совершенствования ручного рубила, умножение
его видов и разновидностей, так же как и улучшающаяся техника его из-
готовления, что наблюдается в горизонтах, относимых обычно к средней
поре ашёльской эпохи. Следует заметить все же, что в находках этого
времени, сделанных в той же Франции, по большей части отсутствуют
какие-либо указания па новые формы существования, которые были при-
несены этой ступенью культурной истории человека.
Однако в более южных областях Европы такие факты известны. В ча-
стности, упоминавшаяся уже раньше стоянка Торральба в Испании пред-
ставляет, видимо, одно из первых настоящих становищ охотников за круп-
ными толстокожими — слоном, носорогом, также лошадью, быком, оле-
нем, кости которых были в значительном числе сосредоточены на сравни-
тельно небольшом пространстве, занятом поселением древних охотников.
Эта стоянка, исследованная Церральбо в 1907 г. (она была открыта
еще в 1888 г. при прокладке железной дороги из Мадрида в Сарагосу),
замечательна в особенности многочисленными остатками слонов, целые
головы которых вместе с бивнями находимы были в слоях культурных
напластований в сопровождении многочисленных орудий из камня. Глав-
ную массу последних составляют массивные, очень грубые ручные рубила
из кремнистого известняка. Однако отдельные экземпляры рубил, сделан-
ные из кварцита и халцедона (рис. 34), отличаются правильностью форм и
хорошей оббивкой и указывают на относительно позднее время стоянки. 1
По этим признакам Обермлйер считает возможным относить охотни-
чий лагерь Торральба к поздней шелльской или ранней ашёльской
эпохе. Вместе с рубилами было встречено довольно много мелких ору-
дий в виде примитивных отщепов из того же материала.
Единственный вывод, который можно сделать из этой интересной на-
ходки, это тот, что охотничий образ жизни, совершенствование вооруже-
ния и вообще усвоение новых форм существования, наиболее наглядным
образом проявляющиеся в умении овладевать самыми крупными живот-
ными, первоначально могли не отражаться заметно на привычных типах
кремневых изделий, которые в Торральба более или менее сохраняю1!
древнепалеолитический облик.
Стоянка Торральба не единственная в этом роде в области средиземно-
морского побережья Европы. Ее подкрепляют находки, сделанные в не-
давнее время в гроте Обсерватории, близ Монако, который господствует
1 Е. Cerralbo, Torralba, la plus ancienne station humaine de I’Europe, «Congres-
intern, d'onthrop. et d’archeol. prehistor.», Session XIV, t. I, Geneve, 1913.
РАННЯЯ ПОРА. СРЕДНЕГО НАЛЕО.ШТА 205
над известными пещерами Гримальди, лежащими почти непосредственно
на берегу моря.
В гроте Обсерватории был обнаружен вместе с костями животных,
представляющих теплую фауну (в особенности носорога Мерка), грубый,
аморфный инвентарь премустьерского типа из отщепов вместе с неко-
торым количеством таких же грубых рубил из известняка, очень напо-
минающих орудия Торральба. 1 2
Значительно большая древность этих находок по сравнению даже с
нижними слоями Гримальди является бесспорным фактом.
Тем самым была окончательно разбита гипотеза, что так называемый
теплый мустье гротов Ментоны и пещерных стоянок средней и южной Ита-
лии может представлять собой тип развития шелльской культуры без
ручного рубила.
Ближайшую аналогию названным находкам мы имеем в некоторых на-
ходках, сделанных особенно за последние годы, с одной стороны, в северной
Африке, с другой — в Сирии и Палестине. Особенный интерес, в этом
смысле имеют методически поставленные раскопки Невиля 3 в пещере
Умм-Катафа к юго-востоку от Иерусалима, в долине Мертвого моря.
Эта, как известно, угрюмая, пустынная, безжизненная местность в Уям-Катафа
ледниковое время была значительно лучше орошена и давала приют
довольно богатой четвертичной фауне. В слоях пещеры или, правильнее,
обширного грота Умм-Катафа Невиль нашел много орудий вместе с ко-
стями животных, ио определению Р. Вофрея, принадлежащими носо-
рогу Мерка, лошади или зебре, оленю, близкому к благородному оленю
Евразии, антилопам, газелям, дикому быку, медведю, пятнистой гиене
в пр., по большей части расколотыми для извлечения мозга и часто
обожженными, как это наблюдается и в европейских палеолитических
стоянках, начиная со среднеледниковой поры. 3
Для нас сейчас в особенности интересны нижние слои этой пещерной
стоянки, давшие большое число весьма характерных крупных ашёль-
скнх рубил миндалевидных, овальных и удлиненных очертаний, довольно
уже тщательно отделанных, и наряду с ними, в качестве сопровождаю-
щих изделий из камня, разнообразные кремневые отщепы, грубые пла-
стины и т. п., достаточно случайные по своему характеру, но несом-
ненно полученные намеренно и служившие в качестве орудий раз-
личного назначения. Таким образом, первые настоящие охотничьи стано-
вища, если судить по облику их каменного инвентаря, появляются впер-
вые на рубеже древнего п среднего палеолита, в сравнительно раннее
время плейстоцена.
Однако в средней Европе, как было уже сказано, даже в области
Франции, исключительно богатой палеолитическими остатками всех
эпох, пещерные стоянки или» охотничьи лагери на открытом воздухе с
орудиями раннеашёльских типов до сих пор остаются неизвестными,
хотя это приходится считать скорее вопросом времени. За то, что они
могут быть здесь найдены, говорит тот факт, что в следующий отрезок
1 Вопреки высказывавшимся предположениям о шелльской характере рубил
из грота Обсерватории, Брейль склонен считать их ашёльскпмн (Ifreu.il, uPrehisioiren,
1. I, jasc. II, 1932. стр. 186).
2 Neuville, L’aeheuleen superieur de la grotle d'Ouinm-Qalafa, <iL’Anthropologies, Л? 1—
2, 1931, стр. 13.
3 В других пещерах той же области к этому списку животных в слоях с орудиями
.ашёльско-мустьсрских типов присоединяются гиппопотам, верблюд, кабан, пешер-
нып лев и др.
206
Переход
к повым
условиям
совершался
на месте
Находки ру-
бил раннего
ашёльского
типа
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
времени подобные становища сразу появляются во многих местностях
Европы.
Не вызывает сомнений вопрос, почему они возникают. Рост техниче-
ских навыков, лучшее вооружение, вместе с тем растущая сплоченность
первобытных человеческих групп и умение действовать согласованным
коллективом в условиях, когда все это чрезвычайно стимулировалось
прогрессирующим похолоданием, при наличии богатого и разнооб-
разного мира травоядных животных, — должно было сравнительно
рано сделать охоту важным источником существования. Тогда впер-
вые появляются охотничьи стойбища как места более длительного
обитания, где человек жил до тех пор, пока в окрестностях водилось
достаточно животных, служивших целью его охотничьих экспедиций, и
куда он мог периодически возвращаться в виду удобства местности, на-
личия хорошего материала для изготовления орудий и т. д. Здесь горели
его костры под прикрытием ветровых заслонов из ветвей и древесной коры
или под выступом скалы. Кости животных, расколотые и окончательно
использованные, бросались около места жилья. Здесь же шла выделка
орудий из кремня; поэтому почва так называемого культурного слоя
стоянок этой эпохи бывает насыщена отбросами кремня и других пород,
употреблявшихся для той же цели.
Пока неизвестно ни одной достоверной находки костных остатков
человека времени ранней поры среднего палеолита, если не считать, мо-
жет быть, остатков пекинского человека (синантропа), видимо отно-
сящихся, скорее всего, именно к ашёльской (клэктонской) эпохе. Однако
непрерывность эволюции ручного рубила, его постепенное совершен-
ствование и усложнение от раннего шелля до эпохи так называемого раз-
витого ашёля указывает на то, что население Европы не испытывало из-
менений в своем составе в течение этого времени, другими словами, — что
оно должно было здесь же, на месте, в приспособлении к новым условиям,
создавшимся в результате взаимодействия развития самого общества и
складывающейся к началу среднеледниковой эпохи природной обстановки,
вырабатывать основы новых форм существования.
Если, однако, мы попробуем ближе подойти к истории палеолитического
общества Евразии в эпоху, следующую за древнейшей стадией, то увидим
довольно сложную картину, которую мы имеем возможность восстано-
вить главным образом на основании изменений, испытываемых изделиями
из кремня — ведущей техникой первобытного общества.
Что касается находок ручных рубил, которые и по некоторой гру-
бости отделки, и по условиям залегания следует относить к древнеашёль-
скому времени, то они в своем распространении более или менее сов-
падают со стоянками шелльской эпохи. Они известны в порядочном числе
во Франции, имеются в Англии, но достоверных памятников этой поры
нет в Германии, Швейцарии и дальше на востоке Европы. На северном,
южном и восточном побережьях Средиземного моря они открыты в го-
раздо большем числе, чем шелльские остатки, хотя их возраст здесь часто
не может быть установлен более точно вследствие недостаточности наших
сведений о сменах культурных стадий первобытного общества в раннее
время для этих территорий.
Байер, конечно, совершенно прав, указывая на неправильность по-
зиции Обермайера, который решается' относить все находки подобного
характера на юге, в частности в северной Африке, исключительно по
наличию рубил к древнему палеолиту (шелль — ашёль). Вполне воз-
можно допустить, что ручные рубила здесь кое-где могли быть в уно-
207
РАННЯЯ ПОРА СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА
треблении не только в верхнем палеолите, как думает Байер, 1 но и в на-
чальную пору неолита. Астурийские находки подобного типа и ранне-
неолитические рубила, известные в Англии, северной Германии, у нас
на верхней Волге, являются лучшим доказательством возможности по-
добных явлений и на юге, в субтропических областях.
Можно думать, однако, что многие стоянки Сирии и Палестины, со-
держащие инвентарь хорошо выраженного ашёльского типа, правильнее
относить, во всяком случае, к среднепалеолитической эпохе; об этом го-
ворят условия залегания этих остатков, состав фауны, так же как и
охотничий быт, связанный с обитанием в пещерах.
Возможно, что к тому же времени относится часть находок ручных
рубил, открытых в различных пунктах Африки и известных до южной
оконечности этого материка.
Рубила шелльского и ашёльского типа здесь составляют обычное
явление и часто встречаются то поодиночке, то целыми группами на
поверхности почвы, вымываемые дождями или выдуваемые ветром.
Интересные сведения о находках ручных рубил лучшей выделки
(ашёльского характера), сделанных из кремня и кремнистого песчаника,
дает Капитан 2 для пустынных районов Томбукту, где они попадаются
во множестве без всякой примеси других находок в местах, перевеваемых
ветром. Возможно, что в них можно видеть остатки стойбищ бродячих
орд ранней поры среднего палеолита.
Экспедиция Фуро 3 нашла такие же орудия в центральных частях
Африки, в Эрге, в совершенно бесплодных в настоящее время местно-
стях.
Ручные рубила таких же типов найдены во многих пунктах в северном
и южном Тунисе, Алжире, Оране и т. д.
Но в ряде мест они известны и in situ в древних наносах и сопрово-
ждаются характерной фауной, указывающей на ранний возраст этих
отложений. В виде примера можно назвать отложения озера Карар в про-
винции Оран, открытые Жантилем в 90-х годах и описанные М. Булем, 4
где орудия ашёльских типов — крупные рубила и небольшие кремневые
рубильца, отделанные двусторонней обтеской, и орудия, приготовленные
из сколов, напоминающие мустьерские изделия, — залегают в древних
береговых галечниках вместе с костями слонов, носорогов, гиппопо-
тамов, верблюдов, жираффов, лошадей или зебр, антилоп, пещерных гиен
и пр.
Мы уже имели случай отметить находки рубил в Кении, в восточной
Африке, описанные Ликеем, и рубила, происходящие из древних террас
Вааля, условия залегания которых не оставляют сомнения в весьма ран-
нем их геологическом возрасте. Возможно, что и некоторые находки
в латеритах Индии, главны^ образом в окрестностях Мадраса, доставив-
шие ручные рубила, приготовленные из местной породы — красноватого
кварцита и отличающиеся довольно тонкой отделкой, могут относиться
к тому же более раннему ашёльскому времени.
1 J. Bayer, Die zeitliche Stellung des «altpalaolitischen» Sbaikien. und sein. Verhalt-
n,is zum «jungpaldolitischen» Solutreen, «Eiszeitund U rgeschichte», Bd. VII, H. 1—2, 1930,
стр. 1.
2 Dr Capitan, L’homme quaternaire ancien dans le centre de I’Afrique, «Revue anthrop.»,
1911, стр. 229. '
3 J. de Morgan, D-r Capitan et P. Baudy, L'etude surles-stations prehistoriques du sud
Tunisian, «Revue de ГЁсо1е d'Anthrop. de Paris», 1911.
1 M. Boule, Station paleolithique du lac Kardr, «L’Antropologie», XI, 1900.
•208
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРВОБЫТНАЯ ОНДОГАМНАЯ ПОММУНА
АШЁЛЬСКИЕ СТОЯНКИ ДИХАЗИИ
Для нас особенный интерес представляет недавнее открытие ашёль-
ских орудий — некоторого количества ручных рубил в сопровождении
многочисленных весьма грубых орудий па отщепов «клэктонского»
облика — в пределах европейской территории СССР, на черноморском
побережье Абхазии в окрестностях Сухуми.
Их приходится рассматривать как первое связующее звено для па-
мятников ашёльского времени Индии и восточного Средиземья — Сирии
п Палестины, с одной стороны, и с другой — тех памятников, которые,
очевидно, следует искать к северу от Черного моря — в низовьях Дона,
Днепра, Днестра и дальше на запад, на северных Балканах и в средней
Европе. Конечно, в последней их можно рассчитывать встретить лишь
в том случае, если здесь значительное развитие, каким пользовалось
миндельское оледенение, не явилось препятствием для расселения
человеческих групп в раннее ашёльское время.
В течение 1934—1936 гг. при разведках в окрестностях Сухуми
С. Н. Замятнпну, Л. Н. Соловьеву и другим лицам удалось обнаружить
на береговых террасах, образовавшихся из выноса рек, в ряде мест ско-
пления орудий раннепалеолитпческого облика. Поскольку эти находки,
как правило, относятся ле к аллювиальным отложениям, то есть не к
галечникам, из которых сложены береговые террасы, а к покрывающим
их слоям глинистого делювия (представляющего нанос с соседних возвы-
шенностей), геологический возраст открытых здесь орудий не может
быть еще вполне уточнен, тем более, что остатки фауны в этих слоях
не сохранились.
Однако имеется одно очень важное обстоятельство, позволяющее
все же в известной мере судить о древности существовавших здесь не-
когда поселений, — это различие в условиях' нахождения памятников, от-
носящихся к разным стадиям палеолита. В основном, судя по собранным
орудиям, последние распадаются на две группы: собственно мустьерскую.
к которой принадлежат стоянки с инвентарем, мало отличающимся от ин-
вентаря крымских стоянок этой эпохи, и более раннюю — ашёльскую.
Наиболее богатые находки грубых кремневых отщепов и некоторого числа
таких же грубых орудий с вторичной оббивкой, среди которых выделя-
Губила ются хорошо сделанные массивные рубила ашёльского облика, происхо-
дят из Кюрдере, Яштуха и других пунктов. Как было выяснено специ-
альным геологическим исследованием, произведенным Г. Ф. Мирчинком.
В. И. Г ромовым и Е. В. Шлнцером, обе эти группы находок связаны
с различными условиями залегания. Более поздние из них, то есть ору-
дия мустьерских типов,^обычно не встречаются ниже 30—40-метровой тер-
расы (над уровнем моря), тогда как ашёльскпе остатки, как правило, в ко-
ренном залегании приурочены к еще более высоким 60—] 00-метровым тер-
расам. Это обстоятельство следует, очевидно, рассматривать как прямое
свидетельство в пользу очень большой геологической древности челове-
ческих поселений в Закавказье.
ПРЕМУСТЬЕРСКАЯ СТАДИЯ
Чрезвычайно интересно, что почти па всем пространстве Европы
первые известные нам охотничьи становища рисуют по большей части
не прогресс и не усложнение, а наоборот, как-будто громадный упадок
ПРЕМУСТЬЕРСКАЯ СТАДИЯ
209
кремневого инвентаря. Они относятся к эпохе, когда последние предста-
вители древнего мира животных — древний слон и носорог Мерка — еще
окончательно не исчезли в некоторых местонахождениях средней Европы,
хотя большинство их дает уже типичную холодно-умеренную фауну более
ранней поры среднеледниковой эпохи, еще, обычно, без примеси живот-
ных тундры — северного оленя, песца и пр.
Одно из наиболее типичных местонахождений этого рода представляет
стоянка Ла Микок в Дордони (юго-западная Франция) — классической
стране поселений среднего и верхнего палеолита. Здесь, в местности
Микок, уже довольно давно был известен обширный лагерь охотников
за дикой лошадью, о котором будет сказано ниже. До недавнего времени
почти все исследователи обычно относили его к позднеашёльскому вре-
мени. Мы увидим, что его следует датировать мустьерской эпохой.
Под ним был обнаружен другой слой с культурными остатками, при-
надлежащими, таким образом, другому и, видимо, значительно более
раннему времени. Французские археологи Пейрони и Капитан нашли
в нем, вместе с примитивными кремневыми изделиями, много остатков
диких лошадей, быков, благородных оленей; костей других животных,
в частности мамонта и носорога, обычных в стоянках мустьерского вре-
мени, здесь, однако, не было встречено. Последнее обстоятельство на-
талкивает на предположение, что человек в эту раннюю пору не на-
учился еще овладевать крупными толстокожими, добывание которых
требовало относительно сложных приемов охоты.
Кремневый инвентарь в нижнем слое Микок носит весьма своеобраз-
ный характер. Если в верхнем слое этой стоянки, по которому ее именем
пользуются обычно для обозначения мустьерского инвентаря особого
типа, главную массу находок составляют маленькие, тонко отделанные «ру-
била», — в нижнем слое их уже нет. Наоборот, здесь изделия из кремня
представлены исключительно мелкими, грубыми кремневыми сколами.
Капитан, давший обстоятельное описание кремневых изделий, про-
исходящих из нижнего слоя Микок, 1 указывает для них ряд весьма
характерных признаков. Прежде всего заслуживает внимания самый
способ изготовления отщепов в эту эпоху: не скалыванием, как это
обычно практикуется в палеолитической технике, а дроблением желваков
кремня, которые разбивались резкими, сильными, случайно направлен-
ными ударами. Нуклеусов, то есть более правильных кусков кремня,
подготовленных предварительно для снятия отщепов, здесь вообще не
встречалось. Таким образом, то, что мы имеем в нижнем слое Микок,
представляет, казалось бы, один из примитивнейших приемов обработки
кремня, придающий его изделиям почти эолитический облик.
Приходится думать, что подобная техника «дробления», примененная
не к кремню, а к другой породе камня, например к кварцу или даже
кварциту, должна была бы дать изготовленным таким способом грубым
отщепам полное сходство с эолитоподобными орудиями, встреченными
при остатках синантропа.
Такой прием получения первичного материала, то есть кремневых
сколов, используемых в качестве орудий производственного назначения,
не мог не отразиться на характере самих изделий. Громадное большин-
ство их представляет бесформенные отщепы, шедшие в употребление как
таковые, без какой-либо подретушевки пли приспособления. В тех слу-
чаях, когда ретушь на них все же имеется, она сводится к получению
1 L. Capitan, Nouvelles jouilles a la Micoque, «Revueprehistorique», Д? 2, 1907, стр. 1.
14 II. П. Ефименко. Первобытное общество—1734
Ла Микок —
ниясний
горизонт
210
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
режущего края или заострения, обычно вполне случайного вида. Вообще
среди орудий нижнего слоя Микок нельзя указать ни одного более тонко
отделанного и имеющего правильную и законченную форму: всё это
вещи более или менее случайного употребления. И, отметим, между ними
нет ни одного «ручного рубила», которыми так богат верхний горизонт
того же местонахождения.
Таким образом очевидно, что при всей своей первобытности опи-
санный инвентарь носит определенно выраженный целиком производ-
ственно-технический характер. В грубых изделиях нижнего слоя Микок,
несмотря на их простоту и отсутствие определенно выраженных форм,
мы все же должны видеть орудия, предназначенные для обработки,
такого материала, как дерево (конечно, в самых простых изделиях из
этого материала), затем,
Рис. 40. Грубые небольшие каменные
орудия из премустьерских стоянок Европы.
1.—Гуденус. 2.—Ла Микок (нижний
слой). 3, 4, 5.—Крапина.
Находки
рубил в
Дордони
несомненно, использовавшиеся для всего того,
что могли требовать повседневные
запросы охотничьего быта — то
есть свежевания зверя, сдирания и.
выделки шкуры и т. п.
Более широкие отщепы с подре-
тушевкой одного края представляют
аналогию мустьерскому скреблу, ко-
торое, собственно, и является даль-
нейшим улучшением такого отщепа.
Некоторые заостренные грубые
сколы напоминают самые примитив-
ные остроконечники той же эпоуи.
Наконец, среди обработанных
кремней нижнего слоя стоянки Микок
имеются орудия, которые мы застаем;
в живом быту, у тасманийцев, —
нечто вроде скребел с выемчатым
краем, очевидно предназначенные
для подтачивания каких-то твердых
предметов вроде, например, острия копья; затем — такие же грубые сколы
с характерно изогнутым, заостренным рабочим концом. Последние, судя
по их распространенности в стоянках этого времени, — они известны и в
тасманийской технике, — должны были представлять инструмент, имев-
ший важную техническую функцию в условиях первобытной стадии куль-
туры. Он, очевидно, играл роль резака, для чего использовался его за-
остренный — скошенный конец. Можно вспомнить, что и в кремневом ин-
вентаре позднего палеолита кремневые пластины с заостренным, но режу*
щим концом пользуются большим распространением как одна из наиболее
удобных форм технического использования природных свойств кремня.
Эти поразительные по своей примитивности орудия сменяет в Дор-
дони более древний вид орудий, представленный рубилами ранне-
палеолитических типов, находки которых известны в довольно многих
пунктах бассейнов рек Дордони и Гаронны, частью в древних речных на-
носах, по большей же части на склонах возвышенностей. Здесь они попада-
ются на поверхности почвы, иногда в большом числе, как указывает Г. де
Мортилье, в результате размывания, сельскохозяйственных работ и пр. 1
1 Находки позднешелльскпх рубил на плато, господствующем над р. Везероп.
указывает и Пейрони (с материалами музеев в Лез-Эйзи и Пе'ригё, где хорошо
представлены палеолитические местонахождения Дордони, автор- имел возможность,
познакомиться в 1913 г.).
ПРЕМУСТЬЕРСКАЯ СТАДИЯ
211
Рис. 41. Грубые небольшие ору-
дия из кремневых отщепов, на-
поминающие острия п скребла,—
из премустьерских стоянок
Европы.
1, 3. — Гуденус. 4. —
Ла Микок.
небольшом числе, с полной
Белькэр
Известны и другие находки сходного характера, делающие очевидным,
что так называемый «аморфный инвентарь» типа микок составляет вовсе
не случайное явление в более раннее время средней поры палеолита.
В этом отношении большого внимания заслуживает самый нижний
слой большого навеса Ла Ферраси, 1 другого весьма интересного место-
нахождения в том же районе Дордони, хотя кое в чем он имеет и свои
особенности. Остатки фауны здесь не представляют чего-либо существенно
отличного: дикая лошадь, затем в меньшем числе бык и благородный
олень. Главная масса орудий, собранных в этом слое, сохраняет облик,
очень близкий к тому, что мы видели в нижнем слое стоянки Микок.
Они не менее примитивны, чем в последней, по грубости сколов и по не-
большому числу изделий с подретушевкой, всегда того же неустановивше-
гося, случайного характера. Но в Ферраси в слое, содержащем эти орудия,
встречено было несколько небольших «рубил», достаточно тщательно
выделанных, что позволяет, как думает
Пейрони, считать данный инвентарь вовсе
не таким ранним, как полагают некоторые
авторы. Пейрони с полным основанием
видит в нем непосредственного предше-
ственника позднейшего мустьерского крем-
невого инвентаря (mousterien de tradition
acheuleenne).
Из других местонахождений Дордони,
относящихся к описываемой группе памят-
ников, нельзя обойти молчанием убежище
Белькэр, в недавние годы исследованное
Делажем. 2 Нужно сказать, что и здесь
остатки мамонта и носорога отсутствуют,
подтверждая таким образом как будто не
случайный характер этого явления в ряде
других премустьерских стоянок Европы.
Лишь менее крупные животные, как быки
лошадь, являются здесь постоянной добычей
человека. Однако присутствие в списке фауны
Белькэр остатков северного оленя, хотя и в
определенностью свидетельствует, вопреки довольно распространенному
мнению, о невозможности относить стоянки с «атипическим» кремневым
инвентарем к'особенно раннему (до-шелльскому!) времени плейстоцена.
Изделия из кремня в убежище Белькэр обильны и весьма характерны
для стоянок примптивно-мустьерского типа. Если исключить одно неболь-
шое очень грубо сделанное «рубпльце» типа, известного нам по нижнему
слою пещеры Киик-Коба в Крыму, остальной инвентарь стоянки пред-
ставлен массой кремневых отщепов, иногда с легкой подправкой края
или следами употребления, то есть тем, что можно назвать орудиями
случайного применения.
Орудий сколько-нибудь законченного облика, с правильной, целе-
сообразно нанесенной подретушевкой, здесь вообще нет. Как и в других
стоянках этого времени, одни из таких слегка подретушеванных отщепов
треугольной формы несколько напоминают остроконечники, другие,
из широких отщепов, — скорее скребла, имеющие слегка подправленный
Ла Ферраси—
нижпий
горизонт
1 D. Peyrony, 1л Ferrassie. «Prehistoire», t. Ill, 1934, стр. 1.
2 F. Delage, Le moustcrien de Belcayre (Dordogne), «Revue anthropologiquen, Л? 4—6.
1927, стр. 119.
212
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
«Атипиче-
ский»
инвентарь
рабочий край. Часто встречаются и весьма типичные для этого времени
орудия, представляющие комбинацию острия и выемки.
Наблюдающиеся иногда на отщепах как будто намеренные «резцовые»
сколы заставляют автора в сущности, видимо, без достаточного основа-
ния относить примитивный инвентарь Белькэр к очень позднему времени
среднего палеолита, к эпохе, уже довольно близкой к ориньяку.
Однако можно считать все же вполне возможным, что так называемый
атипический инвентарь ашёльско-мустьерской эпохи, как мы увидим
ниже, не представляет явления, строго локализированного в смысле
времени. Появляясь очень рано, в эпоху древнего слона и носорога Мерка,
с обликом так называемых клэктонских обработанных кремней, он удер-
живается в употреблении местами, у некоторых групп первобытного
населения Европы, до той поры, когда теплая фауна раннего плейстоцена
окончательно уступает свое место холодной фауне, в среде которой по-
являются первые представители полярного мира животных.
Вэ французской археологической литературе, посвященной вопросам
палеолита, последние годы большое внимание уделяется вопросам, свя-
занным с примитивно-мустьерской стадией. В одной из таких недавно
вышедших работ дается классификация палеолитических памятников,
в которой приводится соотношение во времени различных типов инвен-
таря этой эпохи. 1 Сумбурность и антинаучность исторических построе-
ний, свойственные представителям современной буржуазной археологии
палеолита, в значительной мере обесценивает их знание вещественного
материала. Все же нельзя не отметить отнесение ими ашёльских остат-
ков к сравнительно весьма ранней поре плейстоцена (миндель-рисс).
Можно привести серьезные возражения против принимаемой француз-
скими археологами последовательности во времени отдельных групп па-
мятников. Непонятно, например, почему они относят к рисс-вюрмскому
времени Эрингсдорф, Крапину, Вилльфранш и аналогичные находки
с теплой фауной, характеризующей в средней Европе до-рисские слои.
Столь же рискованно помещение позднего мустье в после-вюрмскую
эпоху.
©снованием для разделения «индустриальных» типов у современных
буржуазных авторов служат такие признаки, которые сами по себе,
конечно, совершенно недостаточны для того, чтобы говорить, как это
делают многие из них, о каких-то «культурах» с особыми путями раз-
вития. Эти палеолитические «культуры», за которыми, очевидно, следует
предполагать какие-то особые группы человечества, жившие обособлен-
ной исторической жизнью, подчиняясь своим собственным законам раз-
вития, являются, несомненно, вздорной выдумкой современной буржуаз-
ной археологии. В них трудно усмотреть что либо иное, чем беспочвен-
ные, научно недобросовестные измышления, которые нужны псевдоуче-
ным идеологам реакционной буржуазии лишь в целях фальсификации
науки.
Мы остановимся ниже на том, в чем следует искать объяснение неодно-
родности кремневого инвентаря в начальную эпоху среднего палеолита.
Во всяком случае ясно, что ашёльская, клэктонская, примитивно-
мустьерская и другие «индустрии» представляют собой лишь варианты
приемов обработки кремня в эту эпоху
Тем более, что, например, в древних террасах Сены, Соммы и Темзы
1 «Prehistoire», t. I, fane. II, 1932.
ПРЕМУСТЬЕРСКАЯ СТАДИЯ
213
подобные типы инвентаря чередуются в разных горизонтах напласто-
ваний.
Однако эти признаки, как явление повторяющееся в различных ме- Разнонид-
стонахождениях, относящихся к среднему палеолиту, заслуживают
быть отмеченными. Для «клактонского» типа характерными являются пре-
имущественно неправильные, случайного облика отщепы, полученные
расщеплением просто кусков кремня или очень грубых нуклеусов, напо-
минающих дисковидные формы. По мнению Брейля, для этой цели кре-
мень обрабатывался на наковальне (твердой подставке, вероятно просто
камне), в результате чего удар должен был терять эластичность. Отщепы
очень грубы и имеют очень широкую площадку скалывания, образующую
с площадью раскола открытый угол. Равным образом, благодаря силь-
ному и неискусному удару, на этой площадке и на отбивной поверх-
ности пластины наблюдаются трещины и выпадения. Естественно, что и
отбивной бугорок бывает у них чрезмерно велик и резко выраженной
конической формы.
Техника «леваллуа» отличается умением получать более правильные,
удлиненные пластины, что требовало предварительной подготовки нук-
леуса. Отсюда следы подтески на ударной площадке пластины.
Наконец, приемы обработки кремня, связанные с тем, что Брейль
воети атипи-
ческого
инвентаря
называет типом «тейак», характеризуются преимущественно широкими
треугольными отщепами, тогда как технике «микок» свойственна главным
образом старая техническая традиция — двусторонняя обработка кремней.
Но в значительном большинстве известных нам местонахождений эти
признаки в действительности оказываются смешанными — с некоторым
лишь преобладанием тех или других приемов обработки кремня.
Подобные памятники, как выясняется сейчас, имеют весьма широкое
распространение в Европе.
Во Франции, кроме названных, к ним относится еще целый ряд место- Другие
нахождений. Такой характер, например, носят находки, сделанные Дю- находки во
валеном в местности Шалосс (Chalosse) по левому берегу р. Адур, в депар- Франции
таменте Нижних Пиренеи на юго-западе Франции. К той же группе
памятников можно присоединить нижний слой грота Обсерватории, 1
с его основным инвентарем из больших, грубых отщепов, изготовлен-
ных из очень плотного известняка, который Брейль относит ко вре-
мени, следующему за шеллем. Другая стоянка с аналогичным инвен-
тарем, состоящим из массивных, толстых отщепов, указывается 2 в Кюр-
сон (Дром) в долине Роны, где еще Шантр описал богатое местонахо-
ждение с очень грубыми рубилами из кварцита. Недалеко, в Вилль-
франш-на-Соне, имеется еще одна стоянка с находками клэктонского
типа и теплой фауной — древним слоном и носорогом Мерка. 3
.В Англии ашёльское время, или ранняя пора среднего палеолита, Клактон
как и в северной Франции, представлено одинаково хорошо местонахожде-
ниями с орудиями, изготовленными посредством двустороннего обте-
сывания и обработанными кремнями типа отщепов. Из числа последних
1 Boule et Villeneuve, La grotle de I’Observatoire a Monaco, «Archives del'Instilut de
Paleontologie Humaine», Mem. I, 1927.
2 Breuil, ук. соч., стр. 184.
3 G. de Mortillet, Villefranche-sur-Sadne, Industrie et jaune, «Bull, de laSoc.
d’Anthrop. de Paris», t. VI (IV ser.),1895, jasc. 1, стр. 57. Сомнения в правильности
определения фауны Шарлем Депере, высказывавшиеся Мортилье, оказались не-
обоснованными. Ср. E d'Асу, Quelques observations relatiVemenl аи gisement intergla-
ciaire de Villejranche, «Bull, de la Soc. d’Anthrop. de Paris», t. V1,1895, jasc. 1, стр. 80.
214 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
наиболее известным является Клактон (Clacton-on-Sea) в Эссексе, распо-
ложенный на берегу моря, севернее устья Темзы, именем которого обычно
обозначается в настоящее время своеобразная, примитивная ашёльская
техника отщепов, хотя некоторые авторы, как Соллас, пользуются для ее
обозначения термином «месвинская индустрия», предложенным Рюто.
Для определения возраста остатков человеческих поселений в Клак-
тоне большой интерес представляет то обстоятельство, что из двух террас,
содержащих следы раннепалеолитической культуры, верхняя, более
древняя терраса, как показали исследования S. ILazzi.eoim: \\ аннех.
содержит лишь находки шелльских ручных рубил,
залегающих в гравии вместе с валунами, видимо оставленными макси-
мальным оледенением, причем рубила, как правило, оказываются сильно
поврежденными.
Значительно ниже находится вторая, более поздняя тер-
раса, оставленная рекой, отложения которой уходят под уровень
моря, — с кремнями клэктонского типа, сопровождающи-
мися теплой фауной миндель-рисского времени, как Elephas antiquus,
Rhinoceros Merckii, Equus sp., Bos primigenius, Bison minor, Capra sp.,
Cervus daina, Cervas Brouni, Cervus elaphus, Cervus inegaceros, Felis leo.
Ursus sp., Hyaena spelaea и др. Встреченные здесь остатки гиппопотама,
не гармонирующие с общим характером фауны, возможно происходят пз
более древних отложений в результате их перемывания рекой.
В нижних слоях этой террасы многочисленные собранные здесь кремни
представляют обычные массивные неправильные отщепы лишь с случай-
ной подретушевкой, иногда с двусторонним обтесыванием. Их сопрово-
ждают грубые дисковидные ие то рубила, не то нуклеусы. 1 Если принять
во внимание различный характер материала, нужно сказать, что комплекс
находок в Клактоне довольно близко напоминает каменный инвентарь,
сопровождающий остатки синантропа.
В более верхних слоях той же террасы кремневый инвентарь, сохра-
няя свой клэктонский характер, приобретает тем не менее уже явственно
выраженные черты мустьерской техники, сказывающиеся в большей тон-
кости отщепов, правильности ретуши, большей законченности некоторых
типов орудий.
Стрепийская Подтверждая ашёльский возраст кремней Клактона, Соллас в своей
стадия книге 2 и некоторые другие находки южной Англии склонен относить
к стрепийской стадии Рюто, которую он отождествляет с до-шелльской
стадией.
Мы не можем не присоединиться, однако, к мнению Радемахера, Обер-
майера и Байера, что так называемая стрепийская стадия (strepyien)
настолько скомпрометирована фальсификатами, вроде кремневых кин-
жалов и т. п., опубликованными Рюто, что пользоваться ею как опре-
। деленным понятием представляется крайне затруднительным. 3 Что же
Другие касается упоминаемых Солласом стрепийских местонахождений Англии,
находки в как Swanscombe (Barnfield Pit) в долине Темзы, то сведения, сообщаемые
Англии о последнем Брейлем, дают основание скорее причислить его к памятникам
1 Интересно, что подобные дисковидные камни с грубой круговой оббивкой най-
дены и в отложениях Чжоу-Коу-Тяня.
2 Sottas, Ancient Hunters, 1924, стр. 15S.
3 Е. Rademacher, Friihneolithikum und Belgisches «Chelleeno, ‘Praehist. Zeitschr.»,
Bd. IV, 1912, стр. 235; H. Oberniaier, Die Steingerale des jranzdsischcnAltpaldolilhi-
kurns, «Mitt, der prahist. Kom. der K. Acad, der TV.», Bd. II, At 1, стр. 41; Его же,
Belgien, Paldolithikuni, «Reallex. d. Vorgesch.o, BdTI, 1924, стр. 393.
ИРЕМУСТЬЕРСКАЯ СТАДИЯ
215
клэктонекого типа, как и целый ряд других местонахождений в долине
Темзы и к северу от нее у Кэмбриджа и Ипсвича.
Вместе с тем для тех же местностей южной Англии известны много-
численные находки типичных ашёльских рубил, которые в Swanscombe
залегают выше горизонтов с «клэктонской индустрией». В Гоксн (Нохпе)
близ Ипсвича позднеашёльские рубила, открытые еще в конце XVIII века
Джоном Фрером и сопровождающиеся «холодной» фауной — мамонтом и
северным оленем, связаны с галечниками, в нижней части которых были
собраны клэктонские отщепы, тогда как в глинистом слое, покрывающем
галечник, встречаются кремни типа «леваллуа».
В Бельгии, где почти неизвестно ни находок ручных рубил ранних Бельгия
типов, ни «теплой» фауны совместно с остатками раннего палеолита,
имеется зато довольно много клэктонских (месвинских) местонахождений
с фауной мамонта. К ним относятся главным образом находки в районе
Монса, как Спиенн, Месвин и др.
В Германии к этой группе памятников палеолитической культуры«Атипическии»
относятся нижние горизонты известных местонахождений Таубах и Эринге- инвентарь
дорф в долине р. Ильма, вызвавшие столько разнообразных предполо- в
жений. Присутствие в культурных отложениях этих стоянок настоящих Европы
кострищ, больших скоплений костей животных — лошадей, носорогов
и т. д., по большей части расколотых, нередко обожженных, указывает
на сравнительно позднее, во всяком случае следующее за шеллем время
Таубаха и Эрингсдорфа. Совершенно необоснованным приходится счи-
тать стремление некоторых германских археологов придавать этим на-
ходкам какой-то исключительно древний, иногда даже до-шелльскпй
возраст. В действительности так называемая «ильмская стадия» палеолита
средней Европы, представленная названными местонахождениями, восхо-
дит, самое раннее, ко времени ашёля. Так смотрят на этот вопрос более
серьезные немецкие и французские археологи, относящие нижний слой
культурных напластований Таубаха и Эрингсдорфа к позднему ашёлю,
тогда как верхние горизонты ильмских местонахождений относятся ими
даже не к ашёлю, а к позднему мустье.
Французские исследователи совершенно правильно сопоставляют
Эрингсдорф (атипический инвентарь его нижних слоев) с раннемустьер-
скими стоянками Франции.
Насколько редки пока в Германии стоянки с ручными рубилами, на-
столько же хорошо представлены здесь находки этого «атипического»
раннемустьерского инвентаря, иногда сопровождающегося, как в очагах
нижнего слоя Ла Ферраси, отдельными экземплярами ручного рубила.
В большинстве случаев они характеризуются умеренно-холодной фауной
первой половины среднеледникового времени. Такова пещера Рюбеланд
|[а Гарце, нижний слой пещеры Зиргенштепн и др.
Сходную картину дает нижний слой пещеры Гуденус в Нижней Ав-
стрии: здесь, кроме лошади и быка, были находимы остатки сибирского
носорога и мамонта. Обычный «атипический» кремневый инвентарь пе-
щеры Гуденус, имеющий примитивно-му стьерский характер, сопрово-
ждается некоторым количеством грубых небольших «рубил».
Сюда же можно причислить пещеру Крапина, где такие же изделия Крапина
в виде грубых отщепов из кремня, яшмы и т. д. были найдены среди остат-
ков кострищ.
В виду особенного значения этой пещеры для понимания условий,
в которых протекало существование человека в^более раннюю пору сред-
него палеолита, мы остановимся на ней несколько подробнее. Грот Крапина
216
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
в северной Кроации находится в гористой местности между Дравой и
Савой, в живописной долине ручья Крапиницы, метров на 25 выше его
современного ложа. В какое-то раннее время плейстоцена последний
тек значительно выше и подмывал склоны долины, сложенные из песча-
ников. Это объясняет происхождение грота, имеющего характер невысо-
кой ниши в стене песчаника; дно этой ниши было покрыто отложе-
ниями речного происхождения. В последующее время ниша почти за-
полнилась всякого рода обломками и продуктами распада горной породы.
Раскопки здесь производились Горьяновичем в 1899—1905 гг. 1 Им
было обнаружено восемь «культурных прослоек», то есть следов обитания
с остатками кострищ и разнообразными отбросами первобытного стой-
бища. Исследование велось старыми приемами, без разделения слоев и
без изучения каждого из них в отдельности, хотя Горьянович утверждает,
что находки в них имели более или менее одинаковый характер.
Фауна Остатки фауны, собранные в Крапине, дают типичный для среднего
палеолита лесной мир животных вместе, однако, с носорогом Мерка,
что можно, видимо, рассматривать, как указание на до-рисское время
стоянки. Очевидно все же, что это животное, известное и в Таубахе,
довольно долго удерживается кое-где в средней и восточной Европе.
Его оттесняет к югу пришедший на смену ему другой вид, более при-
способленный к холоду, — сибирский носорог (Rhinoceros tichorhinus).
Тогда как на Апеннинском и Пиренейском полуостровах носорог Мерка
известен в стоянках не только среднего, но даже позднего палеолита.
Из других животных в список этой фауны входят: пещерный медведь,
дикий бык (Bos primigenius) и, в меньшем числе, бобр, лошадь, кабан,
олень с гигантскими рогами (Cervus megaceros), благородный олень,
косуля, куница, выдра, сурок и т. д.
Остатки Любопытную особенность Крапины, как и убежища Чжоу-Коу-Тянь
человека под Бейпином, составляют находки многочисленных человеческих костей
(около 500 фрагментов), встречающихся здесь совершенно в тех же
условиях, что и кости животных, вперемежку с ними и так же раско-
лотых для извлечения мозга и иногда обожженных. Человеческие кости
представленные всеми частями скелета, никогда не сохраняются целыми,
даже кости детей. Бесспорным свидетельством обращения с человеком,
как с добычей, являются, по указанию Горьяновича не только расколо-
тые трубчатые кости, но и следы сильных ударов на черепных костях,
которые чаще всего попадаются в виде осколков черепной коробки. 2
Это обстоятельство трудно объяснить иначе, как допустив, что перво-
бытные обитатели Крапины были каннибалами.
По общему подсчету число человеческих особей в находках Крапины
достигает 21, причем, насколько можно судить по сохранившимся остат-
кам, они принадлежат й неандертальскому типу, обнаруживающему
признаки значительной вариации от весьма примитивного до более раз-
витого (ср. находки синантропа).
Каменный Материал для изготовления орудий из камня добывался обитателями
инвентарь пещерЫ ТуТ же, неподалеку, среди булыжников на берегу ручья, и пред-
ставлен пестроцветным кремнем, яшмой, зеленокаменными изверженными
породами и пр. На большое количество в общем достаточно грубых и слу-
чайных отщепов, среди которых многие носят следы некоторой под-
lGorjanovic-Kramberger, Der diluviale Mensch von Krapina, Wiesbaden. 1907.
2D-r Gorianovic-Kramberger, Uber Beschadigungen an Parietalien des diluvialen Men-
schen von Krapina, «Die Eiszeit», Bd. Ill, H. I, 1926, стр. 1.
КИИК-КОБА, НИЖНИИ ГОРИЗОНТ
217
ретушевки, приходится лишь сравнительно немного имеющих более опре-
деленную форму, хотя и не слагающихся еще в стойкие типы орудий. 1
В целом, таким образом, этот инвентарь носит ясно выраженный клэктон-
ский, или примитивно-му стьерский, характер. В числе орудий с известной
условностью можно указать широкие отщепы с несколько подретуширо-
ванным краем— зачаточные скребла; реже попадаются треугольные
(листовидные) пластинчатые отщепы — типа, известного по находкам, сде-
ланным в Таубахе. Судя по опубликованным данным, здесь имеются
также пластины с несколько более тонкой отделкой стесыванием и те со-
всем маленькие грубые «рубильца» (4—6 см в длину), которые были
встречены в нижнем слое Киик-Коба.
На некоторых костях животных заметны следы использования, ве-
роятно, для каких-то производственных целей.
Среди других мест поселений с подобным примитивным инвентарем Шипка
в более восточных областях Европы можно назвать еще Шипку в Мора-
вии, где чрезвычайно грубые отщепы из кварцита, которым здесь поль-
зовался человек как материалом для своих изделий, сопровождаются
остатками мамонтов, носорогов, дикой лошади; однако северных форм
животных нижний культурный слой Шипки не содержит. 2
На другом конце Европы, в Испании, такие же «атипические» изделия
из камня встречены в нижнем слое грота Castillo в проьинции Сантандер.
КИИК-КОБА, НИЖНИЙ ГОРИЗОНТ
Обращаясь к территории СССР, мы находим следы той же ранней ста-
дии среднего палеолита в Крыму, в пещерной стоянке Киик-Коба. Киик-
Коба представляет ближайшую и очень интересную аналогию французской
стоянки Ла Микок. Ее верхний слой, очень богатый культурными остат-
ками, имеет большое сходство с верхним слоем последней стоянки, тогда
как нижний слой (рис. 48) более или менее тождественен с соответ-
ствующими горизонтами Ла Микок, Ла Ферраси и других упомянутых
нами местонахождений.
Кремневый инвентарь нижнего слоя Киик-Коба носит поразительно Изделия пэ
примитивный характер. Он уже и по качеству материала отличается от на- кремня
ходок, сделанных в верхних наслоениях пещеры. Кремень здесь упо-
треблялся более темный, серовато-черный, тогда как кремень светлых
оттенков, который преобладает в слое, отвечающем поселению Киик-
Коба более позднего времени, здесь представляет скорее исключение.
Среди массы кремневых отщепов, в высшей степени случайных и не-
правильных форм; можно выделить, в сущности, только одно, вполне
определенное, хотя и весьма примитивно выполненное орудие, — нечто
вроде «ручного рубила», однако совершенно миниатюрных размеров.
Последнее имеет максимум 4—4,5 см в длину, обычные овальные очер-
тания и грубо стесано с брюшка и со спинки. Очевидно, в нем приходится
видеть орудие какого-то совершенно другого назначения, чем то, которое
должно было иметь древнее рубило (рис. 42).
1 Eduard Beninger, Die Stellung Krapinas in der Breitklingenkultur, «Die Eiszeilo,
Bd. IV, 1927, стр. 81 (указана обширная литература по Крапине).
2 Нужно заметить, что К. Абсолон рассматривает архаический кварцитовый
инвентарь Чехословакии, представленный Шипкой, Чортовой Дырой и рядом не-
давно описанных им местонахождений на открытом воздухе, как примитивно ори-
ньякский, относя сюда и стоянки типа Вильдкирхли в Швейцарии.
•218 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Как можно видеть на рисунке 43, вместе с этими «рубильцами» встре-
чаются также отщепы кремня случайного облика, одни с грубой краевой
ретушью, другие с намеренно сделанными выемками, третьи приострены
на конце, иногда с изогнутым режущим острием, сочетающимся с выем-
кой, которая и образует рабочее заострение инструмента. Подправка
этих орудий имеет характер весьма примитивной «ретуши», как бы обби-
вающей край кремневой пластинки путем отдельных неискусных и плохо
рассчитанных ударов.
Техника изготовления отщепов в этом слое поразительно напоминает
архаическую технику обработки кремня раннего поселения Микок. От-
щепы, использовавшиеся в качестве орудий, так же как и отброс произ-
водства, отличаются массивностью, угловатостью и неправильностью
очертаний. В некоторых случаях удавалось подобрать отщепы, сколотые
с одного куска кремня, что
Рис. 42. Орудия из нижнего слоя
пещеры Киик-Коба (Крым) с грубой
оббивкой с обеих сторон.
Кремень. 3/6 н. в.
(По Г. А. Бонч-Осмоловскому)
позволило вполне ясно представить технику
расщепления кремня. Она состояла в
простом раскалывании кремневого жел-
вака, повпдимому совершенно не подго-
тавливавшегося предварительно для этой
цели.
Оставшиеся неиспользованными до
конца кремневые ядрища имеют вид
грубых, угловатых, более или менее дис-
ковидных кусков камня. Последние очень
обычны в клэктонских стойбищах, но
известны также и в Чжоу-Коу-Тяне при
остатках синантропа.
Кроме «рубилец» Г. А. Бонч-Осмо-
ловский различает скребловидные отщепы,
как и в Крапине, представляющие и
здесь преобладающую группу подрету-
шированных отщепов, затем нечто вроде
грубых остроконечников пли острий, от-
щепы с выемкой и т. д. 1
Но все это имеет характер крайне
неопределенный и неустойчивый в смысле
типов орудий. Небольшие размеры отщепов
А. Вонч-0смоловский склонен объяснять
Г.
Фауна
исследовавший Киик-Коба
отсутствием более крупных желваков кремня в окрестностях стоянки.
Чрезвычайно низкий уровень техники обработки каменного материала
и примитивность инвентаря нижнего слоя Киик-Коба тем более замеча-
тельны, что у нас нет оснований считать этот слой особенно древним.
Если окажется правильным сделанное недавно определение костей песца
из этого слоя В. И. Громовым и В. И. Громовой, то нижний горизонт
Киик-Коба, по общепринятой геологической схеме, может быть отнесен
лишь к самому концу миндель-рисского времени.
Из других животных, по более ранним данным, здесь имеются дикий
осел [Equus asinus), олень с гигантскими рогами, сайга, кабан, волк. Из
1 Находки в нижнем слое Киик-Коба описаны Г. А. Бонч-Осмоловским в ряде
работ. Последнее более полное описание дает его статья — «Итоги изучения крымского
палеолита» в «Трудах 11межд. конф. АИЧПЕ», вып. V, 1934, стр. 114, где приведена
литература. Из более ранних публикаций заслуживает внимания статья того же ав-
тора —«К вопросу об эволюции древнепалеолитических индустрий», журнал «Человек»,
изд. Акад. Наук, № 2—4, 1928.
КИИК-КОБА, НИЖНИЙ ГОРИЗОНТ
21»
растительных остатков были определены Juniperus sp., Rhamnus са-
thartika, Acer sp. Другими словами и животный и растительный мир
нижнего горизонта пещеры мало чем отличается от верхнего слоя, если
не считать большего богатства и разнообразия встреченных в последнем
остатков фауны млекопитающих.
В оценке возраста описанных нами находок Г. А. Бонч-Осмоловский Время пре-
примыкает к мнению Капитана, Обегмайера, Бёркитта и некоторых мустьерских
других авторов, считающих возможным относить премустьерские поселе- поселений
нпя типа «нижнего горизонта Микок», к которым принадлежит и нижний
горизонт Киик-Коба, к самой начальной поре палеолита, видя в них зача-
точные формы использования кремня, отчасти, может быть, даже предше-
ствующие шелльской эпохе, от которой в более позднее время берет свое
начало мустьерская техника.
Другими словами, премустьерские стоянки, несмотря на свой характер
настоящих охотничьих лагерей, согласно мнению указанных авторов,
являются памятниками древней-
шей стадии развития палеолитиче-
ского человечества, по времени
восходя к до-шелльской эпохе.
Это состояние культуры, по
взглядам, развиваемым Обермайе-
ром и другими авторами, в даль-
нейшем будто бы сменяется на
западе, благодаря волнам при-
шельцев из северной Африки, ти-
пичным древним палеолитом, ха-
рактеризующимся ручными руби-
лами, тогда как в восточной
Европе, тоже в очень раннее время
в среде другой расы, пришедшей рнс 43 Орудия из нижнего слоя пещеры Киик-
с востока, оформляется древняя Коба (Крым) в виде грубых отщепов с под-
мустьерская культура, не знаю- ретушевкой,
щая типичного ручного рубила. Кремень. 3/5 и. в.
Так намечаются первые культурно- пю г. а. Бонч-Осмоловскому)
расовые круги буржуазной «до-
истории», которые яркий представитель культурно-исторической школы
в археологии Менгин, а также Байер и многие другие пытаются просле-
живать преемственно в истории первобытного человечества в течение
ряда последующих эпох.
Не приходится говорить, насколько такие взгляды, вытекающие из
теории культурных кругов, расовой теории, проповедуемой теми же
учеными, и теории миграций, ii целом в современной западноевропейской
археологии являющиеся одним из реакционнейших проявлений буржуаз-
ной идеологии, находятся в противоречии не только с научно обоснован-
ными представлениями о стадиальности исторического процесса, но просто
с. теми фактами, которыми оперируют эти авторы.
В отношении интересующего нас вопроса, помимо всего прочего,
было бы невозможно привести сколько-нибудь серьезные основания
в пользу особенно большой древности так называемых премустьерских
стоянок типа нижнего слоя Ла Микок, Ла Ферраси, Киик-Коба и др.
В них в большинстве случаев господствует умеренно-холодная фауна
среднеледникового времени, где спорадическое присутствие мамонта и шер-
стистого носорога указывает на уже значительное понижение температуры
220
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
по сравнению с предшествующим временем, которое заставило древнего
слона и носорога Мерка отступить на юг к берегам Средиземного моря,
хотя последние остатки этих животных, как мы видели, еще удержива-
ются кое-где и в средней Европе. Таким образом, совершенно очевидно,
что премустьерская «культура» не могла существовать одновременно
с «культурой» шелля или даже предшествовать последней, как это пред-
полагает, например, Г. А. Бонч-Осмоловский, 1 но в ходе исторического
развития первобытного населения Европы данный комплекс памятников
должен был, очевидно, следовать по времени за тем, что мы называем,
ранним ашёлем.
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ТИПОВ КРЕМНЕВОГО ИНВЕНТАРЯ
В МУСТЬЕРСКУЮ ЭПОХУ
Происхождение первых лагерей охотников на диких лошадей, быков,
оленей, иногда и более крупных млекопитающих, с так называемым аморф-
ным, или премустьерским, инвентарем, вряд ли можно понять вне связи
с тем переломным состоянием, которое переживало первобытное население
Европы при переходе к охоте как главному источнику существования.
Очевидно, это не был процесс чисто эволюционного характера. Совер-
шившись относительно быстро, по крайней мере в более северных, бли-
жайшим образом захваченных надвигающимся оледенением областях, он
мог сопровождаться упадком ранее сложившейся техники изготовления
ручных рубил, которые оказались мало приспособленными к новым по-
требностям хозяйства и бытового обихода.
Инвентарь Их место заняло мелкое, дробное производство грубых кремневых
мелких крем- отщепов, в сущности говоря, известное и в древнем палеолите и там
невых сколов СТоль же примитивное, но в условиях шелльской — раннеашёльской
эпохи игравшее второстепенную роль по сравнению с рубилом.
В новых условиях кремень становится важнейшим материалом для
изготовления орудий, поскольку использование его свойств — твер-
дости, острого режущего края отщепов, получаемых при раскалывании
кремня, — было необходимо человеку для удовлетворения насущных
потребностей охотничьего обихода. Кремень и аналогичные ему породы,
имевшиеся под рукой у первобытного человека в неограниченном коли-
честве — в расщепленном виде, в форме грубых осколков, — вполне отве-
чали этим запросам.
Легкость раскалывания кремня и отсутствие определенных типов
инструментов, которые выработались только в результате очень долгого
опыта, делали первоначальное использование кремневых отщепов слу-
чайным, в пределах потребности сегодняшнего дня, хотя постоянное
применение этих случайных орудий (outils de fortune, как их называют
французские’ исследователи) должно было вести уже в раннюю пору
среднего палеолита к некоторому однообразию намечающихся категорий
первых подобных орудий труда.
Среди них появляются так называемые скребла — режущие отщепы
с подправкой по длинному краю, затем заостренные более или менее тре-
угольные сколы, также с краевой подретушевкой, — прототипы будущих
мустьерских остроконечников, а также выемчатые скребла и изогнутые
1 Г. А. Бонч-Осмоловский, Итоги изучения..., стр. 141; К вопросу об эволюции
древнепалеолитических индустрий, стр. 184.
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ТИПОВ КРЕМНЕВОГО ИНВЕНТАРЯ
221
режущие острия, если говорить о наиболее обычных видах этих простей-
ших орудий, получающих свое окончательное оформление только в крем-
невом инвентаре поздней мустьерской эпохи.
В начальную пору охотничьей стадии некоторое переломное состояние,
переживаемое производством орудий из кремня, видимо, не в одинаковых
формах отразилось в среде населения Евразии. Если, с одной стороны,
от этого времени до нас дошли стоянки описанного типа с грубыми ору-
диями, изготовленными из отщепов, — с другой, в иных местонахожде-
ниях, ручное рубило еще очень долго не выходит из повседневного упо-
требления. Оно, очевидно, крепко держится за технические навыки
первобытного человечества, хотя это орудие здесь и меняет в значи-
тельной степени свое назначение.
Инвентарь
рубил
Мы видели его в стоянке Торральба в Испании, в гроте Обсерватории
в окрестностях Ментоны, как и в пещерных стоянках Палестины, в какой
то начальный период сложения новых форм первобытного хозяйства. Нам
придется обратиться теперь к рассмотрению тех более поздних стоянок
Европы, где этот тип орудия нередко составляет попрежнему характер-
нейший элемент кремневого инвентаря, однако со всеми теми новыми
чертами, которые приносит упрочение охотничьего быта.
Предварительно позволим себе еще некоторое общее замечание. Мы
не остановились выше на вопросе, который естественно может быть по-
Длитель-
ность суще-
ставлен: следует ли считать лагеря охотников за лошадью, оленем, реже —
слоном, носорогом, с «ранне-мустьерским» инвентарем, известные на всем
протяжении Европы от Испании до Крыма, принадлежащими одному и
ствования
«атипического »
инвентаря
тому же, более или менее точно фиксируемому времени, — скажем, более
ранней поре среднего палеолита или, если пользоваться старой терми-
нологией, ашёльской эпохе, — или они обнимают, по крайней мере
в Европе, гораздо более продолжительное время?
В первом предположении как будто все же можно усомниться. Нет,
конечно, никаких оснований подвергать сомнению относительно ранний
возраст целого ряда таких местонахождений, как тот же нижний горизонт
Микок, Ферраси и других пещерных поселений с подобными находками.
С другой стороны, нельзя представить себе, чтобы на громадных про-
странствах Европы, в среде разбросанных, мало общающихся, замкнутых
первобытных орд, при достаточно различных условиях природной обста-
новки, процесс трансформации средств производства, в частности того,
что мы называем кремневым инвентарем, мог итти в совершенно одина-
ковом темпе и совершенно тождественным образом. Это противоречило
бы тому, что мы знаем о первобытном человечестве.
Конечно, общий путь развития оставался одинаковым не только для
населения Европы, но и для всего обитаемого мира. Сходство условий
в целых больших областях, например, в той же Европе, неизбежно
вело к тому, что в общем Масштабе исторического процесса с течением
времени выравнивались отдельные местные особенности этого процесса.
В этом смысле можно говорить о среднепалеолитическом (мустьерской)
обществе Европы как о чем-то едином и целостном, несмотря на то, что
оно состояло из небольших разобщенных человеческих коллективов. Но
из этого было бы совершенно неправильно делать вывод, что изменение
отдельных типов орудий, или тех или других приемов техники обработки
кремня, может быть использовано как какой-то точный хронометр, отме-
чающий все этапы истории среднепалеолитического человека.
Это замечание приходится сделать в виду нередко наблюдающейся
у специалистов по палеолиту склонности к чрезвычайной переоценке
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
общей исторической значимости относительно небольших изменений в тех-
нике обработки кремня или в формах орудий. Оно будет для нас иметь
значение и при решении вопроса о времени, к которому следует относить
восточноевропейские памятники палеолитической культуры.
«Неоэволюционизму» этих ученых, переносящему на технические
приемы палеолита чисто биологические представления о полной преем-
ственности и всеобщности даже незначительных изменений, которые они
стремятся построить в целую систему «развития палеолитических инду-
стрий», мы можем противопоставить совершенно иные факты. Мы не пой-
дем так далеко, чтобы утверждать, как это делают некоторые авторы,
что так называемый аморфный, клэктонский или примитивно-мустьер-
ский, инвентарь из грубых случайных отщепов и таких же орудий в место-
нахождениях центральной Европы (Чехословакия, Швейцария) в какой
то своей части относится даже не к среднему, а к верхнему палеолиту.
Но мы не можем отрицать правильности наблюдений, сделанных в Ле
Мустье, Табатери, Ла Микок и других стоянках Франции, где слои с
аморфным инвентарем залегают между слоями с достаточно типичными
орудиями среднего палеолита. 1 Смешно, конечно, говорить о «рабах
мустьерцев», которым приписывает Рюто подобные находки кремневых
изделий примитивного характера. Совершенно искусственным, чтобы не
сказать, больше, является допущение, что различные технические приемы
были свойственны носителям особых «культур», разным народностям
эпохи мустье, постоянно менявшим места своего обитания.
С нашей точки зрения этот факт становится понятным, если предста-
вить себе чрезвычайно раздробленное и разобщенное общество на ступени
среднего палеолита, где отдельные, слагающие это общество, замкнутые
эндогамные группы могли применять и развивать совершенно различные
приемы использования кремня.
НИЖНИИ ГРОТ МУСТЬЕ
Когда старые французские археологи во главе с Г. Мортилье наме-
чали свою «систему эпох палеолита», они подразделили всю историю па-
леолитического человечества на три стадии, руководствуясь прежде всего
кремневым инвентарем — господством в ту или иную эпоху определенных
приемов обработки кремня и общим характером орудий. По этим при-
знакам они считали возможным в виде первого этапа первобытной куль-
туры выделить шелльскую и ашёльскую эпохи как время, когда господ-
ствующей техникой изготовления орудий было обтесывание кремневого
валуна, в результате чего получалось ручное рубило — которое они
склонны были рассматривать как единственное и универсальное орудие
раннего палеолита.
Этой стадии они противопоставляли следующую, отвечающую эпохе
мустье, когда на смену приемам обтесывания камня приходит иной
способ — отщепление крупной, более или менее широкой, часто треуголь-
ной пластины, отделявшейся от подготовленного заранее куска кремня, —
большого дисковидного нуклеуса. Стадии мустье соответствуют свои
характерные формы орудий, изготовленных из этих пластин с помощью
нового приема, так называемой ретуши — подправки, наносившейся по
1 См. например, Anna Barnett, Une couche d'outils d’usage exclusifs entre des couches
mousteriennes de caracteres classiques, «Institut Intern. d’Anthrop.», Ill session, Amster-
dam, 1927, стр. 305.
НИЖНИИ ГРОТ МУСТЬЕ
22»:
краю пластинки, чтобы сделать ее более прочной и пригодной для дли-
тельного употребления.
Действительно, в ряде случаев, например в древних террасах речных
долин северной Франции, можно проследить от нижних горизонтов к верх-
ним именно такую последовательность в смене грубых шелльских рубил
более тонко выделанными ашёльскими рубилами и затем орудиями му-
стьерских типов. Однако эти факты при свете других открытий, сделан-
ных.в той же Франции, получают несколько другое освещение.
Собственно мустьерская эпоха была установлена впервые в резуль-
тате раскопок знаменитого Э. Лартэ, одного из первых и самых заслужен-
ных исследователей палеолитических пещер Франции. Его раскопки,
относящиеся еще к 60-м годам прошлого века, в Дордони, в окрестностях
Лез-Эйзи, сделали очевидным, что наиболее ранним из обнаруженных
им комплексов пещерных находок являются находки в исследованной
им пещере Мустье.
Мустье представляет небольшое селение в 10 км к северу от Лез-Эйзи, Верхний грот
вверх по течению р. Везеры. Здесь, на понижении склона возвышенностей,
сложенных из известняков, которые прорезает р. Везера, обращенного
в виде выступающего мыса в сторону речной долины, расположен не-
большой грот, давший свое имя этой эпохе. Он был заполнен культурным
слоем, в течение многих лет доставлявшим французским археологам
обильные находки и ныне совершенно опустошенным. Культурный слой
распространяется и на лежащую перед гротом широкую площадку, ко-
торая также в продолжение долгого времени служила местом обитания
первобытного человека.
На том же известняковом выступе береговой возвышенности, под пер- Нижний грот
иым гротом, но значительно ниже, приблизительно метрах в 10 над со-
временным уровнем реки, находится другой грот. Он стал предметом тща-
тельного изучения, произведенного известным французским исследова-
телем палеолитических памятников Дордони Пейрони. 1 На результатах
раскопок Пейрони, довольно неожиданных по тем выводам, которые они
позволяют сделать в отношении более или менее застывших со времени
Мортилье представлений о мустьерской эпохе, нам нужно будет несколько
остановиться.
Рис. 44 может дать некоторое представление о характере напласто-
ваний верхнего, классического грота Мустье и нижнего навеса, иссле-
дованного Пейрони. Если верхнее местонахождение, кроме горизонтов
с остатками ориньякского времени, содержит только два слоя с наход-
ками обычных мустьерских типов, нижний грот дает в этом смысле зна-
чительно более сложную картину. Здесь имеется три хорошо выраженных
мустьерских слоя, поверх которых, как и в первом случае, залегает слой
«4 довольно бедными, но характерными остатками ориньякской эпохи.
Три горизонта находок нижнего грота Мустье, отвечающие разным
моментам в истории мустьерской культуры, заслуживают большого вни-
мания. Изученные таким крупным, заслуживающим доверия ученым, как
Пейрони, они представляют материал документального характера, в до-
стоверности которого, как справедливо замечает М. Буль в рецензии на
труд Пейрони, не приходится сомневаться.
Нижний слой второго грота залегает почти непосредственно на ска- Находки »
листом дне навеса и отделен от него только незначительной толщей пе- нижнем слое
1 D. Peyrony, Le Moustier, ses gisements, ses industries, ses couches geologiques’
«Revue anthropologique», AsAs 1—3, 4—6, 1930.
324
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
сков, оставленных, видимо, большими половодьями начала среднеледни-
ковой эпохи, когда уровень р. Везеры был значительно повышен. Он
содержит уже довольно много кремня, принесенного человеком, и раско-
лотые кости животных — дикой лошади, быка, оленя, горного козла.
^Инвентарь из Особенностью кремневого инвентаря нижнего слоя, который целиком со-
отщепов
нижшто
слоя
стоит из отщепов и совершенно не содержит двусторонне обработанных
орудий типа рубил, является преобладание орудий случайного харак-
тера, с легкой подправкой, то есть частичным приспособлением кремневых
отщепов для того или иного использования. В этом отношении он довольно
близко напоминает вышеописанные премустьерские стоянки — Ферраси,
Микок и другие.
Однако в то же время кремневый инвентарь этого слоя обнаруживает
черты большего усложнения и усовершенствования. Здесь же встре-
чаются орудия, напоминающие настоящие мустьерские остроконечники,
скребла, резаки
Рис. И. Наслоения верхнего и нижнего гротов Мустье.
(По Пейрони,
(транше), удлинен-
ные ножевидные
пластины с подре-
тушевкой, хорошо
оформляющей ра-
бочий край инстру-
мента. Вторичная
подправка бывает
выполнена иногда
с помощью отжи-
мания на подходя-
щем обломке ко-
сти — прием, весь-
ма характерный
именно для му-
стьерской эпохи.
Наконец, Пейрони
отмечает для этого
слоя находки мас-
сивных пластин так называемого типа леваллуа, о которых нам еще
придется говорить, поскольку они составляют особенность ряда стоянок,
относимых к ашёльскому времени.
Таким образом, нижний горизонт нижнего грота Мустье, по данным
Пейрони, может быть отнесен к более ранней поре мустьерской эпохи,
когда в изделиях из камня еще заметно сказываются примитивные приемы
обработки кремня, унаследованные от эпохи первых охотничьих стойбищ
* среднего палеолита.
Средний слой Выше, за слоем гравия, содержащим сильно окатанные кремни мустьер-
« рубилами ских типов (новое поднятие р. Везеры), и слоем глины без всяких нахо-
док, идут слои с обильными культурными остатками, не обнаруживаю-
щими каких-либо признаков перемещения. Эти горизонты, различаю-
щиеся по составу наноса, дают в общем более или менее одинаковую кар-
тину в отношении остатков, связанных с деятельностью человека. В осо-
бенности интересен их кремневый инвентарь: если бы мы не знали,
что он следует в этом местонахождении непосредственно за инвен-
тарем мустьерским, хотя и довольно примитивным, мы должны были
бы считать его более или менее типичным ашёлем, по терминологии
Мортилье.
225
НИЖНИЙ ГРОТ МУСТЬЕ
Действительно, первое, что останавливает внимание в сделанных здесь
'находках, это многочисленные ручные рубила разнообразных размеров,
по большей части тонко отделанные двусторонним стесыванием. Одни
из них, до 15 см в длину, напоминают формы более раннего ашёля, другие,
мелкие, также тщательно выделанные, находят ближайшую аналогию
в «рубпльцах» многих позднеашёльских стоянок.
Сопровождающий их инвентарь отщепов носит также своеобразный и
примитивный характер. Он состоит из крупных отщепов кремня, часто
близких к типу леваллуа, среди которых нередки более правильные
удлиненные широкие пластины, какие встречаются вместе с ашёльскими
рубилами в древних аллювиях Соммы в окрестностях Амьена и описаны
в работах Коммона.
Приготовленные из этого материала орудия редко воспроизводят на-
стоящие мустьерские виды их; например остроконечники и скребла,
основные орудия стоянок типа мустье, здесь вообще почти неизвестны.
Для выделки орудий применяется главным образом крутая, грубая ре-
тушь, сбивающая края пластины — особенность, которая, как сейчас
мы знаем, сопровождает раннемустьерскую кремневую технику и вновь
появляется, иногда, в конце этой эпохи, в период упадка мустьерского
кремневого производства. Преобладающим видом орудий здесь являются
удлиненные пластины или менее правильные более широкие отщепы,
иногда треугольной формы, с краевой подретушевкой.
Пейрони считает возможным различить среди них довольно много раз-
личных видов орудий — такие, как острия, ножи с затупленной спинкой,
простейшие скребла, примитивные концевые скребки и т. д. Многочис-
ленные остатки животных в виде раздробленных, частью обгоревших или
превратившихся в уголь костей указывают на охотничий быт населе-
ния, жившего главным образом охотой на диких быков (первобытного
быка и бизона), затем лошадей, благородных оленей, горных козлов,
которые, очевидно, водились на известняковых утесах, окаймляющих до-
лину р. Везеры. Вместе с ними встречаются кости сибирского носорога,
пещерного медведя, пещерной гиены. Но что особенно заслуживает внима-
ния — это появление северного оленя, остатки которого, хотя и в небольшом
чпсле, были встречены во всех описанных горизонтах нижнего грота Мустье.
Что в этих находках мы имеем дело с первобытным человеческим обще-
ством, уже довольно далеко ушедшим по пути прогрессивного развития,
несмотря на значительный архаизм кремневых орудий, —говорят и другие
факты, отмеченные Пейрони. Например, здесь имеются попытки утили-
зации кости в виде расколотых трубчатых костей животных, которые
использовались человеком в качестве отжимников для обработки кремня.
О том же говорят находки кусков минеральной краски, даже как будто
следы примитивной росписи на обломках известняка, о которых сообщает
tojt же автор.
Верхний мустьерский горизонт этого убежища дает уже типичные му-
стьерские орудия, хорошо известные по верхнему гроту Мустье. Буль 1
в своей рецензии на публикацию Пейрони расценивает его наблюдения как
тяжелый удар для формально-типологических взглядов, до сих пор господ-
ствующих в археологии в отношении общего характера и последователь-
ности явлений, на .которых строится история среднего палеолита. Дей-
ствительно, нельзя иначе оценивать значение исследований Пейрони,
которые разрушают представление о медленной, постепенной, «почти био-
Верхний
слой — тииич
иый мустье
1 <>L’ Anthropologies, 1931, стр. 161.
15 П. П. Ефименко. Пергобытпое общество — 1734
22в ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
логической», как выражаются некоторые наши авторы, преемственности
в изменении техники и форм кремневого инвентаря в течение ашёльско-
мустьерского времени.
Подобные взгляды, до сих пор пользующиеся широким распростране-
нием среди археологов, в действительности, к явному вреду для науки,
подменивают общую перспективу стадиального развития первобытного
общества, вне которой вообще не может быть понята история палеолити-
ческой культуры, идеей эволюционного развития отдельных видов ору-
дий или технических приемов, которое будто бы совершалось путем
постепенного накопления небольших совершенствований и изменений,
всегда шедших параллельно с общим ходом культурного прогресса.
ПЛАСТИНЫ ЛЕВАЛЛУА
Рис. 45. Пластина типа леваллуа
(Монтьер, северная Франция).
Ок. 1/3 и. в.
(По ООермайеру)
В связи с находками в отложениях нижнего грота Мустье и пещеры
Кастильо мы упоминали так называемые пластины леваллуа. Под име-
нем «леваллуа» обычно подразумевается осо-
бая стадия ашёльской эпохи, которая ха-
рактеризуется употреблением крупных крем-
невых пластин. Собственно название «Ле-
валлуа» эти находки получили от местности
под Парижем, где такие пластины были
встречены впервые в большом числе в слоях
древнего лёсса.
Они имеют вид широких крупных пла-
стин, иногда овальной формы, с гладкой
отбивной стороной и с очень характерным
огранением спинки. У типичных экземпля-
ров пластин леваллуа эта особенность бывает
хорошо выражена (рис. 45): их спинка пред-
ставляет ряд фасеток, следов скалывания,
сходящихся от окружности к центру. Иногда
их сравнивают как бы с расколотым ангель-
ским «ручным рубилом». Это сравнение имеет
известное основание в том смысле, что пла-
стины леваллуа получались нё обычным
приемом отщепления кремневых пластин,
практиковавшимся в мустьерское время, а
требовали особых заготовок из кремня, предварительно особым образом
обтесанных, от которых посредством бокового удара отделялась пластина
с характерно фасетированной спинкой. Во всяком случае очевидно, что
они являются продуктодр-относительно высокой техники обработки камня.
В особенно большом числе пластины леваллуа были находимы на местах
массового их изготовления, например на стоянке-мастерской Монтьер
на Сомме, открытой Коммоном, затем в Леваллуа под Парижем, наконец
в замечательной палеолитической мастерской в Дордони, описанной
Пейрони, где на большом пространстве залегал слой кремней, состоявший
почти исключительно из подобных пластин.
Можно думать, что по своему применению эти пластины стоят близко
к мустьер.скому «рубилу», представляя крупный и прочный режущий
инструмент. Особенно в этом смысле они близки к тем более поздним
«рубилам», которые выделывались из пластин и имеют обтесанной иногда
только одну спинку.
СТОЯНКИ ТИПА МИКОК, ИХ ВРЕМЯ
227
В смысле времени их распространения вряд ли можно сомневаться,
что они являются лишь одним из приемов использования кремня в мустьер-
скую эпоху, в общем, вероятно, отвечая более ранней поре этого времени,
хотя, как мы видели, они известны почти во всех горизонтах нижнего
грота Мустье. В пещере Кастильо Овермайер отмечает их присутствие
в слое, который он относит к позднему мустьерскому времени. В древних
наносах Сены п Соммы, где они главным образом были находимы, пла-
стины типа леваллуа встречаются обычно вместе с небольшими ручными
рубилами тех типов, которые считаются характерными для так называе-
мой позднеашёльской эпохи.
СТОЯНКИ ТИПА МИКОК, ИХ ВРЕМЯ
Наблюдения Пейрони в гроте Мустье дают новый, исключительно важ-
ный материал для освещения вопроса о так называемой позднеашёльской
эпохе и считающемся характерным для нее кремневом инвентаре из неболь-
ших, тонко отделанных «рубилец», или «бифасов». Из находок Пейрони
можно сделать ряд выводов, имеющих для нас первостепенное значение.
На основании этих находок и других аналогичных фактов мы должны
притти к выводу, что так называемый более поздний ашёль (слои нижнего
грота Мустье) в действительности не выходит во времени за пределы того,
что мы называем мустьерской эпохой. Мы имеем здесь несомненно охотни-
чье общество, уже довольно далеко отошедшее от своего первобытного
состояния. — тем более, что, как мы видели, горизонтам с «рубилами» пред-
шествуют слои, где «ручное рубило» вовсе отсутствует или по крайней
мере занимает совершенно второстепенное место среди изделий из кремня.
Таким образом мустьерская стадия истории палеолитического чело-
вечества, населявшего некогда материк Евразии и смежные области
Африки, в противоположность обычным представлениям, должна начи-
наться задолго до того времени, к которому ее склонны были относить до
находок Пейрони. Мустьерская эпоха в прежнем понимании этого термина
является лишь наиболее поздней фазой данного исторического периода.
В отношении изделий из кремня в более раннее время мустьерская ста-
дия бывает представлена по большей части местонахождениями, где руч-
ное рубило играет второстепенную роль. Однако вместе с первобытными
обществами охотников, среди которых очень рано сложились новые формы
техники, существовали другие, которые гораздо дольше, до конца мустьер-
ской эпохи, удерживали в живом употреблении «ручное рубило», хотя,
несомненно, в совершенно ином применении, чем в прежнее время.
Наиболее известной стоянкой последнего типа, по имени которой часто Ла Микок —
обозначается вся группа подобных стоянок, можно считать местонахожде- верхний
ние Ла Микок, о находках в нижнем слое которого мы уже упоминали горизонт
(стр". 209).
Стоянка Микок расположена на пологом склоне береговой возвышен-
ности долины р. Везеры, недалеко от известного палеолитического посе-
ления солютрейского времени — Верхней Ложери. Раньше она, кажется,
находилась под защитой известнякового утеса, с течением времени рас-
павшегося и образовавшего тот слой щебня, который покрывает остатки
палеолитического стойбища.
Верхний слой Микок дает картину настоящего лагеря охотников,
преимущественно за лошадью крупной породы. Остатки лошади образуют
здесь огромные скопления, целый слой слежавшихся костей, превратив-
*
228
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Рис. 46. Небольшое
рубило из Ла Микок
(Франция).
Кремень. Ок. 2/3 н. в.
(Ио Обермайеру;
К типу микок
шихся в костную брекчию, среди которых рядом исследователей — Шовэ
и Ривьером (с 1886 г.), позже Капитаном и Пейрони и др.— собрано было
значительное число орудий из кремня.
Не останавливаясь на подробном их описании, отметим, что эта стоян-
ка, которую обычно рассматривают как становище ашёльской эпохи, осо-
бенно замечательна находками множества мелких «ручных рубил». Неболь-
шие размеры, затем тонкость отделки указывают на то, что они менее
всего были пригодны для цели, о которой говорит их название;
в них приходится видеть набор инструментов весьма различного на-
значения.
Впрочем, вряд ли было бы правильно рассматривать самое разнообразие
форм этих «рубил» как признак особенного усложнения технических функ-
ций кремневых орудий в эту эпоху; их формы, раз-
нообразие последних, вероятно, в гораздо большей
степени зависели от более пли менее случайных при-
чин, поскольку сама техника двустороннего обтесы-
вания давала больше простора для вкуса мастера.
Известную роль здесь могло сыграть и свойственное
стоянкам этого типа тонкое мастерство в обработке
кремня, которое в последующее время обнаружи-
вает во многих случаях заметный упадок в связи с
переходом к иным приемам и, может быть, иному
характеру использования кремня.
Нужно иметь в виду, например, вероятность ши-
рокого распространения к концу мустьерской эпохи
приема закрепления кремневых отщепов в рукоятях,
что, в связи с повышением производственной эффек-
тивности таких орудий, могло первоначально
вести к упрощению техники обработки самого
кремня.
В отношении других орудий пз верхнего слоя
Микок приходится сказать, что они в общем очень
близки к мустьерскпм типам и если чем-нибудь заме-
чательны, то только относительно высоким каче-
ством своей отделки.
носится ряд других стоянок Европы, которые, как и
самопоселениеМикок, ранее помещались в ашёльскую эпоху. Они известны,
в частности, во многих пунктах Франции, где они представляют то обшир-
ные лагери охотников за лошадью и мамонтом, то мастерские, где в огром-
ном числе изготовлялись орудия описанных нами типов.
Из первых укажем Комб-Капелль в той же Дордони, давно известную
по находкам в ее отложениях мелких ручных рубил. Это местонахождение
интересно также тем, что под жилым слоем с «ашёльскими» кремнями
» раскопками Канадского института доистории был открыт другой слой
с инвентарем отщепов, более или менее типично мустьерским, хотя, по
указанию Брейля, с некоторыми чертами премустьерской техники, что
является лишним подтверждением правильности наблюдений Пейрони.
Сюда же относится стоянка Кэвр в районе Суассона, относительно кото-
рой Мортилье сообщает, что она представляла собой «обширное нагро-
мождение костей, по большей части расколотых, настолько значитель-
ное, что их разрабатывали для удобрения полей. Среди костей нахо-
димы были многочисленные обработанные кремни. Некоторые из них
напоминают характерные формы мустье, но в сочетании с множеством
Комб-
Капел.п.
229
СТОЯНКИ ТИПА МИКОК, ИХ ВРЕМЯ
ручных рубил». 1 Предметом охоты здесь также являлась преимуще-
ственно лошадь, затем мамонт, бык, канадский олень, сибирский носорог
и другие животные.
Стоянка Genay (Cote d’Or), по своему характеру сходная со стоянкой
Кэвр, также сопровождалась мощным нагромождением костей животных
тех же пород, местами достигавшим двух метров. Сюда относится стоянка
La Hutte (Енге et Loire) с таким же скоплением остатков охотничьей добычи
вокруг очагов и, затем, целый ряд других таких же мест поселений. Мор-
тилье указывает для Франции и ряд мастерских, где главным образом
изготовлялись те же небольшие рубила — Шарбонньер в долине Соны
в средней Франции (департамент Аллье), Буа-дю-Роше в Бретании (Кот-
дю-Нор) и др.
Таким образом, насколько мы можем судить по имеющимся данным,
за отмеченными нами выше становищами с архаическими изделиями
из кремня премустьерского характера — типа Таубаха, Крапины, Гуде-
нуса, Шипки, Киик-Коба — следуют мустьерские стоянки с инвента-
рем ашёльского типа (так называемое «мустье с ашёльской традицией»
французских авторов), получающие чрезвычайно широкое распростра-
нение во всей Европе. Стойкий в смысле видов изделий, нередко уже
достаточно сложный инвентарь этих стоянок показывает, что приспосо-
бившиеся к новым условиям первобытные группы охотников среднего
палеолита оказываются уже достаточно вооруженными — наряду с целым
набором орудий труда — такими завоеваниями культуры, как огонь,
одежда из шкур, простейшее жилище, чтобы успешно бороться за свое
существование в менее благоприятных условиях средней и восточной
Европы.
В Германии стойбище этого типа, если не говорить об отдельных наход-
ках «ручных рубил» позднеашёльских типов, представляет скальное убе-
жище Клаузе (Бавария), давшее прекрасные изделия из кремня, в составе
которых имеются многочисленные «ручные рубила», переходящие в мустьер-
ские остроконечники, затем характерные скребла (racloires) и пр.2
Подобные места поселений с орудиями «ашёльского» характера, в то же
время с богатым и разнообразным кремневым инвентарем из отщепов,
высокой техникой обработки этого материала, начатками утилизации кости
и другими чертами, которые становятся известны, вообще говоря, только в
более позднююпору мустьерскойэпохи, идут значительно дальше на восток.
В Польше они открыты в пещере Окенник в верховьях р. Варты с 1910 г.
и в пещере Галоска3 в окрестностях д. Пекары на берегу Вислы, обследо-
ванной Ооновским в 1880 г. В культурном слое этих пещер вместе с ко-
стями мамонта, пещерных хищников (пещерный медведь, пещерная гиена),
затем представителей типичной лесной фауны среднеледникового времени
(лось, канадский олень, благородней олень и др.) найден довольно бога-
тый, в общем очень сходный набор изделий из кремня. В нем удерживаются
еще в большем числе «рубила» с двусторонней обтеской, хотя они нередко
сделаны не«из валуна кремня, а из крупного скола и, кроме стесывания,
отретушированы по краю, как это наблюдается в мустьерских изделиях.
Другие орудия представляют настоящие мустьерские остроконечники и'
1 G. et A. Mortillet, La Prehistoire, стр. 376.
2 Н. Obermaier und Р. Wernert, Palaolithbeitrage aus Nordbayern. «Mitt. d. Anthr.
Gesell. in Wien», Bd. XLIV, 1914, стр. 44.
3 L. Kozlowski, Starsza epoka kamienna. w Polsce, Poznan, 1922. Demetrykieivicz
i Kuzniar, Naistarszy paleolit ni ziemiach Polskich. «Materyaly, anthr.-arheol. Akad.
Um.», t. Xlll. стр. 10.
Другие
находки во
Франции
Германия
Польша
280
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Извор
скребла, сделанные из широких, часто треугольных пластин. Особенностью
их, которая может быть прослежена во всех стоянках типа микок,
является то, что они бывают подправлены тонкой, состругивающей ретушью
не только со спинки, но отчасти и с брюшка, то есть гладкой отбивной
стороны скола.
Не менее интересной, чем польскпе находки, является недавно откры-
тая стоянка Извор в Бессарабии на берегу Прута, замечательная огром-
ными скоплениями костей мамонта, сибирского носорога и других живот-
ных, которые, как и в нижнем гроте Мустье, сопровождаются остатками
неверного оленя. Кремневые орудия, приготовленные из прекрасного
мелового кремня, в этой
Тата
Рис. 47. Рубило ашёльского типа
из Гоксн (Англия).
Кремень. Ок. '/2 н. в.
(По коллекции Британского музея)
стоянке, судя по предварительной публикации
Н. Моросана (1931),1 носят обычный для во-
сточноевропейских местонахождений сред-
него палеолита характер смешения черт
«ашёльской» и поздпемустьерскоп техники.
Действительно, здесь ручные рубила со-
четаются с типично-мустьерскими формами;
наряду с ними нередки орудия переходного
типа, выполненные одинаково стесыванием
и подправкой. Открывший эту интересную
стоянку Н. Моросан определяет ее поздне-
мустьерским временем, учитывая, с одной
стороны, высокую технику многих кремне-
вых изделий, с другой — утилизацию кости,
которая здесь приобретает характер «на-
стоящей индустрии кости в ее первых проя-
влениях». Сходную картину мы имеем и в
крымских стоянках эпохи мустье.
В Венгрии местонахождение с небольши-
ми орудиями мустьерских типов из кремня,
яшмы, кварцита и т. д., к которым часто
применялась оббивка с брюшка, предста-
влено стоянкой Тата, в 65 км к востоку от
Будапешта.2
Вопрос о времени стоянок, в которых
удерживаются в качестве одного из основ-
ных изделий из кремня «ручные рубила»,
правильнее сказать, небольшие орудия, при-
готовленные способом двустороннего обтесывания, имеет достаточно суще-
ственное значение, поскольку от того пли иного решения этого вопроса
зависит понимание исторического процесса, в котором должны были созда-
ваться те первобытные общества, которые появляются в Европе в сред-
нюю пору ледниковой эпохи.
Мы уже указывали, что архаические формы техники, в частности в от-
ношении обработки кремня (имея в виду, в первую очередь, технику
двустороннего обтесывания), могут представлять довольно устойчивое и
характерное явление, объясняющееся, очевидно, особыми условиями
развития тех или иных первобытных обществ, но сами по себе они далеко
1 <<£’Anthropologies, 1931, 1—2, стр. 234, Ср. также N. Morosan, Exisle-t-il du
Micoquien en Bessarabie el quelle serait sa place dans la chronologic du pleistocene?
«Bull, de la Societe Prehistorique Francoises, № 4, 1931.
2 H. Breuil, Holes de voyage paleolithique en Europe cenlrale, «£’Anthropologies,
t. XXXIII, 1923, стр. 328.
СТОЯНКИ ТИПА МИКОК, ИХ ВРЕМЯ
не всегда могут служить надежным критерием этого процесса, то есть
показателем уровня развития данных обществ.
Только стоя на совершенно формальной точке зрения, можно утвер-
ждать, что описанные выше поселения типа микок, которые обнаруживают
черты большого усложнения культуры на основе настоящего охотничьего
хозяйства, должны относиться к древнему палеолиту, являющемуся, как мы
видели, древнейшей стадией в истории общественных образований, выра-
стающих в условиях собирательства и зачаточной, ненадежной еще охоты.
Признание до-мустьерского — ашёльского или древнепалеолитического
возраста этих стоянок, как это принимается многими из западноевропей-
ских ученых и как это у нас проводится Г. А. Бонч-Осмоловским, нару-
шает перспективу этого процесса, отрывая кремневый инвентарь и эле-
менты материальной культуры от того, с чем они теснейшим образом свя-
заны и без чего остается непонятным их стадиальное развитие, — то есть
от изменения общественно-хозяйственного строя первобытного общества.
Для поставленного нами вопроса значительный интерес имеет пещера
Кастильо в северо-западной Испании, в провинции Сантандер. Один из
ее исследователей, Обермайер, 1 дает для ее палеолитических отложений
такую картину: 2
(V. А з и л ь с к и й слой с плоскими гарпунами.
и. Позднема^ ленский слой с типичными для этого времени
находками—гарпунами, жезлами начальников и пр. Содержит остатки
благородного оленя.
5. Ранний мадлен. Мощный культурный слой. Благородный
олень, немного остатков северного оленя.
q. Ранний солютре. Лошадь, немного остатков северного оленя.
о. По здний ориньяк. Лошадь, немного остатков северного оленя.
m и к. Два горизонта также позднеориньякского вре-
мени. Фауна представлена главным образом остатками лошади.
к. Средний ориньяк с остатками благородного оленя и носо-
рога Мерка.
/. Поз дне му стьер скпй горизонт. Содержит мустьерские
остроконечники и скребла, но также много крупных орудий из квар-
цита, серпентина, песчаника и пр., приготовленных техникой стесы-
вания: «местное переживание древней техники ручного рубила», как
их определяет сам Обермайер. Иногда они напоминают пластины ле-
валлуа. В этом горизонте появляется уже обработанная кость — в виде
костяных шильев. Фауна — главным образом благородный олень и
носорог Мерка.
d. Позднему стьерский горизонт. Небольшие тонко сделан-
ные ручные рубила, остроконечники, скребла и пр. Фауна—главным
образом благородный оленьки носорог Мерка.
Ь. Ранний ашёльс грубыми рубилами из плотного известняка,
реже кварцита, серпентина. Преобладают благородный олень и носорог
Мерка.
а. Немного атипических орудий. Фауна представлена главным обра-
зом остатками пещерного медведя, немного — северного оленя, сурка.
Вряд ли прав Обермайер, определяя раннеашёльским временем грубые
рубила, найденные в основании мощных отложений грота Кастильо,
поскольку сопровождающие их кости животных тех же видов, на которые
1 Н. Obermaier, Fossil man in. Spain, 1925, стр. 164.
2 c, e, g, i и t. д. обозначают слои, не содержащие находок.
ГЛ^ВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
охотился человек и в последующую пору заселения этого убежища,
говорят о неизменности условий природной среды и, что важнее, об очень
близких условиях существования первобытных охотников в течение
периода времени, обнимающего четыре нижних горизонта пещеры Кас-
тильо. Однако некоторую аналогию этим находкам нельзя не видеть
в стоянке Торральба в той же Испании, гроте Обсерватории близ
Монако и в других подобных местонахождениях южной Европы, пред-
ставляющих собой охотничьи становища более ранней поры среднего
палеолита (ср. стр. 204).
Во всяком случае, «мустьерская индустрия с ашёльской традицией»
третьего и четвертого горизонтов (снизу) пещеры Кастильо, очень близкая
к другим стоянкам этой группы памятников европейского палеолита,
должна быть действительно — в этом Овермайер вполне прав — отнесена
не к «ашёльскому», а к позднему мустьерскому времени.
Для нас это заключение автора, которого трудно было бы заподозрить
в симпатиях к каким-либо новаторским взглядам в области проблем палео-
лита, достаточно важно, поскольку это показывает беспочвенность опре-
деления времени поселений среднего палеолита «ашёльской эпохой» только
исходя из присутствия в них двусторонне обтесанных орудий. Нашим иссле-
дователям, занимающимся палеолитическими памятниками Крыма (Киик-
Коба, Чокурча и др-), следует сделать из этого для себя должные выводы.
Невозможность датировать ранним ашёлем слой b пешеры Кастильо
явствует и из находки в нижележащем слое с атипическим (премустьер-
ским) инвентарем (слой я) вместе с пещерным медведем остатков север-
ного оленя. Многочисленные наблюдения в палеолитических местонахо-
ждениях Франции, которую северный олень не мог миновать в своем про-
движении на юг, показывают, что это животное появляется здесь в опре-
деленную пору плейстоцена, которую мы можем определить как вторую
половину премустьерской стадии, близкую по времени к типичному
мустье (эпоха рисского оледенения).
Аналогичное явление мы имеем в Крыму, где нижний слой Киик-Коба
с атипическим кремневым инвентарем и той же холодной фауной отно-
сится к группе более поздних премустьерских (позднеклэктонскпх) стоя-
нок, тогда как следующие за ним культурные отложения пещеры Шайтан-
Коба, верхнего слоя Киик-Коба и Чокурчи могут рассматриваться в типах
своих изделий как поздние варианты «мустье с ашёльской традицией».
Последний же, то есть кремневый инвентарь, в котором еще сильны
традиции так называемой «ашёльской» техники, как это становится все
более очевидным, доживает в Европе в целом ряде местонахождений до
конца того, что мы условно называем эпохой мустье.
Весьма вероятно, что окажется прав Байер,1 указывающий, что «мустье
с ашёльской традицией» пещеры Кастильо сопровождается орудиями
верхнепалеолитических типов (резцы,, концевые скребки, нуклевидные
формы и пр.), из чего он делает вывод о более позднем возрасте этих
слоев в сравнении’ с другими местонахождениями того же характера.
Во всяком случае, этот исследователь склонен относить стоянки данного
типа, достаточно распространенные в Испании, к рисс-вюрмской эпохе
(по Байеру— ориньякское отступание ледников).
Приведем интересный разрез пещерной стоянки Пин-Гол в Дерби-
шире, в Англии, исследованной Армстронгом,2 показывающий, насколько
«Eiszeit», Bd. VII, Н. I—II, 1930.
г Armstrong (A. Leslie], Excavations in the Pin Hole cave, Greswell crags, Derbyshire,
^Proceedings of the Preh. Soc. of East Anglia», t. VI, 1931, стр. 330.
23S
СТОЯНКИ ТИПА МИКОК, ИХ ВРЕМЯ
обычное и общепризнанное сейчас явление представляет мустьерский
инвентарь с «ручными рубилами»:
1. Желтая глина, залегающая в основании разреза (около 3 .н),
содержит —
Мустье III.
М у с т ь е II. Наверху большие обвалившиеся плиты. Лошадь, бизон,
лев, гигантский олень. Северный оленьи арктические виды более много-
численны по направлению кверху.
Толстый слой осыпи. Арктическая фауна.
Мустье I — с кварцитовыми рубилами. Лошадь, бизон, гигантский
олень, лев.
2. Красная глина. В верхних горизонтах с культурными остатками
ориньякского типа, но мадленского возраста (aurignacien prolonge d’age
magdalenien). Фауна — северный олень, песец, заяц-беляк.
В среднем горизонте — орудия типа Font-Robert; преобладает
бизон и лошадь, благородный и северный олень.
В нижних слоях культурные остатки носят протосолютрейский и
верхнеориньякский характер; фауна — северный олень, мамонт, носорог
(много), песец, заяц-беляк.
В соседнем навесе, 1известном под именем Mother groundy’s parlour,
имеются те же слои, выше которых расположен слой эпипалеолитпче-
ского возраста (Mesolithique arcliaique) с остатками лошади, благородного
оленя, первобытного быка (Bos priinigenius), бизона, но без северного
оленя.
Ряд местонахождений не только Испании, но и Италии с «ручными
рубилами» имеет тот же мустьерский возраст.
Среди многих находок ручных рубил ашёльскпх типов в Италии,
рассеянных по всему полуострову, известно пока лишь одно местонахо-
ждение у Венозы в южной части страны, где они дают комплекс остатков,
связанных с вполне определенными условиями залегания. Многочислен-
ные орудия, в частности прекрасно сделанные рубила «ашёльских» форм
из кремня и кварцита, здесь встречаются в верхней части древних озерных
отложений, будучи, очевидно, оставлены первобытной группой на занятом
ею участке пляжа близ воды. Их сопровождает весьма характерная фауна,
представленная гиппопотамом, древним слоном (Elephas antiquus), бла-
городным оленем, пещерными хищниками и пр.
Р. Вофрей 1 из рассмотрения фауны и стратиграфии Венозы приходит
к заключению об одновременности итого местонахождения и стоянок
с мустьерскими орудиями римской Кампаньи. Заметим, что согласно
тому же автору, собственно мустьерские стоянки Италии довольно часто
дают находки рубил ашельского вида, хотя нужно сказать, что сам
Вофрей, придерживающийся традиционных представлений в отношении
смены «индустриальных типов» в палеолите, склонен считать их случай-
ной примесью, попавшей сюда из более древних слоев.
Брейль, с своей стороны, определенно относит находки Венозы
к мустьерскому времени.’2
Что фауна Венозы и других стоянок с рубилами Апеннинского полу-
острова не противоречит возможности их мустьерского возраста —
показывают находки в пещерах Италии, где мустьерский инвентарь
1 К. Vaujrey, Lepaleolithique italien, «Archives de ГInslitut de Paleontologie Humaine»,
mem. 3, 1928, стр. 44.
2 Рецензия Брейля на указанную работу Вофрея в «Б’Anthropologies, XXXVIII,
.V 3—4, стр. 373.
Венозв
234
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Талао
Романелли
Умм-
Катафа
сопровождается, как правило, представителями того же «теплого», для
средней Европы раннеплейстоценового мира животных, отступившего
в эпоху развития рисского ледника за Альпы и Пиренеи.
Так, в пещере Талао в Калабрии, расположенной на берегу залива
Поликастро, вместе с весьма характерным набором орудий мустьерских
типов в древнем наносе пещеры были собраны остатки гиппопотама (Hippo-
potamus amphibius), древнего слона (Elephas antiquus), носорога (Rhino-
ceros Merckii), лошади (Equus caballus), кабана, благородного оленя,
бизона (Bison priscus), пещерного медведя, гиены и крупной пещерной
кошки (Felis leo spelaea?).1
Тот же характер имеют находки G. A. Biam: в известной пещере Рома-
нелли на крайней юго-восточной оконечности Апеннинского полуострова,
где в нижнем слое вместе с атипическими кремневыми орудиями из отще-
пов, напоминающими нижний слой пещеры Принца в Ментоне, найдены
были многочисленные разбитые человеком кости, принадлежащие гиппо-
потаму (Hippopotamus amphibius и мелкая разновидность — Н. Pentlandi),
древнему слону, носорогу Мерка, лошади, оленю, волку, первобытному
быку (Bos taurus primigenius), кролику и другим животным.2 Заметим,
что сам Вофрей, следуя за Картальяком в его определении времени соот-
ветствующих горизонтов гротов Гримальди, склонен относить подобные
стоянки с теплой фауной к очень поздней поре среднего палеолита (mou-
stierien superieur).3 То же говорит и Брейль в отмеченной выше рецензии
на работу Вофрея.
Обермайер в одной из своих работ 4 дает обзор распространения стоя-
нок с небольшими «рубильцами» типа микок. Кроме перечисленных выше
стоянок, он относит к этой группе памятников находки Коммона в Сент-
Ашёле, стоянку Hoxue в Англии, открытую еще в конце XVIII- в. Джо-
ном Фрером, Delicias в Испании и некоторые другие. Сюда же он склонен
причислить стоянки типа Събаикийа в Константине (Северная Африка),
хотя последние до сих пор известны только из находок на поверхности
почвы.
На вопросе о возрасте стоянок типа Събаикийа нам придется еще
остановиться в своем месте.
Однако более интересны в этом смысле раскопки Невиля в гроте Умм-
Катафа в Палестине, о котором мы уже упоминали в связи с открытиями,
сделанными в его нижнем слое (стр. 205). В то время как в нижнем слое
Умм-Катафа ручные рубила имеют крупные размеры и в общем носят
«ашёльский» характер, в верхнем горизонте они значительно уменьшаются
в размерах. Здесь экземпляры больше 10 см представляют редкость; в то же
время они часто приготовлены уже не из валуна, а из массивной кремне-
вой пластины и, соответагвенно, имеют одну сторону уплощенную и другую
сильно выпуклую, что, как мы видели, составляет одну из характерных
особенностей этих орудий в стоянках типа «микок».
1 A. Mochi, La succession des industries paleolithiques et les changements de la faune
du pleistocene en Italic, Florence, 1912.
2 G. A. Blanc, Grotta Romanelli, Stratigrajia dei depositi e origine di essi, «Archie,
per VAnthrop. et la Ethnol.», t.L, 1920, стр. 65—103. В своей работе, напечатанной в
том же журнале за 1928 г., он указывает, что нижние слои глинистого наноса пе-
щеры Романелли с Elephas antiquus и гиппопотамом относятся не к мустьерскому
времени, как думали раньше, а к верхнему палеолиту (гримальдийская фаза). Пра-
вильность этого утверждения остается, конечно, на ответственности автора.
3 Vaufrey, ук. соч.. стр. 81.
4 Н. Obermaier und Р. Wernert, Alt-Paldolithikum mit Blatt typen, «Milleil. d. An-
thropol. Gesell. im Wien», LIX, 1929, стр. 293.
СТОЯНКИ КРЫМА
235
Формы мелких «рубил» верхнего слон Умм-Катафа также значительно
разнообразнее, чем в нижнем слое. Очевидно, их назначение становится
более усложненным применительно к новым потребностям, хотя тради-
ционные технические приемы удерживают в употреблении этот тип ору-
дия древнего палеолита, который, нужно думать, в условиях охотни-
чьего хозяйства представлял собой уже в известной мере анахронизм.
Если в нижнем горизонте Умм-Катафа кроме рубил встречаются только
бесформенные кремневые отщепы, которые должны были, несомненно,
иметь значение режущих орудий, в верхнем горизонте инвентарь отщепов
значительно совершенствуется: здесь появляются настоящие кремневые
пластины, скребла, остроконечники, даже концевые скребки, как в неко-
торых позднемустьерских стоянках Франции, и наконец резцы, т. е. тот
гид кремневого инструмента, который в Европе становится известен в
позднем палеолите в связи с возникающей обработкой кости.
Однако этот инвентарь, связанный с техникой широких отщепов,
в гроте Умм-Катафа носит еще довольно примитивный характер.
Остатки позднемустьерского характера без ручного рубила появляются
в этой части побережья Средиземного моря, насколько мы знаем, только
в последующее время в глотах Шукба близ Иерусалима, Цутийе и Эмире
в Галилее и в некоторых стоянках Сирии, исследованных Цумоффеном
(Адлун, Рас-Эль-Кельб и др). 1
СТОЯНКИ КРЫМА
Первые указания на находку орудий ашёльско-мустьерского типа Волчий грот
в южной России были сделаны в давние годы Мережковским и де Баем.
Мережковский во время своих археологических экскурсий по Крыму
(1879—1880) в одной из исследованных им пещер у д. Мазанки в окрест-
ностях Симферополя, на берегу реки Бештирек, натолкнулся на лед-
никовую фауну, состоящую из мамонта, дикой лошади, какого-то вида
быка, благородного оленя, сайги и других животных, к сожалению, не
описанных им подробнее.
Вместе с костями животных в отложениях пещеры он нашел несколько
кремней и среди них небольшой кремневый остроконечник прекрас-
ного мустьерского типа. Этот остроконечник фигурирует в за-
падноевропейской литературе как первая находка культуры мустье
в пределах европейской России. Пещера, из которой он происхо-
дит, именуется, вероятно со слов Мережковского, Волчьим гротом. По
тем же сведениям в пещере вместе с остроконечником было найдено и дру-
гое орудие — небольшое, тонко отделанное ручное рубило. Так как
точные сведения об условиях сделанных Мережковским находок фауны
и кремней остаются не выясненными, вполне естественно, что крымский
мустье, так бедно представленный, возбуждал у русских исследователей
известное сомнение.
Заметим, кстати, что другим указанием мы обязаны де Баю, Иаьспя
известному французскому археологу и путешественнику, много рабо-
тавшему над вопросами русской археологии. Он нашел (в 1898 г.) возле
станицы Ильской, Кубанской области, благодаря выбросу из буровой
скважины, кости мамонта и других животных, залегавшие на довольно
значительной глубине и частью намеренно расколотые. Вместе с ними
1 Zumoffen, L’dge de la pierre en Phenicie, «!'Anthropologies», t. VIII, 1897, стр. 272.
236
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Рис. Й. Разрез пещеры Киик-Коба (Крыл).
I.—Верхний культурный слой. II. — Нижний
культурный слой. III. — Слой с находками тар-
денуазской эпохи.
(По Г. А. Бопч-Осмо.ювскому)
Кош-Коба
оказалось и небольшое количество пластин и грубо оббитых орудий из
кремня и кварцита; два из них, судя по описанию, напоминают мустьер-
ские скребла. К сожалению, и эта находка не была освещена более под-
робно, а сама стоянка, можно было думать, погибла для науки, так как
здесь были сделаны установки для добычи нефти.
Оба эти указания Мережковского и де Бая, не проверенные и плохо
освещенные, не могли считаться достаточными для признания существо-
вания культуры среднеледниковой эпохи на территории бывшей Евро-
пейской России.
Предгорья южного Крыма с его прекрасными долинами, множеством
пещер и месторождениями кремня, естественно, должны были привлекать
палеолитического человека, и здесь скорее, чем в какой-либо иной мест-
ности южной России, можно было рассчитывать найти культурные остатки
древнейших эпох. Правда, в кругах западных ученых одно время, особенно
после неудачных поисков Р.
Р. Шмидта, создалось мне-
ние, что Крым в течение
древнечетвертичного времени
был отрезан от суши и поэто-
му не был населен ни жи-
вотными ледниковой эпохи,
ни человеком. Однако такое
представление является со-
вершенно необоснованным.
Еще Мережковский, помимо
Бештирекской пещеры, ука-
зывал и другие случаи на-
ходок костей мамонта в
Крыму.
Новый материал дали в не-
давние годы (1923) раскопки
в пещере Кош-Коба, в 25 им
на восток от Симферополя,
в долине р. Зуи. В отложе-
ниях этой пещеры, на глу-
бине 50—150 см, под слоем, содержащим культурные остатки ран-
ней железной эпохи, найден был пласт желтого лёссовидного суглинка,
содержавшего множество большей частью расколотых костей животных,
принадлежавших мамонту, носорогу, пещерной гиене, северному оленю,1
благородному оленю (очень крупному), бизону, сайге, лошади, дикому
ослу, степной лисице-корсаку, обыкновенной лисице, зайцу, сурку, а так-
же, видимо, пещерному'"медведю. Эта богатая фауна рисует смешанный
мир животных, где имеются представители леса и степи, что приблизи-
тельно соответствует теперешним природным условиям местности, где
расположена пещера Кош-Коба. Глубокое ущелье с крутыми известня-
ковыми склонами, в котором течет р. Зуя, и в настоящее время заросло
мелколесьем, но сама возвышенность представляет довольно пологое
плато, постепенно переходящее на севере в степь.
1 Северный олень определен в костном материале из Кош-Коба уже после его
обработки А. Д. Бялыницким-Бирулей; ер. «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. Г,,
стр. 128, прим. Сейчас присутствие северного оленя установлено и в других древ-
нейших пещерных стоянках Крыма.
СТОЯНКИ КРЫМА
237
Кроме расколотых костей о пребывании человека в пещере Кош-Коба
свидетельствуют (по Г. А. Бонч-Осмоловс.кому) остатки двух кострищ
с прослойками золы и обожженной землей. Но, странным образом, как
и в Бештирецкой пещере, здесь было найдено очень немного кремней. 1
Второе открытие было сделано в 1924 г. в пещере Кипк-Коба, распо- Киик-Коба
ложенной в той же долине, что и Кош-Коба, в нескольких сотнях метров
от последней. Находки в нижнем слое этой пещеры были нами опи-
саны на стр. 217.
Киик-Коба представляет широко открытый и неглубокий навес в изве-
стняковом обрыве долины с небольшой площадкой перед ним. Ниже
пещеры крутые склоны долины, образованные осыпями, поросли кустар-
ником и мелколесьем. Толщина наноса, покрывающего дно пещеры и
террасовидной площадки перед ней, очень невелика и не превышает
одного метра. Сверху, сантиметров до 30, идет черный, содержащий золу,
рыхлый слой, обычно наблюдаемый в подобных пещерах и навесах Крыма,
получившийся вследствие ночевок здесь пастухов и прохожих, разводив-
ших костры, стоянки овец и т. п. Глубже, еще сантиметров на 15, идет
бурый глинистый слой, также без находок.
Ниже залегает желтая 'глина, являющаяся, видимо, продуктом разло-
жения известняка п более или менее ровным слоем заполняющая дно
пещеры.
В глине можно заметить две темные прослойки, верхнюю и затем ниж-
нюю, располагающуюся по самому дну пещеры, разделенные слоем без
находок. Эти прослойки представляют остатки кострищ палеолитиче-
ского человека и содержат много мелкой, дробленой и обожженной кости.
В верхнем культурном горизонте встретилось особенно много крупных
костей животных, по предварительному определению принадлежащих
носорогу, мамонту, лошади, первобытному быку, большерогому и благо-
родному оленю, северному оленю,2 сайге, кабану, пещерному медведю,
пещерной гиене, корсаку и т. д.,—то есть фауна, весьма близкая к фауне
соседней Кош-Коба и в общем сходная с фауной нижнего слоя.3
Общий характер находок верхнего горизонта Киик-Коба близко напо-
минает то, что мы знаем относительно стоянок типа микок.4 Интересно,
что среди расколотых костей этого слоя Г. А. Бонч-Осмоловский нашел
много таких, которые носят следы насечек, нарезов, иногда намеренного
сглаживания и т. п. Таким образом, кость в Киик-Коба уже утилизируется
для технических надобностей.
Среди обломков костей имеются настоящие наковаленки, или отжим-
нпки, с помощью которых в мустьерское время выполнялась тонкая под-
правка рабочего лезвия кремневых орудий. Нужно сказать, что широкое
использование кости в стоянках, которые обычно на западе называются
мустьерскими стоянками «с ашёдьской традицией», начинает все больше
выясняться при более тщательном их изучении. Это не может предста-
вляться особенно странным, если принять во внимание, что большинство
1 Отчетная выставка этнографического отдела Русского музея за 1923 г., Ленин-
град, 1924.
2 По указанию В. И. Громова.
3 Данные о фауне пещерных стоянок Крыма собраны в работе Г А. Бонч-Осмо-
ловского, помещенной в вып. V «Трудов II межд. конф. АИЧПЕ».
1 Для Киик-Коба имеется ряд предварительных публикаций, затем более полное
описание в работах Г А. Бонч-Осмоловского, Итоги изучения крымского палео-
лита, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ>>, вып. V, стр. 114; Le paleolithique de
Crimee... «Бюлл. ком. по изуч. чете, периода, Акад, наук СССР», А? 1, 1929; К вопросу
об эволюции древнепалеолитических индустрий, журнал «Человек», Л? 2—4, 1928, и др.
238
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Рис. 49. Орудие из верхнего слоя пещеры
Киик-Коба (Крым), в виде остроконеч-
ника, с подтеской с нижней стороны.
Кремень. (Несколько уменьшено.)
(По Г. А. Бонч-Осмолоискому)
этих стоянок заходит далеко в мустьерское время, вплоть до конца этого
времени.
Мы отметили уже подобные факты для стоянки Пзвор в Бессарабии.
Дальше мы увидим, при описании другой крымской стоянки того же
типа, пещеры Чокурча под Симферо-
полем, что здесь появляются даже на-
стоящие изделия из кости, как извест-
но, являющиеся характерной особен-
ностью производственной деятельности
человеческих обществ в условиях позд-
него палеолита.
В качестве наиболее типичной формы
кремневого инвентаря из верхнего слоя
Киик-Коба можно указать орудие
(рис. 49), представляющее обычное для
стоянок типа микок небольшое острие,
по своим признакам занимающее про-
межуточное место между двусторонне
обтесанным «рубилом» и остроконечни-
ком и по назначению, очевидно, сходное
с последним.
Здесь имеются и небольшие «руби-
ла» (рис. 50) и настоящие мустьерскпе
остроконечники (рис. 51 и 52), затем
пластины с краевой ретушью, заме-
отличаются небольшими
объясняется небольшой
окрестностях стоянки.1
няющие скребла (рис. 52). Орудия Киик-Коба
размерами, что, по мнению Бонч-Осмоловского,
величиной сростков кремня, встречающихся
Почти полное отсутствие нуклеусов, —
немногие экземпляры которых, здесь най-
денные, оказываются совершенно исполь-
зованными, — указывает на отсутствие
поблизости местонахождений кремня,
очевидно добывавшегося где-то на стороне.
Небезынтересно привести количествен-
ное соотношение орудий верхнего слоя
Киик-Коба по подсчету, произведенному
исследователем этой стоянки. Из общего
числа около 800 отобранных здесь орудий
двусторонне обтесанные орудия, напоми-
нающие небольшие «рубила», составляют
менее 1% находок; остроконечников най-
дено— 44% (из них с подтеской с ниж-
ней стороны — 10%); скребел, вернее
пластин и отщепов с краевой подретушев-
кой, образующей более или менее прямое
лезвие, —37%; остальные 18%приходятся
на единичные и неопределенные формы.
Нужно упомянуть еще об одном интересном факте, связанном со стоян-
кой Кинк-Коба,— находке человеческих костей.
в
Остатки
чряовека
Рис. 50. Орудие лз верхнего слоя
пещеры Киик-Коба (Крым), в виде
небольшого «рубильца».
Кремень. (Несколькоуменьшено.)
(По Г. А. Боич-Осмоловскому)
1 Миниатюрные остроконечники различных форм и разновидностей, особенно обыч-
ные в инвентаре Чокурчи и Ильской (см. ниже), являются в условиях восточной Европы
одной из характернейших особенностей поселений позднейшей мустьерской поры.
СТОЯНКИ КРЫМА
23»
Рис. 51. Орудия из верхнего слоя
пещеры Киик-Коба (Крым) типа
остроконечников: слева — из удли-
ненной пластины, справа— из тре-
уюльного скола.
Кремень. (Несколько уменьшено.)
(По Г. А. Боич-Осмоловскому)
У самого дна пещеры Бонч-Осмоловским найден был скелет грудного
ребенка, но без черепа. Вторая находка представляет больший инте-
рес. Приблизительно посередине пещеры,
в дне ее, имелось углубление размером
170 на 50 см и глубиной в 30—40 см. В
восточном конце эта яма оказалась пустой,
так как сюда заходило кострище, очевид-
но, разрушившее могилу, но в западном
конце сохранились кости скелета — ниж-
няя часть конечностей взрослого чело-
века — кости обеих стоп и голени. Про-
изведенные измерения показывают, что по
анатомическим особенностям эти остатки
значительно отличаются от строения кос-
тей современного человека. Короткая и
широкая стопа, общая массивность костей,
пропорции астрагала, пяточной кости и
др. сближают,человека Киик-Коба с че-
ловеческими остатками Шапелль-о-Сен,
Ла Кина и другими представителями пер-
вобытного неандертальского типа. Кроме
того, на соседних участках в процессе
раскопок были собраны, видимо происхо-
дящие от того же скелета, некоторые
суставные кости кисти человека и истер-
тый зуб.1
Основываясь на этой находке Г. А. Бонч-Осмоловский высказывает
предположение, 2 что строение достаточно грубых лапообразных рук и стоп
человека из Киик-Коба не дает возможности думать, чтобы ближайшие
предки человека были лазящими животными, обитавшими на деревьях,
вроде известных нам человекообразных обезьян. Такой вывод прихо-
дится, однако, считать по меньшей мере поспешным.
Большое сходство со стоянкой
Чокурча
Киик-Коба имеет другая пещерная
стоянка, открытая С. И. Завииным 3 в
1927 г. у д. Чокурча, в 2 км от Сим-
ферополя, которая явилась в последнее
время предметом систематических ис-
следований, произведенных сотрудни-
ками Крымского научно-исследователь-
ского института. Она представляет
удобное убежище в виде довольно вме-
Рис. 52. Орудия пз верхнего слоя пещеры
Киик-Коба’(Крым) типа остроконечни-
ков (слева) и скребел (с рава).
Кремень. (Несколько уменьшено.)
(По Г. А. Боич-Осмо.ювскому)
1 Кроме указанных работ Г А. Бонч-
Осмоловского см. его статьи—Остатки древ-
непалеолитического человека в Крыму, э/сур-
нал «Природа», А« 5 — 6, 1926, стр. 59;
Neanderthal remains in the Crimea, «Amer.
Journ. Phys. Anthr.», A? 8, 1925, и др.
2 Ср. (Сообщения ГАИМК», 1932, А? 11—
12, стр. 43.
3 С. И. Забнин, Новооткрытая палеоли-
тическая стоянка в Крыму, «Известия Тавр.
Общ: ист., арх. и этн.», т. 11, 1928, стр.
146—158.
240
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
стителыюго, хотя и неглубокого грота полукруглой формы, с более
узким выходом, расположенного в известняковой скале по левому бе-
регу долины р. М. Салгира в области второй гряды Крымских гор.
Перед пещерой имеется площадка, и затем пологий склон ведет к реке,
уровень которой лежит на 15 м ниже устья грота. Древний человек
отчасти жил в самой пещере, но главным образом, судя по остаткам кост-
ров и скоплениям отбросов, вне пещеры, иа площадке и ниже — ио скло-
ну, где находились, возможно, примитивные жилища в виде шалашей,
покрытых травой пли шкурами животных. Что ото место было основа-
тельно обжито человеком — показывает толщина слоя, содержа-
щего культурные остатки, которая местами достигает, по имеющимся
сведениям, 1 от 1 до 4 м (иа склоне перед гротом). Однако
культурные отложения идут не в виде одного слоя. Они разбиваются на
целый ряд, видимо не менее 6—8, прослоек, что, очевидно, указывает на
то, что человек не-
сколько раз возвра-
щался па место сто-
янки.
Во время раско-
пок 1929 г. была сде-
лана интересная на-
ходка ниже площад-
ки, по склону перед
пещерой. Благодаря
обвалу скалы здесь
сохранилось скопле-
ние костей мамонта,
образовавшее целую
груду костных остат-
ков. Все кости ока-
зались расколотыми
для добывания кост-
ного мозга. Около
Остатки
.животных
Рис. 53. Пещера Киик-Коба (Крым). них находилась пли-
та почти кубической
формы, которая, очевидно, и использовалась для разбивания костей в
качестве наковальни. Кости дробились с помощью тяжелого камня-от-
«бойника.
Врнд ли можно эту находку рассматривать как простой отброс охот-
ничьей кухни. Уже в эту эпоху скопления костей животных, которые
встречаются всегда рядом с местами очагов, указывают па их хозяйствен-
ное использование, чаще всего, вероятно, в качестве запаса топлива.
В отчетах о раскопках Чокурчинского грота упоминаются, как самое
обычное явление, обуглившиеся кости животных.
Кроме охоты на мамонта первобытные обитатели Чокурчинской стоянки
больше всего охотились на дикую лошадь и антилопу-сайгу, которые,
судя по обилию остатков этих животных, водились большими табунами
в ближайших окрестностях долины Салгира. На место стоянки человек
приносил обычно только самые ценные части добычи — голову и мяси-
1 Ср. «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», вып. Г, 1934, стр. 184—206. Другие
работы, посвященные этому интересному, н сожалению еще далеко не до конца иссле-
дованному памятнику, приведены в ук. книге.
СТОЯНКИ КРЫМА
241
стые части конечностей. Из других животных следует упомянуть носорога,
гигантского оленя, быка и, наконец, пещерных хищников — медведя и
гиену. Последняя держалась недалеко от пещеры и появлялась на месте
стоянки, как только че-
ловек, хотя бы вре-
менно, ее покидал. Ко-
пролиты гиены часто
встречаются в отложе-
ниях грота вперемежку
с культурными остат-
ками.
Если стоянка у д.
Чокурча по характеру
кремневых орудий сход-
на с Киик-Коба и запад-
ноевропейскими столи-
ками того же типа, где
наблюдаются некоторые,
пережитки так называе-
мой «ашёльской» тех-
Рис. 54. Остроконечник и «рубильце» из Волчьего грога
(Крым).
Кремень. Ок. 2/5 н. в.
Кремневый
инвентарь
ники, все же общий уровень развития, на котором находилась оставившая
ее охотничья орда, носит особенно ясно выраженные черты весьма поздней
мустьерской эпохи. Сюда относится чрезвычайно богатый набор кремневых
орудий, по большей части небольших по размерам, часто же почти ми-
ниатюрных, отделанных весьма тонкой, типично мустьерской подправ-
кой, сочетающейся с такой же тонкой подтеской.
Не будучи особенно разнообразными по своим исходным формам —
«рубильце», остроконечник, скребло, — они в своих вариантах малень-
ких треугольных, сегментовидных, клювовидных и т. д. орудий дают,
несомненно, достаточно уже сложный в техническом отношении набор
инструментов из камня (рис. 60—-68).
На ту же высоту — конечно, относительную — технических возмож-
ностей указывает обилие использованных костей животных с нарезками,
насечками, следами сглаживания и иными признаками употребления.
16 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
Обработан-
ная кость
242
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Характер
культурных
отложений
костяных о стр ИЙ,-ТОТ вид
Рис. 36. Орудие, напоминающее «руби-
ло», стесанное с нижней уплощенной
стороны и подправленное вдоль рабо-
чего края по верхней стороне. Пещера
Окепник (Польша).
Кремень. Ок. Va н. в.
(По .1. Козловскому)
Наконец, и это наиболее важно,'здесь были найдены настоящие
изделия из кости1 в виде отточенных и заполированных
орудия из кости, который одним из пер-
вых появляется в начальную пору верх-
него палеолита (рис. 74). Его появле-
ние приходится объяснять усовершен-
ствованием одежды, более широким и
разнообразным применением шкур в
качестве материала для различных
изделий, возникновением плетения и
прочими надобностями, где и в совре-
менной технике малокультурных народ-
ностей применяются подобные простей-
шие инструменты.
Интересный и далеко не обычный
характер носит в Чокурче расположе-
ние культурных остатков в толще пе-
щерного наноса. В разрезе стоянки
(рис. 55) мы видим мощное скопление
культурного слоя, связанное с нагро-
мождением костей мамонта, которое
свидетельствует о более длительном
заселении данного места в какой-то пе-
риод обитания пещеры; выше и ниже это-
го слоя наблюдается ряд тонких, часто
прерывающихся прослоек культурных
отложений. Последние могли быть оставлены неандертальцами, очевидно,
лишь при кратковременных посещениях грота, может быть в сезоны
охоты на стада антилоп и табуны лошадей, периодически прикочевывав-
шие из степи к крымским предгорьям.
Поскольку в Чокурчинском гроте во всех его слоях остатки сайги
представлены очень большим количеством костей, зубов и рогов, откуда
приходится заключить, что антилопа-
сайга играла главную роль в посе-
щении первобытными охотниками этой
части предгорий, следует напомнить,
что в определенные периоды года это
животное собирается огромными ста-
дами, когда на него и устраиваются
добычливые облавные охоты.
Вероятность заключения о кратко-
временных посещениях пещеры ее оби-
тателями подтверждается и тем, во-пер-
вых, что пещера обращена на север и,
следовательно, была мало удобна для
обитания зимой, когда со стороны лед-
ника, с севера, должны были дуть рез-
кие, холодные ветры, и, во-вторых, та-
ким существенным обстоятельством, как
относительно значительное преобладание орудий над отщепами. «Процент
орудий,—говорится в отчете о раскопках Чокурчинской стоянки,—по
Рис. 3". Орудие типа остроконечника
из пещеры Океннпк.
Кремень. Ок. Va н. в.
'По .1. Козловскому)
1 У к. соч., стр. 202.
СТОЯНКИ КРЫМА
243
сравнению с осколками очень велик, так как во II и III слоях встречались
почти исключительно готовые изделия». Подобное явление, — наблюдаю-
щееся, кстати сказать, довольно редко в отношении памятников палеолити-
ческого времени, — свидетельствует с полной несомненностью, что обра-
ботка кремня здесь не производилась на месте жилья. Нужно думать,
что кремневый инвентарь приносился обитателями стоянки со стороны,
вероятнее всего с мест их постоян-
ных поселений.
Нужно заметить, что счет слоев
здесь идет снизу, и как раз второй
и третий горизонты дают тонкие
прослойки культурных отложений,
тогда как в так называемом первом
горизонте залегает скопление ко-
стей мамонта, сопровождающееся
значительным утолщением культур-
ного слоя (рис. 55).
Весьма возможно, что/ удачная
охота на мамонтов побудила орду,
занимавшую Чокурчинский грот,
обосноваться здесь на более продол-
Рпс. 38. Остроконечники мустьерского типа
из пещер Галонска н Океннпк.
Кремень. Ок. 1/2 н. в.
(По .1. Козловскому)
жительное время, тогда как позже люди стали являться сюда лишь в
сезоны осенних охот на антилопу-сайгу и лошадь.
Другое интересное местонахождение с остатками, относящимися
к мустьерской эпохе, было открыто в сентябре 1928 г. в Крыму С. Н.
Бибиковым в пещере Шайтан-Коба (Бодрак) в районе рек Альмы и Бод-
рак и описано Г. А. Бонч-Осмоловским, 1 руководившим его раскопками
в следующем—1929 г. Пещера — вернее небольшой грот — Шайтан-Коба
(рис. 72), расположенная также во второй гряде Крымских гор, в широкой
живописной долине р. Бодрак, предста-
вляет неглубокий навес высотой всего
около 2 м, шириной 7 м, при глубине в
4 м. Над руслом реки она возвышается
всего на 20 м, причем воды Бодрака, как
показал полученный Г. А. Бонч-Осмолов-
ским разрез ниже пещеры по склону до-
лины, еще в скифское время, то есть срав-
нительно очень недавно, достигали значи-
тельно более высокого уровня, чем в на-
стоящее время.
Значительная часть отложений грота
был* удалена при его расчистке, видимо,
Рис. 59. Орудие типа остроконеч-
ника из пещеры Окенннк.
Кремень. Ок. ’/2 н. в.
(По .1. Козловскому)
еще в эпоху существования пещерного средневекового города Бакла,
который находится в двух километрах от Шайтан-Коба.
Сохранившиеся, по счастью, небольшие остатки культурных напла-
стований в самом гроте и соседние склоны долины, куда попали выбро-
шенные из пещеры кремни, дали довольно значительный материал для
характеристики стоянки. Человек здесь использовал прекрасный по каче-
ству темный кремень, встречающийся в небольшом расстоянии от занятой
им пещеры. Как и в стоянке на Деркуле, кремневый инвентарь, собран-
1 Г. А. Бонч-Осмоловский, Шайтан-Коба, Крымская стоянка типа Абри-Оди,
«Бюллетень комиссии по изуч. чете, периода Акад, наук СССР», Л? 2, 1930, стр. 61—
82, с V111 табл, рис.; Его же, Итоги изучения крымского палеолита, стр. 143—147.
*
Шайтап-
К«ба
Обработан-
ный кремень
244
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
двусторонними сколами в
Рис. 60. Орудие, напоминающее «ручное
рубило», двусторонней обработки. Чо-
' курча (Крым).
Кремень. Ок. 2/3 н. в.
ный в этом местонахождении, имеет, видимо, несколько иной облик, чем в
других пещерных стоянках Крыма, относящихся к среднему палеолиту.
В частности, в этой стоянке останавливают на себе внимание крупные
размеры изделий из кремня, значительно превышающие размеры орудий
из пещеры Чокурча и Киик-Коба.
Среди изделий Шайтан-Коба имеется много кремней, обработанных
дисков, которые довольно обычны
в западноевропейских стоянках му-
стьерского времени. Одни из них
представляют собой отработанные
нуклеусы, вероятно использовав-
шиеся человеком для каких-то своих
надобностей. Другие являются ско-
рее пережиточными типами древнего
двусторонне обтесанного рубила. На-
конец, более мелкие диски могли упо-
требляться в качестве метательных
камней для пращи, которые часто
встречаются в стоянках этой поры.
Во всяком случае, особенностью
Шайтан-Коба является очень боль-
шое количество нуклеусов, указы-
вающих на происходившую в широком масштабе обработку кремня на
самом месте стойбища.
Отметим далее присутствие более или менее типичных, довольнокрупных
«ручных рубил», которые Г. А. Бонч-Осмоловский считает возможным со-
поставлять с «ашёльскими» и даже шелльскими формами. Как мы уже ви-
дели, наличие подобных, довольно грубых ударных орудий оказывается
вполне совместимым с мустьерским возрастом местонахождения: вспомним,
например, нижние слои пещеры Пин Гол, нижний грот Мустье и т. д.
Основная масса орудий в этой стоянке все же представлена сколами,
из которых довольно значительный
процент имеет характерные удлинен-
ные пропорции, отличающие их от
обычных мустьерских отщепов. Г. А.
Бонч-Осмоловский называет их «при-
митивными пластинками» (рис. 69—
1 и 3). Такие, часто довольно правиль-
ные, но все же широкие и массивные
пластины, как мы знаем, появляются
в местонахождениях северной Фран-
ции в довольно раннее мустьерское
время, но получают особенное значение в конце мустьерской эпохи.
Они должны были использоваться человеком в виде режущего инстру-
мента с очень широким хозяйственным применением и таким образом в зна-
чительной степени заменяли собой «скребла», характерные для позднему-
стьерских стоянок Европы. Многие из них имеют подправку по лезвию,
с помощью которой оживлялся затупившийся в работе край инстру-
мента.
Подправка-ретушь на орудиях из Шайтан-Коба сохраняет обычный
мустьерский облик, хотя здесь почти нет той прекрасной «длинной» ретуши,
которую можно видеть на орудиях из верхнего слоя Киик-Коба и Чокур-
чинской пещеры.
СТОЯНКИ КРЫМА
245
Характер сколов, преобладание массивных, но удлиненных пластин,
вызвал появление в инвентаре Шайтан-Коба таких орудий, как примитив-
ные скребки «на конце пластины», ко-
торые отсутствуют в мустьерских место-
нахождениях, где преобладают тре-
угольные сколы, и, наоборот, постоянно
наблюдаются как первые прототипы
верхнепалеолитических орудий в тех
мустьерских стоянках, где начинал при-
меняться подобный прием обработки
кремня. Поэтому мы их иногда встре-
чаем в поселениях сравнительно раннего
времени, например в нижнем гроте
Мустье и в других аналогичных стоян-
Рис. 62. Орудие типа остроконечника,
сделанное из треугольного отщепа.
Чокурча (Крым).
Кремень. Ок. -’.'3 н. в.
ках.
Типичную мустьерскую форму в этом
инвентаре представляют
(рис. 69—71) треугольные пластины, превращенные с помощью подправки
Рис. 63. Маленькое орудие с дву-
сторонней обработкой: 'рабочий ко-
нец— клювовидный.Чокурча (Крым).
Кремень. 6/в и. в.
в остроконечники.
Некоторые орудия Шайтан-Коба имеют
на конце небольшой продольный скол, что
придает им сходство с так называемыми
резцами верхнепалеолитических стоянок,
служившими для обработки твердого ма-
териала, главным образом кости, отчасти
также дерева и камня (рис. 71 и 72).
Такой характер рабочего конца этих
инструментов указывает на то, что уже
в позднее время мустьерской эпохи на-
чинают складываться технические на-
выки, предвещающие их развитие в последующую эпоху. Появле-
ние примитивных резцов в виде остроконечников с небольшим рез-
цовым сколом может быть отмечено и для Ильской стоянки. Известны
они в стоянках эпохи мустье во Франции, Испа-
нии и даже вне Европы, как, например, в верхнем
горизонте пещеры Умм-Катафа в Палестине, ко-
торую нам приходилось уже не раз упоминать,
где они встречаются вместе с орудиями мустьер-
ских типов, ближе всего напоминающими, по пре-
обладанию небольших двусторонне обтесанных
«рубил», стоянку Микок. 1
В сохранившихся остатках культурного слоя
Шайтан-Коба было собрано немного костей живот-
ных, среди которых отмечено присутствие песца.
Мнение Г. А. Бонч-Осмоловского об очень
позднем возрасте этой стоянки, которая, по его
Рис. 61. Типичный миниа-
тюрный остроконечник.
Чокурча (Крым).
Кремень. 2/з н- в-
Время
поселения
представлению, основанному на наличии здесь
пластин и резцовых сколов на некоторых орудиях, должна была бы быть
отнесена- к эпохе, переходной к верхнему палеолиту (стадия Абри-Оди),
встретило возражения со стороны некоторых советских и иностранных
1 Некоторые сведения о находках резцов в стоянках среднего палеолита сообщает
Бонч-Осмоловский («Труды И меоюд. конф. АИЧПЕъ, вып. V, стр. 146); ср.
также С. Н. Замятнин (там же, стр. 212); D. Peyrony, Р. Bourrinet et A. Dar-
peix, Le burin mousterien, «Congres Intern, d’anlhrop. et d’archeol. prehist.», XV Sees., 1930.
•246
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
ученых (Вофрей).1 2 Позже сам Бонч-Осмоловский был склонен отказаться
от этого взгляда, указывая на возможность смешения в Шайтан-Коба остат-
Рис. 65. Напоминающий «рубило» остроконечник
двусторонней обработки широкими стёсамн. Чокурча
(Крым).
Кремень. 2/э н- в-
ков, происходящих из двух
горизонтов разного времени—
собственно мустьерского и
позднемустьерского.
Однако новые факты, сви-
детельствующие о весьма
длительном переживании не-
которых приемов обработки
кремня (например двусторон-
него обтесывания) в поселе-
ниях, где, наряду с более
древними типами орудий, по-
являются элементы, свойст-
венные начальной поре верх-
него палеолита, делают весь-
ма вероятным поздний, пере-
ходный характер ряда подоб-
ных памятников. К последним
Нооыр
явления в
муетьерскон
текинке
приходится отнести, для тер-
ритории восточной Европы, помимо Шайтан-Коба, также Чокурчу, палео-
литическое поселение в Ильской и некоторые другие памятники этого типа,
которые ранее рассматривались как принадлежащие «ашёльской» эпохе.
Все большее упрочение в технике первобытного населения Европы
приема изготовления орудий из кремневых сколов, получавшихся от
тщательно подготовленной для этой цели кремневой заготовки (нуклеуса),
появление в стоянках более поздней поры, иногда в значительном числе,
«примитивных пластин» и затем орудий
таких видов, которые по существу харак-
терны для следующей стадии палеолита,
указывают, очевидно, на то, о чем гово-
рит и ряд других фактов: на заметное
усложнение культуры в стоянках поздне-
мустьерского времени.
Они свидетельствуют о том, что в это
время в Европе (как и вне ее) в среде
мустьерских охотничьих обществ начи-
Рис. 66. Скребловидное орудие
(racloir). Чокурча (Крым).
Кремень. ’/8 н. в.
нают складываться такие условия хозяй-
ственно-общественной жизнп, которые
делают понятным быстрый расцвет куль-
туры, характерный для эпохи верхнего
палеолита. В этом отношении анализ мустьерского инвентаря, которому
за последние годы было посвящено довольно много внимания, дает до-
статочно аргументов против теории исторического разрыва между сред-
ним и поздним палеолитом, защищаемой Булем и многими другими за-
падноевропейскими учеными.2 Таким образом, наблюдения над поздне-
1 Ср. рецензию В оф рея в <<L’ Anthropologie», t. XLI, 1931, Л? 5—6, Стр. 576.
2 Недавние наблюдения В. А. Городцова в отношении Ильской стоянки ставят
весьма интересный вопрос о характере переходной ступени от мустье к верхнему па-
леолиту. По мнению названного исследователя, весь комплекс находок Ильского
местонахождения должен быть помещен в значительно более позднее время, чем это
полагает ранее изучавший этот памятник С. Н. Замятнин.
ИЛЬСКАЯ
247
мустьерскими стоянками дают все большее количество фактов, освещающих
разнообразные стороны жизни мустьерцев. Последние делают очевидными
для нас близкую связь и непосредственную преемственность среднего и
верхнего палеолита как больших исторических ступеней в развитии пер-
вобытного общества на территории Европы.
Из пещерных стоянок Крыма, которые следует
причислить к памятникам среднего палеолита,
можно назвать еще Аджи-Коба, стоянку, распо-
ложенную значительно выше других, в области
первой гряды Крымских гор. Исследование этого
памятника пока приходится считать лишь начатым.
Заслуживает внимания самый факт тяготения
Рис. 67. Клювовидное ору-
дие со сбитым отбивным
бугорком и подретушев-
кой края орудия не толь-
ко с верхней, но и с ниж-
ней стороны.
Чокурча (Крым).
Кремень. 6/в н. в.
Аджп-Коба
всех более ранних, нами перечисленных, палео-
литических поселений Крыма (исключение соста-
вляет лишь Аджи-Коба) к окраине крымских
предгорий, по границе со степью, там, где линия
второй гряды прорезывается более или менее глу-
бокими долинами рек, берущих начало в области
собственно горного Крыма.
Это может служить указанием на характер
хозяйства мустьерцев и значение для него массовых облавных охот на
приходившие сюда, вероятно к осени, стада травоядных.
Возможно, .что пещерами крымские неандертальцы пользовались
главным образом для таких временных стойбищ, а их зимние жилища
находились где-то в глубине предгорий.
ИЛЬСКАЯ
К описанному нами типу памятников приходится причислить
также стоянку у станицы Ильской на Кубани — самое крайнее на востоке
Рнс. 68. Клювовидное орудие с площадкой
для пальца на спинке. Чокурча (Крым).
Кремень. 6/8 н. в.
Европы из известных до сих пор
поселений мустьерской эпохи. Откры-
тое де Баем еще в 1898 г. местона-
хождение у станицы Ильской долгое
время было почти забытым. Отдель-
ные попытки отыскать место перво-
начальных находок, предпринятые в
разное время, не увенчались успе-
хом, и можно было думать, что эта
стоянка останется в числе других
интересных, но мало освещенных
находок культурных остатков палео-
литического времени, пока С. Н. За-
мятнину не удалось в 1925 г. при
осмотре нефтяных промыслов найти
наконец искомое место.
Произведенные им раскопки (1926 и 1928 гг.) доставили большой и
ценный материал.1
1 С. И. Замятнин, Итоги последних исследований Илъского палеолитического
местонахождения, «Труды II межд. конф. АИЧПЕь, выл. V, стр. 207—215,
с тремя табл, рис.; S. N Zarniatnine, Station mousterienne a Ilskaia, prov. Kouban
(Caucase du Nord), «Revue anthropologique», 1929, стр. 282—295.
24S
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Лагерь па
открытом
воздухе
Окрестности Ильской представляют характерный ландшафт полосы
первых предгорий Северо-Кавказского края. Стоянка находится в непо-
средственных окрестностях станицы, среди неширокой долины р. Иль,
на краю второй террасы,
приблизительно на вы-
соте 12—15 м над уров-
нем реки. Культурные
остатки, залегающие в
древнем почвенном слое,
некогда покрывавшем по-
верхность террасы и до-
стигающем 40 — 50 см
толщины, прикрыты де-
лювиальной глиной, ко-
торая одевает террасу и
склоны соседних возвы-
шенностей (рис. 73). Та-
ким образом, в противо-
положность Крымским
стоянкам, в Ильской мы
имеем совершенно откры-
тый лагерь мустьерской
орды, которая для за-
щиты от внешних условий
должна была пользовать-
ся более прочными со-
оружениями, хотя, ве-
Рис. 69. Различные виды остроконечников нз Шайтан-
Коба (Крым).
1 и 3. —Из удлиненных пластин. 2.—Из треугольного
скола.
Кремень. 2/3 н. в.
(По Г. А. Бонч-осмоАовсиому)
Резец из отщепа (слева) и проколка (справа;
из Шайтан-Коба (Крым).
Кремень. 2/3 н. в.
(По Г. А. Боич-Осмоловскому)
Рис. 70.
роятно, и не ушедшими далеко от простых шалашей.
Так как раскопками пока охвачена лишь очень небольшая площадь
древнего поселения, преимущественно окраинные его части (по расчету
С. Н. Замятнина им
вскрыта всего лишь
1/30—1/40 часть стоян-
ки), исследователю не
удалось установить ха-
рактер самих первобыт-
ных жилищ. Однако в
распределении культур-
ных остатков на пло-
щади становища он мог
заметить известный по-
рядок. Местами он на-
блюдал скопления крем-
невого материала, нук-
леусов и производствен-
ного отброса,— очевид-
но, следы «мастерских».
В других пунктах преобладали
вождавшиеся преимущественно орудиями законченных форм. Обилие
зверя и наличие в ближайших окрестностях подходящего материала
находки костей животных, сопро-
для производства каменных изделий, очевидно, создавали условия,
в которых человек мог долгое время жить на месте стоянки, может быть
периодически оставляя ее для других районов охоты и вновь возвращаясь
ПЛЬСКАЯ
24»
Рис. 71. Двустороннее грубо оббитое ору-
дие с рабочим концом в виде резца. Шайтан-
Коба (Крым).
Кремень. 2/s н- в-
[По 1'. А. Бовч-Осмоловскоиу)
на насиженное и удобное место. Остатки животных из культурного слоя,
по определению В. И. Громовой, принадлежат мамонту, лошади, бизону
(Bison, prisons), гигантскому и
благородному оленю, дикому ослу,
кабану, пещерному медведю, пе-
щерной гиене, волку.
Как в Чокурче сайга, так в
Ильской бизон являлся главным
предметом охоты. Остатки его со-
ставляют подавляющее большин-
ство собранных здесь костей жи-
вотных (по данным В. И. Гро-
мовой — 60% всех определенных
особей); причем, по мнению С. Н.
Замятнина, 1 общее количество
особей бизона, ставшее добычей
ильских охотников, можно пред-
положить не менее, чем в 2400
экземпляров.
Так как в окрестностях стоян-
ки кремня нет, для изготовления
орудий человек пользовался главным образом речным галечником из бо-
лее плотных пород—яшмы, роговика, халцедона, кварцита, добывавшимся
им из отложений древней 40—50-метровой террасы р. Иль. В виду того, что
речная галька не дает крупных кусков камня, он не пренебрегал и кремни-
стым доломитом, гораздо менее прочной породой, которую он исполь-
зовал для изготовления больших пластин. Из таких крупных доломи-
товых пластин, достигавших 15 см в длину, выделывались, по указа-
нию С. Н. Замятнина, большие листовидные наконечники копий; их
основание бывает иногда подправлено для закрепления в древке. Во-
обще же орудия из доломита, как и из других пород камня, отделы-
Фауна
Каменный
инвентарь
Рис. 72. Вид на пещеру Шайтан-Коба (Крым) — в центре Фотографии.
вались характерным приемом, известным по мустьерским стоянкам
Крыма и Польши (Окенник, Галонска) и состоявшим в том, что «ниж-
няя сторона орудия обработана крупными фасетками, уплощена и не
1 С. Н. Замятнин, Итоги последних исследований..., стр. 210.
250 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
имеет вторичной мелкой подправки по краям; наоборот, верхняя, более
выпуклая сторона обычно несет по краям ретушь, окончательно фор-
мующую контур орудия».
Рис. 73. Разрез по левому склону долины р. Иль на месте стоянки.
1. —Современное русло р. Иль. 2. —Галечник поймы. 3. —Суглинок с прослой-
ками гальки. 4. — Делювиальный бурый суглинок. 5. — Ископаемая почва. 6. —
Нижний горизонт суглинка. 7. — Нижний горизонт ископаемой почвы с культур-
ными остатками. 8. — Глинистая супесь. 9. — Третичные известняки.
В правом нижнем углу дан вертикальный и горизонтальный масштабы (в метрах).
В общем же каменный инвентарь Ильской стоянки, если не считать
орудий из доломита,
Рис. 74. Костяные орудия
(фрагменты) из Чокурчин-
ской стоянки (Крым).
Vx н. в.
отличается небольшой величиной, часто же, как и
в Чокурче, с которой он имеет ближайшее сход-
ство, орудия здесь поражают своими незначи-
тельными размерами и вместе с тем тонкостью
отделки. В общем, сохраняя особенности мустьер-
ского инвентаря восточноевропейского типа, он
представляется весьма диференцированным в
отношении назначения орудий и весьма со-
вершенным в смысле тщательности их изгото-
вления.
Из отдельных видов орудий здесь можно на-
звать листовидные «наконечники» из яшмы, доло-
мита и лидита (рис. 95), являющиеся редкостью
в мустьерских стоянках Европы. Подобные пм
орудия — видимо, наконечники дротиков — при-
водит Д. Пейрони из мустьерских местонахо-
ждений Франции; они известны и в Эрингсдорфе
(рис. 96). Затем, наряду с обычными в описанных
нами выше стоянках Крыма небольшими «рубиль-
цами», остроконечниками и скреблами, а также
дисковидными нуклеусами, в инвентаре Ильской
стоянки очень нередки орудьица в форме тех
же остроконечников, но отличающиеся чрез-
вычайно малыми размерами, служившие, ве-
роятно, проколками, режущими остриями и т. д.
(рис. 76 и 77).
Вместе с тем здесь встречаются уже достаточно
характерные резцы; имеется и кость со следами
использования при выделке каменных орудий
ОСТАТКИ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ НА ДОНЦЕ И ДНЕПРЕ
251
(так называемые наковаленки). Наконец, как и в Чокурче, здесь найден
сделанный из кости экземпляр еще довольно грубого «шила».1
Очень интересно присутствие местами в культурном слое стоянки
отвердевшей нефти, образовавшей битуминозную массу (кир), которая,
благодаря своей воздухонепроницаемости, способствовала, например, со-
хранению многочисленных остатков насекомых (к сожалению, до сих
пор еще не определенных).
При наличии этих условий имеется надежда, как справедливо ука-
зывает С. Н. Замятнин, на неожиданные и очень важные для понимания
жизненной обстановки неандертальцев открытия в еще не исследованных
частях стоянки.
В нескольких километрах от Ильской, по словам того же автора,
имеется еще одно, пока не исследованное, местонахождение с остатками
мустьерского времени.
ОСТАТКИ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ НА ДОНЦЕ
И В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА
Выше говорилось уже о характере каменного инвентаря, в известной
степени и использовании кости, в конце мустьерского времени. В этих
чертах расцвета «сколотой» тех-
ники и растущего значения нового
материала — кости — приходится
представить развитие материаль-
ных форм позднемустьерской куль-
туры, по крайней мере в большин-
стве известных нам местонахожде-
ний западной Европы. Следует все
же учитывать, что при наличии об-
щей линии развития техники му-
стьерского населения изменение
этой техники имело место не в одно
время и проходило не одинаковы-
ми темпами. Мы не можем утвер-
ждать, что кое-где в Европе, оче-
видно и вне ее, не удержались до
конца среднего палеолита приемы
«тесаной» техники. Наоборот, име-
ются прямые указания на то, что
Рис. 75. Небольшой дисковидный нуклеус
(слева) и остроконечник из Ильской стоянки
(Северный Кавказ).
Роговик, яшма. 2/3 н. в.
(По С. Н. Замлтвиву)
инвентарь, отвечающий так назы-
ваемому «мустье с ашёльской традицией», переживает местами в Европу
до конца мустьерского времени.
Подобный случай мы имеем, например, в Киик-Коба, Чокурче и
Ильской, представляющих ряд таких черт, которые указывают на весьма
1 Раскопки в Ильской продолжены летом 1936 г. В. А. Городцовым. Этот иссле-
дователь в своем докладе (в Институте антроп., археол. и этногр. Акад, наук СССР)
обращает внимание на такие факты, которые не были достаточно учтены в отношении
Ильской стоянки, — наличие в ее инвентаре, помимо резцов, удлиненных пластинок,
скребков, приближающихся к нерхнепалеолитпческим типам, и т. д. Отсюда он де-
лает вполне естественный вывод о более позднем времени Ильского палеолитиче-
ского поселения, чем это предполагалось С. Н. Замятниным. Большой интерес пред-
ставляют сообщаемые В. А. Городцовым детали, касающиеся культурного слоя стоян-
ки — присутствие в ней очагов из камней и т. д.
252 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА
Дернул
эволюционировавшую высокую мустьерскую технику, сочетающуюся,
однако, с применением приемов изготовления кремневых орудий путем
двустороннего обтесывания.
Несколько иной характер имеют памятники топ же эпохи, открытые
на восточноевропейской равнине, в ее полосе, расположенной между по-
бережьем Черного моря
и границей максималь-
ного распространения
великого северного лед-
ника.
В середине июля
1924 г. автору настоя-
щей книги посчастли-
вилось найти доказа-
тельства бытования у
нас остатков мустьер-
Рис. ”6. Орудия из Ильской стоянки (Северный Кавказ).
1, 2. (Слева — верхнее и нижнее) — орудия из отщепов
типа небольшого остроконечника. 3. — Орудие, напо-
минающее «рубило».
Роговик, яшма. 2/з н- в.
(По С. Н. Замятнину)
ской культуры вне
области южного Крыма
и Предкавказья.
Находка была сде-
лана в Донбассе на са-
мой границе с бывшей
Донской областью, на р. Деркул, при впадении его в р. Сев. Донец.1
Небольшая река Деркул перед вхождением с восточной стороны на ши-
рокую пойму Донца прорезывает водораздел и образует довольно хорошо
выработанную долину, ограниченную пологими склонами. Современное
русло Деркула держится ближе к правой стороне и ниже хутора Колесни-
кова подходит к подножию береговой возвышенности, энергично подмы-
вая ее склон в том месте, где он переходит в песчаную надлуговую
террасу Донца.
В основании естест-
венного разреза имеется
выход мела. Сам разрез
очень интересен с геоло-
гической точки зрения;
так как дает возмож-
ность связать культур-
ные остатки с опреде-
ленной эпохой в фор-
мировании речной до-
лины.
Геологичс- Как видно на черте- -
ские условия Же (рИс. 39), выше мела
залегает неравномерный
Рис. 77. Остроконечники с односторонней и двусторон-
ней обработкой. Пльская (Северный Кавказ).
Роговик. 2/3 н. в.
(По С. Н. Замятину)
пласт темного мергеля
с меловой щебенкой ижелваками кремнистого мела, который местами
почти размыт, местами же образует как бы гребни, чередующиеся
с глубокими котловинами. Таким образом, здесь, на высоте 6 м над
современным уровнем реки, мы имеем дно того потока, который дол-
жен был оставить вышележащие слои; характер этого дна свидетель-
1 П. П. Ефименко, Находки остатков мустьерского времени на р. Деркул, «Па-
леолит СССР», ГАИМК, 1935, стр. 13; другие статьи см. в указателе литературы
в конце книги.
ОСТАТКИ МУСТЬЕРСКОЙ эпохи НА ДОНЦЕ И ДНЕПРЕ
253
ствует, что древний Деркул представлял собой весьма бурную и много-
водную реку. В эту эпоху он отложил нижнюю толщу песков, кото-
рые также указывают на силу течения реки: они пластуются часто под
большим углом к горизонту (до 45) и
вой гальки.
На этих слоях залегает прослойка
сильно окатанных кремневых желваков.
Выше нее лежит горизонтально слоистый
кварцевый песок, поверхность которого
сильно разрушена и представляет котло-
вины выдувания, чередующиеся с сыпу-
чими песками. Ниже по течению реки
галька залегает сплошным слоем, а не-
сколько выше ее становится меньше, и
здесь по одному и по нескольку на гра-
нице нижних и верхних песков встреча-
ются крупные расколотые куски кварцита,
пластины из того же материала и отдель-
ные орудия.
Будущие раскопки, вероятно, дадут
более обильный материал для суждения
об этой стоянке, но и то, что было со-
брано, вполне определяет ее время. Вместе
с кварцитами было найдено только одно
орудие из кремня — характерный мустьер-
содержат включения кремне-
Рис. 78. Пластины-скребла из Иль-
ской стоянки.
7» н. в.
По С. Н. Замятяину)
Обработан-
ный камень
ский остроконечник (рис. 79, справа). Остальные находки состоят почти
исключительно из кварцита, что приходится объяснять отсутствием хо-
рошего кремня в окрестностях стоянки, так как кремневая галька, ко-
торую человек мог собирать на отмелях реки, имеет слишком небольшую
Рис. 79. Скребло (слева) и остроконечник (справа)
из мустьерской стоянки на р. Деркул (Донбасс).
Кварцит и кремень. Ок. 2/з н- в.
(Сборы автора)
величину и поэтому была
мало пригодна для выделки
орудий крупных размеров.
Из кварцита, который
добывался где-то недалеко
и приносился первобытными
обитателями на место стоянки
в виде целых глыб этой по-
роды, сделаны, например,
большой дисковидный ну-
клеус (рис. 80), несколько
крупных хороших пластин и
скребел (рис.79,слева, и 81).
Тип этих орудий из Деркул-
ской стоянки, которую при-
ходится рассматривать как
охотничий лагерь временного
характера, так как здесь
ков, обычные для долго существовавших
отсутствуют скопления остат-
поселений, указывает на до-
вольно позднее мустьерское время.
Общая геологическая картина этой находки представляется в таком Геологиче-
виде: в нижних песчаных отложениях естественно видеть остатки древней «кий возраст
террасы Дернула, поверхность которой первоначально должна была
254
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭНДОГАМНАЯ Б ОМНУ НА
быть значительно выше теперешнего ее уровня — 9 м над течением
Деркула.
Правдоподобно, что образование этой террасы относится к ранней лед-
никовой эпохе.
Верхние пески являются свидетелем нового поднятия уровня Деркула
в более позднее время ледниковой эпохи. Мы знаем, что в тех же усло-
виях мустьерские орудия встречаются нередко в отложениях террас
многих рек северной Франции. Приходится думать, что мустьерский
человек оставил свои орудия на береговой отмели в эпоху максималь-
ного оледенения или, может быть, когда оно начинало уже отходить
Рис. 80. Дисковидный нуклеус из мустьерской стоянки
на р. Деркул (Донбасс).
Кварцит. Ок. 2/з н. в.
Вверху слева показан способ откалывании пластин.
(Сборы автора) •
к северу.
Красный Яр Цто среднее течение Донца может оказаться богатым наход-
ками, относящимися к интересующему нас времени, показывают
орудия мустьерских типов, происходящие из Красного Яра, не-
далеко от Ворошиловграда (Луганска).
Окатанность орудий — прекрасно сработанных мустьерских остроко-
нечников, скребел, круп-
ных кремневых пластин
(удлиненные«примитивные
пластины» — предшествен-
ники верхнепалеолити-
ческой техники, подоб-
ные найденным в Иль-
ской) и отщепов, сопрово-
ждавшихся остатками но-
сорога (Rhinoceros tichor-
hinus), — показывает, что
они попали сюда, на от-
мель Донца, где они были
найдены С. А. Локтюше-
вым, из более древних
отложений, очевидно раз-
мытых рекой.
Первые находки ору-
дий были сделаны здесь
С. А. Локтюшевым еще в
1925 г.
В отношении недавно
(в 1934 г.) открытой на
среднем течении Днепра
мустьерской стоянки у
Кодак с. Кодак, в нескольких километрах к югу от Днепропетровска, мы не
можем прибавить почти ничего к тому, что было нами сказано выше,
так как материалы ее пока не опубликованы. Раскопки стоянки,
производившиеся в течение двух лет дали хороший кремневый инвен-
тарь мустьерского облика, правда представленный пока небольшим
количеством законченных орудий. Здесь имеются дисковидный нуклеус,
остроконечник, скребло, скребковидные орудия и пр.
Изделия из кремня сопровождаются фауной раннего типа. В со-
став последней входит слон трогонтерий, сибирский носорог, большеро-
гий олень (Cervus megaceros), северный олень, бизон, лошадь, пещер-
ный лев, пещерный медведь и др.
Особенно интересны условия залегания этих остатков — в основании
ОСТАТКИ МУСТЬЕРСКОЙ эпохи НА ДОНЦЕ И ДНЕПРЕ
255
мощной толщи аллювиальных
в отложениях, относящихся по
определению геологов к на-
чальной порерисского оледене-
ния.
Весьма вероятно, что сто-
янка мустьерского человека
была расположена у окраины
низкой береговой террасы
Днепра, на подъеме этой тер-
расы к водоразделу. Харак-
терно, во всяком случае, что
слой, содержащий перечислен-
ные находки, представляет со-
бой пески, переслаивающиеся
с галечником. Этим пескам и
галечникам в направлении к
устью оврага (прорезывающего
древние напластования, что
позволяло обнаружить здесь
присутствие следов человека)
и лёссовых образований (свыше 20 м),
Рис. 81. Пластина типа леваллуа измустьер'
свой стоянки на р. Деркул (Донбасс).
Кварцит. 2/s н. в.
(Сборы автора j
отвечают типичные аллювиальные отложения в виде слоистых песков
с фауной пресноводных моллюсков.
Вход в пмцеру Шапе.ыь-о-Сен.
Т Л А
В А
II Я
ТАЯ
Н. Я. ПАРР
Укрепление
охотничьего
хозяйства
ПЕРВОБЫТНАЯ
ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
МУСТЬЕРСКОЕ ВРЕМЯ
КАМЕНЬ И КОСТЬ В ТЕХНИКЕ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ
Выше мы постарались наметить некоторые этапы, которые проходили
в своем историческом развитии в эпоху раннего и среднего мустье скла-
дывающиеся общества неандертальцев. Мы имели возможность про-
следить, как первобытные орды охотников, приспособляясь к повой при-
родной обстановке, создающейся в эпоху развития максимального оле-
денения, широко расселяются в тех областях Европьц которые, очевидно,
еще не были доступны для человека эпохи древнего палеолита.
Мы видели, что культурные остатки, сохранившиеся от этого вре-
мени, поскольку речь может итти главным образом о кремневых изде-
лиях, вовсе не дают той правильности «почти биологического процесса»,
о которой говорят сторонники типологического построения истории
палеолитического времени. Наоборот, ломка сложившегося уклада су-
ществования, связанного с^весьма еще мало активной, примитивной фор-
мой хозяйства ранней поры палеолита, приводит первобытное население
Европы к многообразным опытам в области техники, которые все имеют
то общее, что в основе их лежит стремление к более целесообразному
использованию свойств кремня или заменяющих его иных пород — яшмы,
кварцита и пр. — для удовлетворения растущих потребностей материаль-
ного обихода. Поэтому в типах каменного инвентаря мустьерской эпохи
мы видим значительное разнообразие, причем в одних случаях мустьер-
ский охотник идет по пути самого широкого применения кремневого
скола, тогда как в других он еще широко пользуется орудиями, получен-
ными двусторонним обтесыванием, то есть техникой, выработанной опы-
том бесчисленных предшествующих поколений.
Повсюду, насколько мы могли это выяснить, кремневый инвентарь
КА МЕНЬ И КОСТЬ В ТЕХНИКЕ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ
257
лишь отражает процесс оформления того нового исторического образо-
вания, которое мы можем назвать первобытной охотничьей ордой. Этот
процесс сопровождается изменением обстановки существования человека,
появлением стоянок как более или менее долговременных мест оби-
тания, где человек стремится использовать природный ландшафт — на-
весы, гроты, удобно расположенные долины для защиты от становяще-
гося суровым климата ледниковой эпохи, так же как и для защиты от
постоянно подстерегающих его опасностей. Нужно сказать все же, что
человек в это время все более выступает как новая весьма активная сила
в окружающей его природной обстановке. Во всяком случае он уже успешно
борется против окружающего мира животных, не останавливаясь перед
столкновениями с такими опасными хищниками, как пещерный лев и пе-
щерный медведь. Более того, пещерный медведь, так же как носорог и ма-
монт, становятся его постоянной добычей.
Возвращаясь к технике кремня, которая по необходимости является
для нас путеводной нитью для восстановления хода развития первобыт-
ного общества в условиях этих отдаленных эпох, мы устанавливаем,
что к концу среднего палеолита повсюду складываются более или менее
однообразные приемы обработки этого мате-
риала; в результате долгого опыта устанавли-
ваются определенные формы орудий, — некото-
рый набор этих орудий, который и разумеется
обычно под термином «типичного мустье». Му-
стьерские стоянки поздней поры дают крем-
невый инвентарь по большей части уже зна-
чительно более сложный, во многих отно-
шениях более совершенный, чем в предше-
ствующее время среднего палеолита.
В основе мустьерских приемов обработки
кремня лежит Нуклеус, то есть кусок кремня,
обычно дисковидной формы (рис. 80 и 82) или в
виде уплощенной плитки, предварительно более
или менее тщательно стесанный и подготов-
ленный для дальнейшей работы.
Очень характерной для позднего мустье
является подтеска (выравнивание) такого нукле-
уса с его плоской стороны, что имеет своим
результатом как бы подретушевку, наблюдающуюся на ударной пло-
щадке массивного мустьерского отщепа.
От дисковидного нуклеуса сильным ударом по краю, направленным
вертикально (несколько наискось), откалывалась крупная, широкая, часто
треугольная по форме пластинкащо всеми признаками намеренного скола:
гладкой нижней отбивной поверхностью, спинкой, носящей следы пред-
варительных стесов, ударной площадкой, отбивным бугоркомипр. Такая
пластинка с тонким, острым, как у осколка стекла, режущим краем была
пригодна для непосредственного употребления и шла в дело для разно-
образного применения. Но она скоро тупилась, выщербливалась и была
годна для работы лишь на короткое время. На многих таких пластинках
бывают заметны признаки их использования.
Потребность иметь орудие с более прочным рабочим краем, которым
можно было бы пользоваться более долгий срок, имея его всегда под
рукой, особенно во время охотничьих экспедиций и, вообще, во время
пребывания вне стоянки, приводит в течение мустьерской эпохи к тому,
Гис. 82. Дисковидный мустьер-
ский нуклеус (Франция).
Кремень. Ок. 7з и. в.
Нуклеус
Кремневый
инвентарь
Пластинка
1
Ретушь
17 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
258 ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
что лучше удавшиеся, более пригодные для этой цели пластины под-
вергались дальнейшей отделке. Обычно эта отделка представляет тонкую
подправку мелкими сколами, которые наносились только по самому краю
и лишь в одном направлении — с верхней стороны или спинки пластины.
Подобный прием выделки орудия вторичной подправкой (или ретушью)
отличает технику мустье от древнего приема обтесывания кремня. По-
следний, однако, переживает очень долго, до конца мустьерского вре-
мени, в применении к некоторым видам орудий, в частности к «ручному
рубилу» — вернее подражающим ему по технике приготовления (дву-
сторонним обтесыванием) орудиям иного назначения.
Техника Мы видели, что в премустьерских стоянках ретушь имеет очень гру-
вторичноц бый и более или менее случайный характер, в соответствии с примитив-
ным характером техники обработки кремня в целом. Позже она стано-
вится обычным явлением. Но для техники мустье в эпоху расцвета является
характерным особый прием — отжимание с помощью костяных накова-
ленок (рис. 93) или на плитке более мягкого камня. Такой прием вто-
ричной подправки отщепа для превращения его
в орудие более постоянного употребления в среде
охотничьих орд среднего палеолита становится
известным довольно рано. Наковаленки из оскол-
ков кости встречены, например, в нижнем слое
Киик-Коба. 1 Обломки костей или сочленения, на-
пример бабки лошадей, служившие наковаленками
при выделке мустьерских орудий, имеют особые
меты в виде площадок или даже плоских впадин,
образованных повторными насечками.
Обычно предполагается, что подправка воспро-
изводилась в эпоху мустье способом контрудара:
пластина своим краем накладывалась на накова-
ленку из камня или чаще кости, и резким ударом по
спинке кремневой пластины от ее края заставляли
отделиться тонкий осколок. Однако наблюдения над
наковаленками из верхнего слоя пещеры Киик-
Коба, где они составляют обычное явление, не-
смотря на довольно архаический облик кремне-
вого инвентаря, показывают, что так называемая
наковаленка представляет скорее отжимник, кото-
рый при работе держали в руке, хотя его роль в
скорее пассивной. 2 Сходную точку зрения выска-
1’пс. 83. Типичны»
кремневый остроко-
нечник из Маркклее-
берга.
Около J/2 н. в.
(По Якобу)
этом процессе была
зывает и Обермайер.
Контрударная, или «длинная» ретушь мустьерских орудий легко
отличима от двух других, более обычных приемов нанесения ретуши: во-
первых, ударной, которая представляет наиболее простой прием под-
правки орудия из пластины, и, во-вторых, отжимной, являющейся
высшим достижением техники обработки кремня и получающей рас-
пространение в среде палеолитического населения Европы только в
солютрейскую эпоху. Мустьерская ретушь занимает между ними как бы
промежуточное место.
Оетрокоиеч- Видами орудий мустьерский набор их даже в позднее время еще весьма
пик и скребло небогат: бедность и однообразие инструментов придают поэтому мустьер-
1 Бонч-Осмоловский, Итоги ' изучения крымского палеолита, «Труды II межд.
конф. АИЧПЕл, вып. V, 1934, стр. 132.
2 Там же, стр. 134.
КАМЕНЬ II КОСТЬ В ТЕХНИКЕ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ
25»
подправлены в виде
Рпс. 84. Мустьерский ос-
троконечник (Франция;.
Кремень. Ок. ’/г и. в.
Их
,г;денне на-
значение
ской технике еще достаточно примитивный характер. Она знает, в сущ-
ности, только два орудия законченной формы, которые более или менее
постоянно встречаются в стоянках позднего мустье, — это так называемый
мустьерский остроконечник (pointe a main) и скребло (racloir).
Мустьерский остроконечник (рис. 83 и 84) представляет собой треуголь-
ную пластину с основанием, соответствующим точке откола и потому всегда
более массивным. Один или оба края его бывают
слегка изогнутого, выпуклого режущего лезвия,
а конец заострен.
Мустьерское скребло в своей типичной фор-
ме имеет вид широкого отщепа с лезвием, рас-
положенным по длинному краю (рис. 85).
Оба эти типа инструмента, в сущности го-
воря, отвечают двум категориям пластинок, ко-
торые получались при обработке дисковидного
нуклеуса мустьерской эпохи. Таким образом, в
остроконечнике и скребле можно видеть первона-
чально простые кремневые отщепы, которые в
дальнейшем, при выработке более или менее по-
стоянных орудий, получили более стойкую, более
определенную и более целесообразную форму.
При этом укажем, что так называемые скребла
часто отличаются от остроконечников тем, что
они приготовлялись из широких округлых пла-
стин и имеют спинку с многими гранями, то есть
для их изготовления использовались пластины,
которые мы называем типом леваллуа. Можно думать, что эти пластины
явились прототипом, из которого впоследствии выработался законченный
вид орудия — мустьерское скребло. Так же, как обычный треугольный,
заостренный мустьерский отщеп выдает происхождение остроконечника.
Для какой цели служили оба эти вида орудий? Уже давно выска-
зывалось предположение, что так называемый мустьерский остроконечник
представляет собой в действитель-
ности кремневый наконечник, ко-
торый должен был насаживаться
на древко копья, что в связи с
охотничьим бытом мустьерца и
большой продуктивностью его
охоты на крупного зверя было бы
вполне естественно. Однако Мор-
тилье показал, что такое толко-
вание мустьерского остроконеч-
ника в большинстве случаев мало
вероятно. Против него говорит
то обстоятельство, что этот инстру-
мент бывает всегда значительно
утолщен к основанию и вряд ли мог
быть, следовательно, закреплен в
рукояти. Очевидно, мустьерец, как
и современный тасманиец, в качестве охотничьего вооружения удовле-
творялся деревянным копьем с острым концом, закаленным на огне.
Заслуживает внимания все же тот факт, что в самых поздних мустьер-
ских стоянках действительно появляется такой вид остроконечника, за-
пропсхо-
Рис. 85. Мустьерское скребло.
(’Франция).
Кремень. Ок. 7г н. в.
-260
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Рис. 86. Австра-
лийский муж-
ской нож (квар-
цитовый клинок
с рукоятью нз
смолистой мас-
сы).
Около а/2 и. в.
(По экземпляру цэ
коллекции Инсти-
тута этнографии
Акад, наук СССР)
остренного на противолежащих концах, некоторый, очевидно, приходится
смотреть как на нож-кинжал или, скорее, как уже на настоящий
наконечник метательного копья. Это соображение подкрепляется наблюде-
ниями Пейрони, 1 одного из самых внимательных современных исследо-
вателей палеолитических местонахождений Франции, описавшего про-
исходящие из мустьерских стоянок настоящие кремневые наконечники
с черенком для закрепления в древке. Впрочем, даже в позднее мустьерское
время они все же составляют еще довольно редкое явление.2
Этот тип вооружения — копье с укрепленным на конце
его твердым наконечником — получает широкое распро-
странение только в непосредственно следующую за мустье —
ориньякскую эпоху. Нужно заметить, однако, что в началь-
ное время ориньяка материалом для выделки наконечни-
ков дротиков служит главным образом кость. Кремень же
для этой цели находит массовое применение лишь в конце
ориньяка и в солютрейское время, в связи с улучшением
качества первичного материала — кремневой пластины и
распространением нового приема ее отделки— отжимом.
Таким образом мы возвращаемся к поставленному
выше вопросу: какую техническую функцию могли вы-
полнять остроконечник и скребло? Оба эти орудия имеют,
в сущности говоря, весьма близкий характер, опреде-
ляющийся их главной рабочей частью — лезвием, в ка-
честве которого используется тонко подправленный ре-
жущий край пластины.
Многочисленность этих орудий в стоянках позднего
мустье заставляет видеть в них орудия повседневного
и самого широкого и разнообразного употребления.
Во многих поселениях, относящихся к поздне-
мустьерской эпохе, остроконечник и скребло составляют
подавляющее большинство всех наличных находок. Уже
это одно обстоятельство позволяет думать, что ими вы-
полнялись всякого рода работы, требовавшие примене-
ния острой кремневой пластины, начиная с разделки и
свежевания зверя, обработки шкуры, выделки деревян-
ного оружия и пр. Но тогда естественно задать во-
прос, почему в позднемустьерское время возникают все-
же два разных типа орудий, которые постоянно сосуще-
ствуют в стоянках развитого мустье. Не представляют ли
они какие-то специальные формы инструментов, имеющих
различное применение в условиях охотничьего хозяйства?
Вероятно, отчасти, это так и было. Однако прямой и непосредственный
ответ на поставленный нами вопрос скорее дают наблюдения над современ-
ными отсталыми народностями, переживающими стадию каменного века.
В частности, такие факты, освещающие значение некоторых видов орудий,
близких к интересующим нас мустьерским формам, мы можем найти
у австралийцев.
Мужской п Австралийцы, как известно, практикуют особый прием обработки
женский нож камня, при котором получаются прекрасные крупные пластины треуголь-
ной формы в виде естественно заостренного длинного клинка; такие пла-
1 D. Peyrony, La pointe en silex dans les differents niveaux, depuis le mousterien
superieur jusqu'au solutreen inferieur, «Bevue prehistorique», Л? 6, 1909, стр. 184.
2 См. выше — находки, сделанные в Ильской.
КАМЕНЬ И КОСТЬ В ТЕХНИКЕ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ
281
и женщины, скребло могло
Рис. 8". Каменный женский нож
tilu) в рукояти типа, распростра-
ненного у народностей Северной
Америки (эскимосов и индейцев
севера).
(По Масону из 11*ейФФера)
стинки можно видеть в соответствующих отделах больших этнографи-
ческих музеев. Из подобных пластинок австралийцы изготовляли целый
ряд различных видов орудий и оружия. Без всякой дальнейшей под-
правки они служат, например, в качестве наконечников копий. Закре-
пленные в короткую рукоять, они употреблялись австралийцами в виде
боевых топоров-чеканов. Еще шире было их применение в качестве кин-
жалов, носимых постоянно при себе, так как у мужчин они имеют зна-
чение не только оружия, но и орудия различного повседневного употре-
бления — мужского ножа (рис. 86). Женский ноя?, который австралий-
ские женщины также всегда держат при себе для своих хозяйственных на-
добностей, сделан несколько иначе: он значительно короче, не зао-
стрен и часто бывает подретуширован для более долгого употребления.
Можно предполагать, что в позднемустьерское время, когда в среде
охотничьих групп, без сомнения, складываются уже предпосылки для
хозяйственного разделения труда мужчины
быть преимущественно орудием женщины,
связанным с ее кругом деятельности. Дей-
ствительно, женский нож «ulu» эскимосов
весьма близок к мустьерскому скреблу
(рис. 87). Остроконечник, как орудие муж-
чины, гораздо более был пригоден для того,
чтобы прикончить животное, для вспарыва-
ния туши, снимания шкуры и пр.
Этими двумя орудиями не исчерпыва-
ются типы орудий мустьерских стоянок.
В них довольно часто встречаются выем-
чатые скребла, или скобели, которые упо-
требляли и тасманийцы, затем заострен-
ные пластинки с подретушированным кон-
цом, служившие, очевидно, в качестве про-
колок. Очень показательно для примитив-
ности и консерватизма мустьерской техники, что для последней цели не
создается новой формы орудия: в качестве проколок служат те же остро-
конечники, лишь очень уменьшенные в размерах. Такие кремневые пла-
стины, у которых путем подправки в качестве рабочего конца орудия отде-
лан режущий угол, применялись в виде наметчиков для разделки твердых
материалов, например для распиливания дерева. Иногда в поздне-
мустьерских стоянках встречаются и мелкие кремневые инструменты,
которые в огромном числе возникают вследующую, ориньякскую эпоху. Их,
как правильно указывает Пфейффер, естественно связать с теми «домаш-
ними» работами по кройке одежды, разделке волокон, необходимых для
всякого рода плетений и пр., которые становятся делом женщины.
Как общее правило, для мустьерских изделий из кремня можно за-
метить, что мустьерская техника, особенно к концу эпохи, уже вполне
овладевает материалом — кремневой пластиной, придавая ей определен-
ный характер, то есть превращая ее в то или иное орудие труда. Однако,
п это составляет одно из ее существенных отличий от верхнего палео-
лита, мустьерская техника еще не умеет преодолевать естественную
форму самого материала. Действительно, в своей массемустьерские орудия
еще целиком представляют подправленные, улучшенные для пользования
те же пластины, или треугольные, или овальных очертаний, или просто
приостренные с помощью подправки осколки кремня, получавшиеся
в процессе первичной обработки материала. Этим объясняется большая
Ограничен-
ность техни-
ческих воз-
можностей в
обработке
кремня
262
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Рубящее
орудие
бедность, примитивность мустьерского кремневого инвентаря, несмотря
на значительное совершенство в приеме отделки рабочих частей орудия,
которое дает так называемая контрударная ретушь. Только в верхнем
палеолите техника делает дальнейший шаг, в гораздо большей степени
подчиняя материал целесообразности назначения орудия.
Чтобы закончить характеристику мустьерской техники в отношении
изделий из кремня, следует вспомнить еще так называемые диски. В одних
случаях они представляют ни что иное, как отработанные нуклеусы.
В других они приготовлялись намеренно и по своей технике вполне
сходны с «ручным рубилом», то есть бывают обтесаны с обеих сторон, отли-
чаясь от последних только своими округлыми очертаниями.
Назначение их, вероятно, было тоже довольно разнообразно, но средн
них имеются такие, которые заслуживают особенного внимания. Дело
Рис. 88. Топорообразное тре-
угольное рубило из ашёль-
ской стоянки Гэ де Барро
(Франция).
Кремень. Ок. 1/3 и. в.
“ (Ио Пейрони)
в том, что так называемые «ручные рубила»,
как мы видели, уже в более раннее время сред-
него палеолита теряют значение рубящих ору-
дий. Однако потребность в рубящих орудиях,
несомненно, остается. Если ручное рубило древ-
него палеолита мы вправе рассматривать в боль-
шей степени как приспособление, связанное с
определенными условиями существования, чем
как инструмент технического значения, в сред-
нем палеолите, наоборот, потребность в послед-
нем начинает играть все большую роль.
Мы знаем, что тасманийцы еще не имели
топора. В этом значении его заменял подтесан-
ный сколами кусок твердой породы, который
держался просто в руке. Такую функцию, ви-
димо, могли выполнять крупные кремневые дис-
ки мустьерских стоянок. Однако у нас имеются
основания думать, что еще на стадии среднего
палеолита накапливающийся технический опыт,
растущая продуктивность охоты и связанное
с этим общее усложнение культурных навы-
ков приводят к появлению нового вида орудия
труда, которое можно назвать топором.
При своей кажущейся простоте топор не сразу вошел в обиход в своем
технически законченном облике. Его более раннюю форму, видимо, сохра-
няют те же австралийцы, у которых наряду с топором имеется то, что
можно назвать теслом, или долотом на прямой рукояти, которым они поль-
зуются для обработки более мягких пород дерева (рис. 89). Можно пред-
полагать, что первоначально роль топора играло именно такое орудие
с массивным кремневым клинком, закрепленным на конце слегка изо-
гнутой или прямой рукояти.
Вполне достоверными доказательствами появления такого примитив-
ного топора в среде охотничьих орд среднего палеолита мы не распола-
гаем. Однако известные указания на это имеются. Еще в 1908 г. Обермай-
ер, 1 который вполне правильно рассматривает шелльские и раннеашёль-
ские рубила как орудия, применявшиеся непосредственно от руки, счи-
тает возможным, что некоторые из поздних ашёльских треугольных и оваль-
1 Hugo Obermaier, Die Steingerdte des jranzosischen Altpaldolithikums, Eine krr
tische Studie liber ihre Stratigraphie und Evolution, «Mitteilungen der prdhistorischen Конг
mission der K. Akadenue der Wissenscha/ten», Bd. II, Л? I, 1908, Wien,1908, стр. 82.
КАМЕНЬ И КОСТЬ В ТЕХНИКЕ МУСТЬЕРСКОЙ ЭПОХИ 2’вЗ
пых рубил могли представлять в этом смысле исключение. Они очень
правильны, тонки в сечении и их основание образует широкое лезвие в виде
лезвия топора (рис. 88).
Этого рода орудия, всегда очень тщательно приготовленные, из позд-
неашёльских находок Франции настолько близки по своему облику
к топору, что описывающие их авторы называют их прямо топорами или
транше (haches, hachereaux, tranchets, tranchets de grande
laille, tranchoirs и т. д.).1 Несколько иной вид имеют мустьер-
ские топорики, недавно описанные Пейрони и почти тожде-
ственные с примитивными рубящими орудиями ранненеоли-
тпческой поры (тип топора изкьёккенмёддингов Дании); по-
следним названный автор также дает название транше. 2
Такими орудиями, нужно думать, выбивались, например,
те правильные и довольно глубокие очажные ямы и ямы для
погребений, которые встречаются в пещерных поселениях му-
стьерской эпохи. Очевидно, для того, чтобы вытесать такую
яму в известняковом полу жилища, нужен был достаточно
совершенный инструмент. Он был необходим и при обработке
дерева для тех или иных целей.
Орудия в виде небольших «дисков», а затем и более или
менее оформившихся клинков примитивного топора на пря-
мом насаде удерживаются и позже, в ориньякское и со-
лютрейское время.
Иного рода изделия из камня представляют шары из
песчаника, известняка, даже кремня, которые часто отмеча-
ются среди находок в мустьерских становищах. Одни из них
имеют натуральную форму конкреции или голыша; другие
подвергались намеренной обработке и бывают довольно тща-
тельно вытесаны. От отбойников, которые служили для рас-
щепления кремня и раскалывания костей, они отличаются тем,
что не имеют следов работы в виде характерной смятости на
выступающих гранях, являвшейся результатом сильных по-
следовательных ударов и всегда наблюдающейся на камнях,
которыми пользовались для обработки твердого материала.
Их обычно толкуют как метательные камни или шары от бола
(пли боласа) — те шары, которые закрепляются на концах
ремней в известном охотничьем приспособлении степных индей-
цев Южной Америки (рис. 92). Эти народности, включая огне-
земельцев, живущих в несколько иной природной обстановке,
до прибытия европейцев обладали очень первобытным укладом
культуры, который в некоторых отношениях обнаруживает
Болае
Рис. 89. Те-
сло (двулез-
впйное) авст-
ралийцев.
(По экземпляру
из коллекций
Института этно-
графии Акад
над к СССР)
известные черты сходства с мустьерским населением Евразии.
У них, между прочим, праща и метательные камни являются одним из
важных средств охоты. Но у них же имеется еще один вид оружия, ко-
торый может объяснить применение более крупных и лучше сделанных
каменных шаров, иногда попадающихся в мустьерских стоянках (рис. 90).
Это оружие представляет род кистеня из каменного шара, вшитого в кожу
на гибкой, оплетенной ремнем рукояти. С этим оружием южноамерикан-
1 Paul de Givenchy, Des outils qui n’ont pas de nom, «Bulletin de la Societe prehist.
franQaise», 1923; D. Peyrony, Les haches du paleolithique ancien, «Revue anthropologique»,
• V 1—3, 1931, стр. 31—37.
2 D. Peyrony, Etude de formes inedites ou peu connues du Mousterien. Leur evo-
lution dans Ic paleolithique superieur, «Revue anthropologique», Л? 7—9, 1926.
264 ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Находки
Ниттара
Использова-
ние кости
ские индейцы рисковали выходить в одиночку на охоту за крупным южно-
американским хищником — пумой. 1
Чрезвычайно поверхностная и небрежная манера, отличающая ведение
поселений на западе, лишила нас многих воз-
можностей в смысле фактов, раскрывающих
те или другие стороны жизни неандерталь-
ского населения Европы. Тем больший
интерес имеют для нас исследования швей-
царского антрополога и археолога Евгения
Питтара, 2 которому, благодаря более тща-
тельному проведению раскопок в пещерной
мустьерской стоянке Ребиер I близ Бран-
тома (Дордонь), удалось сделать интерес-
ные наблюдения и по интересующему нас
сейчас ‘вопросу. Расчищая слой, отложив-
шийся на месте древнего обитания, Питтар
и его помощники имели случай не раз
наблюдать, как описанные нами шары,
вытесанные здесь часто из известняка,
лежали по три вместе, парными группами
(рис. 91).
Заслугой французского ученого Анри
Мартена является открытие одной стороны
человека, которая до него была почти не-
раскопок палеолитических
Рис. 90. Б.а.иеш1ып шар из пещеры
Ла Кина (Франция).
Уменьшено.
(По Шоиэ из Обермайера!
технике мустьерского
в
известна, — утилизации кости. Ему удалось показать, в результате
главным образом многолетних работ по изучению богатой поздне-
мустьерской стоянки Ла Кина, что кость, ’если и не являлась в эту
эпоху обычным материалом для изделий, то все же использовалась уже
довольно широко. Выше были отмечены так называемые наковаленки,
вернее — отжимники из кости,
составляющие обычную находку
в мустьерских стоянках.
Но применение кости в эпоху
мустьерских поселений было,
несомненно, значительно шире.
Мы будем иметь случай оста-
новиться несколько ниже на
находках в пещерных стоян-
ках горных областей средней
Европы, — замечательных по
обилию остатков пещерного
медведя,—расколотых костей
этого животного, использован-
ных в виде различных орудий
первобытной техники. То же
сообщает Моросан относительно
костей животных в исследованной им стоянке Ла Извор на берегу
р. Прута.
Аналогичные находки относятся к пещере Покала в районе Триеста, где
1.20 метр.
0.30 метр.
Рис. 91. Боласы из пещерной мустьерской сто-
янки Ребиер I (Дордонь, Франция).
(По Питтару)
1 G. de Mortillet, Origine de la chasse, de la peche et d’ agriculture.
2 E. Pittard, Le prehistorique dans le vallon des Rebieres (Dordogne), eCongres In-
tern. d’anthrop. et d’archeol. prehist.-», Geneve, t. 1,1912, стр. 363.
ПРИРОДНАЯ ОБСТАНОВКА. МИР ЖИВОТНЫХ
по сведениям, сообщаемым Battaglia, 1 вместе с огромным количеством
костей пещерного медведя (число особей которого насчитывается здесь
до 1000), а также остатками крупного пещерного хищника
из породы кошачьих, волка, гиены, быка, — найдено было
некоторое количество орудий мустьерских типов из кремня
и кварцита и расколотых костей животных со следами
утилизации. Последние представлены отделенными от че-
репа рогами оленя, заглаженным от употребления оскол-
ком трубчатой кости, костями с насечками и пр.
Исследование крымских пещерных поселений, относя-
щихся к мустьерской эпохе, дает в этом отношении также
очень ценные факты, свидетельствующие о том, что кость
занимает определенное место в технике мустьерца. При
этом, как показывают находки в пещере Чокурча и в
Ильской на Кубани, здесь к концу мустьерской стадии
уже вырабатываются приемы обработки кости, широко
используемые затем в ориньякское время для изготовле-
ния разнообразных орудий.
Нарезки на костях животных, происходящих из му-
стьерских стоянок Европы, свидетельствуют о том, что
мустьерский человек имел уже определенные, твердо уста-
новленные приемы разделки убитого зверя, сдирания
шкуры и расчленения на части его туши. Можно думать,
что мустьерец очень тщательно использовал все съедоб-
ные части животного. Так можно объяснить постоянно
встречающиеся на костях следы насечек, соскабливания,
царапин. Он не пренебрегал и заостренными осколками,
получавшимися при разбивании длинных трубчатых ко-
стей для добывания мозга. Мы привели ряд сведений о
том, что такие расколотые кости часто имеют признаки
утилизации для производственных целей.
Но намеренно изготовленные орудия из кости, которые
Рпс. 92. Болаеы:
слева болас для
птиц — эскимо-
сов, справа два
боласа—степных
повсюду, где мы их знаем, впервые появляются в виде индейцев Южп.
так называемых шильев, то есть тех же осколков трубча- Америки.
тых костей с отточенным и заполированным жальцем, или
лопаток-лощил, известны пока в немногих стоянках этой эпохи — Ка-
стильо (Испания),Чокурча (Крым), Ильская (Сев. Кавказ) и некоторых
других. К ним, видимо,-следует причислить и многочисленные орудия из
кости, носящие более случайный характер, из лагерей охотников на
пещерного медведя типа Петерсгёле, Кумметслох, Драхенлох и др.
ПРИРОДНАЯ ОБСТАНОВКА. МИР ЖИВОТНЫХ
Попробуем разобраться в условиях существования и в характере самих
общественных образований эпохи мустье, как они рисуются по материа-
лам, собранным исследователями мустьерских поселений. Прежде всего
нас может интересовать, какие условия природной среды окружали
человека в эпоху, когда складывалось в своих зрелых формах первобыт-
ное охотничье общество среднего палеолита.
1 R. Battaglia, La caverna Pocala, «Atti R. Accad. dei Lincei», ser. 5, Mem. Cl. di
Sc. jis. mat. e nat., t. XIII, 1921, стр. 617—686.
266
ГЛАВА пята;/, эндогамная коммуна неандертальцев
Ухудшение
климатиче-
ских условий
Они изображаются многими авторами не совсем в соответствии с теми
данными, которые находятся в нашем распоряжении, в виде господства на
значительных пространствах Европы оледенелых пространств полярной
тундры с миром животных, в настоящее время сохранившимся только
на крайнем севере нашего полушария. Осборн в своем известном труде,
переведенном на русский язык, характеризуя условия мустьерской эпохи,
пишет, например, что мустьерская эпоха совпадает с началом пещерной
жизни и охоты на северного оленя, «мясо которого употреблялось в пищу,
а шкура шла на приготовление одежды».
Позднемустьерская эпоха является несомненно временем дальнейшего
прогрессирующего ухудшения климатических условий, которое повлекло
за собой проникновение в более южные области Европы, ранее отличав-
Тсплаи фауна
па гаге
Европы
шиеся весьма мягким
Рис. 93. Фаланга дикой
лошади со следами исполь-
зования ее в качестве на-
коваленки (Франция).
{Но А. Мартен»)
вительно
климатом, пришельцев с севера и, прежде всего,
северного оленя. Появление северного оленя в
стоянках среднего палеолита ‘раньше других по-
лярных форм может быть объяснено тем, что это
животное, водящееся и в настоящее время боль-
шими стадами на границе леса и тундры, ведет
кочевой образ жизни и на зиму обычно отходит
далеко в область лесной полосы. Еще раньше
ледники, которые стали одевать горные хребты,
заставили обитателей гор — альпийского сурка
и горного козла—спуститься на равнины Фран-
ции, где они становятся постоянной добычей му-
стьерского охотника.
Это понижение температуры не было, однако,
слишком значительным. Как указывает большин-
ство крупных специалистов, влияние ледника,
достигшего в эпоху среднего палеолита своих
максимальных пределов и охватившего огромную
область Европы, все же в большой степени должно
было смягчаться еще очень влажным климатом,
что очень ограничивало его непосредственное
влияние на понижение температуры в более
южных областях Евразии.
;гко убедиться по данным, приводимым Обер-
майером для Испании и Вофреем для Италии, что совместно с типич-
ными орудиями позднемустьерской поры в приморских странах южной
Европы постоянно встречаются представители теплой фауны, которая до
конца этого времени не исчезает из пределов нашего континента. Такие
находки известны в гротах Гримальди в окрестностях Ментоны. В нижних
слоях гротов Ментоны, подробно описанных Булем, поверх морских
отложений лежит пещерный нанос, датируемый, по мнению Картальяка,
временем позднего мустье, с характерной древнеплейстоценовой фауной,
пережившей здесь, в благоприятных условиях, в течение, видимо, почти
всей эпохи максимального оледенения Европы.
Наиболее полный список этой фауны дает Княжеский грот, где с типич-
ными мустьерскими орудиями встречаются древний слон, носорог Мерка,
большой гиппопотам, лошадь Стенона и обыкновенная лошадь, благород-
ный олень, кабан, пещерные хищники и пр. Выше теплая фауна сменяется
холодной, сопровождающейся сильно обедненным инвентарем, сохраняю-
щим еще мустьерский характер. Та же фауна известна в гроте Романелли
и других мустьерских местонахождениях Италии. Грот Романелли, на-
267
ПРИРОДНАЯ ОБСТАНОВКА. МНР ЖИВОТНЫХ
ходящийся на крайнем юге Италии на берегу моря, и по своему положению,
и по характеру наслоений обнаруживает ближайшее сходство с гротами
Ментоны. Здесь также в основании его наслоений, покоящихся на древ-
нем уступе морского пляжа, под толщей наносов, содержащих остатки
верхнего палеолита, имеется слой мустьерского времени, правда, с до-
вольно «атипическим» кремневым инвентарем из отщепов. Его сопрово-
ждает та же теплая фауна — древний слон, носорог Мерка, большой
гиппопотам и гиппопотам Пентланда и др. 1
Севернее, ближе к Рейну и за ним, в пределах современной Германии,
мир животных в это время был уже иным, однако северный олень вовсе
п<‘ является постоянным обитателем этих местностей Европы, который нахо-
дил бы здесь благоприятные условия для своего размножения. Скорее он
являлся пока только пришельцем, периодически спускавшимся из
области тундр, окружавших ледники, так же, как еще в наше время зимой
он в поисках корма заходит в костромские и вологодские леса. Совсем
недавно его иногда встречали даже под Владимиром и на Среднем
Урале, а в X—XIV веках он попадается на берегах Волги под Казанью. 2
Таким образом, остатки этого животного сами по себе ни в какой мере не
свидетельствуют еще об арктической суровости климата местности, где
они могут быть найдены.
В пещерных стоянках Дордони, в юго-западной Франции, по указа-
нию Пейрони, северный олень появляется довольно рано в мустьерских
горизонтах, однако сначала очень редок, но к концу мустье заметно
увеличивается в числе. 3
Вряд ли мустьерский человек и мог бы существовать в условиях при-
полярной природы с тем бедным запасом культурных приобретений,
с каким он выступает перед нами в остатках становищ этой поры.
Все стоянки среднего палеолита совершенно одинаково рисуют не-
обыкновенно богатый мир травоядных животных, являвшихся предметом
охоты мустьерских орд. Одни из этих животных, дикие быки и лошади,
в виде бесчисленных стад паслись на открытых равнинах, которые превос-
ходили богатством своего населения знаменитые прерии Северной Америки;
другие придерживались главным образом лесной чащи, являясь и в на-
стоящее время обитателями лесных пространств Сибири и Канады. Сюда
относятся особенно различные виды оленей, в частности крупная разно-
видность благородного оленя — вапити (канадский олень), затем больше-
рогий олень {Cervas euryceros или megaceros), ло> ь п др. К ним присое-
динялись огромные стада слонов трогонтериев и мамонтов. Даже носороги,
которые, вероятно, и в эту эпоху вели преимущественно одиночный образ
жизни, встречаются в некоторых стоянках среднего палеолита в очень
большом числе. На равнинах восточной Европы в состав этих стад вхо-
дили обитатели засушливых степей Азии (так называемая волжская
фауна) — гиганты эласмотерий (рис. 94), большие верблюды, дикие
ослы, антилопы-сайги, длиннорогий зубр и др. 4
1 В. Paufrey, Le Paleolithique italien, 1928, стр. 61.
2 П. II. Третьяков, Средневековые городища ЧЛССР, «Сообщения ГАИМК», 1932,
Л? 5—6, стр. 66.
Bourrinet et Peyrony, La grotte des Grezes, gisement mousterien, «Bull, de la So-
ciete Cistor. et archeol. du Perigord», 1913, стр. 3.
Вера Громова, Новые материалы ио четвертичной фауне Поволжья и по
истории млекопитающих Восточной Европы и Северной Азии вообще, «Труды комис-
сии по изучению четвертичного периода», II, 1932, стр. 69. Принадлежность этой фа-
уны рисскому п до-рпсскому времени вряд ли может вызвать в настоящее время
какие-либо сомнении.
Северный
олень
.Мустьерская
фауна
•2В8
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Пещерный
медведь
Обилие травоядных животных объясняет необыкновенную многочислен-
ность крупных хищников, из которых многие с развитием ледниковой
эпохи приспосабливаются к жизни в пещерах и расселинах скалистых
обрывов речных долин. Создается особая порода пещерного медведя, отли-
чавшегося от его соседа по обитанию в пещерах — серого медведя (Ursus
ferox), сохранившегося до настоящего времени в Скалистых горах Север-
ной Америки, еще более крупными размерами. Известно, что обилие
костей медведей крупных пород в нижних слоях пещер Франции, относя-
щихся к более ранней поре среднего палеолита, побудило первого иссле-
дователя их, знаменитого Эдуарда Лартэ, назвать это время эпохой
пещерного медведя. В некоторых пещерах западной Европы встречаются
остатки целых поколений пещерного медведя в виде огромных скоплений
Пещерный
лев
Првродвые
условна
костей; например,
в пещере Эшеноз-
ла-Мелии (Верх-
няя Сона) найдено
было до 800 костя-
ков этого живот-
ного, приблизи-
тельно столько же,
если не больше,
в пещере Gaylen-
reuth в Франконии,
около 1000 особей
в пещере Вокала
близ Триеста ит. д.
Спутником пе-
щерного медведя
являлась пещер-
ная гиена, следы
которой в виде
экскрементов, так
называемых ко-
пролитов, и ко-
Гвеиа
Рпс. 91. Сибирский эласмотерий (Elasmotherium sibi.ri.cum).
(Реконструкция К. И. Казанского)
стей, изгрызенных
необыкновенно сильными зубами этого животного, постоянно попадаются
в пещерных стоянках мустьерской эпохи. Наконец, в них известны
остатки более редкого, но и наиболее опасного хищника — большого пе-
щерного льва. Следует упомянуть также некоторых хищных птиц, кото-
рые водились в расселинах скал, — ястреба, сову; они оставили в этих
убежищах, заселявшихся человеком, не только свои кости, но и остатки
своей добычи в виде массы костей мелких- грызунов.
За исключением южных областей Европы, на всем обширном про-
странстве приледниковой полосы, где появляется человек в более позднюю
пору мустьерской эпохи, насколько можно судить на основании остатков
животных, складываются приблизительно одинаковые условия, и только
в непосредственной близости к отступающему леднику уже в это время
расстилаются настоящие тундры с их обитателями.
Можно полагать, что климат эпохи максимального оледенения был
неровный, с холодным, сырым, дождливым летом, когда на ледниковых
полях накапливались огромные массы снега, и более сухими, не слишком
морозными зимами, когда постоянные токи воздуха, падавшие с лед-
ников, поднимали пыльные бураны, откладывавшие на открытых равнинах
ОХОТА
2в9
массу пыли, приносившуюся ветрами с песчаных полей, окаймлявших
морену. Большинство открытых лагерей мустьерских охотников дей-
ствительно погребено в слоях древнего или нижнего лёсса, образование
которого, по мнению большинства геологов, падает на рисское время.
Только крайне неровным климатом, с периодами дождей, когда буйная
растительность, покрывавшая водоразделы и склоны речных долин, да-
вала богатые пастбища, необходимые для питания бесчисленного коли-
чества травоядных животных, и периодами засух, когда усиливалась
деятельность ветра, можно объяснить появление лёссовых наносов, ко-
торые в мустьерскую эпоху одевают плато и верхние террасы рек мате-
рика Евразии. В этих условиях, отчасти, может быть, напоминающих
природные условия южной Патагонии и Огненной Земли, но более су-
ровых, проходило в течение многих десятков тысяч лет существование
мустьерского человека.
ОХОТА
Особенностью мустьерских поселений, не имеющей аналогий в быту
современных наиболее первобытных народностей земного шара, являются
огромные скопления костей млекопитающих, которые известны главным
образом в открытых лагерях мустьерцев, хотя они сопровождают и пе-
щерные стоянки. Мы упоминали об этом в обзоре местонахождений, отно-
сящихся к более ранней поре мустьерской эпохи. Нагромождения остат-
ков животных на местах мустьерских поселений естественно поставить в
связь с условиями, создавшимися в Европе к середине ледникового вре-
мени, прежде всего, — обилием добычи и исключительно большим значе-
нием охоты, рано отодвигающим на задний план иные источники добыва-
ния пищи, в частности первобытное собирательство.
Нелегко представить себе приемы овладения такими крупными живот-
ными, как мамонт, носорог, лошадь, бык, приемы столь успешно прак-
тиковавшиеся мустьерскими охотниками. Нам трудно следовать за Зёр-
гелем, 1 который считает, что мустьерский человек широко пользовался
в качестве главного средства охоты таким относительно сложным приспо-
соблением, как ямы-западни, для массовой охоты даже на такого зверя,
как носорог и мамонт. Совершенно неясно, как человек мог выкапывать
требовавшиеся для такой охоты громадные ямы с помощью своих,
несомненно, еще очень простых орудий.
Кажется гораздо более вероятным, что он должен был широко
использовать всякого рода уловки, основанные на знании привычек
зверя, так как ого охотничье вооружение было слишком несовершенным
для непосредственной борьбы, по крайней мере, с более крупными и силь-
ными представителями животного мира. Уже в эту эпоху, вероятно,
возникает охота с помощью загона огнем на выбранных участках степи,
прилегающих к крутым ущельям, также как использование для этой
цели водопоев в местах, удобных для охоты.
Главным оружием охоты мустьерскому человеку служили увесистая
дубина и копье в виде заостренной тонкой жерди из твердого дерева
с обожженным концом, которые мы находим в широком употреблении
и у тасманийцев, и у многих других отсталых народностей. В этнографи-
ческой литературе можно встретить многочисленные примеры действен-
1 W. Soergel, Die Jagd der Vorzeit, 1922, стр. 15. Зёргель, однако, и сам признает
свою возможную переоценку этого способа охоты.
Приемы
охоты
Вооружение
270
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТА, ТВЦЕВ
ности подобных орудий охоты нередко в отношении даже крупной добычи,
особенно крупных хищников, как медведь, пума и пр. Простое приостреп-
ное деревянное копье, судя по описанию его у тасманийцев или байнингов
Новой Померании (Паркинсон), в руках сильного и ловкого охотника
является чрезвычайно опасным оружием. Судя по некоторым находкам,
можно думать, что наряду с ними неандерталец применял уже для охоты
в открытых местностях болас — оружие современных патагонцев, то есть
крупные, связанные ремнями каменные шары, которыми при удачном
забросе опутываются ноги бегущего животного. Напомним, в связи с этим,
отмеченную выше интересную находку Питтара, сделанную им в гроте
Ребиер I. Человеку среднего палеолита была известна также праща
в виде ременной петли, с помощью которой он метко попадал камнем
Организован-
ная группа
наконечник лавролистпой
Рис. 95. Грубый
Формы из Ильской (Северный Кавказ).
Лидит. 3/4 н. в.
(Ио С. И. Замятнпиу)
в преследуемое животное; округ-
лые, часто намеренно обтесанные
камни для метания составляют
обычное явление в мустьерских
стоянках.
Однако главным, чрезвычайно
важным приобретением человек';;
в эту эпоху было умение действо-
вать организованной, сплоченной
группой, что позволяло ему при
всей недостаточности физических
сил и несовершенстве оружия
справляться с окружавшими его
наиболее сильными животными.
*Конечно, общественная организа-
ция в ее зачаточных формах вос-
ходит еще к предшествующему
времени, эпохе становления чело-
веческого общества, эпохе «перво-
бытного стада», как ее определяет
Ленин. Однако только тогда, когда
охота становится главным источ-
ником существования, основой по-
лучений жизненных благ, — окончательно складывается общественный
коллектив с организованным производством, оформившейся социальной
спаянностью членов первобытной ячейки, первичным разделением труда.
Было бы неправильно изображать человека позднего мустьерского
времени как существо, совершенно первобытное, чуть ли не наделенное
зверообразными чертами, как это иногда принимается на основании дей-
ствительно очень примитивных особенностей его скелета, в частности строе-
ния черепа. Первобытностью физической и духовной природы неандер-
тальца стараются объяснить весьма несложный, первобытный характер
его культуры, в частности убогость его орудий из кремня.
В действительности мы, конечно, должны видеть здесь связь как раз
обратного порядка.
Мы не можем рассматривать неандертальца, как это делает большин-
ство буржуазных авторов, в качестве попавшего в тупик исторического
развития, обойденного природой существа. Для нас это лишь ступень,
хотя и весьма еще ранняя, восходящего пути человечества, где прими-
тивные формы культуры не закрывают от иаз ее жизненности и прогрес-
сивности.
ОХОТА
271
были принесены
Кре «новый
Породы
ЖИВОТНЫХ,
служившие
целью охоты
Pnc. 96.
наконечник поздне-
мустьерского типа
(ЭрпигедорФ, Гер-
мания).
(По ЛФеПФФеру)
Приходится принять во внимание,что средний палеолит, как истори-
ческая эпоха, обнимает чрезвычайно большой промежуток времени, на-
чиная от первого появления охотничьих становищ и до эпохи расцвета
так называемой мустьерской культуры, который необходимо исчислять
во всяком случае многими десятками тысяч лет. В течение этого периода
человек успешно борется за существование даже в тех исключительно
неблагоприятных условиях природной среды, которые
великим оледенением северного полушария. Сама охота,
как источник жизненных благ, должна была чрезвы-
чайно усилить активность человеческих групп, толкая
их на накопление всякого рода навыков, сопряженных
с крайне обостренной борьбой за существование, оче-
видно, также вырабатывая их социальные инстинкты
и духовные способности. Таким образом, за относи-
тельно простой картиной изменения кремневого инвен-
таря среднего палеолита скрывается значительно более
сложный и глубокий процесс формирования первобыт-
ных общественных образований — мустьерских охот-
ничьих орд.
Мы могли заметить выше, что охота в мустьерское
время, по крайней мере в Европе, иногда обнаруживает
черты некоторого подбора в смысле характера добычи.
Если в одних становищах мы имеем остатки разно-
образных травоядных животных, в других предметом
охоты являются главным образом одна-две породы
животных, очевидно, в особенно большом числе водив-
шихся в ближайших окрестностях охотничьего лагеря.
Особенно большую роль в стоянках среднего палео-
лита играют мамонт и лошадь, как мы это видим в ряде
французских стоянок с «ручными рубилами» — Женэ,
Кэвр, Хютт. В Mont-Doi в Бретани, где мустьерские
охотники основали поселение почти на самом берегу
моря под защитой отдельно стоящего гранитного утеса,
во время только первых раскопок Сиродо 1 в 70-х годах
прошлого века было собрано 758 коренных зубов ма-
монта. Всего было здесь найдено несколько сотен этих
животных, главным образом молодых особей; их сопро-
вождают остатки лошади и носорога. Что касается
последнего, то Сиродо насчитывает около двух сотен ко-
ренных зубов, принадлежащих носорогам разного воз-
раста и размеров. Другие животные в этой стоянке дают обычный список
мустьерской фауны — первобытный бык, большерогий олень, северный
олень, волк, пещерный медведь, пещерный лев, барсук, альпийский
сурок и др.
В известных местонахождениях близ Таубаха и Эрингсдорфа, в до-
лине р. Ильма в Германии, добычу человека составляли сходные породы
животных — слон, носорог и лошадь. Заметим, что культурные остатки
этих местонахождений, которые залегают в виде двух отчетливо выражен-
ных горизонтов в слоях плотного травертина, образовавшегося благодаря
действию некогда бывших здесь известковых источников, следует отно-
1 G. el A. Mortillet, La Prehistoire, стр. 377 и др.; Vayson de Pradenne, La station
paleolithique du Mont-Doi, «L’Anthropologies, 19'29, стр. 1.
272 ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ НОМ МУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
сить, как правильно указывает Пфейффер,к ранней и поздней поре сред-
него палеолита, а не к шелльской эпохе, как это еще недавно предпола-
галось. Интересно, что в этой местности Германии дольше, чем в других
областях средней Европы, переживают древние виды слона и носорога,
остатки которых образуют обычные для мустьерской эпохи большие скопле-
ния охотничьих трофеев (наряду с лошадью крупной породы). Однако
кремневый инвентарь, сопровождающий остатки кострищ нижних и верх-
них горизонтов Ильмских стоянок,вполне определенно говорит о их средне-
палеолитическом возрасте. Если в нижних горизонтах он представлен
атипическими изделиями из отщепов — так называемой «аморфной
индустрией», то в выше лежащих пепелищах встречаются орудия с тонкой
отделкой, характерные для позднего мустье.
Зёргель обращает внимание на интересный факт, что в Таубахе и Эрингс-
дорфе чаще встречаются самые верхние позвонки животных, чем другие
шейные позвонки; это объясняется тем, что головы носорогов и лошадей,
которые приносились как ценная часть добычи на место охотничьего ла-
геря, отделялись не у самого основания черепа, а чаще всего между вторым
и третьим позвонком, то есть в месте, наиболее удобном для рассечения
сухожилий с помощью кремневой пластинки.
Охота на Об охоте на пещерного медведя, игравшей огромную роль в жизни глав-
петцерпого ным образом населения предгорных областей центральной Европы, на-
мецведл чиная уже с так называемой предмустьерской эпохи, о которой мы имели
случай упомянуть выше, нам следует сказать несколько подробнее. Уже
Вильдкирхли в 1906 г. швейцарский ученый Эмиль Бехлер при раскопках пещеры
Вильдкирхли, расположенной высоко в горах на 1500 м над уровнем моря,
обнаружил в ее наслоениях огромное количество остатков пещерного
медведя, сопровождавшихся в значительно меньшем числе костями пе-
щерного льва, леопарда, волка, горного козла, серны, благородного оленя
и пр. Общее число особей пещерного медведя насчитывается им здесь
до 1000. Присутствующие в тех же отложениях грубые орудия, предста-
вляющие собой неправильныеотщепы из кварцита, делают очевидным, что
здесь находилось обиталище первобытной орды неандертальцев, периоди-
чески возвращавшейся сюда главным образом в целях охоты на медведей.
Принимавший некоторое участие в раскопках Обермайер 1 оценивает
обнаруженные здесь орудия как раннемустьерские, хотя и носящие очень
примитивный облик вследствие грубости самого материала.
Куиметслох Аналогичные находки, происходящие из небольшой пещеры Кум-
метслох у Штрейтберга на плато Франконской Юры, опубликованы
в 1913 г. Келлерманом. 2 По своим небольшим размерам (5 м ширина,
8—9 м глубина, высота — 3 м) и положению в горах эта пещерка могла
быть, видимо, лишь временным убежищем охотничьей группы. Действи-
тельно, раскопки это и подтверждают.
В отложениях Кумметслох, покрывавших скалистое дно ее мощным
трехметровым глинистым слоем, с глубины 1,30 м и до дна пещеры встре-
чена масса костей пещерного медведя, причем они не занимали какого-
либо определенного горизонта.
Среди этих костей лишь пара обломков принадлежала оленю. Уже
это обстоятельство показывает, что пещера не служила убежищем медве-
дей, которые иначе не преминули бы натащить сюда остатки своей добычи.
1 Н. Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, 1912, стр. 162.
2 Dr. Kellermann, Das Kummetsloch bei Streit berg, eine palaolitische Jagerstation,
«Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nurnberg», Bd. XX, 1913, стр. 9.
ОХОТА
27?
Замечательно также, что кости этих огромных пещерных хищников
не только постоянно бывают расколоты для добывания мозга, но и часто
носят следы употребления для каких-то производственных целей. Сам
подбор этих костей очень характерен. При большом числе обломков че-
репов и челюстей, зубов и расколотых и раздробленных трубчатых костей
здесь не было встречено ни ребер, ни позвонков, ни лопаток или тазов
и других частей скелета. Зато множество собранных Келлерманом костей
имеет характер примитивных орудий. Он считает возможным различать
среди них скребла, ножи, гладилки, сверла и т. д. В действительности все
они, как он сам вполне правильно замечает, представляют обычные осколки
костей различных размеров и форм, то заостренные на конце, то более
закругленные и т. д., которые, однако, во множестве имеют совершенно
явные следы применения в виде выглаженности, сточенности, часто даже
заполированностп расколотого края.
Если учесть, что здесь абсолютно отсутствуют какие-либо признаки
действия текущей воды, объяснение этих находок может дать лишь деятель-
ность человека. Вместе с костями найдены три больших камня для их рас-
калывания, но никаких каменных орудий в заполнении пещеры Келлер-
ман не мог обнаружить. Отсюда этот исследователь делает естественный
вывод, что неандертальские охотники не жили здесь постоянно, да,
вероятно, и охотились довольно далеко от пещеры. Сюда они приносили,
как он думает, лишь шкуры пещерных медведей, может быть некоторые
запасы мяса, а главное кости конечностей, которые они превращали в ору-
дия для выделки шкур. Таким образом, пещера Кумметслох служила для
кратковременных, вероятно ежегодно повторявшихся посещений тех чле-
нов орды, которые были заняты обработкой шкур медведей. Другие же
охотники возвращались прямо на место своего постоянного поселения
с запасами мяса и сала. Такая охота, видимо, имела сезонный, осенний
характер.
Мы уже говорили об огромном количестве костей пещерного медведя, Гайлевревт
собранных в пещере Gaylenreuth, в той же области Франконской Юры.
Еще от 1774 г. (Эспер) имеется сведение о находке здесь вместе с остатками
пещерного медведя человеческих костей. Здесь, как и в пещерах Брей-
тенвиннер и Голе-Фельс, были встречены и орудия из осколков трубчатых
костей медведя, подобные описанным Келлерманом из Кумметслох.
Картину такого же убежища охотников на пещерного медведя рисуют Петерсгеле
интересные находки, сделанные Германном 1 во время его многолетних
раскопок (1914—1922) в Петерсгеле, в средней части Франконской
Юры у Вельдена, недалеко от пещеры Голе-Фельс. Что эта пещера не
служила местом какого-либо постоянного обитания — показывает ее по-
ложение очень высоко над соседней долиной, на вершине возвышенности,
поднимающейся над хребтом Юры,,достаточно далеко от воды, в таком
месте, которое могло быть удобно лишь для целей охоты на определенных
животных и, вероятно, лишь в определенные времена года.
Как в Кумметслох — в Петерсгеле находки оказались рассеянными во
всей толще заполняющего ее наноса, достигающего трехметровой мощ-
ности, без возможности выделить в них какие-либо горизонты, отвечающие
периоду заселения пещеры. Последнее началось еще в эпоху до образо-
вания отложений, как это показывают остатки кострища, расположенного
прямо на скалистом дне, и продолжалось очень долго, чуть ли не во все
1 К. Hermann, Die Petershiihle bei Velden in Mittelfranken, «Abhandlungen der
Naturhistorischen Gesellschaft zu Niirnberg^, Bd. XXI, H. 4, 1923, стр. 123.
18 П. П. Ефименко. Первобытное общество. — 1731.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
время накопления доломитового песка и суглинка во внутренних поме-
щениях пещеры.
Находка костей домашних животных в верхних слоях пещерного
наноса вместе с остатками северного оленя и другой плейстоценовой фауной
свидетельствует о том, что здесь имело место нарушение цельности на-
пластований, но основной, нижний слой пещеры является совершенно
непотревоженным. На присутствие человека в нем прежде всего указывают
остатки кострищ, рассеянные в разных местах уголь и орудия из камня,
нужно сказать, и здесь, как это ни странно, крайне немногочисленные.
В нижнем слое их было найдено всего 20 штук и в верхнем, перемешанном
слое еще 9.
Если не говорить о последних, так как среди них попадаются пластины
более позднего облика, основной каменный инвентарь в Петерсгёле имеет
весьма примитивный характер. Он состоит из широких отщепов иногда
овальной, чаще же типичной треугольной формы, среди которых попа-
даются настоящие мустьерские наконечники с краевой подретушевкой,
хотя и несколько грубой. Материалом дл?Ризделий здесь служил рого-
вик, добывавшийся человеком среди булыжника, усеивающего дно ручья
в соседней долине.
Среди остатков животных на первом месте стоит пещерный медведь
в количестве нескольких сотен главным образом молодых особей. Среди
них взрослых насчитывается от 50 до 60 экземпляров. Из иных животных
могли быть определены бурый медведь, пещерный лев, шерстистый но-
сорог, бизон, благородный и северный олень и др. Все эти виды далеко
уступают в числе пещерному медведю.
Как любопытную особенность, Германн отмечает находку целого
скопления костей пещерного медведя в определенном подборе их в осо-
бом нишеобразном углублении в одном из боковых помещений пещеры.
Причем, как он сообщает, эти кости были прикрыты камнями. Рядом
с ними в небольших углублениях в скале были размещены черепа этих
животных. В одной из более значительных ниш он нашел положенными
вместе пять черепов и три кости конечностей.
Сам исследователь считает возможным видеть в этой находке указание
на культ медведя, усматривая в спрятанных черепах нечто вроде жерт-
венного дара неандертальцев, что является все же очень мало правдо-
подобным, особенно если учитывать, что Петерсгёле, как и другие пещеры
этого типа Франконской Юры, являлись без сомнения местами, где го-
товились различные запасы продуктов охоты, вероятно, главным образом
на зимнее время. Естественно, что хранилища подобных запасов должны
были иметься и внутри самих пещер, для объяснения чего вовсе не тре-
буется обязательно прибегать к столь излюбленному в некоторых кругах
культу.
Из огромного количества 'раздробленных костей пещерного медведя,
собранных в Петерсгёле в виде разного рода осколков и пластин, мно-
гие имеют несомненно намеренную, притом далеко не простую и посто-
янно повторяющуюся форму, получавшуюся, очевидно, путем простей-
ших приемов обработки — стесывания и отжимания. Признаки употре-
бления этих орудий — стачивание, заполпрованность режущего края
или острого конца — показывают, что здесь шла та оживленная хозяй-
ственная деятельность, о которой мы говорили в отношении Кумметслох.
Очевидно, обработка шкур пещерных медведей представляла очень важ-
ный момент в обстановке существования мустьерских орд, населявших
предгорные области средней Европы.
ОХОТА
275
Вероятно, орудия того же назначения следует видеть в так называе-
мых «запонках» (Knopfe), несомненно составлявших какой-то важный
элемент техники охотников на пещерного медведя, которые встречены
п обеих пещерах — Петерсгёле и Кумметслох. Чаще всего они бывают
приготовлены из короткого фрагмента медвежьего ребра или из обломка
трубчатой кости небольшого животного, у которых сбиты в виде лопа-
точки оба конца, а в середине оставлено продольное отверстие, напоми-
нающее ушко.
Фашистствующий австрийский археолог Менгин, который подменяет
задачу исследования палеолитической истории человека распределением
всех палеолитических памятников на бесконечное количество особых
«культур», в этих вещах находит основание для выделения костеносных
пещер Франконской Юры в особую «вельденскую культуру», самые же
так называемые «запонки» без всяких к тому оснований считает — по не-
которому, чисто внешнему сходству — костяными головками гарпупов,
подобных эскимосским.
Такие находки не ограничиваются в Германии названным горным Картштейн
районом. Они известны, например, и значительно западнее, за Рейном
в области Эйфеля, где Радемахер 1 описывает совершенно аналогичную
картину для пещеры Картштейн близ Эйзерфей. Некоторой ее особен-
ностью является то, что здесь охота на пещерного медведя (в меньшем
числе попадаются мамонт, сибирский носорог, лошадь, бизон, северный
олень, отсутствующий лишь в самом нижнем горизонте пещеры) произ-
водилась недалеко от места постоянного обитания, так как в отложениях
пещеры встречено много орудий из камня йаряду с обычными для этой
группы памятников изделиями из расколотых костей медведя.
Последние встречаются одинаково в I и II слоях снизу, относимых
Радемахером к более раннему и позднему мустье. Действительно, в ниж-
нем слое главного грота Картштейн, среди, правда, немногочисленных
находок достаточно грубых отщепов, имеется два остроконечника прими-
тивно-мустьерского типа. Возможно, что к этому же горизонту относится
находка очень тонко и изящно отделанного рубила позднейшего ашёль-
ского облика: последнее было обнаружено Радемахером в основании
культурных напластований нижнего слоя.
Вышележащий позднемустьерский горизонт той же пещеры характе-
ризуется значительным количеством обработанного каменного материала.
Собранные здесь остроконечники, скребла, небольшие рубила, боковые
проколки, пластины с выемками, изготовленные из кремня, — говорят
о типичном позднем мустье, хотя сопровождающие их орудия довольно
грубой отделки и многочисленные отщепы из кварца и кварцита при-
дают инвентарю этого слоя в целом отпечаток архаизма и примитивности.
Последний еще усиливается присутствием и в том, и в другом горизонте
многочисленных костей со следами их использования для производствен-
ных целей. Над горизонтами с остатками, относящимися к среднему па-
леолиту, Радемахером обнаружены следы поселений эпохи верхнего па-
леолита с инвентарем ориньякского и мадленского типов.
Так как у нас нет оснований сомневаться в .возможности определения
двух нижних горизонтов пещеры Картштейн мустьерским временем,
включая и позднюю его пору, приходится думать, что охота на пещер-
ного медведя в тех районах, где природные условия — то есть близость
1 С. Rademacher, Der Kartstein, bei Eiserfey in der Eifel, «Prahis torische ZeitschrifV>,
Rd. Ilf, 1911, стр. 201.
276
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
горных массивов — благоприятствовали этой охоте, являлась основой
хозяйственного благополучия неандертальцев вплоть до конца среднего
палеолита.
Таубах и Что охота на медведя берет начало в значительно более раннее время
Эрингсдоуф того же среднего палеолита — показывают находки в Таубахе и Эринге -
дорфе, расположенных в долине Ильма по северной окраине возвышен-
ности, окружающей горный хребет Тюрингенского леса. Если по усло-
виям местности в них играла преобладающую роль охота на других жи-
вотных — слона, носорога и лошадь, все же в Эрингсдорфе остатки бу-
рого медведя составляют 10 %,5 а в Таубахе даже 21% всей добычи
человека. 1
Драхенлох Такое же значение имела охота на медведя и в области Альп. Выше
мы упоминали уже об этом в связи с находками, сделанными Бехлером
в пещере Вильдкирхли. Еще больший интерес представляют с этой точки
зрения более поздние раскопки того же ученого в пещере Драхенлох
в восточной части Швейцарских Альп к югу от Боденского озера, рас-
положенной чрезвычайно высоко — на 2450 м над уровнем моря.
Пребывание первобытного человека в ней выдают орудия из камня
(плотного известняка) в гиде отщепов, правда, настолько грубых, что
можно было бы усомниться в их принадлежности человеку, если бы
не отсутстгие самого этого материала по соседству и не вся обстановка
находок. Здесь были встречены те же примитивные орудия из расколотых
костей пещерного медведя и многочисленные остатки этого животного.
В одном месте находился настоящий очаг, обложенный обломками извест-
няка и прикрытый такой же плитой.
Сенсационной, но уже не первой находкой этого рода, если мы вспо-
мним Петерсгёле, являлось открытие внутри пещеры особых помещений,
где хранились остатки медведя,, оче! идно части его туши. Эта пещера со-
стоит из трех камер, из которых две последние содержали культурные
напластования. В обеих камерах находились на некотором расстоянии от
стен пещеры (в 40—60 см) небольшие стенки, сложенные из плиток из-
вестняка и достигавшие высоты до 80 см. В образованном ими проме-
жутке были сложены медвежьи кости — по большей части черепа, частью
целые, частью разбитые, по 3—4 и больше вместе, положенные в опре-
деленном порядке. При них часто находились по два первых позвонка,-
что показывает, что они были положены еще в свежем состоянии. Здесь
же были размещены длинные кости конечностей.
В одном из помещений, кроме того, были устроены из тех же плиток
особые каменные ящики прямоугольной формы, которые, в свою очередь,
были покрыты большой плитой; всего было найдено здесь шесть таких
ящиков. Они были несомненно предназначены для хранения наиболее
ценных частей туши медведя и оказались заполненными черепами и ко-
стями конечностей этого животного.
Бехлер и многие другие авторы считают открытие, сделанное в Драхен-
лох, бесспорным доказательством существования уже у неандертальцев
в раннее мустьерское ^ремя культовых представлений и обычая жертво-
приношений.
Однако в приведенных фактах нельзя усмотреть ничего, что не нахо-
дило бы себе объяснения в заготовке запасов людьми, являвшимися
на горные вершины для охоты на пещерных медведей.
Soergel, Die Jagd der Vorzeil, Стр. 55.
ПОСЕЛЕНИЯ МУСТЬЕРЦЕВ
277
Остатки таких же временных охотничьих стоянок неандертальцев,
занимавшихся охотой на медведей, открыты в Вильдепманнлислох в той
же части Альп, а также в Котеншер на западной их окраине и в Драхен-
гёле у Микснитца на востоке, на австрийской террит' рип.
Однако их распространение в этой части Европы оказывается зна-
чительно более широким. Не говоря уже о том, что они известны и в
южной Германии, в Вюртемберге, в маленькой пещерке Ирпфельдголе,
исследованной в 1890 г. Эбергардтом Фраасом, и в отложениях нижнего
слоя пещеры Зиргенштейн, 1 присутствие их установлено и в области
Моравской возвышенности'в пещере Шипка совместно с грубыми ору-
диями пр’.шитпвно-мустьерского облика.
Скопления костей пещерного медведя в стоянках среднего палеолита
известны и далее на восток. Особенно заслуживают внимания находки
в пещере Игрита 2 в Трансильвании, где были обнаружены многочислен-
ные кости медведей, по большей части расколотые для извлечения мозга.
Расколотые кости медведей здесь использовались в качестве орудий, для
чего они оббивались грубыми сколами, то есть тем приемом, который
применялся для изготовления орудий из камня. Такие же находки про-
исходят и из другой трансильванской пещеры — Цикловина. К югу от
Альп они представлены в пещере Покала близ Триеста.3
Столь широкая область распространения подобных памятников пока-
зывает, что высокогорные пещеры с остатками сотен и тысяч убитых
человеком медведей не представляют собой какую-то особую «культуру».
Эти убежища, очевидно, периодически заселялись неандертальцами, жив-
шими большую часть года в долинах, по окраинам горных цепей, и время
от времени приходившими сюда для охоты на пещерного медведя.
Какие способы применяли они для поимки этого крупного хищника,
мы пока точно не знаем. Но наблюдения, сделанные в Драхенгеле, где
на некоторых черепах медведей видны следы заживших проломов с левой
стороны, как будто говорят в пользу того, что человек охотился на них
с помощью кистеня, тяжелой дубины, не боясь встретиться лицом к лицу
с таким опасным противником.
Правда, при наличии определенных природных условий, медведь
в качестве охотничьей добычи продолжал играть кое-где, как мы теперь
знаем, довольно значительную роль и в верхнем палеолите (пещера
Йахимка в Моравии).
ПОСЕЛЕНИЯ МУСТЬЕРЦЕВ
Нельзя не видеть довольно существенного отличия в условиях суще-
ствования мустьерца, с одной стороны, и обитателя Тасмании и даже
значительно дальше ушедшего* в смысле культурного развития австра-
лийца и бушмена — с другой. Если охотничьи коллективы Австралий-
ского материка и острова Тасмании еще недавно вели весьма подвижный
образ жизни, не основываясь надолго в каком-нибудь определенном
месте, за исключением времени созревания плодов или при условии
обильных сборов личинок или моллюсков и ракообразных на морском
Другие
находки
Характер
поселений
1 R. R. Schmidt, Die Diluviale Vorzeit Deutschlands, 1912, Стр. 20.
2 *L’ Anthropologies, XX XI11, 1923, стр. 323.
3 В последнее время скопления остатков пещерных медведей встречены (С. Н.
Замптниным) в пещерах в окрестностях Сочи — в наслоениях, относящихся к
мустьерскому времени.
278 ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
берегу, то такое бродяжничество вряд ли можно рассматривать как
прирожденное свойство охотничьего общества.
Наоборот, его следует скорее считать естественным результатом умень-
шения добычи и растущей трудности поддерживать существование перво-
бытной общины, вынуждавших ее к непрестанным поискам пищи. Этим
же объясняется почти полное отсутствие у низкостоящих охотничьих
обществ новейшего времени каких-либо жилищ, кроме легких временных
сооружений из тростника, коры и ветвей. Нужно принять во внимание
затем, что мустье^скому человеку, жившему в приледниковой полосе
Евразии, в значительно большей степени приходилось думать как об
одежде, так и о жилище для защиты от суровых климатических условий.
Мустьерский человек устраивал свои становища не только под защи-
той утесов в естественных гротах; ему приходилось жить на равнинах,
где он имел не только летние, но и зимние лагери, разбитые под откры-
тым нёбом, на склонах речных долин. Нельзя представить себе, чтобы
в природной обстановке ледниковой эпохи орды мустьерцен могли удо-
влетворяться легкими ветровыми щитами, которыми могли обходиться
тасманийцы в холодное время года.
Очевидно, что, по крайней мере к концу мустьерской эпохи, в связи
с усиливавшимся похолоданием, они были вынуждены сооружать доста-
точно защищенные от холода хижины, для чего они могли пользоваться,
например, шкурами животных. Тепло в этих жилищах должно было под-
держиваться кострами, помещавшимися в особых устраиваемых для этого
углублениях в почве. Сохранившиеся угольки из очагов дают возмож-
ность определить породы деревьев, которыми человек пользовался в каче-
стве топлива. В Киик-Коба в Крыму он употреблял для этой цели глав-
ным образом можжевельник, затем иву, крушину, клён, что указывает
на несколько иной характер лесов, окружавших человека в мустьерское
время, чем в современную эпоху, даже на юге, в Крыму. К сожалению,
полное отсутствие определений растительных остатков для мустьерских
стоянок Европы оставляет вопрос о растительном ландшафте в эту
эпоху еще очень слабо освещенным.
Кость Как топливом, он не пренебрегал, несомненно, и костями животных,
в качестве которые в свежем виде представляют хороший горючий материал, даю-
топлива щий много жара; на распространяемый ими чад мустьерцы очевидно
обращали мало внимания.
Возможность употребления свежих костей убитых животных в качестве
топлива в среднем и верхнем палеолите иногда вызывает сомнение у лиц,
не знакомых с фактами этнографии. В действительности же применение
костей для этой цели представляет очень широко распространенное явле-
ние. Укажем лишь данные этого рода, сохраненные Геродотом относи-
тельно скифов.
«Так как скифская земля очень бедна лесом, то скифами придуман следующий
способ варения мяса; содрав с животного кожу, Очищают кости от мяса, затем кладут
его в котлы туземного изделия, если таковые случится иметь... вложив мясо в зти
котлы зажигают кости животных и на них варят мясо; если котла не окажется, то
вкладывают все мясо в желудки животных, подливают воду и зажигают кости; они
горят отлично, а очищенное от костей мясо легко умещается в желудке. Таким образом
бык сам себя варит и все другие... животные».
В правильности сообщаемых Геродотом фактов вряд ли можно сомне-
ваться, тем более, что он был достаточно близко знаком с обычаями ски-
фов, что подтверждается рядом подробностей в его описании. Здесь инте-
ресен и достаточно первобытный способ варки мяса в желудке живот-
ПОСЕЛЕНИЯ МУСТЬЕРЦЕВ
279
ного, что имеет параллели в обычаях охотничьих народностей и, воз-
можно, восходит еще к палеолиту.
Лагери в эту эпоху часто носят характер более или менее долговременно Нымост>
существовавших поселений, где накапливались всякого рода отбросы,
ио которым в известной степени можно пытаться восстановить уровень
жизненных потребностей обитателей этих стойбищ. Видимо, п пещеры,
где мустьерцы охотно селились, не представляли уже для них простых
убежищ, дававших временную защиту от дождя и ветра. В поместитель-
ных, но обычно не глубоких, широко открытых навесах под скалами
недалеко от реки они устраивали, по крайней мере на зиму, более проч-
ные жилища, остатки которых известны в некоторых пещерных стоянках
в виде вымощенных булыжником площадок (Ла Ферраси, Кастильо),
выбитых в скалистом грунте глубоких очажных ям, иногда прикрытых
каменными плитами и
т. д.
В большом третьем
убежище Ла Ферраси
Д. Пейрони описывает
весьма интересную вы-
мостку, подстилающую
один из слоев с куль-
турными отложениями
мустьерского времени.
Она сделана была из
известняковых плит и
обломков в виде пра-
вильной прямоугольной
площадки размером 5
на 3 м и находилась в
центре площади, заня-
той мустьерцами. 1
Известное предста-
вление о характере
Рис. 97. Разрез отложений пещерной стоянки Боном (Дор-
донь, Франция).
1. — Нижний мустьерский слой. 2. — Верхний мустьер-
ский слой. 3. •—Плитняк. — Нижний ориньякский
слой. 5. — Верхний ориньякский слой.
(Но К. Лптгару)
мустьерских пещерных
поселений может дать приведенный нами (рис. 97) разрез пещеры Боном в
районе Брантома (Дордонь), исследованной Е. Питтаром.2 В основании ее
отложений находятся два горизонта остатков, относящихся к мустьер-
скому времени. В настоящее время пещера Боном представляет очень не-
глубокую нишу, которая в эпоху первоначального заселения неандерталь-
цами, судя по нагромождению обломков с ее свода, должна была занимать
более значительную площадь. Оба мустьерских горизонта носят одинако-
вый характер, имея вид довольно мощной линзы культурного слоя с-кос-
тями животных и расколотыми кремнями, которую в обоих случаях
подстилает в основании темный углистый слой.
Подобные линзовпдные скопления остатков бывают обычно связаны
лишь с местами более длительного обитания, имеющими вид прочного
жилья и, чаще всего, несколько углубленными ниже уровня почвы (по-
луземлянка). Такой характер напластований свойственен, однако, далеко
Линз ов ид
скоплен
слоя
1 D. Peyrony, La Ferrassie, ePrehistoire», t. Ill, 1934, стр. 22.
2 Eugene Pinard. Le prehistorique dans le vallon. des Rebieres (Dordogne), «Congrrs
Intern, d’anthrop. el d’orcheol. prehist.», Compte rendu de la XIV Session, Geneve. I. I,
1912, стр. 397.
280
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
не всем пещерным поселениям эпохи среднего палеолита. В Чокурчпн-
ском гроте под Симферополем, наоборот, следы заселения имеют по
большей части кратковременный характер, поскольку большинство
культурных горизонтов в этой пещере представлено очень тонкими
прослойками отбросов обитания.
В частности, с тем же обстоятельством, частым оставлением места
жилья обитателями Чокурчинского грота, связано присутствие копроли-
тов гиены. То же Отмечают во всех частях мустьерского слоя Бурринэ п
Пейрони для грота Грез. Очевидно гиены в случае ухода людей имели
возможность воспользоваться остатками их трапез.
Очаги Очажные ямы мустьерских поселений находят объяснение в быту
многих современных примитивных народностей, пользующихся ими для
приготовления пищи, главным образом мяса и жира в виде, например,
частей туши убитого животного, которые кладутся в такую яму, где
предварительно разводится сильный огонь. Благодаря продолжитель-
ному действию сохраняемого ею жара, мясо при таком способе приго-
товления хорошо прожаривается и идет в пищу вместе с приставшей
к нему золой, которая в известной мере заменяет первобытному человеку
соль. Однако охотничьи народности и па юге, в тропических обла-
стях, и на крайнем севере с одинаковой охотой едят и едва поджа-
ренное и совершенно сырое мясо, как, очевидно, это делали и мусть-
ерцы.
Приготовление пищи посредством ее поджаривания непосредственно
на костре, также в очажной яме или между двумя раскаленными камнями
является единственным приемом первобытной кухни, дальше которого
не ушло большинство первобытных охотничьих групп нашего времени.
Уже в мустьерское время огнем пользовались, вероятно, не только с целью
сделать мясо более л!ягким и съедобным, но и для лучшего сохранения
его впрок, в виде запаса. Возможно, что для этой цели применялось су-
шение и копчение мяса, которое делает возможным сохранение его в те-
чение долгого времени.
Имея постоянно дело с огнем для отепления жилища и приготовления
в пищу охотничьей добычи, мустьерский человек должен был знать
и способы его получения. Этнографы указывают, как на древнейший
прием, на добывание огня путем трения кусков сухого дерева один о дру-
гой. Этот способ добывания огня, очевидно, был известен уже в мустьер-
ское время. Тогда же, вероятно, уже складывалось в своих зачаточных
формах отношение к огню как к особой живительной и могучей силе,
которое позже, вместе с ростом оседлости, дает начало почитанию огня.
Заслуживает внимания тот факт, что в некоторых случаях (Ферраси)
в очажных ямах мустьерских стоянок были находимы погребения детей.
Появляющиеся в эту пору погребения, известные уже в довольно боль-
шом числе, бывают нередко связаны с вырытыми в земле углубле-
ниями, которые вряд ли можно считать во всех случаях могильными
ямами. В них можно скорее видеть какие-то части жилья, использован-
ные для захоронения, поскольку умершему уступалось насиженное место
в пещере. Нужно сказать, что совершенно примитивные приемы, которые
до сих пор практикуются в отношении исследования палеолитических
местонахождений, не дают возможности разобраться в очень важных
деталях картины, представляемой мустьерскимп поселениями запад-
ной Европы в смысле их планировки, остатков сооружений и пр.
Одежда Общую картину материальных условий быта мустьерца следует до-
полнить указанием на появление одежды, без которой нельзя представить
ЭНДОГАМНАЯ ОРДА
281
существование мустьерского человека в окружающей его природной
обстановке. Это была, вероятно, простая шкура животного, очищенная
от мездры и промятая, как это и сейчас практикуется отсталыми на-
родностями всего земного шара. Закрепленная с помощью ремешка, она
представляла теплый плащ, который мог быть достаточен в смысле за-
щиты от холода, при крайней нетребовательности и закаленности неан-
дертальца. Такой примитивной одеждой обходятся до спх пор огнезе-
мельцы, несмотря на то, что климатические условия их родины отли-
чаются значительной суровостью. В южной Патагонии и особенно на
Огненной Земле не являются редкостью в холодное время года выпадение
снега и довольно сильные морозы.
ЭНДОГАМНАЯ ОРДА
Во всяком случае, характер поселений мустьерской эпохи и значение
охоты как постоянного источника средств существования ука!зывают на
совершенно иной характер общественных образований среднего палеолита
по сравнению с древним палеолитом. Эти моменты имеют чрезвычайно
существенное значение для по-
нимания условий, в которых
складывается первобытное об-
щество на ступени среднего
палеолита.Здесь, очевидно,еще
более укрепляется внутренняя
спайка первобытной орды, вы-
текающая не только из по-
требности противостоять опас-
ностям, которыми грозил окру-
жающий мир, что, можно
думать, играло очень большую
роль в древнейшую эпоху, но
и из производственной необ-
ходимости, ибо — это нужно по-
вторить— охота на крупных
1’нс. 98. Профильный разрез наслоений пещеры
Шапелль-о-Сен.
Показано углубление в скалистом дне пещеры,
содержавшее захоронение неандертальца.
(По Бардопу п Бупссоип)
травоядных и таких хищников, как пещерный медведь, при крайней
простоте охотничьего вооружения мустьерца, должна была требовать от
человека прежде всего организованной коллективности действия, без
чего немыслимо представить возможность добычливых охот на ма-
монта, носорога и т. д.
Охота как производственная деятельность человеческого коллектива
вместе сростом и укреплением, с одной стороны, культурных навыков, с дру-
гой— родственной связи первичных общественных групп, является необ-
ходимой предпосылкой для окончательного оформления первобытного
коммунистического общества на начальных этапах его развития.
Размер становищ и мощные слои отбросов обитания дают основание пред-
полагать, что мустьерские орды представляли уже довольно крупные объе-
динения, вероятно, большие, чем те, которые застает история у тасманийцев.
Можно думать, что они обычно состояли не меньше чем из 50—ЮОчеловек.
Если мустьерцы в своих поселениях в Европе выступают перед нами
в виде настоящих охотников на мамонта, лошадь, пещерного медведя,
дикого быка, большерогого оленя, успешно отстаивающих свое суще-
ствование в весьма тяжелых условиях ледникового периода, — уровень
культурного развития их остается еще достаточно низким.
Численность
орды
Низкий
уровень
культуры
282
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
В своем месте нам пришлось указать на чрезвычайную медленность раз-
вития общества в мустьерское время и крайний консерватизм его матери-
ального уклада. Лучшее отражение это получает в технике обработки
кремня, где в течение всего среднего палеолита удерживаются простейшие
приемы, сопряженные или с обтесыванием кусков кремня, или с расщепле-
нием их на грубые, широкие, часто треугольные отщепы. Из подобных
отщепов изготовлялись немногочисленные виды орудий, среди которых
до конца мустьерского времени главное место занимают два орудия —
мустьерскип остроконечник и скребло. Они живут в обиходе мустьерцев
многие тысячелетия, пока быстро сложившийся с наступлением верх-
него палеолита новый, значительно более богатый и разнообразный крем-
невый инвентарь не заставляет их исчезнуть уже в так называемую
ориньякскую эпоху.
Чем же объясняется этот резкий перелом в развитии палеолитической
культуры, который может быть прослежен в очень многих местонахожде-
ниях Европы? Не будем останавливаться на разборе теорий, которые
находят единственное объяснение прогрессивного характера верхнепалео-
лнтического общества в смене древнего населения пришлым населением,
принесшим новые, высшие формы культуры. Не приходится говорить о том,
что какие-то перемещения населения могли иметь место и в эту эпоху, как
и в более раннее и последующее время первобытной истории человечества.
Однако эти «теории»—«расовая» и «теория культурных кругов» ничего не
объясняют в закономерности развития палеолитического общества в ши-
роком историческом масштабе, подменивая в то же время общую закономер-
ность исторического процесса, — переход человечества из одной историче-
ской стадии в другую,—столкновением рас и культур (культуры «широ-
кой» и «узкой пластинки», неандертальской и кроманьонской «расы»).
Заметим, что примитивность мустьерской .культуры и чрезвычайно
медленный темп ее развития находятся как будто в известном противо-
речии с фактом растущего значения охоты и большой продуктивности
охоты на крупных животных уже со сравнительно ранней поры среднего
палеолита, обеспечивавшей существование человека, что, казалось бы,
должно было явиться предпосылкой достаточно быстрого расцвета куль-
туры. Разрешение этих вопросов приходится искать в характере обще-
ственных образований, складывающихся на данной исторической ступени.
Мустьерские орды, очевидно, нужно представлять себе в виде обо-
Характер собленных групп первобытных охотников, разбросанных на огромной
пых образе- территории. Уже это обстоятельство — немногочисленность человеческого
капни населения в эту эпоху, державшегося на удобных для охоты территориях,
которые, вероятно, разделялись сотнями километров совершенно без-
людных пространств,— должно было создавать условия, очень неблаго-
приятствовавшие более быстрому развитию и усложнению материальной
основы культуры. Крайне низкий уровень потребностей и неразвитые
формы разделения труда с своей стороны вели к той же замкнутости
существования и отсутствию потребности в каких-либо формах взаимного
общения отдельных охотничьих групп.
Естественным следствием подобных условий являлось другое весьма
важное обстоятельство. Отдельные крепкие и сплоченные группы мустьер-
скпх охотников, разбросанные на огромных пространствах материков,
едва лишь начатых осваиваться человечеством, должны были развиваться
при наличии половой замкнутости, эндогамно, то есть путем браков
внутри орды. Конечно, термин «брак» здесь приходится применять со-
вершенно условно, поскольку не может быть сомнения, что в эту эпоху
ЭНДОГАМНАЯ ОРДА
283
в течение долгого времени вряд ли существовали какие-либо нормы,
ограничивающие сношения между полами. Данные современной этно-
графии позволяют полагать с достаточной определенностью, что поло-
вые сношения на этой стадии развития человеческого общества имели
характер группового брака между всеми мужчинами и всеми женщинами
первобытной общины, принадлежащими к одному поколению.
Таким образом, охотничьи коллективы мустьерцев должны были исто-
рически отвечать той стадии развития первобытного общества, для кото-
рой типичной формой общественной организации становится «кровно-
родственная семья». Последняя сменяет еще более древнее общественное
образование, относящееся к начальной эпохе человеческой истории —
стадные группы шелльцев с господствовавшей у них практикой проми-
скуитета .
Вместе с укреплением общественных ячеек среднего палеолита с их
складывающимся естественным разделением труда — труда мужчин и
женщин, взрослых и несовершеннолетних пли слишком старых членов
общины, должна была постепенно формироваться первобытная семейная
община неандертальцев. Общественную группу эпохи мустье составлял
коллектив, связанный групповым браком, в котором уже существовало
первое ограничение половых отношений между разными поколениями
кровных родственников.
Мы уже видели, что представление о наиболее раннем этапе человече-
ской истории, какое естественно вытекает из анализа собранных совре-
менной наукой археологических фактов, в сущности лишь развивает и дает
конкретное содержание взглядам, изложенным Энгельсом и Морганом.
Средняя ступень дикости, по Энгельсу, может быть охарактеризована
как значительный шаг вперед в отношении развития материальных про-
изводительных сил первобытного общества, находившихся в предше-
ствующую эпоху в более или менее зачаточном состоянии. Особенное
значение здесь имело появление охотничьего оружия в его простейших
формах — деревянного копья с заостренным при помощи огня концом,
тяжелой палицы, пращи и метательных камней, бола из ремней с грузом
на конце и пр., что, вместе с усложнением самой техники охоты, при-
менением огня, загонов и пр., могло более или менее обеспечить перво-
бытную группу постоянными продуктами охоты.
Это приобретение, имевшее, несомненно, чрезвычайно большое зна-
чение, вместе с освоением огня освобождало людей от прежней тесной за-
висимости от природных условий. Оно давало возможность человеческому
обществу впервые значительно расширить занятую им территорию. Чело-
век расселяется теперь в умеренных широтах Европы и Азии, в тех мест-
ностях, которые оставались недоступными ему на предшествующей сту-
пени. Он проникает в эту эпоху даже в высокогорные районы, лежащие на
границе вечных снегов, где успешно охотится на пещерных медведей,
горных козлов и т. д. Естественно, что успехи, достигнутые на этой ста-
дии человеческим обществом становятся возможными только вместе с зна-
чительным усовершенствованием техники — прежде всего в части изгото-
вления каменных орудий. Последние были совершенно необходимы для
обработки таких материалов, как дерево; без них равным образом была
невозможна разделка убитого животного и т. д. Энгельс для этой фазы —
второй ступени дикости — определенно указывает на палеолитическое
время. Не будет ошибкой сказать, что охарактеризованный таким образом
этап развития первобытного общества вполне отвечает, по нашим совре-
менным представлениям, второй стадии палеолита, его среднему отделу.
(редияя
ступень
дикости
284
ГЛАВА ПЯТАЯ. ОН ДОГ А ИНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Кровнород-
ственная
семья
Во всяком случае средняя ступень дикости включает уже в себя и то,
что мы называем ашёльско-мустьерским временем.
Испытало ли само первобытное общество — составляющие его ячейки —
какие-либо изменения в эту эпоху? Относительно этого мы можем найти
определенные соображения у Маркса .и Энгельса.
И Маркс, и Энгельс неоднократно высказывали взгляд на охоту как
на прогрессивную форму первобытного производства, являющуюся в этих
условиях первичным видом кооперации, то есть коллективно-обществен-
ного труда. Отсюда понятно повсюду распространенное у отсталых народ-
ностей общее владение средствами труда — в первую очередь, естественно,
местами охоты и собирания плодов, кореньев и т. п. Понятна также и
самая организация общественного коллектива, которая даже у народно-
стей с упадочными формами охотничьего образа жизни, вроде тех же
австралийцев и бушменов, имеет бросающиеся в глаза черты перво-
бытно-общинного строя.
Таким образом, приобретение охотой значения важнейшего источника
жизненных благ, что имело место на определенной исторической ступени,
неизбежно должно было быть связано с оформлением первобытной ячейки
как производственного коллектива, который в предшествующее время мог
лишь носить совершенно неразвитый, зачаточный характер.
Первым следствием этого порядка вещей должно было явиться усиле-
ние внутренней связанности первобытной общины, что, очевидно, должно
было содействовать появлению в головах составляющих ее индивидуумов
осознания общности их происхождения, но, в равной мере, также и про-
тивопоставлению себя другим производственным объединениям. Учитывая
эти моменты, то есть замкнутость такой ячейки, соединяющие ее узы
кровного родства, мы могли бы назвать эту примитивную форму обще-
ственной организации первобытной «родовой семьей», как ее называли
Маркс и Энгельс, конечно в очень условном значении этого слова.
Как мы знаем, Энгельс и Морган намечают в истории семьи ряд исто-
рически складывавшихся типов, отражающих в области брачных отно-
шений те изменения, которые происходили внутри самого первобытного
общества по мере роста его производительных сил. Это — 1) ступень не-
упорядоченных брачных отношений, 2) кровнородственная семья, 3) семья
пуналуэльного типа или типа брачно-классовой системы австралийцев,
отвечающая групповому брачному союзу, 4) парная семья, имеющая
широкое распространение у многих современных отсталых народностей,
5) патриархальная семья, 6) сменяющая ее, типичная для классового
общества, моногамная семья. В зту систему, может быть, следовало бы
включить также семью, основанную на индивидуально-групповом браке,
переходную между третьим и четвертым типом, которая уцелела в на-
стоящее время у некоторых народностей в виде единственного пережитка
древней «родовой семьи», пользуясь выражением Маркса. Пережитка,
если говорить о еще существующей форме семьи, так как номенклатура
родства в той или иной степени хранит до сих пор у большинства отста-
лых племен прежнюю структуру семейного союза, сложившуюся на
основе группового брака.
Древнейшую форму семьи — «семьи» в указанном нами условном
смысле слова, — характеризующуюся полной неупорядоченностью поло-
вых отношений, мы в праве искать на низшей ступени дикости, по терми-
нологии Энгельса, отождествляя ее с первобытной шелльской ордой, едва
отошедшей от животного состояния. Из этого начального состояния не-
оформившихся брачных отношений вырастает путем первых ограничений
ЭНДОГАМНАЯ ОРДА
286
этих отношений между поколениями дедов и бабок, отцов и матерей, детей
и внуков то, что Морган назвал кровнородственной семьей.
Говоря о первоначальной стадии развития общественно-семейной орга-
низации (являющейся в то же время цельной, не зависящей от других
таких же общественных образований производственной ячейкой перво-
бытного общества), Энгельс указывает на глубокую древность первичной
формы семьи, относительно которой «...едва ли можно рассчитывать найти
среди социальных ископаемых, у отсталых дикарей, прямые доказатель-
ства ее существования в прошлом». 1
Не имея возможности непосредственно наблюдать наиболее архаиче-
скую форму семейно-родственной организации первобытного общества—
кровнородственную семью, мы в праве считать, что ее существование в от-
даленном прошлом не может вызывать сомнений, поскольку эта стадия вы-
текает из первобытно-общинной организации рождающегося человеческого
общества. 2 Если Энгельс и Морган не ставили с полной определенностью
вопроса о том, к какой именно исторической ступени может быть отне-
сено возникновение кровнородственной семьи, поскольку сама постановка
этого вопроса при крайней недостаточности фактических материалов еще
недавно была в сущности невозможна, эта проблема получает свое осве-
’щение в изучении археологических фактов.
Замечательной чертой общественной организации, отвечающей стадии
кровнородственной семьи, была замкнутость этих ячеек, то есть их эндо-
гамность. Размножение «в себе», в маленьких замкнутых общественных
группах — первобытных эндогамных семьях — приходится расценивать
как факт, весьма неблагоприятно влиявший прежде всего на физическое
развитие человека среднего палеолита.
Интересно, с другой стороны, что неандертальские охотники на ма-
монта и пещерного медведя, жившие не менее, чем за 40—50 тысяч лет
до нашего времени, благодаря добычливости своих охот, как мы отме-
тили выше, находились во многих отношениях не в худших условиях
в смысле обстановки существования, чем некоторые современные отсталые
народности, такие как австралийцы, бушмены, ведды и другие.
Вряд ли можно сомневаться в том, что эти племена в более или менее
отдаленном прошлом также были окружены еще не истощенной, девствен-
ной природой, дававшей им более надежные источники для поддержа-
ния существования, чем в настоящее время. В связи с этим нельзя не
вспомнить мысль Энгельса, подчеркивавшего, что не грубость является
показателем примитивного состояния у отсталых народностей, а степень
сохранения ими первобытных кровных связей.3
Если мы не находим у таких племен коллективного брака в качестве
постоянного института, а, наоборот, наблюдаем более или менее устано-
вившуюся форму парной семьи' сочетающуюся с пережитками группового
брака — это может говорить только о том, что эти народности имеют за
собой в прошлом долгий путь исторического развития.
1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 42. По контексту Энгельс говорит
здесь о наиболее примитивной общественной ступени (стадия промискуитета), относя
ее к чрезвычайно отдаленной эпохе и противопоставляя ей гораздо более позднюю
форму семьи, основанной на групповом браке (семью гавайского типа). Однако уже
из этого положения явствует, что начальные формы группового брака должны были,
несомненно, иметь, в представлении Энгельса, также очень большую древность.
2 Как отметил Морган, пережитком этого далекого прошлого является обозна-
чение отцов'и матерей (братьев и сестер — внутри кровнородственной семьи) в системе
гавайского родства одним и тем же термином.
1 Архив Маркса и Энгельса, т. I (VI), 1933, стр. 217.
286
ГЛАВА ПЯТАЯ. -ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Неблагоприятные условия природной среды, сложившиеся в резуль-
тате непредусмотрительного расходования природных ресурсов, неблаго-
приятная историческая обстановка, поставившая отдельные группы чело-
вечества в состояние изоляции, которая на многие тысячелетия задер-
жала их развитие, именно эти условия в естественном ходе вещей яви-
лись причинами некоторого социального регресса, распада ранее сложив-
шегося строя пх общественно-хозяйственной жизни.
В частности, и бродяжни-
имкнутый
характер
мустьер-
ких общин
чество, как необходимый в этих
условиях образ жизни, должно
было вызвать значительное
огрубение и упрощение всего
уклада жизни этих народно-
стей. Отсюда явствует, что было
бы неправильно переносить все
то, что мы находим у наиболее
отсталых народностей совре-
менности, в далекое прошлое
человечества.
Очерченный выше характер
мустьерского общества, делает
понятным многое из того, что
мы о нем знаем. Прежде всего
естественно, что отсутствие
связи между отдельными общи-
нами мустьерцев, их изолиро-
ванность и разбросанность
должны были создавать усло-
вия, весьма тормозившие их
развитие.
Та же дробность и замкну-
тость первобытных ячеек дает
возможность понять другую ха-
рактерную особенность мустьер-
ЖЗДн? ской эпохи — длительное су-
ществование бок о бок в преде-
Рпс. 99. Погребение неандертальца лах Европы различных ти-
в Ла Феррасп. пов производственного инвен-
'П° Пейрони) таря — того, что мы обозна-
чаем как примитивно-му стьер-
ские, клэктонские, ашёльские, типично-мустьерские наборы орудий,
но которые в действительности могли существовать часто рядом друг
с другом приблизительно в одну и ту же эпоху.
Этот факт достаточно убедительно показан раскопками в нижнем гроте
Мустье/ в Комб-Капелль и в других французских местонахождениях
среднего палеолита.
Он делает понятным для таких памятников юга СССР, Крыма и
Прикубанья, как Киик-Коба, Чокурча, Ильская, — сочетание кремневого
инвентаря, имеющего формально некоторые «ашёльские» черты, 1 с да-
1 По существу это, конечно, своеобразный позднемустьерскпй инвентарь, с весьма
прогрессивными чертами — в отношении производственно-техническом.
ЭНДОГАМНАЯ ОРДА
287-
леко ушедшей утилизацией кости, даже появлением настоящих костяных
изделий, которые, как правило, становятся известны только с началом
верхнего палеолита.
В следующей главе мы постараемся показать, что происходит с мате-
риальной культурой, когда изменяется характер общественной структуры
первобытного человечества и на месте мелких, изолированных и раздроб-
ленных охотничьих групп возникают более крупные их объединения, что,
одной стороны, чрезвычайно усиливало производственные возможности
человеческого труда как основы дальнейшего ускоряющегося историче-
ского развития первобытного общества, с другой — открыло путь для
экзогамии, создавшей предпосылки для оформления нового, высшего
человеческого типа — типа современного человека.
Наиболее отсталые общества современности, в особенности тасманий-
ское, о котором сохранились некоторые известия от XVIII и начала XIX ве-
ков, при всей своей простоте представляют все же общественные образо-
вания, достаточно далеко ушедшие от первобытного строя мустьерской
эпохи. К числу, таких черт, которые следует рассматривать как возникшие
в относительно более позднее время, можно относить уже известное возвы-
шение власти вождя у австралийских племен.
С другой стороны, вероятно, неблагоприятными условиями, такими,
как уменьшение дичи и вызванный им недостаток мясной пищи, вместе
со сложившимся уже разделением труда, при котором на женщину па-
дает собирание необходимых для существования орды растительных и
иных продуктов, можно объяснить наблюдающееся уже у тасманийцев
подчиненное положение женщины. У нас пет оснований предполагать
подобного рода отношений в среде мустьерского общества, где крепнущий
социальный инстинкт, в связи с большой хозяйственной сплоченностью
группы, создает условия, благоприятные для равноправия членов орды,
и где женщина, нужно полагать, сохраняет по крайней мере одинаковое
положение с мужчиной.
Усложнение жизненных потребностей, вместе с зарождающейся осед-
лостью, могло влиять все же на известное разграничение некоторой сферы
мужского и женского труда. Последний, естественно, должен был про-
являть себя преимущественно в области, связанной с лагерем, жилищем,
приготовлением пищи, одежды. Очевидно, также главным образом на жен-
щин и подростков падает собирание всякого рода растительных продуктов
в виде ягод, кореньев, съедобных лишайников и пр., которые даже в су-
ровых условиях полярной природы являются необходимым элементом
питания человека и при наличии достаточных запасов мяса.
В использовании кремня для нужд первобытного хозяйства это намеча-
ющееся разделение труда ведет, по крайней мере к концу мустьерского вре-
мени, к закреплению двух основных типов орудий — мустьерского остро-
конечника и скребла, которые можно рассматривать, как мы видели выше,
как орудия диференцнрующегося труда мужчины и женщины — «муж-
ской» и «женский» нож.
Очень интересную, но и наименее выясненную сторону жизни мустьерца
представляет его духовная жизнь.
Одним из наиболее могущественных социальных факторов в условиях
первобытно-охотничьей стадии должна была явиться речь, отражавшая
в себе растущую и укрепляющуюся потребность в общении, шедшую рука
об руку с усложнением хозяйственной организации первобытного общества.
Если было бы невозможно мыслить себе даже полуживотную стадию древ-
него палеолита без какой-то зачаточной речи, естественно, что в мустьер-
Зачаткп
разделения
труда
Речь
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
ское время человек должен был уже широко владеть этим способом обще-
ния. Маркс и Энгельс в своей работе о Фейербахе вполне определенно ука-
зывают, что язык так же древен, как сознание, поскольку язык есть созна-
ние в его практической, объективированной форме, которая понятна и для
меня самого, и для других людей.
Однако вопрос о происхождении языка не является таким простым,
как это изображается нередко — в виде процесса постепенного овладения
человеком звуковыми сочетаниями, дававшими возможность, с ростом
культуры, вкладывать в них все более усложняющиеся представления.
Вопрос о происхождении речи в ее звуковом выражении, как ука-
зывает Н. Я. Марр, не может быть отделен от понимания исторического
развития самого человеческого общества в его стадиальном, диалектиче-
ском процессе.
Учение Н. Я. Марра дает первый опыт такого диалектического анализа
языка. Как основной момент, который требует учета для понимания исто-
рического оформления речи, новое учение о языке указывает ранее совер-
шенно не учитывавшееся содержание языковой символики, которое це-
ликом находит объяснение в изменении производственной среды и в услож-
нении самих первобытных общественных ячеек на этих древнейших этапах.
Вместе с тем в том же процессе становления общественного человека дол-
жен был создаваться и видоизменяться сам аппарат речи.
Действительно, говорит Н. Я. Марр, если речь, в ее наиболее простых
начальных проявлениях в виде языка мимики, жеста, то есть так называе-
мая кинетическая речь, создавалась непосредственно из освоения созна-
нием древнейшего человека материальной обстановки его существования,
то членораздельная звуковая речь представляет собой такого рода истори-
ческий факт, который вырос в значительно более сложной общественно-
хозяйственной среде на основе значительно более сложной системы
ассоциаций. При этом сама звуковая речь стала возможной только на оп-
ределенной ступени физического развития человека.
Можно ли все же предполагать существование звуковой речи у неан-
дертальского человека? Приходится думать, с одной стороны, что относи-
тельно весьма простая структура мустьерского общества и в особенности
большая замкнутость составляющих его ячеек — мелких охотничьих
орд — вряд ли могла быть особенно благоприятной для развития звуко-
вого способа общения. Тесная спаянность такой группы давала воз-
можность легко обходиться языком жестов или, в случае необходимости,
сигнальным криком, который мог видоизменяться в зависимости от
того, что он должен был обозначать — призыв, предупреждение об
опасности и т. д.
С другой стороны, мояуго предполагать все же, что в условиях по
крайней мере более поздней поры среднего палеолита должны были уже
зарождаться в некоторых зачаточных формах известные связные сочета-
ния звуков для определенных понятий.
Развитие звуковой речи, вероятно, шло параллельно с нарастанием
представлений, отрывавшихся от простейших актов повседневного су-
ществования и суммировавших опыт общественного коллектива — во
взаимоотношениях его членов между собой и, с другой стороны, с внеш-
ним миром.
Мы знаем, какую роль играют в жизни даже некоторых высших
обезьян (например гиббонов) коллективные игры, сопровождающиеся
звуками, напоминающими своеобразное пение. Необходимо предполо-
жить, что обрядовые танцы после удачной охоты или в связи с каким-
ЭНДОГАМНАЯ ОРДА
289
Рис. 100. Кость с правильно
расположенными нарезками и
грубо оббитая кость из му-
еперского слоя главного
убежища Ла Ферраси.
7а н. в.
(По Пейрони;
древнего человека симво-
Минераль-
ная краска
.либо выдающимся событием в жизни группы, например возвращением
взрослых членов орды осенью с зимними запасами, где определенные
моменты подчеркивались звуковыми сигналами, вполне могли быть одним
из тех источников, откуда растет и крепнет значение слова.
Мы знаем, что время среднего палеолита дает ряд фактов из области
идеологических явлений, неизвестных в предшествующую эпоху. Если
для премустьерских поселений, к которым мы относим находки синантропа
и описанные выше пещерные стойбища типа Крапины, и стоянки на от-
крытом воздухе вроде нижнего слояТаубаха иЭрингсдорфа,у нас нет уве-
ренности, что в некоторых из них (Чжоу-Коу-Тянь) мы имеем нечто дей-
ствительно связанное с обрядами древних неандертальцев, зато появление
погребений со второй половины среднего палеолита представляет факт,
который не может быть объяснен иначе, как в
плоскости явлений идеологического порядка.
эстетики в виде заботы об укра-
шении тела, о которой говорят находки мине-
ральной краски, охры, в стоянках среднего па-
леолита, вряд ли можно рассматривать вне
того же круга представлений.
Конечно, такие естественные проявления
эстетического чувства, как украшение головы,
шеи, рук и обнаженного тела цветами или низ-
ками ягод и зерен, судя по наблюдениям
Келлера над шимпанзе, могут восходить к
чрезвычайно ранней эпохе, вырастая из чисто
биологических инстинктов. Однако находкам
красящих веществ на местах мустьерских ста-
новищ 1 2 можно придавать значение не только
средства украшения в узком значении этого
слова.
Нельзя забывать, что многие современные
охотничьи народности практикуют окрашива-
ние тела краской, смешанной с жиром, как
средство защиты от холода. Вместе с тем уже
с очень ранней поры краски — красная, белая,
черная — должны были переплетаться в пер-
вобытном, еще очень смутном сознании с опре-
деленным кругом представлений, являясь для
лом многих из окружавших его явлений, таких, например, как огонь,
кровь, солнце, день с его антитезой — ночной тьмой и т. д., выраставших
в его миропонимании в ряды ассоциирующихся образов.
На возникновение достаточно сложных ассоциаций указывают от-
мечаемые нами ниже находки на'местах мустьерских поселений плит с ча-
шечковидными углублениями и первые проявления того, что можно на-
звать условно орнаментальным искусством — в виде, например, костяной
пластинки с нанесенными на ней рядами тонких параллельных нарезок
{рис. 100), найденной в мустьерской слое главного убежища Ла Ферраси. г
1 Можно указать, например, находку большого количества минеральной краски
(перекись марганца), часто в-виде кусков со следами скобления, в стоянке Ребиер II
(Боном) в Дордони (£. Pittard, ук. соч., стр. 392). Такие факты известны и в отношении
других стоянок эпохи более позднего мустье. Первыми на них указали Капитан
и Пейрони в,своей статье, посвященной стоянке Ла Ферраси в Лерце anthropologique,
1912, стр. 84.
2 D. Peyrony, La Ferrassie, 1934, стр. 24.
19 П. II. Ефименко. Первобытное общество — 173 I
Изобрази-
тельное
творчество
290
ГЛАВА ПЯТ АЛ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Строй пред- Приходится учитывать также усложнение элементов материальной
(тюлений культуры, наблюдающееся в более позднее мустьерское время, что должно
было требовать значительной диференциации понятий, для чего язык
движений и жестов создавал, вероятно, уже слишком узкие рамки.
Инстинктивная боязнь окружающего, сопровождавшая существование
древнейшего человека в эпоху шелля, поскольку его жизнь протекала
в условиях постоянной опасности со стороны хищных животных, которым
он едва ли мог противопоставить серьезные средства защиты, в мустьерскую
эпоху должна была приобрести иной характер. Достаточно смутное, «диф-
фузное», по выражению Н. Я. Марра, мышление людей древнего палеолита,
построенное на весьма узком круге ассоциаций, должно было смениться
у неандертальцев концентрацией сознания вокруг обстановки его суще-
ствования, где он сам выступает как весьма реальная действующая сила.
Вместе с тем, включая в себя все большее количество представлений из
области внешнего мира, сознание неандертальца должно было остана-
вливать его внимание на явлениях природы, которые имели непосредствен-
ное отношение к его повседневному существованию, как ночь и день,
небо, солнце, звезды, вода, огонь, гроза, окружающий мир животных,
которые он, очевидно, пытался осмысливать, исходя из строя своей собствен-
ной жизни. Однако некоторые зачатки религиозных представлений, ко-
торые на этой стадии общественного развития было бы невозможно от-
делить от мышления, формирующегося на опыте практической жизни, —
настолько они сливались у первобытного охотника в темном, крайне
ограниченном понимании связей явлений окружающего мира — прихо-
дится искать в кругу фактов, ближайшим образом связанных с жизнью
самого первобытного общества. Судя по всему тому, что мы застаем у перво-
бытных охотников настоящего времени, ими могло явиться то особое
положение, которое начинает занимать в сознании орды ее умерший
сочлен.
ПОГРЕБЕНИЯ
Взгляд
битных
народностей
Не раз теми исследователями, которые имели возможность ближе
перво- познакомиться с духовной жизнью современных отсталых народностей,
обращалось внимание на странный факт, что многие из первобытных групп
на смерть населения земного шара не имеют представления о естественной смерти,
то есть о том, что каждый человек подвержен смерти от старости, истоще-
ния, болезни и т. п. Понятной для них смерть является тогда, когда дело
идет о гибели, например, на охоте, от ран, нанесенных животными, при
нападении врагов или в результате несчастной случайности, но факт
смерти без видимого повреждения тела почти всегда рассматривается
как результат колдовства, т. е. действия враждебно настроенных лю-
дей или духов.
Правда, такие взгляды мы находим у народностей, стоящих на более
высокой ступени развития, мысль которых уже населила окружающий
мир духами, покровительствующими или враждебными первобытной орде,
причем самая возможность насылать смерть связывается у них с магией—
особыми действиями, являющимися основой первобытного культа. Но
такого рода представления имеют весьма глубокие корни в предшествую-
щей истории человеческого общества и вытекают из отношения к смерти
как к факту, который не усваивается первобытным сознанием, если он не
имеет-вполне осязательных причин. На этой почве должны были вырастать
те взгляды, которые привели мустьерского человека к известным формам
заботы об умершем, для него лишь спящем или впавшем в какое-то не-
ПОГРЕБЕНИЯ
291
понятное состояние члене орды, хотя внутренние мотивы появляющихся
в эту эпоху захоронений трупа могли быть и сложнее, насколько об этом
можно судить по обстановке первых погребений.
Не может быть сомнения, говорит Овермайер, что мустьерцы, по Обстановка
крайней мере в некоторых местностях, погребали если не всех, то погРебен,,й
известную часть умерших на поверхности почвы или в приготовленных
для этой цели могилах. Иногда пользовались для этого каменными плит-
ками, которыми отчасти защищалось тело умершего, хотя, вероятно, чаще
для того же служили
шкуры, ветви или земля.
Вблизи большинства
скелетов находят крем-
невые изделия, которые
следует толковать как
сопровождающие покой-
ника дары.
Тот же автор идет в
этом направлении еще
дальше, поддерживая со-
вершенно неправдопо-
добное утверждение, что
встречающиеся в сосед-
стве с некоторыми погре-
бениями (Ферраси, Ша-
пелль-о-Сен) угли и ко-
сти животных следует
рассматривать как по-
минкп или жертвы умер-
Рнс. 101. Камин с чашечковидными углублениями мустьер-
ской и орипьякской эпох.
1. —Из Ла Ферраси (по Капитану и Пейрони). 2 и
3. — Из Абри-Бланшар (по Дидону). 1 23 и. и.
H:i_Co.i.iaca
шему.
Одно из наиболее интересных, к тому же лучше сохранившееся Шапелль»
погребение неандертальца дала пещера Буффиа близ Ла Шапелль-о-Сен «-Сен
в департаменте Коррез во Франции, где на дне пещеры, в особом
углублении, имевшем правильную форму, но сравнительно небольшие
размеры — 1,45 м в длину, при 1 м в ширину и 0,30 м глу-
биной, — был открыт в 1908 г. при раскопках, производившихся
тремя аббатами — Бардоном и братьями Буиссони, скелет взрослого
мужчины, почти старика, в возрасте, вероятно, около 50—55 лет.1 На-
сколько можно установить, он лежал в позе спящего, с подогнутыми
ногами; его правая рука была согнута в локте и направлена к черепу.
Выше находился нетронутый культурный слой с изделиями поздних
мустьерских типов, отвечающими так называемому классическому мустье,
и костями животных — сибирского носорога, европейского бизона {Bison
priscus), горного козла {Сар'га ibex), северного оленя, сурка {Arctomys
marniotta). По сведениям, сообщаемым исследователями этой пещеры,
непосредственно возле человеческих костей было найдено бедро бизона,
как они полагают, положенное в виде запаса пищи погребенному, а также
некоторые кремневые орудия и кусок охры (рис. 98).
Сходную картину представляет погребение подростка, открытое в Мустье и
1907 г. О. Гаузером в нижнем гроте Мустье. Оно дает ту же характерную Ла Ферраси
1 A et J. Bouyssonie et L. Bardon, La station moustierienne de la «Bouffia». Bon-
neval a la Chapelle-aux-Saints, <iL’ Anthropologies, XXIV, 1913, № б, стр. 609; также
M. Boule, L’homnie. fossile de la Chapelle-aux-Saints, «Annales de Paleontol.», VI,
1911 — 1913.
292
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
позу спящего человека, несколько склоненного на бок, с согнутыми но-
гами и правой рукой, положенной под голову, тогда как левая была вы-
тянута вдоль тела. Погребение взрослого неандертальца в пещере Ла Фер-
раси (рис. 99), сделавшееся известным благодаря раскопкам Д. Пейрони1
(1909), повторяет ранее указанные находки. Здесь также отмечается углу-
бление в почве, где помещался скелет, несколько склоненный на правый
бок, с сильно подогнутыми ногами, правой рукой, согнутой к плечу, пле-
вой, покоящейся вдоль тела. Любопытно повторяющееся, строго выдер-
Рис. 102. План главного убежища Ла Ферраси!—погре-
бения мустьерской эпохи.
(По Пейрони)
Камни с ча-
шечковидпы-
мп углубле-
ниями
жанное положение тела
в погребениях этой ран-
ней поры, указывающее
на определенную обряд-
ность или, скорее, на
установившийся взгляд
на умершего как на спя-
щего, который может
проснуться и которому
живые обязаны обеспе-
чить возможные покой
и удобство.
Такую же обстановку
дает ряд других находок
остатков неандертальца,
например в Спи (Бель-
гия), Неандерталь (Гер-
мания), хотя чаще они
известны в виде отдель-
ных частей скелета, че-
рейов, нижних челюстей,
зубов и пр., которые, по крайней мере во многих случаях, принадлежали,
вероятно, погребениям, разрушенным в разное последующее время. За-
мечательно захоронение женщины, 1 2 открытое в Ла Ферраси в 1910 г.,
которая находилась в скорченном положении, с ногами, подогнутыми
к туловищу, и руками, плотно прижатыми к груди. Судя по обычаям со-
временных примитивных народностей, тело умершей было, вероятно,
стянуто ремнем или обмотано в шкуру животного.
Известны не только погребения взрослых неандертальцев; в Мустье
и Ла Ферраси были встречены также детские погребения. В последней
пещере имеется несколько таких находок, причем обычно они встре-
чаются в углублениях, вырытых в почве; в отдельных случаях эти
углубления имели форму р размеры очажных ям.
Последний, шестой скелет мустьерца, открытый Пейрони в 1921 г.
в той же пещере Ла Ферраси, принадлежал ребенку, который был похо-
ронен в яме странной треугольной формы и прикрыт известняковой
плитой с выбитыми на ней небольшими правильными ямками круглой
формы, иногда расположенными попарно.3 Другая плита того же харак-
тера была найдена несколько в стороне (рис. 101 и план 102).
1 L. Capitan et D. Peyrony, Station prehistorique de la Ferrassie, «Revue anthropolo-
gique», XXII, 1912.
2 L. Capitan et D. Peyrony, Un nouveau squelette huinain fossile, «Revue anthropo-
logique<>, 1911, стр. 148; также D. Peyrony, ук. соч., стр. 26.
3 L. Capitan et D. Peyrony, Decouverte d’un sixienie squelette moustierien a la Fer-
rassie, «Revue anthropologique», 1921, № 9—12, стр. 382; D. Peyrony, ук. соч,, стр. 33.
ПОГРЕБЕНИЯ
28S
Подобные камни с чашечковидными углублениями составляют обычное
явление в следующую, ориньякскую эпоху. Капитан и Пейрони, описав-
шие эту интересную находку, склонны
видеть в ней какие-то условные изобра-
жения. Однако возможно в ней видеть
и другое. Из современных этнографи-
ческих параллелей ближайшую анало-
гию подобным находкам составляют
деревянные дощечки с рядами круглых
углублений, употребительные у многих
культурно-отсталых народностей. Их
можно найти, например, у обитателей
полярных областей: они служат для
добывания огня сверлением с помощью
деревянного стержня, приводимого во
вращательное движение. Если верить
Эд. Лартэ, некоторые дикари Южной
Америки еще в недавнее время поль-
зовались для этой цели камнями, на-
пример валуном гранита с небольшой
ямкой, куда вставляется достаточно
Рис. 103. Череп неандертальца из
Шанелл ь-о-Сеп.
сух'ая палка.
Как бы ни толковать побудительные мотивы, которые привели чело-
века к захоронению своих близких на местах пещерных поселений, где
Рис. 104. Стопа пеапдертальца ii.t Киик-Коба
(слева) в сравнении со стопой современного
человека.
в настоящее время находят их
остатки, во всяком случае они сви-
детельствуют о том, что в перво-
бытном сознании неандертальца
уже зарождается идея заботы об
умершем.
У тасманийцев, у которых ре-
лигиозные представления, види-
мо, не сложились в какие-нибудь
определенные формы, — по край-
ней мере для них нет прямых ука-
заний ни на культ женщин пред-
ков, ни на почитание тотбмов,
столь характерное для австралий-
цев, — некоторые авторы все же
отмечают существование грубых
изображений отсутствующих, вер-
нее умерших членов орды, 1 так
называемые чурппги.
Их чуринги имеют вид голыша
с несколькими цветными чертами.
Вероятно, эти изображения можно
понять в круге тех же идей,
которыми питалась мысль мустьер-
ского охотника. Может быть, и
мустьерец имел подобные изобра-
Чуринги
тасманийцев
А Б. Пиотровский, Тасманийцы, «Сов. Этнография», А» 3—4, 1933.
«М ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
женин своих умерших, которые мог воспроизводить какой-нибудь слу-
чайный камень или тот или иной предмет, связанный с покойником.
Первобытная мысль ассоциировала ушедшего с его образом, как бы
он ни был груб и условен. Здесь, вероятно, лежат зачатки культа, кото-
рый мы увидим уже в совершенно иных и несравненно более сложных
формах в следующую эпоху.
НЕАНДЕРТАЛЕЦ
Если не считать гейдельбергского человека, который по времени мог
бы отвечать лишь начальной поре палеолитической истории человечества,
и сомнительных остатков в Пильтдауне, к более раннему периоду сред-
него палеолита у нас имеется основание относить только две или три
находки, представляющие неандертальский тип в его более ранней разно-
видности.
Чжоу-Коу- Наиболее известной находкой, восходящей, видимо, к клэктонской
Тянь (ранней ашёльской) эпохе, является скальное убежище Чжоу-Коу-Тянь
Крапина с его остатками синантропов. Более позднее местонахождение с остатками
человека известно по находкам в Крапине, в Кроации. Обе эти находки
объединяют и характер поселения (пещерное убежище), и большое число
встреченных в них костных остатков человека (свыше двух десятков осо-
бей в каждом — взрослых и детей), в сочетании с некоторыми указаниями
на каннибализм, и характер этих остатков в том смысле, что они дают
значительную вариацию первобытного человеческого типа — от очень
примитивного до более развитого, 1 который в Крапине уже приближается
к типу неандертальцев позднего мустье. Третью находку, относящуюся,
может быть, к более раннему времени среднего палеолита, представляют
остатки поврежденного погребения в Киик-Коба в Крыму (рис. 104),
если они происходят из нижнего слоя пещеры, что все же нельзя считать
установленным. 2
Если от более ранней эпохи до нас дошли в общем очень скудные
остатки человека, поздняя пора среднего палеолита дает, как мы видели
выше, ряд весьма интересных находок костных остатков, которые к тому
же очень обогатились за последние десятилетия.
Находки в Первая вполне достоверная находка ископаемого человека мустьер-
>1 еаидертало ск0^ эпохи была сделана в пещере, расположенной в долине Неандер-
таль, близ Дюссельдорфа в Рейнской Пруссии. Она относится к 1856 г.,
когда наука о «доисторическом прошлом» человечества делала лишь пер-
вые шаги.
Открытые в Неандертале остатки человека — черепная коробка и не-
сколько длинных костей конечностей — оказались весьма замечатель-
ными: череп имел характерный, почти плоский свод, низкий, убегаю-
щий лоб, огромные надбровные дуги, образующие как бы козырь над
орбитами глаз.
Это крупнейшее открытие не вызвало, однако, того внимания, кото-
рого оно заслуживало, так как наука не была еще достаточно подгото-
влена для правильной оценки находки в Неандертале. Известный ана-
том и антрополог Р. Вирхов выдвинул взгляд, что необыкновенные
1 Указания Вейденрейха для синантропа, других авторов для Крапины. По но-
вейшим данным синантроп является непосредственным предком неандертальцев;
последние же, как физический тип, характеризуют человека более поздней поры сред-
него палеолита.
2 Первоначально Г. А. Бонч-Осмоловский считал возможным относить погребение
неандертальца в Киик-Коба к раннему времени заселения пещеры, позже он скло-
няется к мнению, о связи его с верхним (позднемустьерским) горизонтом.
НЕАНДЕРТАЛЕЦ
295
черты строения черепа неандертальского человека представляют инди-
видуальную особенность, которая может быть объяснена патологическим
состоянием, идиотизмом или резко выраженным вырождением.
Однако многочисленные находки в Бельгии (Спи и Нолетт), на Пире-
нейском полуострове (Гибралтар), в Кроации (Крапина) и в особенности
целый ряд замечательных открытий, сделанных во Франции начиная с
1908 г. и до самого последнего времени включительно (Мустье, Шапелль-
о-Сен, Ферраси, Кина и др.), сделали очевидным, что эти черты строения
являются постоянными признаками человека среднеледникового времени.
В большинстве случаев возраст
этих костных остатков может быть
установлен достаточно точно, так
как они встречаются в древних слоях
пещер и сопровождаются типичными
мустьерскими орудиями и остатками
животных того же времени.
Обстоятельное изучение и описа-
ние остатков неандертальского {Ното
neanderlhalensis), как его называют
по первой находке, илипервобытного,
человека {Homo primigenius) произво-
дилось не раз авторитетными иссле-
дователями и позволяет составить
довольно полную картину его фи-
зических особенностей. Это было
существо ниже среднего роста (в
среднем около 160 см), мощного сло-
жения, с относительно большой го-
ловой, несколько сутуловато поста-
вленной и приопущепной книзу, с
низким, уплощенным черепом и мас-
сивным выдающимся вперед лицом,
зверообразность которого подчерки-
валась надглазничными выступами,
с очень широким, но выступающим
носом, сидящим в западине, очень
массивной нижней челюстью, лишен-
ной подбородка, и с зубами, поста-
вленными косо вперед (рис. 103 и 106).
Неандертальский человек имеет
Рис. 105. Срависнпе реста'врирооапного
скелета неандертальца со скелетом со-
временного человека.
1/20 и. в.
(По Б}ЛК>;
ряд других признаков, которые
Физические
особенности
неандерталь-
цев
дают возможность антропологам отличать его остатки от соответствующих
частей скелета человека верхнего палеолита и современной эпохи. К ним
можно относить, например, характерные зубы крупных размеров, с
крепкими корнями, имеющими особую форму, что указывает на твер-
дую пищу, которую приходилось перемалывать этими зубами, и на
силу челюстного аппарата. Из изучения строения зубов многочислен-
ных особей неандертальцев М. Буль делает вывод, что массивные корен-
ные зубы мустьерца в сущности могли принадлежать лишь виду, в пище-
вом режиме которого в прошлом растительная пища должна была
играть очень большую роль. Он считает, что значительная стертость
коронок зубов у взрослых неандертальцев может объясняться только
грубой пищей, к которой примешивалась земля.1
1 М. Boule, Les homines jossiles, стр. 214.
2%
ГЛАВА. ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Объем
черепа
Строение позвоночного столба п нижних конечностей неандерталь-
ского человека позволяет думать, что он ходил несколько согнувшись,
на подогнутых, широко расставленных ногах. Несомненно, это был уже
настоящий человек, но человек примитивного строения, какого мы не
знаем среди наименее развитых современных человеческих рас (рис. 105).
Г. А. Бонч-Осмоловский из факта иного, чем у современного чело-
века, положения тела, особенностей стопы и кисти и вообще известной
примитивности строения тела неандертальца считает возможным сделать,
вывод о том, что этот наш предок еще не владел, например, способностью
к применению метательного оружия, то есть, просто говоря, не умел метко
бросать копье пли камень, не будучи в состоянии координировать нужные
для этого движения.3
Такой вывод нам
не кажется убеди;
тельным, тем более,
что даже высшие
обезьяны, как извест-
но, не лишены этой
способности.
Что касается объ-
ема головного мозга,
то он у неандерталь-
цев был довольно зна-
чителен, часто не
уступая в этом смысле
современному чело-
веку. Если принять
как среднюю вели-
чину объем мозговой
полости современного
человека для муж-
чины 1450—1550 куб.
см и для женщины
1300—1380 куб. см 2
(Т. Эдингер), то по
превосходит указан-
ную среднюю норму, достигая 1600 куб. см. При этом средняя величина
этого признака у неандертальцев — 1400 куб. см, лишц на немного ниже
вышеприведенной цифры для современного человечества.
Однако приходится принять во внимание, что столь значительный
объем мозга в действительности требует некоторой поправки в его отно-
шении к размерам мозговой коробки. По мнению Буля, средней вмести-
мости черепа неандертальца в 1400 куб. см у современного человека
должна была бы отвечать вместимость 2000 куб. см (рис. 106), что, как
известно, наблюдается лишь в виде редких исключений. 3
Интересно, что и указанная выше норма у отдельных представителей
человечества на неандертальской стадии бывает значительно снижена.
Так, для черепа, открытого в Гибралтаре еще в 1848 г. (женская
Рис. 106. — Сравнение черепов современного европейца и
неандертальца из Шапелзь-о-Сен.
Показ различия в развитии лицевой и мозговой части
(мозговая часть затемнена). Пунктирная линия показы-
вает предположительное очертание черепа неандертальца,
если бы он имел пропорции современного европейца.
(По Булю)
Булю мозг неандертальца из Шапелль-о-Сен даже
1 Г. А. Бонч-Осмоловский и В. И. Громов, Выставка по четвертичному периоду
в АН СССР, «Сообщения ГАИМК», №. 11—12, 1932, стр. 45.
2 Различие объема мозга у мужчины и у женщины определяется размерами тела,,
в частности общими размерами черепа. •
3 М. Boule, Les hommes jossil.es, стр. 232.
НЕАНДЕРТАЛЕЦ
297
особь), но привлекшего к себе внимание антропологов лишь в недавнее
время, объем мозга некоторыми принимается лишь в 1100 куб. см, 1
не превышая, таким образом, объема мозга взрослого синантропа.
М. Буль, прекрасно описавший анатомические особенности неандер-
тальского человека, отмечает, что физические черты этого примитивного
существа стоят в полном согласии с его весьма низким культурным уров-
нем, простотой его кремневого инвентаря и крайней несложностью его
хозяйственного и бытового обихода.
При настоящем уровне знания не может быть сомнений в том, что
неандерталец, или «первобытник», как его называют некоторые антропо-
логи, представляет не одну из разновидностей первобытного человека —
результат уклонения в развитии, — а весьма стойкий, хорошо выра-
женный и пользующийся широким распространением тип древнего че-
ловека, являвшийся необходимым звеном в истории человека от пите-
кантропа к современному населению земного шара.
Этот взгляд, в недавнее время солидно обоснованный американским
антропологом Грдличкой, 2 разделяется, однако, сравнительно немно-
гими учеными. Наоборот, среди буржуазных археологов и антропологов
до сих пор преобладают представления о мустьерце как о представителе
особой расы или даже особого вида человека, который был сменен в Ев-
ропе другой расой, более высокой в физическом и интеллектуальном от-
ношении — кроманьонской. Последняя, таким образом, имела свою ли-
нию развития, не зависимую от линии развития неандертальца, тогда
как мустьерец мог дать начало или явиться слагающим в образовании
только некоторых современных «низших» рас.
Тот же Марселлен Буль, крупнейший специалист по вопросам палеоан-
тропологии, в своем известном общем труде по ископаемому человеку
(«Les hommes fossiles») пишет следующее (стр. 245): «Мы действительно
знаем, что люди относительно высокой организации, прямые предки
различных форм Homo sapiens, с очень раннего времени сосуществуют
в Европе с человеком неандертальского типа. Намечая историю главней-
ших открытий в области палеонтологии человека, мы видели, что многие
из них, представленные находками черепов и скелетов менее примитив-
ного характера, рассматриваются как имеющие большую геологическую
древность — Ольмо, Галли-Хилл, Дениз, Клиши, Гренель, Ипсвич и т. д.
Я считал возможным отбросить эти находки, так как они не имеют до-
статочных геологических гарантий. Но мы имеем другие доказательства
сосуществования Homo neanderthalensis и предков Homo sapiens. Первые
люди эпохи северного оленя, первые ориньякцы, которые вдруг сменили
в наших областях мустьерцев, были люди так называемого кроманьон-
ского типа, то есть, как мы увидим, люди, чрезвычайно близкие к неко-
торым расам современных людей и отличавшиеся от мустьерцев столько
же по высоте их культуры, сколько по высоте и особенностям их физи-
ческих признаков. Но эти кроманьонцы, которые, видимо, очень быстро
заместили неандертальцев в нашей стране, должны были где-то существо-
вать раньше, если не допускать мутации слишком значительной и слиш-
ком резкой, чтобы она не представлялась нам абсурдной».
Эту мысль М. Буль повторяет неоднократно в указанном труде, счи-
тая, что неандерталец представляет отсталый тип человека, его боковую
1 Нестурх, ук. соч., стр. 398. Правда, Буль дает для него другую, значительно
более высокую цифру — 1300 куб. см.
2 A. Hrdliika, The Neanderthal phase of man, «Ann. report of the Smithsonian Inst.»,
1928; Его оке. The skeletal remains of early man, «Smith. Miscel. Coll;», t. S3, 1930.
Неавдерта-
л«ц—ступень
в разветви
человека
29$ ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Раепростра-
<‘пие неап-
дгртальцгв
ветвь, не давшую прямых потомков, рядом с которым где-то, в невыяснен-
ных условиях, существовали уже предки современных человеческих рас.
Подобное толкование находится в явном и непримиримом противо-
речии с основным фактом истории человеческих обществ — закономерностью
и стадиальностью процесса их развития, вне которого трудно было бы
искать объяснения и для различных вариаций человеческого типа. В нем
нетрудно разглядеть отражение воззрений, свойственных современной
буржуазной науке, которая ищет в истории первобытного общества обосно-
вание разделения человечества на расы привилегированные, особо ода-
ренные, способные к культуротворчеству, и отсталые, первобытные расы,
являющиеся по своей природе пасынками истории.
Можно считать более или менее твердо установленным факт большой
устойчивости охарактеризованных нами выше неаидерталоидных черт
у человека мустьерской эпохи. Действительно, находки, которые в на-
стоящее время известны на пространстве почти всей Европы и даже вне
1’нс. 107. Сравнение очертаний черепов (слева направо; шимпанзе, неандертальца и со-
временного европейца в вертикальной проекции.
(По Булю;
ее пределов — как остатки родезийского человека в южной Африке и
костные остатки человека из пещеры Мугарет-эль-Зуттие в Галилее,—
дают, с теми или иными второстепенными отклонениями, тот же хорошо
известный тип «первобытного» человека. Находка в пещере Мугарет-эль-
Зуттие, относящаяся к 1925 г., как и находки целого ряда мустьерских
погребений, сделанные в J.931 и 1932 годах на горе Кармел (пещера
Мугарет эс Сукул), имеют для нас особенный интерес, потому что на-
званные остатки, обнаруживающие явственные черты неандертальского
строения, были здесь встречены в условиях, не вызывающих сомнения
в их возрасте. Они были извлечены из пещерных отложений и сопрово-
ждались культурными остатками того же характера, который они имеют
в европейских местонахождениях среднепалеолитпческого времени:
мустьерским кремневым инвентарем, вместе с костями животных, при-
надлежащих древней, частью вымершей фауне.
Если общие законы развития, одинаково действующие как в отно-
шении общества как такового, так и в отношении самого человека, дают
нам право рассматривать неандертальца не как особую породу людей,
а лишь как ступень в истории формирования человеческого тппа, остается
НЕАНДЕРТАЛЕЦ -£П
проблемой, требующей научного объяснения, явление быстрой смены
в известных нам палеолитических местонахождениях древнего неандер-
тальца человеком ориньякской эпохи, несомненно представляющим уже
вполне сложившийся современный тип человека. Этот факт кажется
непонятным, если смотреть на процесс развития человека лишь с биоло-
гической точки зрения, как на медленное накопление новых признаков
под воздействием внешней среды.
Чтобы отыскать причины быстрого исчезновения неандертальских Причины
черт в палеолитическом населении Европы, нам придется обратиться быстрого
г- исчезновении
к тем условиям социального развития первобытных охотничьих орд, нвандврТМЬ
о которых мы говорили выше. Мы указывали уже, что то же явление окого тина
приходится отметить и в отношении материальной, бытовой обстановки
неандертальцев, которая в определенную эпоху сменяется новой, значи-
тельно более высокой культурой, появляющейся в палеолитических
местонахождениях Европы вместе с началом верхнего палеолита. Ключ
к объяснению этих фактов, которые несомненно находятся в какой-то
внутренней зависимости, поскольку они подчинены общей закономер-
ности исторического движения первобытного общества, приходится искать
и обрисованных нами условиях существования мустьерцев.
Приходится думать, что замкнутость мустьерских орд, имевшая своим
результатом скрещивание в течение многих поколений внутри небольшой
группы людей, родственных по крови, не могла не оказывать неблаго-
приятного влияния на физическую природу неандертальца. Последнее
должно было, вероятно, с одной стороны, замедлять численный рост
мустьерского населения, с другой же стороны, не могло не сказаться
в значительном консерватизме, при наличии этих условий, самого физи-
ческого типа человека.
Однако, вопреки представлениям многих антропологов и археологов,
имеется достаточное количество фактов, доказывающих, что в неандер-
тальцах нельзя видеть какую-то остановившуюся в своем развитии боко-
вую ветвь человечества. В определенную историческую эпоху этот прими-
тивный тип человека закономерно, путем ускоренного, скачкообразного
развития дает начало высшему человеческому типу.
Находки костных остатков неандертальцев с чертами более прогрес-
сивного строения являются лучшим подтверждением правильности такой
точки зрения
Не останавливаясь на находках, вроде Подкумской (в Пятигорске) и
черепов, описанных А. П. Павловым (происходящих с отмелей р. Волги),
за невыясненностью их возраста, можно указать другие находки, не
возбуждающие сомнения в их древности. К ним относятся, например,
известные черепа с о. Явы, встреченные в 1922 г. в несомненно древних
•отложениях р. Соло. 1
Палестинские неандертальцы, 2 обладающие целым рядом признаков,
свойственных современному человеку, представляют в этом смысле осо-
бенный интерес. Большое количество костных остатков человека, происхо-
дящих из пещер, расположенных у подножья горы Кармел в окрестностях
Хайфы, показывает, что трансформация неандертальского типа соверша-
лась повсеместно, очевидно, в результате единого исторического движения
человеческого общества. При еще довольно примитивном характере бедра
1 М. Ф. Нестурх, ук. соч., стр. 400.
2 Proceedings of the first International Congress of prehistoric and protohistoric scien-
ces, London, 1934, стр. 48.
300
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
11 соответствующих особенностях черепных костей — в виде сильно
развитых костных гребней, очень выступающих надглазничных валиков,
массивных зубов тауродонтного типа и пр.,— палестинский неандерталец
обладал уже высоким и округлым черепным сводом, относительно хорошо
развитыми теменными и лобными частями, достаточно сформировавшимся
подбородочным выступом и другими признаками современного человека.
Во всяком случае, быстрый культурный рост и сложение нового чело-
веческого типа, входящего в историю человечества под названием кро-
маньонского, шанселадского и других разновидностей физического типа
человека, в эпоху верхнего палеолита может быть объяснено лишь при
допущении, что мы имеем здесь дело с новым, очень важным этапом в раз-
витии человеческого общества. Огромную роль в этом процессе должно
было сыграть изменение характера самих общественных образований,
возникновение на месте маленьких, замкнутых и изолированных перво-
бытных ячеек более сложных общественных единиц, которые истори-
чески вырастают как первобытные родовые общественные группы.
Могучим толчком в формировании современного человеческого типа
должен был явиться переход от замкнутой эндогамной к экзогамной
организации первобытных ячеек. «Не подлежит сомнению, что племена,
у которых кровосмешение было ограничено этой прогрессивной мерой,
должны были развиваться быстрее и полнее, чем племена, у которых брак
между братьями и сестрами существовал как правило и требовался
обычаем». 1
Мы действительно видим, как при переходе к следующей стадии пора-
зительно быстро складывается новый тип человека — Homo sapiens,
который мы вскоре обнаруживаем на всех материках.
Мы уже говорили, что у нас нет оснований рассчитывать найти среди
самых отсталых представителей современного человечества такие пле-
мена, которые сохранили бы в своем физическом типе и в своей обществен-
ной организации черты, характерные для столь отдаленного прошлого
человеческого общества, каким является первобытное эндогамное обще-
ство неандертальцев. Все современные народности земного шара, как
известно, по общему мнению антропологов, принадлежат уже к следующей
ступени развития, исторически представленной типом современного
человека.
В своей физической организации и наиболее первобытные группы
современного человечества ушли чрезвычайно далеко вперед по сравне-
нию с неандертальцами мустьерской эпохи. Равным образом, мы не знаем
среди современных групп человечества таких обществ, которые не знали бы
в тех или других формах родоплеменного устройства и удержали до
нашего времени замкнутый первобытный эндогамный строй жизни.
ТАСМАНИЙЦЫ
Интересно, однако, что существует народность, вернее существовала
в недавнее время, которая, живя в условиях полного разобщения со
всем остальным миром, сохранила в своем материальном обиходе некото-
рые черты, ближе всего напоминающие то, что мы знаем о человеке сред-
него палеолита. Это — первобытное население острова Тасмании, или
Вандименовой земли, лежащей к юго-востоку от Австралийского материка.
1 Ф. Энгельс, П роисхождеиис семьи, 193/, стр. 51.
ТАСМАНИЙЦЫ
301
Отделенный от материка всего двумя сотнями километров и когда-то
случайно заселенный, этот остров оставался недоступным при тех сред-
ствах передвижения, которыми располагали обитатели Тасмании и Ав-
стралии до прибытия европейца. Условиями полной изолированности
от внешнего мира приходится объяснять чрезвычайно низкий, уровень
развития, на котором стояли тасманийцы до их истребления англичанами
в начале XIX века.
Нам придется несколько остановиться на этой народности (хотя и в
смысле времени, и в смысле территории это и выходит за пределы нашей
темы), в виду значения культурного состояния тасманийцев для понима-
ния условий, в которых протекало существование человека средне-
палеолитической эпохи. 1
Относительно тасманийской «доистории» приходится удовлетворяться
пока только предположениями, поскольку достоверно об этом ничего
неизвестно. Можно думать, что тасманийцы происходят от какой-то
группы населения Австралии, попавшей сюда в достаточно отдаленные
времена. По крайней мере уже по внешнему облику обитатели Тасмании
значительно отличались от австралийских племен, будучи по своим фи-
зическим особенностям скорее близкими к разновидности негроидной,
или негритосской, расы. Вместе с тем они обнаруживали черты гораздо
большей примитивности и в своем культурном состоянии.
Так же, как и большинство австралийских орд, они не знали жилищ
и вообще постоянных мест обитания, находясь все время в поисках пищи,
которую составляли животные — кенгуру, опоссумы и др., затем птицы,
ящерицы, улитки или растения в виде плодов, кореньев, съедобных по-
бегов и т. п.
Обитатели морского побережья охотно занимались собиранием мол-
люсков, раков и других морских животных, остатки которых образуют
скопления на местах их прежних становищ. Любопытно, что, по свиде-
тельству многих наблюдателей, рыбу тасманийцы не ели, питая к ней
чуть ли не суеверное отвращение. Отсутствие лодок, сетей, крючков
и вообще приспособлений для рыбной ловли, появляющихся на значи-
тельно более высокой стадии развития техники, делает понятным, что
рыбная ловля у них могла быть только случайной и не могла явиться
сколько-нибудь надежным источником существования.
В холодное или ненастное время, в период дождей, они устраивали
в своих лагерях легкие заслоны из древесной коры, под защитой которой
раскладывался костер. Свойства огня им были вполне известны. Добы-
вали они его посредством высверливания с помощью деревянной палочки.
На нем жарили мясо животных и растительную пищу вроде луковиц и
семян. Им же пользовались как техническим средством для выправления
деревянных копий, предварительно распаренных на костре, и для при-
дания большей твердости заостренному концу копья, который для этой
цели подвергался сильному действию огня.
Большую часть года тасманийцы ходили совершенно нагими, за исклю-
чением зимы, когда для защиты от холода пользовались шкурой кенгуру.
Кроме того, для той же цели предохранения от холода они натирались
жиром, смешанным с охрой. Видимо, этот способ сохранения естественной
теплоты тела, довольно широко распространенный у наиболее отсталых
народностей, практиковался уже мустьерцами. По крайней мере на-
ходки охры известны в некоторых мустьерских стоянках Европы.
1 Ср. А. Б. Пиотровский, ук. соч., где дается общая характеристика тасманийцев
я указана литература
Источники
существова-
нии
Уровень
культурного
развития
3®2
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
Каменным
ивевтарь
Оетроконеч-
шиш, евреб'
ла, рубила
Рис.
типа
108. Кремневые острия
оди и шательперрон.
2 з н. в.
(Но Оберманеру)
Оружие тасманийцев было весьма несложно. Главным оружием на
охоте и на войне у них служило копье, целиком деревянное, сделанное
из подходящего побега достаточно твердого дерева, выравненного с по-
мощью осколка камня и заостренного на конце. Хотя они и не знали копье-
металки, которой пользуются австралийцы, и бросали копье непосред-
ственно от руки, оно в их руках было достаточно грозным средством на-
падения и, по свидетельству современников, могло пробивать человека
насквозь.
Затем тасманийцы употребляли дубину, служившую и как обычная
палица, и как метательное вооружение.
Каменный инвентарь, бывший в обиходе у обитателей Тасмании, пред-
ставляет особенно большой интерес. Он долгое время служил предметом
споров ученых. Действительно, по внешнему облику он имеет исключи-
тельно грубый характер, благодаря чему
многие склонны были видеть в нем чуть
ли не эолитическую стадию техники обра-
ботки камня — набор грубых, неправиль-
ных отщепов случайных очертаний, ли-
шенный каких-либо определенных типов
орудий.
Ближайшее ознакомление с каменными
изделиями тасманийцев, открытыми во
многих пунктах заселенного ими некогда
острова, показало, однако, что первона-
чальное их истолкование было совершен-
но неправильным. Оно в значительной
степени объясняется тем обстоятельством,
что в Тасмании кремень отсутствует и
для изготовления орудий жители остро-
ва были принуждены пользоваться плот-
ным песчаником, материалом, плохо под-
дающимся обычным приемам обработки.
Следует также сказать, что коллекции
тасманийских орудий, выставленные во
многих музеях Европы, в действительно-
представляют по большей части отбросы производства, собранные
на местах старых тасманийских мастерских, где тасманийцы выделы-
вали свои каменные инструменты.
Довольно хорошо изученный в последние годы тасманийский камен-
ный инвентарь в действительности имеет вполне выраженный поздне-
мустьерьский характер, что вполне отвечает и уроввю хозяйственного
развития тасманийских орд. Нет основания следовать за Блльфуром, 1
который видит в нем переход от техники мустье к ориньяку. Мы не имеем
возможности подробнее останавливаться на этом вопросе, укажем лишь,
что в этом инвентаре совершенно отсутствуют удлиненные пластины, с
которых начинается в Европе ориньякскаятехника, как и вообще орудия,
характерные для ориньяка и неизвестные в мустьерское время.
Основную массу каменных изделий тасманийцев, по Бальфуру, пред-
ставляют типичные мустьерские ручные остроконечники, изготовленные
из широких массивных треугольных отщепов, затем столь же типичные
сти
1 Н. Balfour, The, Status of the Tasmanians among the Stone Age peoples, '/Procee-
dings of the Prehist. Soc. of East Anglia», 1923, vol. V, part 1, стр. 1—15.
:ios
ПЕРЕХОД Е ВЕРХНЕМУ ПАЛЕОЛИТУ
скребла. Наряду сними встречаются, как и вмустьерских стоянках Европы,
вогнутые скребла для обработки деревянных стержней и некоторые
другие виды орудий, предназначенные для удовлетворения несложных
технических надобностей тасманийцев. Исключительно быстрое и пол-
ное уничтожение тасманийцев «культурными» англичанами не дало, к
сожалению, возможности ближе изучить эту сторону их хозяйства,
особенно важную для освещения палеолитического общества Евра-
зии.
Чрезвычайно интересно присутствие в каменном инвентаре тасма-
нийцев настоящего ручного рубила, хотя и в его поздней, «вырождаю-
щейся>> форме, что дает возможность подойти к 'вопросу о его назначении.
Оно имеет вид крупного, массивного орудия овальной формы, приострен-
ного к верхнему концу, с более толстым основанием — для захвата рукой.
Отделано оно обычно только с одной стороны крупными стесами, тогда как
другая сторона остается более или менее плоской. В своем назначении
это орудие, видимо, заменяло топор, но имеются сведения, что у тасма-
нийцев оно еще сохраняло свою древнейшую функцию, являясь ору-
дием, применявшимся при лазании: с его помощью делались зарубки,
позволявшие туземцам легко взбираться на высокие деревья.
Не имея постоянной одежды, тасманийцы выработали все же извест-
ные виды украшений. Женщины украшали голову венками из цветов
и ярких ягод и надевали узкие ленты, сплетенные из шерсти кенгуру,
которые перехватывали лодыжку, колено или кисть руки. Мужчины
носили ожерелья из раковин и в волосах закрепляли зубы кенгуру.
Красная охра применялась ими не только для раскраски тела. Со-
хранились известия, что у тасманийцев были в употреблении плоские
голыши с несложным узором черной и красной краской, которые, ви-
димо, изображали отсутствующих или умерших. Вспомним, что в пещере
Ла Ферраси во Франции археолог Пейрони нашел в мустьерской слов'
первое появление росписи в виде куска известняка с нарисованными на
нем цветными чертами.
Таким образом, тасманийцы представляют наиболее примитивную»
из известных на земном шаре народностей охотников-собирателей, со-
хранившую в своем культурном наследии черты среднепалеолитической,
эпохи. Можно ли сказать это в какой-либо степени в отношении их.
общественной структуры, сейчас трудно решить за отсутствием точных
данных. Во всяком случае, небольшие орды, занимавшие территорию»
острова Тасмания, судя по имеющимся описаниям, не слишком отли-
чались от австралийоких орд, хотя, с другой стороны, у них мы не
имеем указаний на тотемизм, являющийся основой общественного строя,
австралийских охотников; видимо, отсутствовали и родовые союзы, связан-
ные с экзогамией. Наоборот; цасколько известно, они находились в оже-
сточенной борьбе со своими соседями. Приведенные факты достаточно'
любопытны, поскольку они в какой-то мере позволяют заглянуть в усло-
вия 'жизни простейших, наименее организованных социальных образо-
ваний, предшествовавших в общем историческом развитии эпохе заро-
ждения родовой организации.
ПЕРЕХОД К ВЕРХНЕМУ ПАЛЕОЛИТУ
Во французской археологической литературе известно уже достаточ-
ное число палеолитических местонахождений, которые, сохраняя мустьер-
Украшения
Kpieut.
Инвентари,
тина «дв
304
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭНДОГАМНАЯ КОММУНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ
а Верриер
ский облик в технике обработки камня, в то же время обнаруживают
ряд черт прогрессивного характера в приемах его использования, свой-
ственных уже верхнему палеолиту. Обычно их объединяют в группу
памятников типа о ди (abri Audit), по убежищу с этого рода кремневым
инвентарем, открытому близ Лез-Эйэи в Дордони. Особенно характерны
для них острия, близкие еще к мустьерским остроконечникам, но изго-
товленные по большей части из более правильных пластин с эатупли-
вающей ретушью по краю (прототипы острия Шательперрон) — рис. 108.
Хорошим примером таких местонахождений является стоянка Ла
Верриер в Жиронде, описанная Конилем, 1 расположенная на открытом
воздухе на пологом склоне долины к ручью Сулеж. Находки здесь состоят
в большинстве случаев из треугольных, часто отретушированных пла-
стин, одни из которых сохраняют вполне мустьерский облик, другие,
значительно более узкие и длинные, представляют как бы переход к ти-
пичным раннеориньякским пластинам с краевой ретушью (они известны
также в гроте Коттэ, Дю Рок и др.), наконец, третьи, с изогнутой спинкой,
близко напоминают тип острия Оди.
Другие орудия стоянки Ла Верриер говорят о той же традиции
мустьерской техники — небольшие рубильца с грубой обтеской, много-
численные диски, которые мы знаем по мустьерским стоянкам СССР,
например по Ильской. Они отличаются от нуклеусов лишь своей неболь-
шой величиной. Некоторые из них изготовлены посредством очень
тщательного обтесывания и в иных случаях очень напоминают нукле-
впдные орудия.
Здесь имеются и скребла того же мустьерского характера, отли-
чающиеся лишь меньшими размерами, чем обычно в стоянках мустье.
Довольно часты удлиненные пластинки с подправленным краем, тожде-
ственные с пластинками ориньякских стоянок.
Инвентарь этого типа встречен не только во французских местонахожде-
ниях, но и кое-где в гротах Испании. 2
1 Р. A. Conil, Contribution a I’etude du passage du mousterien a Vaurignacien en
.Gironde, «Revue anthropologique», 1911, стр. 182.
2 Obermaier, Fossil man, стр. 185, 186, 197.
I
//
Шелльцы (реконструкдия).
Г Л А
' III II С Г А Я
Л. МОРГА!!
Л А
РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ В КОНЦЕ ЛЕДНИКОВОГО ВРЕМЕНИ
Мы определили выше среднеледпиковое время, совпадающее, по край-
нем .мере для Европы, в основных чертах с мустьерской эпохой, как время,
когда впервые начинает явственно ощущаться влияние наступающего
северного ледника. В результате этого похолодания, идущего с севера,
прежняя теплолюбивая фауна сменяется новой, «холодной» фауной,
равным образом и растительность того же южного типа, ранее свободно
произраставшая на шпроте Парижа, Лондона, Брюсселя, с этого времени
начинает вытесняться лесами и пастбищами эпохи среднего палеолита,
отвечающими условиям современных умеренных шпрот северного полу-
шария.
Наконец, после отступания главной волны оледенения, влияние кото-
рого на окружающий мир животных и растений в значительной степени
смягчалось влажностью и равномерностью климата холодной, по достаточно
сырой эпохи максимального оледенения, наступает пора гораздо более
сухого и резко выраженного континентального климата.
Несмотря на то, что ледниковый покров с течением времени все более
сокращается в размерах и в начале верхнего палеолита определяется
приблизительно границами так называемого вюрмского оледенения (см.
табл. V), все говорит зато, что суровость климатических условий ледни-
кового периода здесь достигает крайних пределов.
Можно думать, что континентальный режим, резко усиливающийся
к концу ледникового периода, связанный с большими морозами в зимнее
время и незначительным количеством годовых осадков, был по существу
одной из главных причин постепенного угасания ледниковых явлений.
Трудно сказать, чем он мог быть обусловлен в свою очередь. Высказы-
валось мнение, ч!о здесь могло сыграть роль возникновение, при доста-
точном понижении температуры, обширных ледяных покровов в области
морей, омывающих материки северного полушария, в частности на севере
Холодный н
засушливый
климат
308
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
Атлантического океана. Это явление, если оно имело место, должно было,
естественно, прекратить доступ в Европу циклонам, несущим, как изве-
стно, влагу из этой области Атлантического океана.
Развитие ледниковых явлений в северной Атлантике и обусловленные
им холодные морские течения могли бы объяснить резкое похолодание,
охватывающее в это время всю приатлантическую область Европы.
Если к началу верхнего палеолита по всему западному побережью
Европы, отличающемуся в настоящее время достаточно теплым и влажным
климатом, от Ламанша до Испании протягиваются лёссовые степи и тундры,
населенные северным оленем, мускусным овцебыком, песцом и другими
животными севера, очевидно, это могло произойти только в соседстве
очень холодного моря, совершенно непохожего на современный Атланти-
ческий океан.
Продвижение Во всяком случае под воздействием этих климатических условий на
к югу север- значительных пространствах Европы прежние лиственные и хвойные
вых видов леса сменяются суровым ландшафтом, свойственным в настоящее время
значительно более высоким шпротам, и животные, являющиеся обита-
телями бесплодных пространств крайнего севера, начинают в эту эпоху
в своих кочевках достигать наиболее южных пределов своего распростра-
нения в плейстоцене. Северный олень, например, в это время становится
постоянным обитателем Швейцарии, где его остатки встречаются в большом
числе среди отбросов охоты на местах поселений позднего палеолита.
Отсюда он по южным склонам Альп проникает даже в пределы Италии.
Многочисленные остатки северного оленя находят в верхних слоях из-
вестных пещер Гримальди близ Монако.
Совершенно таким же образом западнее он переваливает через Пире-
нейский хребет и достигает Испании. То же наблюдается и в восточной
Европе, где горные области Крыма, видимо также и Кавказа, и их пред-
горья заселяются в это время темп же представителями полярной тундры
и холодных лесов севера — северным оленем, песцом, россомахой и дру-
гими видами животных, очевидно, отодвинутыми на юг прогрессирующим
ухудшением природных условий.
Расцвет полярной фауны, переживаемый Европой в позднеледниковое
время, может быть объяснен только особенной суровостью климата этой
эпохи, что имеет характер как бы волны холода, движущейся с севера
к южным окраинам Европы.
Действительно, Сюреньская I стоянка в Крыму, пещеры Ментоны и
гроты юго-западной Франции, расположенные в эоне Пиреней, в которых
имеются слои, содержащие остатки, относящиеся к ранней поре верхнего
палеолита, совершенно одинаково свидетельствуют о том, что типичные
представители полярного Девера на известное время заселяют побережья
Черного и Средиземного морей, то есть такие области Европы, которые
в настоящее время отличаются особенно благоприятными климатическими
условиями. Не приходится говорить, естественно, о стоянках, связанных
с более северными областями Европы, где фауна в эту эпоху приобретает
еще более резко выраженные тундростепные черты.
Южная Интересно в этом смысле сопоставить животный мир средней Европы
Европа и южных полуостровов, защищенных с севера горными массивами. Мы
видим, как медленно, с большим запозданием распространяется влияние
надвигающегося оледенения на южную Европу. Развитие максимального
оледенения определенным образом сказывалось во всей полосе Европы
от границ распространения ледников в средней Европе до горных
областей Альп и Пиреней, которые также были захвачены сильным
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ В КОНЦЕ ЛЕДНИКОВОГО ВРЕМЕНИ
309
развитием ледников. Южнее, в Испании и Италии, древняя теп-
лая фауна переживает эту эпоху и ее остатки сопровождают, как
мы теперь знаем, места обитания человеческих групп не только раннего,
но и позднего мустье. Отдельные же ее представители, в особенности
носорог Мерка, удерживаются здесь еще дольше и сосуществуют в пещер-
ных местонахождениях Италии и Испании с инвентарем так называемой
гримальдийской стадии, начало которой некоторые исследователи относят
к периоду времени, непосредственно следующему за мустье и одновремен-
ному с эпохой орпньякских поселений в более северных областях Европы.
В районе Кантабрийских гор тот же вид носорога Мерка встречается в сло-
ях пещер в сопровождении типичных остатков поры верхнего палеолита.
Во всяком случае еще в эпоху мустье, если не в начале верхнего палео-
лита, как думают Вше, Байер 1 и некоторые другие авторы, в Италии
в окрестностях грота Романелли и возле Ментоны обитает такое тепло-
любивое животное, как гиппопо-
там.
Таким образом, в южных стра-
нах Европы древняя фауна пере-
живает до очень поздней поры
ледникового времени. Только рез-
кое похолодание, связанное с
позднеледниковой эпохой, вынуж-
дает животных южного происхо-
ждения окончательно покинуть
пределы Европы. Па смену им
приходят обитатели холодных ле-
сов севера во главе с мамонтом,
остатки которого в Италии встре-
чаются до окрестностей Рима
(Г. де Мортилье); по утверждению
же Вофрея, они известны и на
Рпе. 109. AiniLiona-caiira.
крайнем юге полуострова, сопро-
вождаясь (например, в пещере Ди Кардамоне) обычным лесным миром жи-
вотных ледникового времени.
Картину, сходную с той, которую мы видим в Европе, представляла
в позднеледниковое время и северная Азия, лишь с той, видимо, разницей,
что послеледниковое потепление, совпадающее с началок современной
эпохи, коснулось ее в белее слабой степени, и ее животное население и
сейчас сохраняет в известной мере такие черты, которые она имела в позд-
неледниковую пору. Во всяком случае условия жизни для северных форм
в Сибири были тогда особенно благоприятны, и последние получают широ-
кое распространение на всем пространстве от Ледовитого океана до Алтая,
Монголии и даже северного Китая. Можно вспомнить, например, что
северныйолень и по настоящее время удержался на горных пастбищах Саян-
ского хребта, тогда как в горных областях Европы он исчез гораздо раньше,
вероятно, уже около начала современной эпохи, то есть за 10—12 тысяч
лет до нашего времени.
Но и южные формы не сразу оставили эти местности Азии; в эпоху позд-
него палеолита в Забайкалье и соседней Монголии, как показали недавние
находки, видимо, еще жили страус и южный вид антилопы, которые на ме-
Северная
Азия
1 J. Bayer, Liegt in der Fiirstenhohle von Mentone Mousterien? «Die Eistteit», Bd. 11',
стр. 108.
310 L 7 A BA HITiC ТАЯ. РАВНИН РОД ОПА Я ВОНИ УНА. ПРО ИА НВ О НЦЕВ
Распростра-
нение тундры
и степи
стах палеолитических становищ встречаются совместно е типичными пред-
ставителями ледниковой фауны — мамонтом и сибирским носорогом.
Не следует думать, что изменение климата и ландшафта в верхнем па-
леолите должно было иметь характер резкого перелома. В действитель-
ности оно было в значительной степени подготовлено в предшествующее
время, когда в охотничьих лагерях мустьерской эпохи начинают появ-
ляться первые северные формы. Только постепенное увеличение их коли-
чества в отношении к обитателям лесных пространств и пастбищ умерен-
ных широт Старого Света указывает на новые условия, принесенные
вюрмской эпохой. 1
Сухой, резко континентальный климат, приведший к распространению
обитателей современных степей центральной Азии — сайги, корсака,
тушканчиков по всей Европе до подножьев Пиреней и южной Англии,
должен был иметь следствием значительное сокращение лесных пространств
на всей территории средней,
а частью и южной Европы.
На смену леса приходят от-
крытые травянистые рав-
нины, служившие пастби-
щами для множества траво-
ядных животных. Тоже, ви-
димо, должно было проис-
ходить и на востоке Евразии,,
в Сибири, где вместо глу-
хой, непроходимой тайги в
это время расстилались глав-
ным образом холодные степи
и тундры с их обитателями
из мира животных.
Только при допущении
широкой распространенности
здесь подобных условий ланд-
шафта возможно объяснить
Рис. 110. Степная лошадь —лошадь Пржевальского.
проникновение на крайний
север Сибири до берегов Ледовитого океана таких животных, как анти-
лопа-сайга, лошадь, тигр, не говоря о мамонте и шерстистом носороге,
многочисленные остатки которых были встречены экспедицией Толя на
Новосибирских островах далеко за полярным кругом. Последние пере-
житки этих обширных степных пространств, занимавших в позднелед-
никовое время большую часть севернойАзии, досих пор уцелели, например,
кое-где в Якутии в виде отдельных островков лёссовой степи, разбро-
санных среди бесконечных таежных лесов, покрывающих в настоящее
время этот угол Сибири.
1 С наибольшей наглядностью смена фауны в вюрмское время прослеживается
в пещерных отложениях, содержащих следы человеческого обитания. Хороший
пример изменения в составе мира млекопитающих в эту эпоху для более восточных
областей Европы представляет грот Охос в Чехословакии, недалеко от Брюнна,
известный по находке фрагмента нижней челюсти человека с некоторыми чертами
примитивности в своем строении. Вероятный возраст этой находки — ранняя пора
верхнего палеолита. Нижний слой грота характеризуется присутствием таких форм,
как мамонт, сибирский носорог, большерогий олень, северный олень, лошадь, пе-
щерный медведь, бизон, тур, пещерная гиена, лев, бобр и др. Выше к ним присое-
диняются северные виды — овцебык, песец, залп-беляк, лемминг и пр. Аналогичную
картину дает пещерй Кульма. Ср. J. Bayer, Das jungpalaolithische Alter des Ochoskiefers,
«Die Eiszeib, Bd. II, II. I, стр. 35.
природные УСЛОВИЯ В КОНЦЕ ледникового времени
зи
В эту эпоху на открытых степных равнинах и безлесных склонах реч-
ных долин отлагались главные толщи лёссового наноса, в котором встре-
чаются остатки животных позднеледникового времени и следы поселений
верхнепалеолитического человека. Лёссовый покров, образующийся, как
известно, лишь в условиях засушливого континентального климата и
пользующийся особенно широким распространением в экстраглациаль-
ных областях материков северного полушария, лучше всего характери-
зует природную обстановку, складывающуюся в конце ледникового пе-
риода — в вюрмское время.
Он свидетельствует о значительном обезлесении пространств Европы,
а также средней и северной Азии. Однако это не было господством степи
пли тундры на всем протяжении Европы.
Своеобразие природных условий поздней ледниковой эпохи проявляется Смешение
в том обстоятельстве, что только в отдельных, относительно редких слу- фаувы
чаях стоянки верхнего палеолита дают список животных, который при-
надлежит определенному физико-географическому ландшафту. Обычно
они представляют смешение таких форм, которые связаны с обитанием в по-
лярной тундре, степях и в условиях таежного леса, к которым в гористых
или сильно изрезанных местностях присоединяются пещерные хищники —
пещерный, а также бурый медведь, пещерный лев, гиена или животные
горных пастбищ — горный козел, альпийский сурок и другие.
Такое смешение разнохарактерной фауны млекопитающих в посе-
лениях, относящихся к позднеледниковому времени, зависит очевидно
от того, что в незанятых ледником областях Европы ландшафтные пояса
не только были перемещены к югу, но и вообще имели иной характер,
чем в настоящее время.
Леса не составляли сплошных массивов, но укрывались в долинах
рек, в местах, защищенных от сухих, холодных ветров. Тундра чередова-
лась со степью в зависимости от чисто местных условий — высоты над
уровнем моря и т. п.
Сближенность ландшафтных зон, сдвинутых на относительно неболь-
шом пространстве от окраин ледника (с окаймляющими их пустынными
песчаными полями, чередовавшимися с заболоченными низинами) до
берегов Средиземного моря, давала возможность таким кочующим живот-
ным, как северный олень, периодически появляться, может быть, в общем
в чуждой им природной обстановке. В этом смысле интересный пример
мы имеем и сейчас на Дальнем Востоке, где северный олень по горным
хребтам спускается до Амура, к южной границе тайги, и на него здесь
охотится тропический хищник — тигр.
Но и в восточной Европе северный олень зимой доходил еще недавно
до широты Казани, если не южнее.
Очевидно, что и расчлененность рельефа многих областей Европы,
особенно ближе к предгорьям, позволяла держаться в одной и той же
местности на открытых плато и в глубоких долинах обитателям леса,
степи и тундры.
Некоторые зоологи, во главе с Нерингом, а за ними и многие археологи Пернодич-
склоняются к мнению, что остатки животных в стоянках верхнего палео- пость я сме-
лита дают возможность проследить более или менее правильную смену жи- на* ланд"
„ тафта тунд-
вотных леса, степи и тундры, которая в позднее время плейстоцена должна (|Ь[ сте‘пи
была повторяться несколько раз, вместе с колебательными движениями п’ леса
последнего оледенения. Эта мысль особенно пропагандируется в кругах не-
мецких ученых. Вопрос Этот представляет большой интерес, поскольку такие
изменения, в частности повторное распространение тундровой фауны и отка-
о
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
тывание ее к северу, приурочиваются ими к определенным эпохам в истории
верхнего палеолита, как бы повторяя в меньшем масштабе те явления мигра-
ций животного мира и изменения ландшафтных условий, которые усма-
триваются этими учеными в ледниковые и межледниковые эпохи.
Наблюдения, которые приводятся в подтверждение периодичности
в перемещениях ландшафтных поясов под влиянием предполагаемых
колебаний ледникового покрова в вюрмское время, при их ближайшем
рассмотрении оказываются, однако, мало надежными. Для подобных
построений, имеющих более или менее гипотетический характер, служат
находки в отложениях некоторых пещер и скальных убежищ юго-запад-
ной Германии и соседней Швейцарии, где кости некоторых животных,
например, полярных грызунов и северного оленя, залегают на разных уров-
нях то в очень большом, то в незначительном числе, или совсем исчезают
в определенных горизонтах пещерных отложений. В них усматривают сви-
Рпс. 111. Ь'н.зоп европейский.
мелких полярных грызунов, нужно
детельство того, что тундра
имела особенное распростра-
нение в Европе в раннее и
позднее орпньякекое время,
затем в раннемадленскую
пору, когда колебание лед-
ника приносило усиление хо-
лода. Однако такой вывод
покоится на шатких основа-
ниях.
Очевидно, такое явление,
как наличие остатков опре--
деленных животных в тот
или иной момент заселения
пещеры человеком, представ-
ляет часто дело случая и
могло зависеть от таких при-
чин, как откочевка или
истребление данной породы жи-
вотного. В других случаях,
как, например, в отношении
учитывать, что они приноси-
лись в пещеры ие человеком, а охотившимися на них хищными пти-
цами — совами, соколами и т. д., поселявшимися в этих убежищах, когда
они покидались человеком. Известно, что эти мелкие животные — лем-
минги, пищухи и т. п. — периодически размножаются в огромном коли-
честве и тогда становятся предметом охоты всего населения тундры.
Ненадежность подобных определений можно было бы иллюстрировать
сопоставлением отдельных'"стоянок верхнего палеолита, относящихся к
одному времени, которые, однако, дают не одинаковый список животных. Во
всяком случае, в многочисленных, с этой стороны достаточно хорошо изучен-
ных пещерных поселениях Франции, охватывающих весь верхний палеолит,
периодических смен фауны установить не удается; таким образом, в луч-
шем случае они оказываются связанными с ограниченным районом Европы.
В других частях Европы только заметное увеличение количества по-
лярных и отчасти степных форм отличает поздние слои стоянок верхнего
палеолита от более ранних, по крайней мере до того времени, когда с на-
ступлением современной эпохи тундра начинает уступать свое место лесам
с их современными обитателями,
ЗАСЕЛЕНИЕ ПЕЩЕР
31»
Мы начали рассмотрение истории верхнего палеолита с характеристики
общих условий природной обстановки, которая сложилась в послемустьер-
ское время для человека на всем обширном пространстве Евразии — сред-
ней, частью и южной Европы, на лёссовых равнинах Сибири и на дальнем
востоке Азии. Эта огромная по своей протяженности полоса приледни-
ковых пространств нашей части света во многих сторонах — геологиче-
ских условиях, климате, растительном и животном мире — обнаружи-
вает черты чрезвычайного сходства. Много общих черт дает и характер
культурного развития населявших ее первобытных обществ.
Особо приходится учитывать ту природную обстановку, которая в эту
эпоху складывалась в более южных областях и которая обусловила в зна-
чительной степени иной ход развития верхнепалеолптического общества
на юге, по ту и по другую сторону экватора.
ЗАСЕЛЕНИЕ ПЕЩЕР
Человек эпохи позднего палеолита жил в условиях, когда процесс
размыва речных долин многоводными потоками ледникового времени
Речные
отложения
был уже более или менее закон-
чен. Его становища, которые
бывают расположены недалеко
от реки, где-нибудь на уступе
береговой террасы или в другом
удобном для обитания месте,
очень редко перекрываются на-
носами реки, как это часто на-
блюдается в отношении более
ранних эпох палеолита.
Только тогда, когда верхне-
палеолитические охотники спу-
скались к самой реке, устраи-
вая свои летние лагери на от-
логом берегу с целью рыбной
ловли или привлекаемые удоб-
ствами охоты, эти стойбища
иногда заносились иловатыми
или песчаными наносами рек, Рис. цэ_ Мускусный овцебык,
которые в это время начинали
утрачивать свою прежнюю активность. Обычно такие стоянки отно-
сятся к концу ледникового времени, к мадленской эпохе. Интересно,
что в мадленское время уровеньфек должен был иногда стоять ниже совре-
менного их уровня. На это указывают случаи, когда культурный гори-
зонт стоянки уходит ниже современного уровня реки, хотя, с другой сто-
роны, имеются и противоположные факты, которые свидетельствуют о том,
что в эпоху верхнего палеолита реки откладывают наносы, образующие
их надлуговую террасу.
Обычно места поселений верхнепалеолитических охотничьих орд встре-
чаются на склонах речных долин, в толще лёсса позднейшей формации,
так называемого верхнего лёсса. В стоянках восточной Европы, по боль-
шей части расположенных на открытом воздухе, человек старался исполь-
зовать естественную защиту от холодных северных ветров, которую да-
вали крутые склоны речных долин. Часто с этой целью он устраивал
Защпщепвьк-
места
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
свои становища при устье боковых долинок, открывающихся в сторону
реки.
Там, где имелись благоприятные условия для образования пещер,
скалистых выступов или навесов, вообще естественных убежищ, человек
особенно охотно пользовался ими как местами, удобными для обитания.
Принуждали его к этому, очевидно, природные условия, которые резко
ухудшаются к концу ледникового периода. Естественно, что он стремился
использовать пещеры или навесы как защиту от ветра и непогоды.
Ооермайер полагает, что здесь могло сыграть известную роль жела-
ние воспользоваться падежным убежищем от хищных животных, так как
выходы пещеры легче было защитить от нападений, для чего около них
раскладывались костры или на тропах, ведущих к жилью, могли устраи-
вать западни или ловчие ямы. Однако нам кажется, что вряд ли при-
ходится особенно переоценивать опасность нападения хищных животных
на лагери хорошо вооруженных и сплоченных орд верхнего палеолита.
Если в пещерах и скальных убежищах встречаются уже следы кострищ
ашёльско-мустьерской эпохи, все же большая часть их была заселена
в позднюю пору ледникового времени, когда условия климата особенно
Рис. ИЗ. Изображение лошадей и оленей на жезле из Ла Мадлен (Франция'.
(По Лартэ л KpuciuJ
настоятельно побуждали человека искать защиты от неблагоприятных
внешних условий.
В более удобно расположенных гротах’ и навесах, представлявших
те пли иные преимущества в смысле, например, близости хороших охот-
ничьих угодий или наличия кремня, продолжавшего оставаться очень
важным материалом техники и в эпоху верхнего палеолита, культурные
наслоения, чередующиеся со слоями, не содержащими находок, запол-
няют их нередко почти доверху. Слои подобных отложений, в которых
заключены остатки человеческой деятельности, накапливались в наруж-
ных частях пещер и в навесах под скалами в результате постепенного
разрушения породы, чередовавшегося с осыпями и обвалами, и образуют
иногда пласт рыхлого наноса и обломков породы в десять и более метров
толщиной.
Палеолитические остатки в пещерах, служивших долговременным
убежищем человеку, не находятся, как можно было бы думать, в беспоря-
дочном смешении. Это объясняется тем, что дно пещер и скалистых на-
весов постепенно покрывалось то отложениями пыли, приносимой ветром
с лёссовых равнин, то слоями намывов во время дождей или при таянии
снега, то обломками и мелкими продуктами распада известняков, нака-
пливавшимися от разрушения стен и свода пещеры. В результате пере-
численных явлений культурные горизонты разного времени бывают раз-
делены наносом, отлагавшимся в те периоды, когда люди покидали эти
убежища на более или менее продолжительное время.
816
ЗАСЕЛЕНИЕ ПЕЩЕР
При своем возвращении в пещеру люди обычно не пытались произ-
водить в пей каких-либо изменений: например, не стремились очистить
ее от крупных обломков скал или от накопившихся наносов, приноравли-
ваясь к создавшейся обстановке до тех пор, пока пещера могла быть исполь-
зована для жилья. Затем они ее окончательно оставляли. Однако в от-
дельных случаях, когда гроты или навесы под скалами служили местом
более прочного и длительного обитания, иногда удается наблюдать, что
обломочный материал бывает использован для вымащивания диа убе-
жища (например, грот Ребиер) или для сооружения стен жилого помеще-
ния, устроенного под защитой скал (Фурно-дю-Дьябль).
В местностях, имевших более значительное население в палеолити-
ческое время, в живописных долинах Франции и Бельгии, пещерные
стоянки часто содержат целый ряд напластований, относящихся к разным
эпохам среднего и верхнего палеолита. Давая возможность проследить
последовательные моменты в истории первобытного человека, эти на-
пластования делают пещеры драгоценным источником для восстановления
картины развития общества в ледниковый период.
Пещеры, которые представляют собой пустоты, образовавшиеся в гор-
ной породе, с выходом в сторону речной долины или оврага, являются
характерной особенностью ландшафта известняковых нагорий. Обра-
зование пещер находится в зависимости от относительно легкой раство-
римости известняка — в особенности поверхностными водами, насыщен-
ными продуктами окисления, которые в большой степени разрушающе
действуют па мел, известняк, доломит и другие подобные породы, содер-
жащие известь. Другим важным условием образования пещер являются
неравномерная плотность известняка и неодинаковая устойчивость его
пластов в отношении выщелачивания и размывания.
Поскольку эти свойства в гораздо меньшей степени присущи другим
горным породам — песчаникам или древним кристаллическим образо-
ваниям. — пещеры в них представляют большую редкость.
Среди различных видов пещер можно различить два главных типа:
пещеры с водотоком и нишеобразные гроты.
Собирающаяся на поверхности известняковых плоскогорий дождевая
и талая вода в силу своей способности растворять известняк протачивает
внутри его подземные ходы. Последние часто состоят из более узких про-
токов, соединяющих обширные пустоты, играющие роль подземных
водоемов. Иногда в них действительно сохраняются подземные озера.
Подобные пещеры могут иметь большую протяженность и простираются
иногда на несколько километров.
Всюду, где имеются выходы известняков, существуют и пещеры такого
происхождения. В СССР они известны в Крыму, на Северном Кавказе
и в Закавказье, на Днестре, в районе Жегулей на Волге, на южном Урале
и во многих местах — в азиатской части Союза. Этого рода пещеры вы-
ходят в долину или щелью, узким проходом, за которым могут неожиданно
открываться анфилады обширных помещений, или, наоборот, начинаются
камерой больших или меньших размеров, которая посредством узких
водотоков сообщается с внутренними ходами. Уменьшение количества
воды, уход ее по другим пустотам и трещинам, может приводить к закупо-
риванию питающей системы и превращению разветвленной пещеры в грот.
Иное происхождение имеет другой вид пещер, которые можно назвать
нишами. Они представляют собой более пли менее обширные углубле-
ния в отвесных стенах долин, которые часто не имеют никакого внутрен-
него питания. Таких пешер-навесов много в долинах Дордони во Франции,
Образование
пещер
Два типа
пещер
316
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
у нас в Крыму и на Кавказе. Они бывают большей частью связаны с более-
мягкими пластами известняка, которые в течение древнечетвертичного вре-
мени подвергались действию дождей, ветра, резких колебаний температуры
и т. д. Такие ниши, пли навесы,часто можно бывает проследить на большом
протяжении вдоль известняковых обрывов речных долин, причем они
держатся на определенной высоте, где проходит легче разрушавшийся
слой (рис. 115 и 116).
Иногда такие навесы расположены невысоко над уровнем реки и обра-
зовались вследствие размывания берега речными потоками в эпоху их боль-
шего полноводья. Многие пещеры в окрестностях Лез-Эйзи в Дордони —
Ложери От, Кроманьон, Мадлен, Лоссель и многие другие — имеют именно
Рис. 114. Изображение оленя пл Комиарелль.
такое происхожде-
ние. Известны они
и в СССР, напри-
мер, по правому бе-
регу Волги ниже
Куйбышева, где
такие пещеры идут
сплошной полосой
вдоль берегового
обрыва Волги.
В этом случае
возможность засе-
ления этих сухих
и удобных убе-
жищ в значитель-
ной степени зави-
села от времени
их образования.
В частности, пол-
ное отсутствие сле-
дов палеолитиче-
ского человека в
осмотренных нами
гротах, располо-
женных по берегу
Волги ниже Куй-
бышева, видимо,
может объяснять-
Пещервые
вавосы
ся их сравнительно очень поздним геологическим возрастом.
Если исключить пещеры, которые имеют действующий сток, тем более
что такие пещеры по причине крайней сырости по большей части не были
пригодны для обитания, в большинстве пещер можно найти на дне их нанос-
ные отложения разного характера и происхождения. В основании их зале-
гают чаще всего иловатый суглинок, также песок или гравий, принесенные
водой по подземным сообщениям. Но главную толщу наноса составляют
обычно продукты распада известняка в виде рыхлой порошкообразной
массы или более плотного суглинка, переполненного известняковым
щебнем и кусками породы. Часто поверхность наноса, выстилающего дно
пещеры, бывает покрыта чрезвычайно твердым известковым натеком.
Чередование глинистых отложений и горизонтов, содержащих массу
обломков породы (известняка), в подобных пещерах и гротах (рис. 117)
имеет, нужно думать, далеко не случайный характер. Вряд ли можно
заселения пещер
317
считать случайным то обстоятельство, что периоды, когда минеральный
материал заносился извне и отлагался в виде глинистого наноса, преры-
вались другими периодами, когда процесс разрушения горной породы
приобретал очень интенсивный характер, что прослеживается в виде мощ-
ных слоев щебня и обломков скалы. Весьма вероятно, что ускорение разру-
шения сводов пещеры вызывалось периодами повышения влажности и,
в особенности, значительными колебаниями температур и сильными моро-
зами. К сожалению, у нас нет пока данных, которые могли бы указать на
закономерность этого явления в определенные эпохи четвертичного
времени.
Наиболее обычные находки в пещерах представляют кости животных, Остатки
так как эти пустоты с ранней поры четвертичного времени служили убежи- животных
щем разным хищникам. Постоянными обитателями пещер были пещерные
медведи, остатки которых в большом числе встречаются в отложениях
особенно более глубоких пещер. Вместе с ними встречаются и кости дру-
гих животных, являвшихся добычей этих крупных хищников.
Наряду с медведем в пещерах и расселинах часто встречаются кости
пещерной гиены, которая "селилась в них, когда они хотя бы на время
оставлялись человеком. Ее присутствие выдают копролиты и изгры-
зенные кости животных, которые были расколоты рукой человека и,
очевидно, валялись на месте становища после ухода его обитателей. В из-
вестной стоянке мадленской эпохи ЛожериБасс была найдена украшенная
рисунком кость, изгрызанная гиеной. В пещерах встречаются остатки и
других хищников, и разнообразной натасканной ими добычи, причем все
эти животные предпочитали более глубокие пещеры с узким входом, где
легче было спрятаться и которые лучше защищали от холода.
Человек заселял пещеры часто после того, как ему приходилось вы- культурные
держать борьбу за них с крупными хищниками. В наносах пещер можно
видеть, как чередуются слои, содержащие остатки человеческой деятель-
ности, с слоями, содержащими только кости гиен и пещерных медведей.
Вокруг костров, разводившихся поколениями охотников верхнего
палеолита, накапливались всякого рода отбросы, которые составляют
обычное содержимое «культурных отложений» пещерных стоянок. Тако-
выми являются обломки и целые орудия из камня и кости, отбросы про-
изводства и остатки охотничьей добычи. Из последних чаще на месте сто-
янки встречаются определенные части скелета — черепа, длинные кости
конечностей различных животных, расколотые для добывания мозга,
вообще более ценные части добычи.
Бесспорным является факт, что верхнепалеолптический человек весьма Ооитаемоегь
1 - - пещер
охотно, где мог, пользовался для жилья подобной естественной защитой. г
Однако в объяснении роли пещер и навесов в жизни человека ледниковой
эпохи, как ее обычно изображают, имеется довольно много неточностей.
Некоторые авторы, например Обермайер, рисуют это таким образом,
что небольшие подвижные орды верхнепалеолитических охотников перио-
дически возвращались на привычные места обитания, используя пещеры
как надежную защиту от холода, ветра, снега и сырости. Поэтому там,
где имеются пещеры, почти нет стоянок на открытом воздухе. Это было
прекрасное жилище, легко защищаемое от хищников, сохраняющее в своих
подземных галереях относительно высокую температуру и в холодное
время года, несмотря на некоторые теневые стороны — недостаток света,
иногда периодически возвращающуюся сырость и дым от костров.
Пещера самых малых размеров, пишет тот же Обермэйер, была зна-
чительно больше и лучше проветривалась, чем небольшие дымные избы
318
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
некоторых европейских крестьян или подземные хижины эскимосов.
Поэтому повсюду в Европе в эту эпоху пещеры широко использова-
лись верхпепалеолитическимп ордами, особенно в зимнее время, как
хорошая защита от суровости климата ледникового периода. В летнее же
время на местах своих лагерей человек должен был устраивать легкие
шалаши из ветвей, тростника или шкур животных, то есть нечто вроде
первобытных чумов. 1
Такое представление требует, однако, существенных исправлений.
Прежде всего нужно заметить, что человек никогда не жил в глубине
пещер, где он мог бы использовать преимущества более или менее закры-
тых помещений с относительно умеренной и равномерной температурой.
Наоборот, он всегда их избегал, очевидно, боясь темноты и сырости глу-
боких подземных частей пещер, тем более что они оказывались в действи-
тельности мало пригодными для постоянного обитания в виду отсутствия
выхода для дыма и невозможности поэтому раскладывать костры. Мы
знаем, что в глубь
подземных гале-
рей палеолитиче-
ский человек про-
никал с иной
целью — как в
места, где храни-
лись таинствен-
ные изображения
тотемов, пли для
того, чтобы нане-
сти рисунки на
стенах пещеры,
или для магиче-
ских обрядов над
этими изображе-
ниями. Только в
Гис. 115. Ска.пк гые навесы п гроты в окрестностях Лсз-.Jii ш
(Дордонь, Франция).
очень редких слу-
чаях, как, напри-
мер, в пещере
Гаргас в департа-
менте Верхних Пиренеи во Франции или в пещере Мас д’Азиль. его
остатки обитания известны в глубине пещеры на значительном расстоянии
от входа. Но в данном случае это легко объясняется особыми условиями —
наличием в этих пещерах бокового окна, которое могло быть использо-
Находки в
глубине
пещер
вано для выхода дыма и служило для освещения внутренних помеще-
ний пещеры.-
Правда, не так уже редко некоторые находки культурных остатков
верхнепалеолптпческого времени в виде следов кострищ, костей живот-
ных и отдельных орудий (особенно, каменных резцов) встречаются и во
внутренних помещениях пещер, иногда довольно далеко от входа. Из мно-
гих примеров этого рода назовем пещеры Пеш-Мерль (Франция), Иогане-
гёле (Чехословакия), Мгвимеви (Грузия) и др. Нетрудно установить все
же, что подобные находки не имеют отношения к обитанию этих пещер.
1 Н. Oberinaier, Siedlung (Palaolilhikum), cReallexikon der Vorgeschichle<>, Bd. XII,
1928, стр. 97.
Г. Осборн. Челдвек древнего каменного века, русск, пер., 1924, отр. 46.
ЗАСЕЛЕНИЕ ПЕЩЕР
si»
Это или остатки разрозненных погребений, 1 или чаще то, что заносилось
сюда человеком в связи с его посещениями пещер для совершения каких-
то обрядовых действий.
Можно считать вполне установленным, что палеолитический охотник,
как правило, устраивал свои очаги в самых наружных частях пещеры,
чаще даже вне пещеры, на площадке перед ее входом. Вообще же он,
несомненно, предпочитал для жилья широкие нишеобразные и в то же
время неглубокие гроты или просто нависающие скалы, которые меньше
всего, очевидно, могли оберечь его от внешнего холода в суровые, мороз-
ные зимы ледниковой эпохи.
В этих условиях, то есть под защитой скалы или навеса, располагаются
остатки кострищ верхнего палеолита, содержащие золу, уголь, разбитые
и обгоревшие кости животных, затем булыжники, которые служили чело-
веку для раздробления костей, очажные камни, куски минеральной краски,
большей частью красной и желтой охры, с массой кремня во всех стадиях
его обработки, реже
Выбор места
обитания
поделками из кости и
рога и т. п. В этой
обстановке трудно
представить возмож-
ность жизни человека
зимой без допущения,
что он пользовался
какими-нибудь ис-
кусственными соору-
жениями, которые
должны были сохра-
нять тепло поддер-
живаемых им костров
и защищать его от
непогоды. Другое
дело, конечно,в лет-
нее время: такие
навесы и гроты пред-
Рпс. 116. Известняковые скалы в окрестностях Лсз-Эжш
(Франция
ставляли достаточно
сухие, удобные убежища, которые могли служить небольшим ордам
верхнепалеолитических охотников даже без каких-либо особых сооруже-
ний как хорошая защита от дождей, ветра и т. п. Вероятно, многие из пе-
щерных стоянок и использовались в качестве летних лагерей, куда перио-
дически приходили эти орды в связи с надобностью охотничьего промысла.
Зимнее время эти охотничьи орды переживали в хижинах, достаточно
защищенных от действия внешней «реды, тепло и свет в которых поддержи-
вались очагами и жировыми лампами, известными уже в довольно большом
числе в стоянках верхнего палеолита и совершенно сходными с каменными
светильниками современных эскимосов. В таких жилищах человек перено-
1 В Иоганс-гёле внутри пещеры в ее подземных галереях были обнаружены
остатки нескольких человеческих скелетов; между ними один хороню сохранившийся
череп кроманьонского типа. При костях и в других местах было найдено ожерелье из
просверленных зубов животных (медведь, лисица, бобр, лошадь, северный олень), а также
целый ряд интересных орудий из кости и немного каменных орудий — из роговика
и кремня. Здесь же была подобрана половина челюсти пещерного медведя со следами
ее использования в качестве ударного орудия. Ср. J. Szombaty, Die diluvialen
Menschenreste aus der FiirSi-Johanns-Hohle bei Lautsch in Mdhren, <Die Eiszeit-.
13d. 11, 11 lull, стр. 1 и 73.
320
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУН А КРОМАНЬОНЦЕВ
Уирощев-
)еть исс.н'-
ЦОВ1НИИ
сил долгие зимы на лёссовых равнинах Рейна, Дуная, восточной Европы,
где он не находил естественных убежищ. Но ими он пользовался, как
мы увидим ниже, при описании жилищ позднепалеолитического времени
и там, где скалистая местность значительно
облегчала защиту жилья от резких ветров,
снежных заносов и пр.
Следует сказать, что эта существенней-
шая сторона вопроса о характере поселе-
ний верхнепалеолитических охотников
меньше всего останавливала на себе вни-
мание исследователей, занимавшихся рас-
копками палеолитических местонахожде-
ний. В частности, пещерные стоянки, ко-
торые со времен Эд. Лартэ, Дюпона, Мас-
сена, Пьетта и многих других ученых
изучаются в большом числе во всех стра-
нах западной Европы, остаются до сих
пор хуже всего известными именно с этой
точки зрения, то есть в отношении своего
значения как места жилья.
Это становится понятным, если при-
нять во внимание весьма упрощенные за-
дачи, которые ставятся западноевропей-
ской наукой при изучении палеолитиче-
ских местонахождений и которые в зна-
чительной мере сводятся, с одной сто-
роны, к добыванию тех или других более
или менее эффектных вещественных на-
ходок, с другой — к установлению стра-
тиграфии напластований, то есть к вы-
яснению собственно геологических усло-
вий залегания вещественных остатков.
Только этим можно объяснить, что
почти ни одна работа, посвященная иссле-
дованию многочисленных стоянок позд-
него палеолита, не дает общей плани-
ровки поселения, не учитывает обста-
новки находок всего комплекса культур-
ных остатков, не представляющих особого
интереса с геологической точки зрения,
но имеющих исключительную важность
для восстановления условий существова-
Рпс. 117. Разрез напластований не- ния первобытного общества.
щеры Истюриц. Нужно сказать все же, что наблюде-
ния более внимательных и более вдум-
чивых исследователей, как Д. Пейрони во Франции, позволяют уста-
новить, что не только стоянки на открытом воздухе, но и пещеры, когда
они служили местом долговременного обитания, часто сохраняют следы
сооружений, которые приходится рассматривать как остатки жилищ. По-
следние остаются, к сожалению, еще очень мало изученными, хотя все же
иа основании их можно уже говорить о нескольких типах жилища, кото-
рыми пользовался человек в позднепалеолитическое время; одни из них
характерны преимущественно для ранней поры этого врёмени, для посе-
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПЕЩЕР
321
пений ориньяка и солютре, тогда как другие встречаются главным обра-
зом в стоянках мадленской эпохи.
При крайней скудости сведений, которыми мы можем располагать
для суждения о характере палеолитических поселений и особенностях
устройства жилых помещений в эту эпоху, особенное значение приобре-
тают работы советских исследователей. Последним удалось, благодаря
внимательному ведению раскопок, сделать на ряде позднепалеолитических
стойбищ весьма интересные наблюдения, существенно меняющие сло-
жившиеся представления о характере поселений в эпоху верхнего
палеолита.
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПЕЩЕР,
ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА ЭПОХИ
Уже первые исследователи1 пещерных местонахождений западной
Европы во главе с Эдуардом Лартэ, предпринявшим их систематическое
изучение в самом начале 60-х годов XIX века в богатой пещерами юго-
западной области Франции, обратили внимание на то, что отложения пе-
щер, содержащие остатки деятельности палеолитического человека,
обнаруживают известные различия как в отношении изделий из камня
и кости, так и в характере сопровождающей их фауны.
Нужно заметить, что в раскопках пещер всегда особенную энергию
проявляли натуралисты, геологи и палеонтологи, которые были заинтере-
сованы в остатках древнечетвертичных животных не в меньшей степени,
чем в остатках человека и его культуры. Это, естественно, не могло не
сказаться на оценке добытого материала и первых попытках его класси-
фикации. В основу этой последней, как мы сейчас увидим, всегда кладется
фауна, то есть те изменения в ней, которые прослеживаются в последо-
вательных напластованиях пещерных поселений.
Эд. Лартэ, опираясь на свои наблюдения, считал возможным выделить
в пещерах Дордони несколько групп пещерных поселений. Более древние
он относит к эпохе мамонта, что в нашем представлении равнозначно
среднему палеолиту, когда мамонт становится постоянной охотничьей
добычей человека.
Остальные исследованные им пещерные стоянки Лартэ объединил в одну
эпоху, следующую за эпохой мамонта, которой он дал название века «север-
ного оленя», исходя из того соображения, что остатки этого животного
являются наиболее характерной чертой для этих местонахождений. Эти
последние местонахождения подразделяются им на три группы.
Две первые группы Лартэ причисляет к эпохе северного оленя в более
узком смысле слова, поскольку в стоянках этого типа встречается особенно
много остатков этого животного. О первой из них дает представление раско-
панная Лартэ известная пещера Дожери От, в кремневом инвентаре кото-
Первые
ПОПЫТКИ
классифика-
ции
Э. Лартэ
1 В течение первой половины XIX века отложения пещер с содержащимися в них
остатками только случайно привлекали к себе внимание исследователей. Однако уже
в конце 20-х — начале 30-х годов находки Турналя и Кристоля во Фран-
ции, Шмерлинга в Бельгии, которым удалось обнаружить изделия из камня и чело-
веческие кости в одних и тех же слоях совместно с костями животных, принадле-
жащих вымершим видам, ставят вопрос об одновременности человека с представителя ми
древней фауны — мамонтом, носорогом, северным оленем, пещерным медведем, гиеной
и пр. Особенную настойчивость в этом направлении проявил Шмерлинг, с 1829 г.
занимавшийся раскопками пещер в окрестностях Льежа н опубликовавший резуль-
таты раскопок в двух томах своих <tRecherch.es sur les ossements fossiles, decouverts
dans les cavernes de la province de Liege», Liege, 1833—1834.
21 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
322 ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАВНЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
рой видное место занимают превосходные, тонко отделанные кремневые
наконечники. Обработанная кость встречается здесь относительно редко.
Вторая группа пещерных стоянок во главе с гротом Ла Мадлен, располо-
женная в том же районе Дордони, может быть охарактеризована, наоборот,
многочисленными изделиями из кости и рога северного оленя, произ-
ведениями искусства и пр., тогда как кремень играет здесь в известной
мере подчиненную роль. Во всяком случае его обработка не достигает
того совершенства, которое она имеет в Лоягери От.
Хотя Лартэ, противопоставляя эти группы стоянок, как мы знаем
теперь, в сущности наметил две фазы верхнего палеолита, сам он считал
их одновременными в виду близости их фауны и полагал, что в них про-
являются чисто местные особенности культуры пещерного человека. Он
их объяснял различием в привычках древних племен, населявших эту
область Дордони, одни из которых были больше склонны к обработке
кремня, тогда как другие накопили опыт в использовании кости и
рога.
Лартэ с большой проницатель-
ностью отметил, что из этого ряда
стоянок должна быть выделена
третья группа, представленная пе-
щерой Ориньяк и сходными с ней
местонахождениями Ла Шез, Ша-
тельперрон, Горяч д’Анфер и дру-
гими, в которых ему попадались на-
конечники из кости особой формы и
кремневый инвентарь, имеющий зна-
чительно более примитивные черты,
чемв других стоянках века северного
оленя. В частности, здесь нередко
Дюпон
Рис. 118. Отложения грота Scilles (Франция''!, встречаются орудия, напоминающие
Типичное пещерное поселение верхне- °РУДйя века мамонта, то есть эпохи
палеолитического времени. мустье. Относя эти пещеры к веку
северного оленя, Лартэподчеркивает'
древний характер их фауны, в которой еще заметную роль играют
мамонт и пещерные хищники — пещерный медведь и гиена.
Эд. Дюпон, занявшийся приблизительно в те же годы (с 1864 г.) изуче-
нием пещер Бельгии,1 главным образом в окрестностях Намюра, на осно-
вании своих стратиграфических и палеонтологических наблюдений пред-
ложил разделить их отложения на четыре стадии, которые он обозначает
именами наиболее типичных пещерных стоянок — Шалэ, Гуайе, Понт-а-
Лесс, Монтэгль.
1. Тип Шалэ. Отвечает позднейшим отлоя?ениям эпохи северного оленя,
в пещерах Бельгии; лучше всего представлен пещерной стоянкой Тгои
de Ghaleux в провинции Намюр. Последняя дала Дюпону массу разно-
образных мелких кремневых орудий, среди которых встречается много
правильных, параллельно ограненных пластинок, затем обработанную
кость и много морских раковинок, принесенных человеком из его далеких
охотничьих экспедиций.
Животный мир в ней представлен многочисленными остатками север-
ного оленя и других эмигрировавших на север животных, принадлежа-
1 Е. Dupont, L'homme pendant les ages de la pierre dans les environs de Dinant sur
Meuse, 2 edition, Paris, 1872.
Рис. L19. Навес Шан-Коба, в Крыму.
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПЕЩЕР 323
щих, однако, исключительно ныне живущим видам. Остатков мамонта
здесь совершенно не было встречено.
2. Тип Гуайе. Получил название от пещеры Goyet в той же провинции
Намюр. Нижний горизонт этой пещеры содержит орудия типа мустье,
в верхнем же горизонте был найден кремневый инвентарь, довольно близ-
кий к первой группе, и множество разнообразных изделий из кости и рога
северного оленя — гарпуны, иглы, так называемые «жезлы начальников»
ит.п. В общем, находки, сделанные в пещере Гуайе, приходится считать
очень близкими к типу исследованного Ллртэ грота Ла Мадлен.
Кроме северного оленя этот горизонт дал уже некоторое количество
остатков мамонта.
3. Тип Понт-а-Лесс—по пещерной стоянке Pont-a-Lesse, известной так-
же под именем Тру-Магрит, средний горизонт которой отмечен находками
хорошо сделан-
ных наконечни-
ков из кремня,
прекрасно отре-
тушированных
кремневых пла-
стин, некоторо-
го количества
изделий из ко-
сти. Здесь же
была встрече-
на человеческая
фигурка, выре-
занная из рога
оленя, и не-
сколько других
резных изобра-
жений. Близ-
кую аналогию
этой стоянке
можно видеть
в исследованной
Лартэ пещерной
стоянке Ложерп
От.
4. Тип Моитэгль. Представлен стоянкой этого имени (иначе Тру дю
Сюро), а также другой известной пещерной стоянкой Спи, соответствую-
щие горизонты которых характеризуются еще довольно грубыми изде-
лиями из кремня, несколько напоминающими местонахождения среднего
палеолита, и широкими, плоскими наконечниками из кости, которые
Лартэ указал как типичную форму стоянок группы орпньяка.
Эта классификация, которая по существу почти исчерпывающим обра-
зом воспроизводит современное деление верхнего палеолита, была пред-
ложена Дюпоном еще в 1872 г. К сожалению, она не получила в свое время
должной оценки и была более или менее основательно забыта.
Некоторым шагом вперед в смысле расчленения отложений верхнего Пьетт
палеолита явилась классификация, выработанная Эд. Пьеттом1в течение
-------------------------------j-----------------------------------------------------------------
1 Ed. Piette, Classification, des sediments, formes dans les caoernes pendant I’dge du
Леппе, <-L’Anthropologies, t. XV, 1904, стр. 129—17G.
324
ГД ABA ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
его многолетних работ по раскопкам пещерных стоянок южной Франции
в районе, прилегающем к Пиренеям, для которой он использовал добытый
им огромный фактический материал.
В своих построениях для установления относительного возраста пещер-
ных напластований он пользуется тем же геологическим приемом, которым
пользовался Лартэ, разделяя пещеры изученного им пиренейского района
Франции на слои с тем пли другим составом фауны. В эту классификацию
он внес более детальные подразделения, чем те, к которым пришел Лартэ.
В более или менее законченном виде его классификация отложений верх-
него палеолита выглядит следующим образом:
1. Элафская стадия (Cerous elaphus—благородный олень). Сюда
относятся верхние культурные напластования пещер южной Франции
с фауной современного типа — с благородным оленем во главе, занявшим
место северного оленя более ранних стоянок. Эта стадия, которая полу-
чила затем название азильской эпохи, лучше всего представлена раско-
панной Пьеттом стоянкой Mas d’Azil.
Для нее характерен дробный кремневый инвентарь с такими типич-
ными формами орудий, как мелкие округлые скребочки и заостренные
пластинки с затупленной спинкой «в форме клинка перочинного ножа».
В общем этот инвентарь сохраняет более или менее мадленский характер
и близко стоит к стоянкам типа Шалэ Дюпона.
Здесь же встречены окрашенные гальки, небольшие, плоские, грубо
вырезанные гарпуны из рога благородного оленя с отверстием в основа-
нии (сменяющие в этих горизонтах пещер прежние прекрасные гарпуны
из рога северного оленя) и немногочисленные другие орудия, сделанные
из кости и принадлежащие к простейшим типам этого рода изделий.
2. Элафо-тарандская стадия. Северный олень (Cerous tarandus)
встречается, но в небольшом числе, вероятно, на пути к исчезновению.
Много благородного оленя. Богатые находки кремневых орудий и обра-
ботанной кости — многочисленные гарпуны, иглы и пр., относящиеся
к мадленским типам. Многочисленные произведения искусства в виде
гравюр, резанных по кости. Типичный памятник этой стадии — грот
Лортэ, давший Пьетту значительное собрание всевозможных изде-
лий.
3. Тарандская стадия. К этой группе пещерных стоянок пиреней-
ского района относится целый ряд исследованных Пьеттом местонахо-
ждений во главе с пещерой Гурдан, где им собраны были разнообразные
предметы из кости и рога и произведения искусства. В верхних гори-
зонтах ее обычны еще гарпуны, но в нижних они исчезают. Особенно
много остатков северного оленя.
4. Эквидская стадия. Бизон и дикая лошадь (Bos priscus, Equus
eaballus) здесь численно преобладают, тогда как остатки северного оленя
сравнительно редки. Довольно часто встречаются изделия из слоновой
кости (бивня мамонта).
5. Бовидская стадия. Много остатков дикой лошади, быка, мамонта.
Изделия из слоновой кости обычны. Отсутствует целый ряд типов орудий
из кости, которые характерны для ранее перечисленных горизонтов, нет
гарпунов, игл. Нет также гравированных изображений на кости; в искус-
стве господствует рельефная и скульптурная техника.
Наблюдения Эд. Пьетта, имеющие известную ценность, поскольку
они представляют возможность наметить ряд последовательных этапов
в напластованиях пещерных стоянок южной Франции, все же дают зна-
чительно меньше, чем они могли бы дать, главным образом потому, что
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПЕЩЕР
325
Рис. 120. Заготовка
для нуклеуса
(Гагарине).
Ок. ’/< н- в-
Мортилье
Пьетт плохо разбирался в вопросах техники, в частности — кремневой,
и в изменениях видов и форм верхнепалеолитических орудий. Его го-
раздо больше интересовало палеолитическое искусство, и параллельно
с хронологической классификацией пещерных стоянок по признаку
фауны он дает такую же классификацию, построенную на характере про-
изведений пещерного искусства. Свой «глиптический» период, то есть пе-
риод, когда господствует обработка кости в художественных формах,
он делит на азильское, лортэтское, гурданское, папальское время — эпохи,
более или менее отвечающие намеченным выше стадиям. Приходится
сказать, однако, что ряд неточностей и прямых ошибок в отношении уста-
навливаемой им смены форм искусства привел Пьетта к противоречиям,
которые запутали общую его классификационную систему.
В отношении «эпох» верхнего палеолита, устанавливаемых Пьеттом
и его предшественниками, мы не можем забывать, что, являясь первыми,
и с этой стороны, несомненно, заслуживающими вни-
мания попытками "уточнить материал, добытый иссле-
дованиями пещер, они все же мало внесли суще-
ственного в представление о развитии первобытного
общества в соответствующий период.
Заслугой Габриэля де Мортилье было то, что с са-
мого начала он стал в своей хронологической класси-
фикации палеолита на иной путь, положив в ее основу
наблюдения над изменением производственных призна-
ков. Он старался учесть вместе с тем для этой цели весь
комплекс материальных остатков палеолита и условия
их залегания в пещерных местонахождениях Франции.
Ему удалось доказать, что две группы стоянок
Эд. Лартэ — стоянки типа Ложери От и Мадлен —
относятся не к одному времени, а представляют после-
довательные стадии развития палеолитической куль-
туры века северного оленя.
Первая, более древняя, для которой характерным
признаком является решительное преобладание исполь-
зования кремня над обработкой кости, играющей здесь
второстепенную роль, была им названа солютрейской
эпохой. Как тип для нее была выбрана Мортилье известная стоянка Со-
лютре в департаменте Соны и Луары, где существовал обширный лагерь,
охотников на дикую лошадь и северного оленя. Правда, собственно к солю-
трейской эпохе относится, как это указывал еще Арселен, только неболь-
шая часть отложений этой стоянки, так как основной ее слой с главной
массой скоплений культурных остатков принадлежит более раннему вре-
мени позднего палеолита.
Мортилье в общем правильно наметил хронологическую последова-
тельность для определенных этапов в истории верхнепалеолитического'
общества, по крайней мере в отношении ближе ему известных областей
западной Европы, руководствуясь идеей непрерывного в смысле истори-
ческой преемственности развития этого общества. Однако, по мнению
современных французских археологов, он допустил ошибку, игнорируя
стоянки типа Ориньяк во Франции, Монтэгль и Спи в Бельгии, которые
должны быть поставлены в самом начале верхнего палеолита.
В настоящее время пещера Ориньяк, раскапывавшаяся еще Эд. Лартэ,
рассматривается как типичный памятник так называемой ориньякской
эпохи, первой фазы в истории верхнего палеолита Европы.
326
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
Четыре
«эпохи»
верхнего
палеолита
Таким образом, позднепалеолитицэское время подразделяется обычно
на четыре «эпохи»: ориньякскую, солютрейскую, мадленскую и азильскую.
К азильской эпохе относят верхние горизонты пещерных стоянок и
поздние лагеря на открытых местах, остатки которых встречаются в са-
мых верхних напластованиях лёсса. На основании фауны, представлен-
ной современными породами животных, в которой исчезают полярные
виды (последние должны были вместе с отступанием европейского лед-
ника отодвинуться в более северные широты), азильскую эпоху прихо-
дится относить уже к времени, переходному от древнечетвертичной к со-
временной геологической эпохе.
Что касается так называемых ориньякских местонахождений, то по-
следние всеми западноевропейскими учеными, вопреки мнению археоло-
гов прежнего поколения, причисляются в настоящее время к древнейшим
памятникам верхнепалеолитической культуры. В дальнейшем мы изло-
жим то, что известно относительно ориньякских памятников западной
Европы.
Однако имевшие место за последнее время раскопки на территории
СССР (Тельманская стоянка под Воронежем) ставят вопрос о действи-
тельном соотношении во времени так называемых ориньякских и солю-
трейских остатков. Кажется очень вероятным, что пересмотр, в свете
новых данных, имеющегося материала позволит совершенно по иному
рассматривать вопрос о начальной поре верхнего палеолита.1
Если не считать вопроса об ориньяке, «система эпох верхнего палео-
лита», как она принята западноевропейской наукой, представляет изве-
стную историческую достоверность, по крайней мере для определенных
районов западной Европы. В какой мере она приложима к другим частям
обширных пространств Европы и Азии, мы будем видеть из дальнейшего.
Нельзя, однако, не отметить то существенное обстоятельство, что так
называемые эпохи верхнего палеолита занимают в общей картине разви-
тия первобытного общества совершенно иное место, чем шелль и мустье.
Последние, как видно из предшествующего изложения, нам приходится
рассматривать как определенные, самостоятельные этапы развития перво-
бытного общества, которые это общество должно было пройти повсюду,
на всем земном шаре, вне зависимости от географического положения и
природных условий.
Палеолитические памятники послемустьерского времени являются
настолько близкими во всей своей массе, что их естественно было бы также
объединить в одно целое. Этот этап в развитии палеолитической куль-
туры характеризуется значительным усложнением кремневого инвентаря,
возникающей обработкой кости и т. д. Мы все же можем, учитывая,
конечно, условный характер такой хронологической классификации,
принять разделение позднего палеолита на эпохи и даже можем наметить
дальнейшее подразделение их на фазы, вроде раннего, среднего и позд-
него ориньяка, раннего и позднего солютре, раннего и позднего мадлена.
Такое расчленение остатков верхнего палеолита Европы имеет ту полез-
ную сторону, что дает возможность проследить постепенное усложнение
материальной культуры первобытного общества. Не следует однако
забывать, чтобы не допустить значительного искажения перспективы
исторического хода событий, что «эпохи» позднего палеолита даже в целом
1 Судя по находкам на Тельманской стоянке, представляется не исключенным,
что то, что мы называем ориньяком и солютре, в действительности окажется лишь
вариантами в развитии техники обработки камня в раннюю пору верхнего палеолита.
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПЕЩЕР
827
обнимают сравнительно уже не очень большой период времени, значи-
тельно меньший, конечно, чем мустьерская эпоха, и, несомненно, гораздо
более короткий, чем стадия древнего палеолита. Вместе с тем самые усло-
вия залегания вещественных остатков, относящихся к позднепалеолити-
ческому времени, в хорошо выраженной стратиграфической обстановке,
в отложениях пещер и слоях лёссовых наносов, создают возможность для
детальных делений, в которых может быть намечено основное направле-
ние исторического развития позднепалеолитического общества Евразии.
Насколько, однако, является обоснованным указанное выше под-
разделение данной исторической ступени, предлагающееся буржуазной
археологией, если к нему подойти с точки зрения тех изменений,
которые, очевидно, должны были иметь место в самом общественно-
хозяйственном строе первобытнокоммунистического общества в условиях
позднепалеолитической стадии? Другими словами, в какой мере те измене-
ния, которые отражаются в характере вещественных остатков от ориньяк-
ской до азильской эпохи, могут служить показателем процессов, совер-
шавшихся внутри самого общества в связи с развитием его производи-
тельных сил, с растущей продуктивностью охотничьего хозяйства, совер-
шенствованием способов лова, изменением и усложнением организации
труда внутри производственных единиц, первобытных охотничьих групп
и т. д., как и в смысле их собственно общественной структуры?
Наконец, какие именно признаки следует положить в основу внутри-
стадиальных переходов из одной фазы в другую в достаточно все же дли-
тельный период верхнего палеолита, который приходится исчислять
несколькими десятками тысяч лет, используя для этой цели те веще-
ственные остатки, на которых, собственно, мы единственно и можем
строить сколько-нибудь достоверные заключения в отношении этих отда-
ленных эпох человеческой истории?
Все эти вопросы требуют своего разрешения, если мы не хотим следо-
вать по пути чисто формального изложения фактов.
Нельзя отрицать, что орудия труда, которые дошли до нас в стоянках
верхнего палеолита Европы и северной Азии в виде различных изделий
из камня, рога и кости, играли весьма важную производственную роль
в интересующее нас время. Кремень как материал для всякого рода ору-
дий, связанных в особенности с обработкой твердых веществ, должен был
представлять в верхнем палеолите не меньшую важность, чем в пред-
шествующие эпохи «древнего каменного века». Более того, можно сказать,
что новые формы использования этого материала, раскрывающиеся на
Стадии верхнего палеолита, обусловили в значительной степени самую
возможность развития новой техники в ее наиболее существенных сторо-
нах — обработке кости, дерева, шкур животных и т. д.
Применение того же кремня, наряду с костью и рогом, в изготовлении
охотничьего вооружения —наконечников копий и дротиков, гарпунов, охот-
ничьих ножей и кинжалов — явилось несомненно очень важным моментом
в растущем совершенствовании средств охоты. Учитывая все это, следует
признать, что возникающие в это время виды изделий — разнообразные
орудия из камня и кости — определяют своим появлением поздний палео-
лит как стадию расцвета охотничьего хозяйства, имеющего своей базой
массовую охоту на определенные породы животных.
Однако было бы совершенно невозможно видеть в появлении несколько
лучше сделанных наконечников и в других подобных фактах, в которых
мщут специфические признаки «эпох» ориньяка, солютре, мадлена и азиля,
достаточные показатели изменения общественно-хозяйственного уклада
Подразделе-
ние верхнего
палеолита
328
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
Рис. 121. Изменения Формы мадленского гар-
пуна от более раннего к позднему типу.
1/г н. в.
первобытного общества, которые сами по себе могли бы быть положены
в основу внутристадиального расчленения верхнего палеолита.
Нельзя не считаться с тем,, что при весьма еще относительно несовер-
шенных технических средствах охота в это время не могла не являться
делом коллектива, всей охотничьей орды или по крайней мере мужской
ее части. Охота на крупных животных при том массовом характере, кото-
рый она здесь имела, судя по огромным скоплениям остатков охотничьей
добычи на местах верхнепалеолитических поселений, не могла не быть
в гораздо большей степени результатом облав, загонов, широкого исполь-
зования различного рода ловушек и западней, чем делом ловкого охотника.
Остатки десятков тысяч лошадей, сохранившиеся в виде трофеев охоты на
месте охотничьего поселения Солютре во Франции, многие сотни мамонтов,
убитых в Пржедмосте в Моравии, и т. д. рисуют, очевидно, такую охоту,
продуктивность которой опреде-
лялась не известным совершен-
ствованием формы наконечников
из того или иного материала, хо-
тя, конечно, и это должно было
играть свою роль, а приемами мас-
совой охоты, на которую перво-
бытная охотничья группа затрачи-
вала всю свою энергию и изощрен-
ный опыт, накопленный многими
поколениями в чрезвычайно труд-
ных условиях борьбы за существо-
вание.
Таким образом, мы должны
сказать, что основанная на при-
знаках типологического порядка,
без учета исторической значимости
этих признаков, группировка, ко-
торой обычно пользуются для
изложения известного в настоя-
щее время материала по интере-
сующему нас периоду, не пред-
ставляется продуманной и обосно-
ванной схемой развития первобытного общества, которая могла бы быть
принята без весьма существенных дополнений и поправок.
Три стадии Если принять во внимание весь наличный фактический материал,
представляется возможным, по соображениям, которые нами будут изло-
жены ниже, разделить историю верхнепалеолитического общества на три
фазы.
Первую, к которой мы относим так называемую ориньякскую и, затем,
большую часть солютрейскоп эпохи, можно рассматривать по ряду при-
знаков как начальный этап сложения верхнепалеолитического общества,
характеризующийся по преимуществу более или менее оседлым типом
охотничьего хозяйства, в котором чрезвычайно большую роль во всей
приледниковоп полосе Европы играет еще охота на мамонта.
За ней следует вторая фаза, связанная, по крайней мере в некоторых
частях Европы, с своеобразным хозяйственно-бытовым укладом охотников-
номадов. Ее отличают появление многообразных видов оружия и всякого
рода приспособлений, сделанных из кости и рога преимущественно север-
ного оленя, большое усложнение кремневого инвентаря, расцвет искусства
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
32»
и пр. Эта фаза соответствует тому, что обычно носит название поздне-
солютрейской и мадленской эпох.
Наконец, третья, совпадающая с так называемым эпипалеолитом,
куда входят азильская и тарденуазская эпохи, является временем, когда
охотничье хозяйство верхнепалеолитического общества приходит в за-
метный упадок и на смену ему начинают выдвигаться иные источники
добывания средств к существованию, которые получают преимуществен-
ное значение в эпоху расцвета родового общества, или так называемого
неолита.
Такое деление отвечает истории первобытнокоммунистического обще-
ства на стадии высшей охоты в условиях Европы, отчасти, несомненно,
и северной Азии (Сибири). Имеет ли оно более общее значение, указывая
на закономерные этапы
этого развития на всех
Материках, в различных
условиях природной
среды? Ответ на этот
вопрос может быть дан
лишь при учете тон
своеобразной картины,
которую представляет
территория Евразии, ее
более северные широты,
в позднеледниковое, так
называемое вюрмское
время. В это позднее
время плейстоцена на
приледниковых прост-
Рис. 122. Способ употребления метательной дощечки
у эскимосов.
filo Отису Масону)
ранствах северного по-
лушария создавалась для жизни человеческого общества обстановка,
совершенно отличная от того, что мы знаем на юге, даже в ближайших
областях, вокруг Средиземного моря, где влияние ледниковой эпохи на
климат, а также животный и растительный мир никогда не было осо-
бенно заметным. К этому нам придется еще вернуться в дальнейшем.
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
КРОМАНЬОНЦЕВ
Стоянки верхнего палеолита сохраняют те же черты поселений охотни-
ков на мамонта, сибирского носорога, дикую лошадь, северного оленя,
быка, которые мы видим в предшествующее, время, в эпоху мустье.
Но переход к верхнему палеолиту отмечен и рядом новых явлений. То, что
отличает уровень развития общества на этой стадии, — обработка кости и
рога, появление неизвестных раньше видов орудий, оружия, утвари,
зарождение искусства и пр., указывающие на значительное расширение
в условиях позднего палеолита материальных потребностей человека и
средств их удовлетворения,—не может быть понятно, если мы не представим
себе, что этот этап был связан с значительным ростом производительных
сил первобытного общества, в котором главную, определяющую роль
играла охота.
Чем мог быть обусловлен этот переход к новым формам материальной
культуры, который можно наблюдать во многих палеолитических место-
330
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
нахождениях западной Европы, об этом нам придется говорить
особо.
Здесь большую роль, очевидно, должно было сыграть улучшение приемов
охоты, большая ее продуктивность, явившаяся результатом не только
известного прогресса в охотничьем вооружении, как это изображает,
например, Клаач.1 Новые хозяйственные формы, которые мы считаем
возможным отождествлять с временем позднего палеолита, не могут быть
поняты,
если
Яуклеуе
Новые
приемы
«сработки
кремня
Ц’пс. 123. Со-
временный ко-
стяной гарпун из
Аляски.
(по .lapi > и кристи)
их не связывать с изменением характера самого произ-
водственного коллектива — первобытной орды.
Во всяком случае рост материального производства
становится возможным в значительной степени благодаря
прогрессу техники, в котором первое место занимают
кремневые орудия, поскольку они продолжают оста-
ваться теми орудиями труда, которые человек позднего
палеолита должен был применять для обработки разно-
образных иных материалов.
В верхнем палеолите производство кремневых орудий
делает значительный шаг вперед. Большее разнообразие
видов и форм орудий в эту эпоху связывается с тем.
что здесь человек, так сказать, преодолевает первичный
материал кремневой техники —• пластинку пли отщеп.
Из них он приготовляет различные орудия с гораздо бо-
лее сложными функциями, чем те простейшие виды
труда, которые можно было выполнить с помощью обык-
новенного скола.
В основе верхнепалеолитической обработки кремня
лежит прием, который широко практиковался человеком,
начиная с древнейшей поры, —• раскалывание валуна по-
средством сильного удара отбойником, в результате чего
отделялся отщеп с острыми, режущими краями.
В верхнепалеолитическое время этой операции всегда
предшествовала предварительная довольно тщательная
подготовка материала. Куску породы снятием коры и
удалением лишних частей, неровностей, наростов при-
дается вид заготовки, так называемого нуклеуса. Ну-
клеусы верхнепалеолитическпх стоянок, однако, совер-
шенно отличаются от плоских дисковидных нуклеусов
мустьерского времени. Они всегда имеют более или ме-
нее правильную призматическую форму, что соответ-
ствует форме отделявшихся от них пластинок, которые в
эту эпоху приобретают характерные удлиненные пропорции. Таким обра-
зом, более сложная и более трудная техника скалывания правильных
«ножевидных» пластийок (lames) составляет существеннейшую особен-
ность новой стадии обработки камня.
Для того чтобы получить такие пластинки, необходимо было выбрать
кремневый желвак соответствующего размера и удлиненной формы и
затем подготовить площадку на верхнем конце нуклеуса, служившую для
нанесения удара. Чаще всего эта площадка получалась, видимо, простым
сбиванием одного из концов желвака. Хороший экземпляр такого еще
неиспользованного нуклеуса найден, например, в Гагарине (рис. 120).
1 Н. Klaalsch. Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur, Ber-
lin, 1920.
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
331
По мнению В. Л. Городцовл, дальнейшая процедура отделения пласти-
нок, первая серия которых должна была нести на своей поверхности корку
валуна, производилась путем отжимания. Это его стадия — «отжимной»
техники.
Однако обычно эти пластинки, по крайней мере до азильского времени,
имеют в общем настолько еще не стандартизированный
характер, неправильное огранение и варьирующие раз-
меры, что приходится скорее допустить при их изгото-
влении применение простого удара достаточно тяжелым
отбойником. Лишь начиная с конца мадленской эпохи и,
в особенности, в поселениях азильского и тарденуаз-
ского времени, и нуклеусы, и отделенные от них пла-
стинки получают значительно большую правильность
и более или менее однообразные размеры. Тогда впер-
вые появляются и каменные отжимники с характерными
следами работы.
Что расщепление кремня для получения пластинок в
верхнепалеолитическое время вполне могло произво-
диться и, очевидно, производилось действительно с по-
мощью скалывания ударом — показывают, например, на-
блюдения над современной обработкой кремня для раз-
личных целей (в частности для кремневых ружей), где
применяется обычный способ раскалывания посредством
сильного, определенным образом направленного удара.
Размеры пластинок в стоянках верхнего палеолита
обычно бывают не велики, сантиметров 5 —10 в длину
при ширине в 1—3 сантиметра, хотя они довольно сильно
варьируют в разные эпохи позднепалеолитического вре-
мени, отчасти также в зависимости от материала, кото-
рый был в распоряжении первобытного мастера. Лучшим
качеством и значительной величиной обычно отличаются
характерные крупные пластинки в поселениях ориньяко-
солютрейского времени (в СССР — это стоянки Костенки I,
Гагарине, Бердыж).
Для изготовления того или иного желаемого ору-
дия кремневая пластинка обрабатывается вторичной под-
правкой на конце или по краю. Типичная контр-отжим-
ная ретушь мустьерских остроконечников и скребел в
верхнем палеолите сменяется тонкой ударной подправкой
рабочего края или конца орудия, которая, каки в поздне-
Рпс. 124. Костя-
ная копьеметал-
ка из мадлен-
Пластинка
Ретушь
ского слоя
Мас д’Азиль
(Франция).
Чз н. в.
(По Пьетту)
мустьерское время, наносилась со стороны спинки крем-
невой пластины, тогда как ее нижняя поверхность остается
гладкой.
Только в поселениях, принадлежащих ко времени так
называемой солютрейской эпохи, наряду с орудиями, из-
готовленными с помощью обычных приемов, встречаются настоящие пред-
вестники прекрасной техники позднего каменного века. Это главным
образом наконечники копий и метательных дротиков, чрезвычайно тонко
отделанные с помощью плоской отжимной ретуши иногда, как на сходных
неолитических изделиях, сплошь как бы выстругивающей обе поверх-
ности кремневой пластины. Эта высокая техника обработки кремня по-
является в верхнем палеолите сравнительно на короткое время; затем она
быстро исчезает, вытесняемая, видимо, ростом использования кости.
332
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
Инвентарь
орудии из
камня
« Геометри-
supo ванные»
орудия
(слева)
Рис. 12а. Выпрямители — мадлевский
и современных полярных народностей (справа/.
В сущности говоря, главным образом потребностями этой новой тех-
ники обработки кости и рога, расцветающей особенно в мадленскую эпоху,
к концу палеолита, можно объяснить прогрессирующий рост в поселениях,
относящихся к более позднему времени верхнего палеолита, мелких крем-
невых инструментов, особенно всякого рода резцов и острий специальных
форм и назначений.
Таким образом, каменный инвентарь позднеледнпковой поры, если
мы возьмем его в целом и сопоставим с инвентарем мустьерского времени,
отличается несравненно большим богатством и разнообразием форм.
Здесь мы видим разные виды скребков, острия, иногда несколько напо-
минающие еще остроконечники мустье, но сделанные из правильных
удлиненных пластинок, проколки разных типов, затем особенным образом
приготовленные резцы с прочным режущим концом и т. п.
Одни из этих орудий про-
ходят через весь верхний па-
леолит, как, например, скребок
на конце удлиненной пластинки,
резец срединного или бокового
типа, пластинки с затупленной
спинкой и некоторые другие
виды инструментов. Другие
виды орудий появляются только
в определенные периоды и поз-
воляют, таким образом, подраз-
делить культурные отложения
верхнего палеолита на ряд по-
следовательных горизонтов, или
эпох.
Приходится думать, что
большая часть кремневых ору-
дий, как и орудия из рога и
кости, появляющиеся в позднем
палеолите, были снабжены ру-
коятками, а не применялись
просто от руки, как большинство мустьерских кремней. Это явствует из
сопоставления их с собраниями орудий австралийцев, эскимосов, северо-
американских индейцев и многих других охотничьих народностей нашего
времени, дающих представление о выделке, снаряжении и вероятном
употреблении утвари и орудий наших предков ледникового времени.
Интересно, что человек этой эпохи не одинаково разрешает задачу
использования кремневой пластинки в качестве орудия труда. Она может
в целом виде итти на изготовление орудия того или иного назначения —
скребка, резца, острия, проколки и т. д. Подобный прием лежал в осно-
вании развития кремневого инвентаря в более северных областях Европы
и Азии, населенных первобытными общинами, живущими охотой на ма-
монта и северного оленя. Но кремневая пластинка может дробиться на
отдельные мелкие части, правильные сечения или фрагменты пластинки,
которые могут быть в таком виде, часто лишь с небольшой подправкой или
вовсе без подправки, использованы как орудия различных назначений.
При этом способе изготовления они приобретают, помимо очень неболь-
ших размеров, также особенную правильность, «геометричность» очер-
таний, в зависимости от треугольной, ромбической, трапециевидной и
тому подобных форм сечения пластинки.
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
888
Кремневые изделия этого типа получили название микролитических,
или геометризированных, орудий. Последний прием в западноевропей-
ском палеолите и на востоке Европы, в пределах СССР, впервые наро-
ждается в конце мадленской эпохи п получает дальнейшее развитие в
азиле, чтобы в последующее время эпипалеолита стать основным способом
изготовления орудий из кремня. Но в среде южных охотников и собира-
телей он пользовался чрезвычайно широким распространением в течение
почти всего верхнего палеолита. Мы его находим в так называемых кап-
сийских памятниках Испании, Италии, на всем пространстве северной
Африки, у нас в Крыму и в Закавказье. Однако он известен в эту эпоху
и вяе пределов Средиземья, с одной стороны, до Индии, с другой — вплоть
до южных окраин африканского материка.
Правильные сечения кремневых пластинок и приготовленные из таких
сечений орудьица, отличающиеся обычно чрезвычайно малыми размерами,
для своего использования должны были закрепляться в виде ряда вставок
в оправу из кости и дерева. Этот своеобразный прием изготовления ножей,
наконечников стрел и копий и иного оружия и орудий из мелких вставок
кремня или заменяющего его матери-
ала известен, в виде переживаний, до не-
давнего времени во всей южной области
земного шара у народностей, стоящих
на разных этапах развития.
Во всей северной полосе Евразии
человек позднепалеолитической эпохи
в своем обиходе, как и современный
обитатель полярного севера, широко
Рис. 126. Подвески из просверленных
зубов животных — резец лошади, клык
хищника, клык оленя.
7з п. в.
(По Лартэ и Кристи)
Использова-
ние кости
использует кости животных для при-
готовления предметов вооружения, раз-
нообразных орудий и иных изделий.
Они принадлежат к числу простых
инструментов, приспособлений и укра-
шений, соответствующих первобытным
потребностям и вкусу палеолитического человека. Однако совершен-
ство работы этих вещей, нередко сделанных из очень твердого материала
с помощью достаточно несложного набора кремневых орудий, говорит
о большой технической изощренности, приобретенной первобытными охот-
никами верхнего палеолита в суровых условиях приледниковой полосы
Евровы и северной Азии.
Лучшим и наиболее обычным материалом для подобных изделий, по
крайней мере в более раннюю пору верхнего палеолита, являлась слоно-
вая кость, то есть бивни мамонта, которые обладают большой плотностью
и твердостью в сочетании с значительной упругостью. Эти качества сло-
новой кости были очень рано оценены человеком. В верхнепалеолитиче-
ских стоянках, относящихся к ориньякскому и солютрейскому времени,
часто встречаются куски мамонтовых бивней, которые в процессе обра-
ботки сначала оконтуривались посредством кремневого резца приблизи-
тельно по размерам будущего изделия, затем отрезывались или обламы-
вались, стачивались на шлифовальном камне и таким образом получали
вид законченного предмета.
Другой материал, который также имеет широкое применение в охот-
ничьих становищах верхнего палеолита, представляют рога северного
оленя, обладающие качествами, близкими к слоновой кости, то есть доста-
точной твердостью и эластичностью. Поэтому, особенно ближе к концу
334, ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЕ Я РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
Виды издс-
аз кости
Рис. 127. Кре-
мневое ост-
рие для про-
сверливания
ушек у ко-
стяных игл.
(Увеличено)
но Лартэ п
Кристи)
палеолита, в мадленское время, когда охота на северного оленя получает
большое значение в жи-яи человека, рога этого животного широко утили-
зируются для всевозможных изделий. Наоборот, рог благородного оленя,
более пористый внутри и менее поэтому пригодный для выделки наконечни-
ков копий и тому подобных более крупных изделий, начинает привлекать
внимание человека как поделочный материал только в послеледниковое
время, по мере исчезновения северного оленя.
Судя по ряду наблюдений в отношении обработки кости у некоторых
современных народностей, главным образом обитателей полярного севера,
рог северного оленя и мамонтовый бивень должны были перед своей обра-
боткой смачиваться и распариваться на костре. В результате распарива-
ния кость и рог приобретают (на известное время) значительную мягкость и
большую податливость при обработке, что не влияет на качество—твердость,
эластичность — материала, подвергшегося действию огня.
Обычная кость меньше шла в употребление, так как она
не отличается достаточной прочностью и более ломка. Но,
например, заостренные обломки тонких трубчатых костей,
подточенные на конце и превращенные в острие или шило,
постоянно использовались человеком, начиная с самой
ранней поры верхнего палеолита.
Чаще всего в поселениях верхнепалеолитического вре-
мени среди изделий из рога и кости встречаются всякого
рода острия — наконечники метательного оружия, затем,
кинжалы, шилья, проколки, иглы и т. п. Очевидно, ника-
кой другой материал, доступный человеку, в эту эпоху не
был пригоден для подобных поделок в такой степени, как
кость. Затем уже с древнейшей поры верхнего палеолита
попадаются плоские, округлые на конце «лощила», чаще
всего приготовлявшиеся из ребер животных, которые слу-
жили для сдирания шкуры с убитого зверя, для снимания
коры с деревьев и вообще имели значение повседневно не-
обходимого инструмента, почему вместе с шильями и иглами
были весьма распространены в обиходе позднепалеолитиче-
ского человека. Некоторые наблюдения, сделанные нами от-
носительно условий находок подобных предметов в жилище
рйннесолютрейского времени к Костенках 1 (и сравнительный этнографи-
ческий материал) позволяют думать, что подобные орудия с концом, сточен-
ным в виде лопатки, могли употребляться для вынимания мозга из труб-
чатых костей животных; ими, вероятно, вообще пользовались в про-
цессе еды.
Слоновая кость и рог северного оленя являлись особенно ценным мате-
риалом для выделки различного охотничьего оружия, в особенности же
наконечников копий и дротиков. В этом своем назначении они только
в среднюю пору верхнего палеолита вытесняются кремнем, из которого
в позднеориньякское и особенно солютрейское время изготовлялись пре-
красные кремневые наконечники посредством особой, весьма тонкой дву-
сторонней отжимной ретуши. В позднем солютре п мадлене кость снова
приобретает исключительно большое значение в приготовлении орудий
охоты.
Гарпуны Наряду с наконечниками копий, которые должны были прочно закре-
пляться на древке с помощью обмотки, в мадленскую эпоху, то есть в поз-
днейшую пору ледникового времени, в широкое употребление входят так
называемые гарпуны. Обычный мадленский гарпун имеет вид округлого*
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
стержня, заостренного на конце, из кости или чаще из рога северного
оленя, с одним или двумя рядами боковых зазубрин (рис. 121). Основание
гарпуна имеет утолщение и сделано таким образом, чтобы он мог довольно
легко выскакивать из гнезда древка. Кроме того он соединялся с древком
более пли менее длинным ремнем или волосяным шнуром (рис. 123).
Еще Мортилье совершенно правильно отметил, что в мадленскую эпоху
гарпуны служили не только для добывания рыбы, так как рыба играет
в это время еще относительно скромную роль в хозяйственной деятель-
ности человека. Их главным назначением скорее была охота за зверем и,
вероятно, прежде всего за тем же северным оленем.
Человек в эту эпоху, по крайней мере в северной области Евразии, еще
не знал употребления лука, хотя он становится известен в более южных
областях, у капсийских охотничьих орд, где очень рано появляются
Рис. 128. Каменная плитка .тля шлифования
костяных игл.
(По Лартэ и Крпсти)
мелкие кремневые наконечники,
которые приходится рассматри-
вать как наконечники стрел. До
настоящего времени некоторые
изолированно живущие народно-
сти, как эскимосы, австралийцы
и некоторые туземные племена
Южной Америки, удержали более
древнее приспособление в виде
палки или дощечки с крючком на
конце (вомера австралийцев), в
который при метании упирается
нижний конец древка, в резуль-
тате чего значительно увеличи-
вается дальность полета стрелы
или копья. Метательные дощечки
современных народностей дела-
ются из дерева. Такими же они
были, конечно, и в мадленскую
эпоху. По счастливой случайно-
сти в некоторых стоянках южной
Франции, например Брюникель,
Гурдан, Дожери Басс, сохрани-
лось несколько метательных палочек, сделанных из рога северного оленя,
которые, может быть, служили чем-нибудь вроде особого парадного во-
оружения или были связаны с магическими обрядами, — во всяком
случае они бывают разукрашены главным образом изображениями
животных (рис. 124).
В стоянках, относящихся к пцзднепалеолитическому времени, довольно
часто встречается один вид предметов, сделанных обычно из рога север-
ного оленя, назначение которых вызывает серьезные разногласия среди
ученых. По большей части они представляют вид короткой палки или
жезла. В более утолщенной части рога, там, где отходили боковые его
отростки, чаще всего на нижнем конце, бывает просверлено круглое от-
верстие, иногда же ряд подобных отверстий. Обычно такие предметы на-
зывают «начальническими жезлами» (рис. 125).
Эти вещи получили свое название от Эдуарда Лартэ, который считал
их знаком достоинства начальников первобытных племен, так как они
бывают богато изукрашены различными изображениями. Название, дан-
ное Лартэ, сохранилось в научном обиходе, хотя толкование его не поль-
Копье-
металкл
Выпрями-
тели
О Й Р
Рис. 129. Иглы
из кости мадлен-
ской эпохи и
кремневая пла-
стинка для отта-
чивания их.
(По ПФейФФврц
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
зуется теперь признанием, как не разделяется и мнение С. Рейнакл, пред-
ложившего рассматривать их как охотничьи трофеи. Совершенно фанта-
стическим является объяснение Шётензака, который видел в этих жезлах
застежки, своего рода фибулы палеолита.
Нельзя не считать также мало обоснованным взгляд па них как на маги-
ческие трещетки, вроде вращательных дощечек австралийцев, издающих
свистящие звуки, которыми сопровождаются у австралийцев и у многих
других народностей различные тотемические празднества и церемонии.
Наиболее правдоподобным представляется объяснение, поддерживае-
мое в особенности американскими исследователями, которые считают
«начальнические жезлы» предметами определенного тех-
нического назначения. Весьма близкие к ним орудия и
сейчас пользуются широким распространением среди мно-
гих полярных народностей на севере Сибири и Америки,
в частности, например, у эскимосов, у которых они часто
бывают разукрашены резьбой и скульптурными изобра-
жениями. Подобные инструменты служат в качестве так
называемых выпрямителей для выправления древка стре-
лы или копья. У других народностей, как, например, у
современных остяков, ими пользуются для разминания
ремней, которые играют громадную роль в быту поляр-
ных народностей. Нужно заметить, что в недавнее время
в мадленской стоянке Ла Рош во Франции была найдена
настоящая вращательная дощечка, имеющая вид оваль-
ной пластинки с небольшим отверстием у верхнего края
для привязывания па шнурок. 1
«Начальнические жезлы» из более ранних стоянок верх-
него палеолита бывают сделаны проще и лишены украше-
ний. Хороший образчик такого орудия, вырезанного из
рога северного оленя, был открыт автором настоящей
книги в стоянке Костенки I, относящейся к раннесолют-
рейскому времени. Сходный по назначению инструмент,
но из бивня мамонта, в виде массивного стержня с утол-
щением па конце, снабженным круглым отверстием, про-
исходит из Мезинской стоянки (рис. 202). Известны они
в палеолитических местонахождениях Сибири (на Афон-
товой горе под Красноярском,— рис. 281). В более позднее
время, в мадленскую пору, в находках, относящихся
к западной Европе, они приобретают вид, свойственный
большинству изделий из кости в эту эпоху, то есть
бывают украшены различными изображениями, среди
которых главное мес^р занимают изображения животных.
От позднепалеолитического времени до нас дошло довольно много дру-
гих изделий из кости и рога, которые могут быть объяснены из потребно-
стей охотничьего хозяйства и имеют аналогии преимущественно в кругу
северных, приполярных народностей. В местонахождениях Европы они
имеют все же более случайный характер, поскольку в эту эпоху только
складываются первые черты того материального строя жизни, который
переживает в быту современных охотников за северным оленем, мускус-
ным овцебыком, морским зверем на далеких окраинах материков север-
ного полушария.
1 Д’ Anthropologist), Л? 1—2, 1930, стр. 24.
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
337
Гораздо более обычную принадлежность поселений верхнего палеолита Украшение?
представляют всякого рода украшения и амулеты в виде простых про-
сверленных для подвешивания клыков и резцов лошади, северного оленя,
медведя, песца и других животных (рис. 126), раковин современных и иско-
паемых видов, иногда рыбьих позвонков или старательно приготовленных
из слоновой кости и рога таких же амулетов, украшений
пли принадлежностей одежды.
Нам придется встретиться с ними при описании неко-
торых местонахождений этого времени.
Свою добычу люди позднего палеолита старались исполь-
зовать возможно полнее для самых различных целей, как
это делает и современный полярный охотник. Они утилизи-
ровали не только кость в качестве материала для изделий
илп в виде запаса топлива.
Возрастающая потребность в меховой одежде для защиты
от суровости климата должна была побуждать их к изго-
товлению более сложной и более целесообразной одежды,
чем та, которой мог пользоваться мустьерец. Если уже в
мустьерское время обработка шкур животных, как мы го-
ворили, была, видимо, преимущественно делом женщин,—
изготовление меховой одежды из шкуры северного оленя и
пушных зверей, таких, как песец, лисица, россомаха, на кото-
рых человек специально охотился для этой цели, становится
в верхнем палеолите уже целиком обязанностью женщины.
Мех раскраивался с помощью специальных кремневых
орудий и сшивался посредством нитей из сухожилий и ко-
стяных игл (рис. 129), которые появляются уже вориньяке.
Оип имеют обычный вид иголки, часто очень тонкой и пре-
красно отполированной, с ушком, снабженным отверстием.
При шитье мех, очевидно, предварительно прокалывался
крепким острием из кости или кремня. В некоторых стоян-
ках, папример в пещере Кесслерлох в северной Швейцарии
(кантон Шаффгаузен), было найдено большое количество
заготовок и законченных костяных игл, изготовлявшихся
здесь из расколотых трубчатых костей зайца или из верх-
него слоя оленьего рога.
Массовая выделка игл в некоторых мадленских стоян-
ках западной Европы может указывать на места производ-
ства этих изделий, которые благодаря своей хрупкости легко
ломались и поэтому требовали изготовления в большом ко-
личестве.
В изготовлении игл мадленцы достигают очень большого
совершенства. По находкам в пещерных стоянках можно вос-
становить полную картину этого мастерства. Сначала выреза-
лась костяная палочка, которая затем стачивалась на особой
кремневой пластинке с полулунными зазубринами. Такие
кремневые пластинки (lames denticulees) очень обычны в стоян-
ках конца верхнего палеолита (рис. 129). В окончательном виде костяная
игла отшлифовывалась на оселке, которым чаще всего служила плитка ка-
кого-нибудь сланца (рис. 128). Ушки просверливались при помощи особых
кремневых проколок с чрезвычайно тонким и острым жальцем (рис. 127).
В Мезине во время раскопок 1909 г. нами была найдена костяная игла
размером в обыкновенную стальную швейную иголку небольшого номера.
22 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
Их изгото-
влений
Рис. 130.Кин-
жал из ро-
га северного
оленя из Ло-
жери Басс
(Франция).
Уменьшено.
(По Ларта
Кристи,
Иыюлъзона-
ние шкур
животных
SJW ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
С помощью тонких игл мадленские женщины нашивали на одежду про-
сверленные раковины, маленькие кружки из перламутра, вроде тех,
которые были найдены в Боршевской I стоянке, также растительные
зерна, перья, полоски меха различной окраски и т. п.
В качестве ниток они должны были пользоваться расщепленными и
особенным образом приготовленными сухожилиями северного оленя, явля-
ющимися наиболее обычным материалом для изготовления ниток у со-
временных полярных народностей. Еще первые исследователи пещер
Франции Эд. Лартэ и Кристи указали на то, что действительно на костях
этого животного часто имеются характерные нарезы как раз в месте
прикрепления сухожилий.
Лоецияа Жесткие швы меховой одежды выглаживались, как это и сейчас прак-
тикуется у жителей арктики, лощилами из ребер животных, которые
имеют сточенные, округлые, лопатковидные концы. Отделанные ребра
животных служили, вероятно, также для выбивания снега из меховой
одежды, чтобы их предохранить от сырости и порчи.
Шкуры животных, очищенные от шерсти и со-
ответствующим образом выделанные, являлись не
менее важным материалом в хозяйственном оби-
ходе. Ими пользовались в виде покрытия легких
шалашей, чумов. Из них изготовляли ремни, не-
обходимые для устройства охотничьих ловушек,
для привязывания гарпунов, может быть для про-
стейших саней, на которых доставлялась добыча
из охотничьих экспедиций. Они, вероятно, при-
менялись также и для изготовления всякого
рода вместилищ, служивших для переноски и
хранения воды и различных припасов, так как
посуда из глины появляется в гораздо более
позднее время — у оседлых обществ рыболовов и
земледельцев неолитической эпохи. Ее в палеоли-
тическое время должна была заменять посуда из
кожи, дерева, а также всякого рода плетенки из
гибких ветвей, коры, луба и т. п.
Что люди верхнего палеолита действительно пользовались кожаной
посудой в виде соответственно выделанного и сшитого меха небольшого
животного — показывают интересные находки костяных втулок, которые
иногда склонны были рассматривать как «пробки для затыкания ран», но
в которых можно видеть, вместе с Пьеттом, Шётензаком и Пейрони, 1
остроумное приспособление для запирания кожаного вместилища — бур-
дюка (рис. 131). Их кольцевая нарезка была необходима для того, чтобы
можно было достаточно плотно завязать шейку последнего. Подобные
предметы были найдены в ряде стоянок, относящихся к позднему ориньяку
(Рок де-Комб-Капелль, Брассемпуи, Фурно-дю-Дьябль и др.). Пьетт
правильно замечает по поводу все же относительной редкости этого рода
вещей, что обычно они должны были делаться из дерева, и дошедшие до
нас экземпляры являются случайно изготовленными из кости и рога оленя.
Костный мозг,' добывавшийся из трубчатых костей животных, являлся
не только лакомством, но и важным техническим средством. Им должны
были натирать и пропитывать шкуры животных для придания им мяг-
кости и предохранения от сырости. С костным мозгом растирали и мине-
Рис. 131. Костяная проб-
ка от бурдюка.
(По Пейрони).
1 «Archives de ГInstitut de paleontologie humaine», mem. 10, 1932, рис. 12, стр. 19.
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ральные краски, главным образом красную и желтую охру, куски которых
постоянно встречаются в стоянках верхнего палеолита, затем уголь и
мел или каолин. Эти красящие вещества употреблялись для раскрашива-
ния тела и окраски оружия и утвари. В одной из французских пещер
(грот де Коттэ) найден был флакон, сделанный из берцовой кости север-
ного оленя, сохранивший внутри порошок красной охры.
Во второй Боршевской палеолитической стоянке при наших раскоп-
ках в 1923 г. в одном из скоплений отбросов верхнего культурного слоя
была найдена красивая раковинка, одна из створок морского моллюска,
наполненная яркокрасной железистой краской, которая была предва-
рительно растерта и с чем-то смешана. Комки красной и желтой краски
переполняли культурный слой этой стоянки. Ту же картину дают другие
исследованные нами палеолитические стоянки в окрестностях Костенок
и Боршева, где всюду попадалась красная охра то в виде комьев или обто-
ченных, или обскобленных кусков, то в порошкообразном состоянии. Ею
были окрашены места наиболее обильных находок, то есть те части куль-
турного слоя, которые находились вблизи от очагов.
Краска, в особенности красная, играла, судя по частоте ее находок
в поэднепалеолитических стоянках Европы и Сибири, очень большую
роль в эстетике и религиозных представлениях этого времени. То же
значение она сохраняет в быту многих современных наиболее первобыт-
ных народностей, которые, как австралийцы, не только пользуются ею
для татуировки тела во время тотемических обрядов, но и окрашивают
этой краской свое оружие и предметы обихода. Погребения верхнепалео-
литического времени часто бывают посыпаны красной краской. Ею нано-
сились изображения животных на стенах пещер, ею также окрашива-
лись такого рода предметы, которые несомненно имели ближайшее отно-
шение к культу, например чуринги, встречающиеся в стоянках
мадленской и азильской эпох.
По поводу находки в пещере Ла Рош резной пластины из кости, за-
крашенной красной охрой и затем покрытой выгравированными изобра-
жениями, Пейрони указывает на обычай, существовавший в палеолите,
закрашивать кровью или красной краской изображения животных, перед
которыми должны были совершаться обряды тотемического культа.
Можно подходить с разных точек зрения к тем фактам, которые пред-
ставляет так называемое искусство позднего палеолита. В нем естественно
видеть не только выражение эстетического вкуса и художественной ода-
ренности первобытного человека, но весьма сложный комплекс явлений,
отвечающих кругу идей, которыми питалось мировоззрение охотничьих
орд этого времени. Однако нельзя не подчеркнуть тесную связь между
художественным воплощением этих идей и возможностями, откры-
ваемыми для них растущей и усложняющейся техникой верхнего па-
леолита. Овладевая постепенно' обработкой иных, чем кремень, более
мягких и пластичных материалов, таких, как кость и мягкий камень, че-
ловек нашел в этой области применение своей художественной потреб-
ности, развивавшейся вместе с уменьем претворять подобный материал
в желаемую форму.
Вместе с тем нельзя не заметить известной связи в художественном
украшении многих изделий, бывших в употреблении у охотника верхнего
палеолита, с практическими задачами, разрешаемыми формой самого
предмета, на который наносились те или иные изображения. Таких при-
меров можно было бы указать достаточно много, хотя они относятся по
большей части к изделиям более поздней поры, к мадленской эпохе, когда
*
389
Краска
Высокое
маетеретво
резьбы по
кости
340
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
человек научился свободнее владеть таким материалом, как кость. Ру-
коятки длинных кинжаловидных острий, происходящих из стоянок мад-
ленской эпохи, часто представляют скульптурную фигуру животного,
например северного оленя на всем бегу, с поджатыми передними ногами
и запрокинутой головой (пещера Ложери Басс — рис. 130) или мамонта,
увязшего или попавшего в ловушку, со сближенными ногами и поднятым
хоботом (пещера Брюникель). В этой позе очень удачно комбинируется
правдивость изображения с практической целесообразностью — формой
рукояти, приспособленной для удобного помещения в руке.
Скульптурные украшения метательных палочек, воспроизводящие,
например, фигуры лошади или горного козла en face, помимо своего
внутреннего смысла, являются чрезвычайно удачным решением практи-
ческой задачи в отношении конструктивного приспособления художе-
ственно задуманного образа к назначению предмета (рис. 124). Если обра-
титься к так называемым «жезлам начальников», часто богато разукрашен-
ным целыми композициями из фигур животных (рис. 125, слева), то вряд ли
эта резьба не служила в значительной степени также и для практической
надобности — для того, чтобы при работе инструмент хорошо держался и
не скользил в руке. Мы знаем, что на не-
Рис. 132. Светильник мадленского вре-
мени, нз красного песчаника.
(Пещера Ла Мут)
Разделение
труда
которых жезлах иногда они заменяются
рядами насечек. То же нужно сказать о
нарезках на рукоятях орудий из кости,
рассматривавшихся раньше как счетные
знаки или охотничьи меты.
Несомненно, что за этими изобра-
жениями стоит миропонимание перво-
бытного человека, для которого нет
грани между живым и неодушевленным,
реальным и изображаемым. На этом
миропонимании основаны колдовство,
первобытная магия, охотничьи заговоры и амулеты. Вполне вероятно,
что тем же стремлением обеспечить себя от случайностей охоты посред-
ством магических действий перед изображениями животных можно
объяснить происхождение подобных изображений на оружии и предметах
охотничьего обихода мадленцев.
С другой стороны, художественные изделия, которые поражают нас
в собраниях подобных вещей, происходящих из пещерных местонахожде-
ний Франции эпохи мадлена, свидетельствуют о высоком чисто техни-
ческом мастерстве людей, их оставивших. Они отображают такой уклад
первобытного общества, где разделение труда, специализация некоторых
членов орды на определенных видах производственной деятельности,
имеющей более сложный^ характер и требующей длительной выучки и
известной преемственности, находится уже вне сомнения.
Правда, на этой ступени развития первобытнокоммунистического
общества роль индивидуального труда не могла быть значительной уже
по условиям невысокой производительности охотничьего хозяйства, тре-
бовавшего участия в нем всего производственного коллектива, всех чле-
нов орды. Такой вывод может быть сделан в отношении основной массы
изделий верхнего палеолита, орудий из кремня и кости, которые всегда очень
однообразны и просты. Можно думать, что их изготовление, не требовавшее
особенно сложных приемов, было делом всех членов охотничьей группы.
Очевидно, то же приходится предполагать и в отношении обработки дру-
гих материалов, например приготовления оружий и орудий из дерева ит. п.
НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОМ КУЛЬТУРЫ ЗЦ
Рнс. 133. Ступка мадленской эпохи,вырезан-
ная из камня.
(По Лартэ и Кристи)
Однако общее усложнение технических навыков, проявляющееся в за-
рождении уже с начала верхнего палеолита определенных, постоянно по-
вторяющихся видов изделий из камня и кости, связанных с определенными
производственными функциями, свидетельствует все же в пользу того,
что процесс внутригруппового разделения труда здесь получает дальней-
шее развитие по сравнению с мустьерской эпохой. В основном он, очевидно,
был обусловлен дальнейшим разграничением двух главных хозяйственных
функций: во-первых, охоты с ее усложняющимся промысловым, то есть
специализированным характером (последняя, естественно, становится глав-
ным образом делом опытных, обученных охотников), во-вторых, разнооб-
разных работ по обслуживанию лагеря, связанных с постройкой жилища,
заготовкой топлива и хозяйственных запасов на зимнее время, пригото-
влением пищи, одежды и многого
другого.
Это разделение функций, ко-
торое в известной мере намечается
уже в позднемустьерское время,
идет, несомненно, по линии разде-
ления мужского и женского труда.
Мы увидим, что известные кате-
гории орудий из камня и кости,
особенно те из них, которые по-
стоянно встречаются в поселениях
позднепалеолитической эпохи на
всем ее протяжении, становятся
понятными, если рассматривать
их под этим углом зрения. Среди
них нетрудно различить две группы
предметов: одни, имеющие прямое
отношение к потребностям охоты,
являлись, очевидно, средствами
производства преимущественно
мужской части орды, тогда как
другие, разнообразные мелкие
кремневые инструменты, как
скребки, ножички, проколки и
т. п. и многие изделия из кости — иглы, острия, лощила, предназна-
ченные для домашних хозяйственных работ, должны были составлять
принадлежность женской ее части.
Некоторые факты требуют учета и другого момента, который позволяет,
видимо, глубже подойти к пониманию общественно-хозяйственных усло-
вий этого времени и, во всяком случае, ставит перед нами ряд достаточно
важных вопросов. Это та сторона жизни первобытных охотничьих орд,
которая находит отображение в их изобразительном творчестве.
Как ни трудно отдать достаточно ясный отчет в том, что представляет Магический
собой искусство позднего палеолита, при том поверхностном знании пер-
вобытного мировоззрения, которым располагает наука в отношении
большинства современных отсталых племен, все же можно утверждать,
что это искусство в действительности должно было выполнять весьма
серьезные общественные функции. Зная, какую роль играет изображение
в глазах первобытного человека, мы в праве видеть в скальных рисунках
и художественно выполненных образах животных и людей, сохранив-
шихся среди других остатков во многих становищах верхнего палеолита,
342 ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
вещественные документы, говорящие об особом строе первобытного ми-
ропонимания. Его можно назвать магическим, поскольку для перво-
бытной мысли на этой ступени изображение животного или человека
представляется равнозначным с реальным существом, может иметь те же
качества живого существа и обладание копией означает в известной мере
обладание и подлинником.
За этими изображениями, как за изображением кенгуру в обряде
интихиумы или чурингами австралийцев, должен был стоять сложный,
разработанный ритуал магического действия, направленный на то, что
составляло основу благополучия первобытной коммуны,— на охоту и имев-
ший целью обеспечить ее удачу. Магическое действие, как это ни ка-
жется странным с нашей современной точки зрения, являлось для человека
в эту эпоху непременной частью его производственной деятельности, не
менее важной по своим результатам, чем сама охота. При этого рода оценке
художественных произведений, оставленных позднепалеолитическим вре-
менем, которая, можно думать, является близкой к действительности,
мы имеем в палеолитических стоянках Европы некоторый материал,
позволяющий попытаться раскрыть такие моменты в истории верхнего
палеолита, к которым было бы трудно подойти другим путем.
Особенный интерес с этой точки зрения представляет вопрос, почему
в стоянках, относящихся к более ранней поре верхнего палеолита, в ори-
ньяко-овлютрейскую эпоху, мы встречаем на громадном пространстве се-
верной Евразии от Пиреней до Байкала один и тот же чрезвычайно вы-
разительный и своеобразно художественно оформившийся образ женщины?
Почему он исчезает в следующую, мадленскую, эпоху, когда на смену ему
появляются изображения иного характера, среди которых мы находим
странные фигуры полулюдей-полуживотных?
К этому вопросу нам еще предстоит вернуться при рассмотрении ма-
териальных остатков деятельности человека в раннюю, ориньяко-солю-
трейскую, и более позднюю, мадленскую, пору верхнего палеолита.
ВОПРОС О ВОЗНИКНОВЕНИИ РОДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Верхний Из предшествующего изложения некоторых фактов, относящихся
палеолит как к позднему палеолиту, мы могли уже получить известное представление
еторнчеекая og Этом времени как исторической ступени, составляющей значительный
1 шаг вперед в смысле культурного развития человечества по сравнению
с тем, что дает в этом смысле предшествующая эпоха — среднего палеолита.
В сущности говоря, мы в праве считать необычайно большими успехи,
достигнутые человеческим обществом на этом его историческом этапе.
Действительно, эти успехи проявляются решительно во всех областях.
Радикально изменяются и совершенствуются приемы обработки кремня,
в соответствии с чем в поселениях этого времени совершенно меняется и
характер каменного инвентаря. В качестве источника новых возможно-
стей для хозяйственно-бытового использования выступает такой ценный
материал, с чрезвычайно широкой областью применения, как рог, кость
и пр. В очень большой степени вообще усложняются и совершенствуются
средства труда, связанные и с добыванием средств существования и с до-
машним, бытовым обиходом.
Если до нас дошло сравнительно немногое из той бытовой обстановки,
в которой складывалось существование человеческого общества в эпоху
верхнего палеолита, и это немногое все же достаточно показательно для
уровня культурного развития кроманьонца. Мы увидим дальше, что это
ВОПРОС О ВОЗНИКНОВЕНИИ РОДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 843
уже"не были примитивные люди неандертальской эпохи, места обитания
которых представляют собой убогие стойбища небольших замкнутых
полубродячих коллективов охотников и собирателей.
В эпоху верхнего палеолита, уже в начальную пору этого времени
получают широкое распространение настоящие прочные, долговремен-
ного типа, относительно неплохо устроенные, большие жилые сооруже-
ния, остатки которых известны сейчас не только в ряде мест на материке
Европы, но и на территории северной Азии. В качестве примера можно
указать верхнепалеолитическое поселение в Мальте под Иркутском,
где, несмотря на огромное расстояние, отделяющее эту находку от памят-
ников верхнего палеолита, открытых на территории Европы, мы находим
ту же высокую технику обработки кости и камня, то же поразительное
по своей целостности и художественному реализму палеолитическое
Рис. 134. Гроты в окрестностях Лез-Эйзп.
искусство, которое
вообще может рас-
сматриваться как
одно из наиболее
ярких проявлений
высоких творческих
способностей перво-
бытного человека.
Глубокая истори-
ческая обусловлен-
ность перечисленных
явлений особенно
подчеркивается тем
обстоятельством, что
переход от одного
исторического со-
стояния к другому,
от среднего к верх-
нему палеолиту, свя-
занный повсюду с пе-
реходом от неандер-
тальского к современному типу человека, представляет собой факт, на-
блюдающийся повсеместно, на всех материках, где заступ исследователя
имел возможность обнаружить остатки, относящиеся к этому времени.
Все сказанное может быть понято только при условии, что переход Новые
от мустье к верхнему палеолиту должен был сопровождаться глубокими, формы общ<
столь же закономерными и не менее исторически обусловленными сдви- ственной
гами внутри самого человеческого общества, в организации этого общества. °Рганизайи
Что же происходит с первобытным обществом в эту переломную эпоху,
на рубеже двух археологических периодов?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, спросим себя, в каком напра-
влении могло совершаться развитие общественных форм в ранние перио-
ды, то есть на ступени среднего и верхнего палеолита, восстанавливаемых
нами на основании археологических источников? Какой факт этого по-
рядка мог иметь столь решающее общечеловеческое значение в промежуток
времени, разделяющий два указанных археологических периода?
Данный нами выше анализ фактического материала, связанного с бо-
лее ранними ступенями в развитии человеческого общества, показал
нам, что представляет собой первобытное общество в исторический период,
предшествующий верхнему палеолиту. Мы имели возможность, исходя
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
из известных нам фактов, установить, что человеческое общество в эпоху
мустье следует рассматривать как некоторое завершение чрезвычайно
долго длившегося процесса превращения первобытного человеческого
стада в общественные коллективы, построенные на основе кровнород-
ственной, эндогамной связи составляющих их членов.
У нас имеются все основания думать, что история верхнепалеолити-
ческого общества является не чем иным, как историей возникновения и
развития того, что следует за первобытной кровнородственной семьей, —
родового или родоплеменного общественного строя, характеризующегося
экзогамией и матриархальной организацией родовых групп.
Мы уже видели, что разработанная Энгельсом общая картина перво-
бытного общества на его ранних этапах вполне соответствует исторической
действительности, как она восстана-
вливается на основании археологиче-
ского материала.
Первый этап, который мы называем
первобытным стадом, без всякого со-
мнения, относится к низшей ступени
дикости. Эндогамная коммуна эпохи
мустье, а также время возникновения
и существования раннего матриархаль-
ного родового общества относятся к
средней ступени дикости. В свете со-
временных данных, добытых советской
археологией, можно поставить вопрос:
не следует ли считать, что уже верхний
палеолит в какой-то его части может
быть сопоставлен с высшей ступенью
дикости, так как ряд фактов, наблю-
дающихся в это время, соответствует
признакам, которыми Энгельс харак-
теризует высшую ^ступень дикости.
Так, Энгельс в качестве одного из очень
важных признаков высшей ступени ди-
кости указывает лук, который, как
известно, появляется в позднейшее па-
леолитическое время и уже довольно
.Рис. 135. Вход в пещеру Фоп-де-Гом.
где в 1901 г. открыты палеолитические
настенные изображения.
Групповой
брав
широкое распространение, судя по находкам наконечников стрел, получает
в азиле. С другой стороны, в более раннее время верхнего палеолита неко-
торой заменой лука могла являться копьеметалка. В дальнейшем мы смо-
жем убедиться в относительно высоком культурном уровне верхнепалео-
литического человечества, которое обладало уже достаточно совершенным
вооружением, и соответствующими иными средствами труда (о чем гово-
рит, например, появление в стоянках верхнего палеолита топоров,
изготовленных из кости или камня);'это население в условиях Европы
и северной Азии, как показывают ’’раскопки верхнепалеолитических
стойбищ, часто вело уже более или менее оседлый образ жизни и т. д.
Во всяком случае, для нас важно, что верхний палеолит несомненно
отвечает уже родовому обществу на его ранней, матриархальной ступени.
Весьма важным источником для суждения о ранних формах родовой
организации до сих пор остаются, естественно, наблюдения Моргана
в отношении систем родства у ряда народностей, не вышедших из стадии
родового строя. Этого рода факты, как известно, широко дополненные
ВОПРОС О ВОЗНИКНОВЕНИИ РОДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
345
и обработанные Энгельсом, делают очевидным, что парная семья, господ-
ствующая у современных народностей, сохранивших родовое устройство,
все же сама представляет определенный этап развития. За этим этапом
обнаруживаются черты иного, более примитивного состояния, вместе
-с, тем в большей мере отвечающего первобытной общности и целостности
рода.
Хорошо известная по данным этнографии форма парного брака —
в виде свободного, легко расторжимого союза мужчины и женщины —
должна была иметь за собой в более раннее время архаическую форму
семьи, характеризующуюся практикой группового брака.
Общеизвестно, что многочисленные следы семейно-брачных отношений,
построенных на этом принципе, уцелели по тем или иным причинам у не-
которых народностей до XIX века и были обнаружены частью в живом
еще быту в виде семьи пупалуа у полинезийцев и системы брачных клас-
сов у австралийцев,
частью в историче-
ских свидетельствах
и в системах родства
многих других народ-
ностей земного шара.
Однако все же
сам по себе этот
институт, как исто-
рически обусловлен-
ная ступень в разви-
тии семейно-брачных
отношений, уходит в
несравненно более
отдаленное прошлое.'
Как явление, общее
для всего человече-и5
ства, эту примитйв-(}‘
ную форму брака сле-
дует искать в ту
пещеру Фон-дс-Гом.
Рис. 136. Вход в
эпоху, когда эндогамная кровнородственная семья идет к отмиранию п
вытесняется сменяющими ее еще групповыми, но уже экзогамными брач-
ными союзами, в которых уже действует запрещение брака между се-
страми и братьями (в условном понимании этих определений родства,
даваемом групповым браком).
Другим в высокой степени характерным моментом па этом историче-
ском этапе является сложение того, что можно назвать материнской орга-
низацией, или матриархатом. «При всех формах групповой семьи, — пишет
Энгельс, — неизвестно, кто отец ребенка, но известно, кто его мать.
Если она и называет всех детей общей семьи своими и по отношению к
ним и’сет материнские обязанности, то она все же знает своих родных
детей среди остальных. Отсюда ясно, что раз существует групповой брак,
то происхождение может; быть установлено лишь с материнской сто-
роны, а потому признается только женская линия. Так действительно
бывает у всех диких народов и у всех народов, стоящих на низшей сту-
пени варварства...». 1
Маграаркат
Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 193/, стр. 54—35.
346
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
Это не значит, конечно, что матриархат в пору его возникновения
сводится только к счету родства. Чтобы понять это, нужно учесть обста-
новку, в которой возникает экзогамно-групповая брачная организация,
являющаяся, очевидно, с момента своего возникновения зачаточной
формой рода.
Вопрос о происхождении родовой организации первобытного общества,
как и вопрос о ранних этапах этого своеобразного строя, представляет
собой, несомненно, одну из интереснейших проблем истории человечества.
Представления Энгельса об общем направлении в изменении семейно-
общественных отношений первобытного человечества, формулированные
им в его «Происхождении семьи», являются до сих пор в сущности
единственными твердо установленными положениями, могущими служить
для реконструкции исторических ступеней первобытного общества от его
зарождения до эпохи расцвета матриархального рода.
Энгельс, располагавший огромным фактическим материалом для
более поздней истории родовой организации и блестяще проанализиро-
вавший ее в только что названном труде, имел в своем распоряжении
меньше данных для восстановления первоначальной истории рода. Однако
характеристика соответствующих периодов первобытной истории, которую
мы находим у Энгельса, дает нам ключ к пониманию археологических
фактов, накопленных наукой за последние четыре-пять десятков лет.
Взгляды Энгельса на возникновение родовой организации могут быть
сведены к следующим основным положениям.
1. Родовая организация первобытного общества возникает на опре-
деленном этапе развития этого общества. Ей предшествуют более прими-
тивные, менее развитые формы общественных отношений, относящиеся
к более древним историческим эпохам.
2. Родовая организация свойственна всем современным народностям,
находящимся на ступени дикости и начальной ступени цдрварства.
3. Ее возникновение относится еще к средней ступени дикости, ха-
рактеризующейся употреблением грубых каменных орудий раннего ка-
менного века (палеолитических).
4. Поскольку средняя ступень дикости, как ее определяют Энгельс
и Морган, представляет собой чрезвычайно длительный исторический пе-
риод (начинающийся еще с применения огня и некоторых других элемен-
тарных приобретений культуры), следует думать, что возникновение ро-
довой организации по мнению Энгельса относится к поздним этапам этой
ступени.
5. Отнесение Энгельсом некоторых современных народностей к средней
ступени дикости подтверждает такое понимание взглядов Энгельса.
6. Родовое общество, в его более развитом состоянии, характеризует
неолитический этап культуры (высшая ступень дикости и низшая ступень
варварства).
7. Первоначалиной формой рода является материнский род.
8. Материнский род, в линии развития семейных отношений, перво-
начально связан с коллективной формой брака — групповым браком.
Заметим еще, что Энгельс неоднократно подчеркивает диалектическую,
внутреннюю связанность развития материально-производственного и
общественного, то есть семейно-родового строя первобытного общества.
Приводя, например, слова Моргана: «...искусство в этом производстве
(производстве средств существования. — П. Е.) имеет решающее зна-
чение для степени человеческого превосходства и господства над при-
родой... Все великие эпохи человеческого прогресса более или менее
ВОПРОС О ВОЗНИКНОВЕНИИ РОДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
347
непосредственно совпадают с эпохами расширения источников существо-
вания», Энгельс добавляет, что «наряду с этим идет развитие семьи». 1
Рассматривая историю возникновения парной семьи, характерной
для описанной Морганом классической фазы развития материнского рода,
Энгельс указывает, что парная, или синдиасмическая семья, как заклю-
чительный этап истории семьи в условиях матриархальной организации,
возникает в среде уже ранее сложившейся на основах материнского права
первобытной коммуны. Причем она, будучи слишком слабой и слишком
неустойчивой для того, чтобы стать основой новых хозяйственных отно-
шений, «... отнюдь не упраздняет унаследованного от более раннего
периода коммунистического домашнего хозяйства».2 Это коммунистическое
домашнее хозяйство является материальной основой повсеместно распро-
страненного в первобытную эпоху господства женщин.
Только такой характер группового брака, при котором женщины
принадлежали одному роду и представляли собой ту часть первобыт-
ной коммуны, которая оста-
валась на месте, держа в
своих руках хозяйство рода,
а мужчины являлись при-
шельцами из иных родов,
только такой матриархаль-
ный порядок мог быть той
исходной формой, из ко-
торой развивается материн-
ский род более позднего
времени.
Для нашей цели важно
отметить, что те материаль-
Рис. 137. Лошадь степного типа. Изображение в
пещере Комбареллъ (Франция).
По Капитану и Брейлю!
Матриде-
кальиоогь
брачных
еонзов
ные условия, которые мы рас-
сматриваем как необходимую
предпосылку возникновения
родовой организации, в сущ-
ности уже начинают накапливаться к концу той исторической эпохи, кото-
рую мы называем условно средним палеолитом. Возникновение некоторой
оседлости, на почве большей продуктивности охотничьего промысла,
складывающееся и закрепляющееся разделение труда, возрастающее зна-
чение женской части орды, держащей в своих руках все более креп-
нущее хозяйство первобытного лагеря,—такие факты несомненно соз-
давали благоприятную почву для зарождения матриархально-экзогам-
ной организации на следующей исторической ступени — верхнего па-
леолита.
Конечно, мы не имеем никаких оснований для столь отдаленных эпох,
как время ашёля — мустье, говорить о роде; последний как тип обще-
ственной связи возникает в значительно более позднее время — в среде
современного человечества {Homo sapiens). Неандерталец—примитивная
форма человека, еще удерживающая многие черты животных предков, —
вряд ли может нами мыслиться с общественной организацией, основанной
на родовом устройстве. Это можно утверждать с тем большим основанием,
что характернейшей чертой неандертальской орды, как показывает це-
лый ряд фактов, является замкнутость в себе, отгороженность от других
1 Ф. Энгельс, ук. соч., стр. 29.
2 Там же, стр. 63.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. РАННЯЯ РОДОВАЯ КОММУНА КРОМАНЬОНЦЕВ
человеческих групп, что должно было способствовать господствующей:
на этой стадии практике эндогамного группового брака, пока лишь вы-
ключающей из круга брачных отношений следующие одно за другим
поколения кровных родственников.
Нам кажется очень вероятным соображение, что это ограничение
первоначально и очень долго касалось не всей группы родственников по
нисходящей линии в пределах эндогамной орды, а лишь поколений,
ведущих счет по материнской линии, тогда как родство по отцовской
линии не могло приниматься во внимание в виду полного отсутствия
представления о значении полового акта в рождении ребенка. Такие пред-
ставления, как мы знаем, отсутствуют даже у некоторых современных
отсталых народностей, например у австралийцев.
Таким образом, уже разделение первобытной мустьерской коммуны
на поколения по признаку происхождения от одной группы матерей должно
было очень усилить значение женщин — то есть той части орды, которая
воплощала в сознании мустьерцев действительную цельность группы,
связь составляющих ее поколений.
Весьма вероятно, что уже в эту эпоху эмблемой родственной группы
становится орган рождения. Очень возможно, прибавим, что он в эту
эпоху имел уже и свое графическое выражение. Естественно высказать
предположение, не стоят ли в связи с этим представлением те круглые
«чашечковидные» углубления на каменных плитах, которые известны
в виде первых проявлений изобразительной деятельности неандертальцев
уже в мустьерских поселениях (Ла Ферраси). Последнее не исключает, ко-
нечно, что они могли в равной мере изображать, как было указано раньше,
и огонь — центр человеческого общежития, по признакам приспособле-
ния для его добывания (высверливанием).
Во всяком случае, сказанное делает понятным появление среди первых
произведений настоящего палеолитического искусства в раннее время
верхнего палеолита уже совершенно ясных изображений знака пола
(рис. 171), которые вскоре сменяются изображениями целой женской
фигуры (ср. стр. 415 — находки в пещерах Ферраси и Бланшар).
Как и когда происходит распад древних эндогамных ячеек, отвечающих
первобытной общественной организации, и возникновение на их месте
более сложных общественных образований — экзогамных групп, объеди-
няющих две или большее количество коммун, связанных между собой,
перекрещивающимися брачными отношениями и, очевидно, также узами
общих хозяйственных интересов, — остается далеко не вполне выясненным..
Несомненно все же, что общество верхнего палеолита, начиная уже
с ориньякской эпохи, с его значительными достижениями во всех обла-
стях материального строя жизни и весьма богатым и содержательным
искусством не может щами мыслиться в рамках первобытной, эндогамной
замкнутости составляющих его ячеек. Только наличием экзогамии можно-
объяснить, в частности, возникновение уже в начальное время верхнего
палеолита нового физического типа человека, сменяющего повсюду древ-
нюю, более примитивную его форму — неандертальца.
Образование экзогамных ячеек происходит, как это рисует Энгельс,
в виде брачного объединения групп, на которые распадаются первичные
эндогамные коммуны. «Каждая первоначальная семья должна была рас-
пасться самое позднее через несколько поколений. Первобытное комму-
нистическое общее хозяйство... определяло максимальные размеры
семейной группы, изменявшиеся в зависимости от условий, но для
каждой данной местности более или менее определенные. Но как только-
ВОПРОС О ВОЗНИКНОВЕНИИ родовой организации
349
возникло представление о непозволительности половых отношений
между детьми одной матери, ото должно было сказываться при дробле-
ниях старых и при основании новых общин...». 1
Этот процесс, очевидно, должен был усложняться таким образом, что
на определенном этапе развития материальных производительных сил
для разрастающейся численно группы являлось более выгодным не рас-
ходиться в разные стороны, как ото было установлено обычаем в прежнее
время, а сохранять отношения родства и соседства.
Для того чтобы понять, как в данной исторической обстановке мог
сложиться и очень быстро распространиться новый тип человека, следует
допустить, что отмирание того строя жизни, на котором держалась кровно-
родственная семья, и распространение обычая экзогамного группового
брака способствовали более широкому перемешиванию населения. 2 По-
следнее могло происходить, вероятно, потому, что действующим законом
стало запрещение брака братьев и сестер по их общим матерям, тогда
как первоначальный обычай, вытекавший из родственной связанности
двух частей разделившейся орды, — вступать в перекрестный брак с ку-
зинами или кузенами — мог и не выдерживаться строго. Такая практика
могла быть затруднительной и потому, что обширные незанятые территории
с их неиспользованными богатствами в смысле добычливой охоты по-
стоянно приманивали к себе избыток населения в течение не только
среднего, но и верхнего палеолита.
Такие переселения на новые места, достоверность которых трудно
было бы оспаривать, приводили с своей стороны к разрыву старых связей
и возникновению новых.
Общественные отношения в эпоху верхнего палеолита нам трудно
было бы понять без относящихся сюда археологических фактой, к рас-
смотрению которых нам нужно будет обратиться в следующих главах.
* Ф. Энгельс, ук. соч., стр. 51.
2 По выражению Моргана, приводимому Энгельсом (Ироисхозкдение семьи...,
стр. 62), после отмирания практики кровнородственного брака «...смешивались два
прогрессирующих племени, у новых поколений череп и мозг естественно увеличи-
вались, пока они не объединяли в себе способностей обоих племен».
Примитивные изображения — ямкп, знак пола, животное
(из среднеорппьнкского слон Ла Ферраси).
Взгляд
Мортилье
Г ЛАВА
С В Д Ь М А я
Г. ДЕ МОРТИЛЬЕ
ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
НАЧАЛЬНАЯ ПОРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА
Смена мустьерских поселений слоями, содержащими остатки ориньяк-
ской культуры, представляет факт, который удалось установить сравни-
тельно недавно благодаря более тщательному изучению культурных
отложений пещерных стоянок западной Европы.
По взглядам, которые были в свое время развиты Г. де Мортилье,
первобытные изделия неандертальских охотников в пещерных место-
нахождениях Франции непосредственно сменяются солютрейскими изде-
лиями. Таким образом, по его мнению, солютрейская эпоха начинала
собой цепь развития первобытного общества на стадии верхнего палеолита.
В своем капитальном труде «Le Prehistorique», разбирая вопрос о про-
исхождении верхнего палеолита, Мортилье высказывает мнение, что
в позднейшее мустьерское время в кремневой технике намечаются такого
рода явления, которые затем могут быть преемственно прослежены в со-
лютрейских стоянках тех же областей западной Европы.
В качестве одного из характерных типов орудий, доказывающих,
по этим представлениям, связь между мустьерскими и солютрейскими
горизонтами пещерных местонахождений Франции, указывается, на-
пример, ручной остроконечник. В позднемустьерских стоянках он полу-
чает уже вид тонко отделанного, часто заостренного по обоим концам
листовидного наконечника, очевидно, являющегося уже рабочей частью
охотничьего ножа или дротика. В солютрейскую эпоху тот же вид орудия
представлен весьма характерным для этого времени лавролистным крем-
невым наконечником, назначение которого в качестве наконечника копья
или чаще дротика — одного из основных средств охоты в эту эпоху —
не может вызывать сомнений. Наконец, и сама отделка кремневых орудий-—
способом контротжима — в позднемустьерских стоянках действительно
обнаруживает как будто известную близость к отжимной технике солю-
трейских местонахождений. <*
В своих взглядах на средний и поздний палеолит Мортилье по существу
держался правильной точки зрения, видя в них этапы развития первобыт-
НАЧАЛЬНАЯ НОРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА
361
ного населения Европы, переживавшего здесь же, внутри себя, процесс сло-
жения новых форм культуры. Однако он был склонен слишком упрощенно
рассматривать взаимоотношение этих двух основных этапов развития
палеолитического общества. Взгляды Мортилье, как мы отметили выше,
были отвергнуты новой школой французских археологов. Они при-
нимают, * 1 что в пещерах Бельгии и Франции между мустьерскими и солют-
рейскими отложениями находятся промежуточные слои, иногда дости-
гающие большой мощности и подразделяющиеся на ряд горизонтов.
Содержащиеся в них остатки заметно отличаются от ниже и выше лежащих.
Самое название ориньякской эпохи в истории изучения палеолити-
ческих остатков не было новым. Оно связано с небольшим гротом Ориньяк
{департамент Верхней Гаронны), исследованным Эд. Лартэ еще в 60-х
годах. Найденные в отложениях этой пещеры кремневые орудия и харак-
терные плоские наконечники из кости были встречены и в других пещерах
Франции — в гроте Ла Шэз, гроте Фей, Горж д’Анфер и других. Сходство
типов изделий и характер фауны, которая носит в них более древний
отпечаток, чем в других верхнепалеолитических стоянках того же района,
обратили на них внимание уже первых исследователей. Сам Мортилье
первоначально считал возможным рассматривать их как особую группу
местонахождений послемустьерского времени, хотя и колебался в выборе
для них места в до-солютрейскую эпоху или между солютре и мадленом. 2
Обращаясь к рассмотрению того, что представляет собой начальная пора
верхнего палеолита, естественно поставить вопрос, в каком отношении она
стоит к предшествующему времени. Связаны ли верхнепалеолитические
стоянки с мустьерскими стоянками? Можно ли смотреть ца верхнепалео-
литического человека как на непосредственного преемника неандертальца?
Это вопросы, которым уделяется большое внимание в исследованиях, по-
священных палеолитическому времени. Вопрос об отношении мустьерских
и верхнепалеолитических памятников является одним из наиболее важ-
ных вопросов для понимания истории палеолитического общества.
Мортилье, как мы видели, переход'от мустье к верхнему палеолиту
считал связанным с естественным процессом усложнения приемов обра-
ботки камня, с появлением на некотором этапе развития нового материала
для изделий — кости и рога, вообще, рассматривая его как ’постепенное
накопление в среде первобытного населения Европы новых потребностей
и технического опыта, имевшее своим результатом сложение новых форм
культуры. В этом процессе особенно большую роль он склонен был при-
давать перемене в условиях природной среды (имевшей, по его мнению,
место между средним ц верхним палеолитом), в которой он видел глав-
ный фактор развития палеолитического общества.
Новые факты рисуют в настоящее время отношение между средним и
поздним палеолитом в виде значительно более сложной картины. Нельзя
сомневаться, что техника обработки кремня в послемустьерское время
Орипьякская
ступень
культуры
* «Revue prehistorique», № 6—7, 1907.
1 Оставляя термин «ориньяк» для обозначения более ранних памятников верх-
него палеолита Европы, мы еще раз считаем необходимым подчеркнуть, что
недавние раскопки на Тельманской стоянке под Воронежем делают неизбежным пере-
смотр вопроса об ориньяке и солютре в его целом. Тот факт, что на Тельманской
стоянке в открытом нами палеолитическом жилище (землянке) был встречен
каменный инвентарь, характерный для ранних солютрейских стоянок Франции, в со-
четании с орудиями мустьерских типов, показывает, что ранняя пора верхнего пале-
олита может быть, видимо, связана одинаково как с ориньякскими, так и солютрей-
скими формами культуры — вернее, ориньякской или солютрейской техникой обра-
ботки кремня.
352
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
вступает в новую фазу,—которую можно рассматривать как третью ста-
дию в истории первобытной техники кремня, — сменяющую более древ-
ние и более примитивные приемы, характерные для мустьерской стадии.
«Скалывающая» техника удлиненных «ножевидных» пластинок и приз-
матических нуклеусов, зарождающаяся в так называемое орин^якское
время, является необходимым и естественным завершением техники ди-
сковидных нуклеусов и широких треугольных сколов эпохп мустье — при
наличии весьма важных новых черт.
Действительно, всюду, где встречаются наслоения, содержащие как
более древние, так и более поздние палеолитические остатки, в частности,
где имеются слои с орудиями ориньякских и солютрейских форм, им
всегда предшествуют отложения с орудиями мустьерскйх типов. Такая
последовательность естественна и понятна. Однако, по взглядам, кото-
рых придерживается подавляющее большинство западноевропейских уче-
ных, перелом, наблюдающийся между мустье и верхним палеолитом, не-
Рпс. 138. Типы орудпй рапнеорипьлкского времени.
1/э и. в.
По ООермайеру)
может быть объяснен иначе, как допущением, что мустье и ориньяк не
имеют непосредственной связи, по крайней мере в' местонахождениях
Европы.
Согласно этой точке зрения считается, что культура неандертальцев
не оставила после себя никакого наследия в Европе. Сменившая ее
ориньякская культура зарождается будто бы вне Европы, где-то на юге,
видимо в Африке. 1
Появившись на побережье северной Африки, где стоянки с кремневым
инвентарем довольно примитивного ориньякского типа представляют
обычное явление, эта культура, якобы, должна была проникнуть в Европу
вместе с переселениями ориньякских охотников.
По тем же, совершенно научно не оправдываемым взглядам, путь рас-
пространения ориньякских племен будто бы шел через Гибралтарский
пролив и Испанию, где следы поселений этого времени достаточно из-
вестны, во Францию и отсюда в другие местности западной Европы. Вто-
рой не менее фантастически намечаемый путь продвижения ориньякских
племен на север, по тем же взглядам, проходил через Сицилию, Италию.
1 «Congres Intern, d’anthrop. et d’archeol. prehist.», XIV Session, Geneve, 1912’
t. I, стр. 165, Geneve, 1913.
HA 'lA.'lbHAH ПОРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА
353
затем вдоль побережья Средиземного моря к Ментоне, где имеются пещер-
ные стоянки, представляющие очень интересный памятник этой эпохи.
Из западных областей Европы ориньякцы должны были постепенно рас-
пространиться и на восток материка.
Подобных взглядов придерживаются все авторы общих трудов, кгк
сающихся доисторического прошлого Европы, — Овермайер, Бёркитт,
Осборн и другие. Намеченный выше путь вторжения ориньякских пле-
мен, по мнению Брейля, в частности может быть прослежен по находкам
скульптурных фигурок женщины, вырезанных с большим мастерством
из слоновой кости или более мягких пород камня, о которых нам при-
дется говорить особо. Они должны были, судя по некоторым признакам,
явиться продуктом искусства новой, пришлой расы, видимо родственной
некоторым народностям современной Африки и проникшей в Европу
Рис. 139. Типы орудий раинеорнпьякского времени.
7а н. в.
'Hu OoepMiiiiepj,
в орнньякскую эпоху. Гипотеза о южном происхождении ориньякских
охотников пользуется до настоящего времени широким распространением
в кругах как палеоэтнологов, так и антропологов.
По другим взглядам, представленным, например, Жиро и Рейнаком, 1
движение новых племен, населявших Европу в начале позднего палеолита,
должно было итти в другом направлении — с востока из глубин севернохг
Азии по стопам двигавшихся на запад мамонтов и северных оленей. Подоб-
ные толкования, предлагающиеся для объяснения быстрой смены мустьер-
ских остатков находками иного характера, которые мы относим к на-
чальной — ориньякской фазе верхнего палеолита, основываются на раз-
рыве, якобы наблюдающемся «в характере инвентаря позднемустьерских
и раннеориньякских стоянок, и в еще большей степени на появлении в эту
последнюю эпоху нового человеческого типа, сменяющего собой древний
тип неандертальца.
Выше мы изложили заключения, к которым приходит по этому поводу
М. Буль, один из наиболее авторитетных палеоантропологов настоящего
времени, отражающий в своих работах взгляды, которыми питается за-
падноевропейская антропология. Рассматривая находки остатков чело-
века в отложениях мустьерской эпохи и последующего времени, он утвер-
1 A. Reinach, Vne nouvelle statuette feminine en ivoire de mammouth, <tL' An thro polo-
gie», 1924, I. XXXIV, стр. 349.
23 П. II. Ефименко. Первобытное общество — 1734
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
ждает, что неандертальский человек не является предком верхнепалеоли-
тических обитателей Европы. Он исчез вместе с концом мустьерского
времени и был сменен пришедшими откуда-то кроманьонцами, которые
его вытеснили, а может быть, и уничтожили во время своего распростра-
нения в Европе.
Подобного рода гипотезы имеют, прежде всего, ту слабую сторону,
что они пытаются обойти вопрос о происхождении верхнепалеолитического
населения Европы. Указанные ученые для своих внезапно появившихся
в Европе кроманьонцев должны предполагать таких предков, которые уже
в древнейшую эпоху обладали чертами высшего человеческого трпа. Мы
видели, что такие теории, которые пытаются найти для верхнепалеолити-
ческих обитателей Европы особые линии исторического развития, мину-
ющие стадию неандертальского типа, лишены всякого основания и по
существу лишь отражают определенные классовые тенденции современных
Рис. 140. Типы орудий раинеорипьякского времени.
7г н. в.
(По Обернайеру)
западноевропейских ученых. В действительности повсюду, и в Европе
и вне ее, где мы находим остатки человека, восходящие к эпохе среднего
палеолита, они дают характерный примитивный тип неандертальца.1
Но если бы мы и не имели в своем распоряжении такого рода фактов,
очевидно, что объяснение происхождения новых форм общества и нового
типа человека в эпоху верхнего палеолита полным удЛдчтожением древ-
него населения по существу обозначает введение в историю человече-
ского общества теории «катаклизмов», 2 от которой почти сто лет как
отказалась наука.
На вопросе о кроманьонце и его отношении к предшествующему чело-
веческому типу, которого мы уже отчасти касались, нам придется оста-
новиться еще в дальнейшем. Но и материальные остатки начальной поры
верхнего палеолита» дают такого рода факты, которые заставляют весьма
скептически относиться к гипотезе происхождения ориньякской культуры
откуда-то извне,—то есть вне связи с предшествующей, мустьерской
ступенью. Об этом говорит, например, то, что в некоторых западноевро-
1 Большой интерес с этой точки зрения представляют находки на горе Кармел
(в Палестине), где в 1931—1932 гг. были обнаружены .многочисленные остатки
неандертальцев с явными чертами переходного типа от неандертальца к кроманьонцу.
2 Катаклизмы в представлении естествоиспытателей конца XVIII — начала
XIX в. школы Кювье означали полное вымирание органической жизни на земле:
повторявшееся в конце нескольких геологических периодов. Неоднократное возоб-
новление жизни на земле, допускавшееся Кювье, могло быть, очевидно, каждый,
раз лишь актом нового «творения».
ОРИНЬЯКСНОЕ ВРЕМЯ. РАННЯЯ И СРЕДНЯЯ ПОРА
355
пейских местонахождениях мустьерский инвентарь обнаруживает явствен-
ный переход к инвентарю ориньякского типа. Относительно общих явлений
этого рода мы уже говорили, описывая поздние стоянки мустьерской
эпохи. Мы видели зарождение в них таких черт, которые затем получают
развитие в ориньякскую эпоху. В некоторых стоянках Франции, как
известное местонахождение Оди (абри Оди), это проявляется особенно
наглядно.
В находках типа абри (убежища) Оди кремневый инвентарь, хотя и со-
храняет мустьерский характер, все же обнаруживает уже явственное при-
ближение к технике и формам изделий ориньякской эпохи. Это можно про-
следить, например, на одном из очень важных орудий мустьерской техники,
которое мы называем остроконечником. В Оди это орудие сохраняет
особенности мустьерского инструмента, однако получает совершенно ему
не свойственную притупляющую ретушь, которая, наоборот, чрезвычайно
характерна для ориньякских острий. Таким образом, памятники типа
убежища Оди подтверждают то, что можно было бы предполагать па осно-
вании простого сопоставления этих двух форм,— близость по происхо-
ждению ориньякского острия с затупленной спинкой типа шательперрон
и мустьерского остроконечника, промежуточной формой между которыми
являются острия типа оди.
ОРИНЬЯКСКОЕ ВРЕМЯ. РАННЯЯ И СРЕДНЯЯ ПОРА
Остатки поселений раннего ориньякского времени, перекрывающие
позднемустьерские слои в пещерах Франции, обнаруживают целый ряд
явлений, которые нельзя не рассматривать как прямое наследие мустьер-
ской эпохи. Эта начальная фаза ориньяка обычно определяется име-
нем стадии шательперрон. К ее рассмотрению мы сейчас и перейдем.
Одной из наиболее известных стоянок ранней поры ориньякской Грот Шатель-
эпохи является грот Шательперрон (иначе пещера Фей) в западной Фран- иеррои
ции, в бассейне р. Луары (Бретань). Он представляет небольшой грот,
где человек оставил следы долговременного пребывания на площадке,
расположенной возле скалы у выхода пещеры, а отчасти и в самой пещере.
В течение, вероятно, многих человеческих поколений здесь накаплива-
лись остатки, образовавшие мощный слой отложений, переполненных
костями животных, среди которых собрано было во время раскойок стоянки
особенно много остатков мамонта, затем лошади, северного оленя, би-
зона, тура и в меньшем числе таких животных, как носорог, благородный
олень, пещерный лев, пещерная гиена, медведь и др. В одном месте
была найдена целая куча бивней мамонта, очевидно, заготовленных
в качестве материала для изделий.
Можно думать, что здесь существовало настоящее более или менее
оседлое поселение первобытной охотничьей группы под прикрытием
каких-то сооружений. Плохо выполненные раскопки этой интересной
стоянки не дают возможности судить об этой стороне жизни ее обитателей.
Кремень, которым широко пользовались люди, жившие здесь в на-
чале ориньякской эпохи, для изготовления различных орудий, добы-
вался ими километров за 10 от пещеры, в местности Тийи, где обнаружены
были следы мастерских с орудиями тех же типов, что и в пещерной стоянке.
Кремневые изделия в Шательперрон еще не слишком разнообразны
по типам, но все же значительно более сложны, чем в мустьерскую пору.
Техника здесь заметно изменяет свой характер по сравнению с пред-
шествующим временем. Основным элементом производства кремневых
*
35R ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕПСКОЕ ВРЕМЯ
изделий становится уже удлиненная пластинка, а не широкий скол, как
в эпоху среднего палеолита (рпс. 138—140).
Из такого первичного материала изготовлялись концевые скребки,
которые, по многочисленности их находок, должны были являться одним
из важнейших орудий, применявшихся в эту эпоху. Они имеют вид кремне-
вой пластинки, конец которой превращен путем подправки в дугообразное
рабочее лезвие. Рядом с ними по численности стоят острия типа шательпер-
рон: заостренные пластинки с затупленным и изогнутым боковым краем,
образующим спинку орудия (рис. 164). На лезвие и на острие инструмента
часто бывают видны следы сработанности в виде выщерблии и зазубрин.
Другие орудия встречаются в стоянке Шательперрон1 в значительно
меньшем количестве. Из них можно назвать крупные пластинки, отделан-
ные ретушью кругом по всему краю, и затем резцы, изготовленные с по-
мощью характерного для них приема скалывания продольных отщепов,
посредством которого их рабочий конец получал прочное клиновидное
режущее заострение.
Перечисленные орудия (такие, как концевые скребки, резцы), как мы
могли видеть выше, иногда встречаются уже в позднемустьерских стоян-
ках. Здесь же они являются основными типами изделий из кремня. Но
наряду с ними в инвентаре Шательперрон продолжают еще бытовать
скребла («racloirs») и, что особенно интересно, в довольно большом числе
встречаются небольшие по размерам двусторонне отделанные врубила»,
близкие к мустьерским орудиям этого типа.
Новым и очень характерным является в стоянке Шательперрон по-
явление обработанной кости в виде еще немногочисленных, но уже вполне
оформившихся изделий. Они имеют главным образом вид шильев, то
есть простых прпостренных и заточенных на конце осколков трубчатых
костей животных, затем настоящих наконечников копий, уплощенных,
овально-удлиненной формы, сделанных из кости (рис. 141). Подобные на-
конечники получают широкое распространение в соответствующих на-
слоениях пещерных местонахождений Франции, относящихся к этому
и последующему времени ориньякской эпохи. Из отдельных находок
упомянем куски красной охры и черного марганца, очевидно, употреб-
лявшиеся человеком в виде красящего материала, и клык лисицы со
сверлиной для подвешивания. Амулеты из зубов животных — новое
явление, которое мы не знаем в эпоху мустье. •
Характерные Тот же характер, что и поселение Шательперрон, имеет ряд других
особенности пещерных местонахождений Франции, непосредственно следующих за
стоянок временем мустье. Из них можно назвать Жермолль (Сона-и-Луара), Гаргас
11 орипьяка1,1 (Пиренейская область), Рош-о-Лу (Нонна), Орэ (Жиронда) и многие другие,
которые могут быть отнесены к ранней-поре ориньяка по таким признакам:
1. Постоянное присутствие двусторонне обтесанных орудий — «ручных
рубил» позднейших flinoB.
2. Массивность отщепов, которые занимают здесь еще видное место
наряду с удлиненными пластинками верхнепалеолитического облика.
3. Переживание более или менее типичных мустьерских орудий, как
остроконечники, скребла, диски и т. п.
4. Особая ретушь на некоторых видах орудий, близкая еще к «длин-
ной» мустьерской ретуши и получавшаяся также путем отжима на на-
коваленках из кости или мягкого камня.
1 Н. Breuil, Etudes sur la morphologic paleolithique, L’ Industrie de la grotte de Chu-
elperron (Allier), «Revue anlhropologique», 1911, XXI, стр. 29—'Щ, 66—78.
1
ОРИНЬЯКСНОЕ ВРЕМЯ. РАННЯЯ И СРЕДНЯЯ НОРА
357
Рис. 141. Орипкпкские
наконечники дротиков
из кости.
’/г н. в.
(llu Kiieii.ini.
5. Появление характерных ориньякских типов изделий из кремня —
острий типа шательперрон, пластин с круговой ретушью, концевых
скребков, резцов и так называемых нуклевидных орудий.
6. Появление орудий из кости, еще бедно представленных.
7. Находки первых охотничьих амулетов — просверленных зубов хищ-
ных животных, постоянное присутствие краски.
8. Весьма характерная фауна, в которой северный олень редок,
но много остатков мамонта, крупной лошади, бизона; в ней еще хорошо
бывают представлены обитатели лесов — носорог, тур, канадский олень,
лось, большерогий олень (мегацерос), кабан и пещерные хищники —
лев, медведь, гиена.
Эти черты, во многом, как мы видим, сближающие стоянки древнейшей
поры верхнего палеолита с лагерями позднемустьерской эпохи, заставляли
исследователей первоначально, до выделения ори-
ньяка как начальной фазы позднего палеолита, отно-
сить их к более раннему, мустьерскому времени.
Поселения охотников раннего ориньяка известны
во Франции не только в защищенных местах, в
гротах и скальных убежищах, но и на открытом
воздухе. Этот тип становища представляет, напри-
мер, стоянка Ла Верриер в Жиронде, описанная
Конилем, 1 где им найден очень примитивный инвен-
тарь, наполовину мустьерского характера, в кото-
ром, однако, уже появляются первые виды ориньяк-
ских орудий.
Начальная стадия верхнего палеолита, соответ-
ствующая стадии шательперрон, выделяется даже
некоторыми французскими авторами в особую пери-
горскую эпоху (perigordien), получившую название
от области Перигор в юго-западной Франции.
В некоторых пещерных стоянках можно видеть,
как только что описанные типы изделий в непосред-
ственно следующее время, которое обычно относят к
средней поре ориньяка, заметно изменяют свой ха-
рактер.
Это изменение идет в направлении уменьшения
количества видов орудий, которые ориньякским человеком были уна-
следованы от эпохи мустье, и в умножении такого рода изделий из
кремня, которые рождаются в ориньякскую эпоху. Особенно увеличива-
ются в числе крупные пластины с круговою ретушью. В ряде видов
и разновидностей начинают встречаться так называемые нуклевидные
орудия, изготовлявшиеся из куска кремня посредством снятия мелких
пластинок, что придает им вид небольших, тонко сделанных нуклеусов.
В связи с растущей обработкой кости количественно увеличиваются
находки резцов различных типов, хотя наиболее характерными для этой
фазы являются резцы или в виде тех же нуклевидных орудий с более
узким рабочим концом, или сделанные из пластинки, но таким образом,
что рабочий конец резца, изогнутый в форме массивного клюва, имеет
одну грань, снятую рядом узких продольных фасеток, — многофасеточ-
ный резец (burin busque —рис.143). Между тем для ранней поры ориньяка,
Средний
орииья».
1 Conil, Contribution а Г etude du passage du Mouslerien а Г Aurignacien en Gironde
(Station de la Verriere, Gironde), «Revue anthropologique», 1911.
358
ГЛАВА. СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯЬ'О-СОЛЮТРЕИСЕОЕ ВРЕМЯ
как это можно видеть в стоянках этого времени, характерную форму
составляет резец в виде того же острия шательперрон, но с резцовым
сколом на конце, что выдает возможное происхождение этого орудия от
предшествующей ему формы — кремневой пластины с рабочим заостре-
нием, полученным с помощью «обычной подретушевки, без резцового
скола.
Острие типа шательперрон продолжает еще оставаться одним из
постоянно встречающихся орудий, но наряду с ним появляется другая
разновидность того же острия, сделанная из более узкой и длинной
пластинки, — тип граветт (рис. 142). В этом последнем типе кремневых
изделий, однообразно оформленных одинаковыми приемами вторичной
ретуши, но весьма варьирующих в смысле размеров — от прекрасно
заостренных пластин в 10—12 см длиной до совсем небольших, — прихо-
дится видеть, как справедливо указывает Пейрони,1 орудия довольно
разнообразного назначения. В них мы имеем наконечники копий и дро-
тиков, клинки охотничьих ножей и кинжалов, вплоть до очень мелких
инструментов, связанных с соответствующим назначением в роли тонких
режущих и колющих орудий.
То же явление мы наблюдаем и позже, в раннесолютрейское время,
в отношении так называемых наконечников с боковой выемкой, харак-
терных для стоянок средней и восточной Европы (типа Виллендорф —
Костенки). Весьма показательно, что уже в эпоху среднего ориньяка
становится заметным преобладание в составе кремневого инвентаря таких
сравнительно совершенных орудий, связанных с охотой. В наиболее
яркой форме этот факт проявляется в поселениях, относящихся к числу
типично солютрейских памятников Европы.
Рядом с остриями типа шательперрон и граветт в стоянках среднего
ориньяка появляются мелкие пластиночки с затупленной спинкой, нечто
вроде чрезвычайно миниатюрных по своим размерам ножичков, которые
могли употребляться для особенно тонких работ, может быть в связи
с шитьем меховой одежды и т. п. (рис. 142, средние, и 168). Нельзя не
упомянуть также об одном из наиболее распространенных орудий верхне-
палеолитической техники — скребке на конце удлиненной пластинки,
который составляет обычную находку в 'этих горизонтах пещерных
стоянок и имеет здесь свои особенности. В поселениях, относящихся
к среднему ориньяку, чаще всего попадаются скребки, суживающиеся
к основанию, с ретушью, идущей сплошь по краю орудия.
В одних из этих стоянок обработанная кость встречается довольно
редко, в других она обнаруживает заметный прогресс в смысле увели-
чения количества подобных изделий, хотя они по большей части принад-
лежат к тем же простейшим видам шильев, лощил, плоских ориньякских
наконечников. Однако здесь появляются и некоторые новые орудия,
прежде всего иглы, еще достаточно грубые, часто с головкой, а не ушком
для закрепления нити. В гроте Ле Коттэ в слое с культурными остатками
этой поры была найдена трубчатая кость северного оленя, вырезанная
в виде флакона, украшенного нарезными чертами и сохранившая внутри
еще некоторое количество охры.
Наконец, в некоторых пещерных стоянках (Ферраси, Бланшар) ста-
новятся известны первые чрезвычайно интересные проявления рождаю-
щегося палеолитического искусства.
1,Р. Peyrony, Les gisements prehistoriques de Bourdeilles (Dordogne), «Archives de
I'Institut de Paleontologie Hu.ma.ine», 1932, mem. 10, стр. 15.
ОРИНЬЯКСКОЙ ВРЕМЯ РАННЯЯ И СРЕДНЯЯ ПОРА
96»
Остатки среднего ориньяка во Франции представлены такими стоян-
ками, как верхний слой Кумбо-дель-Буиту, Фонт-Ив (Коррез), Ла Гра-
ветт, Ла Ферраси, Манэгр (Дордонь), Ле Коттэ (Вьенна), грот Трилобит
(Ионна). 1 В эту эпоху мы имеем уже следы жилищ более прочного и долго-
временного типа, например в Кумбо-дель-Буиту, Лакост и других стоян-
ках, где они имеют вид выкладок из каменных плит, затем ям от столбов
и т. д. Не будем забывать, что, как правило, человек в это время устраи-
вает свои поселения под защитой скал, но преимущественно на открытых
площадках или в неглубоких нишеобразных гротах, которые могли дать
ему защиту от дождя, снега, но не от холода.
Если общая последовательность в усложнении инвентаря орудий из
камня имеет в известных нам ориньякских стоянках Европы (за исклю-
чением ее крайнего юга) всюду более или менее сходный характер, в де-
талях этого процесса можно наблюдать известные черты различия. Так,
в других пещерных поселениях той же Франции раннему ориньяку (ста-
дии шательперрон) отвечают стоянки с несколько иным составом находок.
Примером их может служить небольшой грот Кумбо-дель-Буиту в де-
партаменте Коррез, исследованный Бардоном и братьями Буиссони,
верхние горизонты которого дают орудия обычных среднеориньякских
типов, тогда как непосредственно предшествующие им «пепелища» (лин-
зообразные скопления культурного слоя) содержат остатки, несомненно
принадлежащие раннеориньякской поре. В этом гроте его палеолитиче-
ские обитатели занимали как внутреннее помещение в виде неглубокой
выемки в скале, так и расположенную перед ней площадку, где за ори-
ньякское время успел накопиться значительный слой отбросов жилья.
Интересно, что при расчистке площадки перед гротом исследовате-
лями были обнаружены следы каких-то жилых сооружений в виде ряда
круглых ям, выбитых в известняковой скале. Ойи сопровождались ско-
плениями камней, вероятно служившими для укрепления стен хижины,
которые сами авторы отчета о раскопках этого памятника считают, впро-
чем, просто обвалом скалы. Обычный весьма поверхностный характер
раскопок лишает нас возможности составить об этом интересном со-
оружении сколько-нибудь ясное представление. '
О раннеориньякском возрасте нижних отложений Кумбо-дель-Буиту
говорит присутствие здесь характерных крупных (до 17,5 см) кремневых
пластин с круговой ориньякской ретушью, обычных скребков г. скребков
ладьевидных (еще немногочисленных), а также скребков типа a rauseaux,
затем pieces ecaillees и т. д. наряду с довольно многочисленными ору-
диями позднемустьерского облика, как скребла, острия и пр. Орудия
мустьерских типов здесь еще вполне сходны с найденными, например,
в позднемустьерских пещерных повелениях Ghez-Pourre и Bouffia.
Такое сочетание орудий мустьерских-'ll верхнепалеолитических форм
характерны, как мы видели, для целой группы стоянок, относящихся
к начальной поре верхнего палеолита, однако в находках в Кумбо-дель-
Буиту совершенно отсутствуют острия типа шательперрон, как нет еще
и резцов, появляющихся лишь в вышележащих слоях. Нужно заметить,
что и изделия из кости, обычно встречающиеся уже в раннеориньякских
поселениях Франции, здесь не были найдены.
Другой тин
стоянок
раннего
ориньяка
1 L. Bardon et J. et A.Bouyssonie, Station prehistorique de la Coumbo-del-Bou'itou
pres Brive (Correze), «Revue de Г Ecole d'Anthropologic de Paris», 1907, стр. 120; J. et
A.Bouyssonie et L. Bardon, La station prehistorique de Font-Ives (Correze), «Revue
anthropologique», 1913, № 6, стр. 218; M. Bourlon, Station prehistorique de Masnaigre
•(Dordogne), «Revue anthropologique», 1913, стр. 25zi и др.
360
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯГО-СОЛЮТРЕЯСЕОЕ ВРЕМЯ
Грот Боном
Раепреетра-
вевие
в Европе
Тот же характер имеют находки в гроте Les Cottes 1 и в пещер-
ной стоянке Pont-Neuf в Шаранте, исследованной Фавро. 2 В последней
обработанная кость встречается очень редко (обычное лощило и нако-
валенка-ретушер на ослдлке кости). Среди большого числа собранных
кремней господствуют пластинки с ориньякской круговой ретушью,
довольно часты также треугольные широкие массивные отщепы мустьер-
ского облика, но нет ни резцов, ни острий типа шательперрон или гра-
ветт, нет и pieces ecaillees. Равным образом и нуклевидные орудия пред-
ставлены здесь в небольшом числе.
Приведенный нами на рис. 97 разрез отложений пещеры Боном (близ
Брантома в Дордони) представляет довольно типичный пример пещерного
поселения ориньякского времени, использовавшего для этой цели нишу
в скале, первоначально, видимо, довольно глубокую, но подвергшуюся
Рис. 14-2. Типы орудий иоздиеорпиьпкекого времени. Острил
типа граветт (1 и 2).’острия с затупленной спинной (3—,'ij и
боковой выемкой и 7),
7г н. в.
(по ОберчаИер},
разрушению и за-
полненную почти
доверху глини-
стым наносом и
обломками извест-
няка. Грот распо-
ложен очень удоб-
но в уединенной
боковой долине и
обращен к югу.
Две нижние про-
слойки с остатками
мустьерского вре-
мени свидетель-
ствуют о двукрат-
ном заселении гро-
та людьми еще в
эпоху среднего па-
леолита.
Основной слой
ориньякских ос-
татков, как вид-
но на приведенном
разрезе (горизонт 4 и 5), хорошо рисует условия жизни верхнепалеолитиче-
ского человека в пещерах. После непродолжительного обитания, оставив-
шего нижний слой отложений (4), ориньякское население выровняло дно
грота, сначала уложив слойплиток (в 0,10—0,12 м толщиной), затем наст-
лав поверх него слой небольших камней. В последующее время здесь успел
накопиться толстый пласт (0,47 At) обычных отбросов жилья. Положение
линзы культурного слоя показывает, что ниша грота была закрыта с наруж-
ной стороны стеной, 'вероятно из жердей, основание которой было при-
валено камнями, отчасти еще сохранившими свое первоначальное место.3
Помимо Франции, где поселения, оставленные человеком эпохи ниж-
него и среднего ориньяка, пользуются широким распространением, по-
1 Н. Breuil, Les Cottes, ипе grotle du vieil age du renne a Saint Pierre de Maille,
«Bevue de VЁcole d’Anthropologie de Paris», 1906, стр. 61—62.
2 A. Favraud, Station aurignacienne au Pont-Neuj (Charente), «Bevue de I’Ecole
d’ Antropologie de Paris», 1907, стр. 418.
3 E. Pittard, Le prehistorique dans le vallon des Bebieres (Dordogne), «Congres Intern,
d’anthtrop. et d’archeol. prehist.», XIV Sess., Genevf, 1912, стр. 397.
ПОЗДНЯЯ ПОРА ОРИНЬЯКА
ЭМ
следние известны в Бельгии — грот Монтэгль, один из горизонтов Гуайе,
пещерная стоянка Спи, в Англии — Paviland, в Германии — пещерные
стоянки Зиргенштейн, Бокштейи, нижний слой Офнет и другие. В зна-
чительно меньшем числе они встречены пока дальше на востоке Европы,
где более или менее достоверные следы поселений этого времени можно
узнать в лёссовых отложениях близ Виллендорфа и в особенности в бо-
гатой стоянке Гуидсштейг около Кремса, а также в некоторых других,
менее известных местонахождениях нижней Австрии, затем в Сюреньской I
пещере в Крыму.
Наоборот, в Италии, Испании и северной Африке это время может
считаться хорошо представленным многочисленными находками, которые,
однако, имеют несколько отличный характер от только что нами описан-
ных находок в западной и центральной Европе.
В стоянках среднего ориньяка главную охотничью добычу соста-
вляют тот же мамонт, крупная лошадь, бизон, благородный олень. Но
все же заметно увеличиваются в числе остатки полярных животных, в осо-
бенности северного оленя.
Поскольку это время, например во Франции, отмечено появлением
ряда типичных северных (отчасти и степных) видов, таких, как мускусный
овцебык, песец, гренландский тюлень, кости которого впервые начинают
встречаться в палеолитических пещерах атлантического побережья, затем
суслик (Spertnophilus rufescens), — обычно отсутствующих в поселениях
более раннего времени, 1 приходится думать, что среднеориньякская фаза
отмечена значительным ухудшением климатических условий, вероятно
вызванным первым развитием вюрмского оледенения.
ПОЗДНЯЯ ПОРА ОРИНЬЯКА
Если деление ориньякских стоянок на раннюю и среднюю фазы имеет
довольно условное значение, поскольку трудно было бы указать такие
признаки, которые были бы характерны для одного 'типа стоянок и совер-
шенно бы отсутствовали в другом — их отличает в сущности только количе-
ственное соотношение видов изделий, — в еще большей степени это при-
ложимо к так называемому позднему ориньяку, поскольку стоянки этой
поры представляют естественный переход от собственно ориньякских к
солютрейским местонахождениям.
К -этому времени обычно относят те стоянки с инвентарем ориньяк-
ского характера, в которых исчезают острия шательперрон, крупные ори-
ньякские пластины с круговой ретушью, в значительно меньшем числе
встречаются массивные нуклевидные орудия (рис. 143) и, наоборот, на-
чинают преобладать обычные формы кремневых орудии верхнего пале-
олита, связанные с техникой удлиненной пластинки, как резцы, скребки,
мелкие инструменты с затупленной спинкой и т. д.
Наиболее заметной особенностью этих поселений является присутствие
в них на пространстве всей Европы от Ментоны до берегов Дона особого
вида кремневых заостренных пластинок типа так называемых наконеч-
ников с боковой выемкой, которые должны были насаживаться на рукоять,
так как их основание снабжено черенком, несомненно предназначенным
для данной цели (рис. 142 — справа и рис. 178, 179).
Одни исследователи видят в них некоторый вид режущего орудия —
нож, большинство же считает возможным рассматривать их как кремне-
Мускусный
овцебык и
гренландский
тюлень
Инвентарь
поздних
ориньякских
поселении
Наконечники
«е боковой
выемкой»
1 D. Peyrony, La Ferrassie, «Prehistoire», t. Ill, стр. 52.
362
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Рис. 143. Типы орудий позднеориньякского времени. Резцы типа
«бюске» и ладьевидное орудие.
7г и- в.
По Обермайеру)
Типы орудий иозднеориньяк-
вые наконечники дротиков, закреплявшиеся на конце тонкого древка
с помощью обмот <и растительными волокнами или нитями из сухожилий
оленя. Вероятно, правильнее было бы считать их предметом охотничьего
вооружения, который одинаково мог употребляться и в виде заостренного
клинка охотничьего ножа, и в качестве наконечника небольшого копья
и метательной стрелы. В пользу такого их толкования говорит довольно
много этнографи-
ческих паралле-
лей.
Можно более
или менее опреде-
ленно утверждать
вслед за Брейлем,
что прототипом на -
конечников с вы-
емкой в стоянках
позднего ориньяк-
ского времени яв-
ляется острие типа
граветт. Как одно из видоизменений последнего, получившее специальное
назначение в связи с потребностями охоты, очевидно и должно рассма-
тривать эти наконечники. Однако в других стоянках, относящихся к фи-
нальному ориньяку, например в стоянке Фон-Робер в департаменте Коррез
во Франции и Тру-Магрит в Бельгии, кремневые наконечники имеют иной
вид, представляя собой пластинки, иногда с легкой подправкой острия, но
без боковой выемки в нижней части для закрепления в рукояти, а с неболь-
шим черенком-насадом по середине основания (наконечник Фон-Робер —
рис. 144).
Интересная находка человеческого
позвонка с глубоко вошедшей в него
кварцитовой пластинкой в одной из
ориньякских стоянок юго-западной
Франции, описанная Бегуэном, Кю-
гюльером и Микелем, показывает,
что охотники ориньяка пользова-
лись для снаряжения метательных
копий удачно выбранной заострен-
ной пластинкой и без всякой ее
подправки, то есть так же, как-щто
делают австралийцы и в настоящее Рис. 144.
время. 1 ского времени. Наконечники с черенком
Позднеориньякскве время связы- ^тип 5>0Н
вается не только с заметным услож- ооермай'еру)
нением и совершенствованием тех-
ники обработки кремня. В эту эпоху, наряду с прежними, появляются
новые виды изделий из кости. В частности, начинают встречаться иглы
уже обычного типа с ушком, затем выпрямители для древков копий,
сделанные из рога северного оленя, которые в археологической лите-
ратуре носят название «начальнических жезлов», наконечники копий,
часто изготовлявшиеся из бивня мамонта в виде длинных заостренных
Использова-
ние кости
1 Bigouen, Cugulieres et Miquel, Vertebre humaine traversee par line lame de quarzile,
isRevue anthropologique», 1922, стр. 230.
СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ Зв8
стержней веретенообразной формы, и др. Значительно усложняется и
расцветает изобразительное творчество, отмеченное появлением и широ-
ким распространением изображения женщины. Поздний ориньяк является
вместе с тем временем, когда на протяжении всей Европы в очень инте-
ресных чертах вырисовывается особый уклад охотничьего хозяйства,
имеющего своей базой массовую охоту на некоторые виды животных, в
особенности на мамонта, лошадь и дикого быка-бизона.
Северный олень в эту эпоху становится уже вполне обычным живот-
ным в списке охотничьей добычи человека, хотя и продолжает занимать
все же относительно второстепенное место по сравнению с тремя назван-
ными 'ЖИВОТНЫМИ.
СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Следующее за ориньяком солютрейское время в стоянках западной
Европы может быть рассматриваемо как естественное продолжение и
дальнейшее развитие элементов позднеориньякской культуры. Кремне- Изделия из
вый инвентарь этой поры первоначально имеет черты сравнительно еще мало кремия
диференцироваиного, относительно бедного видами орудий раннего инвен-
таря верхнего палеолита. Кроме обычных нуклеусов и пластинок, которые
в солютрейских горизонтах пещерных стоянок заметно выделяются своей
величиной и хорошей техникой скалывания, мы встречаем здесь резцы
разных видов, из которых чаще других встречаются резцы бокового типа,
то есть с продольным сколом вдоль одного края пластинки и отретуши-
рованным наискось другим краем, затем другие виды резцов, известные
и в ориньякских стоянках: срединные—с двумя обычными сколами и
угловые — на углу сломанной или срезанной с помощью ретуши пла-
стинки. Нуклевидные резцы здесь уже редки, но резцы с многими сколами —
многофасеточный тип поздних ориньякских стоянок — еще бывают хорошо
представлены. Однако следует заметить, что в некоторых солютрейских
местонахождениях, например в нижнем солютрейском слое известного
грота Плакар (Шаранта), в стоянке на открытом воздухе Монто (Ланды)
и других, резцы, являющиеся одним из наиболее характерных видов
орудий верхнего палеолита, или совершенно отсутствуют, или очень слабо
представлены. Это любопытное обстоятельство можно объяснить только
слабым уровнем развития техники обработки кости. Действительно, во
многих названных местонахождениях изделия из кости, как это ни странно,
не были встречены.
Скребки в солютрейских стоянках имеют вид обыкновенного конце-
вого скребка. Благодаря высокому качеству пластинок, из которых они
изготовлялись, эти орудия отличаются правильностью и хорошей
отделкой. Часто они бывают к основанию сведены на острие — вероятно,
для более удобного насаживания в деревянную рукоять — или имеют
рабочие лезвия на противоположных концах, которыми при работе,
очевидно, пользовались поочередно по мере того, как тупилось одно
из них (рис. 147). Постоянную принадлежность стоянок солютрей-
ского времени составляют мелкие пластиночки типа «с затупленной спин-
кой», которые мы видим и в ориньякских поселениях.
Как особая фаза в развитии техники верхнего палеолита Европы Наконечники
солютре выделяется не по перечисленным видам кремневых орудий, дротиввв
мало отличающихся от того, что нам известно в отношении позднеори-
ньякских стоянок. Характерную особенность памятников солютрейского
типа составляют кремневые наконечники, в производстве которых солю-
364 ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРПНЬЯЬ'О-СОЛЮТРЕЛСВОЕ ВРЕМЯ
Рас. 14.>. Лавро.шстньш на-
конечник раннего, нотрен-
ского типа (агат)
франция).
3/4 И. н.
Но -Mop-ju.u-.e.
имени которой получила
тройская техника достигает высшего совершенства. Они имеют несколько
разновидностей, отчасти различающихся по времени, отчасти по своему
географическому распространению.
Во Франции в более древних солютрейскнх слоях встречается пре-
имущественно так называемый лавролистный наконечник — довольно
крупных размеров широкий кремневый клинок заостренно-овальных
очертаний, весьма тонко отделанный с помощью отжимной ретуши с той и
другой стороны (рис. 145, слева, и 148).
Наоборот, в более поздних слоях тех же местонахождений, например
в хорошо известных отложениях гротов Плацар и Лакав, эти клинки при-
обретают несколько иной характер — имеют небольшую величину, более
узкие очертания и обычно бывают снабжены боковой выемкой для на-
сада, как наконечники поздне-ориньякских стоянок (рис. 146, первый
и второй). 'х.
Тщательная, как бы выстругивающая поверхность кремневой пла-
стины солютрейская отжимная ретушь почти исключительно наблю-
дается на прекрасных наконечниках, хотя из-
редка с помощью ее отчасти отделывались и
обычные виды орудий — скребки, резцы. Ко-
стяными изделиями солютрейские местонахо-
ждения обычно бывают небогаты, и виды их,
по крайней мере в более раннее время со-
лютре. не вносят ничего существенно нового
по сравнению с предшествующим временем.
Значительно более интересной предста-
вляется сторона жизни первобытного населе-
ния Европы, раскрывающаяся в характере
самих охотничьих поселений этого времени,
в замечательных остатках жилищ и сопро-
вождающих их .произведениях художествен-
ного характера, отображающих особый строй
мировоззрения, который, видимо, получает
окончательное оформление в эту эпоху.
Нам придется говорить об этого рода фак-
тах в связи с раскопками в замечательной
стоянке Солютре в центральной Франции, по
свое название эта фаза, в Пржедмосте в Мора-
вии, в СССР — в Костенках и Гагарине на Дону и в других местона-
хождениях, которых мы коснемся ниже.
Кремневые наконечники солютрецеких стоянок с их исключительно
совершенной техникой отделки, появляющиеся неожиданно в эпоху, сле-
дующую за ориньяком,ы1 зЯтем на долгое время исчезающие из обихода
первобытных охотников нашего континента, явились предметом различ-
ных догадок. Несомненно, они должны были играть важную роль в суще-
ствовании солютрейского охотника.
Их появление приходится рассматривать как результат, с одной
стороны, совершенствования приемов охоты, с другой — они находят
объяснение в значительных успехах техники обработки кремня, кото-
рые составляют одну из характернейших черт солютрейского времени.
Высокое качество солютрейского мастерства в этом последнем отно-
шение проявляется одинаково как в тщательном выборе сырого мате-
риала, поскольку солютрейский человек стремился разыскивать и исполь-
зовать наилучшие сорта кремня или заменяющих его пород, так и
СОЛЮТРЕПСКОЕ ВРЕМЯ
36Г.
Рпс. 146. Наконечники <• боковой
выемкой, поэлнесолютрсйского тина,
прокопка и заостреннав пластинка
(Франция).
Кремень. Ок. 3/4 н. в.
(Ио Мортилье,
е археологи называют капсий-
Распростри
пение солю
тройских
памятнике)
к самой технике обработки этого материала. Представляется, однако,
трудно объяснимым тот факт, что солютрейский охотник владел в изгото-
влении своих кремневых клинков такими приемами, которые в истории
техники мы находим вновь только в так называемом позднем неолите,
на ступени оседлого хозяйства с рыболовческой или даже земледельческой
базой, где они появляются в связи с. общим усложнением материального
строя первобытного общества.
Пока нам приходится в этом отношении довольствоваться только
предположениями, хотя нельзя не обратить внимания на то обстоятель-
ство, что от ориньяко-солютрейскои эпохи мы имеем уже целый ряд ука-
заний на возникновение в это время, по крайней мере в северной полосе
тогдашнего населенного мира, извест-
ной оседлости и некоторого круга явле-
ний, с ней связанных, — в£ области
материальной культуры и явлений над-
строечного порядка. Но, конечно, эта
оседлость могла иметь характер лишь
относительной оседлости в той мере, в
какой она должна была складываться
на базе охотничьего хозяйства опреде-
ленного типа.
Находки солютрейского времени
имеют гораздо более ограниченное
распространение, чем стоянки более
ранней поры—так называемой орннь-
якскоп эпохи. Они известны только
и определенной полосе Европы, тогда
как в области Средиземья, как на
юге Европы, так и на побережье се-
верной Африки и Малой Азии, совер-
шенно отсутствуют. Там в это время
складывается особый тип общественно-
хозяйственной структуры, представлен-
ный тон совокупностью вещественных
памятников, которую западноевропейш
ской культурой.
Солютрейские ^поселения хорошо известны в средней Франции, но на
юге этой' страны они уже более редки, хотя все же известны, например,
в гроте (Зрассемпуи, где соответствующий горизонт с характерными
солютрейскими наконечниками залегал, по наблюдениям Пьетта, между
ориньякским слоем и слоем с орудиями мадленских типов и много-
численными остатками северного оленя. Имеются они, вопреки перво-
начальным предположениям, и "в северной Испании, где солютрейские
изделия находят в пещерах провинции Сантандер в Кастильо, Хор-
нос-де-ла-Пенья, Альтамира и других пунктах, а затем в Астурии и
Каталонии (в пещере Фей — El cau de les Goges, описанной Палларесом
и Вернертом).
Вне собственно территории Франции, отчасти, как мы видели, и Испа-
нии, солютрейские стоянки (правда, гораздо беднее представленные в от-
ношении типичных для этой эпохи изделий из кремня) известны в Бель-
гии, Южной Германии, в Чехословакии, где замечательное местонахо-
ждение этой поры открыто в Пржедмосте, затем в Польше (пещера Ежма-
новская) и в Венгрии. В последних двух областях находки, относящиеся
366
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРПНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Происхожде-
ние солютре
но Брейлю
к этому типу, имеют несколько особый характер. Близкими к солю-
трейским стоянкам западной Европы являются и некоторые верхнепалео-
литические лагери восточной Европы. Таковы, в частности, стоянки Ко-
стенки I и Гагарино на Дону, Бердыж на Соже, хотя в пределах СССР,
как и во всей средней и восточной Европе, до сих пор неизвестны по-
селения, где был бы найден вполне типичный кремневый инвентарь,
солютрейских местонахождений западных районов Европы — Франции
и Испании. 1 2
Мы видели, что кремневый клинок-наконечник солютрейского времени с
его характерной отделкой часто является в сущности единственной формой,
на основании которой можно было бы выделить эти слои как особую
фазу верхнего палеолита, тогда как по всем остальным признакам солю-
трейские стоянки представляют собой естественное завершение раннего
этапа развития
скребок и коицс-
Рис. 147. Двойной
вой скребок, заостренный к основа-
нию. Из солютрейских стоянок
Франции.
Кремень. Ок. 3/4 н. в.
(По Мортилье;
верхнепалеолитической техники.
Однако западноевропейская архео-
логия, в лице знатока кр емневого инвен-
таря верхнепалеолитического времени
А. Брейля, выдвигает иное освещение
этих вопросов. Если рассматривать до-
вольно крупные, широкие и не осо-
бенно правильные кремневые наконеч-
ники раннесолютрейских стоянок с их
двусторонней обработкой, в них на пер-
вый взгляд можно видеть как бы воз-
врат к технике среднего палеолита, ко-
торая дает, как мы знаем, прекрасные
образцы двусторонне обтесанных ору-
дий, иногда довольно близких по форме
к лавролистному наконечникусолютре.2
Нет ли внутренней связи между
этими явлениями? — ставит вопрос
Брейль. Может быть не случайно со-
лютрейская ретушь покрывает только
наконечники, которые действительно
имеют известное сходство с некоторыми
более ранними формами орудий, относящимися к эпохе среднего па-
леолита, и Только изредка встречается на других видах кремневых изделий?
Но если подобная преемственность технических приемов имела место
в действительности, должна была существовать такая область, очевидно
находящаяся в пределах Европы, где ЗГустьерская техника, в которой
особенно значительную роль продолжали играть двусторонне обтесанные
орудия, могла дать начало примитивной солютрейской технике, минуя
фазу ориньяка. Отсюда этй солютрейские навыки или, скорее, даже
расселяющиеся племена солютрейцев распространились на запад, вытес-
няя ориньякскую культуру. Следствием смены народностей явился, по
мнению Брейля, и временный упадок костяного производства во француз-
ских стоянках эпохи солютре, вновь расцветающего только в мадленское
время. Брейль считает, что таким очагом «солютрейской культуры»
1 Первое местонахождение с прекрасным набором очень ранних солютрейских
изделий йз кремня явилось предметом раскопок, производившихся автором в с. Кос-
тенках под Воронежем осенью 1937 г.
2 Например, находки в Ильской стоянке; ср. стр. 251, рис. 75.
СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
36”
верхнего
Пещера
Ежмановская
Рис. 148. Типич-
ный солютрей-
ский клинок ли-
стовидной Фор-
мы (Франция).
Кремень.
7е п. в.
(По Мортилье)
явилась Венгрия, где имеются находки лавролистных наконечников со-
лютрейского типа, как будто бы связанных по происхождению с поздне-
ашёльской техникой.1
Гипотеза Брейля, в настоящее время почти общепринятая на западе,
представляет некоторую схему, в существе дела мало убедительную.
Прежде всего мы не имеем определенно установленного факта происхо-
ждения в венгерских находках лавролистного наконечника из ору-
дия типа рубила. Вместе с тем точка зрения Брейля выражает ту же
тенденцию, которая выражена во всех подобных построениях, поскольку
он объясняет распространение солютрейской техники очередной мигра-
цией каких-то племен, будто бы вытеснивших прежнее население Европы.
Мы видели выше и увидим дальше, что солютрейская
палеолита во всех сторонах жизни первобытного населе-
ния Европы этого времени связывается теснейшим обра-
зом с предшествующей фазой и находит свое объяснение
в этой последней.
Нужно, однако, сказать, что в некоторых стоянках
восточной Европы, которые мы можем относить к солю-
трейскому типу, имеются любопытные особенности, указы-
вающие на относительно более раннее сложение здесь
того, что мы называем солютрейской техникой. Кроме
венгерских находок вроде пещеры Szeleta мы знаем и
польскую стоянку, как будто имеющую тот же характер.
Это пещерная стоянка Ежмановская, исследованная от-
части Ромером, а затем недавно польским археологом
Козловским.2
В нижнем слое этой стоянки под горизонтом мадлен-
ского времени было встречено, вместе с остатками обыч-
ной древней фауны, некоторое количество кремневых
пластинок и десятка три орудий. Все эти орудия пред-
ставляют вариации одного основного вида — лавролист-
ного наконечника; иных орудий здесь, видимо, не суще-
ствовало (рис. 153 и 154). Если здесь не имели место
какое-нибудь недоразумение или странная случайность,
такой инвентарь мы можем считать своеобразным ийвен-
тарем, близким к венгерскому типу. Но эта стоянка все
же пока остается единичной, да и сама по себе способна вызвать некото-
рые сомнения.
Говоря' о фактах, позволяющих внести известные хронологические Две фазы в
подразделения в памятники более ранней поры~верхнего палеолита, мы развитии
не должны забывать, что перечисленные нами ступени ориньяка и солю- культуры
, - ’ г •> г ранней поры
тре и их более дробные деления вполне пригодны для того, чтобы наметить верхнего па-
общую тенденцию развития культуры, первобытного населения Европы леолита
в данный период. Нетрудно видеть, что так называемый нижний, в зна-
чительной мере также и средний ориньяк являются первой фазой, в те-
чение которой это население преодолевает старые приемы техники и
первобытный уклад культуры, унаследованный им от среднего палеолита,
создавая на этой основе то, что отмечает верхний палеолит как новую
историческую стадию. Здесь появляются и закрепляются новые, более
1 Н. Breuil, Les subdivisions, стр. 193. Ср. также Е. Hillebrand, Ober neuere Funde
aus dem ungarldndischen Paldolilhikum, «Eiszeit», Bd. Ill, H. I, стр. 3; Dr. Hillebrand,.
Zur Frage des europdischen Solutreens, «Eiszeit-> Bd. IV, 1927, стр. 112.
2 L. Kozlowski, Starsza epoka kamienna w Polsce, 1922.
-J6M ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРГГНЬЯНО-СОЛГОТРЕПСКОЕ ВРЕМЯ
совершенные' приемы оораоотки кремня, входят в постоянный обиход
изделия из кости, сами поселения этого времени приобретают более устой-
чивый характер.
Вместе с тем то, что характеризует вторую половину того же периода —
усложнение видов изделий из кости, совершенствование кремневого
инвентаря, в котором все более видное место занимают предметы охот-
ничьего вооружения (наконечники копни и дротиков, охотничьи ножи-
кинжалы и т. д.), расцвет изобразительного искусства, — становится Hass
известным лишь с конца древнего ориньяка, достигая своего кульми-
национного развития в солютрейское время. Нельзя не учитывать в то
же время, что памятники так называемого солютре имеют все же доста-
точно ограниченное распространение в Европе, где поселения с инвентарем
позднеориньякского характера (типа Фон-Робер) в большинстве случзж'
сменяются непосредственно стоянками раннего мадлена (Англия, Бель-
гия, Германия, Швейцария, Австрия и т. д.).
В средней и восточной Европе за памятниками более ранней поры
ориньяка обычно следуют весьма интересные лёссовые стоянки, то ест:
поселения на открытом воздухе, с довольно однотипным инвентарем,
в котором проявляются то черты, свойственные позднему ориньяку, то
особенности солютрейскоп техники, — причем иногда это наблюдается
в памятниках, относящихся, видимо, более или менее к одному и тому
же времени (например, Костенки I и Гагарине).
Отсюда приходится заключить, что принятое обычно подразделение
для ранней поры верхнего палеолита имеет довольно условное значение,
преимущественно в смысле уточнения хронологии памятников, тогда как
с общеисторической точки зрения их было бы правильнее разделить на две
основные группы: первую — охватывающую раннюю и среднюю пору оринь-
яка, и вторую — включающую памятники позднего ориньяка п солютре.
ОХОТА НА МАМОНТА И ДИКУЮ ЛОШАДЬ
Характер культурных остатков, относящихся к позднепалеолитиче-
скому времени, говорит о том, что человек верхнего палеолита был прежде
всего охотником. К этому его вынуждали в приледниковой полосе Евра-
зии природные условия, которые в еще большей степени, чем в мустьерскую
эпоху, в связи с распространением ландшафта тундры и холодной степи,
суживали для него возможность существования за счет непосредствен-
ного собирательства, в частности растительной пищи.
В стоянках этого времени главное место среди отбросов занимают
раздробленные кости животных. Изучение их обнаруживает, что источ-
ником добывания средств существования для человека, начиная уже
с позднемустьерской энохи, становятся преимущественно немногие виды
животных. Можно думать, таким образом, что большая продуктивность
охоты, являющаяся весьма характерной чертой становищ позднепалео-
литического времени, в значительной степени объясняется ее специали-
зированным, промысловым Характером. Чаще всего в стоянках этого
времени встречаются остатки мамонта, лошади и северного оленя, а в более
южных районах — дикого быка-бизона (рис. 111).
Фауна Уже в ориньякское время северные, полярные виды животных полу-
раннего чают все большее распространение в Европе, проникая до берегов Чер-
орипьнка ного и Средиземного морей. Однако фауна ранней поры ориньяка имеет
характер- почти тождественный с мустьерскими местонахождениями тех
же районов. Это можно проследить в пещерных стоянках Франции,
ОХОТА НА МАМОНТА И ДИКУЮ ЛОШАДЬ
369
таких, как Шательперрон, Жермоль, Гаргас п другие, которые вместе
•с орудиями ранних ориньякских типов дают весьма однородный список
животных. В нем бросается в глаза обилие ископаемых видов, как мамонт,
сибирский носорог, затем пещерные хищники — пещерный медведь, пе-
щерная гиена, пещерный лев, многочисленные остатки которых в оринь-
якских стоянках показывают, что они еще борются с человеком за
обладание скальными убежищами.
Наряду с ними в тех же ранних местонахождениях типа стоянки
Шательперрон еще в довольно большом числе держатся представители
животного мира, населявшие заболоченные, таежные леса, в средне-
ледниковую эпоху покрывавшие значительную часть Европы. Из них
прежде всего можно назвать такие типичные лесные формы, как олень
с гигантскими рогами (Cervus megaceros), затем лось, отчасти, может
быть, и тур (Bos primigenius). Эти животные, обычные в мустьерских и
раннеориньякскпх стоянках, исчезают из списков охотничьей добычи
человека в его поселениях последующего времени, относящихся к позд-
нему ориньяку, солютре, мадлену, и вновь появляются в азильское время,
.когда лесная растительность снова начинает завоевывать свое место
в ландшафте Европы.
Этот факт близости природных условий в позднемустьерское и
раннеориньякское время представляет интерес и в том отношении, что
•он заставляет нас искать причины, обусловившие переход от среднего
к позднему палеолиту, не в природной обстановке, а в каких-то иных
обстоятельствах, заложенных, очевидно, в условиях развития самого
первобытного общества.
В местонахождениях поздней ориньякской поры заметно увеличи-
вается число степных и тундровых форм, тогда как представители старой
фауны постепенно отходят на задний план, а некоторые и совсем исче-
зают. Тот же процесс в более или менее одинаковых чертах отражается
в ориньякских стоянках всей Европы, за исключением ее южных полу-
островов. С другой стороны, отложения лёсса, в которых бывают погре-
бены эти остатки, говорят также о широком распространении, которое
постепенно получает пустынный, тундро-степной ландшафт.
Наконец, в солютрейское время, по крайней мере во вторую его поло-
вину, во многих стоянках западной Европы в связи, очевидно, с вы-
миранием мамонта, остатки которого все реже, встречаются к концу
палеолита, и отходом табунов диких лошадей, которые вследствие воз-
растающей суровости климата должны были находить здесь менее бла-
гоприятные условия для своего существования, -в качестве охотничьей
добычи человека начинает выдвигаться на передний план типичное жи-
вотное поздней ледниковой эпохи — северный олень.
До времени своего исчезновения мамонт был одним из важнейших
животных, на которых охотился человек верхнего палеолита. Несомненно,
это было животное, хорошо приспособившееся ЛГ условиям жизни среди
холодных пространств, окружавших прпледниковую пустыню. Находки
на севере Сибири трупов мамонтов, сохранившихся в слое вечной мерз-
лоты, показывают, что они были одеты густым меховым покровом в виде
мягкого тонкого подшерстка и косматых грубых волос рыжеватого цвета,
образовывавших длинную свисающую гриву на плечах и на груди зверя.
Таким он изображался и на рисунках палеолитического человека
(рис. 149, 150).
Эти рисунки изображают его косматым, с характерно выступающей голо-
вой игорбатой спиной, которая, по мнению некоторых зоологов, предста-
'-4 П. П. Ефименко. Первобытное общество —1734
Фауна
позднего
ориньяка
Фауна
солютре
Мамонт
370 ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Рис. 149. Изображение мамонта из грота Комбарелль (Франции).
(По Калитаву и Врейлю)
вляла жировое образование, нагуливавшееся животным в летнее время,
когда он имел обильную пищу из различных трав, уничтожавшихся им
в огромном количестве. Действительно, мамонт, остатки которого были при-
везены в 1910 г. экспедицией Академии наук с севера Якутской области,
имел толстый слой подкожного сала, защищавший его от жестокой поляр-
ной стужи. Желудок того же мамонта был набит пищей из трав, в состав
которой входили осока, едкий лютик и другие виды полярных трав
и мелких кустарников. Зимой в течение долгих месяцев он должен был
питаться побегами кустарников, ветвями березы, ивы, лиственницы и
других древесных пород чахлого северного леса. 1
Соответственно этой грубой пище он имел челюстной аппарат, состоя-
вший всего из 1—2 зубов на каждой стороне челюсти, весивших до полпуда
каждый. Такие зубы из тонких пластинок эмали, образовывавших на
жующей поверхности извилистые желобки с острыми краями, предста-
вляли в целом как бы мощные жернова, которыми мамонт мог измельчать
любой материал.
Это было огромное животное, свопмц размерами значительно превос-
ходившее современногй индийского слона, в котором приходится видеть
его ближайшего родственника. Череп его украшали гигантские бивни, пре-
вышавшие иногда 4 метра в длину и имевшие свыше 200 килограмм веса.
У самцов их большие бивни бывают изогнуты в виде части оборота спи-
рали и направлены таким образом, что они, видимо, были мало пригодны
в качестве орудия защиты или нападения и, как гигантские рога у оленя
мегацероса, являлись скорее довольно бесполезным украшением старых
слонов.
1 Интересно, что конец хобота мамонта был устроен иначе, чем у современного
индийского слона: он имел два ладонеподобных выступа (верхний и нижний) —при-
способление? для захвата низкой полярной растительности. Ср., напр., II. Сереброва
ский, История животного мира СССР, стр. 33.
ОХОТА НА МАМОНТА И ДИКУЮ ЛОШАДЬ
371
Рис. 150. Изображение мамонта па куске мамонтовой кости из Ла Мадлен
(Франция).
(По Лартэ)
Несмотря на свою силу и, казалось бы, грозное вооружение, это было
в общем тяжелое, малоповоротливое животное, видимо, не представляв-
шее особенно опасного противника для палеолитического человека. Во
всяком случае, человек охотился на него постоянно, добывая его в большом
числе, как об этом свидетельствуют многочисленные остатки мамонта,
встречающиеся в палеолитических стоянках, начиная уже с эпохи среднего
палеолита. Водился мамонт большими стадами, придерживаясь главным
образом равнинных пространств вблизи водоемов, так как он, как можно
предполагать, имел привычки, сходные с привычками современных сло-
нов. Этим, несомненно, пользовался человек при своих облавах ца ма-
монта. С другой стороны, мамонт, видимо, мог приспособляться к довольно
различным условиям существования, поскольку его остатки встречаются
на огромном пространстве от побережья Ледовитого океана до Китая,
Малой Азии и Апеннинского полуострова.
В вопросе о времени окончательного исчезновения мамонта в Европе Время исч,
значительный интерес представляет распространение его остатков на новепия
севере Евразии. Как мы знаем, они составляют обычную находку по мамонта
течению всех больших сибирских рек. Равным образом в восточной Европе
онп известны по течению Печоры и могут быть, проел ежены вплоть до
океана. Очевидно, в позднее ледниковое время здесь существовали усло-
вия вполне благоприятные для его размножения. Однако в более западной
области, ближе к Балтике, его находки исчезают или представляют боль-
шую редкость.
Границу распространения остатков этого животного можно провести
приблизительно вдоль границ свежего моренного ландшафта, которые
прослеживаются у нас по южной окраине Валдайской возвышенности и
далее на Оршу и верховья Березины. Лишь отдельные, достаточно редкие
находки костей мамонта, вероятно относящиеся к эпохе временного отсту-
пания северного ледника, известны внутри этих границ. 1 Это может дать
1 5. Nikitine, Sur la constitution des depots quaternaires en Russie et leurs relations
aux trouvailles resultant de I'activite de Vhomme prehistorique, vCongres Intern, d'anthrop.
et d’archiol. prehist.», 1892, Moscou, t. I. Интересно, что внутри указанных границ
имеются все же пункты, где! остатки мамонта отмечены в повторных находках.
372
В&АВА СЕДЬМАЯ. ОРЫНЬЯЕО-СОЛЮТРЕЙСВОЕ ВРЕМЯ
Использова-
ние добычи
Охота па
мамонта
Рис. 151. Изображение лошади крупной породы из
Ла Пасьега (Испания).
(По Брейлю и обермайеру)
довольно точную хронологическую дату для времени исчезновения мамон-
тов, по крайней мере в Европе. Очевидно, время вымирания мамонтов
приходится относить к той эпохе, когда северный ледник постепенно
оттягивался к Балтике, задержавшись на известное время в пределах
так называемого балтийского оледенения.
Мамонт должен был привлекать человека массой мяса и жира, ко-
торые давала его туша, и большим количеством мозга и костного жира:
несомненно, с этой целью приносились на места лагерей тяжелые много-
пудовые части конечностей и громадная голова мамонта. Они всегда
попадаются в расколотом состоянии. Большие камни, использовавшиеся
для этой цели, составляют нередкую находку при раскопках палеоли-
тических стоянок.
Кости мамонта, часто в виде целых нагромождений остатков десятков
и даже сотен особей этого огромного животного, сопровождают многие
стоянки восточной и сред-
ней Европы, относящиеся
главным образом к так на-
зываемым ориньякской и со-
лютренской эпохам. Можно
думать, что эти скопления
представляют не просто от-
брос охотничьей кухни, но
служили известным запасом,
предназначавшимся для раз-
ных целей. Находка в Ко-
стенках I (наши раскопки
1931—1936 гг.) особых выры-
тых в земле хранилищ, окру-
жавших основное жилище и
наполненных костями ма-
монта, является лучшим до-
казательством хозяйствен-
ного значения этого мате-
риала.
Особенно должны были цениться бивни мамонта, дававшие прекрасный
материал для развивающейся в верхнем палеолите обработки кости.
В стоянках названной поры мамонтовые бивни бывают нередко наме-
ренно отделены от других костей животного и сложены в кучу где-нибудь
около очага. Такие нагромождения бивней, являвшиеся складом мате-
риала для изделий, не раз описывались в лёссовых стоянках нижней
Австрии и Моравии, например в Виллендорфе, Ланг-Маннерсдорфе
и в знаменитом Пржедмосте. Они попадаются очень часто и в палеолити-
ческих стоянках европейской части СССР, всюду, где известны становища
этого времени, — в Воронежской области, на Украине и в Белоруссии.
Охота на мамонтов, имевшая очень большое значение в жизни чело-
века позднего палеолита, представляет сама по себе факт, не подлежа-
щий сомнению. Поэтому нам трудно стать на точку зрения Стеенструпа
и некоторых других исследователей, которые видят в скоплениях костей
этих животных, сопровождающих стоянки ориньяко-солютрейского вре-
мени, например в замечательном охотничьем лагере в Пржедмосте (Чехо-
словакия), лишь остатки животных, погибших в какую-то предшествую-
щую пору ледникового периода и сохранившихся в мерзлой почве подобно
остаткам мамонтов, встречающимся в настоящее время на севере Сибири.
ОХОТА НА МАМОНТА И ДИКУЮ ЛОШАДЬ
373
Гораздо менее ясным остается все же вопрос, который мы уже ста-
вили в отношении стоянок мустьерской эпохи, — с помощью каких приемов
человек верхнего палеолита мог систематически истреблять это сильное
животное, достаточно, казалось бы, вооруженное природой для защиты
против такого сравнительно слабого противника, как первобытный охот-
ник с его дубиной и метательным копьем.
Можно предполагать, что человек применял для этой охоты различные
приемы, которые и сейчас практикуются отсталыми народностями для
поимки крупных толстокожих. Особенную роль здесь должны были
играть ловушки в «виде ям, вырытых на тропинках, ведущих к водопою,
с забитыми на дне их острыми кольями, облавы с помощью огня, причем
преследуемые животные загонялись в топкие места или в ущелья, где
Рис. 132. Пасущийся северный олень.
Рисунок выгравирован на куске рога — из Кесслерлох (Швейцария).
(Uo Гейму)
онп добивались охотниками, и другие подобные способы. 1 Может быть,
человек уже применял для добывания этого огромного зверя метатель-
ные стрелы, отравленные сильно действующим растительным или жи-
вотным ядом, как это делают многие из современных наиболее низко-
стоящих охотничьих племен, ^гто не мешает им пользоваться мясом
отравленного животного. Во всяком случае, специализированный характер
охоты в условиях позднего палеолита был связан с глубоким знанием
привычек зверя.
Другим очень важным промысловым зверем в- ориньяко-солютрейскую
эпоху была дикая лошадь, водившаяся огромными табунами на степных
равнинах Европы и Азии. Некоторые стоянки этой эпохи бывают пере-
1 В западной литературе имеются указания, что огромные скопления костей
мамонта, известные в Виллендорфе. Впстонице (Dolni Vistonice—Unterwisternitz),
Лпнзенберге (также в Пржедмосте, Борщеве, Костенках, Бердыже и пр.), никогда не
содержащие целых скелетов, относятся к таким местам, где существовали наиболее
выгодные условия для охоты на стада мамонтов, сходивших к реке на водопой.
Охота на
дикую ло-
шадь
374
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРТТНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Виды
лошадей
Северный
олень
Другие виды
оленей
полнены костями лошадей, которые также всегда разбивались челове-
ком для получения костного мозга. По подсчетам некоторых авторов
в известной стоянке Солютре были найдены остатки десятков тысяч
лошадей, убитых человеком и принесенных на место становища.
Среди изображений животных в искусстве верхнего палеолита, вос-
производившем главным образом виды животных, имевших особенное
значение в существовании человека, изображение лошади является одним
из наиболее распространенных. Судя по рисункам и скульптурным изо-
бражениям, дикая лошадь в ледниковое время была представлена не-
сколькими видами. Это подтверждает изучение остатков лошади в стоянках
позднего палеолита. В более раннюю пору большим распространением
пользовались крупные породы лошадей, которые можно рассматривать
как предков современной европейской лошади (рпс. 151). К концу же верх-
него палеолита, в мадленскую эпоху, они вытесняются на значительном
пространстве Европы степной маленькой лошадью, и сейчас водящейся
в диком состоянии на плоскогорьях центральной Азии и получившей
название лошади Прже-
вальского. Этот вид ло-
шади по ряду признаков
отличается от европейской
лошади — низкорослостью,
большой головой, густой
косматой шерстью, сбрасы-
ваемой ею летом, которая
защищает ее зимой от силь-
ных морозов (рис. 113).
Кроме мяса, костного
мозга, шкуры и костей,
также находивших приме-
нение в хозяйственной дея-
тельности человека, ло-
шадь давала позднепалео-
Рис. 153. Кремневые орудия в Форме лавролпстных
наконечников нз пещеры Ежмаиовской.
72 н. в.
(Ио Л. Козловскому)
литическому охотнику хо-
роший материал в виде конского волоса, который использовался для
плетения веревок, силков, ловушек и т. п.
Охота на северного оленя в условиях ориньяко-солютрейского вре-
мени имела далеко не такое большое значение, как охота на мамонта
и лошадь, хотя, несомненно, ее роль постепенно возрастает к концу ран-
ней поры верхнего палеолита. Как мы уже отметили выше, во вторую
половину так называемой эпохи солютре во многих стоянках западной
Европы остатки северного оленя (рпс. 152) начинают занимать гла-
венствующее место.
Однако на востоке Европы охота на северного оленя до конца верх-
него палеолита не получает того исключительного значения, какое она
имела в мадленскую эпоху во Франции и в некоторых других погра-
ничных с Францией областях западной Европы. Видимо, с этим обстоя-
тельством, имеющим существенное значение для понимания условий,
складывающихся для первобытного населения Евразии, приходится свя-
зывать и несколько иное направление развития материальной культуры
в некоторых областях западной Европы (Франция, Швейцария), с одной
стороны, и затем на востоке Европы и в Сибири, с другой.
Наряду с северным оленем в орпньякское время добычей человека часто
становятся и другие виды оленей, в особенности благородный олень (рис. 114)
ПОСЕЛЕНИЯ ОХОТНИКОВ ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОГО ВРЕМЕНИ
375
Рис. 154. Кремневые наконечники грубой вы-
делкп из пещеры Ежмановскон.
J/2 н. в.
(Ио Л. Козловскому)
и его крупные родственники — марал и вапити, хотя последние в стоянках
позднего палеолита встречаются значительно реже, чем в лагерях му-
стьерского времени. Затем идут дикие виды быков — первобытный бык,
или тур, и, в особенности, европейский бизон — зубр. Последнее животное
(рис. Ш), водившееся преимущественно на степных равнинах и пастби-
щах в более южных областях Европы, местами играло особенно большую
роль в охоте человека ранней поры верхнего палеолита. В пещерных
стоянках Пиренейского района юго-западной Франции Эдуард Пьетт счи-
тал возможным выделить нижние слои по обилию находимых в них кос-
тей этого животного в виде особой бовидскоп — «бычьей» стадии.
Список животных, кости которых встречаются в кухонных отбросах Разнообрази
верхнепалеолитических поселений ранней поры в меньших количествах, фауны
весьма обширен и не одинаков для разных областей. Это и естественно:
в одних местностях, где человек еще жил в окружении леса, среди остатков
его добычи мы видим лесных животных, и таких, как носорог, большерогий
олень, лось, кабан, рысь, волк
и др. В пещерных стоянках,
расположенных в скалистой,
сильно рассеченной местности,
и в позднеледниковое время
довольно обычны еще обита-
тели пещер и ущелий — пещер-
ный или бурый медведь, лев и
гиена. В иных стоянках встре-
чаются остатки степных живот-
ных, таких, как сайга (рис. 109),
джигетаи и степные грызуны.
Наконец, во многих стоянках,
особенно с эпохи солютре, часто
попадаются, кроме северного
оленя, характерные представи-
тели тундры — мускусный овце-
бык(рис. 112), россомаха, песец,
лемминги и др. Разнообразие
фауны в отбросах стоянок можно рассматривать как одно из свидетельств
того, что орды верхнего палеолита жили за счет добывания диких жи-
вотных и приручение животных им оставалось еще неизвестным.
ПОСЕЛЕНИЯ ОХОТНИКОВ ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОГО
ВРЕМЕНИ
Мы уже указывали, что достаточно распространенное представление
о наших предках в интересующую нас эпоху как о первобытных обита-
телях пещер в значительной степени основано на поверхностном отноше-
нии к фактам. Эти взгляды рисуют человека ориньякского и солютрей-
ского времени, прежде всего, как бродячего охотника, если и придержи-
вающегося определенных областей обитания, то лишь в смысле границ
его перекочевок. Его оседлость случайна; его поселения — это только
временные лагери с ветровыми заслонами или, в лучшем случае, убе-
жища в пещерах и под навесами скал. Так представляют себе верхне-
палеолитических охотников на мамонта Овермайер, Зёргель, Менгии
и другие авторы. При настоящем уровне знания такпе представления
не дают удовлетворительного, объяснения для целого ряда вопросов.
376 ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРПНЬЯКО- СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
В самом деле, если бы мы стали на подобную точку зрения, было бы
трудно понять, чем, например, объясняется сочетание образа жизни
охотников верхнего палеолита, рисуемых в виде троглодитов, скрываю-
щихся в недрах пещер, где они должны были, очевидно, влачить жалкое,
полузвериное существование, с тем, что мы знаем в отношении замеча-
тельных произведений их изобразительного творчества. Это странное
обстоятельство не станет для нас более понятным, если мы вслед за западно-
европейскими археологами будем предполагать особенную «художествен-
ную одаренность» верхнепалеолитических охотников на мамонта и север-
ного оленя, «присущую» им как предкам европейских рас.
Если мы попытаемся ближе присмотреться к тому, что представляют
собой места поселений в ориньякское и солютрейское время, мы должны
будем притти к выводам, которые значительно отличаются от обычных
взглядов на этот предмет. Нужно заметить, что последние в большой
степени питаются тем, что нам известно в отношении условий существо-
вания наиболее отсталых народностей земного шара, в первую очередь
обитателей Австралии, отчасти южной «Африки и южной Америки.
Однако исследователи, переносящие представление о материальной
культуре современных бродячих охотников южною полушария — австра-
лийцев, бушменов или ботокудов — в эпоху палеолитических обитате-
лей Евразии, не принимая во внимание различия в конкретных условиях
исторического развития тех и других, допускают несомненно большую
ошибку. Они не учитывают того, что на данной стадии первобытного
общества природная среда должна была оказывать и несомненно ока-
зывала огромное влияние на характер хозяйственной деятельности чело-
века и на связанную с ней теснейшим образом всю обстановку человече-
ского существования.
Одной из наиболее характерных особенностей бродячего охотничьего
быта названных выше народностей является крайняя необеспеченность
в отношении средств существования, в связи с чем их жизнь проходит
в постоянных поисках пищи. Поселения их, как известно, имеют характер
лагерей, которые разбиваются там, где удалось добыть зверя или где
имеется известный запас плодов, кореньев ит. д. Через день-два они обычно
оставляются для нового привала. Только в случае особенно удач-
ной охоты или во время сезонов созреваниц определенных видов плодов
или вывода личинок, змей, черепах и т. п. лагери устраиваются на более
продолжительный срок, но всегда сохраняют временный характер. С дру-
гой стороны, климат и не требует от обитателей теплых широт более проч-
ной оседлости для защиты от внешних условий.
В северном полушарии для интересующего нас времени мы находим
несколько иную обстановку.
Уже стоянки поздней мустьерской эпохи не только в западной и во-
сточной Европе, но также, например, по сирийскому побережью Среди-
земного моря нередко имеют характер лагерей, которые, очевидно, в те-
чение долгого времени были обитаемы первобытными ордами мустьер-
цев. Масса отбросов охоты и всякого рода иных остатков, а также
и сама толщина «культурного слоя» делают вероятным, что они в ряде
случаев должны были служить -местом жилья не для одного поколения
охотничьих групп, которые покидали их, а затем вновь возвращались
на насиженные и удобные места.s
Вместе с ориньякским временем мы вступаем в такую стадию в исто-
рии первобытных обитателей Евразии, когда эти становища нередко
приобретают характер долговременных поселений, которые служат чело-
ПОСЕЛЕНИЯ ОХОТНИКОВ ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОГО ВРЕМЕНИ 377-
веку не только убежищем и защитой от неблагоприятных природных
условий, но и являются средоточием достаточно сложной и разнообраз-
ной хозяйственной деятельности.
Прекрасную картину такого становища мы имеем в местонахождении Пра;едмост
Пржедмост в северной Моравии, в долине р. Бечвы, недалеко от ее впа-
дения в Мораву, в области так называемых «Моравских ворот», где схо-
дится отроги Судетских гор и Бескид. Эта низина служит естественным
сообщением между польской и моравской равнинами. Здесь в лёссовых
отложениях, прикрывающих подножие известнякового массива Гра-
диско, который давал человеку хорошую естественную защиту от ветра,
был обнаружен обширный лагерь охотников на мамонта. Он был изве-
стен по находкам костей итого животного еще в средние века, а в конце
XIX века стал предметом изучения со стороны ряда моравских ученых —
Ванкеля, Машки, Кржижа и др. 1
Рпс. Ijj. Привески п некоторые изделия из кости. Мамонтова пещера, нижний
горизонт. Пз раскопок Завпши.
Просверленные зубы хищников (1 — 4), просверленные клыки оленя (5, 6).
Подвеска из слоновой кости (7). Острия из костей мелких животных (8, 9).
Орудие неясного назначения из слоновой кости (10). Наконечники из кости
(вид сверху—11, вид сбоку — 12).
По KO.I.IOIICKOM} 1
По сообщаемым ими сведениям, это исключительно интересное место-
нахождение, занимающее площадь около гектара, представляет толстый
пласт всякого рода отбросов обитания, достигающий 1 м толщины и
состоящий из золы, угля, дробленых костей с массой кремневых изделий
и предметов пз кости. При раскопках, далеко не охвативших еще всей
площади стоянки, помимо множества костей других животных, были
встречены остатки не лгенее чам 1000 мамонтов. Все исследователи отме-
чают, что последние не были рассеяны в беспорядке, но, наоборот, собраны
в определенных местах и с определенным отбором — бивни, коренные
зубы и челюсти, лопатки, тазы, длинные кости конечностей. Последние
были по большей части расколоты для добывания мозга.
Остатки других животных не представляли таких больших скоплений,
поскольку эти животные, видимо, не играли в жизни пржедмостских
у Wankel, Die Lbsstalion, von Prerau, «Korrespondenzblatt der d. Ges. jUr Anthrop.
Ethnol. und Urgeschichle», XVII, 1886, стр. 149; К. Jv Maska, Der diluviale Mensch in
Mahren, Neuitschein, 1886; Maska, Ausgrabungen in Predmosl, «Mitteil. der geolog.
Ges. in Wien», XX, 1864, стр. 129; Kriz, Die Losslager in Predmosl bei Prerau, «Mitt,
der anthrop. Ges. in IFien», XXIV, 1894, стр. 40—50.
378 -ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
охотников той роли, как мамонт. Однако фауна Пржедмоста отличается зна-
чительным разнообразием и имеет заметно выраженный характер полярной
фауны. По крайней мере, типичные обитатели северной тундры составляют
в ней довольно значительный процент видов животных. Чаще других
животных встречаются лошадь и северный олень, затем сибирский носо-
рог, бизон, мускусный овцебык, антилопа-сайра, благородный олень, пещер-
ный и бурый медведи, пещерный лев, дикая собака (Суоп europeus), пещер-
ная гиена, лемминги. Если отбросить пещерных хищников, очевидно,
водившихся в ближайших предгорьях, фауна Пржедмоста очень близка
к исследованной нами Мезинской стоянке на р. Десне (ниже Новгород-
Северска), которая по времени представляется не слишком удаленной
от Пржедмоста.
По некоторым сведениям, в частности по данным, сообщаемым
Лвсолоном, 1 в интересующем нас местонахождении имеется не один,
а, видимо, три последовательных напластования культурных остатков,
из которых главным является нижний горизонт, достигающий мощности,
по Абсолону, в 0,50—0,80 лг. Таким образом, можно думать, что место,
удобное в смысле охоты, населялось человеком не раз, с какими-то пере-
рывами во времени, хотя более точных сведений об этом мы не имеем.
Во всяком случае, главная масса находок в Пржедмосте относится
к определенному времени, которое обнимает, может быть, конец так назы-
ваемой ориньякской эпохи и затем солютре. О последнем говорит присут-
ствие характерных изделий из кремня (также роговика, яшмы, даже
обсидиана и других пород) — кремневых лавролистных наконечников,
отделанных грубоватой, ио достаточно типичной солютрейской ретушью.2
Многочисленные другие орудия из камня насчитываются в Пржедмосте
многими тысячами: это проколки, пластиночки с затупленной спинкой,
резцы разных видов, скребки характерной формы, суживающиеся к осно-
ванию, с широким верхним рабочим концом. В.виде пережитка ориньяк-
ских типов изделий из кремня здесь встречаются небольшие острия
-с черенком и боковой выемкой.3
Особенно богато и интересно представлены в Пржедмосте изделия
из кости, материалом для которых, кроме различных костей животных,
служили бивни мамонта и рога северного оленя. Мы их можем только пере-
числить. Сюда относятся иглы и шилья из расколотых трубчатых костей,
лощила, вырезанные из ребер животных, кинжалы из длинных, заострен-
ных костей крупного хищника — льва или медведя, тесла или топоры
из кости 4 и многое другое, не говоря о целом ряде украшений или аму-
летов и предметов искусства, к которым нам еще придется вернуться.
Для оценки значения описываемой стоянки в жизни современного
ей человека приходится учесть, что его привлекала сюда, к известняковым
утесам Градиско, несомненно главным образом охота на мамонта, кото-
рый должен был в большом числе водиться где-то поблизости от этого
поселения. Очевидно, что человек не мог издалека приносить сюда части
туши громадного зверя, вроде головы, конечностей с тазом или лопаткой,
огромных бивней и т. д. Можно думать, что удобства охоты, обилие
1 Материалы Абсолона опубликованы в книге Клаача— Н. Klaatsch, Der Wer-
degang der Menschheit und die Entstehung der Kultur, Berlin, 1920, стр. 357 и сл.
2 H. Breuil, Notes de voyage paleolithique en Europe centrale, II, Les industries pa-
leolithiques du loess de Moravie el Boheme^ «.L'Anthropologies, 1921, t. XXXIV, AS 6,
стр. 515.
3 Нужно заметить, однако, что, по Абсолону, орудий этого типа с характерной
•солютрейской ретушью в Пржедмосте найдено очень немного.
1 Ср. II. Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, стр. 298, рис. 190 (no Кржижу).
ПОСЕЛЕНИЯ ОХОТНИКОВ ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОГО ВРЕМЕНИ
379
зверя позволяли охотничьей орде долго жить на одном месте, в результате
чего здесь только и могло накопиться так много отбросов обитания.
Эта замечательная стоянка, одна из наиболее интересных стоянок этого
времени в Европе, к сожалению не была исследована более внимательно.
Правда, Машка указывает здесь находку исключительно любопытной
землянки, о которой мы скажем несколько ниже, но неоднократно отме-
ченные при раскопках следы каких-то углублении, вырытых в виде
ям диаметром до 1,5—2 .и, остатки очагов л пр. так и остались подробно
не описанными.
Совершенно ту же картину, отличающуюся только несколько меньшими
размерами скоплений остатков мамонтов, мы имеем и в других стоянках памятники
этого времени, открытых в Чехословакии, где известен, например, боль- того же типа
шой охотничий лагерь в Вистонице, недавно исследованный Авсолоном.
Ряд подобных поселений открыт и в Нижней Австрии, в долине Дуная.
Эти поселения, видимо, приурочены к местностям, изобиловавшим ста-
дами мамонтов, представлявших особенную ценность в качестве охот-
ничьей добычи для ориньякских и солютрейских охотничьих орд. Из
стоянок, открытых в Австрии, значительный интерес представляют извест-
ная стоянка Впллендорф, затем Ланг-Маннерсдорф, расположенные
в местности, особенно богатой остатками верхнепалеолптпческого вре-
мени, — в районе Кремса.
Но п в лёссовых стоянках юга европейской части СССР скопления
костей мамонта в виде огромных куч, сопровождающих палеолитические
кострища, составляют вполне обычное явление. Из них на одно из первых
мест можно поставить известную стоянку на Кирилловской улице в
Киеве, к сожалению, недостаточно исследованную, где было найдено
не менее 67 экземпляров мамонтов. То же мы встречаем в палеолити-
ческих стоянках у селений Костенки и Боршево (вблизи Воронежа) на
Дону, в Бердыже на р. Соже (под Гомелем) и т. д.
Значительная часть этих стоянок в обширной области, расположенной
между Дунаем и Доном, относится к определенному времени, соответствую-
щему позднеориньякской и раннесолютрейской эпохам, причем нужно
заметить, как было уже сказано, что между той и другой фазой в этой
части Европы нельзя уловить определенной границы. Другими словами,
эти стоянки, несмотря на появление в более позднее время в некоторых
из них довольно типичных солютрейских черт, в сущности, по всей сово-
купности признаков — характеру поселений, изделиям из кремня и кости,
предметам так называемого палеолитического искусства, представляют
собой одну стадию, одну историческую эпоху. Это легко можно видеть
при сравнении позднеориньякскпх слоев Виллендорфа с Пржедмостом
или, в восточной Европе, например стоянок Боршево I и Костенки I,
расположенных в ближайшем соседстве на берегу Дона, которые могут
считаться типичными местонахождениями позднего ориньяка и раннего
солютре на территории европейской части СССР.
То, что было сказано относительно поселений ранней поры верх-
него палеолита в восточной части Европы, между Дунаем и Доном, где
находится большинство известных нам «лёссовых» стоянок, то есть откры-
тых охотничьих лагерей, относящихся к позднеорнньякскому и ранне-
солютрейскому времени, рисует, таким образом, условия жизни первобыт-
ных охотников Европы в эту эпоху мало похожими на обстановку существо-
вания современных наиболее отсталых групп .человечества. Здесь богатый
мир животных обеспечивал охотничьим ордам такие источники существо-
вания, которые трудно представить в близкое нам время где-нибудь
380 ' ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРПНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
в той же Австралии или южной Африке, где многие поколения охотников,
в течение тысячелетий должны были значительно разредить их животное
население.
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
Мы подходим к вопросу, имеющему очень серьезное значение для пони-
мания общественно-хозяйственных условий, складывавшихся на терри-
тории Евразии в начальную эпоху верхнего палеолита. Естественно, нас
не может не интересовать, что же представляли собой те палеолитические
поселения, о которых мы только что говорили, какой характер должны
были иметь составлявшие их жилища: следует ли рассматривать их как
легкие летние сооружения вроде шалашей из ветвей, травы, древесной
коры или шкур животных, или, наоборот, на местах долго существо-
вавших становищ охотничьи орды ориньяко-солютрейской поры строили
более прочные и солидные обиталища?
Нужно сказать, что на этот^ вопрос мы не имели ответа до самого по-
следнего времени. Чтобы понять это странное обстоятельство, приходится
учесть узость интересов исследователей, занимавшихся раскопками палео-
литических стоянок,, для которых задача их изучения обычно сводится
к установлению стратиграфического разреза, характера залеганий куль-
турных слоев в геологических наносах и к составлению коллекций более
или менее эффектных находок. Остальное, в частности уяснение всего
комплекса фактов, освещающих общественно-хозяйственные условия
жизни первобытного общества, обычно отходит на последнее место, а
часто и вовсе не интересует археолога при исследовании палеолитических
поселений. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть неко-
торое количество работ, посвященных описанию палеолитических место-
нахождений, публикуемых в специальных изданиях. Заслугой советских
ученых, занимающихся изучением ранних этапов развития первобытного
общества, является то, что они впервые выдвинули эти вопросы и собрали
материал, который позволяет подойти к их разрешению. Нужно отметить,
что инициатива постановки этой чрезвычайно интересной проблемы
в значительной степени принадлежит акад. Н. Я. Марру.
Уже некоторые старые работы дают весьма ценный материал, который
до сих пор никем не был учтен в смысле интересующего нас вопроса —
что представляло собой жилище первобытных обитателей приледниковых
пространств в эпоху верхнего палеолита. Мы можем начать свой обзор
прежде всего с одной достаточно старой находки, сделанной в Пржедмосте.
Жилище и 5 августа 1894 г. Машка, производивший систематическое исследова-
Пржедмоете шге Пржедмостского местонахождения, обнаружил под ненарушенными
культурными напластованиями яму овальной формы, 1 имевшую 4 л
в длину и 2,5 м в ширину, в глубину яге достигавшую 2,6 м. Она имела,
таким образом, вид вырытого в лёссовом грунте довольно большого поме-
щения, дно которого было вымощено сплошным слоем камней, а стены
по обеим сторонам обставлены лопатками мамонта. Кроме того, у одной
стены землянки помещались нижние челюсти мамонта, которые могли
служить довольно удобными сидениями. Современные полярные народ-
ности в местностях, бедных лесом, например вокруг Берингова пролива,
таким же образом укрепляют внутренние помещения своих подземных
жилищ, употребляя для этой цели главным образом кости кита.
1 Klaatsch, ук. соч., стр. 3G4.
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
3S1
Это помещение было заполнено скелетами, большею частью лежащими
в скорченном положении. На основании этого сам Машка, а затем и все
последующие авторы толкуют его как «братскую могилу». Всего здесь
было найдено не менее 20 индивидуумов, из них 8 скелетов принадле-
жали взрослым, а остальные — детям. При одном из последних было подоб-
рано ожерелье из пронпзок, вырезанных пз слоновой кости.
Представляется не только правдоподобным, но в свете других нахо-
док вполне достоверным, что в этой исключительно интересной находке
до нас дошло настоящее зимнее жилище охотников Пржедмоста, послу-
жившее затем местом коллективного захоронения. Погребение в жилище
является, как известно, широко распространенным обычаем у многих
примитивных народов современности. Довольно обычно оно и в далеком
прошлом Европы, начиная, как мы видели, уже с мустьерской эпохи.
Можно было бы предполоншть, что в Пржедмосте мы имеем дело с слу-
чайно погибшим
(например, в ре-
зультате эпидеми-
ческого заболева-
ния) населением
такого жилища.
Если основываться
на некоторых дру-
гих находках (Ко-
стенки I, Ланг -
Маннерсдорф), мо-
жно думать, что ис-
пользованная для
погребения камера,
видимо, составля-
ла здесь только
часть более обшир-
ного жилого со-
оружения, детали
которого ускольз-
нули от внимания
Рис. 15G. План жилища в Фурно-дю-Дьябль.
(по ПеПроин
исследователя.
Другой весьма интересный факт подобного же рода описывает Байер
в Ланг-Маннерсдорфе 1 в нижней Австрии, где произведенные им в не-
давнее время тщательные раскопки обширного лагеря позднеориньяк-
ского времени позволили установить присутствие довольно сложных
жилых сооружений. Насколько можно судить по опубликованным Байе-
ром результатам раскопок, ^зта стоянка, как и большинство других
известных нам «лёссовых» поселений орипьяко:солютрейского времени,
состояла пз ряда отдельных мест обитания, того, что французские архео-
логи называют «пепелищами» (foyers), и сопровождающих их значитель-
ных скоплений остатков мамонта.
В виду особого интереса, который представляют раскопки в Ланг-
Маннерсдорфе, мы познакомимся с ними несколько подробнее, поскольку
это возможно по опубликованному предварительному отчету. Сам
Байер относит Ланг-Маннерсдорф к ориньякскому времени.
Ланг-Ман-
нерсдорф
1 J Bayer, Der Mammutjdgerhalt der Aurignaczeit bei Lang-Mannersdorf a. d. Per-
schling (Niederdsterreich), «Mannus», Bd. 13, 1921, стр. 76.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРННЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСВОЕ ВРЕМЯ
Исследованное Байером второе «скопление культурных остатков»,
или, пользуясь его словоупотреблением, Lagerplatz В (место обитания
первобытного человека), представляет культурный слой обычного вида
и состава, в целом очерчивавший большую правильную площадку оваль-
ной формы, диаметром в 20,0 и 14,0 м. На ней были расположены, как
описывает Байер, в виде отдельных участков: место приготовления пищи,
то есть собственно кострище с толстым слоем раздробленных и переж-
Рис. 157. План палеолитического жилища
в Гагарине.
Черными точками обозначены места
находок статуэток.
женных костей, место «трапезы», отмеченное плоскими плитками извест-
няка, далее место обработки кремня, скопление костей животных и т. д.
Этот комплекс, если не целиком, то
в какой-то значительной своей части,
должен был быть перекрыт кровлей,
как это определенно доказывают
обнаруженные в центральной его ча-
стп три ямы для опорных столбов.
Интересно, что в состав того же
жилья входила жилая яма круглых
очертаний, около 2,5 м в попереч-
нике, глубиной в рост человека
(1,7.и). На дне ее у стены была выру-
блена в лёссовом грунте скамья для
сидения. Дно ямы было покрыто тол-
стым слоем раздробленной кости и
кремня, что позволило точно уста-
новить ее размеры и форму.
Сведения о жилищах в поселе-
ниях ориньяко-солютрейского вре-
мени для восточной области Европы
не ограничиваются указанными па-
мятниками. Можно утверждать, что
они составляют широко распростра-
ненное явление, которое, к сожа-
лению, не достаточно учитывалось
при исследовании этих стоянок. Как
на общее явление для лёссовых
стоянок восточной Европы можно
указать на резко замкнутые границы
(по с. н. заминияу; так называемого культурного слоя,
который располагается в лёссовых ла-
герях, сопровождающихсянагроможденпями костей мамонта в виде обшир-
ных площадок или линз правильной формы. Об этом вполне определенно
говорит, наАример, О^ермапер. 1
По его словам, культурные напластования известных ему лёссовых
стоянок располагаются, как правило, большими пятнами, на которых
можно различить более бедные находками места очагов, мастерские и т. д.
и в которых резко очерчиваются границы обитаемой зоны от окружающей,
не содержащей находок площади. Это, по его мнению, является следствием
того обстоятельства, что каждый охотник сосредоточивал отбросы охоты
и производства внутри определенного, вероятно специально выделен-
ного пространства.
1 Н. Obermaier, Siedlung (Paldolithikilm), «Reallexikon der Vorgeschichte», herausge-
geben von M. Eberl, Bd. XII, Berlin, 1928, стр. 97.
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
383.
Наши наблюдения над стоянками Костенок, Боршева и другими не
только вполне отвечают тому, что говорит Овермайер в отношении стоя-
нок Австрии, но позволяют утверждать, что эти локализованные куль-
турные отложения на самом деле представляют не что иное, как основание
жилых помещений — огражденных стенами надземных сооружений илп
неглубоких землянок того же рода, что и ранее описанные. Они сопро-
вождаются разнообразными углублениями, вырытыми в лёссовой почве,
служившими для хранения запасов или являвшимися очажными ямами,
в которых могли жариться целые части туш животных.
Такие ямы на месте жилищ отмечены во многих стоянках: в Костенках I
на Дону, в Гагарине, в Супоневе (под Брянском) на р. Десне, в Мальте
под Иркутском, на Афоптовоп горе под Красноярском, в Елисеевичах,
в Пржедмосте и т. д.
В Костенках I во время наших раскопок 1931—1936 гг. нами было
исследовано обширное жилище с очень интересными деталями внутрен-
него устройства, окруженное землянками, служившими частью в каче-
стве отепленных жилых помещений, частью в виде хранилищ для продо-
Костсикв*
вольственных запасов,
запасов топлива и пр.
Очаги гл явного жилища,
в числе десяти, были
заполнены совершенно
пережженными костями
животных, применявши-
мися в качестве топ-
лива, главным образом,
вероятно, в зимнее вре-
мя. На полу жилища
было встречено довольно
много небольших ям
Рис. 138. Разрез культурного слоя в Гагарине.
(По С. и. Замятину)
правильной округлой формы, отчасти может быть от столбов, поддер-
живавших кровлю.
Интересную картину жилища, правда иного типа, имевшего значительно
меньшие размеры, дает стоянка в с. Гагарине в Воронежской области,
недалеко от Липецка, расположенная на береговой террасе Дона и ис-
следованная в 1927 п 1929 гг. (рис. 157 и 158).
Время Гагаринской стоянки определяется довольно точно всем ком-
плексом находок, в особенности же характерными кремневыми наконеч-
никами с боковой выемкой, которые обычны в Костенковской I стоянке и
верхнем слое Виллендорфа, где, как и в Гагарине, были сделаны
находки женских фигурок.1
Из этих находок мы можем оделять вывод, что в стоянках ориньяко-
солютрейского времени, более или менее длительно заселенных охотни-
ками за мамонтом и лошадью, встречаются прочные жилища в виде
больших сооружений, сопровождающихся землянками (по своему типу
близко напоминающими подземные камеры современных полярных народ-
ностей), в которых человек переносил суровые зимы вюрмского времени.
Гагарпно
Характер»
жпллщ
В исследованной нами осенью 1937 г. Тельманской стоянке (в сел. Костенки),—
.представляющей наиболее ранний из числа известных нам памятников ориньяко-
солютрейского времени для восточной Европы,-—нами было встречено палеолитиче-
ское жилище, напоминающее гагаринское. Оно имело вид круглого помещения диа-
метром около 5 м, пол которого был значительно углублен ниже уровня окружаю-
щей площади поселения.
.384
Тимоповкп
Лолютре
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРННЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Они вырывались в земле иногда на большую глубину, как в Пржедмосте,
там, вероятно, где почва не была слишком промерзшей, чаще же, видимо, не-
глубоко и имели форму овальных помещений, стенки которых были выло-
жены костями мамонта, каменными плитами или же деревянными плахами.
Видимо, первый способ устройства подземного жилища мы имеем
в Тимоновке под Брянском, судя по материалам, опубликованным
В. А. Городцовым. В Тимоновской палеолитической стоянке им было
констатировано наличие подземных жилых сооружений, имевших вид
обширных и глубоких ям правильной прямоугольной, удлиненной формы,
до 11,5 м в длину, 3—3,5 м в ширину и глубиной в 2,5—3 .м, с вертикаль-
ными стенками со следами облицовки деревом (?). По его мнению, они были
перекрыты накатником. Никаких других остатков, кроме типичного
верхнепалеолитпческого инвентаря, представленного изделиями пз
кремня и кости, и многочисленных костей четвертичных животных, он
не отмечает; таким образом, время этих сооружений как будто не воз-
буждает сомнения.
Ограничиваются ли установленные нами факты только восточной
Европой? Оказывается, что никоим образом.
Типичное охотничье становище на открытом воздухе, время которого
не выходит из тех же более ранних хронологических рамок верхнего
палеолита, для западной Европы представляет известная стоянка Со-
лютре, которая к тому же во многих отношениях обнаруживает порази-
тельное сходство с Пржедмостом в Моравии. Интересно, что и здесь
имеются по крайней мере два горизонта культурных напластований,
охватывающих, судя по характеру находок, не слишком значительный
период времени, отчасти ориньякской, отчасти солютрейской эпохи,
то есть приблизительно то же время, что и в Пржедмосте.
В целом культурные отложения стоянки дают картину обширного
лагеря, располагавшегося на удобной площадке под защитой скалы
Солютре. Они состоят из многих отдельных «пепелищ» (мест обитания
с разнообразными остатками жилья) и пз громадных скоплении костей
дикой лошади, общее число остатков которой насчитывается до 100 ты-
сяч особей. Все длинные кости их бывают расколоты для добы
вания мозга и раздроблены, многие обожжены. В общем они должны
были накапливаться на месте лагеря в течение очень долгого времени,
свидетельствуя о массовом, облавном характере охоты. Г. де Мортилье,
который сам производил здесь раскопки в 1872 г. по поручению Сен-
Жерменского музея, говорит также о частых находках костей мамонта,
не считая других животных, здесь представленных достаточно разно-
образно.
Этот основной слоц находок Солютре, связанный с скоплениями костей
лошади, образующими целый пласт слежавшихся костных остатков харак-
тера конгломерата, или костной «магмы», как его называют французские
исследователи, относится к ориньякской эпохе, тогда как отдельные
скопления культурных остатков с прекрасными кремневыми наконеч-
никами и другими изделиями солютрейских типов, по которым получила
свое название эта эпоха, занимают более ограниченную часть обшир-
ного лагеря и приурочены, видимо, к самому верхнему его горизонту.
Адриан Арселен и Дюкро, бывшие лучшими знатоками сложных напла-
стований Солютре и первыми внимательными исследователями этого
замечательного памятника, указывают, что некоторые из исследованных
ими «пепелищ», которые можно было считать относящимися к более
позднему периоду заселения стоянки, содержат уже довольно много остат-
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
386
ков северного оленя, в то время как в нижних слоях решительно господ-
ствует лошадь.
В октябре 1869 г. Дюкро, 1 начавший систематическое изучение этой Землянки
замечательной стоянки, обнаружил в центре ее, на склоне холма, именуе- с окружением
мого в описаниях этой стоянки Crot-du-Charnier, правильную ограду 1,3 плит
в форме эллипсиса, составленную из ряда крупных плит, которые огра-
ничивали пространство в 4,5 м длиной и в 3,0 ж шириной. В более узкой
части ограда образовывала интервал. Пространство внутри ее было за-
полнено толстым слоем углистого вещества и представляло обычный
палеолитический «культурный слой» — «пеструю смесь угля, жженой
кости, многочисленных обломков костей северного оленя, расколотых
для извлечения мозга, остатков крем-
невого инвентаря в большом чи-
сле и разнообразных форм, отбой-
ники и разные другие любопытные
вещи в виде кремневых и костяных
орудий, чюдвесок из зубов хищни-
ков и т. и.». В своей статье Дюкро
совершенно правильно отмечает,
что открытое им сооружение должно
было представлять нижнюю часть
первобытного жилища, которую он
рисует себе в виде хижины с земля-
ными стенами и, вероятно, сводча-
той крышей. Вне этого сооружения
им было найдено обычное здесь на-
громождение костей лошади, среди
которых он собрал много рогов се-
верного оленя, челюсти и другие
остатки мамонта, кости быка, канад-
ского оленя, хищников и пр.
Интересно, что внутри огражде-
ния из камней в слое культурных
отбросов Дюкро обнаружил погребе-
ние, которое он считает одновремен-
Рис. 139. План заброшенного жилища-
землянки на побережье полуострова Ямал
(мыс Хаен-Сале).
но В. II. Чернецову)
ным с палеолитическим поселением.
Кроме описанного сооружения, им, как он пишет, было исследовано еще
три таких же прекрасно сохранившихся «пепелища» с палеолитическими
остатками; одно из них дало погребение, аналогичное первому.
Вопрос о погребениях в Солютре неоднократно уже затрагивался
в археологической литературе. Часть из этих погребений несомненно
относится к позднему каменному веку и галло-римской эпохе. Однако
ряд исследователей, работавших в Солютре в разное время, считает воз-
можным относить по крайней мере некоторые из них к ранней поре. Оче-
видно, стоянка, занимавшая живописный доминирующий пункт долины,
служила кладбищем в течение очень долгого времени. Хотя Картальяк и
Г. де Мортилье склонны были совершенно отрицать палеолитический
возраст найденных в Солютре человеческих костяков, однако последние
раскопки, видимо, подтверждают, что некоторые погребения на Кро-дю-
Шарнье, как это указывали в свое время Дюкро и Арселен, должны быть
1 Ducrost et Lortet, £tudes sur la station prehistorique de Solutre, «Archives du Mu-
seum d'Histoire Naturelle de Lyon», 1872, t. I, livraison I.
.23 II. II. Ефименко. Первобытное общество — 1734
38в ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕДСЕОЕ ВРЕМЯ
отнесены к раннему времени верхнего палеолита. Этот же возраст вероятно
имеют и погребения, открытые Дюкро при остатках жилищ.
Остатки Наряду с жилищами описанного типа — небольших размеров, пора-
больших зительно напоминающими жилище в Гагарине, в Солютре были найдены
жилищ остатки жилищ гораздо более значительной величины, близкие к Ланг-
Маннерсдорфу, Костенкам I и др. Относительно одной такой «площадки»
Арселен сообщает, что она имела размеры 18 на 9 м и содержала огром-
ное количество находок, в частности не менее чем 35 000—40 000 кремней,
включая сюда, конечно, и отброс производства. Видимо, эти большие
жилища относятся к нижнему горизонту стоянки, тогда как ранее опи-
санные принадлежат верхнему слою, содержащему типичный солютрей-
ский инвентарь. К сожалению, разновременные, плохо выполненные
раскопки этой исключительно важной стоянки совершенно не дают воз-
можности разобраться во многих деталях, касающихся ее плана и соотно-
шения слоев, относящихся к разному времени.
Такие лагеря, или, вернее, поселки охотников на мамонта и лошадь,
расположенные в открытых местах на береговых уступах речных долин,
известны и в других пунктах западной Европы. Они, видимо, идут через
лёссовые пространства Баварии и Вюртемберга, расположенные по верх-
нему Дунаю, на Рейн.
Нужно думать, что человек в продолжение ориньяко-солютрейского
времени жил в условиях более или менее одинаковых, как в смысле кли-
мата и природной обстановки вообще, так, в частности, и в отношении
характера охоты на определенных животных, почему в течение этого
достаточно продолжительного времени он постоянно возвращался на
одни и те же места. В противоположность этому остатки поселений
мадленской эпохи встречаются обычно в иных условиях, хотя часто и
в довольно близком соседстве—Где-нибудь выше по склону долины, под.
защитой скал или, наоборот, ближе к берегу реки. Конечно, здесь может
итти речь только о стоянках на открытом воздухе, так как в удобно распо-
ложенных пещерах человек нередко селился в течение всего среднего и
верхнего палеолита.
Палеолитическое поселение, очень близкое по своему характеру к опи-
санному Байером для Ланг-Маннерсдорфа, было открыто в те же годы
в Линзенберге в окрестностях Майнца на известняковом плато, ограни-
чивающем правый берег рейнской долины, ниже впадения в Рейн р. Майн.
Исследованное Эрнстом Нээвом1 место древнего жилья находится на
краю плато, на древней террасе раннеплейстоценового (мосбахского)
времени. О существовании здесь аллювиальных наносов свидетельствует
слой речной гальки, подстилающий на месте стоянки мощную толщу
лёссовых отложений.
Ливсвберг Находки, относящиеся к эпохе палеолита, здесь были сделаны в 1921 г^
при работах по канализации, когда под остатками некогда существовав-
шего в этом месте римского лагеря, в толще лёсса, на глубине 2,70 м,
были обнаружены кости древнечетвертичных животных в сопровождении
изделий человека.
При раскопках Э. Нээва, была вскрыта значительная площадь древ-
него поселения, которое сам исследователь склонен рассматривать как
временное стойбище (Raststelle) на открытом воздухе. Такому взгляду,.
1 Ernst Neeb. Eine palaolithische Freilandstation bei Mainz, «Prahistorische Zeil-
schrijt», 1924, Bd. XV, стр. 1.
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
385
северного оленя, расколотых
V
Рис. 1э9. Илан заброшенного жилища-
землянки на побережье полуострова Ямал
(мыс Хаен-Сале).
(Но В. Н. Чериецопу)
ков северного оленя, в то время как в нижних слоях решительно господ-
ствует лошадь.
В октябре 1869 г. Дюкро, 1 * начавший систематическое изучение этой Землянви
-замечательной стоянки, обнаружил в центре ее, на склоне холма, именуе- с окружением
мого в описаниях этой стоянки Crot-du-Charnier, правильную ограду 111 плит
в форме эллипсиса, составленную из ряда крупных плит, которые огра-
ничивали пространство в 4,5 м длиной и в 3,0 м шириной. В более узкой
части ограда образовывала интервал. Пространство внутри ее было за-
полнено толстым слоем углистого вещества и представляло обычный
палеолитический «культурный слой» — «пеструю смесь угля, жженой
кости, многочисленных обломков К(
для извлечения мозга, остатков крем-
невого инвентаря в большом чи-
•сле и разнообразных форм, отбой-
ники и разные другие любопытные
вещи в виде кремневых и костяных
•орудий, подвесок из зубов хищни-
ков и т. л.». В своей статье Дюкро
совершенно правильно отмечает,
что открытое им сооружение должно
было представлять нижнюю часть
первобытного жилища, которую он
рисует себе в виде хижины с земля-
ными стенами и, вероятно, сводча-
той крышей. Вне этого сооружения
им было найдено обычное здесь на-
громождение костей лошади, среди
которых он собрал много рогов се-
верного оленя, челюсти и другие
остатки мамонта, кости быка, канад-
ского оленя, хищников и пр.
Интересно, что внутри огражде-
ния из камней в слое культурных
отбросов Дюкро обнаружил погребе-
ние, которое он считает одновремен-
ным с палеолитическим поселением.
Кроме описанного сооружения, им, как он пишет, было исследовано еще
три таких же прекрасно сохранившихся «пепелища» с палеолитическими
остатками; одно из них дало погребение, аналогичное первому.
Вопрос о погребениях в Солютре неоднократно уже затрагивался
в археологической литературе. Часть из этих погребений несомненно
относится к позднему каменному веку и галло-римской эпохе. Однако
ряд исследователей, работавших в Солютре в разное время, считает воз-
можным относить по крайней мере некоторые из них к ранней поре. Оче-
видно, стоянка, занимавшая живописный доминирующий пункт долины,
служила кладбищем в течение очень долгого времени. Хотя Картальяк и
Г де Мортилье склонны были совершенно отрицать палеолитический
возраст найденных в Солютре человеческих костяков, однако последние
раскопки, видимо, подтверждают, что некоторые погребения на Кро-дю-
Шарнье, как это указывали в свое время Дюкро и Арселен, должны быть
1 Ducrost et Lortet, Etudes sur la station prehistorique de Solutre, «Archives du Mu-
seum d’Histoire Naturelie de Lyon», 1872, t. I, livraison 1.
25 П. П. ];*iiMeiii>o. Первобытное общество — 1734
38в
Остатки
больших
жилищ
Лиивсиберг
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКОСОЛЮТРЕМСКОЕ ВРЕМЯ
отнесены к раннему времени верхнего палеолита. Этот же возраст вероятно
имеют и погребения, открытые Дюкро при остатках жилищ.
Наряду с жилищами описанного типа — небольших размеров, пора-
зительно напоминающими жилище в Гагарине, в Солютре были найдены
остатки жилищ гораздо более значительной величины, близкие к Ланг-
Маннерсдорфу, Костенкам I и др. Относительно одной такой «площадки»
Арселен сообщает, что она имела размеры 18 на 9 м и содержала огром-
ное количество находок, в частности не менее чем 35 000—40 000 кремней,
включая сюда, конечно, и отброс производства. Видимо, эти большие
жилища относятся к нижнему горизонту стоянки, тогда как ранее опи-
санные принадлежат верхнему слою, содержащему типичный солютрей-
ский инвентарь. К сожалению, разновременные, плохо выполненные
раскопки этой исключительно важной стоянки совершенно не дают воз-
можности разобраться во многих деталях, касающихся ее плана и соотно-
шения слоев, относящихся к разному времени.
Такие лагеря, или, вернее, поселки охотников на мамонта и лошадь,
расположенные в открытых местах иа береговых уступах речных долин,
известны и в других пунктах западной Европы. Они, видимо, идут через
лёссовые пространства Баварии и Вюртемберга, расположенные по верх-
нему Дунаю, на Рейн.
Нужно думать, что человек в продолжение ориньяко-солютрейского-
времени жил в условиях более или менее одинаковых, как в смысле кли-
мата и природной обстановки вообще, так, в частности, и в отношении
характера охоты на определенных животных, почему в течение этого
достаточно продолжительного времени он постоянно возвращался на
одни и те же места. В противоположность этому остатки поселений
мадленской эпохи встречаются обычно в иных условиях, хотя часто и
в довольно близком соседстве—где-нибудь выше по склону долины, под
защитой скал или, наоборот, ближе к берегу реки. Конечно, здесь может
итти речь только о стоянках на открытом воздухе, так как в удобно распо-
ложенных пещерах человек нередко селился в течение всего среднего и
верхнего палеолита.
Палеолитическое поселение, очень близкое по своему характеру к опи-
санному Байером для Ланг-Маннерсдорфа, было открыто в те же годы
в Линзенберге в окрестностях Майнца на известняковом плато, ограни-
чивающем правый берег рейнской долины, ниже впадения в Рейн р. Майн.
Исследованное Эрнстом Нээвом1 место древнего жилья находится на
краю плато, на древней террасе раннеплейстоценового (мосбахского)
времени. О существовании здесь аллювиальных наносов свидетельствует
слой речной гальки, подстилающий на месте стоянки мощную толщу
лёссовых отложений.
Находки, относявДиеся к эпохе палеолита, здесь были сделаны в 1921 щ
при работах по канализации,- когда под остатками некогда существовав-
шего в этом месте римского лагеря, в толще лёсса, на глубине 2,70 м,
были обнаружены кости древнечетвертичных животных в сопровождении
изделий человека.
При раскопках Э. Нээва, была вскрыта значительная площадь древ-
него поселения, которое сам исследователь склонен рассматривать как
временное стойбище (Raststelle) на открытом воздухе. Такому взгляду,.
1 Ernst Neeb. Eine palaolithische Freilandstation bei Mainz, «Prahistorisehe Zeit-
schrift», 1924, Bd. XV, стр. 1.
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА 387
однако, противоречит вся обстановка сделанных им находок. К сожале-
нию, точка зрения, установившаяся на подобные памятники в западно-
европейской науке, помешала исследователю разобраться в деталях наблю-
давшейся им несомненно очень интересной картины палеолитического
жилья. По данным, сообщаемым Нээбом, можно установить, что скопление
культурных отбросов представляло собой замкнутую площадку, судя
по изданному им плану, имевшую удлиненную, вероятно овальную форму.
За пределами этой площадки находки прекращались. Предварительный
характер опубликованного отчета, а может быть, и недостаточная точ-
ность в фиксации находок дают место некоторым неясностям в их описа-
нии. Так, хотя автор говорит о распространении культурных остатков
на протяжении 30 м вдоль канавы, прорезавшей место жилья, по его чер-
тежу размеры занятой ими площадки оказываются значительно мень-
шими (около 18 м в длину). Большой интерес представляют встреченные Выкладки пз
Нээбом по окраине площади жилья правильные выкладки из известия- плит
ковых плит, напоминающие кладку стены жилища в Фурно-дю-Дьябль.
Так как описанное сооружение было найдено, как это можно видеть
на том ясе рисунке Нээба, в полуразрушенном состоянии, это обстоя-
тельство дало основание исследователю толковать кладки из плит как
столы или сиденья, хотя, конечно, нет ничего невероятного в предпо-
ложении, что часть плит, встреченных внутри жилья, и могла иметь
значение тех или других приспособлений, использовавшихся для целей
хозяйственного обихода.
Однако уже наблюдения самого Э. Нээва, что за пределами каменной
кладки культурные остатки прекращались, определяет иное назначение
описанного им сооружения. Внутри площадки, намеченной плитами,
вдоль нее, в двух концах помещались очаги в виде круглых вымосток из
более мелких камней, главным образом речной гальки, лучше чем извест-
няк сопротивляющейся действию жара. Поверх очагов сохранился слой
жженых костей и угля. Исследователь сообщает также о каком-то соору-
жении в виде небольшей площадки — «точка», выбитого из сырой глины.
Поскольку эта глиняная площадка встречена уже несколько в стороне
от скопления культурных остатков и вообще ее документальное описание
отсутствует в работе Нээва, можно усомниться в ее палеолитическом возра-
сте. К тому же остается необъяснимым, как необожженный, просто выле-
пленный слой глины (то есть лёсса) мог сохраниться в течение десятков
тысяч лет в слое лёсса, подвергшемся, как сообщает автор, процессу вы-
ветривания. Столь же странный характер носит находка мелких деревян-
ных поделок в виде пуговиц или привесок, — если только, конечно, они
небыли сделаны из лигнита. Об условиях нахождения последних автор
не приводит никаких сведений.
Интересной деталью в устройптве палеолитического жилища в Лин-
зенберге является яма, вырытая в полу жилья, в которой были встречены
два фрагмента женских статуэток, вырезанных из мягкого камня. Более
крупный обломок представляет собой нижнюю часть (половину) небольшой
статуэтки, весьма типичной для стоянок позднеориньякского и солю-
трейского времени.
Что касается орудий из камня и кости, то характер их, видимо, не про-
тиворечит такому определению времени палеолитического поселения Лин-
зенберг, хотя,подбор, в частности, кремневых орудий и носит здесь не
совсем обычный характер. Среди изображенных Нээбом кремней почти
все, за исключением некоторого числа крупных и мелких пластинок,
представляют собой резцы срединного и многофасеточного типа. Иные
388
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯЕО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
видя Орудий по какой-то случайности не попали в издание или, может
быть, не были представлены в стоянке.
Таким образом, в отношении находок в Линзенберге многое остает-
ся еще неясным, однако это не лишает интереса и значения открытие
Нээном остатков палеолитического жилья, имеющего очень много общих
черт с палеолитическими жилищами, известными нам по другим на-
ходкам. Собранные в .Линзенберге кости животных ближе всего по
своему составу напоминают фауну эпохи солютре — это северный олень,
лошадь (степного типа — Equus Przewalskii), мамонт, сибирский но-
Кумба
Фурно-дю-
Дьябль
сорог.
Подобные факты, свидетельствующие о длительном пребывании
охотничьих орд на месте их становищ и о прочном типе жилищ, которые
они здесь сооружали, известны и в других западноевропейских место-
нахождениях ориньякского времени не только на открытых местах, но
и в пещерных поселениях. Можно припомнить пещерную стоянку Кумба
(департамент Коррез), описанную Буиссони и Дельсолем, 1 где назван-
ными авторами бы-
ли открыты три
очага, старательно
сделанные из пли-
ток песчаника,
очень любопытные
по своему устрой-
ству. Они были
расположены на
небольшой пло-
щадке под защи-
той выступающей
скалы, против не-
глубокой нише-
образной пещер-
ки. Незначитель-
ность открытых
здесь культурных
Рис. 160. Зимнее жилище индейцев с реки Томсона (Северная
Америка).
(По Похельсону)
остатков оставляет
все ясе под вопросом, служили ли они в данном случае для повседнев-
ных бытовых целей.
Однако, если говорить вообще о пещерных стоянках, приходится
констатировать, что крайне небрежная манера ведения их раскопок,
которая и до сих пор не изжита на западе, в сущности дает пока сравни-
тельно мало материала для освещения интересующего нас вопроса. Все
ясе некоторые указания, которые уже были нами приведены выше (гроты
Ла-Кост, Кумбо-дель-Буиту и др.), приходится рассматривать как прямое
свидетельство в пользу прочного типа жилищ в пещерных поселениях
этого времени.
Особенный интерес в этом смысле имеет стоянка солютрейского вре-
мени Фурно-дю-Дьябль в Дордони, описанная Пейрони, одним пз
более внимательных исследователей пещерных стоянок Франции. 2
1 Bouyssonie et Delsol, Station prehistorique de la «Coumba» du Pre-Neuf a Noailles
(Correze), «Revue d’anthropologies, XX.X, 1920, стр. 342.
2 D. Peyrony, Les gisenienls prehistoriques de Bourdeilles (Dordogne), «Archives de
Vlnslitut de paleontologie humaines, mem. 10, 1932; его оке, Un fond de hutle de Гepo-
que solutreenne, Inst, intern, d'anlhrop., Ill Session, Amsterdam, 1927, стр. 315.
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
38»
Это место находится в одном из наиболее живописных уголков
Франции, в окрестностях г. Перигё на берегу р. Дронны, среди многих
других пещер и убежищ под скалами, которыми так богата область
Перигор (современный департамент Дордонь).
Как видно на рис. 156, остатки, открытые Пейрони, представляют осно-
вание обширного сооружения, имевшего в длину около 12 м при ширине
в 7 м. В нем приходится видеть нижнюю часть большого жилища, в
плане имевшего, очевидно, овальную или, вернее, неправильно-четырех-
угольную форму, так как его строителям пришлось приноравливаться
к условиям местности, в частности к завалу из огромных глыб известняка,
который был использован в виде стены жилья. Заднюю, северную часть
его, таким образом, отчасти составляли глыбы камня, отчасти крутой
подъем склона, высотой около метра. То обстоятельство, что жилище
было устроено несколько отступя от скалы, в которой расположен грот
Фурно-дю-Дьябль, Пейрони объясняет тем, что при положении жилища
вплотную к обры-
ву скалы оно дол-
жно было в сырое
время года зали-
ваться водой, сте-
кавшей по склону
сверху. Таким об-
разом, скалистый
берег долины слу-
жил здесь, как и
во многих других
подобных стоян-
ках, только защи-
той от северных
Рпс. 161. Устройство жилища, изображенного па рис. 160.
(По Иохельсону)
холодных ветров.
Южная стена
жилища была сло-
жена из огромных
плит известняка, напоминающих циклопическую кладку. Для восточ-
ной стены были использованы глыбы породы, свалившиеся со свода
навеса. Западная часть стены упиралась в проходящую здесь скалу.
Вход в жилище, по указанию Пейрони, находился с лицевой стороны,
справа, где имеется широкий промежуток между южной и восточной сто-
роной. Внутри сооружение имело вид неглубокой землянки, заполнен-
ной толстым слоем (до 0,70 м) культурных отбросов.
Перед устройством жилища занятая им площадка была расчищена
до уровня известняковой породы'так, что последняя составляла несколько
покатый наружу, но ровный и твердый пол землянки. К западному концу
пол понижался ступенькой, образуя как бы отдельную часть помещения,
для чего отчасти была использована небольшая ниша в известняковой
скале. В этом углублении была сосредоточена большая часть костей
животных и рога северного оленя, в других местах жилья встречавшиеся
значительно реже.
В тех частях, где внутреннее пространство жилья не было ограждено
глыбами известняка или проходящей рядом скалой, культурный слой все
же резко обрывался, что дает основание полагать, что эти промежутки были
забраны деревом, если не представляли собой просто стены ямы-землянки.
Сооружение в цел’ом, как думает Пейрони, было перекрыто жердями,
390
4 ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
образовывавшими остов четырехскатной крыши; последняя могла быть
переплетена ветвями и, как нам кажется, вероятно, засыпана землей.
В некоторых местах выше заполнявшего землянку культурного слоя
найдено немного остатков, принадлежащих кратковременному обитанию
людей эпохи мадлена. Внутри жилища, во всей толще его заполнения,
Пейрони было собрано множество прекрасно обработанных кремней,
в частности много характерных кремневых наконечников «лавролистных»
и «с боковой выемкой», которые вместе с другим инвентарем определяют
время этого интересного памятника как солютрейскую эпоху. Кроме
обычных для поселений этого времени кремневых изделий (диски, концевые
скребки, резцы, пластиночки с затупленным краем, ретушированные
крупные пластины-кинжалы и т. д.), здесь хорошо представлены и изде-
лия из кости в виде наконечников дротиков, долот из рога северного
©пеня со следами ударов на тыльной части, лощил и пр. Из предметов
украшения особенного внимания заслуживает браслет, вырезанный из
слоновой кости, — тип украшения, известный пока лишь в стоянках
эпохи солютре.
Не останавли-
ваясь на многочи-
сленных найден-
ных здесь предме-
тах изобразитель-
ного искусства,
нельзя не отме-
тить единственную
в своем роде на-
ходку изображе-
ний животных на
плитах, располо-
женных вдоль зад-
ней стены жилья,
имеющую анало-
гию лишь в иссле-
дованных Анри
Мартеном жилищах Дю Рок. Среди них особенно замечательны фигуры
быка (Bos primigenius), выполненные в рельефе.
Эти данные подкрепляют наше соображение, что пещера не служила,
да и не могла по большей части служить чем-то вроде «избы палеолита»,
а представляла собой тогда, когда ею пользовались в зимнее время, лишь
прикрытие для жилища, устроенного под защитой скалы.
Для реконструкции жилища того типа, который дают стоянки на
открытом воздухе — Солютре, Линзенберг, Ланг-Маннерсдорф, Костенки,
Гагарине и другие, приходится принять во внимание то обстоятельство,
что дно их внутри занято сплошным, не прерывающимся слоем кухон-
ных остатков, следами кострищ и отбросами кремневого производства,
не считая различных предметов обихода из кости и камня.
Как правило, этот культурный слой, так называемый «очаг», или, пра-
вильнее, «пепелище», иногда занимающий большую площадь, резко огра-
ничен и не выходит за пределы очерчивающих его стенок землянки или
кладки из крупных костей мамонта, чаще же каменных плит и т. п.
В случаях, подобных Фурно-дю-Дьябль, Солютре, Гагарине и пр., в нем
мы имеем скорее собственно неглубокую жилую яму, какие известны и в
неолитических поселениях западной Европы. Выше ее, вдоль стен жилья,
Рис. 162. Зимнее жилище эскимосов.
(По Иохельсоиу)
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
891
при небольших размерах землянки могли располагаться места для сна
п работы. В других случаях жилище имело большие размеры и могло
вмещать в себе довольно значительные группы людей. Его невысокие
стены могли быть сложены из костей животных или из бревен, или, что
еще вероятнее, из выброшенной из ямы земли. Последний случай мы имеем,
например, в Мальте. Куполообразный свод из жердей, перекрытых вет-
вями, травой или дерном, засыпался землей, и в целом все сооружение
должно было иметь вид круглого или овального холмика с входом или
сверху, через дымовое отверстие, или сбоку, через особый тоннель.
Этот тпп полуподземного жилища до сих пор удержался на северо-
востоке Азии и в Северной Америке вплоть до Гренландии или был изве-
стен здесь в относительно недавнее время. Он связан повсюду с полу-
охотничьим, полурыболовческим бытом народностей, населявших эту
обширную территорию, в особенности же с морским промыслом, который,
благодаря своей добычливости в прежнее время, давал возможность практи-
Полуподзем-
иые жилища
современных
полярных
народностей
ковавшим его ко-
рякам, камчада-
лам, чукчам, але-
утам, эскимосам,
так же как берего-
вым племенам ин-
дейцев северо-за-
падной Америки,
зимнее время про-
водить оседло на
морских побережь-
ях(рис. 159 —163).
Однако, судя
по раскопкам в Ко-
стенках I, так же в
Мальте, в Елисе-
Рис. 163. Схематический разрез эскимосского жилища. полуподзем-
(По Михельсону) ИЫ^ешй^"
Жилища из
надземных и
евичах, на Афон-
товой горе в Красноярске, как и в лёссовых стоянках Австрии и Чехослова-
кии, относящихся, главным образом, к более ранней поре верхнего пале-
олита, здесь более обычным типом жилища является довольно сложное со-
оружение, состоящее из надземных и полуподземных помещений. Типич-
ный пример такого жилья мы имеем в Костенках I. Центральное место
в этом поселении, относящемся к эпохе раннего солютре, занимает боль-
шая сараеобразная постройка (около 30—35 м в длину при 15—16 м в ши-
рину—настоящий «большой дом» родовой коммуны), окруженная неболь-
шими вырытыми в лёссовом грунте помещениями, составлявшими с ней
одно хозяйственное целое.
Присутствие в составе надземного жилья довольно большой по разме-
рам землянки установлено недавно (в 1934 г.) раскопками Г. П. Соснов-
ского и М. М. Герасимова в Мальте (недалеко от Иркутска), где это
помещение, пол которого находился значительно ниже уровня окружаю-
щей площади, было окаймлено валом, сложенным из глины и костей
мамонта. Аналогичный случай мы имеем на Афонтовой горе, судя по мате-
риалам, опубликованным Г. П. Сосновским, а также в недавних раскоп-
ках на Елисеевичской стоянке.
Описанные Байером жилые комплексы в Ланг-Маннерсдорфе, как
и раскопки в Пржедмосте, дают ту же картину, хотя в последнем, к сожа-
лению, детали ее нам еще мало известны.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Изложенного вполне достаточно, чтобы сделать очевидным тот факт,
что начиная с так называемой ориньякской эпохи в Европе получают
широкое распространение охотничьи поселения долговременного типа,
с прочными, хорошо отепленными зимними жилищами, больше всего
напоминающими по своему устройству зимние поселки народностей
арктического круга, то есть прежде всего населения северо-востока Азии
и полярной Америки, для жилища которых наиболее характерной чер-
той является устройство жилого помещения в камере, вырытой в земле,
с перекрытием ее земляным же сводом, наряду с прочным типом очага,
вымостками из камней и т. п.
Вспомним, что этот же тип жилища-землянки в виде зимнего жилья
вновь и уже на долгое время завоевывает более северные лесные области
Евразии в эпоху раннего неолита, с переходом ее обитателей сначала
к оседлому рыболовству, азатем значительно позже—к земледельческому
хозяйству.
В ориньяко-солютрейское время население Европы, державшееся
в лёссовой полосе нашего континента, недалеко от окраины угасающего
великого оледенения, жило оседло в своих лагерях значительную часть
года главным образом за счет добычливых, обильных охот на некоторые
породы животных, среди которых особенно важную роль играли мамонт
и большая европейская лошадь. Очевидно это было возможно и потому,
что эти последние также вели более или менее оседлый образ жизни
в местах, особенно благоприятствовавших их размножению.
Мамонт должен был давать охотничьим ордам ориньякского и солю-
трейского времени колоссальные запасы провианта: мяса, сала, которым
был одет этот громадный, но, видимо, неповоротливый зверь, затем кост-
ного мозга. Он же давал прекрасный материал в виде бивней для изго-
товления оружия и разнообразных изделий из «слоновой кости». Части
его скелета служили как строительный материал и широко применялись
в качестве горючего для отепления жилищ в долгие и суровые зимы
ледниковой эпохи; волос и шкура шли для разнообразных хозяйствен-
ных надобностей. Подобное животное весом в несколько тонн могло под-
держивать в течение довольно долгого времени существование целой
охотничьей орды.
Нам трудно сейчас судить, за отсутствием систематических раскопок,
которые ставили бы себе подобную цель, о величине поселений этой эпохи.
Вряд ли, однако, они были очень значительны. В охотничьем лагере
Солютре его исследователями, в частности Адрианом Арселеном, отмечается
наличие 7—8 отдельных жилищ, но они относятся, видимо, не к одному
периоду времени. Можно предположить, что обычно это были сравни-
тельно небольшие поселки, заключающие, в среднем, каждое от 50 до
100 человек. Может быть, находка в Пржедмосте и дает приблизительно
состав населения одного такого дома. В Гагарине найдено, по имею-
щимся данным, только одно жилище подобного типа, но, возможно, что
дальнейшие поиски обнаружат существование и других жилищ где-
нибудь в близком соседстве.
В эту эпоху уже существовали жилища гораздо больших размеров,
которые в одних случаях являлись обиталищем целой небольшой орды,
в других же, может быть, служили для определенной части ее, наподобие
мужских домов у некоторых первобытных народностей настоящего вре-
мени или общинных хижин у эскимосов Гренландии.
Необходимо полагать, что поселки из нескольких жилищ должны
были представлять собой некоторое хозяйственное целое, то есть их насе-
ЗИМНИЕ ЖИЛИЩА
aes
пение образовывало сплоченную производственную организацию, перво-
бытную коммуну. Без такого допущения нельзя было бы объяснить огром-
ную продуктивность охоты, о которой говорят описанные выше скопле-
ния костей мамонта, характерные для лагерей этой эпохи, так же как
нельзя было бы понять, каким образом доставлялись на место поселений
целые части туши мамонта чуть ли не в 0,5—1 тонну весом. По нашим
наблюдениям в Супоневской палеолитической стоянке под Брянском,
исследовавшейся нами в 1927 г., отдельные части животных, например
конечности, доставлялись на место поселения в нерасчлененном виде.
В пользу той же хозяйственной общности говорит сближен-
ность мест обитания, отдельных жилищ («пепелищ», как их обычно
называют), на небольшом пространстве в тесном соседстве с хозяйствен-
ными запасами — кучами костей мамонта и лошади.
Конечно, приведенные нами факты говорят только об определенной
стороне жизни первобытных охотников эпохи мамонта. Наряду с зим-
ними, более прочными стойбищами, существовали в гораздо большем
числе и лагери, которые служили для летнего промысла. Они возникали
на местах, где удавалось убить крупного зверя или сделать удачную
облаву. Такое временное становище представляет, например, находка,
сделанная близ Томска, где в 1896 г. был открыт почти полный скелет
мамонта в сопровождении следов кострищ и довольно многочисленных
орудий из кремня. Из всей обстановки этой находки видно, что здесь
не существовало поселения в прямом смысле слова, а лишь временный
лагерь, кратковременная стоянка около убитого зверя.
Кратковре-
менные
лагери
Головка медведя
(Костенки 1).
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Э. ЛАРТЭ
ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
ПАМЯТНИКИ СССР
ТЕХНИКА ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОИ ЭПОХИ
Описанные ранее природные условия и претерпеваемые ими изме-
нения в течение ориньяко-солютрейской эпохи намечают путь, по кото-
рому должно было следовать развитие хозяйственной деятельности перво-
бытных обитателей Европы.
Растительная Приходится думать, что собирательство, связанное с растительной
пища пищей, которое в мустьерское время могло составлять еще довольно
важный источник существования, в последующую эпоху должно было
уступить главенствующее место в жизни человека охоте. Только охота,
как хозяйственная база, с ее растущим значением может объяснить те
изменения, которые переживало общество верхнего палеолита в веществен-
ном облике его материальной культуры и, очевидно, в какой-то степени
и в его социальной структуре. Но, разумеется, растительная пища в виде
ягод, трав, кореньев, играющая все же относительно большую роль и
в жизни современных обитателей крайнего севера, очевидно, являлась
одинаково необходимой для охотников на мамонта, дикую лошадь и
северного оленя.
Рыбная Что касается рыбной ловли, являющейся одним из основных источ-
ловля ников существования у всех современных полярных народностей, то
вряд ли она могла иметь то же значение и в эпоху позднего палеолита, —
в ориньякское и солютрейское время ее хозяйственное значение должно
было быть еще весьма скромным. По крайней мере находки костей рыб
в стоянках этого времени составляют достаточно редкое явление. Из
ориньяко-солютрейских стоянок Европы можно, например, указать
пещеру Сюрень I в Крыму, если будет подтвержден ее ориньякский воз-
раст, где Г. А. Бонч-Осмоловским найдены остатки главным образом
лосося. 1
1 Salmo trutta labrax, также головля /Leuciscus cephalus) и вырезуба (Rutilus
frisiij. Ср. Fische aus dem Paldolithikum der Krim, чБюлл. Ком. no иауч.
чете, nep.», JVs 1, 1929, стр. 43.
ТЕХНИКА ОРИНЬЯКО-СОЛТОТРЕЙСКОЙ ЭПОХИ
395
В отношении же среднего палеолита у нас вообще нет данных, чтобы
предполагать наличие рыболовства, хотя бы и в ограниченных размерах. 1
Все, что мы знаем в отношении стоянок ориньякского и солютрейского
времени, говорит об исключительно большом значении здесь в эту эпоху
охоты на мамонта и затем на дикую лошадь. Скопление остатков этих
животных, к которым в разных районах Европы присоединяются другие
виды, известны уже в стоянках среднего палеолита. Мы упоминали о них
в связи с находками в Мон-Доль и Кэвр во Франции, Извор в Бессара-
бии, в пещерной стоянке Чокурча в Крыму близ Симферополя и других
местах, где особенно большое место занимают остатки мамонта, являв-
шегося, очевидно, одним из главных объектов охоты. Добычливая охота
на этих животных уже в мустьерское время должна была послужить
известным толчком к оседанию, о чем свидетельствуют обширные лагери,
появляющиеся особенно к концу среднего палеолита.
Интересно, например, что в Чокурче, где имеются следы неодно-
кратного занятия этого грота неандертальцами, лишь горизонт,
Значение
охоты на
мамонта
Развитие
оседлости
содержащий зна-
чительное коли-
чество остатков
мамонта, носит
характер дли-
тельного обита-
ния — с значи-
тельным отложе-
нием культур-
ных остатков.
Дальнейшее
развитие этой
оседлости мы ви- ,, „
Рис. 164. Острие с затупленной спипкои и способ его уво-
дим в стоян- требления.
кнх верхнего па* (по пфсйффору)
леолита.Прина-
личии достаточно обильной добычи должно было возникать стрем-
ление к оседлости, с одной стороны, потому что она обеспечивала
возможность иметь значительные запасы пищи в виде сушеного, коп-
ченого пли мороженого мяса, с другой — лишь оседлое существование,
по крайней мере в холодное время года давало возможность при-
менить постройку жилья как способ защиты от становившихся все
более суровыми климатических условий. Можно видеть, что прочные жи-
лища надземного или полуподземного типа появляются особенно в конце
ориньяка, когда природная обстановка значительно ухудшается по срав-
нению с предшествующим временем. Вместе с тем возникающая оседлость
должна была итти рука об руку с совершенствованием приемов охоты,
связанных с более оседлым образом жизни, — загонов, охотничьих ям,
прочных ловушек на крупного зверя, значительно увеличивавшим
продуктивность охоты. Все это имело результатом сложение определен-
ного типа охотничье-собирающего хозяйства с его центром в более проч-
ном, лучше приспособленном жилище, обслуживающем растущие и услож-
няющиеся потребности первобытного общественного коллектива.
Не может быть сомнения в том, что этот процесс, носивший, очевидно,
общий характер, для населения не только Европы, но также и северной
1 W. Soergel, Die Jagd der Vorzeit, 1922, стр. 42.
396
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Азии, должен был сопровождаться глубокими изменениями внутри самой;
первобытной орды. Наиболее отчетливо значительный прогресс, имевший
место при переходе к верхнему палеолиту, проявляется в материальных,
технических средствах, которые становятся известны в стоянках после-
мустьерского времени. Но он находит свое отражение решительно во всем
укладе первобытного общества.
Большой интерес представляет вопрос о том, чем следует объяснить
смену мустьерского общества следующим за ним ориньякским обществом.
Если, как мы уже говорили, нет никаких оснований думать о разрыве,
якобы наблюдающемся между мустьерской и ориньякской эпохами,
поскольку та и другая связаны преемственностью в отношении очень
многих явлений, все же бесспорно, что переход к верхнему палеолиту
представляет собой резко выраженный переход от одного общественно-
хозяйственного уклада к другому, от общества первобытных охотников-
собирателей неандертальской ступени
к родовой организации и высшему
типу культуры охотников верхнего
палеолита.
Вне сомнения, этот переход нельзя
мыслить себе вне связи с растущей
производительностью охотничьего хо-
зяйства, которая на определенном
этапе раскрывает новые возможности
технического прогресса, целый ряд
новых завоеваний в области исполь-
зования материалов, даваемых приро-
I______________дой. В этом отношении важное место
Хжл может быть отведено производству
орудий из кремня, уровень развития
--^7 которого в условиях первобытного 00-
С-,щества является одним из главных
показателей степени развитияхозяй-
Рис. 165. Кремневый скребок в работе. ственных форм.
(по ПФейФФеру) Преобладающая масса орудий в
стоянках ранней поры верхнего па-
леолита, как мы видели, принадлежит, в противоположность мустьерской
эпохе, уже технике удлиненных пластинок (lames), подправленных ударной
оббивкой. Разнообразные виды кремневых орудий ориньяко-солютрейского
времени можно разбить на несколько групп в порядке их численного пре-
обладания и, очевидно, также хозяйственного значения. На рассмотрении
их нам придется несколько остановиться. Следует, однако, заметить, что по-
скольку нам приходится черпать свой материал не из живого быта, а из
остатков, значимость которых в условиях первобытного общества еще
требует выяснения, — отсюда вытекает необходимость фиксировать те
комплексы находок, с которыми они связаны, в их хронологической и
Три группы стадиальной преемственности. Имеющийся в нашем распоряжении ма-
находок териал удобнее всего хронологически подразделить на три группы на-
ходок: к ранней фазе относятся стоянки раннего и среднего ориньяка,
обнаруживающие достаточно много общих черт, отличающих их от сле-
дующей фазы, отвечающей более позднему ориньяку и раннему солютре;
наконец, к поздней фазе мы можем относить стоянки собственно солю-
трейского времени. Мы видели выше, какие виды изделий характери-
зуют каждую из них.
ТЕХНИКА ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЙ ЭПОХИ SOT
Конечно, такое деление имеет по существу довольно ограниченное
значение даже для Европы. Из него выпадает в значительной мере вся
территория южной Европы от Кавказа и Крыма до Пиренейского полу-
острова, где ориньякская культура представлена в несколько иных фор-
мах,-чем в средней полосе Европы, и где совершенно отсутствуют памят-
ники солютрейского типа. Но и в этой последней части Европы, находи-
вшейся под непосредственным влиянием северного оледенения, солю-
трейскпе стоянки не составляют всеобщего явления, и во многих случаях
ориньякский инвентарь и ориньякский уклад существования лишь в не-
сколько измененных формах переживают здесь до эпохи мадлена.
Этот инвентарь, который иногда называют «мадленом с ориньяк-
ской традицией», мы находим одинаково как в Англии и Бельгии, так,
с другой стороны, в Венгрии, Румынии и в стоянках восточно-европей-
ской равнины — Костенках II, III, IV, Карачарове, Студенице и т. д.
Переходя к рассмотрению вещественного инвентаря находок с точки
зрения его хозяйственных функций, мы должны будем выделить прежде
всего те категории орудий, которые более или менее бесспорно могут
быть связаны с диференцирующейся областью мужского и женского труда,
указывая, таким образом, на продолжающийся процесс усложнения перво-
бытной производственной коммуны, наметившийся уже в стоянках поздне-
мустьерского времени.
В поселениях верхнего палеолита главную массу находок составляют Использова-
обычно кремневые отщепы и мелкие осколки кремня, частью являющиеся пие нлаети'
отбросом производства, частью составляющие материал для выделки пов
орудий.
Было бы совершенно неправильно, однако, рассматривать их только
как сырой материал производства кремневых изделий. Внимательное изу-
чение показывает, что лучше удавшиеся кремневые пластинки и отщепы
широко применялись для повседневных хозяйственных целей в виде са-
мых различных орудий — наконечников дротиков, ножей, острий, рез-
цов и т. п. наряду с законченными, хорошо отделанными орудиями,
которые имели, конечно, то большое преимущество, что могли служить
гораздо дольше и были у первобытного человека всегда при себе.
Наиболее характерным «руководящим» орудием ориньякской эпохи Орииьикекое
обычно считается так называемое ориньякское острие. Происхождение его острие
из мустьерского остроконечника может считаться более или мепее устано-
вленным. В наиболее древнем виде — тип оди — оно и представляет,
в сущности, лишь несколько видоизмененный мустьерский остроконеч-
ник, у которого ретушь нанесена по одному более изогнутому краю и
скорее затупливает его, образуя спинку. В последующее время — в на-
чале верхнего палеолита — оно получает вид типичного древнеориньяк-
ского острия с характерно изогнутой и затупленной спинкой и под име-
нем острия типа шательперрон проходит в западных стоянках через
нижние и средние горизонты ориньяка (рис. 164).
На почве Франции, в верхних горизонтах ориньякских стоянок, оно
сменяется более узким острием типа граветт и затем дает начало мел-
ким пластинчатым остриям, в сущности, уменьшенным вариациям острия
граветт, приспособленным для всякого рода тонких работ. Мелкие пла-
стинки с затупленным краем переживают в инвентаре палеолита до весьма
позднего времени.
Прослеживая историю ориньякского острия, можно видеть, как из
орудия, по своему назначению близкого мустьерскому остроконечнику,
который -естественнее всего считать «мужским ножом», в более позднее,
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
ориньякское, время складываются два вида инструмента, несомненно свя-
занные преимущественно с трудом мужской части ориньяко-солютрей-
ской орды. Оба эти вида орудий часто очень мало отличаются один от
другого, как это можно наблюдать и у современных наиболее отсталых
народностей. Это, во-первых, заостренный кремневый клинок, который,
будучи насаженным на короткую рукоять, несомненно являлся универ-
сальным орудием режущего характера, но кроме того имел важное зна-
чение в условиях охотничьего существования, будучи употребляем для того,
чтобы прикончить животное, вспороть его шкуру, разнять на части тушу
и т. п. Во-вторых, это кремневый наконечник метательного дротика или
копья.
Уже острия типа граветт, переживающие во многих местонахожде-
ниях Европы до сравнительно поздней поры ориньякского времени (верх-
ний ориньяк), в ряде случаев имеют настолько крупные размеры и пра-
вильную удлиненную форму, что их приходится рассматривать как ору-
дия, выполняющие обе
Рве. 166. Прием изготовле-
ния резца срединного типа
из кремневой пластинки.
эти функции — клинка и наконечника. 1
В раннесолютрейскую пору, в связи с уве-
личением размеров пластинки и хорошей рету-
шью, в несколько видоизмененном виде это ору-
дие приобретает особенно законченный облик.
То же значение заостренного клинка ножа-кин-
жала и наконечника копья или дротика, являв-
шихся незаменимым оружием в условиях охот-
ничьего хозяйства верхнего палеолита, несо-
мненно сохраняет типичный тонко отделанный
кремневый «наконечник» солютрейских стоя-
нок.
Другим важным орудием преимущественно,
можно думать, также мужского труда является
резец, появляющийся уже в стоянках раннего
ориньяка и даже конца мустьерского времени.
Это орудие возникает из потребности в прочном
режущем инструменте, предназначенном для
обработки наиболее твердых материалов, как кость, камень, дерево и пр.
Л. Пфейффер очень метко сравнивает его, в смысле его функции, с зуб-
цами пилы — «однозубой пилой», что, действительно, ближе всего опре-
деляет его назначение (рис. 166). Его роль в технике верхнего палео-
лита подчеркивается тем обстоятельством, что это орудие в разнообраз-
ных вариантах пользуется чрезвычайным распространением во всех
европейских стоянках данного времени.
Одним из наиболее важных орудий труда, судя по количеству нахо-
док его в стоянках верхнего палеолита, следует считать и так называе-
мый скребок, который, Как и резец, известен в наиболее ранних находках,
относящихся к ориньякской эпохе. Относительно некоторых видоизмене-
ний этого инструмента в более ранних и более поздних стоянках орингяко-
солютрейского времени мы уже говорили. Как правило, в эту эпоху он
имеет вид так называемого концевого скребка, то есть представляет собой
пластинку, конец которой превращен в дугообразное рабочее лезвие.
Можно думать, что это было орудие, которое должно было удовлетворять
главным образом потребностям домашнего хозяйственного обихода, то
есть являлось орудием женского труда.
1 (Jp. D. Peyrony, Les gis"ments prehistoriques de Bourdeilles (Dordogne), «Archives
de I'lnstitut de paleontologie humaine», men. 10, 1932, стр. 15.
ТЕХНИКА ОРИНЪЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЙ ЭПОХИ
ЗЯ»
Нередко скребок рассматривают исключительно как орудие, предна-
значенное для выделки кожи и вообще для работ, связанных с обскабли-
ванием шкур животных, также кости, дерева и т. и. Однако нетрудно
показать неправильность, то есть односторонность такой точки зрения.
Скребок в эпоху верхнего палеолита имел, несомненно, более сложные
и многообразные функции.1 В основном это было не только скоблящее,
по и режущее орудие, как и кремневый резец, но только служившее для
разделки менее твердых материалов (рис. 165).
Это находит подтверждение при внимательном изучении этого рода ору-
дий, происходящих из стоянок верхнего палеолита: как это отмечено уже в
археологической литературе, скребки, при внешнем сходстве, имеют различ-
ный характер рабочего лезвия, что указывает на их различное применение.
К той же категории инструментов, связанных с домашним обиходом,
раскраиванием и шитьем меховой одежды и пр., приходится относить раз-
личные мелкие кремневые инструменты, которые обычно
объединяются под именем микролитов, или пластиночек с
затупленной спинкой, появляющихся уже в стоянках
среднеориньякского времени (рис. 168).
Правда, Д. Пейрони 2 предлагает для них другое объяс-
нение, считая возможным, что они использовались в каче-
стве вставок в желобчатую выемку, проделанную вдоль
края деревянной или костяной пластины, как это широко
практиковалось в эпоху эпипалеолита, превращая такое
орудие в нож или кинжал. Однако такое толкование нам
кажется искусственным, поскольку Пейрони не приводит
никаких положительных фактов в подтверждение своей
точки зрения. 3
Хотя главным приобретением верхнепалеолитической
техники обработки кремня является удлиненная пластинка,
отщепляемая от призматического нуклеуса, наряду с ней в
кремневом производстве, складывающемся в ориньяке, осо-
бенно в его среднюю пору, широко применяется особый
прием изготовления орудий, который можно назвать тех-
никой пластинчатых стесов, так как орудие в этом случае
Пластиночки
с затуплен-
ной спинкой
Рис. 167. Скол
от резца (Ме-
зин).
Кремень.
(Сборы автора)
Нувлевпдные
орудии
изготовляется из куска кремня посредством скалывания узких, удлинен-
ных пластиночек, что придавало такому орудию сходство с нуклеусом.
Для изготовления нуклевидных орудий, более удлиненные и более
узкие формы которых носят также название ладьевидных или килевидных,
обычно употреблялись обтесанные и отработанные нуклеусы; легкой
подправки такого нуклеуса часто было достаточно, чтобы превратить края
его в рабочее лезвие инструмента. Одни из нуклевидных орудий ориньяк-
ского инвентаря являются режущими или раскалывающими орудиями,
назначение которых было универсальным, но большинство представляет
более определенные и специализированные формы. Можно указать не-
1 L. Pfeiffer, Die Werkzeuge des Steinzeit-Menschen, Jena, 1920, стр. 51.
2 D. Peyrony, ук. соч., стр. 17.
3 Мы не считаем слишком рискованным высказать еще одну догадку в отношении
назначения этих, обычно довольно миниатюрных орудий, сохраняющих свой харак-
тер во все время верхнего палеолита. Нам кажется возможным, что эти маленькие
ножички с характерно затупленной спинкой и очень острым противоположным режу-
щим краем могли употребляться, помимо всего прочего, и для подрезывания волос.
Известно, что ориньяко-солютрейские фигурки часто изображают женщин с коротко
подстриженными волосами. Кое-какой материал имеется в этом смысле и для изо-
бражений мужчин, особенно в мадленское время.
400
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Хоноры и
тесла
выходят из
очень слабо
Рис. 168.
Кремневая
микроила-
стипка ти-
па «с зату-
пленной спин-
кой».
Способ за-
крепления
ее в рукояти
(уменьшено).
сколько видов таких инструментов и целый ряд разновидностей, опубли-
кованных французскими исследователями — Буиссони и другими, кото-
рые различают три главных типа их: нуклевидный и ладьевидный скре-
бок, скобель (rabot) и резец. 1
Для какой цели могли служить этого рода орудия, которые, появляясь
в большом числе в ориньякских стоянках, в мадленскую эпоху почти
употребления? Нужно признать, что этот вопрос остается
освещенным в археологических трудах, хотя типологией их
занимались многие исследователи. Однако известный мате-
риал для его разрешения может быть собран.
Мы видели выше, что в связи с растущей добычливостью
охоты с началом верхнего палеолита значительно усили-
вается процесс оседания первобытных охотничьих групп, ко-
торый с течением времени приводит к возникновению до-
статочно прочных, долговременного типа жилищ и, оче-
видно, также был связан с сложением соответствующих
форм хозяйства и со структурой самой первобытной орды.
Этот процесс должен был получить известное отражение и
в кремневом инвентаре ориньяко-солютрейского времени,
поскольку оседание не могло не вызвать возникновения
некоторого круга связанных с ним потребностей в опре-
деленных орудиях производства.
Прежде всего оседание должно было требовать хотя бы
и несложных деревянных сооружений и, очевидно, соот-
ветствующих инструментов, пригодных для этой цели. Раз-
личные хозяйственные запасы, без которых трудно было бы
представить и наиболее первобытную оседлость, должны
были, с своей стороны, создавать потребность в деревянной
утвари, приспособлениях, вместилищах, что также требовало
обработки дерева в гораздо более широком размере, чем это
наблюдается у бродячих охотников. Выкапывание обширных
землянок для устройства жилища, а также ловчих ям, при-
менявшихся для охоты на зверя, требовало аналогичных
орудий. Для последней цели могли служить отчасти и орудия из кости.
Действительно, в некоторых стоянках позднеориньякского и в осо-
бенности солютрейского времени были находимы мотыги или кайла
из бивня мамонта или рога оленя. Они известны в Виллендорфе, 2
Пржедмосте, 3 в Мезине (стр. 501); если же взять стоянки, относя-
щиеся к верхнему палеолиту в целом, то находки орудий из камня и,
особенно, из кости, которые могли служить для копания ям или добы-
вания съедобных кореньев, здесь вовсе не составляют особенную
редкость. Еще более интересные находки сделаны в Костенках I,
| 1 М. Bourlon, J. et A. Bouyssonie, Grattoirs carenes, robots et grattoirs nucleijormes,
«Bevue anlhropologique», t. XXII, 12, 1912, стр. 473.
2 Байер описывает среди еще не изданных вещей, происходящих из позднеориньяк-
ского слоя стоянки Виллендорф, короткий отрезок оленьего рога со срезанным наи-
скось концом; сохранившийся глазничный отросток играл роль рукоятки. Он склонен
рассматривать этот предмет как настоящий костяной топорик, подобный топорикам
Маглемозе [«Die Eiszeit», Bd. Ill, H. I, 1926, стр. 48).
3 Крупные костяные пластины с заточенным лезвием из Пржедмоста часто совер-
шенно произвольно называются «веслообразными палицами» [Obermaier, Der Mensch
der Vorzeit, стр. 298), в действительности, в них скорее приходится видеть большие
теслообразные топоры. Огромные кремневые топоры (гигантолиты), найденные недавно
И. Г.~ Ппдопличком в числе трех экземпляров на палеолитической стоянке в Нов-
город-Северске, представляют ближайшую аналогию костяным теслам из Пржедмоста.
м
ТЕХНИКА ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОИ ЭПОХИ
399
Рис. 167. Скол
от резца (Ме-
зин).
Кремень.
(Сборы автора)
Нередко скребок рассматривают исключительно как орудие, предна-
значенное для выделки кожи и вообще для работ, связанных с обскаблп-
ванием шкур животных, также кости, дерева и т. п. Однако нетрудно
показать неправильность, то есть односторонность такой точки зрения.
Скребок в эпоху верхнего палеолита имел, несомненно, более сложные
и многообразные функции.1 В основном это было не только скоблящее,
но и режущее орудие, как и кремневый резец, но только служившее для
разделки менее твердых материалов (рис. 165).
Это находит подтверждение при внимательном изучении этого рода ору-
дий, происходящих из стоянок верхнего палеолита: как это отмечено уже в
археологической литературе, скребки, при внешнем сходстве, имеют различ-
ный характер рабочего лезвия, что указывает на их различное применение.
К той же категории инструментов, связанных с домашним обиходом,
раскраиванием и шитьем меховой одежды и пр., приходится относить раз-
личные мелкие кремневые инструменты, которые обычно
объединяются под именем микролитов, или пластиночек с
затупленной спинкой, появляющихся уже в стоянках
среднеориньякского времени (рис. 168).
Правда, Д. Пейрони 2 предлагает для них другое объяс-
нение, считая возможным, что они использовались в каче-
стве вставок в желобчатую выемку, проделанную вдоль
края деревянной или костяной пластины, как это широко
практиковалось в эпоху эпипалеолита, превращая такое
орудие в нож или кинжал. Однако такое толкование нам
кажется искусственным, поскольку Пейрони не приводит
никаких положительных фактов в подтверждение своей
точки зрения. 3
Хотя главным приобретением верхнепалеолитической
техники обработки кремня является удлиненная пластинка,
отщепляемая от призматического нуклеуса, наряду с ней в
кремневом производстве, складывающемся в ориньяке, осо-
бенно в его среднюю пору, широко применяется особый
прием изготовления орудий, который можно назвать тех-
никой пластинчатых стесов, так как орудие в этом случае
Пластиночки
с затуплен-
ной спилкой
Нуклевпдпые
орудия
изготовляется из куска кремня посредством скалывания узких, удлинен-
ных пластиночек, что придавало такому орудию сходство с нуклеусом.
Для изготовления нуклевидных орудий, более удлиненные и более
узкие формы которых носят также название ладьевидных или килевидных,
обычно употреблялись обтесанные и отработанные нуклеусы; легкой
подправки такого нуклеуса часто было достаточно, чтобы превратить края
его в рабочее лезвие инструмента. Одни из нуклевидных орудий ориньяк-
ского инвентаря являются режущими или раскалывающими орудиями,
назначение которых было универсальным, но большинство представляет
более определенные и специализированные формы. Можно указать не-
1 L. Pfeiffer, Die Werkzeuge des Steinzeit-Menschen, Jena, 1920, стр. 51.
3 D. Peyrony, ук. соч., стр. 17.
3 Мы не считаем слишком рискованным высказать еще одну догадку в отношении
назначения этих, обычно довольно миниатюрных орудий, сохраняющих свой харак-
тер во все время верхнего палеолита. Нам кажется возможным, что эти маленькие
ножички с характерно затупленной спинкой и очень острым противоположным режу-
щим краем могли употребляться, помимо всего прочего, и для подрезывания волос.
Известно, что ориньяко-солютрейские фигурки часто изображают женщин с коротко
подстриженными волосами. Кое-какой материал имеется в этом смысле и для изо-
бражений Мужчин, особенно в мадленское время.
400
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ориньяко-солютреИское время
Топоры и
тесла
сколько видов таких инструментов и целый ряд разновидностей, опубли-
кованных французскими исследователями — Буиссони и другими, кото-
рые различают три главных типа их: нуклевидный и ладьевидный скре=
бок, скобель (rabot) и резец. 1
Для какой цели могли служить этого рода орудия, которые, появляясь
в большом числе в ориньякских стоянках, в мадленскую эпоху почти
выходят из употребления? Нужно признать, что этот вопрос остается
очень слабо
Рис. 168.
Кремневая
микропла-
стинка ти-
па «с зату-
пленной спин-
кой».
Способ за-
крепления
ее в рукояти
(уменьшено).
освещенным в археологических трудах, хотя типологией их
занимались многие исследователи. Однако известный мате-
риал для его разрешения может быть собран.
Мы видели выше, что в связи с растущей добычливостью
охоты с началом верхнего палеолита значительно усили-
вается процесс оседания первобытных охотничьих групп, ко-
торый с течением времени приводит к возникновению до-
статочно прочных, долговременного типа жилищ и, оче-
видно, также был связан с сложением соответствующих
форм хозяйства и со структурой самой первобытной орды.
Этот процесс должен был получить известное отражение и
в кремневом инвентаре ориньяко-солютрейского времени,
поскольку оседание не могло не вызвать возникновения
некоторого круга связанных с ним потребностей в опре-
деленных орудиях производства.
Прежде всего оседание должно было требовать хотя бы
и несложных деревянных сооружений и, очевидно, соот-
ветствующих инструментов, пригодных для этой цели. Раз-
личные хозяйственные запасы, без которых трудно было бы
представить и наиболее первобытную оседлость, должны
были, с своей стороны, создавать потребность в деревянной
утвари, приспособлениях, вместилищах, что также требовало
обработки дерева в гораздо более широком размере, чем это
наблюдается у бродячих охотников. Выкапывание обширных
землянок для устройства жилища, а также ловчих ям, при-
менявшихся для охоты на зверя, требовало аналогичных
орудий. Для последней цели могли служить отчасти и орудия из кости.
Действительно, в некоторых стоянках позднеориньякского и в осо-
бенности солютрейского времени были находимы мотыги или кайла
из бивня мамонта или рога оленя. Они известны в Виллендорфе, 2
Пржедмосте, 3 в Мезине (стр. 501); если же взять стоянки, относя-
щиеся к верхнему палеолиту в целом, то находки орудий из камня и,
особенно, из кости, которые могли служить для копания ям пли добы-
вания съедобных кореньев, здесь вовсе не составляют особенную
редкость. Еще болео. интересные находки сделаны в Костенках I,
| 1 М. Bourlon, J. et A. Bouyssonie, Grattoirs carenes, rabots et grattoirs nucleijormes,
«Revue anlhropologique», t. XXII, 12, 1912, стр. 473.
2 Байер описывает среди еще не изданных вещей, происходящих из поздггориньяк-
ского слоя стоянки Виллендорф, короткий отрезок оленьего рога со срезанным наи-
скось концом; сохранившийся глазничный отросток играл роль рукоятки. Он склонен
рассматривать этот предмет как настоящий костяной топорик, подобный топорикам
Маглемоэе («Die Eiszeit», Bd. Ill, H. I, 1926, стр. 48).
3 Крупные костяные пластины с заточенным лезвием из Пржедмоста часто совер-
шенно произвольно называются «веслообразными палицами» (Obermaier., Der Mensch
der Vorzeit, стр. 298), в действительности, в них скорее приходится видеть большие
теслообразные топоры. Огромные кремневые топоры (гигантолиты), найденные недавно
И. Г. Пидопличком в числе трех экземпляров на палеолитической стоянке в Нов-
город-Северске, представляют ближайшую аналогию костяным теслам из Пржедмоста.
ТЕХНИКА ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЙ ЭПОХИ
401
где прекрасно сделанные топоры (тесла) из слоновой кости были най-
дены нами среди остатков жилища во время раскопок в 1931, 1933 и
1936 гг. (рис. 170 и табл. XI).
Можно думать, что именно потребность в обработке дерева вызвала
появление и чрезвычайное распространение в ориньякское время разно-
образных массивных так называемых нуклевидных орудий, в наиболь-
шей степени пригодных только для этой цели.
Как известно, обычно считается, что рубящие орудия исчезают в па-
леолитической технике вместе с древним примитивным шелльско-ашёль-
ским рубилом и вновь появляются только в раннем неолите, будучи
совершенно неизвестными в период времени верхнего палеолита.
Однако это не совсем правильно. От эпохи мустье и до позднего
ориньяка, даже до солютрейского времени можно проследить некоторую
группу орудий, которые в мустье имеют меняющийся облик так назы-
ваемого диска, широкого ру-
бильца, наконец настоящего
топорика-транше, о котором го-
ворят многие авторы — Пей-
рони, Бурлон, Обермайер,
Пфейффер и др. Эти вещи —
обычно в виде плоского, тонко
отделанного двусторонним сте-
сыванием так называемого диска
(рис. 169) — не исчезают в стоян-
ках верхнего палеолита, где
удер/киваются вплоть до поздне-
ориньякского — раннесолютрей-
ского времени. Здесь они при-
обретают более или менее устой-
чивый тип овального топорика,
лезвие которого иногда под-
Рис. 169. Кремневые диски (лезвия топориков)
из стоянок Костенки I и Мальта.
1/2 п. в.
правлялось характерным прие-
мом бокового скола, как это
практиковалось для подобных
орудий в гораздо более позд-
нюю пору — в кампинппскую эпоху, то есть раннюю пору неолита.
Нужно сказать, что наряду с этим орудием в тех же верхнепалеолити-
ческих стоянках встречаются и другие, менее определенные, но, ви-
димо, аналогичные по своему назначению кремневые инструменты —
в виде массивной пластины с подправкой рубящего лезвия со стороны
«брюшка» приемом стесывания и т. п.
Все эти вещи известны среди.находок, например, на стоянке Со-
лютре из раскопок Дюкро и других исследователей и связаны с инвен-
тарем ее замечательных жилищ-землянок. Имеются они и в составе инвен-
таря нашего типичнейшего поселения этого времени — Костенки I, а также
и в Мальте. По мнению Пейрони, в стоянках Дордони они чаще всего встре-
чаются в солютрейское время и отсутствуют в поселениях эпохимадлена.1
Насколько подобные кремневые топорики являлись эффективными
в работе, показывает наша находка в Костенках I бивня мамонта со
следами кругового обрубливания, которое не могло быть произведено
никаким другим орудием, кроме каменного топора.
1 Archives de I’lnstilut de paleontologie humaine, mem. 10, cmp. 21.
26 ГГ. Г1. Ефименко. Первобытное общество — 1734
402
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРПНЬЯКО-СОЛЮТРЕЛСКОЕ время
Стойт напомнить, что многие французские авторы свидетельствуют
о переживании грубых мустьерско-ашёльских орудий не только в ориньяк-
ских, но и в солютрейских стоянках: речь здесь идет главным образом об
этой категории орудий из кремня. В этом смысле поздний мустье с его
хозяйственной базой в массовой охоте на мамонта и лошадь является
прямым предшественником верхнего палеолита.
Не следует представлять себе рубящего орудия ориньякских или тем
более мустьерских стоянок в типе современного топора. Топор, сыграв-
ший такую исключительную роль в сложении оседлой рыболовческо-
земледельческои культуры, естественно, не мог возникнуть сразу в тон
законченной, относительно сложной форме, в которой он нам известен.
Рис. 170. Тесло из слоновой кости,
монтированное в рукояти (реконструк-
ция). Стоянка Костенки I.
(Раскопки автора)
В его истории возможно наметить
несколько этапов. Впервые он по-
является повсюду в виде грубого руч-
ного рубила раннего палеолита. Но
уже, видимо, в мустьерское время, под
влиянием возникновения новых произ-
водственных потребностей, вырабаты-
вается другая, технически гораздо бо-
лее совершенная форма рубящего ин-
струмента — широкий кремневый кли-
нок на прямом насаде. Этот тип то-
пора должен был удерживаться в те-
чение очень долгого времени, совершен-
ствуясь и в отношении собственно ра-
бочей части и способа прикрепления к
рукоятке, пока не был заменен знако-
мым нам топором коленчатого типа,
что, вероятно, произошло в условиях
позднекапсийской стадии палеолитиче-
ской культуры. Более первобытный то-
пор-пешня до сих пор удержался в тех-
нике некоторых австралийских племен
(рис. 91), в то время как еще более при-
митивная тасманийская техника сохра-
нила древний тип ручного рубящего
орудия.
Если присоединить к тому, что было
сказано в отношении использования
кремня, также то, что мы знаем о по-
являющейся в раннюю пору верхнего
палеолита обработке, кости и рога, в свою очередь обнаруживающей
значительное совершенствование в области изготовления охотничьего
вооружения и технических навыков, которые несомненно должны
быть связаны с обособливающимся трудом мужской и женской части
орды, —общая картина усложнения материального производства перво-
бытного общества на этой ступени его развития будет достаточно
ясной.
Выше мы упоминали о находке в Костенках I нескольких теслообраз-
ных топоров, или кайл, которые по тщательности отделки и способу укре-
пления на рукояти имеют прямую аналогию в этнографическом мате-
риале, в частности в технике народностей крайнего севера. Существуют
указания, что подобные орудия из кости в быту приполярных народно-
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ 408
«лей применялись не только для вскапывания земли, но и как топорик
или тесло для обработки дерева. 1
Весьма вероятно, что в костенковских находках мы имеем прежде
всего топоры, использовавшиеся для аналогичных целей, тем более, что
слоновая кость по своей твердости и эластичности была вполне подходя-
щим материалом для подобного применения. Но в Костенках мы имеем
и другое орудие, также из слоновой кости, открытое нами в землянке
А, несколько напоминающее костяной топорик, но меньших размеров,
и имевшее назначение, судя по круглой рукояти, скорее долота или
какого-то сходного инструмента, очевидно также предназначавшегося
для обработки дерева. Рукоять его орнаментирована сложным узором
из нарезных линий (табл. XI — справа).
Более простые долота из рога северного оленя составляют вполне
обычное явление в стоянках солютрейского времени (Фурно-дю-Дьябль,
Мальта и др.).
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ. ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Широкое распространение в Европе оседлых становищ охотников на
мамонта и дикую лошадь приходится, как мы видели, на определенное,
достаточно раннее время верхнего палеолита — на поздний ориньяк и
ранний солютре, то есть эпоху Впллендорфа, Пржедмоста, Костенок I,
Гагарина и других аналогичных памятников. Для понимания ранней
поры верхнего палеолита как культурной ступени приходится считать
весьма показательным большое сходство материальных остатков, сохра-
нившихся от этого времени на всем пространстве Европы. Мы видим,
как не только одни и те же очень характерные типы изделий из камня
и кости, но и одинаковые предметы изобразительного творчества получают
здесь самое широкое распространение. Названные нами стоянки, в част-
ности, объединяются чрезвычайно интересным общим признаком — наход-
ками женских изображений, о которых мы уже упоминали выше.
Такие находки повторяется в целом ряде стоянок, отмеченных в на-
стоящее время по всей Европе на расстоянии тысяч километров одна от
другой, от берегов Дона на востоке до Рейна на западе и берегов Среди-
земного моря на юге, — естественно в более южных областях материка,
Время поя-
вления
изображений
женщины
не занятых оледенением в позднеледниковую пору.
Самый факт появления изображений женщины в поселениях, отно-
сящихся к ранней поре верхнего палеолита, был установлен довольно
давно — еще до того времени, когда ориньякская эпоха, с которой
обычно, правда не вполне правильно, связывают' эти находки, была
признана особой, ранней фазой верхнего палеолита. Эдуард Пьетт, 2
1 Об этом, например, сообщает в отношении населения Камчатки (ительменов)
Крашенинников — «топоры у них делались из оленьей и китовой кости... и прпвязыва-
лись ремнями к кривым топорищам плашмя, каковы у нас бывают теслы. Ими они
долбили ладьи свои, чаши, корыта и протчее, однако с таким трудом и с тским про-
должением времени, что лодку три года надлежало им делать, а чашу большую не
меньше годах. Описание земли Камчатки, т. II, 1786. стр. 32. Топоры этого типа
с рабочей частью, вырезанной, например, из раковины, известны в Полинезии и вооб-
ще не составляют редкости в технике народностей, стоящих на неолитической ступени.
2 Ср. для статуэток Брассемпуп — «Bull, de la Societe d’anthrop. de Paris», 1894, t.
V, стр. 633; для Ментоны —«Bull, el Mem. de la Soc. d’anthrop. de Paris», 1902,
t. Ill, стр. 771 (Edouard Pielte, Gravure du Mas d’Azil el statuettes de Menton). Cm.
там же интересную дискуссию по поводу этих находок’ с участием А. де Мортилье,
Капитана, Мануврие, Эмиля Ривьера, Верно и др.
404 ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Пластиче-
ское вос-
произведение
Различие
в физическом
типе
первый, кто сделал известным существование этих женских фигурок,
рассматривал их иа основании своих материалов, собранных при много-
летнем изучении пещерных местонахождений Франции, как древнейшие
памятники искусства охотников на северного оленя. Его соображения
о раннем времени этих женских изображений, проверенные многими
последующими находками, в настоящее время не вызывают возражений.
Вместе с тем можно считать установленным, что в последующие эпохи
верхнего палеолита в более верхних слоях тех же хорошо исследованных
пещерных местонахождений Европы они почти перестают встречаться,
как будто представляя какой-то случайны^, неизвестно с чем связанный
и чем обусловленный эпизод в истории изобразительного творчества па-
леолитических обитателей Евразии. На этих изображениях нам придется
несколько остановиться, поскольку они позволяют заглянуть в такие
стороны жизни первобытного общества ранней поры верхнего палеолита,
которые иначе были бы для нас совершенно закрыты.
В известных до сих пор находках они обычно имеют вид пластиче-
ского изображения женщины, переданного в чисто реалистической ма-
нере. Только в Лосселе (Фран-
ция, Дордонь) подобные изо-
бражения представляют собой
рельефы относительно крупного
размера, до полуметра высотой.
Вообще же в массе своей они
имеют вид маленьких фигурок,
высотою всего в 5—10 см,
иногда даже меньшей, иногда
несколько большей величины,
редко все же превышающей 12—
15 см, вырезанных с большим
художественным вкусом из мяг-
кого камня, из известняка или
мергеля, реже из другой породы
камня, например стеатита, или
же из слоновой кости. Пере-
даны они всегда нагими, с под-
черкнутыми признаками пола.
Особенно в них бросается в
глаза желание первобытного художника передать черты зрелой женщины-
матери; об этом говорят такие постоянно присущие им признаки, как
объемистые груди, вздутый живот и общий характер фигуры — с ее
чрезмерно развитыми жировыми отложениями в области таза и бедер.
В самом типе женщины, который известен по целому ряду подобных
вещей, если ближе к нему присмотреться, можно различить две характер-
ные разновидности. Одна из них передает фигуру очень полной, невысо-
кой, коренастой женщины. Другая отличается вытянутыми пропорциями
тела и худощавостью, хотя собственно женские формы и у этих послед-
них статуэток передаются с той же утрированностью. При реализме и,
нужно признать, высокой художественной правдивости изображения
в целом, при соблюдении мастером более или менее точных естественных
пропорций фигуры, руки у этих статуэток передаются совершенно
условно: они бывают непропорционально малы и тонки и обычно сло-
жены в верхней части туловища — то на груди, то на животе. Другой
характерной их особенностью являются отсутствие лица и суммарная
Рис. 171. Известняковая
плита с высеченными па
ней различными изображениями — из III (орпнь-
якского) слоя главного убежища Ла Ферраси.
(но lleiipoun)
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ 405
трактовка головы, которая у лучше сохранившихся фигурок бывает
украшена или нарядной прической, или, скорее, шапочкой с наши-
тыми, видимо, на ней концентрическими рядами раковин или пронизок.
Изредка они могут сопровождаться изображением мужчины. Такая Изображения
мужская фигура изображена на скальных рельефах Лосселя (Франция), мужчввы
Она сохранилась не целиком, но, судя по характерной позе, очевидно,
представляет копьеметателя в момент бросания копья. Нельзя считать
правильным взгляд Обермайера и некоторых других авторов, видящих
в этой фигуре изображение стрелка из лука. Такое толкование противо-
речило бы давно уже установленному факту позднего появления лука
в культурах арктического типа, где, как и в стоянках верхнего
палеолита, более или менее повсюду его заменяет копьеметалка.
Да и в самом изображении из Лосселя нет никаких указаний на нали-
чие лука.
Как будто сюда же или, во всяком случае, к близкому времени отно-
сится очень плохо, к сожалению, сохранившаяся мужская статуэтка,
найденная среди других вещей при палеолитическом погребении в Брюнне
(Моравия); ее обычно рассматривают как памятник раннесолютрейской
или позднеориньякской поры.
Немногочисленные мужские изображения, происходящие из место-
нахождений ориньяко-солютрейского времени, имеют характер, близкий
к изображениям женщин. В манере передачи, в полном реализме они
обнаруживают черты, которые их совершенно, отличают от многочислен-
ных воспроизведений человекообразных существ в мадленских стоянках,
где они всегда в высокой степени странны и условны.
Если выбрать только проверенный фактический материал, мы будем Список
иметь нижеприводимый список местонахождений с интересующими нас MetT0Ha*0‘
изображениями.
Брассемпуи (юго-западная Франция, Ланды) — семь статуэток из сло-
новой кости; к сожалению, ни одна из них не сохранилась в целом виде.
Леспюг (там же, департамент Верхней Гаронны) — замечательная ста-
туэтка из грота близ Леспюг, найденная Сен-Перье в 1922 г.
Пешиале (там же, Дордонь) — фигурка из кости не вполне обычного
типа, происходящая из случайных находок. 1
Тру-Магрит (Бельгия) — грубая, видимо, не оконченная фигурка
в сидячей позе, вырезанная из рога северного оленя.
Гроты Гримальди (Италия) — семь статуэток— шесть из желтого стеа-
тита и одна из кости.
Савиньяно (Италия) — статуэтка из серпентина, весьма близкая
к происходящим из гротов Гримальди. Условия ее нахождения, к сожа-
лению, точно не известны. 2
Майнц (Германия) — два фрагмента статуэток обычного типа из
мягкого камня, найденные на стоянке Линзенберг.
Виллендорф (Нижняя Австрия) — две статуэтки — одна из известняка,
другая, недавно открытая Байером, вырезана из тонкого бивня мамонта
и отличается довольно большой величиной (27 см).
1 Н. Breuil, Oeuvres d’art paleolithique inedites du Perigord et art oriental d’Espagne,
«Revue anthropologiqueo, t. XXXVII, 1927, Л? 4—6, стр. 101.
2 V. Antonielli, Una statuetta feminile di Savignano sul Panaro e il problema delies
figure dette: «steatopigi», «Bull, di Paletn. Ital.», t. XLV за 1925 г., стр. 29, 1926; R. Vau-
irey, La statuette feminine de Savignano sur le Panaro (province de Modene), «L'Anthropo-
logic», t. XXXVI, 1926, стр. 429; P. Royer, Au sujet de statuette prehistorique de Savignano
sul Panaro, «L’Homme prehist.», 1927, t. 14, Ml—2. *
40(>
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРПНЬЯКО-СОЛЮТРЕПСКОЕ ВРЕМЯ
Ви.тлендорф
Рис. 172. Женская статуэтка
из ВпллепдорФа (Австрия;.
Нижнее Вистонице (Моравия) — статуэтка из слоновой костп. 1 2
Пекарна (Моравия) — недавно найденная статуэтка. -
Костенки (под Воронежем) — сорок две статуэтки — три из слоновой
кости, пять статуэток из камня и очень много фрагментов статуэток —
торсов, головок и пр. Одно изображение типа гравюры на каменной плитке.
Гагарине (верховья Дона) — три законченные статуэтки из слоновой
кости и две-три незаконченные.
Затем сюда же должны быть отнесены такие памятники, как Лоссель
(Дордонь), с его рельефными наскальными фигурами — четырьмя женскими
и одной мужской, Terme Pialat (Дордонь) — с двумя сходными по технике
женскими изображениями, однако несравненно более грубыми и относя-
щимися, видимо, к более раннему времени. 3
Пржедмост (Моравия), где найдено стилизованное изображение той же
женской фигуры, выполненное нарезкой на бивне мамонта, а также
семь грубых фигурок, сделанных из костей
стопы мамонта, которые воспроизводят чело-
веческие фигуры в сидячей позе, близкие по
типу к находке в Тру-Магрит в Бельгии.
Мальта под Иркутском, где в настоящее
время открыто не менее восемнадцати статуэ-
ток из кости, из них большинство женских,
причем обстоятельства находки говорят об
очень интересной стоянке и погребении того же
верхнепалеолитического времени.
Наконец, Буреть на Ангаре с ее прекрас-
ной фигуркой, видимо женской.
Остановимся несколько на некоторых из
перечисленных находок.
Одна из наиболее любопытных фигурок
этого рода была обнаружена в 1908 году, во
время раскопок на лёссовой стоянке Виллен-
дорф в верхнем течении Дуная. Она предста-
вляет изваянную из тонкозернистого плотного
известняка прекрасно сохранившуюся неболь-
шую скульптурку высотою в 11 см, которая с
чрезвычайной реалистичностью воспроизводит
обнаженную женщину (рис. 172) с тяжелыми,
формами — громадными грудями, объемистым
чрезмерно развитыми
животом, заплывшей поясницей и массивными бедрами, хотя ноги ниже
колен переданы у нее в несколько укороченной пропорции. Сту-
пни у нее отсутствуют; руки малы и тонки, их кисти сложены на
груди; выше кистей в области запястья имеется зубчатая нарезка,
которая, видимо, должна означать перевязь или браслеты. Признаки
пола подчеркнуты. Голова характерно опущена вниз, лица нет. Во-
лосы покрыты шапочкой или чем-то вроде нее, переданной круго-
выми рядами выпуклостей, вероятно каких-то украшений головного
1 J. Р. Е. К., 1925, табл. 76 и 1930, табл. 4. Вторая статуэтка из Вистонпцы
представляет собой подделку. Ср. R. Vaujrey, <<L'Anthropologies, t. XLIII, 1933, 3—4,
стр. 356 — рецензия на статью Бегуенэ.
2 Absolon und Czizek, Die palaolithische Erforschung der Pekarna-Hbhle, Zweite Mit-
teilung, Brno, 1927, стр. 85; H. Kuhn, Eine neue Aurignacien statuette, J. P. E. K.,
1927, стр. 194. '
3 A. Delugin, Relief sur pierre aurignacien a representations humaines au Terme Pialat,
«Bull, de la Societe hist. et. archeol. du Perigord», 1914"'
407
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
убора. Вся фигура схвачена и передана чрезвычайно удачно, с под-
линным художественным вкусом, хотя и странным с точки зрения свой-
ственных нам представлений о красоте. 1
Рядом с виллеядорфской находкой может быть поставлена наша на-
ходка в Костенках, Воронежской области, сделанная в 1923 г.2 Правда, она
воспроизводит несколько иной физический тип женщины, так сказать, вто-
рую его разновидность, но в смысле художественности выполнения она не
уступает виллендорфской (табл. XV). При узких плечах, общей вытянутости
тела, тонких очертаниях верхней части туловища и ног, вернее — бедер, так
как ноги у нее заканчиваются чуть ниже колен, она имеет тот же тради-
ционный большой, вздутый живот и огромные свисающие груди. Руки,
переданные в обычной условной манере, прижатые к телу и украшенные
какими-то поперечными чертами, покоятся у нее на животе, по его сто-
ронам. Ролова у нее к сожалению не сохранилась — была сломана еще
в древности. Весьма любопытно сходство костенковской фигурки с вил-
лендорфской в некоторых более мелких деталях, как передача естествен-
ного углубления посредине живота и особенно тех.же трех характерных
поперечных линий сзади, в области поясницы и при переходе к бедрам,
долженствующих подчеркнуть складки полного тела.
Чуть выше грудей на нашей статуэтке можно видеть тонко выграви-
рованную тройную полоску с косой штриховкой, которую, очевидно,
следует рассматривать как ленту или перевязь, охватывающую грудь.
На большой статуэтке (находка 1931 г.) из слоновой кости, которая,
к сожалению, сохранилась гораздо хуже, можно видеть ряд таких же
любопытных деталей. Особенно интересна перевязь — нечто вроде оже-
релья, выполненного той же тонкой нарезкой, которое спускается у нее
с плеч на грудь. Голова у этой статуэтки отсутствует. Однако в верх-
ней части спины при переходе к шее можно заметить полоску из четко-
видных возвышений, которая показывает, что она имела прическу или
шапочку, как у виллендорфской, гагаринской и некоторых других по-
добных фигурок. 3
Большая каменная статуэтка из наших находок 1931 г. имеет иной
характер; она очень массивна и выполнена в условной, схематизирован-
ной манере, напоминая в этом отношении так называемых каменных баб
южнорусских степей. На других статуэтках этого типа в Костенковской
стоянке мы не имеем возможности пока останавливаться, поскольку они
находятся еще в процессе изучения.
Статуэтки из Гагаринской стоянки в верховьях Дона, открытые С. Н.
оамятниным в числе трех законченных экземпляров, представляют, как мы
видели, весьма типичные произведения своей эпохи (табл. XVII). Это —
миниатюрные фигурки, очень близкие к статуэткам Ментоны, наибольшая
из которых имеет всего 68 мм, вцрезанные из слоновой, кости, с обычными
для них крайне преувеличенными формами; безликие, с характерно скло-
ненной головой и руками, сложенными в традиционном положении на теле.
1 Вторая фигурка из слоновой кости, найденная Байером, отличающаяся круп-
ными размерами, но, видимо, незаконченная, описана им в «Eiszeit und Urgeschichte»,
1930, Bd. VIJ, H. I—II, стр. 48 (J. Bayer, Die Venus II von. Willendorf). Он указы-
вает еще одну маленькую, только вчерне отделанную статуэтку из слоновой кости
из старых раскопок в Виллендорфе (Eiszeit und Urgeschichte, Bd. VII, taf. XIII—
XIV, pur 3).
2 П. И. Ефименко, Статуэтка co лют ре некого времени с берегов Дона, «Материалы
по этнографии, Русек. Муз.», 1926, т. III, в. I, стр. 139.
° Третья статуэтка из слоновой кости (из раскопок 1936 г.), целиком восстано-
вленная, является одним из лучших произведений искусства»этой эпохи.
К осте ни
Гагаряно
40$
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
У одной из них обе руки, согнутые в локте и опирающиеся на огромные
груди, подняты в- странном жесте к лицу. Сходство позы статуэтки из
Гагарина и рельефов Лосселя (Франция), конечно, не является случайным.
Брассемпуи Ближайшую аналогию этим восточноевропейским находкам предста-
вляют находки в гроте Брассемпуи на юго-западе Франции, описанные
Эдуардом Пьеттом и воспроизведенные во многих изданиях. Ни одна из
них, к несчастью, не сохранилась в сколько-нибудь целом виде. До нас
дошли лишь более или менее крупные фрагменты Статуэток, вырезанных
из слоновой кости. Наиболее значительная из них по величине должна
была иметь всего 10—12 см высоты, другие имели совсем небольшие раз-
меры. Здесь были встречены и заготовки для этого рода фигурок. 1 2
В статуэтках Брассемпуи можно, в сущности, различить те же два
типа изображения, которые переданы виллендорфской и костенковскими
находками. Они выступают здесь вполне отчетливо: один из них воспро-
изводит массивную женскую фигуру с необъятными бедрами и животом,
настолько выдающимися вперед, что это заставляет думать о беремен-
ности— подобно тому^ как это можно наблюдать и у статуэток Ментоны.
Плохая сохранность не позволяет судить о других деталях, но и здесь
признаки пола часто бывают подчеркнуты. Другие фигурки имеют лег-
кие, удлиненные, иногда даже чрезмерно вытянутые очертания тела.
Один или два из этих фрагментов рассматриваются иногда как мужские
фигурки. В одном случае на фигурке как будто можно различить какое-то
одеяние в виде короткого плаща, в другом случае ее считают опоясанной,
Что, однако, представляется сомнительным. Некоторой особенностью ста-
туэток Ментоны является их очень небольшая величина: лучшие из этих
фигурок (худенькая и полная) имеют всего 4,8 см и 6,0 см высоты.
Еще Пьетт обратил в свое время внимание на это различие изобра-
жений, считая, что оно отвечает двум разным физическим типам палео-
литического человечества и, таким образом, подсказано ваятелю непо-
средственным наблюдением натуры.
Такое истолкование имеет за собой достаточно веские основания, если
брать его, однако, не в смысле признания за этими особенностями значе-
ния расовых признаков. Расовый характер они вряд ли могли бы иметь,
так как они свойственны всем известным нам статуэткам, одинаково как
в западной, так и в восточной Европе. Но вполне естественно рассматри-
вать их как реально существовавшие типы сложения, связанные с двумя
физическими конституциями, которые не могли ускользнуть от наблюда-
тельности палеолитического художника, — брахискелической и макро-
скелической.
Лосеель Особенно замечательной является находка, сделанная Лаланном на
месте стоянки Лоссель близ Лез-Эйзи в Дордони, где им в 1909 г. было
открыто пять рельефов, совершенно исключительных по своему значе-
нию для понимания этого рода памятников палеолитического искусства. 1
Центральное место среди них занимает женский образ, который по-
вторяется на четырех рельефах Лосселя и лучше всего передан в самой
крупной фигуре в 0,46 м высотой, высеченной на большой плите извест-
няка, размером 1,20 м на 1,60 м.
В сущности говоря, все они представляют одно и то же изображение
женщины со всеми его характерными чертами, которое мы знаем по вил-
1 Ed. Piette, L’art pendand I’age du renne, Paris, 1907, табл. LXXVI—LXXVI1.
2 G. Lalanne, Bas-reliefs a figuration humaine de I’abri sous roche de Laussel, <<L’An-
thropologies, XXIII, 1912, стр. 129; L. Capitan, Les bas-reliefs a figurations humaines.
de I’abri Loussel (Dordogne), «Revue anthropologiqueo, 1912, стр. 316.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
лендорфской статуэтке и другим аналогичным вещам, с той лишь раз-
ницей, что здесь мы его видим перенесенным на плоскость и сделанным
в невысоком рельефе.
Мы видим у них ту же чрезмерную полноту, переходящую в уродли-
вость, то же излишество форм, те же короткие, широкие очертания тела
в сочетании с вполне реалистической, почти портретной манерой вос-
произведения. Голова у них, как и у ранее описанных статуэток, пере-
дана суммарно, лицо отсутствует, на голове у одной видна шапочка,
а может быть, и сложная прическа.
Интересно, что руки у женщин Лосселя не имеют того условного ха-
рактера, который свойственен виллендорфской, костенковским и другим
подобным фигуркам, и не только не теряются на общем фоне фигуры,
будучи плотно прижаты к телу, как это мы видим у большинства ста-
туэток, но, наоборот, отставлены в свободном жесте, г
Те же новые черты обнаруживаются у лучше сохра-
нившейся более крупной фигуры Лосселя, которая
занимает в ряду их центральное место, в трактовке
ног, переданных гораздо более свободно — целиком
до ступней в вполне естественной позе.
Описываемое изображение представляет особен-
ный интерес.
В согнутой в локте и приподнятой правой руке
женщина держит предмет, который нельзя понять
иначе, как бычий (турий) рог, очевидно предна-
значенный для питья, поднимая его на уровень лица.
У двух других фигур мы видим повторенным сход-
ный жест, хотя плохая сохранность их не дает воз-
можности ближе разъяснить его смысл. Во всяком
случае, у одной из них в правой руке имеется тоже
что-то подобное рогу, хотя и более изогнутое, чем у
первой (рог дикого козла?). Наконец, четвертое изо-
бражение представляет странную, как будто двойную
или сидящую фигурку — также довольно плохой со-
хранности.
Пятая фигура, о которой упоминалось выше,
принадлежит несомненно мужчине, о чем свидетель-
ствуют очертания сухого, стройного тела, поверну-
того в хорошо схваченном движении: его правая
рука, отведенная назад, видимо бросает копье, ле-
вая же, вытянутая, вероятно поддерживает его
древко. Грудь повернута почти en face, левая нога
влена для упора. В ней замечательно это положение тела, так как
обычно женские фигуры передаются строго фронтально и, за исключе-
нием тех же рельефов Лосселя, в застывшей симметрической позе.
Эти совершенно исключительные находки, которые требуют дальней-
шего всестороннего изучения, были погребены в раннесолютрейском слое
и, по установившемуся мнению, относятся к времени нижележащих
позднеориньякских наслоений. Однако такую датировку нельзя- считать
вполне доказанной. Принимая во внимание целый ряд особенностей,
свойственных лоссельским изображениям и заставляющих выделять их
из общего круга находок, которые нас сейчас интересуют, их правильнее
помещать в несколько более позднее время, где-то на рубеже ориньяк-
ской и солютрейской эпох.
Рис. 173. Схематизи-
рованное изображение
женщины из
Пржедмоста.
(По Кржыжу)
несколько выста-
410 ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРПНЬЯКО-СОЛЮТРЕПСЯОЕ ВРЕМЯ
Леспюг Другой памятник, также не имеющий себе пока близких аналогий, пред-
ставляет сравнительно недавно (в 1922 г.) открытая статуэтка из грота Рпдо
близ Леспюг.1 Это та же хорошо известная женская фигурка, в 147 мм высо-
той, вырезанная из слоновой кости, но не в ее обычной реалистической
интерпретации, а в странной стилизации, в основе которой еще целиком
лежит живой образ. Моментами стилизации у этой чрезвычайно любо-
пытной статуэтки является крайнее преувеличение форм женского тела,
передаваемого в своеобразной нарастающей симметрии полуокружий —
икры, бедра, неимоверных размеров таз, живот, огромные груди, изобра-
жаемые в виде .бугров поверх живота, все это выдержано как бы в гео-
метрически правильных кривых. По общему своему характеру леспюг-
ская находка принадлежит к группе женских изображений с удлинен-
ными пропорциями тела. Она имеет узкие плечи, маленькую голову,
приспущенную книзу, лицо у нее отсутствует, но голова не прикрыта,
как обычно, шапочкой, а обнажена, и волосы прядью спускаются на
спину. Руки ее, лежащие поверх грудей, не вплотную прижаты к телу
и образуют выше локтя небольшой прорез, что также несвойственно дру-
гим фигуркам. Указанные особенности леспюгской статуэтки могут быть
дополнены еще одной деталью, не вполне ясной в своем значении, — это
нечто вроде хвоста, спускающегося в виде вертикально зачерченного
треугольника от области ягодиц до пят.
Изображение Рядом западноевропейских авторов, у нас — Б. Л. Богаевским, 2 а за-
хиоста тем и с л Замятниным, было высказано интересное соображение, что
эта деталь, видимо, воспроизводит действительно искусственный хвост
(сделанный, например, из хвостиков мамонтов). Такой хвостик был най-
ден С. Н. Замятниным вместе с описанными выше женскими фигурками
в исследованном им палеолитическом жилище в Гагарине. Он склонен
ставить это в связь с обычаем, существующим у многих первобытных
народностей, у которых хвост животного часто фигурирует в одеянии
шамана или шаманки.
Что эта деталь не является случайной, что она может, как мы увидим
ниже, дать ключ к объяснению значения женских изображений в предста-
влениях ориньяко-солютрейского населения Европы и северной Азии, —
показывают аналогичные находки, сделанные в Костенках и в Мальте.3
Одна из встреченных нами в Костенках небольших фигурок из мергеля
имеет такой же атрибут в виде ряда продольных нарезок. Еще интереснее
одна из мальтинских статуэток, снабженная, как показал В. И. Громов, 4
отчетливым изображением хвоста. Особенность этой фигурки — покрываю-
щий ее с головы до ног узор из поперечных линий—позволяет думать, что
она должна была передавать женщину, облеченную целиком в шкуру пе-
щерного льва.
Находки В этой связи большой интерес представляют наблюдения Дюпона,
я гроте Шала одного из первых и наиболее заслуженных исследователей палеолитиче-
ских пещер Бельгии, который отметил, правда, в более позднем палео-
1 Dr. Rene de Saint-Perier, Statuette de femme steatopyge decouverte a Lespugue
(Haute Garonne), «L’Anthropologies», v. XXXII, 1922, стр. 361.
2 Б. Л. Богаевский, О значении изображения «.колдуна» в пещере трех братьев,
«Сов. Этнография», 1934, 4, стр. 67.
3 К числу таких же интересных особенностей, несомненно вовсе не случайного
характера, относится рог для питья у женщин из Лосселя п поднятые руки у гагарин-
ской фигурки.
4 В. И. Громов, О внешнем виде пещерного льва в связи с некоторыми археологиче-
скими находками, «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1935, Л? 1—2,
стр. 165.
411
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
литическом пещерном поселении — Шало (Ghaleux), находку остатков не
менее 28 лошадиных хвостов. 1
Дюпон указывает, что присутствие многочисленных хвостовых по-
звонков лошади в этой пещере трудно объяснить случайностью. Очевидно,
обитатели лагеря намеренно приносили на место жилья хвосты лошадей,
возможно вместе со шкурами. Подсчет позвонков показывает, что они
в преобладающей массе принадлежат концу хвоста (с шестого позвонка),
то есть той его части, где позвонки теряют мозговую полость и где начи-
нает расти длинный волос. При снятии шкуры животного в этом месте —
у 5—6 позвонка — удобнее всего было расчленить хвост, сохранив лишь
его концевую часть. Дюпон совершенно правильно считает, что возможны
три предположения относительно цели этого, обычая: или что хвосты
могли носиться в качестве трофея или украшения, или их брали для
того, чтобы сохранить власть над животными и обеспечить удачу охоты,
или они служили просто для использования волоса. Хотя автор больше
склоняется к последнему мнению, на наш взгляд, в свете других фактов,
первые два предположения также должны сохранить вполне свою силу.
Из других находок, заслуживающих не меньшего внимания, чем
предыдущие, можно указать изображение, вырезанное на куске бивня
мамонта из Пржедмоста, изданное Кржыжем, смысл которого был совер-
шенно правильно разгадан Мухом. Как оказалось, загадочный рисунок
воспроизводит ту же известную нам женскую фигуру, но передает ее не
в привычном пластическом образе, а в узорно-декоративной стилиза-
ции — в виде комбинации узорных нарезок. Этот прием, неизвестный
в западноевропейских находках, имеет некоторые аналогии в памятниках
палеолитического искусства восточной Европы, относящихся, насколько
сейчас можно ориентироваться в хронологических взаимоотношениях от-
дельных стоянок нашей территории, ко времени, не слишком удаленному
от эпохи Пржедмоста, — как Мезин, Киевская стоянка, наконец Елисее-
вичи и, может быть, Тимоновка под Брянском.
На этом изображении (рис. 173) можно различить голову, переданную
совершенно условно, в виде треугольника основанием кверху, с рядами
заштрихованных линий, очевидно долженствующих означать обычный
головной убор ориньякских фигурок; огромные грушевидные груди; плё-
точки рук, падающих по сторонам тела; живот с его характерным углу-
блением, имеющий в отношении к фигуре в целом, как и у костенковской
статуэтки, небольшие размеры; наконец, широкий таз, в виде правиль-
ного овала, и ноги, которые обозначены вертикальными прямыми линиями.
Эту находку естественно рассматривать как несколько более позднее
оформление того же женского образа, который в конечную пору ориньяк-
ской эпохи и в солютрейское время традиционно воспроизводится
в скульптурной технике.
В собраниях Брюннского музея (Моравия), происходящих из Пржед-
моста, имеется несколько человеческих фигурок, которые нельзя не по-
ставить в связь с другими описанными изображениями. Для них исполь-
зован материал, мало подходящий по качеству, но с другой стороны
облегчавший их изготовление: все они вырезаны из суставов стопы
мамонта и представляют, по Абсолону, весьма грубо сделанные изобра-
жения сидящих женщин с выдающимся животом, руками, намеченными
только в верхней части, также едва обозначенными ногами и несколько
наклоненной головой, общие очертания которой в основном переданы
1 Dupont, L’homme pendant les ages de la pierre dans les environs je Dinant-sur-
Meuse, ed. 2, 1872, Paris, стр. 173.
Нржодмост
Сидящие
фигурки
412
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Значение
подобных
изображении
головчатым сочленением сустава (метатарсальной или метакарпальной
кости) мамонта. Высота их 12—14 см. 1 В нижней части они ровно сре-
заны и таким образом могут удобно быть поставлены. Нельзя не согла-
ситься с мнением, уже не раз высказанным в литературе, что эти сидящие
фигурки обнаруживают большое сходство с аналогичными изображе-
ниями, встречающимися в кругу северных народностей, таких, напри-
мер, как эскимосы, коряки, алеуты и т. д., где они играют заметную
роль в культе и религиозных представлениях. В маленькой статуэтке из
Тру-Магрит (Бельгия) из рога северного оленя мы, видимо, имеем изо-
бражение близкого характера.2
Описанные пржедмостские находки должны быть причислены к одним
из наиболее поздних в серии перечисленных ранее женских изображений.
Время их во всяком случае определяется уже поздней эпохой солютре, то
есть они имеют приблизительно тот же возраст, что и мужская статуэтка,
найденная при палеолитическом погребении в Брюнне. К несколько
более ранней поре, хотя и не слишком отдаленной, то есть ко времени
около начала солютрейской эпохи, должны быть отнесены — статуэтка из
Леспюг, рельефы Лосселя, костенковские статуэтки, а также статуэтки
Гагарина. Остальные находки в своей массе, по мнению большинства
исследователей, принадлежат к концу ориньякского времени.
Во всех более или менее достоверно установленных случаях интере-
сующие нас изображения охватывают определенное время, включающее
конец ориньякской и начало солютрейской эпохи, хотя отдельные на-
ходки их, получающие уже несколько иной характер, попадаются в стоян-
ках до начала мадлена.3 На востоке Европы и в отдаленной Сибири тот же
образ женщины или изображения, вырастающие из него в силу внутренней
логики первобытного мышления, продолжают, видимо, бытовать еще до-
вольно долгое время. К этому нам еще придется вернуться в дальнейшем.
Мы должны будем теперь заняться вопросом: что же представляют
собой эти статуэтки, какое значение они должны были иметь в жизни
общества ориньякской эпохи? Нам в особенности приходится считаться
с тем фактом, что они как будто находятся в явном противоречии с на-
шими представлениями о той стадии развития первобытного общества,
с которой они оказываются связанными по своему происхождению.
Действительно, все то, что мы знаем о наиболее отсталых охотничьих
обществах современности, таких, как австралийцы, бушмены, ведды и
многие другие, как будто говорит достаточно определенно о том, что
женщина, как общее правило, не играет у них сколько-нибудь заметной
роли. Это и понятно в связи стой, большею частью достаточно скромной
хозяйственной ролью в системе естественно возникающего разделения
мужского и женского труда, которую играет женщина-собирательница
на этой ступени. В условиях бродячего существования охотников-собира-
телей, как это можно-видеть у многих современных отсталых народно-
стей, нет главной предпосылки к иному положению женщины — оседа-
ния первобытной орды. Таким образом, нет ничего удивительного в том,
что изображение женщины, за немногими исключениями, чуждо искусству
бродячих народностей охотничьего круга, и если встречается, то имеет
1 И. Klaatsch, Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur,
Berlin, 1920, стр. 370.
2 Эта грубо намеченная сидячая фигурка имеет в высоту всего 4 сантиметра.
Dupont, ук. соч., стр. 92.
1 Одну из лучших находок этого рода представляет статуэтка из слоновой кости,
найденная в 1935 г. в Елисеевичах.
413
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
случайный характер. Видимо, не знает его или почти не знает и мадлен-
ское искусство.
Однако это не меняет установленного нами факта. В искусстве ориньяко-
солютрейского времени изображения женщины занимают совершенно осо-
бое положение. Об этом достаточно определенно говорят условия нахо-
ждения их в стоянках, где мы не имеем совершенно или почти не имеем
каких-либо иных изображений, кроме встречающихся иногда фигурок
животных — мамонта, медведя и др. (Пржедмост, Костенки, Н. Вйсто-
нице). Таким образом, женский образ не только пользуется чрезвычайно
широким распространением, но составляет если не единственный, то во
всяком случае центральный сюжет в эту раннюю эпоху искусства. Это
является правилом по крайней мере в отношении изображений, находи-
мых на местах поселений, так как пещерные рисунки, отчасти, как это
доказал Брейль, относящиеся к этому же времени, представляют все же
нечто иное. Там главной темой являются, насколько мы знаем, изобра-
жения животных, которые играют такую громадную роль затем в искус-
стве более поздней поры палеолита.
Это обстоятельство как будто указывает на диференцированный ха-
рактер искусства, на сложность его общественных функций в условиях
позднеориньякской и солютрейской эпох, что не может не наводить на
мысль о каких-то длительных предшествующих фазах, в которых склады-
вался, на почве условий развития ориньякского общества, образ женщины.
Когда Эдуард Пьетт впервые описывал свои находки в Брассемпуи
и статуэтки Ментоны, открытия в области палеолитического искусства
Франции и Испании только начинались. В частности, пещерная живо-
пись, заставившая совершенно перестроить отношение к целям и значе-
нию изобразительного творчества в эпоху палеолита, тогда еще почти не
получила признания. Она едва, например, упоминается в известном
труде Г. и А. де Мортилье «Le Prehistorique», вышедшем в переработан-
ном издании в 1900 г. Понятно, что Пьетт. больше чем кто-либо сделав-
ший для этой области палеолитической культуры, находился во власти
своей схемы палеолитического искусства, построенной на весьма непол-
ном, крайне односторонне освещенном материале, включающем только
предметно-вещевое искусство палеолитических стоянок Франции, кото-
рое казалось ему по внутреннему смысловому значению очень близким
к декоративному искусству позднейших эпох «доистории» или такому же
искусству современных народностей с первобытным строем культуры.
Ни он, ни Г. де Мортилье не могли рассматривать искусство верхнего
палеолита в его целом иначе, как выражение чисто художественных эмо-
ций богато одаренных охотников за мамонтом и северным оленем, насе-
лявших западную Европу к концу ледниковой поры. Первобытные охот-
ники, по их представлениям, постепенно овладевая техникой обработки
кости и мягкого камня для целей чисто утилитарных — изготовления
орудий, оружия, утвари, — вместе с тем должны были учиться выражать
в этом материале образы окружающего мира, идя главным образом по
пути художественного украшения практически ценных предметов, таких,
как «жезлы начальников», кинжалы, метательные палочки и пр.
Э. Пьетт выделял более ранние произведения палеолитического искус-
ства, скульптуры Брассемпуи и Ментоны, лишь по тому признаку, что
в его представлении они должны были отвечать первому этапу в художе-
ственном воспроизведении натуры, то есть наиболее реалистическому,
объемному воспроизведению ее, которое он рассматривает как прием
художественного воплощения, сохраняющий реальную вещественность
Взгляды
Пьетта
414
Взгляды
Марра
Памятники
древнейшего
искусства
глава восьмая. ориньяео-солтотреИское время
наблюдаемых и изображаемых объектов. Скульптуре он считает возмож-
ным противопоставить рельеф, затем порезку-гравюру — прием, господ-
ствующий в мадленскую эпоху,— видя в их смене естественный путь от
предметного образа, данного в трех измерениях, к условной передаче его
рисунком на плоскости. Однако схема, построенная Пьеттом, была опро-
кинута новыми открытиями, в особенности открытием многочисленных
пещерных изображений, исполненных в росписи и нарезке, часть из
которых по времени, несомненно, должна быть отнесена к эпохе скульп-
турных фигурок ориньяка.
Не так давно Н. Я. Марр высказал замечательную по своей глубине
мысль, что искусство в начальных своих формах должно было вырастать
из тех же социальных потребностей и, следовательно, питаться теми же
идеями-образами, на почве которых возникла и развилась звуковая речь,
сменившая речь кинетическую. Что звуковая речь есть относительно
поздний продукт общественного развития, что она заимствовала круг
своих первоначальных образов из предшествующей стадии — общения
с помощью жеста, — это лежит в основании воззрений нового учения
о языке на происхождение речи.
По указанию этого учения, язык вообще, в каких бы материальных
формах он ни конкретизировался — в движении, звуковой речи, изобра-
жении, — всегда должен был первично иметь условный характер, то
есть характер образно-символический. Уже a priori, действительно, пред-
ставляется в высокой степени вероятным, что изобразительное творчество
в его ранних формах должно было прежде всего служить способом обще-
ния, особого порядка языком, который закреплял в сознании первобыт-
ной общественной ячейки общность ее интересов.
В настоящее время мы можем проверить эти мысли, так как знаем
палеолитическое искусство в его очень ранних проявлениях, задолго
предшествовавших времени появления скульптурных фигурок, о которых
речь была выше, с их высоко художественными формами. Нам теперь
пути развития палеолитического искусства представляются несравненно
более сложными и более содержательными, чем это казалось Пьетту и
его ученикам и последователям.
В особенности приходится иметь в виду относительно недавние на-
ходки в пещерах Бланшар, Ла Ферраси и других гротах Дордони, совер-
шенно недостаточно пока оцененные по тому значению, которое они имеют
для понимания происхождения искусства вообще и его оформления в на-
чальных этапах его развития. Особенно большой интерес для нас предста-
вляет вторая из них,стоянка Ферраси, описанная Капитаном и Пейрони.1
Тщательно изученная этими достаточно зарекомендовавшими себя
исследователями, эта стоянка, представляющая собой целый комплекс
палеолитических поселений разного времени, как известно, дала мате-
риал для ряда весьма ценных открытий и наблюдений. В частности,
в культурных напластованиях большого убежища Ферраси, относящихся
по своим характерным признакам, как полагают Капитан и Пейрони,
к средней поре ориньяка, ими были сделаны находки, которые нельзя
не поставить в прямую генетическую связь с ориньякским искусством
в его более поздних, нам уже известных проявлениях.
Так, уже в самом нижнем слое мощных напластований, относимых
ими к среднему ориньяку, исследователям посчастливилось сделать заме-
1 Dr. Capitan et D. Peyrony, Les origines de Vart а V aurignacien moyen, Nouvelles
decouvertes a la Ferrassie, «Revue anthropologique», JVt 3—4, 1921. См. также более
полную публикацию — D. Peyrony, La Ferrassie, «Prehistoire», t. HI, 1934, стр. 1.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
нательную находку плоской, грубо моделированной статуэтки, вырезан-
ной из кости. Несмотря на все несовершенство работы, мастер, несомненно,
стремился передать в ней черты знакомого нам женского образа с его
массивной, крайне преувеличенной в своих формах фигурой. Ближе
всего, пожалуй, эта статуэтка напоминает примитивные рельефйые изобра-
жения женщины в профиль из Terme Pialat в той же Дордони, описан-
ные Делюгеном, 1 — относящиеся, несомненно, к ориньякскому времени,
хотя более точно возраст их не мог быть установлен. В этом же слое
Капитаном п Прйрони была найдена неопределенная роспись на обломке
известняковой породы, видимо свалившаяся со свода, который, таким
образом, был украшен какими-то изображениями.
В вышележащих горизонтах тех же отложений ими было встречено
множество изображений, столь же грубо выполненных нарезкой и одно-
цветным красочным рисунком на кусках известняка. Часть из них, несо-
мненно, происходит с обвалившихся стен пещеры, другие имеют вид до-
вольно крупных плит с выглаженной поверхностью, на которой нано-
сился рисунок.
Особенно интересно то, что во многих случаях они оказались
изломаны и по большей части брошены изображением вниз, как будто
с целью намеренного уничтожения и осквернения. Все они сделаны очень
примитивно: контурной нарезкой и черной или красной линией. Часто
для композиции фигуры использовались естественные неровности или
изломы камни, хотя в общем их смысл не возбуждает сомнения, так
как в этих скупых очертаниях схвачены характерные черты изобра-
жаемого. В этих в прямом смысле слова первобытных рисунках можно
распознать изображения животных: лошади, льва, носорога, оленя и
др. Первое животное воспроизводится чаще других. Любопытно, что
относительно редко животное передается целой фигурой. Большей частью
это набросок самого характерного в изображении зверя — его головы.
Еще чаще в этих находках встречаются группы загадочных чашеч-
ковидных ямок и углублений, которые Дидон, 4 открывший такие же
чашечковидные знаки в пещере Бланшар, совершенно наивно объясняет
как приспособления для игры. Капитан и Пейрони, конечно, правы,
когда вспоминают в связи с находками в Ферраси и Бланшар камни с ча-
шечковидными углублениями, которые идут через всю первобытную
историю Европы и отношение которых к культовой обрядности вряд ли
можно было бы отрицать.
Чашечковидные углубления в находках, сделанных в Ферраси, часто
бывают соединены с другими изображениями, среди которых на первом
месте стоит знак, который должен быть истолкован как изображение
женского признака пола. Последнее изображение, по словам Пейрони,
встречается во всех местонахождениях среднеориньякского времени, ко-
торые ему приходилось исследовать в Дордони. То же говорит и Обер-
майЕР относительно ориньякских пещерных стоянок, усматривая в по-
добных знаках проявление эротизма, которое, по его мнению, свой-
ственно ориньякскому искусству и в трактовке женской фигуры. Однако
к этим примитивным изображениям можно подходить с иной точки зре-
ния. Без сомнения, в подобной тематике нельзя не видеть прямой связи
с более поздним образом Брассемпуи, Ментоны, Виллендорфа, Костенок,
1 A. Delugin, ук. соч.
8 L. Didon, Faits nouveaux constates dans une station aurignacienne des environs de
Sergeac, «Congres intern, d'anthrop. et d'archeol. prehist.», Sess. XIV [Geneve, 1212),
Geneve, 191.3-, v. 1, стр. 337.
41'>
Животные
Чашечко-
видные
углубления
Звак пол»
416
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСЬОЕ ВРЕМЯ
Характер
древнейшего
искусства
в котором воплощена, только в более художественной форме, в сущности,
видимо, та же руководящая идея первобытного мышления.
В Ферраси, так же как в совершенно сходны^ изображениях, откры-
тых в Бланшар и других пещерах Дордони, эта идея лишь выражена
в более примитивных формах, поскольку искусство ориньяка делает
здесь, видимо, свои первые шаги. Интересно, как мы видели, что в этих
изображениях часто применяется принцип pars pro toto (часть вместо
целого), который, кстати сказать, не всегда представляет явление упро-
щения., редукции, «отхода от реализма», а мог быть и явлением первич-
ного порядка, если стать на точку зрения условного, «конвенциональ-
ного» характера начальных форм искусства.
Из этих фактов можно, таким образом, сделать следующие выводы.
Искусство в своих начальных формах вовсе не дано нам, как это думал
Пьетт, в художественной реалистической скульптуре типа Брассёмпуи или
Ментоны. Оно появляется в гораздо более раннюю пору ориньяка, причем
одинаково и в скульптуре, и в линейной резьбе, и в живописной передаче,
то есть носит в этом смысле не диференцированный характер, тогда как
скульптура в качестве главной формы художественного выражения при-
обретает значение уже в более позднее время, вместе с техническим овла-
дением костью как материалом для изделий. Уже в это раннее время чело-
века особенно интересует мир животных, за счет которых было возможно
его существование. К числу таких изображений, кроме тех, которые были
найдены в пещерах Ферраси и Бланшар, относятся группы наиболее
древних рисунков в пещерах Комбарелль, Фон-де-Гом, Пиндаль и мно-
гие другие, относительно очень раннего возраста которых и прежде не
возникало сомнения.
Искусство в своих первых известных нам проявлениях, опять-таки
вопреки ПьЕтту, оказывается гораздо менее реалистически законченным,
чем в последующее время. Сами изображения животных имеют черты
условности в манере их воспроизведения и в господствующем принципе
передачи части вместо целого. Они всегда даются в тесном сочетании со
знаками и изображениями определенно условно-символического значения.
Наконец — и это особенно для нас существенно — мы приходим к вы-
воду, что изображение женского начала играет большую роль уже в древ-
нейшее время, от которого сохранились произведения искусства. Таким
образом, фигурки женщины из стоянок позднеориньякской поры есть
лишь наиболее совершенное в художественном отношении выражение
идеи, корни которой уходят в начальную пору верхнего палеолита, если
не в более раннее время.
Попытки На фоне этих фактов женские изображения, которые мы описали
истолковании ранее) происходящие из стоянок частью позднёориньякских, частью
Сражений ' раннесолютрейских, приобретают особое значение.
В чем же искать их разгадку?
Не будем останавливаться на миграционной теории происхождении
ориньякского искусства и ориньякской культуры вообще, которая одно
время получила широкое распространение, да и сейчас имеет многочислен-
ных сторонников в кругах западноевропейских исследователей. По мнению
Брейля, выводящего, вслед за Э. Пьеттом, ориньякскую культуру с юга,
из Африки, особенности ориньякских статуэток могут быть истолко-
ваны как расовые черты переселенцев-негроидов, занявших Европу
в начальную пору верхнего палеолита и вытеснивших отсюда ее древних
неандертальских обитателей. Эту же точку зрения повторяет, например,
Лаланн на международном конгрессе в Женеве в 1912 г., хотя уже тогда
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
41
Деонна правильно указал на сомнительный характер такого рога расо-
вых признаков в палеолитическом искусстве. 1 После того как было дока-
зано, что собственно о стеатопигии — характернейшей черте южноафри-
канских негроидов — в отношении этих изображений говорить совер-
шенно не приходится, что их преувеличенные формы, в частности жи-
ровые отложения в области седалища, есть просто проявление ожирения,
наблюдающегося и у представителей, вернее представительниц, европей-
ского населения при соответствующих, естественно, условиях жизни, —
становится очевидным, что гипотеза переселении решительно ничего не
дает для понимания наших статуэток. 2
Для истолкования этого загадочного женского образа ориньяко-со-
лютрейской эпохи часто привлекаются те женские статуэтки из глины
и камня времени неолита и начала металла, которые хорошо нам известны
в трипольской культуре, в древнейших слоях старых земледельческих
поселений Ближнего Востока (Сузы), Средней Азии (Анау) и островного
мира, в кругу памятников эгейской культуры. Действительно, пора-
зительное сходство тех и других изображений постоянно заставляет ис-
следователей возвращаться к вопросу об их взаимоотношении. Известный
датский ученый Софус Мюллер, 3 в свое время решился даже выступить
с утверждением, что в этих двух группах памятников мы имеем дело с явле-
ниями почти одновременными, то есть, что верхний палеолит Франции
по существу представляет нечто очень позднее. Так, ориньякская стоянка
Брассемпуи, по его определению, если исходить из стилистической оценки
ее скульптур, должна быть отнесена всего лишь к VI—V тысячелетию
до нашей эры.
Такую точку зрения, конечно, нельзя не рассматривать иначе, как от-
каз от хронологической перспективы, очевидно, обязательной в решении
вопросов преемственности явлений исторического порядка. И геология,
и собственно археологические исследования делают несомненным, что
между теми и другими фактами, которыми оперирует Софус Мюллер,
имеется промежуток времени не меньший, чем в 20—30 тысяч лет.
Непосредственная преемственность идущих из ориньякского времени
изображений и глиняных фигурок позднего неолита восточного Среди-
земья трудно доказуема, поскольку между ними лежат эпохи, для которых
нет прямых указаний на существование подобных изображений. С другой
стороны, было бы, однако, невозможно обойти несомненную близость жен-
ских статуэток палеолитического времени и тех же статуэток позднейшей
поры, если мы хотим отыскать правильный путь к их истолкованию.
В объяснении их имеют место довольно существенные расхождения.
В настоящее время в археологической литературе довольно прочно
установился взгляд на женские фигурки эпохи палеолита как на первых
идолов или фетишей, выражающих идею плодородия, которые своим видом
должны были отвечать первобытным представлениям о красоте. Если их
эротический характер представляется в сущности совершенно не доказан-
ным, следует все же думать, что своим обликом они говорят о состоянии
довольства, покоя, действительно весьма красноречиво выражаемых их
массивными, расплывающимися формами.
1 Ср, Р. Payer, ук. соч., «L’Homine prehist.», 1927, Л? 1—2. См. также <<L’Anthro-
pologies, 1926, Л? 1—3, стр. 130.
2 «Congres intern, d’anlkrop. et d'archeol. prehist. Sess. XIV, Gefleve, 1912, о. I,
стр. 546, Geneve, 1913.
3 Sophus Miiller, Vrgeschichte Europas, Strassburg, 1905, стр. 8.
27 II. П Ефименко. ПсриоСытпсе общество— 1734
418
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
В одной недавно вышедшей книге, посвященной искусству палеолита,
ее автор, подвергая сомнению культовое значение палеолитических ста-
туэток, указывает на противоречие, в которое попадают те, кто, призна-
вая охотничий характер общества верхнепалеолитической эпохи, хочет
связать с описанными нами изображениями женщины идею плодородия
или рождения. Ибо, говорит он, в условиях примитивного охотничьего
быта, сопряженного с периодической голодовкой и постоянными передви-
жениями в поисках пищи, дети не рассматриваются как нечто желатель-
ное. Наоборот, они бывают только обременительны, почему на этой ста-
дии часто практикуются меры предупреждения против численного роста
орды даже в виде детоубийства. Чрезвычайно наглядные примеры такого
отношения рисует, например, хорошо известное австралийское общество.
Из этого делается вывод, для нас совершенно неприемлемый, что
в отношении изображения женщины в палеолите можно говорить только
об искусстве как таковом, о чистой эстетике, окрашенной значительной
дозой эротизма. Довольно близко к подобным взглядам в истолковании
ориньякских статуэток примыкают и те, кто видит в них не то первобытный
идеал красоты, не то «идолов», но лишенных всякого иного значения,
кроме того, которое вкладывал первобытный человек в образ женщины.
В позе, которая обычно бывает придана этим фигурам: в наклоненном поло-
жении головы, жесте, в котором у них всегда сложены руки на груди
или на животе, они усматривают просто ленивую, тяжелую позу очень
толстой женщины. Даже изображения Лосселя, например описанную
выше женщину с поднятым рогом в руке, они склонны толковать как
нечто взятое первобытным художником из бытового жанра, решительно
возражая против желания видеть в них какие-то образы, связанные
с религиозными представлениями или культом; для них это только на-
тура/
По мнению некоторых авторов, это искусство было принесено не из
Африки, как полагали Пьетт и многие другие, а из Азии, вместе с пересе-
лявшимися с востока оривьянскнми и раннекапсийскими охотничьими
племенами. Подобные взгляды высказывал Сальмон Рейнак, связывавший
происхождение палеолитического искусства с распространением охотни-
ков на мамонта и северного оленя вслед за переселением этих животных
из Сибири по лёссовым равнинам Европы. Но переселение, хотя бы и с из-
мененной ориентировкой, ни в какой мере не объясняет нам особенностей
ориньякской культуры и искусства как явлений стадиального порядка.
Это достаточно отчетливо и вполне своевременно показано новым учением
о языке.
Собственно в той же традиционной плоскости решают вопрос и те, кто
подходят к нему с примитивными доводами антропологов-натуралистов.
Одним из буржуазных антропологов было высказано предположение, что
переход от питания преимущественно растительной пищей к мясной пище
не мог пройти бесследно для человека, с одной стороны, в смысле повы-
шения его интеллектуальности, с другой — воздействуя на его сексуаль-
ность, которая является весьма сильно выраженной уже у высших прима-
тов. Более совершенное оружие ориньякского времени, в особенности
метательное оружие — дротик с копьеметалкой, затем бумеранг — дол-
жно было обеспечить ориньякского человека добычей, благодаря значи-
тельно возросшей продуктивности охоты, в большей степени, чем это
было в предшествовавшее мустьерское время. Изменение климата в свою
очередь должно было-вызвать появление потребности в постоянной одежде
из меха, закрывавшей тело. В этих условиях обнаженное женское тело ста-
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
ловится для ориньякского охотника с его повышенной сексуальностью
«эротическим идеалом», объектом постоянного воспроизведения.
Подобная аргументация, как явно надуманная, не отвечающая элемен-
тарным требованиям научности, не заслуживает того, чтобы на ней оста-
навливаться. Остается совершенно непонятным, как с помощью подобных
доводов можно объяснить широкое распространение таких же изображений
женщины, например, в неолитических поселениях или в среде охотничьих
народностей севера (эскимосы, алеуты и др.).
Для других буржуазных авторов интересующие нас изображения —
не идолы, тем более не божества, которые появляются в эпоху после воз-
никновения и распространения анимистических воззрений. Это настоя-
щие женщины (первобытным человеком изображения животных воспри-
нимаются, например, как настоящие животные) и как таковые пред-
ставляют собой носительниц начала плодородия, начала женственности.
Эти авторы в данном вопросе пытаютсц занять некоторую среднюю пози-
цию. Отрицая религиозное значение палеолитических изображений, они
в то же время наделяют их в глазах создавшего их человека качествами
живого существа — женщины. Если бы это было так, очевидно, все же
сама идея изображения женщины была внушена человеку какими-то моти-
вами вовсе не элементарно-биологического порядка.
Без сомнения, они должны были являться воплощением каких-то пред-
ставлений, находящих свое объяснение в условиях ориньяко-солютрей-
ской эпохи, каких — остается не разрешенным.
Мы не найдем ничего нового для понимания изображений женщин
в раннюю пору верхнего палеолита и в известном справочнике Эберта
подводящем итоги исследований буржуазной науки в области первобыт-
ных эпох. 1 •
Некоторые авторы считают возможным придерживаться иных взгля-
дов на эти изображения. Для них статуэтки Виллендорфа, Ментоны,
Брассемпуи, как и рельефы Лосселя, не эротические образы, созданные
художественным воображением, и не предметы эстетического вдохнове-
ния, а вещи, занимавшие значительную роль в мировоззрении ориньяк-
ского человека. Эти авторы в указанных скульптурных изображениях
склонны видеть женщин, якобы изображенных за отправлением культа.
Поэтому палеолитические воспроизведения женщин всегда .передаются
в характерной позе со склоненной головой и сложенными в определенном
положении или даже поднятыми руками. В изображении женщины с ро-
гом в руке или руками, поднятыми кверху, по их мнению, должно усматри-
вать сцены, отражающие достаточно сложный, разработанный культ
с установившимся ритуалом,*в котором женщина играет главенствующую
роль.
Приходится отметить, во всяком случае, что точка зрения тех авторов,
которые не видят в интересующих нас изображениях ничего, кроме пере-
дачи натуры, — вряд ли может удовлетворительно ответить на ряд вопро-
сов и прежде всего на такой вполне естественный вопрос: почему, если
ориньнкский человек не вкладывал в эти женские образы никакого осо-
бого значения, они играют такую большую роль в эту эпоху, встречаясь
на огромном пространстве от Пиреней до Байкала?
Наконец, если обратиться к самим этим изображениям, очевидно пред-
ставляется совершенно невозможным объяснить их особенности эроти-
ческой эстетикой или чем-либо подобным. Чтобы не возвращаться к тому,
1 Reallex. der Vorgeschichte, Bd. VII, Kunst, 1926, стр. 136.
420
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ БРЕМЯ
о чем уже говорилось выше, вспомним только рельефы Лосселя, частью
нами уже описанные. Как бы мы их ни истолковывали, эротического зна-
чения в прямом смысле слова они не имеют. Совершенно очевидно, что эта
галерея образов, украшавших скалы живописного убежища Лосселя, для
ориньякских или солютрейских людей, живших в долине Бены, имела
большой внутренний смысл. Их позы и их атрибуты никак не вяжутся
с чисто бытовым, жанровым истолкованием.
Из сопоставления всех этих изображений естественно сделать вывод,
что они действительно имеют не бытовое, обиходное, но какое-то опреде-
ленное общественное значение и должны были, по представлению человека
этого времени, воплощать в себе круг идей, связанных с особым положе-
нием женщины в эпоху верхнего палеолита.
Во всех известных нам случаях появление подобных изображений
объясняется тем положением, которое начинает занимать женщина на
определенной ступени развития первобытного общества.
В этом смысле наиболее близко к правильному решению вопроса под-
ходят буржуазные авторц, видящие объяснение интересующих нас изобра-
жений в исторических условиях, складывающихся в ориньяко-солютрей-
ское время. В частности они ищут объяснение самого факта появления
и широкого распространения подобной тематики первобытного художе-
ственного воспроизведения в матриархальной организации этого обще-
ства, устанавливающего родственную связь только по матери.
Не представляя собой сколько-нибудь углубленного анализа извест-
ных нам фактов, рисующих действительную картину первобытного обще-
ства в ориньяко-солютрейское время, эти взгляды все же в какой-то мере
намечают тот путь, на котором только и может быть надлежащим образом
понято появление этих изображений в столь раннее палеолитическое время.
Смысл и значение изображений женщин, самый факт широкого рас-
пространения подобных изображений уже в раннее время верхнего палео-
лита получает исчерпывающее объяснение, если мы для их истолкования
воспользуемся той характеристикой первобытного общества, которой мы
обязаны Энгельсу и Моргану.
Говоря об экономическом базисе родового строя, Энгельс рисует
яркую, живую картину общественного устройства на той ступени раз-
вития, когда охота, рыбная ловля и собирательство являлись еще основ-
ным источником существования первобытного человечества. Население
в эту эпоху остается еще очень редким, сосредоточиваясь лишь в опре-
деленных местах, вокруг которых лежали пространства, используемые
для охоты. Естественное разделение труда между полами в хозяйствен-
ной жизни родовой общины игр шт здесь значительную роль. Если муж-
чины заняты главным образом добыванием пищи, на женщинах лежит
забота о домашнем хозяйстве, ведущемся на общинных началах.
Женщины являются не только домоправительницами — им принад-
лежит главенствующая роль в общественной жизни рода. Материнское
право, матриархат, явля тся основной чертой этого общественного устрой-
ства. Эта картина особенно ярко и наглядно рисуется на основании мате-
риалов, относящихся к быту североамериканских индейцев XVIII —
начала XIX в. Однако у индейских племен матриархат, как указывает
Энгельс, уже начинал сменяться патриархальным строем. Начальные
ступени материнского рода, таким образом, должно искать в гораздо
более раннюю историческую эпоху.
Первобытная Его предпосылку нельзя не видеть в значительной мере в оседании
оседлость первобытной группы, перенесении центра тяжести от случайностей охоты
Изображения женщине} 4il
к постоянному источнику существования, в котором труд женщины начи-
нает играть значительную роль. Складывающиеся в связи с оседанием
охотничьей орды общественные образования мы должны представлять
себе в виде зачаточных родовых объединений, ведущих свое происхожде-
ние от определенного предка, первоначально,— в связи с матриархаль-
ными представлениями и счетом родства но женской линии, — очевидно,
именно женщины.
В процессе выкрнсталлизации родового общества особенно важное
место занимает земледелие, которое в своей первоначальной форме мо-
тыжного земледелия повсюду является делом женщины. Понятно поэтому,
что упомянутые выше женские статуэтки в кругу „средиземноморской*
культуры восходят ко времени древних Суз, Триполья или Анау, когда
иа грани эпохи камня и металла земледелие приобретает особенное зна-
чение в хозяйственной жизпи первобытных общественных групп. С анало-
гичными условиями связано появление женских фигурок в каменном веке
Японии, где они относятся к эпохе оседлых поселений рыболовов и соби-
рателей морских ракушек.
Не могло ли земледелие, хотя бы хв самых примитивных, зачаточных
его формах, сыграть ту же роль в раннюю эпоху верхнего палеолита?
От этой мысли, очевидно, приходится отказаться, если мы вспомним, ка-
кой характер имеет природная среда в эпоху ориньяка и солютре, отра-
жающая растущую суровость климата позднеледяикового времени. Очевидно,
псе же процесс оседания имел, как мы видели, место и в условиях
орипьяко-еолютрейской эпохи. Он здесь, конечно, должен был носить
характер п известной степени временной и относительной оседлости, так
как охотничье хозяйство является одним из наименее падежных источни-
ков средств существования. Исчезновение зверя в результате его система-
тического истребления должно было неизбежно вызвать перенесение
охотничьих поседений па новые, еще пе тронутые места. Однако чрезвы-
чайное богатство животного мира в эту эпоху — существование бесчислен-
ных стад мамонта, лошадей, быков, оленей, прн относительно слабой
заселенности пространств Европы, — могло все же давать охотникам
ориньяко-солютрейского времени достаточное количество добычи для того,
чтобы в течение ряда тысячелетий здесь мог сложиться особый уклад
охотничьего оседлого илн нолуоседлого хозяйства.
В отношении процесса оседания охотничьих групп в северной Азии и
Америке у нас имеются сведения, что в тех местностях, где охота прино-
сит’ особенно богатую добычу, где имеется много дикорастущих плодов или
где наряду с охотой постоянно доставляет обильную пищу и ловля рыбы
па морских и речных берегах,— там и охотничьи орды нередко перехо-
дят к частичной и даже полной оседлости, хотя они и продолжают время
от времени уходить из своих поселений на охоту, иногда ла несколько
педель. В этих условиях труд женщины приобретает значительную роль,
выдвигая женскую часть орды в центр производственной деятельности
первобытной коммуны.
Этнографический материал, относящийся, в частности, к некоторым Оеедлые
бытовым пережиткам у народностей севера азиатской части СССР и рыболовы
полярной области американского континента, дает основание думать, что и охотники
у этого населения, состоящего из оседлых рыболовов н охотников иа Северной
морского и сухопутного зверя, женщина еще в сравнительно недалеком Авин
прошлом занимала очень видное положение в жизни первобытной ком-
муны. Об этом можно судить, например, по остаткам матрилокального
4tt
Роль жен-
щины в
орпньяк-
екпс время
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРЙНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМ А
брака у некоторых из этих народностей, 1 по роли женщины в хозяй-
ственной жизни, по тому значению, которое она сохранила кое-где в ка-
честве хранителя и отправителя культа родовой группы. Имеются пря-
мые указания, что у ряда палеоазиатских и эскимосских племен, несмотря
на их переход к патрплокалыюсти и счету родства по отцовской линии,
магические обряды и заклинания, обеспечивающие удачу охоты, как п
домашний культ, связанный с добыванием огня и поддержанием очага,
являются, по преимуществу, делом женщин. Интересно, между прочим,
что у коряков прибор, служащий для добывания огня (деревянная до-
npojKa в виде человеческой фигуры — самый важный предмет в хозяй-
стве) носит название „огонь-женщппа“ (С. В. Иванов).
В этих фактах, очевидно, находят свое объяснение весьма распро-
страненные у алеутов, коряков, чукчей и эскимосов изображения женщин
в виде, обычно, небольших фигурок из кости, часто передающих их сидя-
щими. С. В. Иванов — в. подготовляемой им работе,--собравший обильный
и весьма ценный материал по этим изображениям, устанавливает их
связь в одних случаях с, охотничьей магией (от них зависит удача охоты),
в других — с идеей плодородия. Вместе с тем в них часто можно видеть
и изображения, связанные с\ родовым культом, — изображении женщин
родоначальниц.
Можно думать, что и в условиях древнего времени значительные массы
продуктов, доставлявшиеся на места постоянных поселений в результате
добычливой охоты, должны были предъявлять к женщине требование уси-
ленной деятельности в отношении хозяйственных запасов, заготовки впрок
и вообще утилизации продуктов охоты — применительно к потребностям
оседлого существования ориньякских охотников в суровых условиях лед-
никовой эпохи. Вероятно, на женщину падало все то, что было связано
е оседанием: жилище, домашний очаг, приготовление пищи, одежды
и пр., вместе с заготовкой продовольственных запасов. Своим видом ста-
туэтки Брассемпуи, Ментоны, Валлендорфа, Костенок и т. д. говорят
о довольстве и избытке, прежде всего об обилии мясной, жирной пищи
и малоподвижном образе жизни обитательниц этих поселений. Само жи-
лище в эту эпоху, в значительной степени благодаря женщине', из перво-
начального своего назначения — защиты от неблагоприятных внешних
условий—превращается в хозяйственную базу и место хранения нако-
пленных продуктов труда.
Обладая всякого рода практическими знаниями и навыками, неегг па
себе все заботы по дому, женщина действительно могла быть централь-
ной фигурой в этой хозяйственной коммуне — тем более, что процесс
оседания неизбежно должен был вести к большей сплоченности группы,
то есть к осознанию кров!й)й родственной связи ее членов, которое почти
отсутствует в условиях бродячего существования. Естественно предста-
вить себе, что тот же процесс оседания мог приводить к возникновению
более прочных брачных союзов, очевидно — на этой ступени — группового
типа, что, с своей стороны, имело результатом закрепление в сознании
орды происхождения ее от определенных прародителей по материнскому
счету родства.
В этой связи, несомненно, большого внимания заслуживают условия
находок статуэток — тот факт, что они повсюду в остатках древних по-
селений встречаются не единично, а целыми группами. Достаточно на-
помнить Брассемпуи, Ментону, Костенки, Гагарине, Мальту. Этим путем
1 IT. II. Борисковекий. О пережитках родовых отношений на ееверо-
востоке Азии (юкагиры икор.чкн), .Советская Отнографи.Р. Ле 4—5.1935, стр.8’>.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
423
образ женщин-родоначальниц, женщин-хранительниц домашнего очага .и,
имеете с тем, — по свойствам первобытного сознания, переносящего на
внешний мир привычный строй человеческого существования, — хозяек
и покровительниц окружающей природы (например, мать и хозяйка зве-
рей) мог в представлении ориньякских охотников очень рано сочетаться
с образом того животного или тех животных, от которых зависело суще-
ствование охотничьей группы. Таким образом здесь могла получить на-
чало в первых своих зачаточных проявлениях, переплетаясь с охотничьей
магией, идеология первобытных оседлых обществ, повсюду в этих усло-
виях облекающаяся в форму почитания предков, родоначальников ро-
довой коммуны.
Мы уже говорили, что счет родства по материнской линии при кол- Отвбраже-
лективной форме брака, очень долго исключавшего из этого представле-
ния отцов-мужчин, должен был вести к отождествлению возникающих 1Шлеоли-
зачаточиых родовых общественных образований с женщинами, от кото- тическом
рых вела свое происхождение данная группа. Естественно, что при кон- искусстве
кретпости первобытного мышления женщина и женское начало являлись
символом всей группы в целом, ее общественных традиций, ее интересов.
Возможно, что женский орган пола, до сих пор видимо сохранившийся —
по некоторым данным — в основе терминов кровного родства у значитель-
ной части населения земного шара, был вообще синонимом общественной
связи па этой ступени.
Чрезвычайно важно, что лишь в свете этих фактов могут получить
истолкование первые известные нам проявления ориньякского искусства
(Бланшар, Ла Ферраси), где изображения животных — лошади, оленя,
носорога, — очевидно являвшихся преимущественными объектами охоты
в условиях существования данного общества, постоянно сопровождаются
изображениями женского знака пола.
Вряд ли прав Брейль,1 когда он, как ученик Э. Пьетта, полагает,
что в происхождении искусства имеет место и свободное, чисто художе-
ственное индивидуальное творчество, не связанное глубокими корнями
с идеологией первобытного коллектива, когда первобытный человек чертит
узоры на сырой глине пещер или украшает их стены цветными пятнами
и отпечатками рук. Первобытное искусство во всех его проявлениях, как
мы видели, было изначально искусством с глубоким общественным зна-
чением.
Приходится думать, что знакомые нам фигурки из ориньяко-солю-
трейских стоянок Европы представляют дальнейшее развитие той же
идеи. Тогда в них можно видеть изображения женщин-прародительниц,
которые должны были являться символом объединения оседлых охот-
ничьих групп ранней поры верхнего палеолита. Напротив, у бродячих
охотников современности обычно в этой роли мы видим тотемов, то есть
предков и покровителей отдельных орд и их тотемных объединений,
которые обычно берутся из мира животных.
Вряд ли все же было бы возможно мыслить себе палеолитические
изображения женщин только в этом качестве. Правда, известная обеспе-
ченность существования ориньякских охотников должна была создавать
благоприятную почву для устранения тех всевозможных странных пред-
ставлений и сложных, часто жестоких обрядов, которые сопровождают
каждый шаг неуверенного в завтрашнем дне австралийца. Однако, в усло-
виях охотничьей жизни, как это доказывает палеонтология языка, магия
1 „Revue anthropo logique* 1921, Session de Liege, стр. 364.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
на определенном этапе развития всегда должна была являться одним из
очень важных моментов производственной деятельности первобытных
общественных групп. Вероятным объектом этих магических действии,
направленных, без сомнения, на то, что больше всего могло интересо-
вать первобытный коллектив, — удачную охоту и связанные с ней благо-
состояние, обилие пищи, — был тог же образ женщины. Он, таким обра-
зом, мог играть роль фетиша, покровителя этого зачаточного родового
объединения во всех его начинаниях и производственных действиях.
Уже не раз высказывалось (Лемози, С. П. Замятнин и др.) довольно
правдоподобное соображение, что интересующие нас изображения вос-
производят активных участниц тех магических действий, которые должны
были предшествовать, например, массовой облавной охоте и имели целью
обеспечить ее удачу. Учитывая характер первобытного мышления, с его
крайне неотчетливым различием реального и воображаемого, можно пред-
ставить, что магическая обрядность, в которой человек видел верный путь
к возможности овладения предметом своих постоянных устремлений и
которая являлась необходимым элементом производственного действия,
действительно могла составлять достаточно важный момент в жизни
первобытной охотничьей орды этой эпохи.
Так именно А. Лемози склонен объяснять фигуры трех обнаженных
женщин в пещере Пеш-Мерль (comm, de Cabrerets, Lot) как совер-
шающих обрядовый танец, подготовляющий удачу охоты иа изображен-
ных здесь же мамонтовл1 По этому пути в объяснении рельефов Лосселя
идет и С. Н. Замятнин, видя в них воспроизведение сцены охоты.2
Зная какую роль играют фигурки женщин в охотничьей магии современ-
ных народностей северной Азии и какое близкое участие принимают жен-
щины в обрядах воскрешения зверей на праздниках, заканчивающих се-
зон охоты, даже у народностей, утративших матриархальный родовой
строй, например у ительменои в XVIII веке,3 мы имеем все основания
думать, что и в условиях палеолита изображение женщины могло выпол-
нять в тех или других случаях подобные же функции.
Следует напомнить, что вследствие крайне упрощенного способа ве-
дения раскопок мы до последнего времени были лишены возможности
сказать что-нибудь определенное об условиях, в которых встречаются
интересующие нас статуэтки. Всеми принималось без дальнейшего обсу-
ждения, что они были забыты людьми на охотничьих становищах, в пе-
щерах или на месте открытых лагерей среди всяких иных предметов
обихода. Ни у icoro из исследователей, имевших с ними дело, и не
вставал вопрос: нельзя лн все же найти какую-нибудь связь между по-
стоянным присутствием этих загадочных изображений в ориньяко-солю-
трейских стоянках и характером самих поселений, то есть прежде всего,
естественно, с условиями, в каких они бывают находимы в этих лагерях
в определенной бытовой обстановке?
Наши раскопки в Костенках, где в процессе работ удалось сделать
ряд подобных находок, дают возможность ответить на этот вопрос. По-
дробнее мы остановимся на этом при описании весьма интересной стояния
Костенки I. Здесь же укажем, что обстоятельства нахождения этих фи-
гурок, которые были обнаружены в особых помещениях, устроенных
’ A. Lemozi, La grotte-temple du Pech-Merle, Un nouveau sanetualre prehisto-
rique, Paris, 19’19, стр. 137.
2 С. H. Замятнин, Раскопки у с. Гагарина, Сборн. „Палеолит СССР".
ГАИМК, 1935, стр. 74.
3 Крашенинников, Описание земли Камчатки, т. II, 1786. стр. 84.
ЛЗОВРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
425
вблизи от очагов внутри исследованного нами жилища раннесолютрейского
времени, говорят с полной определенностью о том важном месте, которое
опп должны были занимать в жизни его обитателей.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Изображения животных в виде небольших фигурой пз мягкого камня
с ли слоновой кости, как уже указывалось, не были неизвестны палеоли-
гнческому искусству на его ранних этапах. Правда, онп встречаются пока
в более или менее единичных образцах, однако число их в последующих
находках непрерывно растет. Таковы, например, фигурка мамонта из
слоновой кости, найденная в Пржедмосте, и сходные с нон многочислен-
ные фигурки животных, вырезанные из мергеля, — мамонта, пещерного
медведя, пещерного льва и другие, — происходящие из Костенковской
стоянки; небольшое скульптурное изображение того же мамонта и го-
ловка медведя из Впстоницы; олени Солютре, переданные в полускульи-
гурной технике, и пр. Нельзя сомневаться, что в этом отношении нас
могут ожидать дальнейшие открытия, как это показывают, например,
пчснь интересные фигурки цз слоновой костп, изображающие мамонта,
лошадь, пещерного льва и других животных, открытые недавно в пещере
Фогельгерд в Вюртемберге.* 1
Видимо, нельзя не признать, вместе с А. Брейлем, что и некоторые,
пз изображений животных, открытые в нсДрах пещер южной Франции и
северной Испании (Альтамира, Фон-де-Гом, .'1а Мут и др.), выполненные
п чисто силуэтной манере, в виде одноцветных контурных набросков,
должны быть отнесены к той же архаической стадии палеолитического
искусства, задолго предшествовавшей расцвету пещерной живописи н мад-
ленское время. К этой ранней поре можно отнести выгравированные
рисунки носорогов и других животных на плитках шифера из грота Трп-
лобит, затем сходные по стилю силуэтные изображения козлов, нанесенные
черной и красной краской на степах пещеры Пен-нон-Пер, изображения
бизонов в гроте Грэз и другие. Такие рисунки, отличающиеся условной,
архаической манерой передачи фигуры животного, появляются, как мы
впдели, уже в пещерных напластованиях, относящихся к среднему
орпньяку (Ла Ферраси, Бланшар).
Уже сейчас, можно сказать, что центральную фигуру средн подобных
воспроизведений, переданных в скульптуре, по крайней мере в лбссовых
стоянках области Дуная и восточной Европы, относящихся к ранней норе,
верхнего палеолита, представляет изображециех мамонта, что понятно
в связи с тем хозяйственным значением, которое имело это животное.
Интересно, что в течение орпньяко-солютрейской эпохи искусство, Маюрма.1
в противоположность мадленской эпохе,«еще не связано с вещами обиход-
ного значения; в этом смысле оно занимает, так сказать, самодовлеющее
положение. Заслуживает также внимания факт, что в качестве материала
для художественных изделий люди ранней поры верхнего палеолита,
особенно в древнейшее время, пользуются часто такого рода веществом,
которое менее всего имело утилитарный характер, то есть, казалось бы,
меньше всего использовалось первобытным хозяйством в качестве поде-
лочного материала, как мягкий камень, папример мел, мергель, известняк,
стеатит и пр. Еще Г. де Мортилье указывал на это, хотя скорее в виде
1 (т. Rlek, Les civilisations paleolithitpies du Vogelherd pres de Stetten-ob-LoiietuI
l Wilrtemberg). ,,PreMstoire“. 1933, t. II, f. II, стр. 149.
426
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИ ПЬЯКО-СОЛ ЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Значение
подобных
изображе-
ний
предположения. Теперь, после находок в Бланшар, Ла Ферраси и многих
других, это становится вполне ясным.
Не только в древнейшую пору, но л в эпоху расцвета орипьяко-еолют-
рейского искусства мягкий камень удерживается в качестве основного мате,
риала (или применяется наряду со слоновой костью) для изготовления по-
добных вещей в скульптурной технике — изображений женщины, мамонта,
медведя и пр. Об этом свидетельствуют статуэтки Ментоны, Виллендорфа,
Внстоницы, рельефы Десселя, многочисленные фигурки Костснок и пр.
Если, как можно думать, обработка кости для производства, предметен
охотничьего вооружения и для других аналогичных целей, естественно,
должна была находиться в руках мужчины, обработка мягкого камни,
имевшегося под рукой на месте охотничьего лагеря и требовавшего меньше
труда, и менее сложных инструментов, вовсе не обязательно была также
его делом. Возможно, что именно женщинам, постоянным обитательницам
лагерей, принадлежит в этом отношении главенствующее место. Во всяком
случае, при настоящем уровне нашего знания, этот вопрос вовсе нельзя
считать решенным в пользу мужчины.
В произведениях изобразительного искусства, дошедших до наг от
очень ранней поры верхнего палеолита, — ио крайней мере от времени
среднего ориньяка—мы имеем такого рода факты, которые указывают на
чрезвычайно значительный сдвиг в области представлений и мышления,
испытываемый первобытным обществом в эпоху, непосредственно сле-
дующую за мустьерских! временем. В этом нельзя не усматривать еще
одно важное указание на внутренний рост, переживаемый первобытным
населением Евразии на рубеже мустьерского и орппьякского временя.
Мы уже отмечали весьма важную роль, которую должно было играть
возникающее искусство в жизни первобытных охотничьих обществ. Послед-
нее становится понятным, если мы, вместе с Н. Я. Марром, будем под-
ходить к первобытному искусству не как к проявлению чисто эстети-
ческого инстинкта и скрытых способностей человека, выявляющихся
в ходе исторического развития, а как к одному из факторов этого разви-
тия, закономерным образом вырастающему из социальных потребностей
первобытного общества на той ступени, когда возникает или, вернее,
окончательно оформляется другая, еще более важная форма социальной
связи — звуковая речь.
Если у нас имеются основания предполагать возникновение речи в ее
звуковом выражении уже в мустьерское время, где усложняющаяся
общественно-хозяйственная среда могла, явиться достаточной предпосыл-
кой для того, чтобы этот способ общения стал необходимостью, — в ори-
пьякское время его существование не может вызывать сомнений. Все гово-
рит за то, что переход от примитивной культурной ступени, характеризую-
щей мустьерское общество, к верхнепалеолитической культуре представлял
собой отражение очень глубокого процесса изменения общественной и
хозяйственной структуры первобытного общества. Естественно думать, что
н язык в своих начальных проявлениях должен был отображать процесс
образования более сложных производственных коллективов, которые, как
мы помним, в ориньдко-солютрейское время должны были слагаться из
двух основных производственных групп: мужчин-охотников и женщин-
собирательниц и хозяек оседлого лагеря. В развитии звуковой речи
большой роли не могло не сыграть и другое обстоятельство — появление на
месте ранее разобщенных первобытных орд возникающих из них более
крупных экзогамных общественных групп, являющихся первичной формой
родо-племенной организации.
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
427
Учитывая значение в условиях первобытного общества тех изображе-
ний, в частности изображений животных, о которых мы говорили выше,
как проявлений новых форм общественной спайки, уже по своему проис-
хождению близко (-вязанных с речью, должно думать, что они не могли
явиться простым плодом художественного вдохновения древнего мастера,
а отображали, как образ женщины, определенный строй первобытного
мировоззрения. В них нельзя не. видеть вещей, имевших отношение прежде
всего к. производственной магии, поскольку, естественно, внимание перво-
бытного охотника в наибольшей степени должно было сосредоточиваться
на ближайших объектах охоты, являвшейся источником его существования
(мамонтах, бизонах, олепях п т. д,).
Нельзя сомневаться, что именно такой смысл должны были иметь
изображения животных, исполненные резьбой и росписью на плитах
известняка в жилище солютрснского времени в Фурпо-дю-Дьябль, описан-
ные Пейрони, перед которыми ее обитатели, очевидно, совершали свои
обряды, как это делали австралийцы перед изображением кенгуру пли
охотничьи народности северной Азпн, которые выполняли сложный
обрядовый ритуал перед шкурой медведя.
Остается неясным, в какой степени этот культ производственного
характера, существование которого уже в раннее время верхнего палео-
лита подтверждается достаточным количеством фактов, мог быть связан
с тотемическими представлениями^—в той, по крайней мере, форме этих
представлений, которая существовала у многих народностей еще в недав-
нее время. На это никаких прямых указаний для данной поры верхнего
палеолита у нас пет. Другими словами мы не имеем оснований переносить
непосредственно на древнейшие этапы родового общества воззрения тоте-
мизма в их поздних проявлениях, очевидно являвшихся результатом дли-
тельной эволюции, которую должно было испытать мировоззрение перво-
бытного человечества в условиях матриархально-родовой ступени. Не-
сколько иначе это представляется в отношении более поздней (мадлен-
ской) эпохи, когда изображения животных начинают занимать домини-
рующее место я приобретают совершенно исключительное значение в про-
явлениях палеолитического искусства.
Таким образом, весьма вероятно, что тотемизм в его усложненной,
более или менее законченной форме, связанный с анимистическим миро-
пониманием, является продуктом дальнейшего развития, некоторой
последующей стадией идеологии первобытного человечества. Для более
ранней фазы, судя по имеющимся в нашем распоряжении фактам, прихо-
дится предполагать иные условия, кроющиеся в особой обстановке, скла-
дывающейся в орпньяко-солютр^йское время, которую мы пытались
проанализировать в предшествующем изложении.
Во всяком случае, можно считать установленным, что почитание жи-
вотных в палеолитическое время носило несколько иной характер, чем
культ тотема современных отсталых народностей земного шара. Оно
должно было иметь более производственный н менее мистический, суевер-
ный характер, будучи, вероятно, в этом смысле близким к представле-
ниям полярных охотников — юкагиров, алеутов, ительменов (камчадалов)
и т. д. и' ставя себе определенную цель — удачу охоты и устранение опас-
Hocicii,'^связанных с поимкой крупного зверя. Вряд ли в среде ориньяко-
солютрейских обитателей Европы и северной Азии этот культ мог сложиться
в тех развитых формах, в каких мы его встречаем, например, у австра-
лийцев. Весьма возможно, что эти черты тотемизм приобретает лишь
па боле(' высокой ступени развития родовой организации первобытного
428
Почитание
животных
ворпньяво-
солютрей-
ское время
I'jlABA ВОСЬМАЯ. ОРИЙЬЙКО-СОЛЮТРЯЙСКОК BPfat Я
общества^ притом главным образом у народностей, особенно долго задержав-
шихся ил ступени примитивного охотничье-собирательского хозяйства.
При всех условиях, очевидно, нельзя не считаться с тем фактом, что
изображения животных, встречающиеся па местах верхиепалеолптических
поселений, как и наскальные изображения подобного характера, особенно
в более позднее время верхнего палеолита, достаточно разнообразны,
не обнаруживая, в качестве объекта воспроизведения, стремления к выбору
лишь какого-либо одного вида из окружавшего человека мира животных.
Все же. мы имеем основание думать, что животные, именно те из них,
остатки которых обычно встречаются чаще других па местах палеолити-
ческих стойбищ, являлись в какой-то мере объектами почитания уже
в ориньяко-солютрейское время. Об этом определенно свидетельствуют
не только наскальные фризы, подобные открытым на местах солютрейскпх
поселений в Дю-Рок и Фурно-дю-Дьябль, ио и некоторые обстоятельства
находок остатков этих животных на местах палеолитических стойбищ.
Неоднократно отмечалось, — особенно при раскопках верхпепалеолпти-
ческих поселений в СССР, где исследования палеолитических памятников
поставлены значительно лучше в смысле тщательности наблюдения,
чем в западной Европе, — что кости некоторых животных (мамонта,
песца, пещерного льва и др.) часто занимают особое, положение в обста-
новке палеолитических жилищ. В других случаях эти животные бывают
представлены необычными частями скелета — черепами, лапами, хвостами
и т. д.
Такие случаи отменены автором в Костенках I, где был найден, на-
пример, целый череп мускусного овцебыка, — единственное, чем было
представлено это животное на месте палеолитического жилья, — причем
череп был положен поверх груды мамонтовых костей внутри зем-
лянки А, расположенной рядом с главным жилищем. Здесь же, найдено
было несколько целых скелетов песца, правда без черепов. Несколько
дальше в самом жилье были обнаружены четыре коротко обрубленных
лапы пещерного льва. Северный олень в Костенках 1 известен пока лишь
по одной находке — по сделанному из рога северного оленя „начальниче-
скому жезлу"
То же явление описывается для Мальты, где были встречены под
культурным слоем в дне, (полу) жилья неглубокие лунки (ямки), содер-
жащие главным образом целые, скелеты песца, обычно с отделенной голо-
вой и обрубленными лапками. Кроме того в них были найдены стуопя
мамонта, череп крупной птицы с частью шейных позвонков, часть хребта
северного оленя н пр.
Находка К. М. Лолпкарповнчем в Елпсеевичскон стоянке рядом с остат-
ками палеолитической" землянки целого нагромождения черепов мамонта
(до 30) и среди них нескольких пластин слоновой кости, украшенных каки-
ми-то условными изображениями (чурингов—как называет их исследо-
ватель), и резной фигурки женщины — может быть отнесена к тому же
кругу фактов.
ПОГРЕБЕНИЯ
Как известно, погребальная обрядность, связанная с заботами об умер-
шем, погребальный инвентарь и самый способ устройства могилы, отра-
жают, в значительной мере, ступень общественного развития н находятся
в тесном соотношении с хозяйственными условиями и общественным строем
определенной исторической эпохи. Если в условиях поздних эпох они
часто отражают воззрения и отношения не данной, но предшествующей
ПОГРЕБЕНИЯ
423
стадии, то есть пережиточно сохраняют более древние формы быта, — по
отношению к палеолитическому времени такое соображение играет значи-
тельно меньшую роль. Для этого времени приходится принимать во внима-
ние чрезвычайно большую его длительность, достаточно простой характер
материальной культуры и несложность идеологических представлений.
Если исходить из этих соображений, нельзя не указать на то, что
к раннему времени верхнего палеолита относится уже целый ряд погре-
бений, своей обстановкой свидетельствующих о том, что заботе о мертвом
члене орды здесь уделяется много внимания. В этом смысле охотники
верхнего палеолита не делали различия между мужчинами, женщинами
и детьми, даже очень маленькими,—
они одинаково представлены в до-
шедших до нас погребениях. Они из-
вестны на всем пространстве распро-
странения остатков этой эпохи, оди-
наково в пещерных поселениях и
открытых лёссовых лагерях охотни-
ков на мамонта.
Особенностью погребений этого
времени является чрезвычайное оби-
лие всякого рода вещественных на-
ходок, главным образом ожерелий,
пронизок, нашивок на головных убо-
рах и одежде из разнообразных ра-
ковин, зубов животных, позвонков
рыб, привесок и бус, выточенных из
слоновой кости, и пр. Следует пом-
нить, что до нас дошло лишь немно-
гое из этого набора украшений. Та-
Веществен-
ный инвен-
тарь
кие же украшения известны и из
многих стоянок этой поры. Отчасти
они воспроизводятся и на женских
фигурках (например, на статуэтках,
происходящих из Костенок, Вил-
лендорфа и пр.) - в виде головных Рцс ]74 Погребепие ориньякс|:ого вре-
уооров, ожерелий, перевязей, бра- мени из грота Детей близ Ментоны
слетов и т. п. (Италии).
Таким образом, многочисленные (По верно)
погребения, открытые на месте ори-
ньяко-солютрейских поселений в гротах Гримальди (Италия), Кроманьон
и Комб-Капелль (Франция)-, Павиленд (Англия), Брно (Чехословакия),
Мальта (Сибирь) и т. д^-свидетельствуют, что мужчины и женщины по-
гребались в эту эпоху, видимо, в полном убранстве, в одежде из мехов,
с целым набором разнообразных украшений. Часто они бывают присы-
паны порошком красной охры, которая играла очень большую роль в пред-
ставлении первобытного человека как символ огня и, может быть, крови.
Эти погребения бывают часто заботливо обставлены каменными пли-
тами, которые обыкновенно защищают голову похороненного, и, вероятно,
дополнялись сооружениями из дерева, ветвей и т. п. По большей части
скелеты бывают находимы в характерном положении, на боку, с сильно
подогнутыми конечностями, вероятно, также из тех соображений, чтобы
тело умершего занимало меньше места. Иногда эта согнутость является
чрезмерной, скелет оказывается скорченным настолько, что колени почти
Обстановка
погребений
430
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Погребение
ребенка в
Мальте
пригнуты к подбородку. Такое положение умершего и сейчас практи-
куется многими примитивными народностями; оно достигается обвязыва-
нием тела веревками или ремнем и обвертыванием его в шкуру животного.
Вероятно, кроме заботы об умершем и сохранении его телесных остатков,
здесь говорит и страх, заставляющий потуже связать тело и прикрыть
его камнями или чем-нибудь подобным.
Скелет, найденный случайно при земляных работах в Брно, был
окрашен в красный цвет и прикрыт бивнем и лопаткой мамонта, рядом
с ним были положены статуэтка из слоновой кости и украшения из того же
материала. В Павиленде (Уэльс, Англия) рядом со скелетом, окрашенным
красной охрой и сопровождавшимся пронизками из раковин и слоновой
кости, в особой яме был положен целый череп мамонта.
Многочисленные погребения, открытые в гротах Гримальди около
Ментоны, из которых некоторые были обставлены каменными плитами,
дали очень много украшений. При двух детских скелетах, например,
было найдено свыше 1000 просверленных раковин, которыми была обшита
их одежда. В других погребениях раковины лежали в области груди, лба,
вокруг головы или образовывали перевязь, нечто вроде браслета на руке.
Здесь же были находимы привески и пронизки из зубов оленя, позвон-
ков рыб и т. п. Многие скелеты были окрашены красной краской.
Палеолитические погребения в известной стоянке Солютре оказались
также защищенными каменными плитками, которыми прикрывалась
главным образом голова умершего. Судя по старым раскопкам Дюкро,
иногда тело' погребалось здесь внутри жилища, которое в этом случае,
видимо, оставлялось его обитателями. Сходный факт дает и Пржедмост,
где в подобном же полуподземном жилище найдено было 20 скелетов,
причем при одном из трих было встречено ожерелье из пронизок, вырезан-
ных из бивня мамонта.
В связи с этим нельзя не упомянуть о весьма интересном погребении
в Мальте под Иркутском, которое по времени должно относиться прибли-
зительно к той же стадии верхнепалеолитической культуры, что и погре-
бение, открытое в Брно, то есть к поздней поре солютрейской эпохи.
При раскопках М. М. Герасимова в 1929 г. здесь было открыто среди остат-
ков жилья особое сооружение, содержавшее погребение ребенка 3—4 лет,
которое, благодаря тщательно производившимся раскопкам, может быть
восстановлено во всех существенных подробностях, несмотря на плохую
сохранность скелета. Погребение помещалось в неглубокой яме, имевшей
овальную форму, размерами 1,15 м на 0,68 м, под толстым слоем культур-
ных отбросов, и было обставлено большими плитами известняка, отчасти
сохранившими вертикальное положение, и прикрыто такой же плитой.
Скелет лежал, видимо, на спине, но с ногами, подогнутыми в коленях.
На костях и под ними сохранились следы красной охры. При нем был
положен целый набор весьма интересных украшений, вырезанных из
бивня мамонта, и некоторые другие вещи. Среди них мы видим ожерелье
из множества мелких пронизок и привесок с более крупной оригиналь-
ной формы бляхой, занимавшей центральное место в этом наборе
украшений (рис. 237); далее — обруч из бивня мамонта, лежавший непо-
средственно на голове и, очевидно, входивший в состав головного убора;1
1 Интересно, что украшения этого типа существуют и даже не так редки именно
в солютрейских стоянках Европы. Обычно они имеют вид полуобруча, то есть узень-
кой согнутой полоски слоновой кости, часто украшенной по краю зубчатой нарезкой.
На концах ее сделаны отверстия для завязывания с помощью ремешка вокруг головы.
По мнению Пейрони, они служили для того, чтобы придерживать волосы с целью,
КРОМАНЬОНЕЦ
затем круглую тонкую пластинку из той же слоновой кости, украшенную
на лицевой стороне рядами зигзагообразных полосок, которые на другом
подобном же предмете, найденном на месте стоянки, воспроизводят вполне
отчетливо фигуры змей (рис. 230). Эта бляха была открыта в области по-
ясничных позвонков, с правой стороны; она имела посередине небольшое
отверстие, служившее для прикрепления. Несмотря на несколько странный
характер изображения змей с их большими треугольными головами,
трудно усомниться в стремлении художника изобразить именно это живот-
ное. В связи с этим интересно вспомнить что у чукчей, совершенно не
знающих змей, сохранилась до сих пор легенда о большом полосатом черве,
живущем вблизи страны мертвых, настолько большом, что он убивает
оленя, сжав его в своих кольцах, и затем проглатывает его целиком. * 1
На правой плечевой кости выше локтя был надет браслет в виде об-
руча, меньшего размера, чем уже упомянутый ранее, но с таким же спо-
собом закрепления с помощью ремешка или шнура, который продевался
в отверстия на его концах. Под грудными позвонками в области нижних
ребер среди других обломков каких-то украшений была найдена неболь-
шая фигурка, схематически передающая летящую птицу с длинной вытя-
нутой шеей. Подобные фигурки были найдены на месте стоянки в довольно
большом числе. В ногах ребенка было положено крупное колющее орудие
вроде кинжала, сделанное из бивня мамонта, и несколько кремневых
орудий.
Все эти факты говорят о том, что забота об умершем играла большую
роль в жизни общественных групп ориньякских охотников, очевидно
переплетаясь с выработавшимися в течение многих веков п сложившимися
в определенную обрядность религиозными воззрениями, в частности
с представлениями о потребностях умерших близких в жилище, одежде
и т. п. Нам приходится их воспринимать как естественное отражение бы-
тового уклада, связанного с возникающей оседлостью и обеспеченного
известными материальными благами, которые в нашем представлении вы-
ходят из рамок примитивного хозяйства, например, тех же австралийцев.
КРОМАНЬОНЕЦ
Физический тип человека, восстанавливаемый на основании указан-
ных выше и других находок костных остатков, дошедших до нас от эпохи
ориньяка и солютре, не представляется вполне однородным, хотя вместе
с тем он повсюду обнаруживает черты организации, характерной для
современного человечества и весьма отличной от того, что мы видели на
стадии неандертальца. По представлениям, господствующим в западно-
европейской науке, тип современного человека (Homo sapiens), сменяю-
щий в европейских местонахождениях верхнепалеолитического времени
древнюю расу «неандертальского» человека (Homo neanderlhalensis), вряд
ли может быть рассматриваем как продукт эволюции последней. Другими
словами, по весьмд распространенному взгляду, для Европы это уже
были новые племена, пришедшие на смену ее древнему населению, вытес-
нившие или уничтожившие его и принесшие с собой ряд новых культур-
ных приобретений — производство более совершенных изделий из кремня,
чтобы последние не падали на лицо. Находка, сделанная в Мальте, подтверждает
это предположение. Аналогичные вещи найдены в Ферраси, убежище Кастане, Селлье,
Бланшар и на территории СССР — в Костенках I.
1 В. Г. Богораз, Чукчи, часть I, Ленинград, 1934, стр. 5.
432
Кроманьон-
ский тип
Другие
разновид-
ности
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯЕО-СОЛЮТРЕИСЕОЕ ВРЕМЯ
обработку кости, иной уклад жизни, иные воззрения и, наконец, неизвест-
ное раньше искусство.
Конечно, мы не должны представлять себе переход от неандертальца
к кроманьонцу как процесс «ологенеза», то есть как процесс, совершав-
шийся обязательно в одинаковых формах на всех территориях и у всех
групп человечества. Следует думать, что общая закономерность истори-
ческого развития, многочисленные подтверждения которой мы имеем
в археологических фактах, относящихся в такой же мере к Европе, как
и к Передней Азии, Африке и т. д., не исключает того, что в одних слу-
чаях новый тип человека в различных его разновидностях мог склады-
ваться быстрее, тогда как в других случаях этот процесс мог итти, по
тем или другим причинам, более замедленным^темпом. Многие западно-
европейские археологи и антропологи, не принадлежащие к реакционным
кругам, убеждены, что в эпоху переходную от неандертальца к кромань-
онцу (от мустье к верхнему палеолиту) кое-где должны были существовать
одновременно и приходить в столкновение эти два физических типа чело-
века с различным укладом культуры. Теоретически мы не имеем основа-
ния отрицать возможность сосуществования в определенный отрезок
времени неандертальского и кроманьонского типов человека. Все эти
вопросы, представляющие значительный исторический интерес, еще ждут
своего разрешения в дальнейшем накоплении данных фактического
порядка.
Однако мы должны в самой категорической форме отвергнуть как
антинаучные измышления взгляды, пропагандируемые буржуазной антро-
пологией, согласно которым между верхнепалеолитическим населением
Европы и неандертальцами эпохи мустье нет прямой родственной связи.
Факты, накопленные современной наукой, достаточно убедительно свиде-
тельствуют о совершенно ином. Мы не можем не рассматривать появле-
ние нового типа человека и появление новых форм культуры как резуль-
тат закономерного развития первобытного общества на определенном
историческом этапе.
Большинство известных в настоящее время остатков человека ранней
поры верхнего палеолита принадлежит к так называемому кроманьонскому
типу (от пещеры Кроманьон во Франции). Мы их встречаем в гротах
Гримальди, Кроманьон, Верхняя Ложери, Павиленд и других местностях
западной Европы, не менее, чем в 30 местонахождениях, с общим числом
более, чем в 80 индивидуумов. 1
Все эти остатки говорят о рослых, широкоплечих людях с хорошо
развитым черепом долихоцефального типа, с большим объемом мозга,
обнаруживающего вполне современное строение. Их особенностью яв-
ляется характер лицевой части черепа,указывающий на непропорционально
короткое, широкоскулое лицо с близко поставленными четырехуголь
ными глазницами, орлиным носом, крепкими челюстями и хорошо
сформированным подбородком. Этот человеческий тип, по некоторым
данным, сохранился до сих пор среди населения северной Африки и у
гуанчей — прежних обитателей Канарских островов, а также и кое-где
в Европе. 2
Однако, видимо, не все население Европы в эту эпоху принадлежало
к кроманьонскому типу. Известны находки, которые позволяют думать
о существовании в разных частях Европы таких групп ее обитателей,
1 Josef Szombaty, Die diluvialen Menschenreste aus der Fiirst-Johanns-Hohle be
Lautsch in Mdhren, «Die Eiszeit», Bd. Il, H. 1 и 2,. стр. 1—34 и 73—95.
2 M. Boule, Les homines fossiles, 1923, стр, 292.
ТАБЛИЦА XIV
ГОЛОВКА ПОЛУЖИВОТНОГО ПОЛУЧЕЛОВЕКА (НАПОМИНАЕТ ВЕРБЛЮДА)
Коотенки I. Плотный мергель (снято с обеих сторон, увеличено в 2 рана)
(Раскона автара 1915 г.)
КРОМАНЬОНЕЦ
433
которые представляли иные разновидности верхнепалеолитического че-
ловека. Среди других подобных остатков особенно выделяются скелеты,
найденные в одном из гротов Ментоны, в так называемом гроте Детей,
где под слоями, содержащими остатки представителей рослой кроманьон-
ской расы, были открыты Вилльневом (1905) и описаны затем антрополо-
гом Верно два костяка совершенно иного типа. Один из них принадлежал
женщине средних лет, другой юноше лет 16—17. Как оказалось в резуль-
тате их всестороннего изучения, по ряду признаков — строению черепа,
значительному прогнатизму (косая постановка зубов, уступающих впе-
ред), характеру подбородка, пропорциям конечностей — они могут быть
сближаемы, в известной степени, с некоторыми из современных африкан-
ских негров. Их отличает от кроманьонцев и значительно меньший рост
(1,55—1,60 м), хотя по объему мозговой коробки они вполне принадлежат
к типу современного человека, как и люди Кроманьона.
Эта находка послужила одним из оснований для теории, поддерживае-
мой многими исследователями, что культура ориньяка, сменившая при-
митивную культуру мустье, была принесена племенами африканского
происхождения, вторгшимися в Европу и вытеснившими первобытных не-
андертальцев. Очевидно, однако, что поскольку она остается единичной
и не подкрепляется другими подобными находками на материке Европы,
ее естественно рассматривать как некоторую инфильтрацию южных групп
человечества, вполне понятную при учете географического положения
Ментоны в относительной близости к африканскому континенту.
Мы уже говорили, что появление нового человеческого типа, обладаю-
щего чертами современного человека, — безразлично, возьмем ли мы его
в «негрской» разновидности, представленной находками в гроте Детей
близ Ментоны, или в типе кроманьонца, или в типе «ориньякского» чело-
века из Комб-Капелль, отличающемся также некоторыми особенно-
стями, — приходится ставить в связь с теми чрезвычайно важными изме-
нениями, которые претерпевает первобытное общество в конце мустьер-
ской эпохи при переходе к верхнему палеолиту.
Можно думать, что трансформация неандертальца с его примитивным
физическим строением в тип современного человека, протекавшая, на-
сколько мы знаем, в относительно короткий промежуток времени, по-
скольку она, очевидно, была подготовлена предшествующим развитием
общества, явилась, в основном, результатом перехода от эндогамии к
экзогамии, от размножения «в себе», в маленьких замкнутых кровнород-
ственных ячейках, к широкому обновлению крови в экзогамных объе-
динениях охотничьих орд. Имеется достаточно оснований для того, чтобы
предполагать, что весьма однородная и, вместе с тем, по своим элементам
достаточно сложная культура охотников на мамонта и дикую лошадь
эпохи рельефов Лосселя, гротов Гримальди, Виллендорфа, Пржедмоста,
Гагарина, Костенок должна была сложиться в результате очень широ-
кого общения первобытного населения Европы.
Энгельс, приводя слова Морглнл: «...браки между членами родов,
не состоящих в кровном родстве, порождали физически и умственно более
крепкую расу; смешивались два прогрессирующих племени, у новых по-
колений череп и мозг естественно увеличивались, пока они не объединяли
в себе способностей обоих племен», — особенно подчеркивает значение
перехода от эндогамной к экзогамной, родовой организации, рассматри-
вая этот пепеход как крупнейший этап в развитии первобытного общества.1
Условия
формирова-
ния типа
современного
человека
1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 62
28 П. П. Ефименко. Первобытное общество—173V
ГЛАВА восьмая. ориньяко-солютреИское время
Это вполне подтверждается нашим анаггизом археологических материалов,
собранных современной наукой.
Вероятно, подобным же образом на других материках, в иных усло-
виях климата и природной среды, этот процесс привел в свою очередь
к образованию того, что мы называем современными человеческими ра-
сами. Таким образом, сложение главных разновидностей современного
человечества — так называемой белой, черной, желтой и других рас —
не может быть понято без учета этого перехода от первобытной неандер-
тальской стадии к обществу верхнего палеолита. Если мы вернемся к Ев-
ропе, для которой у нас имеется несравненно больше данных, чем в отно-
шении всех остальных материков, мы можем сказать, вместе с известным
американским антропологом Гвдличкой, что было бы неправильно ду-
мать, что процесс перехода от неандертальца к кроманьонцу совершился
внезапно, не оставив после себя никаких следов.
Уже довольно давно антропологи обратили внимание на то, что в не-
которых находках, сделанных в разных пунктах Европы, до эпохи со-
лютре удерживается тип человека, обладающий всеми признаками со-
временного физического строения, характерного для кроманьонца, и,
вместе с тем, наследующий некоторые более древние черты. Его скелетные
остатки связаны с описанным нами замечательным лагерем охотников на
мамонта в Пржедмосте, где было открыто в разное время до 26 скелетов
людей этой эпохи, то есть конца ориньяко-солютрейского времени. Он
же представлен и в Брно в остатках погребения солютрейской поры
(Брно I и Брно II), затем находкой в Брюксе (Бельгия), где при слу-
чайных обстоятельствах был обнаружен череп, показывающий характер-
ные черты того же физического типа.
Отличительными особенностями этой так называемой «брюннской
расы» является крайняя длинноголовость, уплощенность черепной ко-
робки, убегающая форма лба, большое развитие надбровных дуг и пр.,
то есть ряд таких признаков, которые были свойственны, но только в не-
сравненно более резко выраженной степени, и неандертальскому чело-
веку. Некоторые антропологи считают возможным относить к тому же
физическому типу череп из Галлей-Хилл в Англии, найденный, однако,
при недостаточно выясненных условиях.
Некоторые из описанных нами статуэток ориньяко-солютрейского вре-
мени также представляют интерес с точки зрения воспроизводимого ими
физического типа. Древний мастер настолько реалистически передавал
в этих изображениях то, что он видел в действительности, что их особен-
ности могут заслуживаю^ внимания антрополога. Они передают обычно,
как мы уже говорили, два разных типа женщины: одну с удлиненными
пропорциями тела и другую — с короткой, плотной и массивной фигурой.
И тот и другой тип стро'енпя тела является вполне обычным в среде со-
временного населения северного полушария. Вообще, судя по этим ста-
туэткам, верхнепалеолитпческие обитатели южной Франции, берегов
Дона и Прибайкалья ничем существенно не отличались от современного
человека. Однако у некоторых из них имеется ряд таких черт, которые,
быть может, в известной степени могут быть рассматриваемы как пережи-
вание более древнего типа. Особенно это бросается в глаза в одной из
больших статуэток Костенковской стоянки, затем у виллендорфской «Ве-
неры» (рис. 172).
К признакам этой категории можно относить мощный торс при ко-
ротких нижних конечностях, сгорбленную спину, сутуловатые плечи,
отсутствие шеи и в особенности характерную посадку головы, сильно опу-
КРОМАНЬОНЕЦ
435
щенлой книзу, вместе с непропорционально крупными размерами самой
головы. Можно думать, что к тем же особенностям этого типа при-
надлежит и особое положение ног, сведенных в коленях и расходящихся
книзу. Перечисленные признаки представляют наиболее заметные от-
личия фигуры неандертальца от рослого, стройного кроманьонца —
типичного представителя современных человеческих рас.
К сожалению, мы все же еще очень мало знаем, как, в какой обста-
новке и в каких промежуточных формах происходил процесс трансформа-
ции неандертальского типа в тип кроманьонца. Этим объясняется, что
не только Буль, весьма, вообще говоря, осторожный исследователь, но
п такой видный антрополог, как Швальве, отстаивают мысль о каком-то
особом происхождении кроманьонцев, независимом от неандертальского
человека. Считая такую точку зрения совершенно неприемлемой, по-
скольку она находится в вопиющем противоречии с закономерностью
развития физического тела человека, — мы в настоящее время имеем
и прямые указания па существование переходных форм от неандертальца
к кроманьонцу (в недавних находках на горе Кармел в Палестине).
Существует предположение, что неандертальцы должны были извест-
ное время сосуществовать в тех или других местностях Европы с иными,
более совершенными в смысле физического развития человеческими груп-
пами. Эта точка зрения оказывается созвучной с взглядами, например,
Пейрони о вероятности одновременного существования в ледниковое
время во Франции групп населения — различных и по физическому
типу, — представлявших как бы разные «эпохи» палеолита.1
Подобные представления все же не подкреплены никакими положи-
тельными фактами.
Несколько обособленную группу населения Европы составляет тип тнп
шанселад, представленный погребениями, открытыми во Франции в гроте швнселад
Шанселад, в Ложери-Басс, в гроте Дюрюти (Сорд), а также в гроте Пла-
кар, и описанный впервые в его характерных особенностях Л. Тестю
(1889). В этих мадленских охотниках на северного оленя и морского
зверя — в Дюрюти при скелете человека были найдены изображения
тюленей и рыб, вырезанные на кости, в гроте Раймонден (или Шанселад)
были встречены остатки гренландского тюленя, хотя этот грот располо-
жен на довольно значительном расстоянии от берега моря, — ряд ученых
склонен видеть предков современных эскимосов, с которыми люди типа
шанселад обнаруживают много общих физических черт.
Как ни расценивать значение физических различий, которые могут
быть установлены для обитателей северного полушария в эпоху, непосред-
ственно следующую за средним палеолитом, ясно все же, что они не имеют
для нас особенно существенного значения в вопросе об изменениях куль-
турного состояния на протяжении ранней поры верхнего палеолита,
поскольку население Европы и северной Азии в соответствующих обла-
стях обнаруживает в интересующее нас время, независимо от своих фи-
зических признаков, черты замечательного единства. 2
1 Например, «Revue anthropologique», 1925, Стр. 290.
2 Большой интерес представляют недавние находки (в 1936 г.) в Бурети на Ангаре,
где в обстановке палеолитического поселения, близкого по времени к Мальте, была
встречена А. П. Окладниковым прекрасно сделанная Статуэтка. Последняя изобра-
жает человека ( женщину) в меховой одежде, с чертами лица, очень напоминающими
так называемый палеоазиатский тип. Любопытно, что как раз инвентарь Бурети, как
и Мальты, обнаруживает и в изделиях из кремня п в характере произведений искус-
ства наибольшее сходство с палеолитическими памятниками Европы соответствующего
времени.
436
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
ОСТАТКИ ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОГО ВРЕМЕНИ
’ НА ТЕРРИТОРИИ СССР
После общего ознакомления с остатками, относящимися к ранней поре
верхнего палеолита Европы, мы переходим к рассмотрению того, что
представляют собой эти остатки на территории СССР. На карте европей-
ской части Союза можно видеть, что в своем распространении, насколько
мы имеем возможность судить в настоящее время, эти остатки ограничи-
ваются на севере определенной полосой, за пределами которой палеолити-
ческие стоянки пока неизвестны. Их северной границей, видимо, является
граница распространения лёсса. Представляется весьма вероятным, что
пределом распространения человеческих поселений здесь являлась про-
стиравшаяся далеко к югу полоса озер и болотистых низменностей,
окружавших отступающий ледник. Близость этого последнего, очевидно,
обусловила тот отпечаток арктической фауны, который носит мир живот-
ных большинства стоянок, расположенных в более северных широтах —
по течению Десны и Оки.
Открытый, равнинный характер обширных пространств южной части
восточной Европы и Сибири определяет общий характер, какой имеют
памятники верхнего палеолита на всем огромном протяжении СССР от
Днестра до Байкала. Почти все известные здесь поселения этого времени
представляют собой охотничьи становища, расположенные в долинах
рек на открытом воздухе, под защитой склона правого, возвышенного
берега долины или в устьях древних глубоких оврагов, прорезывающих
водораздельные возвышенности и открывающихся в речную долину.
Связь с ревой Поселения людей в эту эпоху были разбросаны по берегам многовод-
ных речных потоков, питавшихся водами отступающего ледника. Связь
стойбищ, относящихся к ранней поре верхнего палеолита, с временем
более высокого уровня рек может быть установлена в ряде случаев: в сто-
янке на Кирилловской улице, Мезинской стоянке, в Гонцах и т. д.
Залегание Гораздо чаще остатки ориньяко-солютрейского, так же как и мадлен-
в лёссе ского, времени в пределах СССР бывают связаны с лёссовым наносом,
покрывающим склоны береговых возвышенностей, то есть они пред-
ставляют ту же картину, что и ранее нами описанные лёссовые место-
нахождения верхнепалеолитического времени Моравии и Нижней Австрии.
Благодаря расположению на склонах возвышенностей глубина залега-
ния этих остатков в толще лёсс<1 значительно колеблется, часто даже для
одной и той же стоянки. То "она сравнительно невелика, то достигает
десятка и более метровуВ более восточных районах, например на Дону
под Воронежем, где типичный лёсс отсутствует, палеолитические остатки
бывают покрыты сходным с лёссом делювиальным наносом, намытым
с соседних возвышенностей. Толщина его бывает значительно меньшей,
чем в настоящих лёссовых стоянках.
Тяготение Интересно, что верхнепалеолитические памятники СССР, как и стоянки
к выходам этого времени на Западе, имеют тяготение к выходам известняков или
известняка мела. qhii как будто умеренно выбирают места, где высокие обрывистые
берега речной долины представляют живописные обнажения подобных
горных пород, тогда как пологие склоны долин, где мел или известняк
отсутствуют или глубоко замаскированы поверхностным наносом, обычно
обходились палеолитическим человеком. Этим, очевидно, объясняется
особенное богатство палеолитическими остатками среднего течения Дне-
стра, Десны и некоторых участков течения Дона.
437
ОСТАТКИ ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОГО ВРЕМЕНИ
В равнинной части восточной Европы почти нет выходов плотных извест-
няков, дающих во многих местностях западной Европы, как и в Крыму и
в Закавказье, в аналогичных условиях удобные навесы и пещеры, часто
использовавшиеся в виде убежищ палеолитическим населением. Нужно
думать, очевидно, что крутые обрывистые склоны долин все ясе в какой-то
степени защищали человека от холодных северных ветров и вообще от
непогоды. Замечено, что стоянки располагаются здесь преимущественно
в местах, закрытых с севера, например в устьях оврагов, выходящих в реч-
ную долину, по их левым склонам, обращенным на юг, к солнцу. Несом-
ненно также, что меловые или известняковые, сильно изрезанные берего-
вые возвышенности представляли лучшие условия для охоты, особенно
загоном. В большинстве случаев подобные местности изобилуют и крем-
нем, столь необходимым материалом для выделки орудий, и, может
быть, в этом в особенности можно видеть их притягательную силу для
палеолитического человека.
Памятники палеолитической культуры на территории СССР до недав-
него времени были мало известны. Правда, палеолитические местонахо-
ждения на Оке, в Подонье, на Украине, в Крыму и даже в Сибири были
открыты еще в 70—80-х годах прошлого столетия. Первая стоянка чело-
века ледникового времени на территории Европейской России стала извест-
на еще в 1871 г. в окрестностях с. Гонцов Дубенского у. Полтавской губ.
Она была обнаружена случайно, как это часто бывает с остатками палео-
литических стойбищ, и не пропала бесследно для науки, так как, по сча-
стью, обратила на себя внимание учителя Каминского, заметившего, что
при костях мамонта, оленя и других животных попадались расщеплен-
ные кремни. В 1873 г., когда начаты были раскопки в Гонцах, на терри-
тории Польши Завишей были предприняты раскопки в Мамонтовой и Ма-
шинной пещерах в недалеком расстоянии от Кракова. В 1877 г. А. С. Ува-
ровым близ его усадьбы у с. Карачарова Муромского у. Владимирской губ.
в стене соседнего оврага, выходящего к Оке, были обнаружены вымытые во-
дой кости мамонта, сибирского носорога и других животных, сопровожда-
ющиеся, как показали раскопки, обильными находками обработанных крем-
ней. Через два года, в 1879 г., И. С. Поляков, принимавший перед этим уча-
стие вместе с Уваровым в раскопках Карачаровской стоянки, сделал анало-
гичную, но еще более важную находку в с. Костенках Воронежской губ.
Перечисленные открытия совпали со временем, когда русская наука
стала проявлять заметный интерес к остаткам древнейшей культуры чело-
века. В связи с результатами, которые дало исследование пещер Франции,
и в России в эти годы особенное внимание было обращено на пещеры, из-
вестные по окраинам восточноевропейской равнины — на Урале, Кавказе,
в Крыму. Однако поиски в них были по разным причинам большей частью
мало успешны. Счастливее оказались раскопки пещер южного Крыма,
предпринятые в 1879—1880 гг. К» С. Мережковским. Ему удалось отыскать
в целом ряде пещер и навесов Крыма культурные отложения палеолити-
ческого возраста с разнообразным и интересным кремневым инвентарем и
даже первые остатки самого Палеолитического человека (навес по
р. Каче). С другой стороны, в Поднестровье В. Б. Антонович1 в начале
1 В. Антонович, О скальных пещерах на берегу р. Днестра в Подольской губ.,
«Труды Одесского Арх. съезда», т. I, стр. 93. Хотя Антонович не дает описания собран-
вых им здесь кремней, его коллекция, которую мы имели случай осмотреть в 1924 г.
в археологическом кабинете Киевского университета, показывает их верхнепалео-
литический возраст. Описание Студеницкой стоянки См. также у Н. И. Криштафо-
вича, О геологическом исследовании палеолитических стоянок в Евр. России летом 1904г.,
«Древности»,-т. XXI, в. 2, стр. 178.
История
открытий
в СССР
* 438
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
80-х годов отметил несколько пунктов, где были сделаны, частью также
в пещерах, находки костей мамонта и кремневых орудий. Наиболее инте-
ресные-находки им были сделаны по левому берегу р. Днестра на высоком
береговом мысу, представляющем высокое меловое плато, рассеченное
глубокими оврагами, в окрестности с. Студеницы. К тому же десятиле-
тию, когда становятся известны первые палеолитические стоянки Евро-
пейской России, относятся первые находки остатков палеолитической
культуры в Сибири, в окрестностях Иркутска и Красноярска.
После ряда счастливых открытий, создававших, казалось бы, достаточно
благоприятную почву для дальнейшего накопления фактов, в следующие
годы мы видим, наоборот, упадок волны интереса к палеолиту, совпадаю-
щий с эпохой жестокой реакции, имевшей место в 80—90 годах. Как это
ни покажется странным, остается фактом, что в течение последующих
30—40 лет ни одна из открытых стоянок не была исследована более де-
тально, ни одна из добытых этими раскопками коллекций не была изучена
и освещена в соответствии с требованиями, которые ставила в то время за-
падно-европейская наука.
Некоторый подъем интереса к памятникам древнего каменного века
в России намечается снова около половины 90-х годов. К этому вре-
мени относится несколько новых открытий палеолитических стоянок:
Н. И. Криштафовича в Новой Александрии на берегу Вислы, где ему уда-
лось обнаружить в 1894 г. в интересных геологических условиях — очень
невысоко над уровнем реки, почти в основании надлуговой террасы, остатки
палеолитического обитания с костями мамонта, сибирского носорога,
первобытного быка и пр. в сопровождении довольно многочисленных
кремней верхнепалеолитических типов.1 Далее можно назвать открытия,
сделанные Кащенко в Томске, В. В. Хвойко на Кирилловской улице
в Киеве, наконец, де Баем в Ильской станице на Кубани. Эти находки
в большей или меньшей степени разделили судьбу прежних находок,
не послужив источником для более углубленного интереса к вопросам
русского палеолита.
Пробуждение серьезного внимания к остаткам палеолитической куль-
туры может быть поставлено в прямую связь с трудами Ф. К. Волкова —
политэмигранта, получившего возможность вернуться в Россию после
революции 1905 года. В сущности, Волков, ученик Мортилье, является
первым исследователем, применившим к изучению памятников «древнего
каменного века» на территории бывшей России методы, накопленные за-
падной наукой. В своих очерках, посвященных анализу находок на
Кирилловской улице в Киеве, Волков, опираясь на работы главным
образом французских исследователей, показал с полной очевидностью,
что эта стоянка, вопреки взглядам других русских археологов, не может
считаться древнейшим памятником палеолитической культуры и отно-
сится к определенной, достаточно поздней поре палеолита.
Важным этапом н "изучении позднепалеолитпческих остатков восточ-
ной Европы явилось открытие Волковым (в 1908 г.) богатой палеолити-
ческой стоянки на реке Десне, в Черниговской губ., в устье обширной
балки, в которой расположилось село Мезин. В течение ряда лет стоянка
исследовалась Ф. К. Волковым, П. П. Ефименко и др. Сделанные в ней
находки сразу же выдвинули ее на одно из первых мест среди иных палео-
литических местонахождений восточной Европы и возбудили большой
интерес к русскому Палеолиту со стороны западных ученых, для ко-
1 Н. И. Криштафович, Послетретичные образования в окрестностях Новой Але-
ксандрии, Bapiaaea, 1896, стр. 47 и с л.
ОСТАТКИ ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОГО ВРЕМЕНИ
439
торых своеобразное искусство Мезина в его изделиях из мамонтовой
кости, совершенно отличное от палеолитического искусства французских
стоянок, явилось полной неожиданностью и своего рода откровением.
Мезинская стоянка положила начало ряду новых поисков в области
палеолита, развернувшихся на протяжении немногих лет и вскоре пре-
рванных войной и революцией. Эти поиски имели довольно случайный и
разрозненный характер, но дали все же ряд интересных работ и откры-
тий. Можно указать на раскопки Гонцовской стоянки, предпринятые
после сорокалетнего перерыва Полтавским музеем (в 1914—1916 гг.)
и в значительной степени осветившие характер этого важного палеолити-
ческого поселения.
Несомненный интерес представляет открытие в эти годы ряда палео-
литических местонахождений в пещерах Закавказья, где первые рас-
копки были осуществлены Р. Р. Шмидтом, Л. Козловским и С. А. Кру-
ковским. К этому же времени относится обстоятельная сводка мате-
риалов по. русскому палеолиту, опубликованная А. А. Спицыным. Если,
однако, еще недавно можно было бы составить некоторый список па-
леолитических местонахождений, обнаруженных на территории бывшей
России, то выяснить их последовательность во времени, их возраст в от-
ношении к «эпохам» западного палеолита и вообще отношение палеолити-
ческих памятников восточной Европы к хорошо изученным палеоли-
тическим остаткам Запада мы, конечно, не были бы в состоянии.
В новую, весьма плодотворную фазу изучение палеолитических место-
нахождений европейской территории Союза входит впервые лишь в годы,
следующие за Октябрьской революцией. Начало этим новым поискам
было положено в Сибири, где к 1922 г. были произведены в ряде пунктов
обследования мест палеолитических находок и выполнены довольно
значительные раскопки на Верхоленской горе под Иркутском. 1923 год
можно считать временем дальнейшего развертывания работ по изучению
палеолитических памятников по Енисею, Ангаре и в Забайкалье, в ко-
торых принимают участие Ауэрбах, Сосновский, Громов, Герасимов
и ряд других лиц.
В 1922—1923 гг. были предприняты почти одновременно исследо-
вания палеолитических стоянок по течению Дона под Воронежем и та-
кие же поиски в пещерах Крыма. В 1922 г. в окрестностях с. Боршево,
соседнего с Костенками, где находится известная стоянка, открытая еще
Поляковым, сотрудником Воронежского музея Замятниным, восполь-
зовавшимся указанием А. А. Спицына на присутствие здесь следов палео-
лита, было действительно обнаружено новое местонахождение палеоли-
тических остатков. Обследование, произведенное Ефименко, установило
в районе сел Костенок и Боршева присутствие целого ряда палеолити-
ческих стоянок с различной фауной Д разным вещественным инвентарем.
Уже самый факт сосредоточения подобных памятников в одном неболь-
шом районе является для условий восточной Европы совершенно исклю-
чительным. Изучение этих сИедов палеолитических поселений, сопоста-
вление их культурных остатков, условий залегания и т. д. впервые дало
возможность, благодаря массовому материалу, подойти с достаточно твер-
дыми основаниями к вопросу об этапах, пройденных верхнепалеолити-
ческим обществом, притом не только на территории среднего Дона, но и
на гораздо более широкой территории, так как ряд общих явлений пережи-
вался палеолитической культурой на всем пространстве восточной Европы.
За этими работами с 1926тч идет целый ряд новых открытий: Супонев-
ская стоянка под Брянском; Тимоновская стоянка в том же районе,
«I
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕПСКОЕ ВРЕМЯ
f
раскопки которой начаты были Воеводским и продолжены Городцовым,
сделавшим здесь ряд ценных наблюдений; Бердыжская стоянка на Соже,
раскопанная Поликарповичем и другими лицами; верхнепалеолитические
памятники Днестра и района Днепростроя; стоянка у с. Гагарина в вер-
ховьях Дона, наконец ряд новых стоянок у сел Костенки и Бор-
шево, исследовавшихся Ефименко и его сотрудниками. Для Крыма не
меньшее значение имели производившиеся в те же годы работы Бонч-
Осмоловского, Эрнста, Бибикова, Бадера и других исследователей, свя-
занные главным образом с изучением пещерных местонахождений.
Если вышедшан в 1936 г. сводка палеолитических местонахождений
СССР, составленная II. II. Березиным, 1 насчитывает уже около 150 па-
мятников итого времени, то всего за два-три последних года число их
перешло уже за 200. Причем в список палеолитических стоянок, ис-
следованных за период времени с 1935 г., входят такие важные памят-
ники, как Тельманская стоянка в Костенках, Елисеевичи на Судости,
Чулатово, Новгород-Северск и Пушкари на Десне, Мурзак-Коба в
Крыму, Буреть на Ангаре и многие другие.
В настоящее время мы можем разбить лучше изученные стоянки верх-
него палеолита, известные на европейской территории Союза, на следую-
щие группы в порядке их древности (о верхнепалеолитических стоянках
Сибири, нам придется говорить в своем месте):
Среднеориньякское время.
Поэднеориньякское и раннесолю-
ТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ.
Время между солютре и мадленом.
Раннемадленское время.
Позднемадленское время.
Позднейшее мадлеНское и азиль-
ское время.
1 /
Пещера Сюрень I (?) в Крыму, неко-
торые пещеры Закавказья (Хергу-
лис-Клдэ, Таро-Клдэ).
Боршево I, Костенки I, Гагариио,
Бердыж.
Мезин, Мальта (под Иркутском).
Две группы памятников различ-
ного характера. К первой относятся
Костенки!!, Костенки III,Костенки
IV, Карачарово, Студеница (на
Днестре), Киевская стоянка (ниж-
ний горизонт), Елисеевичи; ко вто-
рой — Супонево и, может быть,
Тимоновка под Брянском.
Стоянка на берегу Дона — Бор-
шево II (нижний и средний гори-
зонты), Гонцы.
Боршево II (верхний горизонт),
Кирилловская стоянка (верхний го-
ризонт), Журавка (Прилуцкий ок-
руг), Рогалик на Донцеиряд пещер-
ных стоянок Закавказья и Крыма.
Таким образом, среди отмеченных местонахождений имеется ряд памят-
ников, которые должны быть отнесены к ранней поре верхнего палеолита.
Из них наиболее ранний возраст, видимо, имеет находка в пещере Сюрень
I в Крыму, открытая и исследованная еще в 1879—1880 гг. К. С. Мереж-
ковским. Описание этой интересной стоянки дано Г. А. Бонч-Осмоловским,
занявшимся ее систематическим изучением в последние годы.
1 Н. II. Березин, Справочник по палеолиту СССР, изд. Акад, наук СССР, 1936.
ПЕЩЕРА СЮРЕНЬ I В КРЫМУ
44Е
ПЕЩЕРА СЮРЕНЬ I В КРЫМУ
В известняковых скалах в полукилометре от д. Сюрень, по пра-
вому берегу р. Бельбека, имеются две пещеры, вернее — два огромных
навеса, довольно глубоких и широко открытых в долину Бельбека.
Устья их обращены на юг. Благодаря удобному расположению они явля-
ются местом остановок проезжих татар и пастухов с стадами овец. Обра-
тив на них внимание, К. С. Мережковский произвел здесь раскопки и
нашел в обеих остатки палеолитических становищ, значительно, однако,
различавшиеся и по времени, и по характеру находок.
Б первой пещере, которая нас сейчас интересует, К. С. Мережков-
ский открыл под слоем позднейшего наноса два культурных горизонта,
представлявшие собой углистые прослойки, содержавшие раздробленные
и обуглившиеся кости животных, кремневые орудия и пр. Насколько
можно судить по коллекциям К. С. Мережковского, оба эти горизонта
дают более или менее сходные находки. Среди фауны К. С. Мережков- Фауна
ский отмечает остатки благородного оленя, кабана, дикого быка, анти-
лопы-сайги, птичьи кости ц позвонки рыб. Раскопки Г. А. Бонч-Осмо-
ловского позволяют значительно расширить список фауны Сюрени I и
присоединить к названным видам мамонта, дикую лошадь, большерогого
оленя, северного оленя, зайца-беляка, песца, пещерную гиену, медведя,
бобра, корсака и мн. др., а из птиц — полярную куропатку и некоторые
другие виды.1
Г. А. Бонч-Осмоловский указывает, что дно навеса Сюрень I было Три горизоп-
загромождено мощным, достигавшим 6—9 .и, слоем обвалившихся со свода та находок
известняковых обломков и рыхлыми продуктами разрушения известняка,
среди которых ему удалось проследить три горизонта с остатками палео-
литического времени, которые он относит к более ранней и более поздней
поре ориньякской эпохи. В кремневом инвентаре Сюрени I на первом
месте в сборах Мережковского и Бонч-Осмоловского стоят нуклевидные
орудия, представленные формами, весьма характерными для среднеори-
ньякского времени. Здесь имеются круглые нуклевидные и ладьевидные
скребки, скобели (рабо), затем большое количество нуклевидных резцов.
Наряду с ними имеются в достаточном числе и обычные врехнепалеоли-
тические орудия, изготовленные из удлиненных пластинок: концевые
скребки, резцы (чаще встречаются резцы многофасеточного типа), пласти-
ночки с затупленным краем, крупные ориньякские пластины с круго-
вой ретушью и пр.
В нижнем слое Сюрени I по данным, сообщаемым Г. А. Бонч-Осмо-
ловским, к ним присоединяются в, небольшом количестве орудия мустьер-
ских типов. Вместе с изделиями из кремня во всех горизонтах стоянки
было найдено некоторое количество пр^сте$ших поделок из кости в виде
шильев, изготовленных из расколотых трубчатых костей животных.
Описанный нами выше животный, а также и растительный мир отло- Раститель-
жений Сюрени I, сохраняющий более или менее одинаковый характер ныс остаткк
во всех трех горизонтах, в котором заметное место занимают полярные
формы, представляет большой интерес. Очевидно, приходится думать,
1 G. Bonc.-Osmolowskij, Le paleolithique de Сг1тёе,«Бюлл. ком. по иауч. четверт.
периода». Л? 1, 1929, стр. 27; A. Hammermann, Kohlenreste aus demPalaolithikum der
Krim. Bohlen Ssjuren I und II, там же,*Стр. 39; M. Tichij, Fische aus dem Palaoli-
thikum der Krim, там же, стр. 43; Г. Л. Бонч-Осмоловский, Итоги изучения крым-
ского палеолита, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. V, 1931, стр. 148.
442
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Время
Таро-Клде
Гельгулис-
Клде
Рпс. 175. Гроты Сюрснь в Крыму.
что горный Крым в эпоху, когда здесь жил человек, оставивший следы
своего обитания в Сюрени!, имел совершенно иной вид, чем в настоящее
время. Его склоны был^и одеты альпийскими лугами, тундровой расти-
тельностью и лесами из можжевельника (Juniperus), березы (Betula),
осины (Populus tremulaL.), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.),
крушины (Rhamnus cathartica L Jh ивы ( Salix),1 где находили приют совре-
менные обитатели побережий Ледовитого океана — северный олень, песец,
полярная куропатка и др.
Некоторые факты заставляют все же оставить под известным сомнением
вопрос об ориньякском времени Сюрени I. Если характер кремневого
инвентаря этой стоянки как будто позволяет довольно определенно гово-
рить о среднеориньякском типе ее вещественных остатков, точный воз-
раст этого памятника остается еще недостаточно выясненным. Во всяком
случае сменяющие ее палеолитические поселения Крыма относятся уже
к очень поздней поре палеолита — азильскому времени (Сюрень II).
Однако остатки,
близкие к Сюрени I,
найдены и в Грузии,
по верхнему течению
реки Риона. Сведе-
ния об этих малоиз-
вестных, но предста-
вляющих большой
интерес находках бы-
ли собраны в послед-
нее время С. Н. За-
мятниным.2 Он ука-
зывает пещеру Гель-
гулис (или Хергу-
лис-Клдэ) у с. Ва-
чеви, исследованную
С. А. Круковским,
затем навес Таро-
Клдэ у с. Шукрути, где культурные отложения содержат кремневый инвен-
тарь, отчасти с примесью мустьерских форм, по в основном имеющий
характер верхнепалеолитического инвентаря раннего типа. Преобладаю-
щее место здесь часто занимают крупные нуклевидные орудия, вместе
с которыми в большем или меньшем числе встречаются грубые резцы, кон-
цевые скребки, пластинки с затупленной спинкой и немногочисленные
изделия из кости в виде шильев и наконечников.
'КОСТЕНКИ
Памятники раннего ориньякского типа пока совершенно неизвестны
в более северной, равнинной части Союза. 3 Здесь верхнепалеолитическое
1 А. Ф. Гаммерман, Результаты изучения четвертичной флоры по остаткам дре-
весного угля, «Труды Л межд. конф., АИЧПЕ», в. V, 1934, стр. 70.
2 С. Н. Замятнин, Новые данные, по najiedtiumy Закавказья, «Советская Этно-
графия», 1935, в. 2, стр. 116.
а Этому времени, очевидно, отвечает замечательная стоянка, открытая (в 1937 г.)
в колхозе им. Тельмана в Костенках с инвентарем переходного характера от мустье
к верхнему палеолиту. .
КОСТЕНКИ
время приходится начинать с поселений охотников на мамонта, принад-
лежащих обширной группе однотипных ориньяко-солютрейских стоянок,
тянущихся через всю Европу от гротов' Гримальди близ Ментоны и от
Майнца на Рейне через Виллендорф в Австрии и Пржедмост в Моравии
до берегов Дона. Рассмотрение этих поселений мы начнем со стоянки
d с. Костенках (Костенки 1), которая является давно уже ставшим изве-
стным и в настоящее время лучше других исследованным памятником
ранней поры верхнего палеолита на территории СССР.
Старинное село Костенки, давшее свое имя стоянке, лежит по течению Особенности
Дона, километрах в 30 к югу от Воронежа. Дон, представляющий здесь ландшафта
уже довольно значительную реку, прокладывает свое русло среди широ-
кой пойменной низины, занятой рощами, лугами и старицами. Слева по те-
чению пойма окаймлена невысокой песчаной террасой, полого поднимаю-
щейся к степному водоразделу. Напротив, правый берег долины высо-
кий, крутой; он имеет вид возвышенного мелового плато, изрезанного
по обрыву к реке то обширными разветвленными оврагами, то более
короткими логами. Весь этот берег еще недавно был покрыт лесом, и потому
большинство ложбин и оврагов, образование которых относится к очень
давнему времени, задерновано и не размывается дождями и весенней
НОДОЙ.
Большие села, расположенные по правому склону долины Дона,
в этом районе почти не поднимаются на возвышенность, где нельзя достать
воду, а жмутся у подножия берегового уступа, ближе к реке и распро-
страняются в глубь берега только по дну и склонам оврагов. Так распо-
ложено и село Костенки, растянувшееся вдоль Дона километров на пять.
Оно делится на несколько частей или «концов» по тем оврагам, по кото-
рым раскинулись усадьбы села: Попов лог, громадный Покровский лог,
составляющий центр села, затем Аносов и Александровский лог, самый
южный, близко примыкающий к крайним усадьбам соседнего села Бор-
щева. Боршево, тоже большое село, занимает огромный Борщевский
лог. а от него линия усадеб тянется к северу к Костенкам вдоль узкой
береговой полосы. Вся эта местность насыщена остатками палеолити-
ческой культуры.
В ледниковый период данная часть территории Воронежской области Геологиче-
в пределах так называемого Волго-Донского выступа была одета, как екме Данныв
известно, ледниковым покровом, являющимся далеко выдвинутым на юг
форпостом северного оледенения. Относительно времени, к которому
должно быть отнесено это развитие ледника, нет полной согласованности
взглядов, однако значительное большинство геологов считает возможным
синхронизировать распространение ледника в долине Дона с максималь-
ным, то есть рисским оледенением Европы.
Считаясь с мнением геологов, мы должны предполагать, что современ-
ный характер донской долины не связай лишь с послеледниковой историей
края. В своих основных чертах долина Дона и система боковых долин и
оврагов, прорезывающих меловую возвышенность правого берега, были
намечены в эпоху, когда массы воды, двигавшиеся с севера, со стороны
наступающего ледника, должны были искать выхода в направлении есте-
ственного уклона местности, то есть к югу, в сторону Черного моря.
Таким образом, процесс разработки рельефа здесь должен был иметь место
еще в начале плейстоцена, значительно рщиливаясь ко времени продви-
жения ледника к югу.
За эпохой усиленной разработки естественного рельефа в бассейне
Дона и его притоков следовало время, когда наступающий ледник пере-
444
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
крыл своими наносами не только долины крупных рек и несомненно уже
в эту эпоху наметившуюся эрозионную сеть боковых долин и оврагов,
но и наиболее высокие точки речных водоразделов. Это доказывает оста-
вленный ледником моренный нанос в виде суглинка, содержащего валуны
северных пород, который одевает меловое плато в окрестностях Костенок.
Ледник, отошедший к северу, за черту Оки, должен был уже несрав-
ненно слабее оказывать влияние на рельеф донской долины. Оно могло
проявляться теперь лишь косвенным путем, через посредство определен-
ных климатических условий.
Ослабление деятельности текущих вод, источником которых стано-
вятся лишь снеговые и дождевые осадки, заметно уменьшающиеся в вюрм-
ское время, должно было иметь следствием то, что в качестве основного
гео логического
1
процесса здесь
на первый план
начинает уже
выступать не
эрозия, а 2акку-
муляция, не раз-
мыв, а заполне-
ние делювиаль-
ным наносом по-
ниженных Ч ча-
стей рельефа.
С момента от-
ступания лед-
ника начинается
история заселе-
ния края расти-
тельным и жи-
вотным миром,
а затем и чело-
веком. Эта исто-
рия заселения
края в так на-
зываемое писс-
Рис. 176. Меловые возвышенности, замыкающие выход Покров-
ского лога в долину р. Дона (с. Костенки).
Налево — место палеолитической стоянки Костенки I. Направо —
место стоянки Костенки V.
(Расколки автора)
вюрмское время лучше всего раскрывается г слоях отложений, одеваю-
щих склоны древних придонских оврагов. В них можно видеть, как еще
довольно долго после отступания ледника продолжается разработка овра-
гов в направлении водораздела, о чем свидетельствуют слои обломков мела
и мелового щебня, подстилающие толщу древних овражных наносов.
Затем следует эпоха*, когда поверх этих продуктов размыва начинает
откладываться тонкая глинистая порода, так называемый лёссовидный
суглинок. Условия его образования указывают на то, что вюрмская эпоха
была временем господства совершенно иного климатического режима,
характеризующегося преобладанием в ландшафте края сухой холодной
степи — явление, которое, как мы говорили, наблюдается в эту эпоху на
всем пространстве Европы и северной Азии.
С окончанием ледникового периода, с момента, когда изменились снова
климатические условия в сторону увлажнения, в связи с чем началось,
усиленное развитие травянистого покрова и замедлился процесс накопле-
ния минерального материала, — сначала на водоразделе, а затем и на
склонах и террасах донской долины начинает образовываться почвен-
КОСТЕНКИ
445
Рнс. 177. Кремневый инвентарь стоянки
Костенки I (Воронежская область).
1- — Концевой скребок. 2.—Двойной резец.
3. — Кинжаловидная пластинка. 4. — Пласти-
ночки с затупленным краем. 5.—Массивный
многофасеточный резец.
7s н. в.
жилого комплекса Костенок I.
тело с палеолитическими памятниками
ный покров в виде мощного пласта чернозема. Можно думать, что только
в гораздо более позднее время, вероятно лишь в эпоху бронзы, степные
пространства вдоль Дона покрываются вековыми дубовыми лесами,
остатки которых еще повсюду сохранились в районе Костенок.
Когда в интересующей нас местности на берегах Дона появляются пер-
вые стойбища охотников на мамонта, процесс отложения лёссовидного
делювиального наноса только лишь начинался и разработка овражной
сети далеко еще не была закончена.
При более глубоком зондаже в главном овраге с. Костенок — Покров-
ском овраге — нами были обнаружены в двух пунктах (на месте стоянки
Костенки 1 и против нее, на другой стороне лога, на месте, обозначенном
нами—Костенки V) слои палео-
литических остатков, залегав-
шие ниже лёссовидного суглин-
ка в отложениях мергелистой
глины и мелового щебня, обра-
зовавшихся в результате еще
продолжающегося роста оврага.
Интересно, что среди собран-
ных здесь остатков животных
оказались кости антилопы-сай-
ги, * 1 полностью отсутствующие
в других, более поздних стоян-
ках Костенок и Боршева. Боль-
шая глубина залегания позво-
лила нам вскрыть здесь сравни-
тельно небольшую площадь, в
связи с чем и находок в виде
обработанных кремней было сде-
лано немного. Последние, во
всяком случае в отношении ниж-
него горизонта Костенок I, от-
деленного от верхнего гори-
зонта толщей лёссовидного су-
глинка, дают возможность го-
ворить о ранней поре верх-
него палеолита, очевидно за-
долго предшествующей вре-
мени основного исследован-
ного нами здесь памятника —
Исследователя, имеющего ;
Костенок и Боршева, прежде всего поражает необычайное обилие остат-
ков палеолита, сосредоточенных в этом районе, на протяжении не более
десяти, километров вдоль берега Дона. Насыщенность этой местности
остатками палеолитической эпохи является тем более замечательной, что
разведки к северу и к югу по долине Дона не обнаруживают признаков
палеолитического обитания, тогда как в пределах указанной береговой
полосы,- между северным концом с. Костенок и большим Борщевским
оврагом, нами почти во всех логах были обнаружены то скопления костей
мамонта, то настоящие культурные слои, образовавшиеся на месте древ-
них палеолитических поселений. Последние открыты в шести логах в числе
Следы обита-
ния в осно-
вании лёссо-
видного су-
глинка
Концентра-
ция находок
Определение В. И. Громова.
I
446 ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Поляков
Рис. 178. Кремневый инвентарь стоянки
Костенки I (Воронежская область).
1,2. — Наконечники с выемкой. 3, 4. —
Концевые скребки.
и. в.
Гмелин
четырнадцати местонахождений разного времени, если считать только
те из них, где производились раскопки. В действительности постоянные
находки обработанных кремней и костей мамонта при всякого рода зем-
ляных работах на усадьбах в черте Костенок и Боршева свидетельствуют
о существовании здесь необычайно большого скопления разновременных
палеолитических стойбищ.
Приходится думать, что здесь — в такой концентрации памятников —
должен был сыграть свою роль характер берегового рельефа этой частя
долины Дона и, естественно, в первую очередь, его значительная рассе-
ченность. Подобный характер местности, занятой палеолитическими
остатками, очевидно давал много удобных пунктов для жизни охотничьих
групп верхнего палеолита и обеспечивал их постоянной хорошей охотой
на стада мамонтов, лошадей, северных оленей и других травоядных, спу-
скавшихся со стороны прилегающей возвышенности к берегу Дона.
Вероятно здесь имело значение и то
обстоятельство, что живописные ме-
ловые обрывы в Костенках предста-
вляют собой последние выходы мела,
которые к северу уже перестают
встречаться, в связи с чем и ланд-
шафт береговых возвышенностей там
приобретает иной характер.
Честь открытия и первого ис-
следования следов палеолитического
обитания в с. Костенках принадлежит
довольно известному путешествен-
нику и естествоиспытателю И. С.
Полякову, интересовавшемуся и во-
просами каменного века. Поставив
своей задачей обследование место-
нахождений, связанных с наход-
ками каменных орудий в сред-
ней полосе России, он обратил
внимание на известия, идущие еще
от XVIII века, о находках ко-
стей мамонта в окрестностях сторо-
жевого городка Костенска, как тогда
называлось нынешнее с. Костенки.
г. в Костенки приезжал крупный уче-
Следует вспомнить, что в 1769
нып того времени Гмелин, имевший задачу выяснить, почему и в каких
условиях встречаются здесь кости слонов, относительно которых существо-
вало предположение, что они могли быть остатками боевых слонов, при-
веденных в одном из походов Александром Македонским. Как сообщает
Гмелин в своем дневнике, ему удалось отыскать на берегу Дона в окрест-
ностях городка громадное скопление костей слонов, лежавших целым
пластом в береговых отложениях Дона.
Поляков не нашел места, указанного Гмелиным, вероятно потому, что
оно за это время должно было быть значительно подмыто рекой. Зато в са-
мом селе, в главном Покровском овраге, недалеко от его устья, в усадь-
бах, расположенных по дну этого обширного оврага, он открыл несомнен-
ные признаки палеолитической стоянки. Из трех отмеченных им пунктов
с подобными находками особенный интерес представляет один, где им
были предприняты раскопки, давшие определенные результаты, вполне
КОСТЕНКИ
447
оправдавшие все его ожидания. 1 В двух смежных усадьбах, Мануйлова
и Фокина, под слоем чернозема, в желтоватом суглинке, на глубине
свыше метра от поверхности, Полякову удалось обнаружить при этих
раскопках типичный для палеолитических стойбищ культурный гори-
зонт с раздробленными и обожженными костями, принадлежавшими
главным образом мамонту, и многочисленными кремневыми пластинами,
орудиями и осколками кремня.
Поляков ограничился тем, что заложил несколько пробных ям в од-
ном из углов усадьбы, которые, однако, дали ему довольно значительный
материал в виде всякого рода культурных остатков, составивших целую
коллекцию, хранящуюся ныне в Музее антропологии и этнографии Ака-
демии наук. Через два года после счастливого открытия Полякова по его
следам на Костенковской стоянке производил раскопки А. И. Кельсиев.
Раскопки его также имели характер разведочных работ, и добытые им
коллекции не внесли существенно нового в ранее известные факты. Затем с
большими перерывами Костенковская стоянка посещалась разными лицами
(Штукенберг, Криштафович), которые ограничились небольшими развед-
ками. Наиболее крупные по масштабу, но
весьма не систематические раскопки сто-
янки были поставлены в 1915 г. С. Круков-
скпм. Его раскопки 2 обнаружили, что
культурный слой распространяется на
значительном протяжении от места рас-
копок И. С. Полякова и А. И. Кель-
сиева, под фруктовым садом и ригой тог-
дашнего владельца усадьбы И. А. Аносова.
Материал, собранный Круковским, очень
обилен; в его коллекции 3 одних закон-
ченных орудий имеется несколько сот,
хотя точные условияих нахождения оста-
ются совершенно неизвестными, что зна-
чительно уменьшает их научную ценность.
Это местонахождение было названо на-
ми, со времени наших раскопок, начатых
в 1923 г., Костенки I (стоянка Полякова).
Еще Поляков в своем обстоятельном отчете о раскопках в Костенках
довольно подробно описывает условия залегания культурных остатков
на месте древнего поселения. Разрез почвы здесь имеет такой вид: до глу-
бины несколько больше метра (1,10—1,15 з«) идет мощный пласт жирного
чернозема; под ним залегает желтоватый суглинок, плотный и однород-
ный, с включением мелкой меловой щебенки (делювий). В этом суглинке,
то начинаясь почти непосредственно от границы чернозема, то несколько
глубже, на глубине 1,40—1,70 м, встречаются культурные остатки в виде
слоя, содержащего массу костного угля и зольного вещества, затем переж-
женных, расколотых и раздробленных, но иногда и лучше сохранившихся
костей, принадлежащих мамонту и лошади.
1 II. С. Поляков, Антропологические поездки в центральную и восточную Россию,
Приломс. к XXXVII т. «Зап.'Акад. Наук», 1880.
2 Круковский считал возможным исследовать стоянку небольшими шурфами,
размером, обычно, всего в 1 на I1/?, 1 на 2 м. Таких шурфов им было заложено не-
сколько десятков. К счастью, эти мало научные раскопки не слишком повредили этот
важнейший памятник палеолитической культуры.
3 Случайно обнаруженная в Воронеже, эта коллекция также передана ныне в
Музей антропологии и этнографии Академии паук СССР.
Рис. 179. Кремневый инвентарь сто-
янки Костенки I.
1. — Небольшой наконечник с бо-
ковой выемкой. 2.—Лавролистный
наконечник раннесолютрейского
типа.
>/2 н. в.
К
Кельсиев
Условия
залегания
культурных
остатков
448
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
Этот слой, образовавшийся на месте жилья, резко выделяется на свет-
лом фоне грунта не только своей более темной окраской и присутствием
костей, но и характерным красным оттенком, который ему придает распы-
ленная в нем красная охра, очевидно составлявшая запас красящего мате-
риала, в большом количестве сосредоточенного на месте стоянки. Здесь же
встречаются в большом числе кремневые орудия, пластинки и отщепы
кремня. Кремни того же характера встречаются и выше, в черноземе
(верхний культурный горизонт И. С. Полякова). Но здесь их попадается
немного, и они находятся на разных уровнях, не образуя скоплений.
Причиной этого явления, по нашим наблюдениям, оказалась работа кро-
тов и других мелких роющих животных, которые, прорезывая в своих
ходах культурные наслоения стоянки, выносили из них палеолитические
остатки. Совершенно то же явление имеет место и в других палеолити-
ческих местонахождениях, где характер грунта и небольшая глубина
аалегания благоприятствовали работе этих животных.
Если сопоставить данные прежних раскопок и наши, полученные
в результате работ нескольких последних лет, можно видеть, что Покров-
ский лог на большом пространстве был занят местами обитания ориньяко-
солютрейских охотников. В разных местах этого лога, в его пониженной
части, образующей довольно широкую террасовидную площадку, нашими
раскопками были обнаружены остатки кострищ и изделия из кремня,
представленные типами, характерными для той же более ранней эпохи
верхнего палеолита.
В той части этого обширного лагеря — в целом не уступающего по
своим размерам Пржедмосту, хотя состоящего из мест обитания, относя-
щихся к разному времени, — где велись первые раскопки И. С. Поля-
ковым и А. И. Кельсиевым, нам удалось сделать особенно интересные
наблюдения.
Жилая пло- В том виде, как место палеолитической стоянки раскрыто нами в на-
щадиа стоящее время (1931—1936), оно представляет площадку явственно оваль-
ной формы, длиной около 35 м. Сейчас об этом можно говорить вполне
определенно, так как северная часть ее, остававшаяся после раскопок
1934 г. исследованной не до конца, в результате последних работ (1936)
вскрыта полностью, что дает возможность составить достаточно ясное
представление о границе распространения культурных остатков. Средняя
ширина площадки достигает 15—16 м.
В целом, таким образом, исследованная жилая площадка имеет вытя-
нутую форму, что объясняется, очевидно, значительными размерами
жилья, так как только при этом условии оно могло быть перекрыто кров-
лей из жердей, по типу простейших сооружений этого рода.
В этих границах площадь жилья оказывается сплошь заполненной
культурными отложениями, содержащими всевозможные остатки обита-
ния, причем очень характерно, что вне определенной границы последние
прекращаются совершенно или сводятся к редким и случайным обломкам
костей или камней. Культурный слой во всяком случае не выходит за
пределы площадки.
Очагн Первое, что останавливает на себе внимание, если мы представим себе
таким образом, очерченную площадь жилья, — это ряд очажных ям,
тянущихся в одну линию посередине, по длинной оси площадки, прибли-
зительно на равном расстоянии, около 2 м, один от другого. Таких очагов
мы имеем здесь девять, причем два последних очага, как и можно было
предвидеть, встречены по той же строго выдержанной линии в дальнем
конце жилья (при раскопках 1936 г.). Все они устроены по одному плану —
КОСТЕНКИ
44»
в виде круглых очажных углублений, около метра в диаметре, заполнен-
ных толстым слоем костного перегара, состоящего из костной золы и
обуглившихся костей. Очаги, очевидно, давно не вычищались перед
оставлением жилья его обитателями, так как они покрыты целыми шап-
ками костного угля. Несомненно также, что кости животных служили здесь
основным отопительным материалом, по крайней мере в определенные
сезоны года, особенно же, вероятно, в зимнее время, когда при степном
характере местности, окружавшей стоянку, получение древесного топ-
лива, нужно думать, было сопряжено с большими трудностями.
Следует заметить, что большие запасы костей в виде главным образом
костей мамонта были обнаружены недалеко от очагов. Особенно много их
было встречено в особых ямах-кладовых.
Ряд очагов, таким образом, разделяет жилую площадку стоянки на
две более или менее равные части. Только в передней (южной), лежащей
несколько ниже по склону части жилья, где должен был, очевидно, нахо-
диться вход, очаги отсутствуют. Интересно, что по своему характеру сде-
ланные здесь находки несколько отличаются от находок, сделанных
в глубине жилого пространства. Можно указать, например, что фигурки
женщин из кости и камня были встречены преимущественно в этой сто-
роне жилья, а также в дальнем койце его, по большей части в особых хра-
нилищах.
На плане жилой площадки нетрудно было заметить, что общая форма
овала ее несколько нарушена в переднем конце как бы выступом, ухо-
дящим вправо. Что этот выступ, видимо, имел характер пристройки к основ-
ному помещению — показывает присутствие здесь особого очага, един-
ственного, выступающего из общей линии подобных сооружений, если не
говорить о кострищах, отеплявших землянки, о которых будет сказано ниже.
Полное отсутствие дерева, в частности деревянных частей постройки,
на сохранение которых, принимая во внимание большую древность памят-
ника, правда, трудно было бы и рассчитывать, ограничивает нашу воз-
можность суждения о деталях устройства жилых сооружений. Однако
это в известной мере восполняется раскрытой раскопками картиной всей
обстановки палеолитического обитания.
Одной из любопытных особенностей внутренней обстановки жилья
является присутствие, рядом с очагами или несколько в стороне от них,
больших трубчатых костей мамонта, врытых в землю своими расколо-
тыми заостренными концами и обращенных кверху широкими сочле-
новыми поверхностями. То, что они играли определенную роль в обиходе
палеолитического населения и были использованы для производственных
целей, показывают наблюдающиеся на них следы работы в виде насечек,
зарубок и т. п. Целая группа таких костей была найдена нами в 1934 г.
возле двух очагов.
Следует отметить, кстати, что один из этих очагов служил не для обыч-
ной цели: ца нем поверх слоя костного угля лежал толстый слой буровато-
красной железистой краски. Эта находка может объяснить, каким путем
добывалась та огромная масса охристой краски, которая во многих местах
окрашивает культурные отложения в красный цвет различных оттенков.
Ее, очевидно, могли получать пережиганием истолченных кусков желез-
ной руды, которая в виде конкреций сферосидерита и кусков бурого желез-
няка часто попадалась при раскопках в разных местах исследованной
площади.
Другой интересной особенностью в устройстве жилья являются раз- Ямы
ного рода углубления и ямы различных размеров и форм и, очевидно,
29 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
450
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯК О-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
разного назначения, покрывающие площадку во всех направлениях.
Одни из них, в виде котлообразных, часто расширяющихся книзу ям,
видимо, были связаны с приготовлением пищи. На это указывают следы
действия огня и слои золы на дне их. Такими ямами до сих пор широко
пользуются примитивные охотничьи народности для жарения мяса,
приготовления растительной пищи и пр.
Правильные круглые углубления разных размеров должны были
иметь иное значение — хранилищ домашней утвари, предметов обихода,
материала для изделий и т. д. Различная их форма, различный характер
этих помещений указывает на неодинаковое их использование. Этому
отвечает и различный состав сделанных в них находок. Такие хранилища
расположены главным образом по сторонам очагов на небольшом расстоя-
нии от этих последних.
Кроме того, по всей площади жилья разбросаны сравнительно неболь-
шие углубления, некоторые из коих видимо можно рассматривать как ямы
от столбов, поддерживавших кровлю. О ямах для столбов говорит и Байер
в отношении палеолитических площадок Ланг-Маннерсдорф. Интересно,
что сообщаемая им деталь — заклинивание столбов в яме для прочности
осколками костей — наблюдалась нами и в Костенках.
Мы видели выше, что замечательной особенностью поселений ранней
поры верхнего палеолита является то обстоятельство, что они всегда пред-
ставляют собой как бы отдельные, часто очень большие по размерам
гнезда или линзы культурного слоя, после расчистки, то есть удаления
покрывающих их наслоений, оказывающиеся площадками круглой или,
чаще, овальной формы. Иногда они имеют всего 5—6 л«, как в Солютре и
Гагарине, но нередко достигают значительных размеров — до 15—20 м
и более по большому диаметру овала.
Такая площадка, занятая сплошным слоем отбросов жилья и различ-
ных остатков обитания, резко очерчивается в лёссовом грунте.
В сущности, однако, это почти единственное, что мы с достоверностью
знаем о подобных памятниках в западной Европе, если не считать собран-
ных в этих условиях вещественных остатков, как-то: орудий из камня
и кости, резных фигурок и т. д.
Мы знаем, что поселения этого типа появляются очень рано, так как
они известны уже в самом начале ориньякской эпохи. Знаем, что они суще-
ствуют до значительно более поздней поры и имеют Целый ряд любопыт-
ных особенностей в смысле своего устройства, напртшер бывают часто
обставлены плитами или крупными костями мамонта; внутри их распо-
лагаются очаги и места для работы, пол их бывает иногда вымощен и т. д.
Не может быть сомнения, что без исследования подобных памятников
во всех их деталях, как мест древнего обитания, было бы совершенно невоз-
можно подойти сколько-нибудь глубоко к пониманию соответствующих
эпох палеолитической" истории.
Насколько мало, однако, эти остатки палеолитических жилищ до на-
стоящего времени изучены в западной Европе, показывают, например,
раскопки Байера (в Ланг-Маннерсдорф—1921). Последний в своем
отчете, описывая две подобные площадки, считает возможным заявить,
что сообщаемые им сведения являются первой публикацией для памят-
ников-этого типа.
Утверждение Байера имеет все же несомненное основание, поскольку
кроме него единственным автором, кое-что сообщающим о своих раскоп-
ках (1921—1923) жилой площадки, относящейся к той же позднеориньяк-
ской или раннесолютрейской эпохе в Линзенберге, в окрестностях Майнца,
»
f
КОСТЕНКИ
451
был Эрнест Нээв, если не говорить о давно забытых исследователях вроде
Дюкго. Уже это обстоятельство может дать представление о значении,
какое имеет возможность систематического исследования памятников подоб-
ного типа. Что в них мы действительно имеем дело с палеолитическим
жилищем в прямом смысле слова, то есть определенным архитектурным
целым, хотя, конечно, весьма еще примитивным, — показывают наши рас-
копки в Костенках; в этом смысле решающий материал дали особенно
раскопки 1934 и 1936 годов.
Уже ранее нами набросанная картина, раскрывающаяся во внутрен-
ней обстановке палеолитической площадки в Костенках 1, заставляет
видеть в этого рода памятниках не временные лагери бродячих охотничьих
орд, как это обычно предполагают, а настоящие жилища — «большие
дома», прототипы тех сооружений, которые сохранились до нашего вре-
мени у многих народностей, переживающих стадию родового строя.
Еще показательнее в этом смысле деталь, о которой еще не было упо-
мянуто,— присутствие вокруг главного жилища целого кольца больших
н малых землянок, связанных с последним в один целостный жилой ком-
плекс. К сожалению, не все они сохранились, так как в южной части жилья
по передней окраине площадки (обращенной к тальвегу оврага) находятся
старые ямы Полякова и Кельсиева, очевидно разрушившие часть подоб-
ных сооружений.
Открытые нами в 1933—1934 гг. две большие двукамерного типа землян-
ки, расположенные по обе стороны основного жилья, являются пока един-
ственными известными нам подобными памятниками для ориньякско-
солютрейской эпохи, если не говорить о так называемой «братской могиле»
в Пржедмосте и некоторых других находках, действительное значение
которых не было понято их исследователями. Только тот же Байер описы-
вает землянку, но однокамерного типа, на одной из жилых площадок
в Ланг-Маннерсдорф.
Обе костенковские землянки были расположены почти симметрично
по правую и левую сторону главной площадки и имели с ней внутреннее
сообщение. На полу их сохранились следы кострищ, указывающие на то,
что эти помещения отеплялись.
Между двумя большими находился ряд меньших землянок, в сущ-
ности просто больших ям, всегда того же повторяющегося круглого плана!
и также имеющих ступенчатые входы. Они без сомнения, как и большие?
землянки, были перекрыты особой кровлей, вероятно засыпанной землей.
Входы в них обращены внутрь — к жилью. Назначение их не оставляет
сомнений — это были помещения для хранения запасов. В момент откры-
тия они были наполнены костями животных — главным образом ма-
монта.
Третья, сравнительно плохо сохранившаяся, большая жилая землянка
была обнаружена в 1936 г. в самом дальнем конце площадки. Имеются
основания думать, что к моменту оставления поселения его обитателями
эта землянка находилась уже в запущенном состоянии и могла быть исполь-
зована только ‘как складочное помещение для тех же костей (частей
туши?) мамонта.
Если исходить из обычных представлений западноевропейских уче-
ных, предполагающих весьма низкий культурный уровень для палеоли-
тического населения приледниковых пространств северного полушария,
оставалось бы совершенно непонятным, с помощью каких технических
средств могли быть вырыты такие обширные помещения с прекрасно вы-
сеченными, совершенно ровными стенами, гладким полом и хорошо устро-
Земляяки
452
Находка
тесел
Женские
статуэтки
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕПСЕОЕ ВРЕМЯ
енными входами, не говоря уже о наземных постройках, которые также
требовали наличия определенного инвентаря орудий.
Наши находки нескольких тесел из слоновой кости (бивня
мамонта), не уступающих по своему качеству костяным топорам и теслам
современных полярных народностей, применяющимся при сооружении
жилищ, показывают ошибочность указанных выше представлении
(табл. XI).
Нельзя не отметить, что различные подробности в устройстве жилья,
на которых мы могли остановиться только очень бегло, наблюдавшиеся
нами в Костенках, проливают свет иа такую сторону существования палео-
литических орд, которая нигде и никем до сих пор не была описана .в суще-
ствующей литературе по памятникам палеолита. В этом смысле значение
раскопок в Костенках является исключительно большим.1
Поскольку в западноевропейской археологической литературе почти
полностью отсутствуют сведения об условиях находок не раз нами упо-
минавшихся женских фигурок, связанных в частности с описанным нами
типом ориньяко-солютрепских жилищ, несомненный интерес предста-
вляет обстановка их находок в Костенках.
Уже первая статуэтка, открытая во время разведочных раскопок
1923 г., была найдена нами в особом вырытом в земле помещении, вместе
с целым рядом других предметов из кости.2
Вторая находка сделана была в еще более интересной обстановке.
Рядом с очагом, помещавшимся отдельно от других в передней части
жилья, в том месте, где можно было предполагать вход в него, на расстоя-
нии от очага всего в 2 л, находилось вырытое в земле круглое нишеобраз-
ное углубление шириной 0,80 л, в длину около 1,00 м и высотой около
0,50 л. Было ли оно открыто сверху или перекрыто легким навесом,
пологом из шкур или чем-нибудь подобным, сказать сейчас невозможно.
При его расчистке бросалось в глаза, что оно не имело характера обычных
ям, поскольку оно не было заполнено обычным отбросом обитания. В нем
было найдено очень немного предметов, вместе с тем исключительно инте-
ресных.
Прежде всего на дне его была обнаружена лежавшая несколько набок
большая женская статуэтка из слоновой кости (бивня мамонта), с отби-
той головой. Следует вспомнить, что статуэтка, найденная в 1923 г.
здесь же, в центральной части жилища, также не име^а головы. Рядом
с первой лежала вторая, разбитая на части массивная фигурка женщины,
сделанная из камня, представляющая одну из наиболее крупных извест-
ных до настоящего времени статуэток этого типа. То, что она была раз-
бита намеренно, не вызывает сомнений. Удар был нанесен с большой силой
и расколол ее на три части, которые были небрежно брошены в яму.
Несколько в стороне был затем найден четвертый осколок — часть груди.
Рядом со статуэтками найден был еще один загадочный предмет в виде
рукояти с шарообразным навершьем, вырезанный из слоновой кости.
Возможно, что он представляет грубую, условно выполненную челове-
ческую фигуру, как ее воспроизводят, например, некоторые копьеме-
талки в пещерных стоянках Франции, относящиеся уже к мадленскому
времени.
1 Полная публикация материалов по Костенкам I подготавливается к печати.
Краткие отчеты за прежние годы раскопок опубликованы в «Проблемах ГАИМК».
2 «Отчетная выставка» Этногр. отдела Русского музея за 1923 г.; также П. П.
Ефименко, Статуэтка, солютрейского времени с берегов Дона, «Материалы по этно-
графии», Русский музей, in. 111, в. I, 1926, стр. 139.
КОСТЕНКИ
453
Помимо этого в разных частях жилья было собрано много обломков —
головок, частей торса и пр.— небольших женских фигурок, вырезан-
ных из мягкого камня (мергеля). Здесь же была подобрана небольшая
плитка с выгравированным на ней изображением женщины. Все это было
разбито, можно думать, намеренно. Интересно, что все указанные
находки были сделаны в особых углублениях, высеченных в дне жилища.
Напомним, что в подобной же обстановке Э. Нээв обнаружил обломки двух
статуэток в исследованном им жилище позднеориньякского времени
в окрестностях Майнца.1
Этим далеко не исчерпываются находки, освещающие область идео-
логических представлений и культа первобытных обитателей Костенок.
К ним относится, например, целый ряд фигурок-медальонов, воспроизво-
дящих знак женского пола в трактовке, очень напоминающей находки,
сделанные Капитаном и Пейрони в ориньякских горизонтах большого
убежища Ла Ферраси. Сюда же принадлежит ряд подвесок, вырезанных
из мягкого камня, и амулетов из клыков п коренных зубов хищников,
главным образом песца. Затем целая серия головок и фигурок животных,
найденных нами отчасти во второй жилой землянке (землянка В), отчасти
п ямах-хранилищах в разных пунктах жилой площади, главным образом
и ее дальнем конце. Их составляют четыре фигурки мамонта, сходные по
стилю с мамонтом из Пржедмоста, головки медведя и пещерного льва,
головка верблюда (?), «антропоморфная» головка типа французских пещер-
ных изображений из Комбарелль, фигурка лошади и ряд других, на кото-
рых мы не имеем возможности сейчас останавливаться подробнее. Уже то
обстоятельство, что они относятся к ранней, достаточно еще слабо осве-
щенной поре палеолитического искусства, может дать представление
о значении всех этих находок.
Для того чтобы была более понятна обстановка, в которой произошло
оставление жилища его населением, нужно отметить еще следующее обстоя-
тельство. Хотя на полу жилища было подобрано довольно много изделий
из кремня, они в большинстве случаев представляют вещи мало значитель-
ные — небольшие скребки, обломки наконечников и т. п. Если сопоста-
вить исследованное нами жилище с жилищем той же эпохи в Гагарине, при
гораздо большей площади жилища в Костенках, количество подобных
находок здесь относительно не так велико. Однако в некоторых .местах
были обнаружены, например, исключительно больших размеров, ж>рошие
по качеству кремневые пластины, лежавшие по несколько вместе, пре-
красные кремневые наконечники и пр.
Такие находки имеют свою особенность: они встречаются иногда в виде
целой кучки, или пакета, обычно скрытые под какой-нибудь большой
костью мамонта или в углублении пола.
Вывод из этих наблюдений может сводиться к тому, что исследованное
жилище не было просто оставлено, но скорее, видимо, было опустошено,
даже, может быть, разгромлено, причем более практически ценные вещи
унесены, за исключением того, что было спрятано п могло таким образом
ускользнуть от внимания. В свете такой догадки становится понятным
состояние, в котором были найдены упомянутые выше статуэтки. При-
ходится предположить, что они были разбиты сознательно, например,
1 В 1936 г. в дальней части площадки, также в ямах-хранилищах, были обна-
ружены три женские статуэтки. Одна крупная —. очень тонкой работы из бивнн
мамонта; она найдена в трех отдельных фрагментах, но удалось восстановить ее пол-
ностью. ДВЪ другие вырезаны из мергеля — в том числе одна миниатюрная фигурка,
видимо самая маленькая из известных пока художественных поделок этого типа.
Фигурки
животных
Обстановка
находок
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
хотя бы для того, чтобы уничтожить «покровителей» жившей здесь
орды.
В связи с этим можно вспомнить сообщение Пейрони относительно нахо-
док замечательных плиток с изображениями в средне- и верхнеориньяк-
ских слоях пещеры Ла Ферраси, по его словам, несомненно намеренно
разбитых. Мотивы этого и в том и в другом случае были, вероятно, более
или менее сходны.
Фауна ' Сейчас нам следует, хотя бы очень кратко^ остановиться на материале,
добытом раскопками в Костенках, чтобы дать некоторое представление
об этой стоянке, могущей рассматриваться как типичный памятник
ориньяко-солютрейского времени.
Следует упомянуть, что фауна 1 в Костенках I представлена довольно
бедно в смысле количества видов животных. Она содержит много остатков
мамонта, лошади крупной породы, затем пещерного льва (Felis spelaea),
медведя (Ursusarctos), песца, волка, зайца (Lepus sp.) и некоторых других
грызунов. Северный олень оказывается в ней представленным только одной
поделкой («начальнический жезл»), а мускусный овцебык пока известен
лишь по находке хорошо сохранившегося черепа в землянке А.
Кремень Главным, почти единственным материалом для изготовления орудий
служил здесь темный, почти черный меловой кремень весьма хорошего
качества, добывавшийся где-то в окрестностях стоянки. Он обычно бывает
покрыт прекрасной голубовато-белой патиной, что дает особенно наряд-
ный вид кремневому инвентарю Костенок. Нуклеусов, отбойников, да и
отбросов, получающихся при формовке орудий, в стоянке встречается
немного. Это указывает на то, что первоначальная обработка материала
происходила на стороне, — вероятно, у места его добывания. Пластинки,
из которых изготовлялись орудия, отличаются правильными очерта-
ниями и достигают больших размеров. Крупные размеры орудий, хоро-
шая, уверенная ретушь, стойкие, хорошо выраженные формы и прекрас-
ный материал придают кремневым изделиям Костенок отпечаток боль-
шого совершенства.
Изделия нз В то же время, хотя здесь при всех раскопках встречено много закон-
ьремпп ченных, готовых орудий, типами их стоянка в общем, нужно признать,
не богата, и поэтому набор кремневых орудий в Костенках, как и в дру-
гих стоянках этой эпохи, производит впечатление некоторого однообра-
зия. На первом месте, количественно, стоят концевые скребки и резцы,
затем пластиночки с затупленной спинкой, наконечники, изготовлен-
ные из отборных кремневых пластин, из которых некоторые представляют
собой скорее клинки охотничьих ножей. Вот, в сущности, все главные
виды орудий стоянки, к которым можно прибавить, кроме подретуширо-
ванных по краю пластинок, служивших обычным повседневным режущим
инструментом, также некоторое количество двусторонне обтесанных, пло-
ских кремневых поделок' которые можно рассматривать как рабочее
лезвие рубящего орудия — простейшего топора-тесла.
Иэ перечисленных видов кремневых изделий заслуживает внимания
тип скребка, заостренного к основанию,— форма, свойственная инвен-
тарю позднеориньякскпх и раннесолютрейских стоянок во всей области
их распространения в Европе. Резцы принадлежат к разным типам и
сделаны почти всегда на крупных, хорошо подобранных пластинках.
Для их изготовления часто применялись уже отслужившие, обломанные
1 В. И. f ромов, Некоторые новые данные о фауне и геология палеолита восточной
Европы и Сибири, Сборник ^Палеолит СССР», ГАИМК, 1935, стр. 266.
КОСТЕНКИ
455
кремневые наконечники, почему резцы иной раз бывают как будто отде-
ланы отжимной, «солютрейской» ретушью.
Одной из наиболее интересных форм кремневого инвентаря Костенок I
является кремневый наконечник типа «с боковой выемкой». Это настоя-
щий кремневый наконечник легкого метательного копья или дротика,
снабженный асимметрично поставленным черенком для насаживания на
древко. Отделка заостренного конца его нередко бывает чрезвычайно
тонка и притом нанесена с брюшка пластинки, что особенно характерно
для наконечников солютрейской эпохи, хотя она остается все же частич-
ной и не покрывает орудия сплошь.
После ряда работ главным образом французских исследователей
во главе с А. Брейлем этот вид изделий можно считать весьма характерным
для определенной эпохи. Наконечники этого типа встречаются постоянно
в древних до-мадленских лёссовых стоянках Австрии, Чехословакии,
Баварии и изредка, в более случайных формах, в так называемых верхпе-
ориньякских горизонтах пещерных стоянок Франции, где повсюду они
выступают в качестве предшественников собственно солютрейских, зна-
чительно более совершенных форм кремневого наконечника.
Изучение кремневого инвентаря Костенок I позволяет установить
его близкое и тесное родство с инвентарем лёссовых стоянок Австрии
и Моравии. Вся совокупность видов изделий этого инвентаря говорит
о его принадлежности к одной группе со стоянками типа Виллендорф,
Пржедмост и многими другими, с ними сходными. Можно утверждать
даже более определенно, что он по времени занимает промежуточное поло-
жение мэжду верхним горизонтом Виллендорфской стоянки, где кремне-
вые изделия имеют по своим типам в общем несколько более архаический
облик, чем в Костенках I, и Пржедмостом, где тот же инвентарь приобре-
тает более выраженные черты типичного солютре, хотя и в Костенках
нами встречено было несколько листовидных наконечников примитивно-
солютрейского облика (рис. 179).
Обилие кремневых орудий — резцов, связанных главным образом
с обработкой кости, — давно уже позволяло предполагать, что здесь
должны были быть в достаточно широком употреблении и изделия из кости.
Наши раскопки дали возможность с ними познакомиться. К ним относится
довольно много находок — лопаточки (так называемые лощила),/выто-
ченные главным образом из продольно расколотых ребер животных, мо-
тыки из слоновой кости, острия из того же материала и трубчатых костей
животных, так называемый начальнический жезл из рога оленя и много
других, не говоря о предметах художественно-культового значения.
К предметам культового характера относятся, видимо, также найденные
в двух экземплярах массивные, вырезанные из бивня мамонта, загадоч-
ные поделки, удлиненно-яйцевидной формы, заканчивающиеся острыми
шипами, возможно, для втыкания в землю. По крайней мере одна
из них была найдена в этом положении, воткнутая концом в пол
жилья.
Таким образом, вся совокупность находок позволяет, при наличии
некоторых своеобразных моментов, неизвестных пока в других стоянках
той же эпохи, с полной определенностью относить Костенки I к большой
группе памятников, принадлежащих концу ориньякского и началу солют-
рейского времени. Раскопки в Костенках, помимо всего прочего, нельзя
не рассматривать как значительный этап в полевом изучении палеолити-
ческих поселений, поскольку они показывают, какую роль играет точная
методика в полном раскрытии памятника. Они делают очевидным, что
Кость
458
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРПНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
старые приемы исследования палеолитических стоянок так называемыми
кессонами,' или квадратами, решительно отжили свое время.
Только одновременная расчистка больших площадей с целым ком-
плексом о'статков, при этом ориентированная на задачу восстановления
всех существенных черт памятника, может дать картину древнего посе-
ления со степенью ясности, даваемой раскопками в Костенках, могущей
удовлетворить требованиям советской науки.
СТОЯНКА ПОЗДНЕОРИНЬЯКСКОГО ВРЕМЕНИ В БОРШЕВЕ
Хорошим дополнением к описанной стоянке является другая палео-
литическая стоянка, открытая в том же районе, близ с. Боршево. Здесь
Дон, сделав петлю против с. Костенок, снова подходит к возвышенности
правого берега и на протяжении около 2 километров течет у ее подножия.
От береговых высот течение Дона отделено лишь узкой терраской, по кото-
рой протянулись выселки с. Боршево. В отличие от огромных ветвистых
костенковских оврагов, лога, прорезывающие мелбвые высоты на этом
пространстве, от древнего городища, живописно расположенного на мысу
над Доном, и до большого Борщевского оврага, невелики, широки и имеют
форму как бы цирков с узким устьем, открывающимся непосредственно
к реке. К числу их принадлежит Кузнецов лог, первый по счету от горо-
дища .
Находки костей мамонта в Кузнецовой логу, сопровождавшиеся
кремневыми отщепами, были отмечены еще в 1905 г. А. А. Спицыным.
С. Н. Замятнину удалось обнаружить здесь (1922) в месте, указанном
Спицыным, в двух смежных усадьбах при выходе оврага к реке значитель-
ные скопления ’ костей мамонта, сопровождающиеся палеолитическими
остатками, и довольно большое количество обработанных кремней. Наши
раскопки (1923 и 1925 гг.) 1 явились дальнейшим продолжением этих
разведок. Если в ходе раскопок вскрыта пока очень незначительная
часть площади древнего лагеря и общая планировка стоянки остается да-
леко еще не выясненной, все же нам удалось добыть материалы, позволяю-
щие довольно точно определить ее возраст.
Как часто наблюдается в отношении палеолитических местонахожде-
ний европейской территории СССР, стоянка в Кузнецовой логу занимает
левый, защищенный с севера склон лога, близ самого выхода его к реке^
Кремни и кости мамонта обнаруживаются здесь на значительном про-
странстве под дворовыми усадьбами, фруктовым садом и прилегающими
проездами выселка, по склону, местами довольно^крутому, оврага. Общее
расположение места обитания, характер отложений и условия их залега-
ния в Боршевской I стоянке весьма напоминают то, что мы видели в Костен-
ках. И здесь культурные остатки находятся на небольшой глубине, почти
непосредственно под слоем чернозема, в желтоватом суглинке делювиаль-
ного происхождения. Где имеются палеолитические «пепелища», там
находки, в виде кремней и обломков костей, начинаются уже в черноземе.
Собственно культурный горизонт лежит, нормально, на глубине
в 120—135 см. Но местами, особенно выше по склону, где пласт чернозема
отчасти смыт, культурные остатки обнаруживаются и на значительно
меньшей глубине, выходя кое-где в водомоинах на дневную поверхность.
1 П. П. Ефименко, Некоторые итоги изучения палеолита СССР, «Человек», Акад,
наук СССР, 1926, Л? 1, стр. 45; его же. Палеолитические стоянки восточно-европей-
ской равнины, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. V, 1934, стр. 88.
СТОЛИКА ПОЗДНЕОРИНЬЯКСКОГО БРЕМЕНИ В БОРШЕВЕ
457
На площади стоянки культурный слой представляет неодинаковую
картину. В нижней части склона, у ручья, протекающего по дну Кузне-
цова лога, он выражен довольно слабо — отдельными кремнями и ред-
кими обломками костей. Несколько выше он получает уже вполне опре-
деленный характер. Здесь находятся места обитания, где этот слой пере-
полнен раздробленными и обожженными костями животных и содержит
много расщепленного кремня, среди которого нередки находки орудий.
Слой, заключающий в себе палеолитические остатки, здесь, как и в стоянке
Костенки I, бывает более или менее интенсивно окрашен в красный цвет
от расплывшейся в земле охристой краски. Однако большая часть исследо-
ванной площади стоянки оказывается здесь занятой не местом жилья,
а громадными скоплениями костей мамонта, состоящими из длинных
костей (расколотых для извлечения мозга), лопаток, бивней, челюстей,
позвонков и пр., причем в местах таких скоплений иные культурные
остатки, в частности-
Рис. ISO. Долина р. Дона в сторону с. Боршево.
Крестиком (па переднем плане) обозначено место палео-
литической стоянки Борнгево I в Кузнецовой логу.
Вдали — береговая стоянка Боршево И.
(Раскопки автора)
угли, краска, крем-
ни, почти полностью
отсутствуют.
Животный мир
Кузнецовской стоян-
ки является весьма
бедным видами жи-
вотных. Кроме ма-
монта, в значитель-
ном числе попада-
ются лишь кости ло-
шади крупной по-
роды и единично
носорога, северного
оленя и хищников —
куницы и рыси, пред-
ставленных находка-
ми нескольких зу-
бов.
Кремневый инвен-
тарь Боршева I яв-
ляется очень близ-
ким к инвентарю
Костенок I и содержит те же основные виды орудий, хотя формы их более
архаичны, чем в этой последней стоянке. Материал его —«тот же темный ме-
ловой кремень, покрытый налетом голубоватой патины! Из наиболее рас-
пространенных видов орудий в Борщевской стоянке нужно назвать скребки
обычного типа,' на конце удлиненной пластинки, хотя они здесь чаще,
чем в Костенках, имеют ретушь по краю. Затем идут резцы, у которых
также нередко наблюдается краевая ретушь. В Боршеве почти нет средин-
ных резцов, зато часто встречаются многофасеточные резцы — массивные
орудия с рабочим концом, отделанным рядом продольных сколов, напо-
минающие нуклевидные формы ориньякских стоянок западной Европы.
Вместе с тем кремневые наконечники типа «с боковой выемкой», которые
мы можем считать одним из наиболее характерных видов кремневых изде-
лий переходного времени от ориньяка к солютре, здесь, в противополож-
ность Костенкам, редки, еще невелики по размерам и обнаруживают при-
митивные черты. Они вполне сходны с наконечниками ранних лёссовых
У
Фауна
Кремневым
инвентарь
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 0РПНГО1К0-С0Л10ТРЕИСК0Е ВРЕМЯ
стоянок Австрии (Гундсштейг, нижние горизонты Виллендорфа) и солю-
трейской ретуши не имеют.
Особый тип орудия представляют кремневые острия из правильных
пластинок, один край которых с помощью энергичной притупливающей
ретуши превращен в характерно изогнутую спинку инструмента. Это
настоящие острия типа шательперрон, то есть тот вид орудия, который
можно рассматривать как особенно характерный для ориньякских стоянок
Франции. Г. А. Бонч-Осмоловским они, впрочем, были найдены и в ниж-
нем горизонте Сюрени I.
Таким образом, кремневый инвентарь позволяет причислить Боршево]
к той группе памятников более древней поры верхнего палеолита, к кото-
рой относится и палеолитическое поселение Костенки 1. Но, очевидно,
в Боршеве I мы имеем несколько более ранний тип стоянок этой поры.
Судя по присутствию острия типа шательперрон, мы можем считать
время Боршева!, вероятно, более ранним, чем верхних горизонтов Вил-
лендорфской стоянки, где была найдена известная статуэтка. Если мы
с достаточным основанием могли рассматривать Костенки 1 как памятник,
соответствующий по времени раннему солютре западных стоянок, то
Боршево I приходится ставить в параллель с позднеориньякской груп-
пой этих местонахождений. А обе эти стоянки — и Костенки, и Боршево —
входят в хорошо нам известную группу поселений определенной поры
ориньяко-солютрейской эпохи.
Нельзя не упомянуть, что во время наших раскопок в одном из мест
скопления культурных остатков в Боршеве 1 был найден обломок довольно
крупного заостренного стержня, изготовленного из слоновой кости.
Значительное количество кремневых резцов, встреченных в отложениях
стоянки, позволяет рассчитывать и на дальнейшие находки изделий
из кости. С. Н. Замятниным здесь же были подобраны три тончайшие кру-
жочка из перламутра, которые служили, очевидно, пронизями или,
вернее, нашивками, украшавшими одежду или прическу женщин,
подобно пронизям из раковин в погребениях Ментоны. Кроме них была
найдена также привеска-амулет из просверленного резца лошади.
В Кузнецовом логу мы имеем, таким образом, один из интересных па-
мятников ранней поры верхнего палеолита. К сожалению, произведенные
раскопки далеко не охватили сколько-нибудь значительной части пло-
щади поселения, и его картина в целом остается в значительной мере не
выясненной. Как и для других палеолитических стоянок этого района,
серьезным препятствием для раскопок более крупного масштаба является
то обстоятельство, что Боршевское местонахождение находится на усадьбе
и занято постройками и фруктовым сад^к
ГАГАРИНО
Мы уже неоднократно имели случай отметить находки, сделан-
ные С. Н'. Замятниным в с. Гагарино в верховьях Допа (Верхне-Сту-
денецкий район Воронежской области) во время его рвскопок в 1927
и 1929 гг. Здесь пока известно только одно палеолитическое жилище,
сравнительно небольших размеров, доставившее, однако, богатый и разно-
образный вещественный материал, позволяющий считать этот памятник
очень близким по времени к Костенкам I.
Место находок палеолитических остатков в Гагарине связано с областью
распространения девонских известняков, слагающих здесь коренные
берега и водораздельное плато долины Дона с их сильно разветвленной
ГАГАРИН!)
459
системой древних, в настоящее время заполненных глинистым наносом
и задернованных оврагов. При устье одного из них, носящего название
Исаевой лощины, у северной окраины Гагарина, и находится древнее по-
селение, приуроченное к пологому склону оврага по северной его стороне,
в расстоянии четверти километра от выхода его к Дону — на высоте
9,75 м от современного уровня реки.
Нужно заметить, что течение Дона па этом участке дает уже иную
картину, чем южнее, ниже по Дону — у Костенок и Борщева. Здесь
речная долина значительно суживается, пойма почти отсутствует и оба
берега имеют приблизительно одинаковый характер, чем и объясняется
несколько необычное положение стоянки по левой, восточной стороне
Дона.
Палеолити-
ческие находки,
залегающие на
небольшой глу-
бине, были об-
условил
залегания
паружены при
рытье ямы для
выборки глины
на одной из
усадеб села. До
0.90.М здесь идет
чернозем, подо-
стланный тон-
кой, местами
прерывающей-
ся, прослойкой
известковой ще-
бенки, отвечаю-
щей какому-то
моменту раз-
мыва соседних
Рис. 1X1. Гагарине. Вид на место раскопок с южного склона Исае-
вой лощины.
'По С. Н. Эаммтнипу)
возвышенное-
тей. Ниже залегает светлобурый делювиальный суглинок, прослеживаемый
до глубины 2,65 м, под которым ниже по склону оврага обнаруживается
красноватый железистый песок.
Скопление костей мамонта и сопровождЛщцих их культурных остатков
наблюдается непосредственно под черноземом в лёссовидном суглинке,
на глубине всего около 1 м, что, конечно, не говорит о позднем пх
времени, так как делювиальный нанос представляет образование, весьма
колеблющееся в своей мощности, особенно по склонам оврагов.
Весьма интересный характер, имеет распространение культурного
слоя. В разрезе—это толстый пласт (до 0,40—0,50.и) отложений (рис. 158),
состоящий из костей 'животных, костного угля, кремневых поделок и отбро-
сов производства кремневых орудий, то есть то, что французские исследова-
тели называют обычно палеолитическим «очагом», или «пепелищем» (foyer).
Сосредоточенные на небольшом пространстве, эти остатки — следы обита-
ния— в плане представляют как бы плоскую линзу, очерчивающую почти
круглую, вернее неправильно овальную площадку, диаметром 5,50 на
4.50 м (см. план, рцс. 157).
Пространство, занятое культурными остатками, имело резко выражен-
ные границы, вне которых находки исчезали, за исключением неболь-
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕНСКОЕ ВРЕМЯ
шого числа кусочков кремня и мелких обломков костей, вероятно за-
несенных но кротовинам. По окружности этого скопления шел ряд плит,
частью еще сохранивших свое прежнее вертикальное положение, за
пределы которых культурный слой не распространялся. Но и в западной
стороне, где плиты не составляли заметного ограждения, граница находок
прослеживалась не менее отчетливо. Только в квадратах, расположенных
в северо—северо-восточной части раскопа, за жилой площадкой, было
встречено небольшое скопление культурного слоя, может быть отвечав-
шее входу. Культурные отложения и здесь и в других местах выде-
лялись своим красноватым (розоватым) оттенком вследствие значительного
содержания охристой краски, причем эта окраска была заметно более
интенсивной в самом низу по дну скопления.
Некоторая разница в толщине культурного слоя, более мощного
в центре и значительно утончающегося к окраине площадки, должна
была зависеть от
средоточены по
периферии пло-
характера той
западины, или
неглубокой ямы
в древней почве
стоянки, кото-
рую он запол-
нял. По краям
утонча вшпйся
слой прикрывал
как бы некото-
рый уступ, окру-
жавший внут-
реннее помеще-
ние жилья. Если
принять во вни-
мание, что все
плиты и боль-
шие кости ма-
монта были со-
Рис. 18'2. Гагарине. Общий вид села, расположенного ио левому
берегу Дона.
СПо С. И. Заиятишл
щадки, причем
многие из них располагались выше заполнения ямы, следует думать, что они
должны были укреплять земляной вал, который, вероятно, образовывал
стену жилья п служил опорой для кровли. Ту же картину еще с большей
отчетливостью можно видеть в аналогичных сооружениях Мальты и Гон-
цовской стоянки.
Такому объяснению отвечает и вертикальное распределение куль-
турных остатков, скопившихся на дне углубления, занятого жильем.
По .наблюдениям С. Н. Замятнина,1 верхняя часть культурного слоя
была менее насыщена находками, заключая преимущественно мелкие
обломки костей и различный отброс обитания, тогда как каменные орудия
и все наиболее интересные находки, например поделки из кости, были
1 С. Н. Замятнин, Раскопки у с. Гагарина, «Палеолит СССР», Известия
ГАИМК, еы.п. 118, 1935, Стр. 26; то oice в отдельном издании с французским
текстом (S. Zamiatnine, Gagarina, «Bull, de VAcad, de I'hisleire de la culture mate-
rielle», jasc. 88, 1934); В. И. Громов, Некоторые новые данные о фауне и геологии
палеолита, вост. Европы и Сибири, «Палеолит СССР», 1935, ГАИМК, стр. 264.
ГАГАРИНО
4Ш
сосредоточены у дна западины или по ее периферии — под оградой из
плит и костей.
Как указывает сам исследователь, это ясно видно, например, из положе-
ния женских фигурок, место находок которых отмечено на плане. По его
словам, «скопление более хороших, законченных поделок в отдельных
углублениях также вызывает мысль о намеренном их положении. В одном
случае это было прослежено совершенно отчетливо. В западной части
скопления (кв. 24) на дне слоя была встречена ямка довольно правильной
округлой формы, глубиной 30 см и диаметром около 50 см, на дне которой
было найдено 30 хороших кремневых орудий, несколько клыков песца
с отверстием для подвешивания, костяная игла, игольник из трубчатой
кости и хвост' мамонта (13 последних позвонков лежали правильно в ана-
томическом порядке)».
То, что может быть восстановлено на основании обстановки находок
в Гагарине, рисует таким образом в целом нижнюю часть жилища, не-
сколько углубленного в почву и окруженного уступом, за которым шла
невысокая земляная стенка или вал, укрепленный по основанию плитами
и костями мамонта. Деревянные части жилья, естественно, совершенно
не сохранились.
Большого внимания заслуживают собранные в Гагарине остатки Фауна
животных, дающие возможность составить известное представление об
объектах охоты человека и окружавшем его ландшафте. По определению
В. И. Громова, здесьимеются остатки сибирского носорога (от трех особей),
мамонта (по мнению Замятнина, по крайней мере 7—8 особей), северного
оленя (видимо, один экземпляр), быка (найдена всего одна кость, обломок
черепной коробки, по которой трудно определить точнее вид животного),
лисицы (несколько особей), песца, представленного большим количеством
костей, использованных, в частности, и для поделок (по мнению С. Н. 3^-
мятнина, собранные кости должны были принадлежать свыше чем 20 осо-
бям, по В. И. Громову — 24), зайца (немного), сурка (вероятно, одна особь),
а также кости других неопределимых грызунов, птицы (немного костей
птицы величиной с куропатку, по А. Я. Тугаринову — кречета).
Из этого списка можно видеть, что наибольшее значение в жизни Остатки
первобытной группы, оставившей следы своего обитания в Гагарине, мамонта
должны были, видимо, иметь два животных — мамонт и песец. Что ка-
сается первого, то остатки его обнаруживают признаки определенного
отбора, из чего можно заключить, что животное убивалось на довольно
значительном расстоянии от места жЬлья, куда доставлялись лишь неко-
торые части туши. Так, в находках совершенно отсутствуют тяжелые кости
конечностей, хотя бивни, как хороший поделочный материал, приноси-
лись в большом числе (имеется около 20 экземпляров, не считая обломков)
вместе с лопатками, частями хребта, ребрами и пр. Судя по известным нам
нередким огромным скоплениям бивней мамонта в стоянках верхнего
палеолита восточной Европы (Костенки I, Боршево I, Гонцы и др.), не-
сомненно намного превышавшим реальную потребность в поделочном
материале, весьма возможно, что они должны были предназначаться
и для иных хозяйственных целей.
Однако вполне допустимо, что в качестве трофеев охоты бивни, как Культовый
в других случаях — рога северного оленя, являлись той частью зверя, характертро-
которая прежде всего доставлялась на место лагеря, чтобы обеспечить Фссв охоть|
удачу будущих охот. Подобные обычаи, как известно, имеют достаточно
широкое распространение до самого последнего времени у народностей,
живущих охотой* на морского или сухопутного зверя. По поводу этого
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
обычая наш покойный выдающийся исследователь народностей севера
В. Г. Богораз-Тан указывает, что «головы или черепа убитых зверей
(у охотничьих племен севера Сибири) тщательно собираются. При кочев-
ках их возят с собой в особых мешках. От пушного зверя большей частью
берут обрывок меха, ухо, кончик хвоста, кончик носа или уса; от дикого
оленя — череп с рогами, от тюленя — обрезок ласта, даже от рыб и от
птиц берут несколько косточек и перьев».
В. Н. Чернецову 1 в недавние годы удалось собрать в этом смысле осо-
бенно ценный материал при исследовании заброшенного поселка (относя-
щегося, видимо, к XVI—XVII векам) из группы землянок, расположенных
на берегу пролива Малыгина, в северной части полуострова Ямал, на
мысу Хаэн-Сале. Находящийся на берегу моря в области пустынной
северной тун-
дры, этот посе-
лок был оби-
таем, однако, не
рыболовами, а
населением, жи-
вшим частью
охотой на мор-
ского зверя, ча-
стью добыва-
нием северного
оленя и песца,
остатки кото-
рых в большом
числе были
встречены в зем-
лянках.
По словам
В. Н. Черне-
цова это объяс-
няется тем, что
большие стада
северного оле-
ня собираются
Рис. 183. Место раскопок в Гагарине.
По С. И. Замятину.
* ежегодно весной
и осенью у пролива МалыгинаДпереходя по льду с материка на расположен-
ный рядом остров Белый и обратно. Все обнаруженные здесь землянки, чис-
лом6или7, имеют круглую форму, достигая?—8л« в диаметре, ипо внешне-
му виду поразительно напоминают палеолитические жилища Гагарина, Со-
лютре и т. д. Они лишь немцрго углублены в почву, всего на 0,70—1,00м, но
взамен этого окаймлены земляной насыпью в виде невысокого вала. В одной
из землянок, где уцелели части деревянной конструкции, можно было уста-
новить, что она была перекрыта брусьями, составлявшими конусовидный
остов крыщи. Посередине свод подпирался столбами. Сверху кровля засыпа-
лась слоем земли. Как часто наблюдается в полуподземных жилищах
народностей севера, вход внутрь жилого помещения был устроен в виде
небольшого, очевидно крытого коридора, метра в 2 длиной. Коридор
начинался, как говорит исследователь, на уровне пола землянки и, посте-
1 В. Н. Чернецов, Древняя приморская культура на полуострове Ямал, «Совет-
ская Этнография», 1935, Л? 4—5, стр. 109.
ГАГАРИНО
463
пенно повышаясь, выходил на дневную поверхность. Заметим, как любо-
пытную деталь, что землянка А, примыкавшая к главному жилищу в Ко-
стенках I, имела вход, устроенный описанным образом.
Место очага — костер — помещался посреди землянки. Интересно, что
находки внутри землянок имеют свою особую планировку: они отсут-
ствуют по правую и левую сторону от очага, если смотреть со стороны
входа, очевидно потому, что здесь, вдоль стен, часть жилья была пред-
назначена для сна. Зато много находок было сделано близ входа и,
особенно, у кострища и вдоль задней стены землянки.
В ряде землянок при входе были обнаружены значительные скопления
золы и мелких обожжейных костей. Нас не может интересовать сейчас ин-
вентарь собранных здесь вещественных остатков, так как он принадлежит
близкому нам времени и в большинстве случаев представлен вещами, сде-
ланными из железа. Однако очень большой интерес для нас имеют встречен-
ные в каждом жилище кости животных. Наибольшее количество их падает
на остатки нерпы и песца, затем белого медведя, северного оленя, кита,
моржа и птиц (ближе не определены, имеется морянка — Harelda gla-
cialis). Как пишет автор, «кости различных животных не представляют
простого отброса: они всегда подобраны по видам животных и заботливо
разложены вдоль стен землянки, занимая, таким образом, особое место
в ее обстановке. Так расставлены кости нерпы, птичьи кости, черепа
песцов и пр.». В одной из землянок вдоль стены было размещено свыше
30 целых черепов песца и много обломков их. Объяснение этого обычая,
по мнению В. Н. Чернецова, следующего в этом вопросе за В. Г. Таном-
Богоразом, должно искать в обрядах, сопровождающих праздник воскре-
шения зверей, известный у ряда северных народов — чукчей, эскимосов,
ительменов и др.
Что подобные обычаи существовали уже в эпоху Гагаринского палео-
литического поселка—можно видеть по характеру остатков животного,
игравшего значительную роль в жизни обитателей этой стоянки — песца.
Нужно заметить, однако, что и мамонт представлен в обстановке
гагаринского жилища такими находками, которые как будто не оста-
вляют сомнения в особом месте, занимаемом этим зверем в религи-
озных воззрениях палеолитического человека. Не говоря уже о наход-
ках многочисленных изображений мамонта в поселениях верхнего пале-
олита, начиная с ориньяко-солютрейского времени, в самом Гагарине
имеются некоторые указания в .том же направлении в виде находок
нескольких (четырех) хвостов мамонта, которые, по мнению С. Н. За-
мятнина, должны были служить атрибутом охотничье-магических
танцев. 1
О значении песца в жизни обитателей Гагаринского жилища свидетель- Песец
ствует обилие его остатков, составлявших более половины (по В. И. Гро-
мову почти 75%) всех собранных здесь костей животных. Помимо раз-
личных частей скелета, в частности трубчатых костей, использовавшихся
для изготовления орудий, в находках часто встречаются обрубленные
лапки песца, затем целые*черепа этого животного и очень много зубов, слу-
живших наиболее обычным украшением (амулетом) для обитателей зе-
млянки. Для этой цели зубы песца у основания обстругивались и просвер-
ливались. С. Н. Замятнин полагает, что песец являлся предметом охоты в
Гагарине не только как пушной зверь, но и шел в пищу — поскольку об
этом можно судить по состоянию костей.
С. Н. Замятнин, ук. соч., стр. 61, 62.
464
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРИНЬЯКО-СОЛЮТРЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Отбросы
обитайия
Рис. 184. Гагарине. Разрез по стене раскопа на месте стоянки.
(По С. Н. Замятину)
Учитывая возможный элемент случайности в отношении отсутствия
остатков животных, не игравших значительной роли в существовании
охотничьей группы, можно думать все же по полному отсутствию типич-
ных представителей лесной фауны, что окружавший гагаринского чело-
века ландшафт имел в эту эпоху в районе стоянки полупустынный, тундро-
степной характер, благоприятный для таких животных, как песец, север-
ный олень, заяц, лисица, сурок. Небольшое количество остатков север-
ного оленя в Гагарине не говорит, очевидно, в пользу относительной
мягкости климатических условий, так как это животное, очевидно ведшее
здесь обычный кочевой образ, жизни, — передвигаясь с наступлением зимы
от окраины ледника (находившегося в это время, вероятно, где-то севернее
Оки) к югу,- в область степных открытых пространств, — могло по тем или
иным причинам
отсутствовать в
ближайших ок-
рестностях Га-
гарина.
В пользу от-
носительно не-
з н а ч и тельного
распростране-
ния леса в ок-
рестностях па-
л е олитического
поселения гово-
рит и присут-
ствие в исследо-
ванном жилище
костного угля,
особо отмечен-
ное С. Н. За-
мятниным и сви-
детельствующее
о применении
кости в каче-
стве топлива.
Внутреннее
целиком заполнено
Обработан-
ный кремень
пространство жи^ья, как мы уже говорили, было
всякого рода отбросами обитания, вместе с значительным количеством
кремневых и костяных изделий. Инвентарь этих находок значителен
численно и достаточно разнообразен, что особенно интересно, если
учесть, что все эти остатки связаны с жилищем, размеры которого
свидетельствуют о его заселенности сравнительно небольшой охотничьей
общиной. Изделия из камня, составляющие основную группу веществен-
ных остатков, дают, по подсчету С. Н. Замятнина, не менее 600 закончен-
ных орудий, не считая большого количества пластинок, отщепов и произ-
водственных отбросов. Материалом для них служил валунный кремень
преимущественно темносерых и более светлых оттенков, желтый и красный
роговик, кварцит и плотный разноцветный песчаник. Весь этот каменный
материал добывался в моренных наносах, недалеко от стоянки, однако его
первичная обработка, видимо, происходила главным образом вне жилья,
по крайней мере среди других находок нуклеусы составляют сравнительно
редкое явление. Имеется лишь один крупный экземпляр нуклеуса в виде
Г АГ АРП НО
465
)лько что начатого обработкой крупного кремневого валуна, на котором
эдготовлена верхняя площадка и произведено несколько предваритель-
ых сколов (рис. 120). Остальные же носят характер сработанных и
эзможно для чисто технических целей использованных ограненных
челами кусков кремня. Возможно также, что расщепление камня, то есть
го первичная обработка, происходило вообще лишь периодически где-либо
окрестностях поселения в определенные времена года, когда подго-
авливался материал для выделки орудий.
Среди массы пластинок, общее число которых превышает 1000 экзем-
ляров, лишь немногие имеют крупные размеры (13—14 см). Но и орудия
зготовлены, как правило, из сравнительно небольших пластин и отще-
ов. Это обстоятельство, наряду с общим обликом каменного инвентаря,
ридает находкам в Гагарине скорее позднеориньякский, чем солютрейский
арактер. Типы каменных орудий Гагарина все же сравнительно мало чем
тличаются от описанного выше инвентаря стоянки Полякова (Костенки I).
Здесь имеются, хотя и не в большом числе, пластины довольно боль-
1их размеров с естественным заострением, которые, несомненно, использо-
ались как наконечники копий. Из орудий законченного характера можно
казать грубые, часто многофасеточные резцы на массивных коротких
[ластинах и отщепах (около 5(Х% всех орудий), скребки с различным
:арактером рабочего конца, отделанного ретушью, наметчики с углова-
ым режущим рабочим острием, маленькие ножички и острия в виде
иастиночек с затупленным краем и некоторые другие менее характер-
нее формы. Но наиболее интересным для определения времени стоянки
шляется наличие в каменном инвентаре Гагарина наконечников типа
io боковой выемкой», иногда более крупных (до 6 см), но наряду с ними
I совсем миниатюрных. Последние вряд ли могли иметь значение наконеч-
шков дротиков, каковымп естественно считать более крупные экзем-
тляры.
Присутствие этого весьма типичного орудия хорошо датирует гага-
ринское палеолитическое жилище временем позднего ориньяка и ран-
чего солютре.
Если общий характер каменного инвентаря в сборах С. Н. Замятнина по
ппологическим признакам скорее позволяет говорить о позднеориньяк-
жом возрасте памятника, условность такого определения, предполагаю-
цего наличие какой-то границы, разделяющей ориньякское и солютрей-
жое время, лучше всего иллюстрируется одной сделанной здесь находкой.
Зреди множества обработанных валунных пестроцветных кремней и рого-
виков здесь оказалось всего три орудия (резца), изготовленных из
чуждого данной местности черного мелового кремня. Это обстоятельство
приобретает значение в свете того факта, что меловой кремень, хорошо из-
вестный по находкам в Костенках, мог попасть в Гагарино только из более
южной части Воронежской области, где имеются выходы этого кремня, но
не ближе чем в расстоянии 100—150 км. Один из резцов оказался изгото-
вленным из обломка крупного наконечника костенковского типа, сохра-
нившего свою концевую «солютрейскую» отделку.
«Является совершенно несомненным, — говорит С. Н. Замятнин, —
что три описанных выше кремня занесены в Гагарино либо непосред-
ственно из Костенковской стоянки, либо-ттз местонахождения, абсолютно
тождественного по культуре и весьма близкого к этой стоянке по геогра-
фическому положению». 1 Отсюда он достаточно убедительно доказывает
Изделия па
мелового
кремня
1 С. Н. Замятнин, ук. соч., стр. 55.
30 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОРПНЬЯК'О-СОЛЮТРЕИСКОЕ ВРЕМЯ
Изделия из
кости
Женские
фигурки
одновременность Гагарина и Костенок I, хотя последнее местонахождение
может считаться вполне типичным памятником для раннего солютре
восточной Европы.
Сам факт находки кремней, происходящих из района, достаточно удален-
ного от места поселка, заслуживает внимания уже потому, что он не сов-
местим с представлением о замкнутости существования палеолитических
орд уже в раннюю пору верхнего палеолита.
Изделия из кости в Гагарине не дают ничего такого, что выходило бы
из рамок обычного инвентаря поселений этой эпохи. Однако их многочислен-
ность при сравнительно небольших размерах исследованного жилья
представляет факт, заслуживающий быть отмеченным. По подсчету здесь
найдено около 100 подобных вещей, включая незаконченные орудия и
обломки. Наиболее обычным видом костяных поделок являются раз-
личные острия в виде «шильев», сделанные по большей части из раско-
лотых трубчатых костей песца и зайца.
Бивень мамонта применялся преимущественно для более тонких поделок
этого типа, в частности для игл, правда, еще не снабженных ушком, к кото-
рым нить просто привязывалась,
для чего они иногда имеют попе-
речные нарезки. Иглы с ушком в
восточноевропейских находках из-
вестны пока лишь для конца со-
лютрейской эпохи (Мезпн). Более
крупные вещи из кости в Гага-
рине представлены лишь в еди-
ничных экземплярах — это длин-
ные, уплощенные, заостренные
стержни, очевидно наконечники
копий, затем лощила обычного
вида — с отточенным в виде лопа-
точки рабочим концом.
Интересны находки небольших игольников, сделанных из отрезков
трубчатой, вероятно птичьей, кости, на одном из которых заметна тонкая
орнаментальная нарезка.
Из предметов, связанных с охотничьей магией, чаще всего встречаются
зубы, нередко просверленные для подвешивания, мелких хищников —
песца и лисицы. Встреченные в одном месте в значительном числе такие
зубы должны были входить в состав какого-то более сложного убора.
То же значение магических вещей должны были, очевидно, иметь — извест-
ные нам также по Мезину и Мамонтову гроту (Польша) — любопытные
подвески, выточенные-из слоновой кости и имитирующие атрофирован-
ные клыки оленя. Как известно, эти оленьи клыки являются одним
из наиболее обычных охотничьих амулетов вплоть до нашего времени.
Красящие вещества представлены в Гагарине целой серией образ-
чиков охристой краски разных оттенков красного, коричневого и жел-
того цветов.
Особенно интересной является находка в остатках жилища нескольких
маленьких фигурок из слоновой кости, изображающих женщину
с ее знакомыми нам ориньяко-солютрейскими чертами; из них три хорошо
отделаны (табл. XVII), тогда как остальные лишь как бы намечены вчерне.
Гагаринские фигурки имеют небольшие размеры, напоминая в этом отноше-
нии женские статуэтки из гротов Ментоны, с которыми они вообще обна-
руживают значительное сходство. Две из них принадлежат к плотному
БЕРДЫЖ
467
брахискелическому типу, отличающемуся утрированными формами тела,
тогда как третья изображает вытянутую худощавую фигуру макроскопи-
ческого склада.
Не останавливаясь подробнее на их описании, сделанном названным
исследователем, отметим, что первая, наиболее крупная (первоначаль-
ная ее высота, по мнению того же автора, достигала 8 см, с обломанными
ногами она имеет 5,8 см) воспроизводит хорошо известный по анало-
гичным находкам тип обнаженной женской фигуры с огромной отвислой
грудью, лежащей поверх чрезмерно выдавшегося живота, с мясистой се-
далищной частью и массивными бедрами. Руки занимают обычное положе-
ние— поверх груди. Округлая головка с характерным наклоном вперед
лишь намечена в общих очертаниях, но поперечная бороздка очерчивает
линию прически, переданной круговыми рядами мелких углублений.
Если это не изображение тесно облекающего голову убора,.например ме-
ховой шапочки, украшенной нашивкой из раковин или плоских кружков,
в этом приходится видеть желание передать короткие волосы, вьющиеся
завитками.
Вторая фигурка того ate типа
несколько меньше предыдущей
(5,5 см) и худшей сохранности; от
предыдущей ее отличает странное
положение рук, согнутых в локте и
поднятых вверх к лицу. Наконец,
третья статуэтка (высота — 7,1 сл)
дает уже иной тип — очень вытя-
нутой, худощавой, длинноногой
женщины, хотя она наделена теми
же узкими, покатыми плечами,
склоненной вниз безликой готов-
кой, вздутым животом и отвислой
грудью. Положение рук ниже локтя
Рпс. 1N6.1.'ер.и>вк. Скопление коетеп мамшпа.
у нее передано недостаточно ясно.
Все эти находки позволяют рассматривать Гагарине как один из
немногих достаточно полно исследованных памятников ранней поры
верхнего палеолита, почему мы и сочли нужным остановиться на нем
несколько подробнее.
БЕРДЫЖ
Палеолитическая стоянка возле д. Бердыж (Гомельский округ), откры-
тая К. М. Полйкарповичем, была исследована в 1926—1929 гг., при участии,
кроме названного лица, С. Н. Замятнина, Г. Ф. Мирчинка и др., на сред-
ства Белорусской Академии наук (и бывшего Института белорусской
культуры). Как говорит К. М. Поликарпович, «это местонахождение
и до настоящего времени не может считаться достаточно изученным. Рас-
капывался все время по условиям залегания стоянки не центр ее,
а периферия, с большими скоплениями костных остатков и незначительным
количеством кремневых орудий и обломков, при полном отсутствии каких-
либо изделий из кости». Исследованная до сих пор площадь стоянки дости-
гает 120 кв. м.
Стоянка находится на береговой террасе р. Сожа, по правую сторону
небольшой балки близ выхода ее к реке; глубина залегания остатков
значительна (5—6 м). В общем место находок имеет, видимо, характер
*
ЪлАВА ВОСЬМАЯ. ОРПНЬЯКО-СОЛЮТРЕЙСКОЕ ВРЕМЯ
долговременно существовавшего поселка, — судя по значительным скопле-
ниям костей мамонта, — но находками культурных остатков не богато.
Возможно, что жилая часть стоянки и не сохранилась благодаря положе-
нию ее на самом краю террасы Сожа. Встреченные здесь характерные
кремневые наконечники с боковой выемкой, крупные пластинки, резцы
примитивного типа указывают на близость Бердыжской стоянки к ранее
описанным памятникам ориньяко-солютрейского времени. Интересно
присутствие в культурном слое стоянки кремней мустьерского облика,
например крупного треугольного остроконечника с двусторонней подре-
тушевкой. В. И. Громовым высказано мнение, что кремни этого характера
могут являться случайной примесью в стоянке, попав сюда из размытых
более древних отложений.
Фауна Бердыжското местонахождения имеет тот же характер, что
и в Боршевской, Костенковской и Гагаринской стоянках, отличаясь
от верхнепалеолитических поселений последующего времени однообразием
и бедностью пород животных. Если не считать мамонта (представленного
35 особями), здесь найдены немногочисленные остатки лошади, быка
и хищников — медведя, крупного волка, песца; отмечено также
присутствие суслика (Cittelus rufescens), если это не случайная находка.
Г. Ф. Мирчинк, изучивший геологические условия Бердыжской стоянки,
считает возможным относить ее к эпохе вюрмского оледенения, указывая
на то обстоятельство, что остатки палеолитического становища, залегаю-
щие на размытой морене и на флювио-глациальных отложениях, пере-
крыты здесь древним делювиально-аллювиальным наносом, оставленным
Сожем во время значительного поднятия его уровня в конце ледниковой
поры.1
1 К. М. Поликарпович, Палеолит и мезолит БССР и некоторых соседних тер-
риторий верхнего Приднепровья, «Труды 1Iмежд. конф. ЛПЧПЕ», вып. V, стр. 75;
С. Н. Замятины, Раскоптй Бердыскай палеолъпгычнай стпаяюй у 1927 г., «Працы
Арх. кам. Б АН», 1930, m. II, стр. 479; Г. Ф. Млрчынк, Гео.гёгичныя умовы знаха-
Э1ееньня палеолипычнай стаянк1 каля в. Бердыжа на р. Самсы (Ромельгнчына ),
«Працы», II, стр. 1; В. Громау, Фауна Бердыскай палеолътычнай стаянкт, «Працы», II,
стр. ?
Жснспш головка по слоговой кости.
Брассемптп Франция, Ланды;.
г
.1
В J д и в
14»
Т:
Э. ПГ.ЕТТ
J
Я
Т А Я
МЛДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
ПОЗДНЯЯ ПОРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА
Следующей за ориньяко-солютрейским временем, то есть более поздней
поре верхнего палеолита, обычно дается название мадленской эпохи по
имени грота La Madeleine в Дордони во Франции. Этот грот получил боль-
шую известность благодаря раскопкам Лартэ, который начал исследова-
нием его (и других пещерных стоянок в окрестностях Лез-Эйзи) свои
замечательные изыскания в пещерах южной Франции. Г. де Мортилье,
первый, кто показал необходимость выделения мадленских стоянок в виде
особой позднейшей группы палеолитических памятников, указывает ряд
черт, позволяющих отличить культурные напластования этого времени
от предшествующих им наслоений в палеолитических местонахождениях
Европы. f
В результате многочисленных исследований можно считать доказан-
ным, что характерной особенностью мадленских стоянок Франции явля-
ется чрезвычайное развитие обработки кости и рога, которые в эту
эпоху становятся почти на первое место в ряду материалов, используемых
человеком для разнообразных хозяйственных и иных целей. Кость, рог
северного оленя, бивни мамонта, представлявшие прекрасный материал
для всевозможных изделий, вытесняют кремень в его применении для
изготовления охотничьего вооружения и различных орудий труда.
Это не значит, чтб кремень теряет свое значение в мадленскую эпоху
как основной материал для производства орудий, предназначенных для
обработки иных материалов, то есть для того, чтобы резать, пилить,
остругивать, просверливать и т. д. В этом отношении ни кость, ни рог
не обладают такими качествами — твердостью, прочностью, — которые
могли бы позволить заменить ими для этой цели орудия из кремня.
Таким образом, кремень и иные сходные с ним породы (роговик, яшма,
кварцит и пр.) еще долгое время составляют единственный материал,
пригодный для выделки такого рода инструментов, которые могли служить
для обработки той же кости, рога, дерева, ко?ки. Лишь с помощью их
Характерные
особенности
мадленских
стоянок
470
ГЛ. АК Л ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Рпс. 187. Стадо северных оленей. Гравюра на кости пз Тейжа (Франция).
могли изготовляться разнообразные изделия, удовлетворявшие расту-
щим потребностям мадленских охотников. В соответствии с этим кремне-
вый инвентарь в позднее время верхнего палеолита приобретает иной
облик, чем в предшествующую эпоху. Здесь появляется целый ряд новых
видов орудий. Но вместе с новыми требованиями, предъявляемыми в эту
эпохукорудиям из камня, изменяется и общий характер этого инвентаря,
который получает явственно выраженные признаки подчиненного, техни-
ческого назначения, что может как будто создать впечатление некоторого
кажущегося упадка, если его сопоставить с высокими по качеству солю-
трейскими кремневыми изделиями.
Другим^ существенным признаком мадленских поселений можно счи-
тать расцвет палеолитического «искусства», связанный в значительной
степени с достижениями мадленцев в области обработки той же кости и
рога. Образчики этого «искусства» становятся более разнообразными
и многочисленными, чем дальше в своем развитии уходит техника мадлена,
пока это замечательное творчество не изменяет неожиданно свой характер
с переходом к азильской эпохе.
Все авторы, занимавшиеся вопросами, связанными с мадленским
временем, согласны в том, что это время представляет картину усили-
вающейся суровости климата. Об этом говорит фауна мадленских стоянок
не только на территории Европы, лежащей к северу от Альп (в эту эпоху
еще не освободившихся от своего ледяного покрова), но и в значительно
более южных районах, например, в частности, во Франции, — вплоть
до побережья Средиземного моря, Пиреней и Бискайского залива.
Здесь повсюду первое место начинает занимать полярный мир живот-
ных во главе с северным оленем, огромные стада которого паслись в эту
эпоху на всем юго-западе Франции у подножьев Пиренейского хребта.
Рядом с ним стоит мускусный овцебык, одно из наиболее нетребователь-
ных животных полярной природы, затем песец, россомаха, полярный
заяц, лемминги и обитатели холодных степей — степная лошадь и анти-
лопа-сайга, находившие вполне благоприятные условия для размножения
в долинах и нагорьях западной Европы. Далее идут мамонт и сибирским
носорог, хотя их остатки все же становятся более редкими в мадлен-
скую эпоху и к концу ее вовсе исчезают. Только кое-где на равнинах
восточной Европы и в северной Азии стада мамонтов переживают видимо
до сравнительно поздней поры мадлена.
Естественно, что первобытные общины охотников, населявшие Европу
в эту эпоху, еще в большей степени, чем раньше, оказываются вынужден-
ными искать^защиты от ухудшающихся условий климата под навесами
гротов и в скальных убежищах.
В их образе жизни еще определеннее сказываются условия суще
ствования полярных охотников, живущих за счет того, что им удается
взять у суровой природы.
Это обстоятельство делает понятным, почему мадленская стадия ие-
ПОЗДНЯЯ ПОРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА 471
режнвалась палеолитическим обществом в ее характерных проявле-
ниях только в тех областях Европы и северной Азии, которые находи-
лись под непосредственным влиянием северного оледенения, тогда как
вне этой территории по другую сторону горных хребтов, опоясывающих
Средиземноморье от Пиреней до Кавказа, развитие этого общества шло
иными путями, отливаясь в иные формы культуры.
Время мадленских памятников в Европе определяется их залеганием Время
в верхних горизонтах пещерных наносов, где они встречаются всегда мадленских
поверх отложений, содержащих остатки, относящиеся к ранней поре поселений
верхнего палеолита.
Вместе с концом мадленской эпохи заканчивается ледниковый период.
В аэильскую эпоху стада северных оленей начинают отступать вслед
за уходящим оледенением к берегам Балтийского моря. В это так называе-
мое иольдиево время Балтийского бассейна побережья Балтики, освобо-
жденные от ледяного покрова, одеваются полярной растительностью, и
за стадами оленей и другими животными здесь появляются первые группы
охотников-азильцев.
Вопреки достаточно распространенному представлению, мадленская
эпоха, таким образом, целиком еще отвечает периоду оледенения в его
заключительных фазах, а не относится к послеледниковому времени.
Это показывают не только характер фауны, сопровождающей мадлен-
ские поселения в Европе и северной Азии, но и связь мадленских поселе-
ний с надлуговыми террасами рек восточной Европы. Последние, как мы
имели возможность убедиться ранее, на основании фактов, собранных
геологами, должны были формироваться задолго до окончательного от-
ступания ледникового покрова из пределов восточноевропейской рав-
нины. С другой стороны, об этом, то есть об относительно значительной
древности мадленских остатков, говорит залегание культурных горизон-
тов мадленских стоянок под отложениями лёсса (Кирилловская стоянка,
Гонцы, Афоптова гора и пр.). Отметим, что последний факт, несмотря
на установившееся скорее отрицательное отношение к возможности на-
ходок мадленской эпохи п толщах лёсса, начинает в последнее время
получать подтверждение п в западной Европе.
Как складывалась мадленская культура, в каких условиях истори- Нроисхо-
ческого развития охотничьего общества верхнего палеолита следует ждение
искать объяснения ряду своеобразных черт этого времени, об этом нам мадленской
придется говорить в дальнейшем. Нельзя не упомянуть, что теория мп- культуры
граций, которая играет во всех построениях современной буржуазной
археологии роль единственной движущей силы истории, нашла себе место
и при решении данного вопроса. По мнению большинства западноевропей-
ских авторов, касающихся этих вопросов, мадленская культура принадле-
жит какой-то народности, распространившейся по Европе и вытеснившей
солютрейскпе племена, как они, Й свою очередь, раньше вытеснили пле-
мена ориньякцев.
«На солютрейскпх отложениях, содержащих наконечники с.выемкой,
залегают во многих местонахождениях (Франции) древнейшие маДлен-
ские кострища. Если существует что-нибудь достоверное в доистории, —
это то, что первые мадленцы не были эволюционировавшими людьми
солютрейской эпохи. Они являлись, несомненно, пришельцами в этих
местностях, будучи столь же неумелыми в искусстве формировать и рету-
шировать кремень, как их предшественники в этом преуспевали». Так
сформулирована эта точка зрения на Женевском международном кон-
грессе антропологов и доисториков в докладе «О подразделениях верхнего
472
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. М АДЛЕНС КОЕ ВРЕМЯ
палеолита», лежащем в основании всех последующих работ буржуазных
ученых по этим вопросам.
Переселение мадленцев, по этому представлению, должно было иттн
или со стороны Пиреней, или, скорее, с востока, так как остатки мадлен-
ской культуры в своем распространении не ограничиваются пределами
Франции, Бельгии, южной Германии, но прослеживаются далеко на вос-
ток, — в Чехословакии, Польше, южной части европейской территории
СССР, тогда как в области Средиземья они совершенно неизвестны.
Подобные взгляды, лишенные всяких научных оснований, по суще-
ству являются простым отрицанием идеи развития, весьма последовательно
проводимым некоторыми буржуазными археологами. Можно сказать.
Рис 188. Олени, переходящие реку, н лососи. Грот Лортэ (Франции;.
(По Пьетту)
что особенно Брейлю западноевропейская наука больше чем кому-нибудь
обязана подменой изучения закономерности развития первобытного
общества эпохи палеолита формально-типологическими построениями,
имеющими по существу совершенно фиктивное значение. Нет основания
пренебрегать большим фактическим материалом, особенно по палеолнту-
Францни и Испании, собранным и опубликованным названным автором.
В ряде случаев сообщаемые нм данные представляют несомненный инте-
рес. Нельзя забывать, однако, что в его выводах и обобщениях иод иезуит-
ской маской внешней «объективности» сквозит идеология католического
попа, проповедующего совершенно неприемлемые для нас реакцион-
нейшие взгляды.
Таким образом, пользуясь западноевропейскими источниками по па-
леолиту, необходимо строго различать фактическую сторону от даваемого
ей освещения. Это непосредственно относится и к вопросу о мадленской
культуре, в частности"к фактам, о которых говорится в упомянутом выше
докладе на Женевском конгрессе. Фактически, в целом ряде палеолити-
ческих местонахождений Франции — в Багедуль, Жан-Блан, в Верх-
ХАРАКТЕР ОХОТЫ В МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
478
ней Ложери, Лосселе и т. д., в Дордони или гроте Плакар в Шаранте —
кремневый инвентарь древнейшего мадлена обнаруживает несходство
г инвентарем предшествующего времени. Кремневые отщепы здесь бы-
вают массивны, грубы, плохо отретушированы, представляя во многих
случаях орудия, получившиеся случайно и использованные в виде про-
колки, выемчатого скребка или резца. К тому же повсюду мадленцы
оказываются менее разборчивыми в выборе материала для своих изделий,
чем это было в ориньякскую и солютрейскую эпохи.
То, что установлено для раннемадленских стоянок Франции, в извест-
Характер
кремневого
инвентаря
в раннее
мадленскос
время
ной степени оказывается правильным и для ряда раннемадленских стоянок
СССР.
Это позволяет думать, что раннюю и позднюю фазу
верхнего палеолита разделяет время, когда для населения
Европы складываются какие-то новые условия существо-
вания, которые не проходят не отмеченными в отношении
использования кремня для различных производственных
целей. Такой характер изделий из кремня в эту эпоху было
бы трудно объяснять иначе, чем несколько иным примене-
нием кремня и других пород камня для производственно-
технических целей. Последнее же в свою очередь не могло
не быть связанным с известными изменениями в образе
жизни и несколько ином хозяйственном укладе в эпоху
мадлена.
Правда, нам известны местонахождения, где изменение
характера кремневого производства обнаруживается и
в более раннее время верхнего палеолита. Мы уже гово-
рили о существовании солютрейских поселений с доста-
точно простым инвентарем кремневых орудий и слабо раз-
витой обработкой кости. Пейрони показал это и в отно-
шении Верхней Ложери, где между поздним ориньяк-
гким и солютрейским слоями находится слой с весьма
примитивным инвентарем, сохраняющим еще почти му-
стьерский облик, притом почти исключительно из орудий
случайного употребления. Такие факты для Пейрони и
некоторых других авторов служат доказательством (в под-
тверждение мыслей, высказанных еще Э. Лартэ) возмож-
ности существования в Европе в одно и то же время групп
Рис. 18!). Изобра-
жение головки
e.aiini из грота
Гурдап (Франция).
населения, пользовавшихся различным инвентарем и представляющих в
наборах орудий как бы различные «эпохи» верхнего палеолита.1 Само
по себе такое предположение не является, конечно, невероятным, если
принять во внимание данные этнографии, но оно может иметь убедитель-
ность только при-наличии строго проверенных фактов.
Для того чтобы попытаться найти причины некоторого снижения уровня
кремневой техники в мадлене, нам нужно обратиться к тому, что соста-
вляло ведущую форму хозяйства па палеолитической ступени,—к охоте
и ее особенностям в эту,эпоху.
ХАРАКТЕР ОХОТЫ В МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Наиболее важным промысловым животным в мадленскую эпоху ста- Значение
новится северный олень, который уже в более позднюю пору солютрей- «хоты нн
___________ _______________________ ________________ ____________северного
1 D. Peyrony, Etude de formes inedites..., «Revue anthropologique», 1925, стр. 290; оленя
Anna Barnett, ук. соч., «Institut intern, d’anthrop.», III Session, Amsterdam. 1927,
стр. 305. • »
474 ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
ского времени начинает приобретать возрастающее значение в жизни
первобытного населения приледниковой полосы Евразии. Это было за-
мечено еще в 60-х годах прошлого столетия первыми исследователями пе-
щер западной Европы — Э. Лартэ во Франции и Дюпоном в Бельгии. Они
оба указывают, что чем позже время палеолитических отложений в пещер-
ных местонахождениях Дордони или Намюра, тем в большем числе встре-
чаются остатки этого животного. Основываясь на этом факте, Э. Лартэ
предложил назвать соответствующий период палеолитического прошлого
Европы веком северного оленя. Последний продолжался до той эпохи,
когда в силу изменения климатических условий остатки северного оленя
начинают исчезать в пещерах Франции и Бельгии.
Эд. Дюпон, как мы уже говорили, различает для провинции Намюр
н Бельгии четыре типа пещерных стоянок, охватывающих по современной
терминологии время от ориньяка до позднего мадлена. На них можно
xoponfo проследить, как растет значение северного оленя в жизни древних
обитателей пещер Бельгии и как параллельно с ним уменьшается роль
мамонта. Во всяком случае, в стоянках типа Гуайе (средний мадлен) север-
ный олень является господствующим животным, хотя его остатки стано-
вятся многочисленными уже в солютрейское время — в стоянках типа
Понт-а-Лэсс.
Ту же картину для крайнего юга Франции — района Пиреней — дает
Эд. Пьетт. Здесь северный олень становится особенно обильным в пещерных
отложениях, начиная со времени древнего мадлена (пещера Гурдан),
а к концу этой эпохи (грот Лортэ) его начинает вытеснять обыкновенный
благородный олень. Количество остатков северного оленя в пещерах этого
района бывает чрезвычайно велико; в том же гроте Гурдан Эд. Пьетт, по
его подсчетам, собрал за 14 месяцев раскопок остатки не менее, чем
3000 оленей. В гроте Кесслерлох близ Таингена в северной Швейцарии и
“ в недалеко от него расположенной стоянке Швейцерсбильд Мерком и
другими исследователями при раскопках древних поселений было най-
дено свыше 900 особей северного оленя, причем остатки этого животного
составляли, по Штудеру, от 75 до 80% всей добычи человека. То же дают
раскопки большинства других пещерных становищ южной Германии,
Австрии, Чехословакии. 1
Чтобы представить себе условия охотничьего быта в мадленскую эпоху,
необходимо учитывать особый характер охоты на северного оленя. Он
должен был сложиться в более позднюю пору верхнего палеолита там, где
водились крупные стада этого животного.
Известно, что северный олень по своему образу жизни является кочую-
щим животным. В течение года, спасаясь от мошки, комара и особенно от
овода, который имеет обыкновение откладывать яички под кожу оленя,
а также в поисках мохоцых пастбищ, он ежегодно совершает переселения
из равнинных местностей в горы и из лесных областей на открытые морские
побережья. В таких периодических кочевках северный олень может совер-
шать путь, измеряемый тысячами километров.
Поэтому все народности севера, существующие за счет стад северного
оленя, независимо от того, разводят ли они его, или на него охотятся,
бывают вынуждены строить круг хозяйственной деятельности в течение
года, применяясь к привычкам этого животного. Хороший пример таких
кочующих охотников представляют эскимосы, так называемые карибу
(карибу — американская порода северного оленя), обитающие на крайнем
северо-востоке Америки.
’ W. Soergel, Die Jagd der Vorzeit, 1922, стр. 75.
ХАРАКТЕР ОХОТЫ И МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
475
Наличие таких кочевок установлено п для мадленского времени, Сезонные
в частности, недавними очень интересными наблюдениями Рене де Сен- чепки
Перье, 1 который занимался исследованием пещерных стоянок в том же
районе южной Франции, где производил раскопки Э. Пьетт. Сен-Перье
обратил внимание на то, что в его находках и находках, сделанных Пьет-
том, среди многочисленных остатков северного оленя можно наблюдать
известное различие в том, имеет ли животное рога, или оно убито
в период, когда рога им были сброшены. Оказалось, что, как правило,
ко-
взрослые самцы, сделавшиеся добы-
чей человека, рогов . не имеют, но у
молодых самцов и у самок рога со-
храняются — в находках они встре-
чаются с остатками лобной кости.
Зная привычки северного оленя,
нетрудно установить, что человек
в области, прилегающей к Пиренеям,
охотился на это животное только
зимой, с середины ноября до весны,
так как молодые животные и самки
удерживают рога до весеннего вре-
мени, а старики теряют их к осени.
Правда, рога взрослых самцов, преи-
мущественно шедшие на выделку
орудий, довольно часто встречаются
в этих стоянках, ло они всегда оказы-
ваются сброшенными самим оленем.
Наоборот, рога благородного оле-
ня в тех же стоянках Верхней Гарон-
ны происходят от убитых животных,
что также говорит о зимнем сезоне,
так как эта порода оленей теряет
рога только к весне. Очевидно, чело-
век мадленской эпохи обитал в этой
местности только зимой, откочевы-
вая весной на равнины и к берегу
моря, куда уходили стада северного
оленя. О таких кочевках говорят и
изображения тюленей и морские ра-
ковины, встречающиеся в пещерных
Рис. 190. Полярная куропатка (изобра-
жение частично реставрировано) из
Мас д'Азиль (Франция).
отложениях того же района.
Такимобразом, охота на северного оленя, являвшаяся очень важным
средством существования мадленцев на большей части пространства Ев-
ропы, занятой их. поселениями, должна была способствовать, в противо-
положность охоте на мамонта, сложению весьма неустойчивой в смысле
оседлости, более или менее кочевой формы хозяйства.
Это предположение, уже давно высказывавшееся Картальяком, имеет
прямое подтверждение в иного рода фактах, указывающих на то, что
мадленский охотник совершал далекие экспедиции из районов, служивших
местом его зимних становищ. В пещерных стоянках того же юго-западного
угла Франции, прилегающего к Пиренеям, о котором мы только что гово-
1 R. de Saint-Perier, Les migrations des tribus magdaleniennes des Pyrenees, «Revue
anthropologique», A? 5—6, 1920, стр. 136.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
476
рили, довольно обычную находку составляют изображения морских
животных—тюленей. Они известны в Брассемпуи, Дюрюти, Гур дане,
Ла-Ваш, есть часто за сотню и более километров от берега моря. Но они
встречаются и в более северной Франции, в Дордони, например в Абри-
Меж, где имеются многочисленные изображения этого животного, и в пе-
щере Монгодье в Шаранте. В гроте Раймонден, в той же местности, возле
г. Перигэ, были найдены даже остатки самого животного — челюсть,
определенная как принадлежащая гренландскому тюленю (Phoca Groen-
landica). Заметим, что Раймонден находится на расстоянии около 140 км
от берега моря.
Французские исследователи, занимавшиеся этим вопросом, Капитан,
Бурринэ, Пейрони и др. указывают, что все перечисленные находки от*
носятся к одной определенной эпохе, гурданской стадии Пьетта, то есть
ранней порь. мадленского времени. В гроте Дюрюти (Ланды) фигуры тю-
леня, а также изображения рыб и многочисленные изображения гарпу-
нов были выгравированы на любопытных подвесках, сделанных из клыков
медведя, большинство которых имело отверстия для ношения, вероятно,
в качестве амулетов. Эти подвески в числе около 50 экземпляров — из
клыков пещерного медведя и пещерного льва (3 экземпляра) — были
найдены при плохо сохранившемся костяке мадленца и шли в два ряда, со-
ставляя, видимо, нечто вроде ожерелья или, может быть, украшения пояса.
Находки Аналогичные факты дают находки морских раковин, принадлежащих
морских к современным и ископаемым видам, которые составляют довольно обыч-
ракопнн ное явление в мадленских стоянках западной Европы. Некоторые из них
относятся к съедобным видам морских моллюсков и собирались в эпоху
верхнего палеолита прежде всего для употребления в пищу. В пещерах,
расположенных недалеко от берега моря, они образуют иногда довольно
значительные скопления в виде отбросов первобытной кухни. Мортилье
указывает, например, известную пещеру Альтамира в провинции Сан-
тандер (в Испании), где Е. Наг1ё собрал очень много раковин съедобных
моллюсков —литорины (Littorina littorea) и морского блюдца (Patella aul-
gata). То же отмечается по отношению к гроту Крузад близ Нарбонны, ко-
торый расположен всего в двух километрах от берега Средиземного моря.
По большей части, однако, раковины привлекали человека как краси-
вые подвески и украшения одежды, почему большинство их бывает про-
сверлено. В таком виде они переносились людьми мадленской эпохи на
очень далекое расстояние от того места, где они были подобраны. На это
обратил внимание еще Э. Дюпон, встретивший в пещере Шалэ в Бельгии
много ископаемых раковин главным образом третичного возраста, ближай-
шие местонахождения которых находятся в районе Парижа, Реймса и
других мест северной Фраяции и в области Арденн на юго-востоке Бель-
гии. 1
Подобные наблюдения очень нередки для стоянок мадленского вре-
мени. 2 В том же гроте Гурдан (Верхняя Гаронна) Пьетт нашел раковины
ныне живущих видов, происходящие как с побережий Атлантического
океана, так и из Средиземного моря. Такие же раковины были находимы
в гроте Ла Мадлен, Нижняя Ложери, Раймонден и многих других. Иско-
паемые раковины в известном пещерном поселении Кесслерлох (Таинген)
в Швейцарии, по определению Карла Майера, доказывают связь обита-
1 Е. Dupont, Y’hmme pendant les ages de la pierre dans les environs de Dinant-sur-
Meuse, id. 2, Paris, 1872, стр. 160.
2 J. Dechelete, Manuel d’archiologie prehistorique, celtique et gallo-romaine, t. J,
1908, стр 176
«7
ХАРАКТЕР ОХОТЫ В МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
телей этой пещеры районом Вены в Австрии. Заметим, кстати, что в Кес-
слерлох еще при первых раскопках были собраны остатки множества
северных оленей, что указывает на значение этого животного в жизни перво-
бытного населения и на связанные с охотой на него дальние переко-
чевки последнего. Это можно сказать и по отношению к целому ряду
других стоянок, расположенных между верхним течением Рейна и Дунаем.
Вигерс, собравший богатый материал по находкам раковин в верхне-
палеолитических, особенно мадленских местонахождениях Европы,
склонен также’ объяснять их наличием широких передвижений перво-
бытных обитателей Европы. 1
Все эти факты делают очевидным, что в мадленских охотниках на север-
ного оленя приходится видеть достаточно подвижное население, вынужден-
ное уже в силу потребностей охоты к постоянным перекочевкам из
одних местностей в другие. Такие кочевки, нужно думать, не носили харак-
тера бродяжничества. Они должны были быть связаны с районами опре-
деленных охотничьих угодий, которые посещались мадленцами в пресле-
довании оленьих стад.
Нужно сказать, все же, что стоянки мадленской эпохи по большей
части не имеют характера случайных лагерей, а указывают на более или
менее длительное обитание, в течение которого в пещерных убежищах
могли образоваться целые слои всякого рода отбросов.
Отсюда следует заключить, что если человек здесь и не жил постоянно,
он регулярно все же возвращался на удобные места, выбирая для зимовки
такие местности, которые могли достаточно обеспечить его охотничьей
добычей. В теплое время года, летом, он переносил свои становища
ближе к воде, на берег реки или моря, где наряду с охотой занимался соби-
ранием моллюсков, а кое-где уже и рыбной ловлей.
Можно назвать достаточное число мадленских поселений, в которых
сохранились следы более прочных сооружений в виде вымосток из камней,
очагов, сложенных пз плит, и т. д. Из самых последних находок этого рода
укажем, например, стоянку Куккуксбад (Баден—Германия), исследован-
ную Цотцем, 2 где ему удалось обнаружить вымостку из плит гнейса и
известняка. Подобные каменные вымостки составляют обычное явление
в мадленских стоянках не только Франции, например в Истюриц, где та-
кой настил, очевидно, был сделан для предохранения от сырости, 3 но и
в Швейцарии (Кесслерлох и др.) и Германии (Мюнцинген). Рядом с вы-
мосткой в Куккуксбаде были обнаружены очаги из больших плит, по-
ставленных на ребро и окружавших место, где разводился огонь. Вокруг
очагов лежали булыжники из гранита и гнейса со следами действия на них
сильного жара; некоторые из них распадались при соприкосновении с воз,-
духом в кварцевый щебень. Цотц считает их, вполне правдоподобно, очаж-
ными камнями, которыми пользовались для приготовления пищи и обо-
гревания жилища.
Можно вспомнить также стоянку Ле Вут де Рекурби, где были найдены
круглые очаги, сложенные пз больших камней. Эта стоянка, исследованная
и описанная Питтаром, представляет тот интерес, что тонкие слои куль-
турных остатков указывают здесь все же на сезонный характер обитания
грота. 4
1 F. Wiegers, Diluviale Vorgeschickle des Menschen, 1928, стр.1.129.
У к. соч., стр. 25.
3 Я. de Syint-Perier, ук. соч., стр. 20.
4 Dr. Е. Pillard, Ене nouoelle station magdalenienne: Les Voutes de Recourbie (Dor-
dogne), «Bull, de la Societe Roumaine des Sciences», An. XXII, A° 1, стр. 107.
Характер
мадленских
поселений
478 ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕЕСЯОЕ ВРЕМЯ
Яма-печь, обставленная камнями, была открыта и в гроте Scilles в
Лесщог. 1
Мадленские стоянки, насколько мы знаем, дают довольно разнообраз-
ную картину в смысле характера поселений. Здесь несомненно существо-
вали и зимние более прочные, и отепленные стойбища, и летние лагери.
Но, по крайней мере, к концу мадлена они все больше приобретают облик
временных, сезонных становищ.
Среди стоянок мадленской эпохи, открытых на территории СССР,
можно'указать ряд подобных местонахождений, располагающихся обычно
вблизи от реки, на краю береговой террасы. Такую картину представляет,
например, Боршевская II стоянка, которая находится на низменном берегу
Дона, при устье большого оврага, всего на высоте 2—3 м от современного
уровня реки.
Несколько местонахождений того же типа было найдено в недавнее
время украинскими исследователями на левом берегу Днепра, в районе
Днепростроя. Палеолитические охотники использовали здесь, видимо
для своих летних лагерей, надлуговую террасу Днепра, окруженную
береговой возвышенностью, куда они возвращались много раз в течение
долгого времени, как об этом свидетельствуют чередующиеся слои куль-
турных отложений.
Рыбная Приходится думать, на что указывает и Мортилье, что существование
ловля мадленцев обычно проходило в перекочевках по определенному годичному
кругу, в зависимости от сезона охоты на северного оленя и других живот-
ных,2 а затем и рыбной ловли, которая в мадленское время начинает при-
обретать уже серьезное хозяйственное значение, по крайней мере в неко-
торых местностях Европы.
В пользу этого последнего обстоятельства говорят становящиеся уже
достаточно частыми находки остатков рыб в мадленских стоянках. Если
они здесь не составляют общего явления, то это отчасти, видимо, объяс-
няется тем, что кости низших позвоночных гораздо хуже сохраняются
благодаря значительному содержанию органических веществ, чем кости
млекопитающих и птиц.
Из пород рыб в стоянках мадленской поры чаще других попадаются
кости лосося — типичного обитателя северных холодных рек, который
в позднюю ледниковую эпоху водился повсюду в Европе до Пиреней
и берегов Средиземного моря. Эта рыба в настоящее время имеет наиболь-
шее значение в жизни народностей севера не только вследствие своей много-
численности, но главным образом потому, что в период икрометания она
идет огромной массой в мелкие речки, где становится легкой добычей и
человека, и хищных зверей, и птиц. Изображения лосося довольно часты
в мадленском искусстве, которое знает и других рыб, водящихся в реках
Европы, — щуку, карпа, головля и пр. 3Эти породы рыб могли составлять
добычу человека, вероятно,'также главным образом в период икрометания,
1 <sL' Anthropologies, 1926, стр. 15.
Подтверждение более или менее значительных сезонных кочевок мадленских
охотников на северного олени Г де Мортилье видит не только в находках раковин
ископаемых и ныне живущих видов в пещерных поселениях, куда они попадали из
более или менее далеко расположенных местностей, но также, например, в факте при-
сутствия большого количества обработанного кремнн в некоторых стоянках района
Пиреней, где гфемень в натуральном виде отсутствует. Mortillet, La Prehistoire, 1910,
стр. 333.
3 Mortillet, ук. соч., стр. 623; Е. Sa.uvage, De la peche dans le midi de la France pen-
dant I’epoque du renne^ «Congres intern, d'anthrop. et d'archeol. prehist.s, VII Session,
Stockholm, 18/4, t. 1, стр. 55.
47»
ХАРАКТЕР ОХОТЫ В МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
весной, когда они теряют осторожность и выходят на отмели, в заросшие
травой заливы рек.
Нельзя считать случайным, что в мадлеиское время изображение рыб
также становится одним из очень важных объектов художественного вос-
произведения: мы находим их в стоянках этой эпохи на протяжении всей
Европы. 1 У нас они открыты в Тимоновке. и Елисеевичах. Это свидетель-
ствует о том, что в жизни мадленцев рыбное питание приобретает большое
значение, несравненно ’большее во всяком случае, чем в предшествующее
время верхнего палеолита. Очевидно, достаточно подвижные охотничьи
группы мадленской эпохи, как некоторые современные полукочевые
народности приполярных областей северной Азии и Америки, в одни
сезоны года занимались охотой на северного оленя и других животных,
в другие — проводили время в добывании рыбы.
Мадленец стоял на стадии развития, предшествующей появлению
рыбной ловли в более точном смысле слова, как особого вида хозяйствен-
ной деятельности, которая на определенном историческом этапе — начиная
с эпохи раннего неолита — при подходящих условиях становится основой
хозяйственного благополучия первобытного населения земного шара. Мы
пока не имеем оснований предполагать у мадленских обитателей Европы
наличия тех уже достаточно сложных орудий и приспособлений, которые
дают возможность человеку на неолитической ступени заниматься рыбо-
ловством в более широгих размерах и систематически, в разные времена
года.
Во всяком случае, прямые указания на появление в эту эпоху сетей,
рыболовных крючков и т. д. отсутствуют, хотя все же должно сказать,
что полностью считать это исключенным мы не можем. Некоторые авторы,
в частности Картальяк и Брейль, 2 полагают возможным рассматривать
в качестве рыболовных крючков загадочные вещи из кости, напоминающие
маленькие гарпуны с двумя-четырьмя остриями, но без стержня, найден-
ные, например, в Брюникель и Шаиселад. 3 Однако они настолько не при-
способлены служить в качестве жала рыболовного крючка (ср. Soi.ias,
Ancien Hunters, 1924, стр. 534, рис. 296), что. предположение это остается
очень мало правдоподобным. Еще мёнее правдоподобно предположение
Краузе, считающего жалами крючков те острые граненые кремневые
осколки, описываемые иногда в виде острий, проколок и т. п., 4 5 которые
в действительности являются, как это удалось показать автору много лет
назад, просто отбросом производства, получавшимся при изготовлении
резцов. 3
Вероятно, рыбная ловля в мадленскую эпоху должна была являться
еще видом охоты, в которой применялись более или менее те же средства,
которые практиковались и при охоте на зверя. Очевидно, чаще всего мад-
ленец мог ловитв рыбу в определенные времена года, во время нереста,
перегораживая ручьи забором и» камней, откуда она вылавливалась
какой-нибудь плетенкой, или он просто бил ее при удобном случае копьем
или гарпуном.
1 Н. Breuil el В. de Saint-Perier, Les poissons, les batraciens et les reptiles duns
I'art quaternaire, «Archives de I'Institut de paleontologie humaineo, mem. 2, 1927
2 11. Breuil, Petits instruments magdaleniens a pointe bifide ou tridentee de Bruni-
quel et quelques aulres gisements, «L’Anthropologies, XIX, 1908, стр. 183.
3 Эту точку зрения разделяют Дешелетт, ук. соч., стр. 155 и Sollas, ук.
стр. 536.
4 Dechelette, у к. соч., стр. 165, рис. 66.
5 П. Ефименко, Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезин, «Еже-
годник Русского Антрополог, общества.», т. IV, 1912, стр. 100.
480
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Гарпун
Изображения
животных
Рис. 191. Навес Ла Мадлен (Франция).
Гарпун из рога северного оленя, появляющийся в стоянках западной
Европы с эпохи мадлена, часто рассматривается как специальное орудие
рыболовства. Однако это вряд ли правильно. В этом смысле мы имеем пря-
мые указания в современном применении этого средства охоты. Современ-
ные гарпуны северных народов, очень близкие к мадленскому гарпуну,
служат для охрты на крупного морского зверя и, совершенно очевидно,
не могут употребляться без лодки или каяка, дающих возможность пресле-
довать добычу до тех пор, пока она не ослабеет и может быть подведена
к берегу или втащена в лодку. У нас нет пока данных предполагать наличие
подобных средств передвижения в мадленское время.
Более правильным приходится считать мнение, высказанное еще ста-'
рыми французскими авторами, что гарпун являлся не в меньшей сте-
пени, чем средством охоты на крупную рыбу, орудием охоты на зверя,
может быть прежде всего wa того же оленя, быка, лошадь. В качестве пря-
мого указания на
такое его приме-
нение можно при-
вести изображения
бизонов и диких
козлов на стенах
пещеры Нио (Арь-
еж), на некоторых
из коих можно ви-
деть торчащие в
их боках гарпуны
(рис. 248).
Пещерное ис-
кусство мадлен-
ской эпохиявляет-
ся для нас очень
важным источни-
ком сведений об ус-
ловиях жизни мад-
ленца .Богато пред-
ставленное, глав-
ным образом в на-
ходках, сделанных в пещерных стоянках Франции и прилегающих
к ней областей западной Европы, оно имеет своими сюжетами
почти исключительно изображения животных. Последние составляют,
как указывает Дешёлетт, четыре пятых всех гравюр на кости и камне,
найденных в стоянках этого времени. Не меньшее — если не большее —
место эти изображения занимают в рисунках, украшающих стены пещер
в юго-западной Франции и смежной, прилегающей к Пиренеям территории
северной Испании.
В целом мадленское искусство дает галерею образов животных,
выполненных различным способом — в гравюре, пластическом воспро-
изведении, красочной росписи — и часто с поразительной тонкостью и
артистичностью передающих их в разных положениях и в разные моменты
жизни. Пересматривая эти изображения, легко убедиться, что в них чаще
всего фигурируют те животные, роль которых в человеческом существова-
нии была особенно заметной. Преимущественно это те травоядные, которые
служили постоянной добычей человека, — северный и благородный олень,
лошадь, бизон. Они занимают едва ли не половину всего количества подоб-
ХАРАКТЕР ОХОТЫ В МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
481
них рисунков. К ним еще можно присоединить таких представителей мира
животных, окружавшего мадленца, как серну, антилопу-сайгу и хищни-
ков — медведя, волка, пещерного льва и др.
Значительно меньше образов черпал мадленскпй мастер из иной
области, хотя мы встречаем, помимо животных, и изображения птиц
(полярная куропатка и водяные птицы), рыб (лосось, щука, форель) и
растений — в виде стеблей и побегов. Относительно последних нужно
заметить, что иногда растения изображаются с корнями и, как думает
Дешелетт, указывают на то, что растения и их корни собирались и утили-
зировались мадленцамп главным образом, конечно, для пополнения пище-
вых ресурсов. "
Однако мадлепцы воспроизводят не только тех животных, которые
имели в их существовании, так сказать, промысловое, хозяйственное зна-
чение, на которых они успешно охотились и остатки которых постоянно
встречаются в отбросах стоянок. В пещерном искусстве Франции доста-
точно часто фигурируют мамонт и сибирский носорог, оба в эту эпоху, по
всем данным, становящиеся настолько немногочисленными, что объяснить
их присутствие теми же мотивами, то есть значением в охоте мадленцев,
вряд ли было бы возможным. 1 Г. де Мортилье, прекрасно осведомленный
в этих вопросах, определенно указывает на то, что «в чисто мадленских
гротах и убежищах остатки'мамонта редки и единичны». 2 Интересно, что
на мамонте на стене пещеры Бернифаль в окрестностях Лез-Эйап. в Дор-
дони, изображены примитивные жилища в виде конических шалашей,
которые без достаточных оснований некоторые авторы считают возможным
рассматривать как западни для поимки этого зверя (рис. 193). Подобные
же жилища в соседнем гроте Фон-де-Гом связаны с фигурой бизона
(рис. 192 — четвертый сверху).
Но в мадленском искусстве появляются иногда и такие животные,
роль которых в практической жизни человека была, несомненно, совер-
шенно ничтожной, если не равной нулю. Сюда относится, например,
изображение божьей коровки из Нижней Ложери и златки из грота Три-
лобит или кузнечика из пещеры Трех братьев. 3
Кроме ранее перечисленных животных во многих местностях Европы Заяц
и Сибири заметную роль в качестве охотничьей добычи мадленца играет
заяц, особенно его северный вид, заяц-беляк (Lepus variabilis). Б некото-
рых стоянках мадленского времени его остатки бывают не менее многочис-
ленны, чем остатки северного оленя. В гроте Кесслерлох близ Таингена
в Швейцарии, по подсчетам Рютимейера, было найдено не менее 500 особей
зайца. В большом числе он встречается в другой мадленской стоянке этого
района — Швейцерсбильде и в ряде местонахождений того же времени в
Германии, Австрии и Чехословакии. Его остатки обычны в более восточной
части Европы в стоянках эпохи мадлена — в Гонцах, нижнем слое Бор-
щева II, Супоневе и во многих стоянках окрестностей Красноярска на
Енисее — как Афонтова гора, Переселенческйй пункт и пр.
В названных стоянках (Гонцы, Боршево II, Супонево и др.) часто попа-
даются отрезанные и брошенные лапкп зайца, как это делают и современ-
ные охотники, на что у нау обратил впервые внимание В. А. Городцов. 1
1 Например, Breuil, Gravures inedites de rhinoceros et de nianimouth sur bois de renne
magdaleniens, «Bevue anthropologique», 1922, стр. 232.
3 Mortillet, La Prehistoire, стр. 377.
3 Comte Begouen et Louis Begouen, Decouverles nouvelles dans la caverne des Trois-
Freres (AriegeJ, «Bevue anthropologique», 1928, Л? 10—12.
‘ В. А. Городцов, Исследование Гонцовской палеолитической стоянки в 1915 г.,
Институт археологии и искусствознания, «Труды Отд. археологии», 1, 1926, стр. 23.
31 П. П. Ефименко. Первобытное» общество — 1734
182
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Кости этого^кивотного в мадленское время часто использовались для из-
Песец
готовления тонких и прочных игл, целая мастерская которых была открыта
в Кесслерлох. В восточной Европе, где
иглы встречаются сравнительно редко, из
трубчатых костей зайца выделывались,
видимо, заменявшие их, маленькие пло-
ские острия с тонко заточенным концом
(Гонцы, Боршево II).
Наличие остатков
ских стоянках ставит
Рис. 192. Изображение жилищ в
палеолитическом искусстве Фран-
ции и Северной Испании.
(по Брейлю, РеЙнаку и др.)
запца в мадлен-
интересный вопрос
о том, какие средства мог применять мад-
ленец для охоты на это быстроногое жи-
вотное. Вряд ли можно предположить,
что для нее могли быть пригодны дротик
или метательные стрелы, которыми мад-
ленцы пользовались при охоте на других
животных. Более соответствующей этого
рода охоте, думает Зергель, была легкая
метательная палица, может быть сделан-
ная наподобие бумеранга. Известно, ка-
кую роль подобное оружие играет в охоте
многих современных первобытных народ-
ностей. Как показывают сцены охоты, со-
хранившиеся в некоторых гробницах, оно
было в употреблении даже в позднее дина-
стическое время в Египте. Однако глав-
ную роль в охоте на зайца и других,
мелких животных, вероятно, играли сил-
ки на затяжной петле, которые и сей-
час в большом ходу для этой цели на
севере.
В условиях северной природы заяц
кое-где сохранил до нашего времени свое
значение важного промыслового зверя.
У одной группы индейцев, живущих в
лесной полосе северной Америки, охота на
зайцевиграла еще в XIX в. настолько боль-
шую хозяйственную роль в смысле обеспе-
чения мясом и мехом для приготовления
одежды, что они получили название
«заячьих» индейцев. Охота эта у них про-
изводилась главным образом силками. 1
Интересно, что, несмотря на свою рас-
пространенность в становищах мадлен-
ской эпохи, заяц весьма редок в памят-
никах палеолитического искусства.
Особую группу в тех же стоянках
мадлена составляют животные, на кото-
рых человек охотился главным обра-
зом ради меха. Из них особенно сле-
дует упомянуть песца (Canis lagopus'), небольшого представителя по-
1 Ratzel, Volkerkunde, Bd. II, 1888, стр. 510, 602 и др.
483
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНЦЕВ
лярных хищников, очень напоминающего лисицу, который, в полную
противоположность последней, совершенно не отличается осторожностью
и назойливо держится возле самых становищ полярных жителей, поедая
всякие отбросы и воруя все, что только может быть съедено, вплоть до кож
от палаток и ремней от оленьей упряжки.
В некоторых стоянках встречается иногда много костей этого зверька,
очевидно прельщавшего человека своим красивым, пушистым и теплым
мехом. Больше всего остатков песца попадается в стоянках восточной
Европы, начиная с района, лежащего к северу от Альп, — в поселениях
Кесслерлох, где найдено до 50 экземпляров этого животного, Швейцерс-
бильд, Шуссенрид и др. Весьма обычен он и в стоянках европейской тер-
ритории СССР, — уже с эпохи раннего солютре, — как и в палеолити-
ческих местонахождениях Сибири. Относительно Мальты (под Иркутском)
М. М. Герасимов сообщает, что там было найдено большое число особей
песца, исключительно взрослых животных, причем мясо их, видимо, не
употреблялось в пищу, так как кости чаще всего встречались в нерас-
члененном виде. В таком же состоянии были найдены и кости россомахи,
другого хищника, на которого мадленцы охотились ради его шкуры.
Частые находки обрубленных лапок песца и зайца в стоянках, относя-
щихся как к ранней, так и поздней поре верхнего палеолита (Гонцы, Бор-
шево II, Афонтова гора, Супонево, Костенки I, Гагарине, Мальта и пр.),
объясняются также, в. первую очередь, обычным приемом, применяемым
при снимании меха.
Зёргель в своем исследовании об охоте в условиях палеолита подтвер-
ждает, главным образом на основании материалов, собранных в мадленских
стоянках Германии, что кости песца редко встречаются в том же состоянии,
что и кости других животных, то есть в расколотом или обуглившемся
виде. 1
Охота на зверя исключительно ради меха была возможна только
в условиях известного избытка продуктов охоты, в чем нельзя не видеть
очень существенной особенности развития охотничьего общества в север-
ных широтах. Во всяком случае, это представляет разительный контраст
с условиями жизни многих современных отсталых народностей южного по-
лушария, например тех же австралийцев, которые не имеют возможности
пренебрегать для поддержания своего существования решительно ничем
из того, что им удается добыть и что может служить в качестве пищи.
Заканчивая обзор охоты в позднюю пору верхнего палеолита, как она
складывалась в приледниковой полосе Евразии, следует упомянуть также
некоторые виды птиц, остатки которых чаще других встречаются в отбросах
жилья. Из них на первое место должна быть поставлена белая куропатка,
которая отмечается во многих мадленских стоянках Франции — Ла Мад-
лен, Лез-Эйзи, Раймонден, Гурдан; особенно много ее в Кесслерлохе,
Швейцерсбильде и некоторых пещерных стоянках Баварии. Далее идут
породы водоплавающих птиц -^утки, гуси, лебедь-кликун (остатки по-
следнего найдены в Шуссенриде), а из хищных птиц особенно коршун,
кости которого употреблялись в некоторых стоянках (Ла Мадлен) в ка-
честве рукоятей для небольших инструментов.
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНЦЕВ
Факты, установленные нами в отношении характера охоты в мадленское
время, по крайней мере если судить по находкам, сделанным в Европе,
1 Soergel, Die Jagd der Vorzeit, 1922, стр. 50.
Птицы
Охота
Распростра-
нение
мадлснсБнх
остатков
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
рисуют, таким образом, обстановку, значительно отличающуюся от того,
что мы имеем для предшествующей, ранней поры верхнего палеолита.
Мы видим, как здесь отчасти, несомненно, в связи с изменением природных
условий, имевшим место в конце ледниковой эпохи, на смену мамонту,
большой лесной лошади и лошади нагорий, на которых охотились орды
кроманьонцев, приходят северный олень, маленькая, большеголовая
степная лошадь, иногда бизон, часто заяц, песец и другие животные.
Такой характер охоты многое объясняет в том, что дают нам памятники,
относящиеся к мадленскому времени. Конечно, при настоящем состоянии
наших знаний было бы напрасно пытаться восстановить полную картину
тех изменений, которые испытало первобытное общество при переходе от
ранней поры к поздней поре верхнего палеолита. Для этого материал,
накопленный европейской археологией, поскольку он собирался с совер-
шенно иными задачами, является вообще слишком поверхностным и не-
достаточным.
Во всяком случае, можно утверждать, что в мадленскую эпоху не
только происходит значительное усложнение и совершенствование средств
труда, в первую бчередь всего того, что имело непосредственное отношение
к охотничьему хозяйству, а затем и материальной базе культуры вообще,
но и весь уклад первобытного общества приобретает в известной мере иные
формы, чем в раннее время верхнего палеолита.
Остановимся прежде всего на том, в каких условиях встречаются
остатки мадленской эпохи.
Мы должны учесть при этом, что мадленское время отличается от пред-
шествующего времени верхнего палеолита значительным разнообразием
представляющих его памятников, дающих на обширной территории Европы
и северной Азии целый ряд локальных типов. Это не может явиться для нас
большой неожиданностью, поскольку неодинаковая природная среда, как
и усложняющаяся хозяйственная деятельность населения северного полу-
шария должны были уже создавать в это относительно позднее время
верхнего палеолита необходимые предпосылки для такого рода явлений.
В различной конкретной исторической обстановке должны были уже есте-
ственно начинать обрисовываться некоторые исторические варианты чело-
веческой культуры.
Правда, приходится иметь в виду, что дальнейшее изменение природ-
ных условий, вызванное наступлением современной геологической эпохи,
и последующие судьбы человеческого общества не раз должны были
коренным образом изменять историческую обстановку, в которой совер-
шалось развитие первобытного общества на континенте Европы и север-
ной Азии.
То, что мы можем назвать условно типичной культурой мадлена,
известной нам по находкам, сделанным во Франции, в своем распро-
странении оказывается связанным с определенными районами Европы.
При этом мадленские находки образуют как бы островки на карте
Европы, указывающие на сгущение населения в некоторых, очевидно наи-
более благоприятно расположенных местностях, главным образом по доли-
нам рек или в полосе предгорий.Такой островок многочисленных поселений
мадленских охотников эа северным оленем можно видеть у подножий Пире-
нейского хребта, в районе пещерных стоянок Ариежа, Верхней Гаронны,
Нижних и Верхних Пиреней и провинции Сантандер в северо-запад-
ном углу Испании. Другой такой же островок составляют богатые наход-
ками мадленские стоянки департамента Коррезы, Шаранты и особенно
Дордони, прославленного центра пещерных местонахождений палеолита-
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНЦЕВ
485
Рис. 193. Фигур:» мамонта с изображением жилищ из
пещеры БерниФаль.
(По Капитану)
ческого времени. Третья большая группа стоянок Франции во главе с гро-
том Трилобит находится несколько восточнее, в области течения рек Кюр
и Нонны.
Несколько особо по своему географическому положению стоят находки
в Бельгии, в долинах рек Лессы и Мезы в окрестностях Динана, Намюра
и Льежа, где в ряде пещер еще Дюпоном были открыты культурные напла-
стования с характерными мадленскими остатками, хорошо представлен-
ными в изделиях из кремня и кости.
Важную область распространения мадленских памятников предста-
вляют также истоки Рейна и верхнее течение Дуная с известными
стоянками Кесслерлох и Швейцерсбильд (Швейцария), Петерсфельс,
Шуссенрид и др. (южная Германия).
Названные местности включают только наиболее крупные и наиболее
интересные группы мадленских стоянок. Отдельные стоянки и более мелкие
группы их разбросаны,
конечно, гораздо шире.
Между ними, однако, име-
ются обширные террито-
рии, где находок мадлен-
ского времени нет или
почти нет. Это объясняет-
ся, можно думать, не
только тем, что здесь не
производилось достаточно
тщательных поисков, но
скорее тем, что отдель-
ные населенные области
должны были чередоваться
с пустынными, не заня-
тыми человеком простран-
ствами, куда люди мадлен-
ской эпохи могли прихо-
дить, пересекая их в своих
охотничьих экспедициях и
кочевках, ио не основывая
здесь своих становищ на
более долгое время.
Таких пустынных, необитаемых территорий должно было быть еще
больше на востоке Европы и среди необъятных пространств Сибири и сред-
ней Азии.
Перечисленные нами районы западной Европы составляют область
более или менее однотипной г^ультуры мадлена, которая наиболее
богато и разнообразно представлена в стоянках Франции. По край-
ней мере здесь получают наибольшее распространение произведения искус-
ства в виде пещерных рисунков и художественно обработанной кости,
так же как целый ряд характерных мадленских изделий из кости и рога —
гарпуны, разнообразные виды охотничьего оружия — наконечники копий
и дротиков, копьеметалки, кинжалы, украшенные рисунками «жезлы
начальников» и т. й., которые вне этой области почти неизвестны или
известны в ограниченном числе.
Чем можно объяснить эту общность типов изделий для мадленских
памятников Франции, отчасти севера Испании, южной Бельгии и крайнего
юга Англии (пещера Крессвел и известный Кентский грот), далее области
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Рейна в его среднем течении (стоянка на открытом воздухе Андернах и
пещера Вйльдшейер) и района, прилегающего к Альпам с его замечатель-
ными стоянками — Кесслерлох, Швейцерсбильд, Петерсфельс и др.?
Уже сама обстановка находок остатков мадленского времени, в част-
ности многочисленность стоянок в приатлантической части материка
Европы, дает возможность думать об относительно большом населении,
которое скапливалось в определенных районах, тогда как в других мест-
ностях оно жило разбросанно, небольшими разобщенными группами.
Рассеченный, разнообразный ландшафт Франции с плоскогорьями и глу-
бокими долинами, цепями возвышенностей и равнинными участками,
многочисленными реками и т. п., при относительно более мягком климате,
чем в восточной части континента, должен был, очевидно, являться осо-
бенно привлекательным для первобытного охотника по целому ряду
причин. К их числу нужно отнести многочисленные естественные убе-
жища, обилие важнейшего материала первобытной техники — кремня,
богатый и достаточно разнообразный мир животных и пр. Все это благо-
приятствовало значительному росту и уплотнению населения в юго-запад-
ном приатлаьтическом углу Европы уже с мустьерского времени.
Затем, исчезновение мамонта в этой части Европы, который имел такое
значение в охоте в мустьерскую и ориньяко-солютрейскую эпоху, вряд ли
можно объяснить влиянием исключительно природных условий.
Переход к охоте на северного оленя мог быть связан с истреблением
мамонтов и носорогов, которое могло быть в свою очередь вызвано, с одной
стороны, увеличением населения, с другой — значительным усовершен-
ствованием средств охоты уже в раннюю пору верхнего палеолита. Во
всяком случае, восточнее, начиная уже с приальпийской области Швейца-
рии, остатки мамонта в поселениях эпохи мадлена становятся заметно
многочисленнее. Если же взять восточноевропейскую равнину, где из-
вестен уже ряд стоянок этого времени, — здесь мамонт в продолжение
почти всей эпохи мадлена играет очень заметную роль.
То же наблюдается в Сибири — в стоянках, расположенных по течению
Енисея и Ангары. При этом интересен факт, что там, где охота на северного
оленя приобретает большее значение, как например в Мезпне на Десне
между Новгород-Северском и Черниговом и в Мальте под Иркутском,
хотя эти стоянки, видимо, относятся ко времени, предшествующему мад-
лену в более узком смысле слова, облик культуры — характер кремневого
инвентаря, изделий из кости, проявлений художественного творчества —
обнаруживает черты того прогрессивного развития, который отличает
мадленские стоянки западной Европы.
За Рейном и к востоку от Альп остатки мадленского времени известны
в гораздо меньшем числе. Вероятно, не случайно и то обстоятельство,
что они отличаются здесь гораздо более однообразным характером в смысле
вещественных находок. Произведения замечательного мадленского искус-
ства здесь, как правило, совершенно отсутствуют. Таковы местонахожде-
ния этого рода в Германии, Австрии, Моравии, Польше, которые дают
остатки мадлена, достаточно типично представленного продукцией кремне-
вой техники, но бедного изделиями из кости и рога оленя.
Некоторые из мадленских стоянок этой области выделяются по
находкам обработанной цости, как пещера Костелик (иначе Пекарна)
к востоку от Брюнна (Моравия) и Машицкая пещера в верховьях Вислы,
на берегу р. Прадника (Польша). Однако собранные здесь изделия из
кости и рога не могут итти в сравнение с их многочисленными типами
в мадленских стоянках Франции.
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНЦЕВ
487
В СССР, где за последние 10 лет число известных нам местонахождений
мадленской эпохи значительно увеличилось, оно все же еще, к сожалению,
является недостаточным для того, чтобы можно было восстановить полную
картину смены раннесолютрейских поселений вроде Костенок I и Гагарина
поселениями мадленского типа.
Все же мы имеем основание утверждать, что в мадленское время
восточноевропейская равнина к югу от болотистых низин Полесья и Ме-
щерской низменности была уже заселена на всем пространстве от Днестра
и среднего течения Днепра до Оки. Дона и побережья Азовского моря.
То же можно сказать относительно северного (Крым) и восточного (Кавказ)
берегов Черного моря.
Что касается Поволжья, то здесь следы палеолита пока не обнаружены.
Они снова появляются, если не считать довольно случайной Томской
находки, только на Алтае (последние находки Г. П. Сосновского) и
в долине Енисея, в окрестностях Красноярска и выше по течению Енисея
к Минусинску, а затем нар. Ангаре. При этом восточносибирский мадлен
во всей области своего распространения дает памятники, обнаруживающие
при многочисленных общих чертах с западным мадленом и свои особен-
ности, главным образом — в очень характерном кремневом инвентаре.
Последние годы стоянки близкого типа и, очевидно, того же времени
открыты п в Забайкалье и даже в лёссовой области северо-западного Ки-
тая — к западу от Пекина, в районе, пограничном с Монголией.
В пределах СССР мадленские остатки, сравнительно слабо пока изу-
ченные, обещают дать ряд первоклассных по своему значению памятников.
С одной стороны, мы имеем на этой территории, правда в несколько более
раннее время, чем мадлен, но уже с чертами высокоразвитой, «мадленской»
техники обработки и камня и кости, поселение типа замечательной
Мезпнской стоянки. С другой стороны, в таких поселениях, как Елисеевичи,
Тцмоновка, Супонево, мы знаем среди разнообразных остатков, относя-
щихся к мадленской поре, находки большого художественного значения
(статуэтка женщины, пластины из слоновой кости, в частности с характер-
ными мадленскими изображениями рыб), свидетельствующие о том, что
«типичная» мадленская культура, правда, всё же в несколько особых ее
проявлениях, имела распространение далеко на востоке Европы. Вместе
с тем, из сопоставления памятников мадленского времени, обнаруженных
на территории СССР, мы имеем основание сделать вывод, что здесь в эту
•эпоху складывается не один, но, видимо, несколько, нельзя сказать —
типов, но вариантов культуры мадлена, отвечающих несколько различному
пути развития первобытных общественных образований.
Из материала, добытого исследованием мадленских стоянок, особый
интерес для нас представляет то, что освещает вопрос о характере мадлен-
ских стойбищ, так как именно места поселений, в большей степени, чем
что-либо другое, должны были аапечатлеть в себе условия хозяйственной
и общественной жизни охотничьих орд поздней поры верхнего палеолита.
К сожалению, о мадленских поселениях мало что известно, несмотря
на огромное количество памятников этого времени, раскопанных западно-
европейскими исследователями.
По подсчету Обермайера, в одной только Франции со времени Лартэ
было открыто и исследовано до пятисот мадленских стоянок.
Тип поселений этой эпохи довольно хорошо представлен стоянкой Ла
Мадлен. Культурные отложения здесь залегают у основания известняко-
вого утеса, по правому берегу реки Везеры, под длинным, но невысоким
скалистым навесом, расположенным почти непосредственно у воды. Они
Находки
в СССР
Ла Мадлон
488
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСЯОЕ ВРЕМЯ
Остатки
жилищ
Их изобра-
жения
тянутся на протяжении 15 .ч и представляют толстый слой всякого
рода остатков обитания, накопившийся в продолжение мадленской эпохи.
В нем можно проследить не менее 8 или 10 отдельных жилых прослоек,
которые свидетельствуют о том, что мадленские охотники не раз возвра-
щались под защиту удобно расположенного навеса.
Таким обрг^ом, охотничий лагерь в Ла Мадлен (рис, 191) можно пред-
ставить в виде стоянки небольшой орды из нескольких десятков человек,
использовавшей естественное углубление скалы в качестве места жилья,
защитив его, вероятно, легким сооружением из жердей и шкур животных.
Такой характер носит и большинство других поселений мадленской эпохи
в долине р. Везеры.
Один из лучших исследователей палеолитических местонахождений
Дордони, Д. Пейрони, сообщает, что обычно мадленские стоянки этого
района содержат следы жилищ, которые должны были иметь вид простей-
ших сооружений — в виде как бы односкатной крыши, прислоненной
к подножию скалы. По своему основанию такая постройка была укреплена
крупными камнями, как это делают
современные полярные народности
для укрепления своих чумов. Весьма
вероятно, что подобное сооружение
проконопачивалось мхом и перекры-
валось для сохранения тепла олень-
ими шкурами. Пейрони совершенно
правильно указывает, что жилища
такого характера, имевшие опорой
скалу, могли служить лишь в зимнее
время, так как в более теплые, дож-
дливые сезоны и весной при таянии
снега стекавшая по скале вода делала
их мало удобными для обитания. 1
Какой вид могли иметь эти жилые
Рис. 194. Поперечный профиль водосбор-
ной канавы у Шуссенридского источника,
прорезавшего яму палеолитического жи-
лища.
(По Фраасу)
сооружения, можно судить также
по рисункам, сохранившимся среди других палеолитических изображений
на стенах пещер Дордони, особенно в богатой палеолитическими стоян-
ками долине р. Везеры. Такие рисунки (рис. 192) отмечены в пещерах
Фон-де-Гом, Бернифаль, Комбарелль, Ла Мут, причем в первых двух
пещерах эти изображения представлены особенно характерно и ясно,
хотя известны они и в более южных местонахождениях Верхней Гаронны,
Нижних Пиреней и даже в области Кантабрийских гор в Испании, близ
побережья Бискайского залива.
Странным образом, изображения хижин встречаются обычно на рисун-
ках животных — на бизоне, на мамонтах (Фон-де-Гом, Бернифаль), на
лошади (Комбарелль и Лурд) и т. д. Такая связь вряд ли может счи-
таться случайной. Мож&т быть, в этих животных следует видеть (рис. 193)
покровителей и мифических предков отдельных поселений палеолити-
ческих охотников ^подобно -животным — родовым тотемам северо-амери-
канских индейцев.
Некоторые из этих рисунков, видимо, воспроизводят жилища более
прочного типа, сохранившиеся от предшествующего времени. Но в основ-
ном это шалашевидные легкие постройки с остовом из жердей, вероятно
чаще всего перекрывавшиеся шкурами животных.
1 D. Peyrony, Un jond de hutte de I’epoque solutreenne, «Institut international
d’anthrop., Session d’Amsterdam», 1928, стр. 315.
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕН!jEB
48»
Подобные изображения бывают различны в своих подробностях, но
удерживают некоторые основные черты, которые позволяют видеть в них
сооружения вроде шалаша или шатра, то конусовидной формы, то имеющие
низкие стенки, разлогую, ^сведенную на конус или двускатную крышу
и один или два небольших входа. Очевидно, они покрывались шкурами,
камышом, корой и другим пригодным для этой цели материалом. В таких
легких переносных шалашах и сейчас переживаю^долгие и суровые зимы
кочевые саамы (лопари), ненцы и другие народности крайнего севера.
Следует упомянуть, что истолкование их как изображений западни
мало основательно. Такое объяснение приходится считать тем более не-
убедительным, что эти сооружения с узкими, низкими входами меньше
всего могли служить западней или ловушкой для крупных травоядных
животных и могли бы годиться разве для небольших хищников, охота на
которых в быту верхнепалеолитических охотников западной Европы
вообще не играла столь существенной роли, чтобы быть предметом такого
исключительного внимания.
В этих изображениях жилищ обращает на себя внимание центральный
массивный столб, поддерживающий
все сооружение, от которого идут
поперечины, служащие упором для
крыши. Интересно, что некоторые
рисунки как будто дают основание
думать, что роль этого столба могло
играть выбранное для этой цели де-
рево, скорее всего хвойное—ель или
пихта, у которой удалялась вершина,
но часть ветвей сохранялась и слу-
жила для настила легкой крыши, для
чего устраивались особые подпорки. р11С -|93 Схематический разрез палеоли-
Эта догадка может иметь известное тпчеекой землянки в Шуссеприде.
подтверждение В ТОМ обстоятельстве, 'По Форелю)
что кремневый инвентарь мадленской
эпохи поражает отсутствием каких-либо специальных рубяших орудий,
необходимых для широкой обработки дерева в крупных изделиях и
прежде всего, конечно, в строительной технике, тогда как в более раннее
время верхнего палеолита рубящие орудия из камня и кости известны
уже в ряде находок.
Иногда там же встречаются рисунки сооружений иного характера —
округлой формы, с двойными входами, которые явственно напоминают
«ульеобразные» снеговые хижины эскимосов (рис.. 192 — верхний).
В таких чертах естественно представить себе жилище подвижных, Характер
кочующих орд охотников на северного оленя, которые в ледниковый мадленских
период стремились использовать, где это было возможно, для устройства жилищ
жилья неглубокие навесы или пещерные убежища.
Насколько мы знаем, жклые сооружения в виде прочных полу под-
земных жилищ, пользовавшиеся широким распространением в ориньяко-
солютрейскую пору, становятся значительно более редким явлением
в мадленскую эпоху. Однако они вряд ли могли исчезнуть на всем про-
странстве Европы. Некоторые данные, свидетельствующие о существова-
нии таких жилищ, имеются в мадленское время, хотя они, нужно ска-
зать, все же остаются весьма немногочисленными.
Исключительно интересное указание в этом смысле дает стоянка Шуе- Шуссеирид
сенрид в Вюртемберге, в области, прилегающей с севера к Боденскому
19»)
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
озеру, исследованная в 1866 г. О. Фраасом. * 1 Здесь при раскопках было
найдено значительное количество культурных остатков в виде орудий
из кремня и разнообразных изделий из рога северного оленя. Их типы
дают возможность датировать время стоянки позднемадленской эпохой.
Весьма любопытна сама обстановка находок, о которой мы можем
судить по довольно подробным отчетам Фрааса и описанию, оставленному
Форелем.
Стоянка расположена в области Верхне-Швабской возвышенности, на
водоразделе между бассейнами Рейна и Дуная, в зоне распространения
морены альпийского оледенения, оставленной максимальным продвиже-
нием ледниКов к северу. Здесь протекает ручей Шуссен, благодаря забола-
чиванию которого образовалась обширная торфяная низина. Ее осушению
посредством водоотводных канав мы обязаны открытием этого важнейшего
памятника мадленской эпохи. (Обнаруженные Фраасом остатки палеолити-
ческого поселения залегали под толстым слоем современного торфа и
более древнего известнякового туфа, образовавшегося благодаря деятель-
ности известковых источников, отложивших вдоль берега ручья на до-
вольно большом протяжении слои тонкого, пропитанного известью песка.
«Килая яма Собственно культурные остатки, как сообщает Фраас, были сосредо-
точены на небольшом пространстве в углублении в моренном грунте,
которое по расчистке имело вид ямы с плоским дном и довольно крутыми
стенками (рис. 194), около 10—11 м в длину и несколько меньше в ширину.
Фраас указывает площадь западины в 106 кв. л, Форель считает ее раз-
меры приблизительно в 40 на 50 футов. Имеются основания думать, что она
имела округлую форму. Глубина ее была довольно значительна. По край-
ней мере на 1,60 м, считая от дна, она была заполнена чередующимися
слоями растительных остатков (мха) и песка, выше которых идет довольно
мощный пласт туфа.
Фраас полагает глубину этого помещения приблизительно около 4—5
футов. В приводимом нами разрезе (рис. 195, по Форелю) —
1 — обозначает моренный нанос с валунами;
2 — слой ила или голубоватой глины, мощностью в 3—4 футов, с
культурными остатками, залегающими в основании слоя; по границе
2 и 3 слоев залегает некоторое скопление камней, обвалившихся
откуда-то сверху;
3 — легкий известковый туф, толщиной в 4—5 футов;
4 — торф — мощность 7 — 8 футов.
По Фраасу заполнение ямы составляет, считая снизу, —
1. Растительный слой, залегающий на галечнике; мощность —
15 см. Содержит большую часть обработанных кремней.
2. Растительный слой (10 см) с преобладанием остатков Hipntun
groen landicwn.
3. Слой песка и мха с обломками костей и рогов северного
оленя (около 1 .и).
4. Торфяной мох (8 см).
? .
1 Oskar Fraas, Die neuesten Erfunde an der Schussenquclle bei Schussenried,
reshefte des Vereins fii.r vaterlandische Naturkunde in Wiirtemberg», Jahrgang X XIII, 1867,
стр. 48—"4; О. Fraas, Note sur une station recemment decouverte sous les sources de la
Schoussen pres de Schussenried dans le royaume de Wiirtemberg et attribuee aux chasseurs
du renne, «Congres intern, d’anthrop. et d'archeol. prehist.», Com.pte-ren.du de la IV ses-
sion, Copenhague, 1869, стр. 286: A. Forel, Note sur la decouverte jaite a Schussenried
en Wiirtemberg de Vhomnie contcmporain du renne, «Bulletin de la soclete Vaudoise des
sciences naturelles», vol. IX, 1867, етр. 313.
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНЦЕВ
491
5. Туф (около 1 м) с многочисленными остатками раковин, глав-
ным образом улиток — Helix pulchella, Н. hispida. Achatina lubrica,
Clausilia obtusa, Pupaunuscoruni, Pisidium fontinale.
6. Слой коричневатого мха с редкими обломками рогов и костей.
Преобладает Hipnum groenlandicum.
7. Слой торфа.
По определению Шимпера, преобладающие виды мха. заполняющего
яму. являются типичными полярными и высокогорными формами.
На дне ямы встречались зола, уголь, кости животных, изделия из
рога и кости, почерневшие от ornW шиферные и песчаниковые плиты от
очагов и много обработанного кремня. Фраас рассматривал свою находку
как яму, служившую для сваливания отбросов. В действительности не
может быть сомнения, что мы имеем в ней остатки жилища того типа,
который был нами описан для более ранней поры верхнего палеолита.
Представляется совершенно невероятным, чтобы мадленские охотники на
северного оленя тратили свое время на вырывание огромной ямы для
отбросов; это тем более неправдоподобно, что никаких других остатков
жилья по соседству обнаружено не было.
Не приходится говорить о том, что еще менее правдоподобным было бы
предположение, что человек мог использовать для жилья без всякого
перекрытия естественно образовавшуюся нму. Такая яма была бы совер-
шенно непригодна для обитания, поскольку в ней должны были накапли-
ваться дождевые воды и пр.
Вся обстановка находок в Шуссенриде говорит о жилище-землянке.
Интересно, что в находящейся рядом пещере никаких следов обитания не
замечалось.
Шуссенрпд представляет большой интерес и в другом отношении. Благо-
даря тому, что культурные остатки были прикрыты толстым слоем мха, они
большей частью прекрасно сохранились. Кость поражает своей свежестью.
Очень возможно, что .именно приток грунтовых вод вследствие заболачива-
ния местности и вынудил охотников Шуссенрида покинуть свое обиталище.
Таким образом, человек жил здесь в эпоху, когда Альпы были еще
заняты обширным оледенением, выдвигавшим своп морены в область
Швабии. Его существование проходило среди суровой природы. Покрытая
полярными мхами равнина привлекала сюда северных оленей, которые
появлялись здесь, вероятно, зимой, так как довольно высокое положение
местности облегчало действие ветра, сдувавшего снеговой покров.
Вместе с северным оленем сюда приходили песцы, россомахи, медведи
и волки. Дикие лошади, кости которых также были найдены в остатках
жилья, поднимались сюда на плоскогорье из соседних долин в определен-
ные сезоны — скорее, вероятно, в летний период.
Если большинство животных представлено было в остатках жилища
небольшим количеством особей, северный олень поражает своим изобилием.
По подсчету Фрааса, здесь находились остатки от 400 до 500 этих животных,
естественно не в виде целых скелето’в, а в виде рогов и раздробленных ко-
стей от разных частей скелета.
Нельзя не пожалеть, что такой ценный памятник палеолитической
эпохи был открыт и исследован в таких условиях, когда трудно было
рассчитывать на правильное его понимание. Описывая открытое им соору-
жение, Фраас исходит из предположения, что это была не более как яма
Для отбросов, поэтому ему не казалось.нужным составить план ее: в целом
прасположения встреченных в ней остатков. Однако,как человек достаточно
наблюдательный, он ставит вопрос, не могла ли эта яма образоваться есте-
Природиые
условия
Истолкова-
ние иамят-
ннка
492
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
]ремя
ственным путем, и отвечает на него отрицательно. Он указывает на кру-
тизну стенок и на ряд других деталей, которые могли бы быть объяснены
только при допущении, что эта землянка была вырыта рукой человека.
Поэтому представляется мало понятным, чем руководствуется
Р. Р. Шмидт, 1 считая возможным разделить находки, сделанные внутри
жилища, на две группы — одну верхнемадленскую с гарпунами, гра-
вюрой и т. д. и другою — позднейшую мадленскую с долотами (Meissel),
ножами, резцами и пр.
Фраас оставил подробное и очень интересное описание добытого нм
вещественного материала, в частности изделий из рога северного оленя,
для которых- собранный им богатейший материал дает возможность про-
следить все стадии изготовления. 2
Характер изделий из камня и кости в Шуссенриде свидетельствует
в пользу позднемадленского возраста стоянки. Об этом же говорит состав
фауны, где совершенно отсутствуют такие виды, как мамонт и сибирский
носорог. С другой стороны, присутствие большого количества особей
северного оленя является вообще особенностью мадленских поселений,
сближая Шуссенрид с расположенными на западном берегу Боденского озера
известными швейцарскими стоянками — Швейцерсбильд и Кесслерлох.
Группы животных Вид Ы Ж II В 0 т Н Ы X Шуссеирид Швейцерс- бильд Кесслерлох Террасы Боденского озера
Высокогорные альпийские Capra ibex Arctom} s marmotta Capella ruplcapra... * — —
Арктические, (тундровые) Rangifer tarandus... Gulo borealis Vulpes lagopus... Ovibos raofchatus Myodes torrpiatus Cygnus, muslcus.. — 3
Аркто-Альпийские Lepus v ariabills Lagopus alpinus.. — — —
Континентальные (степные) Equus caballus.. Kquus heintonis.. Bison priscus Cricetus phaeus.. Arvicola gregalis Lagomys pusillus — —
Широко распространенные Canis lupus Canls vulpes Ursus arctos FeJis leo spelaea — — —•
1 Вымершие 'Rhinoceros tich. Elephas prlinigenius Bos priniigenius. — —
* Черта означает наличие, а ноготочие — отсутствие.
1 В. В. Schmidt, Der Sirgenstein und die diluyialen Kulturstdtten Wiirtembergs, Stutt-
gart, 1910, стр 41.
2 Подробнее с этим можно Ознакомиться в переведенном на русский язык труде
Ранке, Человек (русск. пер.), т. II, 1901, стр. 494—498.
3 Скульптурное изображение овцебыка.
ПОСЕЛЕЙПЯ МАДЛЕНЦЕВ
493
Составленная Вертом 1 табличка их фауны показывает более позднее
время Шуссенрида по сравнению с названными местонахождениями.
Из приведенной нами таблицы видно, что основной фон животного мира
всех трех стоянок составляют арктические и континентальные (степные)
формы. С этим вполне гармонирует присутствие в Шуссенриде полярных
видов мха, составляющих^обычные пастбища северных оленей где-нибудь
в Гренландии, на Новой Земле и Шпицбергене. 2
Большие жилища долговременного типа, —то, что составляет весьма
характерную черту ориньяко-солютрейскпх стоянок Европы, а также,
видимо, и севернойАзии (Мальта),—довольно редко наблюдаются в посе-
лениях мадленской эпохи, по крайней мере в западной Европе. Гораздо
чаще в отчетах о раскопках пещерных стоянок мадленского времени
упоминаются тонкие, чередующиеся со слоями, не содержащими находок,
слои культурных остатков, в которых естественно видеть места относительно
недолгого обитания. Чаще всего, как мы указывали, такие удобные для
жизни навесы под скалами или береговые террасы заселялись периоди-
чески охотничьими группами, ведшими довольно подвижный образ жизни.
Это явление весьма отчетливо вырисовывается в раскопках мадленских
стоянок западной Европы, особенно Франции и Бельгии. О том же говорит
целый ряд весьма осведомленных ученых. Однако нельзя считать, что
переход к такому хозяйству, где сезонные перекочевки для целей охоты и
рыболовства становятся основным условием существования, совершался
повсюду в равной мере и в одно время.
Несомненно, что наряду с группами кочующих охотников и рыболовов
в Европе в мадленское время должны были существовать и более осед-
лые поселения охотников на мамонта, дикого быка, дикую лошадь, наконец,
на того же северного оленя, который местами (насколько известно —
например, в Дордони) вел относительно оседлый образ жизни. В некоторые
местности северный олень мог постоянно прикочевывать в определенные
времена года. Возможно, что именно с этим обстоятельством — ежегодным
появлением больших стад северного оленя, например осенью и весной,
на водоразделе Дуная и Рейна в окрестностях Шуссенрида — могло быть
связано возникновение здесь более прочных поселков.
Отсутствие необходимости в постоянных передвижениях должно было
способствовать сохранению в той или другой степени у отдельных групп
населения северного полушария прежних форм хозяйственного и бытового
уклада. Более или менее ясно выраженный долговременный характер
носят и многие стоянки мадленского времени на территории восточной
Европы. Здесь в большинстве случаев значительную роль продолжает
играть охота на мамонта в ее массовых формах. Такие стоянки, несомненно
принадлежащие мадленской эпохе, нередко относят, совершенно не-
правильно, по некоторым особенностям их кремневого инвентаря к го-
раздо более раннему времени *— к ориньяку. 3
1 Werth, Zur Kenntnis’cles Magdaleniens am Bodensee, «Praeh. Zeitschr.», 1914, Bd.
1'7, H. 3—4, стр. 208.
2 В связи с этим нельзя не отметить одно, пока трудно объяснимое обстоятель-
ство: хотя растительные остатки верхнепалеолитических местонахождений еще очень
слабо изучены, однако в некоторых мадленских стоянках средней Европы, видимо,
не находившихся под ближайшим непосредственным влиянием северного ледника или
оледенения горных областей, исследование угля показывает часто присутствие не
хвойных, как можно было бы ожидать, а лиственных древесных пород. Ср. для Швей-
церсбильда — Werth, ук. соч. стр. 208; для Куккуксбада — Zotz, ук. соч., «Praeh.
Zeitschr.», 1928, Bd. XIX, Н. 1—2, стр. 19 (ива, тополь, орешник, клен и др.) и т. д.
3 В западноевропейских находках (например в Англии) каменному инвентарю
этого типа дается сейчас обычно название «мадлена с ориньякской традицией».
Оседлость
кочевание
4!И
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Мадленские
поселения на
территории
СССР
В мадленских стоянках, открытых на территории СССР, довольно ча-
сто еще'встречаются жилища более прочного типа, в отдельных случаях свя-
занные с более или менее значительными углублениями, вырытыми в гли-
нистом грунте береговых склонов речных долин и представляющими,
видимо, остатки настоящих землянок. Такие жилища известны в Мальте,
Мезине, Тимоновке, о землянках которой мы уже упоминали раньше,
в Елисеевич?К, Гонцах, на Афонтовской стоянке у Красноярска. По-
всюду здесь при раскопках главная масса находок изделий из кости и
камня бртла обнаружена среди отбросов, заполнявших вырытые в земле
помещения. Жилища подобного устройства, служившие, вероятно, ме-
Кжржааов-
екая сто-
янка
Рис. 196. Типы орудий Мезинскои стоянки. Кон-
цевой скребок, выемчатые скребки, проколки.
Кремень. Несколько уменьшено
По П. И. Ь'Финенко)
стами зимних становищ, явля-
ются, очевидно, прямым насле-
дием ориньяко-солютрейского
времени.
Иной характер носят многие
стоянки преимущественно позд-
нейшей поры мадленской эпохи.
В виде примера можно указать
известную Кирилловскую стоян-
ку в Киеве, заслуживающую
особенного внимания по той
картине, которую представляют
ее культурные отложения, —
имея в виду в данном случае
собственно ее верхний, более
поздний горизонт находок.
В основании береговой воз-
вышенности на окраине Киева,
в обрыве, обращенном к Днепру
в сторону Кирилловской улицы,
в 90-х годах прошлого столе-
тия киевским археологом В. В.
Хвойко были открыты следы
палеолитического становища.
Производившиеся им в течение
ряда лет раскопки обнаружили здесь, на чрезвычайно большой глубине (20—
22 м) от современной поверхности почвы, остатки обширного лагеря охотни-
ков на мамонта, который имел вид огромного скопления костей этого жи-
вотного, окружавшего пространство овальной формы, сплошь заполненное
костным углем и всякого рода отбросами. Такая картина может быть объя-
снена лишь при условии длительного заселения данного места палеолити-
ческими людьми. Она является обычной для наших лагерей охотников
на мамонта в раннюю^пору мадлена; на территории европейской части
СССР мы ее'-видим в Супоневе, Карачарове, Костенках II, так же как
в ранних лёссовых стоянках Енисея типа Афонтовой горы.
Значительно выше нижнего слоя, в верхней части слоистых песков
под отложениями лёсса Хвойко была встречена другая группа находок.
Она состояла из «очагов», носивших характер небольших круглых и оваль-
ных площадок, диаметром часто всего около 2 л, заполненных нетолстым
слоем древесного угля, золы, обломков костей «мелких животных» (ка-
ких — остается неясным) и массы расколотого кремня.
Остатки мамонта попадались здесь в очень небольшом числе, притом,
видимо, ниже основного культурного слоя стоянки. Таких площадок
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНЦЕВ
495-
1’нс. 197. Типы орудий
Мединской стоянки.
Пластиночка с боковыми
выемками,проколка сре-
динная, двойное выемча-
тое острие, пластинка
с затупленной спинкой.
Кремень. Неск. уменып.
<По п. п. ЕФичепко!
раз превосходившего
в верхнем горизонте стоянки было обнаружено довольно много — до
20, но на разнызбуровнях и, очевидно, относящихся не к одному вре-
мени.
Совершенно тот же характер и по условиям залегания, и по характеру
самих скоплений остатков палеолитического жилья имеют недавние на-
ходки на Днепрострое и исследованная нами стоянка на берегу Дона
под Боршевым (Боршево II).
Замечательную аналогию этим восточноевропейским памятникам позд-
него мадлена представляют находки на Енисее, приуроченные к нижней
надпойменной террасе, где они залегают обычно в виде небольших скопле-
ний культурных остатков в слое лёссовидных,
аллювиальных песков. В них мамонт, как пра-
вило, уже исчезает, и главной охотничьей добычей
является северный олень, тогда как в стоянках,
расположенных выше по склонам долины Ени-
сея, мамонт вместе с северным оленем и песцом
является одним из основных видов животных.
Мы можем восстановить эти поселения позд-
немадленской поры в виде временных лагерей,
состоявших из групп небольших, может быть, пе-
реносных шалашей, сооруженных из легкого ма-
териала, для которых выбирались более удобные
места у самой воды, но иногда и на более высо-
ких террасах по склонам речных долин.
Это было еще время, когда уровень рек в во-
сточной Европе далеко не установился. В эту эпоху
Днепр в виде гигантской реки тек на 20—25 я
выше своего современного уровня. Его притоки
также отличались большим полководцем. Речные
наносы, перекрывающие, по сведениям, сооб-
щаемым геологом Г. Ф. Мирчинком, раннюю со-
лютрейскую стоянку в Бердыже на р. Соже, ука-
зывают на большой подъем вод Сожа в более
позднее—мадленское время. Десна подСупоневым
(у Брянска), где находится стоянка раннемад-
ленской поры, также оставила свои наносы по-
верх культурных отложений на высоте до 25 м.
Долина Енисея представляла приблизительно та-
кую же картину в эпоху, когда орды охотников
за северным оленем устраивали свои становища
по берегам огромного водного' потока, во много
современную реку.
Интересно, что Дон под Костенками и Боршевым дает для того же
времени позднего мадленЬ картину скорее пониженного уровня. Куль-
турный слой Боршевской стоянки (Боршево II) находится едва выше совре-
менного уровня реки, которая, видимо, текла в значительно более пони-
женном русле, чем в настоящее время.
Исследования Г. Ф. Мирчинка, занимавшегося геологическим освеще-
нием времени палеолитических местонахождений Украины и юга РСФСР,
позволяют думать, что поздний мадлен был еще эпохой расцвета леднико-
вых явлении в области Балтики, предшествовавшей их угасанию. Это время
обычно называют балтийским оледенением, или бюльской стадией вюрм-
ского оледенения. В эту'эпоху и Альпы были еще покрыты мощным ледя-
Памятники
позднего
мадлена
496
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
ным> плащом, на окраинах которого кое-где располагались стоянки охот-
ников аа северным оленем позднемадленской поры.
Рис. 198. Клювовидное
и режущее острие из
Мезипа.
Кремень. Неск. уменып.
'Но п. П. Етимеико)
ное явление. При
СТОЯНКИ СОЛЮТРЕЙСКО-МАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ
Хотя ряд крупных западноевропейских археологов считает возмож-
ным объяснять происхождение мадленской культуры нашествием мадлен-
цев, однако многие факты указывают на несомненную преемственность
в развитии культуры первобытного населения Европы в течение эпох
верхнего палеолита. В пользу такой точки зрения можно привести, на-
пример, появление уже в стоянках позднесолютрепского времени таких
изделий, которые повторяются затем в мадленских местонахождениях
Европы. Наконец, художественное творчество позднесолютрейских
.пещерных стоянок Франции в таких его проявлениях, как скульптур-
ные фигурки животных, резные вещи пещеры Плакар (Шаранта), замеча-
тельные барельефные изображения лошадей, бизонов
и других животных в Жан-Блан, Фурно-дю-Дьябль
и Дю-Рок, представляет собой, в чем трудно со-
мневаться, некоторые начальные формы мадленского
искусства. 1
Весьма показательным является ограниченное
распространение в западной Европе стоянок типич-
ного солютре. Последние почти неизвестны или во
всяком случае очень немногочисленны вне централь-
ной и, отчасти, юго-западной Франции. Таким обра-
зом, в той же северной Франции, Южной Англии,
Бельгии, Германии, Швейцарии, Австрии этому вре-
мени, очевидно, отвечают стоянки с чертами пере-
ходного состояния от ранней поры к поздней поре
верхнего палеолита. Такие стоянки в действитель-
ности составляют в западной Европе довольно обыч-
этом, поскольку во многих из них отсутствуют
солютрейские наконечники с характерной для этой поры отжимной ре-
тушью, часто бывает трудно решить, следует ли их отнести к солю-
трейскому или же к мадленскому времени.
Вопрос этот не имеет особенно большого значения, поскольку в том или
другом его решении содержится момент условности. Для нас важнее, что
эти стоянки, как Тру-Магрит в Бельгии, нижний слой Кесслерлох в Швей-
царии, так называемый солютрейский горизонт пещеры Брассемпуи в юж-
ной Франции (Ланды), можно связать с изменениями в хозяйственном
строе общества верхнего палеолита, вызванными переходом к охоте за се-
верным оленем. Добавим все же, что повсюду в стоянках этого времени
остатки мамонта доставляют еще довольно заметный процент находок среди
остатков других животных.
Переход к новым формам охоты, отмеченный появлением остатков
северного оленя в количестве гораздо большем, чем в предшествующее
время, совпадает, таким образом, для пещерных стоянок Франции с
временем солютре, в особенности же с более поздней порой солютрейской
1 Чрезвычайно выразительные рельефные изображения бизонов на каменных
плитках и на кости из грота Истюриц (Saint-Perier, La grotte d’Isturitz, 1930,
табл. X и XI), если они действительно принадлежат раннемадленскому времени,
как утверждает Сен-Перье, удерживают целиком традицию солютрейского искусства.
Растущее
значение
охоты на
северного
оленя
СТОЯНКИ С0.7ЮТРЕЙСК0-МАДЛЕНСК0Г0 ВРЕМЕНИ
497
эпохи. В самом местонахождении Солютре, как мы уже говорили, в верх-
нем слое встречается очень много костей и рогов северного оленя.
В другой типичной стоянке позднесолютрейской эпохи, гроте Лакав, се-
верный олень, вместе с лошадью и горным козлом, составляют основную
массу остатков животных. Основываясь на том же факте, Э. Лартэ считал
возможным относить к своему «веку северного оленя» исследованные им
стоянки солютрейского типа в Дордони.
С этого времени начинается широкая утилизация первобытным насе-
лением Евразии рога северного оленя для изготовления различных
изделий, которые находят себе применение в орудиях, оружии и предме-
тах хозяйственного обихода наряду со слоновой костью, продолжавшей
еще довольно долго оставаться важным материалом первобытной техники.
Интересно, что уже позднее солютрейское время дает нередко очень
пысокую технику обработки не только кремня, но и кости и рога. В стоян-
ках Плакар, Лакав, Тру-Магрит, Брассемпуи и многих других имеется
много подобных находок. Отметим, например, такие вещи, требовавшие
Высокая тех-
ника обра-
ботки кам п я
и кости
для своего изготовления огромной технической
изощренности, как браслеты и головные обручи
(диадемы) из бивня мамонта, открытые в Пла-
кар, Спи, Брассемпуи, Мезине, Мальте, Ла
Ферраси, Костенках I и ряде других стоянок
п, что замечательно, отсутствующие в стоянках
мадленской эпохи, несмотря на всю высоту ее
технических навыков- в отношении использо-
вания кости.
В соответствии с общим высоким уровнем
техники и другие изделия из кости и рога в
местонахождениях, относящихся к позднему
Рис. 199. Резед срединный.
Мезпн.
Кремень. Неев, уменьш.
По и. П. ЕФИмепко;
солютрейскому времени, как выпрямители
(«жезлы начальников»), тонко сделанные ко-
стяные иглы ит. п., обнаруживают нередко
большое совершенство в своем изготовлении,
мало чем уступая изделиям мадленской эпохи.
Следует отметить, что и кремневый инвентарь многих позднесолютрей-
ских стоянок отличается большим разнообразием видов и форм не только
такого рода орудий, которые являются обычными и в раннюю пору
верхнего палеолита, но и таких, как выемчатые скребки, всевозможные
мелкие острия и резцы, то есть орудий, ближайшим образом связанных
прежде всего с усложняющейся техникой обработки кости и рога.
Таким образом, БрейЛь неправ, когда он считает солютрейскую эпоху
временем полного упадка использования кости и рога. Мы увидим, в какие
разнообразные и интересные формы выливается это мастерство в неко-
торых позднесолютрейских стоянках СССР.
Можно предполагать, что переход к охоте на северного оленя явился
большим толчком в развитии производительных сил охотничьего хозяй-
ства, его «рентабельности» (доходности), как выражается Зёргель. Значи-
тельный запас мяса, шкур, сухожилий, кости, рога — все это находило
себе важное применение в хозяйстве населения приледниковых про-
странств северного полушария в позднесолютрейское и мадленское время.
С другой стороны, сама охота на это животное требовала, может быть,
меньших по численности охотничьих групп, чем в предшествующее время
охота на мамонта, но более подвижных и более предприимчивых, которые
вместе с тем должны были обладать более высоким аппаратом приспособле-
32 IT. П. Ефименко. Первобытное общество — 1731
498
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
ния. К суровым условиям позднеледниковой эпохи в виде переносного
жилийщ из шкур, целесообразной, хорошо сшитой меховой одежды, высо-
кого качества вооружения. Все это действительно, как мы знаем, отли-
чает позднюю пору верхнего палеолита. При этих условиях охота на
северного оленя могла быть весьма продуктивной и, в сочетании с охо-
той на некоторых других животных и приобретающим все
большее значение рыболовством, могла достаточно обеспе-
чивать существование мадленцев.
Зарождающиеся в солютре новые формы охоты не могли сразу изменить
ранее сложившийся уклад первобытного общества. Только в мадленское
время в стоянках Франции, — в области Пиренеи и Дордони, — он
выступает в более или менее определившихся чертах.
Изображение Интересно, что этот процесс находит свое отражение п в явлениях
женщины идеологического порядка. Древнее изображение женщины, которое мы
пытались понять, исходя из особых условий ориньяко-солютрейского вре-
Рис. 200. Резец
бокового типа.
Мезил.
Кремень.
(По И. П. Ефпмснко)
мени, становится редким в мадленскую эпоху, где на
смену ему приходит в значительной мере уже иной круг
образов и иной круг представлений, с ярко выражен-
ными чертами тотемического характера. Однако неко-
торые находки свидетельствуют, что изображение жен-
шины-предка не исчезает совершенно в поселениях этого
времени и, хотя и с измененными чертами, удерживается
все же известное время не только в позднесолютрейских,
но и в мадленских стоянках.
В недавно опубликованных находках, происходящих
из стоянки Петерсфельс 1 (в южной Германии), располо-
женной в немногих десятках километров, с одной сто-
роны, от известных местонахождений Кесслерлох иШвей-
церсбильд (Швейцария), с другой — Пропстфельс на Ду-
нае (Германия), среди различных изделий из кости и
рога — так называемых жезлов начальников, иногда
украшенных изображениями животных, наконечников
дротиков, игл, шильев, всякого рода привесок и амуле-
тов, сделанных из раковин, зубов животных или выре-
занных из кости и каменного угля, — были встречены
две фигурки.
Они представляют, несомненно, очень упрощенные изображения жен-
щины, низведенные до значения простого амулета (рис. 218). На каж-
дом имеется в верхней части сквозное отверстие для продевания ремешка
или шнура. Размеры их всего 4,4 и 3,0 см. Никаких деталей у них не
видно — они дают только общий абрис женской фигуры, притом в стран-
ной трактовке. Средняя часть тела у них резко выгнута, как будто у си-
дящего человека или собирающегося опуститься на землю.
Статуэтка такого же характера была недавно найдена в Сирейль 2
в Дордони. Странные, в известной мере дисгармоничные и уродливые
пропорции, необычайная изогнутая поза совершенно выделяют ее из
круга известных нам ранних изображений женщины. Она представляет
случайную находку, но вряд ли можно в определении ее времени следовать
за Брейлем и Пейрони, которые хотят в ней видеть памятник ориньяк-
ской эпохи. Две другие находки изображений совершенно аналогичного
1 Е. Peters, Die altsteinzeitliche Kulturstatte Petersfels, Augsburg, 1930.
2 H. Breuil et D. Peyrony, Statuette feminine aurignacienne de Sireuil, «Revue
anthropologique», 1930, Аё 1—3, стр. 44—47.
МЕЗИН
49»
характера сделаны*, во-первых, в пещере Ла Рошв древнемадленскомслое,
где Пейрони1 открыл ряд плиток с загадочными фигурками, смысл которых
объясняется подвесками из Петерсфельса, во-вторых, в пещере Давид2
в Кабрера, также во Франции, с более реалистическими фигурами женщин.
Странная передача этих изображений не вполне поддается объяснению,
хотя по некоторым соображениям в них естественнее всего
амулеты с эротическим значением. Во всяком случае,
вряд ли можно сомневаться, что они представляют пере-
живание древнего образа, который в новых условиях полу-
чает иное содержание, чем то, которое в него вкладывает-
ся оседлыми ордами ранней поры верхнего палеолита.
В недавнее время (1935) большое скульптурное изоб-
ражение женщины из слоновой кости в весьма необыч-
ной трактовке, совершенно отличной от того, что мы
знаем в более раннее время, открыто К. М. Поликарпо-
вичем в Елисеевичской стоянке, относящейся по всем
данным к ранней поре мадленской эпохи.
Если это переходное время от ранней к поздней поре
верхнего палеолита еще очень плохо освещено в запад-
ной Европе, в СССР мы имеем две замечательные на-
ходки, сделанные на противоположных концах террито-
рии Союза — в Мезине на Украине и в Мальте под Ир-
кутском, на которых нам следует несколько остано-
виться.
МЕЗИН
Палеолитическая стоянка в селе Мезине (Чернигов-
ской обл.), как и многие другие находки этого рода,
была открыта случайно летом 1908 г. перед археологи-
ческим съездом в Чернигове, когда на выставку съезда
были присланы кости мамонта, обнаруженные при рытье
погреба на усадьбе одного из жителей этого села. Вме-
сте с костями мамонта были доставлены и кремневые
отщеш/ со следами обработки, что дало основание
Ф. К. Волкову предположить существование здесь палео-
литической стоянки. Небольшие пробные раскопки, про-
изведенные тогда же Ф. К. Волковым, вполне подтвердили
это предположение, доставив материал в виде обрабо-
танных кремней и расколотых костей животных.
Весной следующего года в Мезине П. П. Ефименко
были развернуты бо^ее значительные раскопки, давшие
необыкновенно много разнообразных находок. Особенно
неожиданной явилась находка многочисленных изделий
усматривать
Рис. 201. Нако-
нечник из кости
с боковыми па-
зами. Мезин.
Ок. г!2 и. в.
;Ио П. П. Ефимеико)
из кости, не уступающих ни по качеству выполнения, ни
по художественному значению и своему разнообразию находкам, сде-
ланным в наиболее известных стоянках западной Европы.
1 D. Peyrony, Sur quelques pieces interresantes de la grotte de la Roche pres de Lalinde
(Dordogne), «L’Anthropologie», XL, № 1—2, 1930, стр. 19. Пейрони, как и другие фран-
цузские авторы, указывает на редкость изображения женщин в мадленской искус-
стве по сравнению с ранней порой верхнего палеолита.
2 Н. Breuil, Nouvelles figurations humaines de la caverne David a Cabrerets (Lot),
'Revue anthropologique», 1924, № 5—6, стр. 165.
.300
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Работы в Мезине продолжались под общим наблюдением Ф. К. Вол-
кова и b последующие годы. Открытиям в Мезине был посвящен доклад
Ф. К. Волкова на международном конгрессе в Женеве (в 1912 г.) и не-
сколько статей и заметок Волкова, Ефименко и других участников рас-
копок. 1 2
Собранный в Мезине материал оказался настолько большим и сама
стоянка приобрела настолько исключительное значение, что ей предпола-
галось посвятить особый сборник, который, к сожалению, так и остался
неопубликованным
Геологиче-
ские условия
:.ть
Рис. 202. Выпрямите,
из слоновой кости.
Мез ин.
Ок. ’/2 н. в.
за смертью Ф. К. Волкова.
Обстановка этих находок была такова:
У с. Мезина возвышенное плато, сложенное в
основании из мела и образующее правый берег
долины р. Десны, прорезано обширной балкой,
занятой усадьбами села. Как и в ряде других сто-
янок юга европейской территории СССР, место на-
ходок палеолитических остатков и здесь приурочено
к выходу оврага в долину реки и находится по
левому его склону, то есть защищено с севера кру-
тым подъемом и, наоборот, открыто на юг на сол-
нечную сторону. Стоянка была расположена на
террасовидном уступе склона возвышенности, невы-
соко над дном оврага. В последующее время на ней
отложилась значительная толща лёссового наноса,
достигающая местами четырех и более метров.
Соседние возвышенности покрыты мощным пла-
стом моренных образований эпохи максимального
оледенения. Таким образом, время стоянки отно-
сится к более поздней поре, когда ледник от-
ступил к северу и после его отхода успела сфор-
мироваться современная долина Десны с системой
входящих в нее древних оврагов, хотя уровень реки
был еще значительно повышен.
Г Ф. Мирчинк 2 указывает, что древняя балка,
к которой приурочена стоянка, должна была быть
заложена в своих основных чертах (как, очевидно,
и сама долина Десны) еще в до-рисское время. Об
этом говорит явственно намечающееся склонение
моренных отложений в сторону балки. Последняя
свой современный облик получила, однако, уже
после отступания ледника, когда его талые воды
размыли ледниковый нанос и углубили дно балки
современного уровня Десны. Это произошло, по мне-
во Время формирования средней надпойменной (второй
надлуговой) террасы Десны, то есть образования ее уступа к нижней над-
пойменной, песчаной боровой террасе. В эпоху обитания здесь человека
до 13 м ‘выше
нию Мирчи^ка,
1 П. Ефименко, Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черни-
говской губ., «Ежегодник Русск. Антропол. Общ.», т. IV, 1912, стр. 67; Ф. Вовк, Палео-
л1тичн1 знахЮки с. Misuni на Черн1г1вщин1, «Зап. Укр. Науков. товар, в Kuiei», к. IV,
1909; Th. Volkov, Nouvelles decouvertes dans la station paleolithigue de M ezine,
«Congres. intern, d’anthrop. et d’drcheol. prehist.», Geneve, 1912, t. I, стр. 415, 1913;
М1зик (Костяные изделия мезинской палеолитической стоянки в освещении Ф. Волкова),
Изд. Укр. Акад, наук, 1931.
2 Г. Ф. Мирчинк, Геологические условия нахождения палеолитических стоянок
в СССР, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ», в. V, стр. 50.
МЕЗИН
501
Рис. 203. Изделия из кости Мезинской
стоянки.
Ок. 75 н. в.
('копление
культурных
остатков
Десна, таким образом, представляла собой мощный поток, достигавший
ширины современной боровой террасы, равной у Мезина километрам 10.
Все это должно было происходить в эпоху ранней (еще до-бюльской) стадии
вюрма, вероятно же в период наибольшего развития вюрмского ледника.
Если учесть археологический возраст Мезинской стоянки, которую,
как мы увидим ниже, можно определить концом солютрейской эпохи,
наблюдения Г. Ф. Мирчинка дают лишний раз основание для отнесения
поселений ранней поры верхнего палеолита на восточноевропейской
равнине к древнейшему вюрмскому или скорее рисс-вюрмскому времени.
Фауна Мезинской стоянки, при сопоставлении ее с другими стоянками
восточной Европы, поражает необыкновенным разнообразием видов живот-
ных, служивших добычей человека, напоминая в этом отношении Пржед-
мост в Чехословакии. При этом присутствие таких видов, как северный
олень, мускусный овцебык, песец, заяц-беляк, говорит о том, что это
было еще время расцвета поздне-
ледниковой эпох^т, когда такие ти-
пичные обитатели полярной тундры
крайнего севера, как мускусный
овцебык, находил вполне благо-
приятные условия для существова-
ния на территории современной
Украины. Кроме упомянутых жи-
вотных в жизни палеолитического
населения Мезина значительную
роль играли мамонт й лошадь. В
гораздо меньшем числе встречались
кости носорога, бизона и хищни-
ков— медведя, волка, дикой собаки,
россомахи.
При раскопках 1909 г. в центре ис-
следованного нами участка мы на-
ткнулись на большое скопление бив-
ней мамонта и рогов северного оленя,
представлявших, несомненно, запас
материала для изделий. Последние
главным образом и были собраны на
этом участке частью в виде готовых,
частью незаконченных, только вчерн
было больше всего найдено и разнообразных кремневых инструментов,
в особенности всякого рода мелких кремневых острий и проколок. В этой
части стоянки культурный слой образовывал заметно выраженное углу-
бление, вытянутое с* юго-запада на северо-восток вдоль склона возвышен-
ности; его размеры и фцрма не могли быть прослежены, так как нами была
вскрыта очень небольшая часть площади стоянки, всего около 18 кв. м. 1
Дно этой западины, заполненное толстым слоем всевозможных отбросов,
явилось местом средоточия .всех наиболее интересных находок. В свете
тех фактов, которыми мы располагаем сейчас, представляется весьма
вероятным, что это углубление в действительности должно было являться
какой-то частью жилья.
Фауна
оформленных предметов. Здесь же
1 Приведенный, в указанной выше статье Ефименко, разрез через культурные
отложения Мезинской стоянки (стр. 73) ясно ноказывает линзообразный характер
скопления культурных остатков на дне западины. Последняя, видимо, должна была
иметь около 1 м в глубину и в данном сечении около 4 м в диаметре.
502 ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Изделия из Материал, из которого изготовлялись каменные орудия Мезинской
камня стоянки, — это обычный меловой кремень темносерой окраски, переходя-
щий в едерный цвет. Как показывает большое количество нуклеусов и
масса расщепленного кремня в виде отброса производства, обработка
этого материала должна была производиться на месте поселения. Здесь
попадались и отбойники в виде правильно обтесанных кусков кремня со
следами долговременного употребления.
На вскрытой нами в 1909 г. небольшой площади культурного слоя
было собрано необыкновенно большое число — свыше тысячи — кремне-
вых орудий вполне определенных и законченных форм. Такого коли-
чества их, принимая во внимание площадь раскопок, не знает ни одна из
стоянок СССР. Вместе с тем кремневые орудия Мезина поражают разно-
образием своих типов: здесь представлены не только обычные виды их,
такие, как скребки на конце пластинки, различные резцы, пластиночки
с затупленной спинкой, но и много таких видов орудий, которые в
западноевропейских находках свойственны только наиболее развитой
кремневой технике верхнего палеолита.
“В Мезине они имеют характер мелких, тщательно изготовленных
орудий специальных видов и форм, предназначенных, очевидно, для
всякого рода домашних работ, связанных с обработкой кости и рога,
дерева, кожи и т. п. К ним относятся многочисленные проколки с пря-
мым и изогнутым жальцем, или широким, более массивным, или узким
и длинным; затем небольшие острия с тонким режущим концом, также
самых разнообразных, но вполне определенных типов. Далее встреча-
ются так называемые выемчатые скребки, часто усложненной формы —
в виде выемчатого инструмента, комбинирующегося с резцом или острием,
иногда двойным — по сторонам выемки и т. п. (рис. 196—200).
Изделия из Характер кремневого инвентаря Мезина вполне отвечает высоте обра-
кости и рога ботки второго важного дошедшего до нас материала — кости и рога.
Этого рода изделия состоят из большого количества орудий, связанных
с приготовлением одежды, — шильев, по большей части сделанных из
длинных осколков трубчатых костей животных, с тонко заостренным
и отшлифованным рабочим концом, затем игл с небольшими круглыми
ушками. Одна из таких игл, из наших раскопок 1909 г., имеет размеры
обыкновенной небольшой стальной иголки.
К орудиям охоты относятся наконечники дротиков из слоновой кости
и оленьего рога, обычно в виде круглого стержня веретенообразной формы,
ст продольными желобками по сторонам, служившими, может быть, для
вставки кремневых пластинок или, скорее, для более легкого стекания
крови (рис. 201). Из других вещей заслуживают внимания кайла, из-
готовленные из крупных осколков бивня мамонта (рис. 204), и прекрасно
.сделанный «выпрямитель» (рис. 202) из того же материала с рукояткой и
круглой, уплощенной головкой, снабженной большим отверстием. Многие
кости и куски оленьего-рога имеют следы надрезов, распиливания и часто
ЧредставляЮ|Т собой начатые, но не законченные поделки.
Останавливают на себе внимание найденные нами отростки рога оленя,
обрубленные кругом каким-то острым, очевидно кремневым инструментом.
Они интересны как доказательство наличия в эту эпоху кремневого
топора (никаким другим орудием такие нарубки не могли быть сделаны),
имевшего, вероятно, простейшую форму — каменного клинка, закреплен-
ного на прямом насаде.
Особенно интересна другая группа находок. К ней относятся много-
численные изделия, главным образом также из мамонтовой кости, имею-
МЕЗТШ
503
щие часто совершенно своеобразный характер и не повторяющиеся пока
ни в каких других стояйках. Укажем браслеты, артистически выточенные
из бивня мамонта в виде широких поручней, сплошь украшенных сложным
геометрическим узором. На концах они снабжены, как это часто применя-
лось для браслетов и головных обручей, тремя парными отверстиями для
шнуровки. Трудно понять, с помощью каких инструментов из числа опи-
санных нами выше могла быть выполнена такая исключительно тонкая
работа (рис. 208, 209).
Такие вещи в Мезине вовсе не представляют исключения.
Рядом с ними по высоте выполнения могут быть поставлены замеча-
тельные «птички», найденные здесь в числе шести экземпляров, также бо-
гато украшенные резьбой в виде пыш-
Браслеты
Птички
Рис. 204. Орудие в
। виде кайла из ос-
колка мамонтового бивня. Мезин.
Ок. 2/з н- в.
Фигурки
ных узоров из элементов меандра (рис.
212, 213). Не менее интересны странные
фигурки, которых в Мезине найдено свы-
ше десятка, воспроизводящие, по мне-
нию Ф. К. Волкова, фалл (рис. 210. 211).
По мнению же Брейля, Овермайера и
некоторых других ученых, они пред-
ставляют ту же нам знакомую фигуру
женщины, но в очень упрощенном,
условном выражении. Обермайер по
этому поводу говорит так: «Что ка-
сается статуэток из Мезина на Украине,
описанных Волковым’ и ранее истол-
ковывавшихся как фаллические сим-
волы, они, без сомнения, являются
крайне условными изображениями стеа-
топигическпх женщин. Нос, руки в
верхней н нижней части намечены у
них нарезными чертами, геометриче-
ский узор на бедрах может обозна-
чать татуировку, тогда как признак
пола передан треугольником. Только
одна из этих фигурок представляет
мужчину, являясь относительно более
стройной и с очень преувеличенными
сексуальными признаками». 1 Такое
объяснение загадочных мезинских фи-
гурок интересно и довольно правдоподобно. Во всяком случае, если
оно не вполне доказано в отношении деталей этих вещей, общий их
характер все же действительно чрезвычайно напоминает торс массив-
ной женской фигуры, как мы ее Знаем по костенковским, виллендорф-
ской и ментонским находкам.
Однако это объяснение не опровергает толкования Ф. К. Волкова.
Эти вещи представляются бесспорно фаллическими, хотя в то же время
они продолжают традицию .женской фигурки. Более того, можно за-
метить, что и вторая группа мезинских фигурок— замечательные мезин-
ские птички — в сущности представляет в своей основе тот же образ.
Это особенно ясно в отношении более пробтых, меньших по размеру фигу-
рок, которые почти не отличимы от фаллических скульптур. Различие
Н. Obermaier, Fossil man in Spain, 1925, стр. 222.
504
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
между ними проявляется больше в узоре, чем общем контуре предмета,
тогда как подобные же, но неорн'аментированные вещи, — а такие имеют-
ся, — с одинаковым успехом могли бы быть помещены и в первую, и во
Орнамент
вторую группу.
Перечисленные находки нельзя не считать имеющими отношение
к культу, хотя характер его остается для нас темным. В своих художе-
ственных формах эти богато орнаментированные скульптурные изображе-
ния рисуют зрелое творчество охотников на мамонта, выросшее на почве
общеевропейского позднеориньякского искусства, но совершенно по-иному
Рис. 205.
Просверленные морские рако-
винки. Мезин.
Неск. уменьш.
illo II. II. Ефименко!
оформившееся, чем искусство пе-
щерных местонахождений Фран-
ции, Швейцарии, Бельгии. В про-
тивоположность последнему оно
не реалистично, но целиком
условно. В нем еще господствует
скульптурная техника, но она со-
четается с дополняющей ее орна-
ментальной резьбой из сложного
сочетания геометрических линий с
мотивами, напоминающими меандр,
которые, несомненно, имеют за
собой какие-то трудно уловимые представления, подобно узорам австра-
лийцев ияи бакаири, изображающим в их глазах тотемических живот-
ных. Начальные формы этого высокого орнаментального искусства дает
Пржедмост, в особенности его изображение женщины на куске бивня
мамонта, передающее фигуру женщины в геометрической стилизации в
виде узорного рисунка.
Интересно, .что в пещере Костелик, или иначе, Пекарна, расположен-
ной в той же области Моравии, где находится Пржедмост, Крыжем
были найдены вещи, имеющие значительное сходство с мезпнскими, —
нечто вроде мезинской фаллической
фигурки из глинистого сланца с гео-
метрическим узором, нанесенным крас-
ной минеральной краской, и затем гру-
бые изображения рыб из обломков ко-
сти (челюсти лошади), дополненные ли-
нейной резьбой.1
Как бы ни толковать все эти факты,
они говорят о том, что в восточноевро-
пейских находках можно наблюдать
возникновение к концу солютрейской
эпохи, то есть во время, следующее за
Виллендорфом, Костенками, Гагари-
ным, Пржедмостом, художественных образов, неизвестных на западе.
Вместо обычных для этой эпохи животных, целые галлереикоторых укра-
шают стены пещер Франции, здесь из древнего изображения женщины
й параллельно с ним вырастает целый круг новых представлений куль-
товой символики.
Ни птица, ни рыба, видимо, не играют в эту эпоху такой роли, чтобы
явиться предметом исключительного внимания охотника за северным оле-
Рпс. 206. Подвески из слоновой кости,
подражающие атрофированным клы-
кам оленя. Мезин.
Ок. 1/1 н. в.
1 J. Bayer, Eine Phallus Darslellung aus dem Magdalenien der Pekarna. und ihre
Beziehungen zu IVesteuropa, «Eiszeit», Bd. V, стр. 50.
2IE31IH
5O5>
нем и мамонтом. Однако они встречаются не только в Мезине, но и в других
находках этой эпохи — в Мальте под Иркутском в виде многочисленных
фигурок летящих птиц, в Тимоновке у Брянска — в виде изображения рыб
и странных скульптурных фигурок. Очевидно, появление подобных обра-
зов, как некоторых центральных моментов культа, — птиц, рыб, змей
(Мальта), — приходится связать с какими-то иными причинами, кореня-
щимися в первобытном мировоззрении. На наш взгляд, их следует искать
в строе первобытного мышления, вскрываемом школой академика
Н. Я. Марра в палеонтологическом анализе речи, поскольку эта школа
устанавливает весьма древнюю, восходящую к истокам речевой симво-
лики связанность женского образа в его звуковом выражении и ассоци-
ирующихся с ним понятий неба и воды и т. д.
Из других вещей, открытых в Мезине, следует упомянуть некоторое
количество небольших пластинок из слоновой кости, украшенных таким
же геометрическим узором, какой наблюдается и на браслетах, птичках и
фаллах, обычно с отверстием на одном конце, очевидно служившим для их
привязывания или продевания на шнурок (рис. 217). Заслуживают также
внимания подвески из слоновой кости (рис. 206), сходные с найденными
в Мамонтовой пещере в Польше и в Гагарине на Дону, кото-
рые представляют любопытную имитацию атрофированных
клыков оленя — украшения или охотничьего амулета, весьма
распространенного в верхнепалеолитических стоянках.
Большое количество красивых ископаемых морских
раковинок (Cerithium 'vulgatum Brug. и Nassa reticulata L.)
с просверленными отверстиями, которых только во время
наших раскопок в 1909 г. было собрано не меньше 60, гово-
рит о вкусе к подобным украшениям обитателей Мезина
(рис. 205).
Поскольку обе эти раковины принадлежат черномор-
ским формам моллюсков, находки их в таком количестве в
Мезине представляют большой интерес. Cerithium vulgatum
имеющимся данным, является средиземноморской формой, известной у
нас только в ископаемом состоянии из так называемых тирренских или
карангатских отложений Черноморского бассейна, где эти раковины чаще
нсего встречаются на Керченском полуострове и в районе Судака по юж-
ному берегу Крыма. Поскольку большинство специалистов относит ка-
рангатские отложения к рисс-вюрмской эпохе (например, Архангельский
и Страхов), 1 приходится думать, что во времена существования Мезин-
ского поселения эти красивые раковинки должны были, вероятно,
добываться уже в ископаемом виде. Nassa reticulata L. встречается и
сейчас в Черном море, но известна и в отложениях карангатского
яруса. 2
Из этих фактов можно сделать весьма интересный вывод, что описан-
ные раковины должцы были добываться где-то на побережье Черного
моря, откуда какими-то путями попадали на Десну в руки обитателей
палеолитического лагеря. Происходило ли это путем междуплемениого
обмена, или мезинские охотники совершали временами далекие экскурсии
за этими ценными украшениями — этого пока решить мы не в состоянии.
Сказанным далеко не исчерпываются находки, сделанные в Мезине.
К ним можно присоединить небольшие круглые и четырехугольные пла-
------- . ----.---.----------------£— — --------- -- ----------
1 М. И. Варенцов, Геологическая история Таманского полуострова в послетре-
тичпое время, «Труды II меэ/сд. конф. АИЧПЕо, в. III, 1933, стр. 96.
2 Ср. «Четвертичный период», Акад, наук УССР, в. 11.
Подвески
Ряс. 205.
Пластинка из
слонопой ко-
сти. Мезин.
01;. 1/г п. в.
Brug., по
Раковины
Другие
находки:
506
ГЛАВА ДЕ ВЛ ТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
1’цс. 208. Браслет из бивня мамонта
(слоновой кости). Мезин.
стпнки пз слоновой кости с маленьким
отверстием в центре (рис. 207); подобные
пластинки, правда несколько более круп-
ных размеров, были находимы и в Мальте,
где они бывают украшены изображениями
змей или подражающими им узорами.
Такие пластинки Мортилье считал воз-
можным рассматривать как пуговицы ме-
ховой одежды. Однако Дешелетт указы-
вает на тот факт, что они нередко имеют
рисунки с обеих сторон,—как круглая
костяная пластинка из пещеры Раймонден
с выгравированными на ней изображе-
ниями мамонта, — и, очевидно, имели ка-
кое-то иное назначение.
Сен-Перье по материалам пещеры
Истюриц дает интересное описание тех-
ники массового изготовления таких круг-
Время
Ок. */* и. в.
Рис. 209. Резьба, укра-
шающая браслет/в раз-
вернутом виде. I
лых пластинок-медальонов из лопаток северного
оленя. 1
Застежку меховой одежды скорее можно видеть
в других вещах, происходящих из Мезина, имею-
щих вид коротенькой палочки с двойным вздутием
и перехватом посередине (рис. 216). Подобные пред-
меты были встречены в пещере Спи (Бельгия) в со-
лютрейском слое вместе с браслетами из бивня ма-
монта. Нельзя не отметить также двух очень условно
выполненных небольших фигурок, изображающих,
видимо, каких-то сидящих животных (рис. 214).
Упомянем еще о находке красящих веществ в
виде красной, малиново-бурой и желтой охры.
Обермайер, исходя главным образом из своей
оценки предметов художественного воспроизведения,
считает возможным относить нижний слой Кирил-
ловской стоянки с его интересным и до сих пор за-
гадочным изображением на бивне мамонта (рис.
254) и Мезин с его не менее странными фигурками —
к «пережиточному дегенерирующему ориньяку»
(prolonged and degenerate Aurignacian). 2 Другими
словами, он помещает их в число стоянок, которые
должны быть отнесены к послеориньякскому вре-
мени, продолжая, однако, так сказать, культурную
градацию ориньякской эпохи.
Находки, сделанные в Мезине, дают возможность
довольно точно определить время стоянки.
Она никак не может быть отнесена к ориньяку,
как это принимают некоторые авторы. Прежде всего,
ее кремневый инвентарь совершенно не имеет ни-
чего общего с этой фазой верхнего палеолита. Не-
трудно видеть, что некоторые черты мезинского на-
бора изделий из кремня, как обилие разнообразных
1 В. de Saint-Perier, ук. соч., стр. 94.
2 Fossil man, Стр. 116.
МЕЗИН.
507
проколок, микрорезцов и т. п., ставят его очень близко к технике ма-
дленских стоянок, тогда как другие — наличие характерных концевых
выемчатых скребков, двойных симметричных острий и т. д., известных
в позднесолютрейских стоянках Франции
сближают его с этими послед-
ними. С другой стороны, в
находках, сделанных в Ме-
дине, совершенно отсутствует
все то, что можно считать
характерным для кремневого
инвентаря ориньяко-солю-
трейских стоянок средней и
восточной Европы. Таким
образом если судить по
(например грот Плакар), —
инвентарю изделий из крем-
ня. Мезин можно рассматри-
вать как весьма типичный
Рис. 210. Фигурка из бивия мамонта. Мезин.
Ок. */2 н. в.
памятник переходной поры ;i13 сборов автора;
от ранней к поздней фазе
верхнего палеолита. Предшествующая ему пора верхнего палеолита
представлена па Десне, видимо, стоянкой в Пушкарях, к сожалению,
еще не опубликованной.
Вместе с тем Мезин ни в коем случае нельзя датировать поздней
мадленской эпохой, как того хотели бы Волков и некоторые другие авторы.
Это время мы уже доста-
Рпс. 211. Фигурка из бивня мамонта. Мезин.
ОК. 1/г н. в.
(Из сборов автора)
точно хорошо знаем для во-
сточной Европы по целому ря-
ду местонахождений, кремне-
вый инвентарь которых дает
совершенно иной набор ору-
дий по сравнению с Мезином.
Наоборот, если мы учтем
мезинские изделия из кости,
например браслеты — вид
украшения, известный исклю-
чительно в стоянках солю-
трейского времени,его стили-
зованные фигурки, имеющие
своим отправным момен-
том ориньнко-солютрейские
скульптурные изображения
женщин, его сложный гео-
метрический орнамент, пер-
вичные формы которого встре-
чены как в Костенках 1,так
и в Пржедмосте, — можно
более или менее уверенно ду-
мать, что Мезин должен быть
помещен в группу памятников, отвечающих концу солютре или переход-
ному времени от солютре *к мадлену, о которых мы уже говорили выше.
Такая датировка Мезинской стоянки, как и стоянки в Мальте, к рас-
смотрению которой мы сейчас перейдем, имеет прочную опору в пзвестных
нам фактах.
508
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Положение
Характер
поселения
МАЛЬТА
Другой памятник той же эпохи открыт в недавнее время на другом
конце Евразии — в Восточно-Сибирском крае, в с. Мальте близ Иркутска
на р. Белой, притоке Ангары.
Раскопки Мальтинской стоянки, 1 которая может быть поставлена по
своему значению в один уровень с наиболее известными европейскими
памятниками верхнего палеолита, производились в 1928—1932 гг. сотруд-
ником Иркутского музея М. М. Герасимовым, а в 1934 г., по поручению
Государственной академии истории материальной культуры, — им же и
Г. П. Сосновским. Место находок занимает положение, довольно обычное
юйбище приурочено
едалеко от реки под
прикрытиемподъе-
ма возвышенного-
берега речной до-
лины. Эта терра-
са, возвышающая-
ся метров на 15 —
18 над современ-
ным уровнем реки,
представляет пре-
жнее известняко-
вое ложе ее, на ко-
тором в какую-то
раннюю пору лед-
никовой эпохи от-
ложился толстый
пласт древнеаллю-
виальных галечни-
ков и песков. По-
верх древних реч-
ных наносов (пе-
лёссовидной супеси,
мощностью на месте стоянки всего в 1 — 1,5 м. Культурные остатки за-
легают в основании этого лёссового чехла, одевающего поверхность тер-
расы. 2
Материалы, опубликованные М. М. Герасимовым, пока не дают воз-
можности решить, какой вид имел здесь палеолитический лагерь, состоял
ли он из более легких сооружений — шалашей-чумов, может быть, покры-
тых оленьими шкурами и огражденных камнями, как это, видимо, пред-
полагает М. М. Герасимов, или здесь существовали более прочные жилища.
То обстоятельство, что на раскопанной площади стоянки встречалось
много плит известняка, окружавших отдельные скопления культурных
остатков, говорит как будто в пользу все же последнего предположения.
В своем отчете М. М. Герасимов упоминает, что «одна из наиболее
хорошо сохранившихся частей подобной постройки имеет вид слегка вытя-
для' охотничьих лагерей этого времени. Древнее
к надпойменной террасе р. Белой и расположено
Рис. 212. Птичка из Мезина (бивень мамонта;.
Ок. н. в.
сок, переходящий книзу в галечник) лежит слой
1 М. М, Герасимов, Мальта—палеолитическая стоянка, Иркутск, 1931; его же,
Раскопки палеолитической стоянки в селе Мальте, «Палеолит СССР», Известия
ГАИМК, 1935, стр. 78.
2 В. И. Громов, Некоторые новые данные о фауне и геологии палеолита вост.
Европы и Сибири, «Палеолит СССР», Известия ГАИМК, 1935, стр. 246.
МАЛЬТА
50»
Рис. 213. Маленькая Фигурка, изобра-
жающая птичку (бивень мамонта). Ме-
зин.
Неси. ув.
нутого четырехугольника, ограниченного со всех сторон плитами, нередко
стоящими вертикально (длина 4 лг, ширина 3 At). Посередине этого соору-
жения был обнаружен очаг, сложенный из трех плит. Вокруг него и над
ним лежала масса золы, пережженных костей и мельчайшие кусочки
древесного угля. Невдалеке от очага, среди мелких стружек бивня мамонта,
лежали три скульптурных изображения
женщин, сгруппированные в одну кучку,
а поодаль от них была найдена четвер-
тая статуэтка. Характерно, что все наи-
более интересные находки были обна-
ружены вблизи скоплений, огорожен-
ных плитами». 1 Это описание дает кар-
тину, весьма ’близкую к той, которую
воспроизводит жилище в Гагарине.
Во всяком случае, люди здесь жили
достаточно долгое время, в продолже-
ние которого успел накопиться толстый
слой всевозможных отбросов; причем,
как показывает план части раскопок,
опубликованный Герасимовым, 2 и здесь,
видимо, наблюдается то же явление —
как бы обрезднность культурного слоя
по определенной черте, которая нами
была указана выше для стоянок оринья-
ко-солютрейского времени (рис. 228).
Раскопки 1934 г. позволили существенно дополнить эту картину откры-
тием, рядом с наземными жилыми сооружениями, довольно большого
полуподземного жилья, основанием кровли которого служил вал из
глины, выброшенной при рытье землянки. Для укрепления вала были
использованы большие кости мамонта.
Главным предметом охоты в Мальте являлся северный олень, остатки
которого, собранные во время раскопок 1928—1929 гг., принадлежат, как
сообщает Герасимов, по меньшей мере 400
особям всех возрастов. Однако некото-
рую и не такую малую роль в жизни
орды, занимавшей некогда Мальтинскую
стоянку, играла также охота на мамонта
(9 особей) и шерстистого носорога (10 че-
репов, длинные кости конечностей). Из
других животных особое внимание чело-
века привлекал песец (30 особей). Най-
денные здесь кости лишь взрослых жи-
вотных, притом сохранившиеся в нерас-
члененном виде, говорят о том, что песец
убивался исключительно из-за меха. От-
дельные кости принадлежат бизону (че-
репная коробка с рогами), пещерному льву
(клык), россомахе, волку, снежному барану
{Ovis nivicola), гусю и чайке. Таким образом, если судить лишь по составу
фауны, животный мир поселения в Мальте ближе всего напоминает ранне-
Остатки
животных
1 «Палеолит СССР», стр. 92 и 97.
2 Там же, стр. 97, рис. 18.
510
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Каменный
инвентарь
Острия
Резцы
мадленские стоянки Европы с их характерным преобладанием северного
оленя над другими животными и присутствием некоторого числа остатков
носорога и мамонта.
Каменный инвентарь Мальтинской стоянки представляет большой инте-
рес. Его материалом служил главным образом темный яшмовидный кре-
мень, добывавшийся поблизости в выходах известняка,
и гораздо реже кварцит и кремнистый сланец, попадаю-
щиеся в виде гальки в речных отложениях.
Замечательной особенностью Мальты является осо-
бый характер орудий из камня, где основная масса из-
делий состоит из мелких орудий, тщательно изготовлен-
ных из небольших пластинчатых сколов. По своим ти-
пам они стоят довольно близко к тому, что мы видели в
Мезине. Чтобы понять значение этого факта, нужно учи-
тывать, что это первая и единственная,1 к тому же и наи-
более древняя палеолитическая стоянка, открытая на се-
вере азиатского континента, кремневый инвентарь кото-
рой имеет все характерные черты инвентаря прекрасно
выраженного западного типа. Все остальные лагери охот-
ников на мамонта и северного оленя, открытые на Ан-
гаре и по Енисею, так же как палеолитические памят-
ники в районе Алтая и в Забайкалье, в отношении изде-
принадлежат к иному типу. В их находках господствуют
Рис. 215. Пла-
стинка с узором
в виде меандра.
Мезин.
Ок. */2 я. в.
лий Из камня
орудия массивных форм — скребла, остроконечники, рубила, то есть виды
изделий из камня, на первый взгляд являющиеся как бы наследием
отдаленного времени, что придает каменному инвентарю позднепалео-
литических стоянок Сибири совершенно особый облик.
Одну из наиболее многочисленных групп
каменных орудий в Мальте, как и в Мезине,
составляют скребки и всякого рода мелкие
проколковидные инструменты, которые от-
части представляют настоящие проколки и
применялись, очевидно, при шитье меховой
одежды, о чем говорят и находки многочи-
сленных костяных игл. Но большинство их
служило ск.орее в качестве режущих орудий
для раскройки того же меха и резьбы по ко-
сти и рогу. Такое назначение должны были
иметь острия с более массивным заостре-
нием, некоторые из коих имеют рабочий
конец, полученный снятием резцового ско-
ла. Имеются здесь, какзто^показдл Гераси-
Рис. 216. Резные палочки из копи.
Мезин.
Ок. 1/1 н. в.
мов, и более или менее типичные резцы —
срединного и бокового типа (рис. 224—226),
появляющиеся, как правило, всюду, где
имела место широкая утилизация кости.
Однако здесь они встречаются не так часто, будучи, очевидно, широко
заменяемы орудиями других типов, главным образом, вероятно, более
крупными-и. более плотными пластинками с различно оформленным ре-
жущим рабцчим концом.
1 Другое поселение, очень близкое по характеру находок к Мальте, обнаружено
в 1936 г. в Бурети, ниже р. Белой, уже в долине Ангары.
МАЛЬТА
511
Один из подобных инструментов сохранился в рукояти, сделанной
пз куска оленьего рога (рис. 223).1
Нужно вспомнить, что в не-
которых солютрейских стоянках
Европы, как мы уже об этом го-
ворили, резцы составляют также
довольно редкое явление.
В сборах М. М. Герасимова
имеются скребки обычн&го вида
на конце кремневой пластинки,
маленькие круглые скребочки и
массивные инструменты типа
круглых нуклевидных скребков
и скребел, некоторые аналогии
которым мы имеем в Мезине,
Можно указать еще выемчатые
инструменты в виде, например,
кремневой пластинки с выемкой
на конце, являющиеся, как мы
видели, особенностью каменного
инвентаря Мезинской стоянки
Скребки
и некоторых солютрейских по-
селений западной Европы. Очень
любопытную категорию орудий
в Мальте составляют «топоро-
Рис. 21". Украшенные резьбой пластинки из
кости, б. ч. с отверстиями для подвешивания.
Мезин.
Ок. 1/1 н. в.
Топор
образные» инструменты, как их
называет Герасимов, или кремневые
«дисковидные» орудия. Действи-
Рпс.218. Подвески из гагата, воспро-
изводящие женскую Фигуру (Петерс-
фсльс — Германия;..
(Но Петерсу)
тельно, они вполне сходны с теми не-
большими кремневыми дисками, которые
встречаются в стоянках солютрейской
эпохи, доживая еще от эпохи позднего
мустье, и, будучи закрепленными в ру-
коять, заменяли собой топор.
Такого рода орудия должны были
иметь широкое применение в обработке
дерева и более твердого материала, в осо-
бенности в первичной разделке рога оленя.
«Следуетотметить,—пишет тот же автор,—
что большинство рогов оленя, найденных
на стоянке, имеют или совсем обрубленные
глазничные отростки, либо следы рубки
по ний. Рубка производилась с двух сто-
рон. Наша коллекция располагает целой
серией обрубленных глазничных отрост-
ков без всякой дальнейшей обработки,
так что автору не ясна цель отделения
пх от основного стержня рога». Такие
же отростки рога оленя со следами круго-
вой нарубки, производившейся сильными
ударами, направленными несколько наискось, имеются в некотором
числе и в наших сборах из Мезинской стоянки.
1 М. М. Герасимов, Мальта—палеолитическая стоянка, Иркутск, 1931.
512
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Рис. 219. Общий вид стоянки Мальта.
(Левая сторона)
Обработка
кости
Изделия из
кости
М. М. Герасимов приводит интересные сведения о технике обработки
кости в Мальте, дающие картину приемов, употреблявшихся обычно тех-
никой поздней поры верхнего палеолита.
«Кроме вполне закопченных орудий, наша коллекция имеет достаточное
количество заготовок, а также и не вполне доделанных орудий, благо-
даря чему мы можем говорить о нескольких способах обработки кости. Для
изготовления орудий человек предпочитал употреблять бивень мамонта,
в редких случаях брал трубчатые кости оленя, и только для рукояток,
пестов, долот употреблялся рог северного оленя. Предварительная обра-
ботка бивня происходила следующими способами:
1. Если требовалось мастеру получить массивный кусок материала,
он поступал так же, как и при работе по камню, то есть он от куска бивня,
как от нуклеуса, отделял одним ударом крупного отбойника куски
кости, которые употреблялись для дальнейшей обработки (так поступали
при подготовке материала для скульптурных работ, когда надо было полу-
чить массивный, но короткий кусок кости).
2. Следующий способ, более сложный, применялся при заготовке
материала для тонких длинных орудий. Для этой цели первобытный
мастер при помощи либо крупного резца, либо орудия, описанного под
названием «пластина-скребок», надрезал вдоль бивня на нужную глубину
две параллельные борозды, после чего сбивал пластину ударом отбойника.
Затем такая массивная пластинка, в сечении представляющая четырех-
угольник, расчленялась по слоистости бивня на более тонкие пластинки,
которые, собственно, и представляют собой болванки,из которых путемреза-
ния и скобления каменными орудиями и доделывалась нужная человеку
вещь.
Простая кость обрабатывалась оббиванием, то есть от нее откалывали,
пользуясь ее свойством при. ударе под определенным углом к плоскости
разбиваться на куски, подобные кремневым eclats; обработанное таким
образом орудие приострялось путем длительного скобления острым камен-
ным орудием». 1
Таким путем получались многие изделия из кости. Сюда относятся:
прекрасные иглы двух типов — обычные небольшие иглы для шитья и
крупные,-цсегда изогнутые плоские иглы, иногда украшенные рядом
круглых углублений, служившие, быть может, для вязания; шилья
из приостренных и обточенных обломков кости; замечательные по тонкости
1 Герасимов, ук. соч., стр. 12.
МАЛЬТА
513
Рнс. 219. 'Гот же снимок. Место раскопок.
(Правая сторона)
выполнения иглообразные предметы с плоской круглой шляпкой, в верх-
ней части украшенные рельефной спиральной резьбой, которые М. М. Ге-
расимов склонен рассматривать, не без известных оснований, как бу-
лавки, которыми могла закрепляться прическа у женщин. Нужно сказать,
что они, действительно, поразительно напоминают булавки для закалы-
вания одежды пли прически из эпохи бронзы.
Не перечисляя других орудий из кости, укажем довольно частую на-
ходку длинных, тонких наконечников из слоновой кости, всегда несколько
изогнутых. Такие наконечники в современном быту примитивных охот-
ничьих народностей, закрепленные по нескольку на конце древка, с рас-
ходящимися в стороны остриями, служат для охоты на держащуюся
стаями водяную птицу. Однако присутствие на многих из этих костяных
стержней явно намеренной насечки на уплощенной стороне, подобной
насечке напильника, позволяет думать, что это были скорее составные
гарпуны, подобные открытым в верхнепалеолитическпх пещерных поселе-
ниях Астурии.1 К ним должны были прикрепляться с помощью обмотки
один или несколько боковых зубьев.
Особенно обильно в Мальте представлены разнообразные пронизки, Украшения
привески, бусы из самого различного материала — позвонков рыб, мелких
камешков, например кристаллов кальцита с поперечной бороздкой для
привязывания, 2 но чаще вырезанные из слоновой кости. Рядом с ними
стоят более крупные пластины и бляшки с отверстиями для привешива-
ния, обычно украшенные резьбой из ямок, лунчатых углублений и парал-
лельных нарезов. Из них особенный интерес представляет крупная
четырехугольная пластина с небольшим отверстием в центре, которую
М. М. Герасимов считает пряжкой. С одной стороны она украшена круп-
ной спиралью из ямок с окаймлением'из более мелких спиралей, с дру-
гой — имеет изображение трех змей с большими раздутыми головами
(рнс. 230);
1 Я. Obermaier, Fossil man, стр. 208, рис. 92.
2 Подобные украшения — позвонки рыб, прозрачные кристаллы плавикового
шпата и т. п. — известный мадленских стоянках Европы. Mortillet, La Prehistoire, Стр.
210; Dupont, ук. соч?, стр. 156. Изредка в виде украшений в поселениях этого
времени встречаются даже кусочки янтаря, однако местного происхождения. Ср.
Saint-Perier, La grotte cl’Isturitz, стр. 70; Dechelette, Manuel..., стр. 624; Skutil, Les
trouvailles d'obsidienne et d'ambre dans les stations paleolithiques, «L’ Homme pre-
hist.v, 1928, № 4—5, стр. 100; Wiegers, Diluciale Vorgeschichte des Menschen, 1928,
стр. 129.
33 II. П. Ефименко. Первобытное общество. — 1734
r>u
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Мы уже говорили раньше о замечательном погребении, открытом
в центре стоянки среди остатков жилья и сопровождавшемся целым набо-
ром украшений.
Наиболее обычными мотивами орнамента на вещах Мальты являются
Статуэтки
круг, спираль, волнистая линия — то, что в мезинских находках пред-
ставлено прямолинейным узором из ромбов, меандров и пр.
Совершенно исключительный интерес имеет находка в Мальте во время
раскопок 1928—1932 гг. двадцати фигурок, вырезанных из слоновой кости,
большинство которых воспроизводит тот же образ женщины, известный
нам в стоянках Европы в конце ранней поры верхнего палеолита. Они
представляют здесь и некоторые особенности — в таких, например, деталях,
как прическа, которая у многих из них передана особой манерой, в виде
тщательно разделанных локонов. В общем они трактуют фигуру обнажен-
ной женщины значительно более грубо и более условно, чем раннесолю-
трейские статуэтки типа Костенок, Гагарина и др. Некоторые из них снаб-
жены отверстием на нижнем конце, очевидно, служившим для привешпва
Рпс. 2*20. Каменный инвентарь стоянки
Мальта. Нуклеус.
Ок. 1/2 н. в.
(По М. М. Герасимову)
ния, как у раннемадленских фигу-
рок из Петерсфельс (табл. XVIII).
Мы уже отметили выше, что на
двух из этих статуэток, покрытых
с головы до ног странным орна-
ментом из поперечных полос,
В. И. Громов обнаружил изобра-
жение длинного хвоста. Отсюда
он делает весьма правдоподобный
вывод, что эти фигурки предста-
вляют собой женщин, замаскиро-
ванных в шкуру пещерного льва,
имевшего, по мнению зоологов,
тигровую окраску.1
Трудно согласиться с М. М.
Герасимовым, который рассматри-
вает все найденные им статуэтки как изображения женщин. По крайней
мере три из них, на наш взгляд, представляют собой мужские фигурки,
причем одна из них сделана из куска оленьего рога. Они отличаются
Птички
вытянутыми пропорциями и имеют очевидные признаки пола.
Любопытную аналогию мезинским птичкам составляют найденные
в Мальте фигурки летящих птиц с распростертыми крыльями и вытянутой
шеей, в которых нельзя не видеть изображения гагары или утки в полете
(рис. 237). Одна их таких фигурок была открыта при погребении ребенка,
под грудными позвонками. Так как все они имеют отверстия для при-
Изображение
мамонта
вешивания, эта находка заставляет думать, что птички, наряду с мно-
гими другими вещами, сохраненными этим Погребением, должны были
составлять часть сложного убора, украшавшего древних обитателей Маль-
тийской стоянки.
Среди этих неожиданных открытий, сделанных за много тысяч кило-
метров от тех областей Европы, которые западноевропейская наука склонна
была считать единственным «очагом» замечательного искусства верхнего
палеолита, свое место должна занять первая находка для Сибири палео-
литической гравюры, воспроизводящей мамонта (табл. XIX). Она имеет вид
1 Прекрасная статуэтка того же характера, воспроизводящая меховую одежду,
найдена в 1936 г., как мы указывали выше, в Бурети на Лнраре (А. П. Окладни-
ковым).
.ИРКУТСК, НАХОДКА У ГОСПИТАЛЯ
51»
небольшой пластинки-подвески из обычного здесь материала — слоновой
кости — и украшена па
На другой t помещено
изображение мамОнта,
нанесенное тонкими, но
уверенными чертами, об-
наруживающими опыт-
ную руку- Живот-
ное передано в про-
филь, с маленькой вы-
пуклой головксАГи гор-
батой спиной, то. есть
таким, как оно известно
одно,й стороне простым узором из ямок.
Рис. 221. Каменный инвентарь стоянки Мальта.
Диск (лезвие топорика). Ок. l/s н. в.
(По М. .М. Герасимову)
по многим произведе-
ниям мадленского ис-
кусства в Дордони во
Франции —дга стенах
в пещерах Бернифаль, Комбарелль, Фон-де-Гом п в резьбе по
из Ла Мадлен, Раймонден и других мест.'
Вопрос о времени Мальтинской стоянки представляет,
мненно, большой интерес,
ли можно было бы согласиться с
мнением, что она относится к осо-
бенно ранней поре верхнего палео-
лита. Все, что было сказано выше,
позволяет ее рассматривать, в
общей перспективе развития обще-
ства верхнего палеолита, как един-
ственный в своем роде памятник
того, что мы условно называем
кости
несо-
Вряд
Время
Рис. 222. Каменный инвентарь стоянки Мальта, поздним солютре, вместе с тем по
Дисковидный кремень. Ок. х/2 н. в. времени не слишком отдаленный и
(По м. м. Герасимову) от Мезинской стоянки.
ИРКУТСК, НАХОДКА У ГОСПИТАЛЯ
Открытия, сделанные в Мальте, дают возможность понять одну старую,
почти забытую находку, относящуюся к самому г. Иркутску. 1 Осенью
1871 г., при постройке здания для военного госпиталя, на одном из холмов
правого берега р. Ушаковки, протекающей через Иркутск и впадающей
Ангару, было вырыто несколько каменных наконечников и изделий
из мамонтового бивня вместе с пробуравленными клыками оленя. Об этом
стало известно местному отделу Географического общества, откуда было
отправлено два лцца — И. Д. Черский и А. Чекановский — для про-
изводства обследования. Раскопки продолжались всего несколько дней
и в последующее время больше не предпринимались, а сама коллекция
добытых ими чрезвычайно интересных предметов куда-то исчезла —
видимо, при пожаре в^узея Географического общества в 1879 г.
Вещи эти залегали на глубине l1/^—2 м в слое лёссовидного суглинка и
1 Сосновский, Палеолитические стоянки северной Азии, «Труды II межд. конф.
АИЧПЕ», в. V, 1934. стр. 269.
*
516
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Рис. 223. Каменный инвентарь-
стоянки Мальта.
1. — Скребок высокой Формы. 2,—Кон-
цевой скребок. 3. — Выемчатый скре-
бок на конце пластинки. 4. — Крем-
невое режущее острие в костяной
рукояти. 5,—Наконечник лавррлистпой
Формы с подтеской с нижней стороны.
6. — Проколка. Ок. Va u- в.
сопровождались костями мамонта, носорога,
северного оленя, лошади, первобытного быка
и бизона, широкорогого и благородного
оленя, по большей части расколотыми для
добывания мозга.
Судя по сохранившимся описаниям и
некоторым рисункам, изданным Уваровым,
вещественные находки состояли из пяти
<<катушкообразных» предметов, вырезанных
из мамонтовой кости и украшенных орна-
ментом, орнаментированного шара из того
же материала, нескольких браслетов, восьми
подвесок из клыков оленя и обломков дру-
гих поделок. 1 Вместе с ними были найдены
наконечники из сферосидерита, напоминаю-
щие, по описанию,, солютрейские наконеч-
ники дротиков, и много отщепов сферо-
спдерпта, указывающих на производство
каменных изделий.
Многие из собранных в культурном слое
стоянки расколотых костей животных но-
сили следы обработки в виде срезов, ца
рапин и т. д.
Высказывалось, в сущности, конечно, без
достаточных оснований, сомнение в палео-
литическом возрасте иркутских находок. В
этом смысле Черский, несомненно, проявил
значительную проницательность, определив
их время не только как палеолит, но даже
более точно, как солютре или начало мад-
ленской эпохи.2
К сожалению, раскопки этой стоянки,
может быть, не менее замечательной, чем
Мальта, до сих пор не были возобновлены.
1 Уваров, Каменный период, m. I и II.
2 Сосновский, ук. соч., стр. 270.
Головка лошадп (Мас д’Азиль. Франция,.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
в. в. хвойко
МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
МАДЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Выше мы пытались восстановить, насколько это представляется воз--
можным при настоящем уровне нашего знания, те особые, условия хозяй-
ственной среды, которые складываются в мадленское
время. Изучение мадленских поселений позволяет
утверждать, что в эту эпоху наблюдается значитель-
ный прогресс культуры во всех ее проявлениях —
технике, орудиях охоты, искусстве и т. д.
Мы уже ставили выше вопрос, проходило ли населе-
ние северного полушария, по крайней мере в тех
областях, где мы знаем памятники этой эпохи, 1 дан-
ный этап исторического развития совершенно одина-
ковым образом, в одинаковых формах материальной
культуры. Приходится дать на этот вопрос ответ ско-
рее отрицательный, поскольку поселения поздней поры
верхнего палеолита обнаруживают довольно значи-
тельное многообразие в сопровождающих их веществен-
ных остатках. Вместе с тем, если отвлечься от частно-
стей, мы имеем основание думай., что мадленское время
представляет не только дальнейшее усложнение той
первичной родовой организации, которая берет начало
в раннюю нору верхнего палеолита. Мадленское время,
как мы вядели, имеет за собой весьма существенные
Pur. 224. Срединный
резец на удлиненно н
пластинке (Мальта).
3/4 н. в.
Но М. М. Герасимову)
изменения в условиях хозяйственной жизни перво-
бытного общества, намечающиеся, правда, еще в позднее время солю-
трейской эпохй. Ёсли этот процесс и не протекал в совершенно тожде-
1 Нельзя забывать, что так называемая мадленская ступень палеолитической
истории составляет особенность лишь приледниковых пространств Европы и Азии.
В более южных широтах вещественные остатки, отвечающие по времени европейскому
мадлену, носят совершенно иной характер.
51Л ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Средства
охоты
ственн^1х фо.рмах на всем пространстве материка Евразии от Атланти-
ческого до Тихого океана, общее направление его является все же
более или менее одинаковым в мадленское время для населения всей
указанной территории.
Охота на северного оленя, степную лошадь, бизона и мелких животных
Гариуи
Рис. 226. Кремневые резцы боко-
вого и углового тиа (Мальта).
“А н. в.
Illo М. М. Герасимову,
с этого времени становится в умеренных широтах северного полушария
жизненных средств, обусловливая
целый ряд весьма важных по-
следствий для техники и эконо-
мики мадленского общества. В этом
нам необходимо попробовать разо-
браться.
Остановимся сначала на сред-
ствах охоты. Достаточно некоторого
ознакомления с охотничьим воору-
жением, бытовавшим в мадленскую
эпоху, чтобы притти к заключению
о большей его целесообразности,
большем разнообразии, чем в предше-
ствующее время. Приходится думать,
что его] присутствие в мадленских стоянках находит себе объяснение глав-
ным образом в более активном характере, приобретаемом охотой в позднее
время верхнего палеолита. На это бросающееся в глаза обстоятельство
указывает целый ряд авторов.
Главным средством охоты в эту эпоху несомненно становится мета-
тельный дротик с хорошо отточенным костяным наконечником, имеющим
то или другое приспособление для насаживания на древко. Одни из них
для этой цели получают заостренный нижний конец, другие бывают сре-
заны наискось, или заканчиваются в виде
клина, или, наконец, имеют вырезанный
расщеп, куда вгонялось соответственным
образом приостренное древко копья. Ме-
тательное копье, направленное опытной
рукой, сила которой увеличивалась при-
менением копьеметалки, должно было
являться очень серьезным оружием, слу-
жившим главным образом для охоты на
крупную дичь — северного оленя, лошадь,
бизона.
Часто такие наконечники бывают снаб-
жены продольными желобками или раз-
личными узорами из глубоких нарезов,
которые должны были иметь и чисто прак-
тическое значение. Они облегчали сбега-
ние крови и тем давали возможность ско-
рее' обессилить преследуемое животное. Такой же эффект давали
и зазубрины мадленских гарпунов, поскольку они при сильном
ударе образовывали широкую, рваную рану. Некоторые костяные
наконечники дротиков из стоянок позднесолютрейского и раннемад-
ленскогс! времени имеют короткую и сравнительно утолщенную нижнюю
часть. Подобные наконечники, найденные, например, в Мезине, должны
были сравнительно легко выскакивать из своего гнезда в рукояти. Это
делалось, очевидно, намеренно, поскольку можно думать, что такой нако-
МАДЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
519
печник часто привязывался к древку еще отдельным ремеш-
ком. Из наконечников копий путем их дальнейшего усовер-
шенствования должен был выработаться особый, характер-
ный для мадленской эпохи вид метательного оружия — гар-
пун. Этот вид охотничьего вооружения, обычно изгото-
влявшийся из рога Неверного оленя, не сразу появляется
в мадленское время.( Его появление в стоянках западной
Европы относится к эпохе расцвета мадленской техники и
связано с более поздними слоями так называемой гурдан-
ской стадии мадленской эпохи (от грота Гурдан в Пиреней-
ской области юго-западной Франции).
В наслоениях пещер удается "проследить историю заро-
ждения и постепенного усложнения этого вида оружия; она
довольно подробно описана А. Брейлем.
На основании своих наблюдений над изменением гар-
пуна в мадленских стоянках Франции А. Брейль устана-
вливает ряд хррнологических подразделений для мадлен-
ского времени. Это деление представляет все же известное
значение только для крайнего запада Европы, где гарпун
в мадленскую эпоху имел весьма широкое распространение.
В более восточных областях Европы он известен в немно-
гие. 227.
Кремневая
оббитая
пластинка
(Мальта).
7з н. в.
гпх находках, которые прослеживаются пока только до Чехословакии
(Моравии). На' территории же СССР, как в европейской ее части, так п
Рис. 228. Часть плана раскопок 1932 г. в Мальте.
Крестиками показаны находки кремня.
(По М. м. Герасимову)
в Сибири, гарпун из кости появляется, поскольку это мы знаем сейчас,
лишь в более позднее время — не раньше азильской эпохи.
5-20 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Рис. 229. Бляха (лряа:ка?у
из бивня мамонта (Мальта .
Лицевая сторона — с
ямчатым узором в виде
спиралей.
1''„ п. в.
Во всяком случае, для Франции он дает возможность наметить следую-
щие стадии, которые имеют то значение, что отображают общий процесс
усложнения мадленской техники в обработке кости:
1)ротомадленское время. Лучше всего представлено в верхних слоях
пещеры Плакар. Гарпун еще отсутствует.
Раннемад ленское время. Настоящий гарпун также отсутствует, но
в пещерах Дордони и в области Пиренеи появляется его предшествен-
ник в вйде наконечника дротика из кости, имеющего глубокие нарезки
с одной стороны.
Среднемадленское время. Отмечено появлением настоящего гарпуна
с одним рядом хорошо выраженных зубьев. Такой гарпун еще редок
в нижних слоях стоянок этого времени, но ста-
новится многочисленным в более позднюю пору
среднего мадлена.
Позднемадленское время. Время расцвета
мадленской культуры. Характерны гарпуны
двойным рядом зубьев.
Позднейшее мадленское время. Упадок тех-
ники обработки кости. Гарпуны получают упло-
щенную форму, становятся значительно гру-
бее, с угловатыми зубьями.
Подобная же последовательность в измене-
нии формы гарпуна наблюдается, как указывает
Обермайер, и в мадленских слоях пещер Канта-
брийских гор в северо-западной Испании.
В искусно вырезанном мадленском гарпуне
приходится видеть одно из наиболее совершен-
ных средств охоты в эту эпоху.
Имеются основания предполагать, что ма-
дленцы еще не знали употребления лука. Об
этом говорит факт отсутствия наконечников
стрел из кости или же из кремня в мадленских
стоянках. Лук нигде и не фигурирует в мадлен-
ском искусстве. Вместе с тем можно заметить,
что те же гарпуны и обычные наконечники дро-
тиков довольно значительно варьируют в разме-
рах и наряду с крупными экземплярами в мад-
ленских стоянках встречаются подобные пред-
меты совсем небольшой величины. Очевидно, они служили метательным
оружием, применявшимся для различных родов охоты.
Однако в стоянках, относящихся к концу мадленской эпохи, в неко-
торых местностях Европы появляются уже те маленькие кремневые
наконечники,— вероятно наконечники стрёл,—которые позже известны
нам как явление, довольно широко распространенное в поселениях азиль-
ского времени. Такие наконечники встречаются в Ла Мадлен, в гроте
Batie, в гроте Mairie a Teyjat, в Швейцер сбил ьде, Шуссенриде и других
местах. 1
Метательная Этим, нужно думать, не ограничивались средства охоты, которыми
дубина пользовались мадленцы. Если до нас не дошло того, что было сделано из
иного материала, кроме камня, рога и кости, нельзя не предположить.
1 Н. Breuil, Les subdivisions..., рис. 44', Vire et Clement, La grotte Batie a Saini
Sosy (Lot), «L’Anthropologies, 1927, M 5—6, стр. 449; также наблюдения автора
в музеях — Цюрихском (Швейцерсбильд), Лез-Эйзи, Перигё, Сен-Жермене и др.
МАДЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
52»
что они владели, например, таким распространенным у современных
отсталых народностей оружием, как метательная дубина, которая для
целей охоты в значительной степени заменяет лук. Плоская изогнутая
метательная дубина в руках первобытного охотника является весьма
действительным орудием охоты, особенно на более мелких животных.
Затем, как мы уже говорили, охота на зайца или на птицу (полярную
куропатку), которая местами носила, несомненно, массовый характер,
вряд ли была возможна без широкого применения силков и западней.
Для охоты на водйную птицу, например уток, в это время могла быть уже
изобретена сеть, сплетенная из волос или волокон некоторых растений
(крапивы). Перевесы, устраиваемые на прогалинах в местах перелетов
водяной птицы, имеют большое хозяйственное
Силки и.
западин
значение в жизни многих современных народно-
стей Севера. Может быть, для вязания сетей-
перевесов применялись те большие изогнутые
иглы, которые были найдены в Мальтинскоп
стоянке, так как остатки рыб там, хотя и встре-
чаются, но в небольшом числе.
В мадленское время ловкость охотника, уме
ние владеть оружием—дротиком, бумерангом
или гарпуном — приобретает особенно большое
значение по сравнению с предшествующим вре
менем верхнего палеолита. Конечно, охота на
северного оленя в определенные моменты его пе-
рекочевок требует участия больших коллективов.
Это бывает, например, тогда, когда бесчисленные
стада северных оленей пересекают широкие и
быстрые реки, для чего они имеют определенные
места переправ. Эти моменты бывают всегда
приурочены к известным временам года. Для
такой охоты могли объединяться несколько со-
седних орд мадленцев, как это делают австра-
лийцы в сезоны массовых охот на кенгуру.
Однако в другое время охота на северного
оленя, так же как и охота на бизонов или лоша-
дей, должна была требовать применения иных
приемов. Нужно было выследить зверя, под-
Рис. 230. Обратная сторона
той же бляхи.
Изображение змей.
в.
Характер
охоты
красться к нему из-за прикрытия или маскируясь в шкуру какого-
нибудь животного, например волка, как это практиковали североаме-
риканские индейцы прерий при охоте на бизонов, пока не станет воз-
можным поразить его метко пущенным дротиком. Нужно было иной раз
сутками преследовать раненое животное до его полного изнеможения.
Охота это-го рода, которая в условиях мадленской эпохи являлась,
очевидно, главным источником существования, должна была в очень боль-
шой степени изощрять способности охотника, его наблюдательность, лов-
кость, меткость, поскольку от этих качеств начинает зависеть продуктив-
ность охоты. Она должна была, с другой стороны, в большой степени спо-
собствовать развитию техники охоты и общему значительному развитию-
производите л ьнй-х сил мадленского общества. Затем нельзя все же недо-
оценивать значения, какое приобретает в мадленское время рыбная ловля.
Уже многочисленность изображений рыб в мадленских стоянках, извест-
ных на территории всей Европы, показывает, какую роль начинает играть
этот вид хозяйственной деятельности в жизни мадленских охотников на
-522
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.'МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
северного оленя. Об этом же говорят и значительно учащающиеся находки
костей рыб в стоянках мадленского времени.
Так приходится представлять себе изменения в условиях охотничьего
хозяйства, которые должны былииметь место в мадленскую эпоху по край-
ней мере в тех областях Европы, где складывается этот тип культуры в ее
наиболее развитых формах.
Новые черты, принесенные мадленской стадией верхнего палеолита,
становятся особенно ощутимыми, если мы вспомним, что представляет
Раэдеземие
мужского и
женского
труда
Гис. 231.
Условное
в этом смысле предшествующее ориньяко-солютрейское время,
когда получает широкие размеры охота на мамонта.
Расположение лагерей в местах, изобиловавших стадами
этих огромных животных, обеспечивало первобытных охотни-
ков постоянным и надежным источником существования. Этим
мы только и можем объяснить возникновение поселений того
типа, который мы знаем в Костенках, Пржедмосте, Висто-
нице и многих других оседлых лагерях раннего времени верх-
него палеолита. Нужно думать, что охота на мамонта и дикую
лошадь в эту эпоху носила особый характер. Главным средством
ее должны были быть загоны, огромные ловчьи ямы, вырывав-
шиеся на тропинках к водопоям, естественные западни, для
которых использовались изрезанные, обрывистые берега мело-
вых плато, господствующие над речными долинами, и т. д.
Такая охота менее всего могла быть делом небольшой группы
охотников. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что в
ней должно было, в той или другой форме, принимать участие
не только мужское, но отчасти и женское население ориньяк-
ского лагеря.
Тип охоты, складывающийся в мадленское время, должен
был иметь следствием дальнейшее углубление в разделении
труда — прежде всего между мужской и женской частью орды.
Если мужчина-охотник обслуживал потребности орды по части
добывания зверя, изготовления орудий охоты и т. п., на жен-
щину, должно было падать все то, что было связано с услож-
няющейся хозяйственной жизнью лагеря. Забота о жилье в
условиях первобытного общества всегда является делом жен-
щины. Обработка оленьих шкур для покрытия чума на летнее
пзобра- время, поддержание зимних жилищ в той или другой мере
жеиие должны были составлять круг ее повседневных обязанностей.
Мальта Не менее тРУДа и времени требовало шитье меховой одежды,
у н в сопряженное с длительной процедурой выделки меха, приго-
товлением нитей из сухожилий оленя, с изготовлением целого
набора орудий — игл, шильев, лощил и скребков из кости и рога и
разнообразных кремневых инструментов для раскройки шкур и т. п.
Отсутствие глиняной посуды, появляющейся только при переходе
к иным формам хозяйства в начале более поздней, развитой стадии родового
общества, то есть в эпоху неолита, делало необходимым использование
в качестве вместилищ для хранения воды и продовольственных запасов
таких материалов, как кожа, дерево, затем всякого рода плетенки и кор-
зины, в искусстве изготовления которых женщины у примитивных народ-
ностей достигают большого совершенства. Очевидно также, что обработка
растительных волокон и шерсти животных, которая в своих наиболее
простых формах известна у первобытных охотников современности, на-
пример у. австралийцев, могла возникнуть уже в мадленское время.
МАДЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
523
К домашней утвари, связанной с трудом Агенгцины, приходится от-
нести каменные плитки, часто встречающиеся в мадленских стоянках,
которые могли служить не только для растирания краски, как мы уже
об этом говорили, но и для приготовления растительной пищи — зерен,
кореньев и пр. То же значение должны были иметь и каменные ступки,
для которых обычно использовались камни с естественными углублениями.
Но иногда такие ступки бывают довольно тщательно выточены из не слиш-
ком твердых горных пород — песчаника,' гранита и т. п. Подобные на-
ходки известны в Ла Мадлен, Ложери Басс и других пещерных стоянках
Франции. Ступка, выточенная из бивня мамонта, со следами красной
краски на дне была найдена па Афонтовской стоянке под Красноярском
во время раскопок 1924 г. К той же категории предметов домашнего оби-
хода относятся светильники в форме неглубокой чаши овальной формы,
иногда снабженной ручкой, открытые в довольно большом числе в мадлен-
ских стоянках Франции. 1 Мы можем указать одну подобную находку и
на территории СССР — на Яйле в Крыму, хотя она, видимо, связана уже
с следующей за мадленом
азильско-тарденуазской эпо.-
хой.
Таким образом, роль жен-
щины в мадленское время,
казалось бы, должна была
быть не менее значительной,
чем в предшествующее вре-
мя верхнего палеолита. По-
чему же ее изображение на-
чинает исчезать в палеоли-
тических стоянках уже с
конца солютрейской эпохи?
Чтобы попытаться как-то от- рис 232. Передняя часть костяка северного оленя,
ветить па этот существенный Мальта.
вопрос, необходимо учесть ЦЫ м. М. Герасимову)
один достаточно важный
момент, на котором мы уже останавливались выше, — характер пер-
вичных ячеек, то есть тех небольших родовых коммун, из которых
состояло общество в эту эпоху.
Мы привели достаточно соображений в пользу того, что гранью, раз-
деляющей первобытнокоммунистическое общество на стадии среднего
и верхнего палеолита, явилась смена древнего, раздробленного, замкну-
того в себе общества эндогамного типа — обществом экзогамным, то
есть родовым обществом на его начальных ступенях.
Нельзя забывать, что повсюду в Европе и в области Средиземья пере-
ход этот совершался при наличии, если не слишком развитой в
отношении техники, то во всяком случае уже достаточно продуктив-
ной охоты. ’ '
Обрисованные Нами ранее условия развития первобытного общества соз-
давали материальную предпосылку для той роли, которую приходится от-
вести женщине в начальную пору верхнего палеолита. Объяснение исклю-
чительного внимания, которое приобретает женщина в представлениях
первобытного общества в эпоху, предшествующую мадлену, мы искали
в самом характере возникающих экзогамных образований.
Пориобытпое
общество
в эпоху
мадлена
Ср. «L’Anthropologic», 1926, стр. 15.
а-24 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
В какой же форме приходится представлять себе первичные экзогамные
образования ориньяко-солютрейской эпохи?
Многое становится для нас понятным в условиях жизни ориньяко-
солютрейских охотников, если мы предположим, как мы уже об этом
говорили, что:
1. Брак носил в эту эпоху экзогамно-коллективный (групповой)
характер, то есть совершался между целыми группами мужчин и женщин
одного возрастного слоя, принадлежавших к разным родам.
2. Этот брак имел матрило-
кальную основу, то есть со-
провождался переходом муж-
чин в группу женщин.
Для того чтобы могла сло-
житься и исторически окреп-
нуть матрилокальная форма
брака, еще в палеолитиче-
; ское время необходимы были
’• определенные исторические
: условия. Это можно мыслить
• себе,— очевидно, не раньше,
: чем возникает сама экзога-
мия,— как форму брака ме-
жду мужчинами и женщина^
ми, принадлежащими к раз-
ным родовым группам. Веро-
ятно, очень большую роль в
укреплении матрилокальной
практики брачных союзов
должна была сыграть и осед-
лость, создававшая, как мы
видели, особенно благопри-
ятную обстановку для высо-
кого положения женщин вну-
три таких возникающих ро-
довых образований.
При этом, конечно, у нас
нет оснований отрицать воз-
можность и даже необходи-
Рис. 233. Скелет песца, найденный в ямке, вырытой мость того, что уже на ста-
в полу жилья. Мальта. дии мустьерской эндогамной
(По и. м. Герасимову) орды, особенно в более позд-
нее время ее существования,
в лагерях охотников на мамонта, пещерного медведя, носорога и пр.
складываются все предпосылки для значительного возвышения женской
части орды как ^матерей и как хозяек мустьерских становищ.
Таким образом, при всей недостаточности наших знаний, мы могли
видеть как уже в, чрезвычайно отдаленном прошлом, отстоящем от совре-
менности на многие десятки тысяч лет, намечается особое положение
женщины, проходящее через всю раннюю историю родового общества.
Пути разви- Если мы теперь от древней эпохи обратимся к более близкому к нам
тия мотив- времени, то увидим, что матриархальные общественные образования вполне
общества Зак°номерно переживают в определенных исторических условиях вплоть
до неолита, а вероятно, и до начала эпохи металла. Во всяком случае,
МАДЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
5*25
в вполне жизненной форме общественное устройство названного типа
существует еще в XVIII — XIX веках у многих племен североамерикан-
ских индейцев. Его пережитками, как показал это Энгельс, полна вся
ранняя история европейских и внеевропейских народов.
Исходя из всех этих фактов, мы можем с полным правом утверждать,
что основой прогрессивного развития человеческого общества на ступени
так называемого каменного века является именно родовое устройство на
матриархальной основе. Такое положение является твердо установленным
Рис. 234. Часть очага. Мальта.
(По И. М. Герасимову)
марксистской наукой и находит многочисленные подтверждения в работах
советских археологов и этнографов.
Тем больший интерес представляет вопрос о том, почему у некоторых
современных отсталых обществ охотников и собирателей, как австра-
лийцы, бушмены, ведды и другие, мы имеем картину общественно-хозяй-
ственного строя несколько иную, чем должны были бы ожидать на данной
ступени исторического развития. Было бы затруднительно полагать, что
они еще не пережили стадии матриархальных отношений и лишь нахо-
дятся на пути к ним.
Наоборот, у них (австралийцы, бушмены) давно уже зарегистрированы
многочисленные факты, дающие прямые указания на существование мат-
Рис. 235. Очаг нз плит. Мальта.
(По М. М. Герасимову)
рилокального характера брака, материнского счета родства и других
атрибутов матриархального строя. Вместе с тем у большинства этих на-
родностей наблюдается более или менее далеко ушедший процесс перехода
от матрнлокальной к патрилокальной практике брака. Наряду с сохра-
няющейся системой групповых брачных союзов (австралийские брачные
классы), типичной формой брака у них (ведды, бушмены) является парная
семья.
Вследствие тяжелой необходимости в условиях бродячего существо-
вания женщина оказывается часто вынужденной превратиться в спутника
охотника-мужчины, прежде всего в транспортную силу, поскольку па нее
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
526
падает обязанность тащить со стоянки на стоянку, кроме ребенка, также
весь домашний скарб, запас пищи, часто и лишнее вооружение мужчины.
Было бы, конечно, недопустимой натяжкой непосредственно перено-
сить все то, что мы можем заметить у современных наиболее отсталых
" Рис. 236. Погребение ребенка в Мальте.
Расположение вещей при погребении: 1. —Головной обруч.
2?—Ожерелье. 3.—Браслет. 4.—Кремневый нож. 5.—Круг-
лая бляха. 6.—Птичка. 7.—Костяной наконечник. 8 — 10.—
Орудия из кремня.
(По И. И. Герасимову)
племен, находящихся на ступени охотничье-собирательского хозяйства,
в прошлое человечества, реконструируя на основе указанных фактов ран-
нюю историческую стадию, в частности для населения Европы и северной
Азии.
МАДЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Но, вероятно, не будет ошибкой считать, что сама обстановка суще-
ствования мадленских охотников, о которой мы уже говорили выше,
не может не свидетельствовать о весьма серьезных исторических сдви-
гах, имевших место в конце верхнего палеолита.
Эти сдвиги отображает тип мадленских поселений, их временный, се-
зонный характер, — что составляет более или менее повсеместное явление
в северных широтах, особенно к концу мадленской эпохи. С другой
стороны, о том же говорит самый характер жилья, известный нам по
памятникам мадленского и азильского времени.
В своем анализе исторической обстановки возникновения парной
семьи, 1 Энгельс указывает на условия, в которых должна была склады-
ваться эта новая форма семьи. «Чем больше с развитием экономических
условий жизни, с разложением, следовательно, первобытного коммунизма
Pit?-. 237. .Мальта. Некоторые вещи, найден-
ные при погребении.
Ожерелье, бляхи, птичка.
и увеличением плотности населе-
ния унаследованные издревле от-
ношения между полами утрачи-
вали свой наивный, первобытный
характер, тем больше они должны
были казаться женщинам уни-
зительными и тягостными; тем
настойчивее должны были жен-
щины добиваться, как, избавле-
ния, права на целомудрие, на вре-
менный или длительный брак
лишь с одним мужчиной». 2
Говоря о разложении перво-
бытного коммунизма в столь отно-
сительно раннюю историческую
эпоху, Энгельс несомненно не мог
иметь в виду распада первобыт-
ной родовой матриархальной об-
щины, сохраняющей свою жизнен-
ность еще в течение очень долгого
времени и после возникновения
парного брака. У североамерикан-
ских индейцев матриархальная
родовая коммуна удерживается,
как констатирует сам Энгельс, во
всяком случае до конца состоя-
ния дикости и даже до ранних
Таким образом, под разложением первобытного коммунизма в связи
с развитием экономических отношений и увеличением плотности населе-
ния, создающими предпосылку длй возникновения парного брака, Энгельс,
очевидно, мог понимать лишь общую тенденцию исторического развития
первобытного общества, намечающуюся в эпоху, следующую за столь
целостным общественным устройством, каким, в условиях первобытности,
была ранняя родовая (ориньяко-солютрейская) коммуна с ее основным
институтом — групповым браком, основанным на экзогамии и исключи-
тельно высоком положении женщин.
ступеней варварства.
1 «Парная семья возникла на рубеже между дикостью и варварством, большей
частью уже на высшей ступени дикости, в отдельных случаях только на низшей
ступени варварства» (Энгельс, Происхождение семьи, 1937, стр. 69).
2 Энгельс, у к. соч., стр. 69.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Действительно, если мы правильно толкуем относящиеся сюда факты,—
уже с конца так называемой солютрейской эпохи, вместе с изменением ха-
рактера охотничьего хозяйства, в некоторых областях Евразии начинает
становиться заметным процесс превращения древних оседлых родовых
общин ориньяко-солютрейского времени в более подвижные орды мад-
ленской поры.
Такой факт трудно понять, если не учитывать обстановки, создавае-
мой, с одной стороны, значительным ростом палеолитического населения
в предледниковой полосе Европы и Азии, с другой — теми изменениями,
которые происходят в это время в составе животного мира, очевидно,
при участии самого человека. Мы уже говорили, что то и другое явления,
несомненно имеющие' причинную связь, все же не в одинаковой мере
’ наблюдаются в интересующей нас области северного полушария. Огромное
увеличение числа известных нам памятников в мадленское время при-
ходится
отчасти
в особенности на юго-запад Европы — Францию, север Испании,
Бельгию, Швейцарию,
Pip’. 238. Замаскированные Фигуры
танцоров из грота Тсйжа.
(Но Брейлю;
где вместе с тем с началом мадленского
времени все реже начинают попадаться
в составе фауны такие животные, как
мамонт и сибирский носорог.
С другой стороны, вне указанной
области — в южной Англии, как и в
средней и восточной Европе, мадлен-
ские памятники часто носят все же не-
сколько иной характер. Они определя-
ются иногда археологами как мадлен,
продолжающий ориньякскую тради-
цию, или «пережиточный ориньяк»
(aurignacien prolonge). Это в значитель-
ной мере относится к Англии, Герма-
нии, Австрии, Чехословакии и европей-
ской территории СССР, где мадленские
стоянки с подобным инвентарем, еще
сопровождающиеся обычно скоплением
костей мамонта, часто неправильно отно-
сятся к ориньякской эпохе.
В северной Азии стоянки времени мадлена в своем вещественном ин-
вентаре обнаруживают еще более своеобразные черты.
Мы лишены пока возможности дать сколько-нибудь удовлетворительное
объяснение этому явлению. Кроме того, факты, на которых мы могли бы
основывать какие-либо выводы в отношении многообразия памятников
мадленского времени на территории Европы и северной Аз ш, остаются
еще все же крайне недостаточными. Тем более, что на ряду с иными па-
мятниками, в пределах СССР встречаются, как мы уже имели случай об
этом сказать, стоянки типа Мезина на Десне и Мальты на Ангаре, по бо-
гатству и разнообразию бытового инвентаря и высокой художественности
изделий из кости не уступающие наиболее выдающимся находкам этого
рода в йриатЛантической области Европы. Причем как в Мезине, так и в
Мальте несомненно еще во многом переживает старый уклад родовых ком-
мун, сложившийся в более раннюю пору верхнего палеолита и связанный
-с охотой на мамонта и лагерями оседлого типа.
Однако исчезновение в мадленских поселениях изображения жен-
щины в его прежнем, как бы узаконенном традицией типе несом-
ненно имеет место, и это обстоятельство нельзя считать случайным.
МАДЛЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО
529
Оно требует своего объяснения. Изображения женщин становятся здесь
очень редкими и весьма условными по манере выполнения. Их место
занимают странные образы человеческих существ, характерные для ма-
дленской эпохи, почти всегда уже представляющие мужчин, причем редко
сохраняющие традицию реализма в передаче этих изображений.
Можно думать, таким образом, что в эпоху верхнего палеолита по- Две тенден-
стоянно боролись две тенденции. * Ч™
С одной стороны, обилие добычи дцлжно было порождать стремление
к оседлости, с другой — более трудные условия добывания зверя вели
к бродячему существованию, которое в' исключительно тяжелых усло-
виях ледникового времени должно было являться в известной мере выс-
шей, специализированной формой охотничьего хозяйства, так же как
кочевое пастушество позднейшего времени явилось в определенных усло-
виях, как мы знаем, высшей формой скотоводческого хозяйства.
Если это было действительно так, — на женщине должна была лежать
одна из наиболее тяжелых обязанностей бродяжнического существования—
перенос имущества в далеких странствованиях мадленцев. Можно пред-
полагать, что при зимних перекочевках это облегчалось применением
простейших саней, которые могли давать возможность легче переправлять
оленьи шкуры, служившие для сооружения жилища, запасную меховую
одежду и тому подобную домашнюю утварь. Видимо, изображение таких
саней мы имеем на костяной пластинке, найденной в пещере Лортэ (Верх-
ние Пиренеи), на подвеске из Сен-Марсель и др. 1
Высокий уровень развития мадленской техники и большое сходство Возможность
ее в целом ряде признаков с хозяйственным обиходом современных по- прнручемя
лярных народностей может наталкивать на мысль, не относится ли при- се®®Р"®г<>
ручение северного оленя, который имел столь большое значение в суще-
ствовании мадленцев, уже к этой эпохе. Такое предположение является
особенно соблазнительным, если вспомнить, например, то разнообразное
имущество, которым обладали мадленские охотники и которое, очевидно,
им приходилось переносить с собой в их кочевках.
Никаких определенных доказательств в пользу подобного предполо-
жения мы не были бы в состоянии привести. Наоборот, имеются скорее
указания противоположного характера, например отсутствие соответ-
ствующих изображений в мадленской искусстве. Но окончательно подоб-
ное предположение пока как будто не мбжет считаться опровергнутым, \
поскольку в отношении мадленской эпохи речь могла бы итти о приру- '
чении этих животных в очень небольших размерах, очевидно главным
образом для нужд передвижения. Во всяком случае, интересно, что в не-
которых сибирских стоянках, относящихся к мадленскому времени, напри-
мер на Афонтовой горе под Красноярском, встречаются такие изделия из
кости, в виде пластинок с 2—3 крупными отверстиями, которые как будто
находят себе объяснение в принадлежностях современной оленьей упряжки.
В этой связи большой интерес представляют некоторые факты, став-
шие известными за последнее время, которые, видимо, свидетельствуют Собава
о том, что появление собаки — первого известного нам домашнего живот-
ного— уже определенно относится к мадленскому времени. Сведения о на-
ходках этого рода остатков в стоянках мадленской поры имеются пока
для одного пункта — Афонтовой горы в Красноярске. 2
1 Ту же мысль высказывает и Соллас (Ancient Hunters, 1924, стр. 557^, приводя
для сравнения простейшие сани эскимосов (рис. 318 и 319).
2 Г. П. Сосновский, Поселение на Афонтовой горе, «Палеолит СССР», ГАИМК,
стр. 133.
34 П. II. Ефименко. Первобытное общество — 1734
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
30
Рис. 239. Изображения людей.
1- и 4. — Ложери Басс. 2. — Лурд. 3. — Гурдан.
Сначала при раскопках И. Т. Савенкова, затем во время раскопок
Ауэрбаха, Сосновского и Громова в 1923—1925 гг. в нижних слоях Афон-
товой горы среди других культурных остатков были найдены кости Canis,
очень близкого по определению М. В. Павловой к собаке, встреченной
Иностранцевым в известной Ладожской неолитической стоянке — Canis
Inostranzevi Anutschini. По мнению В. И. Громова, 1 она представляет собой
волка на первых стадиях его приручения.
Того же типа собака найдена — по определению А. А. Бялыницкого-
Бирули— в несколько более поздней (азильской) стоянке на Верхолен-
ской горе под Иркутском и в азильско-тарденуазских пещерных поселе-
ниях Крыма. Небольшое количество известных пока остатков собаки,
как правильно замеча’ет Г П. Сосновский, указывает, видимо, на то,
что она могла лишь в редких случаях использоваться на мясо, так как
слишком ценилась как помощник на охоте, как тяговая сила в охот-
ничьих экспедициях и т. д. вероятно, она разводилась еще в очень не-
большом числе.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАДЛЕНСКОГО ИСКУССТВА
Совершенно особую область мадленской культуры, как она склады-
вается на западе Европы, представляет художественное творчество, ко-
торое* достигает замечательного расцвета в конце ледникового времени
и затем, с борцом этого времени, угасает, как будто бы не оставив после
себя заметного следа. То, что мы называем искусством мадлена, тщетно
было бы искать в азильских стоянках Европы. Это указание С. Рей-
нака нельзя не считать по существу вполне отвечающим известным нам
фактам с той лишь поправкой, что это творчество не появляется сразу,
так как истоки мадленского искусства могут быть прослежены, через все
1 В. И. Громов, Геология и фауна палеолитической стоянки Афонтова гора II,
«Труды Комиссии по изучению четвертичного периода», 1932, I, стр. 166.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЫАДЛЕНСКОГО ИСКУССТВА
531
предшествующее время верхнего палеолита, как и его исчезновение не
было, конечно, внезапным.
В искусстве верхнего палеолита нельзя не заметить двух главных этапов.
Первый, который носит название архаической эпохи палеолитического
искусства, отмечен появлением и распространением замечательных изо- »
бражений женщины, описанных нами выше; второй, более или менее со-
впадающий с мадленской эпохой, имеет свои особенности. В мадленскую
эпоху связь художественного творчества с обработкой кости становится
особенно заметной. Мы видим, как в наслаивающихся отложениях пещер-
ных стоянок области Пиреней и Дордони расцветает техника обработки
кости и рога оленя. Целый ряд видов орудий берет свое начало в эту
эпоху, и ранее существовавшие их типы здесь приобретают исключитель-
ную тонкость и законченность. На «начальнических жезлах», кинжалах,
наконечниках дротиков, метательных дощечках, где раньше можно было
видеть только грубовато выполненные чисто технические порезки, в ма-
дленское время появляются изображения в гравюре или рельефе или же
сам предмет получает скулйптурное оформление.
В мадленской искусстве скульптура, однако, отходит более или менее
на второй план. Для цего особенно характерными являются гравюра и
невысокий рельеф, з которых обнаруживается высокое мастерство мадлен-
ской художественной техники. Однако не только в резьбе на кости, роге
оленя, слоновой кости и плитках мягкого камня, в большом числе встре-
чающихся в мадленских стоянках, но и в росписи пещерных подземелий,
и в изображении животных, изваянных из камня и глины на стенах пещер
п скальных убежищ, можно видеть тот же отпечаток высоко развитого
художественного стиля.
Как отметил еще С. Рейнак, цветущее искусство мадлена не предста- Человско-
вляет собой «искусства для искусства» — оно живет почти исключительно образные фц-
образами тех животных, роль которых в человеческом существовании ГУРЫ
была особенно заметной. Изображения людей в нем, наоборот, достаточно
редки, в противоположность тому, что мы видели в более раннее время,
причем любопытно, что эти изображения в большинстве случаев имеют
какой-то странный, получеловечес^ий, полузвериный облик.
Не только в Альтамире и в Хорное де ла Пенья (северная Испания),
но и в гроте Комбарелль и Марсула (Франция) были найдены выцара-
панные на стенах эти мало понятные человекообразные фигуры, кото-
рые повторяются в резьбе на кости в Мас д’Азиль, Кроманьон и других
стоянках Франции и в которых Э. Пьетт хотел видеть человекообразных
обезьян, напоминающих питекантропа (!?). По крайней мере в некоторых
случаях их приходится, вместе с А. Брейлем, истолковывать как людей,
замаскированных для обрядовогО танца, а может быть, и для охоты. Так,
например, несомненно, танцоров изображают три фигуры в коротких
меховых плащах, с марками в виде головок серн на известном «жезле»
из Тейжа (рис. 238). Еще более замечательна в этом смысле фигура так
называемого шамана в пещере Трех братьев (Ариеж), открытая Бегуэ-
ном и представляющая пляшущего человека в накинутой шкуре с рогами
оленя, хвостом и т. д. 1
В других случаях их можно скорее понять, — если сравнивать их, на-
пример, с рисунками бушменов,—как изображения не реальных людей,
но духов умерших пли тех существ, полуживотных-полулюдей, которыми
населяет природу воображение первобытного охотника. Те же предста-
1 См. статью Б. Л. Богаевского в «Советской Этнографии», 1934, № 4, стр. 34.
*
532
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
вления мадленский человек переносил и на некоторых животных. Если
пересматривать их воспроизведения в эту эпоху, бросается в глаза, что
Изображе-
ния бизона
наибольшее внимание в этом отношении он уделял ди-
кому быку — бизону.
Изображения массивной фигуры бизона — с косма-
той, свисающей гривой, характерной низко посаженной
головой, коротким туловищем и высокой горбатой спи-
ной — являются одним из наиболее обычных сюжетов в
мадленском искусстве. Но далеко не всегда эти изобра-
жения передают его чисто реалистически. Во многих слу-
чаях, на рисунках в пещерах Альтамиры, Лурда, Фон-
де-Гом и ряде других, можно видеть, что этому живот-
ному часто дается почти человеческий профиль. Копиру-
ющие его человекообразные маски повторяются на стенах
тех же пещер. Кроме того, фигуры животных часто сопро-
Культ
медведя
и быка
Рис. 240. Палео-
литические изо-
бражения бизо-
нов (показана
манера трактов-
ки голов этих
животных).
1. — Марсула.
2.— Альтамира.
3. — Нио.
4.—Брюникель.
5. — Грот Ла j
Грез. <
вождаются рисунками, имеющими несомненно символи-
ческий характер. В пещерах Сан Изабель и Фон-де-Гом
на них можно видеть изображения жилищ, в пещерах Пин-
даль и Нио—гарпуны и, видимо, бумеранги, в пещерах Мар-
сула, Мас д’Азиль, Тейжа и других—какие-то непонятные
знаки, в пещере Кастильо они покрыты отпечатками рук.
Находка в пещере Раймонден (Шанселад), 1 которую
вряд ли можно рассматривать как изображение овце-
быка, как полагают некоторые авторы, уже прежде всего
по величине этого животного (совершенно такие же го-
ловы, как здесь изображенная, в пещерах Ложери Басс и
Лурд не вызывают сомнений в своей принадлежности
бизону),—объясняет до некоторой степени значение при-
веденных рисунков. Она представляет продолговатую
пластинку из кости (рис. 243) с ушком, сделанным, оче-
видно, для того, чтобы ее можно было привешивать, если
только она не служила дощечкой для вращения, как чу-
ринга из пещеры Ла Рош, описанная Пейрони. На ней
видны силуэты человеческих фигур, стоящие по сторонам
почти съеденной туши бизона. От последнего сохра-
нились — позвоночник, характерная голова с горбатым
носом и бородкой и вытянутые передние ноги.
Эта сцена по всей обстановке воспроизводит один из
важных моментов тотемического культа — торжествен-
ную трапезу, в которой съедается тело тотема. В позе,
приданной бизону, нельзя не видеть поразительного
сходства с той обстановкой, в которой во время «мед-
вежьего праздника», съедалось, по записям этнографов,
это почитаемое животное у остяков, вогулов, гиляков,
айнов и многих других народностей Сибири.
Медвежий праздник настолько интересен по сохра-
нившимся в нем пережиткам тотемических представле-
ний, что мы не можем не привести его краткое описание по тем дан-
ным, которые сообщает Н. Харузин. “
1 Feaux, La grotte de Raymonden, «.Bulletin de la Societe historique et archeologique
du Perigord», 1875, стр. 42; Й. Breuil, Nouvelles figurations du mammouth gravees sur
os, «Revue mensuelle de I'Ecole d’Anthropologic de Paris», 1905, стр. 150—155.
2 H. Харузин, Этнография, Спб., 1905, в. IV, стр. 147.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАДЛЕНСКОГО ИСКУССТВА
533
После убийства медведя остяки и вогулы, присутствовавшие на охоте,
начинают бросать друг в друга снегом, а летом мхом и землей, чтобы
этим путем очиститься от преступления. Затем снимают
шкуру, оставляя ее нетронутой только
на голове и передних лапах, после чего
с соблюдением некоторых ритуальных обрядов переносят
его в дом, где укладывают в наиболее почетном месте
шкуру медведя с головой и конечностями; голову
кладут между лап. Перед головой животного
расставляется несколько сделанных из бересты или хлеба
изображений оленей в виде символического жертвопри-
ношения убитому медведю. Женщины не имеют права смо-
треть медведю в глаза или целовать его морду, это мо-
гут делать только мужчины. На глаза его прикрепля-
ются серебряные монеты, на конец морды надевается бе-
рестяной кружок, а если это самка, на пальцы ей на-
девают женские украшения — кольца. Празднование
длится несколько ночей подряд и носит религиозный
характер. Каждая ночь начинается с пения обрядовых
песен и заканчивается представлениями, во время кото-
рых участники надевают берестяные и деревянные маски,
стараясь подражать в пляске телодвижениям медведя.
При начале и окончании действия низко кланяются
медведю. Вновь пришедшие целуют его, мужчины прямо
в морду, а женщины через платок. В течение хода празд-
ника варится и съедается мясо медведя, но ритуальные
части его остаются нетронутыми.
В сходных чертах эти праздники имели место у дру-
гих народностей Сибири. Можно думать, что в них уце-
лели до недавнего времени те черты древних верований,
которые должны были сложиться еще в мадленское время.
В этом смысле широко распространенное во всей северной
Евразии почитание медведя, которое может быть просле-
жено по археологическим остаткам далеко в прошлом,
представляет разработанный культ, не менее важный, чем
культ быка в западной Европе. Нельзя не отметить, что
этот последний очень долго переживает в области Среди-
земья, где его можно встретить в древних крито-микен-
ских священных играх с быками, изображенных на мно-
гих произведениях этого времени,-Любопытно, что эти
игры до сих пор сохранились совершенно в том же виде,
как они переданы микенским искусством за 2 тысячи лет
дон. э., в современных баскских народных развлечениях —
courses de taureauxlandaises,—представляющих, несомнен-
но, дошедшие до нас из седой старины сакральные игры.
То, что нами было отмечено в отношении дикого быка-
Рис. 241. Палео-
литические изо-
бражения бизо-
нов (показана
манера трактов-
ки голов этих
животных).
1. —Тейжа.
2. —Фон-де-Гом
3 и 4. Альтамира
5. — Лурд.
бизона, в той или иной степени относится и к другим
животным. Значение, которое вкладывал мадленский охотник в их изо-
Мадлеиекие
рисунка
Сражения, интересно раскрывается одной недавней находкой в пещере
Пешиале 1 (Перигор) пластинки с выгравированной сценой, в которой
1 Н. Breuil, Oeuvres d’art paleo lithiques inedites du Perigord et art oriental d'Espagne,
*Revue anthropologique», 1927, стр. 101—108.
431
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Рис. 21’2. Дичины полулюдей-полужпвотиых в мадленской искусств? Франции.
1 и 8. — Грот Истюриц. 2, 3, 4. — Мариам. 5. — Альтамира. 6, 7. — Комбарелль.
участвуют три фигуры: какое-то человекообразное существо прибли-
жается с распростертыми руками к медведю, стоящему на задних лапах,
перед которым склонилась третья фигура, изображающая не то птицу, не
то человека (рис. 245). В ней нельзя не видеть иллюстрации к какому-
то эпизоду из жизни полулюдей-полужпвотных, с которыми в своих пред-
ставлениях связывали себя орды мадленцев.
Совершенно справедливо поэтому С. Рейнак, а за ним и другие иссле-
дователи считают возможным рассматривать мадленское искусство в его
различных проявлениях, известных нам по памятникам Франции, как ото-
бражение тотемических представлений, которые до сих пор живут у при-
митивных охотничьих народностей. Наиболее полно эти воззрения сохра-
нились у современных австралийцев. Весьма возможно, что тотемический
строй представлений с его наиболее характерной чертой — культом two
или другого животного, растения и т. д., являющегося покровителем дан-
ной общественной группы, — возникает довольно рано, переплетаясь в тех
или других формах с производственной магией. Нельзя считать невозмож-
ным, что он восходит еще ко времени зарождения первых зачаточных
родовых образований.
Изображения Однако первоначально, в раннюю пору верхнего палеолита, он должен
женщины был занимать подчиненное место в отношении того круга идей, который
ставил женщин-матерей в центре первобытной общественности возникаю-
щего рода, наделяя их и в реальной обстановке существования, и в области
культа и магии прерогативами первенства. Нам кажется, что свое разви-
тие культ тотема мог получить только на какой-то последующей ступени
матриархального рода, когда тотем, как покровитель охотничьей орды,
начинает дополнять, а затем и вытеснять прежний культ женщин-родо-
начальниц. Исчезноценйе изображений женщины, по крайней мере как
массового явления, к началу мадлена может служить некоторым показа-
телем этого процесса.
Мы уже видели, что фигурки, изображающие женщин, становятся
действительно редкими в мадленское время, причем они заметно приобре-
тают характер амулетов, подобных амулетам того же характера, сохра-
нившимся у народностей северо-восточной Азии в XVIII и первой поло-
вине XIX ветФ.
Естественно Возникает вопрос: почему же, если ослабление матриар-
хальной организации, несомненно, не могло составлять общего явления
в среде обитателей приледниковых пространств северного полушария
в эпоху мадлена, эти фигурки все же перестают встречаться, например
в мадленских поселениях восточноевропейской равнины и северной
Азии, где почти до конца мадлена сохраняется старый уклад охотничьего
хозяйства, основанного на охоте на мамонта и других животных и свя-
занного с известными формами оседлости?
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАДЛЕНСКОГО ИСКУССТВА
535
При затруднительности вполне определенного ответа на этот вопрос
за недостатком фактического материала, мы можем все же предположить,
что отсутствие изображения женщин носит здесь, в указанной истори-
ческой обстановке, скорее кажущийся характер. Это может объясняться
довольно рано становящимся заметным в мадленских поселениях неко-
торых районов упадком использования кости за счет других материа-
лов — в частности, например, дерева. Действительно, мы знаем, насколько
сравнительно слабо пока представлены в большинстве известных нам
мадленских поселений на территории всей Европы, кроме Франции и
некоторых прилегающих районов, находки обработанной кости, в част-
ности и в виде предметов художественного характера.
Отсюда мы в праве заключить, что изображения женщиншредков
могли продолжать существовать в среде тех или иных групп населения
Европы и северной Азии и в мадленское время, но они могли делаться,
например, из дерева и потому не сохраниться.
Такие находки, как открытые в Елисеевичах (1935 и 1936 гг.) много-
численные пластины из слоновой кости (чуринги) с выгравированными
на них какими-то очень сложными условными изображениями, сопро-
вождавшие замечательную фигурку женщины, в сущности почти не имеют
себе аналогий в других находках, сделанных в Европе вне указанной срав-
нительно очень небольшой области распространения «типичного» ма-
длена.
С другой стороны, здесь, на востоке Европы, если судить по Мезину,
Пржедмосту, Кирилловской стоянке, отчасти Тимоновке и Елисеевичам,
изобразительное творчество, сохраняя, очевидно, свое магическое зна^
чение, становится на несколько иной путь, чем на западе. Оно приобре-
тает здесь преимущественно условный, по существу, конечно, весьма зна-
чительный по внутреннему осмыслению, даваемому ему первобытным
человеком, но внешне как бы декоративный, даже орнаментальный и
вместе с тем, в сущности, конечно, символический характер. Это обсто-
ятельство может быть также поставлено в связь с несколько иным путем
общественно-хозяйственного развития в эпоху мадлена на востоке Европы
в сравнении с областью культуры мадлена, представленной памятни-
ками, открытыми во Франции.
Во всяком случае, находка в Елисеевичах крупного скульптурного
изображения женщины, сделанного из "слоновой кости, показывает, что
этот образ не исчезает здесь в мадленское время.
Многие характерные черты тотемизма, такие, как существование пра-
здников, во время которых тотем поедался посвященными членами группы
в торжественной трапезе; обряд воскрешения тотема (пнтихиума), сохра-
нившийся до недавнего времени в ежегодных осенних обрядах охотнпчье-
рыболовческих племен северной Азии; торжественные похороны тотема;
подражание ему в особом ритауле и т. д., —наблюдающиеся в среде со-
временных отсталых обществ, в переживаниях пли еще в очень свежих
чертах, как в частности у тех же австралийцев, видимо в таких же или
близких формах существовали и у охотников на северного оленя мадлен-
скоп эпохи.
Значение
мадленских
изображений
В тотемических представлениях, в их более поздних вариантах, сле-
дует различать, собственно, две стороны: представление о происхожде-
нии от определенного тотема — зверя, птицы, змеи, ящерицы, иногда
даже насекомого, растения и т. д. — и магическую обрядность, которая
в качестве своей подосновы часто имеет более или менее ясные хозяйствен-
ные интересы группы.
5Э6
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Рис. 243. Сцепа обрядового поедании бизона из грота Раймондов (Франция).
У тех яге австралийцев тотем прежде всего выступает в роли вообра-
жаемого предка, который имеет те значение, что он делает понятным для
первобытной охотничьей группы общность происхождения составляю-
щих ее членов, то есть, очевидно, общность их интересов, так как усло-
вия существов'айия подвижных, находящихся в постоянных кочеваниях
в поисках пищи орд австралийцев не благоприятствуют осознанию ши-
роких родственных связей. В этом можно усматривать одну из важных’
чисто общественных функций тотемического культа, который в своем
развитии и усложнении переплетается со складывающимся здесь особым
типом общественного уклада.
Вместе с тем предок-тотем узаконивает различие мужчины и жен-
щины, взрослого и несовершеннолетнего сочлена группы, закрепляя за
«посвященными», то есть «стариками», круг особых прав и преимуществ,
которых лишены женщины, дети и непосвященные. Австралийцы пред-
ставляют в этом смысле, видимо, образец упадочного общества, доведшего
тотемические воззрения до их крайних проявлений, тем более что у дру-
гих примитивных народностей, находящихся на той же стадии развития,
но живущих в лучших условиях, подобные явления выражены гораздо-
более слабо.
Если в настоящее время производственный характер тотемического
культа у австралийцев представляется более или менее затемненным,
потому, во-первых, что экзогамно-патрилокальная практика привела
к образованию внутри орд различных тотемических подразделений и,
во-вторых, потому что у них, как и у других таких же народностей, то-
темические представления уже в силу внутренней логики первобытного
мышления прошли определенный путь развития, — все яге основы его,
коренящиеся в условиях-охотничьего хозяйства, выступают довольно
отчетливо. Несомненно, еще в большей степени это имело место в мад-
ленскую эпох^. "
Мы уже говорили, что в глазах первобытного человека определен-
ная обрядность, как например воспроизведение сцены охоты, имела
значение реального способа овладения зверем. Равным образом знаки
внимания, оказанные изображению животного, особенно тотема, могли
иметь силу убедить его способствовать удачв^Ьхоты.
Изображения тех же животных на охотничьем оружии — копье, буме-
ранге, метательной дощечке — могли оказывать такое иге действие в отно-
шении результатов охоты. Таким образом, если мы учтем характер перво-
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАДЛЕНСКОГО ИСКУССТВА
537:
Рпс. 244. Группа человеческих Фигур перед огромным изображением бизона па абри.
дю Шато, в Лез-Эйзп (Франция).
Гравюра на обломке ребра
бытиого мировоззрения, представляемся понятным, что известная маги-
ческая процедура для человека, стоящего на этой ступени развития, каза-
лась зачастую необходимой частью его производственной деятельности.
Так называемое «искусство» мадлена приходится относить к явлениям
этого порядка.
С этой стороны оно уже достаточно хорошо освещено в работах ряда
западноевропейских ученых — С. Рейнака, Брейля, Капитана, Бегуэна
и др.
Без такого допущения трудно было бы объяснить, например, условия, Пещеры,-
в которых встречаются изобра;кения животных в пещерах западной
Европы, относящихся к палеолитическому времени. Они часто находятся
в узких, трудно доступных и совершенно темных подземных галереях,
на значительном расстоянии от входа. 1 В пещере Ла Мут, доступ в кото
рую до ее исследования был закрыт образовавшимся наносом, первые
рисунки обнаружены были Ривьером на расстоянии 93 м от входа и тяну-
лись до 128 м. В пещере Комбарелль, представляющей узкий подземный
коридор шириной едва в 2 м, такие изображения начинаются только с 120 м
и идут до конца ее, то есть на расстоянии от входа свыше 200 м. В пещере
Нио они обнаружены на расстоянии 800 м в боковом ответвлении пещеры. То
же можно сказать и в отношении пещер Пиндаль, Марсула, Фон-де-Гом,
Пасиега, Тюк д’Одубер и др. В такие пещеры мадленец мог проникать
лишь при свете факелов, свернутых из бересты, или жировых ламп, чтобы
наносить изображения тотемов или выполнять перед ними свои обряды.
Некоторые из этих изображений свидетельствуют о том, что таким
путем, то есть воспроизводя образы животных на стенах пещер, человек
имел целью облегчить себе овладение ими. Так приходится объяснять
происхождение знаков на изображениях зубров в пещере Нио и др.,
которые передают или раны, или даже торчащий в боку животного гарпун,
дротик и т. п. Подобные рисунки в палеолитических пещерах Франции
и северной Испании являются довольно обычными. В той же связи осо-
бенно замечательным является недавнее открытие, сделанное в пещере
Монтэспан в районе северных Пиреней, где был найден ряд изображений
животных, вылепленных из глины, между прочилифигура медведя без го-
ловы, которую заменял лежащий здесь же череп, — видимо, первона-
чально она была прикрыта настоящей шкурой животного: на глине яв-
ственно были видны следы ударов дротика.
1 Dechelelte, ук. соч., стр. 242.
53S ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Следы чело- Значительный интерес представляет открытие следов человека в от-
века в иеще- даленных помещениях пещер, вход в которые был закрыт в течение тыся-
Рах челетий и обнаружен в наши дни в результате поисков, производившихся
с целью изучения произведений наскального искусства. Такие находки
известны в юго-западной Франции, в пещере Тюк д’Одубер (Ариеж) и
в гроте Пеш-Мерль в департаменте Лот. В последнем аббат Лемози,
описавший эту находку, обнаружил в одном из отдаленных кулуаров
пещеры, куда вел узкий вход, пробитый в сталагмитовых колоннах еще
палеолитическими людьми, следы двух человек — детские (подростка),
и, видимо, женские, судя по размерам отпечатков. Эти следы хорошо со-
хранились, так как успели пропитаться натеком извести. Здесь же были
замечены следы палки (3 см в диаметре), весьма возможно — копья. Бегуэн
относительно своих находок и Лемози относительно находок в Пеш-
Мерль думают, что отпечатки оставлены были обнаженной ногой. Однако
Рис. 24а. Сцена на шиферной пластинке пз грота Пешпале.
приводимый Лемози фотоснимок заставляет в этом усомниться. На нем
совершенно отсутствуют отпечатки пальцев — виден лишь хорошо обри-
сованный контур как будто обутой ступни. Присутствие в обоих известных
нам случаях следов подростков, проникавших в эти глубокие подземные
галереи, само по себе весьма интересно, как и присутствие женщины
в гроте Пеш-Мерль. 1
Стилизация Если мы имеем право с полным основанием рассматривать мадленское
изоораженип ИСКуССТВ0 как искусство в художественном отношении по преимуществу
реалистическое, то есть имевшее своим предметом совершенно реальные для
перво'бытного человека вещи и представления, стремившееся воспроизводить
их в формах жизненно правдивых, — это не исключает того, что, подчи-
няясь внутренним законам изобразительного творчества, в эпоху мадлена,
особенно в конце ее, некоторые изображения животных приобретают
постепенно довольно условный характер. В этом обнаруживается процесс,
который можно назвать стилизацией формы. Такую стилизацию претер-
певают главным образом своеобразные фигурки животных (олени, козы),
1 A. Lemozi, La grolle-temple <}м^Peek-Merle, Paris, 1929, стр. 153; Begouen et
Vallois, Elude des empreintes de pieds humaines du Tuc d’Audoubert, «Inst intern,
d’anthropologie», III Session, Amsterdam.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАДЛЕНСКОГО ИСКУССТВА
539
изображенные не в профиль, a en face или сзади. В иных случаях они
получают почти орнаментальный характер, хотя традиция живого, еще
реалистического искусства, которое знает по большей части только оди-
ночные образы и наиболее простые их композиции, не дает им возможно-
сти превратиться, путем ритмического повторения, в настоящий орна-
мент. 1
Наряду с подобного рода изо-
бражениями мы встречаем резьбу по
кости, которая довольно близко напо-
минает чисто орнаментальные узоры.
Особенно интересны в этом смысле
костяные палочки, происходящие из
раннемадленских отложений пещер-
ных стоянок, расположенных в север-
ных предгорьях Пиренеи. Они быва-
ют всегда украшены богатой резьбой
в виде рельефных завитков и двойных
спиралей, в которых Можно видеть,
например, стилйзацию’растительного стебля с отходящими от него вьющи-
мися побегами, хотя, по мнению Брейля, это скорее глаза животного,
повторяющиеся в разных сочетаниях. Однако Сен-Перье объясняет их
как мотивы, воспроизводящие очертания раковин.
Во всяком случае, каков бы ни был внутренний смысл этих рисунков,
за их внешней узорностью, несомненно, еще чувствуется какой-то образ.
На основании некоторых этнографических аналогий тот же Сен-
Перье 2 пытается найти объяснение этих палочек как знаков вестников,
Рис. 247. Сиена из пещеры Нио (Франция).
(По Картальяку и Врейлю;
подобных австра-
лийским, или мо-
делей татуировки.
Монтандон же идет
еще дальше 3 в по-
добных довольно
беспочвенных со-
поставлениях, ус-
матривая в этих
предметах сход-
ство с разукрашен-
ными палочками
айнов, которые
служат для под-
держания усов BQ
, ч, время еды.
Во всяком случае, линейный, геометрический по характеру и проис-
хождению узор никогда не достигает в мадленском искусстве западной
Европы той сложности, какую он имеет в некоторых стоянках восточной
Европы (Мезин).
1 Н. Breuil, La degen erescence des figures d’anintaux en motifs ornementaux a Vepoque
du renne, «С. B. de I’Acad, des Inscriptions el Belles-Lettres», 1903, стр. 105; его же,
Exemplcs de figures degenerees et stylisees а Гepoque du renne, «Congres intern, d’anlhrop,
et d'archeol. prehist.», XII Session, Monaco, I, стр. 394. “
2 R. de Saint-Perier, Les baguettes sculptces dans I’art paleolithique, eL’Anthropolo-
gies, 1929, t. XXXIX, .V 1—3, стр. 43.
3 «L’Anthropologies, t. XL, 1930, As 3, протокол заседания, стр. 286.
540
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Переход от
реалистиче-
ских к услов-
ным изобра-
жениям
Нам остается сказать еще несколько слов в связи с вопросом об исчез-
новении мадленского искусства в эпоху, следующую за окончанием
ледникового времени. Кажется странным и необъяснимым, как это искус-
ство, имевшее, казалось бы, такие глубокие корни в общественно-хозяй-
ственном строе мадленской эпохи, могло исчезнуть сразу, как будто
оборвавшись, не оставив после себя следа в азильских стоянках тех же
районов западной Европы. Объяснение этого загадочного факта трудно
было бы искать только в культурном обеднении, некоторого рода упадке,
которое испытало первобытное население Европы при переходе к иным усло-
виям существования, складывающимся в азильское время. Вряд ли можно
предположить, что этот процесс, происходивший в рамках общества,
главным источником существования которого продолжала оставаться
охота, мог изменить какие-то существенные стороны его уклада.
Рис. 258. Изображение бизона (черной краской), пронзенного гарпунами
' (красная краска) из пещеры Нио (Франция).
По Карт.ш.яку и Kpeii.w:
Некоторый ответ на этот вопрос дают Обермайер и Вернерт. 1 Их
наблюдения относятся к пещерному искусству Испании, связанному с не-
сколько иным типом культуры, которую мы называем капсийской; од-
нако основные черты этого процесса прослеживаются и в области, лежа-
щей к северу от Пиренейского хребта.
Они показали-, что чисто реалистическое искусство, которое по вре-
мени можно сопоставить с поздним веком северного оленя во Франции,
в испанских пещерах дает начало геометрическим фигурам, в своих закон-
ченных формах на первый взгляд производящим впечатление простых
рисунков орнаментального характера. Однако их происхождение стано-
вится ясным при сопоставлении с предшествующими стадиями. Из таблиц,
приведенных в трудах названных авторов, легко убедиться, что здесь
имело место постепенно^^гпрощение реального изображения, главным
образом человеческой фигуры в разных ее положениях, до степени ее за-
1 Obermaier, Fossil man, стр. 329 и след.
КОСТЕНКИ И, III, IV
541
мещения определенным условным знаком. Особенно интересно то, что
эти фигуры испанских петроглифов оказываются очень близкими к тем
рисункам, которые были открыты Эдуардом Пьеттом на раскрашенных
гальках из Мас д’Азиля.
Во всяком случае ясно, что чуринги, довольно широко распространен-
ные в азильское время в стоянках Европы, представляют не знаки перво-
бытной азбуки, как утверждал Пьетт, а изображения, имеющие более
или менее тот же характер, что и в мадленское время, хотя и выполненные
в весьма своеобразной манере.
К сожалению, значение выводов Обермайера и Вернерта в значитель-
ной степени поколеблено тем обстоятельством, что Брейлю в его недавнем
многотомном издании испанских петроглифов удалось доказать совсем
не палеолитический возраст значительного большинства этих изображений.
Изображения, фигурирующие обычно под именем наскального палеолити-
ческого искусства Испании, оказались относящимися к концу неолита
и началу эпохи металла. 1
Для условий существования, складывающихся на западе Европы
в мадленскую эпоху, может иметь значение то обстоятельство, что погребе-
Погребения
ний этого времени
обнаружено срав-
нительно очень не-
много, несмотря на
то, что мадленские
стоянки известны
здесь в очень боль-
шом числе. Из них
можно назвать по-
гребения, откры-
тые в Ложер и Басс,
Раймонден, Дюрю-
ти, Ла Мадлен,
Лез-Ото и в неко-
Рис. 249. Стилизация изображений животных в мадленском
искусстве Франции.
торых других местах, давшие преимущественно остатки человека так
называемого типа шанселад,'- являющегося, видимо, одной из поздних
разновидностей кроманьонского типа.
Возможно, что в связи с гораздо более подвижным, кочевым образом
жизни мадленцев у них могли получить распространение иные обычаи,
чем в более раннее время. — уже не связывавшие погребения с местом
жилья.
Обратимся теперь к расицотрению некоторых памятников, характери-
зующих мадленское время на территории СССР.
КОСТЕНКИ II, III, IV
Долина р. Дона в окрестностях с. Костенок, где находится описанная
выше известная стоянка раннесолютрейского времени, отличается исклю-
чительным богатством следов палеолитического обитания. Последние,
в виде обработанных кремней и костей ископаеь^к животных, обнару-
живаются почти в каждом из выходящих к Дону Оольших логов, проре-
зывающих меловые уступы береговой возвышенности.
1 Н. Breu.il, Les peintures rupeslres schematiques de la peninsule Iberique, 1933.
542 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Три таких пункта, которые приходится относить к более ранней
поре мадленской эпохи, были здесь исследованы начиная с 1923 г.
П. П. Ефименко и С. Н. Замятниным. Они расположены приблизительно
в одинаковых условиях при устьях балок по краю Донской долины и
дают довольно близкую картину в смысле характера залегания остатков
палеолитических становищ. 1
Костенки III у северной окраины села, где Дон подходит к подножию правого
берега и подмывает прислоненную к нему древнюю речную террасу,
находится стоянка Глинище (Костенки III). К сожалению,
она оказалась уже в значительной части разрушенной рекой. Интересно,
что это единственное место в окрестностях Костенок, к которому можно
отнести раскопки академика Гмелина, приезжавшего сюда в 70-х годах
XVIII века ради выяснения условий нахождения костей «слонов». Как
он пишет в своем дневнике, ему удалось установить, что эти остатки зале-
гали в виде громадного скопления — «зубы, челюсти, ребра, лбы, стегна
и берцы» — в береговых
отложениях Дона. Такой
характер залегания костей
мамонта указывает, что
этому крупному естество-
испытателю XVIII в. уда-
лось натолкнуться на
скопления костей, обыч-
но сопровождающие в
этом районе станови-
ща палеолитического вре-
мени.
В настоящее время это
место представляет ров-
ную площадку надлуго-
вой террасы, срезанную
береговым обрывом, кото-
рая, постепенно повыша-
ясь, затем крутым подъе-
мом переходит в возвы-
шенность, доминирующую
обрыва, где были обнару-
жены палеолитические остатки, видно, что под толстым слоем чернозема
лежит светложелтый лёссовидный суглинок, переходящий ниже в плот-
ный желтовато-с^рый суглинок с массой журавчиков (известковых кон-
креций). На глубине 180—190 см в этом слое можно проследить характер-
ную «кульФурную» прослойку, окрашенную в красный цвет благодаря
большому содержанию охристой краски, с обычными следами палеолити-
ческого обитания — мелкими раздробленными и обожженными костями,
расколотым кремнем и т. д. Ниже залегает буроватая глина с прослойками
песка, очевидно обязанная своим происхождением деятельности реки
в более раннее ледниковое время.
В процессе наших раскопок 1923 г. можно было установить, что палео-
литические остатки занимали небольшую, резко очерченную площадь
с утолщением культурного слоя, образовавшимся, вероятно, на месте
Рпс. 2о0. Долина р. Допа и ее возвышенный берег от
Иоршева в сторону Костенок.
Устье Александровского лога, где находится
стоянка Костенки IV
над долиной Дона. В разрезе берегового
1 77. 77. Ефименко, Т1 а л^олитическиц^ стоянки Восточно-европейской равнины,.
«Труды II мемсдународн. конфер. АИЧПТ&, в. V, 1934, стр. 88.
К ОСТЕНЬ'П II, III, П
543
некогда существовавшего жилья. Уже по материалу, шедшему на изго-
товление орудий, стоянка «Глинище» значительно отличается от ранее
описанной стоянки Костенки I. Кроме прекрасного темного мелового
кремня, употреблявшегося в ориньяко-солютрейское время, здесь в боль-
шом количестве (до 30%) попадается цветной кремень коричневатых
оттенков. Но и сам кремневый инвентарь является весьма своеобразным.
При сравнении его с прекрасным набором кремневых орудий Костенок I
он производит впечатление большой грубости. Орудия и пластинки здесь
невелики, почти миниатюрны: более крупные из них редко превышают
3 см. Вместе с тем среди них почти нет пластинок сколько-нибудь правиль-
ных очертаний. Орудия большей частью неправильны, часто сделаны из
грубых, широких и массивных отщепов. Вообще обработанный кремень
поражает здесь своим однообразием. Кроме единичных находок нуклевид-
ных орудий, так назы-
ваемых скобелей*(рабо),
здесь встречаются обыч-
ные концевые скребки.
Но замечательно, что
главная масса орудий
(90 — 95%) состоит из
резцов, которые в своей
массе производят впеча-
тление большой прими-
тивности. Многие из них
принадлежат к типу
многофасеточных рез-
цов, характерных, как
мы знаем, для ориньяк-
ской эпохи.
Орудия из кости сво-
дятся к немногим ши-
льям из осколков труб-
чатых костей живот-
ных и острию или на-
конечнику из слоновой
кости в виде круглого
в сечении, заостренпо-
Рис. *251. Местоположение палеолитической стоянки
Костенки III (Глинище).’
(Раскопки С. П. ЗамятнппЯ)
го стержня.
Таким образом, вместо прекрасных изделий из кремня Костенок I,
мы имеем здесь кремневый инвентарь, мало заботящийся о качестве мате-
риала. грубый по’технике и бедный видами орудий. Однако этот набор
орудий, несмотря на свой кажущийся «орпньякскпй» облик, не является
в действительности очень древним; в нем отсутствует то, что мы можем
считать наиболее типичными формами орудий ранней поры верхнего
палеолита. Мы увидим, что стоянки с теми же особенностями оказываются
распространенными в мадленское время на всем юге европейской терри-
тории СССР. Судя по имеющимся данным, кремневое производство этого
типа пользуется довольно широким распространением и вне границ
СССР — в средней и даже западной Европе (мадлеп с ориньякской тра-
дицией), встречаясь в раннее мадленское врем!^ на территории Франции.
Близко к описанной стоит другая находка, сделанная в устье обшир-
ного Аносова лога, у выхода его в долину Дона, названная нами Костенки II,
где было встречено обширное скопление костей мамонта со следами со-
Костевки П
544
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
ЗСоетенки IV провоягдающих их очагов. Третья стоянка этого типа была открыта
G. Н. Замятниным в устье соседнего Александровского лога (Костенки IV).
Общими для них признаками являются употребление валунного цветного
кремня, бедность кремневого инвентаря, в котором на первом плане стоят
примитивные типы резцов, и немногочисленные находки простейших
изделий пз кости.
Среди фауны этих стоянок, кроме мамонта, может быть отмечено при-
сутствие немногочисленных остатков лошади, песца, зайца и хищников —
медведя, волка, лисицы. Северный олень, по видимому, здесь совершенно
отсутствует.
Поселение в Александровском логу (Костенки IV), где небольшие
раскопки были нами произведены в 1928 г., 1 имеет несколько более разно-
образный кремневый инвентарь, в котором значительное место занимают
характерные для
некоторых оринь-
якских стоянок
Рпс. ioi. Выход Аносова лога в долину р. Дона. Крестиком
обозначено место стоянки Костенки 11
Франции так на-
зываемые pieces
ecailles или outiles
ecailles par per-
cussion. Это крем-
невые отщепы с
подтеской с одного
или обоих концов
со стороны брюш-
ка. Какое употре-
бление могли иметь
подобные вещи в
первобытной тех-
нике, остается пока
совершенно неяс-
ным. Однако уже
их многочисленность 2 указывает на то, что в некоторых поселениях вре-
мени верхнего палеолита (главным образом ориньякских) они играли роль
производственных орудий с достаточно широкой областью применения.
Кроме указанных стоянок, остатки поселений, видимо также отно-
сящиеся к мадленской эпохе, в районе Костенок открыты в Аносовом логу,
недалеко от Костенок II (Аносовская стоянка) и в Александровском логу
(Стрелецкая) — при устье лога, по правую его сторону, напротив Косте-
нок IV.
КАРАЧАРОВО
В нескольких сотнях километров к северу, на Оке, лежит другое место
находок, видимо относящееся к той же ранней поре мадленской эпохи.
На карте оно представляет как бы случайную, затерянную точку. Не под-
лежит, однако, сомнению, что изолированность этой находки является
результатом отсутствия систематических поисков палеолитических посе-
лений в бассейне Оки.
1 Уже давно намеченные более широкие раскопки этого интересного стойбища
ведутся в настоящее время (осень 1937 г.) по нашему поручению А. Н. Рогачевым.
2 В Coumba-del-BouitA. был найден 791 экземпляр таких орудий. Ср. Bardon
~et Bouyssonie, «Revue de ГBcole d’Anthrop. de Paris», 1906.
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ НА ДНЕСТРЕ
545
Остатки мамонта составляют обычное явление по всему среднему и
нижнему течению Оки. Близость такой находки к усадьбе А. G. Уварова
у с. Карачарово (в окрестностях Мурома) повела к открытию в 1877 г.
первой и пока единственной здесь стоянки палеолитического времени.
Исследуя стену оврага, откуда водой были вынесены кости, Уваров на-
толкнулся на кремневые пластинки, которые сопровождали остатки иско-
паемой фауны. Произведенные раскопки привели к обнаружению следов
древнего стойбища.
На небольшом исследованном пространстве Уваровым был встречен
культурный слой в виде скопления костей мамонта и носорога — костей
конечностей, позвонков, зубов, частей таза. Кругом лежали отдельные
кости тех же животных, хотя уже значительно разрушенные. Кроме назван-
ных животных, И. С. Поляков отмечает присутствие в составе фауны перво-
бытного быка и какого-то вида оленя. Вместе с остатками животных в том же
слое было собрано много кремневых пластинок и отщепов и некоторое коли-
чество нуклеусов и кремневых орудий. Материалом для них служил исклю-
чительно цветной валунный кремень коричневых и желтых оттенков.
Инвентарь Карачарова имеет тот же характер, что и в ранее описанных
стоянках района Костенок, и состоит из грубых резцов, скребков обыч-
ного типа, небольшого количества «рабо»и некоторых других случайного
характера изделий.1
Стоянки этого типа не ограничиваются верхним течением Дона и сред-
ней Окоп, но известны и в более южной части европейской территории
СССР — на Украине.
ПОСЕЛЕНИЯ МАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ НА ДНЕСТРЕ
Во время Одесского археологического съезда (в 1884 г.) В. Б. Анто-
новичем было сделано сообщение о находке обработанных кремней со-
вместно с костями ископаемых животных у с. Студеницы Ушицкого у.
Под)льской губ.
Открытая равнинная местность здесь рассекается Днестром, кото-
рый течет в глубоком известняковом ущелье, напоминающем горный
ландшафт. У с. Студеницы береговые высоты по левому берегу Днестра
изрезаны глубокими балками, делящими массив берега на отдельные воз-
вышенности. Местом находок является одна из этих возвышенностей —
гора Белая. В стороне ее, обращенной к Днестру, имеется ряд пещер,
в одной из которых В. Б. Антоновичем было собрано некоторое количество
палеолитических кремйей.
В большом числе обработанные кремни встречаются над пещерами,
на плоской вершине горы. Раскопок здесь никто не производил, и кремне-
вые орудия, полученные отсюда В. Б. Антоновичем и уже в наше время
сотрудниками Антропологического кабинета Укр. Акад, наук, происходят
из сборов на поверхности Белой горы, где покрывающий ее слой лёсса
более или менее разрушен, вследствие чего при пахоте палеолитические
остатки выносятся на поверхность. 2
Кремневые орудия Студеницкой стоянки весьма характерны и не
оставляют сомнения в их палеолитическом возрасте. По своему составу
1 С. Замятнин, Карачаровская палеолитическая стоянка, «Аспир. сборник
ГАИ МН», 1929, в. I; П. П. Ефименко, уг&соч., стр. 106.
2 В. Б. Антонович, О скальных пещерах на берегу Днестра, «Труды VI арх. съезда»
стр. 95; «Антропология», Укр. Акад, наук, 1928, стр. 152.
35 П. П. Ефименко. Первобытное общество — 1734
Фауна
Кремень
Студеница
546 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ БРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
они близки, почти гл’ндсствевны с другими описанными нами находками
раннемадленской поры. И здесь главная масса орудия npencrfiRrcsa рез~
вуынм (до 80% всех находок), среди которых преобладают грубые резцы
на массивных отшепах. напоминающие примитивные ориньякские типы.
В гораздо меньшем числе встречаются обычные концевые скребки, немного-
численные грубые проколки и, в отдельных экземплярах, другие случай-
ные типы орудий.
На прилегающих склонах горы Белой часто встречаются кости ма-
монта, по большей части со следами раскалывания.
Другие Из других открытых здесь палеолитических местонахождений, о ко-
паходки юрых имеются лишь краткие сведения, можно назвать Врублевцы на
левом берегу р. Тернавы, левого притока Днестра, кремневый инвентарь
которого весьма напоминает Студеницу, далее Бакоту, Старую Ушицу,
Калюс и некоторые другие, где находки ограничиваются небольшим
количеством собранных на поверхности кремней.
Систематических раскопок нигде здесь проведено не было.
СТОЯНКА НА КИРИЛЛОБСКОЙ УЛИЦЕ В КИЕВЕ
Место, где были обнаружены палеолитические остатки, находится
на Подоле, в части Киева, обращенной к Днепру. Здесь, на Кириллов-
ской улице, одна сторона которой граничит с пойменной долиной Днепра,
а другая примыкает к обрыву береговой возвышенности, в 1893 г. у под-
ножия обрыва были обнаружены киевским археологом В. В. Хвойко
кости мамонта, сопровождавшиеся кремнями, явно расщепленными рукой
человека. Возвышенность прорезана здесь глубокими оврагами и в то
время имела вид довольно широкого и длинного мыса, полого спускаю-
Геологвче- щегося к Кирилловской улице.
скос строение В геологическом отношении строение окружающей местности предста-
вляет очень интересную картину, запечатлевающую историю образования
долины Днепра. Коренной берег сложен морскими третичными осадками,
в основании которых залегает плотная синяя, так называемая спонди-
ловая глина, разрабатываемая для выделки кирпича. Поверх третичных
наносов лежат красно-бурые глины, затем лёсс и флювиогляциальные
(пресноводные) суглинки пред-рисского времени, на которых отложилась
ледниковая глина с валунами северных пород, оставленная максимальным
оледенением, и, выше ее, — снова лёсс (рис. 253).
В эпоху, следовавшую за отступанием ледника, поднявшаяся река
размыла валунный нанос и третичные слои до уровня плотной и вязкой
спондиловой глины, дойдя до линии современного коренного берега, ко-
торый во времена обитания здесь людей палеолита являлся действитель-
ным берегом реки. Трудно представить себе огромность этого потока,
питаемого талыми водами ледника и катившегося от края до края обшир-
нейшей долины Днепра, ширина которой достигает местами нескольких
десятков километров.
Последовавшее за этим углубление речной долины, заставившее реку
отступить от коренного берега, освободило береговую террасу. Она стала
покрываться слоями песка и глины, отчасти отлагавшимися рекой при
повторном повышении ее уровня, отчасти же наплывавшими с возвышен-
ности, которая в эту эпоху подвергалась энергичному разрушению. Так
образовался огромный^иаст наноса в 20—22 м толщиной, покрывающий
древнюю террасу, которая, очевидно, представляет собой вторую нижнюк»
СТОЯНКА НА КИРИЛЛОВСКОИ УЛИЦЕ В КИЕВЕ
547
надпойменную террасу для рек Днепровского бассейна. Перечисленные
глои можно видеть в обрывах возвышенности, где В. В. Хвойко были
сделаны его замечательные находки.
Обстоятельное описание геологического разреза на месте находок Нижний
было в свое время дано видным геологом П. Я. Армашевским. 1 На синей горизонт
третичной глине залегает пласт серых и зеленовато-серых песков, часто
обнаруживающих слоистость. Общая мощность их очень значительна,
не менее 8—10 м. Толща их может быть разделена на ряд отдельных го-
ризонтов. Один из таких горизонтов представляет слой песка с дресвой
и галечником, настолько сцементированный окислами железа, что по
своей плотности он напоминает песчаник. В верхней части пески перехо-
дят в полутораметровый п.таст желтовато-бурого, также очень плотного
слоистого суглинка, пропитанного каолином. Выше лежит лёсс, покры-
вающий террасу
слоем, толща ко-
торого дости-
гает 10 м.
Первые на-
ходки сделаны
были Хвойко в
обрыве возвы-
шенности, выхо-
дившей в усадь-
бу Зиваля,у са-
мой подошвы об-
рыва, почти в
основании тол-
щи зеленовато-
серых песков.
Сначала им бы-
ла найдена часть
черепа мамонта
с бивнями, за-
тем при углу- р)1с 253 Палеолитическое местонахождение на Кирилловской улице
олении внутрь в Киеве во время земляных работ.
горы значи- (По С0ХранившеМуСЯ снимку)
тельное количе-
ство бивней ма-
монта, залегавших на одном уровне. Все они оказались изломанными и
представляли как бы запас материала для изделий. Вместе с ними встре-
чались и другие части скелета мамонта — лопатки, кости конечностей,
зубы. Попадались с ними и кремни, но в небольшом числе. По мере
продвижения раскопо'к вглубь горы более или менее единичные находки
превратились в кострище, которое имело вид скопления древесного
угля, раздробленных костей мамонта и обожженных костей.
Раскопки 1893—1896 гг., производившиеся Хвойко в сравнительно
небольшом масштабе вследствие того, что приходилось снимать огромную
толщу земли, выяснили все же, что культурные отложения в этом месте
распадаются на несколько культурных прослоек, в общем сходных по
характеру находок. Ниже открытого первоначально кострища был
1 П. Армашевский и В. Антонович, Пурличные лекции по геологии и истории
Киева, 1897; П. Армашевский, О стоянке 1товека палеолитической эпохи по Кирил-
ловской ул. в Киеве, «Труды XI арх. съезда», т. II, стр. 142.
*
548
Кррмневый
инвентарь
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
найден пропласт в виде такой же темной полоски с углем и костями ма-
монта, часто расколотыми и обугленными, который залегал почти непо-
средственно на поверхности древней спондпловой глины. Из этого можно
было заключить, что человек впервые поселился в этой местности вскоре
по освобождении ее от вод отступившей реки, которая потом вновь под-
нялась, откладывая слои аллювиально-делювиального наноса.
В этой культурной прослойке расщепленные кремни встречались
чаще, чем в верхнем слое, который был обнаружен при первых работах
В. В. Хвойко и лежал сантиметров на 70 выше. Такое же кострище было
обнаружено при дальнейших раскопках приблизительно посередине
расстояния между верхним и нижним кострищами.
В 1899 г., в год Киевского археологического съезда, и затем в 1900 г.
новый владелец усадьбы предпринял обширные работы с целью добы-
вания синей глины для своего кирпичного завода. Им была снесена вся
передняя часть возвышенности, как раз на месте палеолитической стоянки.
Во время этих работ была вскрыта площадь свыше 100 м в длину холма
и от 40 до 70'.и по его ширине. Благодаря бдительности Хвойко, устано-
вившего наблюдения за земляными работами, удалось выяснить, что почти
вся эта площадь занята была культурными отложениями. Здесь они также
залетали в самом низу толщи зеленовато-серых песков и представляли
несколько наслоений кострищ с углем, золой, костями и бивнями ма-
монта, пережженными и разбитыми костями других животных, обуглен-
ными кусками дерева и относительно небольшим количеством кремневых
орудий.
Мощность культурных отложений, имевшая в обрыве усадьбы Зиваля
всего 2—5 см, здесь постепенно увеличивалась и достигала местами 40—
50 см. В скоплениях костей, сопровождавших кострища, найдено было
огромное количество костей мамонта — челюстей, бивней, коренных зу-
бов, передних и задних конечностей и пр. Одних концов бивней, не считая
пережженных и распавшихся бивней, подсчитано было Хвойко около
100, а общее число мамонтов определяется цифрой минимум в 67 особей
разного возраста. Кроме мамонта, изредка в этих же слоях встречались
остатки сибирского носорога; других животных в отложениях нижнего
горизонта стоянки ни Хвойко, ни другие авторы, описывавшие стоянку,
не называют.
О кремневом инвентаре этого горизонта стоянки можно говорить пока
лишь очень приблизительно, так как он никем до сих пор не был изучен.
На вскрытой огромной площади, исчисляемой Хвойко в несколько тысяч
квадратных метров, найдено было, как это ни кажется странным, в общем
чрезвычайно мало кремня. По свидетельству П. Я. Армашевского, хорошо
осведомленного о ходе раскопок, здесь было собрано всего около 200
кремневых «орудий», как он их называет, то есть всякого рода кремневых
отщепов. В большинстве случаев, насколько можно судить по изданным
Хвойко и ФУ К. Волковым образцам, они представляют небольшие крем-
невые пластинки верхнепалеолитического облика. 1 Кроме них встре-
чаются резцы, присутствие которых свидетельствует о существовании
обработки кости. Другими орудиями стоянка, видимо, очень небогата,
и ничего достоверного о них мы не знаем. В качестве материла для из-
готовления этих орудий шел исключительно серый, темного оттенка
меловой кремень.
1 В. Хвойко, Каменный векАшеднего Приднепровья, «Труды XI археол. съезда», т. I,
стр. 736 (литературу см. также в конце книги, в приложении).
СТОЯНКА НА КИРИЛЛОВСКОЙ УЛИЦЕ В КИЕВЕ
549
ряд царапин, так что часть резьбы
Рис. 251. Изображение, выгравированное на бивне
мамонта из Кирилловской стоянки в Киеве.
(По В. В. Хвойко)
Хотя кремневый инвентарь нижних отложений Кирилловской стоянки
еще недостаточно известен, все же общий характер его не оставляет
сомнений в том, что культурные отложения нижнего горизонта стоянки
принадлежат верхнему палеолиту и, видимо, ближе всего стоят к наход-
кам в Костенках II и III и Карачарове. Особенного внимания, однако, за-
служивают изделия из кости, открытые в тех же условиях Хвойко и по-
дробно описанные Волковым. Наиболее интересную находку представляет Фрагмевт
орнаментированный фрагмент бивня мамонта, который был подобран бивня е|изо-
в дальнем конце холма, в 100—120 м от места первоначальных раскопок, бражеиием
Он был встречен не один и сопровождался другими костями мамонта
и следами очага, залегавшими, по словам Хвойко, на самой поверхности
синей глины, на глубине 21 м от поверхности. 1
Эта замечательная находка представляет, собственно, отрезок самого
острия бивня в 30 см длиной. Его конец по верхней выпуклой поверхности
сильно выбит., а по нижней
оказывается стертой. Изно-
шенность бивня как будто
говорит о том, что он про-
должительное время для че-
го-то использовался.
Резьба, покрывающая
большую часть его поверхно-
сти, носит сложный и вместе
с тем странный, даже зага-
дочный характер. Мы здесь
имеем какие-то фигуры, мо-
жет быть птицу и черепаху,
как думал еще Хвойко; воз-
можно, однако, что они име-
ют какое-то иное значение.
Они сопровождаются изобра-
жениями еще более неопреде-
ленного характера, если не
видеть в них просто орнамен-
тальных мотивов, чему,одна-
ко, противоречит общая композиция рисунка. Рассматривая его в разверну-
том виде, трудно отрешиться от мысли, что рисунок в целом имеет внутрен-
нюю связанность и что он передает, хотя в очень условном виде, какую-то
не разгаданную нами сцену. Эта несомненная условность изображения,
которая имеет характер узорной стилизации, существенно отличает резьбу
бивня Кирилловской' стоянки от памятников палеолитического искус-
ства западных стоянок, где не только в скульптурной резьбе, но и в гра-
вюре безраздельно господствует реалистическая передача образов, глав-
ным образом животного мира.
Однако, как это хорошо показал Ф. К. Волков, отдельные орнамен-
тальные элементы резьбы на бивне находят себе полную аналогию в вещах
из французских пещерных стоянок эпохи мадлена. Таммы видим те же
мотивы зубчатой полоски, узоры из параллельных черт, заполняющие
фон отдельных изображений, наконец характерную манеру порезки из
линий, подчеркнутых мелкой насечкой. Собственно, в технике резьбы
1 Вовк, Магдаленъске майстерство на Украгнл, «.Зап. пауков, товар. 1м. Шевченко»,
т. XLV1, 1902, стр. 1.
550 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Кирилловская находка имеет полное тождество с мадленским искусством
гравюры на кос*ги, что признал такой выдающийся знаток этого искусства,
каким был покойный французский исследователь Э. Пьетт.
При всем том этот образчик художественного творчества восточно-
европейского палеолита трудно включить в круг памятников западного
мадленского искусства. Если отдельные элементы орнаментальной резьбы
мы встречаем и на западе, то, насколько мы знаем, только в восточной
Европе они получают значительное развитие и слагаются в особый орна-
ментальный стиль, представителями которого в раннюю пору являются
Костенки I и Пржедмост и в более позднюю — Мезин на Десне и Ели-
сеевичи на Судости. Собственно, только в Пржедмосте в замечательном
изображении женщины имеем мы близкую к Кирилловской находке
узорную, декоративную стилизацию реального образа, который господ-
ствует в искусстве более ранней эпохи верхнего палеолита. Только в Пржед-
мосте, отчасти и в Костенках I, а позже в Мезине и в Елисеевичах получает
значительное развитие линейный, геометрический орнамент. Эти два мо-
мента связывают Кирилловскую стоянку со стоянками типа Пржедмоста
и Мезина. К этому нужно прибавить, что Ф. К. Волков описывает из тех
же находок Хвойко еще два обломка бивня мамонта с несложным геоме-
трическим нарезным узором.
Время Если простота кремневого инвентаря нижнего горизонта Кирил-
ловской стоянки, видимо, позволяет поставить его в связь с бедным ви-
дами орудий инвентарем раннемадленских стоянок Воронежского района,
ее изобразительное творчество говорит о культурном укладе, преемственно
связанном с Пржедмостом и Мезином. И то и другое обстоятельство оди-
наково может определять время нижних слоев Кирилловской стоянки
как самый конец солютре или, скорее, раннюю пору мадленской эпохи.
Совершенно иной характер имеют находки, сделанные В. В. Хвойко
в верхних горизонтах отложений Кирилловской улицы, которые должны
быть отнесены к значительно более поздней поре палеолитического вре-
мени. К ним нам придется еще вернуться в дальнейшем.
ТИПЫ СТОЯНОК РАННЕГО ЙАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Перечисленные находки, сделанные в более поздних палеолитических
стоянках с. Костенок, затем в Карачарове, в Киеве и вСтуденице, а также
в других местонахождениях на Днестре, имеют большой интерес, поскольку
они указывают на широкое распространение в восточной Европе однообраз-
ной культуры, представляющей существенные черты отличия не только
в отношении мадленских стоянок приатлантической области западной
Еврфпы, но и при сопоставлении их с позднесолютрейскими стоянками
типа Мезина и Мальты. Особенностью этих находок является несложность
их кремневого инвентаря и упрощенность техники обработки и исполь-
зования кости — то, что на первый взгляд заставляет думать о какой-то
ранней поре верхнего палеолита. Этим объясняется, например, то, что
местонахождения Днестровского района — Студеница и другие подобные
местонахождения УССР—относятся рядом украинских авторов к ориньяк-
ской эпохе.
Что мы имеем зде^ дело все же не с начальной порой верхнего палео-
лита, где такие явления были бы понятны, но с гораздо более поздним
временем, говорит целый ряд соображений. В частности, например,
551
ТИПЫ СТОЯНОК РАННЕГО МАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ
в костенковско-боршевском районе, где известны стоянки разного вре-
мени верхнего палеолита, сменяющиеся в определенной последователь-
ности от позднего ориньяка до азиля, можно видеть, что данный тип
памятников занимает свое определенное место в отношении как более
ранних, так и более поздних местонахождений.
Некоторая упрощенность кремневой техники в раннюю пору мадлена
не составляет особенности только памятников восточноевропейской рав-
нины. То же наблюдается, по утверждению Брейля, как мы уже отметили
выше, и в раннемадленских местонахождениях Франции.
В еще более заметной форме это явление сказывается в каменном и
костяном инвентаре мадленских поселений, расположенных в обширной
полосе Европы, тянущейся от Англии через всю среднюю Европу к Дне-
стру и Азовскому морю. Недавно открытое мадленское поселение у Амвро-
сиевки (в Донецкой области) свидетельствует о распространении этого типа
памятников далеко на юго-востоке европейской территории СССР.
Не будем забывать, что в стоянках мадленской эпохи в Сибири это
явление оказывается еще резче выраженным, поскольку их кремневый
инвентарь имеет многочисленные черты, на первый взгляд как будто даже
напоминающие технические приемы среднего палеолита.
Естественно встает вопрос: чем же можно объяснить такие особен-
ности в ходе развития технических средств, в частности у тех же мадлен-
ских охотников, населявших восточную Европу?
Некоторое объяснение этого странного, на первый взгляд, факта,
видимо, дает сама обстановка этих находок. Здесь тот тип уклада
с хозяйственной базой в охоте на мамонта, который мы видели в стоян-
ках орпньяко-солютрейской эпохи, без заметных изменений сохра-
няется до очень поздней поры верхнего палеолита. Эти ст. янки с их на-
громождениями костей мамонта вблизи мест обитания дейст ительно дают
картину, очень близкую к той, которую мы знаем по лагер: м охотников
на мамонта и лошадь типа Костенок I, Боршева I, Прже^ моста, Вил-
лендорфа и т. д.
Вместе с тем в этих поселениях отсутствует то, что хар жтеризует
стоянки «типичного» мадлена Франции и северной Испании, в о< эбенности
многообразие изделий из кости — предметов охотничьего во ружения
(как кинжалы, копьеметалки, гарпуцы и т. д.), бытовой утвари и пр.
В них мы не находим и характерного для мадленских стоянок Франции
особого расцвета реалистического искусства и пр. Конечно, нельзя забы-
вать известной условности таких заключений, поскольку мадленские по-
селения в восточной Европе еще недостаточно изучены; тем боле?, что
отдельные находки типа Мезина, Елисеевичей, Тимоновки с их достаточно
разнообразным и.интересным вевдественным инвентарем могут в ходе
дальнейших исследований до известной степени изменить сделанный нами
вывод. Во всяком случае у нас имеется известное основание думать, что
в памятниках описанного нами ранее типа, в их инвентаре мы все же
находим некоторое отражение переживания старых, ранее сложившихся
хозяйственных форм; здесь могла в какой-то мере сыграть свою роль
гораздо большая разобщенность первобытных ячеек, охотничьих орд,
рассеянных на огромных пространствах восточной Европы и Сибири.
Для понимания условий исторического развития, приведших к сло-
жению культуры поздней поры верхнепашщлитического времени, пред-
ставленной поселениями, отвечающими такТвазываемому «пережиточному
ориньяку», пли мадлену с ориньякской традицией, большое значение,
несомненно, будет иметь стоянка у с. Елисеевичей, на р. Судости, при-
Елисеевичи
552
Изделия из
кости
Креиеиь
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
токе Десны, открытая К. М. Поликарповичем в 1930 г. Его первые не-
большие раскопки не дают еще о ней надлежащего представления. 1 Из
них известно лишь, что культурные остатки здесь залегают на береговой
террасе, на глубине около 1,5 л в лёссовых отложениях, сопровождаясь
значительным количеством костей четвертичных животных. В составе
фауны имеются — мамонт (много), песец и волк.
Однако исследование стоянки, продолженное Поликарповичем в 1935 и
1936 гг., судя по его отчетному докладу на пленуме Комиссии ископае-
мого человека при советской секции INQUA, внесло в эту картину
весьма существенные дополнения. 2 Помимо обнаруженных им остатков
какого-то наземного жилья, здесь оказалось вырытое в земле помещение,
стены которого были обставлены большими костями мамонта. 3 Рядом
с ним находилось скопление черепов мамонта (до 30 штук), среди ко-
торого было найдено около десятка больших пластин из бивня мамонта,
украшенных на лицевой стороне сложным узором условного характера,
выполненным тонкой нарезкой и несколько напоминающим изображения
на бивне мамонта из Кирилловской стоянки в Киеве. Среди них имеются,
между прочим, крупные, также очень условные изображения рыб. Здесь,
же было встречено довольно большое скульптурное изображение жен-
щины, вырезанное из слоновой кости. Последняя заметно отличается от
обычных ориньяко-солютрейских фигурок — удлиненностью торса, очень
массивными ногами, особенно в икрах, и т. д. Иных изделий из кости
здесь, видимо, почти не было найдено (кроме обломка иглы).
Огромное количество собранного исследователем обработанного кремня
поражает простотой своих форм, несмотря на высокое качество материала
(темный меловой кремень). Это, преимущественно, всякого рода отщепы
и пластины, часто довольно крупные; орудий встречается не так много,
причем весьма однообразных. Среди них много нуклевидных орудий
типа рабо (скобелей), затем резцы нуклевидного типа на массивных отще-
пах. Вообще подавляющую массу орудий, как и в стоянке на Глинище
(Костенки III) и в Аносовом логу (Костенки II), а также в Студенице
и Врублевцах, составляют различные виды резцов — бокового, углового
и срединного типа. Скребки — обычные концевые (на отщепах и пластин-
ках)— встречаются значительно реже. Проколок, проколковидных острий,
микрорезцов и т. п., что составляет такую характерную черту кремневого
инвентаря Мезина, Супонева, Тимоновки, здесь вообще нет.
Насколько мы могли судить по довольно беглому ознакомлению с ма-
териалами Елисеевичской стоянки (в настоящее время подготовляемыми
к публикации), какие-нибудь иные типы орудий здесь, видимо, отсутствуют.
Таким образом, кремневый инвентарь Елисеевичей вполне характе-
рен для те^с верхнепалеолитических поселений Европы, которые еще
в раннее мадленское время сохраняют некоторые своеобразные черты,
свойственные ориньякской ступени. Находки в Елисеевичах вместе с тем
показывают, что предметы искусства вовсе не исчезают в эту эпоху,
появляясь, однако, в формах, существенно отличающихся от изобра-
зительного творчества, известного нам по ориньяко-солютрейским по-
1 К. М. Поликарпович, Палеолит и мезолит БССР и некоторых соседних терри-
торий верхнего Приднепровья, «Труды 11 мез!сд. конф. АИЧПЕ», в. V, 1&34, стр. 79.
2 INQUA — новое, измененное название Международной ассоциации по изуче-
нию четвертичного периода Европы (прежнее название в русской транскрипции —
АИЧПЕ). %
3 Как выяснилось при раскопках 1936 г., это помещение оказалось длинным хо-
дом, окончание которого не было еще прослежено во время этих раскопок (сообще-
ние К. М. Поликарповича).
ТИПЫ СТОЯНОК РАННЕГО МАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ
селениям и имеющего более или менее одинаковый характер на всей тер-
ритории Европы.
Памятники этого типа, как мы говорили, не ограничиваются в своем
распространении территорией СССР.- К ним очень близко, видимо, стоят
и некоторые верхнепалеолитические стоянки соседних территорий, осо-
бенно Румынии и Польши, определяемые как ориньякские на основании
лишь отмеченных нами черт их кремневого инвентаря. В частности, видимо,
этому времени — более раннему мадлену — принадлежит стоянка Ма-
gyarbodza 1 в восточной Трансильвании (Румыния) с ее разнообразными
видами резцов, некоторым количеством скребков концевого типа и очень
небольшим числом других орудий (пластиночки с затупленной спинкой
и пластинки с выемчатым краем). Что же касается другой стоянки, отно-
симой к ориньдкскому времени, Кишла-Неджимова в Бессарабии, то,
судя по воспроизведениям, приводимым Амврозевичем, 2 ее инвентарь
имеет ближайшее сходство с мадленскими памятниками типа Гонцов.
Нельзя сказать, чтобы упрощение кремневого инвентаря, связывае-
мое Брейлем с новым, мадленским населением, будто бы надвинувшимся
во Францию и вытеснившим солютрейцев, владевших высокой техникой
обработки кремня, в действительности имело место во Франции только
в начале мадлена. Известны стоянки, относящиеся к гораздо более позд-
ней поре мадленского времени, в которых мы видим тот же бедный, при-
митивный набор кремневых орудий и почти полное отсутствие обработан-
ной кости. Таково, например, второе убежище де ла Рок 3 в верхней Га-
ронне, где в обоих имеющихся здесь слоях, относящихся к позднему
и позднейшему мадлену, каменный инвентарь представлен лишь гру-
быми резцами и концевыми скребками, к которым в верхнем горизонте
присоединяются орудия микролитического облика — пластиночки с за-
тупленной спинкой, пластинки с зазубринами и острия тина lame de
canif.
Очевидно, и для западной Европы, даже в пределах Франции, было
бы все же неправильно рассматривать мадленскую ступень как нечто
единое и вполне однотипное. Здесь имеются свои локальные варианты
материального уклада культуры, связанные с теми или иными условиями
исторического развития отдельных групп ее населения в эпоху мадлена.
То же мы имеем и на востоке Европы. Разнотипность мадленского инвен-
таря указывает во всяком случае на значительное усложнение истори-
ческой обстановки в интересующей нас полосе северного полушария, не
говоря уже о более южных областях, где этому времени отвечает совер-
шенно иной тип памятников — так называемой позднекапсийской куль-
туры.
Этим приходится объяснять наличие в том же районе Десны, где имеется
Елисеевичская стоянка, двух палеолитических поселений — в Супоневе
и в Тимоновке, на Десне, под Брянском, кремневый инвентарь которых
1 Н. Breuil, Notes de voyage paleolithique en Europe eentrale, <<L’Anthropologic»,
t. XXXIII, 1923.
2 Ceslaw Ambrozewicz, Per palaolithische Mensch in Bessarabien, отд. отт. из книги
Hauser’a, Der Erde Eiszeit und Sintflut, Berlin, стр 268 (без даты, видимо 1926 г.).
Здесь интересно присутствие наряду с мамонтом, лошадью, благородным оленем,
кабаном, также Cervus megaceros, как известно, удерживающегося на юге, например
в Крыму, до эпохи аэилл. Ср. также N. N. Moro san, Existe-t-il du Micoquien en
Bessarabie et quelle serait sa place dans la chronologie^u pleistocene? «Bull, de la Soc.
Prehist. Frangaise», 1931, № 4.
3 D. Peyrony, J. Cazedessus, Fouilles de second abri de la Boque (commune de Mon-
tespan— Haute Garonne), «Revue anthropologique», 1927, стр. 247.
553
Румыния
Франция
Супоиево
554
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
носит значительно более усложненный характер в сравнении с первой,
описанной выше группой памятников.
Они представляют места поселений охотничьих орд мадленской эпохи,
живших в одинаковой степени как охотой на мамонта, так и охотой на
северного оленя, мелких животных (зайца, песца). К ним в списке фауны
Супоневской стоянки присоединяются носорог, лошадь, бизон и обычные
хищники.
Первая из них — Супоневская стоянка — исследовалась в 1926 г.
комиссией, образованной музейным отделом Наркомпроса во главе с
П. П. Ефименко, а в следующем году Б. С. Жуковым и его сотрудниками.
Очень большой материал, добытый двухлетними раскопками стоянки,
к сожалению, до сих пор не издан.
. Здесь мы имеем относительно высокую, передовую, если так можно
выразиться, культуру мадлена. Об этом свидетельствует чрезвычайное
усложнение набора кремневых орудий, которые и по общему характеру —
преобладанию разнообразных мелких инструментов специальных форм
и назначений — и по видам и типам этих инструментов (разнообразных
резцов, острий, проколок, скребков и т. д.) имеют ближайшее сход-
ство с мадленскими стоянками прпатлантической области западной Европы.
Сложность кремневой техники, как мы знаем, находится в непосредствен-
ной связи с уровнем использования кости. Действительно, в этой стоянке
обработанная кость играет значительно большую роль, чем в первой
нами описанной группе стоянок, хотя, как и в Мальте и в Мезине, сло-
новая кость, а не рог северного оленя, остается в ней основным материалом
для изделий. Это говорит, очевидно, о том, что охота на северного оленя
не приобретает здесь все же того исключительного значения, которое она
имеет в большинстве мадленских стоянок крайнего запада Европы.
По характеру кремневого инвентаря Супоневская стоянка стоит ближе
всего к Мезину и представляет собой, видимо, следующий за ним во вре-
мени тип памятника более ранней поры мадлена.
Тимоцовка Тимоновская стоянка, весьма богатая изделиями из кремня, также
до сих пор, к сожалению, не описана более подробно. Открытие ее
(М. В. ДоЕводским) относится к 1927 г.; позже, в 1928—1933гг., она иссле-
довалась В. А. Городцовым.1 Ее кремневый инвентарь, насколько он опу-
бликован, при всей многочисленности представленных в нем орудий носит
значительно более простой характер, чем в Супоневе, приближаясь в этом
смысле более к стоянкам первой группы. В нем особенно поражает обилие
разнообразных резцов, за которыми по численности следуют скребки,
частью, концевые, частью двойные на очень укороченных сечениях пла-
стинки, округлые и пр., затем нуклевидные орудия и в небольшом числе
пластиночки/с затупленной спинкой и другие виды орудий.
Весьма любопытны костяные изделия стоянки. В отношении к на-
ходкам обработанных кремней их встречено очень немного. Типы их
свидетельствуют о несложности этого рода поделок — это небольшие
шилья пз трубчатых костей песца и осколков мамонтового бивня, обломки
игл и неопределенные вещи со следами обработки. Среди них, однако,
имеются предметы из кости с нанесенными на них изображениями. Наи-
больший интерес представляют два обрезка бивня очень молодого мамонта,
1 М. В. Воеводский, Тимоновская палеолитическая стоянка, «Русск. Антроп. жур-
нал», т. XVIII, 1929, 1—2, стр. 59; В. А. Городцов, Тимоновская палеолитическая
стоянка, «.Труды, Института антр. и этн. Акад, наук СССР», 1935, в. 3; его же.
Соц. эконом, строй древних обитателей Тимоновской палеолитической стоянки, «Сов.
Этногр.», 1935, Л? 3, стр. 3.
СТОЯНКИ ПОЗДНЕГО МАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ
555
воспроизводящие, по мнению В. А. Городцова, фалл. На одном из них
тонкой линейной нарезкой выгравированы какие-то изображения, среди
которых можно разобрать весьма условно переданных рыб в виде удли-
ненных ромбов, зачерченных в'косую сетку. Хвост рыбы передан таким
же, но меньшего размера ромбом. Схематические рисунки рыб встречены
и на пластинках из бивня мамонта.
Описанные В. А. Городцовым многочисленные жилища из Тимоновки
отличаются, судя по его чертежам, четырехугольной, коридорообразной
формой, совершенно не свойственной известным нам палеолитическим
землянкам, всегда имеющим округлые очертания. Не находя для них
в нашем материале никаких аналогий, мы лишены возможности сказать
о них что-либо более определенное.
Следы каких-то сооружений в виде неглубоких ям, заполненных
культурными остатками, были отмечены и в Су поневе,
СТОЯНКИ ПОЗДНЕГО МАДЛЕНСКОГО ВРЕМЕНИ
История первобытных обществ, оставивших следы своих поселений
в долине р. Десны, в Мезине и Супоневе, представляется все же пока до-
статочно темной. Таким образом, мы не имеем возможности проследить
дальнейшие судьбы того хозяйственного и культурного уклада, кото-
рый складывается в восточной Европе в формах, в некоторой степени
напоминающих западный мадлен, хотя и не тождественных с этим по-
следним.
Что касается поселений, относящихся к более позднему времени той же
мадленской эпохи, — понимая этот термин в качестве хронологического
обозначения для последних этапов развития первобытного общества
в условиях ледниковой поры, — то на территории СССР мы пока знаем
сравнительно немного таких памятников. В них представлен тот же
кремневый инвентарь, известный нам в предшествующее время по место-
нахождениям типа Костенки II—IV, Карачарова, Студеницы и др.,
сопровождающийся незначительными находками обработанной кости.
То, что эти стоянки, появляющиеся в областях, занятых ранее ориньяко-
солютрейскими поселениями охотников на мамонта, должны быть отне-
сены к еще более позднему времени, то есть ко времени среднего мадлена,—
цб этом говорит характер их кремневого инвентаря. Однако в смысле
форм охотничьего хозяйства здесь не замечается существенных отличий
от предшествующего ’времени, поскольку охота на мамонта еще многие
тысячелетия продолжает оставаться на востоке Европы основным источ-
ником существования мадленских охотничьих орд.
Только к концу этого времени, представляющего незаметный переход
к тому, что можно назвать восточноевропейским азилем, остатки мамонта
исчезают в лёссовых стоянках, расположенных в области Дона и Днепра.
Эти стоянки начинают обнаруживать признаки сложения новой куль-
туры. Последняя, любопытным образом, в азильскую эпоху снова при-
обретает на всем пространстве Европы характер цельности и едино-
образия, как это было раньше, в начальное время верхнего пале-
олита.
Из числа известных в настоящее время находок палеолитических
остатков, относящихся к тому, что мы можем назвать условно средней
порой мадлена (где сохраняется еще хозяйственный уклад, основанный
на массовой охоте на мамонта), для европейской территории СССР
эоб
Положение
стоянки
ГЛАВА. ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
можно указать только две таких, которые подверглись более полному
изучению и могут быть использованы для целей нашего изложения, —
это стоянка в Гонцах (Полтавской области) и Боршево II на Дону (его
нижний горизонт находок).
ГОНЦЫ
Стоянка в с. Гонцах на р. Удае, открытая в 1873 г., явилась первым
памятником палеолитической культуры, ставшим известным в пределах
бывшей Европейской России. На археологическом съезде в Киеве о ней
было сделано сообщение местным лубенским преподавателем Ф. И. Ка-
минским, производившим здесь небольшие раскопки, и геологом К. М. Фео-
филактовым. 1 Затем много лет она оставалась неисследованной и не
раз копалась любителями, изрывшими своими ямами значительную часть
ее площади. Такие раскопки, не имевшие научного значения, от которых
не сохранилось никаких документальных сведений, в 70-х годах велись
помещиком Кирьяновым, на земле которого находилась стоянка, а позже
Гельвигом (1904—1906 гг.), испортившим значительную часть площади
палеолитического поселения. Гельвигом встречено было здесь значитель-
ное скопление черепов мамонта (около 40), очевидно образовавшее ти
личное для Гонцов ограждение места жилья. Еще раньше, в 1891 г., не-
большие раскопки в Гонцах производились Е. Н. Скаржинской; часть
материала из этих раскопок хранится в Полтавском музее. 2
Только в 1914—1916 гг., через 40 лет после своего открытия, этот
важный памятник был раскопан Полтавским музеем. Первые сведения об
этих работах изложены в Записках украинского наукового товариства на
Полтавщине (1919 г.). Раскопки в Гонцах были проведены с участием ряда
видных специалистов — А. П. Павлова, М. В. Павловой, В. А. Город-
цова, Г. Ф. Мирчинка и др. 3
Место находок лежит по правому берегу р. Удая, притока Сулы,
на пологом склоне древней террасы, прислоненной к подножию береговой
возвышенности. Терраса эта прорезана оврагами и рытвинами и образует
небольшой мысок, поднимающийся над поймой Удая. На этом мыске
и находится стоянка, в значительной степени уже разрушенная ростом
оврагов.
Коренной берег долины Удая в районе палеолитического поселения
образован пестрыми глинами и песками, на которых залегает пласт ва-
лунной глины, отложенной ледником эпохи максимального оледенения,
захватившим эту часть левобережной Украины. Поверх моренного на-
1 Ф. И. Каминский, Следы древнейшей эпохи каменного века по р. Суле и ее прито-
кам, «Труды III арх. съезда», т. I, стр. 147; К. М. Феофилактов, О местонахождении
кремневых орудий человека вместе с костями мамонта на р. Удае Лувенского уезда
Полтавской гув., там же, стр 153.
2 Там же находится основное собрание гонцовских материалов и кое-что из
находок Кирьянова.
3 В отношении этих раскопок остается много неясного. В первом печатном
Отчете говорится о трехлетних работах на стоянке (1914-—1916 гг.), причем резуль-
таты работ последнего года должвы были быть опубликованы позднее. В других
статьях упоминается лишь о раскопках двух первых лет. Ср. Розкопки палео .м-
пгичного селища в с. Гонцях Лубенсъкого пов. в 1914 i 1915 р., «Записки укр. науков.
товар, на Полтавщин1», в. I, 1919, стр. 61; Eine palaolithischestation in Honci (Ukraina),
«Die Eiszeit», Bd. Ill, H. II, 1926, стр. 106; В. А. Городцов, Исследование Гонцовской
палеолитической стоянки в 1915 г. «Инет. арх. и искусствозн., Труды отд. арх.», I,
1926, стр. 5; М. С. Burkitt, Archaeological Work in Ukhrain, «Antiquaries Journal»,
v. V, 1925, № 3, стр. 273.
гонцы
557
Рпс. 2а5. Орудия из камня и кости Гонцовскоп сто-
янки. Скребки разных типов, шило, стержень из сло-
новой кости с отверстием в расширенной части.
Неск. уменып.
(Из собр. Полтавского музея)
носа лежит пласт желтого лёсса, который спускается по склонам бере-
говой возвышенности в виде лёссовидного суглинка, составляя поверх-
ностный покров древней террасы Удая. Сама же терраса, на которой
расположена стоянка, сложена песчано-глинистым, слоистым речным
наносом (древйий аллювий), уходящим под отложения поймы Удая.
Речной нанос 'имеет мощность около десяти метров и подстилается мер-
гелем, образующим также основание коренного берега долины.
Почвенный слой и отложения лёсса покрывают террасу довольно
ровным пластом в 3—3,5 м толщиной. Культурный же горизонт при-
урочен к нижней части лёсса почти по границе с аллювием, хотя крупные
кости мамонта, как это обычно бывает, занимают в отложениях лёсса
значительную толщу. В расположении остатков на площади стоянки,
по описанию опубликован!
кую к той, которую мы BI
пая часть -исследованной
площади была занята ог-
ромным скоплением ма-
монтовых костей, покры-
вавшим 25 квадратных
метров в северной поло-
вине главной траншеи
раскопок 1915 г.
К сожалению, при этих
раскопках не была поста-
влена задача систематиче-
ского вскрытия стоянки,
культурный слой которой,
по всем имеющимся дан-
ным, занимает значитель-
ную площадь. Основной
раскоп (6 на 10 м) дает,
таким образом, предста-
вление лишь об относи-
тельно небольшой части
палеолитического поселения, общая картина которого остается до
сих пор, в сущности, совершенно не выясненной. 1 Поскольку при
таком частичном исследовании стоянки в момент раскопок, очевидно,
не было ясного представления о значении раскрытых деталей поселения,
ряд важных моментов ускользнул от внимания лиц, производивших рас-
копки, и не получил отражения в отчетах. Все же то, что сообщается
в них, остается достаточно интересным.
Кости мамонта, как показали раскопки, не были здесь разбросаны Остатки жи
в беспорядке. Они очерчивали довольно правильную овальной формы лищ
площадку длиной в 6 м и шириной около 4 м, по периферии которой
находились 27 черепов мамонта. Как говорится в отчете о раскопках, 2
за исключением трех, все остальные черепа мамонта были поставлены
в естественном положении, окружая это скопление с трех сторон — се-
верной, восточной и западной. Лопатки мамонта, в числе 30 штук, также
отчетов, мы имеем обстановку, очень близ-
и в стоянках Воронежского района. Глав-
1 Большие раскопки в Гонцах были произведены в 1935 г. Институтом мате-
риальной культуры Украинской Академии наук совместно с Гос. Историческим му-
зеем (в Москве). Материалы этих раскопок пока не опубликованы.
2 Записки укр. пауков, товар, на Полтавщ., 1919, стр. 68.
558
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
были расставлены преимущественно по краю скопления, по большей
части сохраняя первоначальное вертикальное положение.
В центре находились бивни мамонта (больше 30), нижние челюсти
(6), тазы (три половинки и один целый таз); совсем единично встречались
длинные кости конечностей (4). Ребер было встречено также очень не-
много,- притом все в обломках и со следами использования их, видимо,
в качестве орудий. Позвонков на всю эту огромную массу остатков ма-
монта было найдено всего около десятка.
Таким образом, и в подборе и в расположении костей в этом скоплении
наблюдается определенная преднамеренность, которая становится по-
нятной в том случае, если рассматривать эту находку как прямую ана-
логию тем землянкам, которые сопровождают надземное жилище в Ко-
стенках I, Лангманнерсдорфе, Елисеевичах и ряде других стоянок
ориньяко-солютрейского и более позднего, мадленского времени.
Середину скопления занимали культурные отбросы вместе с расколо-
тыми костями разных животных, ребрами и рогами оленей, причем поверх
всего этого лежали бивни мамонта, представляющие, очевидно, запас
материала для изделий,
возможно первоначально
находившийся на осевшей,
вероятно, земляной кров-
ле жилища. Картина, вос-
станавливаемая раскоп-
ками 1914—1915 гг., в це-
лом поразительно напо-
минает те жилища-зем-
лянки, которые мы опи-
Рпс. 256. Кремневые орудия Гонцовской стоянки.
1—2. — Резцы. 3—4.—Проколки. 5.—Пластиночка
с затупленным краем.
(Из собр. Полтавского музея)
сали для оседлых лагерей
охотников на мамонта ран-
ней поры верхнего палео-
лита.
Кроме мамонта среди
отбросов жилья были встречены довольно многочисленные остатки север-
ного оленя и зайца, несколько зубов пещерного медведя, зубы волка. 1
Под грудами костей и около них сохранились остатки кострищ из кост-
ного мусора и перепала, расщепленного кремня и т. д. Древесного угля
здесь не встречалось. Очевидно, палеолитический человек поддерживал
огонь в очагах главным образом с помощью свежих костей животных.
Недостаточно подробное описание этой интересной находки не дает
возможности судить о многих деталях ее обстановки. Мы не знаем, на-
пример, на какую глубину простирались культурные остатки, то есть
заполнение этой землянки, если правильно наше предположение, что мы
имеем здесь помещение, вырытое в полу древнего жилья. В отчете, опу-
бликованном в «Eiszeit» говорится, что кости мамонта (бивни, ребра) шли
местами на глубину до 60—70 см. Под ними, на лёссовом дне западины,
оказался череп мамонта, нижняя челюсть и несколько длинных костей
этого животного, череп и кости скелета оленя и т. д., затем следы
кострища из пережженных костей и ряд изделий из кремня и кости.
Что мы имеем здесь действительно значительное углубление в почве,
заполненное костями мамонта, показывает уже то обстоятельство, что
1 В статье, помещенной в «Eiszeit»., Bd. IV, стр. 119, отвергается наличие в Гон-
цах лося, кабана и бизона.
гонцы
559
вне скопления костей, на верхнем уровне их, на окружающей площади
наблюдался тонкий слой культурных отбросов (костного угля). 1
Культурные остатки на исследованной площади стоянки занимают
определенные, ограниченные участки, и на пространстве между ними
кости и кремни совершенно отсутствуют. Это явление нужно считать
общим для большинства наших стоянок. Его объяснение естественно
искать в том, что места обитания палеолитического человека были огра-
ждены более прочными сооружениями и легкими постройками меньшего
размера в виде палаток из шкур или шалашей.
Обитатели Гонцовской стоянки пользовались для изготовления орудий
обычным в этой части УССР темносерым и желтовато-серым мелрвым
кремнем.2
И нуклеусы, и пластинки не достигают здесь сколько-нибудь значи-
Обработан-
ный кремень
тельных разме-
ров; обычные
размеры пласти-
нок всего 4 —
5 см. Нередко
они бывают еще
меньше, тогда
как пластинки
более крупные
составляют ско-
рее исключение.
Этому вполне
соответствуют и
размеры ору-
дий. Последние
дают в основном
две обычных
группы инстру-
ментов — рез-
цов и скребков
(рис. 255 и 256).
Резцов обык-
новенного, сре-
Рис. 2а7. Место палеолитической стоянки Боршево П на невысокой
береговой террасе Дона.
(Раскопки автора)
динного типа, полученных двумя продольными, под углом поставлен-
ными сколами, характерных для мадленских стоянок, здесь мы почти не
находим. Во всяком случае, они представляют большую редкость по срав-
нению с другим типом — бокового резца с наискось срезанным и отрету-
шированным концом и одним, продольным сколом. Нередко такие резцы
имеют вид двойного инструмента на противоположных концах пластины
п вообще отличаются довольно тщательной отделкой и правильностью
очертаний.
Скребки Гонцовской стоянки составляют группу орудий не менее
интересную. Они очень малы и часто бывают изготовлены не из
цельной пластинки, а из сечения относительно более крупных пластинок.
Мы видим среди них и круглые скребочки азильского типа, и очень вы-
сокие скребочки с кругоьой подретушевкой и почти прямым боковым
1 «Eiszeit», Bd. Ill, Н. II, стр. 109.
2 Нижеследующее описание составлено на основании коллекций, хранящихся
в Полтавском музее.
560 ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
лезвием, оставленным без подправки, наконец, двойные орудия того же
характера на противоположных концах короткой пластинки.
Наряду с этими двумя видами орудий в Гонцовской стоянке встре-
чается еще третий вид кремневого орудия, но уже в значительно меньшем
числе, — тот миниатюрный, напоминающий ланцет инструмент, который
в .археологической литературе носпт название пластиночки со сбитым
краем. Вместе с ними встречаются заостренные пластинки с притуплен-
ным краем, образующим изогнутую спинку острия, являющиеся вполне
тождественными с остриями типа «клинка перочинного ножа» азильских
стоянок западной Европы. Иногда попадаются и обыкновенные неболь-
шие кремневые проколки.
Изделия из Изделия из кости в культурных отложениях Гонцов достаточно одно-
иости образны. В первую очередь это небольшие шилья, сделанные, видимо,
из расколотых трубчатых костей зайца, остро отточенные на конце. Часто
встречаются, хотя большей частью в обломках, довольно крупные за-
остренные стержни из слоновой кости, — вероятно, от наконечников
дротиков. Имеется одйа цельная, прекрасно сделанная, тонкая костяная
игла с ушком. Далее интересна поделка из слоновой кости, с круглым
отверстием, напоминающая сильно уменьшенный в размерах инструмент
для разминания ремней или выпрямления древков, которую некоторые
считают возможным рассматривать как головную булавку. Что для изде-
лий употреблялась здесь не только слоновая кость, то есть бивни ма-
монта, но и рог северного оленя,—показывает находка куска опиленного
рога с боковым отростком, напоминающая нечто вроде молотка.
Время Из нашего краткого описания и прилагаемых рисунков нетрудно
видеть, что кремневый инвентарь Гонцов воспроизводит бедный типами
орудий инвентарь позднейших мадленских стоянок Европы. С этими
чертами он переходит и в азильское время одинаково во Франции, южной
Германии, как и на территории СССР, например в стоянке Боршево II
(верхний горизонт), где исчезновение мамонта указывает на самый поздний
мадленский или даже азильский возраст памятника.
Поэтому странное впечатление производит встречающееся в литера-
туре отнесение Гонцовского поселения к ориньяку, тогда как Мезин
нередко относят к позднему мадлену. И то и другое определение не имеет
за собой никакого фактического основания.
Разведочный раскоп, заложенный на конце мыска, занятого палеоли-
тическим стойбищем, обнаружил присутствие культурного слоя в виде
некоторого скопления костей мамонта значительно глубже, чем в основ-
ном раскопе — на глубине 4,30 м от поверхности почвы в слоистом
аллювиальном наносе. Кости здесь оказались худшей сохранности.
Возможно, что они относятся к нижнему, более древнему слою стоянки,
как это часто наблюдается в поздних палеолитических местонахождениях,
связанных с аллювием надпойменных террас, — в Боршеве II, стоянках
Днепростроя и пр.'
БОРШЕВО II, НИЖНИЙ ГОРИЗОНТ
Другой памятник того же времени, очень близкий к Гонцам, пред-
ставляет Боршевская вторая стоянка. Ее топографические условия и
характер залегания культурных остатков являются в известной мере
необычными для палеолитических стоянок восточной Европы.
Условия Ниже Костенок, под с. Боршевым, Дон вплотную подходит к вы-
бегания сотам правого берега, давая место лишь узкой террасе, прислоненной
БОРШЕВО II, НИЖНИЙ ГОРИЗОНТ
5в1
к круто поднимающейся возвышенности. Меловой берег здесь сильно
изъеден широкими балками, заросшими кустарником и лесом. В устье
одной из них находится первая открытая в Боршеве палеолитическая
стоянка — ориньякского времени.
Ниже по течению береговые высоты прорезаны огромным, широко
разветвленным оврагом (в нем расположена главная часть села Бор-
шева), у выхода которого береговая терраса несколько расширяется
и образует более или менее ровную площадку, всего на 4—5 м поднимаю-
щуюся над летним уровнем реки. В половодье она затопляется водой.
Эта терраса, не превышающая по своей высоте пойменную террасу Дона,
но отличающаяся от нее по своему геологическому строению, на выезде
пз села занята частью садами и огородами, частью пустырем. Будучи
размываема рекой, она образует невысокий береговой обрыв, в котором
п были обнаружены
следы палеолитических
кострищ. 1
В обрезе берега вид-
но, что под нетолстым
слоем луговой почвы,
покрывающей берего-
вую террасу, залегает
суглинок желтоватого
цвета, с многочислен-
ными включениями ме-
ловой щебенки. Этот
суглинок, толщпноп в
метр и более, носит*'ха-
рактер древнего делю-
виального наноса, на-
мыва весенними и дож-
девыми ручьями про-
дуктов разрушения бе-
реговых пород. Под
ним, почти до уровня
воды, идет плотная гли-
Рис. 2а8. Берег р. Дона на месте стоянки Боршево П.
На снимке видна темная прослойка погребенной
почвы, отвечающая верхнему горизонту стоянки. Ниже
залегают 2-й и 3-й слои палеолитических остатков.
'Раскопки автора;
Верхний
горизонт
нистая супесь, содержащая множество мелких ракушек и по своему проис-
хождению являющаяся, очевидно, аллювиальным образованием. В самом
основании берега она переходит в сероватую, вязкую глину. Как раз
по границе верхнего суглинка и глинистой супеси вдоль берега заметна
темная прослойка, толщиной сантиметров в 5—10, идущая на далекое
расстояние по береговому^обр'ыву.
Прослойка эта имеет гумусный характер и представляет собой древ-
нюю, погребенную почву, которая, очевидно, должна была одевать берег
Дона в какую-то раннюю эпоху, до отложения покровного суглинка.
У моста2 через Дон слой погребенной почвы залегает на высоте около
1,5 я над уровнем реки, а ниже по течению, метрах в 100, он уходит
под воду.
В этой прослойке на значительном протяжении залегают культурные
остатки — это верхний горизонт стоянки. Они образуют обычные ско-
пления отбросов жилья — более или менее обширные гнезда угля, пере-
1 Они были замечены впервые П. А. Никитиным.
2 Ныне снесенного.
36 П. П. Ефименко. Первобытное общество -^1734
562
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Средний
горизонт
Нижний
горизонт
Рис. 259. Каменные орудия
верхнего горизонта стоянки
Боршево II.
Острие, пластинка- с зату-
пленной спинкой, резец и
концевой скребок. Уменып.
(СОиры автора)
долгого вре'менп в одном
жженных костей, сопровождающиеся значительным количеством раско-
лотого кремня, комками красной и желтой охры и т. п. На местах древ-
него жилья культурный слой насыщен подобными остатками. Выше
погребенного почвенного слоя в желтом суглинке культурные остатки не
встречаются вовсе.
Иную картину представляет собой разрез берега несколько выше
по течению Дона. Темная почвенная прослойка здесь прослеживается
вполне отчетливо, но никаких остатков не содержит. Зато глубже ее
в глинистой супеси намечается второй горизонт находок. Здесь неза-
метно следов «пепелищ»: кости и кремни зале-
гают более или менее рассеянно на глубине
сантиметров до 25—30 ниже гумусной про-
слойки. Тут имеется много остатков лошади,
но в небольшом количестве попадаются и об-
ломки костей мамонта, совершенно отсутствую-
щие в верхнем слое.
Еще глубже залегает третий горизонт на-
ходок. Он представляет как бы цепь тонких,
прерывающихся углистых прослоек и утолще-
ний, в которых встречается много костей ма-
монта — зубы, куски бивней, расколотые длин-
ные кости. В местах, где этот слой более
утолщен и богат находками, он содержит мно-
жество костей грызунов, главным образом
лапок зайцев, которые, видимо, бросались че-
ловеком как части, непригодные в пищу.
Собственно, и в среднем горизонте находок
и в нижнем горизонте можно видеть лишь
незначительные остатки мест обитания, раз-
мытые и разрушенные рекой при поднятии ее
уровня. Культурный слой их по мере углу-
бления в берег становится более бедным веще-
ственными остатками и в нескольких метрах
от берегового обрыва совершенно исчезает.
Находки в описанных горизонтах стоянки
разнятся одни от других настолько значи-
тельно, что не оставляют сомнения в том, что
каждая из них отвечает особой стадии в исто-
рии этого местонахождения. Что привлекало
человека и побуждало его селиться в течение
и том же месте, сказать, конечно, трудно. Здесь
могло играхь роль и сцседство огромного оврага, представляющего целую
систему логов и широких долин, с вытекающим из него многоводным ручьем.
Затем удобное расположение под защитой возвышенности, а главное,
вероятно, близость водного бассейна, судя по характеру наноса, —
или реки с очень спокойным течением, или затона, а может быть, и
озерка, подобного пойменным озерам, какие имеются и сейчас в долине
Дона.
Уровень этого бассейна, на берегах которого поселился человек,
продолжал повышаться, заполняя слоями осадков древнюю долину реки.
Этот процесс продолжался до эпохи, когда поверхность речного наноса
покрылась почвенным слоем, а поверх него начал отлагаться намывае-
мый с возвышенности суглинок. В последующее время река еще раз
*
ДРУГИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 5(iS
шачительно углубила свое русло, проложив в древнем аллювии свою
пойменную низину.
Нанос, заполнивптий ее уже в современную эпоху, имеет совершенно
иной характер, чем описанный нами древний нанос, содержащий остатки
палеолитической культуры. Это хорошо можно наблюдать в высоких
береговых обрывах Допа против Боршева, по луговой стороне, где в гру-
бых, быстро меняющихся по составу отложениях поймы на разных уров-
нях встречаются культурные остатки эпохи бронзы и богато орнаменти-
рованная керамика позднего каменного века.
Как было выше сказано, нижний горизонт находок прослеживается
ниже гумусного слоя в виде тонкой волнистой прослойки углистого
цвета. Некоторые признаки, как например то обстоятельство, что она
продолжает быть заметной там, где в ней исчезают культурные остатки,
затем значительная концентрация выделений железа позволяют рассматри-
вать эту прослойку как остаток некогда существовавшего почвенного
покрова. Он покрывал берег в эпоху временного отступания реки и был
более или менее размыт при поднятии ее уровня.
Обработанный кремень, который встречается здесь в довольно боль- Камень и
шом числе, близко напоминает кремневый материал Костенок II и III. коеть
Это преимущественно темный, меловой кремень, но с примесью около
25% цветного, валунного кремня. Орудия — те же скребки и резцы;
встречаются массивные резцы и нуклеобразные инструменты типа ско-
беля (рабо).
Особенностью нижнего горизонта является относительное обилие
изделий из кости, хотя достаточно однообразных. Это одинаковые неболь-
шие орудьица в виде острия или шила, сделанные из расколотых
трубчатых костей зайца и тонко отточенные на конце (шилья). Такие ору-
дьица попадаются в утолщениях культурного слоя среди скоплений
костей грызунов, служивших материалом для их изготовления. Они на-
поминают такие же миниатюрные шилья из заячьих костей, найденные
в Гонцах. Кроме них были встречены незаконченная костяная игла и
пластинки из бивня мамонта, подготовленные для дальнейшей обработки.
В списке фауны этого горизонта фигурируют, по определению В. И. Фауна
Громова, кроме мамонта — лошадь, северный олень, заяц (много), волк,
россомаха.
Что касается среднего горизонта находок, то он занимает очень не-
большую площадь, будучи, видимо, сильно размыт рекой. Кроме костей
лошади степной породы, которых встречается здесь особенно много,
и некоторого количества остатков мамонта, бизона и небольших грызу-
нов, этот слой заключал в себе мдого расколотого кремня и кварцита.
Любопытно, что каменной материал в этом слое носил совершенно
необычный характер, как будто он намеренно подбирался человеком
по пестроте и яркости окраски, независимо от пригодности его для изде-
лий. Типы орудий здесь не отличаются заметно от находок в нижнем
горизонте.
ДРУГИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
Кроме описанных выше, как на Украине, так и севернее — на Десне
н ее притоках, открыт ряд палеолитических стоянок, которые могут быть
отнесены к более раннему и более позднему времени мадленской эпохи.
Возможно, что к тому яге времени, что и Елисеевичи, относятся сделав-
шееся известным в последние годы несколько ниже по Судости палеоли-
*
5G4
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. МАДЛЕНСКОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТНИКИ СССР
Курово и
Ново-Бобо-
вцчп
Довгиничи
тическое местонахождение в Курове с остатками мамонта, носорога и ло-
шади и Ново-Бобовичская стоянка, лежащая западнее, на р. Ипутп.
Чулатово
Рис. 260. Каменные орудия верхнего
горизонта стоянки Боршево И.
Резцы и скребки. Уменьш.
(Сборы автора)
с сопровождающими ее значительны-
ми скоплениями костей мамонта. Оба
эти пункта, связанные с палеолити-
ческими поселениями, открытые
К. М. Поликарповичем при его си-
стематическом обследовании мест
находок костей ископаемых живот-
ных по правым притокам Десны,
еще ждут своего изучения.
Несколько южнее, у Новгород-
Северска гг ниже его, по течению
Десны, обнаружен ряд палеолитиче-
ских местонахождений, входящих в
большую группу памятников верх-
него палеолита этого района, весьма
богатого подобными остатками. Если
исключить из них Пушкари, мате-
риал по которым еще не опублико-
ван, и Мезин как стоянки более ран-
него времени, из собственно мадлен-
ских стоянок здесь наибольший
интерес представляет Чулатово, ис-
следовавшееся И. Г. Пидопличком
в 1935—1936 гг.
В западном Поднепровье к памят-
никам этого типа принадлежит стоян-
ка у Довгиничей в окрестностях
Овруча с культурными остатками,
залегающими в толще лёсса. Крем-
невый инвентарь ее беден, но фауна довольно разнообразна и предста-
влена мамонтом, носорогом, северным оленем, лошадью, волком. 1
Рис. 2(11. Кремневые орудия из Журавки.
Юровичи Столь же бедной пока обработанным кремнем является стоянка
у Юровичей на левом берегу Припяти, исследовавшаяся в 1929 и 1931 гг.
К. М. Поликарповичем, 2 интересная главным образом по своим геологи-
1 I. Левицький, Довгинецька палеолипична стац1я, «Антропология», 1929, т.
Киев, 1930 стр. 153.
2 Па.йкарповъч, Раскопкъ Юравщкай палеолйпычнай стаянк1 у 1929 г., «Зап. отд.
Гум. Нав. Б. А. Н.», т. II, 1930, стр. 499; его же, статья в «Труд. II межд. конф.
АИЧПЕ», в. V, стр. 78; Г. Ф. Мирчинк, там оке, стр. 47.
ДРУГИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 5в5
ческпм условиям. В состав ее фауны входят мамонт (15—20 экземпляров)
и лошадь (1 экземпляр).
Как и многие другие стоянки верхнего палеолита, она расположена
на склоне (левом) древней балки, при ее выходе в долину Припяти. Куль-
турные остатки здесь залегают в песках, перекрытых мощным, 6-мет-
ровым слоем песч'анистого лёсса. По мнению Г. Ф. Мпрчинка, пески,
заключающие следы человеческого обитания, представляют собой аллю-
виальный нанос древней террасы, отложенный рекой в период, когда ее
воды поднимались на 24—25 м над современным уровнем. Из найден-
ных К. М. Поликарповичем 30 обработанных кремней лишь немногие
носят характер законченных орудий — это, почти исключительно, острия
с затупленной спинкой. Весьма вероятно, что раскопки охватили только
часть палеолитического поселения. Возможно, однако, что последнее
было размыто рекой — на это как будто указывает прослойка гравия
п галечника непосредственно перекрывающая место стоянки.
К числу недостаточно еще известных местонахождений относятся Искорость
так же Искорость, а равно некоторые пункты находок древней фауны
п обработанных кремней на самом Днепре в его среднем течении (напри-
мер у Канева) и в леробережной Украине.
Скульптурное изображение бизона
(Ла Мадлен, Франция)
ГЛАВ А
ОДИН И А Д Ц А Т А Я
II. Т. САВЕНКОВ
Климатиче-
ские усло-
вия
Оледенение
ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СИБИРИ
В ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД
Если, как мы видели, история четвертичного времени в западной
Европе и на европейской территории СССР содержит много темных и спор-
ных вопросов, хотя им, казалось бы, посвящены многочисленные иссле-
дования, — для Сибири с ее обширными, часто мало доступными простран-
ствами изучение ее судеб в послетретичную эпоху вообще следует считать
едва лишь начатым. Однако мы знаем, что Сибирь несколько иначе пережи-
вала ледниковое время, чем другие области северного полушария в тех
же широтах.
Причину этого приходится искать в своеобразных климатических
условиях, господствующих во всей северной, а отчасти и средней полосе
Азии. Установились они здесь, можно думать, с очень давнего времени.
При взгляде на карту можно видеть, что эта часть Азиатского мате-
рика является замкнутой областью, огражденной с запада, востока и юга
стеною высоких нагорий, преграждающих путь теплым и влажным воз-
душным течениям, идущим со стороны Тихого и Индийского океанов.
Такое географическое положение имеет следствием то, что атмосферные
осадки лишь в малой части выпадают в указанной области, тогда как на
севере равнины Сибири широко открыты в сторону полярного моря,
источника холода, являющегося для северной Азии как бы резервуаром
низких температур. Этим объясняется особенность .ландшафта материка
Азии в ее средней части — преобладание пустынных и степных про-
странств, а на севере — мерзлых почв, поддерживающих достаточную
влажность для распространения таежного леса.
Сухость, континентальность климата северной Азии, небольшое ко-
личество выпадающих здесь в течение года осадков обусловили отсутствие
не только в настоящее, но и в прежнее время особенно значительных
ледяных покровов, которые требовали для своего образования прежде
всего усиленного притока влаги и больших снегопадов.
♦
ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СИБИРИ
5в7
Возможно, что развитию оледенения препятствовало также и отсутствие
ла севере горных массивов, которые могли бы явиться очагом развития
снеговых скоплений' и ледников. Во всяком случае, в то время, когда
'н>.1Овина Европы и северной Америки была покрыта надвигающимся
оледенением, равнины Сибири были от него более или менее свободны.
Правда, в последнее время геологи, занимающиеся вопросами четвер-
тичной истории северной Азии, начинают открывать здесь следы более
и.in менее обширных оледенений. Такого взгляда придерживается, на-
пример, академик Обручев, полагающий, что ледниковый покров был
развит не только на всех более или менее значительных горных хребтах,
но п в равнинной части почти всей северной и северо-восточной Си-
Гц1|)П. Однако эта точка зрения встречает некоторые возражения со
стироны других исследователей, указывающих на то, что типичные мо-
ренные образования не занимают здесь особенно значительных площа-
дей и достоверно установлены далеко не на всем пространстве севера Сибири.
По мнению Л. Я. Тугаринова,1 у нас нет данных, которые могли бы
пнределенным образом £оворить в пользу существования на севере Азиат-
। кого материка сплошного ледникового покрова, одевавшего даже наибо-
iee северные его окраины. Если в горных районах восточной Сибири
вполне достоверно устанавливаются следы древних оледенений, отчасти
даже спускавшихся с гор на соседние равнины, то собственно равнинные
пространства, преобладающие на севере Азии, обнаруживают иное явле-
ние. Здесь довольно широкое распространение имели фирновые поля,
которые, покрываясь минеральным наносом, давали начало образованию
in копаемых льдов, составляющих характернейший элемент четвертичных
образований северо-востока Азии.
Уже самый факт находок в этих ископаемых льдах многочисленных
остатков древнечетвертичных животных, как правильно отмечает Туга-
ринов, свидетельствует против существования здесь в эту эпоху сплош-
ного ледникового покрова. Только в западной и отчасти северо-западной
области Сибири, от Урала к Таймырскому полуострову, более обильные
осадки, приносимые западными ветрами, позволили в четвертичное время
развиться значительному оледенению, оставившему ясные следы в виде
отложений донной морены.
Своеобразные физико-географические условия Сибири объясняют нам
п другое явление, которое представляет большой интерес с точки зрения
ее прошлой истории. Известно, что целый ряд животных и растений
частью одинаковых, частью весьма близких видов имеют распростране-
ние, с одной стороны, в Европе, с другой стороны — на дальнем востоке
пли юго-востоке Азии, причем в промежуточной области, в пределах
Сибири, они неизвестны или встречаются отдельными островками. Такое
прерывчатое распространение имеют, например, дуб, вяз, лещина, жимо-
лость, отчасти липа и много других растений, а пз животных некоторые
моллюски, амфибии и пр.
Это явление может быть объяснено только тем, что в начале четвер-
тичного времени в центральной Азии п Сибири господствовал умеренно-
теплый и влажный климат, давший возможность широко распространиться
указанным формам. Позже, с наступлением сурового климата ледниковой
эпохи, животные и растения, сдвинутые к югу волною холода, имели
возможность в Европе пережить это время в областях, прилегающих
1 .1. Я. Тугаринов, Опыт истории арктической фауны Евразии, «Труды II межд.
конф. АИЧЛЕ», в. Г, стр. 55.
568
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
к Средиземному морю, чтобы при наступлении более благоприятных усло-
вий снова занять в послеледниковую пору места прежнего своего оби-
тания, тогда как в Сибири, хотя и не знавшей оледенения в широком
масштабе, значительное понижение температуры в ледниковую эпоху
заставило их отчасти вымереть, отчасти удалиться на юго-восток в усло-
вия более мягкого климата. Здесь они ожидают времени, когда смягчение
климата Сибири, видимо пока мало изменившегося по крайней мере
в ‘отношении годовых температур со времени ледниковой эпохи, позво-
лило бы им снова начать ее за-
Смены
фауны и
раститель-
ности
Г Рис. 262. Место расположения Бирюсиискпх
пещер.
По I). II. Громову)
селение.
Известны и иные факты, на-
пример погребенные почвы,
остатки растительности в "древ-
них геологических отложениях
и другие, свидетельствующие
также в пользу того, что в
доледниковую эпоху . Сибирь
обладала климатом более теп-
лым и более влажным, чем в
настоящее время. Наши сведе-
ния в этой области остаются,
однако, скудными и разрознен-
ными. Приходится признать,
что мы, в сущности, почти ни-
чего достоверного не знаем 'о
начальной стадии плейстоцена
в Сибири, тем более что нахо-
док фауны, которую можно’было
бы считать соответствующей по
времени ранпеледниковой, «теп-
лой» фауне Средиземноморья,
здесь пока совершенно неиз-
вестно.
Мы не знаем точно, какому
времени принадлежат замеча-
тельные находки на крайнем
севере Сибири, сделанные экспе-
дицией Толля. Возможно, что
они относятся к более ранней
поре ледникового периода. Во всяком случае, они рисуют условия жизни,
значительно отличающиеся от тех, которые наблюдаются в наше время.
За пределами полярного круга, на Новосибирских островах, в то время
составлявших еще продолжение суши, экспедицией Толля обнаружены
были целые кладбища не только мамонтов, но и носорогов, лошадей,
быков, северных оленей и т. д., которые Свидетельствуют о том, что
тут водились большие стада этих.животных. Сюда, на берега полярного
моря, заходили даже такие южные формы, как тигр и антилопа-сайга.
Нелегко представить себе, какой ландшафт имели в ту эпоху эти
пустынные и безжизненные в настоящее время полярные окраины Сибири
и какие условия давали возможность развиваться здесь этому богатому
и своеобразному миру животных. Вряд ли, во всяком случае, существо-
вание его было возможно при наличии современной скудной тундровой ра-
стительности и при современных климатических условиях крайнего севера.
ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СИБИРИ
569'
Рпс. 263. Палеолитические поселения по правому и левому берегу,
р. Бирюсы в месте впадения ее в Енисей.
(По В. И. Громову)
По мнению А. Я. Тугаринова, представившего на II международную
конференцию Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы
(АИЧПЕ) интересный набросок четвертичной истории Сибири в связи
с вопросом о возникновении арктической фауны, физико-географические
условия северо-восточной Азии получают своеобразный характер уже
в конце третичного периода — в плиоцене. В эту эпоху суша простиралась
гораздо севернее нынешней береговой линии Сибири, включая в себя
острова, расположенные к северу, и образуя соединение между мате-
риками Старого и Нового Света. Имеются указания, что эта суша, извест-
ная под именем Берингии, существовала до конца ледникового периода.
Видимо, $же в начале плейстоцена здесь складываются условия, зна-
чительно более суровые, чем в ту же эпоху в Европе. Перед этим, в конце
третичного вре-
мени, судя по
находкам расти-
тельных остат-
ков в отложе-
ниях плиоцено-
вого возраста по
рекам Колыме,
Алдану, Бурее,
в современной
Якутии прости-
рались леса с
довольно бога-
той раститель-
ностью, содер-
жащей древес-
ные породы, ха-
рактерные для
более южных
широт.
Севернее они
сменялись хвой-
ными лесами та-
ежного типа, а
еще дальше, в области Берингии, преобладали равнины, покрытые степ-
ной растительностью, где к началу четвертичного периода формируется,
своеобразный мир животных и растений, явившийся родоначальником,
фауны и флоры тундровой полосы Евразии. Такое происхождение ти-
пичной полярной растительности и соответствующего комплекса фауны
может быть подкреплено рядом соображений.
Несомненно, что характерный мир животных, получивший распростра-
нение в Европе в ледниковое время до берегов Средиземного моря, не
весь и не целиком должен был возникнуть на далеком севере Азии. Такие
животные, как мамонт, сибирский носорог, различные виды быков, ло-
шадей п пр., предковые формы которых известны на широких простран-
ствах Европы и Азин в начальную пору плейстоцена, могли создаваться
в новой природной обстановке на всем обширном пространстве прилед-
никовой полосы, простиравшейся от Атлантического до Тихого океана.
Но на северном форпосте материка Евразии в области Берингии
п вообще в этой зоне, еще свободной от ледяного покрова, где господство-
вал ландшафт степи с умеренным, затем становящимся все более суровым.
570
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Резкое ухуд-
шение
климата
климатом, уже достаточно рано складываются условия, в которых могли
формироваться такие виды приполярной фауны, как северный олень,
мускусный овцебык, песец и др. В пользу такого происхождения их
говорит ранее нами установленный факт постепенного продвижения ука-
занных животных в Европе с северо-востока на юго-запад, начавшегося,
насколько мы можем судить, в>конце миндель-рисской эпохи. Они на-
чинают здесь встречаться сначала не в большом числе в поселениях охот-
ников эпохи мустье — совместно с представителями типичной лесной
фауны максимального оледенения, а затем, уже в вюрмское время (верх-
ний палеолит), широкой волной распространяются почти до южных окраин
Европы.
В последующей истории четвертичного времени Сибири наступает
пора все более резко выраженного ухудшения климата. По одним воз-
зрениям, охлаждение климата Сибири шло медленно и постепенно с на-
чала плейстоцена, по другим — климат Сибири должен был отражать
те же колебания, которые усматриваются в великом европейском оледе-
нении, то есть в нем следует искать фазы, соответствующие отдельным
фазам ледниковой эпохи Европы.
Таким образом, в прямой связи с ледниковым покровом, надвигав-
шимся в Европе с севера из Фенно-Скандии, должны были развиваться
обширные ледниковые поля в северо-западном, приуральском углу Си-
бири, где, по последним наблюдениям, оледенение действительно все же
имело значительно большие размеры, чем это предполагали раньше,
возможно даже смыкалось с льдами, покрывавшими Таймырский полу-
остров. В ту же эпоху, вероятно, возникли и те отдельные ледники, следы
которых известны в Якутии, на Ново-Сибирских островах, на Камчатке
и на всех более значительных окраинных горных кряжах — Алтае, Сая-
нах, Яблоновом, Становом хребтах, где ледники в это время занимали
довольно большие площади, отмеченные моренными наносами с валунами,
занесенными с гор. Одно из наиболее значительных оледенений в горных
областях Сибири имело своим центром место схождения русского и мон-
гольского Алтая, хребты Сайлюгема и Саян.
С развитием ледников должен был совпадать и период усиленной
деятельности сибирских рек, которые несли с гор огромные массы воды,
отлагая в своих руслах, сохранившихся в настоящее время в виде высоко
поднятых над современным течением древних террас, такой материал,
как песок, галечник или даже иногда крупные ледниковые валуны. Послед-
ние, видимо, заносились или ледоходом, или во время тех все сокрушаю-
щих наводнений, которые свойственны гористым местностям.
В южной, предгорной полосе Сибири, п сейчас имеющей степной ха-
рактер, понижения между гривами возвышенностей и склоны речных
.долин бывают прикрыты толщами желтовато-бурого легкого известко-
вого суглинка, совершенно сходного с украинским и западноевропейским
лёссом. Время отложения лёссов в Сибири, покоящихся на речных нано-
сах, оставленных в эпоху обилия вод, должно, видимо, соответствовать
времени, следующему за максимальным оледенением, когда и на Западе
начинается пора образования лёссов.
Здесь эта пора, судя по остаткам животных, погребенных в лёссе,
так же как и в Европе, характеризуется широким распространением
холодной засушливой степи и смешанным тундростепным миром живот-
ных, весьма мало похожим на современных обитателей таежного леса
'Сибири. В лёссах Сибири, наприлЦф лучше изученных лёссовых отложе-
.ниях долины Енисея в его верхнем течении, совершенно так же, как в ана-
ПАМЯТНИКИ МАДЛЕНСКОЙ эпохи
571
логичных образованиях Европы, типичные животные тундры — север-
ный олень, песец, россомаха — встречаются постоянно в сочетании
с животными луговых пастбищ и степи — мамонтом, лошадью, бизо-
ном и сайгой. Общие условия залегания этих наносов, видимо, также
вполне соответствуют поздним лёссам склойов и террас речных долин
Европы.
Это было время широкого распространения пустынностепного ланд-
шафта в тех областях Сибири, которые в настоящую эпоху заняты непро-
ходимыми лесными чащами. Когда закончилась пора образования лёсса,
когда вымерли последние представители древней фауны и наступили
условия послеледникового, современного климата Сибири с современ-
ным распределением области степи, леса и тундры, — для решения этого
вопроса пока нет достаточных данных.
У нас нет основания предполагать, чтобы с того времени, когда послед-
ние стада мамонтов и носорогов бродили на далеком севере Сибири, и до
настоящего времени там имели место значительные изменения в климате
или в ландшафте страны. Против этого определенно говорила бы прекрас-
ная сохранность остатков мамонта, носорога и других животных ледни-
ковой эпохи, встречающихся в вечно мерзлой почве Сибири. Очевидно,
эти замерзшие пласты с тех пор никогда не подвергались оттаиванию.
Возможно, что там, на крайнем севере Сибири, в условиях, близких
к условиям ледникового времени, эти последние свидетели ледниковой
эпохи удержались дольше, чем где-либо в ином месте европейско-азиат-
ского континента. На юге же Сибири, вероятно, правильнее связывать
время угасания ледниковой фауны и ледниковых явлений с временем
установления климатического равновесия, характерного для современ-
ной эпохи — голоцена.
*
ПАМЯТНИКИ МАДЛЕНСКОЙ ДПОХИ
Палеолитические стоянки пока известны в Сибири в сравнительно
немногих пунктах, притом значительно удаленных один от другого.
Интересно, что эти первые находки культурных остатков палеолита свя-
заны с тремя крупнейшими городами Сибири — Томском, Иркутском
п Красноярском. Такое совпадение вряд ли можно считать случайным.
Естественно предполагать, что здесь, в значительных центрах Сибири,
сложились благоприятные условия для того, чтобы случайно обнаружен-
ные древнейшие памятники прошлого обратили внимание сведущих людей
и не погибли для науки.
Можно быть вполне уверенным, что планомерные поиски обнаружат
следы палеолитической культуры па гораздо более широких простран-
ствах Сибири. Изыскания, произведённые в последние годы, в главных
пунктах находок остатков палеолитической культуры, одинаково в районе
Красноярска п выше по течению реки Енисея и в окрестностях Иркутска
на Ангаре, обнаружили десятки новых палеолитических местонахожде-
ний. Число их будет, несомненно, увеличиваться вместе с .ростом интереса
к остаткам этой отдаленной эпохи.
Одним из наиболее интересных районов находок палеолита для Сибири Окрестно
являются окрестности Красноярска. Первые находки палеолитических сти Краш
орудий в сопровождении костей ископаемых животных были сделаны здесь ярека
пятьдесят лет назад, в 1884 г., заслуженным сисврским исследователем
И. Т. Савенковым, который обнаружил их в предместье Красноярска
572
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
в лёссовом наносе, покрывающем склоны и подножие так называемой
Афонтовоп горы — ближайшего к городу пологого отрога гори-
стых возвышенностей, окаймляющих долину Енисея.
И. Т. Савенков, не располагавший средствами, необходимыми для
производства раскопок, в течение многих лет подбирал орудия и кости
древнечетвертичных животных, случайно обнаруживавшиеся частью
в размывах лёсса, главным же образом в разработках кирпичн'ых заво-
дов. Таким путем ему удалось составить обширную и весьма интересную
коллекцию палеолитических остатков, переданную им в главной своей
части Музею антропологии и этнографии Академии наук. Только в 1914 г.
Савенков получил возможность начать планомерные раскопки местона-
хождения, но смерть помешала ему закончить обработку и издание всего
добытого материала. Новую страницу в истории исследования Афонтовской
стоянки составляют недавние раскопки Н. К. Ауэрбаха, Г. П. Соснов-
ского и В. И. Громова, доставившие большой и весьма ценный материал.
Афонтова гора явилась не единственным местом, где были обнаружены
остатки палеолитической культуры. Подобные находки в разное время
Долила
Енисея
Рис. 264. Строение долины р. Енисея в окрестностях Красноярска.
Слева показана Афонтова гора с прислоненными к ней лёссовыми отложениями,
содержащими палеолитические остатки (А).
'Но В. II. Громову)
стали известны и в других пунктах, расположенных около Красноярска,,
а затем и вверх по Енисею, в пределах Минусинского края.
В окрестностях Красноярска (см. рис. 264) долина Енисея относитель-
но не широка и замкнута с обеих сторон довольно значительными увалами
из плотных, кристаллических горных пород, главным образом гранита, ма-
скированных в значительной мере осадочными образованиями — мергеля-
ми и песчаниками. Вдоль речной долины, по склонам возвышенностей
можно видеть линию широких уступов, поросших степной растительностью.
Они представляют остатки террас, видимо, связанных с древнейшей
историей формирования долины Енисея. Уже высота их над уровнем реки
говорит о чрезвычайной древности их, быть может предшествовавшей
даже четвертичной эйохе. Значительно ниже их по склонам долины
прослеживаются остатки террас сравнительно более позднего возраста»
Над заливной низиной Енисея, по обоим берегам реки, следует над-
пойменная терраса, образующая обычный берег весеннего разлива. Вы-
сота ее над меженью реки достигает в среднем около-9—12 м. Выше, на
15—18 лот уровня реки, можно наблюдать линию более высокой террасы.
Верхняя надлуговая терраса не всегда может быть различима, так как
она маскируется отложениями лёсса, покрывающего склоны долины.
Следует отметить, что лёссовый покров, одевающий склоны долины Ени-
сея, держится приблизительно метров на 15 над уровнем реки и на ниж-
нюю надлуговую террасу не спускается.
ПАМЯТНИКИ МАДЛЕНСКОЙ эпохи
573
На пойме, Как и в основании первой и второй надлуговой террасы,
повсюду залегает пласт галечника с примесью иногда довольно крупных
валунов. Этот нанос подстилает все древнее ложе реки и может быть отне-
сен ко времени особенного многоводья и усиленной деятельности ее,
которое естественно связывать с развитием ледников на горных хребтах,
питающих систему Енисея, и общим увлажнением климата, принесен-
ным эпохой надвигающегося максимального оледенения.
На второй надлуговой террасе Енисея можно видеть, как в основании
ее поверх галечников залегает слой речного песка.
Выше терраса сложена типичным лёссом, содержащим остатки ледни-
ковой фауны, нередко также культурные остатки.
Нижняя надлуговая терраса, на которой расположен Красноярск,
состоит целиком из речного наноса-. Поверхность нижней террасы, как
и в речных долинах юж-
ной части восточной
Европы, бывает покры-
та чистым серым квар-
цевым песком, местами
передуваемым ветром и
образующим дюны. Ни-
же он переходит в из-
вестковую супесь или
приобретает суглини-
сто-известковый, лёссо-
видный характер.
Таким образом, опи-
санное строение долины
Енисея близко напоми-
нает то, что мы видели
в долинах рек европей-
ской территории СССР:
заливная низина, над-
луговая терраса, несу-
щая дюны, наконец вы-
ше по склонам долины
лёссы, иногда прикры-
вающие более древние
Рис. ‘263. Разрез через местонахождение Афовтова JJ.
А. — Почвенный слой. В. — Серый лёсс. С. — Лёссо-
видный суглинок. D. — Плотный, слоистый лёссовид-
ный суглинок. Е. — Лёссовидный суглинок, переме-
жающийся с прослойками глины и песка. F. — Га-
лечник. С\ и С2 — Темные гумусные слон.
речные наносы и со-
держащие следы палеолитических стойбищ. Естественно ожидать, что
найденные в этих условиях культурные остатки должны принадле-
жать поздней ледниковой эпохе, то есть поздней поре палеолита. Дей-
ствительно, как мы увидим, лёссовые стоянки Енисея должны быть отне-
сены именно к этому времени.
Что палеолитические отложения, открытые в окрестностях Красно-
ярска, залегают в лёссе, прикрывающем древнюю речную террасу,—хо-
рошо видно из описания ряда разрезов Афонтовой горы, сделанных в свое
время И. Т. Савенковым. Тот же характер имеют разрезы другой стоянки,
у «Кирпичных сараев», лежащей за городом, ча продолжении склона Афон-
товой горы, у слияния речек Бугача и Качи; затем на стоянке у так назы-
ваемого Военного городка, обнаруженной в стене оврага, выходящего
в долину Енисея, по тому же левому берегу реки, километрах в 4—5 ниже
Красноярска. Везде здесь естественные разрезы, если они достаточно
глубоки, дают одинаковую картину. Под слоем почвы находится более
Лёсс
574 ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
или менее значительный пласт желтоватого, пористого лёсса, достигаю-
щий обычно 2—4 м мощности, который книзу приобретает песча-
нистый характер и переходит в горизонт слоистых речных песков, по-
достланных древним галечниковым наносом.
В этом лёссе, часто в нижних его горизонтах, и встречаются культур-
ные остатки. Они бывают связаны с тонкими, темно окрашенными, видимо
почвенными прослойками и иногда представляют настоящие места обита-
ния, содержащие расколотые кости животных, каменные орудия, реже
костяные поделки и отбросы производства орудий. Большинство по-
добных находок отмечает, однако, места недолгого, случайного пребы-
вания человека, и культурные отложения их бывают незначительны и
бедны вещественными остатками. Часто даже расколотые кости животных
и отдельные орудия встречаются в лёссе рассеянно, не образуя скоплений.
Но в 1923—1925 гг. Н. К. Ауэрбах и Г П. Сосновский, продолжая иссле-
дования И. Т. Савенкова, нашли на склонах Афонтовой горы прекрасно
выраженную стоянку (Афонтова II) с мощными культурными отложениями,
содержащими типичную фауну более поздней ледниковой поры — ма-
монта, северного оленя, песца, бизона, лошадь, льва, россомаху, анти-
лопу-сайгу, джигетая и других животных, вместе с разнообразными
орудиями из камня и кости.
АФОНТОВА ГОРА
Обширный лагерь охотников мадленской эпохи на Афонтбвой горе
под Красноярском представляет для нас особенный интерес, так как его
раскопки, производившиеся вплоть до 1930 г., дают тщательно собран-
ный, хорошо проверенный фактический материал, освещающий ряд
вопросов, поставленных прежними исследованиями этой стоянки. Палеоли-
тические остатки обнаруживаются в целом ряде пунктов Афонтовой горы —
по нижнему склону покрытой лёссом возвышенности — в виде отдель-
ных мест скопления находок, которые исследователи их называют-
Афонтовой горой — I, II, III и IV.
Можно считать установленным, что культурные остатки залегают
здесь по крайней мере в двух, <1 может быть, и трех отдельных горизон-
тах находок.
Нижнпн Особенного внимания заслуживает, несомненно, нижний горизонт
горизонт z^oHTOBoii горы, содержащий наиболее характерные, богатые и разно-
образные виды палеолитических изделий. В этом же горизонте были
открыты остатки жилищ, с которыми здесь связаны все наиболее интерес-
ные находки. Раскопки, производившиеся в довольно трудных условиях,
поскольку исследователя^ приходилось удалять слой лёсса до 10 и более
метров, только затронули несколько таких сооружений, обстоятельное
изучение которых является настоятельной задачей ближайшего времени.
Все же общая картина их выступает достаточно ясно.
Остатки На участке так называемой Афонтовой II во время раскопок 1923—
жилищ 1925 гг. была вскрыта землянка, представлявшая значительное углубле-
ние в лёссовом грунте овальной, не совсем правильной формы, имевшее
около 10 м в длину, при 5—6 м в ширину. Глубина ее от прежней поверх-
ности почвы не могла быть точно установлена, но, видимо, она достигала
все же не менее 1,5—1,75 м. Стенки ямы имели местами уклон до 45°.
Дно ее было заполнено толстым слоем (до 1 л) всевозможных отбросов —
золы, углей, расколотых и обожженных костей, задымленных камней
АФОНТОВА ГОРА
575
(видимо от очага), массы изделий из камня и отбросов их производства
и т. д. (рис. 266). Другими словами, мы имеем здесь совершенно ту же
картину, какую рисует О. Фраас для исследованного им жилища мадлен-
ской эпохи в Шуссенриде. Среди отбросов часто попадались крупные
кости мамонта, обломки бивней, челюстей, части конечностей. Все более
интересные находки были сделаны на дне жилой ямы, под слоем отбросов,
что можно понять только таким образом, что так называемый «культур-
ный слой» заполнил землянку уже при ее разрушении. Здесь, на дне
жилой ямы, были сосредоточены большие кости мамонта, остатки кострищ
в виде пережженных камней, золы и угля, наконец более ценный веще-
ственный инвентарь. В этой землянке среди других остатков было най-
дено несколько человеческих костей.
Приблизительно тот же характер имеют жилища-землянки, открытые-
в других пунктах Афонтовой горы, которые, как сообщает Г. П. Сосиов-
ский, тянутся линией вдоль подножия возвышенности по берегу существо-
вавшей здесь в
те времена про-
токи Енисея
в сторону впа-
дения в нее р.
Качи.
Фауна, соб-
ранная на ме-
сте описанного
выше жилища,
очень характер-
на и содержит
большой спи-
сок видов, в
котором хоро-
шо представле-
ны одинаково
животные от-
Рис. 266. План остатков палеолитического жилища (землянки),
открытого в нижнем горизонте стоянки Афонтова П.
(Крестиками указаны места наиболее интересных находок).
(По Г. П. Московскому^
Фаун»),
крытых степ-
ных пространств (сайга, лошадь Пржевальского и джигетай), лесные
(благородный олень, косуля, россомаха, медведь), полярные (например,
песец, северный олень) и обитатели горных пастбищ (горный баран —
Ovis аттоп).
Главное место среди них в качестве охотничьей добычи человека, как и
в восточноевропейских стоянках мадленского времени, например в Гон-
цах, занимают мамонт, северный олень, песец, заяц и из птиц — белая
куропатка. 1 2 Остатки углей дают возможность определить окружавшую
человека лесную поросль, которая состояла из ивы и лиственницы. 3
На чертежах Н. К. Ауэрбаха и Г. П. Сосновского выше и ниже основ-
ного культурного слоя можно видеть темные, тонкие глинистые про-
слойки, местами содержавшие угольки, золу, а иногда и отдельные раско-/ х
лотые камни и кости животных. Такие прослойки являются, вероятно,
остатками почвенного покрова. Вместе с тем они свидетельствуют, что
человек нередко посещал эти места во время своих-охотничьих экспедиций.
1 На 11 стоянке Афонтовой горы мамонтов В. И. Громовым подсчитано-6—8 осо-
бей, северных оленей — 50, песцов — 32, зайцев—-17, белой куропатки—49.
2 А. Ф. Гаммерман, Остатки угля из очажных слоев Афонтовой горы, «Труды ком
по изуч. четверт. периода», Акад, наук СССР, 1932, А“ 1, стр. 131.
^76 ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Характер Поселение, отвечающее нижнему слою находок Афонтовой горы, где
гдоселення Д0Лжны были накопиться остатки достаточно продолжительного обита-
ния, вероятно, не одного поколения охотников на мамонта и северного
оленя, по мнению Сосновского, было занимаемо ими главным образом
в более теплое время года. В пользу этого говорит находка костей водо-
плавающих птиц и расположение стойбища у протоки Енисея, на откры-
том участке берега, доступном действию холодных ветров и снежным зано-
сам. На то же время указывают, например, сброшенные рога оленя,
свидетельствующие о том, что они попадали в руки человека после зимне-
весеннего периода.
Судя по костным остаткам, одни пз животных, прежде всего мамонт,
северный олень и песец, видимо, добывались где-то поблизости от стоянки,
так как они представлены всеми частями скелета, тогда как другие до-
ставлялись издалека и поэтому на месте жилья встречаются лишь неко-
торые, наиболее ценные части их туш. Мы выше отметили уже интересную
находку на Афонтовой горе, сделанную как Савенковым, так и Ауэрбахом,
Сосновским и Громовым, остатков собаки, вернее одомашненного волка,
животного, которое, очевидно, принимало близкое участие в охоте пер-
вобытных обитателей Енисейской долины.
Рпс. 267. Продольный п поперечный разрезы палеолитического жилища . из нижнего
горизонта стоянки Афонтова 11 в Красноярске (Сибирь).
(По Г. И. Сосиовскому)
В. И. Громов, которому мы обязаны весьма детальным изучением как
геологических условий, так и фауны палеолитических остатков Афонто-
вой горы, дает очень живую картину ландшафта, окружавшего человека
в эту эпоху. «Человек древнейшей известной нам стоянки (нижний гори-
зонт Афонтовой горы II) поселился в момент появления над уровнем
.Енисея 15—18-метровой террасы, когда сам Енисей был значительно шире,
а климат — относительно влажный и более суровый, чем современный;
когда обширные безлесные пространства, горы, почти лишенные древес-
ной растительности, степи, а местами тундра с типичными для нее север-
ными оленями, песцами, зайцами, среди которых бродили стада мамонтов,
были характерными ландшафтами этого времени. В холодные снежные
зимы, когда северные животные далеко проникали на юг, и весною, когда
• степи покрывались сочной растительностью, среди них появлялись дикие
лошади, сайгаки, быки. Голые скалы в горах оживлялись стройной фигу-
рой дикого козла и барана; там, где горы покрывались уже древесной
растительностью, было не трудно найти россомаху, медведя, косулю пли
встретить марала. В болотистых озерах и заводях — остатках усыхающих
протоков Енисея, — окруженных зарослями ивы, ютилось, вероятно,
не мало болотной дичи». 1 (
1 В. И. Громов, К вопросу о возрасте сибирского палеолита, «Доклады Акад, наук
.СССР», 1928, №10.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЙБИЩА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЫ ЕНИСЕЯ
677
На небольшой глубине от поверхности склона -Афонтовой горы был Верхний
местами обнаружен второй, верхний, довольно хорошо выраженный горизонт
горизонт находок с костями животных и орудиями из камня и кости,
которые залегали в толще лёсса на глубине приблизительно 1—1,5 м.
В сторону возвышенности покрывающая его толща лёсса заметно увели-
чивалась и превышала 3,5 м. В этом верхнем горизонте находок попа-
даются остатки того же палеолитического характера, хотя и значительно
более бедные по содержанию, чем в нижнем слое. В других пунктах
Афонтовой горы этот горизонт также прослеживается в виде тонкой,
прерывающейся прослойки и отдельных небольших скоплений культур-
ных отбросов. Характер собранных здесь орудий из камня не обнаружи-
вает каких-либо заметных отличий от основного, нижнего слоя. Однако
в составе фауны происходят несомненные изменения. Мамонт становится
очень редок или даже совсем исчезает, уходят песец и некоторые другие
животные, что указывает на приближающийся конец ледниковой эпохи.
В выборе места обитания человек предпочитал, видимо, нижние склоны
Афонтовой горы и далее лежащих возвышенностей, то есть окраину
Современная пойма
и I I и Cvnecn делювиальные
ЧИП частью элювиальные
Г млечник
» Со времепнал почва
В Горизонт ископаемой ппчвыР^т-Ц Известняк девонский
КАМ Современный велювпй
Суглинок
Рис. 268. Разрез нижней террасы Енисея на месте палеолитических стоянок
Кокоревской группы.
(По В. И. Громову)
верхней террасы, являвшейся в то время берегом широко разлившегося
Енисея. Но отдельные стоянки, с культурными остатками совершенно
того же характера, встречаются в окрестностях Красноярска и вне пре-
делов приречной полосы, в лёссовых отложениях высоко на склонах
увалов. Следы такой стоянки известны, например, по ручью Гремячему над
Афонтовой горой, метров на 100 выше уровня реки, а также в верховьях
одного из оврагов, прорезывающих возвышенность у Военного городка.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОИБИЩА НИЖНЕЙ ТЕРАССЫ ЕНИСЕЯ
Если лёссовые стоянки окрестностей Красноярска по общим условиям
залегания вполне сходны с поздними лёссовыми стоянками Европы,
то стоянки, открытые в отложениях нижней надлуговой терассы Енисея,
имеют несколько иной характер, хотя и они находят аналогию в некото-
рых местонахождениях позднего мадленского времени типа стоянки
Боршево II на Дону. В непосредственной близости к городу известны две
такие стоянки, обе по правому берегу реки: одна против города, у так
называемого Переселенческого пункта, другая у с. Ладеек, несколько
37 П. П. Ефименко. Первобытное общество. — 1734.
578
IMARA ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Переселен-
ческий
пункт
ную слоистость и кверху переходит
Рис. 269. План палеолитического очага (Д’ 1)
па стоянке Забочка, у Д. Кокоревой.
{По Г. II. Сосиовскому)
ниже города по течению Енисея. Обе они были обнаружены в обрезе края
надлуговой 10—12-метровой террасы.
В основании этой террасы лежат обычные речные галечники, прикры-
тые песчаным или песчано-глинистым наносом, богатым известью и имею-
щим несколько лёссовидный характер, который обнаруживает явствен-
в чистый, серый, тонкослоистый
песок, толщиной до 3—4 м. При
разрушении почвенного слоя этот
песок начинает перевеваться вет-
ром и часто дает начало образо-
ванию дюн.
По описанию Г. П. Сосновско-
го,1 производившего раскопки сто-
янки у Переселенческого пункта,
культурные остатки здесь имеют
характер отдельных пятен куль-
турного слоя с обычным его содер-
жимым — осколками и обломками
трубчатых костей животных, ка-
менными орудиями и отщепами
ит. и., очевидно, накопившихся,
в виде отброса обитания, на месте
некогда существовавших здесь легких жилых сооружений типа шалашей.
На сезонный характер мест обитания у Переселенческого пункта
указывает очень небольшая мощность культурного слоя, достигавшего
4—5, редко 7 см лишь в самых центральных частях жилья. Наилучше
сохранившееся и обстоятельно исследованное «пепелище» № 3 имело вид
довольно значительного пятна куль-
турного слоя, общей площадью 5—•
6 м на 3—3,5 м, по окраинам очень
слабо насыщенного находками, но
в центре хорошо выраженного.
Посередине располагался очаг,
вернее место костра в виде плоского
углубления овальной формы (1 м на
0,75 ж), заполненного золой,костным
углем и пережженными костями жи-
вотных. Вокруг кострища, как всегда
в этих случаях, была разбросана
основная масса всякого рода остат-
Рис. 270. Очаг из плит (Д1 3), открытый
iia стопине Забочка у д. Кокоревой.
(Но Г. И. Сосиовскому)
ков — больших камней для дробле-
ния костей животный, орудий из
камня ,^и кости и т. п. Из фауны
здесь были определены В. И. Гро-
мовым — северный олень, марал,
горный баран, косуля, лошадь, дикий бык, заяц, пещерный лев, белая
куропатка и пр., но ни мамонта, ни песца отмечено не было. В отно-
сительно значительном числе встречен был лишь северный олень (не менее
14 особей), представленный, однако, не всеми частями скелета, что ука-
зывает на производство охоты на него где-то на стороне. Среди остатков.
1 Г. И. Сосновский, Позднепалеолитические стоянки Енисейской Арлины, «Палео-
лит СССР», ГАИМК, 1935, стр. 191.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЙБИЩА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЫ ЕНИСЕЯ 57»
жилья встречаются также обломки речных раковин и комки красной и
'желтой железистой краски, найденной и в культурных отложениях
лёссовых стоянок Афонтовой горы. Глубина, залегания культурных
остатков у Переселенческого пункта достигает 6 м от поверхности тер-
расы. Таким образом, слой, содержащий описанные находки, немного
возвышается над уровнем реки.
Выше по течению Енисея, в степной части Минусинского края, изве- Палеолитн-
стна вторая значительная группа палеолитических местонахождений. ческие
Как и в Красноярском районе, и здесь речная долина окаймлена более
пли менее значительными увалами, у подножия которых идет песчаная ского Края
полоса надпойменной террасы. Эта терраса имеет строение, весьма близ-
кое к строению нижней тер-
расы у Красноярска.
В стоянке у деревни Бу-
зуновой, в 55 верстах ниже
Минусинска, на правой сто-
роне реки, разрез берегового
уступа имеет, например, та-
кой вид. Терраса прикрыта
слоем дюнного, сыпучего
песка, под которым залегает
почвенный горизонт черного
цвета, содержащий культур-
ные остатки эпохи металла.
Глубже лежит серовато-жел-
тый слоистый песок и далее
мощный пласт (5 м) лёссо-
видных песчано-глинистых
отложений, обнаруживаю-
щих явственную слоистость.
На различной глубине в нем
попадаются кости животных
(главным образом северного Рлс. 274. Илан и разрез того же очага (А? 3) па
оленя) и палеолитические стоянке Забочга.
остатки в виде раздроблен-
ных и обожженных костей животных, каменных орудий и осколков.
Подобные же стоянки известны по Енисею возле деревень Лепешки-
ной, Батеней, Улазы и в других пунктах. Повсюду здесь находки палео-
литических «пепелищ» приурочены к отложениям, лежащим в основании
террасы, поверх древних галечниковых наносов.
Наилучше изученная группа стоянок той же поздней поры верхнего Кокорев»
палеолита открыта уд. Кокоревой, в северной части Минусинской котло-
вины, в районе, где расположен и ряд других палеолитических место-
нахождений — Аиаш, Аешка, Улазы и пр. Эти стоянки исследовались
в 1925 и 1928 гг. Г П. Сосновским, составившим хорошее их описание. 1
Из четырех известных в настоящее время пунктов палеолитических нахо-
док у д. Кокоревой — Тележный лог, Забочка, Кипирный лог и Камен-
ный лог — первый относится к более раннему времени как по условиям
залегания, так и по присутствию в составе фауны таких животных, как
1 Г. П. Сосновский, Позднепалеолитические стоянки Енисейской долины, «Палеолит
СССР», ГАИМК, 1935, стр. 152; В. И. Громов, Некоторые новые данные о фауне И.
геологии палеолита восточной Европы и Сибири, там же, стр. 250.
•58»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Рис. 27’2. Тип орудия, характерный для стоянок нижней террасы
Енисея.
Нуклевидное орудие (Забочка). 3/4 н. в.
(Но г. п. Сосновскому)
мамонт и песец. Остальные же три должны быть причислены к числу
типичных памятников позднейшего палеолита Енисейской долины.
Наибольший интерес из них представляет Забочка, где культурные
остатки, как это наблюдается и в поздних палеолитических местонахожде-
ниях бассейна Днепра и Дона, связанных с нижней надлуговой террасой,
залегали в трех отдельных горизонтах, разделенных небольшой толщей
аллювия, не содержащего находок. В основном, среднем, слое, давшем
наибольшее количество различных находок, Г. П. Сосновскому удалось
обнаружить три настоящих очага, имевших вид круглых углублений
в древней почве, со стенками, обложенными вертикально поставленными
каменными плитками, и частью перекрытых такими же плитками (рис.
269—271). Около этих очагов концентрировались некоторые скопления
культурных остатков в виде костей животных —по определению В. И. Гро-
мова, в особенности северного оленя и зайца, затем лошади, горного
барана, быка и пр. А. Ф. Гаммерман, изучавшая древесные угли
из очагов, установила их принадлежность к лиственнице или ели, иве,
сосне, березе. 1 Кроме них здесь же встречено довольно много ору-
дий из зеленого
или коричневого
кварцита (лидита)
форм, обычных для
стоянок этого тйпа
на Енисее.
Остатки палео-
литического вре-
мени встречаются
в Минусинском
районе иногда не-
посредственно на
поверхности тер-
расы Енисея, в
глубоких котлови-
нах выдувания; в этом случае они бывают перемешаны с культур-
ными остатками разных эпох, вплоть до самого позднего времени, как это
обычно наблюдается в перепеваемых ветром дюнных стоянках речных
побережий.
Как и в окрестностях Красноярска, в Минусинском районе палеоли-
тические стоянки встречаются и на склонах возвышенностей, окаймляю-
щих речную долину, например на горе Ирдже — у деревни Лепешкиной.
ХАРАКТЕР МАДЛЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО КРАЯ
Каменный Каменный инвентари палеолитических стоянок Енисейского района
ашиентарь при сопоставлении с позднепалеолитическими стоянками Европы создает
впечатление большого своеобразия вместе с чертами значительной одно-
родности. В сущности, одни и те же стойкие и характерные для этой
области формы орудий встречаются во всех этих стоянках, видимо, не-
зависимо от их возраста и, возможно, переживают здесь до весьма позд-
него времени, быть может до начала неолитической поры. 2 Сопоставляя
1 А. Наттетапп, Kohlenreste au,s den Lagerfeuern des sibirischen Paldolithikums,
«Eiszeit und Urgeschichle», 1928, Bd. V, стр. 39.
2 В верхнем слое Бирюсинского местонахождения, исследованного Н. К. Ауэр-
бахом и В. И. Громовым, вместе с поздней фауной, в составе которой отмечено при-
сутствие домашних животных и керамики, собрано значительное число орудий «архаи-
ХАРАКТЕР МАДЛЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО КРАЯ
581
сборы на разных стоянках, можно все же притти к заключению, что
общий облик орудий из камня, преобладание одних илп появление других
видов, уменьшение размеров их и совершенствование техники отделки
позволят в дальнейшем наметить некоторые этапы в развитии каменного
инвентаря Енисейских палеолитических поселений.
Материалом для изготовления орудий на Енисее служил не ЙГ "'j
кремень, который здесь почти не встречается, а иные твер-
дые породы, которые подбирались человеком среди речных га-
лечников и валунов. Чаще употреблялись зеленые, коричневые,
серые, черные кремнистые сланцы и кварциты, а более мелкие
орудия, требовавшие тонкой отделки, изготовлялись из кремня,
яшмы и роговика.
Наиболее обычной и наиболее характерной формой енисей-
ского палеолита является крупное массивное скребло (рис. 276),
внешне имеющее совершенно мустьерский облик. Его рабочий
край получался с помощью контрударной техники, отжима-
нием широких и плоских осколочков на наковаленке из
кости или камня. Такой наковаленкой, может быть, служили
п те крупные камни с довольно тщательно обтесанным, округлым краем,
которые Савенков называл лекалами.
Скребло встречается ~
Рис. 273.
Миниатюр-
ная ножс-
впдиал пла-
стинка
(Забочка).
повсюду на стоянках Енисея и представляет
довольно значительное разнообразие как
по величине, так и по общему виду. По-
мимо типичной формы часто встречаются
скребла с почти прямым режущим краем,
также с двойным лезвием по тому и дру-
гому краю пластины, причем орудие мо-
жет приобретать овальнолистовпдную и тре-
угольную форму.
Интересно, что орудия, которые напо-
минали бы остроконечник, в енисейских
находках встречаются редко и имеют слу-
чайный характер.
Значительно реже, чем скребло, по поне-
многу повсюду встречается орудие, которое
может быть сопоставлено с «ручным ру-
билом».
Оно часто изготовлялось пз массив-
ной пластины, грубо обтесано с обеих сто-
рон и имеет илп овально - миндалевидные
очертания, или форму не вполне правиль-
ного -диска.
Было бы совершенно неправильно су-
дить о древности енисейского палеолита на
основании этих орудий и определять возраст
его, как это делал Мортилье и недавно опять Обермайер, переходной
эпохой от древнего к среднему палеолиту. Теперь, когда инвентарь
Рис. -274.
Концевые скребни
Забочка).
71 н. в.
Ни Г. И. Сосиовскому)
ческих» типов — скребки с двусторонней обтеской, резцы, нуклевидные формы и пр.
Вместе с ними встречались кремневые наконечники стрел, долота с пришлифованным
лезвием и другие чисто неолитические изделия, затем кое-что из железа. Возможно,
однако, что здесь в какой-то степени имелось смешение остатков. Н. К. Ауэрбах
и В. И. Громов, Материалы к изучению Бирюсинских-стоянок близ Красноярска,
•'Палеолит СССР», ГАИМК, 1933, стр. 219.
.Интервал
Скребло
«Рубило»
582 ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Н ук.теусы
Изделия из
кости
Пластинки
красно ограненные нуклеусы.
Рис.
(скребла) па
Крупные реа;ущпс орудии
верхнего горизонта стоянии
Мальта.
1/2 н. в.
(Ио Л. Л. Герасимов»)
этих стоянок освещен достаточно полно, мы в праве рассматривать и
скребло, и ручное рубило Енисейских палеолитических поселений лишь
как виды орудий, более или менее случайно совпадающие с древними
формами, но существовавшие в иной, более поздней, несомненно, верхне-
иалеолитнческой (мадленской) исторической среде.
Раскопки Афонтовской стоянки 1923—1925 гг. в сущности впервые
позволили с полной достоверностью установить весь комплекс ка-
менного инвентаря в приенисеискпх стоянках, так как более ранние
сборы все же имели довольно случайный характер. В этой стоянке мы
видим небольшие призматические, сужива/ощиеся у основания, пре-
Такпе нуклеусы хорошо известны и
в других стоянках по Енисею.
От них отделялись правильные
миниатюрные пластиночки совер-
шенно микролитического облика
(рис. 273).
Последние составляют особен-
ность енисейского мадлена и, ве-
роятно, имели то же применение,
что и миниатюрные пластиночки
«со стесанным краем» верхнепалео-
литических стоянок Европы. Но
кроме того, они имели и особое
назначение — они употреблялись
в виде вставок в желобчатые края
некоторых орудий из кости, до-
вольно часто встречающихся в
Енисейских стоянках.
Из других орудий, изгото-
вленных из правильных, удли-
ненных, но всегда небольших
пластинок, можно назвать обыч-
ные проколки, правда здесь со-
ставляющие довольно редкое яв-
ление; затем резцы, которые,
однако, попадаются еще реже,
и острия с затупленной, изогну-
той спинкой азильского типа,
сходные с такими же орудиями
в позднемадленскпх стоянках
восточной Европы (Гонцы, Бор-
шево II).
Значительно чаще встречаются миниатюрные округлые и полукруглые
скребочкп, иногда очень массивные, первое появление которых в восточно-
европейских стоянках также связано с мадленской эпохой (Супонево,
Гонцы, Боршево II).
Мы видим, таким образом, что каменный инвентарь енисейского палео-
лита содержит наряду с формами орудий, как-будто напоминающими изде-
лия мустьерской эпохи, многочисленные мелкие сколотые орудия^ ближе
всего отвечающие поздней, мадленской технике западных местонахо-
ждений .
На Афонтовском поселении во время раскопок 1925 г. в центре стоянки,
среди остатков жилья, было обнаружено место, где производилась заго-
ХАРАКТЕР МАДЛЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО КРАН 588
Рис. 276. Крупные с.креб.юобразные орудия.
IIiiiKiniii горизонт Афонтовой горы.
т/2 и. н.
'По А).фба\у п Спсяовскому;
древности довольно неопределенные
Рис. 2~~. Дискообразное и овальное
орудия с двусторонней обработкой.
I йокппй горизонт Афонтовой горы.
=/5 и. в.
'Но Лу:»рПа\у и Соснооскому)
для разминания ремней. Одш
ловка материала и изготовлялись изделия из кости. Здесь мы имеем
совершенно ту же картину, что и в Мезине: «На сравнительно неболь-
шой площади, совпадающей с центральным участком стоянки, среди
скопления различных кухонных остатков, каменных осколков и орудий
были найдены кости животных,
начатые обделкой, обломки рогов
северного оленя, поперек пересе-
ченные бивни майонта и от них
же продольно отколотые куски,
большое, число обломков зубов
этого животного, продолговатые
костяные стержни, обработанные
со всех сторон заготовки наконеч-
ников копий и, наконец, цельные
костяные орудия и их фрагменты»
(Ауэрбах и Сосновский).
Изделия из кости составляют
довольно обычное явление в на-
ходках, происходящих из палео-
литических стоянок по Енисею.
По большей части это плохо со-
хранившиеся или обломанные в
поделки из ребер животных, прностренные и со следами нарезок, острия
или шилья из расколотых трубч-атых костей и иные подобные орудия
из кости, рога северного оленя и даже слоновой кости. Наряду с ними
встречаются и другие, более характер-
ные вещи, хороший подбор которых дают
раскопки на Афонтовской стоянке и преж-
ние сборы Савенкова.
Наиболее обычную группу изделий из Виды их
кости здесь составляют наконечники ме-
тательных копий веретенообразных очер-
таний, но несколько уплощенные и сте-
санные в основании для удобства насадки
на древко. Почти всегда они имеют по
краю небольшой продольный желобок,
служивший иногда для стока крови, а
в большинстве случаев для укрепления в
них кремневых пластинок. Они известны
на Афонтовой горе, затем на стоянке у
Переселенческого пункта, у деревни Бу-
зуТговоп и в других местах.
Из других орудий особенного внимания
заслуживают орудия типа так называемых
«начальнических жезлов», происходящие
из местонахождений Афонтовой горы, не-
которые из коих представляют весьма
характерные образчики орудий этого рода,
служившие, вероятно, главным образом
изготовлены из рога северного оленя и
имеют круглое отверстие в утолщенной части, в том месте, где отходил
первый боковой отросток рога.
В сборах Ауербаха и Сосновского на Афонтовской стоянке встречаются
5S4
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИН
точки
инвсп-
Рис. 278. Некоторые типы каменного
тара Афонтовой горы (нижний горизонт).
1.—Пластинка. 2, 3.—Острия с затуплен-
ной спинкой. 4. — Проколка. 5. — Пла-
стинка с подретушевкой края.
1 — 4. — ок. ’/1 н. в. 5. — знач. ув.
(По Ауэрбаху и Сосновскому)
Нуклевпдное
орудие, скребки.
Рис. 279.
резец, проколка. Афонтова гора (нна;-
ннй горизонт)
Время
также обычные острия или шилья из осколков трубчатой кости или иного
подходящего материала (например из так называемой грифельной кос-
лошади), тщательно заостренные на конце; костяные иглы с ушком,
по большей части, правда, в об-
ломках, и некоторые другие виды
изделий, из которых можно упо-
мянуть, например, костяные полу-
лунной формы пластины, име-
ющие по ребру продольный же-
лобок, служивший, невидимому,
для вставки каменных лезвий.
Можно указать далее небольшую
ступку, вырезанную из бивня ма-
монта со следами красной краски
на дне, плитки песчаника, слу-
жившие для оттачивания костяных,
изделий, и т. д.
Те же раскопки знакомят нас
впервые с набором украшений, ко-
торыми пользовался человек этой
эпохи на Енисее. Это были про-
сверленные зубы животных —
резцы и клыки главным образом
мелких хищников (песца); затем
костяные привески нескольких видов: одни в виде плоских кружков с
круглым отверстием, другие также плоские, но четырехугольной формы;
некоторые имеют вид небольших пронизок, вырезанных из трубчатой кости
мелкого животного.
Особенно интересны довольно
многочисленные находки несколько
загадочного характера, представлен-
ные пластинами, обычно вырезан-
ными из бивня мамонта или из ко-
ротких отрезков рога оленя с одним,
двумя или тремя крупными отвер-
стиями. Подобная находка известна
и в Гонцовской стоянке, на Удае, в
Полтавской области. Любопытно, что
эти вещи имеют известное сходство
с принадлежностями упряжи север-
ного оленя.
Наличие обработанной кости в
енисейских стоянках решительным
образом опровергает их мустьерский
возраст. Это, без сомнения, памят-
ники поздней поры палеолита, до-
статочно близко стоящие к мадлену
Европы. Их инвентарь обнаруживает
черты даже большего развития и
усложнения в части обработки кости
по сравнению с описанными нами стоянками этого времени в восточ-
ной Европе; однако его сближают с ними такие признаки, как отсут-
ствие каких-либо украшений, вырезанных из кости, и отсутствие в тех и
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ НА АНГАРЕ
других произведений реалистического художественного творчества, глав-
ным образом изображений животных, столь обычных в мадленских па-
мятниках Франции. Своеобразие технических навыков палеолитиче-
ского населения восточной Сибири в отношении изделий из камня, поль-
зующегося до конца палеолитического времени орудиями, сохраняющими
архаический облик, может находить известное объяснение в некоторой
географической изолированности этого края, создававшей неблагоприят-
ную обстановку для усвоения новых приемов обработки камня. В той
же степени здесь мог играть роль и характер материала каменных по-
род, используемых человеком для его орудий,—кремнистых сланцев,
роговиков, кварцитов, — по своей грубости мало пригодных для тех-
ники призматических сколов.
Однако все это не объясняет, почему в более раннее время, в эпоху
Мальты, то есть в начале второй ступени верхнего палеолита, в северной
Азии общий облик культуры в вещах из камня и кости, в формах искус-
ства, наконец в характере самих поселений имеет так много общего с
европейскими памятниками той же эпохи, тогда как в последующее время,
к концу палеолита, намечается значительное расхождение инвентаря,
по крайней мере в изделиях пз камня, для востока и запада Евразии.
Некоторыми авторами выдвинуто довольно правдоподобное пред-
положение, что кажущаяся архаичность изделий из камня мадлен-
ских поселений Енисея, как и стоянок по Ангаре и в Забайкалье, ие
является «переживанием» старой техники, а знаменует переход к новому
укладу культуры, который и в Азии, как и в Европе, на рубеже палеолита
и неолита приводит к возрождению «макролитической» техники и типов
орудий.
Это представляется тем более возможным, что другой весьма важный
элемент технической вооруженности палеолитического населения Енисей-
ской долины — инвентарь изделий из кости — вовсе не обнаруживает
признаков «архаизма» или отставания ни в многочисленности подобных
вещей, 1 ни в многообразии в смысле типов, ни в качестве их выполнения.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ НА АНГАРЕ.
ВЕРХОЛЕНСЦАЯ ГОРА
Другой район находок остатков палеолитической культуры предста-
вляют окрестности города Иркутска. Не менее богатый и не менее инте-
ресный, чем район Енисея, он освещен несколько хуже, хотя первые на-
ходки в нем были сделацы более 50 лет назад.
Мы уже говорили выше о замечательных находках, сделанных как
в самом Иркутске (в 1871 г.), так и выше Иркутска, по р. Ангаре, у с.
Мальты, которые можно рассматривать как древнейшие извест-
ные пока остатки палеолитического прошлого на территории Восточно-
Сибирского края. 2 По течению той же р. Ушаковки, где были сделаны
1 На сравнительно небольшом участке одной лишь стоянки Афонтова II Ауэр-
бахом н Сосновским было найдено 276 изделий из кости — цифра, конечно,
очень большая и для поселений «классического» западноевропейского мадлена.
Ср. Н. К. Ауэрбах и Г И. Сосновский, Материалы к изучению палеолитической инду-
стрии и условий ее нахождения на стоянке Афонтова гора, «Труды Ком. по изуч. чет-,
вергп. периода», I, 1932, стр. 47.
а К этой ранней группе памятников восточно-сибирского верхнего палеолита
Сосновский склонен относить стоянку наКайской горе под Иркутском у бывш. Пере-
селенческого пункта, исследованную М. М. Герасимовым в 1924—1925 гг., хотя со-
бранный здесь материал достаточно беден и имеет мало общего с Мальтой.
38«
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Фауна
Ky.ibTji»-
иыи слой
(начиная с 1897 г.) на так называемой
Рис. 280. Костяные иакоиечипкн. Стоянка Афоп-
това гора (nuaaiiiii горизонт
1 и 2. — С желобками по краю.'
*/а н. в.
ДЮ Ауэрбаху я Сосиовскому)
первые находки Черским и Чекановским, было позже открыто местным
последователем М. П. Овчинниковым и другое местонахождение палеоли-
тических остатков, а затем и целый ряд других пунктов в предместьях
города, где при рытье фундаментов и тому подобных земляных работах
встречались орудия палеолитического облика. Нигде здесь, однако, систе-
матических раскопок не производилось, и характер этих остатков остается
невыясненным.
Ряд подобных местонахождении найден был М. П. Овчинниковым
Верхоленской горе, господствую-
щей над городом Иркутском.
В недавние годы на Верхо-
ленской горе были поставлены
более значительные раскопки.
Стоянка раскинулась по обе
стороны довольно обширного
лога с руслом высохшего ручья
на дне. Обращена она на юго-
запад и, следовательно, отчасти
защищена с севера подъемом
возвышенности. Устье лога вы-
ходит в долину Ангары, и с
места стоянки открывается ши-
рокий вид на реку.
При раскопках на Верхо-
ленской горе не удалось на-
блюдать определенно выражен-
ного культурного слоя, и остат-
ки — кости животных и орудия
йз камня и кости — залегают
рассеянно до глубины 120 см от
поверхности почвы. Это обстоя-
тельство, может быть, объяс-
няется перемещением лёсса, хотя
здесь все же отмечено существо-
вание нескольких обособленных
(«пепелищ». В них встречаются,
кроме расколотых костей жи-
вотных, уголь, жженные кости,
крупные камни, подвергшиеся
действию огня, и куски крас-
ной охристой краски.
Из фауны в культурных отложениях Верхоленской горы определены
остатки северного оленя,’благородного оленя, бизона, лося, собаки-
волка (волка со следами одомашнения) и других животных. В нижнем
слое, кроме того, найдены кости носорога, оленя с гигантскими рогами,
джигетая и пр. Различный состав фауны в верхнем и нижнем горизонтах
стоянки дает основание Сосиовскому рассматривать этот памятник как
многослойный, с культурными остатками, принадлежащими разным
фазам позднего палеолита.
Орудий из камня найдено было при раскопках стоянки очень много.
Материал их весьма близок к енисейскому; это те же кремнистые сланцы,
роговики, яшмы.и кварциты. Крупные орудия примитивных форм и гру-
бой отделки изготовлялись из кьарцита и сланцев, более мелкие и более
Изделия
из камня
ПАПЕОПНТНИЕСКНЕ ОСТАТКИ НА АНГАРЕ
587
тонкие — из кремня, роговика и яшм. Инвентарь Верхоленской стоянки
довольно близко напоминает инвентарь Афонтовой горы и других стоянок
Енисея. И там и здесь прежде всего бросается в глаза своеобразное,
свойственное восточной Сибири, сочетание орудий «мустьерского» облика
с развитой сколотой техникой
верхнего палеолита.
На площади стоянкп в про-
цессе раскопок было открыто
место, где производилась вы-
делка орудий. В центре его на-
ходился большой валун, слу-
живший наковальней, кругом
которого была собрана масса
отбросов производства — мелко
расщепленного камня. В дру-
гом пункте стоянкп найдено
было скопление рогов северного
оленя в разных стадиях рас-
членения, очевидно предста-
влявшее запас материала для
изделий.
Из каменных орудий можно
отметить один своеобразный тип
орудий, неизвестных в других
мадленских стоянках восточной
Сибири, — наконечники копий,
тщательно отделанные отжим-
ной техникой с обеих сто-
1’пс. 281. «Начальнические жезлы» (выпрями-
тели) ip рога северного оленя.
Афонтова гора (нижний горизонт).
(По Г. II. Сосповсколу;
рон. Довольно обычным материалом для выделки орудий служили
рога северного оленя, но изделия из Мамонтова бивня здесь совершенно
отсутствуют, что можно рассматривать как подтверждение сравнительно
I'll,-. 282. Ступка. вырезанная из
куска мамонтового бивня.
Афонтова гора (Красноярск).
Но Г. М. Согиовскому)
позднего времени стоянки.
Наиболее характерную находку на
Верхоленской горе составляют гарпуны
из кости в виде плоских наконечников
с двумя рядами зубьев. Основание их
имеет обычное расширение и снабжено
глубокой боковой зарубкой для привязы-
вания шнура или ремня. Как мы помним,
гарпуны составляют обычное явление в
позднейших мадленских, а затем и азиль-
сТшх стоянках западной Европы. Но Вер-
холенская гора представляет пока одни
из немногих случаев находки этого орудия
охоты в палеолитических стоянках СССР.
Гарпуны
Из других изделий из кости и рога могут
быть названы костяные наконечники дротиков, шилья и острия, плоские
лощила, кинукаловидные орудия из заостренных ребер животных или
рога оленя и др.
Определение возраста Верхоленской стоянки имеет известные труд-
ности, хотя, видимо, ее можно сопоставлять с более поздними стоянками
Енисейского края, где 'уже исчезают, такие виды животных, как мамонт и
песец.
588
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Томск
Идельбяена
ТОМСКАЯ НАХОДКА. НАХОДКА НА ГУБЕРЛЕ.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ АЛТАЯ
Среди других стоянок азиатской территории СССР особняком стоит
находка, сделанная в Томске. В 1896 г. у окраины города, на воз-
вышенном берегу р. Томи, найден был почти полный скелет мамонта
в сопровождении остатков кострищ и каменных орудий; часть костей
была обожжена и расколота. Видимо, здесь было лишь временное
охотничье становище около убитого мамонта. Кости мамонта и куль-
турные остатки были встречены в лёссовидном суглинке, покрывающем
коренной берег р. Томи, на глубине 3,5 м, то есть почти в основании
толщи суглинка.
Несмотря на небольшую площадь, занятую охотничьим лагерем, и его
кратковременный характер, здесь было собрано все же довольно много
расколотого кремня. Часть его представляют нуклеусы и удлиненные
пластинчатые сколы, большинство же является неопределенным отбро-
Рпс. 283. Различные изделия из - кости. Афонтова
гора — нижний горизонт.
(Ио Сосновекочу и Ауэрбаху)
сом. Орудий, видимо, было
найдено немного (скребки);
описания их производив-
ший раскопки зоолог Н. Ф.
Кащенко не приводит.
Эта находка интересна
уже тем, что она указы-
вает на существование' и
в более западных областях
северной Азии таких палео-
литических обществ, ко-
торые в технике обработ-
ки кремня применяли при-
емы, обычные для европей-
ских поселений верхнего
палеолита.
К сожалению, только
краткое упоминание име-
ем мы о самой западной
из известных нам сибирских стоянок раннего каменного века. В прото-
колах Туркестанского кружка любителей археологии за 1906 г. так
говорится об этой достопримечательной находке П. С. Назарова в Орском
уезде Оренбургской губернии: «Становище каменного века найдено им
к СВ от Орска, близ деревни Идельбаевой, на р. Губерле. Там, кроме
кремневых орудий, находились во множестве кости двух видов вымерших
быков, лошади, волка, лося и северного оленя». Мы ничего не знаем об
обстоятелгуствах и топографических условиях этой находки. Во всяком
случае, если определение фауны сделано правильно, эта стоянка должна
быть отнесена к палеолитическому времени, так как северный олень мог
обитать здесь только в условиях ледниковой эпохи.
Очень сомнительный характер имеет опубликованное в «EiszeH»1 как
палеолитическое орудие — «острие», в действительности, видимо, обломок
какой-то кремневой поделки, найденный случайно близ Тары, на левом
берегу Иртыша. И условия этой находки не говорят в пользу ее древности.
Н. Mohr und J. Bayer, Steingerdte aus Sibirien, Bussland und der Ukraine., «Die
Eiszeit», Bd. II, H. I, стр. 50.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ 589
Совершенно иначе приходится оценивать открытие в 1935 г. первых Сростки
вполне достоверных остатков палеолитической эпохи па северном Алтае,
н районе г. Бийска. Из пяти обнаруженных здесь местонахождений одно,
расположенное на берегур. Катуни, у с. Сростки, было начато раскоп-
кой Г. П. Сосновским и дало значительное собрание орудий того своеоб-
разного облика, который характерен для поздней поры верхнего пале-
олита более восточных районов северной Азии.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ
И СЕВЕРНОГО КИТАЯ
К последним годам относится открытие ряда (свыше 10) палеолити- Обстановка
ческих местонахождений в Забайкалье, главным образом по течению находок
рек Оноиа и Селенги и ее
притоку — Никою. Они рас-
полагаются на высоких (30—
40 .и) песчаных террасах этих
рек, прорезывающих плоско-
горье так называемой Селен-
гинской Даурии, и легко
обнаруживаются благодаря
раздуванию ветром древних
наносов, имеющих характер .
песчанистого лёсса, в толще
которого залегают каменные
орудия и остатки древней фа-
уны. Эти террасы обычно
бывают подостланы галечни-
ками, оставленными рекой
в раннюю пору ледниковой
эпохи.
Наиболее интересные на-
ходки этого характера сде-
ланы Г. П. Сосновским и
другими лицами в 1928 и
1929 гг. подТроицкосавском.
Что они относятся к палео-
литическому времени, ука-
зывает сопровождающая их
фауна, среди которой отме-
чено присутствие мамонта,
носорога, оленя мегацероса,
-бизона, джигетая, сайги й
ряда форм южного происхо-
Рис. 281. Типы орудий поэднеиалеолитической
стоянки на Верхоленской горе под Иркутском.
1, 2. — 1/1 н. в. 3—5. —s/6 и. в.
Фауна
ждения — виыторогой антилопы, страуса и др. Последние были найдены с
остатками палеолитического возраста и в северном Китае. Особенный
интерес представляет находка на стоянках Забайкалья многочисленной
скорлупы яиц страуса. 1
Каменные орудия из сборов Г. П. Сосновского и других лицчрезвычай-
Каменные
орудия
1 В. И. Громов, Элементы африканско-азиатской фауны в четвертичных отло-
жениях Сибири, «Бюлл. инф. бюро АИЧПЕ», № 2.
590
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОН АЗИИ
но близки и по материалу (кварцит и пр.) и по формам к палеолитическим
остаткам Енисея и Ангары. Это главным образом крупные орудия, со-
храняющие «мустьерскйй» характер, и затем небольшие нуклеусы и мел-
кие, тонко сделанные орудия из очень правильных пластинок. 1
Палеолит Для понимания истории развития палеолитического общества в во-
Китал сточной Сибири — области Енисея, Ангары и Забайкалья, — для кото-
рой характерно наличие общих черт, отличающих позднепалеолитиче-
скую культуру этого обширного района от того, что она представляет
в условиях Европы, особенное значение должны будут иметь недавние
открытия, сделанные в северо-восточном Китае, по границе с Монголией.
Они являются результатом многолетних работ Е. Licent и Teilhard
de Chardin в области Ордос в бассейне Гоапго, опубликованных в 1928 г.
Рис. 283. Каменные орудия стоянки па Верхо-
ленской горе под Иркутском.
\2 н. в.
в капитальном коллективном труде с участием такого крупного специа-
листа, как М. Буль. 2 3
Палеолитические остатки в
этом районе связаны с мощ-
ными толщами лёссовых отло-
жений, имеющими определен-
ное стратиграфическое залега-
ние. Лёсс здесь лежит, как
правило, на террасах вдоль
речных долин и подстилается
древними речными наносами —
песками и галечником.
В его толще удается наблю-
дать два горизонта разного вре-
мени .
Более древний лёсс, перехо-
дящий в пресноводный сугли-
нок, содержит фауну, говоря-
щую о средней поре, а отча-
сти, быть может, п ранней поре
четвертичного периода, которая
представлена такими животны-
ми, как махайрод, древняя по-
рода носорога, сибирский носо-
рог, разные виды оленей и пр.
Верхний горизонт — собственно, типичный лёсс, который в Ордосе
заменяется по большей части более грубой разностью — песчанистым лёс-
сом, — дает фауну иного характера, с явственно выраженным отпечат-
ком северного происхождения: это шерстистый носорог, первобытный
бык, большерогий олень (мегацерос), пещерная гиена и др. В ее составе
нет мамонта, его заменяет более южный вид Elephas nomadic.us, водив-
шийся в эту эпоху на степных пространствах Монголии. К перечисленным
животным можно прибавить винторогую антилопу и страуса. Остатки
их распространены до Забайкалья.
В этих отложениях, по большей части в основании лёссовой толщи,
вместе с остатками древней фауны залегают культурные остатки. Наиболь-
1 Г. П. Сосновский, О находках древней каменной индустрии и остатков страуса
в Селенгинской Даурии, «Сообщения ГАИМК», 1932, ,№ 11—12, стр. 19.
3 М. Boule, Н. Breuil, Е. Licent et Р. Teilhard de Chardin, Le paleolithique de la
Chine, Paris, 1928.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ И СЕВЕРН. КИТАЯ
591
шпй интерес имеют два описанных Licent местонахождения — Ghoci-
Tong-keou и Sjara-osso-gol.
В первом из них встречается сравнительно немного остатков фауны,
но они очень характерны: сибирский носорог, джиготай, газель, антилопа,
скорлупа страусовых яиц. В качестве материала для изготовления орудий
используется кварцит и кремнистый известняк. Как и в стоянках восточ-
ной Сибири, часть орудий носит «мустьерский» облик — часто встречаются
Choci-
Tong-Кеои
Sjara-osso-
gol
Рис. 286. Гарпуны из го-
сти, найденные на Всрхо-
леиской горе под
Иркутском.
Ч, н. в.
дисковидные нуклеусы мустьерского характера, остроконечники из тре-
угольных массивных пластин и широкие скребла. К ним примыкают кон-
цевые скребки на широких пластинах. Однако, по крайней мере две трети
находок воспроизводят обычные типы позднепалеолитических орудий,
сделанных из удлиненных (ножевидных) пластинок. Из них наиболее
интересны резцы, изготовленные с помощью
обычного Приема — снятия небольшого скола
продольным ударом, которые в стоянках Ени-
сея и Ангары представляют большую редкость.
Нередки скребки на конце пластинки, мелкие
острия; встречаютсяорудьица треугольной формы,
как в капсийской культуре Средиземья, и не-
большие наконечники, видимо, стрел, что, как
будто, говорит о появлении лука.
В Sjara-osso-gol преобладают орудьица еще
более миниатюрного облика, очень напоминаю-
щие нансийские -типы. Здесь имеется и обра-
ботанная кость.
Было бы нелегко при современном состоя-
нии знания установить синхроничность этих
остатков с соответствующими фазами истории
верхне-палеолитического общества в условиях
Европы. Учитывая все же дсГвольно значитель-
ное сходство находок в Ордосе со стоянками
Енисея, Ангары и Забайкалья как в обстановке
этих находок, так и в характере самого камен-
ного инвентаря, нам трудно следовать за Брей-
лем, который видит в них культуру, стоящую
«на пол дороге» от мустье к ориньяку. Во всяком
случае, бросается в глаза значительное сход-
ство палеолитических стоянок северного Китая
в смысле направления развития типов орудий
с памятниками южной (капсийской) области Европы и смежных с ней
территорий.
Очевидно, и здесь, на востоке Азии; складывались различные условия
для развития охотничьих обществ в конце ледниковой эпохи. При этом
в более северных районах охота на мамонта, северного оленя, песца,
зайца создавала предпосылку для сложения культуры, напоминающей
мадленскую культуру Европы, а в степных областях Монголии и Ордоса
это развитие шло по другим путям, более или менее общим для всей южной
части Европы и Азии.
Находки, сделанные в Монголии американской экспедицией (в 1925 г.),
хотя они происходят не из раскопок, а являются просто сборами подъ-
емного материала на поверхности развеваемых дюн, являются весьма
показательными с указанной точки зрения. Они дают обильный веще-
ственный материал, в известной своей части несомненно относящийся
392
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ПАЛЕОЛИТ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
к до-неолитическому времени. Связанные с остатками древнего обитания,
изделия из кремня, собранные, например, в районе Урги,— нукле-
Рпс. 287. Каменное орудие тина скребла, харак-
терное для верхнепалеолитических стоянок Забай-
калья.
2/з и. в.
(Ио Г. П. Сосиовскому)
усы, пластинки, проколки,
круглыеи удлиненные скреб-
ки и пр.,—совершенно от-
личаются от того, что нами
было описано выше для позд-
не-палеолитических стоянок
Енисея, Хнгары и Забай-
калья. По мнению архео-
лога американской экспеди-
ции Нельсона, они ближе
всего напоминают азильскпе
памятники Европы.
Более древние остатки,
сходные, видимо, с наход-
ками в Ордосе, были открыты
той же экспедицией в мест-
ности, расположенной между
Тсаган Нор и Орок Нор.1
1 В. Ch. Andrews, The new conquest of Central Asia, v. 1, Central asiatic expe-
ditions, The American Museum of Natural History, 1932, стр. 254 , 268 , 289 в др.
•Фигурка с полосатым узором и изображением хвоста. Три птички.
.Мальта,
!' ЛАВА
Д В Е Н А Д Ц А Т А В
А. Л. СПИЦЫН
АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ
Древнечетвертичная эпоха в истории континента Евразии сменяется
современной эпохой — голоценом. Это было время, когда вследствие
прогрессирующего повышения температуры, распространяющегося на
север, Скандинавский ледник и отдельные оледенения горных районов
Европы и северной Азии начинают быстро сокращаться в размерах, и
прежний суровый ландшафт холодных степей и тундр уступает место
влаголюбивой лесной растительности, завоевывающей все большие про-
странства Европы и Сибири.
Условия, принесенные современной эпохой, не могли не оказать
влияния на жизнь первобытного населения Евразии. Рассматривая памят-
ники позднего мадлена на территории восточной Европы, мы имели воз-
можность видеть, как к концу этого времени беднеют находки обработан-
ной кости, мельчают изделия из камня и т. д., вместе с тем меняется облик
самих поселений.
На смену более или менее оседлым лагерям охотников на мамонта,
песца, полярного зайца, северного оленя и степную лошадь с жилищами
прочного типа и значительными скоплениями костей этих животных
приходят стоянки иного характера^— кратковременные стойбища неболь-
ших охотничьих орд, состоящие из групп шалашей, раскинувшихся где-
нибудь на краю береговой террасы, недалеко от реки.
Типичный памятник этого времени, которым заканчивается так назы-
ваемая мадленская эпоха и начинается следующее за ней азильское время
на европейской территории СССР, мы имеем в местонахождении Бор-
шево II в его верхнем горизонте.
БОРШЕВО II, ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТ
Находки в верхнем слое этой стоянки располагаются весьма харак-
терно. Они имеют вид пятен, диаметром обычно в 3—5 м, состоящих из
золы, углей, пережженных и расколотых костей животных, кремневых
38 П. П. Ефименко. Первобытное общество. —1734.
594
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
Находки
отщепов, кусочков охры и т. д., между которыми какие-либо находки почти
не встречаются. Подобных скоплений остатков обитания на вскрытой
уже площади стоянки (около 250 кв. м) было открыто до десятка; к сожа-
лению, условия залегания этих скоплений в темном гумусном слое не
благоприятствовали уяснению характера существовавших, очевидно, здесь
некогда жилищ. Эти пятна культурного слоя были довольно бедны
находками; обычно в каждом пятне можно было собрать, кроме отбросов,
несколько десятков орудий — скребков, резцов и приблизительно такое же
количество кремневых пластинок. 1
Обращаясь к находкам, сделанным в верхнем слое Боршева II, должно
указать на характерную особенность: материалом для изделий в эпоху
существования этого стойбища служил темный меловой кремень, тогда
как цветной кремень, обычный в среднем и нижнем горизонтах стоянки,
здесь почти не встречается. Из кремневых изделий заслуживают внимания
пластинки, составляющие значительный процент находок; они имеют
сравнительно крупные размеры (до 7—9 см) и отличаются правильностью
огранения. В этом отношении верхний горизонт Боршева II довольно
Рис. 288. Находки из позднемадлеиского слоя
убежища ДюФор.
(По Г.рейлю и ДюОалеау)
близко уже напоминаем вы-
сокую технику обработки
кремня в поселениях эпипа-
леолитического времени. Что
же касается кремневого ин-
вентаря в целом, то он здесь
мало чем отличается от Бой-
цовской стоянки, кроме лишь
лучшего качества — большей
правильности, более круп-
ных размеров кремневых
орудий.
Иных изделий, кроме обра-
ботанного кремня, в скопле-
ниях культурных остатков
в этом горизонте найдено было немного. К ним относятся трубочки из
раковин (Dentalium), бывшие в очень широком употреблении у перво-
бытного населения Европы в качестве украшения в эпоху позднего
Фауна
палеолита, плоская раковинка двустворчатого морского моллюска,
наполненная растертой железистой краской, затем обычные орудьица
в виде небольших уплощенных острий из расколотых трубчатых костей —
видимо, Зайца. Интересной, но пока единичной, является находка об-
ломка пластинки из кости, украшенной тонким нарезным геометриче-
ским узором в виде зубчиков или городков.
Среди остатков животных встречаются лошадь, северный олень, лось,
заяц, россомаха; мамонт, как мы сказали, отсутствует вовсе, что прихо-
дится считать важным указанием на время, к которому должен быть
отнесен верхний горизонт Боршева II. 2
1 Раскопки, произведенные здесь в 1936 г. с одновременным вскрытием большой
площади стоянки, дают основание думать, что в данном случае отдельные «пятна»
культурного слоя не представляют собой остатков жилищ — их внутреннего поме-
щения. Скорее это простые скопления отбросов жилья, сопровождающие разбросан-
ные на берегу Дона шалаши, очевидно совершенно временного типа. Неоднократные
случаи находок «гнезд» расщепленных и обработанных кремней вне этих скоплений
указывают, видимо, на то, что существование жившей здесь ордыв значительной мере
проходило на месте лагеря под открытым небом.
2 Литературные указания см. в конце книги.
КИРИЛЛОВСКАЯ СТОЯНКА, ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТ
595
КИРИЛЛОВСКАЯ СТОЯНКА, ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТ
Рис. 289. Типичные орудия азпльского слоя убе-
жища ДюФор.
Плоский гарпун, круглые и четырехугольные
скребочки, сегментовидное орудие и галька, пред-
ставляющая наковаленку — ретушер.
| По Брейлю я Дюбалену)
было сравнительно очень немного. Таким
здесь весьма напоминает картину, которая
Чтобы ознакомиться с другой находкой, относящейся, как и верхний
горизонт Борщевской стоянки, к самому концу мадленской эпохи или
началу азиля, нам нужно вновь обратиться к раскопкам В. В. Хвойко
на Кирилловской улице в Киеве.
После первых раскопок палеолитических отложений с костями ма-
монта в усадьбе Зиваля В. В. Хвойко в 1897 г. перенес свои раскопки
на противоположный склон холма, в усадьбу Багреева. Общий характер
четвертичного наноса, слагающего возвышенность, здесь оказался со-
вершенно тем же. Сверху шел лёсс, ниже — плотный слоистый суглинок,
переходящий в зеленовато-серые пески, подостланные синей третичной
глиной. Под слоем лёсса и суглинка, в верхней части зеленовато-серых
песков, на глубине 13—14 м
от поверхности, им были
обнаружены культурные от-
ложения, но иного харак-
тера, чем те, которые бы-
ли найдены ниже в основании
зеленовато-серых песков. Они
имели вид двух темных про-
слоек, разделенных слоем
песка без находок. После
обширных работ 1899 г. вы-
яснилось, что эти отложения
занимали пространство ме-
тров 30 в длину и около, 20
метров в ширину и, в проти-
воположность культурным
отложениям нижнего гори-
зонта, имели вид отдельных,
темных зольных утолщений
с разбитыми и обожженными
костями животных, которых,
кстати сказать, встречено
образом, характер остатков
восстанавлпйается в только что нами описанной стоянке Боршево II.
Из животных, найденных в верхних слоях Кирилловской стоянки,
и Хвойко, и Армашевский отмечают только крупных хищников, главным
образом в виде находок зубов медведя, льва и гиены (?). К сожалению,
другие виды животных так и остались не определенными. Что касается
мамонта, то его кости, по словам Хвойко, здесь, как правило, отсут-
ствовали.
Насколько можно судить о кремневом инвентаре 1 верхнего горизонта
стоянки, он несравненно более богат кремнем, чем кострища нижнего
горизонта, и принадлежит, как совершенно правильно указывал Ф. К. Вол-
ков, по своему облику к самой поздней поре верхнего палеолита.
В этих верхних горизонтах кремня было собрано очень много: кроме гро-
мадного количества кремневых отбросов, здесь были найдены хорошие,
правильные пластинки, нуклеусы, и целые кучи необработанного кремня,
Условия
залегания
Фауна
Кремневый
инвентарь
1 Часть его автор имел возможность видеть в Киевском музее.
596
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
представляющие запас материала для выделкп орудий, которая про-
исходила, очевидно, здесь же, на месте жилья.
Из орудий хорошо представлены прежде всего скребки, небольшие
по размерам и по своим формам очень напоминающие скребки Гонцов-
ской стоянки и Боршева II.
Часто встречаются резцы на маленьких пластинках, принадлежа-
щие к срединному или угловому типу, затем небольшие заостренные пла-
стиночки с резко заретушированным краем, иногда имеющие характер-
ные геометрические, треугольные очертания. Последние обнаруживают
уже очень большое сходство с «микролитическими» орудьицами стоянок
азильско-тардеиуазского времени.
Таким образом, верхний горизонт Боршева II и верхние культурные
слои Кирилловской стоянки рисуют переходную эпоху, заканчивающую
собой мадленское время на территории СССР, когда в лагерях первобыт-
ных охотников, бродивших по берегам рек восточной Европы, начинают
складываться те своеобразные черты материальной культуры, которые
мы находим в стоянках эпипалеолита. Еще более ясно они оказываются
выраженными в одном из самых поздних палеолитических местонахо-
ждений Украины — вс. Журавке, на р. Удае, Полтавской области
(бывшего Прилуцкого округа).
Ж У Р А В К А
Находки в Журавке (1927—1929 гг.) представляют интерес для нас
прежде всего с точки зрения условий своего залегания. Как и в ряде других
стоянок, относящихся к концу верхнего палеолита, они приурочены
к невысокой надлуговой террасе, хорошо развитой здесь по левому берегу
р. Удая. Будучи покрытой лёссовидным (заметно слоистым) наносом,
содержащим тонкие прослойки речного песка, эта терраса является,
очевидно, второй надлуговой террасой, то есть тождественна с несущим
лёсс вторым уровнем надлуговых террас Украины.
Культурные Культурные остатки встречаются здесь в толще суглинка на глубине
остатки около 3,5—4,0 м в виде хорошо выраженного горизонта находок. Как
показали раскопки стоянки, последний представляет собой несколько
неровную поверхность древнего берега р. Удая, восходящего к эпохе,
когда здесь поселился палеолитический человек.
В последующее время река не раз выходила пз берегов, откладывая
йоверх стоянки слои песка и ила.
Хотя раскопки, произведенные по поручению Украинской Академии
наук, дали довольно бедное собрание находок, они заслуживают вни-
мания, поскольку позволяют все же составить известное представление
«об эпохе, меньше всегб до сих пор освещенной в отношении палеоли-
тических памятников Украины.
В общем условия расположения остатков палеолитического обита-
ния в Журавке мало чем отличаются от того, что мы видели в верхнем
горизонте Боршева II; они образуют как бы отдельные небольшие пятна,
занятые некоторым скоплением отбросов жилья. Лучше сохранившиеся
«огнища» представляют тонкие слои «перепала» и обломков костей жи-
вотных с довольно значительным количеством расщепленного кремня и
комками охристой краски.
Фауна Замечательно, что охотничьей добычей человека здесь являются почти
исключительно степные грызуны — сурок (Marmotta bobak Mull.), ры-
ЖУРАВКА
597
?кий суслик (Citellus rufescens Keys.), Spalax microphtalmus Gtild.
и другие, кости которых всегда бывают расколоты и обожжены.
Остатки более крупных животных встречаются в гораздо меньшем числе
и бывают раздроблены на мелкие, почти неопределимые кусочки. 1 Из
этого мы можем заключить, что прежняя обильная охота эпохи мамонта
и северного оленя здесь приходит в заметный упадок. Действительно,
как об этом определенно свидетельствует характер фаунистических остат-
ков, главным предметом охоты для палеолитических обитателей Журавки
в эту эпоху становятся крупные степные грызуны — сурок и суслик.
Факт, сам по себе весьма знаменательный. 2
Природные условия в это время, видимо, становятся уже близкими
к современным, хотя присутствие ели (Pice.a excelsa), установленное по
остаткам углей, показывает, что в долине Удая, вместо растущей сейчас
сосны, были распространены леса, отвечающие несколько более суровым
климатическим условиям.
Кремневый инвентарь Журавки отражает тот же процесс изменения
характера охоты. Если он еще напоминает в некоторой степени типы
изделий Боршева II, посколько в технике этого времени можно видеть
развитие тех же приемов обработки кремня, которые мы встречаем в поздне-
мадленских стоянках, он имеет и свои весьма любопытные особенности.
Это мелкий, .дробный кремневый инвентарь типично микролитического
облика, где господствующим видом орудий являются маленькие правиль-
ные пластиночки и острия, среди которых уже часто встречаются на-
стоящие геометрические фор^йы. Резцы здесь грубы, немногочи-
сленны; скребки составляют также довольно редкое явление — по
крайней мере в имеющихся находках. Обработанной кости в Журавке
нет совершенно.
Очевидно, что и средства охоты в эту эпоху претерпевают суще-
ственные изменения.
Можно думать, во всяком случае, что здесь основным видом оружия
вместо дротика становится лук, на появление которого указывают
мелкие заостренные кремневые пластинки, главным образом, вероятно,
имевшие значение наконечников стрел.
Таким образом, совершенно произвольное, ничем не обоснованное
отнесение целой группы различных по своему характеру верхнепалеоли-
тических памятников УССР — местонахождений Днестровской группы,
находок на Днепрострое, так же как и Журавки, — к ориньяку, 3
могло лишь дезориентировать, а в значительной степени и основательно
дезориентировало украинских геологов и археологов в отношении
памятников украинского палеолита.
1 И. Г. Пидопличка нам сообщил,'что кости, первоначально определявшиеся как
принадлежащие сайге, видимо относятся к кабану. Что касается остатков мамонта,
давно уже наводимых в окрестностях Журавки, то они происходят из более древних
отложений надлуговой террасы и к данному памятнику, как явствует из отчетов,
никакого отношения не имеют.
Соответствующую поправку нужно внести в список фауны, приводимый Пидо-
пличком. I. G. Pidoplitshka, Die Fauna der Quarldreu Saugetiere der Ukraina, «Die
Quartdrperiode» Ukr. Akad. d. Wissensch., Liej. 4, 1932.
2 «Антропология», Укр. Акад, наук, m. II, 1929, стр. 143; «AHmpono.'ioein»,
in. Ill, 1930, стр. 106.
3 Полную предвзятость и антинаучность подобных определений показывает уже
тот факт, что, например, Цотц, оказывается вынужденным признать не ориньяк-
ский, а эпипалеолитический возраст находок, сделанных в Журавке. Ср. Lothar
Zotz, Kulturgruppen des Tardenoisien in Mitteleuropa, «Praehisl. Zeitschr.n XXIII,
1932, II. 1—2, стр. 24.
Раститель-
ность
Кремневый
инвентарь
598
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСНОЕ ВРЕМЯ
Осокоривке,
Дубовая и
Капетровая
балки
Время
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ ДНЕПРОСТРОЯ
В районе Днепростроя палеолитические остатки, обнаруженные
археологической экспедицией в 1931 г. и исследованные в следующем
году, встречены в нескольких пунктах в трех, недалеко друг от друга
расположенных балках — Осокоривке, Дубовой и Кайстровой. 1 Все они
связаны, как и вЖуравке, с отложениями второго уровня нижней над-
пойменной террасы, покрытой лёссом.
В Осокоривке пять горизонтов культурных остатков залегают в лёс-
совидном суглинке и подстилающих его делювиально-аллювиальных на-
носах на глубине от 2 до 5,64 м. Сходный характер имеют находки в Ду-
бовой балке, где насчитывается восемь наслаивающихся один на другой
культурных горизонтов с кремневыми орудиями, углем, костями живот-
ных, прослеживаемых на глубину до 8 м в толще глинистых песков аллю-
виального происхождения. Аналогичный характер носят и палеолити-
ческие слои в Кайстровой балке.
Геологические условия залегания палеолитических остатков в место-
нахождениях Днепростроя рисуют обстановку береговых террас, при-
слоненных к коренному берегу Днепровской долины и периодически за-
топлявшихся рекой, до той эпохи, когда, в связи с повышением уровня
береговой линии и отступанием реки в уже наметившуюся ее современную
пойменную низину, над аллювиальными отложениями начинают брать
верх*делювиальные процессы-—намыв суглинистого наноса с окружав-
ших возвышенностей, Последнее заканчивается отложением более или
менее типичного эол/вого лёсса, хотя и не в больших толщах.
Материалы раскопок Днепростроевской экспедиции пока не изданы,
и мы лишены возможности окончательно определить время ука-
занных палеолитических находок. По мнению некоторых украинских
археологов, нижние слои палеолитических стоянок в районе Днепростроя
относятся к ориньякской эпохе. Однако против этого говорит целый ряд
соображений.
Если принять во внимание отмеченные нами геологические условия,
судя по целому ряду аналогий, мы могли бы здесь иметь памятники
мадленского и следующего за ним азильского, но не более раннего
времени.
Действительно, лишь к концу мадлена и началу азиля палеолитиче-
ское население речных долин спускается к самой воде, устраивая свои
стойбища на затопляемых речных побережьях. На восточноевропей-
ской равнине — на Дону и на Днепре, как и на побережьях больших
рек Сибири, это наблюдается лишь в позднюю пору верхнего палеолита,
когда изменение условий хозяйственной деятельности — переход к менее
оседлому образу жизнщ а также возрастающая роль рыболовства i? со-
бирательства (в частности съедобных моллюсков) — создает подходящую
обстановку для сезонных перекочевок на берег реки.
Поздний возраст стоянок Днепростроя подтверждается также пол-
ным отсутствием в составе мира животных мамонта и других представи-
телей ледниковой фауны. По предварительным определениям В. И. Гро-
мова здесь встречаются во всех горизонтах лишь кости бизона (Bison
1 Весь этот ценный материал пока не опубликован. Некоторые сведения для
этих памятников сообщаются в издании Акад, наук УССР «Die Quarlarperiode»,
Lief. 4, 1932.
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ ДНЕПРОСТРОЯ
59!)
над собой покрытия и огра-
Рис. 290. РаковиньГморских моллю-
сков. (1 и 3. — Kassa reticulata, 2 —
Didacna sp.), происходящие из Чер-
номорского бассейна.
Встречаются в виде украшений в
стоянках позднего палеолитиче-
ского времени на Днепре и на
Северном Донце.
prisons), лошади (Equus sp.), волка и зайца. Такой характер имеет фауна
в местонахождениях Дубовой балки. Нет никаких указаний, чтобы она
носила иной характер в других стоянках этого района.
Мы еще очень мало осведомлены о вещественных остатках, сопрово- Характер
ждающих культурные отложения этих местонахождений. Относитель- культурных
но Дубовой балки известно, что во всех горизонтах в ней попадались отложен,|И
гонкие прослойки культурных остатков, имевшие характер отдельных
пятен культурного слоя, иногда сопровождавшихся небольшими углубле-
ниями овальной формы, заполненными золой, углем и обломками костей.
Вокруг них культурный слой был лучше выражен и содержал многочи-
сленные расколотые кости и кремни, количество которых заметно умень-
шалось к периферии пятна. Отсюда не следует, что очаги были распо-
ложены под открытым небом и не имели
ждения, Такой вывод нам представлялся
бы все же несколько преждевременным.
Мы видим аналогичную обстановку
во всех известных нам поселениях этой
эпохи на территории СССР. В тех слу-
чаях, когда позволяло наличие соответ-
ствующего материала, очаги, окруженные
скоплением отбросов жилья, бывают сде-
ланы из плит и, очевидно, сооружались
не на один день: естественно думать, что
они находились внутри какийс-то легких
сооружений, ставившихся на берегу реки
на летнее время. Небольшая площадь
пепелищ и ограниченные размеры скопле-
ний отбросов жилья, очевидно, свидетель-
ствуют о том, что они были оставлены
небольшими группами людей.
Кремневый инвентарь Дубовой балки
не дает заметных отличий в различных слоях. Богаче всего этого рода ный креиень
находками оказался слой 5, где встречены нуклеусы, пластины, а так
же немного отщепов, материалом для которых служил главным образом
светлокоричневый, просвечивающий меловой кремень. Из характерных
видов орудий здесь можно назвать острия в форме лезвия перочинного
ножа, обычные в стоянках этой эпохи, пластиночки со сбитой спинкой,
проколки, двойные скребочки и пр. и немногочисленные простейшие
орудия п украшения из кости.
В качестве украшения носились просверленные раковинки, иногда, Раковины
видимо, окрашенные красной охрой, — Cerithium, Kassa и Didacna,
все три принадлежащие морским моллюскам.
Относительно Кайстровой балки и Осокоривки (исследованной И. Ле-
вицким) мы ничего пока сказать не можем кроме того, что характер остат-
ков здесь, в основных горизонтах эти! местонахождений, очень близок
к Дубовой балке.
Найденные в Дубовой и Кайстровой балках раковинки морских мол-
люсков представляют для нее особенный интерес, 1 о чем нам уже при-
шлось упоминать выше в связи с находками аналогичных раковинок
в Мезинской стоянке. Они принадлежат к видам Cerithium vulgatwn Brug.
(1 экз. — Кайстровая балка), Nassa reticulata L. (2 экз. — Дубовая
Ср. «Четвертичный период», Акад, наук УССР, в. 11.
GOO ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
балка, 2-й горизонт), Didacna sp. (2 экз. — Дубовая балка, 4-й гори-
зонт). Все три моллюска происходят из фауны Черного моря и свиде-
тельствуют о наличии каких-то связей местного населения с далеким
югом. Этот факт имеет значительный интерес особенно в связи с тем
обстоятельством, что красивые раковинки Cerithium, Nassa reticulata
и других морских моллюсков из Средиземноморского бассейна и Атлан-
тического океана весьма широко распространены в позднепалеолитиче-
ских стоянках западной Европы, главным образом мадленского времени,
указывая на значительную подвижность населения этой эпохи. 1
Ямбург Видимо, тот же характер, что и палеолитические стоянки Днепро-
строя, имеет недавно обнаруженное местонахождение у колонии Ямбург,
па правом берегу Днепра при устье р. Суры, раскопки которого, произ-
водившиеся И. Ф. Левицким, относятся к 1932 г. Культурные остатки,
по определению Левицкого, позднемадленского времени залегают здеш»
в верхних отложениях надлуговой террасы в делювиальном суглинке,
переходящем в аллювиальный слоистый песчаный нанос, и состоят, как
обычно в стоянках этого типа, из девяти культурных горизонтов, чере-
дующихся с не содержащими находок слоями намыва.
Таким образом, люди, посещавшие эту местность в конце ледниковой
эпохи, селились периодически, вероятно в летнее время, на берегу Дне-
пра, покидая удобные береговые склоны в период поднятия воды. Стоянка
уже не содержит вымерших видов и состоит из лошади (Equus caballus), пер-
вобытного быка (?), бизона, бурого медведя, зайца {Lepus variabilis Pall.),
лисицы.
Майорка Следы палеолитических поселений близкого времени открыты И. Ф. Ле-
вицким и недаолько ниже по течению Днепра, на том'же правом бе-
регу, в районе балки Майорки. Из фауны здесь определен только перво-
бытный бык (Bos priinigenius).
Одним из наиболее поздних палеолитических памятников па
территории Украины является интересная находка, сделанная В. В. Хвойко
в 1911 г. у местечка Искорость в бывшем Овручском уезде. По усло-
виям своего залегания опа имеет несколько загадочный характер. Распо-
лагаясь, видимо, довольно далеко от реки, эта стоянка была обнаружена
при раскопке курганов под слоем чернозема в материке на глубине
0,5—0,8 м от верхней его границы в виде нескольких кострищ (диаметр
в 1—2 м), отмеченных скоплением золы и обожженной землей под ними.
Судя по необычайному обилию расщепленного кремня, нуклеусов
и кремневой гальки и очень малому числу орудий, все это в целом про-
изводит впечатление мастерской, где шла первичная обработка камен-
ного материала. Подробнее эта находка еще не описана.
РОГАЛИК
Среднее течение Донца в окрестностях Ворошиловграда (бывший Лу-
ганск), насколько можно составить представление о нем по исследова-.
1 Большой список верхнепалеолптических местонахождений для Франции, Бель-
гии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии, Чехословакии (Моравии), содержащих
находки раковин и различного рода редких остатков в виде кристаллов плавикового
шпата, лигнита, янтаря и пр., приводит Вигерс в качестве свидетельства весьма
широких связей, устанавливающихся в среде первобытного населения Европы уже
с ориньякской эпохи, но главным образом в мадленское время. Сам Вигерс склонен
считать находки раковин, происходящих нередко из отдаленных местностей, в палео -
литических стоянках результатам перекочевок охотничьих групп. F. Wiegers,.
Diluviale Vorgcschichte des Menschen, Bd. I, Slullg., 1928, стр. 129.
РОГАЛИК
601
нпям, производившимся здесь с 1923 г. С. А. Локтюшевым, обещает стать
одним из важных центров средоточия палеолитических памятников раз-
ного возраста. Мы уже упоминали о находке орудий мустьерских типов
на отмели Донца в районе Красного Яра. Несколько ниже, при устье Дер-
кула, находится открытое нами местонахождение мустьерского времени.
К эпохе мадлена относит С. А. Локтюшев описанную им находку, Весмогорье
(•деланную у с. Веселогорья, в 15 км от Луганска, где на берегу Дона
был подобран прекрасный наконечник дротика, сделанный из кости,
сопровождавшийся остатками мамонта, сибирского носорога, бизона и
лошади.
Нас сейчас может интересовать открытая Локтюшевым в 1926 г. и от- Рогямк
части уже им исследованная палеолитическая стоянка у хутора Рогалик
ifo нижнему течению р. Евсуг, недалеко от впадения его в Донец. Она
расположена на довольно высоком (18 м) правом берегу реки, рядом с про-
резывающим береговую террасу Якимовским оврагом. В противополо-
жность большинству других, ранее описанных стоянок, благодаря своему
относительно высокому положению, она приурочена, видимо, не к аллю-
виальным образованиям, а к делювиальному шлейфу коренного берега,
сложенного из мергеля и прикрытого песчано-глинистым наносом.
Культурные остатки встречаются на небольшой глубине, около Культурные-
1,5 м, под горизонтом погребенной почвы, в песчанистом лёссовидном остатки
суглинке, подостланном пр/уметровым слоем глинистого песка, лежащим
непосредственно на мергеле.
Во вскрытой части стоянки остатки располагались весьма характерно
для памятников позднейшего палеолита — то единичными находками,
то образуя небольшие скопления, состоящие из раздробленных костей
животных и каменного материала, между которыми попадались округ-
лые пятна очагов-кострищ. Остатки животных, по определению В. В. Бо-
гачева, принадлежат главным образом лошади, затем быку, лисице и
еще какому-то небольшому животному (?).
Судя по значительному числу нуклеусов и всякого рода отбросов про- Кремневый
нзводства каменных изделий, обработка этого материала происходила "«вентерь
на месте стоянки, почему С. А. Локтюшев склонен считать ее скорее
мастерской. В изделиях преобладает цветной кремень различной окра-
ски — коричневый, бурый, синеватый, белый; реже шел в дело кварцит,
представленный в находках преимущественно всякого рода отщепами.
Уже числовое соотношение различных категорий кремневого инвен-
таря, как и его характер, определяет позднее время стоянки, обнаружи-
вая очень большое сходство с верхним слоем Боршева II.
Основную массу находок, если не считать отбросов производства, со-
ставляют ножевидные пластинки (по подсчету Локтюшева — 389 экз.),
часто очень правильные, хорошо „ограненные (в 2—3 грани), среди ко-
торых встречается и много правильных сечений таких же пластинок,
отчасти использовавшихся для йзготовления орудий.
Из орудий можно назвать некоторое количество резцов как средин-
ного, так и бокового типа, сделанных из хороших удлиненных пласти-
нок. Характерны скребки, имеющие совершенно тот же облик, что в Бор-
шеве II — то на более длинных правильных пластинках, то на их се-
чениях, также округлых скребочков и пр.
Но особенно любопытно присутствие в составе каменного инвен-
таря Рогаликской стоянки настоящий трапециевидных микролитов более
правильных и более законченных, чем в Журавке, где они все же еще
носят довольно случайный характер. Число их, по подсчету Локтюшева, со-
<>02
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗ ИНЬСКОЕ ВРЕМЯ
ставляет 13 экземпляров. Присутствие этих вещей, совершенно неизвестных
в верхнем горизонте Боршева II, указывает на несколько более поздний
возраст Рогалика, позволяя относить его к кругу памятников типичного ази-
ля, как мы знаем его, например, по поздним пещерным поселениям Крыма.
Других видов орудий в Рогалике встречено очень немного.
Раковины Кроме того, следует отметить некоторое количество просверленных
раковинок морских моллюсков, видимо Nassa и других, очевидно того
же происхождения, что и раковинки из стоянок Днепростроя, затем
следы охристой краски и пр.
В том же районе Локтюшев указывает еще две стоянки со схо-
дным инвентарем, ждущие своего исследования.
ПОЗДНЕЙШАЯ ПОРА ПАЛЕОЛИТА
Описанная нами картина поселений конца
палеолитического вре-
Исчезновение
арктичееких
видов
-Ландшафт
Украины
Рис. 291. Гальки, украшенные
узорным рисунком (исполненным
росписью и резьбой) пз
Мас д’Азиль.
(По пьепу;
мени не является особенностью одной
восточной Европы. Мы могли устано-
вить то же и для отдаленных областей
Сибири, например окрестностей Красно-
ярска, где оседлые поселения, вроде
стоянки на Афонтовой горе, сменяются при
переходе к современной эпохе «сезонными»
становищами нижней террасы Енисея. О
позднем времени их говорит состав фауны,
исчезновение мамонта и песца, хотя север-
ный олень благодаря континентальности кли-
мата восточной Сибири задерживается на
Енисее и Ангаре значительно дольше, чем
в европейской части СССР.
Находки в Д£уравке на Полтавщине по-
казывают, что в эту эпоху ландшафт
Украины уже становится близким к совре-
менному, хотя некоторые признаки, как
присутствие ели в Журавке, на берегах
р. Удая, и Lepus eariabilis в Ямбурге, на
Днепре, свидетельствуют все же о несколько
более суровых климатических условиях, чем
в настоящее время. Во всяком случае, как
и в стоянках Сибири, исчезновение древней
ледниковой фауны «века мамонта» в верхнем
горизонте Боршева II, в верхних слоях
стоянки на Кирилловской ул. в г. Киеве,
в Журавке, в Рогалике и стоянках Дне-
простроя отмечает наступление современ-
ной геологической эпохи. То же явление
может быть прослежено на всем про-
странстве Европы. Конец мадленского вре-
мени, говорит Обермайер, означает и окон-
чание ледникового периода, прибавим —
по крайней мере для более южных областей
Европы.
Затем наступает время, когда климатические условия становятся
в общих черта* тождественными с современным умеренным лесным кли-
матом, что приводит к распространению соответствующей флоры и фауны.
ПОЗДНЕЙШАЯ ПОРА ПАЛЕОЛИТА
603
В списках фауны охотничьих поселений исчезают арктические и степные
формы, п господствующими животными в качестве охотничьей добычи
человека становятся типичные обитатели леса и лесных пастбищ — бла-
городный олень, косуля, медведь, часто также кабан, лось, бобр и др.
Совпадение того п другого — перелома в условиях природной среды
с началом нового этапа в истории первобытного общества — вряд ли пред-
ставляет случайное явление, хотя непосредственные причины, обусло-
вившие процесс исторического преобразования мадленского общества,
остаются пока недостаточно освещенными. Представляется вероятным,
что здесь известную роль могло сыграть относительно быстрое угаса-
ние ледниковой эпохи и вызванные им изменения в составе животного
мира, поскольку они должны были разрушать сложившийся ранее строй
охотничьего хозяйства.
Однако это трудно было бы считать единственной причиной смены
мадленской следующею за ней азильской эпохой.
В основании этого процесса дол-
жны были лежать какие-то более глубо-
кие закономерности исторического про
цесса. Действительно новые черты начи-
нают вырисовываться в стоянках поздне-
го палеолита на всем пространстве Евра-
зии, вне зависимости от того, какой ха-
рактер принимало здесь развитие обще-
ства в предшествующее время. Мынахо-
димих одинаково во Франции, северной
Испании и прилегающих районах, то
есть там, где в позднюю ледниковую
пору наблюдается значительный расцвет
культуры охотников иа северного оленя,
и вне этой области — в Англии, Гер-
мании, как и на востоке Европы, на
территории СССР, где в мадленское
время переживает древний оседлый
уклад жизни, связанный с охотой на
мамонта и лошадь.
Вместе с тем с окончанием леднико-
вой эпохи постепенно стирается разли-
Новый исто-
рический
этап
17 ® ?
чие в типах развития северных и юж-
ных областей Евразии. И там и здесь,
на материке Европы и во всем Среди-
земье, так же как в южной Азии, ма-
териальные формы культуры перед на-
чалом следующей стадии в истории
родового общества обнаруживают це-
лый ряд поразительно сходных общих
Рис. 292. Скальные рисунки Испании
(слева) и отвечающие им азпльские
явлений.
Азильская эпоха получила свое
название от известной пещеры Мас гальки.
д’Азиль в южнойФранции, в предгорьях !По ооермаВеру)
Пиренеи, исследованной (с 1887 г.)
Эд. Пьеттом. Эта пещера, представляющая гигантский тоннель в 400 м
Пещера Мас
д’Азиль
длиной, прорезанный речкой Аризой, привлекала человека уже с мадлен-
ского времени. Мадленскне остатки встречаются в нескольких местах
604
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСНОЕ ВРЕМЯ
под толщей мощных наносов, главным образом у входа и на середине
подземной галереи, где обвал свода образовал отверстие, достаточное
для освещения внутренности пещеры и способствовавшее выходу дыма
от кострищ. В последующее время ею не раз пользовались в качестве убе-
жища не только в эпоху палеолита и бронзы, но и в галло-римский пе-
риод,. а может быть, и позже.
Для нас особенно интересны находки, которые были сделаны
’Пьеттом у входа в пещеру, по левому берегу р. Аризы, между поздне-
мадленским горизонтом, давшим типические изделия этой поры, в част-
ности гарпуны из рога северного оленя и многочисленные гравюры
на кости, и неолитическим слоем с остатками керамики п некоторым
количеством полированных орудий из камня. В этом промежуточном
слое Пьеттом были встречены остатки «пепелищ», то есть скопления куль-
Фаупа турных отбросов, образовавшиеся на месте жилья. Среди костей живот-
ных, принадлежащих к лесной фауне (бобр, кабан, медведь и др.), особенно
важное место занимают остатки благородного оленя; имеются кости птиц
Кремень и нескольких видов и рыб — щуки, форели. Изделия из кремня предста-
кость влены немногочисленными типами, обнаруживающими сходство с кремне-
выми орудиями мадленских слоев; особенного внимания заслуживают
маленькие круглые скребочки и небольшие острия в виде пластинок с за-
тупленным краем типа так называемых lames de canif. Эти формы встре-
чаются повсюду в стоянках
азильскоп эпохи
/оХл Хотя человек еще довольно
fWl f V Vi 'Ж иЯ широко пользуется здесь
костью и рогом благородного
Рис. 293 Стилизованная человеческая Фигура на оленя для изготовления не-
петроглиФах Испании (слева) и па гальке из которых видов орудий и охот-
Мас д’Азиль (справа). ничьего оружия, обработка
кости находится в состоянии
значительного упадка по сравнению с предшествующим временем. Наиболее
характерными для этого слоя являются небольшие гарпуны из рога бла-
городного оленя, которых Пьетт собрал свыше тысячи. Они предста-
вляют грубо вырезанные плоские наконечники с одним или двумя рядами
широких угловатых зубьев и имеют отверстие в основании для прикре-
пления шнура. Уже многочисленность этих предметов указывает на то,
что они служили важным орудием скорее охоты, чем рыболовства, кото-
рое' в данное время не .приобретает еще особенно широких размеров.
Кроме гарпунов попадаются грубые шилья из трубчатых костей живот-
ных и так называемые лощила. Остальные виды изделий, встречавшиеся
в мадленских слоях, в этом слое совершенно отсутствуют, как перестает
встречаться и художественная резьба по кости, что, видимо, можно объя-
снить прогрессирующим "упадком технических навыков, который, как
заметил Брейль, намечается уже в конце мадленской эпохи.
Гальки Изобразительное творчество не было, однако, чуждо азильцу. Чрез-
вычайно интересны с этой точки зрения многочисленные расписанные
гальки, собранные Пьеттом в том же слое пещеры Ма<* д’Азиль.
Выше мы уже говорили, что было бы неправильно усматривать в них,
как это казалось возможным Пьетту, какие-то совершенно новые формы
изобразительного творчества, ничем не связанные с искусством мадлена.
Во многих случаях в узорах этих галек, как это достаточно убедительно
показали Овермайер и Вернерт, можно разгадать, например при сопоста-
влении их с испанскими петроглифами, вполне реальные, хотя и очень
ПОЗДНЕЙШАЯ ПОРА ПАЛЕОЛИТА во»
упрощенные образы людей, а может быть, и животных. Представляется
весьма вероятным, что примитивная техника рисунка, который по боль-
шей части наносился, видимо, просто пальцем или палочкой, обмок-
мутой в красную краску, растертую с жиром, должна была неизбежно
привести к условной, «стилизованной» манере передачи изображений, а
в дальнейшем и к утрате ими непосредственного сходства со своими
прообразами.
Так приходится объяснять те многочисленные азильские гальки,
украшенные кружками, линиями или зигзагами и другими подобными
знаками, иногда в обрамлении из цветной полоски, в которых Пьетт
хотел видеть счетные камни и письменные знаки древнейшей системы ал-
фавита. Он наивно полагает, что пещера Мас д’Азиль представляла как
бы школу, где азильцы учились «чтению, письму, счету и символам рели-
гиозного культа». Можно думать, что эти вещи, при всем их внешнем
своеобразии, в сущности должны были иметь в азильскую эпоху то же
значение тотемических символов, которое в мадленское время играли
художественно выгравированные изображения на обломках кости или
плитках мягкого камня. Так называемые чуринги, или волшебные до,-
щечки австралийцев, отмеченные у них многими путешественниками,
часто украшенные рисунками, очень близкими к узорам азильских га-
лек, могут дать представление о том, какое важное место они должны
были занимать в религиозных представлениях азильцев.
Большой интерес представляет находка Ф. Саразина в пещере Бирзек
в Швейцарии, где он обнаружил азильское поселение с многочисленными
раскрашенными гальками, которые все оказались разбитыми, как он
предполагает, с целью уничтожения священных покровителей жившей
здесь орды.
Если раскрашенные гальки встречаются в довольно ограниченном
районе западной Европы, хотя они описаны уже в ряде пещер Фран-
ции, подобные же, 'но сделанные из дерева чуринги должны были иметь
гораздо более широкое распространение в среде первобытного населения
Евразии. Естественно, чт.о они могли сохраниться только там, где по
тем или другим причинам для их изготовления использовался камень.
Видимо, с такими гальками-чурингами были кое-где знакомы и азиль-
ские орды, восточной Европы. Они известны, например, в Крыму, на
Яйле, где было найдено несколько галек с очень интересными резными
узорами,1 близко напоминающими мае д’азильские гальки. Условия этих
находок, которые сопровождались характерным «микролитическим» крем-
невым инвентарем, делают весьма вероятным, что они должны быть
отнесены ко времени, предшествующему неолитической эпохе, — воз-
можно, к тарденуазской стадии.
Если' азильская эпоха относятся в значительной степени уже к гео-
логической современности, ее все же нельзя не рассматривать как есте-
ственное завершение верхнвпалеолитической стадии. Признаки- наблю-
дающегося в это время упадка кремневой техники говорят о каком-то
внутреннем процессе, в котором создавались условия для быстрого рас-
цвета вч последующее время совершенно новых, высших форь^ культуры.
Мы не имеем во всяком случае особых оснований искать здесь слишком
широких передвижений новых племен, устремившихся по окончании
ледникового периода из области Средиземья в Европу и принесших
с собой новую технику, новые формы искусства и т. п.
Во всяком случае переселения первобытных племен, которые часто
рассматриваются в качестве единственной причины изменений в матери-
вое
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
альном облике этого общества при переходе от мадлена к азилю, оче-
видно все же не могут раскрыть нам внутреннюю закономерность ис-
торического процесса. Поэтому нам трудно принять утверждение Ж. де
Моргана: «Вне всякого сомнения, — говорит он, — все эти внезапные
перемены вызывались глубокими причинами, и все заставляет думать,
что последние надо искать во вмешательстве вновь пришедших в наши
области народов». 1
Турас Остатки азильского времени встречаются обычно в условиях, близких
к т^м, которые представляют стоянки мадленской поры. Действительно,
ази^ьские орды, где только было возможно, устраивают свои убежища
в неглубоких пещерах и навесах под скалами: здесь следы их обитания
встречаются поверх мадленских кострищ. Из многочисленных пещерных
стоянок Пиренейского района, где были открыты остатки этой эпохи,
укажем грот Турас (Верхняя Гаронна), исследованный в 1891 г. Ша-
мезоном и Дарба. Последний доставил типичные плоские гарпуны из
рога благородного оленя и грубый кремневый инвентарь вместе с костями
медведя, кабана, волка, барсука, бобра, косули, дикого быка, лошади,
северного оленя (очень немного), благородного оленя.
Найденный здесь клык льва, очевидно принесенный на стоянку или
в качестве украшения, или, скорее, амулета, указывает на то, что этот
крупный хищник жил еще в азильское время на юге Франции. Остатки
пещерного льва, главным образом в виде таких же находок клыков,
известны в эту эпоху и в стоянках восточной Европы (Кирилловская
стоянка) и Сибири. Грот Турас дал основание Габриелю де Мортилье
назвать это время турасской эпохой. Однако название, предложенное
Мортилье, не привилось в науке, поскольку пещера Мас д’Азиль имеет
за собой право первенства и по времени открытия, и по значительно боль-
шему богатству находок.
Дюфор В стоянке Дюфор, результаты исследования которой были опу-
бликованы Брейлем и Дюбаленом в 1901 г., 2 можно проследить, как
эволюционирует в азильское время кремневый инвентарь из форм, по-
являющихся уже в нижележащих отложениях позднего мадлена. Из крем-
невых изделий мы находим в азильском слое убежища Дюфор характерные
маленькие круглые скребочки и орудьица в виде сегмента. Здесь имеются
и обычные плоские гарпуны, сделанные из рога благородного оленя, но
костяной инвентарь представлен в общем очень бедно (рис. 288 и 289).
Ддя приемов, которыми пользовались в азильское время для отделки
кремневых орудий, интересна находка галек с выбитыми на них углубле-
ниями, близко напоминающих мустьерские наковаленки. Можно думать,
что с помощью этих приспособлений азпльцы наносили ретушь на свои
орудия из кремня. Такие же удлиненные гальки с характерными углубле-
ниями, получившимися в результате использования их как отжимников,
быди встречены нами в верхнем горизонте Боршева II. Их упоминает
и С. А. Локтюшев в находках на стоянке Рогалик. Отметим, кстати, что
обе эти стоянки имеют во многих отношениях замечательное сходство
с аэильскими стоянками юго-западной Франции. Из других вещей в Абри
Дюфор заслуживает внимания редкая для азильского времени находка
каменной плитки с выгравированным на ней грубом рисунком лоша-
диной головы.
Распростра- Пещерные стоянки того же типа известны во многих странах запад-
нение азиль- нод Европы — Англии, Бельгии, Германии, — равно как и на юге СССР,
свих остатков ___L______________’________г_______________________________________
1 Ж. де Морган, Доисторическое человечество, русск. пер., 1926, стр. 75.
2 Breuil et Dubalen, isffbvue de Г Ecole d' Anthrop. de Paris», XI, 1901, стр. 251.
позднейшая лора палеолита
607
в Крыму и на Кавказе, тогда как в более северной части восточной Ев-
ропы — в Польше, на Украине и в Подонье, — где стоянки азильдкого
времени, видимо, не составляют редкого явления, хотя изучены еще да-
леко не достаточно, они имеют характер поселений на открытом воздухе
и бывают связаны с верхними слоями лёсса. Такой характер залегания
остатков азильскои поры свидетельствует о том, что природный режим
Европы в это время не «принял все же еще окончательно свой современ-
ный облик.
Нужно сказать, что еще в 1913 г. Л. Кутиль в докладе на конгрессе
Французской научной ассоциации (1’Association frangaise pour 1’avan-
cement des sciences) в Тунисе обратил внимание на то интересное обстоя-
тельство, что азильские стоянки с характерным кремневым инвентарем,
особенно в пещерах Бельгии, нередко сопровождаются северным оленем.
К этому типу он причисляет стоянку Тру де Шалэ в провинции Намюр,
которую исследовавший ее Дюпон относил в свое время к наиболее позд-
ним пещерным местонахождениям Бельгии, затем грот Reraoucharaps
и некоторые другие. Новейшие авторы — Лое, Амаль-Нандрен, Серве, Фрэ-
пон — описывают ряд стоянок в той же области Европы (пещера Zonho-
ven, Мартенрив, грот Колеоптер), где мелкий кремневый инвентарь с ору-
дьицами геометрических очертаний сочетается еще с многочисленными
остатками полярных животных — северного оленя, иногда песца и пр. 1
Такие стоянки в настоящее время известны и в северной Франции (напри-
мер убежище Тросэ, 1928 г.). Что же касается Германии, то Р. Р. Шмидт
в своей большой работе «Die diluviale Vorzeit Deutschlands» пере-
числяет ряд пещер, в верхних горизонтах которых выше мадленских от-
ложений были встречены орудьица азильских типов — круглые скре-
бочки, острия в виде клинка перочинного ножа, маленькие резцы, ми-
ниатюрные кремневые инструменты в форме треугольников и сегментов
и т. п. Однако условия этих находок остаются еще плохо выясненными.
Таковы гроты Иштейн, расположенные над Рейном, Мартинсгёле,
Бальвергёле, Клейнкемс, Бюсте Шейер и др. В одних из них, видимо,
еще удерживаются представители древней фауны — северный олень,
россомаха, лев, тогда как в других господствуют современные лесные
формы — кабан, благородный олень, косуля, тур, лось, бобр и др.
Таким образом, ландшафт ледникового периода лишь постепенно усту-
пает свое место климатическим условиям, принесенным современной
эпохой. Если на юге Европы, в районе Пиренеи и Дордони, так же как
в Крыму и на Украине, мы в это время находим условия, близкие со-
временным, дальше к Балтийскому морю значительные пространства были
еще заняты тундрой с ее обитателями.
Все же ледниковая эпоха идет к угасанию. В течение азильского
времени Балтийский бассейн освобождается окончательно от ледяного
покрова, который оттягивается в область горных хребтов Скандинавии.
Во время этой так называемой иольдиевой стадии Балтийского бас-
сейна Скандинавия имела вид обширного острова, окруженного поляр-
ным морем, который представлял картину безжизненной ледяной пу-
стыни. Но на южном побережье Балтики уже появляется неприхотливая
растительность севера—полярная ива, карликовая береза и другие виды,
свойственные далеким окраинам Евразии, омываемым Ледовитым океаном.
За стадами северных оленей в этих местах появляется впервые и человек.
1 Lohest, Hamal-Nandrin, Servais, Fraipont, La grotte de Martinrive, «Revue anthropo-
logiqueo, 1922, 11—12, стр 349; J. Hamal-Nandrin et J. Servais, La grotte dite «du.
Coleopters», «Revue anthropologique», 1925, стр. 120.
Говоримы
олень.
Угасание-
ледниковых
явлений.
JiOS
Заселение
Балтики
Аренсбург
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЧЬСКОЕ ВРЕМЯ
До недавнего времени ни в северной Германии, ни в Дании не было
открыто стоянок, которые могли бы быть отнесены к азильской эпохе.
Правда, по давно уже сложившемуся, но совершенно неправильному
взгляду, к азильской эпохе многие авторы относят так называемую куль-
туру Маглемозе. Такое ее определение во времени вытекает для них из
предвзятого представления, что азильская стадия уже целиком падает
на послеледниковый период. Однако факты не подтверждают правиль-
ности подобной точки зрения. Наоборот, недавние находки типичных
щозднеазильских или раннетарденуазских стоянок с большим количе-
ством остатков северного оленя (стоянки с инвентарем типа лингби)
в окрестностях Аренсбурга, на юге Ютландского полуострова, дают нам
твердую опору в расстановке ранних памятников Балтийского бассейна.
Во всяком случае, существование азильских поселений в южной Бал-
тике выдавали и раньше нередкие здесь находки обработанных рогов
северного оленя. Как известно, северный олень перестает встречаться
в этой части Европы в следующее за иольдиевым, так называемое ан-
циловое время Балтийского бассейна. По указанию Л. Козловского,
подобные находки имеются и в Польше.
О. Монтелиус считал доказанным, что человек в области Балтики по-
является относительно рано вместе со стадами северных оленей — в эпоху
отступания ледникового покрова. Первое пребывание его здесь, отмечен-
ное изделиями из рога северного оленя и кремневыми орудиями, может
быть отнесено, по мнению названного ученого, за 15—12 тысяч лет до
нашего времени. Однако Монтелиус, как и Софус Мюллер, вполне оши-
бочно принимал для памятников палеолита слишком небольшую дав-
ность. По его представлению, первые пришельцы на берега Балтики
должны были переживать еще стадию солютрейской культуры. К этому
времени он относил встречающиеся в южной Скандинавии и северной
Германии двусторонне обтесанные орудия миндалевидной формы, кото-
рые в действительности представляют собой изделия неолитической
поры. За солютре, по его мнению, в области Балтики следовало мадлен-
ское время, которому отвечают находки гарпунов из кости, напомина-
ющих мадленские типы. Их сменяют в анциловое время памятники,
относящиеся к ступени маглемозе. 1
Можно считать установленным, что известные до сих пор находки на
побережье Балтики, в которых можно видеть следы первого появления
человека в этой области Европы, относятся к значительно более позднему
времени — переходному от стадии нольдиева моря к анциловому. В част-
ности, мотыги и другие изделия из рога северного оленя должны быть
связаны с теми поселениями, которые дают кремневый инвентарь позд-
него азильского или раннего тарденуазского характера, известный в скан-
динавских странах под именем типа лингби, а в Польше—свидерской стадии.
Однако- в южной части Ютландского полуострова, где обнаружены
наиболее интересные памятники культуры лингби, получившей здесь
название аренсбургской культуры, недавно (в 1934—1935 гг.) открыты
еще более ранние следы человеческих поселений, которые, по мнению не-
которых немецких археологов, можно относить еще к мадленской эпохе.
Одно из немногих исследованных местонахождений этого типа нахо-
дится у Аренсбурга в торфянике Аренсбург-Мейендорфского туннель-
__________________________________________________-*-----.-------—
1 О. Montelius, De mandeljormiga jlintverktygens alder, «Antikvarisk Tidskrift fur
Sverige», Bd. XX, 6, 1918, стр. 1; Gunar Ekholm, Konnen wir eine skandinavische Har-
punenzeit ausscheiden? «Eiszeit», Bd. IV, стр. 126; J. Bayer, Das vermeintliche Solutreen
in Skandinavien, «Mannus», Bd. 13.
» позднейшая пора палеолита
60»
иля, и пункте, носящем название Stellmoor. В этом месте к невысоким
олмам примыкает низина, покрытая торфяником, под мощной толщей
иторого на глубине 5 м залегает слой ила (Faulschlamm), затем снова не-
ольшая прослойка торфа и слоистые пески, оставленные, озером, видимо
оразовавшимся при отступании и таянии ледника. На склоне холма,
оставляющего берег торфяного болота, а некогда являвшегося берегом
вера, уже давно была обнаружена стоянка, давшая большое число обра-
отанных кремней времени культуры лингби.
Произведенные здесь раскопки выяснили, что по окраинам этой
тоянки, на значительной глубине, под слоем торфа, в илистом наносе,
аходится значительное скопление костей и рогов северного оленя, вместе-
которыми встречаются и орудия из кости
поху лингби.
Несколько глубже, в слое нижнего
ла, был открыт второй культурный го-
HI3OHT с таким же скоплением остатков
( верного оленя, изделиями из кости и не
юльшим количеством кремневых орудий.
Значительное количество пыльцы бе-
>езы, сосны и наличие других древесных
юрод показывает, что в так называемом
аренсбургском» горизонте мы имеем уже
лоху, когда леса из сосны .и березы
фочно завоевывают побережье южной
Балтики, что, видимо, имело место лишь
конце стадии Иольдиева бассейна.
и камня типов, известных в
Рис. 291. Кремневый наконечник из
поздпемустьерских стоянок северной
Африки" (т. п. атерийского типа).
Таким образом, представляется весьма вероятным, что в более ран-
|пх остатках Штельмоора мы имеем следы обитания азильских охогни-
;ов на северного оленя, отошедших к берегам Балтики и Северного
горя за стадами этих животных.1
В Польша ’ можно проследить, как так называемое среднеполь-
кое оледенение, которое, по мнению некоторых польских ученых,
ивечает мадленской эпохе, отступает к концу этой эпохи на север к Бал-
ийскому морю (пояс концевых морен балтийского оледенения), а затем
'кончательно освобождает его берега. Последнее уже, видимо, совпадает
азпльскпм временем.
1 Недавно открытые на севере Кольского полуострова, на берегу залива Б. Мотка,
леды стойбищ с грубым каменным инвентарем ставят интересный вопрос о времени
(ервого заселения северных окраин европейской территории СССР. Как и аналогич-
ще находки, сделанные норвежскими учеными на севере Скандинавии, эти остатки
(тпосятся к так называемому арктическому палеолиту.
По мнению скандинавских авторов, подобные Стоянки, протянувшиеся вдоль,
юрского побережья до крайней оконечности Скандинавского полуострова, принад-
гежат древним племенам охотников и рыболовов, проникшим в Скандинавию с мате-
)ика еще в эпоху верхнего палеолита. Однако исследования Б. Ф. Землякова вполне
убедительно доказывают, что здесь может итти речь лишь о более позднем времени —
)ремени эпипалеолита, когда ледник окончательно оставил эту часть Скандинавии,
>ттянувшись в глубину североскандинавских нагорий.
Некоторые находки, сделанные в Карелии, дают основание думать, что древ-
зейшее заселение Кольского полуострова и Скандинавии шло скорее не с юга, а
юго-востока. «Возможно, что дальнейшее изучение именно этих памятников Каре-
ши,— говорит Земляков,—позволит подойти, наконец, к разрешению спорного
вопроса о путях заселения севера Европы, базируясь на прочных, неопровержимых
фактах». Ср. Д. Ф. Земляков, Археологические исследования на побережье Аркти--
•еского океана, АГруды советской секции JNQUA», в. III, 1937, стр. 94.
39 II. ГТ. Ефименко. Первобытное общество—1734
610 ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ АЗИЛЬСЕОЕ ВРЕМЯ
Азильская эпоха должна была длиться очень долго, во всяком случае
многие тысячелетия. Если же ее рассматривать как первую фазу пере-
ходной поры, продолжением которой является так называемая тарде-
нуазская эпоха, представленная стоянками, и.меющими весьма широкое
распространение по всей Европе, время ее должно измеряться не менее,
« чем в 10—15 тысяч лет.
Об окончании ледникового периода мы можем, в сущности, говорить
только с тарденуазского времени, когда ледник уходит в глубь сканди-
навских нагорий и за ним отступает к далекому северу растительный и
животный мир тундры, давая место современному лесному ландшафту.
Показателем этих перемен являются условия, в которых обычно встре-
чаются тарденуазские стоянки. К ним мы вернемся несколько ниже.
КАПСИЙСКАЯ СТАДИЯ
Мы вйдели, какое значение имел ледниковый период и созданная им
природная обстановка для первобытного населения в более северных
широтах Европы и Азии, особенно в позднюю пору плейстоцена.
Естественно встает вопрос: какие формы получает материальная куль-
тура первобытного человечества в той части названных материков, которая
не испытывала непосредственного влияния северного оледенения или,
во всяком случае, где это влияние не могло быть особенно значительным?
Нужно сказать, что история первобытного человечества в после-
мустьерское время для стран, расположенных к югу от приледниковой
полосы Евразии, остается до сих пор еще крайне слабо освещенной. Это
объясняется не тем, что здесь отсутствуют или неизвестны соответствующие
памятники^, так как в особенности для территории, лежащей вокруг
Средиземного моря, имеется много находок, относящихся к эпохе верх-
него палеолита. К сожален'йю, они исследованы пока слишком недоста-
точно для того, чтобы можно было составить ясное представление о ходе
развития первобытных общественных образований в соответствующих
щ/иротах.
Не приходится все же отрицать, что в южной Европе, северной Африке
н смежной части Азии в течение всего верхнего палеолита материальная
культура — в особенности использование камня для производственных
целей — носит своеобразный характер, во всяком случае отличающийся
от того, что мы видели в стоянках более северных областей Европы и
Азии.
Наблюдения Ж. Морганд, Капитана, Боди и других французских
исследователей в северной Африке, работы Л. Сирэ в южной Испании
и многие другие наблюдения того же характера дают основание думать,
что в области Средиземноморья, то есть в Испании, Италии, затем Алжире,
Тунисе, как и вообще по всему побережью Африки, а равным образом
в Сирии нельзя искать те последовательные фазы или эпохи верхнего
палеолита, которые могут быть установлены для всей приледниковой
полосы Европы. Если территория Европы от Пиреней и берегов Атланти-
ческого океана до Днепра и Дона обнаруживает определенную после-
довательность в смене типов ориньяка, солютре, мадлена и азиля, —для
южных окраин Европы развитие культуры палеолита, видимо, не уклады-
вается в обычные, общепринятые рамки археологических стадий. По мне-
нию некоторых, особенно французских авторов, к югу от Альп и Пиреней,
КАПСИИСКАЯ СТАДИЯ
«11
изменение инвентаря орудий из камня в эпоху верхнего палеолита шло
по совершенно иному пути.
«Атлантическая провинция» Брейля, в том смысле как он ее пони-
мает, является, конечно, чистой фикцией, плодом фантазии Брейля и его
последователей.
Мы уже видели, что в раннюю пору верхнего палеолита — ориньяко-
солютрейское время — на протяжении всей Европы получает распростра-
нение весьма однотипная культура, которая на востоке Европы, судя по
нашим раскопкам в Костенках, обнаруживает черты значительно более
высокого расцвета, чем это было на западе в соответствующее время.
Столь же мало реальным было бы выделение для европейских памятни-
ков азильского времени какой то особой «Атлантической провинции»
с границами до Польши (!?).
Однако, Брейль имел известное основание говорить относительно на-
мечающегося в верхнем палеолите различия в типах памятников при-
ледниковой полосы Европы и области Средиземья, особенно заметного
в эпоху мадлена.
Это различие материальных
форм культуры более северных
и южных областей хорошо ри-
суется, например, находками в
северной Африке.
Что касается более древних
эпох палеолита — соответ-
ствующие памятники предста-
влены в северной Африке боль-
шим количеством находок, из-
вестных на всем берберском
побережье так называемой Ма-
лой Африки, главным обра-
зом, в Тунисе и Алжире.
Однако разграничение соб-
ственно шелльско-ашёльских
Местопахо-
ждения
е «рубилами»
Рис. 295. Каменные орудия в виде грубых
наконечников, характерные для стоянок типа
С'баикийа.
(По Обермайеру)
местонахождений и охотничьих лаге-
рей позднего ашёля здесь пока провести было бы затруднительно. Ру-
била «древнепалеолитических» типов в этой части Африки составляют
обычное явление и часто встречаются поодиночке и целыми группами
на поверхности почвы, вымываемые дождями или выдуваемые ветром. Но
в ряде мест они известны и in situ, в древних наносах, в сопровождении
характерной фауны, указывающей на ранний возраст этих отложений.
В виде примера- можно указать отложения озера Карар в провинции
Оран, открытые Жантилем в 90-х годах и описанные М. Булем, где ору-
дия ашёльских типов — крупные'рубила и небольшие инструменты,
тонко отделанные двусторонней обтеской, и орудия, изготовленные из ско-
лов, напоминающие мустьерские изделия, залегают в древних береговых
галечниках вместе с костями слонов, носорогов, гиппопотамов, верблю-
дов, жирафов, лошадей или зебр, антилоп, пещерных гиен и пр.
Подобные находки отмечены также в восточной, центральной и запад-
ной Африке и прослеживаются до крайней южной оконечности мате-
рика, где они имеются, например, в древних террасах р. Вааля.
Местонахождения с ручными рубилами в северной Африке сменяются
позднемустьерскими стоянками, связанными часто с пещерными отложе-
ниями, с хорошо выраженной стратиграфией (грот Троглодитов, Айн-
эль-Турк и др.) и фауной того же характера, что и в указанных выше
«12
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АВПЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
Стоникн
атерийекоги
тики
Тип
С’оаикииа
Рис. 296. Изменение Формы кремневого острия
в капсийски^ стоянках северной Африки.
• (От" более ранних к поздним)
стоянках типа озера Карар, в которой, как и в мустьерских стоянках
южного побережья Европы, затем Сирии и Палестины, обращает на
себя внимание присутствие гиппопотама.
На Льежской сессии Международного Антропологического института
в 1921 г. один из видных исследователей палеолитических местонахожде-
ний северной Африки Рейгасс (Retgasse) набросал интересную схему
истории палеолитической культуры этого района. 1
Если оставить в стороне стоянки с обычными мустьерскими наход-
ками, более своеобразную группу памятников здесь составляют стоянки
так называемого атерийского типа, содержащие наряду с мустьерскими
некоторые новые ви-
ды изделий — массив-
ные резцы, нуклевид-
ные скребки, острия,
изготовленные из уд-
линенных пластинок
(тип граветт), но в осо-
бенности кремневые на-
конечники с черенком—
вид орудий, выработав-
шийся из настоящего
мустьерского остроко-
нечника* (рис. 294).
Стратиграфические ус-
ловия не оставляют со-
мнений во времени, к
которому должны быть
отнесены подобные на-
ходки.
Рядом со стоянками
« эволюционировавшего
мустье» в той же лучше
исследованной провин-
ции Константина суще-
ствуют другие местона-
хождения—типа С’баи-
кийа, представленные
небольшими двусторон-
не обработанными ору-
диями, которые, по мне-
нию Рейгасса, являются
значительно усовершенствованными формами ашёльских рубил. Этого
рода орудия, состоящие почти исключительно из одних листовидных
наконечников, несколько напоминающих ранние, грубо сделанные нако-
нечники солютрейских стоянок Европы (Венгрия, Польша), встречаются
в северной Африке всегда в поверхностном залегании без остатков фауны
и следов кострищ, хотя и не содержат, по словам Рейгасса, примеси таких
изделий, которые доказывали бы их позднее происхождение (рис. 295).
Стоянки типа С’баикийа рассматриваются многими западноевропей-
скими исследователями как близкие по времени и сходные по характеру
изделий с европейскими стоянками типа микок. Так смотрит, в частности,
1 «Рейне anthropologique», 1921, А? 9—12, стр. 359.
(ИЗ
КАПСИИСКАЯ СТАДИЯ
например, Овермайер. 1 Кажется, что такое утверждение не имеет под
собой достаточно твердой почвы, поскольку, прежде всего, ни одна из
подобных стоянок не открыта в определенных, ясных стратиграфических
условиях. Нужно напомнить, что местонахождения того же характера
известны и на восточном побережье Средиземного моря, например
в Палестине, в окрестностях Иерусалима — в Sur-Baher, Tell-en-Nasbeh.
затем близ Д{айфы и в других местах. 2 Описывая эти интересные
находки, автор настоящего труда указывал в свое время (1914), 3
что встречающиеся здесь кремни, на первый взгляд поражающие своим
однообразием, в действительности вовсе не представляют собой одного
вида орудия. Присутствие «среди них таких типов орудий, как так на-
зываемый pic и грубые маленькие топорики,— то есть видов изделий,
чуждых палеолиту, — заставляет думать о сравнительно позднем, ве-
роятно, даже послепалеолитическом времени подобных стоянок. Это
согласуется с их постоянным залеганием в поверхностных отложениях
почвы.
Возвращаясь к стоянкам бесспорно древним (атерийскпй тип), мы
можем сделать вывод, что на южном берегу Средиземного моря мустьер-
ская техника удерживается достаточно долго, вероятно значительно
дольше, чем в Европе, претерпевая вместе с тем существенные изменения.
Только позже на смену подобным стоянкам в Тунисе, Алжире и со-
седних областях северной Африки появляются стоянки с инвентарем
хорошо выраженноп} верхнепалеолитического характера и новыми прие-
мами обработки кремня. В них складывается набор орудий, типичный
для начальной поры верхнего палеолита, хотя и довольно бедный. По-
добные находки особенно хорошо представлены в южной Константине.
По словам Брейля, стоянки этого типа в Тунисе с большими правиль-
ными пластинами, часто превращенными в концевые скребки или в еще
несовершенные резцы, с остриями, напоминающими острия шательпер-
рон европейских стоянок, обнаруживают значительное сходство с ранне-
ориньякскими местонахождениями западной Европы. Высокая техника
раскалывания и тонкая отделка орудий, в частности ножевидных острий,
свидетельствуют все же скорее о несколько более позднем их времени
по сравнению с соответствующими стоянками Европы. Это время обычно
обозначается термином древнекапсийской эпохи.
Относительно очень рано в среде капсийского населения северной
Африки появляются такие навыки в использовании кремня, которые
н более северной Евразии получают распространение лишь в гораздо
более позднее время, в конце палеолита. Техника расщепления кремня
значительно совершенствуется. В первичной обработке этого материала
начинает применяться отжим, что ведет к большей правильности полу-
чаемых таким способом кремневых пластинок. Наряду с этим большое
значение приобретает прием рассечения пластинки на мелкие части, ко-
торые используются для выделки вставок, так называемых геометри-
ческих микролитов, применявшихся для наконечников стрел, может
Верхний
палеолит
1 Н. Oberniaier und Р. Wernert, Alt-paldolilhikum mil Blattypen, «Mitt, der Anthrop.
Ges. in Wien», 1929, LIX, стр. 293.
- 1. Germer-Durand, Un Musee Palestinien, стр. 7—8.
3 П. Ефименко, К вопросу о стадиях каменного века в Палестине, «Ежег. Русск.
Антроп. О-ва», пг. V, 191», стр. 87. Байер, совершенно правильно отмечая отсутствие
стратиграфии для находок типа С’баикийа в северной Африке, почему-то все же счи-
тает возможным относить их к «протосолютрейской» эпохе. «Eiszeit und Urgeschichte»,
Bd. VII, H. 1—2, стр. 1.
<>Н ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
быть даже в виде лезвий дротиков и копий, также в виде бородок гарпу-
нов и для изготовления повседневных производственных орудий.
Скоплении В окрестностях Gafsa в Тунисе, где подобные остатки известны оди-
риковии наково в скальных убежищах и на местах обширных скоплений раковин
съедобных улиток (escargotiers), удается проследить постепенное изме-
нение кремневого инвентаря от типов раннекапсийской эпохи к орудиям
малых размеров и характерных геометрических очертаний позднекапсий-
скоро времени. Здесь еще отсутствуют керамика и остатки домашних жи-
вотных. Однако в некоторых пещерных стоянках Константины можно
видеть, что некоторые типы микролитических изделий удерживаются
вплоть до эпохи неолитических поселений с полированными каменными
топорами, керамикой, остатками домашних животных и пр. Стоянки
этого последнего типа особенно многочисленны в области северной Са-
хары, где в эту'эпоху в связи, очевидно, с большим количеством осадков,
условия существования были несравненно более благоприятны, чем в на-
стоящее время.
Скопления раковин в виде холмов, занимающих площадь до 1000
и больше квадратных метров и высотой до 5 м, имеются по всему бер-
берскому побережью, но в большем числе встречаются в провинции
Константина, где, например, в окрестностях Тебессы (восточная Констан-
тина) известно свыше 90 таких скоплений, состоящих из раковин на-
земных моллюсков, главным образом рода Helix. Остатки охотничьей
добычи, кости оленей, газелей, антилоп, лошадей или зебр, быков, муфло-
нов, также слонов и носорогов находятся в них в значительно меньшем
количестве. Среди подобных кухонных отбросов (кьеккенмеддингов) не-
редки находки скорлупы яиц страуса, часто носящих следы действия
огня, что, видимо, указывает на их употребление в качестве сосудов
для приготовления пищи.
Одним из наиболее известных памятников этого характера является
El Loubira, рде обширное раковинное скопление в виде холма в 200 м
длиной и 50 м шириной содержит места кострищ, сопровождающиеся
многочисленным кремневым инвентарем древнекапсийского облика — ост-
риями типа шательперрон и граветт, нуклевидными скребками и пр.
Здесь же встречаются простейшие изделия из кости — шилья из осколков
кости с отполированным жалом, гладилки, грубые иглы, затем просвер-
ленные раковины, служившие в виде украшений, и обломки страусовых
яиц, иногда украшенные несложным узором в виде точек, зигзагов и т. п. 1
Имеются и находки красной минеральной краски, которая повсюду
сопровождает стоянки верхнего палеолита.
В других скоплениях, например Bir en N’Sa, встречается позднекап-
сийский каменный инвентарь, переходящий затем в типичный инвентарь
геометрических микролитов. Остатки того же характера, как сообщает
Овермайер, происходят частб и из пещер, и навесов, например El Mechta
и Redeyef близ Гафсы и др.
Гроты Памятники, по своему характеру близкие к капсийским стоянкам
Ментоны Алжира и Туниса, известны по всему Средиземью. В этом отношении
большой интерес представляют известные гроты Ментоны, где в нижних
слоях, как мы уже говорили, встречается кремневый инвентарь раннего
ориньякского облика, сопровождающийся типичными для западноевро-
1 Брейль сообщает, что в некоторых случаях на скорлупе страусовых яиц в стоян-
ках капенйского времени встречаются настоящие изображения, выгравированные или
нанесенные краской. Вместе с тем он отрицает палеолитический возрастопубликован-
ных Кюном скальных рисунков Сахары и северной Африки.
I
КАПСИЙСКАЯ СТАДИЯ
611
пейских стоянок этой поры наконечниками из кости и остатками живот-
ных, среди которых, как и в ориньякских стоянках северной Испании,
удерживается еще последний представитель древней плейстоценовой
фауны — носорог Мерка. Выше этих отложений, как это особенно под-
черкивает Брейль, 1 залегают культурные наслоения с своеобразным
составом находок, в которых орудия поэднеориньякских типов сочета-
ются с маленькими круглыми скребочками азильского характера и мел-
кими геометризированными орудиями. Полная преемственность в напла-
стованиях гротов Ментоны позволяет Брейлю утверждать, что в этом
наборе орудий с его непосредственным переходом от ориньякских форм
изделий к азильским заключается весь цикл развития верхнего палео-
лита, то есть, другими словами, что это развитие имело здесь совершенно
иной характер, чем в более северных районах Европы.
Более или менее сходную картину дают и верхнепалеолитические
стоянки Апеннинского полуострова и Сицилии, где орудия ориньякского
Термини
Имерезе
характера сменяются в более поздних местонахождениях, например
в Термини Имерезе, орудиями позднекапсийского облика с мелкими круг-
лыми и прямоугольными скребочками, пластиночкой в виде «клинка
перочинного ножа», небольшими
остриями с затупленной спин-
кой и собственно геометриче-
скими формами.
Одним из наиболее интерес-
ных и наиболее характерных
местонахождений верхнего па-
леолита в Италии является
грот Романелли на юге полу-
острова, о котором мы упоми-
нали в связи^ с находками в
Романелли
его нижнем слое орудий му- Рнс. 297. Типы орудий из позднекапсийских
стьерского типа. Культурные стоянок Испании.
отложения в гроте Романелли
стали известны еще в Начале нынешнего столетия, но более под-
робно он был изучен сравнительно недавно G. Л. Rlanc’om. Верхние
горизонты грота Романелли дали значительное количество находок, в
отношении которых не может быть сомнения о их верхнепалеолитиче-
ском возрасте. Однако они весьма отличаются от остатков этого вре-
мени на материке Европы. '
Среди орудий из камня здесь имеются обычные резцы, служившие для
обработки кости, затем Скребки, но уже последние подчеркивают неко-
торые особенности в характере встреченного здесь верхнепалеолити-
ческого инвентаря. Многие из них чрезвычайно малы — в 1—1,5 см и
даже меньше, правильной круглой или четырехугольной формы. Далее
идут острия с затупленной спинкой, миниатюрные режущие инструменты,
маленькие кремневые наконечники стрел иногда неправильно листовид-
ной формы, иногда типа с боковой выемкой, как в гротах Гримальди,
и т. д. Имеются и типичные геометрические микролиты — в форме сег-
ментов. Обработанная кость представлена самыми простыми изделиями —
шильями, наконечниками веретенообразной формы и пр.
Фауна здесь уже заметно изменяет свой характер по сравнению с му-
стьерской. Толстокожие в этих слоях грота Романелли вообще не пред-
1 Breuil, Les subdivisions, стр. 218; Vaufrey, Le Paleolithique italien, стр. 108.
616
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
ставлены, но это приходится рассматривать как случайность, так как
в других пещерных стоянках южной Италии со сходными остатками
имеются и мамонт, и сибирский носорог (грот Кардамоне). Общий харак-
тер фауны — это смешение лесных и степных форм: благородный олень,
кабан, рысь, барсук, дикая кошка и, наряду с ними, дикий осел и степ-
ные птицы — дрофа (Otis tarda L.), стрепет (О. tetrax L.) и др.
•Стоянки на открытом воздухе и пещерные поселения с тем же инвен-
тарем — маленькими кремневыми наконечниками стрел, геометрическими
микролитами, круглыми скребочками и т. д. — прослеживаются по всему
полуострову, позволяя выделить территорию Италии в область распро-
странения капсийской культуры.
Пепавия В Испании, если исключить ее северо-западный угол, район Кантабр,
где наслоения пещерных поселений дают ту же последовательность в смене
эпох палеолита, что и соседние области южной Франции, изменение
типов кремневого инвентаря, начиная со среднего палеолита, довольно
близко напоминает то, что мы видели в северной Африке. Здесь уже в му-
стьерских горизонтах древних террас р. Мансанареса в окрестностях
Мадрида, как сообщает Обермайер, 1 начинают встречаться наряду с му-
стьерскими формами хорошо сделанные удлиненные пластинки и изго-
товленные из них орудия, напоминающие изделия верхнего палеолита.
Отсюда Обермайер, горячий сторонник всевозможных миграций и пере-
крещивающихся культур, делает вывод, что вместе с ашёльской и при-
митивной мустьерской «индустрией» в южной и центральной Испании
одновременно с ними получает распространение особая «прекапсийская»
индустрия (или культура), двигавшаяся из северной Африки. В после-
дующую эпоху на территории южной Испании появляются стоянки с ору-
диями раннекапсийских типов, известные, например, по ряду пещерных
местонахождений округа Альмерии, исследованных Л. Сирэ и указываю-
щих, по утверждению Обермайера, на новые волны переселений, шедшие
через'Гибралтарский пролив. Это время сменяется позднекапсийской
эпохой, представленной многочисленными стоянками в южной и восточ-
ной частях полуострова, с характерными мелкими орудьицами из сечений
кремневых пластинок, главным образом в форме трапеций и треуголь-
ников.
Что позднекапсийский инвентарь, удерживающийся на берегах Сре-
диземного моря вплоть до конца палеолитического времени и возникно-
вения поселений неолитической эпохи, нельзя рассматривать как чисто
местный вариант техники обработки кремня, сложившийся в западном
Средиземье, что он имеет очень широкое распространение в тех же усло-
виях значительно- далее к востоку, — показывают находки, сделанные в
пещерах Крыма и Закавказья.
ПЕЩЕРНЫЕ СТОЯНКИ КАВКАЗА И КРЫМА
В отношении Закавказья у нас имеются сведения о палеолитических
местонахождениях Имеретии, открытых еще в 1914 г. Р. Р. Шмидтом.
Несколько позже, во время империалистической войны, исследование
этих местонахождений было продолжено С. А. Круковским. А с 1926—
1928 гг. изучение палеолитических памятников Грузии начато Г. К. Ни-
орадзе, опубликовавшим обстоятельный отчет о своих раскопках в пе-
щере Девис-Хврели.
1 Obermaier, Fossil man in Spain, стр. 201.
ПЕЩЕРНЫЕ СТОЯНКИ КАВКАЗА И КРЫМА
617
По мнению С. Н. Замятнина, пещерные стоянки Имеретии, располо-
женные по верхнему течению р. Риона и его притокам в окрестностях
Кутаиса, Ргани и Харагоули, могут быть разделены на три группы па-
мятников, которые в совокупности обнимают весь верхний палеолит от
ориньякской до азильской эпохи.1
Древнейшая пора верхнего палеолита в этом районе представлена
пещерой Хергулис, или Гельгулис-клдэ, у с. Вачеви и Таро-клдэ у с. Шу-
крути,^обе в окрестностях Чиатур, о которых мы уже упоминали выше.
Характерной чертой названных стоянок,' по сведениям, сообщенным
С. Н. Замятниным, является присутствие кремневых орудий, сохраняю-
щих еще мустьерский облик. К ним относятся небольшие двусторонне
обтесанные кремни, треугольные мустьерские пластины и довольно типич-
ные остроконечники и скребла, сопровождающиеся, однако, инвентарем,
обнаруживающим все признаки верхнепалеолитической техники — нукле-
видными инструментами типа рабо, массивными резцами, концевыми скреб-
ками и пластиночками со стесанным краем. В Таро-клдэ, где этот инвен-
тарь имеет несколько более поздний характер и где примесь мустьерских
форм менее значительна, были сделаны находки обработанной кости в виде
наконечников из этого материала. В пещере Хергулис-клдэ из остатков
животных могли быть определены кости медведя, дикой лошади, быка.
Стоянки этого древнейшего типа известны лишь по небольшим раскопкам
С. А. Круковского. Для более северной территории европейской части
Союза они имеют аналогию пока лишь в находках, сделанных в Сюрени I
в Крыму.
К более поздней поре верхнего палеолита, наиболее хорошо предста-
вленной в настоящее время в пещерных памятниках Грузии, относятся
пещеры Уварова, Барташвили и пещера Вирхова, исследованные
Р. Р. Шмидтом и Л. Козловским в 1914 г. К сожалению, результаты этих
раскопок остались неопубликованными вследствие начавшейся войны.
К той же группе палеолитических местонахождений Имеретии принадле-
жит и пещера Девис-Хврели близ Харагоули, открытая Г К. Ниорадзе.
Пещера Девис-Хврели, описанная Ниорадзе в двух его работах,2 нахо-
дится в западной Грузии в Шаропанском районе в 4 км от станции Хараго-
ули, на правой стороне горной речки Чхеримелы, в глубоком ущелье, про-
резанном ею в известняковом массиве. Расположенная на значительной
высоте над уровнем реки (80,м), почти у края возвышенности, в противо-
положность обычным обитаемым гротам она имеет вид коридорообразного
достаточно узкого помещения (ширина у входа — 4,5 м), тянущегося
вглубь па 25 м и переходящего далее в водоток, ныне иссякший, которому
обязана пещера своим происхождением.
Культурные остатки-залегают под верхним черным наносным слоем
и бурым слоем, на небольшой глубине, выше покрывающих дно пещеры
глинистых отложений. Определение костей животных, произведенное
В. И. Громовой и М. В. Павловой, устанавливает наличие кабана, пещер-
ного и бурого медведей, благородного оленя, быка {Bos sp.), северного
оленя (?), видимо также дагестанского тура {Capra cylindricornis), серны
{Rupicapra rupicapra), косули {Capreolus sp.) и некоторых других.
Материалом для изготовления орудий здесь служил местный турон-
ский кремень преимущественно розоватой, красноватой, реже серой
1 С. Н. Замятнин, Новые данные по палеолиту Закавказья, «Сов. Этил, 1935, в. 2,
стр. 116.
2 G. Nioradze, Der paldolithiker in derHohle Dewiss-Chti'reli, Tiflis, 1933; Г К. Нио-
радзе, Палеолит Грузии, «Труды II межд. конф. АИЧПЕ<> в. V, 1934, стр. 219.
Три групп).»
II il мятников,
верхнего
палеолита:
Древнейшая
Нойсе
пойди ня
«18
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
окраски. Изредка встречается и обсидиан, отсутствующий в этом районе
и, очевидно, принесенный откуда-то издалека, возможно даже из Арме-
нии. Из большого количества обработанного кремня значительную часть
составляют нуклеусы (около 200), затем отщепы и просто отброс произ-
I водства, получавшийся при первичной обтеске кремневых желваков и при
изготовлении орудий. Далее идут пластинки обычного верхнепалеолити-
ческого характера, резцы различных видов, некоторое количество нукле-
видных орудий, скребки, как концевые на удлиненных пластинках, так
и укороченные на отщепах. Последние иногда переходят в округлые скре-
бочки с подправкой почти всего края. Кроме того, имеются пластинки
с рабочим концом в виде скошенного острия; попадаются и настоящие
проколкй с очень тонким жальцем. Значительную численно группу со-
ставляют пластиночки со стесанной спинкой в двух разновидностях —
одной, хорошо известной по позднепалеолитическим местонахождениям
Европы, другой своеобразной, преимущественно свойственной палеолиту
Закавказья — лишь с частичной подправкой затупливающей ретушью
верхнего края пластинки.
Особенно интересно присутствие в этом инвентаре настоящих микро-
литов — небольших орудьиц сегментовидной формы, того, что составляет
характерную особенность азильско-тарденуазских стоянок Европы. Лишь
в области капсийской культуры Средиземья эти орудьица встречаются
в стоянках более раннего времени верхнего палеолита.
Из немногочисленных орудий из кости одно — отрезок отростка
оленьего рога, — видимо, использовалось в качестве отжимника, осталь-
ные же представляют простейшие острия или шилья. Нельзя не отметить
достаточно редкую в палеолитических поселениях находку в культурных
слоях пещеры костей самого человека — в виде обломка нижней челюсти.
Таким образом, Девис-Хврели, как и другие стоянки этой группы,
содержат кремневый инвентарь, довольно близкий к первому типу, но
уже без примеси орудий, выполненных мустьерскими приемами обработки
камня. Здесь ещё встречаются нуклевидные орудия, но особенно много
мелких правильных пластинок и острий с заретушированным краем,
среди которых появляются уже настоящие микролитические формы.
Нужно думать, что такой же характер будет иметь инвентарь до сих
пор еще не обнаруженных стоянок Крыма, которые свяжут «ориньякские»
слои Сюрени I с азильскими горизонтами пещер типа Сюрени II, Шан-
Кобы, Фатьмы-Кобы и т. д.
Позднейшая К третьему, позднейшему типу пещерных поселений Имеретии отно-
группа сится пещера Гварджилас-клдэ близ Ргани, раскопанная С. А. Круков-
намятииков ским в 1916 г. Этд пещера довольно обстоятельно описана Круковским
в отношении топографии и характера напластований, добытый же им мате-
риал до сих пор остается неопубликованным, разделяя в этом смысле
судьбу большинства других местонахождений Закавказья. В Гварджилас-
клдэ уже исчезают нуклевидные орудия, резцы становятся редкими.
Главную массу орудий составляют пластиночки со стесанным краем it
обычные для позднекапсийских стоянок треугольные микролитические
острия («геометрические» микролиты). Интересны небольшие грубо обби-
тые кремневые топорики,’ которые в Европе появляются кое-где в стоян-
ках азильско-траденуазской эпохи. В отношении изделий из кости заслу-
живает внимания находка гарпуна азильского облика и некоторых дру-
гих орудий простейших типов (шилья, игла и пр.). 1
1 Стефан Круковский, Пещера Гварджилас-клдэ в Ргани, «Изе. Кавк, музея», 1916,
т. X, в. 3, стр. 253; Замятнин, ук. соч.. Стр. 118.
ПЕЩЕРНЫЕ СТОЯНКИ КАВКАЗА И КРЫМА
619
f Таким образом, пещерные местонахождения Закавказья позволяют
довольно полно, по крайней мере в отношении обработки кремня, вос-
становить картину изменений, имевших место от более ранней эпохи,
где живы еще традиции мустьерской техники, и до позднейшего времени,
близкого к описанной раннеазильской поре европейских стоянок. Осо-
бенностью этого кремневого производства во всех пещерах Имеретии
является некоторое однообразие, простота типов и форм каменных ору-
дий, что вместе с почти полным отсутствием иных находок — изделий
из кости и рога, предметов искусства и т. д. •— в определенных чертах
рисует стрбй материальной культуры в эту эпоху.
Ту же картину, что и пещеры Закавказья, судя по сборам К. С. Мереж-
ковского и новейшим исследованиям Г. А. Бонч-Осмоловского иС. Н. Би-
викова, дают пещерные стоянки горного Крыма. Первой группе пег
щер Закавказья здесь отвечает нижний слой пещеры Сюрень 1, где еще
встречаются орудия мустьерских типов, хотя находки в целом, как мы
уже видели, носят характер довольно типичного инвентаря более ран-
него ориньяка.
В верхнем слое той же пещеры кремневые изделия приобретают не-
сколько иной облик: мустьерские остроконечники и двусторонне обра-
ботанные формы исчезают, в то же время становятся редкими нуклевид-
ные орудия, составлявшие главную массу находок в нижнем слое. Далее
следует целый ряд пещер — Сюрень II, Черкес-Кермен, Шан-Коба, Фатьма-
Коба, Кукрек и другие, которые содержат остатки позднепалеолитических
поселений,— где можно видеть, как довольно бедный инвентарь азильского
характера в позднейших наслоениях этих пещер переходит в типичный
инвентарь геометрических микролитов ранней тарденуазской поры.
В нижних, азильских слоях грота Шан-Коба, как и вСюрениП, 1 где
при раскопках собрано значительное количество обработанного кремня, по-
являются уже хорошо ограненные конусовидные и призматические ну-
клеусы и правильные, с параллельным огранением пластинки. Затем здесь
встречаются острия с затупленной спинкой, типа lame de canif, скребочкп
укороченных пропорций и округлые, первые маленькие наконечники
стрел, многочисленные сегментовидные, треугольные, позже трапециевид-
ные орудьица-вставки. Эти последние, «геометрические» формы соста-
вляли лишь часть каких-то более сложных орудий из дерева и кости,
для которых они служили рабочим оснащением — наконечником или
режущим лезвием. Обработанная кость составляет здесь редкое
явление.
Фауна крымских стоянок конца палеолита носит тот же отпечаток
животного мира заболоченных лесных трущоб, что и в азильских стоянках
Европы — в сочетании со степными видами. В ней исчезают типичные
северные формы, но в общем онй еще сохраняет свой плейстоценовый
облик.
Она представлена остатками дикого кабана (Sus scrofa), благород-
ного оленя, оленя мегацероса (Cervus megaceros), сайги, дикого осла, ло-
шади, бобра, бурого медведя, рыси, барсука и других животных. 2 В Сю-
рени II обнаружено присутствие пещерного льва.
В слоях пещер этого времени в большом числе начинают попадаться
остатки съедобных улиток (Helix), целые скопления которых обнаружены
С. Н. Бивиковым в отложениях грота Шан-Коба.
Крым
Шан-Коба
1 Бонч-Осмоловский, Итоги изучения крымского палеолита, стр. 157.
2 Там же, стр. 129 и сводная таблица.
620
Раститель-
ность
Остатки
погребений
Условия
существова-
ния капсий-
цев
Кьеккеннед-
дннги
Португалии
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
'Как мы виделп в главе II, древесная растительность в азильских посе-
лениях Крыма еще мало отличается от более ранней, известной по ее на-
ходкам в «ориньякских» отложениях Сюрени I. Остатки углей свидетель-
ствуют о распространении в это время в предгорьях Крыма лесов умерен-
ной зоны из осины, рябины, крушины, березы и ивы. 1
В виду редкости человеческих остатков палеолитического времени на
территории восточной Европы, интересно отметить находку в Фатьма-
Коба погребения с хорошо сохранившимся человеческим скелетом в ха-
рактерном скорченном положении, свойственном обычно палеолитиче-
ским захоронениям. Правда, оно относится уже к более позднему, тар-
денуазскому времени. 2
Таким образом, и в Крыму, ив Закавказье, как и во всем Средиземье,
мы не встречаем и следа тех поселений эпохи позднего палеолита с их ско-
плениями трофеев охоты, которые в своих сменяющихся типах ориньяко-
солютрейской и мадленской поры придают такой своеобразный характер
стоянкам охотничьих орд приледниковых областей Европы. Если охота
и здесь в позднеледниковое время занимает достаточно важное место
в жизни первобытных обитателей пещер, она, видимо, все же не имеет
такого исключительного значения, как в более северных широтах, —
вероятно потому, что она могла быть широко дополняема собиранием
растительной пищи, ягод, плодов, орехов, также как съедобных моллю-
сков, мелких животных, черепах, различных личинок, меда диких пчел
и т. п.
Что подобные источники существования могли действительно играть
значительную роль в эту эпоху в жизни первобытного населения южных
окраин Европы — показывают условия жизни многих современных перво-
бытных обитателей тропических и субтропических широт. Может быть,
в связи с этим стоит и характер находок в пещерных поселениях Крыма
и Закавказья — весьма простой, несложный набор орудий из кремня,
почти полное отсутствие обработанной кости и т. д. Можно думать, что
и сама охота, ее приемы и средства были здесь иными, чем у охотников
севера Евразии. Ъ этом отношении особенный интерес имеет для нас пе-
щера Сюрень II в Крыму, где были найдены настоящие небольшие крем-
невые наконечники стрел, свидетельствующие о появлении лука.
Из того, что было сказано выше, можно сделать вывод, что первобыт-
ные общества, населявшие область Средиземья в период верхнего палео-
лита, видимо, всюду жили в одинаковой степени как охотой, так и соби-
рательством в самых различных его формах, причем особенно важную
роль в их существовании играло собирание съедобных моллюсков — на-
земных улиток в северной Африке, в южной Франции, в Крыму, в дру-
гих же местах — преимущественно пресноводных или морских видов.
В Мугеме (Mugem) в долине Тахо в Португалии подобные скопления
на местах позднекапсийских поселений образуют, как и в Алжире, целые
холмы, или так называемые кьеккенмеддинги из раковин морских мол-
люсков (Lutraria compressa, Tapes, Cardium, Ostrea, Buccinum, Nucula,
Pecten, Solen). Кьеккенмеддинги Мугема находятся на расстоянии не-
скольких десятков километров от берега моря, которое, очевидно, успело
значительно отступить в последующее время. В этих скоплениях, кроме
костей диких животных — быка, оленя, лошади, кабана и др., встречаются
1 А. Ф. Гаммерман, Результаты изучения четвертичной флоры по остаткам дре-
весного угля, «Труды 11 межд. конф. АИЧПЕ», о. V, стр. 66.
2 Интересное двойное погребение, относящееся к тому же времени, открыто Ба-
биковым в 1936 г. в наслоениях пещеры Мурэак-Коба.
«21
ПЕЩЕРНЫЕ СТОЯНКИ КАВКАЗА И КРЫМА
кости собаки, найденной и в азильско-тарденуазских поселениях Крыма. 1
Ни остатков керамики, ни полированных орудий здесь нет; культурные
«остатки, кроме некоторых простых изделий из кости, состоят из большого
* числа мелких геометризованных кремневых орудий, главным образом
трапециевидной или треугольной формы. В нижних слоях этих отложе-
ний было открыто до двухсот погребений, принадлежащих главным обра-
зом женщинам и детям, в характерном скорченном положении. Интересно,
что Дебрюж отмечает такие же находки в капсийских стоянках восточной
Константины в пещере Джебел-Фартас и в кьеккенмеддингах Мешта-эль-
Арби, где им были открыты (в последнем местонахождении — в 1912 г.)
остатки до 30 погребений детей и подростков и немного погребений взрос-
лых мужчин и женщин, сложенных в виде куч костей.
Кутиль в своем обзоре капсийских стоянок с достаточным основанием
напоминает о том, что скопления раковин известны и в азильских стоян-
ках Европы. По новейшим данным, они имеются не только по северным
окраинам Пиреней — в пещерах Мас д’Азиль, Оронсан и других в южной
Франции, но и в северной Испании, в районе Кантабр, например в пещере
Валле в провинции Сантандер, исследованной в 1909 г. Брейлем и Овер-
майером, где выше мадленского горизонта в слое с типичным азильским
инвентарем, содержащим характерные плоские гарпуны, шилья, лощила
из рога благородного оленя и целый набор мелких кремневых орудий,
часто представляющих настоящие геометрические формы, было найдено
много раковин улиток (Helix). Фауна этой стоянки представлена благород-
ным оленем, серной, лошадью, диким быком, кабаном и другими живот-
ными. Такие же пещерные стоянки с характерными для поздней поры азиля
микролитическими изделиями из кремня и скоплениями раковин морских
моллюсков отмечены и несколько западнее, в провинции Астурии.
Подобные скопления раковин наземных и морских видов в настоящее
время могут быть указаны в азильско-тарденуазских стоянках вдоль
всего Атлантического побережья западной Европы. Во Франции они от-
крыты в различных пунктах — например в бассейне р. Дордони в гроте
Мартинэ, где Л. Кулонж 2 описывает типичные азильско-тарденуазские
напластования с остатками благородного оленя, быка, бобра, кабана и
значительным количеством раковин улиток (Helix nemoralis), затем во
многих скальных убежищах округа Серриер-сюр-Эн 3 к северу от Лиона
(Ла Жениер, Тросэ и др.).
В виде настоящих кьеккенмеддингов из раковин преимущественно
морских видов в последние годы (1928) памятники этого типа стали
известны на полуострове Киберон (департамент Морбиган) в Бретани, по
раскопкам М. иС. Пекар. 4 Кстати, нужно отметить встреченные здесь
замечательные коллективные захоронения, относящиеся к тому же азиль-
ско-тарденуазскому времени. Скопления раковин с орудиями позднеазиль-
ских типов описаны и значительно севернее, в Шотландии, в пещерах
залива Обан и на побережье острова Оронси. ’
1 Как и на Афонтовой и Верхоленской горе собака крымских стоянок предста-
вляет собой волка на первых стадиях одомашнения. А. А. Бируля, П редварителъное
сообщение о хищниках из четвертичных отложений Крыма, «Докл. Акад, наук СССР»,
.V 6, 1930.
2 L. Coulonges, Le gisement prehistorique du Martinet (Lot-et-Garonne), <<Z’Anthropo-
logist, 1928, XXXVIII, 5—6, стр. 435.
3 Азильское поселение Ла Жениер содержит еще остатки северного оленя,
•Е Anthropologie», 1927, Л? 1—2.
1 М. et S. Pequart, Un gisement mesolithique en Bretagne, «Е An thropologie», 1928,
>—6, стр. 479.
a D. A. Garrod, The Upper palaeolithic Age in Britain, Oxford, 1926.
Скопления
раковин
в азильских
сто явках
622
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
Мы уже имели случай указать выше на появление большого коли-
чества раковин улиток (Helix) в верхних, особенно тарденуазских слоях
пещерных поселений Крыма.
Такие факты говорят о более или менее одинаковых условиях суще-
ствования, складывающихся для групп первобытного населения к концу
палеолита одинаково в южных и в северных частях нашего материка,
что делает понятным широкое распространение в эту эпоху на всем про-
странстве от Англии и берегов Балтийского моря до степей Средней Азии
стоянок, которые во многих отношениях обнаруживают чрезвычайно
большое сходство с позднекапсийскими поселениями Средиземья.
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
В 70—80-х годах прошлого столетия сложилось мнение, что между
эпохой охотничьих становищ палеолита и временем возникновения нео-
литических поселений с их совершенно иным культурным укладом имеется
разрыв (hiatus), в продолжение которого если не вся, то значительная
часть Европы была почти необитаема, и только гораздо позже пришельцы
откуда-то с юга принесли с собой новые знания, выработанные ими на
своей родине, как гончарство, полирование орудий, жизнь в поселках,
наконец земледелие и скотоводство. 1 Этот разрыв между палеолитом и
неолитом объяснялся тем, что древнее население Европы не могло приспо-
собиться к природной обстановке, созданной современной геологической
эпохой, и должно было частью мигрировать на далекий север Европы’
и Азии, частью вымереть или влачить убогое существование на местах
своих прежних поселений. Открытия, сделанные в ряде пещер южной
Франции, которые привели к установлению турасской, или азильской,
эпохи, позволили заполнить этот разрыв, однако они не освободили запад-
ноевропейскую археологию от представления о широких переселениях юж-
ных племен, принесших с собой в Европу культуру неолита.
Кажется мало вероятным, как справедливо указывает Дешелетт, 2
чтобы новые условия, явившиеся вместе с современной эпохой, которые
были связаны с значительным смягчением климатического режима в се-
верном полушарии, могли привести, хотя бы на время, к запустению
Европы. Наоборот, все свидетельствует в пользу того, что они скорее
создавали благоприятную обстановку для заселения ранее необитаемых
пространств нашего материка и усиленного роста его населения.
Едва ли нужно напоминать, говорит Дешелетт, насколько неправдо-
подобно выселение мадленских племен в северные области. Непонятно,
как смягчецие температуры могло изгнать человеческие группы из привыч-
ных им территорий и почему они могли предпочесть благоприятным кли-
матическим условиЯ1М холод и долгие зимы северных стран. Нас не может
удовлетворить объяснение, что племена мадленцев, оставшиеся на своей
родине, должны были погибнуть в то время, когда пространства, которые
они занимали, стали особенно плодородными. Исчезновение северного
оленя, главной добычи этих охотников, не может объяснить это пересе-
ление, принимая во внимание •обилие других животных — благородного
оленя, косули, кабана.
Конечно, Дешелетт прав в основном своем утверждении: в отрицании
разрыва между палеолитом и неолитом, являющимися лишь стадиями
1 «Bull, de la Soc. d’anthrop. de Paris», t. VI, 1895, стр. 235.
2 Dechelette, Manuel d'archeol. prehist., 1908, стр. 309.
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
623
развития того же первобытного общества. Все же едва ли можно
омневаться, что мадленские, как и азильские первобытные общины
щлжны были действительно расселяться и на север, в области, ранее
занятые ледниками, где они сохранили в течение долгого времени мно-
гие древние черты охотничьего хозяйственно-бытового уклада (как, на-
пример, эскимосы).
*Эпохе, следующей за мадленом, западноевропейскими учеными часто «Мезолит»
присваивается название мезолита, мезолитической эпохи. Этот термин,
предложенный еще Арчибальдом Карлейлем для некоторых стоя-
нок центральной Индии, был принят Ж. де Морганом, который дает
понятию «мезолит» («среднекаменная» пора) в культурном и хронологи-
ческом смысле очень широкие рамки. Он считает возможным включать
сюда все разнообразие культур, начиная от стоянок времени азиля и
кончая памятниками, от-
носящимися к раннему
палеолиту — поселениями
кампинийской стадии и
кьеккенмеддингами Дании.
Термин «мезолит» в
этом употреблении доволь-
но прочно держится в
археологических трудах,
выходящих в западной
Европе. Однако некоторые
ученые законно оспари-
вают возможность объе-
динения позднекапсий-
•ских, азильских и тарде-
нуазских стоянок южной
и средней Европы, а так-
же стоянок типа маглемозе
Рис. 298. Человеческие черепа из культового захоро-
нении их в азильских отложениях пещеры Офнст.
Налево, внизу, вокруг черепа положено ожерелье
из оленьих зубов.
балтийского бассейна (яв-
ляющихся как продолже-
нием палеолитической ста-
дии в условиях геологи-
ческой современности) и
поселений вроде кьеккенмеддингов Астурии и кухонных куч Дании.
Относительно высокая ступень культурного развития, соответствующая
этим последним памятникам, их своеобразный «макролитпческий» инвен-
тарь явно указывает на начальное время следующей — неолитической
стадии. Такую точку зрения в основном нельзя не считать правильной.
Нужно сказать все же, что она основывается в значительной степени
на типологических признаках, тогда как условия сложения новых
форм материального строя жизни первобытного общества на рубеже
неолитической эпохи остаются в трудах западноевропейских исследова-
телей совершенно необъясненными.
Природные условия, складывающиеся в конце эпипалеолита, 1 наи-
более отчетливо выявляются в заселении человеком песчаных надпой-
менных террас рек и озер. Время образования этих террас, то есть время
отложения слагающих их речных наносов, с достаточным основанием
Заселение
дюн
1 В обычном словоупотреблении термин «эпипалеолит» означает время, относя-
щееся к началу современного геологического периода, когда в облике культуры перво-
бытного населения Европы сохраняются старые палеолитические черты.
, ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
относится геологами к периоду отступания вюрмского оледенения. Мы
можем сказать более определенно, что нижние надпойменные террасы
Днепра и его притоков увязываются с той фазой угасания вюрмского
оледенения, которая обычно носит название балтийской стадии.
Последнее, как мы видели раньше, вполне убедительно доказывается
тем фактом, что нижняя надпойменная терраса в районе Орши переходит
в зандровые поля, окаймляющие конечную морену балтийского оледене-
ния. Если мы учтем, что нижняя терраса состоит из двух уровней — верх-
него уровня, несущего лёсс, и нижнего песчаного, борового,—а затем то,
что седиментация террасы верхнего уровня, как показывают соответ-
ствующие находки на Украине в бассейне Днепра, начинается в мадлен-
ское время н завершается в азиле (так как и Журавка, и Кирилловская
стоянка, и стоянки Днепростроя — их верхние азильские горизонты —
залегают под лёссом в верхних слоях аллюви&льно-делювиальных отло-
жений этой террасы), то из этого следует заключить, что боровая терраса
м^>гла образоваться лишь в азильское время.
В эту эпоху, вероятно, еще затоплявшиеся во время половодий, лишен-
ные растительности и перевеваемые ветрами обширные песчаные про-
странства боровой террасы,—имеющиеся в долинах большинства крупных
рек восточной Европы,— были, очевидно, или недоступны, или мало при-
влекательны для человеческого обитания, так как остатки азильского
времени здесь совершенно неизвестны. Только тогда, когда в связи с об-
щим потеплением и повышением влажности климата террасы эти уже
в конце азиля начинают одеваться растительностью, здесь появляются
первые следы человеческих поселений.
Наблюдения, относящиеся к среднему течению Оки, к Северному
Донцу, Западному Бугу и многим другим, позволяют утверждать, что
первоначальное заселение надпойменных террас все же должно быть при-
урочено к достаточно ранней поре современной эпохи. Действительно,
если почвенный слой, одевающий дюнные холмы речных побережий,
заключает в себе обычно остатки более поздних эпох (от неолита и до на-
стоящего времени), под ним в подпочве встречаются изделия из кремня,
которые несут характерные черты микролитической техники конца палео-
лита, тарденуазской эпохи.
Подобные стоянки, не содержащие ничего, кроме массы расщеплен-
ного кремня и иногда раковин пресноводных моллюсков (Unio, Anodonta),
обычно бывают расположены то на отдельно стоящих буграх среди боло-
тистых низин, то на мысах и гривах песчаных террас, вдоль речной поймы.
Отсутствие других находок в этих стоянках, которые естественно было бы
ожидать на местах древних поселений, — костей животных, изделий из
кости и рога и т. п., — приходится объяснять сравнительно неглубоким
залеганием в песчаном грунте, что должно было благоприятствовать
полному разрушению органических остатков.
Нужно принять во внимание, что образование древних дюн, занимаю-
щих огромные площади на всех песчаных надлуговых террасах в преде-
лах южной Прибалтики и европейской части СССР, требовало вполне опре-
деленных климатических условий. Оно было возможно лишь при нали-
чии еще очень слабо развитого растительного покрова, который в по-
следующее время, при повышении влажности климата, то есть большем
количестве годовых осадков, закрепляет на многие тысячелетия поверх-
ность движущихся песков.
Следует думать, что эти условия, благоприятствовавшие образованию
дюн, складываются для всей восточной Европы приблизительно в одш>
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
«25
время. Это должно было иметь место тогда, когда токи холодного
сухого воздуха, шедшие со стороны отступающего ледника, находив-
шегося в зто время на пути отхода в Скандинавию, создавали на зандро-
вых полях и широких песчаных террасах речных побережий ряды
вытянутых иногда на целые километры дюн материкового типа. Изу-
чение этих дюн в северо-восточной Польше и соседней Литве показы-
вает, что они сформировались под воздействием ветров западного напра-
вления. Их образование продолжалось до того времени, пока развитие
('начала степной, а затем и лесной растительности не остановило, наконец,
перевевания песков.1
Следы давнего заселения дюн древесной растительностью обнаружива-
ются в виде так называемого ортзанда, слоя, насыщенного окислами желе-
за, залегающего непосредственно под одевающим дюны почвенным чехлом.
Места поселений с микролитическим инвентарем известны в настоящее сВИдерск1н
время в очень многих пунктах восточной Европы, начиная от степей при- стадия
каспийской низменности — по течению большинства рек, пересекающих
южнорусскую равнину и лесостепную полосу Украины. Они были опи-
саны нами в статье, опубликованной в 1924 г. 2
В центральной и северной Польше, как и в Литве, древнейшие остатки
человеческой деятельности в виде дюнных поселений представлены так
называемыми хвали-боговицкими, или свидерскими, памятниками — не-
большими приречными стойбищами временного, сезонного характера
с очень интересным и своеобразным кремневым инвентарем. К тому же
свидерскому времени (от стоянки Свпдры Вельке под Варшавой) отно-
сится, как полагает Воеводский, и первое заселение северной, лесной
полосы европейской территории СССР 3
Эпоха древнейших дюнных поселений, следующая непосредственно за'
поздним палеолитическим—азильским временем, хорошо представлена
и в Белоруссии, и в прилегающей к ней территории РСФСР, где
памятники этого типа открыты в значительном числе по Днепру и,
особенно, по Сожу и притокам Десны.4 5 Они прослеживаются и южнее,
на нижнем течении Десны й по среднему Днепру, к которым относятся
еще старые сборы Самоквасова, Якимовичл и др.
Всюду здесь ранний, свидерский, инвентарь дюнных стоянок имеет-
один и тот же характер. Он представлен прекрасно ограненными нуклеу-
сами, хорошо ограненными пластинками правильных форм, получен-
ными отжимной техникой, маленькими резцами срединного и бокового
типа, концевыми и круглыми скребочками, пластиночками с выемками по
краю для оттачивания мелких костяных орудий и пр. Особенно типичны
для этой стадии особые острия с черенками (маленькие наконечники
стрел) — типа, распространенного в стоянках группы лингби. Вообще,
каменный инвентарь свидерских стойбищ является очень близким к по-
следним, что указывает на их одновременность.
1 Вл. Антоневич, Древнейшие остатки человека в северно-восточной Польше
Литве, «Труды межд. конф. АИЧПЕ», в. V, стр. 31.
2 П. П. Ефименко, Мелкие кремневые'орудия геометрических и иных своеобразных
очертаний в русских стоянках ранненеолитического возраста, «Русек. Анпгр. Журн.»,
т. XIII, в. 3—4, 1924, стр. 211.
3 М. В. Воеводский, К вопросу о ранней (свидерской) стадии эпипалеолита ни
территории Восточной Европы, «Труды межд. конф. АИЧПЕтг, в. V, стр. 230.
4 К. М. По.йкарпович, Дагттарычныя стаянк1 сярэдняга i шжняга Сажа, «П рацы
китэдры археолегИ Ин-та белор. культ.», т. I, 1928; Его же статья в изд. «П рацы
археол. камней БАН», т. II, 1930; К. М. Поликарпович, Палеолит и мезолит БССР,
«Труды межд. конф. АИЧПЕ», в. F, стр. 75.
5/е40 П. II. Ефименко. Первобытное общество — 1734
«2С ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
И в тех и в других приходится видеть главным образом сезонные посе-
ления небольших групп бродячих охотников и рыболовов, охотно селив-
шихся на песчаных берегах рек и озер в еще суровой обстановке угасаю-
. щего оледенения. Раскопки в Штельмооре близ Аренсбурга показывают,
что эти племена, жившие по южным окраинам Балтики, еще сохраняли
свой прежний образ жизни, связанный главным образом с охотой на
северных оленей, стада которых должны были отходить к северу по мере
отступания ледника.
Кремп Под влиянием весьма распространенных в кругах западноевропейских
видерских учёных, но совершенно неправильных представлений об одновременности
поселении ТуНдрОвой (дриасовой, иольдиевой) фазы Балтики, отвечающей эпохе от-
ступания Балтийского ледника в пределы Скандинавии, мадленским посе-
лениям Европы — в Польше довольно прочно укрепился взгляд на стоянки
свидерского типа как на памятники, синхроничные последним. В них даже
видят отзвуки ориньякской культуры. Такого взгляда придерживаются
Л. Слвицкий, С. Круковский, В. Антоневич и др. Однако М. В. Воевод-
ский совершенно правильно указывает на бездоказательность подобной
интерпретации инвентаря свидерских стоянок.
Вряд ли свидерские поселения можно даже рассматривать как памят-
ники особенно ранней поры азильского времени. Во всяком случае, типич-
ные азйльские стоянки среднего Днепра, погребенные в мощных толщах
лёсса (азильские слои Кирилловской стоянки покрыты десятиметровым
пластом типичного лёсса), не могут быть отнесены к эпохе более поздней,
чем Балтийское оледенение, когда побережья Балтики были вообще недо-
ступны для обитания. Отсюда естественно сделать вывод, что поселения
стадии лингби и свидерской скорее должны быть отнесены к концу азиль-
ского времени.
Учитывая перемещение ландшафтных поясов к северу по мере угаса-
ния северного оледенения, менее всего, очевидно, приходится думать
о возможности определения одновременности памятников северной и бо-
лее южных областей Европы в этот период на основании таких признаков,
как присутствие в составе находок остатков северного оленя или тунд-
ровой растительности. Тем более, что в аренсбургских находках, относя-
щихся несомненно к эпохе лингби, растительный ландшафт, при наличии
большого количества остатков северного оленя, обнаруживает уже лес-
ной, а не тундровый или степной характер.
Факты, относящиеся к Франции, Англии, Бельгии и другим странам
Европы, подтверждают, что стоянки с характерными микролитическими
изделиями в западной, как и в восточной, Европе обычно бывают свя-
заны с подпочвенным слоем и, таким образом, принадлежат времени,
когда современный почвенный покров едва начинал формироваться. По-
скольку эти стоянки бывают расположены под открытым небом на берегах
рек и озер, часто также в горных районах (Яйла в Крыму, отроги Арденн
в Бельгии и Пеннин в северной Англии), куда первобытные охотники
уходили, вероятно,' на лето, преследуя стада оленей и диких быков,
мы можем заключить, что и природная обстановка в эту эпоху весьма
отличалась от того, что представляла собой Европа в позднеледниковое
время. Остаткй* растительности в нижних слоях торфяников горных
областей западной Европы с своей стороны свидетельствуют о значитель-
ном смягчении природных условий в это начальное время современ-
ной геологической эпохи, приобретающем постепенно, если правильны
наблюдения ботаников, характер настоящего «климатического опти-
мума» (см. стр. 20), после которого, таким образом, климатический
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ «27
решим Европы изменялся скорее в сторону известного ухудше-
ния.
Интересно, что более благоприятные условия имели, повидимому,
место в этот период не только в Европе, но, например, в Сахаре, где
позднекапсийские стоянки встречаются в местностях, представляющих
сейчас безводную, лишенную жизни пустыню. Равным образом открытие
стоянок с микролитическим инвентарем в засушливых районах казахских
и калмыцких степей в Астраханском крае и бывшей Тургайской области
указывает на значительно лучшее их орошение в прежнее время.
Аналогичные данные имеются и в отношении южной Азии, в частности
Индии, где стоянки с весьма характерными микролитическими орудиями
были, например, найдены в окрестностях Джебалпура (центральная
Индия), причем изучавший их ryder обращает внимание на то, что они
занимают южные, в настоящее время совершенно бесплодные склоны
холмов, господствующих над р. Нербудой, тогда как современные селения
располагаются всегда по северным, более затененным склонам.
Поздняя пора эпипалеолита получила название тарденуазской эпохи Тарденуиэ-
от группы местонахождений в окрестностях Фер-ан-Тарденуа в северной скал эпоха
Франции, описанных в 1885—1890 гг. Эм. Татз и Эд. Вьей. Чаще всего
они встречаются нае склонах песчаных холмов, где-нибудь поблизости
водоема или источника, и имеют вид площадок, усеянных отбросами крем-
невого производства, среди которых попадаются маленькие правильные
пластинки и нуклеусы, от которых отделялись эти пластинки, затем
орудия более или менее обычных типов, как скребки и резцы, отличаю-
щиеся лишь небольшой величиной, и масса мелких геометризированных
орудьиц. Последние по большей части имеют вид треугольных или сег-
ментовидных, тонко отретушированных острий, также трапеций с острым
режущим краем, изготовленных из правильных сечений кремневых пла-
стинок и т. п. Становища, содержащие орудьица тех же странных геомет-
ризировапных очертаний, известны во многих других пунктах Франции,
Бельгии, Англии, Германии, вплоть до южной Скандинавии, где стоянки
с инвентарем раннего тарденуазского типа известны, как мы говорили,
под именем культуры Lingby.
На эти странные кремневые изделия необычайно малых размеров , и
своеобразных форм, открытые на огромном пространстве от Индии, Египта,
Алжира, Туниса, Италии, Испании, Крыма (сборы К. С. Мережковского,
относящиеся к 1879—1880 гг.) до Вислы и Немана п стран западной Ев-
ропы, почти одновременно, в начале 90-х годов, обратил внимание ряд
ученых — американец Т. Вильсон, Э. Пьерпон в Бельгии, А. де Мор-
тплье во ФрАнции, Э. Маевский в Польше.
А. де Мортилье в своей работе, опубликованной в 1896 г., на основании
широких сопоставлений приходит т< выводу, во-первых, о значительной
древности стоянок с микролитическими орудиями, во-вторых, о замеча-
тельной их однородности на всем пространстве распространения — в Азии,
Европе и Африке, что позволяет ему рассматривать эти остатки как
памятники одной определенной эпохи. «Несмотря па незначительные мест-
ные различия, которые можно объяснить качеством используемого мате-
риала и большим или меньшим искусством первобытных мастеров, геомет-
ризированные кремневые орудия являются повсюду настолько однотип-
ными, что все они кажутся вызванными одной мыслью, удовлетворяющими
одним потребностям, свидетельствующими об одинаковых навыках. Сход-
ство изделий, имеющих столь определенные, совершенно особенные формы,
тождество приемов их приготовления заставляло родиться в уме многих
*
(128 Г.1 AHA ДВЕНАДЦАТАЯ. AB1I.T BCh'OE ВРЕМЯ
наших коллег идею, что эти вещи должны быть делом какой-то особой
расы, переселения которой могут быть прослежены от Индии до западной
'Европы... Считая мало вероятной возможность приписать одному народу
описанные нами выше находки, можно сказать все же, что они свидетель-
ствуют для различных стран, где они были найдены, об одном и том же
уровне культуры... В чем нельзя сомневаться—это в том, что они пред-
ставляют особую фазу неолитического периода, из которой нетрудно было
бы создать особую легко распознаваемую эпоху, долженствующую за-
'няТь место в начале современности непосредственно перед эпохой поли-
рованного камня». 1
Предположение А. де Мортилье о возможности отнести эти остатки
к поре неолита является, очевидно, необоснованным. Что действительно,
однако, важно,— это то, что А. де Мортилье удалось показать, что микро-
литические кремни представляют не какие-то специальные виды изделий,
как это предполагали многие авторы, видевшие в них то приспособления
в виде крючков или жерлиц для ужения рыбы, то наконечники стрел, то
инструменты, предназначенные для татуирования, и т. д., но всю сово-
купность орудий из кремня этой эпохи, обслуживавших разнообразные
виды труда.
В этом .смысле мнение А. де Мортилье вполне подтверждается всеми
последующими наблюдениями, позволяющими видеть в кремневых изде-
лиях азильских и, в особенности, тарденуазских стоянок крайнее выраже-
ние той тенденции к уменьшению размеров орудий и их своеобразной
геометризации, в связи с использованием для их изготовления правиль-
ных сечений пластинок, которая намечается в значительно более раннюю
пору палеолита в инвентаре некоторых мадленских стоянок Европы и ран-
некапсийских поселений Средиземья.
Услонпи хо- Чем же можно объяснить такое странное направление в развитии крем-
аяйствешюго HeBOg техники, которое приходится констатировать на рубеже двух боль-
развитип ших ЭПОх в истории первобытного общества — палеолитической и неоли-
тической стадий, если пользоваться обычным определением этих периодов?
Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, следует принять во вни-
мание обстановку, в которой подготавливался глубокий социально-эко-
номический сдвиг, имевший место при переходе от охоты, как основного
источника существования первобытных орд, к рыболовству, пастушеству
п земледелию. Нельзя не учитывать, что последние формы хозяйства с их
несравненно более сложным производственно-техническим аппаратом
могли родиться в северной части нашего полушария, в Европе и Сибири,
только тогда, когда охота стала терять то исключительное значение, кото-
рое она имела в жизнй первобытных обществ в ледниковое время.
Уменьшение значения охоты могло зависеть от различных причин.
Здесь могло сыграть известною роль общее уменьшение количества зверя,
вызванное его истреблением хорошо вооруженными охотничьими ордами
позднего палеолита. Однако можно думать, что в еще большей степени
оно было, вероятно, связано с изменением характера фауны, принесен-
ным современной эпохой, с исчезновением определенных пород животных,
водившихся бесчисленными стадами на степных просторах Европы в конце
плейстоцена, как мамонт, северный олень, бизон, лошадь, сайга, которые
в течение тысячелетий составляли главную добычу человека.
1 Adrien de Mortillet, Les perils silex tailles a contours geometriques trouvesen Europe,
en Asie et en Ajrique, «Revue mensuelle de ГЁсо1е d’ Anthropologie de Paris», 1896,
Стр. 377,
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
629
Обычно в качестве иллюстрации условий существования, складываю-
щихся в нозднекапсийское время, пользуются пещерными и наскальными
рисунками Испании, которые ряд авторов, в том числе и Овермайер, счи-
тали возможным относить к верхнему палеолиту. Эти сцены изображают
подвижных, совершенно нагих охотников, вооруженных луками и стре-
лами, занятых преследованием оленей или кабанов или стреляющих их
из засады. Тех же стрелков из лука мы видим в сценах военных столкно-
вений на многочисленных скальных изображениях в провинции Кастел-
лон. Однако Брейлю удалось показать, что они не имеют по времени ни-
чего общего с палеолитом и оставлены племенами, населявшими Испанию
и конце неолита или в начальную пору эпохи металла. 1
Нужно заметить, что лось, благородный олень, кабан и другие живот-
ные, обычно фигурирующие в списках фауны эпипалеолитических стоя-
нок, ие являются животными стадными и охота на них, чтобы она могла
давать достаточные запасы добычи, должна была требовать высокой тех-
ники лова — применения сетей, заколов и вообще сложных сооружений,
i-вязанных с массовой облавной охотой, чего не могло еще быть в условиях
азильско-тарденуазской эпохи. Эта техника охоты возникает, быть может,
не без влияния развивающегося рыболовства лишь на следующей стадии
развитого родового общества с ее несравненно более высокой производ-
ственной техникой. Мы знаем также, что охота только с помощью лука,
требующая большого искусства и значительных затрат времени на поиски
п преследование зверя, как правило, не бывает особенно продуктивной,
гем более, что она повсюду естественно приобретает характер индивидуаль-
ной охоты или охоты небольших коллективов. Во всяком случае, такая
охота не обеспечивает существования первобытной орды, если она не
дополняется в широких размерах иными источниками добывания пищи—
будет ли это собирательство, рыболовство или земледелие в Ло зачаточ-
ных формах.
Сказанное выше делает весьма вероятным, что своеобразные особен-
ности кремневой техники эпипалеолита — ее как бы несколько упадочный
характер, выступающий при сопоставлении этих стоянок со стоянками
верхнего палеолита Европы, —могут найти объяснение в прогрессирующем
уменьшении значения охотничьего хозяйства. Действительно, такие черты
эпипалеолитической техники, как крайнее уменьшение размеров орудий
из камня, трудно понять иначе, как исходя из предположения о возра-
стающей в эту эпоху роли иных источников добывания средств существо-
вания. очевидно не требовавших особенно высоких производственных
навыков. Правда, целый ряд кремневых поделок, происходящих из тар-
денуазских стойбищ, не представляет в прямом смысле слова орудий
то есть орудий самостоятельного применения. Большинство тех из этих
орудий, которьге можно назвать Геометрическими микролитами, в дей-
ствительности имело назначение лишь вставок или «вкладышей», кото-
рые употреблялись в качестве наконечников стрел, вкладных лезвий
некоторых режущих и йолющих орудий, как ножи, наконечники дроти-
ков и т. п. Таким образом, с помощью их могли изготовляться довольно
сложные и эффективные предметы охотничьего вооружения.
Однако они оказываются мало или совершенно непригодными для
обработки дерева и других подобных материалов и имеют узкие рамки
возможного применения лишь в условиях охотничьего или охотничье-
Уменьшение
значения
охоты
1 Н. Breuil, Les peintures rupestres schematiques de la pininsule Iberique, t. I — IV,
1933.
(•>;«» ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
рыболовческого хозяйства. Тогда как наблюдающееся в тарденуазское
, время крайнее уменьшение размеров таких орудий, как резцы и скребки,
с их повседневным производственным применением, нельзя не рассматри-
вать иначе, как некоторый тупик в использовании кремня для производ-
ственных целей. Эта точка зрения находит подкрепление и в вопросе
о возникновении земледелия.
Усложненное Возникновение земледелия, корни которого уходят в древнейшее
собиратель- время неолита, нельзя понять без учета того обстоятельства, что ему
ство должна была предшествовать эпоха, когда собирание и заготовка даваемой
природой разнообразной растительной пищи — съедобных корней расте-
ний, трав, водорослей, семян, желудей, орехов, ягод и даже коры, вер-
нее, заболони некоторых пород деревьев, — складываются в особую,
достаточно важную отрасль хозяйственной деятельности, главным обра-
зом на основе труда женской части орды. Исследованиями Н. Я. Матша
в области анализа терминов, касающихся таких понятий, как мука,
хлеб, это выяснено с достаточной убедительностью, поскольку в своем
первоначальном значении они восходят к такого рода предметам (дуб —
жолудь), которые могли иметь определенный смысл лишь на стадии соби-
рательства, предшествовавшей земледелию и связанной с ним культуре
злаков.
Нужно иметь в виду, что собирательство в его более высокой форме
гак называемого «усложненного» собирательства, связанного с определен-
ным кругом хозяйственной деятельности, могло вырасти в одну из важ-
ных отраслей хозяйственной жизни первобытного общества лишь при
наличии соответствующих природных условий, которые, по крайней
мере в Европе, устанавливаются только с современной геологической
эпохи. Очевидно, что собирательство с его растущим значением, которое
на юге, в Средиземье, становится заметным с очень ранней поры верхнего
палеолита (раннекапсийское время), а в более северных широтах выступает
с азильской эпохи, не могло первоначально явиться серьезным стимулом
для развития техники.
В этой связи особенный интерес получает отмеченный нами факт,
что переход к эпипалеолиту не только не принес с собой заметного улуч-
шения средств труда, но, наоборот, сопровождался явным упадком в об-
ласти использования камня, кости и рога.
Учитывая значение кремня в обработке других материалов, таких,
например, как дерево с его чрезвычайно широким применением в усло-
виях первобытного хозяйства, для чего кремневый инвентарь капсийско-
тардепуазсрих стоянок, как мы сказали, был явно очень мало приспо-
собленным, нельзя не считать общий уровень техники на стадии эпипалео-
лпта вообще очень низким. Что же касается самих изделий из кремня,
то они здесь, благодаря крайнему уменьшению размеров орудий, приобре-
тают такой - характер, что 'представляется затруднительным наметить
для них путь дальнейшего развития без коренного изменения приемов
обработки камня. Последнее действительно и наблюдается в начальное
время неолита.
Характер Выше мы говорили, что в конце мадленской эпохи на всем пространстве
поселении Евразии, вплоть до отдаленных местностей восточной Сибири, становятся
заметными некоторые признаки перелома в сторону сложения новых форм
хозяйственно-бытового уклада, которые сказываются прежде всего в из-
менении характера поселений.
С еще большей определенностью эти черты выступают в азильско-
тарденуазское время.
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ «31
Тарденуазские стоянки во всей области своего распространения пред-
ставляют стойбища небольших групп охотников-собирателей, которые
отчасти уже в силу достаточно мягких условий климата, отчасти, вероятно,
вследствие своего подвижного образа жизни не испытывали потребности
в особенно прочных жилищах. Во всяком случае, до сих пор в стоянках
этого времени не обнаружено следов подобных сооружений. Очевидно,
тарденуазские поселения имели вид групп шалашей, разбросанных на от-
логих песчаных склонах водоемов, где орды тарденуазцев занимались
собиранием моллюсков, добыванием рыбы, охотой на водяную птицу и
зверя.
Вопрос о том, что представляло собой первобытное общество в эпоху
так называемого эпипалеолита, имеет чрезвычайно большой интерес.
Приходится констатировать, что мы знаем это еще в совершенно недоста-
точной степени.
В азильско-тарденуазское время процесс переоформления старого охот- Общество
ничьего уклада, очевидно, еще не мог разрушить древнюю родоплеменную
организацию общества, основанную на коллективном хозяйстве, являю-
щуюся той общественно-хозяйственной средой, из которой вырастает
более поздняя, лучше нам известная, родовая организация рыболовческо-
земледельческих племен неолита. Имеются некоторые данные, указы-
вающие* на то, что и роль женщины в общественной организации кап-
сийско-тарденуазской эпохи не получает характера той подчиненности,
которую, как мы уже говорили, опа имеет у многих современных наиболее
отсталых охотничьих народностей, в большинстве случаев переживающих
состояние упадочного охотничьего хозяйства. Помимо общих соображе-
ний, позволяющих видеть в собирательстве моллюсков, растительной
пищи и пр. одно из важнейших средств существования в условиях эпипа-
леолита, что должно было создавать обстановку, вполне благоприятную
для сохранения старой матрилокальной, родовой, организации первобыт-
ных ячеек, мы имеем в стоянках этой поры прямые указания на особое,
но всяком случае далеко не второстепенное пополнение женщины.
Мы упоминали в своем месте о коллективных захоронениях, обнару- '.{.пороиенпл
жепных Деврюжем в кьеккенмеддингах восточной Константины (север- женщин
пая Африка) и Рибейрой в кьеккенмеддингах Мугема (Португалия), “ детей
в которых значительная часть погребений принадлежала женщинам и
детям.
Заметим кстати, что многочисленные человеческие скелеты из рако-
винных скоплений CabeQO da Arruda и Moi to do Sebastiao в Мугеме,
в которых хотели видеть признаки экваториальных рас, не то негритосов,
не то австралоидов, будто бы принесших в своем расселении по берегам
Средиземного моря микролитическую «индустрию» эпипалеолита, в дей-
ствительности, • по последним исследованиям французского антрополога
Г. Валуа, 1 дают физический тип, очень близкий к древнему кроманьон-
скому типу населения Европы.
То же самое явление, преобладание женских и детских захоронений,
повторяется и в известной находке в пещере Офнет в Баварии, где
Р. Р. Шмидт во время своих раскопок 1907—1908 гг. обнаружил в слое, от-
носящемся к азильской эпохе, исключительно любопытный случай коллек-
тивного погребения. Он нашел здесь два больших круглых углубления,
выложенных слоем красной краски (охры), в которых были расставлены
в правильном порядке в одном двадцать семь, в другом шесть человече-
1 <iL’Anthropologies, 1931, XLI, Л? 3—4.
«32 ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
ских черепов, из которых девять принадлежали женщинам и двадцать —
детям и подросткам. Все они сопровождались украшениями из просвер-
ленных раковин и клыков благородного оленя, составлявшими наиболее
обычный вид украшений в азильско-тарденуазскую эпоху. Четыре че-
репа, которые были определены как мужские, никаких украшений не
имели.
Судя по тому, что при черепах сохранились нижние челюсти и, как
правило, один-два шейных позвонка, на которых иногда были заметны
следы порезов, естественно думать, что найденные головы были отделены
от тела вскоре после смерти, причем можно установить, что онп не были
сложены сразу, в одно время, а накапливались в течение довольно про-
должительного срока, на что указывает значительно худшая сохранность
черепов, помещавшихся в середине площадки. В связи с этой замечатель-
ной находкой известный путешественник — этнограф Ф. Саразнн — со-
общает об обычае, существовавшем в Новой Каледонии, где черепа началь-
ников родовых общин, знахарей и вообще выдающихся членов рода часто
собирались в особом священном месте где-нибудь в уединенной пещере
или в расселине скалы.
Среди редких еще погребений азильско-тарденуазской эпохи нельзя
не вспомнить о недавнем открытии, сделанном на островке Тевиек (близ
полуострова Киберонв Бретани), где французским исследователями, и С.
Пекав удалось найти среди обширного скопления раковин съедобных
моллюсков, заключавшего остатки тарденуазских очагов, свыше десятка
погребений, аналогичных погребениям Мугема. Все найденные скелеты
(одинаково и взрослые, и детские — последние здесь преобладали) сопрово-
ждались украшениями главным образом в виде ожерелий из раковин
и зубов благородного оленя. Как и в Мугеме, все они имели характерное
скорченное положение и были посыпаны порошком красной и желтой
охры. При двух погребенных были встречены странные украшения, ви-
димо, от головного убора, состоявшие из рогов оленя — как на известном
изображении «шамана» мадленского времени в пещере Трех братьев.
Возвращаясь к инвентарю азильско-тарденуазских стоянок, являю-
щемуся показателем уровня развития техники в конце палеолита, нельзя
не обратить внимания на его особенности не только в отношении приемов
обработки камня и кости, обеднения его видами изделий, но и в отношении
их простоты и чрезвычайного однообразия.
Упрощение Если в мадленских стоянках мы находим прекрасно сделанные вещи
инвентаря из кости и рога — предметы вооружения, различные инструменты, при-
способления, украшения и т. п., часто артистически выполненные и разу-
крашенные4 художественной резьбой, которые, очевидно, требовали боль-
шой опытности п мастерства и не могли являться делом всех членов орды,—
уже с начала азиля наблюдается прогрессирующее снижение технических
навыков и упрощение всех видов изделий. Мы уже почти не имеем здесь
такого рода предметов, которые по своему качеству поднимались бы над
общим, достаточно низким уровнем. В целом инвентарь аэильско-тарде-
нуазских поселений дает простейшие, в тысячах экземпляров повторяю-
щиеся типы изделий, которые являются совершенно тождественными на
всем пространстве, где известны остатки этой эпохи. Отсюда естественно
сделать вывод, что и сама общественная структура в эпоху эпипалеолита
отличалась той же недиференцированностью и простотой.
Конечно, то, что было сказано, далеко не в достаточной степени раскры-
вает условия, складывавшиеся в эпоху, непосредственно предшествовав-
шую хозяйственному расцвету общества па ступени более поздней родовой
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
(ИЗ
организации. Это зависит в значительной степени от характера, имею-
щегося в нашем распоряжении фактического материала, собиравшегося
крайне случайно, без учета его значения как источника для восстановле-
ния общественно-хозяйственного строя интересующей нас эпохи.
G другой стороны, археологический материал приобретает убедитель-
ность полноценного исторического источника в значительной мере тогда,
когда он" может быть пополнен и подкреплен наблюдениями над жизнью
современных человеческих обществ. Приходится констатировать, однако,
что в этом направлении сделано до сих пор чрезвычайно мало, гораздо
меньше, чем это было бы можно и щужно сделать. Известно во всяком
случае, что ряд современных примитивных народностей, находящихся на
этой ступени развития — разлагающегося охотничьего хозяйства, как
бушмены в южной Африке, ботокуды в южной Америке, семанги полу-
острова Малакки и др., в своей материальной культуре обнаруживает
много общих черт с капсийским населением Средиземья.
Иные условия жизни первобытных обществ, чем те, которые нами были Маглеиове
обрисованы выше, создавались, видимо, в северной Азии и на севере
Европейского материка, освобожда-
ющихся от ледникового покрова,
где древний уклад охотничьего хо-
зяйства сохранился в большей или
меньшей неприкосновенности по
крайней мер^ до конца эпипалео-
лита. Культуру этого типа в скан-
динавских странах представляет
стоянка Маглемозе близ г. Мул-
леруп на западном берегу острова
Зеландии (Дания), открытая Геор-
гом Сараувом в 1900 г. Здесь в те-
чение довольно долгого времени су-
ществовало поселение охотников на
лося, благородного оленя, дикого
,быка-тура и других животных, для которого был использован островок
среди озера, хотя, по предположению Сараува, кажущемуся нам мало
вероятным, люди Маглемозе жили на плотах, причаленных к отмели.
Остатки обитания в виде разнообразных отбросов сохранились под
слоем торфа, затянувшего озеро после его зарастания болотной раститель-
ностью. Судя по углю от костров, определение которого дало возможность
установить характер леса, покрывавшего берега острова Зеландии в эпоху
стоянки Маглемозе, здесь росли сосна, береза, осина, при полном отсут-
ствии дуба, что, по кснению скандинавских ученых, свидетельствует о том,
что эта стоянка по времени относится еще к анциловой стадии, когда Бал-
тийское море представляло собой огромное пресноводное озеро.
В Маглемозе, как в кьеккенмеддингах Мугема в Португалии и в пещере
Мак-Артур в Шотландии, время которой определяется как конец азиря,
найдены были кости собаки, насколько известно, продолжавшей р^та-
ваться в эту эпоху еще единственным прирученным животным.
Из культурных остатков в Маглемозе1 и других стоянках этого типа, на-
пример стоянке Свердборг 2 на том же острове Зеландии, заслуживают вни-
Рис. 299. Грубые рубила, изготовленные
из береговой гальки, так называемого
астурийского типа (Испания).
(По Вега дель Седла)
1 Georg Sarauw, Maglemose, «Prahist. Zeitschr.», Bd. Ill, H. 1—2, 191Г, Bd. VI,,
H 1—2, 1914.
2 K. Friis Johanssen, Une station du plus ancien age de la pierre dans la tourbiere
•de Soaerdborg, «Mem. de la Soc. des Antiqu. du Nord», 1918—1919.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
мания многочисленные мелкие кремцевые орудия, сохраняющие азильско-
тарденуазский характер, — небольшие круглые скребочки, сегментовид-
яые и треугольные острия, орудьица трапециевидной и ромбической формы
и т. д. В Маглемозе, как и в Свердборге, мы находим концевые скребки,
резцы, служившие главным образом для обработки кости, пластиночки
со стесанным краем и другие орудия, являющиеся прямым пережитком
палеолитической техники.1 Но вместе с тем здесь встречаются кремневые
топорики, изготовленные примитивным способом обтесывания кремне-
вой гальки, в которых, как и в так называемых «пик» (орудие, напоми-
нающее кайло) и ((транше» (резаки), приходится видеть первые орудия
новой техники, предназначенные специально для обработки дерева. Эти
орудия, порывающие с традицией использования мелких кремневых пла-
стинок, господствующей в эпипалеолите, становятся основой прогрессив-
ного развития техники на ее последующих этапах.
Не менее интересны в стоянках этого времени изделия из кости и .рога,
которых в одной лишь стоянке Маглемозе найдено было 3667 обломков
и 294 целых орудия в виде лощил, долот, наконечников копий, гарпунов,
кинжалов, роговых оправ для кремневых топориков, мотыг из того же
рога благородного оленя и лося, просверленных для насадки на рукоять,
шильев, игл и т. п. В Маглемозе были найдены и крючки, выточенные из
кости, хотя нужно заметить, что в кухонных отбросах стоянки кости рыб,
видимо, отсутствуют. Некоторые наконечники копий, имеющие обычную
еще для позднепалеолитических стоянок форму заостренного на концах,
круглого в сечении костяного стержня, бывают снабжены продольными
пазами, куда вставлялся ряд кремневых пластинок.
Из других вещей отметим длинные отрезки рога оленя с просверлен-
ным на конце круглым отверстием — совершенно тождественные с так
называемыми «жезлами начальников» или выпрямителями мадленских стоя-
нок. Эти последние предметы, как и некоторые наконечники, мотыги
и ножи из кости, бывают украшены нарезным, иногда довольно сложным
геометрическим узором, который П. Вернерт считает возможным рассма-
тривать как упрощенные-изображения человеческих фигур, подобно тем,
которые им были описаны на петроглифах Испании. Однако на некото-
рых изделиях из кости и рога в стоянках типа Маглемозе встречаются,
изображения животных, переданные в чисто реалистической манере, как.
на образчиках искусства мадленской эпохи.
Остатки, которые могут быть отнесены к культуре маглемозе, открыты
в виде отдельных находок в разных местах по берегам Балтийского моря
в северной и восточной Германии, затем в Польше 2 и, видимо, идут на
восток, в пределы СССР, хотя здесь они пока должным образом не изу-
чены.
Начало Следующей, развитой уже родовой стадии первобытнокомму-
нистического общества, , сопровождающейся здесь высшими формами
хозяйства — оседлым рыболовством и собирательством, перерастающим
в земледелие, — становится заметным на территории Европы в довольно
раннее время современной геологической эпохи, причем первым бросаю-
щимся в глаза признаком этого перелома является резкое изменение
в способах обработки и использования камня.
1 Б. С. Жуков, О некоторых морфологических чертах кремня маглемозе по от-
ношению к вопросу о древней каменной индустрии северо-западной Европы, «Этногра-
фия», 1930, Л? 3, стр. 31—48.
2 Leon Kozlowski, Mlodsza epoka kamienna w Polsce (neolit), 1924, стр. 8.
КОНЕЦ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
' Повсюду в Европе на смену стоянкам тарденуазской поры с их чрез-
вычайно тонко сделанными орудьицами — «микролитами» — начинают
появляться места поселений с изделиями, поражающими исследователя
своей необыкновенной массивностью и грубостью отделки, настолько
примитивной, что она часто вводит в заблуждение относительно эпохи,
с которой эти вещи должны быть связаны. Немецкие археологи, например,
склонны были относить подобные орудия, открытые в Вустров Нихаген
(неверная Германия), по сходству их с шелльскими рубилами, к древнему
палеолиту. Такую же ошибку допустил Оскар Монтелиус в отношении
«макролитов» южной Скандинавии и острова Рюгена, поместив их в со-
лютрейскую эпоху. И. Т. Савенков «макролиты», находимые по бере-
гам Волги, в ее верховьях, определял временем «мустье-ориньяка». 1
Бланкенгорн и Жерме-Дюран считали возможным датировать аналогичные
находки в Палестине (инвентарь типа С’баикийа) древним палеолитом или
солютрейскоп эпохой и т. д.
В недавние годы замечательные стоянки с подобным инвентарем были
исследованы в северо-западном углу Пиренейского полуострова, в Астурии
и в прилегающей части Португалии. Находки в Астурии были описаны
под именем астурийской культуры. На местах этих поселений собрано
большое число одинаковых, вытесанных’ из кремневых или кварцитовых
галек орудий, воспроизводящих тип ручного «рубила», с тем отличием
от обычного миндалевидного древнепалеолитического рубила, что они
оббивались с одной стороны, тогда как другая сохраняет естественную
поверхность валуна. Однако вместе с ними попадаются и двусторонне
обтесанные «рубила», сходные с палеолитическими. Этот примитивный
инвентарь иногда сопровождают массивные отщепы и пластины.
Если бы подобное орудия не были встречены в определенных страти-
графических условиях, в сопровождении современной фауны, могло бы
возникнуть сомнение, не следует ли их относить к ранней поре палео-
лита. Стоянки «астурийской» культуры расположены вдоль морского
побережья, иногда почти близ самого моря, и представляют собой по
большей части уже известные нам кьеккенмеддинги, то есть обширные
кучи раковин съедобных моллюсков (Trochus lineatus, Patella vulgata,
Cardium), содержащие также отбросы охоты — остатки благородного
оленя, быка, дикой лошади, кабана и других животных. Часто такие
скопления находятся у выхода пещеры или близ навеса под скалами,
очевидно, служившими убежищем для жившей здесь человеческой группы.
В скоплениях кухонных отбросов иногда встречаются, кроме грубых
каменных изделий, некоторые простейшие орудия из кости.
Особенностью этих стоянок, неизвестной в поселениях палеолитиче-
ского времени, являются находки каменных грузил, сделанных из пло-
ских галек, с перехватом посередине для привязывания нити. Такие гальки
могли употребляться в качестве груза к веретену, на котором ссучива-
лись нити для вязания сетей, или, быть может, применялись также для
погружения сети при рыбной ловле. Лишь значительно позже в этих
прибрежных поселениях начинают появляться кости домашних живот-
ных и обломки глиняной посуды.
Интересно, что уже в эту эпоху — в очень раннее неолитическое
время — первобытные племена рыболовов и охотников проникают на край-
ний север Европы. Следы их стойбищ открыты за последние годы на
<135
Стоянки е
макролитич®-
скнм инвев-
тарем
Находки
в Астурию
1 И. П. Ефименко, Некоторые находки каменных орудий..., «Русек. Антр. жур-
нал», XXXVII—XXXVIII, 1916, в. 1—2.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АЗИЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
побережье полярного моря — в Норвегии, Финляндии и на Кольском
полуострове. Грубый каменный инвентарь, напоминающий палеолитиче-
ские изделия — в виде рубил, скребел, резцов и пр., — встречается здесь
на значительной высоте над уровнем моря, вдоль древней береговой
линии. В скандинавской литературе эти находки описываются под именем
«арктического палеолита».
Стоянки «астурийского типа», как и многие другие аналогичные им
ранненеолитические остатки в Европе и странах, расположенных вокруг
Средиземного моря (где они лучше известны, чем в других местностях
северного полушария), указывают на глубокие сдвиги, происходящие
в области использования камня. Имеются все основания думать, что по-
явление грубых, массивных изделий в эпоху раннего неолита может
объясняться потребностями развивающегося оседлого рыболовческого
хозяйства, которое вызывало необходимость в обработке дерева — на-
пример, для целей передвижения, для изготовления плотов, челнов,
также для устройства всякого рода приспособлений, связанных с рыбной
ловлей и заготовкой впрок продуктов рыболовства, для сооружения более
прочных жилищ и помещений для хранения запасов пищи и т. п. Что руч-
ные рубила стоянок Астурии не могут быть истолкованы так просто, как
это предполагают*некоторые авторы, видящие в них нечто вроде кли-
ньев, служивших для отдирания от скал съедобных ракушек, — показы-
вает уже то обстоятельство, что подобные орудия появляются в эту эпоху
в разных местах Европы вплоть, например, до верховьев Волги и при-
озерных стоянок Валдайской возвышенности. Очевидно, эти массивные
заостренные камни служили прежде всего как рубящие орудия, из ко-
торых путем дальнейшего усовершенствования возникает неолитический
топор — орудие труда, имевшее исключительно большое значение в усло-
виях оседлого рыболовческо-земледельческого хозяйства.
В дальнейшем нетрудно проследить, как однообразные и примитивные
изделия древних неолитических поселений сменяются в кьеккенмеддингах
Дании и кампинийских стоянках более южных частей Европы несрав-
ненно более разнообразным и совершенным инвентарем, отвечающим
родовому обществу на ступени, переходной к варварству.
Фигурка мамонта из Пржедмоста.