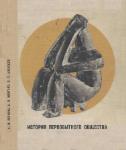/
Text
ИСТОРИЯ
ПЕРВОБЫТНОГО
ОБЩЕСТВА
Эпоха первобытной
родовой общины
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМЕНИ Η. Η. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
ИСТОРИЯ
ПЕРВОБЫТНОГО
ОБЩЕСТВА
Ш ■ ■ ■ ■■■»«! I
Эпоха первобытной
родовой общины
Ответственный редактор
академик Ю. В. БРОМЛЕЙ
МОСКВА. «НАУКА». 1986
В книге исследуются проблемы развитого первобытного обще*
ства: формирование человека современного вида и его рас,
становление первобытного общества (от родовой общины охотников,
собирателей, рыболовов до общины ранних земледельцев и
скотоводов), формы собственности и власти, накопление знаний о мире.
Для историков, этнографов, археологов, антропологов.
Редакционная коллегия
Ю. В. БРОМЛЕЙ (ответственный редактор)
А. И. ПЕРШИЦ, В. А. ШНИРЕЛЬМАН
Рецензенты: Н.Я.МЕРПЕРТ, Н. Б. ТЕР-АКОПЯН
0508000000-322
П 042(02)-86 °*6D~1U © Наука, 1986 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая книга является второй в трехтомной серии
«История первобытного общества», первый том которой вышел в 1983 г.
В известной степени она является центральной во всей серии, так
как посвящена основному этапу истории первобытного общества —
эпохе уже сложившейся и еще не вступившей в стадию своего
разложения первобытной общины.
В соответствии с этим в монографии рассматриваются основные
проблемы «классической» первобытности — завершение процессов
антропогенеза и социогенеза, демографические и этнокультурные
процессы эпохи, природа раннепервобытной и позднепервобытной
общины и присущие им формы общественного сознания.
Насколько это представилось возможным и целесообразным, в
большинстве разделов работы интегрированы этнографические,
археологические и палеоантропологические данные. Однако удельный
вес и соотношение этих данных в разных главах, естественно,
различны. Так, палеоантропологический материал обильнее всего
представлен в главах о завершении процессов антропогенеза и
социогенеза, археологический — в главе о раннепервобытной общине, так
как последняя может быть лишь ограниченным образом
представлена по ее этнографическим аналогам. Напротив, в главах о
позднепервобытной общине и формах общественного сознания намного
шире представлен этнографический материал. Равным образом в
отдельных главах в разной мере используются принятые в науке
первобытной истории частнонаучные методы. Если в большинстве глав
широко применен сравнительно-исторический метод, то в главе о
завершении процесса социогенеза из-за отсутствия этнографических
аналогов заметное место занимает метод пережитков.
Как и в предыдущем томе серии, авторский коллектив и
редакция стремились показать спорный характер ряда встающих в связи
с изучением первобытной истории вопросов, неоднозначность
возможных решений среднего уровня в рамках единой —
марксистской — концепции первобытноисторического процесса. Это нашло
отражение, например, в разработке различных гипотез сапиентации,
представленной в первой и второй главах книги, а также в
освещении ряда других процессов эпохи.
Особую проблему представляет хронология. В настоящее время
основным методом датирования памятников от позднего палеолита
до бронзового века является радиоуглеродный. Однако при
сопоставлении полученных с его помощью дат с календарными (истинными)
датами выяснилось, что по определенным причинам
радиоуглеродная хронологическая шкала оказывается «омоложенной» по
сравнению с календарной, причем при углублении в древность эта ошибка
4
ПРЕДИСЛОВИЕ
нарастает. Синхронизация памятников ареала древних цивилизаций
бронзового века, для которых имеется шкала календарных дат, с
памятниками и культурами первобытной периферии, датированных по
радиоуглероду, требует использования универсальной хронологии,
основанной на единых принципах. В противном случае мы рискуем
значительно исказить историческую картину. Между тем в
настоящее время различные специалисты продолжают пользоваться
различными хронологическими шкалами. Во избежание путаницы в
настоящем издании дается двойная датировка: вначале идет
календарная дата, а за ней в скобках — радиоуглеродная. Одна датировка
дается лишь в тех случаях, когда календарные и радиоуглеродные
даты мало различаются или же имеется надежная календарная
дата, установленная по письменным источникам. Для вычисления
календарных дат нами использовались коэффициенты,
разработанные пенсильванской лабораторией. Для эпохи раннеродовой общины
в настоящем издании используется традиционная радиоуглеродная
шкала, так как проблема построения календарной шкалы для
позднего палеолита остается нерешенной.
Авторский коллектив монографии: гл. 1 — В. П. Алексеев, гл. 2 —
Ю. И. Семенов, гл. 3 — Л. А. Файнберг, гл. 4—5 — В. А. Шнирель-
ман, гл. 6, §§ 1, 4—5 —|С. А. Токарев,|§ 2 — Б. А. Фролов, § 3 —
В. Б. Мириманов.
Указатели составлены О. Ю: Артемовой и М. Ц. Арзаканян, на-
учно-вспомэгательная работа выполнена М. Ц. Арзаканян.
Книга подготовлена в секторе по изучению истории
первобытного общества и обсуждена на отделе общих проблем Института
этнографии Академии наук СССР. Большую помощь в работе над ней
оказали Б. В. Андрианов, П. И. Борисковский, В. И. Гуляев, А. А.
Зубов, М. А. Итина, И. И. Крупник, И. А. Крывелев, Г. Е. Марков,
Н. Я. Мерперт, А. Ю. Милитарев, Э. А. Рикман, С. А. Старостин,
Н. Б. Тер-Акопян, М. А. Членов, Л. Т. Яблонский.
Глава первая
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
И ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РАС
1. Морфологические различия людей
неандертальского и современного видов
Вид «человек разумный» — Homo sapiens был установлен К.
Линнеем в 10-м издании его знаменитой книги «Система природы»,
вышедшем в 1758 г.1 Вид "«человек неандертальский» — Homo nean-
derthalensis был установлен У. Кингом в 1861 г. при оценке
морфологического своеобразия находки в Неандертале.2. Позже, в 1906 г.,
этот же вид был назван Г. Швальбе «человеком примитивным» —
Homo primigenius3. Последнее наименование правильно
фиксировало внимание на характере морфологических отличий
неандертальского человека от современного, отражало взгляд на него как на
более раннюю стадию эволюции гоминид и поэтому могло бы считаться
удачным в противовес наименованию по отдельной находке (к
тому же не первой: ранее был найден череп из пещеры Башня Дьявола
в Гибралтаре, принадлежность которого неандертальцу была
осознана позже4) если бы при этом не нарушалось правило приоритета.
Поэтому наименование того вида, в котором объединяются все
непосредственные предшественники современного человека,
неандертальским, широко распространенное в специальной литературе, выглядит
предпочтительнее и из таксономических соображений.
Работы Г. Швальбе, одного из крупнейших анатомов начала
века и замечательного знатока сравнительной анатомии скелета,
заложили основу морфологической характеристики неандертальского
вида 5. В дальнейшем каждая новая находка позволяла внести что-то
новое в уже известные знания, тем более что все без исключения
находки были фрагментарны и представлены лишь отдельными
частями скелета6. Осуществленное А. Хрдличкой обобщение
известных данных о неандертальских находках, на начало 20-х годов
имевшее своим результатом аргументацию наличия неандертальской
стадии в эволюции гоминид и происхождения человека
современного вида от неандертальца7, впервые заставило исследователей
задуматься над путями трансформации морфологии неандертальского
вида в современный, что породило значительное число сравнительно-
морфологических исследований. Параллельно продолжалось
открытие и описание новых находок, особенно важных, если они
происходили не из европейских стран и были представлены теми или
иными остатками посткраниального скелета, хуже сохраняющегося в
земле, чем череп, реже попадающего в руки палеонтологов и
поэтому хуже изученного. В результате современные наши знания о
неандертальцах доросли до такого уровня, что сейчас не только обсуж-
5 t Глава первая
дается морфология отдельных находок и представителей
неандертальского вида в целом, но и вопрос о наличии локальных
вариантов в составе неандертальского вида, но и проблема генетической
связи их с современными расами. Одним словом, обсуждаются
внутривидовая таксономия неандертальского вида и его место в
эволюции гоминид. Мы тоже будем обсуждать эти вопросы, но
закономерно предпослать им общее сравнение скелетных особенностей
неандертальского и современного видов, чтобы выявить главные
тенденции морфологической динамики на позднем этапе эволюции
гоминид.
Наиболее хорошо изучены структурные особенности черепа у
представителей неандертальского вида, что объясняется наличием
в нашем распоряжении довольно большого числа черепов приличной
сохранности 8. Они отличаются большими размерами горизонтальных
диаметров, особенно велика длина черепа. У подавляющего
большинства неандертальских находок форма головы при взгляде сверху
долихокранная, т. е. отчетливо выражена длинноголовость.
Преимущественно эта же форма представлена и в древних популяциях
человека современного вида. Функциональное значение этой
особенности до сих пор неясно, но, пожалуй, не лишено интереса то
обстоятельство, что длинноголовость характерна для всех диких
млекопитающих по сравнению с более круглой формой головы у всех
домашних видов. Развитие черепа в высоту больше, чем у
питекантропов, но заметно меньше, чем у современного человека. Тем не
менее величина горизонтальных диаметров такова, что несмотря на
малую высоту черепа, они обеспечивают большой объем внутренней
черепной коробки, а, следовательно, и мозга. Но широко
распространившееся как в специальных трудах, так и в популярной
литературе представление о том, что представители неандертальского вида
превосходили современных людей по объему мозга, не
соответствует действительности: оно основано на сравнении действительно
крупного мозга отдельных неандертальских форм со средними
величинами по всему современному человечеству.
В строении черепа неандертальского человека выявлено много
примитивных признаков, которые отсутствуют в черепе
современного человека. Прежде всего это касается развития наружного
рельефа, особенно на лобной и затылочной костях. Рельеф надпереносья
сливается в одно сплошное структурное образование с надбровными
дугами, называемое надбровным валиком. На некоторых
неандертальских черепах, например на черепе африканского неандертальца
из Брокен-Хилла, надбровный валик выражен едва ли не в
максимальной степени по сравнению со всеми другими ископаемыми го-
минидами, даже и более древними, чем череп из Брокен-Хилла.
Отчетливо выражен затылочный рельеф, что приводит к так
называемой шиньонообразной форме затылка при взгляде сбоку, в высокой
степени характерной для многих неандертальских форм. Опистокра-
нион, т. е. точка на затылочной кости, наиболее далеко удаленная
Ч^АВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 7
Рис. 1. Наклон лобной кости у разных групп ископаемых людей
1 — размах вариаций в группе яванских питекантропов, 2 — размах вариаций в
группе неандертальцев, 8 — размах вариаций в группе верхнепалеолитических людей
Европы. Мужские черепа, о — угол лба gl-me к линии gl-in; б — угол лба па-Ьг к линии
na-in
от глабеллы (наиболее выступающая вперед точка надпереносья) и
используемая для измерения продольного диаметра черепной
коробки, совпадает обычно, как и на черепах питекантропов, с ипионом,
г. е. с точкой пересечения сагиттальной плоскости с верхними вый-
ными линиями (lineae nuchae superiores). Это также свидетельство
значительного развития затылочного рельефа; на черепах
современного человека опистокранион располагается в подавляющем
большинстве случаев выше иниона. В противовес массивному лобному
и затылочному рельефу сосцевидные отростки развиты слабо или
очень слабо, значительно слабее, чем у современного человека. Но
толщина костей черепного свода большая, много больше, чем в
современных группах. Положение лобной кости менее наклонно, чем
у питекантропов, но более наклонно, чем у современного человека
(рис. 1).
Из особенностей лицевого скелета в первую очередь обращают на
себя внимание его огромные размеры: только якуты и отдельные
группы индейцев Америки имеют близкие размеры лицевого
скелета. Ортогнатный профиль, при котором лицевые кости расположены
гак, что они не выступают вперед, характерен даже для тех
находок, которые сделаны на территории Африки, для современного
населения которой типичен прогнатизм — выступание лицевых костей
и челюстей вперед. В этом отношении все без исключения
неандертальские формы напоминают современное население Европы и
частично Северной Азии. Более своеобразно строение лица
неандертальцев в горизонтальной плоскости: при некоторой уплощенности в
верхней части оно очень резко профилировано в нижней9. Поэтому
процентное отношение величины нижнего угла горизонтального
профиля к величине верхнего угла далеко выходит за границу совре-
8
Глава первая
менного минимума и может служить прекрасным диагностическим
признаком при отделении неандертальских форм от современных.
Отлично от современного и строение области Клыковых ямок:
вместо них налицо практически почти полная уплощенность переднего
отдела скуловых костей. Очень широкое грушевидное отверстие и
огромные орбиты дополняют отмеченное своеобразие. На нижней
челюсти помимо ее массивности и ширины восходящих ветвей
обращает на себя внимание отсутствие или слабое развитие
подбородочного выступа, что многие исследователи трактуют как указание
на неполное развитие речевой артикуляции 10. Есть некоторые
своеобразные признаки и в строении зубов, но они носят второстепенный
характер по сравнению с рассмотренными выше структурными
особенностями.
Классическое описание мужского неандертальского скелета из
пещеры Буффия близ местечка Шапелль-о-Сен во Франции,
осуществленное известным французским палеонтологом и
палеоантропологом М. Булем п, на долгие годы предопределило оценку строения
неандертальского скелета по сравнению со скелетом современного
человека. Считалось, что неандертальский человек нес голову более
наклонно, чем современный человек, как бы глядел все время вниз,
а ходил на полусогнутых ногах, как бы пружиня. Отсюда и широко
распространившееся мнение о якобы несбалансированной походке
неандертальца, неполном овладении им прямохождением, хотя
практически почти человеческое, мало отличающееся от современного
строение бедра питекантропа (имеется в виду найденный Э. Дюбуа
еще в конце прошлого века питекантроп 1), свидетельствующее о
его ортоградности, должно было бы предостеречь от этого суждения.
Морфологические основания для подобной интерпретации
анатомических наблюдений над скелетом из Шапелль-о-Сен состояли из
двух моментов: отличающемся от современного наклоненном вперед
положении затылочного отверстия и уплощенности и своеобразном
наклоне верхних эпифизарных площадок больших берцовых костей.
Однако такое положение затылочного отверстия является совсем не
типичным для других неандертальских форм и должно
рассматриваться как индивидуальное отличие именно данного скелета, на
котором оно было установлено,— скелета из Шапелль-о-Сен. Что же
касается строения эпифизарных площадок, то оно позже получило
иное функциональное истолкование и никак не может трактоваться
как доказательство несбалансированной походки на полусогнутых
ногах.
Означает ли все сказанное, что в скелете человека
неандертальского вида не фиксируются никакие своеобразные черты по
сравнению со скелетом современного человека? Нет, не означает.
Подавляющее большинство неандертальцев были людьми среднего или
низкого роста и имели соответствующее росту брахиморфное
сложение, т. е. относительно широкие плечи при относительно коротких
ногах (рис. 2). Но поперечные обхваты костей конечностей и все
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
9
Рис. 2. Длина и пропорции тела пред- * Τ
ставителей неандертальского вида в _ τ Ι
сравнении с верхнепалеолитическими f Τ ^ \
людьми ' Ι Ι Τ Ι Τ
Ни — плечевая кость, Ra — лучевая кость, Ι Τ Ι Τ III
Fe — бедренная кость, Τι — большая берцо- Τ Ι Τ III III
вая кость. Мужские скелеты. 1 — скелет и.. I I I III III
Шаппель-о-Сен; 2 — скелет Ферасси I, 3 — III III Τ Ι Τ
скелет Сунгирь I (верхнепалеолитический All Τ Τ III
человек) TIT III III
Ή ι ill
размеры, характеризующие разви- 11 τ *■ τ ι Ι
тие эпифизов, отличались значи- Т Τ
тельно большими размерами, чем
у современного человека. Другими ^
словами, костяк у представителей 11
неандертальского вида был более 1т II Τ Τ
массивен, чем даже в
большинстве высокорослых групп современно- 72
го человечества. Особую дискуссию ι 1 11 --11
вызвал вопрос о строении
проксимального сустава 1 пястной кости у неандертальцев. Вообще и кисть,
и стопа имели массивное строение, как и другие отделы скелета.
Изучение скелета кисти у человека из Киик-Кобы (Крым)
продемонстрировало уплощенность суставной площадки,
свидетельствующую якобы о затрудненности противопоставления большого
пальца 12. Аналогичный сдвиг в строении сустава был обнаружен и в
скелете некоторых других находок. Однако позже были приведены
достаточно убедительные функциональные соображения о том, что
возможная морфологическая затрудненность оппозиции большого
пальца преодолевалась развитием соответствующих мышц, а,
следовательно, кисть работала, как у современного человека, и не была
приспособлена, как предполагалось раньше, только к силовому
зажиму 13.
Предшествующий перечень, по необходимости беглый,
показывает, что отличия неандертальского человека от современного не
ограничиваются отдельными изолированными признаками, а
охватывают многие структурные особенности строения скелета в целом.
Отсюда закономерен вывод, что эволюционные преобразования на
последней стадии антропогенеза перед формированием и в ходе
формирования современного комплекса признаков были достаточно
интенсивны, действовали на всю или почти всю физическую
организацию гоминид и отражали активный характер эволюции на данном
этапе, выразившийся в активном формообразовании. Речь идет в
данном случае да>ке не о становлении нового вида Homo sapiens,
хотя и это составляет само по себе заметное явление в эволюции,
а о характере сформировавшегося нового видового комплекса: по
каждому из перечисленных признаков различия между
неандертальским и современным человеком невелики, но разнообразие их позво-
10
Глава первая
С
Ел
к
С
ш\
ф\
ZZa:Z ZZfcJ
Рис. 3. Длина и пропорции тела людей из пещеры Мугарэт-эс-Схул в
сравнении с верхнепалеолитическими людьми
Ни — плечевая кость, Ra — лучевая кость, Fe — бедренная кость, Ti — большая
берцовая кость. Мужские скелеты. 1 — скелет Схул IV, 2 — скелет Пшедмости III (верх-
непалеолитический человек), 3 —скелет Сунгирь I (верхнепалеолитический человек)
Рис. 4. Относительная высота черепной коробки, выраженная указателями
высоты черепной коробки над линией gl-in (22а: 2) и линией gl-la (22b :3).
Мужские черепа
Ш — череп Шапелль-о-Сен, Φ — череп Ферасси, С — череп Схул V. Величина
указателей на черепе Шапелль-о-Сен принята за 100%
ляет достаточно четко отделить один вид от другого. Видимо, первое
из этих обстоятельств и привело к тому, что проблема
происхождения человека современного вида оказалась ареной споров,
отражающих современное состояние систематики;, споров между «сплиттера-
ми» — дробителями, т. е. сторонниками очень узкого понимания
видов, и «ламперами» — объединителями, защищающими гипотезу
широкого понимания видового своеобразия. Пионером выступил один
из выдающихся представителей современного эволюционного учения
Э. Майр, предложивший различать всего два вида в составе
ископаемых гоминид: Homo erectus, т. е. человек прямоходящий (это
питекантропы, синантропы и родственные им группы древнейших
гоминид), и Homo sapiens, т. е. человек разумный, куда следует
относить неандертальцев и современного человека14.
Такой классификационной схеме нельзя отказать в' простоте и
удобстве, почему она, очевидно, и распространилась широко и
принята во многих авторитетных современных руководствах по
палеоантропологии 15. Таксономическое обозначение неандертальского и со-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 11
22J:J<
•Г J ·Μ S
22а-2
J2f2)
j&
^
II
II
I
i
^У Л7 S2 S4 fff Ж 72? 72 74 7S 7ff Ж
ν
J2a
Рис. 5. Взаимное положение европейских и переднеазиатских неандертальцев
в трехмерной системе координат по признакам, характеризующим высоту
черепной коробки (а) и наклон лобной кости (б). Мужские черепа
1 — европейские неандертальцы, 2 — Схул IV, 3 — Схул V, 4 — Схул IX, 5 — Амуд I,
6 — Шанидар I, 7 — Дшебел Кафзех VI
временного видов согласно этой схеме будет Homo sapiens neander-
thalensis, т. е. человек разумный неандертальский, и Homo sapiens
sapiens —- т. е. человек разумный разумный; другими словами,' обе
формы выделяются в качестве ♦ подвидов. Однако, учитывая
отмеченный выше комплексный характер различий между ними,
тенденция выделять их в качестве подвидов не кажется оправданной с
морфологической точки зрения, их видовая самостоятельность боль^
ше соответствует морфологическому критерию.
12
Глава первая
На предшествующих страницах морфология неандертальского
вида была охарактеризована суммарно, хотя отдельные локальные
варианты неандертальцев не укладываются, как мы уже знаем, в эту
характеристику. Речь идет об известных скелетах из пещеры Му-
гарэт-эс-Схул в Палестине16. Они высокорослы и отличаются от
других неандертальцев как по пропорциям тела (рис. 3), так и по
структурным особенностям черепа (рис. 4). Но датировка их
поздняя, их морфологическая близость к современному человеку
несомненна, поэтому они и не могут никак считаться типичными
представителями неандертальского вида, а их морфология приниматься в
расчет при общей характеристике морфологической организации
неандертальского вида. Объяснение морфологического своеобразия
скелетов из Схул предпринималось не раз: здесь и гипотеза их
промежуточного стадиального облика 17, и идея метисации 18, и указание
на сходство одного из черепов — черепа Схул IX — с европейскими
неандертальцами (рис. 5), тогда как другие продолжают считаться
прогрессивными на фоне остальных неандертальских форм 19. Ясно,
что своеобразие группы Схул и истолкование этого своеобразия еще
послужат предметом многих исследований.
2. Эволюционные тенденции, которые привели
к формированию Homo sapiens
Проблема происхождения человека современного вида не могла
не привлечь исключительного внимания со стороны самых
разнообразных представителей человеческого знания; так, ей уделили
значительные исследования философы20 и даже богословы21. При всем
мировоззренческом интересе этих попыток освещения интересующей
нас проблемы они далеко выходят за рамки эмпирических фактов,
а трактовка именно этих фактов с антропологической точки зрения
и составляет часть предмета истории первобытного общества.
Поэтому философский ракурс трактовки проблемы происхождения
человека современного вида не освещается на последующих страницах.
Каковы возможности функционального истолкования
специфических костных структур, которые были характерны для
неандертальского вида и которые перечислены частично в предыдущем разделе?
Хотя функциональная морфология к настоящему времени достигла
довольно значительных успехов в объяснении тех или иных
морфологических образований, чему очень способствовали внедрение
физиологических понятий и методов в морфологию и развитие
биомеханики, но все эти успехи концентрируются^ в основном в границах
изучения конкретных морфологических форм и редко захватывают
проблему видовой дифференциации. Иными словами, мы в состоянии
функционально истолковать в рамках гипотезы приспособительной
изменчивости, скажем, особенности морфологии птиц по сравнению
с морфологией наземных форм, но окажемся в затруднении
подобным же образом объяснить специфику двух близких видов. Именно
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
13
поэтому в биологии сейчас столь стремительно развиваются
разнообразные генетические и экологические подходы, изучение условий
среды под углом зрения их влияния на организм и т. д.
Какое значение имеет все сказанное для понимания
морфологической специфики неандертальского и современного видов при их
обоюдном сравнении? Сомнений нет, что экология неандертальского
человека отличалась от экологии современного человека, его
экологическая ниша была более сжатой: он не был панойкуменно
расселен по земной поверхности, жил малочисленными коллективами,
его хозяйственные занятия ограничивались только охотой и
собирательством, условия охоты при обилии добычи отличались,
очевидно, даже от верхнепалеолитических, он сам мог стать и, надо думать,
становился довольно часто добычей крупных хищников, иными
словами, он был гораздо более органичной частью естественных
биогеоценозов, чем человек современный даже на ранних стадиях своего
развития. Как мы убедимся дальше, подобный экологический взгляд
на неандертальский вид помогает объяснить некоторые
морфологические особенности неандертальских форм как прямое
приспособление к условиям существования, необходимое для выживания вида.
Но, разумеется, лишь изменение экологии, природных условий
существования при переходе к человеку современного вида нельзя
считать ответственным за морфологическую специфику Homo
sapiens по сравнению с неандертальским человеком.
Каковы, повторяем, чисто функциональные возможности
истолкования и причинного объяснения морфологических особенностей
неандертальского вида? Сразу же подчеркнем, что, поскольку
различия между ним и современным человеком комплексны и охватывают
многие структурные компоненты черепа и скелета, охватывали,
возможно, и другие системы органов, постольку малоперспективными
кажутся все попытки связать их в результат единого морфогенети-
ческого процесса и объяснить под единым углом зрения.
Выдвигались идеи о ведущем значении формирования подлинно
человеческой кисти, способной к тонкому манипулированию с предметами и
имеющей четко выраженную оппозицию большого пальца, об
образовании подлинно сбалансированной походки, о перестройке
мозговой структуры и т. д. Но ни одна из этих идей, многие из которых
были правильными сами по себе, не выдержала проверки временем
или же фактическим материалом: комплекс морфологических
отличий современного человека от неандертальца не объясняется в
рамках единой морфологической закономерности, в рамках
представлений о ведущей эволюционной роли .того или иного органа, вслед за
которым изменились бы автоматически другие органы и признаки.
Здесь следует упомянуть еще, что подавляющее большинство этих
признаков не связано тесными морфологическими корреляциями, и,
скажем, развитие надпереносья не коррелирует с формой сустава
первой пястной кости или даже с размерами лица, а последние
не коррелируют со строением горизонтального профиля лица и т. д.
14 Глава первая
В советской антропологической литературе наибольшее
распространение получила гипотеза, развивавшаяся на протяжении многих
лет Я, Я. Рогинским22. Не менее глубоко сходная гипотеза была
аргументирована в советской философской литературе23, но у
антропологов эта попытка осталась почти незамеченной. Я. Я. Рогин-
ский, опираясь на многократно описанные другими исследователями
неандертальские эндокраны — слепки внутренней полости черепной
коробки, дающие представление о макроструктуре мозга,-—
справедливо уделил большое внимание перестройке лобных долей мозга: у
современного человека лобный отдел черепа и мозга и больше, и
выше, чем у неандертальца. Это морфологически бесспорное
наблюдение было сопоставлено с клиническими наблюдениями над
больными с повреждениями лобных долей мозга. Поведение таких больных
отличается агрессивностью и подавлением известного рода
социальных инстинктов, столь специфических для поведения современного
человека, например чувства стыда. Из этого был сделан вывод, что
поведение неандертальского человека было в общественном своем
проявлении похоже на поведенческий стереотип больных с
повреждениями лобных долей мозга и что όηο отличалось эгоцентрической
несдержанностью и агрессивностью по отношению к сородичам.
Необходимость перестройки: не морфологических структур, а в первую
очередь поведенческих характеристик в связи с дальнейшим
развитием трудового процесса и культуры выдвинула на первый план
эволюцию тех морфологических образований, которые могли бы быть
ответственны за обеспечение более социального и, следовательно, в
культурно-историческом отношении более прогрессивного поведения,
т. е. нарастания массы лобных долей мозга. За ней последовало
выпрямление положения лобной доли и редукция надбровного рельефа.
Эволюционные изменения других морфологических признаков,
перечисленных выше, должны были происходить независимо, так как
они не охватываются этой гипотезой и относительно независимы от
изменений в структуре лобных отделов мозга и черепа. Таким
образом, поведенческая гипотеза при всей своей привлекательности и
бесспорной познавательной ценности также не объясняет образования
всего комплекса признаков современного человека, как и
предложенные до нее другие гипотезы, и, следовательно, проблема
факторов формирования человека современцого вида требует дальнейшей
разработки.
Разработка эта кажется необходимой еще и потому, что
поведенческая гипотеза не является, в сущности говоря, строго
специфичной по отношению к различиям в поведении людей
неандертальского и современного видов. Все, что знаем мы сейчас о развитии
орудийной деятельности и социальной организации древнейших го-
минид (см. т. 1), свидетельствует согласованно о постепенно
повышающемся уровне социального поведения. Более того — даже в
сообществах современных приматов резко конфликтные ситуации и
агрессия крайне редки, конфликты разрешаются, как правило, мир-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 15
ным путем, и обезьяньему стаду нельзя отказать в организованности
и сплоченности, особенно во внешнем проявлении, например при
встрече с хищниками24. Нет у нас никаких оснований предполагать,
что в сообществах ископаемых приматов, давших начало гоминидам,
ситуация была иной. Таким образом, все более и более мощное
развитие социальных аспектов усложняющегося индивидуального и
коллективного поведения составляет содержание процесса
антропогенеза вообще, а не только того его этапа, который падает на переход
от неандертальского к современному виду.
Как ведут себя морфологические структуры, ответственные за
это усложняющееся социальное поведение? Если следовать логике
гипотезы Я. Я. Рогинского и предполагать, что мозговые структуры,
управляющие социальностью, сосредоточены в лобных долях, то
можно увидеть, что разрастание лобных долей и перестройка
передних отделов мозга и черепа также сопровождают эволюцию всех
гоминид, а не только современного человека по сравнению с
неандертальцем. Добавим к этому, что экстраполяция клинических
данных о современном человеке на морфологическую организацию
неандертальца не вполне правомерна, сам Я. Я. Рогинский показал
устойчивость морфологических корреляций в пределах вида25, но
при переходе от одного вида к другому они могут нарушаться, меняя
интенсивность и даже направление. Интенсивная перестройка
мозговой структуры тем более должна была делать подобные связи
достаточно неустойчивыми, что и лишает экстраполяцию
нейрофизиологической и поведенческой информации о больных современного
вида на неандертальцев достаточной эвристической силы.
Именно здесь уместно сказать несколько слов о динамике
структуры мозга, как она находит отражение в эндокранах. Разумеется,
можно говорить лишь о макроструктуре, т. е. о соотношении
основных отделов, следах крупных борозд и извилин, да и то многие
детали макроструктуры восстанавливаются лишь предположительно.
В крупных работах Ф. Тобайаса и В. И. Кочетковой суммированы
все данные, доступные в настоящее время, и предложена их
обстоятельная сравнительная интерпретация26. Исследования В. И.
Кочетковой особенно важны для разбираемой нами темы, так как в них
содержится описание и интерпретация практически всех известных
нам эндокранов неандертальского вида и эндокранов
верхнепалеолитических гоминид современного вида 27.
Опираясь на эти работы и сопоставляя их с результатами
нейрофизиологического изменения мозга28, можно отметить два
обстоятельства. Лобные доли и сопутствующие им структуры — не только
средоточие механизмов, управляющих социальным поведением, но
и центры ассоциативного мышления, развитие их свидетельствует
об общем подъеме интеллектуального развития соответствующих
гоминид. Этот общий подъем — такая же фундаментальная
тенденция эволюции гоминид, как и увеличение объема мозга, и она опять
неспецифична только для этапа перехода от неандертальца к со-
16
Глава первая
временному человеку. Далее важны открытые В. И. Кочетковой
следы продолжающихся эволюционных преобразований в мозгу
верхнепалеолитических гоминид из Павлова и Кро-Маньона (череп Кро-
Маньон III) 29, что говорит об отсутствии резко выраженной грани
между характером эволюционного процесса на предсапиентной
стадии и на стадии верхнепалеолитического человечества.
Таким образом, информация об изменениях эндокранов в
эволюции гоминид и в период перехода от неандертальского человека
к современному — это одновременно информация о постепенности
этого перехода и продолжении в нем тенденций предшествующего
эволюционного развития всего семейства гоминидных предков
современного человека.
В этой связи особый интерес приобретает проблема так
называемого второго скачка в процессе антропогенеза. В советской
антропологической и философской литературе наибольшей популярностью
пользуется гипотеза двух скачков, двух переходов количественных
изменений в качественные: одного — при образовании самого
семейства гоминид и второго — при переходе от неандертальца к
человеку современного вида 30. Аргументировалась и другая точка зрения —
о наличии трех скачков (промежуточный скачок между
питекантропами и неандертальцами), но она стоит особняком31. Строго
говоря, образование любого таксона представляет собою переход
количества в качество в ходе эволюционного процесса и, следовательно,
возникновение любого вида — эволюционный скачок. Скачок этот
тем значительнее, чем более крупный таксон образуется.
Выше мы имели возможность убедиться в том, что переход от
человека неандертальского вида к современному человеку носил
постепенный характер с морфологической точки зрения и с точки
зрения тех эволюционных закономерностей, которые управляли этим
переходом. Поэтому, никак не отрицая исключительного масштаба
культурных преобразований, связанных с возникновением
верхнепалеолитического человечества (впрочем, как мы теперь хорошо
знаем, истоки многих из них прослеживаются в зачаточных формах в
мустьерской культуре), не следует, оставаясь в рамках только
антропологической классификации, переоценивать масштабов скачка,
падающего на переход от неандертальского к современному виду.
Он никак не больше, в свете всего сказанного, а значительно
меньше, чем скачок при переходе от питекантропов к неандертальцам.
Поэтому же, если говорить о втором скачке в процессе
антропогенеза, о втором перерыве постепенности и переходе количественных
изменений в качественные, вполне можно помещать его не на
заключительном этапе эволюции гоминид, при переходе от Homo neander-
thalensis к Homo sapiens, а при образовании рода Homo, при
переходе от рода Pithecanthropus к роду Homo32. При этом будут
соблюдены все морфологические критерии и последовательность масштаба
переходов от одного таксона к другому в рамках антропологической
классификации.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
17
Возвращаясь к факторам формирования человека современного
вида, можно считать очевидным в связи со всем сказанным, что
процесс появления Homo sapiens, как и вся предшествующая
эволюция гоминид,— процесс полифакторный, и поэтому перечисленные
и частично рассмотренные выше гипотезы монофакторной
эволюции оставляют необъясненными многие аспекты этого процесса. На
протяжении его действовали как общие тенденции эволюции
гоминид, которым не вполне правомерно приписывалось ограниченное
действие только в пределах этапа перехода от неандертальца к
современному человеку, так и специфические тенденции, характерные
только для этого этапа. Общие тенденции, как мы помним,—
интенсификация социальных аспектов коллективного поведения и общий
дальнейший подъем ассоциативного мышления. Высказывалось
мнение, что особи с развитыми социальными инстинктами должны были
подвергаться преследованиям в обезьяньем стаде и, не. выдержав
•конкуренции с более физически сильными и агрессивными особями,
>даже погибать33. Вытеснялись они будто бы и из процесса
размножения, хотя подобное представление является рецидивом теперь
оставленных под давлением фактических данных взглядов о безудерж-
ом разгуле «зоологического индивидуализма» в сообществах обезьян
древнейших предков человека. Но основное возражение против
подобного представления состоит даже не в этом, было справедливо
отмечено, что проблема должна быть перенесена с внутригруппового
на межгрупповой уровень: если даже над более альтруистично
настроенными индивидумами доминировали агрессивные особи внутри
группы (хотя положительная связь между агрессивным поведением
и физической силой, жизненной активностью и трудовой ловкостью
никогда не была доказана, а лишь постулировалась часто без всяких
строгих доказательств), то группы со случайной концентрацией
особей повышенной социальности приобретали огромное
преимущество над первобытными стадами с наличием внутристадных
конфликтов 34.
Специфичные для рассматриваемого этапа частные тенденции
эволюции должны объяснить изменение некоторых структурных
элементов черепа современного человека по сравнению с
неандертальским видом и аналогичное уменьшение массивности скелета.
Развитие мозга легко объясняет перестройку лобного отдела черепа,
но более прямое положение лобной кости у современного человека
не приводит автоматически к уменьшению надорбитного рельефа,
примером чему являются черепа неандертальцев группы Схул,
особенно череп Схул V: при практически современном наклоне лба
этот череп имеет вполне четко выраженный надглазничный валик.
Не объясняет прогрессивная перестройка мозга и редукции
затылочного рельефа черепа. По-видимому, мы сталкиваемся в данном
случае с остаточной, затухающей эволюционной тенденцией, которая
погасла после формирования человека современного вида, но начало
которой уходит еще в эволюцию приматов.
I
18 Глава первая
При огромном разнообразии в строении черепа обезьян все же
можно отметить, что относительно крупные формы (в том числе все
человекообразные обезьяны, кроме резко специализированного
гиббона) имеют значительный рельеф черепа — разнообразные гребни,
служащие контрфорсами для прикрепления мышц, поддерживающих
массивную нижнюю челюсть и способствующих поддержанию
головы в определенном положении 35. Аналогичные костные образования
на черепах ископаемых гоминид, начиная с древнейших, носят
атавистический характер и редуцировались в ходе эволюции гоминид
по мере редукции нижней челюсти и приобретения полностью
выпрямленного положения тела. Разумеется, их постепенное
исчезновение, замена гребней валиками, а затем исчезновение валиков —
саггитального и надглазничного — не есть следствие
«неупражнения» соответствующих образований, а результат, нужно полагать,
отрицательной селекции, при которой обладание нейУ?кными
морфологическими структурами на черепе было обременительно в
локомоторных актах, могло нарушать биомеханическую координацию
движений и отсеивалось селекцией. Налицо, следовательно, тоже
общий процесс, характерный для эволюции всех гоминид, но именно
на стадии перехода от неандертальского человека к современному
достигший апогея и приведший к исчезновению всех следов
морфологических образований типа контрфорсов на покровных костях черепа
современного человека.
Массивность скелета у подавляющего большинства
неандертальских форм сама по себе заслуживает внимания как морфологическое
свойство, до какой-то степени выделяющее неандертальский вид
среди других видов ископаемых гоминид. Представляется весьма
вероятным, что такое общее свойство, охватывающее многие структурные
особенности скелета и имеющее большое жизненное значение, могло
образоваться в результате специфических условий жизни коллективов
неандертальских людей. Была сделана попытка увидеть эту
специфику в известном противоречии между расширяющимися
возможностями и усовершенствовавшимися способами охоты, с одной стороны, и
четко выраженной оседлостью поселений, с другой36. Расширение и
дифференциация охотничьих навыков не могли не иметь своим
результатом расширение охотничьих территорий и увеличившуюся
эффективность охотничьей добычи. Это в свою очередь вело к
необходимости перетаскивать добычу на далекие расстояния. Физически
сильные невысокие индивидуумы плотного телосложения, с массивным
костяком и мощной мускулатурой, безусловно подвергались в этих
условиях положительной селекции, что привело в конце концов к
наследственному закреплению подобного соматотипа.
Учитывая выявленную обширными физиологическими
исследованиями значительную роль костного мозга в кроветворении при
больших физических нагрузках37 и продемонстрированную у
современного человека отрицательную корреляцию между поперечными
размерами и толщиной стенок диафизов длинных костей конечностей, мож-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 19
но предполагать, что массивный костяк у неандертальского человека
был еще дополнительно необходим для обеспечения функции гемо-
поэза — процесса обновления красных элементов крови. Естественно,
и роль отбора на массивность скелета, и его кроветворная функция
должны были в связи с изменением условий жизни постепенно падать
при переходе к верхнепалеолитическому человеку и далее на
протяжении ранних этапов эволюции современного человека.
Краткий итог всего изложенного в этом разделе сводится к тому,
что, вопреки монофакторным гипотезам происхождения человека
современного вида, процесс становления Homo sapiens — процесс
полифакторный, в котором слились различные тенденции эволюции,
имевшие самостоятельное значение. Эти тенденции, повторяем,—
дальнейшая эволюция тех структур мозга и связанных с ними структур
черепа, которые обеспечивают повышение уровня ассоциативного
мышления и развитие социального поведения, редукция морфологических
образований на черепе, потерявших функциональное значение в
связи с грацилизацией нижней челюсти и четкой фиксацией
выпрямленного положения головы, грацилизация скелета в связи с постепенной
потерей им опорных функций при переноске больших тяжестей и
активной функции гемопоэза. Только такой подход, учитывающий
многие формообразующие факторы, дает возможность сколько-нибудь
полно охватить весь процесс становления Homo sapiens в целом и
разумным образом объяснить происхождение всей суммы
перечисленных в предыдущем разделе морфологических отличий его от человека
неандертальского вида.
3. Время формирования Homo sapiens
До обоснования А. Хрдличкой неандертальской формы в эволюции
современного человека представление об очень раннем отделении
эволюционной ветви, ведущей к современному человеку, было всеобщим.
В палеоантропологической литературе периодически дискутировались
находки якобы большого хронологического возраста и не имеющие
примитивных признаков. Более тщательное рассмотрение условий их
залегания обнаруживало, как правило, неясность их геологической
датировки и лишало их серьезного значения для обсуждаемой нами
темы38. Но даже и после почти всеобщего принятия концепции
А. Хрдлички предположение о возможной глубокой древности
человека современного вида не исчезло из арсенала научных теорий,
примером чему является гипотеза так называемого пресапиенса39.
Аргументами в пользу этой гипотезы были две находки — Сванскомб в
Англии и Фонтешевад во Франции, которые при заведомо доказанном
нижнепалеолитическом возрасте имели недостаточно ясную
морфологию, которая позволяла трактовать имеющиеся фрагменты как
принадлежащие человеку современного вида, бее же после критической
работы Я. Я. Рогинского 40, Э. Брайтингера41 и Э. Тринкауса42
вопрос о принадлежности черепов из Сванскомба и Фонтешевада к неан-
20 Глава первая
дертальскому виду может считаться решенным в положительном
смысле, этим выбиваются морфологические аргументы из-под
гипотезы пресапиенса, а сама гипотеза переводится в архив палеоантро-
пологической науки. Таким образом, вопрос: существовал ли
человек современного вида длительное время параллельно с
неандертальцем, получает отрицательное решение.
Оживление интереса к этому вопросу связано с находками
черепов сравнительно раннего хронологического возраста в долине Омо
в Эфиопии, получивших в литературе обозначения Омо I и Омо II43.
Первые оценки возраста в 60000 лет вызвали в дальнейшем
сомнения44, что имеет принципиальное значение, так как
морфологическая характеристика обоих черепов недостаточно ясна. Очень
похоже, что они различаются на видовом уровне и череп Омо I должен
быть отнесен к современному виду, а череп Омо II имеет
примитивные особенности. Так или иначе эти находки недостаточно
выразительны, чтобы отказаться от уже утвердившегося мнения об
эволюционной последовательности двух видов. Можно лишь
предположить, что они сосуществовали на каком-то * очень коротком отрезке
четвертичной истории, когда современный вид формировался в
недрах неандертальского. Подтверждение этого — обнаружение скелета
ребенка современного вида в позднемустьерских слоях стоянки Ста-
роселье в Крыму. При первом описании находки были отмечены на
ней отдельные примитивные особенности45, которые не получили
подтверждения в дальнейших исследованиях46. С. Н. Замятнин
высказал сомнения в синхронности скелета с позднемустьерским
слоем, из которого он происходит47, но, по-видимому, сомнения эти
неосновательны48. Дополнительную сложность в истолкование этой
находки вносит своеобразие ее морфологии, носящее, возможно,
частично патологический характер: восстановление ее «взрослых»
размеров, оправдавшее себя во многих других случаях, дало крайне
странные соотношения, не укладывающиеся в рамки современного
вида49. Но подобное своеобразие не отменяет ее видовой
диагностики и принадлежности к современному виду.
Если опираться только на местонахождения с бесспорной
стратиграфией и достаточно точными определениями абсолютного
возраста, можно констатировать, что остатки человека современного
вида не уходят глубже, чем на 40 000 лет.
4. Морфологическая типология
и локальная дифференциация
верхнепалеолитического человечества
Уже первые находки черепов верхнепалеолитического времени,
сделанные еще в црошлом веке, описывались не только с чисто
морфологической стороны и выраженности на них эволюционно
примитивных признаков, но и под углом зрения близости к тем или иным
морфологическим вариантам внутри современного человечества. Че-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
реп из Шанселяда (Франция) долгие годы сближался с
эскимосскими черепами50, и только реконструкция носовой области позволила
показать его четкие отличия от монголоидных серий и, наоборот,
сходство с европеоидами51. Аналогичным образом черепа из грота
Детей в Гримальди (Италия) — один женский и второй,
принадлежавший неполовозрелому субъекту, возможно, юноше —
рассматривались как негроидные52, пока повторная обработка материала не
показала дефектность первоначальной реконструкции и позволила
обнаружить значительное сходство этих черепов с другими
европейскими верхнепалеолитическими находками53. В дальнейшем, по
мере увеличения числа известных находок верхнепалеолитического
времени и накопления опыта их интерпретации, было предложено
несколько схем их морфологической типологии и генетических
взаимоотношений, опиравшихся в основном на европейский материал,
более многочисленный и лучше изученный54.
Теоретически говоря, малоперспективны обе крайние тенденции
в оценке морфологической типологии верхнепалеолитического
человечества — видеть в нем единую комбинацию признаков55 или
выделять локальные варианты, опираясь на морфологическое
своеобразие отдельных находок, в ряде случаев, действительно, резко
выраженное, но не подтвержденное на групповом уровне56. В первом
случае игнорируется имевшая место в верхнем палеолите и
неотвратимая при сколько-нибудь широком расселении популяционная
дифференциация, во втором — наблюдениям над характером
индивидуальной изменчивости без достаточных оснований придается
групповое значение. В результате в обоих случаях весьма вероятное дей-
€твительное типологическое разнообразие верхнепалеолитического
человечества остается невскрытым даже в географических рамках
Европы, не говоря уже об африканских и азиатских популяциях,
представленных единичными находками из районов, отстоящих
друг от друга на тысячи километров. Способ выявления этих
реальных типологических комбинаций признаков состоит, очевидно, в
непредвзятом комбинировании наблюдений над индивидуальной
изменчивостью отдельных находок и групповых характеристик,
полученных для находок, сделанных в одном местонахождении или
близко одна от другой, в корректировании морфологического критерия
различий с географическим и в сравнении выделенных вариантов
с локальными расами в составе современного человечества.
Какие признаки являются общими если и не для всех, то для
большинства европейских находок верхнепалеолитического времени?
Это большие и очень большие размеры горизонтальных диаметров
черепной коробки, высота черепной коробки почти соответствует ее
ширине, лобная кость довольно широкая, наклон ее соответствует
современным средним, ширина затылочной кости большая, лицевой
скелет средней высоты (широко распространившееся даже в
специальной литературе мнение о якобы очень низком лицевом скелете
верхнепалеолитических людей не подтверждается метрическими
22
Глава первая
%
/ffffl
so γ-
βον-
/.
ζ
3
4
J
си
7
χβ
-
У
Л7
μϋ
72
73
Рис. 6. Относительная уплощенностъ горизонтального профиля лицевого
скелета в нижней и верхней части у ископаемых и современных людей Л-у^—)
J — женский неандертальский череп Гибралтар 1, 2 — мужской неандертальский черед
Монте-Чирчео 1,5 — мужской неандертальский череп Шапелль-о-Сен, 4 — женский
неандертальский череп Штайнхайм, 5 —мужской неандертальский череп Брокен-Хилл,
б — мужской неандертальский череп Шанидар 1, 7 — средняя по мужским черепам
верхнепалеолитического времени из Европы, 8 — средняя по женским черепам верх*
непалеолитического времени из Европы, 9 — минимум по современным монголоидам^
10 — максимум по современным монголоидам, 11 — минимум по современным
европеоидам, 12 — максимум по современным европеоидам, 18 — черепа современных папуасов-
данными, высота лица соответствует средней европейской), нос
широкий, орбиты чаще всего низкие, грушевидное отверстие среднеши-
рокое, вертикальный профиль лицевого скелета ортогнатный или ме-
зогнатный, горизонтальный профиль уплощенный в верхней части и
достаточно острый в нижней, выступание носовых костей не
уступает сильному выступанию носа у европеоидов. Любопытно
отметить, что индекс отношения нижнего угла горизонтального профиля
к верхнему, столь эффективный, как мы помним, при отделении
неандертальского вида от современного, оказывается пониженным на
верхнепалеолитических черепах по сравнению с современными
(рис. 6), демонстрируя, очевидно, следы не вполне закончившейся
перестройки лицевого скелета в верхнепалеолитическое время.
Таким образом, хотя комплекс перечисленных признаков в целом, как
справедливо отмечал В. В. Бунак57, и не представлен в полной мере
ни у одной из современных рас Европы, он достаточно характерен
именно как европеоидный комплекс, стоящий у основания
формирования европеоидной расы.
Находки мужских черепов более многочисленны, поэтому они и
положены в основу морфологического сопоставления. Нами уже
отмечалось, что черепа из двух единственных верхнепалеолитических
могильников, давших массовый материал,— Пшедмости и Солютрэ,
вполне могут по своему морфологическому своеобразию
претендовать на роль представителей самостоятельных вариантов58. Черепа
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
23
из Пшедмости (Пшедмости I, III, IX) отличаются на фоне других
находок тенденцией к усилению долихокрании, повышением и
некоторым сужением лицевого скелета, широконосостью. Черепа из Со-
лютрэ (Солютрэ II, III, IV) резко брахикранны и очень
широколицы, что может быть следствием прямой морфофизиологической
зависимости, но более узконосы, чем черепа из Пшедмости. Подобные
различия повторяются и на женских черепах. Таким образом, уже
из сопоставления этих двух небольших серий вытекает, что
верхнепалеолитическое население Европы не было единым по своему
антропологическому составу и что внутри него выделялись местные
варианты, отличавшиеся морфологическим своеобразием.
Глядя на картину географического местоположения
верхнепалеолитических находок (рис. 7), на которой представлены лишь те
находки, которым можно дать метрическую характеристику, мы
замечаем два территориальных «сгущения» верхнепалеолитических
памятников, давших палеоантропологический материал: территорию
Франции с долинами крупных французских рек и территорию
Чехословакии. Чтобы увеличить численность сопоставляемых локальных
групп и тем усилить статистическую значимость межгрупповых
различий, вычислены средние по обеим территориям, опирающиеся на
метрику основных находок. Для территории Чехословакии это,
кроме Пшедмости, Дольни Вестонице, Брно, Младеч и Павлов. Череп
из Подбабы, ранее рассматривавшийся как верхнепалеолитический59,
теперь должен быть определенно исключен из
верхнепалеолитической серии, так как он имеет очень сомнительную датировку и,
возможно, относится даже к раннему железному веку60. На
территории Франции находки в Солютрэ, как указывалось, занимают
самостоятельное положение, и поэтому в подсчет включены данные о
черепах из всех остальных местонахождений, отличающихся более
или менее сходной морфологией. Это следующие местонахождения:
Кро-Маньон, Комб-Капель, Шанселяд, Ложери Басе, Рок де Сере,
Ля Маделэн, Журдан, Вейрьер, Кап Бланк, Сен-Жермен-ля-Ривьер,
Видон, Лафайе, Плакар и Сорд. Средние по обеим группам —
французской и* чехословацкой вместе со средними по черепам из
Солютрэ представлены в табл. 1.
Что демонстрирует нам эта таблица? Своеобразие солютрейского
варианта очевидно. Его существование в верхнепалеолитическую
эпоху свидетельствует о том, что брахикефализация — изменение
формы черепной коробки в ходе времени, процесс, столь
характерный для населения Европы в более поздние эпохи,— началась очень
рано; фрагментарные данные по нижне-и среднепалеолитичеоким
гоминидам позволяют датировать его начало эпохой нижнего
палеолита и утверждать, что морфологические особенности солютрэйского
варианта не являются случайными. Менее демонстративны отличия
западноевропейских форм (французские находки) от центральноев-
ропейских (Пшедмости, Брно и другие местонахождения
Чехословакии). Центральноевропейский (по старой терминологии брюнн-
cococococosr^^^^^cM
о' со о' сГ ^ οδ" οδ" см' со' ч* оо о'
^-Ю^сОсМОСОсОоГсМ-чнсО^
ООСОСОСЛ^-СОСОСМ^ЮООСМ
^О^СОСЛСЛСОСО^СОСОСМ
^σΓο'ί5'ί?5'ί^'ί:^'ο'^ΓσΓιΗ'
О тн Ю 05 тн «О
05 *чР СО 05 t"· СО
СО N СО гн N
см ю »tf оо см
о'о о'ίΓоТо'οΌ ςο'οο"ο'ιΗ'
3
t* oo ή σ> со со
** Ν О t* CO CO
8
σ> ю оо со
Sl< Ю 00 Μ
ъ
со" со со со, q со, см см4 см4 со^ со,
с^ t^ Ι ^Ι^ί^^ί^ί°?^^ζ
00 О ^О t"- 00~ »tf~ С0~ 00
СЛОО^П^-СМ^ЮСЛСМ
СО 05
00 ^
о
О О ^ч © <М ^ч^-ч^ч^ч^ч^ч^.
об" *?Г оо ю'ю'о'с^'со'о'с^'^л о'
THOOOOOincOCDNOcOOri
ООСОСОСЛ^-СОСОСМЮ^СЛСО
Ф'НЮСЛ'НЮСО^ООООСОС^
*& Ι <ЗГ чГ af о' ^ со" со" t^ со' оо' о' ϊη
юоососкГю^^со^схГг^оо
OJ^^O^t^COt^CMin^OOCM
«$
о
со
е
со
а
8.
3
а
Р.
И
a
Ε-,
ей
ft Рн^.
2 й φ
11 «
S pi
4 φ н
2- л s
l=t Φ О
5 H 2
В К И
Ή СО t^ CA
VO
ч
5 ч
я φ
ft Η
S *
2 S
Φ Η
S Φ
R о.
tsi
сб Ч
И ел
a s
& °
Η о
а §
* 5
о м
Ч X
>* ft
Й Φ
ч
φ
Η
сб
со
cd
Й
р» л
9S Ч
I s
s I
ι=γ 8
„ g Й
о ^
И в о
ж Щ ю
S И о
3 л 2
Я φ О
φ
Η
о
о
и
X
я
η
о
о
о
и
«
2- и
S и
ч р»
ч δ
2 а-
Μ СО
р» и
м Ч
s3 о
1*
о ^
-чн 00 »tf
"2$
^ 00 ^
Л sf Ю
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 25
Рис. 7. Основные местонахождения верхнепалеолитических людей в Западной
Европе
1 — Павилэнд, 2 — Камарго, 3 — Уртьяга, 4 — Парпайо, 5 — Бруникель, 6 — Ложери
Басе, 7 — Кро-Маньон, 8 — Пато, 9 — Кап Блан, 10 — Ля Рошет, 11 — Шансе ляд, 12 —
Комб-Капелль, 13 — Плакар, 14 — Ля Шод, 15 — Сен-Жермен-ля-Ривьер, 16 — Рок де
Сере, 17 — Мае д'Азиль, 18 — Хото, 19 — Вейрьер, 20 — Сан-Теодоро, 21 — Романелли,
22 — Ольмо, 23 — Арен Кандид, 24 — Гримальди, 25 — Бишон, 26 — Чекловина, 27 —
Младеч, 28 — Пшедмости, 29 — Брно, 30 — Дольни Вестонице, 31 — Павлов, 32 — Рётхе-
корф, 33 — Штеттен, 34 — Кауферсберг, 35 — Нойессинг, 36 — Дёбриц, 37 — Оберкассель,
38 — Энгис
пшедмостский, а, вернее сказать, брно-пшедмостский) вариант, по-
видимому, действительно более длинноголов, чем
западноевропейский (по старой терминологии кроманьонский). В высоте черепной
коробки различия неопределенны, но лобная кость шире в централь-
ноевропейской группе. В противовес старым взглядам, основанным
на сравнении отдельных единичных черепов, нельзя утверждать,
что центральноевропейская популяция более высоколица и
узколица, чем западноевропейская: на мужских черепах высоколицесть
западноевропейского варианта видна отчетливо, хотя женские черепа
26
Глава первая
мало различаются между собой в этом признаке. Вполне заметны
отличия центральноевропейского варианта от западноевропейского в
вертикальном профиле лицевого скелета: центральноевропейские
черепа прогнатнее, чем западноевропейские,— и вероятны в ширине
носа: центральноевропейская популяция как будто чуть более
широконоса, хотя это и нельзя утверждать с большой определенностью.
Если считать выделенные варианты реальными единицами попу-
ляционной или надпопуляционной дифференциации
верхнепалеолитического населения Европы, то встает вопрос о том, где проходила
граница между ними. С этой точки зрения большое значение
приобретают антропологические особенности скелетов из гротов
Гримальди близ Ментоны61. Происходящие оттуда черепа крайней степенью
долихокрании, широколобостью и относительной широконосостью
напоминают центральноевропейские популяции, но они имеют орто-
гнатный лицевой скелет, как и черепа западноевропейского
варианта. Кроме этих особенностей, резко бросаются в глаза своеобразные
особенности, присущие именно данной популяции, оставившей
захоронения в гротах Гримальди: большие размеры черепа, огромная
его высота, очень большая ширина и малая высота лицевого
скелета, очень сильное выступание носовых костей. Налицо комбинация
признаков, которая напоминает «кроманьонский» тип в том
понимании, которое вкладывали в этот термин старые авторы начала века62.
Так как эта комбинация несводима к рассмотренным выше, ее
целесообразно выделить в самостоятельный четвертый вариант в
составе верхнепалеолитического населения Европы и присвоить ему
наименование гримальдийского.
В старой палеоантропологической литературе под гримальдий-
ским типом или вариантом подразумевалась негроидная
комбинация признаков, которой якобы обладали два скелета из грота Детей
в Гримальди — скелет пожилой женщины и юноши 15—16 лет63.
Однако, как уже упоминалось в начале этого раздела, подобная
трактовка была возможна только вследствие того, что черепа были
неправильно склеены из фрагментов, что усилило прогнатизм, широко-
носость и уменьшило выступание носовых костей, т. е. придало им
именно те признаки, на основании которых оказалось возможным
говорить об их негроидном типе. Э. Влчек, осуществивший
повторную и гораздо более тщательную реконструкцию, показал, что ни
о каких негроидных признаках не приходится говорить в данном
случае и что речь должна идти о вариациях признаков, более или
менее типичных для верхнепалеолитического населения Европы в
целом64. Он произвел и повторное измерение обоих черепов и
любезно передал их автору этих строк (табл. 2). К сожалению, он не
измерил углов лицевого профиля и выступания носовых костей, но
на приложенных к его статье рисунках видно, что оба черепа стали
много ортогнатнее, а носовые кости выступают на них значительно
сильнее, чем раньше. Э. Влчек справедливо сомневается в
правильности определения пола юношеского скелета и полагает, что его с
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 27
Таблица 2
Черепа из грота Детей (Гримальди), традиционно относимые Η «негроидному»
типу
Признак
1. Продольный диаметр
8. Поперечный диаметр
17. Высотный диаметр (ba—br)
9. Наименьшая ширина лба
8:1. Черепной указатель
45. Скуловая ширина
48. Верхняя высота лица
54. Ширина носа
48:45. Верхний лицевой указатель
54:55. Носовой указатель
9, maturus
191
131
135
98
68,6
128
59?
26
46 Д?
57,8
9, 15—16 лет
' 192
132
136
96
68,8
—
64?
24
—
50,0 ·
«Взрослые»
размеры
предыдущего
черепа
198
133
137
98
67,2
—
69
26
—
51,8
одинаковой вероятностью можно считать и мужским, и женским.
Судя по размерам черепа, он принадлежал скорее женщине. На
основании данных о динамике размеров черепа у человека
современного вида восстановлены «взрослые» размеры юношеского черепа,
подобно тому как это уже делалось во многих предыдущих случаях65.
В общем оба черепа из грота Детей, ранее считавшиеся
негроидными, могут рассматриваться как черепа женских особей гримальдий-
ской популяции в нашем понимании этого наименования. Мужской
череп из того же грота Детей имеет «кроманьонский» облик и не
отличается от мужских черепов из грота Барма Гранде, вместе они и
образуют тот материал, морфологические особенности которого
позволили нам выделить четвертый гримальдийский вариант.
Итак, возвращаясь к вопросу о границе между
западноевропейским и центральноевропейским вариантами, мы должны
подчеркнуть, что они, по всей вероятности, не соприкасались
непосредственно, между ними лежал ареал гримальдийского варианта.
Дополнительным основанием для подобного заключения и значительного
расширения ареала гримальдийского варианта на север является
находка в Оберкасселе (долина Рейна)66. Менее выразительный в
морфологическом отношении женский череп из Оберкасселя в общем
сходен с женскими черепами из гротов Гримальди, но сходство это не
носит специфического характера. Что же касается мужского черепа
из Оберкасселя, то характерные морфологические особенности
черепов из гротов Гримальди выражены на нем в высокой степени.
Резко выраженная долихокрания при большой высоте черепной
коробки и широкой лобной кости, низкий и очень широкий лицевой
скелет, ортогнатный вертикальный профиль лицевого скелета и
сильное выступание носовых костей — вот те признаки, по вариациям ко-
28
Глава первая
торых несомненно сходство гримальдийских находок и черепа из
Оберкасселя. Грушевидное отверстие на последнем черепе, правда,
узкое, но зато на женском черепе из Оберкасселя широкое, так что
можно предполагать, что мы имеем в данном случае дело с
индивидуальными вариациями. В целом же оправданным выглядит вывод
о том, что прирейнская область, районы Эльзаса и Лотарингии,
западные предгорья Швейцарских Альп, в геоморфологическом
отношении представляющие собою сходный ландшафт всхолмленного
плато, составляли ареал верхнепалеолитических популяций,
антропологически сходных и имевших все характерные признаки гри-
мальдийского варианта.
Разумеется, изложенная схема не полностью исчерпывает
локальное своеобразие отдельных верхнепалеолитических популяций,
примером чему являются находки, по своим морфологическим
особенностям не попадающие, похоже, ни в один из перечисленных
вариантов. Примером может служить череп со стоянки Дёбритц в
Тюрингии, принадлежащий мужчине, но очень маленький и грациль-
ный, по форме черепной коробки стоящий на границе долихо- и ме-
зокрании, имеющий среднеширокое грушевидное отверстие67. Такую
комбинацию признаков нельзя удовлетворительным образом
классифицировать в рамках принятой нами антропологической
классификации верхнепалеолитического населения Западной и
Центральной Европы, она либо представляет собою индивидуальную
вариацию, либо, что более вероятно, является отражением группового
своеобразия, приуроченного к отдельной популяции или небольшой
группе популяций. Такое популяционное своеобразие весьма
вероятно в верхнепалеолитическое время из-за редкости населения и в
ряде случаев — вероятной слабой связи между популяциями, что
и приводило к краниологическому полиморфизму, о котором по
отношению к верхнепалеолитическому населению красноречиво и
убедительно писал В. В. Бунак68, но который можно считать
характерным для процесса групповой дифференциации палеолитических го-
минид в целом69.
В предыдущем изложении осталось полностью неосвещенной
территория восточной Европы. По отношению к ней писалось о том,
что в Костенковско-Боршевском районе по долине Дона проживали
люди брно-пшедмостского (центральноевропейского, по нашей
терминологии) 70 и «кроманьонского» (западноевропейского) 7I
вариантов. В последнем случае имелась в виду классическая
характеристика «кроманьонского» варианта, т. е. комбинация широкого лица и
узкой черепной коробки с низколицестью, зафиксированная на
одной находке и без достаточных оснований перенесенная, как мы
убедились, на всю группу. Но дело даже не в этом — все утверждения
о проживании в Восточной Европе представителей
брно-пшедмостского и «кроманьонского» вариантов базировались на очень
фрагментарном и подвергнутом значительной реставрационной работе
материале, оставленном неполовозрелыми особями (из трех находок
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
29
две представлены детскими черепами). Мы имеем лишь два хороша
сохранившихся взрослых черепа верхнепалеолитического времени с
территории Восточной Европы, о которых и пойдет сейчас речь и
сохранность которых позволяет делать определенные
морфологические выводы.
Скелет со стоянки Костёнки XIV (Маркина гора) был при
первом описании отнесен к представителю негроидной расы72. Нужна
подчеркнуть, что для этого имеются достаточно веские основания:
широконосость, особенно относительная, у черепа из Маркиной
горы — максимальная среди верхнепалеолитических находок,
вертикальный профиль лицевого скелета резко прогнатный. Позже было-
справедливо указано, что исключительно сильное выступание
носовых костей противоречит безоговорочному диагнозу этого черепа как
негроидного. Автор первого описания Г. Ф. Дебец писал о «расе
Гримальди», подразумевая в качестве ближайшей аналогии
«негроидные» скелеты из грота Детей. Новейшие исследования, как уже
говорилось, убеждают в том, что это была псевдонегроидность и,
следовательно, скелет из Маркиной горы можно по его
морфологическим особенностям считать уникальным в верхнепалеолитическом
палеоантропологическом материале Европы. Таким образом, первая
возможность в его интерпретации — считать присущую ему
комбинацию признаков индивидуальным уклонением в рамках
образующегося негро-австралоидного комплекса признаков со следами не-
дифференцированности, за счет которой условно можно отнести
сильное развитие носовой области. Но не менее вероятна и другая
возможность: при относительной ширине грушевидного отверстия,
превышающей все современные групповые средние, и при очень
сильном даже по современному масштабу выступании носовых
костей, т. е. при заведомо противоречивом морфологическом
характере этого черепа, мы сталкиваемся с такой ситуацией, при которой
какая-либо расовая интерпретация вообще невозможна. В обоих
случаях остается неясным, то ли это комплекс признаков,
представленный в замкнутой популяции или группе популяций, то ли это
индивидуальный Ьариант, но вывод о его чужеродности в составе
верхнепалеолитического населения Европы кажется довольно
вероятным.
Находка из Сунгиря также вызвала противоречивые суждения,
частично вызванные ее морфологическими особенностями, но
частично отражающие общие взгляды исследователей на ранние
этапы процесса расообразования. Описавший скелет из Сунгиря
Г. Ф. Дебец высказался в соответствии со своей концепцией
единства верхнепалеолитического человечества в пользу проявления на
сунгирском черепе типичных особенностей верхнепалеолитического
населения Европы, но не отрицал и некоторые влияния раннего
монголоидного комплекса73. В. В. Бунак, подвергнувший сунгирский
череп повторному исследованию, увидел в характерной для нега
комбинации признаков подтверждение своей гипотезы крониологи-
30
Глава первая
ческого полиморфизма верхнепалеолитического населения74. Автор
этих строк высказывался раньше в пользу отнесения сунгирского
человека к кругу популяций, входивших в восточный первичный
очаг расообразования, внутри которого формировался ранний про-
томорфный монголоидный комплекс75. Если сейчас мы сопоставим
основные морфологические особенности сунгирского черепа с
выделенными нами вариантами, то мы увидим, что известное сходство
наблюдается между черепом из Сунгиря и черепами центральноев-
ропейского варианта. Особенно оно видно не в абсолютных размерах,
а в их соотношениях, что увеличивает значение подобного
сходства. Но есть и отличия: вопреки старой характеристике брно-шнед-
мостского варианта, включавшей высоколицесть, более высоколи-
цыми оказываются представители западноевропейского варианта.
В этом признаке череп из Сунгиря сходен с черепами
западноевропейского варианта. Имей мьх несколько черепов подобного типа с
сунгирской стоянки, в нашем распоряжении были бы все основания
выделить их в качестве особого восточноевропейского варианта. Но
сейчас, учитывая единичность находки и проявление в ней
индивидуальной изменчивости, осторожнее включить ее в центральноевро-
пейский вариант и предполагать пока, что представители этого
варианта населяли в верхнепалеолитическую эпоху и Восточную
Европу, во всяком случае ее центральные районы.
Итак, антропологический состав верхнепалеолитических
европейских популяций образован четырьмя локальными вариантами,
один из которых — солютрейский имел узкий ареал, а три других —
западноевропейский, гримальдийский и центральноейропейский —
были распространены довольно широко. Кроме этих четырех
вариантов, существовали местные популяции со специфическими
морфологическими особенностями (находки в Дебрице и Маркиной
горе), но количество таких популяций не «поддается сейчас точному
учету. Ни один из современных локальных,вариантов европеоидной
расы не повторяет в полной мере морфологических особенностей
верхнепалеолитических вариантов, но определенная
морфологическая преемственность между ними все же прослеживается. Весьма
вероятно, что за ней стоит генетическое родство.
В свете всего сказанного встает вопрос, в какой форме возник
ранний европеоидный комплекс признаков: в форме ли пучка
перечисленных вариантов, в какой-то нейтральной предковой по
отношению ко всем этим вариантам или, наконец, в форме одного из
вариантов, который сыграл роль предкового по отношению ко всем
остальным. Ответ на этот вопрос предопределяется трактовкой
данных о динамике антропологических признаков во времени,
полученных при изучении палеоантропологических материалов более
поздних эпох. Если стоять на традиционной точке зрения о всеобщности
процесса грацилизации в пределах ареала европеоидов,
выражавшейся в первую очередь в сужении лицевого скелета76, то
наидревнейшим и исходным следовало бы считать гримальдийский вариант,
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
31
на основе которого сформировался центральноевропейский вариант,
в свою очередь давший начало западноевропейскому. Исходя из идеи
всеобщности процесса грацилизации и представления о более узком
лице у брно-пшедмостских популяций по сравнению с
«кроманьонскими», Г. Ф. Дебец и считал их не самостоятельными
направлениями процесса расообразования, а последовательными этапами
процесса грацилизации77. Однако сама гипотеза всеобщности процесса
грацилизации встретила возражения, исходящие из анализа палеоан-
тропологических материалов из разных районов, где не было
зафиксировано никаких проявлений этого процесса78. Опираясь на идею,
согласно которой долихокранные фо£мы предшествовали во
времени брахикранным, т. е. на идею всеобщности процесса брахикефали-
зации79, можно было бы думать, что солютрэйский вариант является
позднейшим в ряду других. Но располагая в настоящее время
достаточно полным материалом по ранним гоминидам, мы должны
отметить локальные тенденции к брахикефализации, начиная с эпохи
нижнего палеолита80. Таким образом, все более широко выявляемое
современными исследованиями многообразие направлений
временных изменений отдельных признаков и их комплексов не дает
основы для выявления последовательности формирования
верхнепалеолитических вариантов.
В принципе возможен и иной подход к этой проблеме, состоящий
в выделении более или менее нейтрального комплекса признаков,
который мог бы считаться исходным для всех остальных. Но на этом
пути нас также встречают немалые трудности: ни один из четырех
перечисленных вариантов не занимает срединного положения по
отношению к другим, ни один не имеет такую комбинацию признаков,
которую можно было бы с известными морфологическими
основаниями рассматривать как предковую по отношению к остальным.
Скажем, гримальдийский вариант сходен с западноевропейским в ор-
тогнатном положении лицевого скелета, но оба они резко
отличаются в этом признаке от центральноевропейского; гримальдийский
вариант своеобразен по размерам и пропорциям лицевого скелета и
соотношению широтного и высотного диаметров черепной коробки;
солютрэйский своеобразен по всему комплексу признаков. И
гипотеза нейтральности не дает нам, следовательно, возможности
построить удовлетворительную схему генетических взаимоотношений
выделенных вариантов во времени. Все это заставляет оценивать их
как таксономически равноценные и предполагать, что европеоидный
комплекс признаков сформировался в виде пучка вариантов, из
которых сейчас можно назвать минимум четыре, но которых в
реальной действительности могло быть и больше. Широкий ареал ранних
европеоидов и существенные генетические барьеры между
группами популяций, населявших отдельные области, по-видимому,
ответственны за формирование этих локальных вариантов.
Переходя к палеоантропологии внеевропейских территорий в
эпоху верхнего палеолита, следует сказать, что в нашем распоряже-
32
Глава первая
нии еще меньше данных, чем по Европе, и в итоге ранний этап
формирования европеоидов, как ни много в наших знаниях пробелов, мы
представляем себе все же яснее, чем формирование ранних
монголоидных и негро-австралоидных комплексов. С территории Африки,
например, описаны всего семь сколько-нибудь прилично
сохранившихся черепов верхнепалеолитического возраста, и только один из
них имеет полностью сохранившийся лицевой скелет. Это находка из
Фиш Хока, датировка которой, полученная с помощью
радиоуглеродного метода, равна примерно 30000 лет81, т. е. соответствует
ранним периодам развития европейского верхнего палеолита.
Сочетание очень широкого грушевидного отверстия с прогнатным
вертикальным профилем лицевого скелета и исключительно малым
развитием носовой области образует ту своеобразную
краниологическую комбинацию признаков, которая в высокой степени
характерна для всех современных негро-австралоидных популяций. На
основании этой находки можно говорить о том, что негро-австралоидный
комплекс признаков был представлен в раннюю эпоху верхнего
палеолита в Южной Африке, т. е. тогда же, когда уже существовали
ранние варианты европеоидной расы. Но о составе локальных
вариантов внутри негро-австралоидов невозможно судить: весь наличный
материал происходит с территории Южной Африки, строение
черепной коробки малоспецифично у отдельных находок, и поэтому
выделение их в качестве отдельных локальных вариантов носит в
основном субъективный характер82. Заслуживает внимания брахикрания,
зафиксированная на черепе из Синги в Восточной Африке83, но и
она, возможно, представляет собою индивидуальную вариацию, так
как не находит подтверждения в более поздних палеоантропологи-
ческих и краниологических материалах из восточных районов
Африки 84.
Не лучше обстоит дело и с палеоантропологией восточных
районов азиатского материка. Находка в Цзыяне, которая раньше
рассматривалась как верхнепалеолитическая, теперь, после
определения ее возраста с помощью радиоуглеродного метода, должна быть
отнесена к эпохе позднего мезолита или даже раннего неолита 85.
Череп из Дуньдяньяня (Китай) относится, по-видимому, к средней поре
верхнего палеолита, в соответствии с европейской хронологической
шкалой86; к этому же времени относится примерно и .известный
афонтовский фрагмент, происходящий со стоянки Афонтова гора II
и датируемый по радиоуглероду временем в 20 000 лет 87. Черепа из
Верхней пещеры Чжоукоудяня много позднее и относятся к самому
концу верхнепалеолитического времени 88.
Трактовка морфологических особенностей афонтовского
фрагмента вызвала некоторую дискуссию89, но общая оценка фрагмента
как принадлежавшего монголоиду не вызывает никаких сомнений.
Монголоидные особенности на черепе из Дуньдяньяня также
выражены достаточно отчетливо, хотя он и не может быть соотнесен с
каким-либо современным монголоидным вариантом90. Монголоид-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
33
ные особенности на черепах из Верхней пещеры гораздо менее
заметны: первая достаточно фантастическая их трактовка Ф. Вайден-
райхом, описавшим их как представителей крониологических
комбинаций восточномонголоидной, эскимоидной и меланезоидной рас91, не
была принята в последующем92, но и протомонголоидность этих
черепов, аргументированная рядом авторов93, строго говоря, еще не
получила достаточно убедительного морфологического обоснования.
Из трех черепов Верхней пещеры мужской (№ 101) и один из
женских (№ 102) практически лишены каких-либо монголоидных
признаков и лишь второй из женских черепов (№ 103) отличается плос-
коносостью и одновременно значительной уплощенностью верхней
части лицевого скелета в горизонтальной плоскости 94. В общем,
следовательно, можно констатировать, что какая-то доля монголоидного
комплекса признаков сформировалась к эпохе средней поры
верхнего палеолита, но никакими данными о локальных вариантах внутри
протомонголоидов мы не располагаем.
Итак, на фоне несомненного краниологического полиморфизма
верхнепалеолитического человечества, полиморфизма, который,
очевидно, был наследием предшествующих стадий эволюции гоминид,
уже сложились, можно считать, протоморфные комплексы основных
современных рас, хотя и выраженные в сочетаниях, отличающихся
от современных. Для протоевропеоидов и протомонголоидов мы
имеем непосредственные палеоантропологические доказательства этого
последнего положения, для протонегроидов их почти нет и вывод
носит предположительный характер. Протоевропеоидная комбинация
признаков сформировалась в виде пучка вариантов, из которых
более или менее определенно выделяются сейчас четыре, для других
рас существование нескольких исходных протовариантов вероятно,
но сейчас недоказуемо.
5. Локальные варианты верхнепалеолитических
и неандертальских людей: различия
Перед тем как перейти к обсуждению проблемы по существу,
напомним, что нам известно о составе неандертальского вида и тех
локальных вариантах, которые могут быть выделены внутри него на
современном уровне наших знаний. Это тем более необходимо, что
сколько-нибудь прилично сохранившихся находок, позволяющих
дать им определенную морфологическую характеристику, мало и
сейчас продолжается дискуссия о тех или иных путях их
группировки; многие неандертальские находки с трудом находят или даже
совсем не находят себе места в предложенных до сих пор схемах
классификации; одним словом, проблема далека от своего
окончательного решения, и автор вынужден остановиться на одной из схем,
естественно, той, которая была аргументирована им самим в
специальной работе 95.
2 История первобытного общества
34
Глава первая
Наличная информация позволяет более или менее уверенно
говорить о четырех локальных вариантах в составе неандертальцев.
Совершенно очевидно, что эти четыре варианта не исчерпывают
групповой изменчивости неандертальского вида, так как их
выделение опирается в основном на находки из западных районов сред-
непалеолитической ойкумены — с территории Европы, Африки,
Передней и Средней Азии. Огромная территория востока ойкумены
представлена единственной находкой из Мабы (Китай), на
основании которой мог бы быть выделен пятый вариант, но сохранность
находки такова, что этому варианту невозможно дать
сколько-нибудь удовлетворительную характеристику. Поэтому выделяемые
нами четыре варианта отражают антропологическую гетерогенность
лишь тех популяций неандертальцев, которые населяли западные
области тогдашней ойкумены; для сравнения
верхнепалеолитического населения Восточной Азии, как ни плохо оно нам известно, со
своими ископаемыми предшественниками приходится прибегать к
данным о нижнепалеолитических гоминидах — представителях рода
питекантропов.
В работе, на которую только что сделана ссылка, была
предпринята попытка показать, что выделение двух групп в составе
европейских неандертальцев — морфологически более примитивной, так
называемой классической, и более прогрессивной, так называемой
атипичной96, не выдерживает критики по ряду соображений.
Хронологический контраст между ними (классические — более ранние,
атипичные — более поздние) весьма условен, но главное даже не
в этом, а в недостаточности морфологической аргументации в
пользу реального существования этих двух групп: в классическую
группу включаются в основном мужские черепа, в атипичную —
женские, ряд находок неоднозначно оценивается разными авторами; при
учете полового диморфизма все европейские неандертальцы без
труда объединяются в единую гомогенную группу, в которую следует
включить еще черепа Схул IX и Табун I из Передней Азии и черепа
Джебел Ирхуд I и Джебел Ирхуд II из Северной Африки. Эта
широко расселенная группа образует первый вариант в составе
неандертальского вида, которому в связи со значительным числом
входящих в эту группу находок сравнительно легко дать достаточно
полную морфологическую характеристику. Общая характеристика
неандертальского вида, данная в первом разделе этой главы, в
основном и отвечает морфологическим особенностям этого варианта как
наиболее типичного, по-видимому, для неандертальского вида в
целом.
Одна из неандертальских находок на территории Европы, а
именно череп, обнаруженный при раскопках пещеры Петралона в
Греции, не может быть включена по своим морфологическим
особенностям в состав европейского варианта неандертальского вида. Первые
описания продемонстрировали достаточно определенную
возможность отнесения человека из Петралоны к неандертальскому виду97,
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
35
но и на начальном этапе исследования было ясно, что речь идет о
форме, значительно отличающейся от европейских неандертальцев и
сближающейся с африканскими формами98. В первую очередь,
конечно, нужно говорить о сходстве с родезийцем — неандертальским
человеком из Брокен-Хилла в Замбии, так как череп именно этого
человека сохранился полностью. Морфологические особенности,
сближающие находки в Петралоне и Брокен-Хилле: огромная
высота лицевого скелета, исключительное развитие рельефа черепа,
значительное развитие сосцевидных отростков, относительно малая
высота черепной коробки, громадное развитие надбровного или надор-
битного валика, очень наклонное положение лобной кости, очень
малое выступание носовых костей. Достаточно примитивный комплекс
признаков налицо, и, видимо, он сыграл роль в возникновении в
последние годы стремления пересмотреть таксономическое положение
петралонского человека и отнести его к группе питекантропов".
В связи с этим пересматривается и сильно удревняется его
датировка100, что уже встретило обоснованные возражения101.
Морфологическая примитивность петралонского черепа также недостаточно
сильно выражена, чтобы исключить его из числа представителей
неандертальского вида 102. Таким образом, традиционная диагностика
кажется более оправданной в данном случае, а с ней и выделение
на основе морфологического сходства черепов из Петралоны и
Брокен-Хилла второго, африканского варианта в составе
неандертальского вида. Другие находки, относящиеся к этому варианту,—
череп из Салданьи в Южной Африке и череп из Афара в Эфиопии.
Последняя находка сделана недавно, еще не получила полной
морфологической характеристики, и при оценке ее морфологических
особенностей приходится опираться на опубликованную фотографию
черепа и предварительное морфологическое описание 103.
Своеобразие черепов из пещеры Мугарэт-эс-Схул в Палестине, о
которых уже упоминалось в первом разделе главы, многие годы
обсуждается исследователями с разных сторон — морфологической,
биомеханической, адаптивной, генетической104. Не останавливаясь
здесь на всех аспектах этого обсуждения, можно отметить его
основной итог — черепа Схул IV и Схул V имеют четко выраженный
набор прогрессивных признаков, фундаментально отличающий их от
других неандертальских форм. Многие горячие головы предлагали
даже исключить их на этом основании из неандертальского вида и
считать древними представителями Homo sapiens, однако подобное
предложение никак не может быть принято: на обоих этих черепах,
как и на других также морфологически прогрессивных черепах,
которые могут быть включены в эту группу, совершенно отчетливо
выражен такой важный диагностический признак неандертальского
вида, как надбровный или надорбитный валик. Другие черепа этой
группы — происходящие из соседних местонахождений находки в
пещерах Зуттие и Джебел Кафзех. Вся группа образует третий
вариант в составе неандертальского вида, который по наиболее важ-
2*
36 Глава первая
ному и давшему наиболее выразительный палеоантропологический
материал местонахождению можно назвать схулским. Наконец,
последний, четвертый вариант, который может быть установлен более
или менее определенно в морфологическом отношении и который
можно назвать переднеазиатским в широком смысле слова,
образуют находки в Амуде (Израиль), Шанидаре (Ирак) и Тешик-Таше
(Узбекистан). Скелеты из пещеры Шанидар именно в последние
годы послужили предметом углубленного изучения, после которого
мы располагаем детальными знаниями их морфологических
особенностей 105. Этот вариант в отличие от предыдущего характеризуется,
если оценивать его морфологию в целом, своеобразным сочетанием
примитивных и прогрессивных признаков и в этом отношении
достаточно четко противопоставляется остальным вариантам. Из
специфических признаков следует отметить общую массивность и очень
большие размеры лицевого скелета.
Мы остановились столь подробно на локальных вариантах
неандертальского вида в дополнение к тому, что сказано на эту тему в
томе 1, потому что постоянно появляются новые находки и в
деталях обогащаются наши знания, хотя точнее детализировать картину
внутривидовой структуры неандертальского вида мы пока не в
состоянии. Переходя теперь к установлению различий между
локальными вариантами неандертальца и Homo sapiens, мы, естественно,
сталкиваемся в первую очередь с комплексом межвидовых
различий между обоими видами. Об этом уже подробно говорилось, и
дальше есть смысл остановиться только на тех различиях, которые
выходят за рамки межвидовых. Все без исключения
верхнепалеолитические варианты более сходны с группой Схул, чем с любой
другой группой неандертальцев, но это обстоятельство также не
означает ничего, кроме упоминавшейся морфологической
прогрессивности черепов из Схул и соседних местонахождений на фоне
других неандертальских форм. Именно в этом сходстве видит свой
основной морфологический аргумент гипотеза моноцентризма106, но
он находит объяснение и с других позиций107.
Какие же можно назвать специфические различия между
локальными вариантами верхнепалеолитического человечества и
локальными группами внутри неандертальского вида? Высота
черепной коробки, как уже говорилось, больше у современного человека,
чем у неандертальца. Но верхнепалеолитические люди, за редкими
исключениями, имели гораздо более высокий череп, чем более
поздние формы Homo sapiens, и резче отличались от неандертальцев,
чем популяции эпохи железа, средневековые и современные в
узком смысле слова. Эти отличия видны как при определении
высоты черепа над его базальной областью, так и при сравнении
собственно высоты черепной коробки (рис. 8). Особенно отчетливы они
при сравнении гримальдийского варианта со всеми
неандертальскими, но обращают на себя внимание и во всех остальных случаях.
Морфологические процессы формирования нового вида на морфо-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
37
логической базе деандертальского протекали таким образом, что
некоторые характерные особенности этого нового вида были выражены
в протоморфных популяциях верхнепалеолитического человечества
сильнее, чем в более поздних. Причина этого неясна, но сам факт
не вызывает сомнений.
8 дополнение к этому следует сказать о размерах лицевого
скелета и структуре его горизонтального профиля. Лицевой скелет
современного человека много грацильнее — ниже и уже, чем у
неандертальца. Но отдельные варианты верхнепалеолитического
человечества, например, гримальдийский, почти не уступая представителям
мм
140
Рис. 8. Высота черепной коробки от базиона
в ископаемых и современных популяциях
1 — неандертальцы, 2 — верхнепалеолитические люди,
3 — современные негроиды (средняя по 12 сериям), /Jfl
4 — современные азиатские монголоиды (средняя по
9 сериям), 5 — современные европеоиды (средняя по
10 сериям)
неандертальского вида в лицевой ширине, отличались очень низким
лицевым скелетом, что ставит их, как и высота черепа, не на
промежуточное место между неандертальцами и поздними
популяциями Homo sapiens, а в стороне от прямой линии грацилизации,
соединяющей оба вида. И это обстоятельство требует специального
объяснения, хотя пока не видно эволюционных событий, которые могли
бы послужить причинами таких морфологических сдвигов.
Итак, отличия верхнепалеолитических локальных вариантов от
локальных групп внутри неандертальского вида охватывают
значительный набор признаков, составляющих морфологическую
специфику Homo sapiens. Но кроме этого, специфические различия между
верхнепалеолитическим человечеством и неандертальскими
популяциями проявляются в высоте черепа и пропорциях лицевого
скелета. Последнее характерно в особенности для гримальдийского
варианта. Эволюционные процессы, имевшие своим результатом в
данном случае подобные морфологические сдвиги, требуют
исследования.
6. Локальные варианты верхнепалеолитических
и неандертальских людей: сходство
В предыдущем разделе говорилось о различиях на фоне
непременного учета того очевидного обстоятельства, что сравниваются
представители двух видов с резко выраженной своей
морфологической спецификой. Сходство между ними должно оцениваться на том
же фоне. Это означает, что резкие морфологические различия не
/1 | | |
38
Глава первая
должны рассматриваться как доказательства hiatus'a и
невозможности эволюционных перестроек, если вообще мы принимаем
эволюционный принцип формирования вида современного человека на
основе неандертальского вида. Обширные данные, полученные
исследованиями в области эволюционной морфологии, свидетельствуют о
возможности достаточно широкой амплитуды морфологических
изменений, осуществляющихся за сравнительно короткие промежутки
времени. Поэтому настаивать на генетическом родстве
верхнепалеолитического населения Европы с группой Схул, скажем, опираясь
только на сходство элементов горизонтального профиля лицевого
скелета, было бы логически недостаточно, так как группа Схул
обнаруживает это сходство вследствие своей эволюционной продвину-
тости, ее неизвестные нам пока предки должны были иметь
горизонтальный профиль, типичный для других неандертальских форм, а
значит, и структура горизонтального профиля неандертальцев
Европы могла эволюционировать в современную. Этим проблема
выявления сходства между верхнепалеолитическими неоантропами и
локальными вариантами неандертальцев очень усложняется, но зато
осознание всех этих сложностей позволяет нам подойти к ней
гораздо более объективно и отказаться в ее трактовке от предвзятых
теоретических идей.
Прежде всего встает вопрос о сходстве верхнепалеолитических
популяций Европы с локальными вариантами внутри
неандертальского вида. Г. Ф. Дебец в свое время указывал, что сходство ранних
представителей современного вида в Европе с европейскими
неандертальцами проявляется во многих признаках, в частности в
резком горизонтальном профиле лицевого скелета и сильном выступа-
нии носовой области 108. Теперь, когда мы располагаем гораздо
более полной информацией, видны, как это уже было отмечено,
ощутимые различия в характере уплощенности лицевого скелета в
горизонтальной плоскости у неандертальцев и верхнепалеолитических
людей Европы 109. Широко распространенное представление о
сильном развитии носовой области у неандертальцев также не находит
подтверждения в измерительных данных: угол выступания носовых
костей на мужских черепах равен всего 17,8° (шесть черепов) по,
т. е. не превышает аналогичной величины у сибирских монголоидов.
На женских черепах он, правда, значительно больше и равен 25,7°
(три черепа)), т. е. превышает величину в мужской группе.
Подобное незакономерное отличие женских черепов от мужских само по
себе говорит об известной выборочное™ находящихся в нашем
распоряжении данных.
Любопытно отметить, что носовые кости у черепов из Европы
выступают заметно сильнее, чем по группе в целом. Приведенная
только что величина в женской группе вообще получена на черепах,
происходящих из Европы, так как другие находки не имеют
хорошо сохранившегося лицевого скелета. Мужские черепа из Европы
имеют среднюю угла 23,0° (три черепа). Таким образом, хотя раз-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
39
витие носовой области у европейских неандертальцев и уступает ее
развитию у верхнепалеолитических неоантропов Европы и более
поздних европейских популяций, но оно все же выделяет
европейскую группу среди других локальных вариантов неандертальцев.
Иными словами, налицо нет тождества в степени выступания носа
между населением Европы эпохи среднего и верхнего палеолита, но
есть очевидная тенденция в одинаковом по направлению развитии
этого признака. Можно сказать, что уже европейские неандертальцы
выделялись в пределах среднепалеолитической ойкумены
тенденцией к усиленному развитию носовой области, а затем эта тенденция
закрепилась и еще усилилась сначала при формировании
верхнепалеолитического населения Европы, а затем в ходе микроэволюции
европеоидной расы в целом.
Возникает вопрос, в общем побочный для нашей темы, но
интересный в связи с факторами расообразования и проявлением
морфологических адаптации при возникновении европеоидов: каковы
причины появления такой тенденции в развитии форм, населяющих
именно Европу? Имеется довольно много исследований о
морфологических особенностях носовой области, как проведенных в
условиях лабораторного физиологического эксперимента, так и
пытающихся открыть адаптивные приспособления в структуре носовой
области с помощью фиксации статистических зависимостей между
отдельными элементами этой структуры и факторами географической
среды111. Не углубляясь в детали, скажем лишь, что центральная
мысль многих из этих исследований состоит в том, чтобы
рассматривать носоглотку как место обогрева воздуха при дыхании в
холодном климате. Выступание носсвых костей увеличивает
протяженность носоглоточного хода и при прочих равных условиях как
будто должно способствовать интенсивности обогрева.
Заселение Европы несомненно поставило первобытных людей в
условия, в которых они не жили раньше,— в условия хотя и
периодического, но сильного холода и контрастной смены погодных
условий. В этой ситуации отбор на выработку адаптации к подобному
климатическому режиму — весьма вероятное явление. На это
можно было бы возразить, что в суровом климате Сибири не
образовалось аналогичной морфологической структуры, а сибирские
монголоиды отличаются плоским носом. Но такое возражение выглядит
убедительным лишь на первый взгляд —совершенно очевидно, что
выступание носовой области может влиять на популяционную
физиологическую приспособленность к холоду лишь вкупе с
комплексом других морфологических и еще более важных в этом смысле
физиологических адаптации, отбор на образование такого признака
не может быть интенсивным, а отсюда и длительность
формирования признака. Как свидетельствуют известные сейчас
археологические памятники, территория центральных и северных районов
Европы была заселена человеком значительно раньше, чем
территория Сибири.
40
Глава первая
Тенденция к образованию выступающей носовой области, уже
выраженная у европейских неандертальцев и достигшая сильного
развития у верхнепалеолитических людей Европы, не исчерпывает
морфологического сходства между этими двумя группами.
Европейские неандертальцы сильно ортогнатны, и той же особенностью
вертикального профиля лицевого скелета отличаются европейские
неоантропы. Таким образом, хотя видовая специфика и не позволяет
говорить об общем сходстве строения, но сходство это все же
проявляется в специфичных признаках, аналогичные или близкие
вариации которых легко могут быть истолкованы в рамках гипотезы
специфического генетического родства, связывающего относящееся
к разным хронологическим этапам население именно данного
огромного района.
Переходя к территории Африки, мы оказываемся в еще более
сложном положении, чем при рассмотрении ранних палеоантропо-
логических материалов с территории Европы. Выше уже говорилось,
что нам известен один верхнепалеолитический череп из Африки с
хорошо сохранившимся лицевым скелетом — череп Фиш Хок и два
таких же черепа из африканской группы неандертальцев — черепа
из Брокен-Хилла и Петралоны (упомянутая выше новая находка из
Эфиопии, как уже говорилось, пока остается подробнее
неописанной). На черепе Фиш-Хок были отмечены три типичных негро-авст-
ралоидных признака: прогнатизм, широконосость и исключительно
малое выступание носовых костей. Сразу же нужно подчеркнуть, что
перечисленные неандертальские черепа не обнаруживают такого
комплекса. Низкая черепная коробка, исключительное развитие
рельефа черепа, огромный массивный лицевой скелет, особенно
резко контрастирующий с грацильным скелетам всех без исключения
негроидных популяций Африки,— все эти признаки создают иной
комплекс, морфологически не похожий на комбинацию признаков
черепа из^ Фиш-Хока и современных негроидных популяций.
Именно это обстоятельство и использовалось в моноцентрической
гипотезе происхождения человека современного вида в качестве
доказательства отсутствия преемственности между неандертальцем и
человеком современного вида на территории Африки. Отдельные
попытки сторонников полицентризма продемонстрировать
морфологическое сходство между, скажем, черепами из Флорисбада и Брокен-
Хилла112 оказывались тщетными, так как они опирались на
единичные признаки и легко опровергались с помощью показа
значительных различий между этими двумя формами практически по всему
комплексу признаков пз.
Однако, пристально вглядываясь в морфологические
особенности палеолитического населения Африки, как мы их можем
представить по перечисленным единичным находкам, есть некоторые
морфологические основания все же оспорить моноцентрическую
точку зрения и отметить хотя и не особенно демонстративные, но
важные черты сходства между людьми из Брокен-Хилла и Петра-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 41
лоны и современными негроидными формами. Широконосость, столь
типичная для современных негроидов и сформировавшаяся уже в
эпоху верхнего палеолита, как показывает череп Фиш-Хок,
отпадает — оба африканских неандертальца на фоне других
неандертальских форм, как мы помним, широконосых, выделяются
сравнительно узким грушевидным отверстием, череп из Петралоны занимает
даже крайнее место, имея минимальную величину носового
указателя. Правда, с территории Северной Африки известен
неандертальский череп Джебел Ирхуд I, имеющий огромный носовой
указатель114 (его немного превосходит среди неандертальцев только
череп Джебел Кафзех VI115), но по всем остальным признакам он
представляет собою типичную европейскую форму, почему и
включен был нами в европейскую группу неандертальцев.
Возвращаясь к морфологическому облику людей из Петралоны и
Брокен-Хилла, можно отметить, что два других типично негроидных
признака — малое выступание носовой области и прогнатизм —
выражены у них, хотя и в разной степени. Выступание носовых костей
минимально на обоих черепах в неандертальской группе, и в этом
признаке они очень резко отличаются от всех других
неандертальских форм. Что же касается вертикального профиля лицевого
скелета, то прогнатизм не выражен сколько-нибудь отчетливо: по
отношению к черепу из Брокен-Хилла можно говорить о мезогнатизмег
вертикальный профиль лицевого скелета петралонского гоминида
стоит на границе между мезогнатизмом и ортогнатизмом. Ситуация
немного напоминает ту, с которой мы столкнулись при
рассмотрении выступания носовой области у европейских неандертальцев: как
и там, у африканских неандертальцев выражена лишь слабая
тенденция, которая развивается затем при формировании человека
современного вида.
Есть смысл продолжить эту аналогию между тенденциями
развития признаков и характером этих тенденций, ибо за ними встает,
похоже, фундаментальная закономерность, проявляющаяся на
ранних стадиях расообразовательного процесса. При рассмотрении
преемственности населения Европы с эпохи среднего палеолита до
верхнепалеолитического времени и дальше оказалось возможным
констатировать, что такой типичный для европеоидов признак, как
ортогнатный лицевой скелет, был характерен уже для европейских
неандертальцев. Для них же характерна и некоторая тенденция 1С
усилению выступания носовой области, получившая дальнейшее
развитие у .верхнепалеолитического населения Европы и в более
поздних европеоидных популяциях. У неандертальцев, входящих в
африканский локальный вариант, четко выражен один негроидный
признак — чрезвычайно малое выступание носовых костей;
наблюдается у них и слабая тенденция к образованию мезогнатного
лицевого профиля. Полный набор краниологических негроидных
особенностей можно фиксировать у сравнительно раннего Homo sapiens
на территории Африки — на черепе Фиш Хок. Таким образом, со-
42
Глава первая
временные расовые комбинации образовались не одномоментно
каждая, а прошли длительный период развития, складываясь
постепенно.
Интересно проверить, повторилась ли эта закономерность при
формировании монголоидной расы. Выше уже было сказано, что
характерный монголоидный комплекс признаков на
верхнепалеолитических черепах из пределов современного ареала монголоидной
расы хотя и фиксируется, но в достаточно невыразительной форме.
Другими словами, многие особенности этого комплекса
сформировались в постпалеолитическое время. Сравнение
верхнепалеолитических находок с территории Северной и Восточной Азии с более
ранними формами палеолитических гоминид из того же ареала
затрудняется плохой сохранностью единственного дошедшего до нас
в виде фрагментарных остатков черепа из Мапы, о котором уже
говорилось: мы практически ничего не знаем о строении лицевого
скелета у этого гоминида, тогда как именно строение лицевого скелета
высоко специфично для монголоидов. Два лицевых признака могут
быть фиксированы в данном случае И6: огромная высота орбит,
вообще типичная для неандертальцев, и плоские носовые кости, что
также характерно для многих ископаемых форм и объясняется
очень большой шириной носовых костей117. Чтобы расширить
рамки сравнения верхнепалеолитических людей с предшествующими им
гоминидами, необходимо поэтому выйти за рамки только
неандертальской стадии и привлечь известный материал по синантропу.
Как известно, лицевой отдел на черепах синантропа также не
сохранился, но состояние черепных крышек таково, что оно позволяет
измерить верхний угол горизонтального профиля. Сохранился и
корень носовых костей, что позволяет измерить симотические размеры
и вычислить симотический указатель. Хорошо выполненные муляжи
потерянных подлинных черепов синантропа хранятся во многих
музеях, что дает полную возможность повторного изучения и получения
любой необходимой информации. В широко известной монографии
Ф. Вайденрайха о черепе синантропа результатов перечисленных
измерений нет118, и они были получены на муляжах119. Лицевой
скелет в верхнем отделе был уплощен у синантропа лишь чуть больше,
чем у европейских неандертальцев, примерно так же, как у них,
было уплощено переносье. Зато у ланьтяньского гоминида и на
черепах из Нгондонга уплощенность лицевого отдела вверху заметно
больше 12°. По-видимому, тенденция к уплощению лица стала
проявляться на очень ранней стадии антропогенеза в Восточной Азии.
Что же касается уплощенности переносья, то в принципе это
вообще архаический признак, так как у всех без исключения приматов
носовая область развита меньше, чем у гоминид. В тех случаях,
когда мы имеем сохранившийся лицевой скелет у ранних гоминид, будь
то австралопитек, будь то ранние представители рода питекантропов,
у них всегда можно констатировать сравнительно слабое развитие
носовой области 121. Процесс расогенеза в восточной части Евразии
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
43
имеет ту специфику, что наследие предшествующих стадий
антропогенеза законсервировалось, и такая особенность, как уплощенное
переносье, сохраняясь как общее явление на стадии питекантропов
и неандертальцев, по-видимому, по всей первобытной ойкумене,
передалась верхнепалеолитическому и более позднему населению лишь
в ее восточных областях.
Подобное рассуждение применимо еще к одному признаку —
форме внутренней, так называемой лингвальной (обращенной к языку)
поверхности резцов. У синантропа, среди костных остатков
которого сохранилось много зубов, эта поверхность резцов, как показал
Ф. Вайденрайх 122, имеет так называемую лопатообразную форму,
которую А. Хрдличка считает в высокой степени типичной для
американских индейцев и азиатских монголоидов 123. Ф. Вайденрайх
видел в этом одно из доказательств родства современных монголоидов
с синантропом и использовал это предполагаемое родство для
обоснования своей гипотезы полицентрического происхождения
человека современного вида. Аргументируя гипотезу моноцентрического
происхождения Homo sapiens, Я. Я. Рогинский оспорил этот вывод,
указав на распространение лопатообразности резцов в других
популяциях ископаемых гоминид и на отдельные факты встречаемости
резцов подобной формы в современных или близких к
современности популяциях европеоидного происхождения124. Накопление
более полных знаний об ископаемых гоминидах показало, что,
действительно, многие неандертальские формы имели резцы
лопатообразной формы 125. Что же касается их распространения в
современных популяциях, то большая работа, проведенная на протяжении
последних десятилетий, продемонстрировала специфическую
приуроченность резцов такой формы именно к монголоидному стволу 126.
Будучи широко представленным у представителей рода
питекантропов и неандертальцев, этот признак, подобно плоскому переносью,
пережиточно сохранился в восточных районах Азии в популяциях
человека современного вида.
Переходя к хронологической оценке времени формирования
монголоидного комплекса признаков, мы сталкиваемся с той же
картиной, что и при формировании негроидов и европеоидов, т. е. не с
одномоментным возникновением соответствующего комплекса
признаков, а с медленным процессом последовательного появления
отдельных морфологических вариаций, типичных для будущего расового
ствола, которые могут трактоваться как расовые лишь в свете
последующей перспективы их развития. Формирование
верхнепалеолитического комплекса признаков в монголоидном варианте имело в
основе своей два процесса: сохранения и консервации древних
архаических особенностей (малое выступание носа и лопатообразность
резцов) и образования тенденции к уплощенности лицевого
скелета в горизонтальной плоскости. В слабой форме эта тенденция
возникла еще у представителей рода питекантропов и затем,
по-видимому, несомненно усилилась в верхнепалеолитическое время. Все
44
Глава первая
это элементы монголоидного комплекса признаков, но сам комплекс
в целом, как и европеоидный, сложился полностью лишь в
постпалеолитическое время.
Все сказанное закономерно обобщается в гипотезе этапов
формирования человеческих рас127. Согласно этой гипотезе, процесс
формирования морфологических особенностей трех основных
расовых стволов человечества — европеоидов, негро-австралоидов и
монголоидов распадался на ряд стадий, в пределах каждой из которых
складывались под влиянием разных причин определенные вариации
отдельных признаков. Этапы формирования человеческих рас
переходят в этапы расообразовательного процесса в целом, идеи
выделения и краткая характеристика которых принадлежит В. В. Буна-
ку128. На протяжении этих этапов не только процесс формирования
основных стволов постепенно сменился их дифференциацией, но и
усложнился значительно расовый состав человечества за счет
увеличения числа сравнительно поздних по времени своего
формирования локальных расовых вариантов. Поэтому, говоря о времени
формирования современных основных рас, нет возможности
фиксировать время их возникновения в узких хронологических пределах —
нижнего или среднего палеолита 129, верхнего палеолита 130,
мезолита или неолита 131. Каждая из этих формулировок несет в себе зерно
истины, но только зерно, так как ни одна из них не охватывает этой
истины в целом. А истина, как она реконструируется в настоящее
время на базе доступных нам палеоантропологических данных,
состоит, видимо, в том, что первые морфологические вариации, в
которых можно распознать отдаленные аналогии современным
расовым различиям, можно, действительно, увидеть в нижнем или
среднем палеолите; постепенно число таких вариаций увеличивается при
переходе к человеку современного вида, и окончательно
складываются морфологические комплексы оснрвных расовых стволов в
эпохи, следующие за верхним палеолитом (эта эпоха гораздо более
богато представлена в палеоантропологических материалах, чем
предыдущие, что и дает нам возможность конкретно исследовать
процессы расовой дифференциации и образования локальных расовых
вариантов).
Трактуя вопрос о сходстве верхнепалеолитического населения
отдельных областей перврбытной ойкумены с предшествовавшими ему
формами ископаемых гоминид и решая этот вопрос положительно,
невозможно, естественно, не коснуться упоминавшейся на
предыдущих страницах проблемы полицентрического или
моноцентрического происхождения человека современного вида. Впервые
предложенная Ф. Вайденрайхом 132, полицентрическая гипотеза вызвала
много дальнейших разработок, стимулировала теоретическую мысль
и имеет много сторонников133. Предложенная Я. Я. Рогин-
ским 134 в противовес Ф. Вайденрайху моноцентрическая гипотеза на
протяжении десятилетий развивалась и модифицировалась в
основном самим автором 135 и также пользуется широкой популярностью
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
45
среди специалистов 136. Продолжающаяся дискуссия между
представителями этих двух противоположных подходов к проблеме
происхождения Homo sapiens свидетельствует сама по себе о
недостаточности палеоантропологических материалов, находящихся в
нашем распоряжении, что и не дает возможности однозначно решить
эту проблему. Все же в свете приведенных данных,
свидетельствующих об известном морфологическом сходстве разных групп людей
верхнего палеолита и предшествующих им неандертальских
популяций, не очень убедительно выглядит повторяющийся
сторонниками моноцентризма тезис о том, что в пользу полицентрической
гипотезы говорят якобы только археологические данные 137: в пользу
полицентрической гипотезы говорят, как мы убедились, и некоторые
морфологические данные.
Здесь уместно привести одно общее соображение, касающееся
генетического истолкования морфологических данных.
Сколько-нибудь точные представления о генетической обусловленности
краниологических признаков, по которым ведется сравнение гоминид
разных хронологических этапов, отсутствуют. Проведен ряд
исследований, как будто свидетельствующих о довольно значительной роли
отбора в формировании вариаций многих признаков 138. Этим
подтверждается традиционное представление о существенной средовой
компоненте всех трансгрессивно варьирующих признаков, в том
числе и краниологических. Так как сравниваемые формы гоминид
разделены часто огромными промежутками времени, то совпадающие
вариации, теоретически говоря, могут быть следствием случайной
конвергенции, а различающиеся вариации могут совсем не
свидетельствовать непременно о разном происхождении. Все это
лишний раз подчеркивает значительную долю условности в
аргументации в защиту любой из упомянутых точек зрения. Однако нельзя
забывать и другого: в свете всего сказанного генетическая
преемственность могла иметь место и при отсутствии морфологического
сходства между формами, разделенными громадными временными
интервалами; при наличии даже слабых элементов такого сходства
вероятность такой преемственности заметно повышается.
7. Центростремительные и центробежные тенденции
в эволюции раннего Homo sapiens
Дискуссия между полицентристами и моноцентристами о путях
формирования Homo sapiens, несмотря на фрагментарность
имеющейся информации, приобретала иногда довольно острый
характер 139. Один из последовательных адептов полицентризма К. Кун,
абсолютизировавший многие положения Ф. Вайденрайха 140, даже
отдал дань расистским формулировкам 141. Недостаток фактических
данных, возможно, предопределил и самый характер дискуссий: от
обсуждения морфологических особенностей конкретных находок
46
Глава первая
мысль исследователей легко воспаряла в теоретические сферы,
выходя за рамки фактов и привлекая в случае их недостатка те или
иные достаточно умозрительные соображения.
В качестве примера можно привести обмен мнениями о роли ин-
тегративных факторов эволюции на этапе перехода от неандертальца
к Homo sapiens. Если этот переход осуществился в одном месте, то
единство популяций современного человека по многим ведущим
признакам, в число которых включаются и все диагностически
видовые, понятно и не требует специального объяснения. Если же этот
переход произошел в нескольких местах независимо, то тогда
видовое единство современного человечества становится
труднообъяснимым и будто бы противоречит якобы твердо установленной
эволюционной закономерности монофилетического происхождения видовых
категорий 142. Конкретная дискуссия о процессе становления Homo
sapiens переводится таким образом в гораздо более широкий по
смыслу и незаконченный до сих пор спор о характере
эволюционного процесса в целом и интегративных механизмах формирования
видов в частности, т. е. на уровень обсуждения самых кардинальных
проблем современной теоретической биологии.
Не вдаваясь в подробности, нужно отметить тем не менее два
обстоятельства. Именно потому что в проблемах микроэволюции
многое остается неясным (это касается не только факторов
внутривидовой дифференциации, но и путей популяционной интеграции,
приводящей сначала к образованию надпопуляционного уровня
изменчивости, а затем в потенции и к формированию нового вида),
сейчас идет буквально поток исследований, посвященных как
экспериментально-генетическому, так и
территориально-экологическому изучению видовой изменчивости. Результаты всех этих
исследований далеко не однозначны, они показывают исключительное
разнообразие путей видообразования и форм внутривидовой
дифференциации, как моно-, так и полифилетическое образование новых
видов внутри различных крупных таксонов 143. Постулирование только
монофилетической точки зрения как однозначно вытекающей из
результатов эволюционных исследований, обедняет понимание
богатства форм и путей эволюционного процесса, выдает оно и желаемое
за действительное, привлекая к решению антропологических
проблем лишь один заведомо не единственный подход из обширной
литературы по эволюционной биологии. Еще одно обстоятельство
состоит в том, что в исследованиях о роли естественного отбора на
самых разных уровнях интеграции и дифференциации живого, а таких
исследований сейчас проводится в различных странах великое мно-
жество 1М, демонстрировалось не раз, как при направляемой
адаптивными факторами эволюции стабилизирующий отбор создает
видовое единство в комплексе признаков на месте предшествующего
морфологического разнообразия. Таким образом, и в этом случае,
перенося общебиологические наблюдения на решение
антропологической проблемы, мы не должны постулировать достаточно узко-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
47
го и предвзятого тезиса об образовании каждого нового вида на
базе одного старого.
Переходя от этих общих соображений к оценке общих
эволюционных тенденций в происхождении Homo sapiens, необходимо
принять во внимание очевидное обстоятельство, которое во всех
рассуждениях о невозможности формирования единого вида на основе
различных расовых комплексов игнорируется. Между тем это
обстоятельство теоретически чрезвычайно важно и без его учета
проблема формирования человека современного вида не может быть
решена правильно. Речь идет о разных сочетаниях признаков, которые
входят в видовую диагностику, с одной стороны, и образуют
расовые маркеры, с другой. Видовой комплекс отличительных
диагностических признаков человека современного вида был описан в первом
разделе главы. Он образовался, нужно думать, как и любой другой
видовой комплекс, под давлением стабилизирующего отбора
определенной силы, которую нам еще предстоит специально исследовать.
Факторы расообразования, особенно на ранних этапах,
многократно обсуждались, ясно, что в расообразовании играют роль и
изолирующие, и адаптивные механизмы. С предположительной
трактовкой развития носовой области как адаптивного признака у
европеоидов мы уже столкнулись в предшествующем изложении, и здесь
следует подчеркнуть, что подобные морфологические адаптации, как
уже и говорилось, носили ограниченный характер и выполняли свои
функции лишь вместе с физиологическими адаптациями. Это
означает, что действие отбора на расовые признаки никогда не было
сильным в противовес сильному давлению на диагностирующий
видовой комплекс признаков, что и позволило сформироваться
новому виду, в данном конкретном случае виду современного человека.
Слабое давление отбора на расовые комплексы объясняет и
длительный период их формирования, и возможность складывания на их
основе видового комплекса. Центростремительная тенденция,
выраженная стабилизирующим отбором, оказалась действеннее, чем
центробежные, находящие выражение в формировании расовых
комбинаций.
Осталось охарактеризовать ту форму отбора, которая была
ответственна за возникновение и развитие расовых комплексов. Их
возникновение, можно предполагать, хотя бы частично было связано
с расселением древнейшего человечества по ойкумене, расширением
его ареала и частичными разрывами этого ареала. В биологической
литературе по общей теории эволюции отбор с центробежными
тенденциями, действующий на локальные популяции в пределах
большого ареала, называют дизруптивным145 или разнообразящими6.
Оба термина в принципе одинаково удачны и могли бы быть
приложены и к человеку. Но современный человек — во многом
уникальный вид, в частности он, единственный из видов, занимает
поверхность практически всего земного шара. Хотя первобытная ойкумена,
как мы убедимся в следующем разделе, и росла медленно, но к по-
48
Глава первая
явлению Homo sapiens она охватывала почти всю территорию
Старого Света. Центробежный отбор в этих условиях приобретал
особую специфику, арена его действия дробилась территориально на
локусы разного объема, различные экологические ниши, и даже в
соседних нишах он мог действовать в противоположных
направлениях, способствуя закреплению контрастных вариаций. Поэтому
было предложено эту форму отбора, до какой-то степени
специфическую для гоминид, называть рассеивающей 147.
8. Динамика изначальной ойкумены
в Старом Свете
При исключительной редкости палеоантропологических находок,
особенно ранних гоминид, наши представления о величине
ойкумены на разных этапах истории первобытного общества целиком
зависят от прогресса археологических исследований. На протяжении
десятилетий эти исследования, как известно, преимущественно
концентрировались в Европе и в бывших колониальных странах,
благодаря чему очень многие районы Старого Света (а именно Старый
Свет нас и будет интересовать в этом разделе, так как ни в
Австралию, ни в Америку люди не проникали, как мы в дальнейшем
убедимся, до эпохи верхнего палеолита и появления Homo sapiens),
оставались полностью неизвестными на предмет открытия в них
памятников палеолита. Только в последние два десятилетия положение
медленно меняется, но все равно мы продолжаем ничего не знать
о палеолите многих ключевых районов Африки и Азии, особенно
районов тропического леса. Поэтому следует отчетливо сознавать,
что все последующее, что будет сказано в этом разделе относительно
роста первоначальной ойкумены, основано на выборочной
информации и носит, следовательно, характер предварительных заключений.
В томе 1 были приведены аргументы в пользу того, что
прародина человечества, т. е. та территория, в пределах которой
произошло выделение человека из животного мира, локализовалась,
по-видимому, в Африке. После длительного и безраздельного господства
азиатской гипотезы прародины человечества, не сдавшей, правда,
полностью своих позиций и по сей день 148, наука на новом
теоретическом уровне, опираясь на гораздо более полные фактические
данные, вновь постепенно возвращается к старому взгляду Ч. Дарвина,
исходившему в аргументации африканской прародины человечества
из того уже в его эпоху установленного факта, что ближайшие
родственники человека из числа человекообразных обезьян —
шимпанзе и гориллы — живут в Африке 149. Таким образом, если мы
принимаем африканскую прародину происхождения человечества, то
мы должны и древнейшие остатки человеческой деятельности
искать на территории Африки, а также попытаться очертить границы
предполагаемой прародины, исходя из местоположения находок
древнейших-гоминид и результатов их трудовых операций. Уже бы-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
49
ла предпринята попытка очертить условные границы прародины на
географической карте в виде правильной концентрической
окружности, но такой графический способ слишком условен и годится
лишь как первое приближение 15°.
Обращаясь к археологии Африки, следует подчеркнуть, что она
подарила нам в последние годы много выдающихся открытий,
относящихся в первую очередь к древнейшим этапам развития
палеолита 151.
Наиболее замечательным из этих открытий и действительно
уникальным является открытие древнейшей в мире олдовайской
каменной индустрии в широком смысле, которая может претендовать
на место наиболее древней и по своей типологии, и по характеру
стратиграфического залегания152. Ни на каких других материках
она пока не открыта, концентрируется преимущественно в
Центральной и Восточной Африке, представляет собой древнейший этап
развития каменной индустрии и является существенным
аргументом в пользу именно африканской прародины человечества. В
дополнение к этому нельзя не упомянуть, что, несмотря на
многочисленные критические оценки 153, сохраняют значения старые
наблюдения Р. Дарта о костяной и роговой индустрии австралопитеков,,
населявших Южную Африку154. В последние годы обращено
внимание на то обстоятельство, что ранние этапы антропогенеза в
Африке связаны с горными поднятиями и вызванным ими фоном
повышенной радиации 155, что опять заставляет нас вспомнить о горных
районах Южной и Восточной Африки, а обобщенно говоря, о
Высокой Африке в целом. Таким образом, если говорить о прародине
человечества и развитии семейства гоминид (см. том 1) в виде
австралопитеков, то, по-видимому, есть полное право границы, в
пределах которых локализовалась эта прародина и осуществлялось
это развитие, очертить в пределах всего африканского материка,
исключая, может быть, только территорию Северной Африки.
Дальше мы переходим к ранней стадии классического
палеолита, как он был установлен сначала на основании раскопок и
поверхностных сборов в Европе, ранее всего во Франции 156, к
нижнему палеолиту, который раньше делили на две последовательные
хронологические типологически различающиеся стадии — шелль-
скую и ашельскую, но в новейшей литературе он фигурирует как
полный аналог лишь одной ашельской стадии, трактуемой теперь
расширительно и в типологическом, и в хронологическом смысле 157.
Ашельские памятники известны из Средиземноморья158, Передней
и Средней Азии159, с территории Кавказа160, из Южной
Азии 161, Юго-Восточной Азии 162, Центральной Азии 163 и с
территории Китая164. По-видимому, их нельзя считать полностью
синхронными, но для нашего положения это и неважно, главное, они
позволяют утверждать, что в эпоху нижнего палеолита первобытная
ойкумена значительно расширилась по сравнению с ойкуменой
австралопитеков, питекантропы распространились далеко к северу от
50
Глава первая
ареала первоначальной прародины. Совершенно очевидно, что гоми-
ниды продолжили развиваться и в зоне первоначальной
прародины, и нижний палеолит в виде ашельских памятников представлен
в Африке достаточно богато, знаем мы теперь в общих чертах и
морфологию африканских питекантропов 165. Для определения северных
границ ойкумены на этой стадии не последнюю роль играют
новейшие работы над датировкой Улалинки — нижнепалеолитического
местонахождения на Алтае с очень аморфным, типологически
неотчетливым каменным инвентарем, но датируемого очень ранним
временем и, по-видимому, одного из древнейших в Азии 166.
Переходя к эпохе среднего палеолита в развитии каменной
индустрии и неандертальской фазе в эволюции гоминид, есть все
фактические основания констатировать дальнейшее и очень значительное
расширение первобытной ойкумены, особенно в северном
направлении. Вся Европа, за исключением северных районов, уже
заселена в эту эпоху человеком. Относительно заселения Сибири
существовали до недавнего времени противоречивые мнения 167,
опиравшиеся в основном на палеогеографические соображения, однако
единичные, но выразительные находки 168 позволяют не согласиться с
мнением о заселении территории Сибири человеком лишь в эпоху
верхнего палеолита. Опираясь на эти находки, можно думать, что
степные и даже лесостепные районы Сибири были освоены
человеком уже в эпоху среднего палеолита 169. По-видимому, к этой же
эпохе относится и первое появление человека на Японских островах 170.
Возвращение к темам, которые уже получили какое-то
освещение в томе 1, а именно к динамике расселения человечества в ходе
эволюции гоминид, диктуется очевидным требованием исторически
подойти к оценке размеров и характера первобытной ойкумены в
верхнепалеолитическую эпоху. Если в предшествующие периоды
истории первобытного общества расселение первобытных человеческих
коллективов несомненно напоминало то, что в биогеографической
литературе часто называют «кружевом ареала» 171, т. е. между
заселенными районами пролегали большие незаселенные расстояния,
то в верхнепалеолитическое время плотность населения выросла и
незаселенность районов обусловливалась только их непригодностью
для обитания. Так же как в предшествующую эпоху, были освоены
многие равнинные районы, например равнинные районы центра
Восточной Европы 172; были заселены, на что есть археологические
доказательства, области высокогорий 173 и огромных лесных
массивов, что оказывалось возможным при расселении на север по
долинам рек 174. Вопрос о заселении Скандинавии именно в палеолите,
а не в мезолите, как и вопрос об освоении в палеолите тундровой
зоны Евразии (речь идет именно об освоении, а не о спорадических
заходах верхнепалеолитических охотников туда с юга),
продолжает оставаться дискуссионным 175, но дискуссия эта имеет лишь
исторический интерес. Самый факт проникновения человека в Америку
в верхнепалеолитическое время служит надежным доказательством
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
51
освоения верхнепалеолитическим человеком способов жизни в
тундре. Верхнепалеолитическое человечество достигло такого уровня
технической оснащенности и такой плотности населения, что оно
готово было заселить весь земной шар, чему доказательством
является не только заселение Америки, но и заселение Австралии с
Новой Гвинеей.
9. Заселение Америки
Обсуждение проблем заселения Америки концентрировалось
продолжительное время не вокруг реконструкции расселения
человеческих популяций по этой части света и приспособления их к
жизни в разных ландшафтных зонах, а вокруг путей или пути, по
которым или по которому человек попал в Америку. То, что это
событие произошло на каком-то довольно позднем отрезке истории
четвертичного периода, в позднем плейстоцене или на рубеже
плейстоцена и голоцена, стало ясно уже 40—50 лет тому назад, так как
в пределах Америки нет и никогда не было узконосых обезьян 176, а
все ископаемые находки якобы очень древних представителей го-
минид оказались плохо определенными костными остатками других
млекопитающих 177, и сейчас вся острая полемика вокруг них,
имевшая место в свое время, сохраняет лишь исторический интерес.
Правда, и в настоящее время появляются в литературе описания
археологических и палеоантропологических находок, которым
приписывается большая древность, соответствующая древности поздних
этапов мустьерской культуры в Европе 178, но все эти описания
вызывают серьезные сомнения у специалистов и не выдерживают
пристальной критической ревизии 179.
Итак, в конце плейстоценовой эпохи человек современного вида
появился на территории Америки, принеся с собой культуру
верхнепалеолитического облика. Встает вопрос: — откуда появился?
Теоретически говоря, возможны четыре альтернативы: — из Европы
через Гренландию, из Африки или Средиземноморского бассейна
через предполагаемый древний мост, остатком которого являются
Канарские острова, из Юго-Восточной Азии и западных районов
Океании через Тихий океан и, наконец, с территории
северо-востока азиатского материка через Берингов пролив. Эти четыре
теоретически возможные альтернативы можно дополнить пятой: все пути
имели место или часть из них и, следовательно, население
Американского континента имеет смешанное происхождение, в его
образовании приняли активное участие разнообразные компоненты разного
расового и культурного происхождения. Все эти альтернативы
широко обсуждались в литературе на разных стадиях развития науки,
и хотя сейчас путь через Берингов пролив доказан многими очень
вескими данными, он считается основным и даже практически
единственным, но рассмотрение других альтернатив остается
поучительным, так как оно иллюстрирует сложные и увлекательные пути на-
52
Глава первая
учного поиска, а кроме того, какие-то рецидивы гипотез,
привязанных к этим альтернативам, периодически вновь возникают,
стимулируя практическое обсуждение всей проблемы заселения Америки
в целом.
Европейская гипотеза постоянно инспирировалась
общеизвестными историческими фактами заселения Исландии и Гренландии,
интерес к ней в широкой публике возрос после появления
информации о том, что европейцы достигли Ньюфаундленда через
Гренландию задолго до Колумба 180. Однако все это поздние и малолюдные
движения населения. Научному обсуждению эта гипотеза была
подвергнута последний раз на страницах международного журнала
«Current Anthropology», в этом обсуждении приняли участие
виднейшие специалисты по доистории Америки, палеолиту и
первобытному искусству181. Инициатор дискуссии Э. Гринмэн доказывал
преимущественное заселение Америки из Европы, сопоставляя
сюжеты верхнепалеолитического изобразительного искусства Европы
и древнего искусства аборигенов преимущественно северных
районов Северной Америки. Однако все критики, выступившие по его
статье, отметили, что все приводимые им аналогии могут иметь и
конвергентное происхождение, среди них нет таких, которые
отличались бы специфическим сходством, свидетельствующим о
генетическом родстве. В добавление к этому следует сказать, что недавняя
сводка и сравнительное исследование личин на петроглифах
Северной Америки и масок в древнем искусстве североамериканских
индейцев показали глубокие и специфические аналогии им в древнем
искусстве Сибири и Дальнего Востока 182. В четвертичной истории
севера Атлантического океана современные геологические
исследования не фиксируют никаких событий, которые могли бы
привести к возникновению мощных мостов суши между Европой и
Северной Америкой, существовавших сколько-нибудь длительное
время 183.
Непосредственное отношение к разбираемой европейской
гипотезе заселения Америки имеет еще одна линия сопоставлений. Речь
идет о физических особенностях коренного населения Америки.
Своеобразие физического типа американских индейцев давно обратило
на себя внимание исследователей. Их очевидные отличия от
европейцев не давали возможности рассматривать их как ответвление
европеоидного расового ствола, и очень скоро их стали сближать с
азиатскими монголоидами 184. Но такие отличительные особенности,
как выступающий нос с высоким переносьем, острый профиль лица
в горизонтальной плоскости, отсутствие эпикантуса, столь
характерного для монголоидов, позволили многим авторитетным
антропологам защищать гипотезу об участии древних представителей
европейской расы в формировании антропологического состава
коренного населения Америки 185. Одно время такая гипотеза
интерпретировалась как расистская 186, но это объясняется не сущностью самой
гипотезы (признание динамики антропологических признаков во
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
53
времени давно уже стало азбукой антропологической науки,
динамика их ареалов в пространстве в ходе времени не менее закономерна,
являясь результатом изменений в численности и плотности
населения, миграций и подтверждаясь десятками палеоантропологических
примеров), а склонностью ее авторов к расистским формулировкам
в своих общетеоретических построениях 187. Однако их общие
взгляды целесообразно отделять от конкретных фактических
наблюдений, а именно они нас в данном случае интересуют. Последние
работы по палеоантропологии Центральной Азии приносят все более
обильные свидетельства широкого распространения там европеоидов
в древности 188, что автоматически приводит к признанию
возможности их взаимодействия с теми исходными монголоидными
популяциями, которые дали начало американским индейцам. Но в этом
-случае, возвращаясь к гипотезе европейской прародины коренного
населения Америки, следует подчеркнуть, что возможное наличие
древней европейской крови у индейцев Америки не может
использоваться для доказательства этой гипотезы и легко объясняется без
ее помощи.
Гипотеза средиземноморского или африканского мостов и
заселения обеих Америк из Африки или из бассейна Средиземного моря
неразрывно связана с разработкой проблемы существования
Атлантиды.
Рассказ Платона об Атлантиде оказался столь интересен и
привлек такое внимание на протяжении истории, что ему
посвящены, вероятно, тысячи самых разнообразных работ как мистического,
так и вполне реального, можно даже сказать, вполне научного
содержания 189. В нашей стране этому сюжету отдали дань даже
поэты — В. Я. Брюсов попытался, опираясь на современную ему, очень
ограниченную литературу о раскопках в Африке, научно
разрабатывать проблему возникновения цивилизации в Атлантиде и исходя
из нее — людских и культурных волн в различных направлениях,
в том числе и в Америку 190, К. Д. Бальмонт писал о портретных
совпадениях африканской и центральноамериканской скульптуры
после своего мексиканского путешествия 191. Увлечение Атлантидой
до недавнего времени доходило до такой степени, что многие даже
критически мыслящие исследователи, занимаясь
палеогеографическими реконструкциями, определяли местоположение Атлантиды 192г
Однако геология и исследование дна Атлантического океана встают
на пути признания этой гипотезы заселения Америки 193: довольно
высокое поднятие идет вдоль, а не поперек дна океана, с юга на
север, никаких существенных изменений глубин на протяжении
последних 30000—40000 лет не происходило. Что касается
отмечавшихся культурных аналогий с Африкой, то они очень поверхностны
и не выдерживают современной научной критики194. Если говорить
об антропологической стороне дела — неоднократно отмечавшейся у
центрально- и южноамериканских популяций тенденции к волнисто-
волосости и темнокожести, то во многих случаях она требует под-
54
Глава первая
тверждения, а в остальных легко объясняется смешением с
негритянским населением, ввезенным в Америку европейцами 195.
Содержание океанической гипотезы состояло в том, что
переселенцы в Америку или большая их часть имели происхождение в
Юго-Восточной Азии, в материковой или даже островной ее части,
и попали в Америку, используя тихоокеанские течения и
архипелаги Полинезии в качестве промежуточных, иногда очень длительно
обживавшихся лагерей. Нельзя не отметить, что, скажем, такие
признаки физического типа некоторых групп американских индейцев,
как волнистые волосы и некоторая темнокожесть, рассматривались
в этой гипотезе, особенно на первых порах ее развития, как
свидетельство именно океанических, а в пределах Океании —
меланезийских связей, а не древних африканских контактов, как в гипотезе
предшествующей 196. Однако по мере накопления знаний об
этнологии островного мира Океании для переселений в Америку через
Тихий океан остается все меньше, если можно так выразиться, места;
иными словами, в пользу контактов через Тихий океан нельзя
сейчас привести никаких сколько-нибудь научных данных. Между
наиболее восточными островами Полинезии и западным побережьем
Американского материка остается около 2000 км морского пути, и
поэтому в настоящее время никто всерьез не считается с этим
вариантом гипотезы заселения Америки. Некоторое оживление вокруг
нее возникло в связи с известным плаванием Т. Хайердала через
Тихий океан на плоту 197 и его попыткой доказать, что Полинезия
заселялась не только с запада, но и с востока (собственно, что она
заселялась преимущественно с востока), а значит, что имели место
и обратные движения на восток, из Полинезии в Америку 198. Это
тем более вероятно, что течения в Тихом океане имеют круговой
характер 199. Однако при всей масштабности плавания Т. Хейердала,
его географического подвига научная сторона его аргументации
многократно подвергалась критическим оценкам200 и ηίβ воскресила
океанической гипотезы заселения Америки, окончательно
перешедшей после этого в архив истории науки. Некоторые исследователи
допускают эпизодические плавания в восточном направлении,
достигавшие американского берега201, но они, если даже и имели место,
не могли составить серьезного миграционного потока.
Все предшествующее изложение было нацелено на то, чтобы
показать, что из всех теоретически возможных путей заселения
Америки практически был реализован в широких масштабах лишь один
путь — из Азии через Берингов пролив. Заселение территории
Америки осуществлялось таким образом с севера на юг, и группы
верхнепалеолитических, а наверное, и мезолитических охотников,
принимавших участие в этом процессе, должны были последовательно
осваивать зону за зоной, начиная с северной тундры и кончая
тропиками, чтобы затем опять переходить во все более и более
холодные районы. Естественно, такое движение не могло носить
характера стремительного миграционного потока, оно имело характер очень
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
55
медленной диффузии с севера на юг, с обратными миграциями, со
стремительными маршами отдельных протоиндейских или, как
принято писать в североамериканской этнологии и археологии, палеоин-
дейских племен в ранее незаселенные микрорайоны; в ходе такой
диффузии происходила постоянная перестройка культуры,
осуществлялась и биологическая дифференциация популяций,
отличавшаяся своеобразными чертами по сравнению с аналогичным
процессом в Старом Свете.
В настоящее время Берингов пролив имеет ширину около
100 км, псбережье Аляски видно в хорошую погоду из района мыса
Дежнева; в середине пролива расположены два значительных по
площади острова — Ратманова и Крузенштерна, или, как их
называют в американской географической литературе, Большой и Малый
Диомиды. Берингово море, как и Чукотское, отличается тяжелым
ледовым режимом и очень суровыми погодными условиями даже
летом. Тем не менее эскимосы до недавнего времени легко
преодолевали расстояние от мыса Дежнева до мыса Принца Уэльского или
наоборот, пользуясь моторными вельботами. Вероятно, они
многократно преодолевали это расстояние и до появления у них моторов,
этнографическая традиция и культурные контакты
свидетельствуют о регулярных плаваниях через Берингов пролив в обоих
направлениях — как от Азии к Америке, так наоборот202. Однако не
следует забывать, что эскимосы, как впрочем, и усвоившие их образ
жизни береговые чукчи, являются обладателями традиций
высокоспециализированной морской охоты в холодных водах, что традиции эти
мы фиксируем во вполне развитом виде уже на рубеже нашей эры и
в первые века нашей эры203, что образование этих традиций
уходит во II тыс. до н. э.204, а многие исследователи видят их
формирование и в более раннюю эпоху205. Иными словами, в лице
эскимосов — жителей крайнего Северо-Востока Азии и самых северных
районов Северной Америки перед нами опытные мореплаватели в
прибрежных холодных водах, предпринимавшие и достаточно
далекие плавания, народ, издавна приспособленный к тяжелейшим
условиям жизни в Азиатской и Американской Арктике206. Многие
(если не подавляющая часть) народы Северной, а тем более
Центральной и Южной Америки не имеют никаких традиций прибрежной
жизни, представляют собою типично сухопутные популяции, не
имели никаких контактов с морем и в прошлом, иначе, очевидно, хотя
бы слабые воспоминания о таких контактах сохранились в
фольклоре, и этнографии. А это приводит к мысли, что их предки, даже
отдаленные, не прошли путь крайней специализации к морской охоте в
северных ледовых водах (без такой специализации к морской охоте
на крупных млекопитающих в Американской Арктике просто
невозможно выжить) и должны были проникнуть в Америку
сухопутным путем.
Все изложенное объясняет, почему проблема Берингии —
огромного сухопутного моста, соединявшего Азию с Америкой в четвер-
56
Глава первая
Рис, 0. Древняя Берингия во время максимума висконсинского
оледенения (по У. Хаагу)
тичное время, привлекла столь пристальное внимание в последние
два десятилетия. Ей посвящены обстоятельные труды двух очень
крупных симпозиумов, проведенных в США и СССР207, в этих
симпозиумах приняли участие специалисты самого широкого профиля;
как историки в широком смысле слова (археологи, этнографы,
специалисты по истории русского населения Америки, лингвисты,
работающие над проблемами генеалогических взаимоотношений
языков и языковых контактов), так и представители
естественнонаучных дисциплин. Но и после этих симпозиумов интерес к проблеме
Берингии не угас208, и она продолжает оставаться одной из
центральных в изучении палеоэтнологических и антропологических
проблем Северной Америки.
Палеогеографические, флористические и фаунистические
реконструкции показывают, что климатические и природные условия
Берингийской суши были намного благоприятнее современных в
этом районе209; во всяком случае, она служила путем миграций не
только для человека, но и для крупных млекопитающих. Они
проходили по кромке ледника с юга, в условиях ландшафта,
приближающегося к современному таежному. Совершенно естественно, что
стада крупных млекопитающих, многочисленные в эпоху
плейстоцена, составляли объект охоты и обильный источник пищи для еле-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
57
дующего за ними верхнепалеолитического человека, и возможно,
пути миграций млекопитающих были первыми путями движения
человеческих коллективов в пределы Северной Америки. Очертания
Берингийской суши менялись в ходе времени (рис. 9), наверное,
она унесла с собой много археологических памятников эпохи
вступления человека на Американский континент, но, во всяком случае,
на протяжении нескольких тысячелетий по ней проходили многие
группы с разными культурными традициями, что и объясняет как
большое изначальное разнообразие культурных и технологических
традиций древнейших аборигенов Америки, так и фиксируемое
сейчас их значительное антропологическое разнообразие.
Высказывавшаяся рядом исследователей точка зрения о заселении Америки
небольшой группой людей, численностью максимум в несколько сот
человек210, представляется излишней, так как лежащий в основе
этой точки зрения факт исключительного единства всех
американских индейцев по подавляющему распространению одного из генов
групп крови системы АВО легко получает и иное объяснение211.
Каков тот хронологический рубеж, на котором человечество
перестало удовлетворяться географическими рамками Старого Света и
вступило в Новый? Первые датировки, полученные с помощью
радиоуглеродного метода212, пришли в противоречие с результатами
геологических наблюдений, датировавших различные этапы
наступления ледника на Аляске и в прилегающих районах более поздним
временем213. В дальнейшем тенденция удревнения первого
появления людей в Америке продолжала развиваться, и хотя, как уже
говорилось, не обнаружилось никаких следов доверхнепалеолитическо-
го человека в Америке, но даты наиболее ранних памятников
доходили почти до 40 000 лет, что соответствовало наиболее ранним датам
появления Homo sapiens в Старом Свете и рождало, естественно,
некоторое недоумение. Одна из таких дат почти в 40 000 лет,
привязанная якобы к остаткам человеческой деятельности (раскопки в
Техасе) и считавшаяся достаточно надежной, обсуждалась во
время происходившего в США конгресса по четвертичной геологии и
не получила подтверждения214. В настоящее время имеет место
обратная тенденция — некоторого уменьшения полученных с помощью
радиоуглеродного метода дат древнейших достоверных следов
человеческой деятельности на территории Американского континента: в
пределах Северной Америки они не поднимаются выше 12 000—
13 000 лет, а в пределах Центральной и Южной Америки дают те же
цифры ^5.
Итак, исторически важное в развитии первобытной ойкумены
событие — вступление человека на Американский континент
произошло, по всей вероятности, на европейский масштаб в эпоху средней
поры верхнепалеолитического времени и было осуществлено
несколькими волнами переселенцев. Древнейшие культуры каменной
индустрии, выделяемые по технике обработки камня и форме
типичных орудий, своеобразны, и хотя предпринимались многочисленные
58
Глава первая
попытки найти им ясные аналогии на территории Азии, следует
признать все эти попытки пока д:статочнт безрезультатными216.
Поэтому при рассмотрении проблемы генезиса древнейшего
населения Америки огромную роль всегда играли и продолжают играть
антропологические данные. Пионер антропологического изучения
американских индейцев А. Хрдличка безоговорочно считал
американских индейцев ближайшими родственниками сибирских
монголоидов217— точка зрения, защищаемая рядом исследователей и в
настоящее время218. Однако на пути ее принятия лежат ощутимые
морфологические различия между первыми и вторыми: отсутствие или
малое развитие эпикантуса у американских индейцев, наличие у них
таких признаков, как острый профиль лицевого скелета в
горизонтальной плоскости и значительное выступание носовых костей219.
По этим признакам американские индейцы напоминают не
сибирских монголоидов, а лишь популяции с небольшой монголоидной
примесью, например финно- и тюркоязычные народы Поволжья.
Обзор древних палеоантропологических находок с территории обеих
Америк предпринимался не один раз220. При плохой сохранности и
сомнительной датировке многих из них все же, по-видимому,
можно сказать, что те же физические особенности, что и у современного,
были выражены у древнего населения Америки. Отсюда и возникла
гипотеза о том, что коренное население Америки является прямым
потомком протоморфных монголоидов, населявших не Северную
Азию, а более южные районы Азиатского материка;
морфологические особенности этих протоморфных монголоидов были
законсервированы в условиях изоляции на Американском континенте221.
Что сказать о морфологических и генетических основаниях этой
гипотезы? Морфологический облик современных монголоидов,
действительно, как мы видим, был гораздо слабее выражен у
верхнепалеолитического населения Восточной Азии. В то же время
отдельные монголоидные особенности, вроде лопатообразной формы
внутренней поверхности резцов, у американских индейцев представлены
в подавляющем проценте случаев. На территории Азии значительное
понижение частоты лопатообразности территориально совпадает с
очень сильным развитием отличительных признаков монголоидного
комплекса — речь идет о тунгусо-маньчжурских народах Сибири222.
На территории Америки мы не сталкиваемся с подобными
явлениями. Отличались ли протоморфные монголоиды таким же
подавляющим преобладанием лопатообразности, как и современные
американские индейцы? Или они напоминали в этом отношении тунгусо-
маньчжурские народы Сибири? При отсутствии популяционных
данных по верхнепалеолитическому населению Азии и при почти
полном отсутствии палеоантропологических материалов с территории
Сибири223, об этом приходится только гадать.
Таким образом, исходный морфологический комплекс тех
популяций, которые первыми заселяли Америку, еще требует серьезных
дальнейших исследований. Более или менее вероятно, что заселение
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 59
Америки происходило не только из внутренних районов Азии, но и
вдоль тихоокеанского побережья. Также, по-видимому, вероятно, что
морфологические популяции, давшие начало миграционным волнам,
отличались от современных азиатских монголоидов во многих
отношениях. Но гипотеза консервации протомонголоидного комплекса в
условиях Америки не исчерпывает всей сложности проблемы.
10. Заселение Индонезии, Австралии
и Новой Гвинеи
Из тома 1 мы знаем, что Ява была на протяжении многих лет
и остается настоящим Эльдорадо для палеоантропологов,
занимающихся древнейшими гоминидами, давала и продолжает давать
важнейшие палеоантропологические находки224. Однако все они
относятся к самым ранним этапам человеческой эволюции, за исключением
черепов из Ваджака, относящихся, при некоторой примитивности их
морфологического облика, бесспорно к человеку современного
вида 225. Датировка их не очень определенна, хотя, по-видимому, в
широких пределах это конец плейстоцена226. Определенно датирована
другая находка верхнепалеолитического времени — череп из Ниа на
Калимантане, имеющий в соответствии с радиоуглеродным методом
возраст в 39 600 лет227, т. е. представляющий собою наиболее раннюю
палеоантропологическую находку остатков Homo sapiens в пределах
всей ойкумены. Череп из Ниа оставлен неполовозрелым
субъектом — это, по-видимому, женский череп, так как он очень невелик
и грацилен, 15—17 лет. Получая «взрослые» размеры228, мы
подтверждаем представление и о грацильности индивидуума, и о
принадлежности черепа женщине. Это важно в том отношении, что
дальше будут обсуждаться с опорой и на эту находку расогенетиче-
ские особенности верхнепалеолитического населения Индонезии и
Австронезии в широком смысле слова, а половая принадлежность
находок небезразлична в этом отношении, так как на женских
черепах многие характерные расогенетические особенности выражены
слабее, чем на мужских черепах.
Постулируя австролоидный очаг расообразования в
Юго-Восточной Азии, Ф. Вайденрайх видел исходную форму для него в яванских
питенкантропах, а в качестве промежуточных форм — ранних
представителей Homo sapiens фигурировали черепа из Ваджака229.
Позже им же был описан череп из Кейлора в Астралии, также
рассматривавшийся как промежуточное звено между питекантропами и
современными австралоидами — австралийцами, малонезийцами и
папуасами230. Одним из морфологических аргументов Ф. Вайденрай-
ха было развитие сагиттального валика, наличествующего на многих
черепных крышках классических яванских питекантропов (черепа
из Нгандонга на Яве также имеют это образование231) и
представленного в определенном проценте случаев, хотя, естественно, в
значительно более слабом виде, на черепах австралийцев.
60
Глава первая
В настоящее время соображения Ф. Вайденрайха вновь стали
крайне актуальными в связи с описанием палеоантропологических
материалов из могильника Кау-Свэмп в Австралии232. Датировка
могильника— 9300—13 000 лет от современности, т. е. он синхронен
мезолитическому времени по европейской шкале или самому концу
верхнего палеолита. Но дата могильника имеет в данном случае
второстепенное значение, гораздо важнее морфологические
особенности серии из Кау-Свэмп. Она не очень хорошо сохранилась, но все·
же на нескольких черепах были взяты основные измерения.
Черепа подавляюще громадны и дают максимумы всех размеров в
пределах современного вида. При их достаточно очевидной
принадлежности представителям Homo sapiens грубость строения и толщина
черепных костей, развитие рельефа черепа и отчетливо выраженный
сагиттальный валик позволили высказать предположение о влиянии
нгандонгской популяции на формирование антропологических
особенностей населения, оставившего могильник Кау-Свэмп233.
Высказанное в статье, опубликованной по-русски, оно осталось
незамеченным, и теперь повторно, хотя и независимо, выдвинуто и
аргументировано австралийскими и американскими
палеоантропологами234. В общему, весьма вероятно, что верхнепалеолитическое
население материковой Юго-Восточной Азии и Больших Зондских
островов (в Австралии нет следов деятельности человека древнее
верхнего палеолита, человек там появился, заселяя пустынные
территории) если и не сформировалось полностью на базе местных
популяций еще неоткрытых палеоантропов, то во всяком случае испытала
их значительное влияние.
В этой связи значительный интерес представляла бы
возможность провести демаркационную линию ареалов протомонголоидов
и иротоавстралоидов в географических рамках рассматриваемой
территории. Ревизия близких к современности краниологических
материалов показала, что островные популяции отличаются от
материковых большим прогнатизмом и большей широконосостью, т. е.
усилением австралоидных особенностей235. То же самое
соотношение повторяется и в соматологических признаках236. На этом
основании были даже выделены два локальных варианта внутри
южномонголоидной расы — материковый и островной. Не имея ни одной
верхнепалеолитической находки из материковой части
Юго-Восточной Азии и лишь три черепа из островной (два из Ваджака и один из
Ниа), трудно сказать что-либо определенное. Череп Ваджак 1 при
умеренной ширине грушевидного отверстия отличается
тенденцией к прогнатизму, оба черепа из Ваджака имеют очень большие
размеры нёба, череп из Ниа исключительно широконос — все это австра-
лоидные признаки. Мезолитические и ранненеолитические черепа из
материковых областей Юго-Восточной Азии обнаруживают более
или менее стандартный набор признаков южномонголоидного
характера. Если экстраполяция данных о мезолитических популяциях на
верхнепалеолитические в данном случае правомерна, то выделяе-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
61
мые в современном населении локальные варианты имеют
верхнепалеолитическую древность. Более того — начиная с верхнего
палеолита и до современности южномонголоидный комплекс
признаков исходно материкового происхождения и распространялся на
острова, смешавшись с местным австралоидным и образовав сложный
антропологический состав современной Индонезии.
В настоящее время геологами достаточно детально
реконструирована сеть сухопутных мостов, связывавших различные острова
Индонезии и простиравшихся в четвертичное время до Австралии237. По
этим мостам австралоиды из островного мира Юго-Восточной Азии
могли достичь Австралии. Древнейшие следы человеческой
деятельности в Австралии не уходят по времени глубже примерно 30 000—
35 000 лет от современности238, что свидетельствует о заселении
Австралии человеком на самом раннем отрезке верхнедалеолитическо-
го времени и, по всей вероятности, раньше, чем начала заселяться
территория Америки. Весьма возможно, что тот же самый
миграционный импульс, причина которого остается неясной, привел и к
заселению Филиппинского архипелага, по-видимому со стороны
материковой Юго-Восточной Азии (морфологически неописанная
черепная крышка из пещеры Табон на острове Палаван имеет
радиоуглеродную датировку в 30500 лет239). Наиболее ранняя дата следов
связанной с человеком деятельности на Новой Гвинее — 26 000 лет240;
если эта дата отражает реальное появление человека на Новой
Гвинее (остальные древнейшие даты не уходят глубже 12 000 лет от
современности), также связанной сухопутными мостами с другими
частями Австронезии в конце плейстоцена, то задержка заселения,
возможно, объясняется какими-то условиями, создавшими
значительные трудности для хозяйственного освоения и передвижения.
Широкое распространение тропических лесов вполне можно
рассматривать как один из моментов, если и не полностью
препятствовавших, то во всяком случае затруднявших раннее расселение
человеческих коллективов во внутренних районах Новой Гвинеи241.
1 Linnaeus С. Sistema naturae. Stockholm, 1758.
2 King W. The reputed fossil man of the Neanderthal,— Quarterly Journal of
Science, 1861.
3 Schwalbe G. Studien zur Vorgeschichte des Menschen. Stuttgart, 1906.
4 Осознание того, что гибралтарский череп принадлежит неандертальцу,
пришло только после изучения черепа из Неандерталя и доказательства его
принадлежности примитивному человеку.
6 Кроме работы, указанной в прим. 3, см.: Schwalbe G. Die Abstammung des
Menchen und die altesten Menschenformen.— In: Anthropologic* Leipzig;
Berlin, 1923.
6 Обстоятельный обзор находок, изученных к концу первой четверти нашего·
столетия, с подробным морфологическим описанием и археологической
характеристикой см.: Werth Ε. Der fossile Mensch. Grundzuge einer Palaanthropol-
gie. В., 1928.
7 Hrdlicka A. The neanderthal phase of man.— J(R)AI, 1927, v. LVII.
62
Глава первая
8 Последний и наиболее полный каталог ископаемых находок с указанием их
сохранности и обстоятельств местонахождения: Oakley К., Campbell В., Мо-
lleson Th.(ed.) Catalogue of fossil hominids, v. I—III. L., 1967—1975.
9 Метрическую характеристику см.: Alexeev V. Horizontal profile of the
neanderthal crania from Krapina comparatively considered.— Collegium anthropo-
logicum, 1979, v. 3, N 1; Алексеев В. П. К сравнительной характеристике
горизонтального профиля черепов из Крапины.— БКИЧП, 1980; № 50.
10 См., например: Бунак В. В. Происхождение речи по данным антропологии.—
В кн.: Происхождение человека и древнее расселение человечества. ТИЭ,
1951, т. 17; Он же. Речь и интеллект, стадии их развития в антропогенезе.—
В кн.: Ископаемые гоминиды и происхождение человека. ТИЭ, 1966, т. 92;
Леонтъе.в А. А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963;
Lieberman Ph. On the origins of language: an introduction to the evolution of
human speech and language.— CA, 1977, v. 18, N 3.
11 Boule M. L'homme fossile de la Chapelle-aux-Saints. P., 1912—1913.
12 Бонч-Осмоловский Г. А. Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба.—
В кн.: Палеолит Крыма. М.; Л., 1941.
13 Семенов С. А. «О противопоставлении большого пальца руки
неандертальца.— КСИЭ, 1950, вып. XI.
14 Mayr E. Taxonomic categories in fossil hominids.— Cold Spring Harbor
Symposia on Quantitative Biology, 1951, v. 15. Идею о принадлежности всех
ископаемых к одному-единственному виду тезисно во многих своих работах
высказал Ф. Вайденрайх.
15 См., например: Wolpoff Μ. Paleoanthropology. N. Υ., 1980.
16 Keith Α., McCown Th. The stone age of Mount Carmel, II. The fossil human
remains from the Levalloiso-Mousterian. Oxford, 1939.
17 Вслед за авторами первичного полного описания ее защищали и продолжают
защищать многие антропологи.
18 Thoma A . Metissage ou transformation? Essai sur les hommes fossiles de
Palestine.— Anthropologic, 1957, t. 61, N 5-6; 1958, t. 62, N 1-2.
19 Алексеев В. П. Палеоантропология земного шара и формирование
человеческих рас. Палеолит. М., 1978.
20 См., например: Семенов Ю. И. Возникновение человеческого общества.
Красноярск, 1962.
21 См., например: Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1965.
22 Рогинский Я. Я. К вопросу о периодизации процесса человеческой
эволюции,— АЖ, 1936, № 3; Он же. Проблема происхождения Homo sapiens (обзор
работ последнего двадцатилетия).— УСБ, 1938, т. IX, вып. 1; Он же.
Некоторые проблемы позднейшего этапа эволюции человека в современной
антропологии. ТИЭ, 1947, т. 2; Он же. Основные антропологические вопросы в
проблеме происхождения современного человека.— В кн.: Происхождение
человека и древнее расселение человечества. ТИЭ, 1951, т. 17; Он же. Проблемы
антропогенеза. М., 1969 (2-е изд.— 1977).
23 Кремянский В. А. Переход от ведущей роли отбора к ведущей роли труда.—
УСБ, 1941, т. XIV, вып. 2. Есть и более ранние истоки этих идей, неучтенные
антропологами: Бехтерев В. М. Социальный отбор и его. биологическое
значение.— Вестник знания, 1912, № 12.
24 Обзор многочисленных полезных наблюдений см.: Файнберг Л. Α. Υ истоков
социогенеза. От стада обезьян к общине древних людей. М., 1980.
26 Рогинский Я. Я. Величина изменчивости измерительных признаков черепа
и некоторые закономерности их корреляции у человека.— УЗ МГУ, 1954,
вып. 166.
26 Tobias Ph. The brain in hominid evolution. N. Y.; L., 1971; Кочеткова В. И.
Палеоневрология. М., 1973.
27 См. еще: Кочеткова В. И. Сравнительная характеристика эндокранов гоминид
в палеоневрологическом аспекте.— В кн.: Ископаемые гоминиды и
происхождение человека. ТИЭ, 1966, т. 92.
28 См., например: Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека. М., 1962
(2-е изд.— 1969); Он же. Основы нейропсихологии. М., 1973.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 63
29 Кочеткова В. И. Муляжи мозговой полости ископаемого человека Кроманьон
III.— В кн.: Современная антропология. М., 1964; Она же. Структура эндо-
крана Павлов I в палеоневрологическом аспекте.— ВА, 1966, вып. 24.
30 Библиографию см. в книге Ю. И. Семенова (прим. 20).
31 Нестурх М. Ф. Происхождение человека. М., 1958 (2-е изд.— 1970).
32 С точки зрения морфологической и таксономической логики гипотезу двух
скачков можно оправдать, только если относить неандертальцев не к роду
Homo, как поступают многие сторонники этой гипотезы, а к роду
Pithecanthropus, как предлагал Г. Ф. Дебец (Дебец Г. Ф. О систематике и номенклатуре
ископаемых форм человека.— КСИИМК, 1948, вып. 23).
33 Соболева Г. В. [Выступление на совещании по проблеме происхождения
Homo sapiens] — КСИЭ, 1950, вып. IX.
34 Рогинский Я. Я. [Выступление на совещании по проблеме происхождения
Homo sapiens] — КСИЭ, 1950, вып. IX.
35 См., например: Бунак В. В. О гребнях на черепах приматов.—Русский ант-
роп. журнал, 1923, т. 12, вып. 3-4.
36 Алексеев В. П. Палеоантропология земного шара... Палеолит.
37 Коржуев П. А. Гемоглобин. Сравнительная физиология и биохимия. М., 1964;
Он же. О функциональных аспектах эволюции.— УСБ, 1971, т. 72, вып.
3(6); Он же. Эволюция, гравитация, невесомость. М., 1971.
38 Обзор их и критику см.: Рогинский Я. Я. Основные антропологические
вопросы...
39 Heberer G. Das Neandertalerproblem und die Herkunft der heutigen Menschhe-
it.— JZMN, 1944, Bd. 77; Idem. Das Prasapiens-Problem.— In: Moderne
Biologie. В., 1950; Idem. Grundlinien in der pleistocanen Entfaltungsgeschichte
der Euhominiden.— Quarterliches Jahrbuch fur Erforschung des Eiszeital-
ters und seinen Kulturen, Bonn, 1951, Bb. 5; Vallois H. Neanderthals and Prae-
sapiens.- J(R)AI, 1954, v. LXXXIV.
40 Рогинский Я. Я. К вопросу о древности человека современного типа. (Место
сванскомбского черепа в системе гоминид).— СЭ, 1947, № 3; Он же. Основные
антропологические вопросы...
41 Breitinger Ε. Das Schadelfragment von Swanscombe und das «Praesapiensprotr
lem».— Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1955, Bd.
LXXXIV/LXXXV.
42 Trinkaus E. A reconsideration of the Fontechevade fossils.— AJPhA (new ser.),
1973, v. 39, N 1. См. также: Corruccini R. Metrical analysis of Fontechevade
II.- Ibid., 1975, v. 42, N 1.
43 Day M. Ото human skeletal remains.— Nature, 1969, v. 222, N 5199; Idem.
The Ото human skeletal remains.— In: Origine de Thomme moderne. Actes
du Colloque. P., 1972; В rose D., Wolpoff M. Early upper paleolithic men and
late middle paleolithic tools.— Warner Modular Publications, 1973, N 70.
44 См. обзор критических высказываний: Иванова И. К. Вопросы истории
ископаемого человека на VIII конгрессе INQUA во Франции.— В кн.: VIII
конгресс INQUA во Франции. Итоги и материалы. М., 1973.
46 Рогинский Я. Я. Морфологические особенности черепа ребенка из поздне-
мустьерского слоя пещеры Староселье.— СЭ, 1954, № 1.
46 Дебец Г. Ф. Современное состояние палеоантропологических исследований
в СССР.— В кн.: Тезисы докладов на сессии Отделения истор. наук и
пленуме ИИМК. Л., 1956.
47 См.: Алексеев В. П. Находка костных остатков ребенка мустьерского времени
в пещере Староселье близ Бахчисарая.— СЭ, 1954, № 1.
48 Формозов А. А. Новые данные о палеолитическом человеке из Староселья.—
СЭ, 1957, № 2.
49 Alexeev V. Position of the Staroselye find in the Hominid system.— JHE, 1976
v. 5; Idem. Fossil man on the territory of the U. S. S. R. and related problems.—
n Глава первая
Les processus de l'hominisation, L'evolution humaine, les faits, les modalites.
P., 1981.
B0 Testut L. Recherches anthropologiques sur le squelette quatermaire de Chance-
lade.— Bull, de societe antropologique de Lyon, 1890, t. VIII; Morant G.
Studies of palaeolithic man, 1. The Chancelade skull and its relation to the
modern Eskimo skull.— Annales of Eugenics, 1926, v. 1, part III—IV.
м Герасимов Μ. Μ. Люди каменного века. М., 1964.
*2 Verneau R. Anthropologic.— In: Les grottes de Grimaldi, t. 2. Monaco, 1906.
Данная здесь оценка вошла в традицию и сохранялась без изменений до
начала 60-х годов. В популярной литературе она, к сожалению, продолжает
повторяться по недоразумению и сейчас.
ьз Vlcek Ε. Rassendiagnose der aurignacienzeitlichen Bestattungen in der Grotte
des Enfants bei Grimaldi.— Anthropologischer Anzeiger, 1965, Jg. 29, N 5—6.
64 Обзор этих схем.: Гохман И. И. Ископаемые неоантропы.— В кн.:
Ископаемые гоминиды и происхождение человека. ТИЭ, 1966, т. 92.
м Morant G. Studies of palaeolithic man. IV. A biometric study of the upper
palaeolithic skulls of Еигорэ and of their relationships to earlier and later types.—
Annales of Eugenics, 1930, v. IV, part I—II; Дебец Г, Φ. Брюнн — Пшедмост,
Кро-Маньон и современные расы Европы.— АЖ, 1936, № 3.
ьв Sailer К. Die Cromagnonrasse und ihre Stellung zu anderen jungpalaolithi-
schen Langschadelrassen.— Zeitschrift fur induktive Abstammungs- und Verer-
bungslehre, 1925, Bd. XXXIX, H. 1—2; Idem. Die Menschenrassen im oberen
Palaolithikum.— Mitteilungen der antropologischen Gesellschaft in Wien,
1927, Bd. LVII; Szombathy J. Die Menschenrassen im oberen Palaolithikum, in-
besondere die Briix Rasse.— Ibid., 1926, Bd. LVI; Idem. Die Menschenrassen im
oberen Palaolithikum. Mit einem Nachwort von K. Sailer.— Idid., 1927,
Bd. LVII; Бунак В. В. Череп человека и стадии его формирования у
ископаемых людей и современных рас. ТИЭ, 1959.
67 Бунак В. В. [Выступление на совещании по проблеме происхождения Homo
Sapiens.] — КСИЭ, 1950, вып. IX; Он же. Человеческие расы и пути их
образования.— СЭ, 1956, № 1; Он же. Череп человека...
68 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
69 Matiegka /. Lebka podbabska.— Anthropologie, t. II. Praha, 1924; Vlcek E.
Kalva pleistocenniho cloveka ζ Podbaby (Praha XIX).— Anthropozoikum, t. 5.
Praha, 1956. С опорой на эти работы метрические данные по черепу из Под-
бабы были включены в сводку измерений верхнепалеолитических черепов:
Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
60 Vlcek Ε. Artificially deformed skulls from the migration period from Praha —
Podbaba.— Anthropologie, t. VII, Brno, 1969, N 2.
61 Verneau R. Anthropologie.
62 Там же.
63 Там же. См. также: Morant G. Studies of palaeolithic man, IV. Там же и
библиография.
64 Vlcek E. Rassendiagnose...
65 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
66 Verworn Μ., Bonnet #., Steinmann G. Der diluvialle Menschenfund von Ober-
cassel bei Bonn. Wiesbaden, 1919.
«7 Grimm H., Ullrich G. Ein jungpalaolithischer Schadel und Skelettreste aus Dob-
ritz, Kr. Possneck.— Alt-Thuringen, Bd. 7, Weimar, 1965.
68 Работы указаны в прим. 57.
69 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
•7° Якимов В. П. Позднепалеолитический ребенок из погребения на Городцов-
ской стоянке в Костёнках.— СМАЭ, 1953, т. 17; Дебец Г. Ф. Череп из поздне-
палеолитического погребения в Покровском логе (Костёнки XVIII).— КСИА,
1961, вып. 82.
ι1 Дебец Г. Ф. Палеоантропологические находки в Костёнках.— СЭ, 1955, № 1.
72 Там же. Критическое отношение к этому диагнозу было аргументировано:
Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология, М., 1963 (3-е изд.: 1978).
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА · 65
73 Дебец Г. Ф. Скелет позднепалеолитического человека из погребения на Сун-
гирской стоянке.— СЭ, 1967, № 3.
74 Б у пак В. В. Ископаемый человек из стоянки Сунгирь и его место среди
других ископаемых позднего палеолита.— Доклады сов. делегации на IX
МКАЭН. М., 1973.
76 Алексеев В. П. Западный очаг расообразования и расселение
палеолитических людей на территории СССР,— СЭ, 1976, № 1.
76 Дебец Г. Ф. Брюнн —Пшедмост...; Он же. Палеоантропология СССР.— ТИЭ,
1948, т. 4; Он же. О некоторых направлениях изменений в строении человека
современного вида.— СЭ, 1961, № 2.
77 Дебец Г. Ф. Брюнн — Пшедмост...
78 Абдушелишвили М. Г. Об эпохальной изменчивости антропологических
признаков.— КСИЭ, 1960, вып. XXXIII; Алексеев В. П. Антропологические
данные к проблеме происхождения центральных предгорий Кавказского
хребта.— В кн.: Антропологический сборник, IV. ТИЭ, 1963, т. 82; Он же. К
физиологическому объяснению феномена грацилизации.— В А, 1975, вып. 51.
79 Weidenreich F. The brachycephalization of recent mankind.— SJA, 1945, v. 1,
N 1.
80 Алексеев В. П. Палеоантропология. Палеолит.
81 Protsch R. The Fish Hoek hominid: another member of basic Homo sapiens
Aier.— Anthropologischer Anzeiger, Jg. 34, 1974, N 3-4.
82 Критическое рассмотрение разных таксономических гипотез и литературу
см.: Дебец Г. Ф. Антропологические данные о заселении Африки.т- В кн.:
Происхождение человека и древнее расселение человечества. ТИЭ, 1951, т.
17; Алексеев В. П. География человеческих рас. М., 1974.
83 Wells I. The fossil human skull from Singa,— In: Fossil Mammals of Africa,
v. 2. L., 1951; Вrothwell D. The upper pleistocene Singa skull: a problem in palae-
ontological interpretation.— In: Bevolkerungsbiologie. Beitrage zur Struktur
und Dynamik menschlicher Populationen in anthropologischer Sicht. Stuttgart,
1974.
84 Sergi S. Crania habessinica. Roma, 1912; Batrawi A. The racial history of
Egypt and Nubia, part I. The craniology of lower Nubia from predinastic times to
the sixth century A. D.— J(R)AI, 1945, v. LXXV, part II; Nielsen 0. The
Nubian skeleton through 4000 years (metrical and non-metrical anatomical
variations). Kobenhavn, 1970. См. также: Чебоксаров Η. Η. Негроиды и европеоиды
в Восточной Африке.— АЖ, 1936, № 1.
85 Радиоуглеродные даты, полученные для верхнепалеолитических и
неолитических памятников Северного Китая, показали, что ранее бытовавшие
представления о древности некоторых из них не соответствуют действительности:
§еальный возраст оказался меньше предполагавшегося ранее: Chang С. Ra-
iocarbon dates from China: some initial interpretation.— CA, 1973, v. 14,
№ 5; Крюков Μ. В. Культуры крашеной керамики в бассейнах Хуанхэ и
Янцзы: проблемы датировки.— В кн.: Ранняя этническая история народов
Восточной Азии. М., 1977; Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Η. Н.
Древние китайцы: проблемы этногенеза. М., 1978; Кучера С. Китайская
археология 1965—1974 гг.: палеолит — эпоха Инь. Находки и проблемы. М.,
1977.
86 Woo Ju-kang. Human fossil in Liukiang, Kwangsi, China.— VP, 1959, v. HI,
N 3.
87 Чердынцев В. В., Алексеев В. Α., Кинд Η. В. и др. Радиоуглеродные даты
лаборатории Геологического института АН СССР,— Геохимия, 1965, № 12.
88 См. об этом: Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Η. Η. Древние
китайцы...
89 Дебец Г. Ф. Фрагмент лобной кости человека из культурного слоя стоянки
«Афонтова гора II» под Красноярском,— БКИЧП, 1946, № 8; Алексеев В. П.
Заселение территории Южной Сибири человеком в свете данных
палеоантропологии.— В кн.: Материалы и исследования по археологии, этнографии
и истории Красноярского края. Красноярск, 1963.
*° Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
3 История первобытного общества
66
Глава первая
91 Weidenreich F. On the earliest representatives of modern mankind recovered
on the soil of East Asia.— Peking Natural History Bulletin, 1938—1939, v. 13,
part 3.
92 Левин Μ. Г., Чебоксаров Η. Η. Древнее расселение человечества в Восточной
и Юго-Восточной Азии.— В кн.: Происхождение человека и древнее
расселение человечества. ТИЭ, 1951, т. 17.
93 В дополнение к только что указанной работе см.: Пэй Вэнъ-чжун. Изучение
ископаемого человека и палеолитической культуры в Китае.— СЭ, 1954,
№ 3; Герасимов Μ. М. Люди каменного века.
94 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
96 Там же.
96 Weidenreich F. Some problems dealing with ancient man.— AA, 1940, v. 42,
N 3; Idem. The skull of Sinanthropus pekinensis, a comparative study on a
primitive hominid skull.— PS, (new series D), v. 10. Peking, 1943; Гремяц-
кий Μ. Α. Проблема промежуточных и переходных форм от
неандертальского человека к современному.— УЗ МГУ, 1948, вып. 115. В дальнейшем это
подразделение неандертальцев Европы на две морфологические и
хронологически различающиеся группы утвердилось в литературе и было принято
многими авторами.
97 Kanellis Л., Savvas A. Kraniometriki meletition Homo neanderthalensis ton
Petralonon.— Epistimoniki epetiris tis physikomathimatikis sbolis, t. 9.
Thessaloni, 1964; Пулянос A. H. О месте петралонца среди палеоантропов,—
СЭ, 1965, № 2; Poulianos A. The place of the Petraloniaη-man among
paleoanthropi. — In: Akten des anthropologischen Kongresses. Brno (Tschechoslo-
wakei). Anthropos, new series, 1967, v. 11, c. 19.
98 Урысон Μ. И. Череп палеолитического человека из Петралоны (Греция).—
ВА, 1962, вып. 9.
99 Poulianos A. The archanthropus of Petralona is Autochthonus. — Anthropos,
1980, v. 7; Idem. The post-cranial skeleton of the Archanthropus europaeus pet-
raloniensis.— Ibid.
100 Там же.
101 Дискуссия вокруг систематического положения и хронологического
возраста петралонской находки на международном симпозиуме в Гумполеце
(Чехословакия) в сентябре 1979 г., посвященном памяти А. Хрдлички, и на
международном симпозиуме в Ваймаре (ГДР) в мае 1981 г., посвященном
проблемам антропосоциогенеза. См. также: Stringer Ch. The dating of European
middle pleistocene hominids and the existence of Homo erectus in Europe,—
Anthropologie, Brno, 1981, t. XIX, N 1.
102 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит; Stringer Ch. A multivariate
study of the Petralona skull.— JHE, 1974, v. 3; Idem. The phylogenetic
position of the Petralona cranium,— Anthropos, 1980, v. 7; Stringer Ch., Clark Ho-
wellF., Melentis I. The significance of the fossil hominid skull from Petralona,
Greece.— JAS, 1979, v. 6.
103 Conroy C. New evidence of middle pleistocene hominids from the Afar desert,
Ethiopia.— Anthropos, 1980, v. 7.
104 В дополнение к литературе, указанной в прим. 16—19, см. обзор: Рогин-
ский Я. Я. Палестинские и близкие им формы гоминид.— В кн.: Ископаемые
гоминиды и происхождение человека. ТИЭ, 1966, т. 93. Обоснование
адаптивного подхода см.: Trinkaus E. Neanderthal limb proportions and cold
adaptation.— In: Aspects of Human Evolution. L., 1981.
105 Stewart T. The neanderthal skeletal remains from Shanidar cave, Iraq: a
summary of findings to date.— PAPhS, 1977, v. 121; Trinkaus E. An inventory
of the neanderthal remains from Shanidar cave, northern Iraq.— Sumer, 1977,
v. 33; Idem. The Shanidar 5 neanderthal skeleton.— Ibidem; Idem. Dental
remains from the Shanidar adult neanderthals.— JHE, 1978, v. 7; Stringer Ch.,
Trinkaus E. The Shanidar neanderthal crania,— In: Aspects of Human Evolution.
L„ 1981.
106 Рогинский Я. Я. Происхождение современного человека и теория «полицент-
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА 67
ризма».— СЭ, 1947, № 1; Он же. Теории моноцентризма и полицентризма
в проблеме происхождения современного человека и его рас. М., 1949.
107 См., например: Алексеев В. П. География человеческих рас; Он же.
Палеоантропология... Палеолит.
108 Дебец Г. Ф. [Выступление на совещании по проблеме происхождения Homo
sapiens]
109 См. работы, указанные в прим. 9.
110 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
111 См., например: Steegmann A. Human adaptation to cold.— In: Physiological
Anthropology (ed. by A. Damon). N. Y. ; L.; Toronto, 1975; Там же и
библиография.
112 Дебец Г. Ф. [Выступление на совещании...]
118 Рогинский Я. Я. [Выступление на совещании по проблеме происхождения
Homo 3apiens].
114 Ennouchi Ε. Un neandertalien: Thomme du Jebel Irhoud (Maroc).— L'Anthro-
pologie, 1962, t. 66, N 3-4.
115 Vallois #., Vandermeersch B. Le crane mousterien de Qafzeh (Homo VI). Etude
anthropologique.— I/Anthropologic, 1972, t. 76, N 1—2.
116 Woo Ju-kang, Pen Yu-ce. Fossil human skull of early paleoanthropic stage
found at Mapa, Shaoguan, Kwantung province.— VP, 1959, v. Ill, N 4.
117 Сводка данных: Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
118 Weidenreich F. The skull of Sinanthropus pekinensis...
119 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
120 Измерена на муляжах. Данные приведены в цитированной выше книге.
121 См. большое число рисунков и фотографий черепов ископаемых гоминид
"в книге: Wolpoff M. Paleoanthropology.
122 Weidenreich F. The dentition of Sinanthropus pekinensis: a comparative
odontography of the Hominids.— Palaeontologia Sinica (new series D), v. 1, Peking,
1937.
123 Hrdlicka A. Shovel-shaped teeth.— AJPhA, 1920, v. 3, N 3.
124 Рогинский Я. Я. Теории моноцентризма и полицентризма в проблеме
происхождения современного человека и его рас.
125 Patte E. La dentition des neanderthaliens. P., 1962.
126 Carbonell V. Variations in the frequency of shovel-shaped incisors in different
populations.— In: Dental Anthropology. Oxford; L.; N. Y.; P., 1963;
Suzuki M., Sakai T. Shovel-shaped incisors among the living Polinesians.— AJPhA
(new series), 1964, v. 22, N 1; Hanihara K. Statistical and comparative studies
of the Australian aboriginal dentition,— BUM, 1976, v. И; Зубов А. А.
Этническая одонтология. М., 1973.
12, Алексеев В. П. О первичной дифференциации человечества на расы.
Первичные очаги расообразования.— СЭ, 1969, № 1; Он же. О первичной
дифференциации человечества на расы. Вторичные очаги расообразования.—
СЭ, 1969, № 6; Он же. География человеческих рас; Он же.
Палеоантропология...Палеолит.
128 Бунак В. В. Человеческие расы и пути их образования.
129 Сооп С. The origin of races. L., 1963; Sarich V. Human variation in evoluti
onary perspective,— In: Background for Man. L., 1971.
130 См., например: Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология.
131 См. работы В. В. Бунака, перечисленные в прим. 57.
182 Weidenreich F. The classification of fossil hominids and their relations to each
other, with special reference to Sinanthropus pekinensis.— In: Congres
international des sciences anthropologiques et ethnologiques, 2-eme session,
Copenhagen, 1938.
183 Полицентризм представляет собой преобладающую концепцию в кругах
западноевропейских и американских специалистов. В СССР последовательным
сторонником полицентризма был Г. Ф. Дебец, но он нигде не выразил своей
точки зрения в сколько-нибудь распространенном виде. Единственное его
выступление по этому вопросу имело место на совещании по проблемам
происхождения Homo sapiens (ссылка на него приведена выше). Отдельные вы-
3*
68
Глава первая
ступления касались преемственности развития человека на протяжении всего
палеолита в пределах отдельных больших географических областей. См.,
например: У Жу-кан, Чебоксаров Η. Н. О непрерывности развития физического·
типа, хозяйственной деятельности и культуры людей древнего каменного века
на территории Китая,— СЭ, 1959, № 4.
134 См. работы, указанные в прим. 106.
135 Рогинский Я. Я. О проблеме «пресапиенса» в современной литературе.— СЭ,
1959, № 6; Он же. О нерешенных проблемах возникновения человека
современного типа.— В А, 1972, вып. 40; Он же. О разногласиях в теории
антропогенеза.— ВА, 1980,, вып. 66.
136 См., например, Левин М. Г. Проблемы происхождения Homo sapiens в
советской антропологии,— КСИЭ, 1950, вып. IX; Чебоксаров Η. Н. Основные этапы
истории населения Китая (палеолит и мезолит).— В кн.: Сибирь,
Центральная и Восточная Азия в древности (эпоха палеолита). Новосибирск, 1976;
Он же. Антропологический состав населения территории современного
Китая в палеолите, мезолите и неолите.—'В кн.: Ранняя этническая история
народов Восточной Азии. М., 1977.
137 См. особенно: Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза.
138 См., например: Bielicki Т. Operation of the natural selection on the head
form.— Homo, 1964, Bb. XV, N 1-2; Henneberg M. The influence of natural
selection on brachycephalization in Poland.— In: Studies in Physical
Anthropology, v. 2. Warszawa — Wroclaw, 1976. Там же и указания на литературу,
139 См., например, работы Η. Η. Чебоксарова, приведенные в прим. 136.
140 В дополнение к книге К. Куна, приведенной в прим. 129, см. еще: Сооп С.
The living races of man. Ν. Υ., 1965.
141 См. рецензии на книгу К. Куна о происхождении рас: Ф. Добжанского
и А. Монтагю (СА, 1963, v. 4, № 4), Л. Ошинского (Anthropologica, 1963,
. v. V, № 1) и Я. Я. Рогинского (СЭ, 1964, № 1).
142 Работы Η. Η. Чебоксарова, указанные в прим. 136.
143 Большое число подобных работ опубликовано в «Журнале общей биологии»
за последние годы.
144 Из последних общих обзоров см., например: Северцов А. С. Введение в
теории эволюции. М., 1981; Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и
эволюция. М., 1982.
145 Simpson G. Tempo and mode in evolution. N. Y., 1944.
146 Dobzhansky Th. Genetics of the evolutionary process. N. Y., 1970.
147 Алексеев В. П. От животных — к человеку. Легенды, факты, наука, М., 1969;
Он же. Историческая антропология. М., 1979.
148 См., например: Борисковский П. И. К спорам о прародине человечества.—
В кн.: Проблемы советской археологии. М., 1978; Он же. Древнейшее
прошлое человечества. Л., 1979.
149 Наиболее полное современное издание книги Ч. Дарвина о происхождении
человека: Чарлз Дарвин. Сочинения, т. 5. Происхождение человека и половой
отбор. М., 1953.
150 Алексеев В. П. География человеческих рас.
161 Григорьев Г. П. Палеолит Африки.— В кн.: Палеолит мира. Исследования
по археологии древнего каменного века. Л., 1977.
162 Она распространена в центральных, восточных и северных районах
континента.
163 Особенно много их было в первые годы после описания костяной и роговой
индустрии. Сейчас многие исследователи считают ее реальным явлением в
эволюции орудийной деятельности ранних гоминид.
164 Dart R. The osteodontokeratic culture of «Australopithecus prometheus»,—
Transvaal Museum Memoirs, N 10, Cape Town, 1957.
165 Наиболее полное изложение: Матюшин Г. Η. У истоков человечества. М.,
1982.
156 Общие обзоры европейского палеолита: МйИег-Karpe Н. Handbuch der
Vorgeschichte, Bd. 1. Altsteinzeit. Munchen, 1966; Монгайт А. Л.
Археология Западной Европы. Каменный век, Μ., 1973.
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
69
167 Об^этом см.: Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества.
168 Коробков И. И. Палеолит Восточного Средиземноморья— В кн.: Палеолит
Ближнего и Среднего Востока. Л., 1978.
169 Ранов В. А. Палеолит переднеазиатских нагорий,— В кн.: Палеолит
Ближнего и Среднего Востока. Л., 1978. Для Средней Азии сводки, которая
соответствовала бы современному уровню наших знаний и охватывала все
памятники, нет. Обзор, несколько уже устаревший, см.: Окладников А. П.
Палеолит и мезолит Средней Азии.— В кн.: Средняя Азия в эпоху камня и бронзы.
М.; Л., 1966.
160 Паничкина М. 3. Палеолит Армении. Л., 1950; Сардарян С. А. Палеолит
в Армении. Ереван, 1954. Более поздний обзор: Любин В. П. Нижний
палеолит,— В кн.: Каменный век на территории СССР. МИА, 1970, № 166.
161 Sankalia Η. Prehistory and protohistory of India and Pakistan. Poona, 1974;
Jayaswal V. Palaeohistory of India. Delhi, 1978.
162 Борисковский П. И. Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии.
Л., 1971.
163 Окладников А. П. Палеолит Монголии (к истории первоначального освоения
человеком Центральной Азии).— В кн.: Доклады сов. делегации на IX
МКАЭН. М., 1973; Он же. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын Ам
(Монголия). Новосибирск, 1981; Деревянко А. П. Каменный век Северной,
Восточной и Центральной Азии. Новосибирск, 1975.
164 Aigner J. Important archaeological remains from North China.— EPSEA;
Eadem. Pleistocene faunal and cultural stations in South China.
165 Heberer G. Uber einen neuen archanthropinen Typus aus der Oldoway-
Schlucht.— Zeitschrift fur Morphologie und Anthropologic, 1963, Bd. 53,
N 1-2; Walker Α., Leakey R. The hominids of East Turkana.— SA, August,
1978; Rightmire G. Middle pleistocene hominids from Olduvai Gorge, northern
Tanzania.— AJPhA (new series), 1980, v. 53, N 2.
166 Поспелова Γ. Α., Гнибиденко 3. Η., Окладников А. П. О возрасте поселения
Улалинка по палеомагнитным данным,— В кн.: Археологический поиск
(Северная Азия). Новосибирск, 1980.
167 См., например: Левин М. Г. Древние переселения человека в Северной Азии
по данным антропологии.— В кн.: Происхождение человека и древнее
расселение человечества. ТИЭ, 1951, т. 17. »
168 Окладников А. П., Адаменко О. М. Первая находка леваллуа-мустьерской
пластины в среднеплейстоценовых отложениях Сибири,— В кн.: Четвертич·
ный период Сибири. М., 1966. l·
169 Алексеев В. П. Заселение территории Южной Сибири человеком в свете
данных палеоантропологии.— В кн.: Материалы и исследования по археологии,
этнографии и истории Красноярского края. Красноярск, 1963.
170 Обзор материалов: Деревянко А. П. Каменный век.
171 См., например: Тупикова Н. В. Зоологическое/картографирование. М., 1969.
172 Краткий обзор памятников см.: Природа и древний человек. М., 1981.
173 См., наприме ρ '.{Ранов В. А. Освоение Высокой Азии человеком каменного
века (на примере гор Средней Азии).— В кн.: Средняя Азия в древности и
средневековье. М., 1977.
174 См., например: История Сибири, т. 1. Древняя Сибирь. Л., 1968. *»
176 Сводка данных по Скандинавии: Stenberger M. Vorgeschichte Schwedens. В.,
1977.
176 Все противоположные сообщения не получили подтверждения: Дебец Г. Ф.
Происхождение коренного населения Америки.— В кн.: Происхождение
человека и древнее расселение человечества. ТИЭ, 1951, т. 17. См. также: Гре-
мяцкий Μ. Φ. Филогенетическое единство приматов.— Вестник МГУ, 1955,
№ 4-5. Детальный обзор американских обезьян, включая и небольшое число
ископаемых форм: Osman Hill W. Primates. Comparative anatomy and
taxonomy, v. 3—5. Edinburgh, 1957—1964.
177 Hrdlicka A. Skeletal remains suggesting or attributed to early man in North
America.— BBAE, 1907, v. XXXIII; Idem. Early man in South America.—
BBAE, 1912, v. LII.
70 Глава первая
118 См., например: MacNeish R. Introduction.— In: Early Man in America.—
Readings from Scientific American. San Francisco, 1972; Idem. Earliest man in
the New World and its implications for Soviet-American archaeology.— ArA,
1979, v. XVI, N 1. Абсолютно бездоказательна работа: Грассо йбарра Э.
Нижний палеолит в Америке.— СЭ, 1958, № 1.
х?9 Дискуссия вокруг доклада Р. Макнейша (см. пред. сноску) на международном
симпозиуме в Вашингтоне в сентябре 1977 г., посвященном заселению Нового
Света человеком.
180 В настоящее время эта информация подтверждена и результатами
археологических раскопок древнейших норманских поселений.
181 Greenman Ε. The upper paleolithic and the New World.— CA, 1963, v. 4, N 1.
182 Окладникова Ε. А. Загадочные личины Азии и Америки. Новосибирск, 1979.
183 Марков К. К., Величко К. К. Четвертичный период (ледниковый период —
антропогеновый период), т. III. Материки и океаны. М., 1967.
184 Общий обзор истории разработки расовой классификации человечества см.:
. Schwidetzky J. Grundlagen der Rassensystematik. Mannheim — Wien —
Zurich, 1974.
186 Eickstedt E. Rassengeschichte der Menschheit. Stuttgart, 1934.
186 См., например:^ Чебоксаров Η. Η. К вопросу о происхождении китайцев.—
СЭ, 1947, №1.
182 Известный расистский налет в сводке Э. Айкштедта показан, например,
в рецензии Г. Ф. Дебеца (АЖ, 1935, № 1).
188 Алексеев В. П. Новые данные о европеоидной расе в Центральной Азии.—
В кн.: Бронзовый и железный век в Сибири. Новосибирск, 1974; Гохман И. И.
Происхождение центральноазиатской расы в свете новых
палеоантропологических материалов.— В кн.: Исследования по палеоантропологии и
краниологии СССР. СМАЭ, 1980, т. XXXVI; Мамонова Η. Η. Антропологический
тип древнего населения Западной Монголии по данным палеоантропологии.—
Там же.
М9 Едва ли не первое научное обсуждение проблемы Атлантиды появилось в
России: Норов А. С. Атлантида по греческим и арабским источникам. СПб.,
1854. Современное состояние проблемы освещено: Жиров Я. Ф. Атлантида,
Основные проблемы атлантологии. М., 1964.
190 Брюсов В. Я. Учители учителей.— Летопись, 1917, № 9—12. Явно
панегирическая оценка этой работы, встречается и в современной литературе: Б ер-
ков П. Н. Проблема истории мировой культуры в
литературно-художественном и научном творчестве Валерия Брюсова.— В кн.: Брюсовские чтения.
Ереван, 1963. Перепечатано: Берков П. Н. Проблемы исторического развития
литератур. Л., 1981.
191 Бальмонт К. Д. Змеиные цветы. М., 1910.
192 Берг Л. С. Атлантида и Эгеида,— Природа, 1928, № 4.
193 См., например: Берг Л. С. О предполагаемом раздвижении материков.—
В кн.: Берг Л. С. Очерки по физической географии. М.; Л., 1949.
Перепечатано: Берг Л. С. Избр. труды, т. 2. Физическая география. М., 1958.
194 Гуляев В. И. Америка и Старый Свет в доколумбовую эпоху. М., 1968.
196 См. об этом: Дебец Г. Ф. Происхождение коренного населения Америки.
198 Rivet P. Les origines de Thomme americain. Montreal, 1943.
197 Хейердал Т. Путешествие на «Кон-Тики». Л., 1958.
198 Heyerdahl Т. American Indian in the Pacific. London — Stockholm — Oslo,
1952.
199 См. карты течений в атласе Тихого океана.
200 Практически она критически обсуждалась на всех сколько-нибудь крупных
международных встречах этнологов — американистов и океанистов на
протяжении 50-х — в начале 60-х годов.
201 См., например: Токарев С. А. Тур Хейердал и его исследования в Океании,—
ΙΓκη.: Хейердал Г. Путешествие на «Кон-Тики». М., 1957.
802 Bogoras V. The Chukcbee, v. I—IV. Leiden — New York, 1904—1910. Автор
слышал рассказы о подобных путешествиях от береговых чукчей и наукан-
ских эскимосов при работе в пос. Уэлен и Н>нямо в 1970—1971 гг.
- 'ЗЩ
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА
71
203 Руденко С. И. Древняя^культура Берингова моря и эскимосская проблема.
М.; Л., 1947; Арутюнов С. Α., Сергеев Д. А. Древние культуры азиатских
эскимосов (Уэленский могильник). М., 1969; Они же. Проблемы этнической
истории Берингоморья. Эквенский могильник. М., 1975; Rainey F. Eskimo
prehistory: the Okvik site on the Punuk Islands.— APAMNH, 1941, v. 37,
part IV; Larsen #., Rainey F. Ipiutak and the arctic whale hunting culture.—
Ibid., 1948, v. 42.
204 Диков Η. Η. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. Азия на стыке с Америкой в древности. М., 1977; Он же. Древние
культуры Северо-Восточной Азии. Азия на стыке с Америкой в древности. М.,
1979.
205 Кремневый комплекс Денби, в котором видят прототип эскимосской
культуры.
206 См., например: Чард Д. Происхождение хозяйства морских охотников
северной части Тихого океана.— СЭ, 1962, № 5. Значительно больший, чем
теперь, ареал расселения эскимосов по азиатскому побережью
демонстрируют раскопки: Окладников А. П., Береговая Н. А. Древние поселения
Баранова мыса. Новосибирск, 1971.
207 The Bering Land Bridge (ed. by D. Hopkins). Stanford, California, 1967; Бе-
рингия в кайнозое. Материалы Всесоюзного симпозиума «Берингийская суша
и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое».
Владивосток, 1976.
208 См., например: Hopkins D. Landscape and climate of Beringia during late
pleistocene and holocene time.— In: The First Americans: Origins, Affinities and
Adaptations (ed. by W. Laughlin and A. Harper). New York — Stuttgart,
1979.
209 См., например: Шер А. В. Млекопитающие и стратиграфия плейстоцена
Крайнего Северо-Востока СССР и Северной Америки. М., 1971; Юриев Б. А.
Гипоарктический ботанико-географический пояс и происхождение его
флоры.— В кн.: Комаровские чтения, т. XIX. М.; Л., 1966; Он же. Проблемы
ботанической географии Северо-Восточной Азии Л., 1974.
210 Впервые высказана! Э. Хутоном в неопубликованных университетских
лекциях. Введена в литературу: Wormington Η. Origins.— In: Program of the
History of America. Indigenous Period, I. Mexico, 1953. В СССР эту точку
зрения защищал Г. Ф. Дебец: Дебец Г. Ф. Антропология Сибири и проблема
заселения Америки.·— В кн.: Научная конференция по истории Сибири и
Дальнего Востока (тезисы докладов и сообщений). Иркутск, 1960.
211 Алексеев В. П. Генетика и антропология.— Наука и жизнь, 1969, № 9; Он же.
География человеческих рас.
212 Проблемный обзор археологии Нового Света в исторической ретроспективе
см.: New World Archaeology: Readings from Scientific American, San
Francisco, 1974.
213 Геологические факты в связи с древнейшими археологическими
стоянками см.: Wormington H. Ancient man in North America. Denver, Colorado, 1957.
214 Иванова И. К. Вопросы археологии и истории ископаемого человека на VII
конгрессе.— В кн.: VII конгресс Международной ассоциации по изучению
четвертичного периода (INQUA). Научные итоги и материалы. М., 1967.
216 Там же.
216 См., пвл^тие^Ларичева И. П. Палеоиндейские культуры Северной
Америки. Проблема взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света·
Новосибирск, 1976.
217 Hrdlicka A. Origin and antiquity of the American Indian.— Smithonian
Institution Annual Report. Washington, 1923.
218 Окладников А. П. Первыми американцами были сибиряки. (Мост через
тысячелетия).— Наука и жизнь, 1975, № 12; Laughlin W. Problems in the
physical anthropology of North American Indians. Eskimos and Aleuts.— ArA,
1979, v. 16, N 1.
219 Отсутствие эпикантуса отмечалось многими наблюдателями, хотя собственно
антропологические определения редки. См. об этом: Alexeev V. θα Esk
72
Глава первая
origins.— СА, 1979, v. 20, № 1. Там же приведены и имеющиеся данные и
литература о строении профиля лицевого скелета в горизонтальной плоскости.
Наблюдения автора этих строк, сделанные при работе над
краниологическими коллекциями в музеях США в ноябре 1980 г., остаются пока
неопубликованными, но в целом они демонстрируют близость скорее к европеоидным, а
не к монголоидным величинам.
220 Кроме работ А. Хрдличка, указанных в прим. 177, см.: Smith F. The skeletal
remains of the earliest Americans: a survey.— Tennessee Antropologist, 1976,
v. 1.
221 Рогинский Я. Я. Проблема происхождения монгольского расового типа.—
АЖ, 1937, № 2.
222 Хить Г. Л., Халдеева Н. И. Антропологические исследования в
Хабаровском крае.— В кн.: Полевые исследования Ин-та этнографии, 1974, М.,
*975.
125 Некоторые относящиеся к этой теме вопросы обсуждаются: Зубов А. А.
О расовом типе аборигенного населения Америки.— РН, 8. М., 1978.
224 Обзор их с метрическими данными см.: Алексеев В. П. Палеоантропология
земного шара и формирование человеческих рас. Палеолит.
226 Там же приведены размеры и литература по ваджакским черепам.
226 К сожалению, мы пока не имеем новейшей ревизии и должны опираться
в этом отношении на старые наблюдения. Из общих работ последнего
времени см.: Jacob Т. Early populations in the Indonesian region,— In: The
Origins of the Australians (ed. by R. Kirk and A. Thorne). Canberra, 1976.
227 Его первичное морфологическое описание: Brothwell D. Upper human skull
from Niah caves.— Sarawak Museum Journal, new series, 1960, v. 9, N 15-16.
228 Алексеев В. П. Палеоантропология... Палеолит.
229 Работа приведена в прим. 132.
230 Weidenreich F. The Keilor skull: a Wadjak type from Southeast Australia.—
AJPhA, new series, 1945, v. 3, N 1.
131 Weidenreich F. Morphology of Solo man.— APAMNH, 1951, v. 43, part 2.
132 Thorne Л., Macamber P. Discoveries of late pleistocene man at Kow Swamp,
Australia.—JNature, 1972, v. 238, N 5363; Thorne A. Morphological|contrasts
in pleistocene Australians,— In: The Origin of the Australians (ed. by R. Kirk
and A. Thorne). Canberra, 1976; Pietrusewsky M. Craniometric variation in
pleistocene Australian and more recent Australian and New Guinea
populations studied by multivariate procedures.— In: Occasional Papers in Human
Biology. Canberra, 1979, № 2.
283 Алексеев В. П. К происхождению коренного населения Австралии.— В А,
1974, вып. 46.
234 Thorne Α., Wolpoff M. Ftegional continuity in Australian pleistocene hominid
evolution.— AJPhA, 1981, v. 55, N 3.
836 Alexeev V. Craniological material from New Guinea, Indonesia and the
Malayan peninsula.— Anthropologie, t. XI, Brno, 1973, N 3.
236 Библиография там же.
231 Chappell F. Aspects of late quaternary palaeogeography of the Australian —
East Indonesian region,— In: The Origin of the Australians (ed. by R. Kirk
and A. Thorne). Canberra, 1976.
238 Сводка дат, уже устаревшая: Кабо В. Р. Происхождение австралийцев
в свете новых открытий.— В кн.: Страны и народы Востока, вып. VI. Страны
и народы бассейна Тихого океана. М., 1968.
239 Shutler R. Radiocarbon dating and man in Southeast Asia, Australia and the
Pacific— Proc. of 11th Pacific Science Congress, v. 9. Prehistory and
Archaeology. Tokyo, 1966.
** KHope F., Hope G. Palaeoenvironments for man in New Guinea.— In: The
Origin of the Australians (ed. by R. Kirk and A. Thorne). Canberra, 1976.
241 Там же.
Глава вторая
ЗАВЕРШЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ
РОДОВОЙ ОБЩИНЫ
Этапы становления человеческого общества. Прежде чем
обратиться к рассмотрению завершения становления человеческого
общества, необходимо резюмировать то, что было сказано обо всем этом
процессе в целом в первом томе настоящей серии*.
Формирование общества происходило в течение всего раннего
(нижнего, древнего) палеолита, или, иначе, археолита, и
закончилось лишь с переходом к позднему (верхнему) палеолиту.
История формирующегося общества довольно отчетливо
подразделяется на две основные стадии. Первая — эпоха архантропов
(питекантропов, синантропов и других сходных с ними форм), которая
охватывает весь ранний археолит, представленный развитой олдо-
вайской и раннеашельской индустриями. Она началась примерно
1—1,5 млн. и закончилась 200—300 тыс. лет назад. Вторая стадия —
эпоха палеоантропов (неандертальцев), которая охватывает поздний
археолит, представленный среднеашельскими, позднеашельскими,
премустьерскими, раннемустьерскими, позднемустьерскими и
другими сходными с ними индустриями. Завершилась она примерно 35—
40 тые. лет назад.
В свою очередь в стадии палеоантропов можно выделить два
этапа. Первый — время ранних палеоантропов, охватывающее средний
и поздний ашель, премустье, ранее мустъе. Второй — время поздних
палеоантропов, охватывающее позднее мустье. Переход от ранних
палеоантропов к поздним был ознаменован огромным прогрессом в
формировании общественных отношений. Резко сократилось число
конфликтов внутри человеческих объединений и соответственно
выросла их сплоченность. Праобщина поздних палеоантропов
представляла собой прочный, устойчивый коллектив, все члены которого
проявляли заботу друг о друге. Члены каждого такого объединения
осознавали в форме тотемизма свое единство, а тем самым и свое
отличие от всех остальных людей.
Происшедшее на грани раннего и позднего мустье превращение
праобщины в сплоченную и вместе с тем замкнутую, изолированную
группу привело к инбридингу и тем самым сделало невозможным са-
пиентизацию и как следствие — продолжение формирования
производства и общества. Завершение становления человека и общества
было невозможно без преодоления замкнутости праобщин. И она
была преодолена. Становление человека и общества завершилось.
Ответить на вопрос, как это произошло, далеко не просто. Могут быть
74
Глава вторая
предложены различные гипотезы. Ниже будет изложена одна из
них.
Метод реконструкции. Эта теоретическая конструкция базируется
на огромном числе самых разнообразных фактов. Для ее создания и
обоснования были привлечены данные археологии,
палеоантропологии, биологии. Широко были использованы и материалы этнографии,
что требует определенного пояснения в дополнение к тому, что уже
говорилось в источниковедческой главе предыдущего тома серии о
методе пережитков.
Существование остаточных явлений в обществе — неоспоримый
факт. Советские ученые не только убедительным образом доказали
существование культурных пережитков, но и дали их научную
классификацию. А. И. Першицем были выделены три основные группы
остаточных явлений. Первая — реликты, т. е. такие остаточные
явления, которые сохранились от прошлого в почти неизменном виде и
не приобрели каких-либо новых функций. Вторая — дериваты:
остаточные явления, видоизмененные и приспособившиеся к новым
условиям. Третья — реституты: остаточные явления, которые
преемственно возобновляются, исчезают и оживляются (рецидивируют) 2.
Если пережитки существуют, то использование их для
реконструкции прошлого состояния является не только возможным, но и
необходимым» Вполне понятно, что делать это нужно с большой
осторожностью. Ведь именно произвольное истолкование остаточных
явлений и породило в свое время скептическое отношение к методу
пережитков. В настоящей главе речь идет о восстановлении
прошлого состояния не какого-либо конкретного социального организма, а
первобытного общества в целом. Поэтому нас интересуют лишь те
явления, которые имеют универсальное распространение. Всеобщий
их характер свидетельствует о том, что они появились не вследствие
стечения каких-либо специфических обстоятельств, а в силу
исторической необходимости. Они должны иметь глубокие корни в самом
историческом процессе. И если таких причин нет в настоящем, то
искать их следует на предшествующих стадиях исторического
развития. Поиск этих причин и составляет сущность процесса
реконструкции прошлого по остаточным явлениям. Только в ходе его и может
быть установлена стадиальная глубина исследуемых явлений.
Важнейший шаг на пути к реконструкции прошлого —
установление универсального характера тех или иных пережиточных
явлений, что с необходимостью предполагает обращение к этнографиче-·
ским материалам обо всех народах, а не только о находящихся на
самых ранних из известных нам стадиях развития. Обязательным
является привлечение данных не только о низших охотниках и
собирателях, но и о первобытных земледельцах, а также в определенной
степени и о народных обычаях, бытовавших в классовых обществах.
В ряде случаев данные о земледельцах имеют даже большую
ценность, чем материалы об охотниках и собирателях, что также требует
пояснения.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 75
Развитие разных народов на стадии первобытного общества шло
далеко не одинаково. Группы, жившие в более-менее благоприятных
условиях, развивались сравнительно быстро и к началу
этнографических исследований давно уже перестали быть охотниками и
собирателями. Продолжали к этому времени оставаться на стадии низшей
охоты и собирательства лишь те группы, которые в силу тех или
иных неблагоприятных обстоятельств развивались замедленными
темпами, испытывали застой или даже претерпевали регресс. Все это
вело к возникновению в их социальной организации таких
специфических особенностей, которых не было у их предшественников и
которые не появились у обогнавших их в своем развитии народов,. И так
как они в общем и целом продолжали оставаться на той же стадии,
что и их предшественники, то эти особенности, возникнув, заместили
многие из исходных черт. К тому же во многих случаях отставшие
в своем развитии группы были вытеснены более развитыми соседями
в области с менее благоприятными природными условиями, что
влекло за собой ломку их социальной организации и потерю
значительной части культурных традиций. Недаром один из современных
этнографов охарактеризовал современных низших охотников и
собирателей .как «перемещенных лиц» 3. Таким образом, наиболее
благоприятные возможности для сохранения культурных традиций создавал
первый — нормальный — вариант развития. Кроме того,
определенные стороны земледельческого быта создавали благоприятные
условия для оживления целого ряда остаточных явлений.
Помимо этнографических материалов для восстановления
прошлых стадий развития могут и должны привлекаться данные
фольклористики. Еще А. Лэнг, Э. С. Хартланд, П. Сентив выявили, что даже,
в фольклоре народов Европы содержатся явные реминисценции эпох,
отдаленных от современной на тысячи лет4. С огромным мастерством
на материалах волшебных сказок доказал это В. Я. Пропп5. Все
попытки поставить под сомнение возможность использования данных
фольклористики для восстановления прошедших этапов
общественного развития не имеют под собой серьезного основания.
1. Отношения между полами
в праобщине поздних палеоантропов:
производственные половые табу
и оргиастические праздники
Временная, частичная агамия коллектива. Становление
человеческого общества с необходимостью предполагает подавление
животных инстинктов, их введение в социальные рамки. Как явствует из
предыдущей главы, эта точка зрения не пользуется всеобщим
признанием, однако нам она представляется наиболее близкой к истине.
Более того, на наш взгляд, только на ее основе может быть объяснено
становление человеческого общества. Как уже отмечалось в преды-
η
Глава вторая
дущем томе серии, из двух основных биологических инстинктов —
пищевого и полового — совершенно неупорядоченным оставался в
праобщине архантропов только второй. Первый с самого начала был
уже под социальным контролем, который непрерывно усиливался по
мере развития праобщины. Поэтому имеются серьезные основания
полагать, что именно проявление полового инстинкта было основным
источником конфликтов между формирующимися людьми не только
у архантропов, но и ранних палеоантропов.
' Резкий перелом в формировании социальных отношений, который
произошел при переходе от ранних палеоантропов к поздним, был
невозможен без распространения этих отношений на все сферы
жизни,} а тем самым и без какого-то ограничения действия полового
инстинкта. Крайне мало вероятно, чтобы у палеоантропов возник
индивидуальный брак. Последнего не существовало и на первом этапе
эволюции уже сложившегося общества. Мало вероятно и
возникновение у неандертальцев группового брака. Всем известные
этнографии формы группового брака связаны с экзогамией, а имеющиеся
данные свидетельствуют о замкнутости коллективов поздних
палеоантропов, т. е. об их эндогамии. И если понимать под экзогамией
требование вступать в половые отношения исключительно лишь с
членами других коллективов, то в праобщине поздних палеоантропов не
было даже ее зачатков.
Но, как уже отмечалось в первом томе серии, имеются серьезные
основания полагать, что становление человеческого общества
завершилось появлением рода, что первобытная община возникла как
община родовая. Отсюда следует, что именно развитие праобщины
поздних палеоантропов подготовило, сделало возможным, а затем и
неизбежным возникновение экзогамии. Если не весь период становления
общества, то по крайней мере самый последний его. этап был
временем становления рода. И в этом смысле в праобщине поздних
палеоантропов должны были появиться какие-то предпосылки экзогамии.
Понять это можно, если принять во внимание, что обязанность
вступать в половые отношения вне коллектива есть лишь одна
сторона явления, которое принято именовать экзогамией. Второй его
стороной является абсолютный запрет половых отношений между
членами коллектива — агамия, причем агамия полная.
Полная агамия коллектива не могла возникнуть сразу,
мгновенно. Логично предположить, что ей предшествовала агамия частичная,
временная. Полная агамия, разумеется, невозможна без экзогамии.
Иначе обстоит с агамией частичной. Она вполне могла зародиться и
существовать в эндогамном коллективе.
Данные этнографии дают возможность составить более
конкретное представление о том, что собой представляет частичная агамия,
предшествовавшая полной агамии и соответственно экзогамии
коллектива.
В одной из работ Л. Файсона приведено описание своеобразного
праздника, существовавшего еще в XIX в. в одной из областей
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 7Г
о. Вити-Леву (о-ва Фиджи). Мужчины и женщины одевались в
фантастические одежды, обращались друг к другу с неприличными
словами и открыто, на глазах у всех, не считаясь ни с какими нормами,
вступали в половые отношения. Если в обычное время братья и
сестры не имели права даже разговаривать друг с другом, то в этот
период они не только могли, но почти что были обязаны вступать
в связь. Такого рода состояние ничем не ограниченной свободы
общения полов длилось несколько дней, после чего все ограничения
восстанавливались, и жизнь входила в нормальную колею6.
Таким образом, во время этого праздника происходило снятие
абсолютного агамного табу, на котором зиждился род. Это
свидетельствует, что корни подобных праздников уходят в эпоху,
предшествовавшую родовой. По существу во время этих праздников род
переставал быть родом, исчезал как таковой. Он на время
превращался в объединение, в котором господствовал промискуитет.
С чисто формальной точки зрения у фиджийцев этого района рода
вообще не было. Ведь род есть объединение, характеризующееся
полной агамией. А в данном случае агамия, пусть на несколько дней
в году, но исчезала. Тем самым она была лишь временной, частичной.
Однако промежутки, в течение которых половые отношения носили
промискуитетный характер, были столь кратковременны, что
никакого значения, кроме ритуального, не имели. Род превращался в про-
мискуитетное объединение на столь короткое время, что это
практически никак не сказывалось на его сущности. Его агамия может
рассматриваться как частичная, временная лишь в чисто формальном
плане, практически же она была абсолютной.
Но в теоретическом плане подобного рода явления представляют
огромный интереб. Они дают возможность проникнуть в эпоху,
непосредственно предшествовавшую появлению рода. Стоит мысленно
увеличить число промискуитетных праздников, и перед нами уже не
формальное, а реальное чередование агамных и промискуитетных
периодов, уже не формальная, а реальная частичная агамия, не
предполагающая и не требующая экзогамии. Иначе говоря, перед нами
уже не род, а человеческая группа, раздвоенная во времени на агам-
ный коллектив и на объединение с промискуитетом.
Предположение именно о таком характере ограничения полового
инстинкта на позднем этапе эволюции праобщины подтверждается
огромным числом этнографических данных. Последние
свидетельствуют не только о существовании в дородовой период истории
человечества частичной агамии, но и позволяют понять, что именно
вызвало ее к жизни, сделало ее возникновение неизбежным.
Половые производственные табу. Среди огромного числа
частичных агамных запретов — половых табу — основную массу составляют
хозяйственные половые табу. А среди последних явно доминируют
охотничьи половые табу. Суть их заключается в строжайшем запрете
половых отношений в период подготовки к охоте и самой охоты.
Длительность этого периода была различной: от одного дня до несколь-
78
Глава вторая
ких месяцев, но у всех народов, у которых были обнаружены
охотничьи половые табу, существовала глубокая вера, что воздержание
от половых отношений в течение всего этого времени — необходимое
условие успешной охоты.
Так, жители деревни Лезу (о. Новая Ирландия, Меланезия) были
убеждены, что если кто-либо из охотников нарушит табу, то не
только сам нарушитель, но и все его товарищи не будут иметь удачи в
охоте7. Индейцы нутка (северо-западное побережье Северной
Америки) не сомневались, когда во время охоты на китов происходил
несчастный случай, что причиной является нарушение одним из
охотников табу. Они искали виновного и строго его наказывали8.
Коллективный характер был важнейшей особенностью охотничьих
половых табу у подавляющего большинства народов. Половое
воздержание требовалось не от тех или иных лиц, а от всех членов того или
иного коллектива. И нарушение полового табу сказывалось, согласно
верованиям, не на одном нарушителе, а на всей человеческой группе.
Охотничьи половые табу имели в прошлом человечества
универсальное распространение. Существование их зафиксировано у
значительного числа народов Америки, Океании, Африки, Азии и Европы.
У части народов, у которых самих табу уже не существовало, были
обнаружены совершенно явственные их пережитки9. Однако нельзя
ограничиваться констатацией существования лишь охотничьих
половых табу и не принять во внимание всех вообще запретов половых
отношений, связанных с той или иной формой человеческой
деятельности — рыболовством, скотоводством, земледелием, ремеслом,
торговлей, войной, т. е. всех вообще хозяйственных, практических
половых табу, которые уходят своими истоками к охотничьим половым
табу10.
Если соединить воедино имеющиеся данные о половых
производственных табу и их пережитках, то картина получится более чем
убедительная. Половые производственные табу или их пережитки
были зафиксированы не только в доклассовом, но и в классовом
обществе, в частности у древних римлян, немцев, венгров, эстонцев,
украинцев, русских11.
Объяснить появление хозяйственных, в частности охотничьих,
половых табу невозможно, не допустив, что на какой-то стадии
развития человечества половые отношения действительно отрицательно
сказывались на хозяйственной деятельности вообще, на охоте в
первую очередь. Но быть препятствием для хозяйственной деятельности
могли быть только неупорядоченные половые отношения.
Этнографические материалы позволяют выявить, почему и как
неупорядоченные половые отношения препятствовали хозяйственной
деятельности. Среди половых табу особое место занимают запреты,
имеющие целью отвратить смерть. Так, у бечуанов (Южная Африка)
от лиц, которые ухаживали за больными и ранеными, требовалось
воздержание от половых отношений. Соблюдение этого запрета
рассматривалось как необходимое условие выздоровления больного12.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ ?о
У индейцев квакиютль (северо-западное побережье Северной
Америки) существовало убеждение, что контакт между людьми,
имевшими незадолго до этого половые сношения, и раненым угрожает
жизни последнего 13. В обоих случаях перед нами одно и то же
убеждение: вера в то, что половые отношения таинственным образом
могут повлечь за собой смерть человека. Подобного рода табу, кроме
Америки и Африки, обнаружены также у народов Океании, Азии и
даже Европы14. В этой связи нельзя не отметить существования
у племен, живущих: в самых различных частях света, веры в то, что
«изобретение» физической половой связи привело к «возникновению:)
смерти15. Что же касается убеждения, будто половые отношения
вообще таят в себе какую-то опасность для человека, то оно имеет
поистине универсальное распространение. Нет буквально ни одного
народа, у которого не было бы обнаружено пережитков такой веры 16.
Возникновение полцвых охотничьих табу. Конфликты, имевшие
своим истоком неупорядоченные половые табу, конечно, не всегда
влекли за собой ранения и смерть. Однако они всегда в той или иной
степени расстраивали хозяйственную деятельность коллектива,
особенно сказываясь на таких ее формах, которые требовали для своего
успеха сплоченности его членов. Важнейшей и основной формой
коллективной, совместной деятельности пралюдей была охота.
По мере роста значения охоты она принимала все более
организованные формы. Собственно охоте начал предшествовать более или
менее длительный период подготовки к ней, в течение которого
происходила разведка местности, выслеживание животных, выработка
плана охоты, изготовление и обновление охотничьего инвентаря.
Развитие охоты сопровождалось увеличением зависимости ее исхода от
результатов производственной деятельности. Поэтому период
подготовки к охоте приобретал все более возрастающее значение. От того,
как он протекал, все в большей степени зависел успех собственно
охотничьей деятельности.
Понятно, что в период подготовки к охоте конфликты между
членами праобщины представляли особую опасность. Даже если они не
вели к сокращению числа лиц, способных принять участие в охоте,
ущерб от них был значительным. Расстраивая или даже срывая
деятельность по подготовке к охоте, эти конфликты уменьшали ее
шансы на успех и тем самым ставили членов коллектива перед угрозой
голода.
На определенном этапе развития праобщества настоятельной
необходимостью стало полное устранение конфликтов между его
членами в период подготовки к охоте и самой охоты. Так как главным
источником столкновений были промискуитетные половые
отношения, то тем самым жизненно необходимым стало их запрещение
в этот период.
Это объективная экономическая потребность начала постепенно
осознаваться, хотя, разумеется, не в прямой, адекватной форме. Сам
процесс практической деятельности стал постепенно все в большей
80
Глава вторая
степени навязывать людям убеждение в том, что половые
отношения в период охоты и подготовки к ней навлекают опасность на
коллектив и что единственным способом ее избежать является
воздержание от них в течение этого периода. Так постепенно начали
возникать в праобщине охотничьи половые табу.
Уже у предлюдей в охоте участвовали не все взрослые члены
стада, а лишь молодые и взрослые самцы и, возможно, бездетные
самки. С развитием охоты, уже на стадии формирующихся людей
обычным явлением стали более или менее длительные охотничьи
экспедиции, участники которых затем приносили мясо в стойбище,
где находились остальные члены праобщины. Устранить отношения
между полами внутри охотничьей партии было просто: достаточно
было полностью исключить из ее состава женщин. Таким образом
потребность в преодолении конфликтов внутри охотничьей партии
привела к окончательному закреплению разделения труда между
полами. Охота на крупных животных стала исключительно
мужским делом.
В дальнейшем необходимость устранения конфликтов в период
подготовки к охоте привела к тому, что группа взрослых мужчин
и юношей начала обособляться от остальной части праобщины еще
до выхода в экспедицию и притом на все более продолжительное
время. Таким образом, в свободный от половых отношений период
напряженной хозяйственной деятельности праобщина начала
состоять из двух более или менее обособленных г.рупп, одна из
которых включала всех юношей и взрослых мужчин, а другая —
женщин и детей. В свою очередь последняя состояла из двух подгрупп:
женской и детской.
О том, что возникновение хозяйственных половых табу
сопровождалось бытовым обособлением мужчин и женщин, говорят
данные этнографии. У многих народов в период действия
хозяйственных половых табу не только запрещались половые отношения, но
в той или иной степени ограничивались все вообще отношения
между мужчинами и женщинами. Мужчинам запрещалось прикасаться
к женщинам, смотреть на них, разговаривать с ними, есть пищу,
приготовленную женщинами, быть с ними в одном помещении и т. п.17
Начало становления охотничьих половых табу скорее всего
следует отнести к эпохе ранних палеоантропов. Именно к ней
относятся данные, свидетельствующие о каком-то обособлении мужчин
и женщин в хозяйственной и иных сферах. Дж. Д. Кларком на
основе анализа археологического материала было сделано
предположение, что где-то с конца минделя произошли изменения в
структуре человеческой группы. Если раньше она всегда выступала как
целое, то теперь появились признаки временного разделения
составляющих ее компонентов: или юных и взрослых, или мужчин и
женщин 18.
По данным археологии, в среднем и позднем ашеле появились
охотничьи лагери, в которых обитали лишь мужчины, причем иног-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 81
да в течение целого сезона. Примером может послужить Донская
пещера в Южной Осетии 19. Описанное в первом томе серии
жилище ранних палеоантропов в гроте Лазарет состояло из двух
половин20. Напрашивается вопрос, не была ли одна из них местом
обитания женско-детской, другая — мужской группы? К выводу о том,,
что если не в позднем ашеле, то во всяком случае в позднем мустье
уже существовало разделение труда между мужчинами и
женщинами, пришли в настоящее время многие археологи.
Оргиастические промискуитетные праздники. В результате
пространственного и бытового обособления полов в праобщине в
течение всего срока действий половых табу пар быть не могло. Они
могли образовываться лишь в периоды промискуитета. Развитие
хозяйственной деятельности требовало освобождения от половых
отношений все более длительных периодов времени, т. е. все большего
вытеснения половых отношений из жизни коллектива. По мере того
как периоды, свободные от действия полоэых табу, становились все
более редкими, интенсивность половой жизни коллектива в течение
их непрерывно возрастала, что делало затруднительным
одновременное осуществление хозяйственной деятельности. Это привело
к тому, что остававшиеся промискуитетные периоды превратились
в своеобразные праздники, с бурным, ничем не ограничиваемым
общением полов — настоящцми оргиями.
Выше уже был приведен один пример промискуитетного, орги-
астического праздника. Существование праздников и вообще
периодов времени, в течение которых допускалась неограниченная
свобода общения полов, отмечено этнографами у огромного числа
народов, находившихся на стадии доклассового общества. У многих
народов подобного рода промискуитетные, оргиастические
праздники сохранились и после исчезновения рода и экзогамии. Свобода
отношений между полами выражалась у них в полном или
частичном снятии брачных и иных ограничений.
Если свести воедино сведения об оргиастических, промискуитет-
ных праздниках, не говоря уже об их многочисленных пережитках,
то они дадут убедительное доказательство того, что такие праздники
представляли столь же универсальное явление, как и хозяйственные
половые табу. Оргиастические праздники были широко
распространены у народов Америки, Австралии, Океании, Африки, Азии, Ея-
ропы21.
Между промискуитетными праздниками и хозяйственными
половыми табу существует глубокая внутренняя связь. В дородовую
эпоху они могли существовать лишь в неразрывном единстве. И
свидетельства об их былом единстве сохранились до нашего времени.
У многих народов хозяйственные половые табу были тесно связаны
с оргиастическими праздниками: подобного рода празднества
непосредственно следовали за периодами строжайшего полового
воздержания, которые одновременно были и периодами интенсивной
хозяйственной деятельности. В качестве примера можно назвать меит-
82
Глава вторая
хеев и нага (Индия), индейцев Перу, пипилей Центральной
Америки 22.
В силу кратковременности промискуитетных периодов и их
бурного оргиастического характера пары в праобщине перестали
образовываться. Исчезновение пар, устранив возможность конфликтов
на почве удовлетворения полового инстинкта, неизбежно должно
было способствовать резкому возрастанию сплоченности праобщины.
Именно такое явление, как мы видели, имело место при переходе
от ранних палеоантропов к поздним. Это дает основание полагать,
что именно тогда завершилось в основном становление охотничьих
половых табу.
Завершение раздвоения праобщины палеоантропов. Таким
образом, социальные отношения в праобщине палеоантропов еще не
были настолько сильны, чтобы полностью подчинить себе половые
^вязи, упорядочить и организовать их. Однако они уже настолько
окрепли, что оказались в состоянии частично вытеснить промискуи-
тетные половые отношения из жизни праобщины, превратить. их из
постоянно существующих в периодически появляющиеся. Жизнь
праобщины стала состоять из чередования периодов действия
половых табу и промискуитетных праздников. Праоб!щина как бы
раздвоилась по времени на агамный коллектив и промискуитетное
объединение. Это раздвоение во времени сопровождалось разделением
агамного коллектива на пространственно обособленные мужскую и
женско-детскую группы. Признаки этого временного и
пространственного раздвоения сказываются на стадии поздних
палеоантропов еще более отчетливо, чем раньше.
Французскими археологами в низовьях р. Дюранс было
обнаружено около 10 постоянных жилищ, разбросанных на территории в
50 га. Они относятся к вюрму I. По мнению Ф. Бурдье, их
особенности не позволяют думать, что здесь жили пары с потомством. Он
считает, что скорее всего здесь было место, где происходили
контакты группы охотников с женщинами и детьми23. Вспомним также,
что из двух половин состояло не только жилище ранних
палеоантропов в гроте Лазарет, но и жилище поздних палеоантропов на
стоянке Молодова V24. Логично предположить, что эти половины были
местами обитания: одна — женско-детской группы, вторая —
мужской группы, на которые подразделялся коллектив.
Частичное вытеснение социальными отношениями половых,
биологических из жизни коллектива было важным шагом в процессе
становления общества. Оно - свидетельствовало о том, что
социальные отношения приобрели в праобщине большее значение, чем
биологические. Как уже отмечалось, в результате стало неизбежным
осознание единства праобщины и в конечном счете превращение ее
в прочный замкнутый коллектив; Тем самым стало невозможным и
завершение формирования общества. Однако те же самые силы,
которые, казалось бы, завели формирующееся общество в тупик,
сделали не только возможным, но и неизбежным выход из него.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 83
2. Возникновение рода как одна из сторон
антропосоциогенеза
Постепенное расширение сферы действия хозяйственных
половых табу делало все более продолжительными периоды агамии и все
более редкими и короткими периоды оргиастических праздников*
Чем больше подавлялся и обуздывался половой инстинкт, тем
больше он стремился прорваться. Но прорыв его внутри праобщины был
исключен: коллектив карал нарушителей. В частности, не
исключена возможность, что описанная в первом томе серии находка в
Монте-Чйрчео является свидетельством такой расправы25.
Оргиастические нападения. Однако, кроме членов данной
праобщины, существовали люди, которые к ней не принадлежали и на
которых поэтому не распространялись действия половых табу. Хотя
каждая праобщина была замкнутым объединением, изоляция их
друг от друга не могла быть абсолютной. Их члены не могли время
от времени не встречаться. На стадии, когда подавление полового
инстинкта достигло такой степени, что дальнейшее его сдерживание
становилось все более трудным, встречи мужчин и женщин,
принадлежавших к разным коллективам, стали принимать форму
оргиастических нападений более сильной стороны на слабую.
Нападали мужчины на женщин. При большом численном
перевесе женщин они также могли нападать на мужчин. Став ритуали-
зованными, оргиастические нападения женщин долгое время по
традиции сохранялись и после того, как объективная нужда в них
исчезла.
Наиболее ярким примером может послужить обычай йауса,
который был зафиксирован В..Малиновским на о-вах Тробриан
(Меланезия). Здесь повсеместно был распространен порядок, по
которому прополка огородов, каждый из которых находился в
распоряжении отдельной семьи, совершалась всеми женщинами деревни
совместно. На юге о. Киривина и о. Вакута женщины,
занимавшиеся коллективной прополкой, имели право напасть на любого
замеченного ими мужчину, если только он не принадлежал к числу
жителей их деревни. Право это осуществлялось женщинами, как
отмечал Б. Малиновский, с рвением и энергией. Женщины, заметив
мужчину, сбрасывали с себя одежду, нагими набрасывались на него,
подвергали насилию и совершали над ним массу непристойных
действий26. Малиновский отказался дать этому обычаю какое-либо
объяснение. Прошли мимо него и все другие этнографы. К тому
времени, когда обычай был зафиксирован, он носил пережиточный, ва
многом даже ритуальный характер. Однако восстановить его
первоначальное значение тем не менее вполне возможно.
Прежде всего следует обратить внимание на то, что обычай
йауса с начала до конца носил ярко выраженный оргиастический
характер. Недаром Малиновский назвал ее оргиастическим нападе-
£4
Глава вторая
лием женщин. Все особенности йаусы свидетельствуют о том, что
она в своей сущности представляет собой не что иное, как
пережиток имевшего в прошлом место необычайно бурного, неудержимого,
принимавшего самые дикие формы проявления полового инстинкта.
Такое проявление полового инстинкта можно объяснить, лишь
допустив, что он до этого долгое время не мог получить
удовлетворение, сдерживался. В пользу этого предположения говорят
определенные факты. Оргиастические нападения женщин на Тробрианах
были возможны лишь в период общественной прополки огородов и
ни в какой другой. А этот период был временем действия
строжайших половых табу. Во время прополки огородов были не только
воспрещены половые сношения: вообще считалось неприличным
мужчинам данной деревни приближаться к женщинам, когда они были
заняты этой работой27. Именно поэтому можно думать, что йауса
в своей исходной форме была не чем иным, как стихийным
прорывом долгое время сдерживавшегося производственными табу
полового инстинкта. Прорыв этот стал возможным потому, что его
объектом был чужак — человек, не подпадавший под действие половых
запретов, относившихся только к членам данного коллектива.
Йауса не стоит особняком. Совсем в другое конце земного шара
у некоторых племен Северного Ирана, когда женщины сообща
работали в поле, ни один мужчина-чужак не мог пройти мимо них, не
уплатив выкупа. В противном случае он рисковал подвергнуться
такому же обращению, которое было характерно для тробрианской
йаусы 28.
Иначе как пережитками оргиастических нападений женщин
нельзя не считать целую группу обычаев и обрядов, имевших
поистине универсальное распространение. Существование их отмечено
у народов всех частей света, не исключая и Европы29. Первая
особенность всех этих обычаев, обрядов, празднеств заключалась в том,
что в них могли принимать участие исключительно лишь
женщины. Вторая — в том, что все они в той или иной степени носили
эротический характер: женщины нередко раздевались донага,
совершали неприличные телодвижения и танцы, исполняли непристойные
песни, обращались друг к другу с шутками весьма нескромного
содержания и т. п.
И, наконец, третья их особенность состояла в том, что всякий
мужчина, вольно или невольно оказавшийся свидетелем этих
обрядов, подвергался со стороны разъяренных женщин самому
жестокому обращению.
Подобного рода обычаи и обряды зафиксированы у многих
народов Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании. Во
время афинского праздника Тесмофорий женщины знатного
происхождения собирались вместе в особом здании, куда доступ
мужчинам был строго воспрещен. Здесь они обращались друг к другу с
неприличными шутками и сквернословили. Во время праздничной
, процессии женщины совершали непристойные действия и распевали
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 85
непристойные песни. Важно, что женщины, принимавшие участие
в праздничных обрядах, готовили себя к ним длительным половым
воздержанием30. Но особенно ярко черты былых оргиастических
нападений проявлялись в греческих вакханалиях, являвшихся
первоначально исключительно женскими праздниками. По словам
Плутарха, во время праздника женщины яростно набрасывались на
плющ, который считался мужским растением, и раздирали его на
части31. Свидетельством происхождения вакханалий из
оргиастических нападений женщин является изложенная в трагедии Эврипида
«Вакханки» легенда о растерзании участницами такого празднества
Ленфея 32.
В пору бытовавшего до XX в. у мордвы женского праздника
всякий мужчина, который попадался навстречу двигавшейся по
деревне с пением эротических песен процессии женщин, становился
юбъектом издевательств33. Можно упомянуть и об обряде опахива-
ния деревни, который бытовал у многих народов Азии и Европы.
В Росбии, например, совершалось опахивание глубокой ночью и в
тайне от мужчин. Все женщины, принимавшие в ней участие,
распускали волосы и оставались в одних нижних рубахах, а иногда
раздевались полностью. Затем они с криком неслись вокруг деревни.
Ни один мужчина не мог попасть им на глаза без риска быть
избитым 34.
Не менее убедительные доказательства того, что в определенный
период истории человечества оргиастические нападения
представляли собой всеобщее и закономерное явление, дает наряду с
этнографией и фольклористика.
Легенды об амазонках. На о-вах Тробриан Б. Малиновским была
записана легенда, связанная с оргиастическими нападениями
женщин. Туземцы были убеждены, что где-то далеко в море лежит
о. Кауталуги, населенный исключительно женщинами. Когда к
острову приплывает лодка и моряки выходят на берег, женщины
набрасываются на них, заставляют их непрерывно удовлетворять свои
желания и в конце концов замучивают насмерть. Как утверждали
сами рассказчики, нападение обитательниц этого острова на
мужчин полностью сходно с обычаем йауса. Это дает основание полагать,
что в данном случае мы имеем дело с отражением в фольклоре
оргиастических нападений женщин 35.
К этой легенде примыкает целый цикл преданий о так
называемых амазонках, т. е. народах, состоящих из одних женщин.
Легенды эти имели универсальное распространение. Понять, какой
именно факт истории человечества нашел в них свое отражение, можно,
если вспомнить, что развитие половых производственных табу с
неизбежностью привело к известному обособлению мужчин и женщин.
И забегая вперед, отметим, что это обособление не только не
исчезло, но даже углубилось после превращения праобщины в род.
Изоляция женщин от мужчин наглядно проступает и в оргиастических
нападениях, и в их многочисленных пережитках.
86
Глава вторая
Легенды об амазонках отличались друг от друга по своему
содержанию. Но по крайней мере в значительной их части нашла
отражение не только обособление полов, но и оргиастические
нападения женщин. Этот тип легенд, по-видимому самый ранний,
включает три основных момента: 1) существование местности (чаще
всего — острова), населенной только женщинами, 2) вступление
последних в связи с случайно появившимися в этой местности
мужчинами-чужеземцами и 3) последовавшая затем смерть чужеземцев.
Подобного рода легенды существовали у арабов, нивхов, айнов,
жителей Моллукских островов, китайцев, древних греков и других
народов 36.
Легенды данного типа являются исходными. Из них путем
выпадения одних моментов и добавления других возникли предания
остальных типов, причем в ряде случаев мы можем проследить, как
это произошло. В некоторых легендах наблюдается исчезновение
одного из основных моментов — представления о стране женщин.
В них сохраняется лишь мотив опасности, грозящей мужчине от
первого сочетания с женщиной. Связь имеющих широкое
распространение в мировом фольклоре сказок, содержащих этот мотив, с
легендами амазонского типа была раскрыта В. Я. Проппом37.
Нужно отметить, что представление об опасности первого сочетания с
женщиной не было лишь фольклорным мотивом. У многих народов
зафиксировано наличие самой живой веры в это, а также
существование многочисленных обрядов, имеющих целью эту опасность
нейтрализовать 38.
В другой линий развития амазонских легенд мотив
существования страны женщин сохраняется, но исчезает представление об
опасности, грозящей мужчинам-чужеземцам. Таковы китайские,
корейские, тибетские, бурятские, японские, индонезийские,
ирландские, норвежские предания 39.'
Но наибольший интерес представляет третья линия развития
амазонских легенд. В ней, на наш взгляд, нашли отражение
реальные сдвиги в отношениях между праобщинами, начало которым
было положено оргиастическими нападениями. В этой линии
развития наблюдается, во-первых, превращение случайных,
эпизодических связей между первоначально совершенно чуждыми друг
другу мужчинами и женщинами в прочные и постоянные,
во-вторых, смягчение, а в дальнейшем и полное исчезновение опасности,
грозящей мужчинам со стороны женщин.
Легенды, в которых представлены промежуточные стадии этого
развития, зафиксированы у самых различных народов (папуасы
Новой Гвинеи, древние индийцы, китайцы и др.)40. Примером легенды,
в которой нашел отражение конечный момент развития, может
послужить рассказ Страбона об амазонках, живущих на Кавказе рядом
с народом гаргариев (по другим версиям, рядом с племенами гелов
и легов). В течение большей части года амазонки живут
совершенно самостоятельно. Но имеются два месяца, когда они поднимаются
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 87
на гору, отделяющую их от гаргариев. Последние также, по
древнему обычаю, поднимаются на гору и вступают с амазонками в
связь. Девочек, родившихся в результате этих отношений, амазонки
оставляют у себя, мальчиков отдают гаргариям41. Эта легенда
существовала во множестве вариантов42. Но в еще большем числе
вариантов мужчины и женщины, находившиеся в подобного рода
отношениях, выступали в качестве жителей соответственно
мужского и женского островов. Такого рода легенды были широко
распространены как в Старом Свете, так и по всей Центральной и
Южной Америке43.
Сходные мотивы имеются в преданиях австралийцев арунта
(аранда), в которых рассказывается о существовании в мифическую
эпоху альчера самостоятельных мужских и женских групп, между
членами которых имели место половые отношения44. В мифах
арунта мы встречаем намеки и на существование в былом
нападений мужчин на женщин. Так, в одном из преданий рассказывается
о^мужчине, имевшим своим тотемом дикую кошку, который шел от
страны соленой воды на север и по пути насиловал и убивал
женщин. В других мифах рассказывается о целых группах мужчин
тотема дикой кошки, бродящих по стране. В полном противоречии
с существовавшим в раннем и среднем альчере порядком, по
которому мужчины жили с женщинами своего тотема, мужчины,
имевшие тотемом дикую кошку, вступали в связь с женщинами, тотем
которых отличался от их собственного. Записавшие эти легенды
Б. Спенсер и Ф. Гиллен особо обращают внимание на тот факт, что
путешествия мужчин тотема дикой кошки, следствием которых
были их связи с женщинами других тотемов, относятся к среднему
альчера, т. е. ко времени, непосредственно предшествовавшему,
согласно легендам, введению экзогамии45.
Возникновение дуалъно-праобщинной организации. Переходя от
легенд к действительности, мы должны сказать, что в
рассматриваемой эволюции амазонских легенд нашло верное отражение реальное
развитие отношений между мужчинами, принадлежавшими к
разным праобщинам (а тем самым имевшим и разные, тотемы). Оргиа-
стические нападения, носившие в своей исходной форме дикий и
жестокий характер, не могли первоначально не привести к
известному обострению отношений между первобытными коллективами,
к возникновению вражды между ними, которая выливалась и в
кровавые столкновения. В дальнейшем характер отношений между
ними начал меняться. Это было связано с тем, что в существовании
полового общения между членами разных коллективов были
заинтересованы на данном этапе в равной степени все праобщины.
Только нормализация отношений между праобщинами могла
обеспечить удовлетворение подавляемого внутри каждой из них и
рвущегося вовне полового инстинкта и тем самым реализацию
объективной необходимости в расширении полового общения между
формирующимися людьми.
88
Глава вторая
Постепенно половые отношения между представителями разных
коллективов начали все в большей степени происходить с обоюдного-
(вначале молчаливого, а затем и все более открытого) согласия
обеих праобщин, начали все в большей мере санкционироваться ими.
На смену оргиастическим нападениям пришли иные формы
организации половых отношений. О том, что они собой представляли,
позволяют судить данные этнографии.
Б. Малиновским на о-вах Тробиан зафиксировано существование
двух обычаев — улатиле и катайауси. Улатиле представляла собой
«экспедицию» юношей одной деревни, имевшую целью вступить r
связь с девушками другой деревни. Хотя такие экспедиции и были
узаконены обычаем, но тем не менее сборы и отправление в путь
были окружены тайной. Скрыто покинув деревню, юноши двигались
открыто, с песнями, пока не приближались к намеченной деревне.
Подойдя к ней, они прятались в чаще, куда к ним тайком
прокрадывались девушки. Если место встречи обнаруживали жители данной;
деревни, могла произойти схватка, которая иногда влекла за собой
войну между селениями. Таким образом, улатиле характеризовалась
двойственностью. С одной стороны, она была указонена обычаем,
а с другой, могла привести к серьезным столкновениям между
членами двух общин. Такой же двойственностью отличалась и
катайауси, представлявшая собой женский вариант улатиле — любовную
«экспедицию» девушек в одну из соседних деревень46.
Улатиле и катайауси тробрианцев не были исключением.
Существование подобного рода экспедиций юношей и девушек в соседние
общины в самое последнее время было зафиксировано у ряда племен
горных районов Новой Гвинеи (чимбу, дене, сиане,. камано, форег
У3УРУФа» джате) 47. Сходные обычаи были обнаружены у бушменов
Африки48. Определенный свет на ранние формы организации
половых отношений между людьми, принадлежавшими к разным
коллективам, проливают некоторые обычаи аборигенов Австралии.
У австралийцев Арнемленда две жившие в отдалении локальные
группы время от времени устраивали совместные праздники,
длившиеся по несколько дней. Во время праздника мужчины каждой из
групп вступали в отношения, с женщинами другой группы. Это не
только не вызывало протеста со стороны мужей, но, наоборот, ими
всемерно поощрялось. При этом мужчины одной локальной группы,
вступая в отношения с женщинами другой, в то же время
демонстрировали свою враждебность к ним, что носило чисто ритуальный
характер49. Но эту ритуальную рознь нельзя рассматривать иначе,
как пережиток когда-то существовавшей между мужчинами и
женщинами, принадлежавшими к разным коллективам, реальной
вражды, возникновение которой во многом связано с оргиастическими
нападениями.
По мере того как половое общение между членами разных
коллективов из случайности стало правилом, эта вражда из реальной
превратилась в ритуальную. И в такой форме она длительное время
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 89
продолжала существовать и после того, как связи между
коллективами окончательно упрочились.
Фактически в приведенном примере мы имеем дело с оргиасти-
ческими праздниками, но «своеобразными. В отличие от тех, что
были описаны выше, в ходе них не происходило нарушение родового
агамного табу. Половые отношения были возможны лишь между
лицами, принадлежащими к разным фратриям. Эти праздники были
оргиастическими, но не промискуитетными. И такого рода
праздники тоже имеют весьма широкое распространение. Характерной
особенностью большинства из них является выражавшаяся в самых
разнообразных формах фиктивная вражда между мужчинами
и женщинами, принадлежавшими к разным группам. Чаще всего
она приобретала форму ритуальной борьбы или состязания между
полами. Существование такой борьбы или ее разнообразнейших
пережитков отмечено по всему миру, в том числе и у народов, у
которых не было обнаружено оргиастических праздников. Эта борьба
или ее многообразные пережитки являются важным моментом
свадебной обрядности у многих народов, в том числе и русского. У
значительного числа этнических групп она приобретает форму
избиения жениха, а иногда также и сопровождающих его лиц, женской
родней и подругами невесты, что опять-таки заставляет вспомнить
об оргиастических нападениях женщин 50.
Общий ход развития вел, таким образом, к превращению
половых отношений между членами разных коллективов из случайности
в правило, а затем и в необходимость, к трансформации их из
фактора, обострявшего отношения между человеческими группами, в
фактор, тесно связавший их друг с другом. И это с неизбежностью
привело к тому, что каждая из ранее изолированных праобщин
оказалась в большей или меньшей степени прочно связанной с одним
из остальных человеческих коллективов. Повсеместно возникли
системы, состоящие из двух взаимобрачующихся праобщин — дуаль-
но-праобщинные организации. Каждая из таких организаций
представляла собой формирующуюся дуально-родовую организацию, а
каждая из входящих в ее состав праобщин являлась становящимся
. родом.
Антропологические аспекты проблемы. Возникновение дуально-
праобщинной организации сделало возможным завершение
формирования как общества, так и человека. Проблема происхождения
человека современного типа была детально рассмотрена в
предшествующей главе, но лишь в антропологическом плане. Более широкий,
философский ее ракурс был оставлен в стороне. Именно он и будет
предметом нашего рассмотрения. Становление Homo sapiens будет
проанализировано в неразрывной связи с формированием общества.
Каждая из праобщин была с точки зрения биологии инбредной
линией. Соответственно завязывание половых отношений между
членами разных праобщин было не чем иным, как внутривидовой
гибридизацией. Как известно, одним из следствий гибридизации яв-
90
Глава вторая
ляется гетерозис — резкое возрастание крепости, мощности,
жизнеспособности, а в случае внутривидового скрещивания — также и
плодовитости потомства по сравнению с исходными родительскими
формами. Другое важнейшее следствие гибридизации — обогащение
наследственной основы, резкое повышение размаха изменчивости,
необычайное возрастание эволюционной пластичности организма51.
В силу этого завязывание половых отношений между членами
разных стад давало возможность разрешить давно уже назревший
конфликт между потребностями развития производства и физической
организацией палеоантропов. И, возникнув, эта возможность под
действием вновь обретшего силу праобщинно-индивидуального
отбора начала быстро превращаться в действительность. Дуально-
праобщинные организации представляли собой своеобразные
«котлы», в которых быстрыми темпами шла переплавка поздних
неандертальцев в Homo sapiens.
Быстрота, с которой произошла на территории Западной Европы
смена классических неандертальцев неоантропами, всегда была
одним из главных аргументов сторонников взгляда, согласно которому
первые не были предками вторых. По их мнению, совершенно
невозможно объяснить, каким образом почти не изменившаяся на
протяжении нескольких десятков тысяч лет морфологическая
организация классических неандертальцев могла в течение каких-то 4—5 тыс.
лет трансформироваться в существенно отличавшуюся от нее
физическую организацию неоантропов. Единственный выход из
положения состоял для них в допущении, что неоантропы пришли в
Западную Европу извне, истребив и, может быть, частично ассимилировав
населявших ее классических неандертальцев.
Ввиду всего сказанного выше необычайная быстрота, с которой
шел процесс превращения неандертальцев в неоантропов, получает
свое естественное объяснение. Прежде всего это превращение давно
уже назрело, стало настоятельной производственной, экономической
необходимостью. Гибридизация не только сделала этот процесс
возможным, но, дав ему мощный толчок, необычайно его ускорила.
Другой важный аргумент противников взгляда, по которому
предками западноевропейских неоантропов были предшествовавшие
им на этой территории классические неандертальцы, — ссылка на
специализированный характер морфологического облика последних.
При переходе от ранних неандертальцев к поздним, классическим
произошла, с одной стороны, утрата целого ряда сапиентных
признаков, с другой — появление особенностей, которых не было у
ранних палеоантропов и которые отсутствуют у неоантропов. С
биологической точки зрения классических неандертальцев нельзя
рассматривать иначе, как форму, отклонившуюся от пути, ведущему к
неоантропу, т. е. от сапиентного направления. Как указывали
сторонники рассматриваемой точки зрения, в силу открытого А. Долло
закона необратимости классические неандертальцы как
специализированная форма не могли быть предками неоантропов.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 91
Излагаемая в данной главе концепция возникновения
неоантропа, в которой огромную роль играет гибридизация, снимает это
возражение. В настоящее время большинство биологов выступают
против абсолютизации закона необратимости эволюции. Соглашаясь
с тем, что вид никогда не может вернуться к состоянию, уже
пройденному его предками, они в то же время считают возможным
возвращение отдельных утраченных в ходе эволюции признаков и даже
их комбинаций. Не ограничиваясь указаниями на фактический
материал, свидетельствующий о возвращении утраченных
особенностей, П. П. Сушкин, а вслед за ним такие известные биологи,
как А. М. Сергеев, С. И. Огнев, А. Н. Иванов, раскрыли механизм
этого явления. Им оказалось так называемое «помолодение»
организма, т. е. преждевременное окончание онтогенеза, как бы его
обрыв, и закрепление эмбриональных особенностей во взрослом
состоянии организма. И как раз гибридизация является фактором,
способствующим «помолодению» организма и возвращению
утраченных им признаков, его деспециализации 52.
Деспециализация организма невозможна без его «помолодения».
Если неоантроп действительно является потомком
специализированных неандертальцев, то его морфологический облик обязательно
должен носить следы помолодения. И он их действительно
обнаруживает. На абсолютизации таких особенностей современного
человека была построена целая концепция антропогенеза — теория фе-
тилизации (от лат. fetus — зародыш) Л. Болька. Но если сама эта
концепция несостоятельна, то факты, легшие в ее основу,
неопровержимы. Сохранение некоторых эмбриональных и инфантильных
особенностей в морфологической организации современного
человека никем не ставится под сомнение53.
О том, что именно специализированные неандертальцы были
предками Homo sapiens, свидетельствуют особенности
морфологического облика людей из пещеры Мугарет-эс-Схул (Палестина). Они
жили в вюрме I—II и были не столько собственно неандертальцами,
сколько формами, переходными от палеоантропов к неоантропам.
Их можно было бы назвать позднейшими палеоантропами. И важно
подчеркнуть, что они быЛи формами переходными не просто от
неандертальцев, а от поздних специализированных неандертальцев.
Наличие у части схулцев значительного числа отчетливо
выраженных черт классических неандертальцев общепризнано.
Поразительно многообразие морфологического облика людей из
Схул. Одни из них (Схул VIII, IX) являются почти типичными
классическими неандертальцами, лишь обладающими некоторыми
сапиентными признаками; другие (Схул IV, V) обнаруживают
значительную близость к неоантропам. Если принять во внимание, что
самых ранних из найденных обитателей Схул отделяет от самых
поздних сравнительно незначительный промежуток времени, то все
это нельзя расценивать иначе, как свидетельство необычайной
быстроты, с которой шел процесс трансформации палеоантропов и неоан-
92 Глава вторая
тропов. Однако пестрота антропологического состава Схул столь
велика, что одной лишь трансформацией объяснить ее невозможно.
Необходимо допустить гибридизацию. Многообразие форм гибридов,
начиная со второго поколения, является твердо установленным
фактом. К выводу о том, что население Схул обнаруживает гибридную
природу, пришли многие исследователи, в частности Я. Я. Рогин-
ский. Не исключено, что коллектив, с членами которого схуЛцы
поддерживали тесные отношения, обитал в находящейся в 200 м от
их стоянки пещере Мугарет-эт-Табун. Тогда оба эти коллектива
вместе образовывали одну дуально-праобщинную организацию.
Завязывание отношений между праобщинами поздних
неандертальцев и образование дуально-праобщинных организаций — очагов
формирования современного человека — представляло собой
явление, закономерно обусловленное всем предшествующим
развитием формирующегося общества. Поэтому оно должно было иметь
место по всей территории расселения неандертальцев.
О времени и месте трансформации неандертальцев в людей
современного физического типа дают представления материалы не
только палеоантропологии, т. е. остатки людей неандертальского,
переходного и современного типов, но и археологии* Трансформация
палеоантропов в неоантропов была тесно связана с
зафиксированным археологией переломом в развитии техники производства, а
также и духовной жизни, который обычно именуют переходом либо
от среднего палеолита к верхнему, либо от раннего (нижнего)
палеолита к позднему (верхнему).
Археологические аспекты проблемы. Поздним палеолитом
открывается эпоха эволюции каменной индустрии уже
сформировавшихся, готовых людей. В предыдущем томе серии каменная
индустрия поздних предлюдей была названа эолитом, каменная
индустрия формирующихся людей — археолитом. Вполне
последовательно ввести единый термин для обозначения всего периода эволюции
каменной индустрии готовых, сформировавшихся людей. Таким
термином могло бы стать слово «кайнолит» (от греч. kainos — новый,
litos — камень). Этап, традиционно именуемый поздним палеолитом,
является начальной стадией кайнолита. Поэтому его можно было
бы назвать ранним кайнолитом. Мезолит и неолит соответственно
можно было бы назвать средним и поздним кайнолитом. Однако,
вводя новые, генерализующие понятия, мы будем наряду с ними
пользоваться и старыми, привычными: ранний палеолит, поздний
палеолит и др.
Поздний палеолит как определенная стадия эволюции был
выделен первоначально лишь на западноевропейском материале. На этой
территории переход к позднему палеолиту был ознаменован целым
рядом явлений. Произошли существенные изменения в технике
обработки камня. Для мустье было характерно скалывание довольно
грубых пластин с массивных дисковидных нуклеусов.
Специфические для верхнего палеолита нуклеусы носили правильную призма-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 9S
тическую форму. С них скалывались (позднее отжимались)
длинные, узкие и тонкие пластинки. Из этих ножевидных пластинок
путем вторичной обработки сколом и тонкой ретушью получались
самые разнообразные специализированные орудия (ножи, резцы,
скребла, проколки, скобели и т. п.). Из них же изготовляли острые
и легкие наконечники метательных копий. Если составное оружие
появилось еще в мустье, то широкое распространение получило оно
только в позднем палеолите. Многие каменные орудия в верхнем
палеолите стали употребляться с деревянными или костяными
рукоятками или в оправах.
Но хотя новая эпоха именуется поздним палеолитом, изменения
в технике производства затронули не только каменную индустрию.
Еще в предшествующее время люди использовали наряду с
каменными и деревянными орудия из кости и рога. Однако эти орудия
были несовершенны. Не существовало специальных приемов
обработки кости и рога. При их изготовлении применялся лишь один
способ обработки материала — ретушь. Положение резко
изменилось с переходом к позднему палеолиту. Люди начали создавать-
из кости и рога орудия самых разнообразных форм: шилья, иглы с
ушком, проколки, наконечники мотыг, лощила, кирки, наконечники
копий и дротиков, копьеметалки, гарпуны.
Если в отношении мустье можно говорить, причем с
определенной долей осторожности, лишь о появлении зачатков искусства, то»
существование искусства в точном смысле этого слова в верхнем
палеолите совершенно бесспорно. Памятниками художественной
деятельности людей являются пещерная и наскальная живопись,
скульптурные изображения животных и людей из камня, кости,
рога, глины, гравировка на кости и т. п. Появилось множество
различного рода украшений.
После выделения верхнего палеолита он был разделен на три
последовательно сменяющихся этапа: ориньяк, солютре и мадлен.
Однако в дальнейшем все в большей степени стало выясняться, что
поздний палеолит разнообразится не только во времени, но и в
пространстве. Ни на одном этапе своего развития он не исчерпывался
одной единой культурой, а существовал как совокупность
значительного их числа. Так, на территории одной лишь Западной и
Центральной Европы начальная пора позднего палеолита представлена
такими культурами, как ориньяк, шательперрон, селет. Все эти
культуры наряду со специфическими чертами имеют общие
существенные признаки, которые позволяют их характеризовать как поздне-
прлеолитические. Существование культур, отвечающих всем
традиционным признакам позднего палеолита, давно уже отмечено по всей
территории Европы, на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной
Африке.
Творцы традиционной периодизации эволюции каменной
индустрии рассматривали ее как всеобщую, в равной степени
применимую для всего мира. Для лих палеолит (с его подразделением на
Ό4
Глава вторая
нижний, средний и верхний), мезолит и неолит были
универсальными ступенями. В дальнейшем, по мере развертывания
археологических исследований за пределами Западной Европы, это положение
было поставлено под сомнение. Стали утверждать, что подобного
рода периодизация имеет значение лишь для определенных
регионов, прежде всего для Европы и Ближнего Востока, и что для
остальных территорий она непригодна.
Была, в частности, предложена совершенно иная периодизация
эволюции каменной индустрии в Африке южнее Сахары: ранний,
средний и поздний каменные века, отличные от традиционно
выделяемых палеолита, мезолита и неолита. Еще недавно многие
археологи считали, что эта периодизация абсолютно несопоставима с
европейской. Особенно упорно утверждалось, что в Африке не только
отсутствует поздний палеолит как стадия, но вообще нет этапа,
который; бы ему соответствовал 54.
Однако в свете последних исследований выяснилось, что
«средний каменный век» Африки в целом и по характеру техники, и по
времени адекватен среднему палеолиту Европы, и, соответственно,
переход от «среднего каменного века» Африки к «позднему
каменному веку» в общем совпадает с переходом от среднего палеолита
Европы к позднему. Начало «позднего каменного века» Африки
характеризовалось не только существенными изменениями в технике
обработки камня. Оно, как и переход к позднему палеолиту Европы,
было ознаменовано появлением различных приемов обработки кости
и возникновением искусства 55.
Ответ на вопрос, существовал ли поздний палеолит в Африке*
южнее Сахары, зависит от того, какой смысл мы будем вкладывать
в данный термин. Если под позднепалеолитической Донимать лишь
каменную индустрию, отвечающую всем основным признакам позд-
непалеолитических культур Западной Европы, то в таком случае
ά Африке южнее Сахары позднего палеолита не было. Если же под
поздним палеолитом понимать новую стадию в эволюции техники
производства, соответствующую той, которая представлена поздне-
палеолитическими культурами Европы, то в таком случае поздний
палеолит в Африке южнее Сахары был.
Во избежание возможной путаницы мы, сохраняя термин
«поздний палеолит» лишь за культурами, тождественными европейским,
будем именовать стадию развития, представленную ими, ранним
кайнолитом. Если поздний палеолит представляет собой
региональное явление, то кайнолит вообще, ранний кайнолит в частности, —
универсальную стадию эволюции каменной индустрии и техники
производства вообще.
Долгое время в археологии Индии существовал разрыв между
памятниками раннего палеолита и мезолита. К настоящему времени
на территории этой страны найден типичный поздний палеолит, во
многом напоминающий поздний палеолит Ближнего Востока и
Европы 56.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 95
Не только о раннем кайнолите, но и о позднем палеолите можно
говорить в применении к Сибири. Однако здесь есть свои
особенности. Появление новой, специфически позднепалеолитической
техники обработки камня не привело к коренному изменению всего
состава каменного инвентаря стоянок. Значительную часть его
продолжали составлять орудия старых типов, характерные для мустье
и даже еще более ранних эпох. Однако во всех других аспектах
признаки позднего палеолита проявились необычайно отчетливо.
В большом числе появились орудия из кости и рога, украшения,
возникло искусство57.
В Юго-Восточной Азии не обнаружены культуры, которые
отличали бы признаки, присущие позднему палеолиту Европы. Там
встречаются орудия, с одной стороны, в основном раннепалеолити-
ческого облика, с другой — мезолитические. Не исключена
вероятность, что орудия позднепалеолитического типа еще будут там
открыты, как это произошло в Индии. Однако вполне возможно, что
некоторые из уже найденных культур, представляющие собой
прогрессивные модификации бесспорно раннепалеолитических
индустрии, стадиально соответствуют позднему палеолиту Европы, т. е.
являются раннекайнолитическими. К числу их, по-видимому,
должна быть отнесена позднеаньятская культура Бирмы, основные
орудия которой — массивные чопперы, чоппинги и ручные тесла.
Особенности развития этой индустрии Бирмы, вероятно, во многом
обусловлены спецификой материала, из которого изготовлялись орудия.
Этим материалом было в основном ископаемое дерево 58.
Еще сложнее обстоит дело на Калимантане и прилежащих
островах. Как указывают некоторые исследователи, орудия, по времени
соответствующие позднепалеолитическим индустриям Европы,
носят явно раннепалеолитический облик — это чопперы и массивные
кварцитовые отщепы. Некоторые из орудий по типу сопоставимы
лишь с дошелльскими, олдовайскими 59. Другие археологи отмечают,
что каменная индустрия этого региона все же развивалась. По их
мнению, примерно в одно время с переходом к позднему палеолиту
в Европе здесь произошел определенный сдвиг в эволюции
каменной техники. Если предшествующая каменная индустрия может быть
охарактеризована только как раннепалеолитическая, то пришедшая
ей на смену — уже как пренеолитическая. До этого сдвига полностью
отсутствовали орудия из кости и раковин, после они появились в
большом количестве60.
В поисках объяснения замедленного развития каменной
индустрии как на Калимантане, так и в других районах Юго-Восточной Азии
многие авторы пришли к выводу, что древние жители этой
территории основные свои орудия изготовляли не из камня, а из дерева,
прежде всего бамбука. Каменные орудия использовались только
для самых грубых работ. Поэтому не было необходимости в
появлении все более и более совершенных приемов их обработки. Основное
направление развития их техники производства состояло в совер-
96
Глава вторая
шенствовании вначале бамбуковых, а затем и костяных орудий61.
Такое объяснение представляется очень близким к
действительности.
В применении к этим территориям говорить о позднем палеолите
не приходится. Но о раннем кайнолите, т. е. стадии развития
техники изготовления не только каменных орудий, но и орудий
вообще, соответствующей верхнему палеолиту Европы, можно и должно.
Связь перехода к позднему палеолиту с трансформацией
палеоантропов в неоантропов. Прослеживаемая по всей территории
расселения людей теснейшая связь трансформации палеоантропов в
неоантропов с крупным переломом в развитии техники производства
вообще, каменной индустрии в частности, с переходом к кайнолиту
вообще, позднему палеолиту в частности, не является случайной.
Этого следовало ожидать. Особенности морфологической
организации поздних палеоантропов препятствовали сколько-нибудь
существенным сдвигам техники производства вообще, техники обработки
камня в особенности. Трансформация палеоантропов в неоантропов,
сняв это препятствие, сделала возможным самый крупный прогресс
в развитии техники. И возникнув, данцая возможность с
неизбежностью превратилась в действительность.
Приводить данные, свидетельствующие о связи поздних
палеоантропов с мустьерской индустрией, а ранних неоантропов —
с позднепалеолитической, вряд ли необходимо. Их столь много, что
эта связь долгое время никем не ставилась под сомнение. В
последние годы положение осложнилось. Появились сообщения, во-первых,
о находках людей современного физического типа в слоях с
мустьерской индустрией, во-вторых, о находках неандертальцев в
горизонтах с индустрией позднего палеолита. И на них необходимо
специально остановиться.
Начнем с сообщений первого рода. В ряде работ Б. Вандермеерш
характеризовал людей из мустьерских слоев пещеры Джебел-Каф-
зех (Палестина) как подлинных неоантропов. В дальнейшем
выяснилось, что в действительности они являются позднейшими
палеоантропами, т. е. формами, переходными от палеоантропов к
неоантропам 62. В пещере Ветерница (Хорватия) в слое с типичной
мустьерской индустрией были найдены остатки бесспорного неоантропа.
Но в настоящее время большинство исследователей полагают, что
здесь мы имеем дело с впускным погребением из одного из ориньяк-
ских слоев63. Как уже говорилось, А. А. Формозовым в пещере Ста-
роселье (Крым) в позднемустьерском слое был обнаружен скелет
ребенка. Я. Я. Рогинский в первой своей публикации, посвященной
этой находке, отметил наличие у ребенка черт как неоантропа, так
и палеоантропа64. В дальнейшем в литературе возобладал взгляд на
старосельца как на неоантропа, именно он и отстаивается в
предыдущей главе. Однако в этом вопросе нельзя разобраться, не приняв
во внимание той роли, которую сыграла в процессе превращения
палеоантропов в неоантропов неотения (т. е. «помолодение») орга-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 9 7
низма. В силу неотении юные представители позднейших
палеоантропов должны были по своему морфологическому облику быть
более сапиентными, чем взрослые особи, причем эта их близость к
неоантропам должна была быть тем большей, чем более ранним
был возраст. Ребенку из Староселья было примерно полтора года.
И в этой связи нельзя не принять во внимание выраженное Я. Я. Ро-
гинским в указанной статье мнение, что если бы ребенок из
Староселья остался жив, то с годами у него усилились бы примитивные,
неандертальские особенности, в частности появился бы столь
характерный для неандертальцев надглазничный валик. Все это взятое
вместе дает известное основание полагать, что староселец не' был
неоантропом, а вместе с обитателями Схул и Кафзех принадлежал
к числу позднейших палеоантропов.
Однако если бы даже в несомненной ассоциации с мустьерской
индустрией был бы обнаружен бесспорный неоантроп, то это не
могло бы поставить под сомнение связь перехода от археолита к кай-
нолиту с трансформацией палеоантропов в неоантропов.
Превращение первых во вторых бесспорно создавало возможность
существенного совершенствования техники производства, но эта возможность
совершенно не обязательно должна была сразу же превратиться в
действительность. Для этого нужно время.
С более сложной проблемой сталкивают сообщения о находках
неандертальцев с индустрией верхнего палеолита. Некоторые из них
также оказались неточными. В одном из слоев пещеры Велика Пе-
чина (Хорватия) с индустрией, охарактеризованной как протооринь-
якская, были найдены остатки человека, который первоначально был
отнесен к палеоантропам. При более тщательном исследовании
выяснилось, что в действительности он является неоантропом65. Много
неясностей с недавними находками в пещере Виндия (Хорватия).
Там в слое g\, индустрия которого не поддается точному диагнозу,
но ниже которого лежал бесспорно мустьерский, а выше — столь же
бесспорно ориньякский, были обнаружены разрозненные остатки
нескольких людей. Эти особи, как очень осторожно сообщается в
публикации, не отличаются сколько-нибудь значительно от людей,
найденных в лежащем ниже слое gs и являющихся неандертальцами,
но не могут быть абсолютно точно определены в силу отсутствия
достаточного числа данных66.
Однако, по-видимому, нет пока оснований ставить под сомнение
находку человека неандертальского типа в слое с индустрией ша-
тельперрон (нижний перигор) в пещере Сен-Сезар (Шаранта,
Франция) 67. Этот слой находился между мустьерским снизу и ориньяк-
ским вверху. Объяснений может быть несколько. Прежде всего
следует учесть, что, как общепризнано, индустрия шательперрон
обладает ярко выраженными мустьерскими чертами68. Они настолько
сильны, что некоторые исследователи выступили с предложением
отнести шательперрон не к позднему палеолиту, а вместе с мустье
к предшествующей стадии эволюции каменной индустрии69. Как
4 история первобытного общества
98
Глава вторая
они утверждают, различие между поздним мустье и шательперроном
является меньшим, чем между последним и ранним ориньяком.
Это делает довольно вероятным предположение, что обитатели Сен-
Сезара данного времени относились к числу не поздних, а
позднейших палеоантропов. Как можно было видеть на примере обитателей
Схул, для позднейших палеоантропов было характерным
сосуществование самых различных форм, начиная с почти подлинных
классических неандертальцев и кончая почти настоящими
неоантропами.
Но даже если считать, что обитатели Сен-Сезара были уже в
целом подлинными неоантропами, логично допустить наличие у
отдельных представителей этой группы пережиточно сохранявшихся
неандертальских особенностей. Такого рода особенности отмечены
у многих ранних неоантропов Европы. Затем следует принять во
внимание ту роль, которую сыграла в процессе трансформации
палеоантропов в неоантропов гибридизация. Как известно, одним из ее
последствий является так называемый гибридный атавизм, т. е.
появление у потомков признаков, присущих исходным формам.
Во всяком случае, как видно из всего приведенного выше,
случаи находок неоантропов в ассоциации с мустьерскими орудиями и
неандертальцев в связи с позднепалеолитической индустрией
настолько редки, что не ставят под сомнение общее правило: связи
палеоантропов со средним, а неоантропов — с поздним палеолитом.
Из этого правила мы и будем исходить при попытке определить
время и место трансформации палеоантропов в неоантропов.
Время перехода к позднему палеолиту и появление неоантропа.
Самой ранней из достоверных находок неоантропов является
человек из пещеры Ниа на о. Калимантан. Его возраст радиоуглеродным
методом определен в 39820±1012 лет70. Некоторые исследователи
утверждают, что имеются и более ранние находки. В их число
разные авторы включают людей из Кафзех (Палестина), Омо, Канама,
Канжера, Бордерской пещеры (все — Африка). Люди из Кафзех,
которых Б. Вандермеерш отнес ко времени 60 тыс. лет назад, были,
как указывалось, не неоантропами, а позднейшими палеоантропами.
Возраст их большинство исследователей склонно сейчас оценивать
примерно в 40 тыс. лет71. Крайне спорным является возраст всех
остальных перечисленных выше гоминид. В ряде случаев спорным
является и отнесение их к числу неоантропов. Долгое время к
неоантропам относили и датировали возрастом в 37 тыс. лет и 35 тыс,
лет человека из Флорисабед (Южная Африка). В настоящее время
оспариваете^ и его принадлежность к числу людей современного
типа, и его возраст.
Самыми ранними из датированных радиоуглеродным ^методом
местонахождений позднего палеолита являются культура на
пластинах пещеры Самуилица в Болгарии (42720±1300), культура
дабба из пещеры Хакфет-эт-Дабба в Ливии (40500±1600), селет
пещеры Чертова Дыра в Словакии (38320 ±2480), близкая к селету
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 99
«ежмановская» культура пещеры Нетопежова в Польше (38160 ±
± 1250) 72. За ними следуют индустрия африканского «позднего
каменного века» Бордерской пещеры в Южной Африке (35700±1100),
нижний горизонт барадостской индустрии в пещере Шанидар в
Ираке (3540±600), ориньяк пещеры Рафакет на Ближнем Востоке
(34600), базовый ориньяк пещеры Абри-Пато во Франции (34250±
±675 и 33300±760), верхний палеолит пещеры Кара-Кумар в
Афганистане (34000±3050) и пещеры Ле-Готт во Франции (33860±
±500), шательперрон грота Дю-Ренн, Арси-Сюр-Кур во Франции
(33860±1000 и 33500 ±400), ориньяк, следующий сразу за слоем
протоориньяка, пещеры Велика Печина в Югославии (33850 ±520)73.
Все остальные датировки верхнего палеолита моложе 33 тыс. лет.
Самыми поздними абсолютными датировками археолита
являются индустрия африканского «среднего каменного века» в Виткрансе
в Южной Африке (33150 ±2500), позднее мустье Ля-Кины во
Франции (35250±530), верхнее леваллуа — мустье пещеры Кебара в
Палестине (35300 ±500 и 4100+1000), финальное мустье,
непосредственно предшествующее шательперрону, в Ля-Рошет во Франции
(36000±550), индустрия африканского «среднего каменного века»
в Зомбепата (Зимбабве) (37290±1140), мустье пещер Ле-Готт
(37600±7000) и Комб-Греналь (39000±1500) во Франции, верхнее
леваллуа — мустье пещеры Табун в Палестине (39700±800)74. Для
переходного уровня от мустье к позднепалеолитйческой индустрии
дабба в пещере Хауа-Фтеах в Ливии получена дата в 34000±
±2800 лет75. Позднейший палеоантроп из Ханеферзанд (ФРГ)
датируется радиоуглеродным методом в 36 тыс. лет76. Все остальные
датированные по Си находки археолита и палеоантропов старше
40 тыс. лет. .
Если отбросить крайние цифры, то в целом получится, что
переход от палеоантропов к неоантропам и от раннего палеолита
(археолита) к позднему палеолиту (раннему кайнолиту) произошел
примерно в период от 40 до 35 тыс. лет назад. В Западной Европе он
в основном приходится на первый интерстадиал вюрма (вюрм I—II)
по общепринятой схеме, что соответствует вюрму II—III по схеме
французских исследователей.
Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что процесс
трансформации палеоантропов в неоантропов протекал по существу
одновременно во всех основных населенных регионах земного шара,
т. е. носил панойкуменный характер. Эти факты находятся в
противоречии с моноцентрической концепцией происхождения
человека современного физического типа в любом ее варианте, включая
и отстаиваемую Я. Я. Рогинским теорию широкого моноцентризма.
Поэтому в настоящее время исследователи все в большей степени
в той или иной форме принимают идею панойкуменного
происхождения неоантропа.
Таким образом, все имеющиеся факты не только не
противоречат, но, наоборот, находятся в полном соответствии с предложенной
4*
100
Глава вторая
выше концепцией возникновения человека современного типа,
которая одновременно является концепцией происхождения
экзогамии, рода, теорией завершения становления человека и
человеческого общества.
Данные археологии и палеоантропологии подтверждают данную
концепцию не только в общем, но и во многих частностях.
Она предполагает возникновение систематических контактов
между человеческими группами. И данные археологии
свидетельствуют о том, что там, где происходил переход от раннего палеолита
к позднему, и в то время, когда он происходил, имели место
разнообразные контакты между ранее изолированными человеческими
коллективами77.
Из предложенной концепции с необходимостью вытекает, что
трансформация палеоантропов к неоантропам должна была привести
к резкому росту населения вообще, к увеличению размеров
человеческих коллективов в частности. В настоящее время многие
археологи, основываясь на имеющихся в их распоряжении данных,
приходят к выводу, что возникновение неоантропа и переход к позднему
палеолиту имели своим следствием и возрастание размеров
человеческих групп и увеличение численности населения вообще78. По
подсчетам некоторых из них, с переходом от раннего палеолита к
позднему население выросло в расчете на единицу времени
примерно в 10 раз79.
Некоторые археологи пришли к заключению, что с переходом к
позднему палеолиту не просто участились контакты между
отдельными человеческими группами, но возникли какие-то объединения
ранее изолированных коллективов 80.
3. Некоторые общие проблемы
социальной организации общинно-родового строя
Завершение становления человеческого общества. Согласно
изложенной выше концепции, с завершением формирования человека
завершилось и становление человеческого общества. Агамия, вызвав
к жизни экзогамию, получила возможность из частичной, временной
превратиться в полную, абсолютную. С появлением экзогамии
возникла возможность полного вытеснения половых отношений из
коллектива, т. е. его превращения в полностью агамную группу, иными
словами, в род. С превращением коллектива в полностью агамный
половые связи между членами разных групп стали необходимостью.
Дуально-праобщинная организация превратилась в
дуально-родовую. С появлением последней половые отношения полностью
перестали быть неупорядоченными, промискуитетными. Они были теперь
полностью введены в социальные рамки. На смену промискуитету
пришел брак, но брак не между индивидами, а между их группами.
Первой формой брачных отношений, т. е. социальной организации
половых связей, был групповой, дуально-родовой брак. С его появ-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 101
лением был полностью обуздан и поставлен под социальный
контроль единственный еще оставшийся вне позитивного социального
регулирования биологический инстинкт — половой (пищевой
инстинкт был полностью обуздан и поставлен под социальный
контроль еще на предшествующей стадии развития). Таким образом,
все биологические инстинкты были поставлены под контроль
общественных отношений. Последние превратились в господствующие
во всех сферах человеческой жизни. Тем самым был завершен
процесс становления человеческого общества и человека как
общественного существа. Объединение людей из формирующегося социального
организма превратилось в подлинный социальный организм.
Общественная природа этого первоначального уже
сформировавшегося социального организма проявлялась и выражалась до
предела отчетливо. Он был родом, т. е. полностью агамным
объединением. А это означало, что из него были вытеснены половые
биологические связи. Род был объединением, членов которого связывали одни
только социальные отношения. Он был первой формой бытия
готового сформировавшегося социального организма. В отличие от пра-
общины род был подлинной, сформировавшейся первобытной
общиной.
В рассмотренной выше концепции завершение становления
человеческого общества, трансформация палеоантропов в неоантропов,
появление экзогамии, генезис рода, происхождение дуальной
организации, возникновение первой формы брака рассматриваются как
разные стороны одного единого процесса. Однако многие
исследователи рассматривают эти проблемы как не связанные друг с другом,
самостоятельные, каждая из которых должна решаться в
отдельности. И в литературе о первобытном обществе, как зарубежной, так
и советской, предлагается немало решений если не каждой из
названных выше проблем, то по крайней мере таких, как
возникновение рода, экзогамии, дуальной организации, брака. Не имея
возможности рассмотреть их все, остановимся на наиболее важных.
Экзогамия и запрет инцеста. Все теории, которые так или иначе
пытаются объяснить происхождение экзогамии, можно разделить на
две основные группы. Первую составляют концепции, в которых
рассматривается происхождение собственно экзогамии в точном
смысле слова. Все они являются одновременно и теориями
возникновения рода. Вторую группу составляют концепции, в которых
происхождение собственно экзогамии находится на заднем плане. На
первый план у них выстуйает происхождение запрета инцеста.
Понятие инцеста является довольно неопределенным. Под
запретом инцеста обычно понимается запрещение половых отношений
между людьми, находящимися в столь близких родственных
отношениях, что браки между ними являются с точки зрения членов
того или иного общества незаконными и тем самым невозможными.
Запрет инцеста прежде всего предполагает запрещение половых
отношений между членами элементарной (нуклеарной) семьи, исклю-
102
Глава вторая
чая лишь людей, составляющих супружескую пару. Все
исследователи признают, что запрет инцеста, как правило, никогда не
ограничивался одними лишь членами элементарной семьи. Он охватывал
более обширный круг родственников, различный у разных народов.
Экзогамный запрет, по мнению последователей таких концепций,
представляет всего лишь один из частных случаев распространения
запрета инцеста81.
Однако в действительности между родовой агамией и запретом
инцеста существует принципиальное различие. В первом случае мы
сталкиваемся с определенным, четко отграниченным от всех
остальных объединением дюдей, между всеми без исключения членами
которого строжайше воспрещены половые связи, во втором — ничего
похожего на объединение не существует. Круг людей, между
которыми возбраняются половые отношения, крайне неопределен.
Достаточно четким объединением является лишь элементарная семья,
но запрет половых отношений, как мы уже видели, не касается всех
ее членов. К этому следует добавить, что агамный запрет в
определенном смысле всегда не только более широк, но и более узок, чем
запрещение инцеста. Он сам по себе ни в малейшей степени не
исключает половых отношений между одним из родителей и детьми
противоположного пола, которые делает невозможными запрет
инцеста. И, наконец, агамный запрет всегда имеет форму табу, что
говорит о его глубокой древности. Запрет инцеста, как пр'авило,
такой формы не имеет, что свидетельствует о его довольно позднем
характере.
Уже все это взятое вместе говорит о том, что агамный запрет не
мог возникнуть из запрета инцеста путем расширения последнего.
Но, кроме этих, существуют и иные данные, свидетельствующие, что
запрет инцеста появился значительно позднее, чем агамное родовое
табу.
Запрет инцеста предполагает, во-первых, существование брака
между индивидами и элементарной семьи, во-вторых, родственных
отношений того типа, который столь привычен для нас. Поэтому
взгляд на родовую агамию как на частный случай запрета инцеста
с необходимостью предполагает существование индивидуального
брака, элементарной семьи и привычных отношений родства
задолго до появления экзогамии и рода. Однако последнее допущение
находится в резком противоречии со всеми известными фактами.
Остановимся, в частности, на отношениях родства.
Родство. Рассматривая родство, мы сталкиваемся, во-первых, с
системой самих отношений родства, во-вторых, с совокупностью
терминов, обозначающих родственные отношения, а тем самым и
самих родственников. Эту совокупность терминов принято именовать
системой родства, хотя точнее было бы говорить о терминологии или
номенклатуре родства.
По представлениям, существующим в современном обществе,
родственниками являются люди, связанные происхождением. Сущест-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 103
вуют две формы такой связи: первая — это связь между людьми, из
которых один произошел от другого, вторая — связь между людьми,
которые произошли от одного и того же предка. В первом случае
люди связаны просто происхождением, во втором — общностью
происхождения.
Когда один человек непосредственно произошел от другого, то
говорят о связи посредством рождения. Таковы отношения между
родителями и детьми, т. е. между отцом и сыном, отцом и дочерью,
матерью и сыном, матерью и дочерью. Связь посредством рождения
является самой простой, элементарной формой отношений родства.
Для обозначения этой элементарной единицы родства нередко
употребляется .термин «степень родства». Люди, из которых один
рожден другим, связаны одной степенью родства, являются
родственниками в первой степени. Внука связывает с дедом уже не одна
степень родства, а две и т. д.
Любое отношение "между родственниками, независимо от числа
степеней родства, образует линию родства. Линия родства может
состоять как из одной степени, так и из многих. В последнем случае
она представляет собой цепь степеней родства. Люди, происходящие
друг от друга, связаны линией происхождения, или прямой линией
родства. Они состоят в родстве по прямой линии или просто в
прямом родстве. В отличии от них люди, происшедшие от общего
предка, характеризуются как состоящие в родстве по боковой линии, или
просто в боковом родстве.
Родство, как оно обрисовано выше, есть отношение между
индивидами и только индивидами. Между любыми конкретными
людьми оно выступает в виде соединяющей их линии родства, которая
состоит из одной или нескольких элементарных единиц — степеней
родства. При такой системе родственных отношений термины
родства не могут быть не чем иным, кроме как обозначением линий
родства, связывающих «эго» с другими людьми, причем эти линии
обозначаются такими, какими они являются для «эго», но не для
родственников, с которыми они его связывают. Можно представить
себе систему родства, в которой каждая из линий родства,
связывающая «эго» с любым из его родственников, обозначается
специальным термином. Однако она была бы слишком громоздкой и
неудобной. Поэтому она никогда и не существовала в реальности. Но
возможен более простой способ обозначения. Каждая линия
родства состоит из одной или нескольких элементарных единиц —
степеней родства. Поэтому можно представить себе систему родства,
в которой существуют термины, обозначающие лишь элементарные
отношения родства, а все более сложные отношения, состоящие из
нескольких степеней родства, описываются путем сочетания
нужного числа этих элементарных терминов. Родство второй степени
обозначается сочетанием двух терминов, третьей степени — трех
и т. д.
Во всех привычных системах родства существуют четыре тер-
104
Глава вторая
мина для обозначения элементарных отношений родства: отец, мать,
сын, дочь. Пользуясь только ими, можно описать все остальные
отношения родстэа. Дед — отец отца (матери), внучка — дочь сына
(дочери), брат — сын отца (матери), дядя — сын отца (матери)
отца (матери) и т. п. Но таких чисто описательных систем родства
не существует. В большинстве систем родства, в том числе в
русской, имеются специальные термины для обозначения некоторого
числа многостепенных линий, связывающих «эго» с людьми,
находящимися как в пределах, так и за пределами элементарной семьи,
в которой он родился (брат, сестра, дядя, тетка, дед и т. п.). Что же
касается всех остальных линий родства, то они описываются путем
соединения нескольких из названных выше терминов.
На первый взгляд представляется, что кроме родства описанного
типа никакого другого существовать не может. Связь посредством
рождения, являющаяся элементарной единицей родства, есть связь
биологическая. Из этого, казалось бы, совершенно естественно
напрашивается вывод, что родство есть явление биологическое. А
отсюда столь же естественно следует, что родство всегда было одним
и тем же. Могли меняться терминологии родства, но не само
родство. Поэтому все терминологии родства, как бы они друг от друга
не отличались, должны относиться к одному типу, который был
описан выше.
Однако в действительности дело обстоит иначе. Кроме систем
родства описанного типа, существуют и иные, коренным образом от
них отличные. Открыты они были Л. Г. Морганом82. В отличие от
привычных систем родства, которые он обозначил как
описательные, вновь открытые системы родства были названы им
классификационными. В свою очередь последние были подразделены
Л. Г. Морганом на турано-ганованские и малайские системы родства.
Как выяснилось в дальнейшем, системы родства, названные
Л. Г. Морганом малайскими, в действительности являются
переходными от классификационных систем к описательным. К
классификационным системам в точном смысле относятся только те, что были
названы Л. Г. Морганом турано-ганованскими. Два основных типа
систем родства были связаны с двумя основными типами общества,
выделенными Л. Г. Морганом: классификационные — с
первобытным обществом, описательные — с цивилизованным, политическим,
т. е. классовым, обществом.
Бросающейся в глаза особенностью классификационных систем
родства является использование одного термина для обозначения
каждого лица из целой группы людей. Так, в ирокезской системе
родства, детально исследованной Морганом, один и тот же термин
применялся для обозначения не только собственного отца, но всех
братьев отца, как родных, так и сродных (двоюродных, троюродных
и т. д.). Соответственно ирокез применял одни и те же термины для
обозначения как собственных детей, так и детей своих родных и
сродных братьев. Термин, который ирокез применял для обозначе-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 105
ния матери, в равной степени относился и к родным и сродным
сестрам матери. И этот принцип проводился в ирокезской системе
родства до конца последовательно.
Открыв классификационные системы родства, Л. Г. Морган не
смог до конца разобраться в их сущности, понять, что он столкнулся
не только с принципиально другой терминологией родства, но и
другими отношениями родства, качественно отличными от привычных.
Термин, который ирокез применял по отношению к любому лицу
из целой группы, в которую входил его отец, Морган перевел как
слово «отец», вложив в него привычный смысл: человек, которому
«эго» обязан появлением на свет. И соответственно перед ним встал
вопрос, почему ирокез называет отцом, т. е. родителем, не только
собственного отца, но и всех его родных и сродных братьев. Такого
же рода вопросы встали перед ним и по поводу терминов родства,
которые он перевел как «мать», «сын», «дочь» и т. д.
Стремясь ответить на эти вопросы, Л. Г. Морган создал
концепцию семьи пуналуа, основанной на групповом браке как стадии в
эволюции семейно-брачных отношений. Турано-ганованская система
родства возникла, по его мнению, в эпоху, когда группа братьев,
родных и сродных, состояла в браке с группой женщин, которые
являлись родными и сродными сестрами. Человек называл каждого
мужчину из данной группы отцом потому, что тот имел право
вступать в половые отношения с его матерью и тем самым вполне мог
быть его действительным родителем.
Таким образом, согласно взгляду Л. Г. Моргана,
классификационные термины родства возникли в результате расширения
первоначально индивидуального значения терминов. Такого мнения
придерживаются и многие современные исследователи, особенно
зарубежные. Однако такой взгляд рушится при соприкосновении с
фактами. Особенно наглядно это можно видеть на примере самых
архаичных из классификационных систем родства — дуальных
систем, сохранившихся у некоторых народов 83. Если во многих из
более поздних классификационных систем, наряду с основными
классификационными терминами, существуют и индивидуальные, в
дуальных системах последние полностью отсутствуют.
В качестве Примера можно указать на фиджийскую систему
родства, проанализированную А. М. Хокартом84. Как он показал,
термин tama, который фиджиец применял по отношению к своему отцу
и который переводился этнографами как «отец», в действительности
никогда не имел этого смысла. Он обозначал мужчину,
принадлежащего к той половине общества, к которой принадлежал «эго» и
к поколению старше «эго». Термин tina, который этнографами
переводился как «мать», в действительности обозначал женщину,
принадлежавшую к противоположной половине общества и поколением
старше «эго». Термин wati, который переводился как «жена»,
означал женщину, принадлежавшую к противоположной половине
общества, но к тому же поколению, что и «эго». Только с женщинами,
106
Глава вторая
принадлежавшими к этой категории, мужчина мог вступать в
половые отношения и, следовательно, в брак.
Ясно, что термины архаичных классификационных систем родства
не только никогда не имели индивидуального значения, но никогда
не обозначали линий родства: ни единственной линии, как часть
терминов описательных систем родства (мать, отец), ни
нескольких линий, как другая их часть (брат, сестра, дядя, тетка). Поэтому
они заведомо не могут быть переданы терминами описательных
систем родства.
Для классификационных систем родства вообще не существует
никаких линий родства, никакого родства между индивидами
самими по себе. Для классификационных систем родства существуют
лишь отношения между группами и только тем самым между
индивидами. Отношение одного человека к другому определяется не
путем прослеживания линии родства, связывающей их, а путем
выявления их принадлежности к одной из двух половин, на которые
делилось общество, и к определенному поколению.
Таким образом, здесь мы сталкиваемся не просто с
принципиально иной терминологией родства, но и с принципиально другим
реальным родством.
Два основных выделенных типа реального родства нуждаются в
обозначении. Термины, которые использовал Л. Г. Морган для
"Обозначения двух типов номенклатур родства (описательные и
классификационные), являются, как неоднократно отмечали
исследователи, не вполне удачными даже в применении к ним 85. Тем более они
не подходят для обозначения двух разных реальных типов родства.
Реальное родство заведомо не может быть описательным.
Описательной может быть только терминология родства. В дальнейшем
изложении родство, характерное для классовых обществ, мы будем
именовать линейно-степенным, а родство, специфичное для
первобытного общества, — групповым.
С открытием группового родства стало ясным, что человеческое
родство, которое определяет права и обязанности людей, их
поведение в обществе и которое изменяется по мере развития последнего,
есть явление не биологическое, как долгое время полагали, а чисто
социальное. Одним из первых такой вывод был сделан У. Ривер-
сом86. Разумеется, кроме родства социального, существует родство
генетико-биологическое, но смешивать два эти качественно
отличных вида родства нельзя 87.
Если обратиться к самым архаическим из групповых систем
родства — дуальным системам, то они для своего появления требовали
определенного устройства общества. Прежде всего последнее было
разделено на две половины, принадлежность к одной из которых
исключала принадлежность к другой. Счет принадлежности был
строго унилатеральным. В одних обществах принадлежность к той
или иной половине определялась по матери, в других — по отцу.
Внутри каждой из половин были строжайше воспрещены половые
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 107
отношения. В такие отношения могли и должны были вступать
только люди, принадлежавшие к разным половинам. Иными
словами, перед нами картина дуально-родовой организации. Она самая
древняя из всех социальных организаций, о которых дошли до нас
вполне достоверные свидетельства. Так как групповые системы
родства имели в прошлом человечества всеобщее распространение, то
отсюда с неизбежностью следовал вывод об универсальности
в прошлом дуально-родовой организации. В самом общем виде такой
вывод был сделан в свое время Э. Тайлором88, а затем обоснован
уже упоминавшимся выше У. Риверсом 89.
Дуально-родовая организация в том виде, как она возникла, до
наших дней сохраниться не могла. В процессе исторического
развития каждый из родов, входивших в ее состав, рано или поздно
распадался на дочерние, те в свою очередь давали начало новым и т. д.
Результатом было образование большей или меньшей совокупности
родов, делившейся на две части, на два объединения родов. Каждое
из этих двух объединений представляет собой не что иное, как
распавшийся исходный род первоначальной дуальной организации.
Поэтому каждое из этих объединений является агамным и тем самым
экзогамным. Люди, принадлежащие к одному из них, могут вступать
в половые отношения только с людьми, являющимися членами
второго. В таком случае экзогамия рода выступает как следствие и
проявление экзогамии объединения и тем самым как производное от
экзогамии первоначального, исходного рода.
В русской этнографической литературе подобного, рода
объединения родов принято называть фратриями. Соответственно
организация, состоящая из двух взаимобрачащихся фратрий, обычно
именуется дуально-фратриальной. Если этнография не знает дуально-
родовой организации в ее первозданном виде, то ее преемница —
дуально-фратриальная организация — хорошо известна. И
имеющиеся о ней материалы доказывают универсальность в прошлом
дуально-родовой организации. Огромная роль, которую играла дуальная
организация в жизни доклассового общества, была раскрыта в
работах С. П. Толстова90 и А. М. Золотарева91.
Теория происхождения экзогамии. Дуальные системы родства
совершенно не знают отношений между индивидами самими по
себе. А это означает, что при их зарождении не существовало ни
браков между индивидами, ни элементарных семей, ни линейно-
степенного родства. Отсюда следует, что запрет инцеста не мог
предшествовать возникновению рода. Не агамное родовое табу есть
результат расширения запрета инцеста, а наоборот, последний
генетически восходит к первому. Поэтому всевозможные концепции
происхождения запрета инцеста не могут пролить свет на
возникновение экзогамии. Рассматривать имеет смысл только теории
происхождения собственно экзогамии, являющиеся одновременно и
концепциями возникновения не просто рода, а дуально-родовой
организации.
108
Глава вторая
Снова и снова возрождаются концепции, объясняющие
возникновения экзогамии отсутствием полового влечения между людьми,
с детства живущими вмест-е, а также стремлением предотвратить
вредные последствия половых связей между близкими
родственниками92. Но по сути в обоих случаях мы имеем дело с попыткой
объяснить возникновение запрета инцеста, а не родовой агамии.
Единственная попытка применить концепцию вреда
кровосмешения к возникновению дуально-родовой организации была сделана
Л. Файсоном93. Согласно его взглядам, исходным пунктом в
развитии человеческих семейно-брачных отношений была «неразделенная
коммуна», в которой либо еще господствовал промискуитет, либо
уже были исключены половые отношения между поколениями.
Когда перед обществом встала задача исключить возможность
половых отношений между братьями и сестрами, то она была
разрешена путем разделения первоначальной коммуны на две взаимо-
брачащиеся половины, внутри каждой из которых половые
отношения были запрещены. По Л. Файсону получается, что
дуально-родовая организация возникла в результате сознательно принятого
людьми решения, с чем, конечно, трудно согласиться,
Не останавливаясь на общих возражениях против любой
концепции, объясняющей появление экзогамии стремлением избежать
кровосмешения, отметим лишь, что все факты свидетельствуют в
пользу положения, что дуально-родовая организация возникла в
результате не разделения одного коллектива на два, а соединения
двух ранее совершенно самостоятельных групп.
У многих племен и народов, сохранивших дуальное деление,
отмечено существование убеждения, что члены двух фратрий
отличаются друг от друга рядом духовных, а иногда и физических
особенностей, хотя объективными научными исследованиями никаких
реальных различий между ними не обнаруживается. Так, арунта
говорили о членах одной половины как о «больших людях», о
членах другой — как о «маленьких людях» и рассматривали первых как
обладателей прямых волос, а вторых — как обладателей курчавых94.
Существование аналогичных верований зафиксировано почти по
всей Австралии, причем они нередко сочетаются с легендами,
повествующими о происхождении фратрий от двух различных групп
предков, одна из которой пришла из далекой страны. Так, по
преданию арунта это племя образовалось во времена альчера из
недоразвитых существ, делившихся на две строго отличные группы:
жителей земли и жителей моря95.
Существование убеждения в наличии физических и духовных
различий между людьми, принадлежащими к разным фратриям,
было отмечено на многих островах Меланезии, а также у народов
Сибири. Причем в Меланезии это убеждение было неразрывно
связано с преданиями об имевших место в прошлом вооруженных
столкновениях между членами разных фратрий и сохранявшейся до
самого последнего времени ритуальной вражде между ними. Суще-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 109
ствование ритуальной вражды между фратриями или более или
менее отдаленных ее пережитков отмечено исследователями также
в Микронезии, Полинезии, Австралии, Азии, Африке, Северной и
Южной Америке96.
Мнения, что дуально-родовая организация возникла в
результате соединения ранее самостоятельных групп, придерживались
Э. Тайлор и У. Риверс. Согласно взглядам первого, причиной
возникновения экзогамии и дуально-родовой организации являлось
стремление каждого из изолированных ранее коллективов
установить дружеские, союзнические отношения, по крайней мере хотя
бы с одиой-другой человеческой группой97. И здесь опять перед
нами вариант теории «общественного договора».
Путь к выявлению реальных причин, которые привели к
появлению дуальной организации, был очень долгим. Мысль о том, что
в основе экзогамии лежит объективная необходимость в
ограничении действия полового инстинкта, была впервые высказана еще
Μ. Μ. Ковалевским98. Почти одновременно рядом исследователей
было выдвинуто положение, что промискуитетные отношения в
первоначальном человеческом коллективе имели место лишь в течение
более или менее ограниченных периодов времени99. Несколько
позже В. Г. Богораз (Тан) высказал предположение, что
первоначальный человеческий коллектив был раздвоен не только во времени, но
и в пространстве. Он был разделен на обособленные мужскую и
женскую группы, половые отношения между членами которых
могли иметь место в определенные ограниченные периоды времени100.
С. П. Толстов поставил возникновение экзогамии в связь с
появлением и развитием производственных половых табу, а
происхождение последних объяснил как результат нарастания противоречия
между неупорядоченными половыми отношениями, с одной
стороны, и потребностями развития производственной деятельности
коллектива, с другой 101.
В дальнейшем эта концепция была разработана на основе не
только этнографических, но и археологических и палеоантропологи-
ческих материалов и превратилась в теорию завершения
становления человека и человеческого общества. Изложенная концепция
происхождения экзогамии и рода — единственная, которая, не
ограничиваясь ссылкой на причины, дает логически
последовательную и обоснованную фактами картину возникновения этих
явлений.
Проблема эволюции брака. Мысль о том, что до индивидуального
брака существовал брак групповой, имеет давнюю историю.
Детально она была разработана Л. Г. Морганом 102. Он создал первую
научную схему эволюции семейно-брачных отношений. Исходным
моментом в этой схеме была орда, живущая в промискуитете. За ней
следовала кровнородственная семья и семья пуналуа, основанные на
двух последовательно сменившихся формах группового брака.
Следующими стадиями эволюции были парная и моногамная семья, ос-
110
Глава вторая
нованные на двух последовательно сменившихся формах
индивидуального брака.
Как выяснилось в дальнейшем развитии науки, ни
кровнородственной семьи, ни семьи пуналуа в действительности никогда не
существовало. В результате этого некоторые советские
исследователи перешли на позиции, которые давно отстаивало подавляющее
большинство западных ученых — отрицания существования
группового брака вообще. Основанную на индивидуальном браке
элементарную семью они начали рассматривать как необходимую
составную ячейку любого человеческого общества, не исключая
древнейшего, даже только формирующегося.
Согласиться с этим нельзя. Особенности древнейших групповых
систем родства — дуальных — неопровержимо свидетельствуют
о том, что во время, когда они возникли, во-первых, не было
индивидуального брака, во-вторых, существовала дуально-родовая
организация. Но последняя по своему существу есть организация брака,
причем брака группового.
Брачно-групповой является не только исходная дуально-родовая
организация, но и возникшая из нее дуально-фратриальная.
Последняя всегда регулировала отношения между полами. Брачно-группо-
вое регулирование существовало вообще везде, где действовали
дуальные системы родства. Таким образом, групповой брак не
представляет собой явления, которое исчезло с возникновением
индивидуального брака. Он вплоть до наших дней продолжал
существовать наряду с индивидуальным браком у значительного числа
народов, находившихся на стадии первобытного общества. В трудах
этнографов содержится огромное число описаний различных форм
группового брака. Однако, описывая их, многие авторы не
подозревают, что имеют дело с групповым браком. Тому есть причины.
Люди, выдвинувшие идею группового брака, знали один только
индивидуальный брак. В результате групповой брак был
интерпретирован ими как своеобразная сумма индивидуальных браков.
Именно такого рода понимания группового брака придерживался и
Л. Г. Морган. Групповой брак он представлял как совокупность
брачных отношений каждого из мужчин, составлявших одну группу,
с каждой из женщин, составлявших другую группу, т. е. как
сочетание многоженства и многомужества. Такого мнения
придерживались и его последователи, исключая одного лишь Л. Файсона.
Подобный взгляд неизбежно делает саму идею эволюции
брачных отношений от промискуитета через групповой брак к
индивидуальному (парному, а затем моногамному) весьма уязвимой для
критики, ибо такого группового брака, каким они его представляли,
никогда не существовало в качестве стадии исторического развития.
Правильной является трактовка брака как брака только между
группами, но не между индивидами, взятыми в отдельности.
Именно таким и был как дуально-родовой, так и более поздние формы
группового брака.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 111
Особенно четко эта особенность группового брака проявлялась
на самой ранней стадии развития, когда он был единственно
существующим и никакого индивидуального брака еще не было. В эту
эпоху между мужчинами и женщинами, принадлежавшими к
разным родам дуальной организации, взятыми не вместе, а по
отдельности, брачных отношений вообще не было.
Это утверждений может показаться парадоксальным лишь тем,
кто отождествляет брачные отношения с половыми. В
действительности те и другие — далеко не одно и то же. Половые отношения
могут существовать и существуют и без брачных. Брачные
отношения, включая в себя половые, никогда к ,нимч не сводятся. Брак
всегда есть определенная социальная организация отношений
между полами. Там, где социальная санкция отношений между
полами отсутствует, они не являются браком и в том случае, если
имеют долговременный характер, даже если длятся до конца
жизни. Так, не являлось браком парование, наблюдавшееся на ранней
.стадии праобщины. Оно не влекло за собой ни прав, ни
обязанностей.
Но зато определенные права и обязанности существовали между
родами, составлявшими дуальную организацию. Каждый из них,
воспрещая половое общение между своими членами, предписывал
членам своей мужской группы вступать в половые отношения с
членами женской группы другого коллектива и соответственно членам
своей женской группы — с членами мужской группы другого
коллектива. Но этим социальное регулирование половых отношений на
первых порах и ограничивалось. Связи по детопроизводству были
социально организованы только как отношения между группами
индивидов, но не как отношения,между индивидами, взятыми в
отдельности. Ни один конкретный мужчина не был обязан вступать
в связь с каждой из женщин другого рода, равно как и ни одна из
конкретных женщин не была обязана отдаваться каждому из
мужчин иного рода.
Для каждого конкретного члена, скажем, мужской группы одного
коллектива обязанность вступать в половые отношения с членами
женской группы другого рода являлась лишь указанием на круг
лиц, внутри которого он имел право искать полового партнера, и
только. Кто же из данного круга лиц становился его партнером и
на какое время — все это определялось исключительно лишь доброй
волей лиц, вступавших в связь. Вступление в половые отношения
лиц, принадлежавших к разным родам, не давало никаких прав друг
на друга и не накладывало на них никаких обязанностей по
отношению друг к другу. Вмешательство коллективов в эти отношения
сводились лишь к пресечению попыток насилия, лишь к
обеспечению возможности каждому индивиду располагать собой. Но если
отношения между индивидами, взятыми в отдельности, не были
браком, то не имеет никакого смысла говорить о них как о «мужь-
112
Глава вторая
ях», «женах», вообще «супругах». Их можно называть лишь
половыми партнерами.
Отсутствие между мужчинами и женщинами, принадлежавшими
к разным половинам дуально-родовой организации, каких-либо
других отношений, кроме половых, закономерно. Ведь и после
возникновения дуально-родовой организации каждый из коллективов,
вошедших в ее состав, остался в хозяйственном отношении полностью
самостоятельным. На заре родового общества производственные и
детопроизводственные отношения взаимно исключали друг друга.
Если люди принадлежали к одному хозяйственному коллективу, то
между ними не могло быть половых отношений. Половые
отношения были возможны только между людьми, не связанными
производственными узами, принадлежавшими к разным, совершенно
самостоятельным в хозяйственном отношении социальным организмам.
Первоначальный групповой, дуально-родовой брак был, если можно
так выразиться, дисэкономическим. Входя в состав разных
хозяйственных коллективов, люди, имевшие право вступать в половые
отношения, должны были, разумеется, и жить раздельно.
Первоначальный брак, будучи дисэкономическим, был тем самым и дисло-
кальным. В таких условиях все связи между отдельными
индивидами противоположного пола, принадлежавшими к разным
коллективам, неизбежно по существу должны были сводиться к половым
отношениям, восить сугубо личный характер.
Как уже отмечалось, каждая праобщина делилась на две группы:
мужскую и женскую. Превращение праобщины в род еще в большей
степени способствовало обособлению этих групп, ибо каждая из них
теперь оказалась тесно связанной с противоположной группой
другого рода.
Первоначально мужская и женская группы, вместе составлявшие
один хозяйственный коллектив, жили рядом, занимая две
обособленные половины одного большого жилища или образуя две более
или менее обособленные части одного поселения. Что касается
разных хозяйственных коллективов, то они, вероятно, вначале были
расположены сравнительно неблизко друг от друга. О том, как
осуществлялись отношения между членами мужских и женских групп,
принадлежавших к разным родам одной дуальной организации,
говорят тробрианские обычаи улатиле и катайауси, сходные с ними
обычаи папуасов и бушменов.
В дальнейшем параллельно с некоторым отдалением мужской и
женской групп, принадлежавших к одному хозяйственному
коллективу, шло пространственное сближение мужской и женской групп,
входивших в состав разных хозяйственных коллективов, но
связанных узами по детопроизводству. С поселением на близком
расстоянии мужских и женских групп, принадлежавших к разным родам,
отпала необходимость в коллективных экспедициях типа улатиле и
катайауси. Хотя брак продолжал оставаться групповым, на смену
встречам группы мужчин с группой женщин пришли встречи инди-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 113
видов противоположного пола, принадлежащих к разным родам,
встречи отдельных мужчин с отдельными женщинами. О том, как
протекали эти встречи, помогают составить представление Данные
этнографии. У многих народов зафиксирован обычай, состоящий
в том, что люди могли вступать в половые отношения только вне
селения и уж ни в коем случае не в помещении. Так, у некоторых
групп батаков Суматры (Индонезия) общение юношей и девушек
на рисовых полях являлось совершенно свободным. Но если они
позволяли это себе в селении, то подвергались общественному
порицанию и должны были уплатить штраф. На Соломоновых островах
(Меланезия) молодые люди могли вступать в отношения только
в лесу, но никогда в селении. У некоторых племен Фиджи, Новой
Каледонии, Новой Гвинеи, гондов Индии, уитого Южной Америки
вступать в половые отношения дома воспрещалось даже мужу и
жене. Они должны были встречаться в чаще леса 103. Подобного рода
ограничения господствовали на определенной стадии эволюции
дуально-родового брака и потеряли свою силу лишь в дальнейшем,,
причем скорее всего лишь после возникновения парного брака, да
и то, как мы видим, не у всех народов.
Можно привести огромное количество самых разнообразных
пережитков дуально-родового брака, былой обособленности мужчин
и женщин вообще, половых партнеров в особенности. Они
зафиксированы у всех народов земного шара без исключения.
У многих народов, находящихся на стадии доклассового
общества, отмечено существование домов, в которых жили юноши до тогоу
как они вступали в брак и обзаводились семейным жилищем.
Нередко наряду с ними у тех же народов существовали дома, в
которых совместно жили девушки до замужества. Одновременное
существование домов холостяков и домов девушек зафиксировано
этнографами на о-вах Адмиралтейства, Новой Гвинее, некоторых
островах Микронезии, у ифугао и игоротов Филиппин, батаков Суматры,
некоторых племен Бирмы, андаманцев, некоторых подразделений
нага, абор, микиров, ораонов, малер, бхуйев, кхондов, санталов и
других народов Индии, банту бассейна Замбези, ваньямвези, вабо-
ии, вапакомо, васанье Кении, шаста Калифорнии.
У народов, ведущих бродячий образ жизни и не имеющих
постоянных жилищ, тот же самый институт мы находим в несколько
иной форме. У аборигенов Австралии было отмечено существование
обособленных групп шалашей в пределах общего лагеря или даже
особых лагерей юношей и особых лагерей девушек. У бушменов и
семангов юноши спали у отдельного костра, так же как и девушки.
У многих народов Африки, у которых настоящих домов
холостяков и домов девушек уже не существовало, юноши и девушки по
достижении зрелости переходили из семейных хижин в свои
собственные, стоящие особняком. Наконец, по всей Африке дома
холостяков и дома девушек существовали в течение определенного
периода времени, связанного с инициациями.
114
Глава вторая
У большого числа народов мы застаем либо только дома
девушек, либо, что гораздо чаще, дома холостяков. Одни только дома
девушек зафиксированы у индейцев Канады и кое-где в Полинезии.
У игоротов Филиппин, у которых еще в прошлом веке девушки
обитали в специальном доме, в настоящее время они живут
небольшими группами в домах одиноких женщин. Данных об одних лишь
домах холостяков необычайно много. Помимо областей, в которых
они существовали параллельно с домами девушек, их бытование
отмечено в Микронезии, Полинезии, Южном Китае, Индии, у веддов
Шри-Ланка, в Африке, на Тайване, в Таиланде, во Вьетнаме, у
индейцев Северной Америки и, наконец, в Европе. В последнем случае
мы имеем в виду древнюю Спарту, в которой унаследованные от
доклассового общества дома холостяков были приспособлены к
потребностям военно-казарменного государства 104.
У народов, у которых существовали дома холостяков и дома
девушек, женатые мужчины и замужние женщины обычно жили
вместе с детьми в семейных хижинах. Но в эпоху дуально-родового
брака не было ни парного брака, ни парной семьи. Соответственно
не могло в ту эпоху существовать ни семейного хозяйства, ни
семейного жилья. Отсюда следует, что то образование, которое в
дальнейшем стало домом (лагерем) холостяков, первоначально было
сооружением или комплексом сооружений, в котором жили все
мужчины и юноши без исключения, а то, которое в дальнейшем
стало домом (лагерем) девушек, было сооружением или комплексом
сооружений, в котором жили взрослые женщины, девушки и дети
обоего пола. Короче говоря, дому холостяков предшествовал мужской
дом (лагерь), а дому девушек — женский.
Между обитателями дома холостяков и дома девушек все
отношения по существу сводились к половым. Это дает основание для
вывода, что при отсутствии парного брака точно такой же характер
носили отношения между всеми обитателями мужского дома одного
рода и всеми взрослыми обитателями женского дома другого рода.
Перед нами картина дисэкономического и дислокального группового
брака в чистом виде. Именно таким и был дуально-родовой брак.
Предположение, что домам холостяков предшествовали мужские
дома, а домам девушек — женские, находит свое подтверждение в
данных этнографии. У многих народов, которые были упомянуты
выше, помещения, где спали юноши, являлись собственно не домами
холостяков, а мужскими домами. В этих домах, доступ в которые
женщинам был воспрещен, собирались все мужчины. Там они
проводили большую часть свободного времени, обсуждали и решали
общественные дела, устраивали время, от времени пиршества, а
иногда и вообще ели в них. В этих же домах принимали и
устраивали на ночь гостей, разумеется мужчин. Именно такой характер
носили дома, где спали юноши, на многих островах Меланезии,
Микронезии, Полинезии, на Тайване, у значительного числа племен
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 115
Таиланда, Вьетнама, Бирмы, Индии, в Африке, у индейцев
Северной Америки.
Имеются факты, говорящие, что раньше в этих домах спали не
только юноши, но и все вообще мужчины. Так, у племени ангами
нага (Индия) мужчина в течение года после свадьбы должен быть
спать вместе с юношами в мужском доме. Только по истечении этого
срока он мог перейти в семейную хижину. На о-вах Новые Гебриды
(Меланезия) мужчина получал право перейти из мужского дома
в свой семейный только спустя несколько лет после вступления в
брак. У индейцев карок, шаста, хупа (Калифорния) мужчина жил
в одном шалаше с женой лишь летом. В остальное время года он
вместе со всеми остальными мужчинами спал в мужском доме, где
проводил и досуг105. Имеются основания полагать, что раньше у
австралийцев обособленно от женщин жили не только юноши, но все
вообще мужчины. О существовании особых мужских лагерей
говорится в"мифах. Такого рода лагеря реально существовали в период
совершения определенного рода обрядов, особенно мужских
инициации 106.
Но самым, пожалуй, важным доказательством в пользу
выдвинутых положений является существование у некоторых этнических
групп самых настоящих мужских домов — таких, где мужчины не
только проводили свободное время, решали общественные дела,
питались, но и спали. У этих народов в семейных хижинах обитали
лишь женщины и дети. Парный брак носил в этих условиях во
многом дислокальный характер, хотя, разумеется, не был дисэкономи-
ческим. Мужские дома такого типа были характерны для папуасов
Новой Гвинеи (кивай, нгаравапум, энга, чимбу, сиане, камано, форе,
узуруфа, джате, гахуку-гама и др.). Существовали они на многих
островах Меланезии (Банкс, Санта-Крус, Соломоновых, Фиджи), а
также в Микронезии (о-ва Палау, Яп). В Азии они описаны у
некоторых племен нага (Индия). В Америке они существовали у
эскимосов Аляски и Гудзонова залива, у племен плато и Большого
бассейна США, наконец, у мундуруку Бразилии107.
Приведенный выше материал позволяет наметить линию
эволюции мужских домов. Вначале все мужчины, а также мальчики,
начиная с определенного возраста, проводят свободное время, питаются
и спят в мужском доме. В дальнейшем с возникновением парного
брака, семьи и семейного жилища женатые мужчины постепенна
переходят спать к жене, и в мужском доме на ночь остаются только
юноши. В последующем мужской дом может превратиться только
в дом холостяков, утратив функции своеобразного мужского клуба
(меланезийцы Тробриан, ведды Шри-Ланка, тесо Африки и др.). Но
возможно превращение мужского дома исключительно лишь в
мужской клуб, а также место ночлега гостей. В таком виде он
обнаружен у многих народов. На базе мужских домов в определенных
конкретно-исторических условиях возникали различного рода
мужские союзы.
116·
Глава вторая
Приведенные материалы свидетельствуют об универсальной
распространенности в прошлом человечества института мужских
домов. Но тем самым они косвенно свидетельствуют и об
универсальной распространенности в прошлом и женских домов, прямых
данных о существовании которых имеется значительно меньше.
Несомненно, что все данные, свидетельствующие об обособленности
мужчин от женщин, в такой же степени говорят и об
обособленности женщин от мужчин. Естественно, что везде, где существовал
мужской дом, особенно в своей наиболее архаичной форме,
женщины составляли столь же обособленную группу, что и мужчины. Но
эта группа, как правило, не обитала в общественном доме,
аналогичном мужскому. Сообщения о существовании у некоторых народов
домов, в которых совместно жили девушки и замужние женщины
с детьми, носят недостаточно определенный характер. Но данные
о существовании женских домов в прошлом человечества достаточно
определенны.
О том, что женским семейным хижинам предшествовал общий
женский дом (лагерь), прежде всего говорит бытование у многих
народов домов (лагерей) девушек. Последние, как уже указывалось,
существовали в Океании, Австралии, Азии, Африке, Америке,
отчетливые их пережитки были отмечены у народов Европы. Имеются
данные, свидетельствующие, что у аборигенов Австралии
становищам девушек предшествовали лагери, где жили все женщины и дети
обоего пола. О существовании параллельно с мужскими женских
лагерей говорится в мифах. Женские становища и реально
возникали параллельно с мужскими в периоды определенных церемоний.
Особые «дома женщин» и «дома девушек», куда собирались для
времяпрепровождения соответствующие группы женского населения,
были описаны у народов Кавказа. Существование специальных
домов, где собирались женщины и куда мужчинам вход был запрещен,
зафиксированы на о-вах Гильберта и Каролинских (Микронезия).
И, наконец, почти у всех народов доклассового общества
существовали особые строения (дома, шалаши и т. п.), в которых женщины
должны были находиться в строгой изоляции от мужчин во время
перехода во взрослое состояние, менструаций, родов. Пережитками
женских домов являются женские союзы, которые были отмечены
этнографами в Западной Африке, Меланезии, Микронезии и
Северной Америке 108.
Но самое, пожалуй, широкое отражение получили женские дома
(лагери) в фольклоре. Мы имеем в виду уже рассмотренные выше
легенды об амазонках, имевшие, как указывалось, универсальное
распространение. Если в более ранних вариантах легенд, наряду с
мотивом обособленного существования группы женщин явственно
выступает мотив опасности, грозящей мужчинам от контакта с
ними, то в более поздних сохраняется лишь первый мотив. И следует
сказать, что многие из этих поздних легенд собственно и не
заслуживают названия амазонских. Ведь в них рассказывается не только
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 117
об обособленно живущих группах женщин, но и столь же
обособленно живущих группах мужчин, а также о существовании между
мужской и женской группами постоянных связей по детопроизвод-
ству.
Перед нами, таким образом, предстает картина чистого дисло-
кального и дисэкономического группового брака, каким и был
дуально-родовой брак. Но картина эта далеко не полна: в ней
мужская и женская группы выступают как вполне самостоятельные
хозяйственные коллективы, в то время как в действительности и та
и другая были всего лишь частями хозяйственных коллективов,
состоявших каждый из мужской и женской групп, между членами
которых половые отношения были воспрещены. Этому можно найти
лишь одно объяснение: мужчины и женщины, принадлежащие к
одному роду, также в этот период жили раздельно, причем на
известном расстоянии друг от друга.
Пока коллективы, составлявшие дуальную организацию, жили
сравнительно далеко друг от друга и контакты между ними
осуществлялись в форме кратковременных встреч групп мужчин и
женщин, возникновение более или менее постоянных пар было
невозможно. Когда же обе части дуальной организации поселились в
непосредственном соседстве, парование стало возможным, и эта
возможность не замедлила превратиться в действительность.
Составить представление о характере парования в этот период
позволяют материалы о добрачных (речь идет об индивидуальном
браке) отношениях в первобытных социальных организмах. Эти
отношения в подавляющем большинстве первобытных обществ,
известных этнографии, не возбранялись и не осуждались.
Характерным для этих обществ была, как принято писать в этнографических
работах, свобода отношений полов до брака. Однако свобода эта была
далеко не полной. Добрачные отношения во всех этих обществах
регулировались. И в качестве единственного их регулятора
выступал групповой брак или его пережитки. Иными словами, добрачные
половые отношения между индивидами были по своей сущности
отношениями людей, связанных лишь групповым браком.
У всех народов, у которых бытовала свобода добрачных
отношений, образовывались более или менее постоянные пары.
Образование и исчезновение пар определялось исключительно лишь
доброй волей составлявших их людей. От их желания и только от него
зависела продолжительность парования., Образованию пар
предшествовали кратковременные и эпизодические связи с разными
партнерами. Но и парование не исключало эпизодических связей парных
партнеров с посторонними лицами. Но даже самое длительное и
прочное парование не было браком, ибо оно никак не
санкционировалось обществом и не влекло за собой никаких прав и обязанностей
партнеров по отношению друг к другу109.
Парование, само по себе взятое, не только не является браком,
но и не порождает с необходимостью брак. В доклассовом обществе
118
Глава вторая
оно продолжало существовать и после возникновения парного
брака, параллельно с ним, причем совершенно не обязательно
перерастая в брак. Но если оно совершенно не обязательно перерастает
в парный брак даже после того, как последний уже возник, то тем
более неправильно видеть в нем чуть ли не причину появления
индивидуального брака. Парование было необходимым условием
возникновения парного брака, но чтобы последний зародился,
нужны были определенные сдвиги в системе первобытных социально-
экономических отношений: появление избыточного продукта и
перехода долей общественного продукта в распоряжение отдельных
членов общества. Ведь завязывание брачных связей между
индивидами означало также и возникновение между ними определенных
экономических отношений.
Первоначально парный брак, так же как групповой, носил дис-
локальный характер. По мере укрепления брачных связей появилась
тенденция к совместному поселению супругов. Но выразилось это
не в поселении супругов в одном совместном жилище, а в
максимальном приближении друг к другу строений, в которых они
обитали.
Как явствует из приведенного выше материала, супруги часто
продолжали жить в разных жилищах много тысяч лет спустя после
утверждения парного брака. Локальным их брак был только в том
смысле, что они обитали в одном селении, а не в разных. И даже
потом, когда они начали обитать в одном жилище, пережитки былой
дислокальности долго еще продолжали сохраняться. У многих
народов с вполне оформившимся индивидуальным браком этнографами
зафиксирован обычай, в силу которого супруги в течение
определенного, иногда весьма длительного периода должны были жить
раздельно. Муж в течение этого срока мог лишь навещать жену по
ночам, причем чаще всего втайне от ее родственников110.
С возникновением парного брака групповой брак не исчез.
Продолжая регулировать половые отношения между индивидами, он
тем самым регулировал парный брак. Вступать в парный брак могли
только те люди, которые имели право вступать в половые
отношения. Человек не только не мог вступать в брак с членами своего
рода, но ему предписывалось искать супруга (супругу) в пределах
одного определенного рода или даже одного определенного
поколения членов этого рода. В дальнейшем ограничение круга возможных
брачных партнеров рамками лишь одного рода стало препятствием
на пути развития первобытного общества. Возникла настоятельная
необходимость предоставить индивидам возможность искать себе
супругов (супруг) не в одной группе, а в нескольких. Конечно,
этого проще всего было достигнуть путем упразднения группового
брака. Но на той стадии развития это было невозможно. Групповой
брак не исчез, а приобрел иные формы.
У значительного числа народов дуально-родовой брак
превратился в дуально-фратриальный. Последний по форме не отличается
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 119
от первого. И тот и другой являются не только групповым, но и
дуальным. И при дуально-фратриальном браке существуют две
группы, члены которых не только могут, но и должны вступать в
половые отношения только друг с другом. Но этими двумя
группами являются теперь уже не роды, бывшие первоначально
основными ячейками общества и долгое время остававшиеся определенным
организованным социальным целым, а фратрии, представлявшие
•собой более или менее обширные совокупности родов, которые
никогда не выступали в качестве основной общественной единицы.
И это обстоятельство делало дуально-фратриальный брак браком не
столько по существу, сколько по форме.
При одной из форм дуально-фратриального брака все мужчины
одной половины дуальной организации без различия поколений
имеют право вступать в половые отношения (а тем самым и в брак)
«со всеми женщинами другой половины. При другой — половые, а
тем самым и брачные отношения возможны между людьми,
принадлежащими не только к разным половинам дуальной организации, но
и обязательно к одному поколению. Вторая форма
дуально-фратриального брака в этнографической литературе носит название
предписанного, или обязательного, билатерального (двухстороннего)
кросс-кузенного брака. Переход к дуально-фратриальному браку в
любой его форме имел следствием значителкное расширение круга
возможных брачных партнеров. Люди получили возможность
вступать в брак с членами не одного рода, а нескольких.
Дуально-фратриальный брак не был универсальным явлением,
у части народов расширение круга возможных брачных партнеров
пошло по пути превращения брака между родами из двухстороннего
в односторонний. Если раньше отношение мужской группы одного
из двух родов, связанных брачным союзом, к женской группе другого
рода было совершенно аналогично отношению мужской группы
последнего рода к женской группе первого, то теперь на смену брачной
симметрии пришла асимметрия. Наличие у мужчин одного из любых
двух родов, связанных брачным союзом, права вступать в индиви-
дуальдо-брачные отношения с женщинами другого не только не
предполагало, но, наоборот, исключало наличие аналогичного права у
мужчин второго рода по отношению к женщинам первого. Иначе
говоря, из любых двух родов, связанных узами брака, один всегда
выступал по отношению к другому только как своеобразный групповой
«муж», а второй по отношению к первому — только как
своеобразная групповая «жена». Но вполне понятно, что, будучи группой,
состоящей как из мужчин, так и из женщин, ни один род не мог быть
только «мужем» или только «женой». Каждый род с неизбежностью
должен был состоять по меньшей мере в двух брачных союзах: во-
первых, в союзе с родом, по отношению к которому он выступал в
качестве «мужа»: во-вторых, в союзе с родом, по отношению к которому
он выступал в качестве «жены». Такого рода односторонний
групповой родовой брак хорошо известен этнографам, которые описали его
120
Глава вторая
под названием обязательного матрилатерального кросс-кузеннога
брака.
Дуально-родовой брак был вечным. Он не заключался и не
расторгался, а просто существовал. Именно таким он представал в
глазах индивидов. Переход от него к одностороннему родовому браку
был невозможен без заключения самими людьми нового брачного
союза хотя бы с еще одним родом. А это с необходимостью пролагала
дорогу к заключению все новых и новых союзов. Как свидетельствуют
данные этнографии, везде, где мы сталкиваемся с реальным
односторонним родовым браком, каждый род состоит в брачных союзах не
с двумя другими родами, а с большим их числом, имеет несколько
«мужей» и несколько- «жен». Если в случае с дуально-родовым
браком мы сталкиваемся со своеобразной родовой «моногамией», то в
случае с односторонним родовым браком — со столь же
своеобразными «полигинией» и «полиандрией» вместе взятыми.
Возникновение одностороннего родового брака также открывало
определенную возможность расширения круга возможных брачных
партнеров. Реализация ее достигалась путем заключения групповых
брачных союзов с родами, с которыми раньше таких отношений не
существовало. Однако при всем этом круг потенциальных брачных
партнеров оставался все же ограниченным. Члены каждой данной
группы могли вступать в индивидуальный брак с членами только тех
родов, с которыми данный род состоял в брачном союзе, причем
мужчины могли вступать в брак с женщинами только тех родов, которые
выступали по отношению к данному как «жены», жейщины — с
мужчинами лишь тех родов, которые приходились данному роду
«мужьями». И здесь мы, как и в случае с дуально-фратриальным браком
в обеих его формах, сталкиваемся не только с запретом половых
отношений внутри группы (агамией группы), но и с предписанием
вступать в половые, а тем самым брачные отношения только с членами
определенного числа родов.
В дальнейшем развитии все эти предписания постепенно
исчезают и в конце концов сохраняется одна лишь родовая агамия, а тем
самым всего лишь требование вступать в половые отношения вне
данной, сравнительно небольшой группы. Таким образом, экзогамия,
которая на поздних этапах эволюции родового общества выступает
как единственная, исключая индивидуальный брак, форма
регулирования отношений между полами, представляет собой не что иное,
как пережиток группового брака, остаток брачно-группового
регулирования.
Проблема универсальности рода. Род был известен задолго до
Л. Г. Моргана. Значение трудов последнего заключается в том, что
он увидел в роде не один из многих общественных институтов, как
другие исследователи, а исходную ячейку первобытного общества.
Такое понимание рода вполне согласуется с тем, что было изложено
выше. Возникновение рода означало крутой перелом в развитии
человечества. Только с родом возникли подлинное человеческое обще-
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 121
€тво и готовый сформировавшийся человек. Отсюда с неизбежностью
вытекает вывод об универсальности рода.
Этот вывод нередко оспаривается, особенно в западной
литературе. Противники взгляда на род как на универсальное явление в
качестве довода ссылаются на существование этнических групп,
находящихся на стадии первобытного общества, но лишенных родовой
организации. Эти группы нередко характеризуются как такие, которые
никогда не обладали родовой организацией. Однако такая точка
зрения находится в противоречии с фактами. Часть из них уже была
приведена выше. Все доказательства в пользу универсального
характера дуально-родовой организации являются одновременно и
аргументами в пользу тезиса о всеобщности рода. Чем дальше
развивается этнографическая наука, тем таких аргументов становится
больше.
Если, например, еще в 1920-х годах Р. Лоуи категорически
утверждал, что у северных атапасков рода никогда не было 1П, то к
настоящему времени собран огромный материал, неоспоримо
свидетельствующий о существовании у них в прошлом материнского
рода U2.
Эскимосы долгое время рассматривались в этнографической
литературе как классический пример народа, никогда не имевшего
родовой организации. Однако сейчас у одних групп эскимосов
обнаружены явные пережитки отцовского рода, а у других — деление на
две матрилинейные фратрии113. Отчетливые признаки бытования в
прошлом рода обнаружены и у других безродовых групп (алгонкины
Канады, оджибвеи и др.) 114. Все это привело ряд западных
исследователей к выводу, что у всех народов, у которых существовала
безродовая организация, последняя возникла в результате
разрушающего воздействия обществ, находившихся на более высоких стадиях
развития 115. К настоящему времени в общих чертах ясен и механизм
исчезновения родовой организации у народов, продолжающих
оставаться на стадии первобытного общества.
Материнский и отцовский роды. Род, как уже отмечалось, всегда
агамен и, следовательно, экзогамен. Поэтому род всегда унилатера-
лен, т. е. принадлежность к нему может считаться либо только по
матери, либо только по отцу. Соответственно существуют две формы:
материнский и отцовский род. И.-Я. Бахофеном впервые была
высказана и обоснована идея, что в истории человечества материнский счет
родства предшествовал отцовскому116. Положение о первичности
материнского рода и вторичности отцовского, выдвинутое почти
одновременно Дж. Мак-Леннаном117 и Л. Г. Морганом118, было детально
разработано в трудах последнего. Ф. Энгельс дал высокую оценку
этому вкладу Л. Моргана в науку119.
Однако Морган не смог объяснить, почему первоначальный род
был материнским. Сссылка на неизвестность отца при групповом
браке ничего не дает, ибо, если даже отец действительно был неизвестен,
то всегда был известен род, к которому он принадлежал. Объяснить
122
Глава вторая
это явление дает возможность изложенная выше концепция
происхождения рода и дуально-родовой организации. В силу дисэкономи-
ческого и дислокального характера дуально-родового брака человек
мог принадлежать только к тому роду, в котором родился, т. е. к тому,
к которому принадлежала его мать. В этих условиях род мог быть
только материнским и никаким другим.
В работе Л. Г. Моргана «Древнее общество» и труде Ф. Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» была
дана схема эволюции родовой организации, в которой в качестве
причины перехода от материнского рода к отцовскому выступало
накопление богатства и переход их в частное владение отдельных семей.
За годы, прошедшие с тех пор, этнографией был накоплен новый
гигантский фактический материал по этой проблеме. С одной
стороны, стали известны народы, у которых уже формировались классы
и государство, но сохранялся материнский род (ашанти, наяры,
минангкабау). С другой стороны, у значительной части аборигенов
Австралии, несмотря на полное отсутствие частной собственности,
существовал отцовский род. Отцовский род был обнаружен у ряда
других народов, находившихся на очень ранних ступенях развития.
Все эти факты были использованы для обоснования взгляда на
материнский и отцовский роды как на явления, во всех отношениях
абсолютно равноценные, существующие параллельно, которые могут
прямо или через промежуточные формы переходить друг в друга.·
Тезис о принципиальной равноценности материнского и отцовского
рода отстаивается в настоящее время и некоторыми советскими
учеными.
Ссылка на народы, у которых материнская филиация
продолжала существовать в условиях классового общества, сама по себе не
может быть аргументом против признания материнского рода
первичным. Иное дело явление, которое М. О. Косвеном было названо
«астралийской контроверзой». Однако при внимательном
рассмотрении австралийского материала он не только не свидетельствует
против изначальности материнского рода, а наоборот, подтверждает этот
тезис.
В настоящее время можно считать достаточно твердо
установленным, что деление австралийских племен на матрилинейные и
патрилинейные в значительной степени устарело. Если не все, то
подавляющее большинство племен, которые традиционно считались
патрилинейными, в действительности характеризуются
одновременным существованием материнских и отцовских родов. Две
филиации — материнская и отцовская — бытовали и у племен, которые
традиционно считались матрилинейными120.
Существование в том или ином обществе двойной филиации
свидетельствует о том, что в нем идет процесс перехода от одной
филиации к другой, т. е. смена двух рассмотренных выше форм родовой
организации. И во всех случаях, когда одна филиация сменяется
другой, происходит замена материнского счета родства отцовским, но
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 123
никогда наоборот. Этот факт признают даже самые упорные
противники взгляда на материнский род как на первоначальный.
Так, Дж. Мэрдок, убежденный сторонник точки зрения, по
которой матрилинейные и патрилинейные группы абсолютно
равноценны, писал, что «наиболее прочйой опорой эволюционной теории
первоначальности матрилинейности, причинившей огромные трудности
позднейшим этнографам, является полное отсутствие не только
исторически засвидетельствованных, но хотя бы даже просто логически
вероятных случаев прямого перехода от отцовской филиации к
материнской. Ни одного такого случая не встречается в нашей сводке
этнографического материала, ни с одним таким случаем автор вообще
не встретился в этнографической литературе» 121. На вопрос о
причине такого положения Мэрдок дает четкий и недвусмысленный
ответ: «Случаев такого перехода не зарегистрировано потому, что он
не может произойти... Прямой переход от патрилинейной филиации
к материнской невозможен» 122. По его мнению, существуют факторы,
которые обусловливают смену материнской филиации отцовской (и
главный среди них — накопление богатства в руках отдельных лиц),
но таких, которые вызвали бы движение в противоположном
направлении, нет 123.
Из всего этого он делает совершенно определенные выводы:
«Часто наблюдается, что во многих частях мира патрилинейные и
матрилинейные народы живут бок о бок в определенной ограниченной
области, причем их культуры обнаруживают абсолютно достоверные
исторические связи. Сейчас совершенно ясно, что везде, где такая
«ситуация существует, в случае, если эти два типа структуры
генетически связаны, патрилинейные племена должны были развиться из
матрилинейных, а не наоборот. Столь же верно, что во всех обществах
£ вполне развитой двойной филиацией матрилинейные родственные
группы возникли первыми, а правило патрилинейной филиации
представляет собой явление, развившееся вторично» 124.
Из всего сказанного следует вывод: у австралийских племен
существующему положению вещей предшествовало время, когда были
лишь материнские роды.
Данные по австралийцам являются аргументом не только против
концепции, согласно которой материнский и отцовский роды
стадиально равноценны, но одновременно и против точки зрения, по
которой материнский род представляет собой позднее явление,
появившееся только после перехода к земледелию. Этот взгляд совершенно
не соответствует действительности. Выше уже отмечалось, что
материнский род существовал в прошлом у северных атапасков. К ним
можно добавить алгонкинов Канады, веддов Шри-Ланка, пигмеев
Африки125. Существование матрилинейности и даже матрилинейных
экзогамных групп, т. е. родов, отмечено у целого ряда племен
охотников и собирателей Южной Америки126. Можно вспомнить также
о матрилинейных фратриях у одной из групп эскимосов.
124
Глава вторая
Предложено в настоящее время и объяснение раннему переходу
от материнского рода к отцовскому127. В целом выделено три
основных варианта эволюции родовой организации, каждый из которых
связан с определенными условиями, в которых шло развитие тех или
иных народов.
В одних случаях наряду с материнским родом рано появляется
отцовский род, приобретающий все большее значение и
отодвигающий постепенно первый на задний план. В других — переход от
материнского рода происходит значительно позднее и связан с
накоплением богатств в руках отдельных членов общества. Именно этот
вариант был детально рассмотрен в работах Л. Г. Моргана и Ф.
Энгельса. В третьих — материнский род продолжает существовать
вплоть до перехода к классовому обществу. Отцовский род при таком
варианте развития чаще всего совсем не возникает.
Дополнительные аргументы в пользу первичности материнского
рода дает его сопоставление с отцовским. В этнографии
распространено мнение, что матрилинейные и патрилинейные группы во всем
подобны, как бы зеркально отражают друг друга. В
действительности между ними существуют существенные различия, которые были
подмечены рядом исследователей128. Материнский род не
предполагает с необходимостью существование брака между индивидами. Он
предполагает существование только группового, дуально-родового
брака. Совершенно иное дело — отцовский род. Его существование
абсолютно невозможно без индивидуального брака. Он мог
возникнуть только после появления парного брака и ни в коем случае не
раньше. Поэтому отцовский род с неизбежностью представляет собой
явление более позднее, чем материнский род, который может
существовать и до появления парного брака 129.
1 История первобытного общества. Общие вопросы. Проблема антропосоцио-
генеза. М., 1983.
2 Першиц А. И. Остаточные явления в культуре.— Природа, 1982, №^10.
3 Sahlins Μ. Stone age economics. Chicago; N. Y., 1972.
4 См.: Коккъяра Дж. История фольклористики в Европе. М., I960, с. 451—
467, 519-533.
6 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
6 Fison L. The Nanga, or sacred stone enclosure, of Wainimala, Fiji.— J(R)AIt
1884, v. 14, N 1.
7 Powdermaker G. Life in Lesu. L., 1933, p. 267.
8 Sproat G. M. Scenes and studies of savage life. L., 1868, p. 227.
9 Сводки материалов и литературы см.: Семенов Ю. И. Как возникло
человечество. М., 1968, с. 287—288; Он же. Происхождение брака и семьи. М.,
1974, с. 72-73, 117.
10 Сводки материалов и литературы см.: Семенов Ю. И. Как возникло
человечество, с. 292—293; Он же. Происхождение брака и семьи, с. 73—74, 284—285.
Дополнительно: Burriss E. A. Toboo, magic, spirits. A study of primitive
elements in Roman religion. Westport, 1972 p. 89.
11 Сводки литературы см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 74,
285. Дополнительно: Burris Ε. A. Taboo..., p. 89.
12 Willoughby W. С. Nature worship and taboo. Hartford, 1932, p. 126—127.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 125
13 Boas F. Ethnology of the Kwakiutl, based on data collected by George Hunt.—
35 ARBAE, 1921, pt 2, p. 719.
14 Сводку литературы см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 72,.
284.
16 Липе Ю. Происхождение вещей. М., 1954, с. 385.
16 Сводку литературы см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 12г
284. Дополнительно: Ember К. R. Men's fear of sex with women: a
cross-cultural study.— Sex Roles, 1978, v. 4, N 5.
17 Сводку литературы см.: ^Семенов Ю. И. Как возникло человечество, с. 287—
294.
18 Clark J. D. Acheulean occupation sites in the Middle East and Africa: a studjr
in cultural variability.— AA, 1966, v. 68, N 2, pt 2, p. 226.
19 Любин В. Л. Нижний палеолит.— В кн.: Каменный век на территории СССР.
МИА, 1970, № 166, с. 36-40.
20 История первобытного общества, с. 371.
21 Сводку материалов и литературы см.: Семенов Ю. И. Как возникло
человечество, с. 296—299; Он же. Происхождение брака и семьи, с. 285—286.
22 Hodson Т. С. The «genna» among the tribes of Assam.— J(R)AI, 1906, v. 36,
p. 94; Idem. The Naga tribes of Manipur. L., 1911, p. 167—168; Briffault R.
The Mothers, v. 3. L., 1927, p. 196; Frazer J. J. The magic arts and the
evolution of kings, v. 2. The Golden bough, pt 1. L., 1922, p. 98—99.
23 Bourdier F. Prehistoire de France. P., 1967, p. 215—216.
24 Черныш А. П. Ранний и средний палеолит Приднепровья.— ТКИЧП, 1965,
№ 25, с. 36-46.
26 История первобытного общества, с. 384.
26 Malinowski В. The sexual life of savages in North-Western Melanesia. L., 1948,.
p. 231—233.
27 Ibid., p. 356, 388, 415.
28 Устное сообщение СП. Толстова.
29 Сводку литературы см.: Семенов Ю. И. Как возникло человечество, с. 482—
485. Дополнительно: Ardener S. G. Sexual insult and female militancy.— Man,,
1973, v. 8, N 3.
30 Богаевский В. Л. Земледельческая религия Афин, т. 1. Пг., 1916, с. 59, 181;.
Briffault R. The Mothers, v. 3, p. 126—127, 206.
31 Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936, с. 470.
82 Эврипид. Драмы, т. 1. М., 1916, с. 194 ел.
33 Смирнов И. Н. Мордва. Историко-этнографический очерк.— ИОАИЭ, 1893,.
т. И, вып. 5, с. 468—469.
34 Сводку литературы см.: Семенов Ю- И. Как возникло человечество, с. 482—
483.
36 Malinowski В. The sexual life..., p. 356.
36 Бузург ибн Шахриар. Чудеса Индии. М., 1959, стр. 36; Косвен М. О.
Амазонки. История легенды.— СЭ, 1947, № 2, с. 50—53; Штернберг Л. Я.
Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора, т. 1. Образцы народной
словесности, ч. 1. Эпос, СПб., 1908, 159—164; Пигафетта А. Впервые вокруг
света, Л., 1928, с. 156; Гомер. Одиссея. М., 1959, с. 152, 155.
37 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки, с. 304—306.
38 Краулей д. Мистическая роза. Исследование о первобытном браке. СПб.,
1905, с. 319—354; Westermark Ε. History of human marriage, v. 2. L., 1927,
p. 496—542; Briffault R. The Mothers, v. 3. p.* 239—243; Webster H, Taboo,.
A sociological study. L., 1942, p. 155—156.
39 Косвен Μ. О. Амазонки, с. 47—48, 50—52; Ирландские саги. М.; Л., 1933,
с. 241—245, 316—317; Хенниг Р. Неведомые земли, т. 2. М., 1961, с. 241 —
245; Пак М. П. Описание корейских племен начала нашей эры,— Проблемы
востоковедения, 1961, № 1, с. 124.
40 Косвен М. О. Амазонки, с. 43, 53—54, 57г
41 Страбон. География. М., 1964, с. 477—478.
42 Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 2. М., 1963, с. 359; Известия'
126
Глава вторая
древних писателей о Скифии и Кавказе, т. 1. Собрал и издал В. В.
Латышев. Греческие писатели, вып. 3. СПб., 1900, с. 902.
43 См.: Косвен М. О. Амазонки, № 2, с. 46, 54; № 3, с. 9—14; Книга Марко
Поло. М., 1955, с. 200, 332; Путешествия Христофора Колумба. М., 1952,
с. 184-189.
44 Strehlow Т. G. Я. Aranda traditions. Melbourne, 1947, p. 92.
46 Spencer В., Gillen F. J. The native tribes of Central Australia. L.; N. Y., 1899,
p. 401,. 416—422.
46 Malinowski B. The sexual life..., p. 221—230.
47 Read K. E. Cultures of Central Highlands, New Guinea.— SJA, 1954, v. 10, N 1,
p. 31; Brown i\, Brookfield Я. С Chimbu land and society.— Oceania, 1959,
v. 30, p. 51—53; Salisbury R. F. From stone to steel. Melbourne, 1962, p. 33—
36, 113; Berndt R. M. Excess and restraint. Chicago, 1962, p. 118—119.
48 Элленбергер В. Трагический конец бушменов. Μ., 1956, с. 218.
49 Berndt R. M. Ceremonial exchange in Western Arnhemland.— SJA, 1951, v. 7,
N 2, p. 160-162.
60 Сводку материалов и литературы см.: Семенов Ю. И. Как возникло
человечество, с. 492—495.
61 Литературу см. там же, с. 496—498.
62 Литературу см. там же, с. 227—231, 498—499.
63 Литературу см. там же, с. 233, 499.
64 Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки. Л., 1977, с. 55—
57.
66 См.: Klein R. G. The ecology of early men in Southern Africa.— Science, 1977,
v. 197, N 4299, p. 121.
66 Борисковский Я. И. Древний каменный век .Ожной и Юго-Восточной Азии.
Л., 1971, с. 100—105; Sank alia H. D. Prehistory of India. New Delhi, 1977;
Jacobson J. Recent development in South Asian prehistory and protohistory.—
ARA, 1979, v. 8, p. 472, 478.
67 Ефименко Я. Я. Первобытное общество. Киев, 1953, с. 580—587;
Окладников JI. Я., Васильевский Р. С. Северная Азия на заре цивилизации.
Новосибирск, 1980, с. 23—29.
68 Борисковский Я. И, Древний каменный век..., с. 124, 129—131.
59 Там же, с. 156—157.
60 Harrison Т. Present status andjproblems for paleolithic studies in Borneo and
adjacent islands.— EPSEA, p. 39—42.
81 Bordes F. Foreward.— EPSEA, p. IX; Ikawa-Smith F. Introduction: The early
paleolithic in East Asia.— EPSEA, p. 7—8; Harrison T. Present status...,
p. 43-44.
82 Vallois H. K, Vandermeersch B. The mousterian skull of Qafzeh (Homo VI): an
anthropological study.— J HE, 1975, v. 4, N 6.
83 Smith F. H. A fossil hominid frontal from Velika Pecina (Croatia) and a
consideration of Upper pleistocene hominids from Yugoslavia.— AJPhA, 1976, v.
44, N 1, p. 132.
84 Рогинский Я. Я. Морфологические особенности черепа ребенка из поздне-
мустьерского слоя пещеры Староселье.— СЭ, 1954, № 1.
66 Smith F. Я. A fossil hominid..., p. 127—131.
68 Wolpoff M. N. et al. Upper pleistocene remains from Vindija cave, Croatia,
Yugoslavia.— AJPhA, 1981, v. 54, N 4, p. 501—502, 540—541.
67 Apsimon Λ. Μ. The last neanderthal in France? — Nature, 1980, v. 287,
N 5780; Vandermeersch B. A neanderthal skeleton from Chatelperronian level
at St. Cesaire (France).— AA, 1981, v. 54, N 2.
88 Bordes F. Old stone age. N. Y.; Toronto, 1977, p. 147.
89 Meiklejohn C. Comment to the article R. White.— CA, 1982, v. 23, N 2, p. 184.
70 Catalogue of Fossil Hominids. Part III. Americas, Asia, Australia. L., 1975,
p. 169.
71 Trinkaus £., Howells K. W. The Neanderthals.— SA, 1979, v. 241, N 6, p. 97;
Goldstein M. The lower-to-middle paleolithic transition and the origiin of
modern man.— CA, 1982, v. 23, N 1, p. 124.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 127
72 Барта Ю. Палеолит Словакии в свете стратиграфии плейстоцена.— В кн.:
Стратиграфия и периодизация палеолита Восточной и Центральной Европы.
М., 1965, с. 8; Хмелевский В. Археологические культуры верхнего
плейстоцена на территории Польши.— Там же, с. 22; The.Cambridge history of Africa,
v. 2. L. etc., 1978, p. 46.
73 Иванова И. К. Геологический возраст ископаемого человека. М., 1965,
с. 123,125,141; MoviusH. L. Radiocarbon dating of the*upper paleolithic
sequence at the Abu Pataud (Dordogne).— QHS, p. 253; Waterbolk Η. T.
Radiocarbon dates from paleolithic sites of Western Europe, compared with the climatic
curve of the Netherlands.— OHS, p. 247; The Cambridge history of Africa,
v. 2, p. 45, 47; Smith F. H. A fossil hominid..., p. 128.
74 Иванова И. К. Геологический возраст..., с. 112, 120, 137; Waterbolk Η. Τ.
Radiocarbon dates..., p. 247; Cambridge History of Africa, v. 2, p. 45, 46.
76 Иванова И. К. Геологический возраст..., с. 112.
76 Brauer G. Nouvelles analysis comparatives du frontal pleistocene superieur de
Hahnofersand, Allemagne du Nort.— I/Anthropologic, 1980, t. 84, N 1.
77 См.: Палеолит Ближнего и Среднего Востока. Л., 1978, с. 183.
78 Butzer К. W. Environment, culture and human evolution.— AS, 1977, v. 65,
N 5, p. 582; Mellars P. The character of the middle-upper paleolithic transition
in Southwest France.— In: Explanation of Cultural Change. L., 1973; White R.
Rethinking the middle-upper paleolithic transition.— CA, 1982, v. 23, N 2;,
Straus L. G. Comment to the article R. White.— Ibid., p. 186.
79 Mellars P. On the middle/upper paleolithic transition: a replay to White.— CA,
1982, v. 23, N 2, p. 239.
80 Chmielewski W. The continuity and discontinuity of the evolution of
archaeological cultures in Central and Eastern Europe between 55th and 25th millenaries B.
C— OHS, p. 178; Conkey M. The identification of prehistoric hunter-gatherers
aggregation site: Case of Altamira.— CA, 1980, v. 21, N 5; White R.
Rethinking..., p. 171—176; Mellars P. On the middle/upper paleolithic transition,
p. 239.
81 См.: Murdock G. P. Social structure. N. Y., 1949, p. 12—13, 284—313.
82 Morgan L. H. Conjectural solution of the origin of the classificatory system of
relationship.— American Academy of Arts and Science. Proc. VII (1865—
1868), 1868; Idem. Systems of consanguinity and affinity of the human
family.— Smithsonian Institution Contribution to Knowledge. Washington, 1870,
v. XVII, art. 2; Idem. Ancient society, or Researches in the lines of human progress
from savagery through barbarism to civilization. N. Y., 1877 (русский перевод:
Морган Л. Г. Древнее общество, или Исследование линий человеческого
прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л., 1934).
83 См.: Крюков М. В. Системы родства китайцев. М., 1972, с. 225.
84 HocartA. Μ. Kinship systhems.— Anthropos, 1937, Bd. 32, H. 3—4.
86 Lowie R. H. Relationship terms.— In: Kinship and Social Organisation. N.
Y., 1968.
86 См.: Rivers W. H. R. Kinship and social organisation. L., 1914 etc.
87 Подробнее об этом см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 36—
40.
88 Τ у lor Ε. В. On method of investigating the development of institutions;
applied to laws of marriage and descent.— J(R)AI, 1889, v. 18, N 3; Idem. The
matriarchal family system.— The Nineteenth Century, 1896, 40.
89 Rivers W. H. R. Kinship and social organisation; Idem. The history of Mela-
nesian society, v. 1—2. Cambridge, 1914; Idem. Social organisation. L., 1924.
90 Толстое С. П. Пережитки тотемизма и дуальной организации ν τνρκΜβΗ.—
ПИДО, 1935, № 9—10; Он же. Древний Хорезм. М., 1948.
91 Золотарев А. М. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск, 1939; Он же.
Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964.
92 См.: Bishhof N. Comparative ethnology of incest avoidance.— In: BiosociaL
Anthropology. L., 1975; Файнберг Л. Α. Υ истоков социогенеза. М., 1980, с.
116-121. t h
128
Глава вторая
93 Fison L., Howitt A. W. Kamilaroi and kurnai. Melbourne, etc., 1880, p. 99—
117.
M Spencer В., Gillen F. J. Arunta. L., 1927, v. 1, p. 42; v. 2, p. 597—599.
96 Mathew J. The origin of the Australian phratries and explanations of some of
the phratries names.— J(R)AI, 1910, v. 40.
96 Сводку материалов и литературы см.: Семенов Ю. И. Как возникло
человечество, с. 513—515.
™ Tylor Ε. В. On method...
98 Ковалевский Μ. Μ. Первобытное право, вып. 1. Μ., 1886, с. Ill; Он же.
Родовой быт в его настоящем, недавнем и отдаленном прошлом, вып. 1. СПб.,
1905, с. 181—183 и др.
99 Кавелин К. Д. [Ред.: Быт русского народа. Соч. А. Терещенко. СПб., 1848].—
Сочинения, ч. 4. М., 1859, с. 181; Кулишер М. И. Кавелин и русская
этнография.— Вестник Европы, 1885, №8, с. 664; Довнар-Заполъский М. В.
Исследования и статьи, т. I. Киев, 1909, с. 83; Веселовский А. И. Три главы из
исторической поэтики.— Собр. соч., серия 1, т. 1, СПб., 1913, с. 241, 258.
100 Тан В. Г. (Богораз В. Г.). Жертвы дракона.— Собр. соч., т. 3. СПб., 1910.
101 Толстое С. П. Пережитки тотемизма...
102 Морган Л. Г. Древнее общество...
103 Сводку литературы см.: Семенов Ю. И. Проблемы начального этапа родового
общества.— ПИДО, с. 220; Дополнительно: Landtman G. The Kiwai papuans
of British New Guinea. L., 1927, p. 149; Meggitt M. J. The Enga of the New
Guinea Highlands.— Oceania, 1958, v. 28, N 4, p. 274.
104 Сводку литературы см.: Семенов Ю. И. Проблемы начального этапа...
с. 203—205; Он же. Происхождение брака и семьи, с. 177—178, 293—294;
Дополнительно: Radcliffe-Brown A. R. Andaman islanders. Ν. Υ. 1964, p. 34—
35; Glover I. С. Settlements and mobility among the hunter-gatherers of South-
East Asia.— In: Man, Settlements and Urbanism. L., 1972, p. 160.
106 Литературу см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 180, 294.
106 Элъкин А. Коренное население Австралии. М., 1952, с. 157; Spencer В.,
Gillen F. J. The native tribes of Central Australia, p. 214—216, 348, 352; Streh-
low T. G. H. Aranda traditions, p. 92.
107 Сводки материалов и литературы см.: Семенов Ю. И. Проблемы начального
этапа..., с. 208; Он же. Происхождение брака и семьи, с. 181, 294.
а08 Подробнее см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 184—185,
295.
ш См., например: Malinowski В. Sexual life..., p. 56—64.
111 Литературу см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи, с. 224, 298.
u* bowie R. Η. Primitive society. N. Υ., 1961, p. 150—153.
ш Murdoch G. P. North American social organisation.— Davidson Journal of
Anthropology, 1955, v. 1, N 2; McKennan. The Upper Tanana Indians.—
YUPA, 1959, N 55, p. 126—127; McClellan С Culture contacts in the large
historic period in Northwestern North America.— ArA, 1964, v. 2, N 2, etc.
lb Lantis M. Social structure of the Nunivak Eskimo. Philadelphia, 1946, p. 239—
242; Huges Ch. An Eskimo deviant from the Eskimo type of social
organisation.— AA, 1960, v. 60, N 5; Eggan F. Typology.— In: Contribution to
Anthropology. BandfSocieties, Ottawa, 1969, p. 265.
114 Аверкиева Ю. П. Род и^община у алгонкинов и атапасков Американского
Севера.— В кн.: Разложение)родового строя и формирование классового
общества. М., 1966; Hickerson Η. The Southwestern chippewa. An ethnohistoric
study.—AAAM, 1962, N 92.
1U Service E. Primitive social organisation. N. Y., 1962; Williams B. J. A model
of band society.— AAn, 1974, v. 39, N 4, pt 2, p. 97—102.
ш Bachofen /. /. Das Mutterrecht, eine Untersuchung uber die Gynaikokratie
der alten Welt nach ihrer religiosen and rechtlichen Natur. Stuttgart, 1861.
ll> MacLennan J. F. Primitive marriage, an inquiry into the origin of the form of
capture in marrige ceremonies. L., 1865.
ш Морган Л. Г. Древнее общество...
аи Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 26, 86.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 129
120 Radcliffe-Brown A. R. Murgnin social organisation.— АА, 1951, v. 53, Ν 1,
p. 40; Murdoch G. P. Social structure, p. 51—55; Stanner W. Ε. Η. Comment
to article of J. Goody.— CA, 1961, v. 2, N 1, p. 20, 21; ElkinA. P. The
Australian Aborigines. Sydney, 1968, p. 117—131, 172.
121 Murdoch G. P. Social structure, p. 190.
122 Ibid.
123 Ibid., p. 206, 207, 216, 217.
124 Ibid., p. 218.
126 Аверкиева Ю. #. Род и община...; Leeuwe J. de. On former gynecocracy among
African Pygmees.— AEASH, 1962, t. XI, fasc. 1—2; Seligman С G., Selig-
man Β. Ζ. The Veddas. Cambridge, 1911.
126 Martin Μ. Κ. South American foragers: a case study in cultural devolution.—
AA, 1969, v. 71, N 2.
127 См.: Семенов Ю. И. Проблема перехода от материнского рода к отцовскому.—
СЭ, 1970, № 5.
128 См.: Schneider D. Μ. The distinctive features of matrilineal discent group.—
In: Matrilineal Kinship. Berkeley and Los Angeles, 1961, p. 7, 14.
129 Подробнее см.: Семенов Ю. И. Проблема исторического соотношения
материнской и отцовской филиации у аборигенов Австралии.— СЭ, 1971, № 6,
с. 102-105.
5 История первобытного общества
Глава третья
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА ОХОТНИКОВ,
СОБИРАТЕЛЕЙ, РЫБОЛОВОВ
1. Становление и развитие
раннепервобытной общины
Верхний палеолит и мезолит — археологические периоды
развития раннепервобытной общины. С переходом от нижнего палеолита
к верхнему и с возникновением человека современного физического
типа на смену праобщине приходит раннепервобытная община
охотников, собирателей и рыболовов. Время ее существования охватывает
две археологические эпохи: верхний палеолит и мезолит.
Геологически оно приходится на конец плейстоцена (верхний палеолит) π
голоцен (мезолит). Хронологические рамки верхнего палеолита и
мезолита не вполне совпадают в разных областях земного шара. В
среднем эпоха верхнего палеолита начинается 40—35 тыс. лет назад, а
заканчивается 10—12 тыс. лет назад, сменяясь мезолитом,
продолжающимся до VII—V тыс. до н. э., а в некоторых областях π
позднее 1. В верхнем палеолите климат, фауна и флора Земли во многих
регионах, но не всюду, значительно отличались от современных, а в
мезолите гораздо ближе напоминали современные.
В эпоху раннепервобытной общины люди осваивают новые
континенты и территории. Если в мустьерское время палеоантропы жили
в Африке, Европе и Азии, то в начале верхнего палеолита человек
появляется в Америке и Австралии и на протяжении 20—25 тыс. лет
заселяет эти части света. В Старом Свете люди в эту эпоху далеко
проникают на север, приближаясь к границе Полярного круга
(стоянки Бызовая, Медвежья пещера). В последние годы некоторые
стоянки, предположительно верхнепалеолитического возраста, были
обнаружены в циркумполярной зоне Евразии и Америки2.
В Европе, Азии, Америке, Австралии люди верхнего палеолита
охотились на многих позднее вымерших животных: мамонта,
шерстистого носорога, милодонта, мастодонта, колумбова слона,
мегатерия, нототериума, гигантских кенгуру и др.
Расширение ойкумены первобытного человечества, освоение им
различных в природном отношении зон стимулировало развитие
технического творчества, создание новых типов одежды и жилища,
появление новых приемов охоты, выработку новых форм орудий и,
говоря шире, новых традиций в каменной индустрии. Как писал
А. П. Окладников, «теперь ясно, что рядом с палеолитическим миром
Запада существовали другие, равноправные по тому времени
культурно-исторические миры. В каждом из них человек по-своему
осваивал своеобразные природные условия, создавал собственные
изобретения и делал различные открытия, строил свою культуру. Сложные,
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
131
далеко не выясненные отношения этих этнографических миров —
культур древнекаменного века — еще более усложняют жизнь
палеолитического человека, еще более обогащают всю эту
калейдоскопическую картину, столь непохожую на единообразную панораму
всемирной истории каменного века, которая развертывалась перед глазами
эволюционистов XIX в.» 3
Локальное своеобразие отдельных групп первобытного
человечества, проявившееся в мустье, в верхнепалеолитическую эпоху
получило дальнейшее развитие. В верхнем палеолите продолжают
существовать и становятся более многочисленными крупные
этнокультурные зоны. Не позднее конца верхнего палеолита возникают
узколокальные археологические культуры, хотя повсеместное
распространение они получают позднее, в мезолите и неолите. Впрочем, критерии
выделения узколокальных культур окончательно не выработаны. Для
верхнего палеолита, видимо, более типичны крупные этнокультурные
области 4.
Своеобразие развития материальной культуры, и прежде всего
орудий, в различных регионах верхнепалеолитической ойкумены
настолько велико, что некоторые исследователи считают невозможным
применять термин «верхний палеолит» ко всем региональным доме-
золитическим культурам эпохи раннепервобытной общины. Верхний
палеолит в этом случае рассматривается как достояние лишь тех
этнокультурных общностей, которым был присущ определенный
комплекс орудий, изготовлявшихся в основном из узких удлиненных
кремневых пластин. Такая точка зрения нашла, например, свое
выражение в работах И. И. Коробкова. Согласно ей,
«верхнепалеолитический феномен» возникает лишь в результате внешнего толчка:
например, в результате резкого ухудшения природной обстановки или
контактов с новыми пришлыми группами населения. Там, где этого
не было, техника, хозяйство, социальные отношения развивались
замедленно и мустье сменялось не верхнепалеолитическими, а так
называемыми постмустьерскими культурами, во многом
продолжающими технические традиции мустье. Конкретно высказываются
сомнения в приемлемости понятия и термина «верхний палеолит» для
Африки, большей части Южной и всей Юго-Восточной Азии. Время
между ашелем и мезолитом предлагается именовать эпохой мустье/
постмустье 5.
Как будет видно из региональных разделов главы, техника людей
эпохи раннепервобытной общины действительно значительно
различалась в конце плейстоцена в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке
к северу от Сахары, с одной стороны, в Южной и Юго-Восточной
Азии — с другой. Но повсюду эта техника создавалась людьми
современного физического типа, обладавшими в принципе равными
умственными и физическими возможностями. Созданные ими комплексы
орудии были различны типологически6. Но это различие было
отражением разных форм адаптации к природной среде, разных
культурных традиций, а не разного технологического уровня европейцев и
5*
132
Глава третья
африканцев или жителей Юго-Восточной Азии. Это видно хотя бы из
того, что зачатки земледелия более или менее одновременно
возникают как в ближневосточных общинах, прошедших через этап
классического верхнего палеолита, так и в общинах Юго-Восточной Азии,
имевших иной типологический набор орудий. В дальнейшем
изложении термин «верхний палеолит» будет применяться в его
традиционном широком понимании для обозначения эпохи с возникновения
неоантропов и до конца плейстоцена, по геологической периодизации,
или мезолита — по археологической.
В конце верхнего, палеолита, т. е. в конце плейстоцена по
геологической периодизации, ^климате,, фауне и флоре многих регионов
Земли происходят крупные перемены. С завершением ледникового
периода климат Северной Евразии и Северной Америки становится
близким к современному. Далеко на север отступают тундры.
Исчезают мамонт^ шерстистые носороги и другие животные ледниковой
эпохи. Существенные изменения климата и фауны происходят не
только в северных странах, но и в некоторых регионах, не знавших
оледенения,' например в Африке или Австралии.
Причины исчезновения многих видов крупных животных в конце
плейстоцена или начале голоцена по-разному объясняются
различными исследователями. Одни видят главную причину этого процесса не
в климатических изменениях самих по себе, а «в невероятно
хищническом использовании природных запасов дикого зверя»
первобытными охотниками7. Сторонники такой точки зрения обычно
утверждают, что исчезновение всех в^дов крупных животных происходило
только под влиянием чедодеяа^
В Африке в конце верхнего палеолита и начале мезолита (12—
Я ты^.лет, назад) исчезло 30% видов крупных млекопитающих, в
Северной и Южной Америке также исчезло много видов, а
численность сохранившегося поголовья крупных животных резко
сократилась. Так, в Северной Америке до появления там человека было, по
оценке П. Мартина, 100—300 млн. крупных животных.^2/3 этого
количества было истреблено в исторически короткий срок, 11,5—11 тыс.
лет назад в результате расселения первобытных охотников. Мартин
убежден, что оскуднение животного мира стало следствием
хищнической охоты человека, а не неблагоприятного изменения климата 8.
Другие считают, что исчезновение многих крупных животных не
было прямым результатом хищнической охоты, при которой
промысел значительно превышал темпы естественного воспроизводства
животных. Высказывается мнение, что охота людей палеолита привела
к исчезновению крупных животных не прямо, а опосредованно, через
вызванное ею нарушение экологического равновесия^ т. е. что
деятельность человека сыграла роль своего рода запала в
зоологической катастрофе плейстоцена 8а.
Распространенной является и точка зрения, что главной
причиной исчезновения крупных животных в конце плейстоцена — начале
голоцена ^ыло изменение.кддмата. Согласно ей, например, в Австра-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
133
лии термический максимум, имевший место около 7 тыс. лет назад и
сопровождавшийся рраким увеличр^^^^г рриднОРтЧ1 привел к
вымиранию таких гигантских сумчатых, как ^ЩУЛЩйК. д нотррердаум,
сравнимых по размерам с носорогом, гигантских кенгуру, гигантских
вомбатов и коала, огромных нелетающих птиц и т. д. Человек в этом
процессе, согласно этой третьей из перечисленных точек зрения,
сыгрдл второстепенную роль 9.
/Исчезновение крупных животных оказало существенное влияние
на хозяйство и образ жизни людей конца верхнего палеолита и
начала мезолита. Уменьшение размеров животных потребовало
совершенствования oxoTHH4bj[£Q ^оружия: щщлляются лук со стрелами, £р-^
верщенствуетса .копьеметалка (упругие копьеметалки с грузом) и
т. д. В связи с изменением состава фауны развиваются новые приемы
охоты. Особенно развивается индивидуальная охота на средних и
мелких животных и птиц. В некоторых областях получает
распространение рыболовство, а на рубеже верхнего палеолита и
мезолита — даже морской зверобойный промысел.
Совершенствование охотничьего^ оружия и начало использования
flrm^TY ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ (рыбы, морского зверя) все же не могли
обеспечить достаточного количества пищи для сложившихся в конце
мустье и первую половину верхнего палеолита в ряде областей земли
сравнительно крупных и подолгу живших на одном месте
коллективов, и они распадаются на более мелкие подвижные группы.
Все эти процессы, ознаменовавшие конец верхнего палеолита и
в позднейшее время приведшие к возникновению щюизводяшяга^хо-
Jfflftfiijjg. (а в местах, не пригодных для земледелия и скотоводства, но
особо богатых зверем или рыбой, — к появлению
высокоспециализированных форм морского зверобойного промысла и рыболовства),
целесообразно рассмотреть в отдельности для разных областей земного
шара, так как в них наряду с общими чертами было и много
своеобразного.
Изменения в образе жизни людей конца верхнего палеолита или
мезолита, связанные с окончанием ледниковой эпохи или резкими
изменениями климата и фауны, происходили не во всех областях
земного шара. В некоторых из них, в частности во внеледниковых
районах Европы, Средней Азии, с окончанием ледниковой эпохи
фауна почти не изменилась. Не изменилась, видимо, и система охоты,
образ жизни людейу
Так, обитатели Крыма, Северного Причерноморья, Кавказа,
Средней Азии «почти никогда не охотились на мамонта и носорога.
Основным объектом охоты для них служили зубры, сайгаки, олени, к&баны,.
дДошадиг а^ицьт, т. е. виды, дожившие до исторического времени» ιυ.
Показательно, что и в кремневом инвентаре этих областей не
наблюдается столь резкого отличия при переходе от палеолита к мезолиту,
как на севере Евразии.
Так, имеется много примеров сходства фауны мустьерских,
верхнепалеолитических и мезолитических стоянок Узбекистана, Восточ-
134 Глава третья _____
ной Европы и горного Крыма. Неясно, правда, были ли в указанных
областях сходны не только видовой состав фауны, но и плотпость
биомассы в различные эпохи верхнего палеолита и в мезолите.
В Африке в конце плейстоцена, несмотря на вымирание многих
видов крупных стадных животных, не было столь значительного
оскудения фауны, которое было характерно для Европы и вызвало
совершенствование охотничьей техники (появление лука и т. д.), а
позднее — переход к производящему хозяйству или
специализированному рыболовству или морскому зверобойному промыслу.
Плотность биомассы в голоцене оставалась в Африке очень высокой (5—
6 тыс. кг на 1 кв. км) и приблизительно соответствующей плотности
биомассы в предшествующие эпохи11. Может быть, по крайней мере
отчасти, именно отсутствием острого экологического кризиса
объясняется отмечающееся многими исследователями отсутствие в
Африке (к югу от Сахары) свойственных Европе четких границ между
культурами каменного века плейстоцена и начала голоцена 12. Таких
резких границ нет и в Юго-Восточной Азии, где также не было
кризиса охотничьего хозяйства.
Конечно, мы далеки от* мысли объяснять различия каменного
века Европы и Ближнего Востока, с одной стороны, и
афро-азиатской зоны, с другой, только или прежде всего различиями в
развитии природных условий в этих зонах. Но кажется очевидным, что
разница в характере и темпах эволюции окружающей среды оказала
известное влияние на хозяйственно-культурную специфику
вышеназванных географических зон.
В Австралии кризис хозяйства наступил не сразу после
окончания ледниковой эпохи, а значительное время спустя, в период так
называемого термического максимума около 7 тыс. лет назад, т. е.
значительно позднее, чем в Европе, Сибири или Америке. При
термическом максимуме в Австралии наблюдалось катастрофическое
ухудшение климата, выражавшееся, в частности, в увеличении ^уадд=,
ностиь что привело к образованию обширных пустынь и
исчезновению многих видов крупных животных, бывших излюбленной
добычей древнего населения Австралии.
• Распространение в это же время открытых сухих степей
потребовало совершенствования и широкого применения различных видов
метательного оружия: бумерангов, копий, дротиков и особенно копье-
металок, отвечавших потребностям охоты на открытых
пространствах, когда почти невозможно подойти на близкое расстояние к
объекту охоты. Копьеметалка стала не только орудием охоты, но и
орудием труда, так как на ее конце укреплялось каменное долото,
служившее для разных работ по дереву. Вместе с тем техника
изготовления каменных орудий пришла в упадок. Необходимость частых
передвижений в поисках нищи и воды вынуждала ограничиваться
минимумом орудий многоцелевого назначения 13.
В других регионах земного шара техника изготовлепия каменных
орудий в мезолите не только не приходит в упадок, а, напротив, зиа-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
135
чительно совершенствуется. Происходит дальнейшее расширение
ареала вкладышевых орудий, возникших еще в верхнем палеолите.
Рабочая часть их состояла из маленьких острых кремневых
вкладышей, закреплявшихся в пазах костяных стержней. Такие орудия были
значительно прочнее орудий из тонких призматических пластин,
менее трудоемки в изготовлении, обладали очень острым рабочим краем
и в то же время не нуждались для своего производства в крупных
нуклеусах. Вкладыши можно было изготовлять из встречающихся
почти повсюду галечного кремня, агата, роговика и т. д. В результате
перехода к вкладышевой технике^человек перестал зависеть от
наличествующего далеко" не' повсюду высококачественного мелового
кремня и. Не случайно вкладышевая техника сохраняется и в неолите.
Признанием важности вкладышевой техники служит и то, что в
течение длительного времени, а отчасти и до сих пор, преобладание
в каменном инвентаре микролитов, использовавшихся как вкладыши,
считалось признаком-определителем мезолита 15.
/Важнейшим техническим достижением эпохи мезолита было
широкое распространение лука, хотя, возможно, первые образцы этого
оружия появились еще в конце верхнего палеолита. Вместе с тем
не только в мезолите, но и в неолите лук далеко не повсеместно
употреблялся первобытными охотниками и собирателями? Так, на западе
зоны тропических лесов Южной Америки, а такжепв ряде областей
Океании лри раскопках неолитических стоянок не обнаружено
следов лука. Он не использовался индейскими племенами западной
части Бразилии, восточного Перу и сопредельных областей, а также в
ряде районов Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии, в новое
и новейшее время. Охотничьим оружием вместо лука служила здесь
стрелометательная трубка — сарбакан. Такая трубка —
интереснейшее охотничье оружие.
Это длинная (до 2 м) трубка, сделанная из выдолбленного
изнутри бамбукового ствола. С одного конца в него вставляют маленькую
стрелку, похожую на вязальную спицу, а другой конец прикладывают
ко рту и с силой дуют. Стрелка летит на 20—30 м. Концы стрелок
смазаны сильнодействующим растительным ядом. Поэтому
небольшое животное или птица, в которых попала стрелка, гибнут уже
через несколько минут. На более крупных животных, например
тапиров, яд действует медленнее, и смерть наступает только через
полчаса. За это время животное может далеко уйти от охотника. Чтобы
ускорить смерть животного, охотпик старается поразить его не
одной, а несколькими отравленными стрелами.
Все же в большинстве областей ойкумены основным охотничьим
оружием стал лук, поэтому весь период развития охотничьего
хозяйства в мезолите часто называют охотничьим хозяйством с
применением лука. Его использование охотниками мезолита было крупным
достижением: потенциальная энергия стрелы увеличивала скорость
ее полета в 2,5—3 раза по сравнению с копьем, повышая тем убойную
силу оружия. В 3—4 раза по сравнению с копьем и в 2 раза по срав-
136 Глава третья
нению с копьем, брошенным с помощью копьеметалки, возросла с *
применением лука дальнобойность охотничьего оружия16.
Итак, условия существования людей разных регионов Земли в
верхнем палеолите и мезолите были очень разнообразны, различны
были формы адаптации к природной среде и ее изменениям. Но
повсюду на протяжении эпохи раннепервобытной общины развивалась
техника, хотя отдельные типы орудий, переставшие соответствовать
изменившимся условиям, приходили в упадок.
Б целом можно сказать, что для людей конца верхнего палеолита
и мезолита характерен высокий процент культурных новаций,
повышавших надежность обеспечения раннепервобытных общин пищей.
На наш взгляд, можно также предполагать, что различия в
направлении хозяйства могли обусловливать различия в образе жизни
верхнепалеолитического, а позднее — мезолитического населения
различных областей земного шара, большую или меньшую устойчивость
общины, неодинаковую скорость оформления родоплеменной
организации. Так, верхнепалеолитические охотники на мамонта, жившие
в Европе, имели больше возможностей для создания полуоседлых,
устойчивых по составу общин, чем, например, охотники на
мигрирующие стада дикого оленя на севере Америки. Убедиться, верно ли
это предположение, можно, рассматривая не только орудия и другие
элементы материальной культуры, но и общественные отношения не
суммарно, а по отдельным ареалам с последующим сравнением между
собой полученных результатов. К сожалению, состояние собранного
археологами и этнографами материала и методика его сопоставления
во многих случаях не позволяют это сделать.
Этнографические аналоги раннепервобытной общины (общие
замечания). Вопрос об этнографических аналогах древнего населения
ойкумены весьма сложен. Так, нигде на земном шаре не
сохранилась та историческая и экологическая обстановка, в которой жили,
например, оседлые или полуоседлые верхнепалеолитические
охотники на мамонта Западной, Центральной и Восточной Европы, а также
Сибири или, сканцем, охотники и собиратели юга Африки..
В конце верхнего палеолита, с вымиранием мамонтов, переходом
охотников Европы и Сибири к охоте на северных оленей и
одновременно с совершенствованием охотничьего снаряжения (появлением
лука) образ жизни людей в приледииковой зоне становится более
подвижным. Их хозяйство и материальная культура, насколько они
известны по археологическим данным, выглядят схожими с
хозяйством и материальной культурой охотников на оленей американского
приполярья, т. е. эскимосов-карибу. В прошлом и отчасти до сих пор
они привлекаются некоторыми исследователями в качестве
этнографического аналога, эквивалента или модели европейских и сибирских
охотников конца палеолита и мезолита 17.
До последних полутора — двух десятилетий эскимосы-карибу
считались потомками древних охотников на северного оленя,
тысячелетия живших в тех же областях, которые они занимали в конце ХТХ —
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНЛ
137
начале XX в.18 Поэтому было естественно рассматривать их как
аналог охотников на северного оленя конца верхнего палеолита и
мезолита. Однако в недавние годы было точно установлено, что эскимосы-
карибу лишь два-три века назад оставили побережье, перешли от
морской охоты к охоте на оленей и в результате этого во многом
изменили свою культуру (тип жилища, форму отоплепия и освещения
и т. п.) в ходе приспособления к новым условиям 19.
Таким образом, требуется крайняя осторожность при
использовании данных об этих эскимосах для реконструкции раннепервобыт-
ной общины верхнепалеолитических охотников за северным оленем.
Лишь с большими оговорками можно использовать в качестве
аналогов раннепервобытной общины общества-изоляты австралийцев и
особенно тасманийцев. Мы не можем принять точку зрения В. Р. Ка-
бо о типичности их культуры для поздиепалеолитической стадии. Под
влиянием тысячелетий изоляции тасманийцы утратили многие
элементы культуры, присущие их общим с современными аборигенами
Австралии предкам: копьеметалки, орудия на рукояти, орудия из
кости, отказались от употребления в пищу рыбы, хотя раньше они
ее ели, утратили ко времени европейской колонизации или рапее
и многие другие культурные достижения прошлого20. Конечно,
культура тасманийцев как-то развивалась. Но это развитие не только
совершалось в замедленном темпе, оно не во всем носило
поступательный характер, а напротив, нередко сопровождалось утратой
прогрессивных черт и тенденций. Позднепалеолитическая культура
тасманийцев выглядит обедненной и отчасти деградировавшей даже πα
сравнению с поздиепалеолитической культурой Австралии, которая
сама развивалась замедленно по сравнению с культурами Южной и
Юго-Восточной Азии.
На наш взгляд, типичными можно считать лишь культуры,
находившиеся на магистральном пути развития каменного века от
раннего палеолита к позднему, от него к мезолиту, затем к неолиту.
В этом развитии, как известно, все возрастающую с каждой
последующей эпохой роль играли взаимовлияния культур. Культура ж&
тасманийцев представляет обедненный и деформированный вариант
отчасти поздиепалеолитической, отчасти мезолитической культуры,,
сохранявшийся до недавних пор из-за своей изолированности от
общей дороги прогресса людей каменного века, т. е. по существу
вследствие своей атипичности.
Поэтому по облику тасманийской культуры можно лишь в какой-
то степени представить, какой была типичная культура конца
верхнего палеолита и начала мезолита. Уже много тысячелетий, как на
земле не осталось таких типичных позднепалеолитических культур.
Для их реконструкции исследователи вынуждены обращаться к
более или менее атипичным реликтам каменного века, в том числе и к
культуре тасманийцев, хотя наиболее атипичные реликты, может
быть, и не стоит использовать. Нам близка мысль М. В. Крюкова,
согласно которой «если мы действительно стремимся повысить сте-
138
Глава третья
пень вероятности аналогии между этнографической и первобытно-
исторической моделями, то мы должны исключить из числа аналогов
те общества, доступные этнографическому изучению, которые
испытали значительное попятное движение» 21.
В отличие от раннепервобытных общин верхнего палеолита для
общий мезолита имеются, по-видимому, довольно представительные
аналоги, некоторые из них относятся к областям к непрерывным
культурным развитием с эпохи мезолита и до этнографической
современности, что значительно повышает достоверность культурно-
исторических сопоставлений.
Очень интересны для использования в качестве этнографического
аналога также ведды Шри-Ланка. В настоящее время подавляющее
большинство веддов, живущих в сельской местности, наряду с охотой,
рыболовством, собирательством занимается и земледелием. Но еще
в конце XIX в. — начале XX в., когда культура этого народа была
впервые подробно изучена сначала швейцарскими натуралистами и
этнографами братьями П. и Ф. Саразинами, а несколько позднее
К. и Б. Зелигмэнами, во внутренних районах юго-восточной части
Шри-Ланка обитало значительное число веддов, занимавшихся
исключительно охотой и собирательством и использовавших в качестве
жилищ пещеры.
Сравнение материальной культуры веддов с данными,
полученными в результате археологических раскопок в пещерах, привело
братьев Саразинов к выводу, что ведды являются прямыми
потомками древнейшего населения Шри-Ланка, людей, живших на этом
острове в каменном веке22. Позднейшие археологические и
этнографические исследования подкрепили и углубили этот вывод. В ходе
их, в частности, было установлено, что во многих пещерах люди
непрерывно жили на протяжении длительных периодов времени. При
этом непрерывная культурная традиция с постепенным развитием,
но без резких граней продолжалась с мезолита и до пещерных
стоянок веддов ХуП-т-XVIII вв.23 Мезолитические культурные слои
трудно отграничить от неолитических, а последние незаметно
переходят в культуру, принадлежавшую уже веддам.
На земле известно немного районов, где так хорошо
прослеживается непрерывная культурная преемственность от начала мезолита
и до культуры охотников и собирателей нового времени, как в Шри-
Ланка. И нам кажется правомерным предположение Б. Олчин о
вероятном сходстве не только материальной культуры, но и
социальной организации веддов с их далекими предками — древним
населением Шри-Ланка24. Современные ведды матрилинейны и матрило-
кальны. Видимо, те же социальные порядки были характерны и для
их предков.
Этнографические материалы о веддах, по-видимому, могут быть
использованы для реконструкции хозяйства, культуры и социальной
организации не только населения Шри-Ланка в эпоху мезолита.
Пожалуй, почти с таким же основанием общество веддов может слу-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
139
жить этнографическим аналогом первобытных обществ юга Индии,
так как не вызывает сомнения большая близость и генетическая
связь мезолита юга Индии и Шри-Ланка25.
Перспективны для использования в качестве аналогов раннепер-
вобытной общины мезолита общины некоторых племен Америки: она,
(селышам), яганов и алакалуфов юга континента, гуахибо и чирикуа
венесуэльских льяносов, ботокудов, маку Бразилии, помо
Калифорнии, нетсиликов Канадской Арктики и др. Ряд этих племен обитали
в районах с непрерывным культурным развитием на протяжении
многих тысячелетий, от мезолита до XX в.26
Конечно, однотипные общества можно с успехом сопоставлять и
независимо от их культурной преемственности27, но ее наличие
заметно повышает достоверность сопоставлений. Например, сходство
в экологии, уровне и направлении хозяйства дает возможность
считать она продолжателями культурных традиций обитателей стоянок
самого конца верхнего палеолита и начальной пор(ы мезолита в
южной половине Южной Америки, а следовательно, обращаться к
обществу она как к аналогу общества этих древних охотников
открытых пространств28.
У двух других групп огнеземельцев — яганов и алакалуфов
важную роль в хозяйстве играли морские промыслы: охота на тюленей
с помощью гарпунов, копий или просто дубинок, сбор моллюсков,
рыболовство, — а также охота на птиц и сбор растительной пищи29.
По-видимому, со времени своего сложения и до этнографической
современности ягаиы и алакалуфы сохраняли одни и те же
культурные традиции. Как отмечает Дж. Берд в отношении алакалуфов,
«нет заметной разницы в их пищевых обычаях и снаряжении между
прошлым, как оно отражено в раковинных кучах, и настоящим» 30·
И нам калюется обоснованным мнение Б. Фагана, что многие корни
культуры огнеземельцев — этих самых южных обществ первобытного
мира — восходят к ранним охотничьим культурам, которые в других
местах уже тысячелетия назад сменились культурами
земледельцев31. Вероятно, поселенцы Огненной Земли вели свое
происхождение от одной из наиболее отсталых групп верхнепалеолитического
населения Америки, почему и были вытеснены в маргинальную область
континента.
Исходя из вышесказанного, нам кажется, что этнографический
материал об огнеземельцах можно использовать для реконструкции
тех обществ конца верхнего плейстоцена и голоцена, которые имели
сходную экологию и сходный уровень и характер добывания средств
существования.
В частности, она могут использоваться для реконструкции
обществ пеших охотников саванн и памп Южной Америки. В свою
очередь материалы о яганах и алакалуфах, по-видимому, могут
использоваться для реконструкции образа жизни североамериканских
мезолитических собирателей морских моллюсков, т. е. индейцев
архаической традиции по принятой в американистике терминологии.
140
Глава третья
Не исключено, что яганы и алакалуфы могут служить аналогами
мезолитического населения Северной Европы и Южной Африки в
связи с некоторым сходством в экологии, типе и уровне хозяйства.
В качестве аналогов лесных охотников тропиков, вероятно, можно
использовать ботокудов, маку и близкие к ним по культуре доземле-
дельческие племена бразильского севера32.
Большие неиспользованные возможности для реконструкции
мезолитических, а в некоторых случаях, может быть, и
финально-палеолитических обществ охотников и собирателей открытых пространств
представляют племена южноамериканских льяносов,
простирающихся к северу от тропических лесов. Культура индейцев льяносов (гуа-
хибо, чирикуа, яруро и др.) имеет очень примитивный облик и,
насколько можно судить, ко времени ее первоначального исследования
не претерпела существенных изменений в результате европейского
влияния33.
Конечно, индейцы льяносов, тропических лесов, Огненной Земли
до освоения тех территорий, на которых их застали европейцы,
прошли длительный путь развития и несомненно контактировали с
различными индейскими обществами. Одни из этих обществ были более
развитыми, другие менее, но ведь такие контакты происходили и в
классическом каменном веке. Влияние же цивилизаций Анд на те
общества, репрезентативность которых мы сейчас рассматриваем,
т. е. на огнеземельцев, охотников и собирателей тропических лесов
и льяносов, за исключением разве что гуахибо, не обнаруживается.
Что касается европейского влияния, то одни из интересующих
нас этнографических групп (маку, яноама) избегали контактов с
европейцами, другие (огнеземельцы, ботокуды) были описаны до того,
как их традиционная культура была разрушена колонизаторами.
Поэтому, на наш взгляд, эти общества правомерно использовать для
реконструкции соответствующих им по экологии и уровню развития
производительных сил обществ классической первобытности, и в
дальнейшем изложении мы постараемся это сделать.
В Африке одной из сохранившихся до настоящего времени
этнографических групп охотников и собирателей являются бушмены,
точнее часть бушменов, в особенности бушмены кунг, обитающие в
районе Най Най в Намибии и в районе Доуб в Ботсване34. Общая
численность кунг достигает 13 тыс. человек, а всего бушменов около
50 тыс.
Судя по археологическим и антропологическим данным, в
прошлом, на рубеже I и II тыс. и. э., предки бушменов занимали
обширные территории на юге Африки, включавшие не только пустыни и
полупустыни, как теперь, ио и плодородные саванны с пышной
растительностью и богатым животным миром. По-видимому, уилтонская
и смитфилдская индустрии позднего каменного века были созданы
предками бушменов. На стоянках, относящихся к этой эпохе,
найдены и скелеты людей. Их изучение указывает на длительное парал-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
141
лельное развитие физического типа и материальной культуры
бушменов.
В сравнительно недавнее время, в XVIII в. и начале XIX в.,
бушмены были расселены более широко, чем в XX в.35 Вместе с тем
несомненно, что и на своей современной этнической территории
бушмены — не новые пришельцы. Они живут здесь давно, на
протяжении нескольких тысяч лет36. Таким образом, хотя ареал бушменов
значительно сократился за прошедшие столетия, но и на своей
нынешней этнической территории они, видимо, связаны
происхождением и культурой с людьми, жившими в этих местах в эпоху позднего
каменного века.
Преемственность древней и современной культуры бушменов,
сохранение ее традиционных форм и традиционного образа жизни
в некоторых районах Намибии и Ботсваны едва ли не до середины
XX в. повышают уровень достоверности при использовании
этнографических данных о бушменах для реконструкции типологически
сходных с бушменским обществ конца позднего каменного века, что
примерно соответствует эпохе мезолита Южной Африки, Европы.
В XX в. традиционный образ жизни продолжала вести меньшая
часть бушменов Ботсваны и Намибии. Изоляция их обеспечивалась
физико-географическими факторами. Так, территория кунг Ботсваны
отделена от земледельческих и скотоводческих районов полосой
пустыни в 100 км шириной, а кунг Намибии — полосой пустыни
шириной в 150 км. Сходные обширные, незаселенные из-за отсутствия
источников воды земли окружают ареалы и других этнографических
групп бушменов, продолжающих вести в основном традиционный
образ жизни.
Не менее чем бушмены кунг, интересны для изучения жизни
охотников и собирателей бушмены гви, живущие в центральной
части Калахари. В конце 50-х — начале 60-х годов их насчитывалось
около 3 тыс. человек. В связи с тем, что гви занимали наиболее
труднодоступную часть Калахари, по крайней мере часть их не имела
контактов с белыми до 1959 г., когда для обследования бушменов
в тогдашний протекторат Бечуаналенд (теперь государство
Ботсвана) приехал офицер британской колониальной администрации
Дж. Силбербауэр. Написанный им отчет о работе среди бушменов
в 1958—1964 гг. содержит довольно подробные данные о бушменах
гви середины XX в.37
Во второй половине 60-х годов среди бушменов гви района Кейд
центральной части Калахари (Ботсвана) вел полевые исследования
японский ученый X. Танака38. По его подсчетам, здесь в 1966—
1968 гг. жили около 220 бушменов гви. Ближайшая небушменская
деревня находилась от мест их обитания на расстоянии свыше 150 км,
и инородные заимствования в культуре гви ограничивались
металлическими наконечниками стрел и копий, ножами, чашками
фабричного производства. В остальном же сохранялись традиционные хо-
142
Глава третья
зяйства и культура. Мужчины гви продолжали заниматься охотой
преимущественно на небольших животных, а женщины —
собирательством. Имевшиеся у нескольких человек стада коз были
слишком невелики, чтобы оказать сколько-нибудь заметное влияние на
их образ жизни и рацион питания.
Но сразу же встает вопрос, в какой степени неизменными
оставались хозяйство и социальная организация бушменов на протяжении
столетий? От ответа на этот вопрос зависит, можно ли считать
современных бушменов этнографическим аналогом мезолитических
охотников и собирателей Южной Африки, а может быть, и других
регионов. В последние столетия, несомненно, произошли некоторые
изменения в образе жизни бушменов. На них, в частности, обратила
внимание Б. Олчин. Она отмечала, что еще в период встреч бушменов
с европейскими путешественниками XVIII в. культура первых
находилась в состоянии дезинтеграции. Менялись приемы охоты.
В частности, перестали практиковаться крупные коллективные
загонные охоты, при которых иногда перегораживалась целая долина, в
проходах изгороди рылись ямы, а затем туда гнали стадо животных.
При таких охотах сразу добывалось большое количество мяса, и
много локальных групп могли собираться вместе39. Сначала они
объединяли свои усилия для совместной охоты, а затем устраивали
различные празднества. В последние столетия коллективные охоты
становятся крайне редкими, да и масштабы их уменьшаются. Наиболее
обычной становится охота поодиночке или по двое.
Нам думается, что почти полное прекращение коллективных охот
может быть следствием вытеснения бушменов из районов саванны,
где было много стадных животных, в пустынные районы с меньшей
плотностью биомассы, а также общего оскудения фауны Южной
Африки в результате хищнической охоты европейцев. Прекращение
коллективных охот, необходимость чаще, чем в прошлом, менять
местоположение лагеря в поисках пищи потребовали и упрощения
материальной культуры, ее сведения к минимальному набору
необходимых предметов.
Б. Олчин предполагает, что с вытеснением бушменов с лучших
земель Южной Африки, прекращением коллективных охот,
упрощением материальной культуры уменьшились размер и структурная
сложность социальных единиц бушменского общества40. С ее точки
зрения, Л. Маршалл, Р. Ли и другие исследователи середины и
второй половины XX в. изучали не вполне традиционное общество
бушменов, а общество, пережившее в предшествующие столетия
значительный упадок, хотя и сумевшее адаптироваться к повым.условиям
жизни, в частности к обедненной природной среде. По-видимому,
соображения Б. Олчин в первую очередь относятся к тем группам
бушменов, которые были вытеснены со своей прежней этнической
территории на более неудобные земли.
Вместе с тем, как уже отмечалось выше, некоторые
этнографические группы этого народа еще задолго до появления в Южной Аф-
РЛИИЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
143
рике европейцев жили на своей современной этнической территории.
Поэтому, на наш взгляд, несмотря на определенные изменения,
которые необходимо учитывать при любых культурно-исторических
сопоставлениях, нельзя забывать и о наличии преемственности между
старой и современной культурой охотников и собирателей пустыни
Калахари. Такой подход, по-видимому, верен пе только для
бушменов, но и для многих других групп охотников и собирателей, в
частности для хадза Восточной Африки. Думается, что в каждом
отдельном случае необходимо четко различать, какие черты хозяйства и
культуры современных охотников и собирателей могут со
значительной долей вероятия проецироваться в далекое прошлое, а какие —
нет.
На обширных пространствах Северной Африки, Северной Азии,
Европы, во многих областях Африки, по крайней мере до начала
экологического кризиса, скорее охота, а не собирательство была
основным источником средств существования. И это была
преимущественно не индивидуальная, а коллективная охота. Такой вывод
следует и из этнографических наблюдений над теми охотниками и
собирателями нового времени, в зоне расселения которых имелись стадные
животные (северные дикие олени у нганасан XV—XVII вв., олени-
карибу у американских эскимосов, пекари у индейцев тропической
зоны Южной Америки, гуанако у индейцев Чако Южной Америки
и т. д.).
Систематическое проведение коллективных охот требовало
наличия более четких форм организации общества, чем та, в
значительной степени аморфная и неустойчивая организация, которая
существовала в середине XX в. у бушменов Калахари или у восточных хадза
Танзании (других территориальных подразделений хадза мы не
касаемся, так как они наряду с охотой занимаются земледелием). Ведь
охота у них была, за редкими исключениями, индивидуальной, а сбор
растительной пищи не требовал ни кооперации усилий нескольких
человек, ни разделения между ними функций в процессе трудовой
деятельности.
Поэтому, на наш взгляд, социальная организация
этнографических групп, для которых собирательство является доминирующей
формой хозяйства (хадза, бушмены кунг в Африке, аранда, диери и
вальбири в Австралии, юки и кахуилла в Северной Америке, чамако-
ко и авейкома в Южной Америке и т. д.), не дает вполне адекватного
представления о социальной организации тех обществ каменного
века, для которых основными формами хозяйства были охота,
рыболовство или морской зверобойный промысел, где коллективный труд
более производителен, чем индивидуальный.
Если обратиться к этнографическим данным о малых народах и
племенах с ведущей ролью охоты в хозяйстве — таких, как азиатские
эскимосы, яруро Венесуэлы, она юга Аргентины, то при различии по
многим параметрам социальной организации этих этнических
общностей найдем, что в целом эта организация не так аморфна, как у на-
144
Глава третья
званных собирателей (для которых охота второстепенна), а состав
общин более постоянен.
Из всего вышесказанного ясно, почему, даже имея некоторые
этнографические аналоги, столь сложно реконструировать
общественную организацию людей не только верхнего палеолита, но и
мезолита.
Именно по этой причине в последующих разделах главы большое
место уделено археологическим данным, непосредственно
относящимся к этим эпохам.
2. Хозяйство и материальная культура
(региональный обзор)
Европа. Наиболее характерными для последовательно сменявших
друг друга этапов верхнего палеолита Западной Европы считают
ориньяк, перигордьен, солютре, мадлен, получившие свои названия
по местам во Франции, где впервые были найдены стоянки людей
этих культур. Одновременно с ними существовали в Западной Европе
и другие, более локальные культуры. Это, например, синхронная
с ориньяком гримальдийская, найденная в пещере Гримальди на
итальянской Ривьере.
Стоянки устраивались как в пещерах и гротах, так и на
открытых местах, особенно на террасах вблизи долин рек, на путях
миграций диких животных: быков, оленей, лошадей и т. д.
Охота на стадных животных велась преимущественно загоном
животных к обрывам, в болото и т. д. При этом иногда сразу
уничтожались целые стада животных. Так, в Амвросиевке на Украине
стадо зубров, насчитывавшее почти тысячу особей, было загнано в
овраг и перебито. В таких облавах участвовало большое число
охотников, в Амвросиевке, по подсчетам П. Г. Пидопличко, — около ста
человек. О численности охотников свидетельствуют более 300
наконечников копий, найденных среди костей зубров. При охоте на очень
крупных животных (мамонтов) наряду с загоном в топкие места,
возможно, применялись ловчие ямы41.
Хотя приемы охоты мало изменились в верхнем палеолите по
сравнению с предшествовавшей ему эпохой мустье, вместе с тем
произошли значительные изменения в технике изготовления орудий охоты
и орудий труда. Использовавшийся в мустье для изготовледия
орудий массивный нуклеус дисковидной формы, от которого
откалывались широкие пластины, сменяется хорошо ограненным
призматическим нуклеусом, от которого откалывались узкие удлиненные
кремневые пластины. Они имели острые края и могли без
дополнительной обработки использоваться для резания и скобления42. Часть
пластин посредством ретуши превращали в наконечники копий и
дротиков, ножи, проколки, вкладыши и т. д. Новым, совершенным для того
времени способом обработки орудий стала отжимная ретушь, особенно
типичная для солютрейской техники. С помощью такой ретуши со-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
145
лютрейцы изготовляли лавролистные и иволистные наконечники
копий, наконечники с черенком и с боковой выемкой, лезвия ножей и
другие орудия с двусторонней обработкой, при которой ретушь сплошь
покрывала поверхность орудия, а не была сосредоточена только*
у краев.
В верхнем палеолите приледниковой зоны Европы значительна
возросло количество типов орудий. Впервые появляются или
получают широкое распространение такие орудия, как мясные и ст'рога-
тельные ножи, лощила, проколки и шилья, костяные иголки, сверла,,
каменные пилки, песты, ступки, ретушеры, отжимники и др.
Возможно, тогда же были созданы такие охотничьи орудия, как пращи
и бола43.
В верхнем палеолите была заселена человеком большая часть
территории европейской части СССР. Палеолитические охотники
проникали сюда по двум направлениям еще в мустьерское время —
с запада, из Центральной Европы, и с юга, с Кавказа и из Передней:
Азии. В связи с этим в верхнем палеолите, а затем и в мезолите на
европейской части СССР развивались две крупные этнокультурные
области: среднерусская, включавшая также западные территории
нашей страны, и кавказско-причерноморская. Этим этнокультурным
областям соответствуют, как отмечает А. А. Формозов, разные типы
памятников, разные пути развития в обработке камня. При этом
памятники верхнего палеолита Русской равнины (Костенки,
Стрелецкая, Сунгирь и др.) близки верхнепалеолитическим памятникам
Венгрии и Чехословакии (Селету, Дольним Вестоницам и т. д.).
Характерной особенностью всех их является развитие каменного
инвентаря от двусторонне обработанных мустьерских орудий к дву-
сторонне обработанным наконечникам копий селетско-солютрейского
типа, затем к наконечникам из пластин. На юге же, в кавказско-
причерноморской области, совершился переход от односторонне
обработанных мустьерских орудий к культуре средиземноморского
облика с ранним появлением на ее верхнепалеолитическом этапе
геометрических орудий44.
Большая протяженность европейской территории СССР по
меридиану, разнообразие природных условий паложили определенный
отпечаток на хозяйственную деятельность верхнепалеолитических
обитателей северных и южных областей этой территории. Поэтому
некоторые исследователи (П. П. Ефименко, П. И. Борисковский^
В. П. Степанов) считают возможным подразделить ее на несколько
хозяйственно-культурных зон.
Так, П. И. Борисковский поставил вопрос о выделении особой,,
занимающей промежуточное положение между европейской
приледниковой и африканско-средиземноморской, степной зоны (стоянки
Большой Аккарджи, Амврориевка, Каменная балка I и II и другие
верхнепалеолитические стоянки Северного Приазовья —
Причерноморья). Эта зона характеризуется массовыми облавными охотами
на диких быков, преобладанием недолговременных охотничьих стой-
146
Глава третья
бищ, некоторыми особенностями кремневого инвентаря,
сближающего его с инвентарем пещер Крыма и Кавказа. В отличие от
степной зоны стоянки европейской приледниковой зоны в своем
большинстве представляют долговременные поселения охотников на
мамонтов, северных оленей, диких лошадей.
В. П. Степанов для периода 24—14 тыс. лет назад выделяет на
территории европейской части СССР две зоны охотничьего
хозяйства. 1) Европейскую приледниковую зону охотников на мамонта и
других стадных животных. Люди здесь жили в стационарных
поселениях, строили зимние жилища. 2) Зону бродячих охотников гор
(Кавказ). Люди здесь жили небольшими группами, и поэтому
главным приемом охоты были не облавы, а скрадывание, когда охотники
скрытно приближались к животным. Противники подобного членения
европейской территории СССР эпохи верхнего палеолита по
хозяйственному признаку высказывают мнение, что, с одной стороны,
специфику нельзя переоценивать (в степной зоне встречаются жилые
конструкции из костей, как в приледниковой зоне), а с другой —
имеющиеся особенности носят не столько хозяйственный, сколько
«историко-культурный характер45.
В эту эпоху получают распространение долговременные жилища.
Искусственные жилища сооружались человеком и в эпоху нижнего
палеолита, в ашеле и в мустье. Например, в нашей стране были
подробно исследованы стационарные жилища мустьерского времени.
Так, в IV слое стоянки Молодова в долине Днестра А. П. Черныш
вскрыл и подробно изучил хорошо сохранившиеся остатки
многоочажного постоянного двухкамерного жилища. Его каркас, видимо,
состоял из жердей, крытых шкурами мамонта. Площадь жилища
составляла 40 кв. м. Во Франции были раскопаны и реконструированы
большое общинное долговременное жилище ъ гроте Лазарет и группа
шалашей в Терра-Амата46. Однако искусственные жилища в нижнем
палеолите были достаточно редки, тогда как в верхнем палеолите они
стали обычным элементом культуры. По подсчетам П. И. Борисков-
ского, в Европе и Сибири раскопаны остатки приблизительно 200
жилищ47. Значительная часть их приходится на Европу. N
Жилища верхнего палеолита имеют много общих черт с
жилищами нижнего палеолита. Так, в верхнем палеолите, как и в
предшествовавшие эпохи, встречались два типа искусственных жилищ:
небольшие округлые или овальные хижины диаметром до 6 м с одним
очагом и каркасом из костей, бивней или жердей и длинные
многоочажные дома, которые, по распространенному мнению, состояли как
бы из нескольких «слившихся овальных или округлых в плане
небольших хижин или шалашей» 48.
В Европе маленькие хижины обнаружены в районе Елькница
(ГДР), Арси-сюр-Кюр (Франция) и т. д., а длинные многоочажные
жилища —в Борнеке (ФРГ), Пенсеване (Франция)49.
Предшественниками первых можно считать шалаши Терра-Амата, а вторых —
жилище грота Лазарет.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 147
В Восточной Европе, особенно на Русской равнине, жилища иг
поселения эпохи верхнего палеолита известны в большем числе и
изучены лучше, чем в Западной Европе. По мнению А. Н. Рогачеваг
1 обитатели Русской равнины из-за резкого континентального климата
J этой области и отсутствия пещер были вынуждены строить искус-
| ственные жилища. Методику изучения их на рубеже 30-х годов раз-
ι работал П. П. Ефименко50. В Восточной Европе в верхнем палеолита
' встречаются и длинные многоочажные дома (Костенки I и IV на
; Дону, Пушкари 1 на Украине) и небольшие округлые или овальные-
/ хижины с одним очагом (Спадзиста в Кракове в Польше, Петржко-
' вице и Дольни Вестонице в Чехословакии, Шалвар в Венгрии,
Гагарине, Костенки IV, Тельманская на Дону, Мезин, Межиричи, Доб-
раничевка на Украине).
В качестве промежуточного типа между маленькими хижинами:
и многоочажными жилищами в Восточной Европе археологами
выделяются округлые или овальные одноочажные жилища среднего»
размера с диаметром 7—8 м. Остатки подобных жилищ открыты на
Дону в Костепках II, Аносовке II и в других местах.
Как и в Западной Европе, в Восточной Европе на некоторых
стоянках обнаруживается преемственность между жилищами мусть-
ерского и верхнепалеолитического времени. Например, на
исследовавшихся А. П. Чернышем стоянках Молодова в долине Днестра один
тип жилища сохранялся от мустье до конца верхнего палеолита. В то
же время позднепалеолитические жилища Западной и Центральной:
Европы, европейской части СССР, Сибири «являются гораздо более-
совершенными и демонстрируют ряд особенностей, отсутствовавших:
в мустьерской и более древней технике домостроительства. Обращают
на себя внимание устойчивость формы круглых и овальных жилищ
с одним очагом в центре, наличие многочисленных специально
вырытых землянок, сложные конструкции из костей и бивней мамонтау
оленьих рогов и плит известняка, наконец, существование сложных
и гармоничных многоочажных длинных жилищ со всевозможными
ямами и ямками различного назначения, располагавшимися как
внутри жилища, так и в его ближайшем соседстве» 51.
Таким образом, с одной стороны, наблюдается преемственность
между жилищами ашеля, мустье и верхнего палеолита, а с другой
стороны, в верхнем палеолите жилища не только многочисленнее,
чем в предшествующее время, но и приобретают сложность и
устойчивость конструкции. Это, на наш взгляд, позволяет говорить о
наличии не только количественных, но и качественных различий между
жилищами питекантропов и неандертальцев, с одной стороны, и
неоантропов — с другой.
В конце палеолита и начале мезолита в связи с вымиранием на
значительных территориях крупных животных резко изменялись
хозяйство и весь образ жизни людей в тех местах, где происходили
подобные перемены в фауне.
148
Глава третья
В конце верхнего палеолита в хозяйстве общин приледниковой
зоны Европы происходят крупные перемены.
Так, в отношении Русской равнины П. П. Ефименко отмечал, что
«исчезновение таких гигантов четвертичной фауны, как мамонт,
носорог, овцебык, охота на которых была основным занятием
обитателей донских, дпепровских, деснинских палеолитических стоянок,
должно было привести к кризису всей системы хозяйства. Люди были
вынуждены охотиться теперь на более мелких нестадных животных.
Существование крупных долговременных поселений стало
немыслимым. Общины дробились и начинали вести бродячий образ жизни,
периодически возвращаясь на одно место (многослойные стоянки с
тонкими линзами культурного слоя на Днепровских порогах, у
Владимирова в бассейне Южного Буга и др.)· Усилилась роль
собирательства (ямки, заполненные ракушками, в пещерных стоянках
Крыма)» 52.
На севере европейской части России, а также в Западной Европе
исчезновение ледниковой фауны вызвало поиски новых источников
питания и рано было освоено рыболовство. Так, на Новгород-Север-
окой палеолитической стоянке были найдены остатки лосося,
плотвы, ельца, сома, щуки, судака, окуня, налима, на Тимоновской и Ели-
сеевичской палеолитических стоянках есть изображения рыб.
Особенно характерны они дл^т мадленского искусства Западной
Европы 53.
Разнообразны культуры мезолита. Одна из древнейших
мезолитических культур Европы — азильская, датируемая по Си IX—
VII тыс. дон. э. и распространенная на севере Испании, юге
Франции, а также в ФРГ. В азильской культуре отчетливо
прослеживаются традиции верхнего палеолита — мадлена и даже ориньяка. В
целом каменные орудия азильской культуры мало отличаются от
верхнепалеолитических, но мельче по размерам. Напротив, гарпуны из
рога оленя (благородного, а не северного, как в мадлене) грубее
сделаны, чем верхнепалеолитические гарпуны. Возможно, такой гарпун
использовался преимущественно для охоты на мелких животных, а
не для рыболовства. Азильцы жили в пещерах и, скорее всего,
небольшими общинами54.
Несколько моложе азильской астурийская культура, памятники
которой встречаются на северном побережье Испании, а также
южнее, на западе Португалии. В отличие от азильцев, в хозяйстве
которых большое значение имела охота, астурийцы в первую очередь
были собирателями моллюсков. Это обусловило и своеобразие их
орудий — оббитых галек, которые могли использоваться для рубки дерева
при изготовлении плотов и в мотыгах для отделения раковин от
камней55.
Одна из наиболее широко распространенных мезолитических
культур Западной и Центральной Европы — тарденуазская56. В
отличие от азильской и астурийской для тарденуазской культуры
типична микролитическая техника. Поселения тарденуазской культуры
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
149
VIII—V тыс. до н. э. создавались на морских побережьях, берегах
рек и озер. Обычно они состояли из небольших хижин.
В хозяйстве жителей морских побережий большую роль играл
сбор съедобных моллюсков. Обитатели берегов рек и озер сочетали
рыболовство с охотой на быков, кабанов, птиц. Но возможно, что
некоторые стоянки на побережье и вдали от него могли быть местом
пребывания одной и той же группы людей и различия в палеофауне
культурных слоев отражают сезонные различия в хозяйственной
деятельности тарденуазцев.
На севере Европы в раннем послеледниковом периоде
(8100/7800—7000/6500 лет до н. э.), т. е. в начале мезолита, граница
леса далеко продвинулась к северу. Это привело к распространению
макролитических грубых топоровидных орудий, хорошо подходивших
для рубки дерева. И в других лесных регионах — в Сибири и Юго-
Восточной Азии — грубые рубящие орудия архаичных, иногда даже
нижнепалеолитических форм сохраняются в мезолите из-за своей
пригодности для рубки дерева.
Такими макролитическими культурами мезолита Скандинавии
являются сходные между собой комса, аскала и фосна — культуры,
датируемые VIII тыс. до н. э.57 Одна из этих культур — комса —
существовала и на Кольском полуострове. Жившие здесь люди вели
морское хозяйство, сочетая рыбную ловлю с промыслом морского
зверя и водоплавающей птицы. Комса сочетали в своей технике
архаичные орудия типа рубил и скребел и микролитические топоровидные
орудия, ставшие преобладающей формой лишь в неолите58.
На территории ФРГ, Дании и южной Швейцарии в конце раннего
послеледникового периода жили бродячие охотники и собиратели. Их
наиболее характерными орудиями были топоры из рога северного
оленя и треугольные черешковые наконечники стрел. По одной из
стоянок культура этих людей получила название лингби.
В целом позднее, чем вышеназванные культуры в Европе, широко
распространилась культура маглемозе. Ранние поселения людей этой
культуры датируются VIII тыс. до н. э., поздние — серединой V тыс.
до н. э. Поселения маглемозе найдены в Англии, Франции, ФРГ,
Швеции, Дании, Норвегии. Повсюду они устраивались на низменных
местах среди топей и болот, на заболоченных берегах рек и озер.
Предполагается, что хижины могли стоять на плотах. Пол крыли
корой, каркас стен образовывали тонкие жерди, связанные своими
верхними концами59. Возможно, этот каркас также крыли корой.
Одно из ранних поселений культуры маглемозе — Стар Карр в
Йоркшире — было устроено на платформе из ветвей, камней и глины.
По-видимому, в поселениях на платформах или на плотах люди
жили не круглый год, а сезонно, но по много месяцев. Например,
Стар Карр в течение 12—15 лет ежегодно с декабря по апрель60
занимала небольшая община из 25—30 человек. Вероятно, здесь, а
также на других поселениях культуры маглемозе мы встречаемся
с тем, что иногда называют сезонной оседлостью61. Вместе с тем не
150
Глава третья
исключено, что для отдельных групп людей культуры маглемозе
могла быть характерна круглогодичная оседлость в течение многих
лет или даже поколений. Существовавшее в маглемозе развитое
рыболовство, в котором применялись рыболовные крючки, трехзубые
остроги, верши, сети, лодки-долбленки, в сочетании с охотой на
быков, кабанов, лосей, медведей и водоплавающую птицу, а также
собирательством могло обеспечить переход к оседлости62.
Для каменных орудий культуры маглемозе, как*и для ряда других
мезолитических культур Европы, было характерно сочетание
микролитов и макролитов. Обычны в маглемозе и орудия из кости,
роговые муфты, в которые закреплялись топоры, луки со стрелами.
Крупным достижением людей этой культуры было приручение волков.
Останки "собаки найдены на стоянке Стар Карр. Они датируются, как
и вся эта стояпка, 7535+350 лет до н. э. 63 Кости собаки найдены и
на некоторых других, особенно восточных, стоянках культуры
маглемозе.
На побережье Балтийского моря в Прибалтике, а такйке в
Польше, ГДР и ФРГ в эту же эпоху в хозяйстве местного населения
ведущую роль играла не охота, а рыболовство и собирательство. В
Эстонии к этому хозяйственно-культурному типу принадлежали
обитатели стоянки в устье р. Кунда. Судя по находкам, местные жители
ловили рыбу при помощи сетей, костяных рыболовных крючков,
гарпунов. Имелись у них и лодки. Развитое рыболовство создавало
«благоприятные условия для перехода к оседлости»64. По крайней мере
летом и осенью люди жили на одном месте.
В Литве, Белоруссии и некоторых других районах западной части
СССР, а особенно в Польше существовала свидерская культура
охотников и собирателей, в основном продолжавшая традиции верхнего
палеолита. Ее специфическая особенность — небольшие наконечники
стрел на ножевидных пластинах. В позднем мезолите жители этих
территорий начинают широко пользоваться орудиями со
вкладышами.
В Восточной Европе едва ли не наиболее полно исследованы
мезолитические памятники горного Крьща. Люди в эту эпоху жили
здесь в пещерах круглый год или, во всяком случае, зимой. Их
культура была едина. С самого начала мезолита для нее характерно
распространение геометрических микролитов (сегментов и трапеций).
В ранний период крымского мезолита основной отраслью хозяйства
остается охота на благородных оленей, кабанов и других животных.
С середины мезолита существенным становится сбор съедобных
моллюсков. Много ракушек найдено около очагов, а также в ямках в полу
пещеры.
На Кавказе мезолитическая культура развивалась в трех
вариантах: закавказском, северокавказском и западнокавказском,
различавшихся особенностями каменного инвентаря.
Раннемезолитические памятники степей и лесостепей Восточной
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
151
Европы представляют собой временные стойбища охотников на
крупных стадных животных. Культура этих людей «целиком уходит
своими корнями в предшествующую, верхнепалеолитическую эпоху» 65.
В степном Крыму и Приазовье известно много стоянок позднего
мезолита. Их характерная черта — вкладыши в виде небольших но-
жевидиых пластинок, оббитых плоскими сколами с брюшка.
Геометрических микролитов здесь меньше, чем в горном Крыму. Севернее
в лесостепях в инвентаре стоянок охотников позднего мезолита
геометрические микролиты встречаются вместе с иволистными
наконечниками стрел и пластинками с остро скошенными концами. Эти
формы орудий и вкладышевая техника сохраняются и в раннем
неолите.
Наряду с различиями в культурах мезолита Европы много
общего. Это проявляется в преобладании на ранней фазе мезолита
верхнепалеолитических форм орудий, в последующем распространении
геометрических микролитов, в появлении и распространении наряду
с ними в лесной зоне Европы крупных рубящих орудий (топоров,
тесел), часто закреплявшихся в роговой муфте.
В хозяйстве общей чертой мезолитических культур Европы стал
постепенный переход от крупных облавных охот на стадных
животных к охоте с луком и стрелами небольшими группами людей на
отдельных животных (лосей, кабанов) или их небольшие стада. При
этом в степной зоне, т. е. в более южных районах, традиции загонных
охот сохраняются дольше, чем на севере. Возрастает, хотя в разных
культурах в неодинаковой степени, значение в хозяйстве
рыболовства и сбора раковин со съедобными моллюсками. На севере
возникает морской зверобойный промысел.
Поселения устраиваются в низменных, нередко заболоченных
местах. Они обычно носят временный или сезонный характер. В
последнем случае одно поселение может использоваться в течение многих
лет и да?ке десятилетий. Поселения и жилища невелики по размерам.
В каждом селении обычно было несколько десятков человек.
Культура соседних поселков очень сходна. Это дало некоторым
исследователям основание для предположения, что каждый поселок занимала
небольшая родовая группа (община), а жители нескольких соседних
поселков образовывали одно племя 66. В районах, где не возникло или
очень поздно возникло производящее хозяйство, особенно на севере
Европы, мезолитические традиции сохранялись довольно долго 67.
Средняя Азия. Несмотря на новые открытия последнего
десятилетия, и теперь о хозяйстве и культуре населения Средней Азии в
верхнем (позднем) палеолите приходится судить в значительной мере по
материалам одного памятника — Самаркандской палеолитической
стоянки. Она была исследована еще до войны М. В. Воеводским, а
затем Н. Д. Левом. Возраст стоянки спорен. Ее относят как к началу
верхнего палеолита, так и к его концу. Последняя оценка
преобладает в новой литературе68.
152
Глава третья
На Самаркандской стоянке были вскрыты три культурных слоя,
разделенных стерильными прослойками. Инвентарь всех трех слоев
единообразен. В нем не прослеживалась какая-либо культурная
эволюция 69. В инвентаре преобладали рубящие орудия из узких прямых
галек (голышей). На одном (редко двух противоположных концах)
расположено рабочее лезвие, полученное с помощью оббивки. По
мнению П. И. Борисковского, подобные орудия были удобны и для
захвата рукой, и для скрепления с рукоятью. По типу их можно
сближать с топорами и кирками.
В отличие от этих своеобразных орудий обычные и
представленные во многих регионах чопперы и чоппинги изготовлялись не из
удлиненных, а из неправильных галек, приближающихся к округлым
или овальным очертаниям. Они не годились для скрепления с
рукоятью 70. По своей функции Самаркандская стояпка была, судя по
палеофауне, лагерем охотников на диких лошадей, оленей, верблюдов,
баранов.
Сравнительно недавно раскопанная В. А. Рановым
верхнепалеолитическая многослойная стоянка Шугноу в Южном Таджикистане
показала, что индустрия ранних этапов позднего палеолита
базируется здесь в основном на мустьерской технике, а смена мустьер-
ских отщепов призматическими пластинами происходит не ранее
средней фазы позднего палеолита71. Четыре палеолитических
горизонта стоянки Шугноу датируются: 35—30 тыс. лет назад — нижний
четвертый горизонт и 1Ό700±500 лет — верхний первый горизонт.
Основное отличие Шугноу от Самаркандской стоянки — это
преобладание на первой пластинчатой техники, а на второй — галечной72.
В Средней Азии известно и сравнительно небольшое количество
других верхнепалеолитических памятников. Это стоянка в долине
р. Исфары в Таджикистане, где найдены призматические пластины и
острия с одним выпуклым лезвием того же типа, который
встречается в верхнем палеолите Западной Европы и Ближнего Востока.
Стоянка датируется концом верхнего палеолита или началом
мезолита. Несколько верхнепалеолитических стоянок открытого типа и
в пещерах найдены в бассейне Иртыша в Восточном Казахстане.
Здесь обнаружены ножевидные пластины, скребки на отщепах,
массивные скребла73. Это также· переотложенная стоянка Ходжа-Гор в
Фергане.
По мнению А. П. Окладникова, верхнепалеолитическая культура
Средней Азии выросла на местной мустьерско-леваллуазской основе.
В то же время верхний палеолит Туркмении, Узбекистана,
Таджикистана обнаруживает параллели с ориньякоидными культурами
Южной Европы и Ближнего Востока, а Восточного Казахстана — с
Сибирью и Монголией74.
Особо обращает на себя внимание резкое сокращение числа
археологических памятников в позднем палеолите Средней Азии по
сравнению с ранним. Это, возможно, свидетельствует о значительном
уменьшении численности населения Средней Азии в позднем палео-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
153
лите, как предполагают Э. Д. Мамедов и С. Г. Батулин, в результате
неблагоприятных для жизни человека «изменений климата и
обводнения территории» 75.
В мезолите на значительной части Средней Азии — по древнему
берегу Каспийского моря, по Амударье, вблизи рек и водоемов в
Каракумах — в хозяйстве древнего населения наряду с охотой большое
значение приобрело рыболовство (ловили осетров, стерлядей,
сазанов), использовались гарпуны, крючки, верши. Для инвентаря этой
культуры были характерны геометрические вкладыши сегментовид-
ной формы. Сходные памятники встречаются и в Иране (грот Гар-и-
Камарбанд и стоянки на правом берегу Кафиргана) 76.
Культура ипого облика существовала на Памире. Здесь в Ош-Хоне
и других местах найдены стоянки бродячих охотников. В инвентаре
этих стоянок сочетаются мелкие наконечники стрел (для лука) с
крупными рубящими галечными орудиями. Радиоуглеродная
датировка Ош-Хона (95304=130 лет до н. э.) показывает, что здесь,
высоко в горах, мезолит столь же древен, как на равнине 77.
Сведения о собирательстве для каменного века Средней Азии
скудны. В целом для позднего палеолита и мезолита Средней Азии
имеющиеся материалы настолько отрывочны, что трудно
реконструировать хозяйство и культуру ее населения.
Ближний и Средний Восток. Ближний Восток (Восточное
Средиземноморье) интересен археологически не только сам по себе, но и
благодаря своим тесным связям с Кавказом эпохи каменного века.
Палеолит и мезолит Восточного Средиземноморья давно изучаются
исследовагелями. Здесь открыто много стоянок и поселений
каменного века, в том числе верхнепалеолитических и мезолитических. При
этом даже стадиально одновременные стоянки, расположенные
недалеко друг от друга, отличаются большим локальным своеобразием.
Одно только перечисление верхнепалеолитических культур,
выделенных археологами на территории Палестины, Сирии, Ливана, заняло
бы много места. Это переходная индустрия типа Кзар-Акила,
палестинский вариант переходной культуры Кзар-Акила, индустрия паль-
мирского типа, «элегантный» ориньяк, комплексы Эт-Таббана и Эрик-
Эль-Ахмара и т. д. и т. п. Мы назвали здесь только некоторые формы
перехода от мустье к верхнему палеолиту. А за ними следуют еще
более многочисленные верхнепалеолитические и эпипалеолитические
культуры78.
Описать в маленьком разделе все или большинство локальных
разновидностей и фаз культуры каменного века Восточного
Средиземноморья практически невозможно. Поэтому мы вынуждены
ограничиться самой общей и краткой характеристикой
верхнепалеолитических и раннемезолитических культур Восточного
Средиземноморья.
Основной верхнепалеолитической культурой Ближнего Востока
был левантийский ориньяк. В своем развитии он прошел несколько
фаз и, видимо, имел пока еще мало изученные локальные разновид-
154
Глава третья
ности. При настоящем уровне знаний трудно сказать, в какой
степени многообразие этих культур отражает специфику хозяйственной
деятельности населения отдельных территорий Ближнего Востока, ш
приходится ограничиться общим выводом, что оно занималось
охотой, особенно на газелей, а также ланей, лошадей и быков,
собирательством, а позднее рыболовством.
Между XXIII и XIV тыс. до н. э. левантийский ориньяк сменяется
эпипалеолитом. Последний выделяется как отдельная эпоха верхнего
палеолита Ближнего Востока из-за резкой смены в указанный
промежуток времени характера каменной индустрии. Распространяются
микропластинки, вкладыши и т. д. На разных территориях Ближнего
Востока микролитизация каменных орудий происходила
неодновременно.
По степени и формам геометризации микроинвентаря эпппалео-
лит Ближнего Востока, согласно одному из новых предложений,
подразделяется на собственно кебаранскую культуру (16—14 тыс.
лет); геометрическую кебара А (12—14 тыс. лет); геометрическую
кебара Б (10—12 тыс. лет). 12 тыс. лет назад на основе культуры
геометрической кебара А возникли две, хотя и близкие, но довольно
четко отличающиеся друг от друга культуры: геометрическая
кебара Б и натуф. Первая из них продолжала традиции в основном
бродячих охотников и собирателей предшествующего времени. Для
второй были характерны возросшая степень оседлости, наличие стацио-
нарпых поселков с искусственными жилищами и преобладание в
хозяйстве собирательства диких злаков и других растений с
применением жатвенных орудий79.
В конце верхнего палеолита — начале мезолита в
рассматриваемом регионе можно выделить несколько культурно-исторических
областей, население которых имело некоторые особенности в
направлении хозяйства и образе жизни. Для создателей кебаранских культур
Леванта было характерно сезонное охотничье-собирательское
хозяйство с передвижением общин на четко очерченных территориях.
При этом охота и рыболовство преобладали в северных лесных
районах, а собирательство играло ведущую роль в южных, более
засушливых районах. Население жило как в пещерах, так и на открытых
стоянках. Йри этом на поздних стадиях кебары поселения
приобретают все более долговременный характер, но даже у натуфийцев, у
которых имелись обширные поселения с десятками полуземлянок, в
них еще обитали не круглый год.
В Ливане в кебаре основным занятием населения была
специализированная охота на ланей и безоаровых коз. 83% костей на стоянке
Кзар-Акил принадлежит этим видам животных. Для мезолита
Центральной и Северной Палестины характерным занятием населения
была специализированная охота на газелей, а к югу от Мертвого
моря — на каменных коз. Позднемезолитические и ранненеолитические
обитатели Северной Сирии охотились преимущественно на ослов, га-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 155
зелей, ланей, туров. Жили эти люди в стационарных жилищах из кам-
ыя и глины.
В горах Загроса (Ирак) в конце позднего плейстоцена
существовала культура зарзи. Для ее создателей было типично сочетание
охоты (на безоаровых коз, муфлонов, благородных оленей, диких
свиней) с собирательством, особенно диких хлебных злаков. Люди вели
подвижное сезонное хозяйство. Для более долговременного обитания
использовались пещеры, служившие базовыми лагерями. При
кратковременных остановках во время сезонных передвижений
устраивались стоянки на открытом воздухе80. С XI—X тыс. до н. э. с
переходом от палеолита к мезолиту, от плейстоцена к голоцену сезонные
передвижения становятся более регулярными. На открытых
поселениях вместо временных укрытий появляются полуземлянки, вблизи
них устраивают хозяйственные ямы, что свидетельствует о более
продолжительных периодах обитания на открытых поселениях.
Возрастание степени сезонной оседлости стало возможным благодаря более
интенсивному, чем раньше, использованию природных ресурсов —
развитию усложненного собирательства хлебных злаков и бобовых
и специализированной охоты на коз и муфлонов.
В Передней Азии в большей или меньшей степени изучен ряд
верхнепалеолитических памятников. Но пока многое неясно. Делом
будущего, по выражению В. А. Ранова, остается хронологическое
расчленение и соотношение позднепалеолитических памятников этого
региона. По-видимому, Передняя Азия в каменном веке была
переходной зоной, отразившей в своей материальной культуре влияние
как сибирско-монгольских, так и восточносредиземноморских
культур81.
Что касается мезолита, то в одних странах Передней Азии
(Афганистан) в последние годы обнаружено большое число
мезолитических местонахождений (в основном трудами советских ученых), но
материалы их пока не опубликованы (если не считать
предварительных сообщений), в других же странах (Ирак — Шанидар, юг
Турции и т. д.) еще в начале мезолита возникает производящее
хозяйство 82.
Южная и Юго-Восточная Азия. К сожалению, палеолит Южной
и Юго-Восточной Азии изучен недостаточно. Некоторые
специфические для этого региона обстоятельства крайне затрудняют
обнаружение многих памятников каменного века или ведут к их уничтожению.
Это — густая тропическая растительность, в которой затеряны
памятники каменного века, быстрое разложение костей в условиях
жаркого климата, большой влажности и изобилия микроорганизмов,
непреднамеренное, но систематическое уничтожение культурных
остатков в пещерах крестьянами, собирающими в них птичий помет на
удобрение. Кроме того, надо иметь в виду, что многие орудия
каменного века Южной и Юго-Восточной Азии делались не из камня, а из
быстро разрушающегося с течением времени дерева и бамбука.
156
Глава третья
Не было в этом регионе и долговременных зимних жилищ, которые
в Европе и Сибири столько дали для характеристики культуры
палеолитического человечества.
Правда, в последние десятилетия благодаря исследованиям
национальных школ археологов, особенно в Индии и во Вьетнаме,
несмотря на все объективные трудности, были сделаны новые важные
находки. Но они в своем большинстве относятся к нижнему, а не к
верхнему (позднему) палеолиту.
В целом можно сказать, что предшествующие мезолиту культуры
Homo sapiens во многих странах Юго-Восточной Азии похожи, во
всяком случае по своей каменной индустрии, на
нижнепалеолитические культуры тех же территорий.
В Южной Азии поздний палеолит был открыт недавно, во второй
половине 60-х годов. Наиболее выразительным является
местонахождение вблизи Ренигунты в индийском штате Андхра-Прадеш. Здесь
были обнаружены призматические нуклеусы, узкие удлиненные но-
жевидные пластинки с параллельным огранением и резцы83.
Открытие у Ренигунты дало возможность пересмотреть стадиальное
положение нескольких менее выразительных местонахождений
каменного века Индии (Сингхбум на юге штата Бихар, в окрестностях
Невасы и Бомбея в штате Махараштра и еще двух-трех
местонахождений) и предположительно целиком или частично отнести их к
позднему палеолиту84. Теперь в Индии известен целый ряд позднепалео-
литических поселений, в том числе с фауной и костяными
орудиями 85.
Сравнение местонахождений позднего палеолита Индии с позд-
непалеолитическими местонахождениями * других регионов
показывает, что поздний палеолит Индии «отчетливо тяготеет к позднему
палеолиту Ближнего Востока, обнаруживая близкие аналогии с
относящимися к концу позднего палеолита материалами стоянок Зар-
зи, Шанидар и Палеграва в Ираке. Видимо, и Ренигунта также
относится к концу позднего палеолита» 86.
В то же время у Ренигунты очень невелики параллели с
относящейся к ранней поре позднего палеолита стоянкой Кара-Кумар в
Афганистане и отсутствуют аналогии с поздним палеолитом
Средней Азии.
Для мезолита Индостана характерна микролитическая индустрия,
обнаруживающая черты «генетической связи с местным поздним
палеолитом типа Ренигунты» 87. Как отмечают индийские
исследователи, микропластины конца верхнего палеолита встречаются и в
последующую эпоху, включая неолит88. Наличие микролитов
позволяет включить мезолит Индостана в обширный круг мезолитических
культур Европы, Северной Африки, Ближнего Востока с
микролитической индустрией.
В мезолите полуостров Индостан был широко заселен. Известно
большое число местонахождений с микролитической каменной
индустрией. Подавляющее большинство их расположено в Западной,
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
157
Центральной и Северо-Восточной Индии. Основными типами
поселений в эту эпоху были пещеры, площадки под скальными навесами,,
открытые стоянки по берегам рек, на склонах холмов (иногда вдали
от рек), на песчаных дюнах89.
С мезолитом Индии, особенно южной, довольно схож мезолит
Шри-Ланка. Памятники каменного века, содержащие мезолитический
материал, встречаются здесь как в пещерах, так и под открытым не^
бом. Археологические местонахождения Шри-Ланка, в частности
местонахождения в пещерах Нилгала, Бамбара Гала и др., захватывают
мезолит лишь самой древней своей частью. Остальная масса,
культурных остатков является неолитической, а самые поздние из них
принадлежат ведда, чья культура, как она предстает в описаниях
путешественников XVII—XVIII вв., была близка и генетически
связана с культурой людей, живших в пещерах острова в значительно
более отдаленное время, в том числе в мезолите. Это следствие тогог
что для Шри-Ланка, как и для Индии, характерно отсутствие
резких граней между мезолитом и неолитом 90. Подобное отсутствие
четких границ при переходе от одной эпохи к другой обычно также для
каменного века Бирмы, Вьетнама и некоторых других стран Юго-
Восточной Азии.
В отличие от мезолита стран Юго-Восточной Азии и Индостана
в мезолите Шри-Ланка встречаются маленькие каменные
наконечники с отжимной ретушью. Судя по их размерам, это были наконечники
стрел. Для мезолитического каменного инвентаря Шри-Ланка
типичны микролиты геометрической формы и орудия, изготовленные из;
маленьких отщепов. Вследствие крайне слабой изученности позднего
палеолита этого региона мало что можно сказать о хозяйстве,
культуре, образе жизни позднепалеолитических жителей Индии и Шри-
Ланка.
В литературе неоднократно высказывалось предположение, что
коль скоро климат и фауна Южной Азии оставались более или
менее неизменными на протяжении всего плейстоцена и даже в
голоцене (биологические перемены в основном происходили в этом
регионе значительно раньше, на границе плиоцена и плейстоцена), то
образ жизни людей в позднепалеолитическую эпоху был продолжением
образа жизни их раннепалеолитических предшественников. В
мезолите, согласно тому же предположению, охотники и собиратели могли
сохранять образ жизни их верхнепалеолитических предков91.
Нам этот взгляд кажется верным скорее не для Южной, а для
Юго-Восточной Азии, где природная среда также не менялась
существенным образом на протяжении плейстоцена, а культура
палеолитических людей современного физического типа не отличалась резко
от культуры их нижнепалеолитических предшественников
(например, ранняя и позднеаньятская культура Бирмы). Напротив, поздний
палеолит в Индии, как отмечалось выше, отличался и набором
орудий и техникой их изготовления от нижнего палеолита. Это можег
быть указанием на изменение хозяйства и всей материальной куль-
i58
Глава третья
туры, а не только каменного инвентаря при переходе от нижнего к
верхнему (позднему) палеолиту.
При смене его мезолитом каменная индустрия полуострова
Индостан опять-таки приобретает новый облик. Ее характерным
элементом становятся микролиты. Это скорее всего служит свидетельством
какого-то изменения в характере хозяйства, как это, например, имело
место в Европе или Америке, одновременно со сходным изменением
характера каменного инвентаря на рубеже верхнего палеолита и
мезолита.
Вместе с тем вероятно, что в связи с устойчивостью природной
среды в хозяйственно-культурном развитии палеолитических и
мезолитических обитателей Южной Азии отсутствовали такие резкие
кризисы, как, например, кризис, имевший место в конце верхнего
палеолита в приледниковой зоне Европы.
Наряду с другими открытым остается вопрос о том, каким было
-соотношение охоты и собирательства в верхнем палеолите и
мезолите Южной Азии.
В литературе высказывались общие соображения в пользу того,
что племена тропических лесов, больше зависят от растительной
пищи, чем обитатели открытых пространств. Такие соображения
нередко вступают в противоречие с фактическим материалом. Например,
яет оснований утверждать, что собирательство играло большую роль
в хозяйстве немногих племен тропических лесов Америки, не
занимавшихся земледелием (маку, ботокуды, до XVII в. некоторые
племена яноама и др.), чем у охотников и собирателей льяносов, т. е.
открытых пространств 92.
Возвращаясь к определению хозяйства мезолитических
обитателей Южной Азии, постараемся исходить только из фактов,
относящихся к этому региону и сопредельным областям Юго-Восточной
Азии.
В Индии в Лангнадже вместе с микролитами обнаружены кости
рыб, водных животных. Там же обнаружена керамика. Скорее всего
здесь, как и во многих других местонахождениях микролитов, смешан
мезолитический и неолитический материал. Поэтому о развитии у
мезолитических обитателей Индии рыболовства можно говорит^ лишь
предположительно.
В Шри-Ланка на стоянках с мезолитической индустрией
найдены кости оленей, кабанов, белок, осколки раковин моллюсков. По-
видимому, обитатели этих стоянок сочетали в своем хозяйстве охоту
с луком и стрелами, а вероятно, также с помощью ловушек и
собирательство (моллюсков, орехов, плодов).
В некоторых странах Юго-Восточной Азии (Кампучии, Лаосе, на
Филиппинах и т. д.) памятники эпохи позднего палеолита
неизвестны. Неясным остается культурно-историческое положение так
называемой сангирапской индустрии Явы и Сулавеси. Для нее
характерно сочетание грубых клектонских нижнепалеолитических отщепов и
удлиненных пластин, скребков, острий и сверл, одновременно напоми-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
159>
нающих мустьерскую и позднепалеолитическую технику Средней
Азии, Европы и Африки. По мнению П. И. Борисковского, сангиран-
ская культура может быть отнесена как к среднему, так и к
позднему палеолиту 93.
Древнейший позднепалеолитический памятник Юго-Восточиой:
Азии — пещера Ниа, расположенная на северо-западе Калимантана-
Здесь найден череп Homo sapiens ниже слоя с углем с датировкой
по Си в 41500±100 лет. В культурных слоях II и III фазы стоянки
найдены орудия, датируемые по абсолютной шкале от 41500 до
19570 лет тому назад. Это главным образом массивные гальки с
несколькими сколами. Многие из них напоминают олдовайские орудия
и, возможно, не были бы признаны изделием человеческих рук, если:
бы находились вне культурного слоя. Лишь в верхней части слоя III
фазы появляются отщепы, в том числе пластинчатые, и острия иу
кости.
Для мезолитических слоев Ниа (фаза IV) древнейшими датами:
являются 11030+280 и Ю110±300 лет назад. Выше мезолитических
слоев лежит ранненеолитический слой с датировкой 6000 лет назад.
Характерными орудиями мезолита и раннего неолита Ниа являются
отщепы, топоры «суматра», т. е. овальные округлые гальки, оббитые
грубыми сколами с одной стороны, и бакшонские топоры с подшли-
фованным лезвием.
Многослойная стоянка в пещере Ниа не стоит особняком среди:
позднепалеолитических, мезолитических и ранненеолитических
культур Юго-Восточной Азии.
Поздний (по датировке) палеолит Ниа напоминает древний
палеолит, а также верхнепалеолитическую позднеаньятскую культуру
Бирмы, а мезолит и неолит Ниа примыкает к широко распространенным
в Юго-Восточной Азии, в частности во Вьетнаме, мезолитической
хоабииьской и неолитической бакшонской культурам94. Типичная5
особенность их — отсутствие резких границ между различными
эпохами каменного века. Это нашло свое отражение даже в классифи-
-, кации одной из этих культур. В Бирме и нижне- и
верхнепалеолитическая культура называется аньятской с подразделением на ранне-
аньятскую (нижнепалеолитическую) и позднеаньятскую
(верхнепалеолитическую). Для аньятской культуры на всем ее протяжения
типичны орудия из кремнистого туфа, риолита (вулканическая
порода) и ископаемого дерева. Это ручные тесла, массивные рубящие-
орудия (чопперы, чоппинги) и клектонские отщепы.
Верхнепалеолитические позднеаньятские орудия отличаются от
раннеаньятских другими геологическими условиями залеганий,
меньшей патиной и меньшими размерами. Единственная новая форма
орудий, появляющаяся в позднем аньяте,— скребки. Ранний и
поздний аньят не только схожи между собой, но и типологически едины
внутри себя.
Лишь в неолите в Бирме появляются типичные элементы позд-
непалеолитического комплекса Ближнего Востока, Сибири, Америки
160
Глава третья
и некоторых других регионов, а именно — удлиненные пластинки и
призматические нуклеусы.
Сравнительно недавно, в конце 60-х годов, во Вьетнаме были
найдены первые памятники культуры верхнего палеолита. Это
памятники культуры шонви. В течение последующего десятилетия их
было открыто около 120. Подавляющая часть местонахождений верх-
пего палеолита сосредоточена в провинции Виньфу, но они
встречаются и во многих других провинциях Северного Вьетнама: Лайчау,
Шонла, Хабак и др. Большая часть памятников культуры шонви
залегает под открытым небом вблизи источников питьевой воды и в
местах, богатых материалом для изготовления орудий. Встречаются
стоянки людей шонви и в пещерах.
Свои орудия люди культуры шонви изготовляли главным образом
из крупных речных кварцевых и кварцитовых галек посредством
оббивки. Основными типами орудий были грубо обработанные чоп-
перы и скребла. Значительно реже галечных встречаются в слоях
шонви орудия из кости и раковин. В палеофауне стоянок шонвд
много раковин моллюсков, особенно брюхоногих, попадаются также
остатки крупных животных—юленей, носорогов и др. Судя по
палеофауне, люди шонви были собирателями и охотниками.
По радиоуглеродной датировке культура шонви существовала во
временном промежутке 33 тыс.— 11 тыс. лет назад. 11 тыс. лет назад
совершился переход от верхнеплейстоценовой верхнепалеолитической
культуры шонви к голоценовой, по геологической датировке, и
мезолитической, по археологической периодизации, хоабиньской
культуре, продолжавшей галечные традиции шонви. Самый поздний
памятник культуры шонви — пещера Хангпонг 1 с радиоуглеродной
датой 11330±180 лет, а самый ранний памятник хоабиньской
культуры—пещера Шунгшам с радиоуглеродной датой 11365 ±80. По
мнению исследователя культуры шонви Нгуен Кхак Ши, судя по
некоторым находкам, культура шонви, кроме Северного Вьетнама,
была распространена также на юге Китая и в Таиланде95.
Значительно полнее, чем верхнепалеолитические, в
Юго-Восточной Азии представлены мезолитические памятники хоабиньской
культуры. Хоабиньская культура была широко распространена не
только во Вьетнаме, но и в Лаосе, Таиланде, Южном Китае, на
полуострове Малакка, в Индонезии, главным образом на Суматре.
Влияние хоабиньской культуры явственно ощущается и в
Австралии в первую половину голоцена, ранее 5 тыс. лет назад.
Стоянки людей с хоабиньской культурой находят
преимущественно в пещерах. Видимо, ее носители заселяли прежде всего горные
районы Юго-Восточной Азии. В то же время стоянки хоабиньской
культуры обнаружены и на морских побережьях Вьетнама, Китая,
Малайзии и Индонезии.
В горных районах хоабиньцы устраивали свои стоянки в пещерах
вблизи источников воды — рек или ручьев. В большинстве хоабинь-
ских пещер (а их только во Вьетнаме найдено около 70) люди с не-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
161
большими перерывами жили годами, но некоторые пещеры были
использованы лишь для кратковременных остановок96.
Орудия хоабиньдев массивны. В основном они изготовлены из
речных галек, которые подверглись минимальной обработке. Они
могут быть подразделены на 8 основных типов, но это очень
условное деление, так как один тип переходит в другой. Наиболее часты
топоры и скребловидные орудия. Эти и другие орудия из галек были
предназначены для обработки дерева и бамбука.
Среди орудий хоабиньской культуры мало отщепов камня, мало
орудий из кости, совсем нет каменных или костяных наконечников
стрел и копий. Их заменяли щепки, острия, наконечники из
бамбука. Такое использование бамбука широко известно по
этнографическим данным. По твердости орудия из бамбука уступали орудиям
из камня и кости, но зато материал для них имелся в изобилии и
сделать орудия из бамбука, как показали экспериментальные
исследования, проще, чем из камня97. Очевидно, такие операции, как
резание, пиление, прокалывание, производились с помощью орудий из
бамбука, а также острых осколков раковин, а на долю каменных
орудий оставались более грубые операции, и прежде всего рубка
дерева и бамбука.
В палеофауне хоабиньских стоянок преобладают раковины
съедобных моллюсков. В некоторых пещерах наряду с речными найдены
и раковины морских моллюсков. В небольшом количестве
встречаются также раздробленные и обожженные кости грызунов, оленей,
кабанов, хищников и рыб. Немногочисленность костей животных
и, напротив, очень большое число раковин на стоянках позволили
П. И. Борисковскому сделать вывод, что, видимо, хоабиньцы «были
не столько охотниками, сколько собирателями» 98.
В пищу также употреблялись съедобные плоды, коренья и т. п.
Наличие же морских раковин может служить указанием на то, что
временами обитатели ближайших к морю пещер спускались с гор
и посещали морские побережья. Те же, кто постоянно жил здесь,
сочетали в своем хозяйстве сбор морских моллюсков с рыболовством
на прибрежном шельфе и охотой на дюгоней, черепах, свиней,
оленей.
Хоабиньская культура существует до VII тыс. до н. э. В
некоторых районах она сохраняется до 3 тыс. лет до н. э. В Северном
Вьетнаме хоабинь постепенно, без резких граней, переходит в ранненео-
литическую бакшонскую культуру, одними из особенностей которой
являются топоры с подшлифованным лезвием, бакшонский знак, т. е.
удлиненные гальки с парными параллельными узкими желобками
не вполне ясного назначения, и шнуровая керамика. Судя по
палеофауне бакшонских пещерных стоянок, их обитатели, как и
хоабиньцы, занимались сбором съедобных .моллюсков больше, чем охотой.
Λ на побережьях в это же время складывается неолитическая
культура создателей раковинных куч.
В целом материальная культура верхнего палеолита, мезолита и
6 История первобытного общества
162
Глава третья
раннего неолита Юго-Восточной Азии выглядит более грубой и
бедной по сравнению, например, с культурой соответствующих эпох
Европы. Каменные орудия Юго-Восточной Азии массивны, грубо
отделаны, отсутствуют многие типы орудий из камня и кости
(наконечники, проколки и т. д.), нет долговременных искусственных
жилищ.
Все это не может считаться свидетельством отставания культур
каменного века Юго-Восточной Азии от синхронных культур других
регионов. Массивность орудий — результат приспособления к
условиям тропического леса, постоянной потребности рубить деревья;
орудия для тонких работ и наконечники отсутствуют, так как они
изготовлялись из бамбука и не сохранились; долговременные
постройки не были необходимы в условиях тропиков и при обилии
пещер и гротов.
Вместе с тем именно в Юго-Восточной Азии обнаружен
древнейший череп Homo sapiens. Видимо, здесь был один из самых ранних,
если не самый ранний, очаг сапиентации. А переход от
неандертальцев к неоантропам неизбежно сопровождался увеличением
творческих возможностей, способности создавать культурные ценности.
Юго-Восточная Азия далекого прошлого — не только ранний очаг
сапиентации, но и, возможно, область раннего зарождения
земледелия. В 60-х годах XX в. Ч. Горманом в нижнем IV слое пещеры
Духов на северо-западе Таиланда, датируемом радиокарбоном 9180 ±
±360 лет назад, была найдена стоянка с типичными хоабиньскими
орудиями и остатками собранных людьми диких растений: t)o6oB,
гороха, миндаля, бетеля и некоторых других". Вероятно, в пещере
Духов жила круглый год какая-то группа охотников и собирателей,
потомки которых позже могли начать выращивать растения.
Сходство верхнего палеолита с нижним, примитивный облик
мезолитического каменного инвентаря в Юго-Восточной \Азии было бы
ошибочно трактовать как свидетельства замедленного развития
культуры в этом регионе в каменном веке.
Восточна^ Азия. Имеющиеся в литературе сведения о палеолите
и мезолите Китая очень ограничены. В целом в палеолите и
мезолите Северный Китай был близок к Сибири, а Южный Китай
тяготел к Юго-Восточной Азии. Датировка местонахождения
палеолита и мезолита в Южном Китае часто неясна. В пяти пещерах Гуан-
си-Чжуанского района найдены каменные орудия из расколотых и
оббитых галек. В провинции Юньнань собраны отщепы клектонского
типа, плохо оббитые скребла, скребок. В провинции Гуйчжоу
найдены орудия палеолитического облика вместе с костями ископаемых
животных. Возраст этих орудий в пределах палеолита неясен. В
провинции Гуандун открыты две стоянки с каменными орудиями,
относящимися к палеолиту или мезолиту.
П. И. Борисковский считает преждевременным делать
определенные выводы о возрасте этих местонахождений древнекаменного века.
Такую же осторожность проявляют в оценке возраста этих местона-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
163
хождений и другие советские и зарубежные специалисты 10°.
Поэтому мы можем только присоединиться к мнению П. И. Борисковского,
что сведения о палеолите Южного Китая «очень скудны и
отрывочны, не дают возможности составить сколько-нибудь целостное
представление о древнейшей истории этой обширной страны» 101.
В мезолите Южный Китай (южнее р. Янцзы) входил в ареал
распространения хоабиньской культуры. Мы не станем повторять
здесь характеристику этой культуры, которая дается в разделе о
Южной и Юго-Восточной Азии, заметим лишь, что хоабиньцы
Южного Китая, как и хоабиньцы Индокитая, были прежде всего
собирателями (моллюсков и т. д.). Охота и рыболовство, по-видимому,
имели для них меньшее значение 102.
В Северном и Центральном Китае люди жили непрерывно
начиная с нижнего палеолита. Но более поздние культуры не имеют
четкой датировки, и часто неясно, оставлены ли они людьми конца
мустье или начала верхнего палеолита, прогрессивными
палеоантропами или неоантропами. Одним из наиболее известных памятников
Северного Китая, относимых к верхнему палеолиту и сугубо
предположительно датируемых временем 25—30 тыс. лет назад, является
Верхняя пещера в Чжоукоудяне. Найденные орудия в основном
сделаны из кварцита и кремня и типологически близки к изделиям
из нижнепалеолитического местонахождения 1 Чжоукоудянь:
галечные рубящие инструменты, ретушированные отщепы, массивные
пластины103.
Значительное число стоянок, синхронных европейскому позднему
мустье и верхнему палеолиту, исследовано в Ордосе, датировка их
неясна. Одни исследователи (Пэй Вэньчжун, У Жукан) датируют
их нижним палеолитом, другие (Э. Лиссан, Чжан-Гуанчжи) —
концом среднего — началом верхнего палеолита. А. П. Деревянко
относит эти памятники к первой половине верхнего плейстоцена и
полагает, что они были оставлены человеком современного физического
типа.
Один из наиболее известных памятников Ордоса — поселение
Шароосогал. Найденные здесь орудия имеют небольшие размеры.
Это микроскребки, микроострия, проколки, резцы, орудия из
кости 104. Остатки палеофауны, найденной в Верхней пещере Чжоукоу-
дяня,— дикая свинья, олень, слон — дают некоторое представление
о том, на кого охотились поздние палеоантропы и ранние
неоантропы Ордоса.
Конец позднего палеолита и мезолит Северного Китая,
Маньчжурии, Внутренней Монголии, Синцзяна изучены очень слабо и трудно
отделимы как друг от друга, так и от неолита. Здесь обнаружено
небольшое число стоянок и местонахождений с микролитической
индустрией, а в неолите (но, видимо, не с его начала) появляется
керамика.
Населепие было редким, устраивало свои стоянки у источников
воды, а пропитание добывало охотой и собирательством в степях и
6*
164
Глава третья
полупустынях, составлявших тогда типичный ландшафт Северного
Китая.
Япония. В Японии в эпоху вюрма (висконсинского оледенения)
основные острова были соединены не только друг с другом, но и
с Азией через Сахалин, тогда составлявший часть этого континента.
Как нередко выражаются зарубежные археологи, Япония
образовывала в это время тупик или «аппендикс» Азии, куда неоднократно
переселялись люди, так как Япония, по-видимому, была связана с
материком до конца плейстоцена.
Люди впервые появились в Японии в позднеашельское или мусть-
ерское время (стоянка Содзюбай на о-ве Кюсю). А с верхнего
палеолита, примерно 20 тыс. лет назад, в Японии фиксируется
археологами последовательный ряд верхнепалеолитических и
мезолитических культур охотников и собирателей 105.
Особенно много верхнепалеолитических стоянок на Хоккайдо.
Это прежде всего стоянки Сиратаки с датировкой от 20 до 10 тыс.
лет назад. На наиболее ранних стоянках этой группы один из
характерных типов орудий — резцы. Позднее появляются двусторонне
обработанные черешковидные и ромбовидные наконечники стрел
(12—11 тыс. лет назад), микронуклеусы и микролезвия и т. д.106
Очень рано, около 13 тыс. лет назад, т. е. в конце верхнего
плейстоцена, многие группы древних жителей Японии селятся на морских
берегах и берегах озер, и основными источниками питания, этих
людей становятся съедобные моллюски, а также рыба. Наряду с этим
продолжает вестись охота на оленей и диких свиней. Жили эти
собиратели, рыболовы и охотники в круглых полуподземных жилищах,
имевших в центре один очаг.
Эта с самого возникновения мезолитическая по облику культура
(хотя она и сложилась не в голоцене, а еще в конце верхнего
плейстоцена) получила у японских археологов название Дземон. Дземон
прошел в своем развитии несколько этапов, но большую часть своей
истории люди дземона были оседлыми приморскими собирателями,
рыболовами и охотниками. В конце этой культуры возникает
земледелие. Значительно раньше появляется керамика 107.
До настоящего времени остается дискуссионным вопрос, в какой
степени развитие культур каменного века Японии было обязана
внешним влияниям, а в какой совершалось на местной основе.
Преобладающей является идея о большем значении внешнего влияния.
Ее развивают в своих исследованиях А. П. Окладников и Р. С.
Васильевский 108. Они обращают внимание на наличие на стоянке Хе-
ре-Уул в Монголии таких характерных элементов, как гобийские
нуклеусы, резцы верхоленского типа (они же резцы типа Арая), лы-
жевидные и краевые сколы, скребловидные орудия с
полулунно-выпуклым рабочим краем и некоторые другие, представленные в
разных сочетаниях на стоянках верхнего палеолита и мезолита Японии,
а также в Приморье, на Сахалине и Камчатке. Из этого А. П.
Окладников, а вслед за ним Р. С. Васильевский делают вывод, что «Во-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 165
сточная Монголия была тем центром, откуда шли культурные
импульсы на север и восток», и именно под влиянием этих импульсов
из Внутренней Азии «складываются и развиваются палеолитические
и мезолитические культуры Японских островов и Советского
Дальнего Востока» 109.
В отличие от А. П. Окладникова и Р. С. Васильевского В. Е.
Ларичев придает материковому влиянию меньшее значение и особенно
подчеркивает преемственность палеолита и мезолита Японии, в
частности местные истоки мезолитической техники микропластин110.
Несмотря на эти разногласия, пожалуй, все исследователи согласны,
что в конце палеолита и мезолита Дальний Восток, Япония, Аляска
и Алеутские острова образовывали единую культурную область.
Это, конечно, не исключало наличия локальных различий, которые
постепенно возрастали.
Дальний Восток. Хотя в Северном Китае палеолитическая
культура и развивалась в течение очень длительного времени, но, как
показали исследования советских археологов, она не была той
основой, на которой выросли позднейшие культуры Советского Дальнего
Востока — Приамурья и Приморья. Между средне- и
верхнепалеолитическими памятниками Северного Китая и памятниками
каменного века Дальнего Востока мало общего. В последних начиная с
самых ранних из них (Кумары II, Тамбовка, Осиновка 1)
сосуществуют леваллуазская и древняя галечная техника, что отличает
древние комплексы этой территории от северокитайских. Зато наличие
двух традиций, галечной и леваллуазской, роднит Приамурье и
Приморье с Монголией, указывая на последнюю как на область, откуда
шло заселение Дальнего Востока111. Культурные влияния из этой
области распространялись на обширную территорию к северу и
востоку от Монголии, включая, в частности, Японию и Алеутские
острова.
Конечно, в отдельных частях того ареала, на который
распространялось влияние культур каменного века Монголии, имелось
локальное своеобразие. В Приамурье и Приморье климат был
несравненно мягче, чем в Сибири и на Северо-Востоке Азии, и это
наложило отпечаток на жизнь обитателей юга Дальнего Востока,
придало их культуре облик, напоминающий древние культуры верхнего
плейстоцена и голоцена Юго-Восточной Азии 112.
Один из самых важных археологических памятников южной части
Советского Дальнего Востока — многослойное поселение Осиновка
возле г. Уссурийска113. Его нижний горизонт относится к началу
верхнего или даже к концу среднего палеолита, имея возраст 30—
40 тыс. лет. Выше следуют культурные горизонты, относящиеся
соответственно к концу верхнего палеолита, неолиту и раннему
железному веку. Верхнепалеолитические обитатели Осиновки сочетали в
своем хозяйстве охоту на мелких животных и собирательство.
Долговременных жилищ они не строили, а довольствовались шалашами,
остатки которых не сохранились. Наиболее распространенным видом
166
Глава третья
орудий у этих людей были галечные — чопперы. Наряду с ними
найдены и леваллуазские нуклеусы.
Сочетание традиций галечных и пластинчатых (леваллуазских)
орудий сохраняется и в мезолите Дальнего Востока, доживая до
неолита. В неолите в Приамурье и Приморье складывается
высокоэффективное рыболовное хозяйство (лов рыбы, идущей на нерест) и на
его основе совершается переход местного населения к оседлости.
Сибирь. Пока неизвестно, как давно и насколько широко заселял
человек Сибирь. Отдельные местонахождения, такие, как Усть-Кан-
ская пещера на Алтае с примитивными галечными орудиями, может
быть, относятся к нижнему палеолиту, но это и ему подобные
местонахождения не имеют надежной датировки. Что же касается
облика найденных орудий, то, как известно, изделия архаичных, в
частности мустьерских, форм «живут» в Сибири долго (на Енисее до
начала неолита).
Остальные местонахождения Сибири, «связанные с ископаемой
фауной и определенными геоморфологическими условиями — с
отложениями рек и древними речными террасами, являются
относительно молодыми, верхнепалеолитическими по возрасту» 114. Люди,
жившие в эту эпоху в Сибири, были первоначально полуоседлыми,
а с конца верхнего палеолита вели подвижный образ жизни.
В Сибири из поселений ранней поры верхнего палеолита
наиболее сохранившимися являются Мальта на левом, берегу р. Белой и
Буреть на правом берегу Ангары. Эти поселения находятся в 7—
8 км одно от другого. В них жили люди с единой культурой.
М. М. Герасимов определил ее как сибирский вариант ориньяка.
Позднее, развивая этот вывод, А. П. Окладников пришел к
заключению о наличии генетической связи между культурой,
представленной на поселениях Мальта и Буреть, и ориньяком Европы115.
В более новых работах высказывались различные
предположения о причинах близости многих элементов культуры Мальты и
Бурети европейскому палеолиту, но сам этот факт обычно не
подвергается сомнению. Бесспорно и то, что на более позднем этапе
культура населения Сибири, представленная стоянками типа Афон-
товой горы или Кокорева, приобретает значительное число черт,
отличающих ее от культуры поздней а леолитического населения
Европы И6.
Как и охотники приледниковой зоны Европы, обитатели
Мальты и Бурети строили поселки с постоянными зимними жилищами.
Каркас этих жилищ в Бурети был составлен из костей мамонта,
служивших опорными столбами для стен и крыш, и «сетки» из
рогов северного оленя. Основание жилищ иногда было заглублено
в землю до 1 м 117.
В Мальте Μ. Μ. Герасимовым были раскопаны стационарные
жилища нескольких типов. Наиболее распространенными были
полуземлянки, сходные с полуземлянками Бурети и имевшие пол,
заглубленный в землю на 50—70 см. Фундамент жилищ в Мальте
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 167
делался из костей, стены — из крупных костей мамонта, в которых
имелись углубления для деревянных шестов, образовывавших остов
крыши, крытой шкурами. Но одно из исследованных жилищ было
наземным. В основании его было кольцо из поставленных на ребро
массивных плит известняка, а каркас стен составляли, как и в Бу-
рети, рога оленей. На этот каркас накладывались шкуры
животных 118.
В целом площадь поселка Мальта превышала 1100 кв. м. На этой
территории было раскопано 15 жилищ, вытянутых вдоль реки. В
центре селения находилось большое сооружение длиной 14 м и шириной
4—5 м. Возможно, оно служило общественным и культовым
помещением жившей в Мальте общины. Остальные раскопанные жилища
были меньше по размерам, чем центральная постройка. Они
различались между собой и по площади, и по форме. Среди них было и
идеально круглое в плане жилище диаметром 5 м, и удлиненное
8X6 м. Все эти строения образовывали 3 группы: из 6, 4 и еще
4 жилищ. В связи с тем что ни одно из раскопанных жилищ не
перекрывало другое, вероятно, основная масса, если не все жилища
Мальты, существовали одновременно. В таком случае Мальта, как
отмечает А. А. Формозов,— самое большое по числу стационарных
жилищ поселение палеолитического мира 119.
Жилища отапливались и освещались очагами, часто
располагавшимися в центре пола. На них же готовили пищу. Для защиты от
холода обитатели Мальты и Бурети пользовались сшитой из меха
глухой одеждой типа комбинезона. Древнейшие в мире изображения
одежды есть на женских статуэтках, найденных в Мальте и Бурети.
В отличие от них на верхнепалеолитических статуэтках Европы
изображены только перевязи, браслеты, пояски 120.
Как подчеркивает в нескольких своих работах А. П. Окладников,
и жилище и одежда обитателей Мальты и Бурети, с одной стороны,
и эскимосов XVII—XIX вв.—с другой, «были удивительно
сходны» ш. Это сходство проявлялось не только в общей конструкции
жилища (полуземлянка с каркасом из костей, с узким тунелеобраз-
ным выходом) и типе одежды (глухой комбинезон с капюшоном),
но и в деталях, в частности в деталях покроя одежды. Так, одежда
на одной из статуэток Бурети имеет хвосты спереди и сзади, что
напоминает соответствующие детали мехового костюма у многих групп
эскимосов.
В поселениях Мальта и Буреть найдено значительное число
каменных орудий. Многие из них схожи с орудиями
западноевропейского ориньяка, а также перигордьена. Это высокие нуклевидные
скребки, пластины с боковыми выемками, пластинчатые острия типа
шательперрон и т. д. Совпадают памятники Мальты и Бурети с
поздним оринъяком и перигордьен*ом Западной Европы и по возрасту,
датируясь временем не позднее чем 24500 лет назад. Кроме изделий
западноевропейского облика, в каменном инвентаре Мальты и
Бурети присутствуют массивные и архаичные галечные орудия (чоппе-
168
Глава третья
ры), типичные для верхнего палеолита Монголии, а в более
отдаленном прошлом широко распространенные на юге Азии.
Видимо, сходство культуры Мальты и Бурети, с одной стороны,
с культурой эскимосов, а с другой — с верхнепалеолитическими
памятниками Западной Европы отражает влияние сходной природной
среды конца ледниковой эпохи в Европе, арктической природы
Чукотки и Американского Севера.
В Сибири больше не найдено таких выразительных памятников
раннего периода палеолита, как Мальта и Буреть. Следующим по
времени за ними является стоянка у Военного госпиталя в Иркутске.
Ее обитатели, судя по найденным на стоянке остаткам фауньь,
охотились на вымерший позднее вид бизонов, лошадь, северного оленя
и т. д. В каменном инвентаре стоянки сочетаются грубые орудия
(чопперы, «кремневые отбивные наконечники») и листовидные дву-
сторонне обработанное клинки, напоминающие солютрейские
наконечники и ножи Западной и Восточной Европы (Костенки). На
стоянке у Военного госпиталя было также найдено большое количество
художественных изделий из кости (бивней мамонта, клыков марала).
Но в отличие от резных изделий' Бурети и Мальты здесь нет
реалистических изображений людей и животных.
В конце верхнего плейстоцена в Сибири происходит потепление
климата, вымирают, а отчасти истребляются людьми мамонты и
носороги, и начинаются коренные изменения в жизни первобытных
охотников, продолжавшиеся и в послеледниковое время в голоцене.
Численность населения Сибири возрастает. Если для
предшествующего времени известно лишь несколько поселений, то ближе к
концу верхнего палеолита человек заселяет южное течение многих
сибирских рек — Енисея, Ангары, Селенги, Амура, продвигается на
восток и юг в глубь степей и нагорий Центральной Азии.
Найденные поселения этого периода насчитываются не
единицами, а десятками (поселения афонтовской и кокоревской культур на
Енисее, Верхоленская гора на Ангаре, Няньги на Селенге,
Макарове, Мархачан на Лене и многие другие). Датировка даже наиболее
исследованных из них, таких, как изученные 3. А. Абрамовой
поселения Таштык I и II, Кокорево I, II, III, остается не вполне
ясной, так как имеющиеся абсолютные даты по радиокарбону плохо
согласуются с определениями возраста культурных слоев,
полученными другими методами. 3. А. Абрамова полагает, что наиболее
ранние из изученных ею местонахождений — нижний слой Афон-
товой горы II, Кокорево II —не древнее 16—17 тыс. лет и
соответствуют заключительному этапу гыданской стадии похолодания. Лишь
в Кокорево II представлены в значительных количествах кости
мамонта. В более поздних стоянках Кокорево I и III, Новоселове VI
и VII, относящихся, по-видимому, к концу верхнего палеолита,
олень северный составлял подавляющую часть охотничьей добычи.
Обитатели этих стоянок, видимо, были специализированными
охотниками на северного оленя.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 169
Ни на одном из поселений не обнаружено остатков стационарных
жилищ, подобных известным для ряда европейских
верхнепалеолитических стоянок и Мальты и Бурети в Сибири. Стоянки людей ко-
коревской и афонтовской культур и другие вышеназванные
представляли собой временные стойбища, лагери охотников на северных
оленей, лошадей, антилоп, передвигавшихся вслед за стадами этих
животных. От жилищ (вероятно, это были чумы) сохранились
только очаги в виде кольцевидных выкладок из камней. Наряду с
поселениями, но вне связи с ними устраивали клады-хранилища ценных
вещей (заготовок для орудий и т. п.), которые было затруднительно
носить с собой из одного временного лагеря в другой 122.
Меняются орудия труда. Они становятся более грубыми. Если в
Мальте и Бурети с дисковидных и близких к призматическим
нуклеусов снимались тонкие пластины и из них изготовляли различные
орудия, то в конце верхнего палеолита Сибири, как выражается
А. П. Окладников, «все не только начинается, но по сути и
кончается простой галькой... Задача мастера как бы сводится к тому,
чтобы использовать гальку с наименьшей затратой усилий на ее
переоформление» 123. Вместе с галечными орудиями характерными
изделиями конца позднего палеолита Сибири являются костяные
наконечники копий и ножи с кремневыми вкладышами, а также
наконечники гарпунов.
Хозяйство становится более разнообразным: возникает
рыболовство, получает распространение охота на птиц. Эта культура конца
палеолита постепенно, без резких скачков развивается в неолит.
Гранью между палеолитом и неолитом считаются лук и стрелы, а
также шлифованные орудия, древнейшие образцы которых найдены
в мезолитических захоронениях в падях Частой и Хиньской. Вместе
с техникой охоты развивается техника рыболовства. Гарпуны мад-
ленского, по западноевропейским масштабам, времени дополняются
снастью с крючками, рыболовными ловушками, сетями.
Многие элементы хозяйства и культуры неолитических
насельников Сибири (техника охоты и рыбной ловли, жилища, одежда и
т. д.) пережиточно сохранились у племен сибирской тайги и тундры
до присоединения к России, а местами и позднее, едва ли не до
конца XIX в. Поэтому знакомство с дореволюционной традиционной
культурой малых народов Сибирского Севера и Дальнего Востока
(нганасан, тунгусов, кетов, негидальцев) существенно помогает
реконструировать хозяйство, материальную культуру, общественный
строй тех людей, которые осваивали этот регион тысячи лет тому
назад.
На северо-востоке Азии — в Якутии, на Чукотке, Камчатке —
древнейшей верхнепалеолитической культурой с четкой
стратиграфией и абсолютной датировкой является ранняя ушковская
культура (VII слой стоянок Ушки, датированный радиоуглеродным
методом 14300 ±200 лет назад) 124. ■
170
Глава третья
Правда, Ю. А. Мочанов уже много лет развивает мысль, что
древнейшей верхнепалеолитической культурой на востоке Сибири, а
именно в бассейне Лены и к востоку от нее, была дюктайская.
Ю. А. Мочанов датирует ее 35—10,5 тыс. лет назад и приписывает
ей широкое распространение в ареале к востоку от Лены и к
северу от Амура, а возможно, и в Америке 125. Однако многие геологи
и археологи (С. М. Цейтлин, 3. А. Абрамова, А. П. Деревянко,
Η. Η. Диков) доказывают, что возраст этой культуры очень
завышен, а ее протяженность во времени и пространстве необоснованно
преувеличены. Эти исследователи полагают, что дюктайская культу-,
ра является локальной культурой, существовавшей в бассейне р.
Алдан скорее всего 14—10 тыс. лет назад 126.
Учитывая неопределенность в вопросах возраста и
географического распространения дюктайской культуры, спорность критериев ее
выделения и, наконец, ее, по-видимому, локальный характер, мы не
будем пользоваться материалами о стоянках людей этой культуры
при характеристике верхнего палеолита Северо-Восточной Азии, а
будем опираться на наиболее выразительный памятник — Ушки. Это
многослойные стоянки на Ушковском озере на Камчатке. Озеро
очень богато рыбой и не замерзает. По-видимому, таким оно было
и тогда, когда здесь жили древние люди. Нижний, VII слой Ушки I
относится к концу верхнего плейстоцена (финальной фазе сартан-
ского оледенения), а археологически — к концу верхнего палеолита.
Люди, оставившие VII слой, вели комплексное хозяйство, сочетая
рыболовство с охотой на северных оленей, лошадей, бизонов, лосей
и, возможно, также на мамонтов. Видимо, даже древнейшие
обитатели стоянки Ушки I имели луки и стрелы и вели охоту с их
помощью. Найденные в VII слое наконечники невелики, они годились
для стрел, но не для копий и дротиков. В числе других изделий
были обнаружены продолговатые скребки с прямым лезвием,
концевые скребки, пластинчатые отщепы леваллуазского типа,
микропластинки, а также украшения — каменные шлифованные подвески
и бусы.
Исходя из сходства наконечников из VII слоя стоянки Ушки I
с наконечниками из пещер Фелл и Палли Айк в Южной Патагонии,
Η. Η. Диков высказывает предположение о возможности
распространения ушковской палеолитической культуры или ее влияния
вплоть до южной оконечности Америки127. У нас такое
предположение вызывает большие сомнения. Во-первых, встает вопрос, не
слишком ли быстро прошли палеолитические обитатели Камчатки
путь оттуда через Берингийскую сушу, Северную, Центральную и
Южную Америку, на крайнем юге которой они появились не
позднее чем 11 тыс. лет назад. А во-вторых, вряд ли выходцы с
Камчатки, проходя через многие и различные природные зоны, могли
сохранить в неизменном виде свою охотничью технику. Но наш
скептицизм не распространяется на поиски тождественных культур по
обе стороны Берингова пролива, так как в конце плейстоцена Аляска
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 171
благодаря наличию Берингийской суши была частью или, по
выражению Д. Дюмонда, отростком Азии.
Что касается наличия сходных элементов техники в более
южных областях Америки и в Северной Азии, то при современном
уровне изученности их осторожнее рассматривать как результат
сходной адаптации к экологическим изменениям конца верхнего
плейстоцена и начала голоцена, следствием независимого
возникновения на отдаленных друг от друга территориях наиболее
рациональных форм орудий.
Нижние слои стоянки Ушки много* дают для познания образа
жизни людей на Северо-Востоке Азии в конце верхнего палеолита.
Так, здесь в VII слое найдены остатки наземных жилищ. По
реконструкции Η. Η. Дикова, это были сдвоенные шалаши (чумы) с
каркасом, вероятно, из деревянных жердей, крытых шкурами
животных. Пристроенные друг к другу, они образовывали единое жилое
пространство площадью свыше 100 кв. м. В каждом из них было
3—4 очага. Судя по большим скоплениям костей и угля в
кострищах (в пределах одного слоя), это были долговременные
жилища 128.
К самому концу палеолита относится культура, отраженная в
V—VI слоях Ушки I, Ушки II и IV. Радиоуглеродным методом ее
возраст определен в И тыс. лет. Каменный инвентарь этой
культуры резко отличается от инвентаря VII слоя Ушков. Для V—VI
слоев характерны не встречающиеся в VII слое клиновидные
нуклеусы, сколотые с них ножевидные пластинки и лыжеподобные
сколы, наконечники стрел листовидной формы, ножи, обработанные
двусторонней отжщщой ретушью, и т. д.
Меняются и жилища. На смену сдвоенным шалашам нижнего
слоя Ушков приходят несколько типов жилищ. Большие, но уже
несдвоенные, а значит, с меньшей общей площадью шалаши с
несколькими очагами чередуются с небольшими шалашами с очагами
с каменной выкладкой, отсутствующей в очагах больших шалашей,
а также с небольшими полуземлянками 129. И каждое жилище, а их
вскрыто больше 20, чем-нибудь отличается от других.
В очагах много перегоревших косточек лососевых и других рыб,
что указывает на возросшую роль рыболовства. Углистые прослойки
в кострищах разделены стерильными слоями песка. Следовательно,
поселения из постоянных стали сезонными.
Думается, что Η. Η. Диков прав в своем предположении, что
уменьшение размеров жилищ V—VI слоя Ушков отражает кризис
хозяйства обитателей приледниковой зоны Евразии, и в том числе
Северо-Востока Азии, в связи с вымиранием крупных
толстокожих 13°.
Вероятно, уменьшение размеров жилищ в поселениях в Ушках
свидетельствует об изменениях в социальной организации в связи
с кризисом хозяйства, о тенденциях к дифференциации материнской
родовой общины, к выделению внутри ее «семейных и в какой-то
172
Глава третья
мере, вероятно, производственных ячеек, объединенных небольшим
общим жильем» ш.
Нам также кажется, что разнообразие типов жилищ, вскрытых
в V—VI слоях Ушковских стоянок, свидетельствует о смешении
здесь в это время нескольких этнических традиций, этнической
неоднородности населения Ушков в эту эпоху. Но, может быть,
неодинаковость типов жилищ просто результат переломного характера
эпохи конца плейстоцена, результат еще незавершившихся поисков
нового типа жилища, наиболее пригодного к изменившимся
природным условиям, к изменившемуся образу жизни людей.
Η. Η. Диков считает, что культуры VII и V—VI слоев были
оставлены разными этносами: VII слой — предками палеоиндейцев,
V—VI слои — протоэскимосо-алеутами 132. ~
С наступлением голоцена климат Северо-Восточной Азии
заметно теплеет. Сухая тундро-степь сменяется болотистой тундрой.
Из многих стадных травоядных верхнего плейстоцена к середине
голоцена сохраняется только северный олень. На побережье
возникают благоприятные условия для морской охоты, и по обе стороны
Берингова пролива и Берингова м^оря у предков алеутов, эскимосов,
коряков складывается морской зверобойный промысел с оседлым
образом жизни прибрежного населения.
Во внутренних районах Северо-Восточной Азии (в бассейне
Колымы) с конечного этапа палеолита до неолита (15—6 тыс. лет
назад) существовала сибердиковская культура охотников на
лошадей и северных оленей. И весь этот период не наблюдалось резких
изменений в технике обработки камня. Инвентарь стоянок Сибер-
дик, Конго сочетал грубые галечные орудия с пластинчатыми. Даже
в раннем голоцене эта культура относится к реликтовому
палеолиту 133.
В целом с мезолита и неолита начинается и постепенно
нарастает отставание северо-востока от юга Сибири. Развивающееся на юге
производящее хозяйство значительно сокращает стимулы для
переселения на, север. Уменьшаются и культурные контакты
северо-востока с югом 134.
Америка, Верхний палеолит Северной Америки прошел в своем
развитии несколько этапов, которые обычно подразделяются
археологами на стадию ударной ретуши, или до наконечников, и стадию
наконечников, в свою очередь делящуюся на ранний период,
представленный прежде всего культурой сандиа, период расцвета
верхнего палеолита (культура кловис и некоторые типологически
родственные ей локальные культуры) и финальный этап верхнего
палеолита Северной Америки, наиболее характерной для которого
является культура фолсом.
Развитие культур Американского крайнего севера на протяжении
почти всего верхнего палеолита протекало обособленно от
отделенных от этой области ледниковым щитом более южных частей
Американского континента.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
173
Что касается Южной Америки, то ее палеолит изучен
значительно хуже, чем палеолит Северной Америки. Сказанное относится
также к мезолиту.
Древнейшим этапом палеолита Северной Америки является
стадия до наконечников, называемая иногда также стадией ударной
ретуши. Эти назвдния вызваны отсутствием в каменной индустрии
этой стадии наконечников метательных орудий — копий и дротиков
и распространенной в это время техникой обработки каменных
орудий посредством ударной, а не отжимной ретуши, преобладающей
уже на ранних этапах верхнего палеолита Европы.
На наиболее ранней стоянке стадии до наконечников — Луисвилл
(38 тыс. лет назад по радиокарбону) найдено более 20 очагов,
вокруг которых концентрировались археологические и фаунистические
остатки. Эти очаги существовали не одновременно, а относились к
нескольким культурным слоям. В одном из них — втором —
обнаружено 13 одновременных очагов, что указывает на довольно
большую численность занимавшей это поселение группы людей.
Небольшое число найденных в каждом слое орудий свидетельствует о
сезонном, кратковременном характере ее обитания людьми, а
разнообразие видов животных, представленных в палеофауне стоянки,
может рассматриваться как доказательство отсутствия
специализации в охотничьем промысле. Видимо, Луисвилл был временным
лагерем неспециализированных бродячих охотников и собирателей.
Обитатели другой стоянки стадии до наконечников — Тьюл
Спрингс в Неваде охотились главным образом на верблюдов, а
также на лошадей, бизонов, земляных ленивцев.
Люди стадии до наконечников селились не только в открытых
лагерях, но и в пещерах. Об этом свидетельствует стоянка,
обнаруженная в пещере Фризенхан к юго-западу от Луисвилла.
Известны и другие стоянки, относящиеся к той же стадии. Это
Американ Фоллз в Айдахо (возраст более 30 тыс. лет), стоянки на
острове Санта-Роса в Калифорнии (возраст около 30 тыс. лет) и др.
Индустрия всех этих стоянок характеризуется большим архаизмом,
напоминая нижнепалеолитическую технику Европы и Африки135.
Орудия часто изготовлялись из речных галек, не было
призматических нуклеусов, сменивших в верхнем палеолите Европы мусть-
ерские дисковидные ядрища; отщепы, снимавшиеся с бесформенных
желваков, имели неправильную форму. Набор инструментов был не
особенно велик и включал чопперы, чоппинги, примитивные
скребла и отбойники из кварцита, напоминавшие палеолитические орудия
Центральной и Восточной Азии. Среди орудий были также
своеобразные скребки типа «черепашья спинка», острия-проколки, ножи.
Последние два типа орудий изготовлялись из кремня, были тонкими
и изящными и этим контрастировали с грубыми орудиями других
вышеназванных типов. Как известно, сочетание грубых и изящных
орудий — одна из характернейших черт палеолита не только
Северной Америки, но также Центральной и Северной Азии.
174
Глава третья
Остатки фауны и флоры, обнаруженные на стоянках стадии до
наконечников, особенно в Луисвилле, свидетельствуют о
комплексном охотиичье-собирательском хозяйстве жителей Северной
Америки в эту эпоху. На стоянках найдены не только многочисленные
остатки крупных животных: мамонтов, верблюдов, лошадей, оленей,
бизонов, медведей. В изобилии попадаются обуглившиеся косточки
мелких животных: зайцев, кротов, мышей, крыс, а также черепах
(на последние приходится 50% всех найденных костей). В очагах
обнаружено много раковин улиток, скорлупы яиц птиц, косточек
вишни и т. п.
Учитывая все это, можно согласиться с выводом И. П. Ларичевой
о большой роли собирательства в хозяйстве древнейшего населения
североамериканского континента при сохранении ведущей роли
охоты на крупных животных 136.
Эти люди вели подвижный образ жизни, передвигаясь за стадами
мигрирующих животных. На наш взгляд, некоторые передвижения
могли быть связаны и с сезонами изобилия определенных видов
растительной пищи в том или другом месте. Луисвилл является
одним из самых выразительных памятников высокого развития
собирательства на заре верхнего палеолита, но, конечно, только в случае,
если большая древность этой стоянки подтвердится 137.
Свыше 25 тыс. лет назад в южной половине североамериканского
континента появляются и быстро становятся господствующей и
наиболее характерной формой орудий метательные наконечники,
τ е. наконечники копий и дротиков овальной и лавролистной
формы. Соответственно вторая стадия развития верхнего палеолита
Северной Америки получает название стадии наконечников. Эта
стадия подразделяется на 3 периода: сандиа (26—18 тыс. лет назад),
кловис (17—13 тыс. лет назад) и фолсом (12—10 тыс. лет назад).
Каменная индустрия всех этих периодов генетически связана между
собой и, видимо, представляет этапы последовательного развития
одних и тех же в своей основе производственных традиций.
Начало культур стадии наконечников совпадает со
значительными изменениями природных условий в Северной Америке. Фарм-
дейлское межледниковье сменяется возрастанием ледниковой
активности, максимальным продвижением на юг Лаврентийского
ледникового щита, скорее всего полностью изолировавшего Аляску и
большую часть Канады от южной части североамериканского
континента, т. е. наступают подстадии предкэри и кэри висконсинского
оледенения138. Влажный и теплый климат сменяется сухим и
холодным.
Бизоны и многие другие виды животных, за исключением,
по-видимому, таких арктических видов, как мамонт, мигрируют далеко
на юг. Но и здесь в результате частых засух хуже стали пастбища,
уменьшилось число водоемов. Это привело к увеличению
подвижности стадных травоядных животных, а тем самым и к увеличению
подвижности палеолитических охотников Северной Америки. Имен-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 175
но в это время появляются наконечники копий и дротиков, что
свидетельствует о распространении этих видов метательного оружия.
Наиболее изученными местонахождениями сандиа, ранней
культуры стадии наконечников, являются стоянки Сандиа Кейв, Манзано
Кейв, Люси, Одэлл Лейк. Одни из них были найдены в пещерах,
а другие — на открытой местности. И во всех этих и других
местонахождениях культуры сандиа наиболее часто представлены
метательные наконечники овальной формы двух типов: сандиа I и
сандиа II, различающиеся главным образом по конфигурации
основания. Острия обработаны с двух сторон в основном ударной ретушью,
хотя на некоторых из них встречаются и следы обработки более
совершенной отжимной ретушью. Из других орудий в
местонахождениях сандиа преобладают скребки различных видов.
В целом существующая картина культуры сандиа очень
неполна во многом потому, что относящиеся к ней находки в подавляющем
большинстве обнаружены не в непотревоженных культурных слоях,
а в слоях с нарушенной стратиграфией и особенно на местах выду-
вов.
Найдено несколько очагов, окруженных в отличие от очагов
стоянок стадии до наконечников выкладкой из кусков известняка.
Остатки жилищ не обнаружены. Кажется вероятным, что люди этой
культуры, ведя подвижный образ жизни, сооружали лишь
временные жилища, может быть напоминавшие крытые шкурами бизонов
типи индейцев прерий, или использовали для временных стоянок
пещеры.
Несомненно, и на это указывает преобладание в каменной
индустрии сандиа наконечников копий и дротиков и найденная вместе
с ними палеофауна, создатели этого оружия были охотниками на
бизонов, мамонтов, мастодонтов. Вместе с тем находка зернотерок
на стоянке Люси в штате Нью-Мексико свидетельствует об
использовании людьми сандиа растительной пищи (зерен злаковых
растений и т. п.).
Следующий этап стадии культур с наконечниками — кловис —
представляет собой время расцвета верхнепалеолитических культур
Северной Америки. Кловис выделяется в отдельный этап прежде
всего по иному, чем в сандиа, типу наконечников. У них в отличие
от наконечников сандиа отсутствуют боковая выемка и насад.
Наконечники кловис массивны, имеют параллельные стороны, вогнутое
основание и желобки на обеих плоскостях. Эти наконечники
изготовлялись из пластин, снятых с подпризматических нуклеусов
посредством отжимной ретуши. Они свидетельствуют о более
совершенной технике обработки камня на этапе кловис, более
эффективны в качестве охотничьего оружия.
Наконечники кловис более уплощены по форме, чем
предшествовавшие им наконечники сандиа, и поэтому должны были легче
проникать в тело жертвы. Кроме того, благодаря желобкам эти
наконечники, попав в тело, не закупоривали наглухо рану. По желоб-
176
Глава третья
кам стекала кровь, и в результате даже легкораненое животное
довольно быстро теряло подвижность из-за большой потери крови и
становилось добычей охотников. Для культуры кловис также
характерны удлиненные ножевидные пластины, сколотые с подпризмати-
ческих нуклеусов. Из этих пластин изготовляли различные орудия:
скребки, резцы и т. д.
На территории США известно большое количество
местонахождений этой культуры к югу от ледника и примерно до современной
границы с Мексикой. Много находок обнаружено в переотложенном
состоянии, на дне выдувов, но немало находок в непотревоженных
слоях вместе с палеофауной, особенно костями мамонтов. Это
стоянки Кловис (Нью-Мексико), Ангус (Небраска), Дент (Колорадо),
Майами и Маклин (Техас), Нако и Ленер (Аризона). Анализируя
палеофауну стоянок, американские исследователи Дж. Уорнике,
Э. Хаури, Э. Сайлз, В. Уосли пришли к выводу, что люди с
культурой кловис прежде всего были охотниками на мамонтов и бизонов,
и что обитатели некоторых стоянок эту охоту вели посредством
засад, подстерегая животных вблизи мест водопоя 139.
Охота на крупных животных, и прежде всего на мамонта,
сочеталась в хозяйстве людей культуры кловис с собирательством. Об
использовании растительной пищи свидетельствуют находки на
нескольких стоянках кловис в слоях с ненарушенной стратиграфией
зернотерок. Но этим и ограничиваются данные о собирательстве у
людей культуры кловис.
На наш взгляд, это может отражать не только недостаточную
изученность стоянок кловис, но и реальное уменьшение значения
собирательства по сравнению с предшествующей стадией развития,
т. е. сандиа.
Смена типичной для сандиа неспециализированной охоты на
крупных и мелких животных специализированной охотой на
мамонта в хозяйстве кловис свидетельствует о повышении эффективности
охоты на мамонтов, что позволило пренебречь систематическим
промыслом многих других видов животных, особенно мелких. По этой
же причине, как мы допускаем, стало менее необходимым широкое
и постоянное собирательство, включавшее в период сандиа, как
отмечалось выше, не только сбор дикорастущих злаковых и съедобных
кореньев, но и ягод, и птичьих яиц, и черепах и т. п.
Собирательство, возможно, стало не только менее насущным занятием, но на
него могло оставаться и меньше времени, чем у женщин культуры
сандиа, так как у женщин культуры кловис скорее всего
увеличилось время, потребное для обработки шкур, приготовления мяса и
тому подобных дел, связанных с обработкой большого количества
охотничьей добычи.
Большинство изученных стоянок кловис — это охотничьи
лагери, которые устраивались около мест забоя животных и где люди
оставались не более нескольких дней. Об этом свидетельствуют и
очень тонкий культурный слой и бедность, а также однообразие
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
177
кремневого инвентаря на подобных стоянках. Он состоит почти
исключительно из наконечников, а также меньшего числа орудий для
разделки туш убитых животных. В то же время встречено несколько
долговременных стойбищ, судя по толщине культурного слоя,
обилию и разнообразию каменного инвентаря. Это, например, стоянка
Квад в Алабаме, где наряду со скребками, чопперами, проколками^
резцами и другими орудиями имелось много незаконченных изделий
(наконечников, пластин с желобчатыми сколами, отщепов) ио.
Последний этап развития верхнего палеолита в Северной
Америке — фолсом. Он получил свое название по наконечникам фолсомг
найденным в большом количестве по всей территории США (за
исключением Аляски), а также во многих районах Канады,
особенно в прериях. Наконечники фолсом меньше, чем наконечники кло-
вис, так как изготовлены из более тонких и изящных пластин.
Характерными особенностями наконечников фолсом являются ушко-
образные концы основания и желобок, идущий не до середины
основания, как в наконечниках кловис, а от основания до конца
наконечника по его оси. Наконечники фолсом обработаны прекрасной
отжимной ретушью 141. Фолсом, по общепринятой точке зрения,
является развитием традиций кловис. С последним наконечники
фолсом роднят наличие желобка, а также многие технологические
приемы изготовления.
Наконечники фолсом и одноименная культура, определительным
признаком которой они служат, синхронны с концом верхнего
плейстоцена Северной Америки. В это время теплеет климат,
сокращается ледниковый щит, в нем открываются проходы с юга на
север и по ним мигрируют на север мамонты. Вскоре они исчезают
в североамериканских степях, и характерными представителями
фауны последних становятся бизоны, а в более засушливых
районах — верблюды. Если наконечники кловис в основном встречаются
в ассоциации с костями мамонтов, то наконечники фолсом — в
ассоциации с костями бизонов 142. Уменьшение размеров наконечников
при переходе от кловис к фолсом, их более изящный облик,
очевидно, связаны с- уменьшением размера основного объекта охоты, с
наличием у бизонов более тонкой шкуры по сравнению с мамонтами*
Как и в кловис, основной отраслью хозяйства людей в эпоху
фолсом оставалась охота. Как в кловис, стоянки фолсом
подразделяются на временные лагери, устраивавшиеся около мест забоя
животных, и долговременные стойбища. Во временных лагерях
обнаружены остатки одновременно убитых (очевидно, во время одной
коллективной охоты) десятков и даже сотен бизонов (стоянки Блэк-
вотер Дро 1, Фолсом и др.). Тем не менее охота в это время, может
быть, в связи с начавшимся исчезновением крупных животных
ледниковой эпохи, не была достаточно устойчивым, постоянным
источником пищи. Поэтому возрастает роль собирательства, на что
указывают находки большого числа зернотерок на долговременных
поселениях фолсом. А на западе Северной Америки в местонахожде-
178
Глава третья .
ниях синхронной фолсом древнекордильерской культуры найдены
гарпуны и изделия, напоминающие составной рыболовный
крючок 143.
Таким образом, если в начале верхнего палеолита Северной
Америки развитость собирательства была следствием недостаточного
совершенства техники охоты, то в конце верхнего палеолита новый
подъем собирательства, а также, возможно, зарождение рыболовства
и кое-где морского зверобойного промысла стали результатом
сокращения охотничьей фауны. Существовавшая в это время совершен- '
лая для той эпохи охотничья техника только углубляла кризис
сухопутной охоты.
Выше была нарисована довольно обобщенная картина развития
палеолита в Северной Америке. Но надо сказать, что уже с этапа
кловис в палеолите континента складываются отчетливо
выраженные локальные варианты культуры. На востоке материка — это так
называемый кловис-энтерлайн, для которого типичны некоторые
особенности в форме наконечников, ножей и других орудий. На юго-
востоке это кловис-камберленд, с нижней частью наконечника в
виде рыбьего хвоста.
На наш взгляд, пока недостаточно ясно, что отражали эти
локальные особенности культуры кловис. И нам кажется
преждевременным утверждение И. П. Ларичевой, что в культуре кловис
«намечается несколько локальных областей, занятых крупными родо-
племенными объединениями, которые сложились к эпохе расцвета
верхнего палеолита» 144. Не слишком ли крупными оказываются эти
«родо-племенные объединения», не слишком ли большую
территорию они занимают — восток США, юго-восток США?
Скорее, на наш взгляд, можно было бы говорить о формировании
на части территории США в эпоху кловис больших этнокультурных
областей, или этнокультурных зон, наподобие тех, что выявлены в
верхнем палеолите Европы и которые занимали этнические группы
со сходными технологическими традициями. Но и такой вывод был
-бы преждевременным ввиду недостаточной изученности локального
своеобразия востока и юго-востока по сравнению с центром и
западом южной половины США. К тому же недостаточно ясно
хронологическое соотношение между собственно кловис, кловис-энтерлайн
и кловис-камберленд. Возможно, они не вполне синхронны.
Дальнейшее развитие локальное своеобразие отдельных культур
получает в заключительный период верхнего палеолита Северной
Америки.
Что касается крайнего севера, то прежде всего надо сказать о
существовании здесь с 23 тыс. лет до 12 тыс. лет до н. э. (а в
отдельные периоды и позднее, до 8 тыс. лет до н. э.) Берингийской суши,
являвшейся продолжением равнинных тундр Восточной Сибири и
соединявшей Азиатский и Американский континенты. Берингия
вместе с Аляской по существу составляли принадлежавший Азии
полуостров, вклинившийся в североамериканский ледниковый щит.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
1795
В Берингии жили многочисленные травоядные животные:
шерстистый мамонт, лошадь, бизон и др.
Около 11 тыс. лет назад североамериканские ледники стали
отступать. Но полностью ледник исчез с территории континентальной
Канады менее чем 5 тыс. лет до н. э., а на Аляске ледники
уменьшились до современных размеров лишь около 6 тыс. лет до н. э.
Зная хронологию североканадских ледников, не удивляешься
отсутствию здесь культурных остатков, предшествующих рубежу VI
и V тыс. до н. э. На Аляске более ранние находки отражают
позицию этой территории как «аппендикса Азии». К ним относятся
несколько обработанных костей, обнаруженных в Оулд Кроу Флэте
вблизи границы Аляски с Канадой, в местности, которая в вискон-
синскую эпоху была свободна от ледника. Эти кости датируются
радиоуглеродным методом в 27—24 тыс. лет до н. э. Каменные
орудия того же возраста не найдены, и вообще все другие известные
находки значительно моложе. Спорен возраст относимых к так
называемой традиции бритиш маунтин находок, сделанных на
протяжении последних двух десятилетий на севере Аляски и
северо-западе Канады Мак Нейшем, Кемпбеллом, Шлезиером и Солецки.
Эти находки стратиграфически датируются обычно 18—20 тыс. лет
назад. Но несколько лет назад Д. Дюмонд высказал соображения
в пользу значительно более поздних дат для комплекса бритиш
маунтин, а именно 2600—3500 лет до н. э.145
На Аляске также обнаружены местонахождения так называемой
палеоарктической традиции (Акмак, Кобук, Хили Лейк, Драй Крик
и др.) с клиновидными «гобийскими» нуклеусами,
микропластинками, резцами, бифасами, наконечниками. Эта традиция связана с
Азией, и ее нередко называют сибирско-американской. А. П.
Окладников и Р. С. Васильевский, несколько лет назад познакомившиеся
со стоянками Кампус, Драй Крик, Хили Лейк, писали, что
«встреченные здесь орудия во многом тождественны вещам с
палеолитических стоянок Северной Азии» И6.
Южнее вышеперечисленных, уже в лесной зоне найдены
мезолитические стоянки так называемой архаической традиции. Для нее
характерны ланцетовидные наконечники, наконечники с боковой
бородкой, крупные скребки и т. д. Комплексы каменной индустрии
архаической традиции не имеют параллелей с Азией, а связаны с
более южными областями Северной Америки. Создатели и носители
архаической традиции продвигались на север по мере отступления
ледника и расширения к северу лесной зоны в период термического
максимума 5—4 тыс. лет до н. э. На севере они контактировали с
носителями палеоарктической традиции, что нашло свое отражение
в смешанном характере каменной индустрии на некоторых стоянках,
например Тукту. Но в целом люди архаической традиции — это
выходцы из внутренних областей Северной Америки, и непохоже,
чтобы они принимали заметное участие в сложении приморских по
характеру культур эскимосов и алеутов 147.
180
Глава третья
$
На тихоокеанском побережье Аляски, острове Кадьяк и
Алеутских островах возникает морское хозяйство, ориентированное на
морской зверобойный промысел, рыболовство и на сбор съедобных
морских продуктов.
На Алеутских островах создатели хозяйственно-культурного
типа морских охотников и собирателей появились около 10 тыс. лет
назад, придя из Азии по Берингоморскому мосту, т. е. суше,
соединявшей в прошлом Азию и Америку. Они поселились на острове
Анангула, отделенном проливом от более крупного острова Умнак. *
Этот пролив служил постоянным путем для мигрирующих морских
животных. По его берегам располагались лежбища котиков и
сивучей, в литоральной зоне было много осьминогов, морских ежей,
различных моллюсков, а также много рыбы.
В том, что экономика древних жителей Анангулы была
ориентирована на морской зверобойный промысел и, говоря шире, на
использование всех доступных им пищевых ресурсов моря
единодушны почти все исследователи 148. Морскую охоту анангульцы вели с
помощью копий, гарпунов, гарпунных стрел.
Традиции стоянки Анангула продолжает расположенная
недалеко от нее, но более поздняя стоянка Вилледж Сайт, на которой
люди жили 6—5 тыс. лет назад. Здесь найдены наконечники гарпунов.
И уже прямо палеоалеутской стоянкой морских охотников,
собирателей и рыболовов является Чалука на острове Умнак, датируемая
возрастом -в 4 тыс. лет назад 149. Район Алеутских островов — это
древнейший центр морского зверобойного промысла, возникшего на
грани верхнего палеолита и мезолита.
В Северной Америке известна еще одна стоянка, обитатели
которой примерно в тот же период занимались охотой на морского
зверя и рыболовством. Это Файв Майл Рапидз в Орегоне на
тихоокеанском побережье США. Возможно, морской зверобойный
промысел был более широко распространен у индейцев океанских
побережий Америки, но прибрежные стоянки в ходе изменений уровня
моря оказались под водой и пока не обнаружены 15°.
В то время когда на крайнем севере и в нескольких других
прибрежных районах Америки складывался морской образ жизни,
ориентированный на морские ресурсы, на востоке США (культура
восточный вудленд) отступление ледника и исчезновение ледниковой
фауны также привели к поискам новых пищевых ресурсов и
изменению образа жизни индейцев 9—10 тыс. лет назад. К этому
времени исчезло или сохранилось лишь в очень небольших количествах
маленькими стадами большинство видов крупных животных
ледниковой эпохи. В каждой местности людям пришлось от прежней
специализированной охоты обратиться к использованию большого
числа видов животных и растений. Возникли регулярные сезонные
миграции с посещением в определенные времена года постоянных
мест 151.
На юге Североамериканского континента — в Мексике, а также
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
181
в Центральной Америке на протяжении мезолита постепенно
уменьшается значение охоты в хозяйстве местного населения. В начале
этой эпохи в долине Мехико люди со стоянки Иштапан продолжали
■охотиться на мамонтов, сохранившихся здесь, по-видимому, дольше,
чем в остальных районах Америки 152. Обитатели других
мексиканских стоянок начала мезолита (Лерма, Ахуереадо) устраивали
коллективные охоты на стадных животных — антилоп и лошадей.
Видимо, общины были довольно велики по размерам и осваивали
обширные территории. С VII тыс. до н. э. основными объектами охоты
служат мелкие и средние нестадные животные. Для их добычи уже
не устраиваются коллективные загонные охоты. Общины становятся
малочисленнее и осваивают меньшие территории, но в большей
степени, чем раньше, используют их растительные ресурсы.
Собирательство здесь в значительной степени вытесняет охоту 153.
Южная Америка была заселена верхнепалеолитическими
охотниками и собирателями в период 17—11 тыс. лет назад. Их стоянки
открыты в Венесуэле, Эквадоре, Перу, Бразилии, Аргентине и
других странах континента 154. Одна из характерных для этого времени
стоянок найдена, например, в пещере Фелл на юге Патагонии. Здесь
обнаружено несколько культурных слоев с наконечниками стрел или
дротиков так называемого типа рыбий хвост, с большими боковыми
скребками, орудиями из кости, которые могли служить для разделки
мяса и обработки шкур, а также остатками от кремации
покойников.
Самый нижний слой стоянки датируется по радиокарбону
8770 ±300 лет до н. э. и 9050+170 лет до н. э. Ее обитатели
охотились на вымерших позднее животных — американских лошадей,
земляных ленивцев, а также на гуанако 155.
На наиболее ранних из южноамериканских стоянок
первобытного человека (Муако и Тайма-Тайма в Венесуэле, Аякучо в
горном Перу) встречаются кости мастодонта и гигантского ленивца,
также служивших объектами охоты156. Судя по некоторым более
поздним местонахождениям, таким, как Эль Инга в Эквадоре, на
обширных пространствах Южной Америки мезолитическое
население континента во многом продолжало хозяйственные и культурные
традиции своих верхнепалеолитических предшественников, живя
небольшими бродячими общинами, часто передвигавшимися с места
на место в поисках зверя и съедобных растений.
Как и в Северной Америке, в Южной Америке в мезолите
возникают культуры, ориентированные на использование пищевых
ресурсов моря. Древнейшая из них — культура морских зверобоев
острова Энглфилд у южной оконечности Чили. Около 9 тыс. лет
назад на этом острове жили люди, охотившиеся с помощью гарпунов
и копий на морских животных, а также занимавшиеся
рыболовством 157.
Не позднее 6 тыс. лет назад на Огненной Земле поселились ран-
непервобытные общины, чья культура, судя по археологическим
182
Глава третья
данным, была схожа с культурой живших здесь в новое время яганок
и алакалуфов с присущим им сочетанием сбора морских моллюсков^
охоты, сбора плодов и ягод, рыболовства, подвижным образом
жизни, очень примитивными временными жилищами и т. п. чертами 158.
Африка. Палеолит Африки южнее Сахары по сравнению с
палеолитом Европы или Леванта отличается значительным своеобразием.
Как отмечают почти все исследователи, здесь не было резкого
перехода от ашеля к мустье, от мустье к верхнему палеолиту, от него»
к мезолиту. Более того, типологически верхний палеолит дочти нигде·
пе выявляется в местонахождениях каменного века Африки. Мустье
сменяется так называемым постмустье, продолжающим мустьерские·
традиции, сочетающиеся с некоторыми элементами европейского
верхнего палеолита. В конце плейстоцена — начале голоцена пост- ,
мустье постепенно переходит в микролитические индустрии
мезолита.
Эта особая схема развития применима почти ко всей Африке,
за исключением районов к северу от Сахары, где культура в конце
верхнего плейстоцена близка к верхнему палеолиту
Средиземноморья (Леванта и юга Европы).
Соответственно уже довольно давно английскими и
южноафриканскими исследователями была разработана включающая палеолит,,
мезолит и неолит трехступенчатая классификация: ранний каменный:
век, средний каменный век, поздний каменный век. При этом до
последних лет почти все ученые (Дж. Д. Кларк, Ф. Борд, Л. Балу*
Ф. Смит, Г. П. Григорьев и др.) были согласны в том, что средний
каменный век Африки, или постмустье по терминологии ΓνΠ.
Григорьева, в основном соответствует хронологически верхнему
палеолиту Европы 159. Из этого положения вытекало также, что
создателями и хранителями технических традиций среднего каменного века,
были неоантропы, люди современного физического типа.
Начиная с конца 60-х годов, с появлением новых датировок для
среднего каменного века Африки вывод о его хронологическом
соответствии верхнему палеолиту Европы подвергся пересмотру
сначала Р. Клейном, позднее Дж. Д. Кларком, отказавшимся от своей
прежней точки зрения на этот вопрос, а также другими
исследователями.
Согласно новым датировкам средний каменный век начинается
не 35 тыс. лет назад, а 130—200 тыс. лет назад, а кончается ранее
40 тыс. лет назад160. Таким образом, он соответствует не верхнему
палеолиту, а позднему ашелю и мустье. Если новые определения
хронологических рамок среднего каменного века Африки верны, а,
видимо, это так, то лучше всего известные и наиболее широко
распространенные африканские культуры — санго, лупембе, форомит и
некоторые другие — оказываются предшествующими времени
существования Homo sapiens. Естественно, материалы по этим
культурам теперь уже нельзя использовать при характеристике охотников
и собирателей Африки конца плейстоцена.
РАННЕПЕРВОБЫТНЛЯ ОБЩИНА
183
Более древним, чем предполагалось ранее, оказался не только
средний, но и поздний каменный век, начало которого обычно
относилось к рубежу плейстоцена и голоцена или даже к еще более
позднему времени161. Со второй половины 60-х годов для ряда
стоянок Южной Африки, по каменному инвентарю относимых к
позднему каменному веку, были получены методом радиокарбона не
только отдельные даты, но и их серии, исходя из которых
абсолютный возраст этих стоянок (Бордер, Коттедж, Розы и др.) составляет
27—30—35 тыс. лет162. С учетом недавнего пересмотра возраста
среднего каменного века Африки кажется более вероятным, что
вышеприведенные цифры абсолютного возраста позднего каменного
века ближе к действительности, чем прежние даты, полученные
методами относительной хронологии.
Вместе с тем для позднего каменного века имеются и
значительно более поздние даты, такие, как 21550+950 лет назад и 16715 ±
95 лет назад (пещера Леопардовой горы в Замбии), 12200+100 лет
н*азад и 12200±250 лет назад (пещеры Памонгве и Тшангула в
Родезии, 11250±400 лет назад (Матежес-Ривер в Капской области) 163.
Таким образом, под общим названием «поздний каменный век»
в работах по археологии Африки описывается очень протяженный
по времени период истории населения этого континента. Этот
период начинается с окончанием среднего каменного века, т. е. в одно
время с переходом от мустье к верхнему палеолиту в Европе, а
заканчивается в неолите. Думается, что в недалеком будущем поздний
каменный век придется подвергнуть хронологическому и
типологическому членению. Обратимся теперь к культурам отдельных частей
Африки.
На севере Африки, а также в Сахаре была широко
распространена атерская индустрия. Большая часть представленных в ней
орудий несомненно носит мустьерский характер, но встречались и
верхнепалеолитические формы (резцы и скребки). Атер синхронен
западноевропейскому мустье, особенно позднему мустье164. Но мы
все-таки упоминаем эту культуру, так как ее хронологические
рамки являются предметом дискуссии, и на севере Африки, и особенно
в Сахаре, которая в верхнем плейстоцене не была такой жаркой и
засушливой областью, как ныне, охотники и собиратели
пользовались каменными орудиями атерского типа (наконечниками с
черешком) примерно до XV тыс. до н. э. или даже позднее 165.
Лишь за несколько тысяч лет до начала голоцена у охотников
и собирателей Сахары орудия мустьерского облика сменяются
микролитическими орудиями, составными орудиями (в частности,
наконечниками со вкладышами). В то же время жившие здесь и в
соседних областях люди начинают изготовлять орудия из кости и
пользоваться на охоте луком со стрелами 166.
Культура каменного века северного побережья Африки и
прилегающих областей, как уже говорилось, традиционно
типологически сближается археологами с культурами Леванта. Однако мусть-
184
Глава третья
ерская культура дольше существует на северо-западе Африки, чем
в Леванте. Стоянки с датировкой 27—28 тыс. лет назад носят здесь
еще определенно мустьерский облик. Их обитатели охотились на
дикого быка, дикую лошадь, газель 167. Отсутствие остатков жилищ,
преобладание подъемного материала не дают возможности
представить образ жизни этих людей. Обнаруженные в местонахождениях
атерской культуры немногие палеоантропологические остатки
принадлежат палеоантропам (в гроте Мугарет-эль-Алия близ Танжера).
Пока неизвестно, какие культуры существовали в Магрибе в. ,
эпоху 25 тыс. лет назад (самая поздняя дата для атерской
культуры) до 12—14 тыс. лет назад (наиболее ранние даты для оранской
или иберо-маврской культуры). Этот ограниченный промежуток
времени остается в археологическом плане белым пятном.
В конечной фазе верхнего плейстоцена на атлантическом
побережье Марокко, Алжира, Туниса, а также в нескольких местах
вдали от побережья распространяется оранская культура. По мнению
одних исследователей, оранская культура существует от 12—14 да
10—11 тыс. лет назад. По мнению других, часть памятников начала
голоцена (до 8 тыс. лет назад) также является оранскими 168.
В эпоху существования оранской культуры климат и фауна
были близки к современным. Наиболее значительными памятниками
оранской культуры являются стоянки и могильники Афалубу-Рум-
мель в Алжире, Тафоральт в Марокко, Ухтата в Тунисе и т. д.
Орудия оранской культуры невелики. Это пластинки и острия с
выпуклой спинкой, скребки, шилья и долота из кости. По своим
орудиям оранская культура не демонстрирует связей ни с
предшествовавшей ей атерской, ни со следующей за ней капсийской
культурами. Судя по палеофауне, найденной на стоянках, основным видом
хозяйства оранцев была охота на антилоп гну, лошадей,
медведей 169.
В голоцене на тех же территориях, где существовала оранская
культура, распространяется капсийская культура (10—8,5 тыс. лет
назад), долгое время ошибочно считавшаяся верхнепалеолитической
из-за наличия в ее инвентаре крупных орудий, несколько сходных с
остриями шательперрон западноевропейского верхнего палеолита*
Наиболее характерные и множественные орудия этой культуры —
микролиты в виде трапеций и сегментов, использовавшиеся, в
частности, в качестве вкладышей наконечников стрел.
В отличие от оранцев основным хозяйственным занятием кап-
сийцев был сбор съедобных моллюсков. Остатками их деятельности
являются многочисленные раковинные кучи, в которых встречаются
также зола от кострищ, кремневые орудия, а иногда и скелеты
людей. Наряду с открытыми стоянками капсийцы жили и в
пещерах 170.
Особое место среди доземельческих культур Северной Африки
занимает культура долины Нила. Здесь на равнине Ком Омбо,
находящейся в 45 км к югу от Асуанской плотины, около 17 тыс. лет
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
185
назад поселились группы охотников и собирателей. В то время в
реках этой местности было много гиппопотамов, черепах и рыбы, в
степи паслись стада газелей и антилоп каама, в болотах зимовали
-огромные стаи перелетных птиц из Центральной Европы.
Судя по раскопанным стоянкам, население района Ком Омбо 17
тыс. лет назад насчитывало не менее 250 человек при плотности
1 человек на 2,6 км 2. Это одна из наиболее высоких известных
плотностей населения для эпохи верхнего палеолита. Она оказалась
возможной благодаря исключительно богатой и разнообразной
охотничьей фауне района, а также тому, что люди из Ком Омбо были,
ло-видимому, одними из первых, кто в довольно широких
масштабах практиковал сбор дикорастущих злаковых. Для жатвы
использовались каменные серпы, а растиралось зерно в муку на массивных
каменных зернотерках ш.
Нам кажется возможным предположить, что высокая для
середины верхнего палеолита эффективность охотничьего хозяйства,
сочетавшегося с интенсивным собирательством, обеспечивая
значительную плотность населения на равнине Ком Омбо, могли повести
здесь уже в эту отдаленную эпоху к началу перехода от ранне- к
нозднепервобытной общине. Для более конкретных суждений по
этому вопросу пока недостает фактических данных.
На юге Африки, как и на севере этого континента, люди также
часто жили в пещерах. Один из наиболее выразительных и
многослойных памятников такого типа — пещера Нельсон-бей в 500 км
:к востоку от Кейптауна на берегу Индийского океана.
Предполагается, что эта пещера служила убежищем 400 сменившим друг
друга поколениям людей современного физического типа172. Впервые
они поселились в ней около 18 тыс. лет назад. В то время и в
последующие тысячелетия вплоть до начала голоцена море было
довольно далеко от пещеры, на расстоянии 80 км, а окружающий ландшафт
представлял собой саванну с разбросанными по ней группами
деревьев. Климат Южной Африки был тогда значительно более
холодным и влажным, чем в современную эпоху. Обитатели пещеры,
жившие в ней, возможно, оседло круглый год, защищали вход в нее за-
тородкой, помогавшей сохранять тепло от костров и предохранявшей
от ветра. Мужчины охотились на антилоп, страусов, павианов,
кабанов, гигантских буйволов. Женщины собирали съедобные корни
и ягоды.
С наступлением голоцена около 12 тыс. лет назад уровень
океана значительно повысился и вода приблизилась к возвышенности,
где находится пещера Нельсон-бей. С этого времени в жизни ее
обитателей большую роль приобретает сбор морских моллюсков, а
также в несколько меньшей мере — рыболовство и промысел котиков
на лежбищах. Следами этой хозяйственной деятельности являются
раковинные кучи, достигавшие высоты 6 м, такие же, какие
оставили после себя мезолитические обитатели приморских областей
Северной Африки, Западной Европы, Юго-Восточной Азии. Сбором мол-
18t>
Глава третья
люсков занимались зимой, а летом обитатели пещеры покидали ее
и уходили в места, отстоящие далеко от побережья, где охотились на
сухопутных животных и собирали съедобные растения. Таким
образом, у обитателей пещеры Нельсон-бей с началом голоцена вековая
(поколенная) оседлость сменяется сезонной оседлостью.
На территории Южной Африки имеются и другие как открытые,
так и пещерные стоянки позднего каменного века, относимые к
культурам смитфилд (более ранняя) и уилтон (более поздняя). На- *
селение занималось охотой, рыбной ловлей, собирательством. Для
прибрежных жителей с начала голоцена большое значение
приобрел сбор съедобных моллюсков. Характерными орудиями являются
скребки типа утиный клюв, выпукло-вогнутые и зубчатые скребки,,
шары с отверстиями, которые, судя по этнографическим аналогиям
с культурой банту, могли насаживаться на палку-копалку для
утяжеления ее 173.
На огромных территориях Экваториальной Африки на западе
преобладали леса, на востоке — саванны. О древнем населении лесов;
Западной Африки мало что известно. Следы человеческой
деятельности быстро исчезают в условиях влажного тропического леса, а то,
что сохраняется, трудно найти. Нет ясности даже в вопросе о
направлении хозяйства лесных жителей конца плейстоцена и начала
голоцена. По-видимому, и в этом сходятся разные исследователи,
для жителей лесов Экваториальной Африки сбор и потребление
растительной пищи имели гораздо большее значение, чем для
обитателей саванны. Что касается охоты, то трудно сказать, была ли для
лесных жителей особо существенной охота на древесных животных
(как это предполагает Кларк) или основным был промысел
наземных животных: буйволов, слонов, гиппопотамов 174.
По-видимому, жители лесов широко использовали дерево и кость
для изготовления орудий, но они не сохранились. Среди каменных
орудий часто встречаются нуклевидные рубила с двусторонней
обработкой, своеобразные топоры так называемого типа транше, че-
решковидные наконечники стрел и дротиков. Это орудия так
называемой читольской культуры, создатели которой жили как в лесах,
так и на открытых пространствах в Заире, Анголе, Камеруне,
Уганде. Каменные орудия этой культуры сохранялись без крупных
изменений с конца плейстоцена до начала нашей эры, а местами и
позднее, до европейской колонизации 175.
На территории Замбии, Малави и некоторых других стран с
начала голоцена и до начала европейской колонизации существовала
так называемая начикуфская культура. В ее каменном инвентаре
сегментовидные и полукруглые микролиты соседствуют с крупными
скребками, скорее всего использовавшимися в работах по дереву.
На поздних этапах этой культуры появляются керамика и
зернотерки.
Мезолитические обитатели саванн Восточпой Африки оставили
после себя многочисленные микролиты, которые обычно рассматри-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 187
»
шаются как региональные варианты уже упоминавшейся нами
культуры у ил тон 176.
В целом во многих районах Африки каменный век и охотничье-
собирательское хозяйство сохранялись очень поздно.
Австралия и Тасмания11'1\ Первые люди пришли в Австралию не
менее 30 тыс. лет назад. В то время между Австралией и
Юго-Восточной Азией существовали материковые мосты Сунда и Сахул. По
ним в Австралию пришли потомки древнейших неоантропов Юго-
Восточной Азии. Самые ранние памятники их культуры, в том
числе на юге австралийского континента (пещера Куналда),
датируются радиоизотопными методами в 31—32 тыс. лет — самое начало
верхнего палеолита 178.
Развитие культуры австралийцев на протяжении многих
тысячелетий совершалось в замедленном темпе. Это было связано с
трудностями освоения обширного и разнообразного по природным
условиям континента, раздробленностью отдельных небольших групп
первопоселенцев, затруднившей обмен изобретениями и другими
культурными ценностями, а позднее с относительной географической
и культурной изоляцией от остального мира после того, как
погрузились под воду материковые мосты, соединявшие Австралию с Юго-
Восточной Азией (окончательно это произошло 10 тыс. лет назад,
т. е. на рубеже плейстоцена и голоцена).
Несмотря на эти неблагоприятные факторы, материальная
культура австралийцев не оставалась неизменной, а развивалась от форм,
характерных для палеолита Юго-Восточно Азии, до культуры
смешанного палеолитико-мезолитического облика с наличием в ней и
неолитических элементов.
Для раннего периода характерны такие культуры, обнаруженные
преимущественно на юге Австралии, как карта, каперти, маунт-моф-
φιτ, кларенс и др., отражающие связи древних австралийцев с
азиатским культурно-историческим миром, особенно с хоабиньской
культурой.
Хотя каждая из названных австралийских культур имела
известное своеобразие в своем каменном инвентаре, в целом можно
сказать, что комплекс каменной индустрии раннего периода включал
чопперы различных типов, в том числе чопперы «лошадиное
копыто» и «карта». Лошадиным копытом называют массивные орудия с
овальным или круглым плоским ретушированным по краю
основанием. Они были пригодны для рубки и обработки дерева и ряда дру-
тих функций. Под орудиями типа карта имеются в виду дисковид-
ные орудия из расколотых надвое камней или галек с ретушью по
рабочему краю. Для раннего периода также характерны орудия типа
тслектонских и леваллуазских отщепов, чоппингов, проторубил,
ручных рубил шелльского и ашельского типа, пластин невазийского
типа, напоминавших соответствующие находки в Индии и т. д.
Комплекс каменной индустрии раннего периода включал и орудия,
отражающие более поздние мезолитические традиции Юго-Восточной
188
Глава третья
Азии и характерные для хоабиньской и типологически близких ей:
культур.
Такое смешение палеолитических и мезолитических орудий
ужена раннем этапе развития материальной культуры австралийцевг
видимо, свидетельствует о продолжительном влиянии на их
культуру культур Юго-Восточной Азии, Вьетнама, Малакки, Суматры.
Хронологическая протяженность раннего периода в развитии
материальной культуры очень велика. Он начинается с "появлением
первых людей на континенте, т. е. не менее 30 тыс. лет назад.
Наиболее же поздние даты относящихся к этому периоду культур капер-
ти и кларенс Нового Южного Уэльса соответственно 3623±69 лег
и 3230±100 лет назад.
Из этого, на наш взгляд, следует, что выделяемый В. Р. Кабо
ранний период в истории культуры австралийцев требует
дальнейшего подразделения. Вероятно, и думается, что это будет сделано с
накоплением знаний по археологии Австралии, надо отделить
собственно палеолитический период Австралии, связанный с
палеолитом Юго-Восточной Азии, от той эпохи, когда сохраняющиеся
палеолитические традиции смешиваются с пришедшими из
Юго-Восточной Азии или возникшими в ходе саморазвития мезолитическим
традициями.
По-видимому, многие элементы культуры австралийских
аборигенов, известные по данным этнографии, восходят к начальному
периоду в развитии австралийской культуры. К таким древнейшим
элементам «относятся бумеранг, метательная палка, копьеметалкаг
цельные копья — простые, с острыми осколками камня и с
вырезанными на конце зубцами, один или несколько типов легких
составных копий, возможно — копья с каменными наконечниками,
отражательный щит, а также плоты, и, возможно, лодки из одного куска
коры как средства передвижения по воде» 178а.
Культура австралийцев в ранний период была в основных
чертах сходной на западе и востоке континента отчасти потому, что
запад и восток были впервые освоены культурно близкими
этническими группами первопоселенцев. Несколько позднее была заселена
Центральная Австралия. Несмотря на принципиальное единство
культуры древних австралийцев, на территории континента уже в
ранний период наметились три историко-этнографические области:
восточная, центральная и западная.
Ранний период в развитии культуры австралийцев
заканчивается, за некоторыми местными исключениями, с завершением
последнего большого ледникового периода, т. е. на рубеже плейстоцена и
голоцена, или около 10 тыс. лет назад по абсолютной хронологии.
С наступлением голоцена начинается.средний период в истории
культуры австралийцев, не слишком четкая граница которого с
поздним периодом прослеживается на археологическом материале,,
датируемом 3—1 тыс. лет назад (в разных районах Австралии
разным временем).
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
18£
В средний период имели место значительные изменения в
хозяйстве и материальной культуре австралийцев, во многом
обусловленные изменениями природной среды. Мы видели выше, что в Европе в
связи с вымиранием крупных животных в конце плейстоцена и
начале голоцена имел место кризис охотничьего хозяйства. В
Австралии кризис хозяйства наступил не сразу после окончания
ледниковой эпохи, а значительное время спустя, в период так называемого
термического максимума около 7—4 тыс. лет назад, т. е. позднее,
чем в Европе, Сибири или Америке. В это время в Австралии
наблюдалось катастрофическое ухудшение климата, выражавшееся, в-
частности, в увеличении аридности, что привело к образованию
обширных пустынь и исчезновению многих видов крупных животных,,
бывших излюбленной добычей древнего населения Австралии.
Распространение в это время открытых сухих степей
потребовало совершенствования и широкого применения различных видов
метательного, оружия: бумерангов, копий, дротиков и особенно копье-
металок, увеличивавших дальность полета копья и тем отвечавших
потребностям охоты на открытых пространствах, когда почти
невозможно подойти на близкое расстояние к объекту охоты. Копьеме-
талка стала не только орудием охоты, но и орудием труда: на ее
конце укрепляли каменное долото, служившее для разных работ πα
дереву.
Вместе с тем техника изготовления каменных орудий пришла
в упадок. Необходимость частых передвижений в поисках пищи и
воды вынуждала ограничиваться минимумом орудий многоцелевого·
назначения. В наибольшей степени этот упадок ощущался в
Центральной и Западной Австралии, где в период термического
максимума образовались большие пустыни.
Однако на протяжении всего среднего периода развитие
культуры австралийцев не прекращалось. Свидетельством этого являются
культуры тартанга в Южной Австралии, бонди — на востоке
континента, пирри — во внутренних областях. Появляются долота тула на
рукояти, острия пирри и бонди, широко начинают изготовляться и
употребляться микролитические орудия: распространяются топоры
с подшлифованным лезвием и т. п. Наличие общих черт в развитии
различных культур среднего периода свидетельствуют об активном
межгрупповом обмене материальными и духовными ценностями,
хотя, на наш взгляд, черты общности в известной мере могут быть
объяснены конвергенцией.
Противоречивый характер носит поздний период (3—1 тыс. лет
назад), конец которого совпадает с началом европейской
колонизации. Темпы развития материальной культуры замедляются,
археологический материал свидетельствует о культурном кризисе. Он
проявляется, в частности, в прекращении изготовления геометрических
микролитов, местами в возврате к грубым архаичным орудиям.
Вместе с тем продолжала распространяться шлифовка каменных орудий,,
190
Глава третья
появлялись новые специализированные орудия, например ножи лей-
лира на удлиненных призматических пластинах и т. д.
В целом культура аборигенов Австралии позднего периода
характеризуется сочетанием палеолитических и мезолитических
тенденций с некоторыми элементами раннего неолита.
Основными занятиями австралийцев к концу позднего периода
ή началу европейской колонизации (а также, очевидно, в более
раннее время) были индивидуальная и коллективная (загоны, облавы)
охота на кенгуру, страусов и других животных и собирательство.
В некоторых районах Австралии, особенно на севере и юго-востоке,
были развиты рыболовство, промысел тюленей, собирание морских
моллюсков. Здесь на основе приморского хозяйства коренное
население сооружало стационарные жилища и в определенные сезоны
года жило, видимо, на одном месте. Большая же часть австралийских
аборигенов вела подвижный образ жизни, часто переходила с места
на место в поисках пищи; жилищем служили шалаши, ветровые
заслоны и тому подобные временные укрытия.
Локальным вариантом австралийской культуры является
культура тасманийцев. На протяжении почти всего плейстоцена
Тасмания с Австралией образовывали один материк. Одно целое — в
антропологическом и культурном отношениях — составляло и их
население 179.
Дж. Горн, Г. Нун, Ф. Маккарти, Н. Тиндейл, В. Р. Кабо
прослеживают черты типологического сходства и генетической общности
между австралийскими культурами раннего периода, такими, как
карта, маунт-моффат, гамбир, каперти, и археологическим, к
сожалению, в значительной мере подъемным, материалом из Тасмании.
В конце плейстоцена Тасмания отделяется от Австралии, что
приводит к генетической и культурной изоляции ее населения от
австралийцев. Тем не менее древние культуры австралийского
континента остаются основой последующего культурного развития
тасманийцев.
Но развитие это имело большую специфику, обусловленную
изолированным положением тасманийцев, отсутствием плодотворного
культурного обмена с соседними этническими группами и
существенными различиями в характере эволюции природной среды. В
частности, в отличие от Австралии в Тасмании в голоцене
отсутствовали резкие перемены экологической обстановки. Культура аборигенов
Тасмании развивалась медленнее, чем культура австралийцев.
Испытала она и значительные регрессивные движения: известно о
прекращении изготовления орудий из кости, об отказе от употребления
в пищу рыбы, хотя раньше ее ели, об утрате тасманийцами ко
времени европейской колонизации или ранее многих других культурных
достижений прошлого.
У этой культуры было два территориальных варианта. На западе
Тасмании на побережье население было полуоседлым. Здесь
существовали стационарные жилища, обитатели которых преимуществен-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНЛ
191
но занимались морским промыслом: они охотились на тюленей к
собирали моллюсков.
На востоке острова население было более подвижным: в одни:
сезоны года опо охотилось на кенгуру и других животных, а
также ловило птиц с помощью копий, силков и ловушек. В другие
сезоны года восточные тасманийцы разбивали временные лагеря на
побережье, где охотились на морских птиц, собирали моллюсков,
водоросли и т. д.
3. Хозяйство и материальная культура
(общие итоги)
Верхний палеолит. В целом можно сказать, что направление
хозяйства в верхнем палеолите (за исключением его конечного
периода) не изменилось по сравнению с предшествовавшей ему эпохой
мустье. За исключением финальной стадии верхнего палеолита,
охота велась в общем на тех же животных, что и в предшествующую
эпоху: мамонтов, шерстистых носорогов, оленей, лошадей, волков и:
т. д. И приемы охоты, согласно общепринятой точке зрения,
вероятно, близко напоминали способы, бытовавшие у неандертальцев. Это,,
как уже отмечалось, были коллективные облавы с загоном животных
к обрывам или в топкие места, ямы-ловушки и т. д.
Несмотря на усовершенствование наконечников, таких могучих
животных, как мамонты, вероятно, редко удавалось убить сразу, а
приходилось наносить новые раны, пока животное не умрет. Такг
в Нако на берегу ныне пересохшей небольшой реки обнаружены
in situ кости мамонта и вместе с ними 8 наконечников: один у
основания черепа, другой около левой лопатки^ два между ребрами, один
пронзил спинной позвонок и еще три наконечника поблизости.
Охотники, вероятно, преследовали свою жертву до тех пор, пока не
нанесли ей решающего удара 180.
Большая часть орудий труда была так или иначе связана с
охотничьей деятельностью людей верхнего палеолита: это были
инструменты для изготовления копий и дротиков, само охотничье оружие,
орудия для снятия шкур, разделки мяса и т. д.
Ближе к концу верхнего палеолита в связи с
совершенствованием охотничьего оружия (дротики с копьеметалками, может быть, лук
и бола), возможно, наряду с облавными охотами получает большее
распространение скрадывание, т. е. тайное постепенное приближение
к пасущимся животным. Совершенствуется организация
коллективных охот. Одно из свидетельств этого — находка в гроте Ла Ваш на
юге Франции в слое с радиоуглеродной датировкой 12 700 лет
назад охотничьего сигнального рога, сделанного из рога дикого оленя
и имевшего два отверстия: сквозное и несквозное181. Наряду с
охотой на крупных животных значительно возрастает в конце верхнего
палеолита значение промысла мелких животных (например, зайцев)
и птиц с помощью силков.
192
Глава третья
Во время охоты люди верхнего палеолита уничтожали животных
в очень больших количествах. Например, во Франции в Солютре у
•скалы, к которой загонялись стада диких лошадей, были
обнаружены остатки 50—100 тыс. этих животных 182.
Предпочтение крупных или среднего размера животных в
качестве объектов охоты не исключает того, что промысел мелких
животных в некоторых областях ойкумены мог иметь существенное
значение не только в конце верхнего палеолита, но и в начальную пору
этой эпохи. Соотношение в хозяйстве раннепервобытных общин охо- ч
ты на крупных и на мелких животных зависело от экологической
обстановки. Выше были приведены конкретные примеры этого. В
целом охота на крупных животных, видимо, была делом мужчин, а
собирательство — занятием*женщин и детей.
В конце верхнего палеолита в Евразии и некоторых других
регионах ойкумены уменьшение размеров животных потребовало
совершенствования охотничьего оружия: изобретается лук,
совершенствуется копьеметалка (упругие копьеметалки с грузом) и т. д. В связи
с изменением состава фауны появляются новые приемы охоты.
Особенно развивается индивидуальная охота на средних или мелких
животных и птиц. В некоторых областях получает распространение
рыболовство, а на рубеже верхнего палеолита и мезолита — морской
зверобойный промысел.
Совершенствование охотничьего оружия и начало использования
вовых пищевых ресурсов (рыбы, морского зверя) все же не могли
обеспечить достаточного количества пищи для сложившихся, в
частности во многих областях Европы, а также Сибири, в конце мустье
и первую половину верхнего палеолита сравнительно крупных и
подолгу живших на одном месте коллективов, и они в большинстве
мест распадаются на более мелкие подвижные группы людей.
Поселения и жилища раннепервобытных общин верхнего
палеолита отличались значительным разнообразием в разных областях
земного шара. В Европе и Северной Азии в верхнем палеолите, за
исключением его конца, были распространены стационарные
искусственные жилища, продолжавшие, хотя и на более высокой основе,
домостроительные традиции мустьерского времени. Поселение
состояло или из одного большого многоочажного жилища, или из
нескольких небольших или среднего размера хижин. Для жилищ была
характерна устойчивость форм и конструкций, наличие в полу
многочисленных углублений хозяйственного назначения, а также
специально вырытых на территории поселка нежилых землянок. Судя по
раскопкам в Мальте, иногда строились и специальные,
предположительно общественного или культового назначения, хижины. Видимо,
как большое многоочажное жилище, так и группа малых одноочаж-
ных хижин были местом обитания одной общины.
К концу верхнего палеолита с увеличением подвижности
населения поселения из стационарных жилищ на значительной части
территории Евразии исчезают, сохраняясь лишь на местах, круглый год
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
193
богатых пищевыми ресурсами. Таким местом были, например, Ушки
на Камчатке, поселение, находившееся около изобиловавшего рыбой
озера. В других районах Евразии наиболее распространенным типом
поселения становятся временные лагери охотников на оленей. В
Северной Америке временные лагери, видимо, были наиболее
распространенным типом поселения раннепервобытных общин всю эпоху
верхнего палеолита. Для ряда территорий холодной и умеренной
зоны вопрос о наличии или отсутствии стационарных жилищ пока
остается открытым.
В жарких странах долговременные искусственные жилища,
видимо, не имели распространения в верхнем палеолите как в связи
с отсутствием холодного сезона года, так и благодаря обилию
пригодных для продолжительного обитания пещер и гротов.
Наряду с искусственными жилищами или естественными
убежищами, рассчитанными на длительное обитание, и в начальную пору
верхнего палеолита, и особенно в конце его были широко
распространены временные охотничьи лагери, устраивавшиеся около мест
забоя крупных животных или стад животных меньшего размера.
В таких лагерях община оставалась обычно лишь несколько дней.
Мезолит. В мезолите хозяйство и культура первобытного
человечества стали еще более разнообразны, чем в верхнем палеолите.
Но некоторые общие черты этой эпохи все же могут быть выделены.
Хозяйство раннепервобытной общины в мезолите характеризуется
несколькими главными тенденциями. Это — множественность
используемых ресурсов в районах с бедными или средними пищевыми
ресурсами без резкого преобладания какого-то одного их вида. В
районах, богатых каким-либо видом природных пищевых ресурсов
(морскими моллюсками или рыбой), складывается специализированное
хозяйство, основанное на их использовании.
Изменения в характере хозяйства сопровождаются изменениями
в технике, типах поселений, формах жилищ, способах
приготовления пищи и т. д. В регионах, где преобладал процесс
диверсификации хозяйства: Европа (за исключением морских побережий),
Северная Азия, некоторые области Средней Азии, Америка
(опять-таки за исключением морских побережий) и др., на смену
коллективным охотам на большие стада животных, охот, в которых
принимала участие вся община, кроме детей и стариков, а иногда, видимо,
и несколько общин, приходят охоты на небольшие стада некрупных
животных или на отдельные особи. На них охотились маленькими
группами охотников. Одновременно возрастает значение охоты, в
том числе и индивидуальной, на мелких животных.
В мезолите сохраняется начавшаяся еще в конце верхнего
палеолита тенденция к увеличению роли рыболовства в хозяйстве.
В нескольких местах (на севере Европы, Дальнем Востоке,
побережье Калифорнии, крайнем юге Американского континента)
возникает морской зверобойный промысел.
7 История первобытного общества
194
Глава третья
На охоте начинают широко применяться появившиеся, видимо,
в конце верхнего палеолита лук и стрелы, а в тропиках (Океания,
тропические леса Южной Америки) — стрелометательная трубка
сарбакан. Географические границы использования этого весьма
эффективного охотничьего оружия, возможно, объясняются
отсутствием вне тропической зоны подходящего сырья для изготовления стре-
лометательных трубок и особенно яда, которым отравлялись
стрелки сарбакана. Без яда они обладали малой убойной силой. В связи
с тем, что лук распространен гораздо шире, чем его эквивалент
сарбакан, и его употребление тесно связано с характером охоты в
мезолите, нам кажется правомерным нередко используемый для
обозначения этого периода термин «охотничье хозяйство с применением
лука».
Эффективность охоты значительно повысило одомашнивание и
начало использования на охоте собаки.
С возрастанием значения рыболовства совершенствуется
рыболовная техника. В мезолите и раннем неолите рыбу били из луков,
лучили острогой, ловили на крючок и в верши. Возможно, в это время
уже практиковался и лов рыбы отравой, по этнографическим данным
бывший одним из основных способов добычи рыбы у многих племен
земного шара, например индейцев южноамериканских тропиков.
В мезолите в большем объеме, чем в верхнем палеолите,
используется растительная пища. Возрастает число употребляемых в пищу
видов растений. Получают распространение специальные орудия
(различные зернотерки, ступы, песты) для превращения ранее не
съедобных твердых плодов в мякоть, пригодную в пищу. Возможно, к
началу неолита изобретаются орудия для удаления из некоторых
тропических корнеплодов сока — прототипы плетеных трубок — прессов,
применявшихся амазонскими индейцами для удаления ядовитого
сока из маниока. Разрушению растительных ядов, размягчению
твердой клетчатки и тем самым расширению возможностей
использования растительной пищи способствовала распространившаяся в
мезолите варка пищи. По сравнению с жарением она также позволяла
лучше использовать мясные и рыбные отходы 183.
Очень сложен и не может считаться решенным вопрос о
соотношении животной и растительной пищи в рационе людей раннеперво-
бытной общины. Несомненно, что это соотношение было
неодинаковым в разных областях ойкумены, завися во многом от конкретной
экологической обстановки. Общей тенденцией для многих новых пер-
вобытноисторических исследований является акцентирование
тезиса о большой роли собирательства, и соответственно растительной
пищи на протяжении истории человечества, начиная с праобщины
ранних гоминид и кончая общинами современных охотников и
собирателей различных климатических поясов земли 184/ Для
доказательства этого тезиса широко используются этнографические данные, в
частности изучение традиционного общества бушменов. При
наблюдении повседневной жизни бушменов Калахари выяснились три су-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
195
щественных обстоятельства. Во-первых, было установлено, что
уровень обеспеченности пищей бушменов Калахари довольно высок и
устойчив. Так, ежедневный рацион бушменов кунг равен в среднем
2140 калориям 185. И это несмотря на то, что современные бушмены
кунг живут на худших землях, чем те, на которых жило
большинство групп бушменов в прошлом. Во-вторых, для обеспечения членов
локальной группы пищей, в том числе детей, молодежи и стариков,
взрослым обоего пола приходится сравнительно немного работать, в
среднем от 12 до 19 часов в неделю. В третьих, большую часть
пищи дает женское собирательство, а не мужская охота. Растительная
пища в среднем вдвое превышает мясную по калорийности и во
столько же раз по весу.
Труд в собирательстве более производителен, чем труд в охоте.
В среднем час охоты доставляет 100 калорий, а час собирательства —
240. Надо, правда, иметь в виду, что в районе Доуб, где
исследовался пищевой рацион бушменов кунг, имеются большие заросли орехов
монгонго или мангетти, отличающихся высокой питательностью. Эти
орехи в 5 раз превышают по калорийности и в 10 раз по содержанию
протеина зерновые культуры земледельцев юга Африки. В среднем
бушмен съедает в день немногим более 200 граммов орехов, что по
калорийности равноценно 1 кг вареного риса, а по содержанию
протеина — 450 граммам нежирной говядины.
У бушменов гви Калахари в конце 1960-х годов основным
источником питания также было собирательство. Охоту они считали
ненадежным способом получения пищи. Добывание последней было
делом мужчин и женщин старше 15 лет, которые тратили на это в
среднем пять часов в день. Жизнь детей и подростков была свободна
от поисков пропитания 186.
Вместе с тем есть основания полагать, что для части общин
бушменов гви охота еще недавно была важнее собирательства. На
рубеже 50—60-х годов бушмены гви жили бродячими общинами
численностью в среднем от 40 до 60 человек в каждой. Они занимались
охотой и собирательством. По подсчетам Г. Сильбербауэра, 16
охотников одной из общин с помощью луков со стрелами и других
традиционных орудий убили за год не менее чем 1433 животных, что
составило около 9 тонн мяса. На каждого из 80 членов общины,
включая детей, пришлось в год более чем по 100 кг мяса. Отсюда
следует, что обеспеченность общиы бушменов гви мясом очень
высока и значительно превышает среднедушевое потребление мяса в
промышленно развитых странах. Судя по наблюдениям и подсчетам
Г. Сильбербауэра, в обследовавшейся им на предмет изучения
пищевого рациона общине бушменов гви главным источником питания
была мясная, а не растительная пища 187.
Р. Ли сравнил соотношение животной и растительной пищи в
рационе бушменов кунг с подобным соотношением у других групп
охотников и собирателей земного шара. Это сопоставление привело
его к выводу, что для питания половины обследованных групп охот-
7*
196
Глава третья
ников, рыболовов и собирателей (29 из 58) растительная пища
имеет большее значение, чем животная 188. Достоверность данных Р. Ли,
Дж. Вудберна и других исследователей, подчеркивающих
преобладание в пищевом рационе многих групп охотников и собирателей
растительной пищи над животной, не вызывает сомнений. В
наибольшей степени это положение верно для тропической и
субтропической зон, где из 28 обследованных групп собирательство
преобладает в 25 группах 189. \
Однако данныег о пищевом рационе современных охотников и
собирателей не могут прямо проецироваться на охотников и
собирателей верхнего палеолита и мезолита. Выше отмечалось, что в
конце плейстоцена — начале голоцена животный мир многих регионов
земного шара значительно оскудел и по числу видов, и по общей
плотности биомассы. В последующие эпохи вплоть до современности
продолжалось исчезновение стадных животных (например, бизонов),
охота на которых давала много мяса. Поэтому расчеты
эффективности охоты и собирательства в современную эпоху не могут прямо
проецироваться на верхний палеолит и мезолит.
Нет оснований думать, что в отдаленном прошлом сбор
растительной пищи давал значительно больше продукции на единицу
затраченного времени, чем в новое время. Напротив, коллективная
охота на крупных стадных животных давала огромные количества мяса,
неизмеримо большие в расчете на одного охотника, чем теперь дает
индивидуальная охота бушменов, хадза или подобных
этнографических групп на отдельных небольших животных. Не вызывает
сомнения, что в целом охота в верхнем палеолите и мезолите была
гораздо более производительной отраслью труда, чем собирательство. Тем
не менее, по-видимому, и в те эпохи имелись области ойкумены, где
собирательство, включая сбор моллюсков, было ведущим видом
хозяйства. Вероятно, так обстояло дело у хоабиньцев Вьетнама.
На морских побережьях на западе Европы, севере и юге Африки,
в Юго-Восточной Азии, на востоке США и в некоторых других
местах хозяйство раннепервобытных общин имело тенденцию не к
диверсификации, а напротив, к специализации, ориентируясь в
основном на ^сбор—еъедобныг моллюсков. Остатками этой деятельности
являются огромные раковинные кучи, обнаруженные в
вышеперечисленных районах. Хозяйственная специализация приводила к
изменениям в комплексе изготовлявшихся и применявшихся общинами
орудий. Он сокращается до небольшого числа типов инструментов,
служивших для вскрытия и опорожнения" раковин, разделки рыбы и
тому подобных целей.
Лишь в немногих местах земного шара сохранились до XX в.
племена, для которых сбор съедобных моллюсков, судя по
археологическим и этнографическим данным, с начала голоцена и до нашего
столетия оставался важнейшей отраслью хозяйства, хотя и
дополнявшейся в какой-то степени рыболовством и охотой на тюленей. К
числу таких племен принадлежат яганы и алакалуфы Огненной Зем-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
197
ли. Главным и наиболее распространенным из небольшого
ассортимента изготовлявшихся ими орудий был скребок для добывания
моллюсков из раковин. Рыбу яганы и алакалуфы ловили с помощью
плетеных ловушек, тюленей на суше убивали дубинками, а в воде —
гарпунами. На охоте использовались также копья и дротики, лук
применялся редко. Его тип, а также тип стрел совпадали с типом
лука и стрел северных соседей яганов — она. Археологические и
этнографические данные указывают на сравнительно недавнее
заимствование у она лука сначала яганами, а затем через их посредство —
алакалуфами 19(0
Изменения в хозяйстве мезолитических охотников и собирателей
по сравнению с их палеолитическими предшественниками повели к
изменениям в образе жизни, типах жилищ и поселений и других
элементах материальной культуры.
Общины становятся более подвижными, особенно по сравнению с
периодом расцвета верхнепалеолитической культуры. Стремление
возможно полнее использовать разнообразные пищевые ресурсы
приводит к возникновению регулярных сезонных миграций с
посещением в определенные периоды года постоянных мест, где в это
время созревает какой-то вид съедобных плодов или появляется много
животных. Такие сезонные миграции характеризуются
возвращением из года в год на одни и те же места. Так складывается сезонно-
оседлый образ жизни.
Сезонные поселения существовали в мезолите во многих районах
ойкумены, например в Европе, на юге Африки, в Северной Америке
и т. д. При этом одно поселение могло использоваться какой-то
общиной несколько десятков лет подряд, но не круглый год, а в
определенный сезон. Например, Кунда в Эстонии — летом, Стар Карр в
Англии — зимой. Общины, занимавшие такие поселения, обычно
были невелики по размерам, насчитывая не более нескольких десятков
человек. По большей части поселения состояли не из одной, а из
нескольких маленьких хижин. Но встречались и поселения из одной
сравнительно большой хижины, и сезонные поселения в большой
пещере, например в пещере Нельсон на юге Африки. В новое и
новейшее время сезонно-оседлый образ жизни вели аборигены восточной
Тасмании, помо, майду и некоторые другие племена калифорнийских
индейцев, бари Колумбии и Венесуэлы 191. Этнографические данные
о них подтверждают правильность той вышеприведенной
реконструкции образа жизни членов сезонно-оседлых общин, которую
делали археологи по своим материалам.
Наряду с сезонно-оседлыми в $ мезолите, судя по
археологическим данным, были и бродячие общины, остававшиеся на одном
месте лишь по несколько дней, и их противоположность — общины, по
много лет жившие на одном месте. Бродячий образ жизни вели,
например, мезолитические охотники Памира. Годичная и даже
поколенная оседлость была типична для древнейших мезолитических
обитателей Алеутских островов, которые с начала голоцена жили в этом
198
Глава третья
районе, исключительно богатом морскими пищевыми ресурсами
(тюлени, осьминоги, рыба, моллюски). Относительная оседлость была
характерна также для мезолитической общины, занимавшей пещеру
Духов в Таиланде, и многих других общин той же эпохи.
ί В XVII—XIX вв. бродячий образ жизни вели многие племена
охотников и собирателей Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
Это, например, майба,. буги, чирикуа и гуахибо венесуэльской
саванны, добывавшие себе пищу охотой на сухопутных животных и
собирательством. Их общины обычно не ночевали больше двух-трех дней
подряд на одном месте, постоянно передвигаясь в поисках дичи и
съедобных плодов. Изредка они строили примитивные шалаши, чаще
спали на циновках под кроной деревьев прямо на земле 192.
Почти столь же подвижны были обитатели берегов Ориноко гуа-
монтей, гуамо, тапарита и др. К XX в. из них сохранились только
яруро, охотники на крокодилов и собиратели черепашьих яиц. В
сухой сезон года яруро не оставались на одном месте дольше двух-трех
дней. На местах стойбищ строили ветровые заслоны из поставленных
вертикально веток или ограничивались тем, что вырывали в
прибрежном песке ямы, в которых и спали 193. В дождливый сезон
яруро по несколько недель жили на одном месте в шалашах, крытых
пальмовыми листьями.
В отличие от бродячих и сезонно-оседлых общин в
этнографической современности трудно найти примеры оседлых общин
мезолитического или ранненеолитического уровня. Оседлые
этнографические группы эпохи мезолита, например предки алеутов, обитая в
исключительно благоприятных природных условиях, по уровню
хозяйства стали высшими охотниками и собирателями. Другие оседлые
группы охотников и собирателей мезолита перешли позднее к
земледелию. Как высшие охотники, так и ранние земледельцы нового
времени относятся к следующей за раннепервобытной эпохе позднепер-
вобытной общины и будут рассматриваться в посвященной ей глав^..
В целом можно сказать, что, судя как по археологическим
данным, так и по этнографическим аналогам, хозяйственная
специализация, типы орудий, формы поселений и жилищ и весь образ жизни
раннепервобытных общин мезолита были весьма разнообразны,
определялись экологической обстановкой и этнокультурными
традициями.
В позднем мезолите развивается комплексное хозяйство, но нет
достаточных оснований подразделять культуры этой эпохи на две
стадии: охотничье хозяйство с применением лука и комплексное
охотничье-рыболовческое хозяйство. Комплексность или, напротив,
узкая хозяйственная специализация определялись в этот период не
столько уровнем технологического и социально-экономического
развития раннепервобытной общины, сколько конкретной
экологической обстановкой, а также этнокультурными традициями. Общины
одного стадиального уровня могли вести как комплексное охотничье-
рыболовческое или рыболовческо-охотничье хозяйство, так и специа-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
199
лизированное, например, ориентированное почти исключительно на
морское собирательство или охоту на определенный вид животных.
/.Этнографическим примером таких специализированных
охотников^ являются, например, охотники на крокодилов — индейцы яруро.
Крокодилов стреляют из луков специальными стрелами с
отделяющимся наконечником, привязанным к древку длинным шнуром.
Применяется и другой способ. На палку из крепкого дерева,
заостренную с двух концов, насаживается большой кусок мяса. Затем к
палке привязывают длинную веревку или проволоку и забрасывают ее
в воду. Крокодил глотает приманку и попадается, как рыба на
крючок. Пойманного крокодила поджаривают на горячих угольях, пока
его кожа не высохнет настолько, что ее можно будет содрать.
Крокодилье мясо до конца не дожаривают и едят полусырым. Соли у
яруро нет. Вместо нее они жуют соленую глину.
Интересно, что яруро охотятся не на всех крокодилов. Одну из
разновидностей кайманов они считают своими родственниками и не
убивают. Черепах удят с помощью крючков. Когда мяса много,
пойманных живых черепах привязывают к стоящим у берега лодкам и
так сохраняют их про запас. Изредка яруро охотятся на сухопутных
животных, главным образом оленей. Чтобы приблизиться к оленю на
расстояние выстрела из лука, охотник обмазывается белой краской,
приклеивает к ней птичьи перья и одевает маску в виде головы
крупной птицы. Затем он медленно приближается к оленю, стремясь
подражать движениям птицы, пока не подойдет на расстояние
выстрела 194.
Представление о комплексном охотничье-рыболовческом или ры-
боловческо-охотничьем хозяйстве людей позднего мезолита и раннего
неолита тропической зоны дают этнографические данные о племенах
Амазонии. Правда, подавляющее большинство племен Амазонии
занималось также примитивным подсечно-переложным земледелием.
Но их приемы охоты и рыболовства не отличались сколько-нибудь
существенным образом от соответствующих приемов неземледельческих
племен Амазоно-Оринокской области. Поэтому для проведения
этнографических аналогий с хозяйством общин позднего мезолита и
раннего неолита можно использовать обобщенную характеристику рыбо-
ловческо-охотничьего хозяйства индейцев южноамериканских
тропиков.
Важное значение в хозяйстве индейцев тропических лесов имеет
рыболовство. Амазонка и ее притоки Япура, Мадейра, Тапажос и
некоторые другие изобилуют рыбой. Рыба занимает в питании
индейцев большее место, чем мясо. Для ловли рыбы индейцы
перегораживают узкие речки запрудами, в отверстиях которых ставят верши. В
небольших прудах и старицах рыбу травят растительными ядами. Для
этого в воду выжимают сок ядовитых растений. Оглушенная рыба
всплывает, и ее собирают корзинами или просто руками. Часто рыбу
лучат острогой или стреляют из лука, делается это обычно с лодки.
Один индеец гребет, другой правит кормовым веслом, а третий стоит
200
Глава третья
на носу с острогой или луком. Индейцы используют рыбу не только
в пищу, но и для различных поделок. Из зубов большой рыбы
пираний изготовляют резцы и разные колющие орудия, из рыбьих
челюстей делают скребки и т. д.
Для большинства племен Амазонии рыболовство важнее охоты.
Объясняется это тем, что леса Амазонии вовсе не кишат животными и
птицами, как нередко думают. Совсем напротив, эти леса очень
пустынны. Можно идти несколько дней и не встретить ни одного
животного. Правда, обезьян и птиц довольно много, но густая листва
хорошо скрывает их от взоров охотника. Поэтому индейцам
Амазонки трудно обеспечить себя только охотой, и они почти всегда
сочетают ее с рыболовством и собирательством, включающим сбор яиц
мелких животных, моллюсков, меда, а также съедобных и
лекарственных растений.
Только немногие племена, например сириона Восточной Боливии
или уитото Восточного Перу, занимаются охотой больше, чем
рыболовством 195.
На тапиров и пекари часто охотятся загоном. Часть охотников
скрывается в засаде где-нибудь в зарослях, а другая часть гонит к
засаде стадо тапиров. Когда стадо приблизится к засаде, сидящие
там охотники выскакивают и колют животных копьями. Иногда
тапиров, пекари и оленей преследуют с собаками. На обезьян и птиц
охотятся в одиночку с луком и сарбаканом.
Для ловли птиц ставят также силки. На путях копытных
животных к водопою расставляют самострелы или роют ямы, искусно
маскируемые ветвями и листьями. Для поимки ягуаров строят в лесу
деревянные клетки с подвижной передней стенкой. Внутри такой
клетки помещают приманку. Когда ягуар входит в клетку за
приманкой, клетка захлопывается. В создании сложных ловушек ярко
проявляется изобретательность индейцев. У индейцев племени ягуа
в проектировании и изготовлении ловушки участвует вся община:
мужчины, женщины и даже дети. Сначала изготовляется
действующая модель и только затем ловушка в натуральную величину196;
4. Общественные отношения
и организация общества
Социально-экономические отношения. Для производственной
деятельности людей раннепервобытной общины был характерен
высокий уровень коллективизма. Индивидуально или небольшой
группой было невозможно ни убить примитивным оружием мамонта,
шерстистого носорога или другое крупное животное, ни загнать к
обрыву стадо лошадей или других животных среднего размера и
сразу убить много особей. Такое было под силу только большому
коллективу — целой общине или даже нескольким общинам,
объединившимся для совместной охоты.
В мезолите охота на отдельных некрупных животных индивиду-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
20f
ально или небольшой группой охотников приобрела заметное
значение в хозяйстве. Такое положение сохранялось и в неолите. Но это
не означало прекращения загонных охот с участием большого числа
людей. Как свидетельствуют данные этнографии, еще несколько
столетий назад, а в некоторых районах до XX в., крупные загонные
охоты широко практиковались племенами охотников и собирателей
различных регионов земного шара: нганасанами Сибирского Севера,
американскими эскимосами, индейцами южноамериканского Чако,
бушменами Южной Африки. В таких охотах принимали участие или
одна, или несколько соседских общин. Били животных мужчины, а роль
загонщиков, например у американских эскимосов, выполняли
женщины и дети 197.
Широкая кооперация труда была непременным условием при
многих видах рыбной ловли, которая, как отмечалось выше, приобрела
большое значение в хозяйстве раннепервобытной общины со времени
мезолита. Из археологических данных известно, что в эту эпоху в
Европе для ловли рыбы применялись различные ловушки. Из
этнографии известно, что лов рыбы с помощью плетеных ловушек или
отравы был общинным делом, скажем, для амазонских индейцев или
многих индейских и эскимосских племен Канадского Севера 198.
Коллективные охоты, ловля рыбы с участием всей общины —
мужчин, женщин, детей не исключали индивидуальных форм
промысловой деятельности. Возможности ее значительно расширились с
совершенствованием охотничьего и рыболовного снаряжения, а также с
изменением во многих регионах фауны при переходе от плейстоцена к*
голоцену. Но в раннепервобытной общине и тогда, когда человек
охотился или ловил рыбу в одиночку, его деятельность рассматривалась
и оставалась частью трудовых усилий всей общины по обеспечению
ее членов пищей. Это восприятие нашло свое отражение в формах
собственности и распределения, важным, а по мнению некоторых:
исследователей, даже главным объектом которых была пища199.
По-видимому, первоначально вся добыча, полученная в результате
как коллективной, так и индивидуальной охоты и рыболовства,
потреблялась совместно всеми членами общины. Такая форма
потребления существовала очень длительный исторический период, и в
районах со скудными природными ресурсами дожила у некоторых
племен охотников и собирателей до XX в. Так, у эскимосов-уткухик-
ялингмиут, одного из территориальных подразделений нетсиликов^
по словам К. Расмуссена, «люди стойбища жили летом и зимой в
состоянии столь ярко выраженного коммунизма, что не было даже
никаких особых охотничьих долей. Все трапезы совершались совместно-,
как только было убито какое-либо животное, хотя мужчины всегда
ели отдельно от женщин» 200. У полярных эскимосов Гренландии пи-_
ща также не только была общей собственностью, но и потреблялась,
как правило, совместно201. Эта древнейшая форма распределения пи-
Щи сохранилась почти до наших дней только у тех групп эскимосов,
чья производственная деятельность была наименее эффективной из-
202
Глава третья
за скудости пищевых ресурсов района, примитивности орудий или
сочетания обоих этих факторов.
В некоторых случаях обычай совместного потребления пищи
сохранялся у племен, сочетавших присваивающее с примитивным
производящим хозяйством, и это, как считает Ю. И. Семенов, «позволяет
привлекать для реконструкции начальной формы производственных
отношений материалы по народам не только с присваивающим, но и
производящим хозяством» 202. Например, кубео, тукано и другие
племена северо-запада Амазонии ели совместно всей общиной вне
зависимости от того, была ли приготовленная пища получена в
результате коллективной или индивидуальной охоты, рыбной ловли, работы на
огороде или сбора дикорастущих плодов203.
Исторически более поздним представляется порядок, когда пища
потреблялась совместно всей общиной лишь при особых
обстоятельствах (в случае голода), в обычное же время добыча
распределялась между всеми членами общины посредством системы охотничьих
долей. Такому распределению подлежала добыча и от коллективной,
и от индивидуальной охоты и рыбной ловли, и свою долю наряду с
другими членами общины получали лица, не участвовавшие в
производственной деятельности: старики, инвалиды и т. д. На этом этапе
развития форм собственности и распределения, как и на
предшествовавшем ему, охотничья добыча еще не стала собственностью
охотника или группы охотников, что нашло отражение в сознании.
^У собственно нетсиликов человек, отправляясь на промысел,
никогда не говорил: «Я пошел за тюленем», а говорил вместо этого:
«Пошел попытаться достать охотничью долю» 204. Доля самого
охотника у нетсиликов была настолько мала, что зачастую было
выгоднее получить долю от чужой добычи, чем убить зверя самому.
Фактически даже при индивидуальной охоте охотник добывал мясо не
только для своей семьи, но для всего стойбища. Его труд был
частицей общественного труда членов его общины.
У коряков Дальнего Востока в конце XIX в. мясо добытых
тюленей делилось между всеми жителями поселка, в том числе и теми,
кто по болезни или иным причинам не участвовал в охоте205.
Сходные нормы распределения охотничьей добычи
зафиксированы не только у охотников Севера, но и в охотничьих племенах
других областей земного шара.
Например, у ягуа восточного Перу при коллективной общинной
охоте на пекари, оленей, тапиров, если убито много животных,
каждый охотник получает по одному животному. Если добыча не столь
велика, то она делится по числу едоков в каждой парной семье
общины. Здесь налицо равнообеспечивающее распределение
охотничьей добычи, являющейся главным источником средств пропитания
для ягуа (хотя в небольших размерах они и практикуют
земледелие). Добычей от индивидуальной охоты охотник ягуа делится со
всеми нуждающимися в пище. Стариков, не способных больше
охотиться, кормят не только их дети, но и вся родовая община206.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
203
У сиуси Колумбии охотник, убивший в результате
индивидуальной охоты тапира, пекари, оленя или любое другое крупное
животное, отдает свою добычу старейшине, который делит ее между
живущими в общинном жилище парными семьями 207.
Формы распределения охотничьей добычи, учитывающие в
первую очередь потребность всех членов общины в пище, а не степень
их участия в охоте, зафиксированы этнографами у многих племен
Америки, Австралии, Африки и других регионов 208v.
По сравнению с обязательным разделом всей добычи от
коллективной и индивидуальной охоты и рыбной ловли между всеми
жителями селения, членами одной общины более поздними являются
нормы, согласно которым такому обязательному разделу подлежала
лишь продукция коллективной охоты, а добыча от индивидуальной
охоты лишь частично шла в раздел, или когда добыча даже от
коллективной охоты делилась прежде всего между присутствующими и
лишь в особых случаях — между всеми членами общины.
, У разных племен земного шара существует много различных
норм частичного раздела добычи. Стадиально их, видимо, можно-
объединить в одну группу форм собственности и распределения, в
третий этап развития этих форм. Так, у эскимосов Аляски, где
производительные силы и производственные отношения достигли более-
высокого уровня, чем у эскимосов Канады, благодаря более
благоприятной экологической обстановке, а также развитому обмену с
высшими рыболовами и охотниками северо-западного побережья;
Америки (тлинкитами, хайда, цимшиан) и чукчами нормы
распределения дальше ушли от первобытного равенства, чем, скажем, у
нетсиликов Канады: даже зимой, когда ощущалась нехватка пищи,
только половина тюленя делилась на доли, а другая оставалась
добывшему его охотнику. Морж делился только между
непосредственными участниками охоты на него. У азиатских эскимосов мясо
моржа делили поровну не только между членами артели, но и между
присутствующими. Между всеми жителями поселка делили лишь
мясо кита209. По другим народам Сибири эти и сходные с ними
данные обобщены в коллективной монографии «Общественный строй'
у народов Северной Сибири», в которой отмечается, что продукция
древнейших натуральных отраслей хозяйства при коллективных
способах охоты «делилась независимо от участия данной семьи в охоте,,
а лишь по числу едоков... При индивидуальной охоте охотник иногда
отдавал всю добычу для раздела, а сам получал потом свою долю
наравне с другими обитателями стойбища» 210.
С развитием форм собственности и распределения начинается и
экономическое выделение в общине отдельных домохозяйств.
Например» У чугачей Аляски обитатели дома обычно и охотились и ели
вместе и, за исключением случаев голода, не делили свою добычу с
Другими домохозяйствами общины. И у некоторых других групп
американских эскимосов пойманный тюлень обычно делился между
членами домохозяйства, состоявшего из родителей с женатыми^
204
Глава третья
сыновьями или замужними дочерьми, и только при нехватке пищи
добычу делили между всеми общинниками211. Экономическое
выделение домохозяйств в пределах общины — характерное явление для
ранних земледельцев, и думается, что и у охотников оно знаменует
собой переход от ранне- к позднепервобытной общине.
Формой распределения, расшатывавшей общинную собственность
на пищу, являлся и практиковавшийся .некоторыми племенами
Американского Севера порядок, согласно которому родители решали, что
их сыновья, став взрослыми, д-> тех пор, пока они будут жить в
одном стойбище и, следовательно, принадлежать к одной общине,
будут давать друг другу определенные части убитых ими тюленей.
И отцы мальчиков, заключив такое соглашение, сразу же начинали
давать друг другу обусловленные части добычи. Так возникали
длительные внутриобщинные межсемейные экономические связи. У тех
групп канадских эскимосов, которые практиковали подобный
порядок обмена пищей, ему подлежала не вся охотничья добыча, а
только определенная ее часть. Остальное мясо продолжали
распределять между всеми общинниками212. Вероятно, повсюду у охотников
и собирателей смена более ранних форм собственности на пищу
более поздними проходила через период сосуществования и борьбы
старых и новых норм распределения^
Весьма не просто соотнести этапы в развитии форм
собственности на пищу с этапами развития первобытной общины. Думается,
что без особого риска ошибиться можно считать совместное
потребление пищи характерной чертой раннепервобытных общин верхнего
палеолита, а для некоторых этнографических групп, живших в
экстремальных условиях,— также мезолита и даже раннего неолита. Не
вызывает большого сомнения и то, что наиболее поздний из
рассмотренных порядков распределения пищи, когда оно совершалось в
основном в пределах домохозяйства, а не всей общины, появляется на
этапе перехода от ранне- к позднепервобытной общине, т. е. у тех
групп охотников, собирателей и рыболовов, которых можно отнести
к типу высших охотников, собирателей и рыболовов или считать
приближающимися к этому типу. Различные же формы
распределения продукции охоты и рыболовства посредством охотничьих
долей, сначала от коллективного и индивидуального, позднее — только
от коллективного промысла, скорее всего отражают постепенное
вызревание в раннепервобытной общине производственных отношений,
присущих ее наследнику — позднепервобытной общине высших
охотников и собирателей и ранних земледельцев.
Кроме пищи, у людей верхнего палеолита и мезолита были и
другие объекты собственности. В литературе часто встречается
утверждение, что главным объектом собственности в эпоху
раннепервобытной общины была промысловая территория с ее природными
ресурсами. В обоснование его делаются ссылки как на
территориальность зоологических объединений у животных, в частности
обезьян, с одной стороны, так и на наличие собственности на территорию
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 205
у этнографических групп охотников, собирателей и рыболовов
нового времени — с другой213.
И тот, и другой аргументы, на наш взгляд, далеко не
бесспорны. У животных территориальность может наличествовать или
отсутствовать в зависимости от вида животного и, по-видимому,
также конкретной экологической обстановки. Например,
территориальность есть у волков, но ее нет у гиеновых собак. У антропоидов —
горилл, шимпанзе — зоны, осваиваемые отдельными стадами,
нередко перекрывают друг друга. Известны также случаи, когда
несколько стад шимпанзе временно кормятся на одной территории.
Поэтому нет оснований для иногда встречающихся в литературе
утверждений, что территориальность — это биологическое свойство,
унаследованное объединениями древнейших людей от зоологических
объединений животных, а затем воспринятое коллективами
охотников и собирателей палеолита и неолита.
Но, может быть, собственность на территорию возникает как
непременный элемент производственных отношений в ходе
исторического развития обществ охотников, собирателей и рыболовов?
Становление собственности на угодья в этих обществах действительно
происходит, но повсеместно собственность на землю возникает,
видимо, лишь с переходом от присваивающего хозяйства к
производящему или хозяйству высших охотников и рыболовов, т. е. с
переходом от ранне- к позднепервобытной общине.
^ У многих этнографических групп низших охотников и
собирателей существовала собственность на промысловую территорию,
племенная или общинная. Так обстояло дело, например, у всех или
большей части племен аборигенов Австралии, у эскимосов Аляски
и ряда других этнографических групп. Однако этнографии известны
также охотники и собиратели различных регионов земного шара,
у которых отсутствовали какие-либо формы собственности на
осваиваемую территорию. По данным многих исследователей (К. Биркет-
Смита, Э. Хокса, В. Тальбицера), которые дополняют и
подтверждают друг друга, никаких форм собственности на территорию не было
у эскимосов Канадского севера, Лабрадора, Восточной Гренландии.
По выражению К. Биркет-Смита, «промысловые угодья являются
собственностью всех и цикого, res nullius, на которые не может
претендовать даже племя». Промысловые угодья на суше и на море
свободны для всех. Не являются собственностью коллектива или
отдельного человека также другие ценимые эскимосами природные
ресурсы: залежи мыльного камня, лес-плавник и т. д.214 Характерно, что
собственности на территорию не было именно у канадских и восточ-
ногренландских эскимосов, живших в областях с неблагоприятной
экологической обстановкой, имевших значительно более низкие, чем
у эскимосов Аляски, производительность труда и плотность
населения. Совсем в другой области земного шара — в Экваториальной
Африке из двух этнографических групп охотников (мбути и ик)
собственность на территорию была отчетливо выражена у мбути, которые
206 Глава третья
имели более высокую производительность труда, чем ик, и осваивали
в расчете на одного человека меньшую площадь215. Не было
собственности на территорию у хадза, охотников и собирателей
Восточной Африки216.
Нам думается, что для охотников и собирателей верхнего
палеолита и мезолита какие-либо формы # собственности на территорию
были менее характерны, чем для низших охотников и собирателей
этнографической современности. В новое время эти группы
сохранялись лишь в маргинальных областях ойкумены, по большей части
испытывали территориальное давление со стороны европейских
колонизаторов или более развитых соседей (земледельцев, скотоводов,
высших охотников) Л13 числа коренного населения Африки,
Америки и других регионов)
В эпоху верхнего палеолита, а также в несколько меньшей
мере — мезолита картина была иной. При всем различии имеющихся
для этих эпох оценок численности населения ни у кого не вызывает
сомнения, что она была мала. На огромных пространствах жило
лишь по несколько тысяч человек. Таким, по одной из оценок, было,
например, население Австралии. За исключением некоторых
областей с ранним возникновением производящего хозяйства, общины
охотников и собирателей не были оттеснены давлением своих
более развитых и имевших большую плотность населения соседейФ/ На
то, что общины верхнего палеолита осваивали очень большие
площади, указывают данные археологии. Например, мезинская
верхнепалеолитическая община охотников на мамонта численностью около
50 человек осваивала 750 кв. км217. Мезолитическая община Стар-
Карр, состоявшая в среднем из 25 человек, зимой охотилась на
площади в 500 кв. км218. Летом, ведя бродячий образ жизни, она,
возможно, имела еще большие угодья.
{Для оценки размеров промысловых угодий раннепервобытных
общин мезолита и раннего неолита большое значение имеют
этнографические материалы.
У канадских эскимосов плотность населения была в начале XX в.
очень низкой — до 200 кв. миль на 1 человека. Заселенные
территории были разделены обширными незаселенными пространствами,
и собственность на землю, как уже отмечалось, отсутствовала. У
эскимосов Аляски плотность населения была в 5 раз больше (в
зависимости от района) плотности населения канадских эскимосов. Более
крупными были и общины219. Промысловые угодья у них
находились в собственности племени в целом или входивших в его состав
общин. В некоторых случаях появляются семейные охотничьи и
рыболовные участки220. Как мы подробно увидим в пятой главе,
плотность населения в верхнем палеолите и мезолите вообще была
низкой. Кажется вероятным, что численность общин, особенно
бродячих, и площадь используемых ими промысловых угодий были
сопоставимы с тем, что известно для канадских эскимосов; как и
последние, они еще не имели собственности на землю.
\ РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 207
\
Судя; по этнографическим данным, собственностью всей ранне-
первобытной общины были различные сооружения для коллективной
охоты или рыбной ловли. Так, у эскимосов собственностью общины
были казенные изгороди, использовавшиеся при коллективной
охоте на оленя, запруды на реках для ловли рыбы. В постройке их
принимала участие вся община, и использовались они также совместно
всеми общинниками. Амазонские индейцы имели сходные порядки.
Община у них совместно владела сложными охотничьими и
рыболовными ловушками, большими лодками, с которых производился лов
рыбы. В XVIII в., когда бушмены широко практиковали
коллективные охоты и строили с этой целью изгороди для загона животных,
эти сооружения также, по-видимому, находились в собственности
общины.
Число подобных примеров, относящихся к различным
этнографическим группам земного шара, можно было бы умножить/.
В личном владении находились охотничье оружие и снасти
индивидуального пользования (силки и т. п.), малые лодки, одежда,
домашняя утварь. Предметом владел тот, кто им пользовался.
Охотничьим оружием — мужчины, сосудами для приготовления пищи и
различными кухонными принадлежностями — женщины,
игрушками — дети. Такие порядки зафиксированы у эскимосов, амазонских
индейцев, огнеземельцев, бушменов, словом, у этнографических
групп самых различных областей земного шара.
\ У некоторых групп, например у канадских эскимосов, в начале
XX в. сохранялся порядок, согласно которому предметы, которыми
в данный момент не пользуется их владелец, не только можно, но
и должно было одалживать по первой просьбе члена своей общины.
У яноама Бразилии и Венесуэлы человек не мог владеть
несколькими однотипными предметами. Себе он мог оставить только один, а
остальные обязан был раздать членам своей общины221.
Большими жилыми постройками и общественными зданиями
обычно владела вся община. Такой общинной собственностью были
длинные дома западногренландских эскимосов, малоки яноама и
других племен Амазоно-Оринокской области, мужские дома у самых
различных этнографических групп. Малые жилища, в которых жила
одна элементарная семья, у большинства племен нового времени
находились в собственности занимавших их семей. В то же время у
полярных эскимосов односемейные зимние полуземлянки
принадлежали не отдельным семьям, а всей общине222. Поэтому одно и то же
зимнее жилище в разные годы могли занимать разные семьи.
Вероятно, общинная собственность на односемейные
долговременные жилища была отражением ограниченных технических
возможностей строительства у полярных эскимосов, в связи с чем
требовалось участие всей или значительной части общины в
сооружении даже небольших по размерам долговременных построек.
Закономерно предположить, что и малые долговременные жилища, из
которых нередко состояли поселки эпохи верхнего палеолита, были
208 Глава третья
собственностью общины, а не отдельной семьи, в равной степени
как собственностью общины были большие многоочажные жилища)
Для начальных этапов развития раннепервобытной общины
была характерна неразвитость наследования имущества. Оружие,
украшения и другие предметы, находившиеся в личной собственности
покойного, погребались вместе с ним или оставлялись сверху на
могиле. Так, в погребениях верхнепалеолитической стоянки Сунгирь
найдены наконечники копий. Распространенность подобного
обычая подтверждается этнографическими данными, относящимися к
наиболее отсталым группам охотников. Например, еще в XIX в. у
нетсиликов на могиле оставляли все личное имущество умершего.
{ Более поздним является порядок, зафиксированный у ряда групп
канадских эскимосов, когда на могиле оставляли не настоящее
оружие и другие вещи в хорошем состоянии, а их модели или
сломанные, негодные для дальнейшего использования вещи. У медных
эскимосов наиболее ценные вещи, оставленные на могиле, через
некоторое время забирались родственниками покойного 223. Отсутствие
соответствующих археологических данных не позволяет ответить на
вопрос, с какого времени личное имущество стало наследоваться, а
не изыматься из обращения со смертью владельца. Исходя из
этнографических аналогов, можно лишь предполагать, что наследование
личного имущества возникает еще на этапе раннепервобытной
общины охотников, собирателей и рыболовов./
Видимо, еще в верхнем палеолите довольно широко
практиковался межобщинный обмен. Археологическим свидетельством его
служат находки кавказского обсидиана на Тельманской стоянке в Ко-
стенках и еще дальше от Кавказа — на Печоре на Крутой горе,
находки янтаря в Мезине, Чултове II, Добраничевке и на многих
других стоянках Русской равнины. В Мезине, в 600 км от Черного
моря, было найдено ожерелье из черноморских раковин, а на
верхнепалеолитических стоянках, в XIX в. открытых Германии и
Франции, обнаружены раковины с берегов Средиземного моря224.
1 Судя по этнографическим данным, межобщинный обмен
осуществлялся в форме дарообмена и не позднее конца верхнего палеолита
возникли длинные цепочки дарообмена, соединявшие общины,
жившие далеко друг от друга. Такие цепочки связывали, например,
многие племена Австралии. В результате морские раковины с
северовосточного побережья Австралии доходили до ее южного
побережья^25.
Первоначально" основным предметом обмена скорее всего было
прй^юдное-^ырье. С мезолита или с раннего неолита в обмен
включаются также изделия, в производстве которых было особенно
искусно то или другое племя. Обмен на этом этапе способствует
поддержанию межобщинных и межплеменных связей. Он
сопровождается и тесно переплетается с межобщинными (межплеменными)
празднествами и обрядами. Можно предполагать, что на поздних
этапах развития раннепервобытной и в начальный период позднеперво-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 209
бытной общины межобщинный и межплеменной обмен
осуществлялся примерно так же, как у австралийцев или у индейцев верховьев
р. Шингу в БразилииГ В Австралии существовала специализация
отдельных племен на изготовлении различных изделий: оружия,
орудий труда, утвари, украшений. Например, варрамунга делали не
только для себя, но и для обмена щиты, урабунна — сумки из
растительных волокон и т. д.226. Сходные порядки зафиксированы у
охотников и собирателей Колумбии (маку), а также у
находившихся на начальном этапе позднепервобытной общины индейцев
верховьев р. Шингу в Бразилии.
У всех них основой межобщинного обмена, бывшего чаще всего
одновременно и межплеменным, являлась специализация отдельных
племен на производстве определенных изделий или на добыче
какого-то сырья и продуктов. Так, каменные топоры делали только тру-
маи и суйя> поскольку только на их территории имелось пригодное
для производства этих орудий сырье. Камайюра изготовляли лучшие
луки, а трумаи — лучшие стрелы к ним. Мехинаку делали лучшие
флейты, нахуква были особенно искусны в изготовлении тыквенных
сосудов, а также украшений из раковин и орехов. Только трумаи и
мехинаку добывали соль, извлекая ее из золы бамбука и водяных
лилий. Соответственно при межплеменном обмене трумаи
выменивали свои топоры на луки камайюра, нахуква за нужные им изделия
других племен давали тыквенные сосуды и украшения и т. д. и т. п.
При обмене не использовался какой-либо всеобщий эквивалент,
но, по утверждению некоторых исследователей, количество труда,
затраченное на производство предмета, все же учитывалось при
обмене, хотя при определении стоимости предмета первенствовал не
этот фактор, а разнообразные причины, определявшие
потребительскую стоимость предмета на данный момент. Обмен мог
совершаться как отдельными лицами, так и целой общиной. В первом случае
гость, приехавший в чужую общину, делал подарок человеку, в
жилище которого он остановился, а перед отъездом получал ответный
подарок. Во втором случае целая община отправлялась в соседнее
селение и там перед общинной хижиной выкладывала привезенные
ею изделия и продукты. Жители селения делали то же самое. После
завершения обмена устраивались празднества, танцы, пир227.
Пропорции, в которых «обменивался один предмет на другой, не
фиксировались или, вернее, не были постоянными». Один и тот же
предмет в одном случае мог быть обменен на один бумеранг, а в
другом — на шесть бумерангов. Это было связано с тем, что
потребительская стоимость предметов для лиц, вступающих в обмен, часто
менялась в зависимости от самых различных причин. Отсюда
А. М. Румянцев делает вывод, что «в обмен вступают не два
продукта, а их хаотическая масса, меняющаяся по своему
потребительскому содержанию с обеих обменивающихся сторон. Это основная
характеристика возникающих межобщинных экономических
связей» 228.
/
/
210 Глава третья \
В отличие от межобщинного внутриобщинный обмен, как
отмечал уже К. Маркс, не практиковался в начальный период развития
первобытной общины, т. е. в эпоху раннепервобытной общины229.
Для него не было экономической основы. Люди могли свободно и без
какой-либо компенсации пользоваться оружием и другими
предметами, изготовленными любым членом своей общины. Не требовалось
компенсации и в том случае, если одолженная вещь была сломана
в процессе пользования ею. Скорее всего внутриобщинный обмен
возникает лишь с развитием собственности и наследования на
этапе перехода от ранне- к позднепервобытной общине./
Община — род — племя. Во второй главе уже рассматривались
некоторые аспекты общественной организации раннеродового
общества. По-видимому, общественные отношения, сложившиеся в начале
верхнего палеолита, сохранялись большую часть этой эпохи.
Изменения начинаются в конце ее и продолжаются в мезолите. Так,
вытеснение общинных жилищ маленькими хижинами и различными
видами временных укрытий, имевшее место в конце верхнего
палеолита в приледниковой зоне Евразии, по-видимому, отражает
определенные сдвиги в социальной организации в этот период, в
частности в соотношении общины и семьи. На эти изменения
неоднократно обращалось внимание в литературе. Если в более ранний
период верхнего палеолита в Восточной Европе, как писал А. Н. Ро-
гачев, возможно, существовали «устойчивые» поселения деревнями,
то позднее, в конце верхнего палеолита, постоянные жилища с
мощным культурным слоем, свидетельствующим о длительном обитании
коллективов людей в одном месте, исчезли, а «их место заняли
временные сезонные стойбища по берегам рек, содержащие очень
тонкий культурный слой без остатков крупных ям, землянок и
сооружений из костей» 230.
Стоянки с малыми жилищами конца верхнего палеолита в
Восточной Европе и Северной Азии исследовались многими
археологами, например И. Г. Шовкоплясом на Украине, Η. Η. Диковым на
Камчатке, И. Г. Шовкопляс вскрыл на Добранической стоянке
четыре хозяйственно-бытовых комплекса. Каждый состоял из
небольшого наземного жилища, округлого в плане, диаметром 4 м,
производственного центра с обломками камня (кости) и изделий из них,
очагов и ям-хранилищ с костями животных. Эти комплексы стояли
обособленно на расстоянии более 20 м один от другого. По мнению
И. Г. Шовкопляса, каждый из этих комплексов был местом
обитания и хозяйственной жизни небольшой (парной) семьи, входившей
в состав родовой общины, населявшей стоянку в целом231.
Η. Η. Диков, анализируя Ушковскую стоянку на Камчатке,
писал, что уменьшение размеров жилищ к концу верхнего палеолита,
возможно, вызвано кризисом хозяйства в приледниковой зоне в
связи с вымиранием крупных толстокожих и возрастающей ролью
охоты на более мелких животных и рыболовства и что, вероятно,
селения из маленьких жилищ этого периода свидетельствуют о выделе-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 211
нии в составе рода (точнее, родовой общины.—Л. Ф.) мелких
семейных и производственных ячеек 232.
Такие предположения высказывались не только Н. Н. Диковым
и не только в отношении приледниковой зоны Сибири и Дальнего
Востока, но и в отношении Восточной Европы. В Восточной
Европе лишь охота на мамонта обеспечивала коллективам первобытных
охотников возможность круглогодичной оседлости в больших
жилищах или деревнях из маленьких жилищ. Охота на мамонта давала
этим общинам, по подсчетам палеозоологов, в шесть раз больше
мяса, чем охота на остальных животных, вместе взятых233. Видимо, с
конца верхнего палеолита в результате уменьшения количества
зверя охотничьи коллективы стали временно (сезонно) распадаться на
мелкие семейные производственные группы, сочетающие охоту с
собирательством 234.
В результате крупная родовая община расщепилась на мелкие
бродячие коллективы, которые в поисках пищи вынуждены были
систематически передвигаться, собираясь вместе лишь несколько раз
в году. В этих условиях род в значительной степени утерял
хозяйственные функции и сохранился преимущественно как брачно-регули-
рующее и надстроечное объединение. Жизнь мелкими группами
родственников, иногда, вероятно (как это имело место у охотников и
собирателей нового времени), делившимися даже на парные семьи,
привела к значительному укреплению экономической роли
последней.
Ликвидация оседлости и жизнь мелкими родственными
группами, когда члены одного рода подолгу не встречались друг с другом,
естественно, вела к ослаблению родовых связей, к объединению в
составе одной общины тех групп людей из разных родов, которые
кочевали по соседству друг с другом. Так, вероятно, в Европе и Сибири
возникали дисперснородовые общины, в которых родовые связи уже
не совпадали в основном с территориальными, а пересекались с
ними, давая в сумме картину, подобную той, которую этнографы
наблюдали у аборигенов Австралии. По-видимому, все это
способствовало нарушению прежней унилинейной материнской филиации и
возникновению в зависимости от конкретных обстоятельств (которые
надо исследовать в каждом отдельном случае) общин билинейных, с
двойной филиацией, а также отцовскородовых. Эти процессы
продолжались и в мезолите.
Локальные группы с однородовым ядром сменяются во многих
племенах охотников и собирателей аморфными территориальными
объединениями, включающими членов нескольких родов. На
протяжении года состав таких объединений в зависимости от
хозяйственных и иных потребностей часто меняется. Такие аморфные
объединения описаны, например, М. Меггитом у валбири. Дж. Бердселл на
австралийском же материале показал механизм и динамику
превращения сравнительно устойчивых общин прошлого в аморфные
многородовые группы новейшего времени235.
212
Глава третья
Компактнородовые общины были утрачены далеко не всеми
племенами охотников и собирателей. Так, у индейцев она (селькнам)
в начале 20-х годов XX в. ядро каждой общины образовывал один
отцовский род. В состав селькнам входили 39 локализованных родов,
членство в которых, включая права на родовую собственность,
являлось пожизненным, счет родства велся по отцовской линии, все
члены рода признавали свое происхождение от общего мифического
предка, строго соблюдалась родовая экзогамия и т. д. Таким образом,
очевидно, что перед нами никак не билинейная община, а ранний
отцовский род236. Каждый из этих родов составлял ядро общины с
числом членов от 40 до 120 человек. В связи с потребностями
собирательского и охотничьего хозяйства родовая община в
повседневной жизни делилась на несколько маленьких хозяйственных групп,
передвигавшихся в пределах родовой территории. Состав таких
мелких групп часто менялся в зависимости от производственных
потребностей, но все эти изменения совершались в границах патрилиней-
ной родовой структуры. Парные семьи, хотя и выделялись в составе
родовой общины, но не обладали ни экономической, ни социальной
самостоятельностью237. Каждый род имел своего старейшину. Его
звание не наследственно.
Итак, судя по этнографическим данным, можно предположить,
что мезолитические охотники саванн и памп Южной Америки
образовывали племена, состоящие из родовых общин. И в целом
представляется ошибочным широко распространенное представление о
типичности для охотников и собирателей билинейной дородовой
общины. Материалы об индейцах она Америки подтверждают точку
зрения многих советских исследователей о раннем возникновении
родовой общины, которая иногда до новейшего времени оставалась
материнской, например у веддов.
Лесные ведды делились на 10 общин «варуге». Каждая из них
имела свою территорию. В границах ее все члены варуге имели
равные права на охотничьи земли, рыболовные угодья, места
произрастания съедобных растений, естественные укрытия — гроты и
пещеры.
У лесных веддов существовали матрилинейность и матрилокаль-
ность. Кросс-кузенный брак считался идеальной формой брака, а
орто-кузенный осуждался как кровосмешение. Практиковались
левират и сорорат. И брак и развод не сопровождались какими-либо
сложными церемониями. Женщина в браке пользовалась равными
правами с мужчиной238.
Иными словами, у лесных веддов сохранялись многие черты,
присущие материнскому роду. И судя по различению в
терминологии родства параллельных и кросс-кузенов, по взгляду на
встречающиеся теперь иногда орто-кузенные браки как на
кровосмесительные, у веддов в прошлом существовала родовая экзогамия.
В XX в. этот обычай уже не соблюдался. Каждая варуге,
несколько веков назад, видимо, являвшаяся родовой общиной, пред-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
213
ставляла в XX в. объединение, самостоятельное во всех отношениях,
и связи между отдельными родовыми группами стали
незначительны.
Не исключено, на наш взгляд, что когда-то группы варуге
образовывали общности более высокого порядка — племена. Их
исчезновение, а также нарушение экзогамии могли быть связаны с
выходом большей части веддов из лесов и переходом к сельскому
хозяйству и поселению деревнями, уже не связанными с прежними
родовыми делениями239. Думается, прав археолог П. Дериянагала,
считающий, что вариации, выявляющиеся при сравнении синхронных
археологических материалов из разных пещер, отражают племенное
деление веддов и могут ассоциироваться с племенными названиями,
известными из исторических источников 24°.
У веддов, оставшихся в лесах, вся варуге редко собирается
вместе. Обычно ее члены и живут, и охотятся маленькими
коллективами по 2—5 семей в каждом. Эти коллективы ведут подвижный образ
жизни, периодически в соответствии с сезонами охоты и
собирательства переходя из одного грота в другой, а в засушливое время
года передвигаясь по берегам лесных рек и ночуя в шалашах или
просто под кроной деревьев.
В то же время многие отсталые охотники и собиратели ко
времени, когда они были исследованы учеными, не имели родовой
организации. Так обстояло дело у американских эскимосов, северных
атапасков, алгонкинов, бушменов, хадза и т. п. У них были только
более или менее аморфные территориальные общины. Несколько
таких общин образовывали племя. Последнее выступало как*
этническая общность, но не имело органов управления. Характерными
примерами аморфных общин являются общины бушменов кунг и гви.
Наиболее важная социальная единица общества бушменов —
локальная группа. Это автономный коллектив, в целом ответственный
за действия своих членов по отношению к соседним локальным
группам. Локальной группой руководят наиболее искусные охотники и
старики. Локальные группы (общины) северо-западных племен
бушменов (хейкум, кунг и др.) имели, по данным И. Шаперы,
наследственных вождей. По подсчетам первых европейских
исследователей, численность общины достигала 100—150 человек. Позднее она
значительно сократилась и чаще всего колебалась от 30 до 60
человек. По-видимому, члены общины по большей части связаны между
собой отношениями родства. По крайней мере у кунг Анголы члены
общины почти всегда состоят, в родстве между собой. Так же
^обстоит дело у бушменов пустыни Намиб. Как отмечает И. Шапера,
обычно кунг вступали в брак вне своей общины. Преобладал патрило-
кальный брак241. Нам кажется с учетом вышесказанного, что в
прошлом у бушменов была родовая организация, хотя надо признать, что
этот вопрос остается не вполне ясным ввиду отсутствия данных.
Каждая локальная группа осваивает определенную территорию.
В ее пределах она им^ет права на водные источники, заросли орехов
214
Глава третья
мангетти и другие ресурсы. На этой же территории обычно ведется
и охота. У ряда племен раненое животное можно преследовать и на
землях соседних локальных групп своего племени, но за это им нада
отдать часть добычи.
Большую часть года локальная группа не функционирует как
единое целое, а разделяется на подгруппы из одной или нескольких
семей каждая242.
Еще более аморфна, чем у кунг и хейкум, община бушменов гви.
X. Танака обращает внимание на неустойчивость состава общины
гви, на непостоянство ее размера. Их община может включать от
одной до двадцати элементарных семей. Это зависит от обилия или,
наоборот, нехватка пищи на данной территории, желания устроить
коллективную охоту или отсутствия такого и ряда других факторов.
Раз в несколько дней или в несколько недель община переселяется
на новое место. Это обычно сопровождается изменениями в ее
составе. И в этом отношении гви напоминают хадза. Родовая
организация у гви отсутствует. Система родства у них классификационная,
но не унилинейная243.
Нам думается, что преобладание у кунг и, видимо, у большинства
бушменов гви растительной пищи, сбор которой не требовал
координации и кооперации усилий коллектива, могло способствовать
аморфности и неустойчивости социальной организации этих этно- -
графических групп.
В последние десятилетия работами многих советских и
зарубежных специалистов было доказано, что аморфным территориальным
общинам эскимосов, индейцев Американского Севера и амазонских
лесов, равно как и многих других народов, предшествовали родовые
общины244. Выше мы уже высказывали предположение, что
ослабление родовой организации, утрата родом многих его функций
могли происходить еще с конца верхнего палеолита — начала
мезолита и продолжаться позднее в результате изменения экологической
обстановки. На первый план в этом случае выступали разные виды
территориальных общин, на которые проецировались многие
функции рода. Подобные общины существовали, например, у канадских
эскимосов.
Они жили общинами, каждая из которых осваивала
определенную территорию. Такая община насчитывала в среднем около 100
человек. Ее члены были связаны узами родства, разнообразными
формами соседских взаимоотношений, включавших раздел добычи,
общие обряды, песенные соревнования и т. д. У иглуликов и
некоторых других эскимосов во главе общины стоял старейшина. Зимой
каждая община образовывала одно стойбище на морских льдах, и
ее члены занимались охотой на тюленей через продушины.
Совместная жизнь общины длилась до пяти месяцев в год. На остальное
время община расщеплялась на несколько охотничьих групп,
насчитывавших каждая от 5 до 50 человек и состоявших из больших или
иногда малых семей245.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
215
Из-за отсутствия этнографических аналогов трудно сказать что-
либо определенное о сложении племенной общности на протяжении
эпохи верхнего палеолита. Судя по увеличению за этот период числа
четко очерченных археологических культур, можно предполагать,
что признаки племенной общности постепенно становились более
ярко выраженными.
Складывающееся племя территориально, этнически и социально
все определеннее выделялось из более широких этнокультурных
образований (этнокультурных областей, по терминологии А. А.
Формозова) 246. Более единообразными и отличными от присущих
соседним племенам становятся племенная культура и язык,
уменьшается число межплеменных браков, укрепляется племенная
экономическая общность. Вероятно, в эту же эпоху складываются
племенные обряды, возникает племенное самосознание и, может быть,
также самоназвание.
К мезолиту племя вполне оформляется как этническая общность,
если считать, что «этнос (в узком значении этого термина) может
быть определен как исторически сложившаяся на определенной
территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими
относительно стабильными особенностями языка и культуры, а также
осознанием своего единства и отличия от других подобных
образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании
(этнониме)»247. Этому определению отвечали, например, две
территориальные группы индейцев она Огненной Земли *. Одна из них называла
себя хауш (также манекенкн), а другая — селькнам. Хауш и сельк-
нам говорили на родственных языках лингвистической семьи чон,
различались они и по своей культуре. В то же время те и другие
относились к одному хозяйственно-культурному типу пеших
охотников. Это, как и язык, сближало их с техуэльче — пешими
охотниками пампы и отделяло от их соседей — морских охотников и
собирателей — яганов и алакалуфов248.
Селькнам подразделялись на северных и южных. Между ними
имелись довольно небольшие языковые (диалектальные) и
культурные различия. Отношения между северными и южными селькнам
характеризовались некоторой враждебностью.
Общая численность она к 80-м годам XIX в. составляла около
2000 человек. С вторжением на остров золотоискателей и овцеводов,
безжалостно истреблявших индейцев, численность последних стала
быстро уменьшаться. К 1910 г. их осталось 279 человек, к
середине 20-х годов около 100 человек. Из них только один был хауш, а
остальные — селькнам.
Нам думается, учитывая различия в самоназваниях, языке и
культуре, что хауш и селькнам были отдельными, хотя и родствен-
* Как было установлено исследованиями, проведенными в XIX в., она не
самоназвание, а слово, которым пользовались яганы для обозначения этих
индейцев.
216
Глава третья
ными между собой племенами. Северное и южное подразделения!
селькнгм, возможно, были двумя фратриями этого племени. Но не
исключено, что они являлись просто территориальными
подразделениями племени седькнам.
У бушменов несколько соседних групп составляли племя
численностью до 500 человека Каждое племя имело свое самоназвание.
Локальные группы, входящие в племя, говорили на одном языке.
Преимущественно' между соплеменниками заключаются браки. В
период изобилия пищи все племя собирается вместе и устраиваются
общеплеменные празднества, но в общем роль племени в социальной
структуре бушменов, по крайней мере в XX в., была невелика. Оно
выступало главным образом как этническая, а не социальная
общность. Племенной организации нет249.
У эскимосов канадской Арктики пять-шесть общин, кочевавших
в пределах вполне определенной территории, образовывали племя.
Как правило, и заключение браков, и переход людей из одной общины
в другую совершались только в своем племени. Все люди племени
говорили на одном диалекте, имели общие обычаи, были связаны друг
с другом кровным родством или по браку. И территориально и в
самосознании они четко отличали себя от людей из соседних
племен 25°.
Лишь немногие племена эпохи раннепервобытной общины
имели общепломенную организацию во главе с вождем (яруро).
Брак и семья. Ни археологические материалы, ни
этнографические данные о характере брачно-семейных отношений в обществах
охотников и собирателей нового и новейшего времени не дают
однозначного ответа на вопрос о том, как эти отношения возникли и
эволюционировали на протяжении каменного века. По этому вопросу
есть много гипотез. Как правило, их можно свести к двум основным.
Согласно одной из них, разделяемой в советской науке
преимущественно археологами, еще в верхнем палеолите общины
состояли из малых семей, которые нередко жили в отдельных хижинах,
составлявших в сумме общинно-родовой поселок. Эти малые семьи
были важными производственными ячейками, вне зависимости от
того, жили ли они в односемейных жилищах или в большом
жилище, где каждая семья имела свой очаг251.
В пользу этой гипотезы обычно не приводятся какие-либо
аргументы, кроме ссылки на наличие на верхнепалеолитических
стоянках небольших одноочажных жилищ, на соответствие числа очагов
и производственных мест, а также на будто бы существующее
повсюду в обществах охотников и морских зверобоев распределение
добычи по малым семьям252. Сторонники подобной точки зрения
смешивают два различных вопроса: о времени возникновения парного
брака и элементарной семьи и о времени выделения ее в качестве в
значительной мере самостоятельной экономической ячейки.
В сущности именно этот второй вопрос и является предметом
дискуссии. Сторонники второй точки зрения, признавая саму возмож-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 217
ность сожительства брачными парами еще на ранних этапах
верхнего палеолита, считают в то же время, что эти брачные союзы были
весьма неустойчивыми и не составляли самостоятельных
экономических ячеек. Вероятным это кажется и нам. Как крайний вариант
этой второй точки зрения существует идея о дислокальности брака
ъ верхнем палеолите (подробнее о ней говорилось в гл. II).
Судя по этнографическим данным, брачные союзы даже в
поздний период раннепервобытной общины (в мезолите и раннем
неолите) были очень непрочны. Например, у эскимосов было обычным,
чтобы мужчина или женщина проходили за свою жизнь через
шесть —>· восемь браков. Особенно, непрочными и кратковременными
были браки у молодых людей, еще не имеющих детей.
Экономическая самостоятельность такой семьи в пределах общины была весьма
относительна.
Исходя из изложенных в предыдущем разделе гипотез о
социально-экономических отношениях и их эволюции в эпоху
раннепервобытной общины, закономерно предположить, что в верхнем
палеолите малая элементарная семья еще меньше выделялась
экономически в составе общины, чем в мезолите и раннем неолите.
Ни у одной из отсталых этнографических групп новейшего
времени, будь то в Австралии, Американской Арктике или на
Огненной Земле, семья, состоящая из родителей и детей, не является
основной производственной ячейкой. Даже охотясь отдельно, семья
зачастую опирается на помощь своей общины. Например, у эскимосов
она имет право питаться из складов мяса, сделанных другими
семьями. И чем неблагоприятнее среда, чем ненадежнее источники
пищи, тем более необходимыми оказываются взаимопомощь членов
общины и первобытный коллективизм потребления. Как справедливо
отмечают Э. Вейер и Ж. Малори, без помощи коллектива семья не
выдержала бы суровой борьбы за существование253. Материалы об
австралийцах, ведда, бушменах и других охотниках и собирателях
подтверждают, что и у них можно говорить лишь об «относительной,
условной, временной хозяйственной самостоятельности семьи» и что
«малая семья всегда рассматривает себя как часть более крупного
коллектива, с которым она постоянно связана многочисленными и
прочными узами» 254.
Нам кажутся неубедительными взгляды С. Н. Бибикова,
В. М. Массона, Г. П. Григорьева л некоторых других археологов,
рассматривающих малые жилища как место обитания по сути дела
самостоятельной или почти самостоятельной в хозяйственном
отношении малой семьи. Широкое распространение в верхнем палеолите
Европы и Сибири наряду с большими многоочажными жилищами
селений из маленьких одноочажных жилищ (Добраничевка,
Буреть и др.) — бесспорный факт, но далеко не бесспорно, что его
можно считать доказательством большой экономической роли и
самостоятельности малой семьи.
Выше мы пытались показать на основе этнографических данных,
218
Глава третья
что производство и потребление в раннепервобытных общинах
нетолько верхнего палеолита, но и мезолита было преимущественна
общинным, а не посемейным. И характер социально-экономических
отношений не менялся в зависимости от наличия или отсутствия
семейных очагов и производственных мест, в зависимости от
проживания всей общины в одном большом или в нескольких маленьких
жилищах, отдельных для каждой элементарной семьи.
На наш взгляд, и использование археологических данных о
наличии отдельных (семейных) очагов в больших жилищах, о
совпадении числа летних очагов и производственных мест для
доказательства тезисов о малой семье как основной экономической ячейке
общества, о посемейном распределении пищи и т. п. также
неправомерно прежде всего потому, что такие аргументы противоречат
соответствующим этнографическим данным.
Исследователям различных этнографических групп, сохранявших
до недавнего времени первобытнообщинный уклад и родо-племеннун>
организацию, известно, что наличие отдельных производственных
мест у парных семей и посемейное приготовление пищи на
отдельных очагах могут сочетаться с ее коллективным потреблением. При
этом такой коллективизм в потреблении пищи имелся и там, где
посемейные очаги находились внутри общинного жилища, и там, где
парные семьи готовили пищу на отдельных очагах, устроенных на
открытом воздухе, и наконец, там, где парные семьи жили не в
большом общинном жилище, а в маленьких хижинах, образовывавших
поселок данной общины.
У кубео Колумбии, рыболовов, охотников и примитивных
земледельцев, в сдной хижине обычно живет вся родовая община,
состоящая из 8—12 малых семей. Каждая парная семья имеет в этой
хижине свое место и свой очаг, на котором готовят пищу. Но хотя
пищу готовят врозь, едят ее совместно всей общиной, не считаясь с
тем, кто что сготовил. Такой порядок соблюдается в отношении всей
пищи, независимо от того, добыта ли она путем коллективной охоты
и рыбной ловли или трудом отдельного мужчины или женщины на
семейном огороде, индивидуальной охотой или рыбной ловлей.
Как только пища готова, женщины снимают ее со своих очагов
и несут в центр хижины. Здесь собираются мужчины и мальчики.
Они едят первыми. При этом хорошим тоном считается, чтобы
каждый попробовал пищу, принесенную каждой женщиной. Во время
этих трапез мужчины редко едят досыта. Они стремятся, чтобы
осталось достаточно пищи для женщин, которые будут есть noctfe них255.
Некоторые родовые общины кубео живут не в одной большой
хижине, а в нескольких малых односемейных, образующих одно
селение. Это не нарушает экономических обязательств членов общины
друг к другу. Следовательно, даже с возникновением примитивного
земледелия, сочетаемого с охотой и рыбной ловлей, наличие
семейных очагов и семейных хижин первоначально не препятствует
реализации уравнительного распределения пищи.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
219
Поэтому в данном вопросе этнографический материал
свидетельствует в пользу гипотезы П. И. Борисковского, согласно которой в
верхнем палеолите «хозяйственно, экономически малые одноочаж-
ные хижины не были чем-то противоположным друг другу, резко не
различались», так что поселок из маленьких хижин составлял такое
же хозяйственное целое, как и общинное жилище256.
Ягуа восточного Перу до последних десятилетий жили в
общинных жилищах. В каждом из них был родовой очаг, но по большей
части парные семьи готовили пищу не на нем, а на устроенных вне дома
семейных очагах. Это не препятствовало, как уже отмечалось выше,
уравнительному потреблению мяса и других видов пищи257.
У уитото Перу в начале века в каждой семье был свой очаг в
общинном жилище, но, помимо этого, постоянно горел очаг
старейшины, на котором стоял горшок с пищей, откуда могли брать еду все,
кому это было нужно. Его пополняли все общинники, и в первую
очередь неженатые мужчины258. Парные семьи в верхнем
палеолите и мезолите могли жить и в большой, и в маленьких хижинах, но
в обоих случаях они составляли общину, которой был присущ
коллективизм производства и потребления:
ι Управление. Как отмечалось выше, уже в верхнем палеолите лю-'
диТгелилйсь и в больших общинных жилищах, и в поселках,
состоявших из жилищ меньшего размера. Очевидно, что совместное
проживание, производственная деятельность, регулирование брачных,
обрядовых и многих других типов отношений членов раннепервобыт-
ной общины требовали каких-то форм управления. Археологический
материал лишь свидетельствует о наличии такого управления, так
как без него были бы, в частности, невозможны коллективные
охоты, широко практиковавшиеся еще в начальный период верхнего
палеолита. В то же время по данным археологии невозможно
установить, как конкретно осуществлялось управление в раннепервобыт-
ной общине. Ответ на этот вопрос могут дать только
этнографические наблюдения общин охотников и собирателей.
По-видимому, для ранних форм управления характерно
отсутствие формального лидерства и широкий учет желаний и мнений всех
взрослых членов общины при принятии решений. Какие-либо
формы управления этно-социальными организмами более крупными, чем
община (племенами), как правило, возникают не раньше периода,
предшествовавшего переходу от ранне- к позднепервобытной
общину
/Возможно, ранние формы управления в общинах охотников
были схожи с теми, которые бытовали сравнительно недавно, еще в
начале нашего столетия, у нетсиликов, одной из самых
консервативных по своей культуре групп эскимосов Американской Арктики. Во
главе их общин, являвшихся основными социально-экономическими
единицами нетсиликов, обычно стоял старший из трудоспособных
мужчин такого коллектива. Его называли «инхуматак» — «тот, кто
думает» 259. Он назначал время и подавал сигнал для отправления
220
Глава третья
на коллективные охоты на оленей-карибу или лов рыбы, определял
время и направление перекочевок и выбор места для нового
стойбища. Но все эти решения инхуматак принимал после совета со всеми
взрослыми охотниками общины, зачастую после длительных
обсуждений, на которых все присутствующие свободно высказывали свое
мнение. Старейшина стремился всегда добиться всеобщего согласия
перед объявлением своего решения, старался не ранить чувство до->
стоинства и не нарушить планы отдельных людей своей общины.
Наибольшее влияние старейшина имел на молодежь и близких
родственников. Чем старше был человек, чем дальше было его родство
со старейшиной, тем более самостоятельной была его.позиция, тем
в большей степени старейшине приходилось считаться с его
намерениями, чтобы не допустить раскола общины.
Влияние старейшин общин также было различным. Наибольшим
оно было летом, когда общины жили порознь, наименьшим — зимой,
когда несколько общин образовывали большие временные стойбища,
занимаясь охотой на тюленей. В каждом из таких сезонных,
соседских по типу объединений было несколько старейшин, верховного'
же лидера стойбища, как правило, не было. Вопросы, общие для
всего стойбища, обычно согласовывались между старейшинами общин.
Между старейшинами общин имелись индивидуальные различия
в степени влияния на общинников. Одни были более влиятельны,
чем другие. Характерно также, что нередко не старейшина, а
кто-либо из членов общины проявлял инициативу в вопросах,
затрагивающих интересы всего коллектива. Например, один или несколько
охотников спрашивали у старейшины, не стоит ли отправиться на
охоту. Но нередки были и случаи, когда особенно трудные и
опасные охоты, дальние перекочевки в поисках лучших охотничьих
угодий и другие предприятия, требовавшие значительных усилий,
совершались лишь в результате некоторого неформального давления
старейшины на общинников, его умения убеждать, веры в его опыт.
В то время как старейшина координировал деятельность
охотников, его жена контролировала распределение пищи между
парными семьями, входившими в общину. Охотники, особенно молодые,
отдавали ей всю добычу, а она распределяла ее между отдельными
семьями. Охотники старшего возраста, по крайней мере в XX в.,
соблюдали эту норму не так строго. Они часто приносили свою
добычу непосредственно своим женам. А уже те отдавали часть ее
другим семьям260.
Сравнение форм управления у нетсиликов с соответствующими
порядками у других групп охотников, рыболовов и собирателей
выявляет как много общих черт, так и некоторые различия. Так, в
общинах яганов Огненной Земли не было даже таких неформальных
лидеров, которые имелись у нетсиликов. Фактическое руководство
повседневной жизнью общины осуществляли ее старшие по
возрасту члены261. Лишь на время возрастных инициации избирались
временные руководители этих обрядов. У соседей яганов — алакалу-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
22t
фов и она — также неизвестны ни старейшины общин, ни вожди
племен. Как и у нетсиликов, племя у этих этнографических групп
индейцев не выступало как социальный организм, в управлении же
внутриобщинной деятельностью ведущая роль принадлежала ста-'
рикам и шаманам. Ни те, ни другие не обладали принудительной
властью и выступали лишь как советчики, к чьему жизненному
опыту и знаниям прислушивались остальные обздинники262. У ботокудов
Бразилии лидерами общин были шаманы 26у
У некоторых племен охотников и собирателей имелись
формальные, нередко наследственные лидеры/Например, у яруро Венесуэлы
лидерство в общине переходило по Материнской линии от мужчины
к сыну его сестры. Каждая из матрилинейных фратрий, на которые
делилось племя яруро, также имела своего вождя. Он всегда был
шаманом. Вождь фратрии Пуана (Змея) был и вождем всего
племени. В отличие от старейшин общин основной функцией вождей
фратрий было руководство не экономической деятельностью, а
обрядовой жизнью членов своих фратрий, а также контроль за
соблюдением фратрией экзогамии. Замещение постов вождей-шаманов
фратрий совершалось в идеале наследственно по материнской
линии. На практике замещение постов вождей, как, впрочем, и
старейшин, было наследственным лишь при наличии подходящего по
качествам наследственного кандидата. При отсутствии такового
старейшиной или вождем избирался человек, подходящий по своим
качествам, хотя бы он и не был сыном сестры своего предшественника264.
Формальное лидерство, т. е. замещение этой должности по
определенным правилам, существовало и в большинстве племен
аборигенов Австралии. Старейшиной общины в одних племенах становился
сын предшествующего лидера, в других — сын его сестры, т. е.
должность наследовалась по отцовской или по материнской линии.
Должность лидера могла замещаться и ненаследственно человеком, чья
кандидатура была одобрена старшими мужчинами общины. Но при
всех порядках замещения этой должности лидером мог стать только
человек, обладавший определенными личными качествами: большим
опытом, знанием социальных норм, волей.
По обычаю, полномочия главарей общин австралийцев были
весьма ограниченными. Они могли принимать решения только с
одобрения «совета» старших мужчин общины265. В этом важнейшем
отношении лидерство у австралийцев не отличалось принципиально от
лидерства у охотников, рыболовов и собирателей других регионов-
земного шара, например от лидерства у упоминавшихся выше
нетсиликов или индейцев помо Калифорнии, где роль старейшин общин
была «не более, чем увещевающей» 266.
У лесных индейцев Канадского Севера (алгонкинов и атапасков)
лидер или лидеры общины (в общине их могло быть несколько)
руководили ею, опираясь на единодушное согласие общинников.
Лидер должен был учитывать их желания и нужды, добиваться
решений, которые одобрялись бы всеми в его коллективе267. Бывали,,
222
Глава третья
правда, у тех же австралийцев властные лидеры, которым удавалось
подчинить общинников своей воле. Однако в раннепервобытной
общине такое положение хоть изредка и случалось, но оно было лишь
нетипичным отклонением от действовавших социальных норм. Как
правило, и наследственные, и ненаследственные лидеры выступали
прежде всего как выразители воли коллектива, первые среди равных
в кругу старших мужчин.
По-видимому, частым явлением было наличие нескольких
ненаследственных (формальных или более обычно — неформальных)
старейшин в одном селении. Как уже отмечалось, так было в зимних
стойбищах нетсиликов, в общинах некоторых племен лесных
охотников Канады. Характерен был такой порядок и для ряда племен
Южной Америки, лишь недавно заимствовавших у своих соседей
примитивное земледелие и, видимо, сохранивших в социальной
организации доземледельческие порядки. Так, в одном из селений кай-
япо-горотире Бразилии было 5 старейшин, в селении индейцев ка-
нелья 3 старейшины и т. д. Иногда один из старейшин селения
пользовался большим влиянием, чем другие. Но в любом случае их
влияние и власть, как и полномочия одного лидера, были
ограничены формальным или неформальным советом всех взрослых мужчин
общины. Именно этот совет, а не старейшины был верховным
руководителем общин индейцев канелья и кайяпо-горотире. Старейшины
трудились наравне со всеми односельчанами и не имели никаких
льгот при распределении пищи 268.
Думается, что старейшины получают различные привилегии цо
сравнению с остальными общинниками, как правило, лишь с
появлением избыточного продукта и переходом от ранне- к позднеперво-
бытной общине. Представляется также вероятным, что степень
формализации управления общиной и время появления племенных
вождей определяются не только социально-экономическим уровнем
развития общества, но и особенностями конкретной исторической
обстановки. Так, у племен, граничивших с этнически чуждыми
враждебными группами, военные общеплеменные вожди могли
появиться раньше, чем у племен, имевших мирные отношения с соседями.
Например, у нетсиликов племенных вождей не было, а у эскимосов
-Лабрадора, враждовавших в прошлом со своими южными соседями-
индейцами, в XVII в. были племенные вожди.
У чирикуа и гуахибо, очень примитивных по своей
традиционной культуре охотников и собирателей венесуэльских льяносов, не
было общеплеменных вождей. Племя у них никогда не выступало
как единое целое. Но в таком качестве выступали подразделения
племени, именовавшиеся в ранних испанских источниках «парсиа-
лидад» (часть) и объединявшие каждое несколько общин. В
колониальную эпоху они совершали набеги на соседние земледельческие
племена, возможно, потому, что лишились части охотничьих угодий.
В этих набегах парсиалидад выступала под руководством военного
яождя. В мирное время каждая община самостоятельно от других
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
223
занималась охотой, собирательством и распределяла пищу между
своими членами. Руководителем всей деятельности общины в мирное
время был ее старейшина269.)
Социализация. По этнографическим данным, основной целью
воспитания в первобытном обществе было развитие трудовых
навыков, чувства коллективизма, безусловного подчинения интересов
отдельной личности интересам общины, рода и племени, ознакомление
с обычаями и нормами поведения данного общества и их
идеологическим обоснованием в виде преданий и верований. У многих племен
различных регионов основную роль в воспитании играли так
называемые возрастные^инициации. Они представляли собой серию
трудных и нередко мучительных испытаний (например, выоивание"~зу-
бов), которые должны были выдержать подростки для того, чтобы
стать полноправными членами родового общества.
Инициации юношей и девушек устраивались отдельно и
различались между собой. В XIX в. многие племена инициировали
только юношей. По-видимому, это объясняется тем, что в это время
материнский род сохранился в большинстве случаев лишь в виде
пережитков и мужчины играли доминирующую роль в общественной
жизни родовых обществ. Поэтому об инициации юношей этнография
располагает большими сведениями, чем об инициации девушек.
У различных племен инициация длилась от нескольких недель
до нескольких лет. Этот период инициируемые обычно жили
изолированно от женщин и детей. Они должны были воздерживаться от
определенных видов пищи, не могли участвовать в празднествах и
соблюдали много других запретов.
У она, яганов, аборигенов Австралии и многих других племен
юношам во время инициации поручались различные трудные
работы. Старики-сородичи рассказывали инициируемым юношам об их
правах и обязанностях в роде и племени, знакомили их с мифами α
происхождении рода. Обучением девушек во время инициации
занимались старые женщины. Обычно инициации заканчивались
большим празднеством — обрядовым посвящением всех прошедших
инициацию во взрослые члены рода.
Вместе с тем этнографии известно немало племен охотников и
собирателей, у которых процесс социализации совершался без каких-
либо возрастных испытаний и периодов интенсивного обучения,
какими являлись инициации. Так, у эскимосов-нетсилик Канады,
традиционная культура которых в первые десятилетия XX в., т. е.
когда она была впервые изучена этнографами, являлась одной из самых
консервативных среди эскимосских культур, воспитание детей и
подростков не сопровождалось возрастными инициациями. Мальчики и:
девочки до 4—6 лет воспитывались одинаково. Родители много
играли с ними, делали изо льда или кости различные игрушки. После-
указанного возраста мальчики в большей степени воспитывались
отцом, а девочки — матерью. Мужчины начинали готовить своих
сыновей к роли охотников. Изготовляли для них миниатюрное оружие,.
224
Глава третья
силки для ловли птиц, санки и другие предметы материальной
культуры. Играя, мальчики имитировали позы и движения взрослых
охотников и погонщиков собак. Обычно все это мальчики делали по
своей инициативе, а не по указаниям взрослых мужчин270.
В 10—11 лет мальчики становятся помощниками взрослых
мужчин. Они сопровождают их на охоту и рыбную ловлю, выполняя
различные сравнительно легкие, но необходимые работы. Отец обычно -
объясняет сыну, как сделать то или иное дело. Эти объяснения
даются не вообще, а в связи с конкретной ситуацией. Подростки иногда
предпринимают и самостоятельные охотничьи поездки, но только с
одобрения своих отцов.
Дочери в основном воспитываются матерями. С 7—8 лет девочки
начинают помогать по хозяйству матерям и старшим сестрам: носят
воду, собирают мох. Став постарше, девочки носят в заплечных
мешках своих парок младших братьев и сестер, выделывают кожу, шьют
одежду. Примерно с 12 лет девочки обычно выполняют те же
хозяйственные работы, что и взрослые женщины. Конечно, как и у дру-.
гих.народов, дети не только помогают своим родителям, но и
много играют с детьми своей возрастной группы.
Воспитание детей у нетсилпков, как и у других этнографических
групп эскимосов, характеризуется (точнее — характеризовалось)
отсутствием запретов и физических наказаний. Был только один, но
строгий запрет: дети не должны были брать пищу и есть без
разрешения матери. Еду детям должна была давать мать. Если детей
угощали соседи по общине, полученное требовалось сначала принести
своей матери и отдать ей, а уже затем получить у нее обратно. Так
с раннего детства каждое новое поколение нетсиликов узнавало, что
пищу нельзя забирать самим, что другие общинники должны
принять участие в ее распределении, и это касается не только своей
семьи, но и всей общины. Можно сказать, что усвоение
определенных норм пользования пищей, наряду с приобретением трудовых
навыков, было важнейшим элементом социализации в традиционном
обществе нетсиликов.
И у других племен охотников и собирателей разных областей
земли приобретение подрастающим поколением трудовых навыков
являлось первейшей задачей воспитания. Например, у яноама
Венесуэлы и Бразилии, чья охотничья культура, по единодушному
мнению исследователей, не успела измениться под влиянием недавно
заимствованного ими земледелия, отцы делают для своих сыновей
маленькие луки, и мальчики в возрасте 5—7 лет охотятся сначала
на мелких птиц, позднее на более крупных, чтобы стать в будущем
хорошими охотниками.
Девочки 4—5 лет начинают помогать своим матерям носить
хворост для костра и воду или нянчат младших братьев и сестер. В 7—
:8 лет девочек, как правило, выдают замуж за юношей 16—18 лет.
^Фактический брак начинается с наступлением менструаций, а до
тех пор такие замужние девочки продолжают жить в основном как
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 225
прежде: носят хворост, воду, помогают взрослым женщинам в
приготовлении иищи, в свободное время играют со своими
сверстниками. Но есть одно существенное различие с жизнью до вступления в
брак: социализация, начавшись в своей общине, после замужества
продолжается в общине мужа. Теперь она включает в себя
знакомство и усвоение многообразных социальных отношений,
связывающих невестку с родителями и родными мужа и его общиной в целом.
У мужа также появляются новые обязательства. Он должен отдавать
часть своей охотничьей добычи родителям жены. Муж должен
соблюдать и предписанные обычаем нормы поведения, в частности не
разговаривать с матерью жены271.
Значительным своеобразием отличается система воспитания у
ягуа Перу и Колумбии. Младших детей в родовой общине ягуа
воспитывают прежде всего не ее взрослые члены, а дети старшего
возраста. Как только ребенок начинает ходить, мать поручает его
заботам остальных детей общины. В родовой общине ягуа дети
составляют отдельную группу, со своими заботами, радостями и
печалями. Старшие учат младших говорить, плавать, стрелять из
игрушечных сарбаканов, знакомя их со всем, что сами знают об окружающей
природе. Взрослые не вмешиваются в игры детей. С 8—9 лет
мальчики, начинают сопровождать отца на охоту, а девочки начинают
помогать матери по хозяйству. Так постепенно без каких-либо
резких переходов и обрядов посвящения дети становятся взрослыми272.
Таким образом, в процессе социализации подрастающего
поколения в обществах охотников и собирателей много общего. Это и
раннее приобретение трудовых навыков, и усвоение социальных норм
эпохи раннепервобытной общины. Имеющиеся же различия
относятся прежде всего не к целям воспитания, а к средствам их
достижения. У одних племен есть возрастные инициации со специальным
обучением и физическими испытаниями (австралийцы), у других
подобных обрядов нет и обучение ведется не систематически, а в
связи с конкретными ситуациями (нетсилики). У одних племен в
роли воспитателей выступают взрослые, у других эта функция на
начальном этапе социализации передоверяется старшим детям.
Думается, что была бы бесперспективной попытка выстроить из
этих разнообразных приемов социализации стадиальный ряд,
распределить их по периодам развития раннепервобытной общины.
Например, у бороро Бразилии есть инициации, а, скажем, у ягуа,
находящихся на том же уровне социально-экономического развития и,
более того, живущих в той же историко-этнографической области,
инициации нет. Видимо, наличие или отсутствие формализованного
возрастного перехода (инициации) связано соответственно с
наличием или отсутствием в племени формализованных возрастных
групп, которые сами по себе вряд ли могут служить индикатором
уровня социально-экономического развития раннепервобытной
общины. Скорее они обязаны своим появлением конкретным
особенностям исторического развития данного этноса.
8 История первобытного общества
226
Глава третья
На наш взгляд, гораздо более существенным для характеристики
методов социализации в раннепервобытной общине, чем наличие или
отсутствие инициации, является такая общая черта этих методов,
как отсутствие физических наказаний, уважение к личности
ребенка и подростка, учет его желаний. Это в равной степени
свойственно воспитанию как у эскимосов, у которых нет возрастных
инициации, так и австралийцев, с их разработанной системой
посвятительных обрядов в возрастные группы.
1 Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979, с. 16—
17.
2_ Ларичева И. П. Палеоиндейские культуры Северной Америки. Проблема
взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света. Новосибирск, 1976,
с. 53, 57; Кабо В. Р. Происхождение и ранняя история аборигенов
Австралии. М., 1969, с. 71—72, 398—399; Формозов А. А. Проблемы этнокультурной
истории каменного века на территории европейской части СССР. М., 1977,
с. 14; Канивец В. И. Палеолит крайнего северо-востока Европы. М., 1976.
3 История Сибири, т. 1. Л., 1968, с. 70.
4 Григорьев Г. П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo
sapiens в Европе и на Ближнем Востоке. М.; Л., 1968, с. 146; Бадер Ή. О.
Историко-культурные области верхнепалеолитического и мезолитического
времени в Восточном Средиземноморье. Автореферат канд. дисс. М., 1965, с.
11—20; Любин В. П. Нижний палеолит.— В кн.: Каменный век на
территории СССР. М., 1970, с. 34; Замялгнин С. Н. О возникновении локальных
различий в культуре палеолитического периода.— В кн.: Происхождение
человека и древнее расселение человечества. М., 1951, с. 89—152; Формозов А. А.
Проблемы этнокультурной истории..., с. 6, 30, 31.
5 Коробков И. И. Палеолит Восточного Средиземноморья.— В кн.: Палеолит
Ближнего и Среднего Востока. Л., 1978, с 183; Григорьев Г. П. Палеолит
Африки.— В кн.: Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки.
Л., 1977, с. 57 и др.
6 Семенов С. А. Первобытная техника. М.; Л., 1957, с. 80, 231—233;
Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества, с. 180; Bord F. Typologie
du paleolithique ancien et moyen. Bordeux, 1961.
7 Пидопличко И. Г. Влияние человека на развитие фауны в плейстоцене и
голоцене.— Труды VII МКАЭН, т. V. М., 1970; Верещагин Н. /Г. Основные
черты освоения животного мира первобытным человеком на территории СССР.—
Там же. В своей позднейшей работе Верещагин занял более осторожную
позицию в вопросе о причинах вымирания мамонтов. Он полагает теперь, что
этот процесс стал результатом комплексного действия ряда факторов:
изменений климата и ландшафта, интенсивной охоты, и многое еще не ясно.
См.: Верещагин Н. К. Почему вымерли мамонты. М., 1979, с. 178—183.
8 Martin P. Paleolithic hunters and faunal extinction.— In: IX Intern. Congr.
of Anthr. and Ethn. Sciences, Chicago, 1973, p. 36; см. также: Pleistocene
Extinctions. The Search for a Cause. New Haven, 1967.
8a Pleistocene Extinctions...; Snow D. The American Indians. Their archaeology
and prehistory. L., 1976, p. 24.
9 Gill E. The problem of extinction with special reference to Australian
marsupials.— Evolution (Chicago), 1955, v. 9, N 1.
10 Формозов А. А, Проблемы этнокультурной истории..., с. 18—19.
11 Schaller G., Lowther G. The relevance of carnivore behavior to the study of
early Hominids.— Southwestern Journal of Anthropology, 1969, v. 25, N 4.
12 Григорьев Г. П. Палеолит Африки, с. 192.
18 См.: Кабо В. Р. Происхождение и ранняя история..., с. 179—182; см. также:
Он же. Тасманийцы и тасманийская проблема. М., 1975, с. 29.
14 Семенов С. А. Первобытная техника, с. 234. j
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
227
15 Бадер Н. О. Мезолит.— В кн.: Каменный век на территории СССР. М., 1970,
с. 90.
16 Семенов С. А. Первобытная техника, с. 234.
ι? См., например: Массой В. М. Экономика и социальный строй древних
обществ. Л., 1976, с. 29; Кабо В. Р. Теоретические проблемы реконструкции
первобытности.— В кн.: Этнография как источник реконструкции истории
первобытного общества. М., 1979, с. 102.
is Birket-Smith К. The Caribou Eskimos. V. 1—2. Copenhagen, 1929.
ω Birch Ε, Caribou Eskimo origins: An old problem reconsidered.— ArA, 1978,
v. XV, N 1, p. 25—28; Dumond D. The Eskimos and Aleuts. L., 1977, p. 140,
147.
20 Кабо В. Р. Тасманийцы..., с. 67, 74—75, 81—82, 109, 181—182 и др.
si Крюков М. В, Этнографические факты как источник изучения первобытности:
проблема критериев стадиальной глубины.— В кн.: Этнография как источник
реконструкции истории первобытного общества. М., 1979, с. 49.
22 Sarasin P. und F. Ergebnisse Naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon:
Bd. 3. Die Veddas von Ceylon. Bd. 4. Die Steinzeit auf Ceylon. Wiesbaden,
«1908; Seligman С and B. The Veddas. Cambridge, 1911.
23 Борисковский П. И. Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии.
«41., 1971, с. 120—121.
24 Allchin В. The stone-tipped arrow. Late stone-age hunters of the tropical Old
World. L., 1966, p. 139.
26 Борисковский П. И. Древний каменный век..., с. 120—121; Allchin В. The
stone-tipped arrow, p. 139.
26 HSAI, v. 1, 3, 4; Hodge W. The First Americans. Then and now. N. Y., 1981;
Balikci A. The Netsilik Eskimo. N. Y., 1970.
27 Перший А. И. Этнография как источник первобытноисторических
реконструкций,— В кн.: Этнография как источник реконструкции истории
первобытного общества. М., 1979, с. 33—34.
28 Forbis R. The Paleoamericans.— In: Prehispanic America. L., 1974, p. 13;
banning E., HammelE. Early lithic industries of Western South America.—
AAn, 1961, v. 27, N 2, p. 147; Cooper /. The Ona.— HSAI, v. 1, p. 108, 110
and oth.
29 Bird J. The Alacaluf.— HSAI, v. 1, p. 58—63; Cooper J. The Yahgan.— Ibid.,
p. 84.
80 Bird J. The Alacaluf, p. 58.
31 Fagan B. People of the Earth. An introduction to world prehistory. Boston,
1977, p. 157.
82 Metraux A, The Botocudo.— HSAI, v. 1; Idem. The hunting and gathering
tribes of the Rio Negro Basin.— HSAI, v. 3.
83 HSAI, v. 2, p. 445—468.
84 Marshall L. The Kung of Nyae Nyae. L., 1976; Lee K. The Rung Bushmen of
Botswana.— In: Hunters and Gatherers Today. N. Y., 1972, p. 326—368.
85 Allchin B. The stone-tipped arrow, p. 13, 31; Jellen /., Harpending 77.
Hunter-gatherer populations and archaeological inference.— WA, 1971, v. 3, N 7,
p. 244—253; Allchin B. The stone-tipped arrow, p. 13.
36 Fagan B. People of the Earth, p. 170.
37 Silberbauer G. Report to the government of Bechuanaland on the Bushman
survey. Gaberones, 1965. Цит. по: AAn, 1966, v. 68, N 4, p. 1040—1042.
38 Tanaka J. Social structure of the Bushmen.— Proc. of the Vlllth Intern.
Congr. of Anthr. and Ethn. Sciences, 1968, v. Ill, Tokyo, 1970, p. 295—296.
39 Allchin B. The stone-tipped arrow, p. 22.
40 Ibid., p. 16.
41 Верещагин 77. К. Охоты первобытного человека и вымирание плейстоценовых
млекопитающих в СССР.— В кн.: Материалы по фаунам антропогена СССР.
Л., 1971, с. 207, 208; Пидопличко 77. Г, Амвросиевская палеолитическая
стоянка и ее особенности.— КСИА, 1953, вып. 2, с. 65—67; Он же, Иозднепа-
леолитическое жилище из костей мамонта на Украине. Киев, 1969, с. 150.
42 Борисковский 77. 77. Древнейшее прошлое человечества, с. 174—177,
8*
228
Глава третья
43 Семенов С. П. Первобытная техника, с. 233.
44 Формозов А. А, Проблемы этнокультурной истории..., с. 11, 15, 40, 81, 94,
98, 130, 131.
45 Ефименко Я. П. Переднеазиатские элементы в памятниках позднего
палеолита Северного Причерноморья.— СА, 1960, № 4, с. 24; Борисковский П. И
Проблема развития позднепалеолитической культуры степной области.—
Труды VII МКАЭН, т. V, 1970, с. 429; Степанов В. Я. Природная среда π
зональность первобытного хозяйства в эпоху верхнего палеолита на
территории СССР.— В кн.: Первобытный человек, его материальная культура и
природная среда в плейстоцене и голоцене. М., 1973, с. 34—36; Гвоздо-
вер М. Д. О культурной принадлежности позднепалеолитических
памятников Нижнего Дона.— В А, 1967, вып. 27, с. 82—101; Формозов А. А.
Проблемы этнокультурной истории..., с. 57.
46 Черныш А. Я. Ранний и средний палеолит Приднестровья. М., 1965, с. 36—
48, 89, 123—124; Une cabane acheuleenne dans la Grotte du Lazaret (Nice).
P., 1969; Lumley H. Cultural evolution in France...— In: After the Australo-
pithecines. Hague, 1975, p. 745, 769, 770; Bourdier F. Prehistoire de France·
P., 1967, p. 216-217.
47 Борисковский Я. И. Древнейшее прошлое человечества, с. 190.
48 Там же.
49 Там же.
60 Роеачев А. Н. Палеолитические жилища и поселения в Восточной Европе.—
Труды VII МКАЭН, т. V, М., 1970, с. 432—438; Ефименко Г. Я. Значение
женщины в ориньякскую эпоху.— Изв. ГАИМК, 1931, т. XI, вып. 3—4.
51 Черныш А. Я. Ранний и средний палеолит Приднестровья; Он же. Палеолит
и мезолит Приднестровья (карты и каталог местонахождений). М., 1973; Бори-
сковский Я. И. Древнейшее прошлое человечества, с. 36—48, 123—124.
52 Ефименко Я. Я. Первобытное общество. Киев. 1953, с. 635—636;
Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории..., с. 17—18.
63 Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории...., с. 19—20,
Абрамова 3. А. Палеолитическое искусство на территории СССР.— М.; Л., 1962, табл.
XXXVI, XXXVII; Breul Я., Saint-Perier R. Le Poissons, le batraciens et
les reptiles dans l'art guaternaire.— Archives de Г Institute de Paleontologie
Humaine, memoir 2, P., 1927.
64 Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Каменный век, Μ., 1973,
с. 176—178.
55 Там же, с. 178; Равдоникас В. Я. История первобытного общества, т. 1.
Л., 1939, с. 274.
66 Barriere С. Le civilisations tardenoisiennes en Europe Occidentale. Bordeaux —
Paris, 1956.
57 Монгайт А. Л. Археология Западной Европы..., с. 185.
68 Бадер Я. О. Мезолит, с. 98.
69 Clark G. The stone age hunters. L., 1967, p. 96.
60 Clark G. Excavation at Star Carr: an early mesolithic site at Seamer near
Scarborough. Yorkshire, Cambridge, 1971.
61 Семенов Ю. И. О материнском роде и оседлости в позднем палеолите.— СЭ,
1973, № 4, с. 57.
62 Монгайт А. Л. Археология Западной Европы..., с. 187.
63 Clark G. Excavation at Star Carr...
64 Бадер Н. О. Мезолит, с. 94—98.
65 Там же, с. 92—94.
ββ См., например: Формозов А. А. О времени и исторических условиях сложения
племенной организации.— СА, 1957, № 1, с. 19—21; Монгайт А. Л.
Археология Западной Европы, с. 176; Бадер Н. О. Мезолит, с. 91.
67 Leroi-Gourhan Α., Bailloud G., Chavaillon /., Laming Emperaire A. La Prehi-
storie. P., 1968, p. 144.
68 Борисковский П. И. Древний каменный век..., с. 113—114. В недавнее время
к ней прибавилась стоянка Шугноу (см. ниже); Окладников А. П. Верхне-
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 229
палеолитическое и мезолитическое время.— В кн.: Средняя Азия в эпоху
камня и бронзы: М.; Л., 1966, с. 54; Ранов В. А. Основные черты периодизации
палеолита Средней Азии.— В кн.: Палеоэкология древнего человека. М., 1977г
с. 214.
69 Окладников А. Я. Верхнепалеолитическое и мезолитическое время, с. 51 —
52.
70 Борисковский П. Я. Древний каменный век..., с. 113—114.
71 Ранов В. А. Шугноу — многослойная палеолитическая стоянка в верховьях
р. Яхсу (раскопки 1969—1970 гг.).— В кн.: Археол. работы в Таджикистане
в 1970 г. Душанбе, 1973, вып. 10; Он же. Палеолит переднеазиатских
нагорий.— В кн.: Палеолит Ближнего и Среднего Востока. Л., 1978, с. 232.
72 Ранов В. А. Основные черты..., с."214.
73 Окладниксв А. Я. Верхнепалеолитическое и мезолитическое время, с. 54—
56.
74 Там же, с. 56—59.
76 Мамедов Э. Д., Батулин С. Г. Палеогидрогеологическая обстановка и
древнее расселение человека в пустынях Средней Азии.— В кн.: Палеоэкология
древнего человека. М., 1977, с. 227.
7« Бадер Я. О. Мезолит, с. 95—96.
77 Там же, с. 96; Окладников А. Я. Верхнепалеолитическое и мезолитическое
время, с. 68; Ранов В. А. Каменный век Таджикистана. Душанбе, 1965.
78 Коробков Я. И. Палеолит Восточного Средиземноморья, с. 180—182; Hours F.
Remarques sur l'utilisation de listes types pour Tetude du paleolithique superieur
et de l'epipaleolithique du Levant.— Paleorient, 1974, t. 2, N 1; Hours F.,
Copeland L., Aurenche O. Les industries paleolithiques du Proche-Orient, es-
sai de correlations.— L'Antropologie, 1973, t. 77, N 3-4 p. 263—280.
79 Коробков И. И. Палеолит Восточного Средиземноморья, с. 181, 184;
Массой В. М. Экономика..., с. 116, 136—137; Шнирелъман В. А. Проблема
происхождения натуфийской культуры (обзор литературы).— СА, 1975, № 4;
Bar-Josef О. The Epi-Paleolithic in Palestine and Sinai.— In: Problems in
Prehistory: North Africa and the Levant. Dasllas, 1975.
80 Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства (культурно-историческая
проблема). М., 1980, с. 53—60.
81 Ранов В. А. Палеолит переднеазиатских нагорий, с. 240—241.
82 См., например: Vinogradov А. В. The Mesolithic of Afganistaп.—Abstracts
of XI Congress of the International Union forQuartery Research (INQUA),
v. III. M., 1983, p. 279; Mepnepm Я. #., Мунчаев Р. M. Проблемы
происхождения производящих форм экономики.— Вестник АН СССР, 1979, № 10,
с. 113-115.
83 Murty Μ. Blade and burin industries near Renigunta.— Proc. of the Prehi^t.
Soc. for 1968, v. 34.
84 Борисковский П. И. Некоторые проблемы палеолита Южной и
Юго-Восточной Азии. М., 1973, с. 12—13.
85 Murty Μ. L. К. A late pleistocene cave site in Southern India.— PAPhS, 1974,
v. 118; Murty M. L. K., Thimma Ready K. The significance of lithic finds in
the cave area of Kurnool.— AP, 1976, v. 18, N 2.
86 Борисковский Я. if. Некоторые проблемы..., с. 11—12.
87 Борисковский Я. Я. Древний каменный век..., с. 113—114; 163—164;
Палеолит Ближнего и Среднего Востока, с. 233.
88 Radjana Ray. Ecology of blade-bladelet elements in India — Union Interna-
cional de Ciencias Prehistoricas у Proto-historicas. X Congreso. Comision
XI. Cultura у medio Ambiente del Hombre Fosil en Asia. Mexico, 1981, p. 204.
89 Allchin B. The Indian stone age sequence.— JRAI, 1963, v. 93, pt 2; Sanka-
Ua H. D. The prehistory and protohistory of India and Pakistan. 2nd ed. Po-
ona, 1974; Radjana Ruj. Ecology..., p. 206—214.
э Борисковский Я. Я. Древний каменный век..., с. 116—121.
91 Maglio V. Pleistocene faunal evolution in Africa and Eurasia.— In: After
the Australopithecines, p. 462; Allchin B. The late stone age of Ceylon.—
230
Глава третья
JRAI, 1958, v. 88, N 2; Misra V. Mesolithic phase in the prehistory of India.
— In: Indian Prehistory s. 1., 1964, p. 60—61.
92 Семенов С. А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968, с. 187; Steward J.
Causal factors and processes in the pre-farming societies.— In: Man the Hunter.
Chicago, I960, p. 328; Allchin B. The stone-tipped arrow..., p. 49; HSAI, v. 1,
3·
93 Борисковский П. И. Древний каменный век..., с. 8—11.
94 Там же, с. 155—159.
95 Нгуен Кхак Ши. Культура шонви и ее место в каменном веке Юго-Восточной
Азии.— СА, 1982, № 3.
96 Борисковский П. И. Первобытное прошлое Вьетнама. Л., 1966, с. 74—76,
и др.
97 Семенов С. А. К вопросу о некоторых орудиях каменного века
Юго-Восточной Азии.— В кн: Борисковский 27. И. Первобытное прошлое Вьетнама,
с. 169-170.
98 Борисковский П. И. Первобытное прошлое Вьетнама, с. 76—82, 93—94.
99 Gorman Ch. Hoabinhian: a pebble-tool complex with early plant associations
in Southeast Asia.— Science, 1969, v. 163, № 3868.
100 Борисковский П. И. Древний каменный век..., с. 167—168; Кучера С.
Китайская археология 1965—1974 гг.: Палеолит — эпоха инь. Находки и пробле- *
мы. М., 1977, с. 16.
101 Борисковский П. И. Древний каменный век..., с. 168.
102 Крюков М. В., Софронов М. В. Чебоксаров Η. Н. Древние китайцы. Проблемы
этногенеза. М., 1978, с. 53.
103 Деревянко А. П. Каменный век Северной, Восточной, Центральной Азии.
Новосибирск, 1975, с. 188.
104 Там же.
105 Васильевский Р. С. Древние культуры Тихоокеанского Севера. Новосибирск,
1973, с. 149—150; Чард Ч., Морлан Р. Абсолютная хронология каменного
века в Японии.— В кн.: Сибирь и ее соседи в древности. Новосибирск, 1970,
с. 109-138.
106 Ларичев В. Е. Палеолит и мезолит Японии (краткий очерк).— В кн.: Сибирь
и ее соседи в древности, с. 96—99.
107 Наша Е. The continuity of non-ceramic to ceramic cultures in Japan.— ArA,
1964, v. 2, N 2; Kotani J. Upper pleistocene and holocene conditions in Japan.—
ArA, 1969, v. 5, N 2; Fagan B. People of the Earth, p. 122—123.
108 Окладников А. П. Поселение каменного века на горе Хере-Уул (Восточная
Монголия) и докерамические культуры Японии.— В кн.:
Историко-филологические исследования (сб. статей памяти акад. Н. И. Конрада). М., 1974;
Он же. Древнее поселение на р. Тадуши у дер. Устиновки и проблема
дальневосточного мезолита.— В кн.: Четвертичный период Сибири. М., 1966, с.
195—214; Васильевский Р. С. Древние культуры Тихоокеанского Севера,
с. 40—41 и др.
109 Васильевский Р. Древние культуры..., с. 44; Он же. Древние культуры
Тихоокеанского Севера (история, адаптация и эволюция приморских культур).
Автореф. докт. дисс. Новосибирск, 1974, с. 15.
110 Ларичев В. Е. Палеолит и мезолит Японии, с. 107 и др.
111 Деревянко А. П. Каменный век..., с. 184—190.
112 История Сибири, т. 1, с. 72—75.
113 Деревянко А. П. Приамурье в древности. Новосибирск, 1971, с. 25—28, 32.
114 История Сибири, т. 1, с. 39—44.
115 Герасимов М. М. Палеолитическая стоянка Мальта (раскопки 1956—
1957 гг.).— СЭ, 1958, № 3, с. 52; История Сибири, т. 1, с. 44.
116 Абрамова 3. А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. Новосибирск,
1979; Она же. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. Новосибирск, 1979.
117 Окладников А. П. Палеолитические жилища в Бурети (по раскопкам 1936—
1940 гг.).— КСИИМК, 1941, вып. 10, с. 16—31.
118 Герасимов Μ. Μ. Палеолитическая стоянка Мальта..., с. 32—37, 46—51.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 231
не Формозов А. А. К характеристике палеолитического поселения Мальта.—
СА, 1976, № 2, с. 205-210.
120 Окладников А. П. Палеолитическая статуэтка из Бурети. М.; Л., 1941,
с. 104-108.
121 Окладников А. П. Палеолитические жилища в Бурети; Он же.
Палеолитическая статуэтка из Бурети, с. 104; История Сибири, т. 1, с. 46—48.
122 Абрамова 3. А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура, с. 98—104; Она же.
Палеолит- Енисея. Кокоревская культура, с. 162—166 и др.; История
Сибири, т. 1, с. 66.
123 История Сибири, т. 1, с. 68.
124 Диков Η. Η. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. М., 1977, с. 43—52; Он же. Древние культуры Северо-Восточной Азии.
М., 1979, с. 31, 286.
125 Мочанов Ю. А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной
Азии. Новосибирск, 1977, с. 233—240.
126 Цейтлин С. М. Схема геологической периодизации палеолита Северной
Азии.— В кн.: Соотношение древних культур Сибири с культурами
сопредельных территорий. Новосибирск, 1975, с. 34; Абрамова 3. А. К вопросу о
возрасте алданского палеолита.— СА, 1979, № 4, с. 5—14; Деревянко А. П.
Каменный век..., с. 196; Диков Η. Н. Древние культуры Северо-Восточной
Азии,гс. 18—19.
127 Диков' Н. Н. Древние культуры Камчатки и Чукотки. Автореф. докт. дисс.
Новосибирск, 1971, с. 15; Он же. Древние культуры Северо-Восточной Азии,
с. 51—53.
128 Диков Η. Η. Археологические памятники..., с. 47—50; Он же. Древние
культуры Северо-Восточной Азии, с. 31—33.
129 Диков Η. Н. Археологические памятники..., с. 52—60.
130 Диков Н. Н. Палеолитическое жилище на камчатской стоянке Ушки IV.—
В кн.: Сибирь и ее соседи в древности. Новосибирск, 1970, с. 41.
131 Там же; Он же. Древние культуры Северо-Восточной Азии, с. 54—57.
132 Диков Н. Н. Древние культуры Камчатки и Чукотки, с. 16—17.
133 Диков Η. Η. Археологические памятники..., с. 213—225; Он же. Древние
культуры Северо-Восточной Азии, с. 90—99.
134 Диков Η. Η. Древние культуры Северо-Восточной Азии, с. 280—281.
135 Ларичева И. П. Палеоиндейские культуры Северной Америки, с. 196.
136 Там же, с 72—78,
137 О сомнениях по этому поводу см.: Willey R. An introduction to American
archaeology, v. 1. North and Middle America. Englwood Cliffs, 1966, p. 29—33.
138 Bryan A. Early man in America and late pleistocene chronology of Western
Canada and Alaska.— CA, 1969, v. 10, N 1, p. 1—10.
139 Warnica J. New discoveries at the Clovis site.— AA, 1966, v. 31, pt I, N 3,
p. 349; Haury E., Sayles E., Wasley W. The Lehner mammoth site,
southeastern Arizona.— AAn, 1959, v. 25, N 1, p. 2—30.
140 Warnica J. New discoveries..., p. 352; Haury E. Artifacts with mammoth
remains, Naco, Arizona.— AAn, 1953, v. 14, N 1, p. 3—4.
141 Macgowan K., Hester J. Early man in the New World. N. Y., 1962, p. 153.
142 Ibid.
143 Ларичева И. П. Палеоиндейские культуры Северной Америки, с. 188—191.
144 Там же, с. 133.
145 Dumond D. The Eskimos and Aleuts.
146 Окладников А. Я., Васильевский P. С. По Аляске и Алеутским островам.
Новосибирск, 1976, с. 100—101.
147 Griffin J. A discussion of prehistoric similarities and connections between the
Arctic and temperate zones of North America.— In: Prehistoric cultural
relations between the arctic and temperate zones of North America. Toronto, 1962,
p. 162.
148 Василъевский Р. С. Древние культуры Тихоокеанского Севера, с. 47, 48, 209;
McCartney Α., Turner J. Stratigraphy of the Anangula unifacial core and bla-
232
Глава третья
de site.— ArA, 1966, v. 3, Ν 2, p. 38; Laughlin W. Eskimos and Aleuts.—
Science, 1963, v. 142, N 3593, p. 634.
149 Окладников А. П., Васильевский P. С. По Аляске и Алеутским островам,
с. 108; Laughlin W. Contemporary problems in the anthropology of Southern
Alaska.— Science in Alaska. Washington, 1952, p. 76—77.
150 Forbis R. The Paleoamericans, p. 19—21. .
151 Snow D. The American Indians. Their archaeology and prehistory. L., 1976, *
p. 33-34.
152 Tolstoy P. Mesoamerica.— In: Prehispanic America. L., 1974, p. 34.
153 Forbis R. The Paleoamericans, p. 24.
154 banning E. Western South America.— In: Prehispanic America, p. 67; Idem.
Eastern South America.— Ibid., p. 101, 107—108 and oth.
165 Forbis, R. The Paleoamericans, p. 13.
156 Ibid., p. 17.
157 Ibid., p. 19—20.
158 Fagan B. People of the Earth, p. 157.
159 См., например: Григорьев Г. П. Палеолит Африки, с. 54—57; Кларк Дж,
Доисторическая Африка. М., 1970, с. 9, 123, 139 и др.
160 Klein R. Problems in the study of the Middle Stone Age of South Africa.—
South African Archaeological Bulletin. Cape Town, 1970, v. 25; Radiocarbon, 1967,
N 9.
161 Кларк Д. Доисторическая Африка, с. 178.
162 Григорьев Г. П. Палеолит Африки, с. 189.
163 Кларк Д. Доисторическая Африка, с. 167.
164 Григорьев Г. JT. Палеолит Африки, с. 120.
165 Там же, с. 60; Кларк Дж. Доисторическая Африка, с. 8, 118, 143, 151—152.
166 Кларк Дж. Доисторическая Африка, с. 153; Fagan В. People of the Earth, p.
129.
167 McBurney C. The Stone· Age in North Africa. Harmondsworth, 1960.
168 Григорьев Г. П. Палеолит Африки, с. 129; Кларк Дж. Доисторическая
Африка, с. 8; Fagan В. People of the Earth, p. 129; Smith Ph. The late paleolithic
of Northeast Africa in the light of recent research.— AAn, 1966, v. 68, pt 2,
N 2, p. 345.
169 Григорьев Г. П. Палеолит Африки, с. 129—131.
170 Tixier J. Typologie de TEpipaleolithique de Maghreb.— Memoires du Centre
de Recherches Archaeologiques, Prehistoriques et Anthropologiques. P., 1963.
171 Wenke R. Patterns in prehistory. Mankind's first three million years. N. Y.,
Oxford, 1980, p. 207—208.
172 Придо Т. Кроманьонский человек. Пер. с англ. Μ., 1979, с. 43—45.
173 АлиманА. Доисторическая Африка. М., 1960, с. 336.
174 Кларк Дж. Доисторическая Африка, с. 168—171.
175 Там же.
176 Там же, с. 173.
177 Раздел написан в основном по материалам монографий: Кабо В. Р.
Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии; Он же. Тасманийцы и
тасманийская проблема.
177а Кабо В. Р. Происхождение и ранняя история. . ., с. 340.
178 Mulvaney D. The Pleistocene occupation of Australia.— IX Congres des
Sciences prehistoriques. Nice, 1976, Collogue 18; Larnach S. The origin of the
Australian aboriginal.— Archaeology and Physical Anthropology in Oceania, 1974,
v. IX, N3.
179 Bowdler S.Pleistocene date for man in Tasmania.— Nature, 1974, v. 252,
N 5485, p. 697—698.
180 Wormington M. Ancient man in North America, Denver, 1957, p. 55.
181 Romain R., Nougier L. Cerne d'appel du magdalenien final des Pyrenees.—
Quarter, 1968, Bd. 19. Цит. по: Борисковский П. И. Древнейшее прошлое
человечества, с. 186.
182 ЗамятнинС. Н. Некоторые вопросы изучения хозяйства в эпоху палеолита.
-ПИПО, с. 97-98.
^^__ РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 233
183 Η ay den В. Research and development in the stone age: Technological
transitions among hunter-gatherers.— CA, 1981, v. 22, N 5, p. 519—548.
184 fanner N. On becoming human. N. Y., 1980; Omnivorous Primates. N. Y.,
1981; Woman-the Gatherer. New Haven; L., 1980; Lee R. The Kung San. Men,
women and work in a foragin society. N. Y., 1978.
185 Lee R. What hunters do for a living, or how to make out on scarce resources.
-MH, p. 39-40.
186 Tanaka J. Social structure of the Bushmen, p. 295—316.
is? Silberbauer G. Report. . ., p. 1040—1042.
188 iee R. What hunters do for a living, p. 42—48.
189 Woodburn J. An introduction to Hadza ecology.·— MH, p. 49—55; Lee R.
What hunters do for a living, p. 42.
190 Cooper J. Analytical and critical bibliography of the tribes of tierra del Fuego
and adjacent territory. Washington, 1917, p. 195—217; Cooper J. The Yahgan,
p. 83-84.
i9i Североамериканские индейцы. Пер. с англ. Μ., 1978, с. 296; Beckermann S.
More on Amazon cultural ecology.— CA, v. 21, N 4, p. 541.
192 Kirchhoff P. Food-gathering tribes of the Venezuelan llanos.— HSAI, v. 4,
p. 446-451.
193 Petrullo P. The Yaruros of the Capanaparo River, Venezuela.— BBAE, 1939,
N 123, p. 161—290.
194 Kirchhoff P. Food-gathering tribes, p. 456—467.
195 Holmberg A. Nomads of the long bow: the Siriono of Eastern Bolivia.
Washington, 1950; Whiff en Th. The North-West Amazons. L., 1915.
"β Fejos P. Ethnography of the Yagua. N. Y., 1943; HSAI, v. 3, p. 10—12.
ι97 Попов Л. А. Нганасаны. Μ., Л., 1948, с. 31—36; Расмуссен К. Великий
санный путь. М., 1958, с. 62—63; Birket-Smith К. The Eskimos. L., 1959, p. 86—
87; AllchinB. The stone-tipped arrow.
ι98 Файнберг Л. А. Индейцы Бразилии. М., 1975, с. 9.
ι" Семенов Ю. И. Об изначальной форме первобытных социально-экономичр-
ских отношений.— СЭ, 1977, № 2, с. 17.
200 RasmussenK. The Netsilik Eskimos. Copenhagen, 1931, p. 482.
201 KroeberA. The Eskimo of Smith Sound. N. Y., 1900, p. 301.
202 Семенов Ю. И. Об изначальной форме. . ., с. 18.
203 Goldman J. Tribes of the Vaupes-Caqueta region.— HSAI, v. 3, p. 781, 783;
Idem. The Cubeo. Urbana, 1963; Koch-Griinberg Th. Zwei Jahre unter den In-
dianern. Reisen in Nordwest Brazilien 1903—1950. В., 1909—1910, Bd. I, S.
106-251.
204 Rasmussen K. The Netsilik Eskimos, p. 163; Idem. Intellectual culture of the
Copper Eskimos. Copenhagen, 1932, p. 105—107; Thalbitzer W. The Aramas-
splik Eskimo. Social customs and mutual aid. Copenhagen, 1941, p. 645—646·
206 Народы Сибири. М., 1956, с. 442.
206 Fejos P. Ethnography. . ., p. 41—42, 79, 86.
207 Koch-Grunberg Th. Zwei Jahre. . ., S. 106, 251.
208 Одну из недавних сводок данных по этому вопросу см., например, в статье:
Семенов Ю. И. Об изначальной форме. . ., с. 15—28.
209 Народы Сибири, с. 964; Rasmussen К. The Alaskan Eskimos. Copenhagen»
1952, p. 121-122.
210 Общественный строй ν народов Северной Сибири. Μ., 1970, с. 93.
211 Birket-Smith К. The Chugach Eskimo. Kopenhavn, 1953, p. 96; Boas F. The
Central Eskimo. Washington, 1888, p. 582.
212 Rasmussen K. The Netsilik Eskimos, p. 164.
2*3 Перший А. И. Развитие форм собственности в первобытном обществе как
основа периодизации его истории.— ПИПО, с. 156—157, 171—172;
Румянцев A.M. Возникновение и развитие первобытного способа производства.
Присваивающее хозяйство. М., 1981, с. 102, 103 и др.; МН, р. 100—102,
156, 157.
214 Перший А. И. Развитие форм собственности; Birket-Smith К. The Eskimos,
p. 145; Idem. The Caribou Eskimos, v.I, p. 261, 262; HawkesE. The Labrador
234
Глава третья
Eskimo. Ottawa, 1916, p. 25; Thalbitzer W. The Ammassalik Eskimo. . ., p. 638.
215 Turnbull C. The importance of flux in two hunting societies.— MH, p. 132—137.
216 Woodburn J. Stability and flexibility in Hadza residential groupings.— MH,
p. 103.
217 МассонВ. Μ. Экономика. . ., с. 31.
218 Там же; Butzer К. Environment and archaeology. Chicago, 1964, p. 415—416.
219 Rasmussen K. The Netsilik Eskimos, p. 141, 473—477; Idem. Intellectual,
culture of the Copper Eskimos, p. 70, 76—85; Weyer E. The Eskimos. Hamden,
1962, p. 109—110.
»:o Birket-Smith K. The Chugach Eskimo, p. 96; Nelson E. The Eskimo about
Bering Strait. Washington, 1899, p. 307.
221 Файнберг Л. А. Индейцы Бразилии, с. 74; Lowie R. Property among the
tropical forest and marginal tribes,—HSAI, v. V, p. 356—360; Birket-Smith K.
The Eskimo, p. 146.
222 Kroeber A. The Eskimo of Smith Sound, p. 301; Giffen N. The roles of men and
women in Eskimo culture. Chicago, 1930, p. 40.
223 Файнберг Л. А. Общественный строй эскимосов и алеутов. М., 1964, с. 126—
127.
224 Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории. . ., с. 31; Громов В. И.
Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии
континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. М., 1948,
с. 279; Шовкопляс И. Г. Мезинская стоянка. Киев, 1965, с. 286; Herskovits M.
Economic anthropology. N. Υ., 1952, p. 196—197.
226 McCarthy F. Trade in aboriginal Australia and trade relationships with Torres
Strait, New Guinea and Malaya.— Oceania, 1939, v. 9, N 4; v. 10, N 1—2;
Thomson D. Economic structure and the ceremonial exchange cycle in Arnhem
Land. Melbourne, 1949, p. 106.
226 Бутиков Η. А. Разделение труда в первобытном обществе.— ПИПО, с. 117.
227 Oberg К. Indian tribes of Northern Mato Grosso, Brazil. Washington, 1953,
p. 42, 59, 72, 73; Steinen K. Unter den Naturvolkern Zentral Brasiliens. В.,
1894, S. 333; Schmidt M. lndianerstudien in Zentralbrasilien. В., 1905, p. 431,
432, 439; Allen P. Indians of Southeastern Colombia.— Geographical Review,
1947, v. XXXVII, N 4, p. 567-582.
228 Румянцев А. М. Возникновение и развитие. . ., с. 230—231.
229 Маркс К. К критике политической экономии.— Маркс /Г., Энгельс Ф. Соч.,
т. 13, с. 37.
230 Рогачев А. Н. Палеолитические жилища. . ., с. 437; Борисковский П. И.
Палеолитические жилища на территории СССР и этнографические параллели к
ним. М., 1956, с. 13.
231 Шовкопляс И. Г. Исследование Добраничевской стоянки и некоторые
вопросы социальной организации в позднепалеолитическую эпоху— В кн.: Тезисы
докладов, посцященных итогам полевых археологических исследований
в 1970 г. в СССР. Тбилиси, 1971, с. 7—8..
232 Диков Η. Η. Палеолитическое жилище. . ., с. 41; Он же. Древние культуры
Камчатки и Чукотки, с. 16.
233 Бибиков С. Н. Некоторые аспекты палеоэкономического моделирования
палеолита.— СА, 1969, № 4, с. 15.
234 Там же, с. 22.
235 Meggitt M. Desert people: A study of the Walbiri aborigines of Central
Australia, Melbourne, 1962; Birdsell J. Local groups composition among the
Australian aborigines.—CA, 1970, v. 11, N2.
236 Baer G.,SchmitzC. On the social organization of the Ona (Selk'nam). P., 1965;
Gusinde M. Die Selk'nam. Modling bei Wien, 1931, S. 324, 416, 419, 421, 426,
428.
237 Cooper J. The Ona, p. 107—125.
238 Кочнев В. И. Шри Ланка. Этническая псторпя и социально-экономические
отношения до начала XX в. М.; 1976, с. 276—277; Allchin В. The
stone-tipped arrow, p. 126, 139; Seligman С. В. The Veddas. Cambridge, 1911.
239 Кочнев В. И. Шрп Ланка, с. 16.
РАННЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
235
240 Deriyanagala P. Stone age Ceylon.— Journal of the Royal Asiatic Society
(Ceylon Branch), 1953, v. 3, pt. 2.
24i Schapera I. The Khoisan peoples of South Africa. Bushmen and Hottentots.
L., 1930, p. 76-86, 105, 115.
242 ibid., p. 76—77, 156—157; AllchinB. The stone-tipped arrow, p. 16—17.
243 Tanaka J. Social structure of the Bushmen, p. 295—296.
244 Сводки материалов по этому вопросу и соответствующие ссылки на
литературу по отдельным народам см., например: Аверкиева Ю. П. Индейцы
Северной Америки. М., 1974; Семенов Ю. И. Эволюция экономики раннего
первобытного общества.— В кн.: Исследования по общей этнографии. М., 1979;
ФайнбергЛ'. А. Возникновение и развитие родового строя.— В кн.:
Первобытное общество. М., 1975.
245 DamasD. Eskimo communities then and now.— In: People of Light and Dark·
Ottawa, 1966, p. 115—116.
246 Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории. . ., с. 32.
247 Современные этнические процессы в СССР. М., 1975, с. И.
248 Cooper J. The Ona, p. 108 and oth.
249 Schapera /. The Khoisan peoples. . ., p. 76; Allchin B. The stone-tipped arrow,
p. 16-17.
250 Файнберг Л. А. Общественный строй эскимосов и алеутов, с. 142—145; Da-
mas D. Eskimo communities. . ., p. 116.
261 Массой В. Μ. Экономика. . ., с. 116; Бибиков С. Н. Некоторые аспекты. . .,
с. 9—13; Григорьев Г. П. Восстановление общественного строя
палеолитических охотников и собирателей.— ОСР, с. 12.
252 Бибиков С. Н. Некоторые аспекты, с. 13—15.
263 Weyer Ε. The Eskimos. Hamden, 1962, p. 142—143; Malaurie J. The
Eskimos.— Realities, 1966, N 185, p. 45.
254 Кабо В. Р. Первобытная община охотников и собирателей (по австралийским
материалам).— ПИ ДО, с. 239—240.
256 Goldman J. Tribes of the Vaupes-Caqueta region, p. 781, 783; Idem. The Cubeo.
256 Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества, с. 192.
267 FejosP. Ethnography. . ., p. 30—32, 41—42, 59, 79, 86,
268 Whiffen Th. The North-West Amazons, p. 136.
259 BalikciA. The Netsilik Eskimo. Garden City, 1970, p. 116—119.
260 Ibid.
261 Cooper J. The Yahgan, p. 94.
262 Cooper J. The Ona, p. 117; Bird J. The Alacaluf, p. 71.
263 MetrauxA. The Botocudo, p. 536.
264 Kirchhoff P. Food-gathering tribes. . ., p. 460—461.
266 Артемова О. Ю. Личность и нормы поведения в обществе аборигенов
Австралии. Авто реф. канд. дис. М., 1981, с. 14, 20—21.
266 Североамериканские индейцы, с. 296
267 Там же, с. 394—395.
268 Lowie R. Social and political organization of the tropical forest and marginal
tribes.— HSAI, v. 5, p. 342-343.
269 Kirchhoff P. Food-gathering tribes..., p. 453.
270 BalikciA. The Netsilik Eskimo.
Becher H. Yanonami. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse iiber die alteste
271 Bevolkerungsgruppe Amazoniens. Gottingen, 1962, S. 17—19.
272 Fejos P. Ethnography. . .
Глава четвертая
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ-СКОТОВОДОВ
И ВЫСШИХ ОХОТНИКОВ, РЫБОЛОВОВ
И СОБИРАТЕЛЕЙ
1. Неолит как период становления и развития
позднепервобытной общины
На протяжении раннего и среднего голоцена в большинстве
регионов мира на основе существенного подъема производительных сил
совершился переход к позднему этапу первобытнообщинного строя,
создавший прочные предпосылки для социальной и имущественной
дифференциации и подготовивший становление раннеклассовых
обществ. Это был период формирования и развития позднепервобытной
общины, отличавшейся от раннепервобытной прежде всего
следующими параметрами. Общины теперь стали значительно крупнее,
степень мобильности населения упала, а материальная культура
обогатилась множеством новых элементов, что в известной мере
вызывалось углублением процессов трудовой специализации и
становлением ремесла. Общественная структура постепенно теряла прежнюю
гибкость, шло формирование новых социальных институтов, росла
внутренняя консолидация общества. Центральной становилась
концепция вертикального родства, совершенствовалась система власти,
основные черты религии стали определяться культом предков, а в
системе ценностей главное место со временем заняли понятия,
порожденные изменениями в отношениях собственности.
Эта характеристика учитывает прежде всего социологические
показатели в отличие от сугубо технологических, на которых обычно
строится археологическая периодизация. Вот почему по смыслу
термин «неолит» не тождествен термину «позднепервобытная община».
И все же, учитывая характер технологии и способы хозяйствования,
а также некоторые социологические показатели, выявляемые
археологически, можно с уверенностью утверждать, что многие
неолитические общины типологически относились к классу позднепервобыт-
ных.
Впрочем, в свете последних исследований сам термин «неолит» .
требует некоторых разъяснений. Первоначально выделение
неолитических культур проводилось с помощью исключительно
технологических критериев: признаками неолита служили прежде всего
появление таких технических приемов, как шлифование и сверление
камня, и таких новых элементов материальной культуры, как топоры-
тесла и керамика. В то же время малая изученность мезолитического
периода создавала иллюзию относительно резкого разрыва между
палеолитической и неолитической техникой. Считалось, что руково-
\ ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 237
дящие типы неолитической материальной культуры появлялись сразу
в комплексе, и поэтому соответствующие им памятники легко
вычленялись.
Однако с развитием археологических исследований в различных
регионах мира уязвимость этих критериев стала очевидной.
Выяснилось, во-первых, что каменные топоры с подшлифованными
лезвиями имелись уже в период плейстоцена в Австралии, что навыки
сверления возникли столь же рано, как и обжиг глины и изготовление
фигурок из нее (палеолитическая стоянка Дольни Вестоници в
Моравии), а во-вторых, что в ряде случаев общества, характеризуемые
по другим признакам (наличие земледелия и скотоводства) как ран-
ненеолитические, еще не знали ни изготовления глиняной посуды,
ни шлифованных топоров. Последнее породило концепцию «докера-
мического неолита», применяемую для памятников Передней Азии, а
в последние годы и для некоторых районов Европы.
Археологи-американисты вообще отказались от термина «неолит», причисляя голо-
ценовые докерамические памятники, в том числе и с ранними
формами производящего хозяйства, к «архаической эпохе», а ранние
керамические—к «формативной». Отсутствие строгих связей между
ранним земледелием и гончарным производством подтверждается и
некоторыми этнографическими данными. Большинство известных
этнографам групп папуасов-земледельцев Новой Гвинеи не изготовляли
глиняных сосудов сами, но некоторые из них выменивали гончарные
изделия у соседей.
Вообще выделение каких-либо эволюционных стадий по чисто
техническим критериям не лишено определенных слабостей, а это
хорошо продемонстрировали критики известной схемы Л. Г.
Моргана, да и сам Морган понимал уязвимость этого подхода.
Действительно, основываясь на многочисленных этнографических примерах,
несложно показать, что ряд связываемых обычно с производящим
хозяйством технических достижений и некоторые другие черты
культуры не чужды и отдельным обществам охотников, собирателей и
рыболовов. Палки-копалки и терочники зафиксированы у паюте,
австралийцев, ведда, бушменов, шлифованные орудия — у некоторых
австралийцев, примитивный контроль за водой — у паюте, квакиут-
лей, некоторых австралийцев, керамика — у андаманцев, ведда,
йокутсов, ямы-хранилища — у паюте, металлургия — у индейцев
северо-запада Северной Америки, крупные долговременные поселки и
развитая позднеродовая организация — у целого ряда рыболовческо-
охотничьих народов 1.
Все это привело к пересмотру прежней концепции неолита,
которую современные неоэволюционисты вслед за Г. Чайлдом стали
связывать с обществами, обладающими производящим хозяйством.
Положительным моментом такого подхода служит попытка увязать
неолит не с отдельными техническими достижениями, наличие или
отсутствие которых в каждой конкретной ситуации могло иметь
случайный характер, а с эволюцией форм хозяйства, следовательно, и
238
Глава четвертая
с эволюцией общества в целом. Однако и этот подход уязвим для
критики. Его главный недостаток заключается в стремлении его
сторонников жестко связать формы хозяйства с теми или иными
особенностями социальной структуры и другими элементами обществен*-
ной жизни и культуры, на чем и основывается выдвинутая Г. Чайл-
дом концепция «неолитической революции»2. На самом деле, как
будет показано ниже, связь эта, хотя и существует в реальности,
является опосредованной и действует через механизмы, в некоторой
степени нейтральные по отношению к формам хозяйства. Ведь само
по себе хозяйство еще не имеет четкой стадиальной принадлежности,
а его связь с уровнем общественного развития и социальной
структурой не является жесткой. Это происходит потому, что указанная
связь опосредуется производственными отношениями, в зависимости
от характера которых один и тот же тип хозяйства может служить
совершенно разным целям в обществах, различающихся по уровню
развития.
Вот почему во многих случаях общественные отношения и
социальная структура высших охотников, собирателей и рыболовов
близко напоминают соответствующие черты обществ ранних
земледельцев и скотоводов, а оставленные теми и другими археологические
памятники имеют много общего и могут объединяться в рамках
концепции «неолита». Поэтому мы считаем возможным трактовать
многие известные археологам неолитические памятники в свете
этнографических представлений о позднеродовых общинах ранних
земледельцев и скотоводов и высших охотников, рыболовов и
собирателей3. Разумеется, это вовсе не означает их полного отождествления,
а лишь подчеркивает тот факт, что по общественным отношениям и
некоторым формам культуры они стадиально находились ближе друг
к другу, чем к обществам более отсталых охотников, рыболовов и
собирателей.
В ряде случаев оставаясь по археологическим критериям
неолитическим, общество могло достичь предклассового состояния. Иногда
это происходило на основе развитых земледелия и скотоводства,
иногда — на базе эффективного присваивающего хозяйства. Таким
образом, в некоторых случаях производящее хозяйство могло проникать
в общества, уже отличавшиеся определенным развитием социальной
и имущественной дифференциации. Детально облик этих обществ в
настоящем томе рассматриваться не будет, так как это выходит за
рамки периода позднепервобытной общины. Однако в сводке
археологических материалов соответствующие проблемы вкратце будут
затрагиваться, чтобы, во-первых, показать, до каких пределов могли
развиваться отдельные неолитические по археологическим критериям
общества, во-вторых, не оставлять незавершенной тему, связанную
с процессами распространения производящего хозяйства по
территории нашей планеты.
Особенности перехода к неолиту. Переход к позднепервобытной
общине совершался в разных районах мира в разные эпохи в зависи-
^_\ ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 239
мости от\ложившейся конкретно-исторической обстановки. Кое-где
некоторые ё^ особенности могли сложиться уже в позднем палеолите,
однако всемирные масштабы указанный процесс принял лишь в
неолите в условия^ всеобщего подъема производительных сил, перехода
к более прочной оседлости и роста народонаселения.
Специфическое чертой переходного периода было то, что внешним
стимулом для него послужил упадок характерных для палеолита
массовых охот на стадных копытных животных. Это было вызвано
губительным эффектом климатических колебаний рубежа
плейстоцена — голоцена, эффектом, значительно усиленным хищническим
характером охоты4. В итоге некоторые виды животных вообще
вымерли, численность других сильно сократилась. Теперь плотность
биомассы настолько уменьшилась, а охотничье искусство человека
настолько усовершенствовалось, что интенсивная охота могла вообще -
подорвать способность популяций животных к воспроизводству.
Поэтому необходимо было вводить искусственные ограничения на
охоту, компенсируя убыток развитием других видов хозяйства. Этому
способствовала и возросшая плотность населения, при которое
общины уже не могли свободно передвигаться на соседние территории,
не конкурируя с соседями.
Все это требовало трансформации первобытного хозяйства,
которая шла главным образом по пути расширения пищевого рациона
за счет новых источников питания, в частности растительной пищи.
Возникавшие на этой основе хозяйственные системы были связаны
со все более интенсивным использованием локальных ресурсов 5. Эта
тенденция была характерной для многих обществ раннего голоцена.
О том, что приспособление первобытной культуры к новым условиям
обитания имело определенные трудности, свидетельствует запустение
ряда районов Европы, а также некоторое уменьшение населения и
понижение средней продолжительности жизни у людей Восточного
Средиземноморья в начале голоцена 6.
Этот весьма болезненный процесс приспособления человеческого
общества происходил на протяжении мезолита и в принципе
завершился к началу неолита, для которого, за редкими исключениями,
были характерны более или менее оседлые общины, ведущие
правильное сезонное многоресурсное хозяйство. Оседлость здесь надо
понимать не абсолютно, т. е. не как многолетнее постоянное
обитание на одном поселении, а как освоение площади гораздо меньшего
размера, но гораздо интенсивнее, чем прежде. В результате
количество поселков и временных стоянок каждой общины несколько
сократилось, но зато их заселение людьми стало более регулярным и
более длительным, т. е. и культурный слой стал более мощным.
Конечно, соотношение оседлости и подвижности в неолите в
разных районах мира при наличии разных хозяйственных систем было
различным. Однако оно далеко не всегда прямо отражало
соотношение и роль различных направлений хозяйства, ибо в зависимости от
богатства природных условий и особенностей технических навыков
240
Глава четвертая
и традиций земледелие, равно как охота и рыболовство, могло
стимулировать как подвижный, так и оседлый образ жизни. Вместе с тем,
несмотря на встречающиеся исключения, неолитические общины
отличались от мезолитических и палеолитических большей степенью
оседлости в том смысле, в котором это оговорено выше.
Основные технические достижения неолита. Новые условия
жизни и новые потребности повлекли совершенствование ряда старых
навыков и технических приемов, а также выработку новых, более
соответствующих изменениям хозяйственной и социальной систем.
Рост роли рыболовства и собирательства, усовершенствование мето-'
дов охоты, а кое-где появление земледелия и скотоводства, развитие
оседлости, а вместе с ней и изменения в домостроительстве, появление
новых средств транспорта, новых видов питания и т. д. — все это
привело к усложнению материальной культуры. Такие появившиеся
прежде методы обработки камня, как шлифование и сверление,
приобрели в неолите огромное значение прежде всего в связи с
возросшей потребностью в рубке и обработке дерева. Расчистка лесистых
участков для строительства поселков и устройства небольших полей
и огородов, использование дерева в домостроительстве, для
изготовления посуды и домашней утвари, лодок-долбленок, лыж и саней
требовало усовершенствования орудий труда и повлекло, в частности,
широкое распространение шлифованных топоров и тесел.
Экспериментальным путем было показано, что в неолите техника
производства и использования каменных орудий по сравнению с
предшествовавшими эпохами стала, безусловно, более эффективной. А процесс
ее улучшения наблюдался на протяжении всего неолита 7.
Возросшая потребность в каменных орудиях на фоне роста
населения и развития оседлости привела в ряде мест к истощению
наземных источников сырья и разработке подземных отложений
кремня. Появились хорошо известные в неолите Европы и Средней Азии
шахты и выработки, требовавшие и новых навыков, и новых орудий
труда (например, роговых кирок, которые местами использовались
также для строительства домов-полуземлянок и землянок и рытья
могил). Быстрый износ орудий при интенсивной работе потребовал
в некоторых местах замены кремня такими более прочными
материалами, как, например, нефрит. Началось широкое использование
обсидиана; орудия из него находят на неолитических поселениях
порой за многие сотни километров от его месторождения. К эпохе
неолита восходит и разработка других минеральных ресурсов. В
пещерах штата Кентукки (США) в II—I тыс. до н. э. велась добыча
гипса и мирабилита, которые использовались в хозяйстве и
врачевании, в Южной Африке найдены разработки марганцевых руд VI
(V) * тыс. до н. э., применявшихся для косметики. Другим важным
продуктом стала соль. С возрастанием роли растительной пищи по-
* Обоснования использования в данной главе двойных датировок даны во
введении.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 24*
требность вч соли усилилась, и не случайно именно в неолите началась
ее широкая Добыча и обмен ею 8.
Вырубка лесов, широко практиковавшаяся в неолите,
существенно повлияла на окружающую природную среду: усилился процеса
эрозии почв, расширились ареалы степей и пустынь, кое-где
изменились растительные комплексы и произошло сокращение фаунистиче-
ских ресурсов. В то же время увеличение площади степных участковг
способных служить пастбищами, местами создало предпосылки длж
возрастания роли скотоводства в хозяйстве.
При строительстве домов в неолите использовались такие
основные виды сырья, как дерево и глина, реже — камень. В ряде южных
засушливых районов, богатых глиной, прослеживалась эволюция
домостроительства от глиняных или каменных хижин на каркасной
основе до глинобитных и кирпичных домов местами на каменных
фундаментах. Наиболее полно эта линия домостроительства представлен»
в Передней Азии, она была характерна и для некоторых соседних
районов. В других областях, богатых лесом, каркасно-столбовая
конструкция стала основной в домостроительстве: она была типичной вг
для домов-землянок и полуземлянок Восточной Азии и Дальнего»
Востока, и для наземных жилищ большей части Европы, Северной
Америки и Новой Гвинеи. В отдельных областях (Швейцария, Юго-
Восточная Азия, Новая Гвинея, Южная Америка) некоторое
распространение получили свайные постройки.
Интенсивное собирательство растительной пищи и земледелиег
хранение запасов и новые способы готовки также существенно
повлияли на развитие материальной культуры. Примитивные терочни-
ки, зернотерки и куранты, песты и ступки, жатвенные ножи и
палки-копалки использовались местами уже в палеолите и мезолите, на
характерными, типичными элементами культуры они стали именна
в неолите, когда возникли наиболее удобные и совершенные их
формы. Именно в неолите впервые появились настоящие серпы и мотыги.
Уже на ранних этапах эволюции земледелия в некоторых районах
стали использоваться ирригация (Передняя Азия) и дренаж (Новая
Гвинея).
Наиболее отчетливым признаком неолита для многих археологов
служит керамика, возникновение которой с полным основанием
можно связывать с развитием оседлого образа жизни на основе
рыболовства, усложненного собирательства растительной пищи или
земледелия. В настоящее время наши знания позволяют выделить несколько-
самостоятельных очагов возникновения керамического производства
в раннем голоцене. Это Восточная и Юго-Восточная Азия, Передняя
Азия и южные районы Восточной Сахары в Африке. К началу
IV (концу IV) тыс. до н. э. керамическое производство появилось
в Южной Америке (в Эквадоре и Колумбии), а в III—II тыс. до н. э.
Два центра гончарства возникли в Северной Америке. Полнее всего
процесс становления керамического производства изучен в Передней
Азии, где изготовление глиняной посуды явилось естественным след-
242
Глава четвертая
-ствием широкого применения глины, использовавшейся в раннем
неолите в домостроительстве и для производства глиняных фигурок,и
ластенных рельефных украшений. Появление глиняных сосудов
помогло усовершенствовать способы хранения и готовки пищи, а
гончарный процесс в некоторой степени мог послужить предпосылкой
для развития металлургии. Правда, в некоторых местах обработка
.металла способом холодной ковки могла возникнуть и до гончарства
(Передняя Азия, Северная Америка), а древнейшие литые
металлические изделия в отдельных районах Передней Азии появились
практически одновременно с ним.
Будучи типичной чертой неолита, глиняные сосуды тем не менее
>яе являлись его неизбежным атрибутом. В отдельных случаях их с
успехом могли заменять корзины, а также деревянные и каменные
«сосуды, как это отмечалось в раннем неолите в некоторых районах
Передней Азии. Напомним, что многие земледельцы Новой Гвинеи,"
не зная керамики, широко пользуются корзинами и сосудами из
бамбука, а некоторые земледельцы Южной Америки и Африки —
тыквенными сосудами. Корзины были, видимо, известны человеку по
меньшей мере с конца верхнего палеолита, так как их древнейшие
находки (пещера Шанидар в Передней Азии и пещера Опасности на
юго-западе США) относятся к рубежу плейстоцена-голоцена.
Существует мнение, согласно которому обычай обмазывать корзины
глиной мог кое-где послужить предпосылкой для возникновения
керамических сосудов. Это предположение как будто бы подтверждается
находками подобного рода корзин в Северной Сирии, Верхнем
Египте и Кении.
Плетение корзин послужило важной предпосылкой для появления
таких усовершенствований в охоте и рыболовстве, как сети, верши,
ловушки и капканы, которые распространились уже в мезолите и
послужили важнь!м фактором развития производительных сил в
неолите. На той же основе в неолите возникло ткачество.
Первоначально ткачество представляло собой ручное плетение,
принципиально мало чем отличавшееся от плетения корзин. Материалом для него
служили волокна дикорастущих растений (крапива, конопля, лен,
хлопчатник и т. д.|. С развитием земледелия и скотоводства
появились ткани из окультуренных видов льна и хлопчатника, а позже из
шерсти. Древнейшее веретено представляло собой простую палочку,
которую со временем стали уравновешивать с помощью глиняных и
много реже — каменных пряслиц. Пряслица почти повсеместно
сопутствуют неолитической культуре. Однако в принципе
использование веретена возможно и без них, о чем говорит пример некоторых
из перуанских индейских обществ. В позднем неолите — бронзовом
веке в отдельных областях появились ткацкие станки:
горизонтальные (Египет) и вертикальные (Передняя Азия, Европа).
Бурные процессы этнической дифференциации, нашедшие свое
выражение в быстром росте количества локальных археологических
культур, и интенсивное освоение отдельными группами местных
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 24$
природных ресурсов привели к возрастанию роли межобщинных
контактов и обмена, потребовавших совершенствования транспортных
средств. Именно в неолите широко распространяются
лодки-долбленки, лыжи, обычные сани и сани-волокуши, начинается использование-
мускульной силы домашних животных. Применяя тем самым
механическую энергию, неолитический человек открыл для себя новый
мощный источник воздействия на природу, создающий
принципиально новые возможности для обуздания ее слепых сил и использования
их в своих интересах.
Если в палеолите воздействие человека на природу имело, как
правило, лишь механический характер, то неолитический человек
проявил способность изменять физические свойства вещей. Это
проявилось как в гончарстве и зарождающейся металлургии, так и »
переработке растительной пищи. Ведь последнее требовало не только·
удаления несъедобных частей, но и обезвреживания ряда растений,
обладавших токсическими^свойствами. Конечно, кое-где эти приемы
были известны уже охотникам и собирателям, но их широкое
применение стало необходимым только в неолите. У ранних земледельце»
началось также изготовление алкогольных напитков из различных
злаковых культур в Старом Свете и из маниока — в Новом. Для тех
же целей в обоих регионах местами использовался и мед 9.
2. Переход от присваивающего хозяйства
к производящему
Как ни велика была роль перечисленных выше достижений
неолитической культуры, однако главным завоеванием неолита,,
имевшим поистине всемирно-историческое значение, явился переход к
производящему хозяйству, развитие в неолите земледелия и
скотоводства. Правда, далеко не все неолитические коллективы перешли
к производящему хозяйству. В ряде районов оно появилось лишь в
железном веке; сам этот переход был постепенным, а его последствия,
обусловившие огромные преимущества земледельческо-скотоводче-
ских коллективов над охотничье-рыболовческими, сказались далека
не сразу. Поэтому во многих районах, как показывают и
археологические и этнографические данные, уровень развития земледельче-
ско-скотоводческих общин не намного отличался от уровня развития
высших охотников, рыболовов и собирателей, а в ряде случаев был
даже ниже. Поэтому переход к производящему хозяйству,
предоставив человеку новое могущественное средство производства —
землю10, тем не менее еще не привел автоматически к возникновению
качественно иных структур, способных противопоставить общества
земледельцев и скотоводов всем обществам охотников, рыболовов и
собирателей. В. Р. Кабо, попытавшийся недавно вычленить такие
качественные различия, вынужден был отметить у высших охотников
и рыболовов черты, позволяющие «ставить названные народы на один
Уровень с представителями ранних форм производящего хозяйства» и.
244 ·
Глава четвертая
Отдавая дань до сих пор преобладающему в науке мнению о том, что
общества с присваивающим хозяйством достигали высокого уровня
развития лишь в особых благоприятных природных условиях, и
считая их редкими исключениями из общей массы отсталых охотников,
рыболовов и собирателей, В. Р. Кабо тем не менее отмечает
возможность более широкого распространения этого типа присваивающего
хозяйства в прошлом 12.
Сейчас имеются все основания говорить о том, что у многих
неземледельческих обществ земного шара на основе умелого
использования окружающей природной среды возникла довольно развитая
социальная организация, сопоставимая с организацией ранних
земледельцев и скотоводов и отличающаяся от организации таких низших
охотников и собирателей, как австралийские аборигены, бушмены или
западные шошоны 13. Во многих случаях эффективное
присваивающее хозяйство служило тормозом, который препятствовал
проникновению в соответствующие районы земледелия и скотоводства, и
одновременно создавало основу для появления относительно развитых
форм социальной организации и общественных отношений, почти не
менявшихся после возникновения там производящего хозяйства.
Таким образом, при принципиально иных способах ведения
хозяйства, отличающих друг от друга доземледельческие и земледель-
ческо-скотоводческие общества, их социальные различия, если и
выявляются, то с гораздо большим трудом. По-видимому, здесь следует
говорить лишь о том, что производящее хозяйство в перспективе
открывало более широкие возможности для процесса парцеллизации
собственности и действия механизмов классообразования. Поэтому,
если предклассовая ступень составляла тот предел, выше которого
общественные отношения уже не могли эволюционировать на основе
исключительно присваивающего хозяйства, то развитие земледелия
и скотоводства открывало принципиально иные возможности,
составляя условие формирования и эволюции классовых социальных
организмов.
Здесь, правда, следует оговорить одно исключение, связанное с
кочевым скотоводством, которое, хотя и является одной из
разновидностей производящего хозяйства, однако также не позволяет
обществу подняться выше предклассовых или в редких случаях
раннеклассовых отношений. В исторической перспективе развитие высоко-
специализированных обществ охотников, рыболовов и собирателей и
кочевых скотоводов представляет собой тупиковые ветви и лишь
земледельческое или комплексное земледельческо-скотоводческое
хозяйство позволяет обществу перешагнуть рубеж классообразования и
успешно развиваться далее. В этом смысле и надо, по-видимому,
понимать суть того революционного переворота, который совершился
в истории с переходом к производящему хозяйству.
К проблеме происхождения производящего хозяйства в разные
эпохи обращались многие исследователи, высказывавшие по самым
различным ее аспектам порой диаметрально противоположные идеи.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
245
ранее всего ученых заинтересовал процесс смены одних
хозяйственных систем другими. В XVIII и XIX вв. в европейской науке
господствовала так называемая теория «трех стадий», по которой люди
первоначально занимались охотой, потом перешли к скотоводству, а уж
от него — к земледелию. Однако если ученые XVIII — начала XIX в.
(Ш. Монтескье, М. Кондорсе, И. Г. Гердер и др.) относили к
охотничьей стадии и ручное палочно-мотыжное земледелие, понимая под
настоящим земледелием лишь пашенное, то в XIX в. этот нюанс был
опущен и возобладало прямолинейное схематичное понимание
указанной теории (Дж. Леббок, Г. Мортилье, Л. Г. Морган и др.).
Большинство исследователей XIX в. считали, что земледелие возникло
прежде всего из потребности снабжать домашних животных кормом.
Рецедивы этой концепции встречаются и в наши дни 14.
В конце XIX в. в противовес теории «трех стадий» были
выдвинуты две гипотезы: по первой из них скотоводство и земледелие
возникли независимо в разных районах и лишь в последующее время
в процессе их распространения произошло их слияние в единую
систему хозяйства (эта концепция была развита Э. Тайлором,
подхвачена венской культурно-исторической школой и в настоящее время
отдельные ее положения разрабатываются Г. Польхаузеном 15 и
некоторыми английскими специалистами16); по второй скотоводство
могло возникнуть лишь в оседлоземледельческих обществах (идея
выдвинута впервые Э. Ханом и в настоящее время разделяется
большинством специалистов).
В советской науке в довоенные годы одни ученые считали, что
земледельческо-скотоводческое хозяйство возникло сразу в
комплексной форме, другие писали о самостоятельной доместикации
животных охотниками. Сейчас большинство советских ученых склонно
придерживаться первого из этих взглядов.
Разногласия касались и количества первичных (независимых)
центров становления производящего хозяйства. Если для
эволюционистов XIX в. этот вопрос являлся второстепенным и они, как
правило, решали его с позиций полицентризма, то в первой половине
XX в. он стал ареной драматических баталий в связи с
распространением в зарубежной науке теорий диффузионизма и миграциониз-
ма, а с ними и тенденции к решению рассматриваемого вопроса с
позиций моноцентризма. Где только не искали первичнЬш и
единственный очаг возникновения земледелия и скотоводства: в Передней Азии
(С. Форд и многие другие), в Египте (Г. Эллиот-Смит и У. Перри),
в Сахаре и Северной Африке (Г. Пик и Г. Флер), в Южной Азии
(Е. Верт), в Юго-Восточной Азии (К. Соэр, Г. фон Виссман).
Некоторые ученые, разделяя мнение о распространении производящего
хозяйства в Старом Свете из единого центра, допускали
существование независимого очага и в Новом Свете; другие, отстаивая чдстоту
диффузионизма, активно им возражали. По В. Шмидту и В. Коппер-
су, скотоводство родилось в Центральной Азии, а земледелие —
южнее, в тропических азиатских районах.
246
Глава четвертая
Идеи моноцентризма дожили и до нашего времени 17.
В советской науке с самого начала возобладал полицентристский
подход к решению вопроса о центрах возникновения производящего
хозяйства. При этом советские ученые опирались на труды Н. И.
Вавилова и его коллег-биологов, глубоко обосновавших идею очагового
происхождения земледелия и скотоводства. В зарубежной науке в
довоенные годы лишь немногие исследователи высказывались в пользу
полицентризма. Сейчас же правомерность этого подхода настолько
очевидна, что с его позиций выступает большинство западных
ученых 18.
Сложен вопрос о времени появления производящего хозяйства.
Еще недавно многие специалисты связывали этот переворот с
неолитом, и неслучайно Г. Чайлд назвал его «неолитической
революцией». Однако теперь имеются бесспорные археологические
свидетельства того, что в первичных очагах он начался еще в мезолите.
В то же время некоторые авторы считают возможным предполагать
начатки земледелия уже в верхнем палеолите (Г. Стивене, Е. Вертг
О. Дэвис) 19. То же самое писали у нас о началах скотоводства
И. И. Мещанинов, В. Г. Богораз (Тан) и В. И. Равдоникас. В
последние годы даже высказана идея о зарождении скотоводства у
неандертальцев (Э. Сэксон). О вероятности зарождения земледелия в
мустье писал в свое время В. Л. Комаров.
Ученые спорят и о причинах перехода к земледелию и
скотоводству. Если в XVIII — первой половине XIX в. считали, что
основным мотивом этой трансформации являлись хозяйственные
потребности, то в конце XIX в. появилась идея о развитии культивации
растений и доместикации животных из религиозных ритуалов (Г.
Эллен, Э. Хан, Ф. Джевонс, С. Рейнак). Эта идея находит своих
защитников и в наши дни (Ч. Хейзер, Ф. Симунс, Э. Айзек и др.).
Хозяйственные потребности, способные повлечь переход к производящему
хозяйству, разные исследователи также понимают по-разному: если
многие из них видят в домашних животных и культурных растениях
главным образом источники питания, то некоторые авторы считают*
что первые домашние животные использовались на охоте в качестве
манщиков или под вьюк, а первые культурные растения — как сырье
для домашних производств (хлопок, тыква-горлянка и др.)» а также
для украшений, косметики и получения ядов и целебных снадобий·
С конца XIX в. бытует и идея о зарождении доместикации из
полубессознательных симбиотических действий. Тогда же возникла
гипотеза о развитии скотоводства на базе содержания
животных-«любимчиков».
Сторонники религиозной теории доместикации видят истоки
последней исключительно в сфере эволюции ритуалов и идей.
Напротив, защитники хозяйственной теории объясняют переход к
производящему хозяйству кризисной ситуацией, сложившейся по тем или
иным причинам в обществах охотников, рыболовов и собирателей. Их
позиция особенно укрепилась в последние годы, когда распространи-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
247
лась идея о том, что, вопреки мнению более ранних авторов,
«открытие» земледелия и скотоводства не было сколько-нибудь
единовременным актом. По современным представлениям, охотники и
собиратели издавна знали о механизмах размножения животных и
растений и теоретически могли их использовать. Однако применение
этих знаний и навыков на практике возникло лишь в силу суровой
необходимости. По мнению разных авторов, это произошло в
условиях экологического кризиса, вызванного либо природными, либо
антропогенными факторами, или же в обстановке роста
народонаселения, потребностям которого прежние хозяйственные системы уже
не удовлетворяли. Впрочем, не все сторонники хозяйственной теории
доместикации разделяют идею о кризисе. Р. Брейдвуд и Дж. Мелларт
видят в переходе к производящему хозяйству закономерный итог
кумулятивного развития технологии 20. Недавно в науке появилась еще
одна теория, связывающая становление земледелия с социальным
фактором — развитием системы лидерства (Б. Бендер) 21.
Решение проблемы перехода к производящему хозяйству
усложняется имеющимся разнобоем в использовании таких терминов, как
«культивация», «доместикация» и «производящее хозяйство». К
сожалению, их единое понимание до сих пор отсутствует. В частности,
это вызвано тем, что специалисты определяют их, исходя из
критериев, выработанных разными науками для своих собственных нужд.
Например, основным критерием для биологов служит морфофизио-
логическая изменчивость. С этой точки зрения к культурным
растениям и домашним животным следует относить лишь те виды,
которые отличаются от существующих в дикой природе по ряду важных
внешних показателей. Однако, как уже не раз отмечалось, эта
концепция, с одной стороны, допускает культивирование растений,
диких по морфологическим показателям (ситуация, типичная для эпохи
становления земледелия), а с другой, включает в число культурных
такие виды, которые не использовались человеком, а возникли как
побочный продукт его деятельности (сорняки и пр.). С позиций этого
подхода в ряде случаев культивация и даже земледелие возможны
без доместикации, а доместикация возможна без культивации22.
Ясно, что в таком контексте использование этих терминов
специалистами-гуманитариями во избежание путаницы должно быть крайне
осторожным. Впрочем, некоторым шагом вперед здесь стало введение
термина «синантропизация», означающего косвенное влияние
человеческой деятельности на дикую природу, вызывающее в ней те или
иные изменения 23.
Что касается этнографов, то они часто понимают под
доместикацией прежде всего изменение отношения человека к ряду прежде
Диких растений и животных (уход за ними, искусственный контроль
за их воспроизводством и прочие манипуляции с ними в интересах
человеческого хозяйства) и изменение места последних в его
культуре. С этой точки зрения доместикация представляется непрерывным
процессом количественных изменений, не позволяющих более или
248 ^ ' Глава четвертая
менее четко наметить тот рубеж, который отделяет производящее
хозяйство от присваивающего. Это дает некоторым исследователям
повод вовсе отказаться от постановки такой задачи и объявить
доместикацию не более чем интенсификацией процесса, который будто
бы имел место во все эпохи 24.
Другие специалисты пытаются определить указанный рубеж,
опираясь на такие количественные показатели, как общее соотношение
объема пищи, полученной от присваивающих и производящих форм
хозяйства. Однако и в этом лагере не существует единства. По
мнению одних ученых, земледельческо-скотоводческими обществами
следует считать те, которые получают от производящего хозяйства не
менее 25% пищи, другие поднимают эту цифру до 50% 25. В
принципе решение этой проблемы допускает и другие подходы. Можно,
например, определить соотношение различных видов хозяйства по
затратам энергии, которых они требуют от людей, а можно и
основываться на мнении самих носителей тех или иных хозяйственно-
культурных типов или на характере отражения различных видов
хозяйственной деятельности в их духовной жизни. Совершенно
очевидно, что в зависимости от подхода проблема перехода к
производящему хозяйству будет решаться по-разному.
Нам кажется, что общее ее решение должно, во-первых,
основываться на качественных, а не количественных показателях, которые
могут быть в разных районах различными, а во-вторых, опираться
прежде всего на объективные материальные критерии. Важнейшим
таким критерием представляется образ жизни, определяющий
характер культуры и всегда связанный с ведущими видами хозяйства.
Поэтому к обществам с производящим хозяйством следует относить
прежде всего те, образ жизни которых определяется земледелием
и/или скотоводством.
3. Первичные очаги земледелия и скотоводства^
Впервые идея первичных очагов, или центров, возникновения
земледелия была научно обоснована замечательным советским ученым
Н. И. Вавиловым на ботанических материалах. Изучая проблему
происхождения культурных растений, Н. И. Вавилов обратил внимание
на тот примечательный факт, что известные ареалы диких
сородичей культурных растений не совпадают с действительными более
узкими центрами формообразования, а следовательно, вопреки
мнению более ранних авторов (А. Декандоль и др.), их изучение мало
помогает в выявлении реальных очагов становления земледельческих
культур. Поэтому, писал Н. И. Вавилов, находка дикой формы
культурного растения сама по себе еще не способна решить вопрос
о его происхождении. Реальные центры формообразования были
обнаружены Н. И. Вавиловым преимущественно в горных районах,
составляющих лишь малую часть территории гораздо более широких
ареалов диких видов. К этим-то горным районам и тяготели первич-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 249
пые очаги вознршновения земледелия. Как теперь установлено,
причиной тому служила неравномерность исторического развития, в силу
которой переход к производящему хозяйству в различных районах
более широкой области, где имелись для этого необходимые
природные предпосылки, происходил неодновременно. Тем самым
создавались условия для очагового характера становления земледелия и его
распространения на соседние территории путем миграции его
носителей или путем заимствования. В то же время, глубоко обосновав
гипотезу полицентризма рассматриваемого процесса, Н. И. Вавилов
привел наиболее убедительные доказательства против диффузионист-
ской концепции с ее идеей моноцентризма 26.
Основные положения концепции Н. И. Вавилова нашли
подтверждение в ходе последующих исследований, проводимых ботаниками,
зоологами и в особенности археологами, и до сих пор не утратили
своего основополагающего значения27. В то же время в свете
новейших исследований, значительно обогативших наши знания о диких
предках культурных форм и их древних ареалах, направлениях
эволюции культурных видов и путях цх распространения, времени,
месте и обстоятельствах этих сложных процессов и т. п., некоторые
частные выводы Н. И. Вавилова требуют уточнения и даже
пересмотра. Вместе с тем нельзя признать удачной попытку некоторых
ботаников вообще отказаться от идеи очагового становления
земледелия и вернуться к прежней гипотезе о параллельном независимом
переходе к производящему хозяйству на всей территории
распространения диких сородичей тех или иных культурных форм28. Как
правило, эти авторы указывают на два момента. Во-первых, они
отмечают несовпадение в ряде случаев предполагаемого центра
происхождения, с одной стороны, и очага ботанического многообразия,
с другой: второй мог иметь и часто действительно имел вторичный
характер. Однако этот факт неоднократно подчеркивал сам Н. И.
Вавилов29, и значение его вовсе не в том, что он будто бы противоречит
вавиловской концепции центров происхождения, а в необходимости
более строгой интерпретации ботанических материалов с учетом
исторических данных. Во-вторых, полемизируя с Н. И. Вавиловым, его
современные оппоненты указывают, как правило, да- такие еще мало
изученные в археологическом отношении регионы, как, например,
Африка или Юго-Восточная Азия, что делает их построения в
высшей мере гипотетичными. Характерно, что районы, в которых
переход к производящему хозяйству археологически прослежен
(Передняя Азия, Мезоамерика, Южная Америка), полностью
подтверждают концепцию Н. И. Вавилова.
Современные археологические данные позволяют выделить
несколько безусловно первичных очагов становления производящего
хозяйства. Это Передняя Азия, Северо-Восточная Африка,
Юго-Восточная Азия, Мезоамерика и андийская область Южной Америки.
Возможно, к этому списку в скором будущем добавится еще
несколько очагов, таких, например, как Восточная Азия, Западная Африка
250 Глава четвертая
или низменности Южной Америки. Однако изученность последних
сейчас еще недостаточна для определения степени первичности в них
рассматриваемого процесса.
Передняя Азия. В Передней Азии в настоящий момент вычленя-
ется несколько районов, в которых переход к производящему
хозяйству совершился самостоятельно. Лучше всего этот процесс изучен
в Палестине и Сирии, где в конце плейстоцена — начале голоцена
отмечались устойчивые тенденции к развитию оседлости и усилению
таких видов хозяйственной деятельности, кай собирательство диких
растений и рыболовство. Указанные тенденции с особой силой
проявились в период существования натуфийской культуры XI—X
(X—IX) тыс. до н. э.30. Натуфийцы вели сезонное многоресурсное
хозяйство, что в археологическом материале нашло свое отражение
в сочетании базовых поселков с временными охотничьими
стоянками. Поселки, занимавшие площадь от нескольких сотен до 2—3 тыс*
кв. м (0,2—0,3 га), состояли из нескольких круглых или овальных
каменных наземных домов, а чаще полуземлянок диаметром 2,5—
10,0 м, но обычно 5—7 м. Иногда использовались хижины из
деревянных жердей и шкур, а также пещеры. В домах имелись открытые
очаги и ямы-хранилища. В наиболее крупных поселках могло обитать
до 200—300 человек, но, как правило, размеры общин были меньше.
Натуфийцы занимались охотой, собирательством и местами
рыболовством. Со временем роль сбора диких растений (эммера, ячменя и
бобовых) возросла. Соответственно увеличивался и сопутствующий
этому инвентарь — жатвенные ножи, ступки, песты, терочники,
зернотерки, каменные сосуды, возможно, уже имелись корзины.
По-видимому, поздние натуфийцы умели выращивать растения. Они имели
домашних собак, но к скотоводству еще не перешли (вопреки
мнению ряда авторов о том, что они пасли прирученных коз и
джейранов). Судя по материалам могильников и некоторым другим данным,
в натуфе уже существовала определенная социальная
дифференциация31.
В IX (VIII) тыс. до н. э. на основе натуфа в Палестине
сформировалась местная культура раннего докерамического неолита А, во
многом продолжавшая и развивавшая его традиции. Именно в этот
период здесь впервые появились прямые данные о земледелии —
зерна культурного эммера32 и ячменя, что не позволяет согласиться
с утверждением Ж. Перро об отсутствии земледелия в Палестине в
период докерамического неолита33. Потомки натуфийцев жили в
круглых или овальных однокомнатных домах-полуземлянках
площадью 9—15 кв. м. Как и прежде, дома имели каркасно-столбовой
остов, но их стены строили теперь не только из камня, но и из
сырцовых кирпичей. Крыша, возможно, была сводчатой. Наряду с
прежними видами инвентаря теперь появились подшлифованные топоры
и тесла и широко распространились разнообразные наконечники
стрел. В Бейде были найдены деревянные сосуды, корзины,
обмазанные глиной или битумом, а также зафиксированы первые опыты по
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 251
производству керамики. Поселки этой фазы были крупнее натуфий-
ских и иногда достигали площади 3 га (Иерихон). В Иерихоне
имелись мощные стены, одна из которых была связана с высокой
каменной башней.
Во второй половине X (IX) тыс. до н. э. натуфийцы проникли в
Северную Сирию и осели по берегам Евфрата, занимаясь там охотой,
рыболовством и собирательством таких растений, как
пшеница-однозернянка, ячмень, чечевица и вика. В IX (VIII) тыс. до н. э. они,
видимо, перешли к их культивации. Во всяком случае в Западной
Сирии под Дамаском разведение всех указанных растений в этот
период уже было известно34. Нуждам собирательства, а позже и
земледелия служили жатвенные ножи, ступки, песты, каменные сосуды,
а также специальные ямы, в которых обжаривали зерно, а,
возможно, даже пекли хлеб. На рубеже X—IX (IX—VIII) тыс. до н. э. в
этом районе зафиксированы первые глиняные изделия — маленькие
сосуды и фигурки. Но затем их производство временно прекратилось,
чтобы возродиться вновь в середине VIII (VII) тыс. до н. э.
Древнейшие евфратские поселки (Мурейбит, Шейх Хассан, Абу Хурейра),
достигая размеров 2—3 га, состояли первоначально из типично
поздненатуфийских глинобитных или каменных домов каркасно-стол-
бовой конструкции диаметром 2,5—4,0 м, однако позже, с переходом
к докерамическому неолиту, здесь началось строительство
прямоугольных многокомнатных домов из камня или сырцовых кирпичей.
Эти прямоугольные строения первоначально предназначались для
амбаров. На протяжении неолита в VIII (VII) тыс. до н. э. в поселке
Абу Хурейра, разросшимся теперь до 11,5 га, возникло скотоводство
(козы и овцы), проникшее сюда, видимо, с востока, и появился
культурный эммер, интродуцированный несомненно из Леванта.
Предполагается, что в это время здесь уже зарождалось примитивное
орошение 35.
В Юго-Восточной Турции переход к земледелию и скотоводству
зафиксирован во второй половине IX —начале VIII (втор. пол.
VIII — нач. VII) тыс. до н. э. на поселении Чайоню-Тепези, где
возделывали пшеницу-однозернянку, эммер и бобовые, а в поздний
период начали разводить скот (коз и овец). Как и в Северной Сирии,
здесь наблюдался постепенный переход от круглых или овальных
полуземлянок к прямоугольным многокомнатным домам из камня
или сырцовых кирпичей. Указанное поселение интересно и тем, что
здесь в докерамическом комплексе были найдены древнейшие
кованые изделия из самородной меди36. Судя по некоторым данным, один
из видов культурной пшепицы-однозернянки был принесен в Чайо-
ню из Западной Анатолии, где, следовательно, его разводили по
меньшей мере с первой половины IX (пер. пол. VIII) тыс. до н. э.37
Раннеземледельческий поселок VIII (VII) тыс. до н. э. Телль-
Магзалия был открыт советской археологической экспедицией в
Северном Ираке в предгорьях Синджара. Он также состоял из
многочисленных глинобитных многокомнатных домов, а со временем здесь
252
Глава четвертая
была построена каменная оборонительная стена. И здесь
встречались предметы, сделанные из меди способом холодной ковки. Помимо
каменных сосудов и плетеных корзин, жители Магзалии начала
использовать гипсовую посуду, подхватив традицию, известную в
этот период на ряде памятников Северной и Западной Сирии.
Население Магзалии выращивало главным образом ячмень, пшеницу-
однозернянку и эммер и разводило коз и овец38.
В горах Загроса наследники верхнепалеолитической культуры
зарзи в XI—IX (X—VIII) тыс. до н. э. вели правильное сезонное
хозяйство, обитая поочередно то в пещерах, то на открытых
временных или более постоянных стоянках размером до нескольких га.
Подобно натуфийцам, они строили круглые или овальные каменные
наземные дома или полуземлянки диаметром 3—4 м (но порой до
10 м). Население занималось охотой и в небольшой степени
рыболовством. Со временем росло значение собирательства, которое
постепенно переросло в земледелие. Этому сопутствовало развитие
таких видов инвентаря, как жатвенные ножи, ступки, песты,
зернотерки, появление корзин и каменных сосудов, устройство ям-хранилищ.
Для вырубки лесов и обработки дерева использовались топоры с под-
шлифованным лезвием. В IX (VIII) тыс. до н. э. жители Загроса
перешли к разведению культурных растений (пшеница, ячмень,
бобовые) и одомашнили коз и овец39. С конца верхнего палеолита у них
имелись собаки. В IX (VIII) тыс. до н. э. в некоторых поселках
Загроса (Гандж Дарех и др.) появилось древнейшее керамическое
производство.
Таким образом, в течение IX (VIII) тыс. до н. э. в ряде районов
Передней Азии на основе использования местных видов фауны и
флоры совершился самостоятельный переход к производящему
хозяйству. В то же время уже в этот период между отдельными
микроочагами развивался обмен сырьем, готовыми изделиями, а также
отдельными культурными видами растений и животных, который в
течение VIII—VII (VII—VI) тыс. до н. э. привел к окончательному
формированию переднеазиатского земледельческо-скотоводческого
комплекса. Впоследствии этот комплекс воздействовал на соседние
с Передней Азией общества, благодаря чему производящее хозяйство
начало распространяться на соседние территории.
Северо-Восточная Африка. Уже в конце верхнего палеолита в
некоторых районах Верхнего Египта и Нубии, тяготеющих к
нильской долине, из среды охотников, рыболовов и собирателей
выделились отдельные общины, в хозяйстве которых со временем возрастала
роль интенсивного собирательства растений. Наиболее ранние из
таких стоянок встречены в Вади Куббания и относятся ко второй
половине XVIII—XVII (втор. пол. XVII—XVI) тыс. до н. э. Со
временем роль рыболовства здесь падала, а значение сбора плодов
диких растений, напротив, возрастало, что привело в XIV—XII (XIII—
XI) тыс. до н. э. к возникновению относительно крупных
долговременных стоянок, население которых имело довольно развитую со-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 255·
циальную организацию, нетипичную для многих из современных им
охотников и собирателей. Лучше всего такие стоянки изучены под.
Ценой, где главным видом растительной пищи был, по-видимому,
ячмень. Предположение о его выращивании здесь в верхнем
палеолите пока что не подкрепляется бесспорными фактическими
материалами, но идею о некоторой заботе о нем, его охране и, возможно,
примитивном искусственном орошении вряд ли можно оспаривать.
Росту собирательства сопутствовало появление жатвенных ножей, те-
рочников, ступок и пестов40. К сожалению, ход дальнейшей
эволюции этих собирателей мало известен из-за плохой изученности ран-
неголоценовой эпохи в Египте. Ясно лишь, что в ряде случаев
изменение природной обстановки привело к затуханию собирательской?
активности и возврату к интенсивному рыболовству. Однако к концу
VIII (VII) тыс. до н. э. в районе Набта Плайя возникли ранненеоли-
тические поселки, жители которых уже не только охотились и
ловили рыбу, а и выращивали ячмень. Они обитали в более или менее-
прочных домах столбовой конструкции, рыли колодцы для воды и
уже обладали шлифованными топорами и теслами, а также
керамическими сосудами. Не позднее рубежа VII—VI (VI—V) тыс. до н. э.~
они,начали выращивать эммер и разводить крупный рогатый скот, а
к концу VI (V) тыс. до н. э. здесь появились козы и овцы.
Аналогичные данные о ранненеолитическом скотоводстве происходят и из
оазиса Харга41. В последние годы данные о раннеземледельческом:
хозяйстве VIII (VII), а, возможно, даже и IX (VIII) тыс. до н. э.
были получены из района дельты Нила. Есть основания полагать, что*
в этот период местное население развивалось в тесных контактах
с обитателями Леванта. Характер этих связей и их роль в
становлении древнейшего земледелия требуют дальнейших исследований.
Западная Африка. Судя по ботаническим и этнографическим
данным, Западная Африка являлась важным земледельческим очагомг
в котором были окультурены такие растения, как африканский ямс,,
масличная пальма, африканский рис и ряд других. На этом
основании некоторые специалисты, главным образом, ботаники и этнографы
(Дж. Мэрдок, Р. Портер, Д. Курси и др.), отстаивают идею
самостоятельного становления здесь земледелия42. Однако за неимением
точных фактических подтверждений тезис о полной независимости этого
очага пока что не может считаться доказанным. Правда, благодаря4
новым археологическим исследованиям в последние годы в
Западной Африке постепенно выявляются все более древние комплексы с
керамикой и шлифованными топорами. В настоящее время наиболее-
ранний из них Шум Лака датируется VII—VI (VI—V) тыс. до н. э.
Однако пока что этих данных еще недостаточно для того, чтобы
детально изучить процесс становления местного земледелия или хотя
бы датировать его. До некоторой степени картину проясняют
последние лингвистические данные, позволяющие говорить о наличии
раннего земледелия уже у протобанту и протоубангийцев по меньшей
мере в III тыс. до н. э. И те, и другие выращивали ямс, а протобанту
254
Глава четвертая
знали к тому же и разведение масличной пальмы. Кроме того, в
первой половине IV (втор. пол. IV) тыс. до н. э. два
западноафриканских растения — фонио и масличная пальма — были известны на
территории Республики Судан, куда они были, несомненно, занесены
с запада.
Все это позволяет предполагать наличие западноафриканского
раннеземледельческого очага по меньшей мере к началу IV тыс. μο
ш. э. Вместе с тем проблема его возникновения остается открытой.
Подавляющее большинство специалистов и ныне отрицают его
самостоятельность, связывая его происхождение с какими-либо
импульсами из Сахары. И хотя археологически это предположение пока что
Ήβ находит строгих обоснований, отметим, что лингвистические дан-
яые до некоторой степени его подтверждают. Об этом говорит
наличие в протобанту термина для обозначения коз, а козы могли попасть
s Западную Африку только от сахарских скотоводов.
Как бы то ни было, даже если на становление
западноафриканского земледелия повлияли какие-то внешние импульсы, уровень
развития местного населения был достаточно высок, чтобы на основе
синтеза местных и привнесенных из Сахары традиций началось
формирование своеобразного западноафриканского очага в том виде, в
•котором он дожил до европейской колонизации.
Юго-Восточная Азия и Южный Китай. Формирование
земледельческого комплекса Юго-Восточной Азии и Южного Китая с его
основными компонентами ямсом, таро и рисом началось, по-видимому,
з раннем голоцене, когда здесь обитали носители хоабинской
культуры. Хоабиньцы жили мелкими группами и вели подвижное
сезонное хозяйство, включавшее охоту, рыболовство, собирательство
моллюсков, но главным образом использование диких растений. Их
стоянки располагались как в горных пещерах, так и на открытых
участках речных пойм и побережий. В результате раскопок ряда
пещер было установлено, что их обитатели употребляли растения
для самых разнообразных целей: не только в пищу, но и в качестве
лекарственных средств, наркотиков, ядов, а также для поделок.
Бедность и неразработанность каменного инвентаря хоабиньцев
также являлась следствием широкого использования дерева, в частности
бамбука. Однако прямых свидетельств земледелия у хоабиньцев пока
что определить не удалось43.
Вместе с тем есть все основания предполагать зарождение
земледелия именно в хоабине, хотя, безусловно, не все группы хоабиньцев
приняли участие в этом процессе — некоторые из них еще долго
оставались охотниками и собирателями и обитали рядом с развитыми
земледельцами и скотоводами по меньшей мере до III—II тыс. до н. э.
Как нетрудно заметить, ареал хоабиньской культуры в основном
совпадал с областью, с которой ботаники склонны связывать
доместикацию целого ряда растений и животных44. Район, в пределах
которого могла произойти доместикация риса, протянулся от
Северо-Восточной Индии и северных районов Бангладеш до Северного Вьетна-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
255
ма и южных пределов Китая. Древнейший культурный рис был пред-
ставлен своей тропической разновидностью сяньдао (Oryza sativa
L. subsp. hsien Ting). В районе Янцзы на ее основе позже была
выведена другая холодоустойчивая разновидность — гэндао (Oryza
sativa L. subsp. keng), а в южных областях — крупнозерная (яванская)
разновидность булу, распространившаяся позже из Индонезии на
Филиппины, Тайвань и Японию. Рис — гидрофильное растение, иг
как считают теперь большинство ботаников, его первоначальная
культивация могла происходить только во влажных степных или
лесостепных районах. Следовательно, влаголюбивые сорта культурного
риса предшествовали суходольному его виду. В пользу этого как
будто бы говорит тот факт, что наиболее разнообразные и
примитивные разновидности риса связаны сейчас именно с низменностями,
тогда как суходольные формы повсюду обладают довольно
развитыми морфологическими чертами45.
Южным пределом рисоводческих культур стали Западная
Индонезия и Западная Микронезия. Находки культурного или по крайней-
мере переходных к нему форм риса в VI—IV (V—IV) тыс. до н. э.
в Северо-Восточном Таиланде, в долине Ганга и в устье Янцзы,
причем в последнем случае далеко за пределами района первичной
доместикации46, свидетельствуют о становлении рисоводства по меньшей
мере в VII—VI (VI—V) тыс. до н. э. В принципе рис мог быть
окультурен повсюду в пределах указанной выше области, однако глубока
обоснованное теперь данными лингвистики, палеоантропологии и эт-
пографии положение о формировании в южногималайском очаге
мощного этнического массива, откуда различные группы населения
расселялись в период неолита47, позволяет связать этот демографический:
взрыв и экспансию, в частности, с возникновением рисоводства48.
Ареал диких сородичей важнейших видов культурного ямса
простирается сейчас от долины Ганга до Южного Китая, но некоторые*
ботаники локализуют район их доместикации в более узкой
области — в северной и центральной частях Юго-Восточной Азии. Ямсы
умеренных широт, по мнению некоторых специалистов, могли
разводиться еще рыболовами и охотниками культуры дземон в Японии^
В Индонезии некоторые второстепенные сорта ямса также могли быть
введены в культуру самостоятельно. В отличие от таро ямс менее
влаголюбив. Он вошел в культуру, видимо, на границе засушливых
степей и влажных лесов. Другой клубнеплод — таро начали
выращивать, по-видимому, в треугольнике Бангладеш — Ассам — Верхняя
Бирма или же в Индонезии. Однако так как океанийские виды тарог
по данным цитогенетики, близки именно южноазиатским, то первый
район и следует считать важнейшим центром доместикации таро,.
хотя дикие его разновидности встречаются и в Индонезии. Таро и ямс
Должны были войти в культуру не позже, чем возникло рисоводствог
так как основанное на их выращивании земледелие проникло на
Новую Гвинею, видимо, еще до расселения австронезийцев, знавших
рисоводство 49.
256
Глава четвертая
Одним из гл^рных видов растений, окультуренных в
Юго-Восточной Азии, был также один вид банана. Другой вид вошел в
культуру уже на Новой Гвинее. Кроме указанных растений, в
Юго-Восточной Азии и Южном Китае было одомашнено еще несколько
более второстепенных видов.
Одно время считалось, что древнейшее земледелие в
Юго-Восточной Азии было связано с выращиванием исключительно
клубнеплодов. Сторонники этой теории, согласно которой рис первоначально
рассматривался ранними земледельцами как сорняк и лишь позже
был введен в культуру, встречаются и до сих пор. Однако новейшие
открытия заставляют от нее отказаться 50. Теперь представляется
более правдоподобным, что различные группы обитателей гималайских
предгорий могли вначале иметь дело с разными растениями: одни —
-с рисом, другие — с различными видами клубнеплодов, а некоторые —
с тем π другим вместе, чему способствовал гидрофильный характер
диких разновидностей таро и риса. Кроме того, благодаря последнему
обстоятельству разведение и таро, и риса с самого начала должно
было быть связано с примитивным искусственным орошением.
Часть раннеземледельческих коллективов могла начать
расселение из южногималайского очага до овладения полным набором
местных культурных растений. Поэтому в некоторых маргинальных райо-
гНах выращивание клубнеплодов преобладало до недавнего времени.
В одном из таких районов, в Индонезии, удалось проследить
постепенное распространение рисоводства и падение роли
клубнеплодов51. Становление земледелия в Юго-Восточной Азии и Южном
Китае происходило на фоне существенных палеогеографических и па-
леоклиматических изменений52. Кроме того, ему, видимо,
сопутствовали сложные этнические процессы, вызванные проникновендем из
Южного Китая на юг южных монголоидов и их смешением с
местными австралоидами. Видимо, в этих условиях в конце VIII—VII
(конец VII—VI) тыс. до н. э. у поздних хоабиньцев и появились
шлифованные топоры-тесла, керамика и характерные цельнокамен-
ные ножи, судя по этнографическим аналогиям, использовавшиеся
при жатве.
Из важнейших животных, одомашненных в Юго-Восточной Азии,
следует отметить гаура (митхен, или гаял), бантенга (балийский
-скот) и буйвол (болотная порода). Здесь же впервые были
приручены куры, дикие сородичи которых (красные куры джунглей) и
ныне обитают от Кашмира до Вьетнама. Некоторые народы Индокитая
(сенои) и сейчас еще приручают кур.
Восточная Азия. Восточноазиатский древнеземледельческий очаг
охватывает Северный Китай, Монголию и соседние районы
Советского Дальнего Востока. С этим очагом связано введение в культуру
прежде всего чумизы, родина которой предположительно
локализуется в Северном Китае и горных областях Монголии53. К сожалению,
археологическая изученность этих районов еще недостаточна для
выявления обстоятельств перехода к земледелию, а интерпретация
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
257
имеющихся данных вызывает споры и самые противоположные
суждения. Одни специалисты считают, что древнейшая оседлоземледель-
ческая культура Северного Китая яншао сложилась на основе
местного палеолита или мезолита, а позже потомки ее носителей
разнесли земледельческие навыки на соседние территории вплоть до Юго-
Восточной Азии54; другие выводят предков носителей культуры
яншао с юга, но связывают их переход к земледелию с приходом на
лёссовые равнины излучины Хуанхэ55; по мнению третьих, они
появились в лёссовом районе, уже зная земледелие, обучившись этому
на юге56. Кроме того, существует еще представление о миграции
предков носителей культуры яншао с запада57. В противовес этим
идеям недавно были высказаны соображения о ряде независимых
местных микроочагов в пределах восточноазиатского центра, к
которым были отнесены, в частности, некоторые районы Монголии,
Маньчжурии и Советского Дальнего Востока58. В последние годы
Чжан Гуанчжи изменил свою первоначальную точку зрения и
признал существование в Южном Китае независимых от яншао других
местных очагов земледелия 59.
Недавние открытия в Северном Китае, позволившие выявить
новый, дояншаоский раннеземледельческий пласт, отодвигают рубеж
начала здесь земледелия на одно-два тысячелетия раньше. Это
значительно снижает роль яншао в решении проблемы возникновения
земледелия, но не делает эту проблему менее острой, так как и доян-
шаоские культуры крашеной керамики (лаогуаньтай, пэйлиган, ци-
шань) имели уже относительно развитый земледельческий облик и
их носители издавна выращивали чумизу. Поэтому из-за скудности
имеющихся данных реконструировать сколько-нибудь окончательно
процесс становления земледелия в Восточной Азии сейчас
невозможно. Достаточно очевидным представляется лишь резкое отличие
раннеземледельческих культур крашеной керамики в Северном Китае
от соседних более северных неолитических культур. Если первые еще
в VII—V (VI—IV) тыс. до н. э. обладали довольно развитым
земледельческим комплексом, то этого нельзя с полной уверенностью
утверждать об их соседях, которые, правда, занимались не только
охотой и рыболовством, но и интенсивным собирательством. Поэтому
предположение о самостоятельном переходе последних к
производящему хозяйству теоретически не лишено основания. Отстаивая эту
гипотезу, ее сторонники обычно указывают на развитие оседлости и
распространение терочников и другого инвентаря, необходимого для
уборки и обработки съедобных растений, у населения Монголии,
Маньчжурии и Приамурья в неолите. К сожалению, многие
неолитические поселки этих районов еще слабо изучены и плохо датированы,
а там, где степень их изученности достаточно высока, как, например,
в Приамурье, «земледельческие» черты в их инвентаре оказываются
довольно поздними и появляются в III—II тыс. до н. э. Таким
образом, с полной уверенностью сейчас можно утверждать лишь о
возникновении земледелия в излучение Хуанхэ к VII (VI) тыс. до н. э.,
о
z История первобытного общества
258
Глава четвертая
а в Среднем Приамурье и соседних областях —не позднее Ш^
II тыс. до н. э. Проблема же происхождения в этих районах
земледелия остается открытой *°.
Америка. В древней Америке возникло несколько
самостоятельных очагов первобытного земледелия. Наибольшее распространение
со временем получили две земледельческие системы: одна,
основанная на выращивании маиса — тыкв — фасоли, другая — на
разведении маниока. Кроме того, раннее земледелие включало и такие
растения, как батат, перец, картофель, хлопчатник, киноа, арахис,
подсолнечник и др. В отличие от Старого Света скотоводства на боль·
шей части территории Америки не было, что заставляло даже
развитых земледельцев уделять относительно много внимания охоте.
Единственный локальный очаг скотоводства возник в Центральных
Андах, где были одомашнены гуанако и морские свинки. В ряде других
областей индейцы спорадически разводили домашних птиц,
например индюков в Мезоамерике и южных районах США. Собаки
попали в Америку, видимо, с одной из ранних волн переселенцев из
Старого Света. Встреченные недавно на Камчатке остатки лайковид-
ной собаки X (IX) тыс. до н. э.61 хорошо увязываются в этом
отношении с находками собак X (IX) тыс. до н. э. в Северной Америке и
VII—VI (VI—V) тыс. до н. э. в Центральных Андах62.
Основными очагами становления земледелия в Америке
считаются горные районы Мезоамерики и Центральных Анд, хотя
некоторые растения могли быть введены в культуру и в других местах
(в тропических низменностях Центральной и Южной Америки, на
юго-востоке США и т. д.). Как теперь выяснено, различные виды
одних и тех же растений могли быть одомашнены независимо и в
Центральной и в Южной Америке. К таким растениям относятся
фасоль, маниок, тыквы, перец, бархатик и т. д. Сложнее обстоит дело
с маисом. Одни специалисты предполагают, что он был одомашнен
независимо в Мезоамерике и в Южной Америке, другие локализуют
единственный очаг его доместикации в Мезоамерике, отмечая, что
различные его разновидности были выведены в разных районах в
условиях его интродукции и адаптации к новой природной обстановке
и в процессе гибридизации. Дикий предок культурного маиса
неизвестен, и это вызывает среди специалистов споры о его
происхождении. Одни (П. Манглсдорф) настаивают на его эволюции от
гипотетического дикого маиса, другие (Дж. Бидл) выводят его из местного
мезоамериканского злака теосинте.
В случае правоты последних, а их сейчас большинство, придется
признать единственным центром становления маисового земледелия
Мезоамерику, так как именно здесь локализуется ареал теосинте.
В пользу этого как будто бы говорят новые открытия ботаников и
результаты последних археологических исследований в пещере Гила
Накиц (Оахака, Мексика), где в слоях X—VIII (IX—VII) тыс. до
н. э. была встречена пыльца злака, напоминавшего и маис, и
теосинте63. Правда, многие древнейшие початки маиса первой половины
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 259
III (втор. пол. III —нач. II) тыс. до н. э. в Южной Америке
относятся вроде бы к иным разновидностям, чем синхронный им маис
Мезоамерики. На этот факт и обращают внимание те специалисты,
которые предполагают самостоятельную доместикацию маиса в
Южной Америке64. Но, как выяснилось в ходе недавних исследований,
древнейший маис из горного Перу оказался родственным ранним
мексиканским видам. Если сторонники мезоамериканского
происхождения маиса указывают на примесь теосинте во всех ранних
южноамериканских разновидностях, то их оппоненты высказывают
догадку о возможном обитании теосинте в северных районах Южной
Америки в прошлом. Впрочем, ранняя история маиса еще плохо
известна, пока что нет серьезных оснований пересматривать теорию о его
распространении из мезоамериканского очага65.
Область предполагаемой доместикации маниока охватывает
низменности Центральной Америки и северной части Южной Америки.
Ранние этапы этого процесса остаются неизвестными. По широко
распространенной сейчас теории, сладкая разновидность маниока
была введена в культуру в Мезоамерике, а горькая — во внутренних
районах Венесуэлы66. То же самое относится к батату, известному
в диком виде и в Центральной, и в Южной Америке. Он тоже мог
быть одомашнен в этих двух районах независимо друг от друга 67. К
этой категории растений относится, по-видимому, и тыква-горлянка,
остатки которой известны на раннеголоценовых памятниках Старого
и Нового Света. Делать какие-либо выводы о ранних этапах ее
доместикации и древних культурных контактах трудно, так как,
во-первых, критерии отличий дикой горлянки от культурной еще не
разработаны, а во-вторых, она может легко распространяться с помощью
морских течений без вмешательства человека68.
а) Мезоамерика. Этапы формирования мезоамериканского очага
древнего земледелия в настоящее время лучше всего изучены в трех
аридных горных районах Мексики: в Тамаулипасе
(Северо-Восточная Мексика), долине Техуакана (Центральная Мексика) и долине
Оахаки (Южная Мексика). Здесь в раннем голоцене в X—VIII (IX—
VII) тыс. до н. э. местное население выработало правильный
сезонный хозяйственный цикл, чередуя обитание в пещерах и на открытых
стоянках и осваивая самые различные ресурсы окружающей
природы. Основными занятиями служили охота и в особенности
собирательство диких растений, кое-где изредка занимались рыболовством.
В сухие сезоны общины распадались на мелкие родственные группы
в несколько десятков человек, а во влажные — концентрировались
в районах, богатых растительной пищей, где общины достигали
гораздо больших размеров (до 100 человек).
Становление земледельческого образа жизни происходило на
протяжения VIII—III (VII—III) тыс. до н. э., несмотря на то что пер-
вЬ1е культурные растения (тыква, перец, авокадо, бархатник, маис
и др.) появились уже в самом начале этого периода. Земледелие
получило в хозяйственной системе первостепенное значение лишь тогда,
9*
260
Глава четвертая
когда вновь выведенные более продуктивные сорта культурных
растений и развитие новых прогрессивных технических навыков
сделали его достаточно надежным источником питания и позволили
резко снизить зависимость от дикорастущих растений. Это произошло
в Мезоамерике лишь во II тыс. до н. э. Тогда-то здесь и появилась
прочная оседлость и возникли довольно крупные поселки с сырцовой
архитектурой. В предшествующие периоды на открытых поселках
люди жили в землянках.
Постепенное повышение роли растительной пищи начиная с IX
(VIII) тыс. до н. э. повлекло за собой некоторые изменения в
инвентаре, вызвало появление таких орудий, как палки-копалки,
зернотерки и куранты, песты и ступки, каменные чаши, корзины и циновки.
С VIII (VII) тыс. до н. э. древние мезоамериканцы умели
изготовлять веревки и плести сети, однако ткани, первоначально из волокон
агавы, юкки и магея, а потом и хлопка, появились только в III—
II тыс. до н. э. Керамическое производство возникло в Мезоамерике
также относительно поздно — лишь с середины III (конца III) тыс.
до н. э.69. С середины IV (конца IV) тыс. до н. э. в горах Мезоаме-
рики были известны домашние собаки.
Среди древнейших культурных растений Мезоамерики ученые
называют несколько видов тыкв и фасоли, чилийский перец, маис,
хлопчатник, бархатник и другие важные сельскохозяйственные культуры.
Характерно, что они были одомашнены в разных местах и в разные
периоды. Это заставляет подразделять единый мезоамериканский
центр на несколько микроочагов, в которых процессы происходили
параллельно и между которыми происходил обмен как информацией,
так и отдельными культурными достижениями70.
б) Андийский горный очаг. Как и в Мезоамерике, в горных
Андах рано возникло несколько микроочагов раннего земледелия.
Сейчас процесс его становления прослежен лучше всего в Центральных
Андах, где располагался перуанско-боливийский микроочаг. Здесь
начиная с раннего голоцена шло постепенное формирование
сезонного подвижного образа жизни. Люди жили мелкими группами то
в пещерах, то на открытых стоянках, чередуя охоту на оленей и
верблюдовых в сухие периоды с собирательством диких растений и
охотой на мелких животных во влажные периоды. С VIII—VII
(VII—VI) тыс. до н. э. роль собирательства возрастала, стоянки
влажного сезона становились все более крупными и
долговременными, границы районов, осваиваемых отдельными общинами, сужались,
но зато использование локальных ресурсов интенсифицировалось.
Уже во второй половине VII (VI) тыс. до н. э. на севере Перу
(пещера Гитареро) появились первые культурные растения — перец,
фасоль обыкновенная и фасоль-лима, к которым в последующем
прибавилось несколько видов тыкв. В период с IV до второй половины
III (с IV до начала II) тыс. до н. э. в горах началось разведение
маиса и хлопчатника, а также были одомашнены клубнеплоды
(картофель, ока, ульюко), для которых, как предполагают, и нужны были
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 261
появившиеся в этот период мотыги. Развитие собирательства и
земледелия требовало новых типов инвентаря: вначале горцы
использовали для этого грубые терочники, позже они стали употреблять
более совершенные зернотерки, ступки и палки-копалки с
утяжелителями. Параллельно становлению земледелия и росту оседлости шел
процесс доместикации животных: в V—III (IV—III) тыс. до н. э.
в некоторых местах началось разведение лам и морских свинок, хотя
окончательно ламоводство сложилось, видимо, лишь во II тыс. до н. э.
Во второй половине VII—VI (втор. пол. VI—V) тыс. до н. э. у
горцев уже имелись домашние собаки.
Особенности природной обстановки в Андах, где дикие растения
росли небольшими сообществами на разных высотах, повлияли,
видимо, на то, что земледелие здесь первое время развивалось как
подсобное занятие в условиях подвижного охотничье-собирательского
образа жизни. Прочная оседлость возникла лишь в III (втор. пол.
III — пер. пол. И) тыс. до н. э., когда были выведены новые сорта
растений и человек научился создавать им необходимый
микроклимат искусственно, в частности путем контроля за водой.
Интересно, что только в XXVI—XXI (XXII—XVIII) вв. до н. э. в
Центральных Андах возникло керамическое производство. Плетение
корзин, веревок и ткачество были известны здесь несравненно раньше,
по меньшей мере еще в VII (VI) тыс. дон. э. Для ткачества вначале
использовали какие-то растительные волокна, отличавшиеся
от,хлопка. Последний проник в горы с побережья не ранее второй половины
IV (III) тыс. до н. э. Разведение лам постепенно привело к
появлению и распространению тканей из шерсти, хотя в принципе местное
население, видимо, издавна умело использовать шерсть диких
гуанако и викуньи71.
Различные растения перуанско-боливийского очага были
введены в культуру в разных местах, возможно, разными группами
населения. Вместе с тем становление здесь земледельческого хозяйства
и образа жизни происходило в условиях усиливающихся контактов
между населением гор, предгорий, засушливых прибрежных районов
и низменностей, расположенных к востоку от Анд, а комплекс
сельскохозяйственных культур, лежавший в основе оседлого земледелия
в IV—III (III—II) тыс. до н. э., уже включал растения всех этих
областей. Более того, в IV тыс. до н. э. в него вошел маис, что
свидетельствовало о том, что связи с мезоамериканским очагом
установились еще в докерамическую эпоху. Недавнее открытие
раннеземледельческих поселков IV—III (III) тыс. до н. э. во внутренних
районах и на побережье Эквадора позволяет более детально проследить
путь маиса, продвигавшегося, видимо, по горным и предгорным
территориям с севера. Дело в том, что эквадорская культура вальдивия,
корни которой, как теперь выяснено, уходят в горную область, уже
знала выращивание нескольких разновидностей маиса72.
Следовательно, в горах Эквадора маис разводили по меньшей мере с IV тыс.
До н. э. и именно оттуда он проник южнее в Центральные Анды.
262
Глава четвертая
в) Колумбийско-венесуэльский равнинный очаг. С колумбийско-
венесуэльским очагом связано введение в культуру важнейшего для
земледелия тропических лесов и саванн растения — горького
маниока. К сожалению, сами остатки маниока в археологических
комплексах почти не встречаются, а поэтому судить о ранних этапах его
культивации приходится по косвенным данным, которые далеко не
всегда могут интерпретироваться достаточно однозначно. Кроме того,
внутренние районы северных областей Южной Америки, где, по
наиболее обоснованной гипотезе, был одомашнен маниок, археологически
изучены еще очень мало. Все это порождает разногласия среди
специалистов, весьма по-разному представляющих себе ранние этапы
истории рассматриваемого района.
Как сейчас выяснено, важным рубежом в этой истории стало
оседание населения на морских побережьях и в речных долинах и
возникновение в IV (III) тыс. до н. э. долговременных поселений,
живших главным образом за счет рыболовства и морского промысла и в
меньшей степени — охотой. Охота имела, видимо, большее
значение во внутренних, гораздо хуже изученных областях. Кроме того,
в обоих случаях со временем росла роль собирательства, появились
каменные терочникй, песты, а также кое-где циновки, корзины,
топоры и шлифованные орудия. Повсюду к середине IV (к нач.
III) тыс. до н. э. распространилась грубая примитивная керамика.
Первые косвенные указания на разведение маниока происходят
с памятников III — II (II — нач. I) тыс. до н. э. (Ранчо Пелудо, Мо-
мил I, Маламбо и др.), где среди многочисленных черепков битой
посуды встречались обломки характерных противней «бударес»,
которые часто использовались индейцами для изготовления муки и
лепешек щманиока. В конце II (нач. I) тыс. дон.э.в Колумбии и
Западной Венесуэле распространился иной земледельческий комплекс,
основанный на разведении маиса, и противни здесь сменились
зернотерками и курантами. Напротив, в Восточной Венесуэле и соседних с ней
районах противни сохранили свое значение и дожили до
этнографической действительности.
Таковы факты, которые подавляющее большинство современных
исследователей интерпретируют как указание на замену более
ранней земледельческой системы, связанной с маниоком, более поздней,
основанной на разведении маиса73. Наряду с этим существует и
прямо противоположное мнение о смене маиса маниоком в Западной
Венесуэле в середине I тыс. до н. э.74 Как бы то ни было, находки на
перуанском побережье остатков батата и ачиры, относящихся к
середине III (концу III) тыс. до н. э., и маниока в конце II (начале I)
тыс. до н э. свидетельствуют о наличии земледелия в тропических
низменностях к востоку от Анд, откуда только и могли эти растения
проникнуть на побережье.
Но сами по себе эти находки еще не говорят об истоках местного
земледелия и обстановке, в которой оно возникло. Постепенное
появление древнейших противней на оседлорыболовческих памятниках
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 263
севера Южной Америки могло бы трактоваться как указание на
одомашнивание маниока рыболовами (Г. Рейчель-Дол матов), однако
не в меньшей мере вероятно и предположение Д. Лэтрапа о переходе
к земледелию первоначально во внутренних районах, откуда оно
позже распространилось на побережье75. Правда, предложение этого
автора датировать начало земледелия VII—VI (VI—V) тыс. до н. э.
вызывает серьезные сомнения, сильно расходясь с довольно
поздними датировками, полученными как для противней, так и для находки
маниока в Перу. Столь же преждевременно было бы утверждать
о полной самостоятельности колумбийско-венесуэльского
клубнеплодного земледелия. Вопреки Д. Лэтрапу, Ф. Ольсен, например, склонен
считать древнейших культиваторов маниока в низменностях
Колумбии и Венесуэлы выходцами из горных и предгорных районов
Эквадора и Колумбии, где земледелие возникло в более ранний период
и уже включало маис76.
* * *
Приведенный обзор позволяет достаточно однозначно решить
некоторые спорные проблемы, связанные с изучением происхождения
производящего хозяйства. Прежде всего подтверждается гипотеза
о полицентризме этого процесса, хотя пока что не удается определить
окончательно количество первичных очагов, равно как и установить
в ряде случаев характер их взаимоотношений Как правило, первые
культурные растения появлялись в раннем или среднем голоцене,
однако основанное на их разведении земледелие не всегда было
связано с оседлостью. В ряде случаев оседлость возникла на базе
интенсивного собирательства, рыболовства или морского промысла, а в
других — на базе уже относительно развитого земледелия, далеко
отошедшего от своего раннего прототипа. Переход к прочному оседлозем-
ледельческому образу жизни в большинстве районов произошел в
неолите и лишь кое-где — в мезолите. Он совершался тогда, когда
земледелие становилось достаточно продуктивным, чтобы можно было
отказаться от охоты, собирательства или рыболовства как основных
способов добычи пищи. До этого момента земледелие являлось лишь
второстепенным укладом в системе присваивающего хозяйства и не
могло служить фактором, определявшим образ жизни населения.
Исходя из имеющихся фактов, представляется неправомерным
возводить истоки земледелия в целом к верхнему палеолиту. Что же
касается земледельческих обществ в полном смысле слова, то они,
безусловно, возникли значительно позднее. Период от возникновения
первых элементов земледелия до появления уже сложившихся осед-
лоземледельческих общин Р. Брейдвуд справедливо назвал периодом
«зарождающегося земледелия» или «зарождающейся культивации» 77.
Этнографическими аналогами археологических культур этого периода
могут служить общества бродячих или полуоседлых охотников,
собирателей и рыболовов, культурный уклад и годовой хозяйственный
Цикл которых связан прежде всего с этими занятиями, а не с земле-
264
Глава четвертая
делием, которое у них хотя и существует, но в небольших
масштабах.
Приведенные данные позволяют отвергнуть и восходящую к
классическому эволюционизму идею о том, что введение в культуру
корне- и клубнеплодов повсюду предшествовало разведению злаков и
зернобобовых. Во-первых, судя по имеющимся материалам, в разных
районах человек использовал разные растения, одомашнивая прежде
всего те из них, которые более всего отвечали его насущным
потребностям. Во-вторых, даже там, где люди имели под рукой и
клубнеплоды и злаки, последовательность их доместикации могла быть
самой разной. В Андах, например, зернобобовые (фасоль) были
одомашнены раньше, чем клубнеплоды (картофель, ока, ульюко), а в
Юго-Восточной Азии доместикация риса, таро и ямса могла
происходить одновременно.
Что же касается характера использования древнейших
культурных растений, уяснение которого представляется существенным для
определения причин перехода к земледелию, то оно на первых порах
было, несомненно, весьма многообразным: растения могли
использоваться как сырье для производства (тыква-горлянка, хлопчатник),
наркотики (орехи-арека) и т. д Однако, по-видимому, далеко не
случайно основное место уже в древнейших земледельческих комплексах
занимали растения, игравшие существенную роль в пищевом
рационе древнего человека.
Становление скотоводства там, где оно было возможным,
происходило параллельно с развитием земледелия или же чуть-чуть от
него отставало78. Комплексное производящее хозяйство
формировалось в Передней, Юго-Восточной и Восточной Азии и в перуанско-
боливийской области. В других случаях в связи с отсутствием
необходимых видов животных земледелие возникло без скотоводства.
Единственным животным, одомашнивание которого бесспорно
совершилось в обществах с присваивающим хозяйством в верхнем
палеолите или мезолите, была собака, которая в конце плейстоцена уже
имелась у охотников Передней Азии и Камчатки и, возможно, в
некоторых районах Европы, а в начале голоцена появилась сначала
в Северной, потом в Южной Америке. Все же она имелась далеко
не у всех охотников и собирателей. В отдельных случаях
исследователям удалось зафиксировать ее проникновение к таким группам,
как, например, бушмены, андаманцы, ведда и др., сравнительно
недавно, в условиях контактов с соседними более развитыми
обществами.
4. Условия и механизм перехода
к земледелию и скотоводству
Археологические данные позволяют ответить не на все вопросы,
связанные с возникновением производящего хозяйства. Поэтому
представляется необходимым использование ряда этнографических
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
265
аналогий. Правда, процесс конвергентного становления
производящего хозяйства этнографам неизвестен, однако, учтя специфические
условия, в которых некоторые общества в недавнем прошлом
переходили к земледелию и скотоводству, можно существенно уточнить
полученную по археологическим материалам картину и изучить
действие механизмов, ускользающих от внимания археологов.
Конечно, переход к земледелию и скотоводству, который до сих
пор совершается в некоторых областях мира, происходит под
влиянием более развитых обществ, однако было бы упрощением
объяснять его только заимствованием. Соотношение между ролью
заимствования и потребностями конвергентного развития определяется
в данном случае, исходя из отмеченного выше членения истории
земледелия на два этапа. Само по себе заимствование знаменовало лишь
начало ранней фазы, на протяжении которой отдельные культурные
растения или домашние животные, отдельные новые навыки и виды
технологии и т. д интегрировались в культурную ткань обществ-
реципиентов. Но облик последних оставался на первых порах в
целом доземледельческим. Ведь их образ жизни по-прежнему
определялся прежними формами присваивающего хозяйства, тогда как
земледелие или скотоводство представляли собой лишь второстепенный
уклад, в некоторых случаях усиливающий эффективность хозяйства,
но не влияющий на его основное направление.
Длительность этой первой фазы в разных ситуациях была
различной и зависела от того, насколько внутренняя и внешняя обстановка
благоприятствовала нормальной жизнедеятельности общества в
условиях сложившейся хозяйственной системы. Как только последняя
теряла способность поддерживать нормальное функционирование
общества, создавалась кризисная ситуация, оптимальным выходом из
которой служил переход к образу жизни, основанному уже
преимущественно на производящих формах хозяйства. Кризис мог иметь
как внутреннюю, так и внешнюю основу, однако в любом случае он
служил лишь побудительным мотивом, вызывая к жизни действие
таких механизмов, которые никак не могли быть привнесены извне.
Следовательно, начало второй фазы, т. е. переход к собственно
земледельческо-скотоводческому образу жизни, правильнее
рассматривать с позиций конвергентного развития. Этот переход
осуществлялся по одинаковым законам и в первичных, и во вторичных
очагах.
Другое дело, что в ряде случаев кризис наступал в самом начале
контактов охотников и собирателей с более развитыми
земледельцами и скотоводами, и тогда момент заимствования новых навыков
мог не разделяться сколько-нибудь длительным временным
промежутком с самим переходом к земледельческо-скотоводческому образу
жизни. Как бы то ни было, и здесь перестройка общественного
организма осуществлялась прежде всего по внутренним законам его
развития. Вот почему современные этнографические данные
представляются ценным материалом, способным приоткрыть завесу над неко-
266
Глава четвертая
торыми малоизученными процессами в истории становления
производящего хозяйства.
Еще сравнительно недавно в науке господствовало убеждение
о том, что отсталые охотники и собиратели жили в большой
бедности, влача полуголодное существование. С этой позиции переход
таких групп к вемледельческому образу жизни представлялся
предпочтительным. Однако детальные исследования, проведенные в
последние годы, заставили внести в эту концепцию существенные
коррективы Условия жизни многих охотников и собирателей оказались
далеко не столь тяжелыми, а голодовки — не столь неизбежными, как
считалось ранее 79. На основании новых данных М. Салинс высказал
соображение об относительном благоденствии общества в доземле-
дельческую эпоху, переход от которой к более суровому, по его
мнению, земледельческому периоду казался ему удивительным80.
Концепция М. Салинса, по словам некоторых из его критиков, знаменует
собой рождение нового мифа, ибо жизнь охотников и собирателей,
конечно же, имела свои трудности и даже у наиболее развитых из
них отмечались периодические голодовки81. И тем не менее в свете
новейших данных сколько-нибудь явные преимущества раннего
примитивного земледелия перед охотой и собирательством кажутся
сомнительными.
Конечно, образ жизни охотников и собирателей отличался от
земледельческого гораздо большей подвижностью, до некоторой степени
изнурявшей людей и порождавшей у них стремление по крайней
мере к временной оседлости. Это стремление со всей очевидностью
наблюдается у современных охотников и собирателей, обитающих по
соседству с более развитыми земледельцами и скотоводами и время
от времени приходящих «на отдых» в поселки соседей. Однако в то
же время их деятельность по добыче пищи не столь монотонна,
менее регулярна и часто требует меньше времени, чем тяжелый
земледельческий труд. Кроме того, будучи менее специализированными
родами занятий, чем земледелие, охота и собирательство создают
более гибкую структуру и облегчают обществу маневрирование и
приспособление к меняющейся внешней среде. Не случайно голодовки,
которые порой испытывают земледельцы, имеют для них гораздо
более тяжелые последствия, чем временные перебои с питанием у
охотников и собирателей.
Наконец, с переходом к земледелию сам характер питания
изменился далеко не в лучшую сторону. Как бы ни были противоречивы
сравнительные данные о питании охотников и собирателей и ранних
земледельцев, они недвусмысленно свидетельствуют об обеднении
рациона последних. У земледельцев повсюду наблюдается менее
разнообразная, в основном растительная диета с резким преобладанием
углеводов. Практически повсеместно у них отмечается белковое
голодание, ухудшение содержания аминокислот и отсутствие некоторых
важных витаминов в пище. Все это влечет ослабление
сопротивляемости к инфекциям, вызывает хронические заболевания и обусловли-
\ ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 267
вает слабое физическое развитие людей. По мнению некоторых
специалистов, именно переход к земледелию вызвал широко
распространенный в раннем неолите Европы процесс грацилизации, и лишь
с развитием скотоводства и сопутствующим ему ростом удельного
веса белковой пищи указанный процесс был остановлен и повернул
вспять к деграцилизации.
По отмеченным выше причинам ранние земледельцы пытались
теми или иными способами сохранить прежний более благоприятный
пищевой баланс. На ранних этапах они по примеру своих предков,
охотников и собирателей, стремились иметь разнообразное питание,
а позже старались ввести в свой рацион те или иные продукты,
богатые содержанием белков. Среди растений к таковым относились
всевозможные орехоплодные и зернобобовые, часть последних в
результате была окультурена. Что же касается животных белков, то их
ранние земледельцы продолжали добывать путем охоты и
рыболовства. Однако роль этих занятий с развитием земледелия неизбежно
падала, вследствие чего в ряде районов совершилась >,доместикация
животных, призванная сохранить важный источник белковой пищи
в условиях упадка охотничьей деятельности 82.
Единственным несомненным достоинством раннего земледелия
перед доземледельческими способами существования можно признать
только более интенсивное использование окружающей природной
среды, т. е. его способность дать более высокий урожай с единицы
площади, чем это было возможно в естественных условиях. Эта
особенность земледелия в свою очередь вызывала важные
демографические и социально-экономические последствия. Так, переход к
земледелию открыл возможности для ускорения роста населения, его
концентрации в компактных поселках и резкого усиления тенденции
к оседлости. Однако сходные тенденции сопутствовали развитию
такого вида присваивающего хозяйства, как интенсивное рыболовство,
переход к которому вызывал во многом сходные последствия.
Таким образом, переход к раннему земледелию не давал каких-
либо явных преимуществ охотникам и собирателям, развивавшимся
в условиях,· обеспечивающих бесперебойное функционирование их
традиционных хозяйственных систем. Поэтому обитавшие во многих
районах мира до недавнего времени по соседству с земледельцами и
скотоводами охотники и собиратели не выказывали желания перейти
к производящему хозяйству, хотя не только знали о его
существовании, но и обладали необходимыми для ведения его навыками 83.
В каких же условиях мог совершиться переход к земледелию?
Издавна замечено, что земледелие своими корнями восходит к
собирательству, и именно с развитием собирательства следует, очевидно,
связывать выработку технических приспособлений и навыков,
необходимых для земледелия. С этой точки зрения особый интерес
представляют, конечно, те группы низших охотников и собирателей, в
хозяйстве которых собирательство занимает существенное место.
Они-то и привлекли в свое время внимание немецкого исследователя
268 Глава четвертая
Ю. Липса, выделившего их из общей массы охотников и собирателей
и назвавшего их «народами — собирателями урожая». Правда,
определив их как «племена, добывающие пищу путем сбора урожая
плодов одного или нескольких диких съедобных растений, которые
снабжают их главным провиантом в течение всего года» 84, Ю. Липе
несколько упростил картину, ибо народов, в такой степени зависимых
в своей жизни от сбора плодов немногих видов диких растений, по-
видимому, почти нигде и никогда не существовало. Даже у наиболее
развитых из всех собирателей — калифорнийцев определенную роль
в хозяйстве играли охота и рыболовство.
Тем не менее у многих охотников и собирателей тропических и
субтропических районов собирательство действительно давало до 80%
пищи. Соответственно они обладали орудиями и навыками,
составлявшими важные технологические предпосылки для перехода к
земледелию. У них имелись палки-копалки, терочники, а иногда
зернотерки и куранты, песты и ступки, использовавшиеся для обработки
растительной пищи, а также корзины, деревянные блюда, плетеные
мешки и в ряде мест — ямы для хранения запасов. Как показал
А. Н. Максимов на примере некоторых групп австралийцев, они
овладели такими приемами, как жатва, молотьба, провеивание зерен,
помол, замешивание теста и выпечка лепешек85. Прекрасно изучив
окружающий природный мир, австралийцы уже умели искусственно
воздействовать на него, улучшая условия обитания для полезных
растений, животных и насекомых. В некоторых местах они строили
запруды и обводняли заросли съедобных растений, в других —
стимулировали размножение личинок. Они устраивали искусственные
поджоги растительности для ее обновления, повышения ее пищевого
потенциала и приманивания диких животных. В низовьях р. Муррей
аборигены строили дамбы, значительно повышая эффективность
местного рыболовства. Очевидно, они уже обладали элементарными
знаниями о механизмах размножения растений и иногда
пользовались ими, чтобы гарантировать получение урожая в будущем и
расширить границы обитания полезных растений 86.
Все описанные действия имели своей целью поддержать то
состояние природы, которое австралийцы считали наилучшим, и сохранить
его в условиях неустойчивого климата (например, засух).
Описанная практика имела скоротечный характер и не влекла за собой
качественного преобразования природного мира. Иногда ее называют
«протоземледелием». Однако использование этого термина требует
большой осторожности и оговорок, так как некоторые из современных
авторов, указывая на то, что переход от «протоземледелия» к
земледелию несложен, склонны видеть в нем лишь процесс чисто
количественных изменений. В своем логическом завершении такая линия
рассуждений не способна объяснить происхождения существенных различий
между земледельческим образом жизни и образом жизни низших
охотников и собирателей, а следовательно, и между порожденными
ими социальными структурами. Такое объяснение вообще невозмож-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 269
но без понятия качественного скачка. А именно на примере
становления земледелия видно, что качественный скачок далеко не всегда
связан с ррзким разрывом постепенности: от стадии интенсивного
собирательства до сложения земледельческого образа жизни процесс
проходил плавно, его трудно расчленить на какие-либо отдельные
эволюционное звенья, и тем не менее нельзя не заметить, как велика
разница между хозяйственными системами и общественной
организацией в начале и в конце этого процесса! Поэтому с точки зрения
глубокого теоретического осмысления процесса перехода к
производящему хозяйству термин «протоземледелие» представляется
неудачным, создавая иллюзию того, что земледелие вообще не имело
какого-либо начала или же оно уходит своими истоками далеко в
палеолит (а такие взгляды встречаются!).
Для характеристики некоторых аспектов хозяйства «народов —
собирателей урожая» предпочтительным кажется термин
«усложненное собирательство», так как он удачно совмещает в себе два важных
момента: во-первых, указывает на присваивающий в своей основе
.характер хозяйства, но во-вторых, акцентирует внимание на новые
прогрессивные элементы, способные в определенный момент стать
основой для развития земледелия. Такие элементы с полным правом
можно назвать протоземледельческими, однако здесь они еще не
являются определяющими. В качестве одного из видов хозяйственной
деятельности усложненное собирательство до недавнего времени
встречалось, помимо австралийцев, у некоторых групп бушменов, у
негритосов (семангов) Малакки, у аэта Филиппин, у шошонов
Большого Бассейна (США), у калифорнийцев и ряда других народов,
ведущих доземледельческий образ жизни. Удельный вес его в
общей системе хозяйства у разных народов колебался, но нигде оно не
было способно обеспечить основных запросов в питании. Поэтому оно
повсюду существовало лишь как одно из направлений
многоресурсного хозяйства, для которого не меньшую важность представляли
охота и рыболовство. Даже калифорнийцы были вынуждены
соблюдать сезонный хозяйственный цикл и в течение года несколько ра$
менять свое местообитание в соответствии с потребностями того или
иного хозяйственного направления.
Давно замечено, что одним из важнейших навыков,
встречающихся у «народов — собирателей урожая», было умение пользоваться
механизмом размножения растений. Такая практика лучше всего
описана у австралийцев, аэта, негритосов, которые, выкапывая клубни
ямса, старались не повреждать его отростков (ямс имеет
вегетативную систему размножения) и зарывали их обратно в землю, тем
самым гарантируя себе будущий урожай. Несравненно хуже изучена *
Деятельность по посадке молодых побегов некоторых деревьев, а
также по разбрасыванию зерен злаков, косточек ягод и т. д., известная,
в частности, у австралийских аборигенов и ведущая к сознательному
расширению ареалов соответствующих растений, например
саговника87. В ряде случаев появление такого рода практики, описанной эт-
/
270 Глава четвертая (___
нографами, было прямым следствием контактов с более развитыми
обществами. Однако есть все основания считать, что у некоторых
групп населения в мезолите или даже в верхнем палеолите/она могла
возникнуть самостоятельно.
Возрастание роли собирательства несомненно влекло за собой
перенос зерен, ягод и фруктов в новые места, а их частые потери
вызывали к жизни, вначале неосознанно, искусственное расширение
ареалов полезных растений. Рано или поздно первобытный человек
должен был обратить внимание на этот процесс, в особенности если речь
шла о «неожиданном» появлении зарослей таких растений на
хорошо удобренной органическими остатками почве первобытных
стоянок. Впрочем, еще скорее люди осознали это, делая запасы
растительной пищи, ибо без необходимых мер предосторожности
запасенные зерна и плоды прорастали. Неслучайно собиратели урожая,
обладавшие ямами-хранилищами, повсюду обмазывали их глиной и
предохраняли от сырости. Вот почему есть все основания полагать, что
охотники и собиратели знали о механизмах размножения растений
задолго до земледелия. К этому выводу в настоящее время
склоняется большинство специалистов 88.
Следовательно, уже в доземледельческий период люди могли
искусственно расширять ареалы необходимых им растений, а также
улучшать условия их роста, например путем искусственного
обводнения89. Среди этих растений встречались, по-видимому, самые
разные виды, а не только те, которые имели большое пищевое значение.
Стимулы к их посадке были столь же различны. У некоторых
австралийцев, переселившихся в последние годы в поселки,
расположенные вдали от их родины, наблюдалось стремление пересадить сюда
растения, окружавшие их в детстве. В данном случае стимул был
исключительно эмоциональным, так как эти растения никакого
практического значения для человека не имели 90. Однако в основном
люди прежде всего заботились о растениях, плоды которых шли в
пищу.
Таким образом, подавляющее большинство технологических
навыков, необходимых для земледелия, возникло задолго до его
появления. Археологические данные позволяют утверждать, что
размельчение зерен растений появилось уже в нижнем палеолите, а их
перетирание— к концу среднего палеолита91. В то же время, если у
австралийских аборигенов собирательство съедобных растений имело
большое значение начиная с плейстоцена, то земледелие у них так
и не возникло. Бушмены, аэта, пунаны, пигмеи, жившие рядом с
развитыми земледельцами, время от времени помогали им собирать
урожай, перенимая у них знания и навыки, необходимые для перехода
к земледелию. И тем не менее в большинстве своем они
предпочитали вести прежний образ жизни. Следовательно, само по себе
кумулятивное накопление опыта и знаний, вопреки мнению ряд авторов,
неспособно породить земледелие при отсутствии некоторых
дополнительных факторов. Последние выявляются при изучении перехода
\ ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 271
к земледелию, происходившего у низших охотников и собирателей
в недавнем прошлом 92.
Повсюду, где этот процесс известен, он был вызван к жизни
хозяйственным кризисом, который заставил людей либо заимствовать
производящее хозяйство, либо развивать его, если оно уже имелось
в зачаточном состоянии. Так, сандаве в Африке начали заимствовать
земледелие ik скотоводство в периоды все учащавшихся голодовок,
вызванных сокращением количества диких животных и растений в
условиях ростра соседнего земледельческо-скотоводческого населения,
хозяйственная деятельность которого и повлекла эти экологические
изменения. В сходных условиях переход к земледелию сейчас
совершается у соседних хадзапи. То же самое наблюдается у аэта Лусона,
территория которых все более сокращается под давлением соседей-
земледельцев. Уменьшение количества дикой фауны и рост
плотности населения заставляет аэта усиливать либо земледельческую, либо
рыболовческую активность. На островах Торресова пролива роль
земледелия была выше там, где ресурсов дикой природы не хватало. Это
отмечалось на мелких островах, где население было вынуждено вести
более оседлый образ жизни в менее разнообразных природных
условиях. На одном из этих островов ямс выращивали не каждый год, а
лишь тогда, когда дикого ямса в силу тех или иных обстоятельств
становилось мало 93.
Всё эти данные идут вразрез с кумулятивной и религиозной
теориями происхождения земледелия и, напротив, подтверждают
теорию, связывающую переход к производящему хозяйству с кризисной
ситуацией, сделавшей его настоятельной необходимостью. Как
показывают приведенные материалы, кризис вызывался сокращением
количества прежних ресурсов, которое в свою очередь являлось
результатом целого ряда факторов. Сокращение ресурсов могло быть
абсолютным и относительным: абсолютным — в результате изменения
природной обстановки (либо в связи с изменением климата, либо в
связи с хищнической деятельностью человека, либо как побочное
следствие развития определенных направлений его хозяйства),
относительное — в условиях роста плотности населения (внутренний рост
населения или же миграция новых групп извне). Наряду с этим
переход к земледелию был возможен как следствие миграции
населения в новый район, в целом сходный с прежним по природной
обстановке, но более бедный ресурсами94. Вряд ли следует разъяснять,
что все эти процессы приводили к становлению земледелия в
первичных очагах лишь в том случае, если население уже обладало
необходимыми навыками и техникой, т. е. стояло на уровне «народов —
собирателей урожая».
Сложность перехода к земледелию заключалась, следовательно,
не в выработке каких-либо новых знаний и техники, а в перестройке
прежнего образа жизни. Примитивное выращивание растении на
небольшом участке, с одной стороны, вырывало людей из прежней
системы общественного производства, обостряя проблему питания в
272 Глава четвертая
период земледельческих работ, а с другой стороны, получеь/ный
урожай бывал слишком мал, чтобы компенсировать убытки, неизбежно
возникавшие в результате сокращения других видов трудовой
деятельности (охота, собирательство). Ведь первобытные общины
низших охотников и собирателей часто имели очень небольшие размеры
и одновременно заниматься несколькими видами хозяйственной
деятельности были не в состояшш. Кроме того, продолжая'вести
прежний бродячий образ жизни, такие общины должны были время ot
времени покидать обработанный участок, а по возвращении нередко
находили его разоренным. В силу всего этого некоторые группы
(негритосы Малакки, пунаны Саравака и др.) очень неохотно
переходили к земледелию, а встречаясь с отмеченными трудностями, вовсе
отказывались от него. Впрочем, с гораздо большей готовностью
отдельные из этих групп начинали выращивать клубнеплоды (ямс,
таро, маниок), которые не мешали их прежнему образу жизни.
Рассмотренные данные позволяют по-новому взглянуть на
проблему соотношения разведения злаковых культур и клубнеплодов на
ранних этапах земледельческой эволюции. Первое требовало
большего вложения труда, наличия более крупных общин (следовательно,
и более сложной социальной организации), а также более полного
разрыва с прежним образом жизни. Иначе говоря, для него были
необходимы более сложные предпосылки и переход к нему
происходил более резко, чем ко второму. Зато второе могло бесконечно долго
существовать в рамках прежнего охотничье-собирательского
хозяйства, не вызывая в нем сколько-нибудь существенных изменений.
Поэтому хозяйство и общественная организация даже у наиболее
отсталых из всех известных по этнографическим материалам
этнических групп, занимавшихся культивацией знаковых, отличались
большей сложностью, чем у самых отсталых коллективов из тех, которые
разводили клубнеплоды. Это-то и создало иллюзию того, что
клубнеплоды в любом случае начали разводиться раньше, чем злаки. На
самом деле, как было показано выше, в разных районах мира они
могли войти в культуру практически одновременно. Однако
общества, перешедшие к разведению злаковых культур, развивались
несравненно быстрее. Другая причина описанных различий в темпах
и характере развития этих двух разных систем заключалась в том,
что клубнеплоды предоставляли человеку менее сбалансированное
питание, чем комплекс из злаков и бобовых. Поэтому для обществ,
живших за счет клубнеплодов, проблема получения белковой пищи
с помощью охоты и рыболовства имела гораздо большее значение,
чем для тех, кто питался злаками и зернобобовыми95.
5. Распространение земледелия и скотоводства
-Передняя Азия. В VIII (VII) тыс. до н. э. становление
производящего хозяйства в отдельных микроочагах в пределах передне-
азиатского региона в основном закончилось. В VIII—VII (VII—
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
273
VI) тыс. до н. э. здесь отмечались быстрый рост земледельческо-
скотоводческого населения, его расселение по новым территориям,
рост обмена культурными достижениями, в том числе культурными
растениями и одомашненными животными v между различными
областями. Продолжался и процесс оседания и перехода к
производящему хозяйству различных бродячих групп населения. Наиболее
мощным центром расселения древнейших земледельцев и скотоводов
Передней Азии в VIII (VII) тыс. до н. э. стали ранненеолитические
поселки Евфрата, с которыми связывается археологическая
культура докерамического неолита В. Носители этой культуры двигались
прежде всего на юго-запад. Проникнув в Палестину, они
встретились там с родственными раннеземледельческими группами и
смешались с ними, отчего там возник своеобразный синтетический
вариант культуры докерамического неолита В. Напротив, в Ливане
эти мигранты стали первыми земледельцами и заселили многие
пустовавшие территории, а кое-где, видимо, ассимилировались с
местным охотниками.
В течение VIII (VII) тыс. до н. э. культура докерамического
неолита В широко распространилась от Северной Сирии и Ливана
до пустыни Негев и Иордании. Для нее были характерны
прямоугольные многокомнатные кирпичные дома, строившиеся иногда на
каменных фундаментах. Их полы и стены покрывались штукатуркой
и порой окрашивались, причем для получения штукатурки
известняк надо было обжигать при температуре 750—850°. Кое-где
традиция строительства круглых домов продолжалась, как продолжался
и процесс постепенной их трансформации в прямоугольные дома,
отмеченный на целом ряде памятников. По мнению Ж. Ковена, это
свидетельствовало об оседании все новых и новых прежде бродячих
коллективов.
' Размеры поселков в этот.период увеличились. Некоторые из них
достигали 10 га и более, причем кое-где обнаружены мощные
каменные обводные стены (Иерихон, Рас Шамра). Первоначальная
интерпретация этих стен как оборонительных подвергается в
последние го'ды обоснованным сомнениям. Скорее они использовались
для защиты поселков от наводнений и для предотвращения оползней.
Вместе с носителями докерамического неолита В в Леванте появилась
культурная пшеница-однозернянка и одомашненные козы и овцы.
Начиная с середины VIII (сер. VII) тыс. до н. э. в Сирии
распространился своеобразный тип «белых» сосудов, изготовленных из
извести и гипса, а на рубеже VIII—VII (VII—VI) тыс. до н. э. здесь
началось производство уже настоящих керамических сосудов. В
Палестину последние попали позже, не ранее конца VII (VI) тыс. до
н. э. Напротив, разнообразные каменные наконечники стрел и
шлифованные топоры распространились в описываемый период по всей
рассматриваемой территории 96.
В горах Загроса (ирано-иракское пограничье), Синджара и Тавра
(Анатолия) на протяжении VIII (VII) тыс. до н. э. шло расселение
274
Глава четвертая
мелких земледельческо-скотоводческих групп, которые лишь изредка
рисковали спускаться на равнину. Они жили небольшими поселками
площадью в 1—2 га; как и в сирийско-палестинском регионе, у них
произошел переход от прежних круглых жилищ к прямоугольным
глинобитным или кирпичным многокомнатным домам. И здесь
стены иногда покрывались штукатуркой. Загросский центр был тем
очагом, из которого одомашненные козы и овцы попали в сирийско-
палестинский, а возможно, и в анатолийский регионы. Напротив,
окультуренный эммер проник в район Загроса, по всей вероятности,
с запада.
Все это, наряду с активным обменом обсидианом и
некоторыми другими редкими вещами, свидетельствует о ранних
контактах, установившихся между отдельными микроочагами. Такие
контакты способствовали обмену информацией и ускоряли развитие
отдельных групп. Благодаря им сходные культурные достижения
становились достоянием самых различных, порой даже
неродственных и далеко удаленных друг от друга групп населения. Так,
крупный рогатый скот, одомашненный к концу VIII (кон. VII) тыс.
до н. э. в Анатолии и, возможно, в Северной Сирии,
распространился на протяжении VII (VI) тыс. до н. э. вдоль Месопотамской
низменности до Хузестана.
Наряду с ячменем и пшеницей в IX—VIII (VIII—VII) тыс.
до н. э. в различных местах Передней Азии были окультурены и
широко распространились такие зернобобовые, как горох, чечевица,
нут и вика, а к концу этого периода в Сирии уже культивировался
лен, а в Анатолии — рожь 97.
В горах Загроса и Синджара и в Анатолии широкое
распространение глиняной посуды началось с рубежа VIII—VII (VII—VI) тыс.
до н. э., причем в Загросе и Синджаре ей предшествовали каменные,
сосуды и корзины, обмазанные битумом, а в Анатолии — корзины
и деревянные сосуды 98.
Земледельческая колонизация собственно Месопотамской
низменности с ее богатыми лёссовыми и аллювиальными почвами
началась с конца VIII (конца VII) тыс. до н. э., когда в северной ее
части возникла своеобразная культура Телль Сотто — Умм Дабагия.
У ее истоков стояли, очевидно, памятники типа Магзалии, население
которых, спустившись на равнину, испытало определенное влияние
со стороны сирийско-палестинского центра. Потомков этой культуры
связывают с хассунской культурой Северной Месопотамии. И хассун-
ская, и расположенная южнее самаррская культуры свидетельствуют
о дальнейшем распространении производящего хозяйства, область
которого, таким образом, охватила во второй половине VII (втор,
пол. VI) тыс. до н. э. и Среднюю Месопотамию. Месопотамские
поселки этой эпохи были относительно небольшими (1—6 га) и кое-
где имели фортификацию ".
По-видимому, в хассунский период возникли древнейшие в
Передней Азии обособленные от поселков некрополи, тогда как в пред-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
275
шествующее время покойников хоронили, как правило, в домах или
рядом с ними.
Наряду с распространением земледельческо-скотоводческого
хозяйства вширь, в VIII—VII (VII—VI) тыс. до н. э. происходило
совершенствование его техники, появились новые сорта культурных
растений. В VII (VI) тыс. до н. э. наиболее важными из последних
стали мягкая и карликовая пшеницы. Уже в VIII (VII) тыс. до н. э.
во многих районах вместо прежних прямых жатвенных ножей
начали применять изогнутые серпы в деревянных или роговых
рукоятках. Однако важнейшим техническим достижением
рассматриваемой эпохи следует считать ирригационные сооружения. Некоторые
специалисты не без основания пишут об их применении в Сирии и
Анатолии уже в VIII (VII) тыс. до н. э. Более того, правомерным
представляется взгляд, согласно которому в ряде мест само
становление земледелия было связано с определенным контролем за водой.
Однако бесспорные свидетельства начала ирригации в настоящее
время происходят только из предгорного поселка Чога Мами
(Средняя Месопотамия), относящегося к VII (VI) тыс. до н. э. 10° Ученые
считают, что заселение Средней Месопотамии в самаррский период
стало возможным именно благодаря применению ирригации.
Другим важным техническим достижением ранних земледельцев
Передней Азии была обработка самородной меди методом холодной
ковки, которая была зафиксирована в Анатолии (Чайоню Тепези,
Субердэ), в Сирии (Рамад), в'горах Синджара (Магзалия) и в Ху-
зестане (Али Кош) еще в VIII (VII) тыс. до н. а.
В VI — начале V (V) тыс. до н. э. новым центром расселения
древних земледельцев стала Северная Месопотамия, откуда
двинулись носители халафской культуры. На протяжении второй
половины VI (пер. пол. V) тыс. до н. э. халафское влияние сказывалось
на огромной территории от Загроса до Киликии и от верховьев
Тигра до Южной Месопотамии. Наиболее сильным оно было в Северной
Месопотамии, где халафская культура полностью сменила хассун-
скую; к окраинам очерченного региона оно постепенно затухало101.
Заселение Южной Месопотамии началось в первой половине VI
(на рубеже VI—V) тыс. до н. э. или чуть ранее и велось скорее
всего населением, родственным носителям самаррской культуры.
В болотистых и чрезвычайно жарких условиях низовий Тигра и
Евфрата особое значение для населения этих мест приобрели
ирригационное земледелие и рыболовство. Возможно, именно благодаря
рыболовству и связанному с ним мореплаванию жители Южной
Месопотамии вступали в контакты с обитателями восточного
побережья Аравии. Однако археологическое изучение Аравии началось
лищь сравнительно недавно, и последствия этих контактов во всем
их объеме остаются слабо изученными102.
В период ухудшения климата в VII (VI) тыс. до н. э. большая
часть Палестины временно запустела. По-видимому, незнакомые с
ирригационной техникой местные земледельцы не смогли успешно
276
Глава четвертая
бороться с усиливавшимися засухами и отступили в более влажные
прибрежные и северные районы Леванта. Новое освоение Палестины
велось на протяжении второй половины VI — начале V (V) тыс. до
н. э., когда земледельцы селились здесь главным образом в
плодородных долинах. Они, видимо, обживали их мелкими группами и
обитали в отдельных широко разбросанных по территории хуторах
первоначально в примитивных землянках, а позже — в наземных
кирпичных домах. Только в этот период в Палестине начали широко
использовать керамические сосуды103.
Внутренние районы Аравийского полуострова, к сожалению, до
сих пор остаются почти полностью неизученными. Судя по
наскальным изображениям, Производящее хозяйство могло возникнуть там
в V—IV (IV) тыс. до н. э. или даже еще раньше, возможно, не без
влияния поздненеолитического населения Палестины. Одним из
важных занятий неолитических обитателей Аравии было разведение
крупного рогатого скота104. Вероятно с их деятельностью и надо
связывать доместикацию впоследствии одногорбого верблюда-дромедара.
Уже в VIII—VII (VII—-VI) тыс. до н. э. благодаря развитию
рыболовства в некоторых районах Средиземного моря между
различными островными мезолитическими общинами установились
довольно тесные контакты 105. Они общались несомненно и с
населением прибрежных областей Передней Азии. Об этом
свидетельствуют, например, некоторые общие черты культуры, отмечаемые в
неолите на о. Кипр и в Киликии. По-видимому, в ходе таких контактов
производящее хозяйство и попало на о. Кипр не позднее VII (VI)
тыс. до н. э.106
Африка. Как уже отмечалось, в позднем плейстоцене в Северо-
Восточной Африке началось формирование принципиально новых
хозяйственно-культурных типов, основанных на интенсивном
собирательстве диких растений и на активном использовании водных
ресурсов. Общины, связанные с этими видами хозяйства, отличались
более крупными размерами и большей стабильностью по сравнению
с соседними отсталыми охотниками и собирателями. Однако более
засушливые условия рубежа плейстоцена и голоцена заставили
население временно вернуться к прежнему подвижному образу жизни.
Новая, гораздо более устойчивая волна первобытных рыболовов
широко распространилась по приморским и некоторым внутренним
районам Африки начиная с раннего голоцена, когда климат снова
несколько изменился. В Сахаре и Северной Африке в это время
установилась гумидная фаза, которая изредка прерывалась
засушливыми интервалами. Она датируется IX —первой половиной III
(VIII—III) тыс. до н. э., причем самый влажный период наблюдался
в VIII—VII (VII—VI) тыс. до н. э. тогда как во второй половине
V — первой половине III (IV—III) тыс. до н. э. влажность хотя и
повысилась, но уже не достигла прежнего уровня.
Тенденция к интенсивному использованию водных ресурсов
была характерна как для бескерамических культур «позднего камен-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
277
ного века» Африки, так и для культур, уже знавших глиняную по-
суду. По примеру своих ближайших предков, носителей культур
иберо-мавра и капсия, население средиземноморского неолита и
неолита капсийской традиции продолжало заниматься интенсивным
собирательством моллюсков, оставляя раковинные кучи на широком
пространстве средиземноморского и атлантического побережий от
Киренаики до Марокко. Рыболовство играло большую роль и в
хозяйстве обитателей Нильской долины в VI—IV (V—IV) тыс. до н. э.
Начиная с VIII (VII) тыс. до н. э. оно распространилось у
населения Центральной и Юго-Восточной Сахары, в районах среднего
течения Нила, а также в Кении и Уганде, причем роль водных
ресурсов в очерченной области была настолько велика, что некоторые
специалисты предлагают называть местные культуры «акватической
цивилизацией» 107. Люди «позднего каменного века» южного
побережья Африки тоже не пренебрегали моллюсками, крабами,
устрицами и т. д. Изучение их пещерных стоянок показало, что со
временем роль морской пищи в хозяйстве местного населения возрастала,
пока, наконец, во второй половине IV —первой половине III (III)
тыс. до н. э. рыболовство не стало одним из важнейших занятий.
Судя по письменным источникам XVI—XVII вв., потомки этого
населения часто питались мясом выброшенных на берег китов и
тюленей 108. Помимо рыболовства или сбора моллюсков, все описанные
выше группы продолжали активно заниматься охотой и
собирательством растительной пищи.
Местами (на средиземноморском и атлантическом побережьях
Северной Африки, на побережье Южной Африки, по берегам озер
Восточной Африки) первобытные рыболовы, охотники и собиратели
жили по-прежнему мелкими группами в пещерах, под скальными
выступами и на временных открытых стоянках. Однако в
Центральной и Юго-Восточной Сахаре, в Египте и на среднем Ниле шло
формирование более постоянных открытых поселков с долговременными
жилищами. Здесь довольно рано сложился мощный очаг
неолитической культуры, сыгравшей огромную роль в последующей истории
Африки. Его становление относится к VIII—VII (VII—VI) тыс. до
н. э., когда на огромной территории от плато Центральной Сахары
(Тасселин Аджер, Ахаггар) до Нила и от оазисов Ливийской
пустыни (Харга, Набта Плайя) до Хартума распространились ранненео-
литические общины с характерной керамикой с прочерченным вол-,
нистым орнаментом. Предполагается, что,наиболее южные группы
этого населения, проникнув в Восточную Африку, сыграли
определенную роль в формировании рыболовческих культур
Северо-Восточной Уганды. По-видимому, уже в то время указанная культурная
область распадалась на ряд локальных культур, каждой из которых
был свойствен своеобразный хозяйственный комплекс (особое
сочетание рыболовства, охоты и собирательства) и определенные
специфические черты в материальной культуре109. Однако в целом они
относились к одному ХКТ и отличались некоторыми общими чертами
278
Глава четвертая
культуры, к которым, помимо керамики, относились костяные
гарпуны, рыболовные крючки, сосуды и украшения из скорлупы
страусовых яиц, многочисленные каменные зернотерки и терочники,
топоры-тесла с подшлифованными лезвиями, наскальное искусство
и пр. Внутри этой общности наблюдались широкие социальные
связи, благодаря которым новые виды техники и технических приемов,
украшения и другие предметы материальной культуры, а также
прочая информация распространялись по всему очерченному
региону. Это видно хотя бы на примере амазонитовых бус,
изготовлявшихся на плато Тибести и характерных для многих сахарских
памятников. Кстати, наряду с некоторыми другими вещами они
достигали на востоке Нильской долины, что свидетельствует о
контактах, установившихся в неолите между населением Сахары и Египта.
Общность, простиравшаяся в раннем неолите от Центральной
Сахары до Хартума, получила в науке название «неолита сахаро-
суданской традиции» по. Судя по антропологическим данным, ее
носители были негроидами. Дж. Саттон связывает их с нило-сахарской
лингвистической общностью111. Керамика явилась местным
изобретением. Считается, что корни керамического производства здесь
восходят к изготовлению обмазанных глиной корзин, незаменимых
в рыболовческом хозяйстве 112.
Особый интерес рассмотренный культурный регион вызывает
потому, что он локализуется главным образом в тех местах, которые
послужили колыбелью африканского земледелия. По данным
ботаников, доместикация растений в Африке происходила прежде всего
в трех экологических зонах: в саванне, лежащей ныне к югу от
Сахары, в культуру были введены сорго, жемчужное просо,
африканский рис, хлопчатник, фонио, дыня, сезам (кунжут) и т. д.; в
лесостепи Западной Африки люди одомашнили масличную пальму, ямс,
гвинейское просо, черное фонио, картофель хауса и т. д.; а в горных
и предгорных районах Восточной Африки — тэфф, нуг, энсете,
африканское просо (дагусса), чат и т. д.113 Учитывая, что в период
влажной фазы эти экологические зоны были сдвинуты несколько к
северу, нетрудно заметить их частичное совпадение с областью
расселения носителей «неолита сахаро-суданской традиции». Вместе
с тем сколько-нибудь явных свидетельств знакомства основной
массы этих обитателей Центральной и Восточной Сахары с
земледелием до сих пор обнаружить не удалось. Зато о собирательстве
говорят не только зернотерки, но и остатки древесного лотоса,
грудной ягоды, тыквы и проса 1И.
Иначе обстояло дело в Северо-Восточной Африке, где, как было
показано выше, в оазисах Ливийской пустыни, примыкавших к
долине Нила, земледелие возникло на местной почве к рубежу VIII—
VII (VII—VI) тыс. до н. э. Судя по керамике, здесь в этот период
обитало население, входившее в ареал раннего неолита суданской
традиции. По-видимому, ранняя земледельческая колонизация
Верхнего Египта велась также родственными ему группами, так как
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
279
древнейшая из известных здесь земледельческих культур — бада-
рийская обладала некоторыми чертами сходства с хартумским
неолитом. Иначе шло формирование производящего хозяйства в
низовьях Нила, где новыми раскопками в Меримде было обнаружено
поселение VIII (VII) тыс. до н. э., жители которого выращивали
ячмень, эммер и бобовые 115.
В целом процесс становления производящего хозяйства в
египетской части долины Нила отличался большой сложностью.
По-видимому, здесь столкнулось несколько потоков, имевших различные
корни. Во-первых, как показывают раскопки в Фаюмском оазисе,
еще в конце VI—V (V) тыс. до н. э. в ряде районов Египта обитали
оседлые рыболовы, не знавшие ни земледелия, ни скотоводства.
Во-вторых, большую роль в неолитизации Египта сыграли связи его
населения с другими родственными группами Африки: со
средиземноморскими — в северных районах и с сахарскими и нубийскими —
в южных. Наконец, в-третьих, определенное место в развитии
неолита Египта занимали контакты его населения с переднеазиатскими,
прежде всего левантийскими обществами. Так, если ячмень,
весьма возможно, был окультурен в Северо-Восточной Африке
самостоятельно, а крупный рогатый скот мог быть одомашнен в Сахаре,
то появление в Нильской долине во второй половине V (пер. пол.
IV) тыс. до н. э. льна (Фаюм А) и карликовой пшеницы (Меримде),
а также коз и овец в еще более отдаленную эпоху (оазисы Набта
Плайя и Харга) было, вне всякого сомнения, связано с
интенсивными контактами с Передней Азией.
В отличие от неолитических обитателей Передней Азии
население Египта вело менее оседлый образ жизни и обитало в легких
хижинах из обмазанной плетенки или из шкур, наземных или
полуземлянках. Первоначально эти жилища были круглыми или
овальными и отличались относительно маленькими размерами. Первые
прямоугольные глинобитные дома появились в Египте в дельте
Нила. На всех раннеземледельческих поселениях Египта были
встречены зерновые ямы с остатками ячменя и эммера. Предполагается,
что древнейшее земледелие имело здесь лиманный характер.
Египтяне этого периода знали гончарство, плетение корзин, ткачество из
льна и других растительных волокон, а также умели обрабатывать
медь способом холодной ковки.
Если бадарийцы, подобно поздненеолитическому населению
Сахары, устраивали для своих покойников отдельные могильники, то
жители Меримде хоронили мертвых на территории поселения —
обычай, характерный и для неолитических поселков Передней Азии116.
Таким образом, древнейшие данные о земледелии в Африке
происходят сейчас из северо-восточной ее части. Так как наряду с
пшеницей и ячменем земледельцы Верхнего Египта и Нубии были
знакомы также с сорго и просо — первое было обнаружено в Набта
Плайя, а второе у бадарийцев,— есть все основания полагать, что
эти растения также были окультурены в этом районе, хотя, возмож-
280
Глава четвертая
но, и позднее. И действительно, недавно недалеко от Хартума было
раскопано поселение Кадеро позднего периода неолита сахаро-су-
данской традиции, относящееся к первой половине IV (втор. пол. IV)
тыс. до н. э. Жители Кадеро выращивали сорго, африканское просо
(дагуссу), какой-то другой вид проса, фонио и тэфф и разводили
крупный рогатый скот, коз, овец и собак117. Однако по этим данным
невозможно судить о хозяйстве других общин родственного
населения. Даже расположенное неподалеку сходное по культуре
синхронное поселение Шахейнаб дало совершенно иную картину. Его
жители занимались прежде всего рыболовством, охотой и
собирательством, а кости домашней козы составляли у них лишь 2% всего
остеологического материала (в Кадеро домашним животным
принадлежало 88% костных остатков). Как бы то ни было, представляется,
что именно в Нубии и примыкающих к ней с севера и юга районах
находился важнейший центр становления чисто африканских систем
.земледелия118. Он был связан с деятельностью некоторых восточных
групп неолита сахаро-суданской традиции. Интересно, что и
африканский вид хлопчатника был окультурен здесь же к началу III
(сер. III) тыс. до н. э., причем первоначально он использовался не
для ткачества, а на корм скоту119.
Для социологической характеристики Шахейнаба и Кадеро
важно, что здесь наблюдалось исчезновение обычая хоронить
покойников на территории поселка и возникновение специальных
могильников, изучение которых позволяет говорить о наличии в этом
обществе определенной социальной дифференциации.
Значительные социальные изменения в Нубии произошли в
первой половине IV (втор. пол. IV) тыс. до н. э. с развитием здесь
культуры так называемой нубийской группы А. Ей было
свойственно сочетание постоянных поселков с временными скотоводческими
стоянками, причем первые застраивались многокомнатными домами
на каменных фундаментах. Носители этой культуры уже умели
обрабатывать медь и устраивали крупные могильники 120.
К сожалению, процесс возникновения производящего хозяйства
у более западных групп неолита сахаро-суданской традиции изучен
сейчас еще весьма слабо. Известно лишь, что ко второй половине
V (к нач. IV) тыс. до н. э. у них кое-где уже имелся крупный
рогатый скот, козы, овцы и собаки. Небольшие более или менее
постоянные поселки в оазисах сочетались с временными стоянками в
более аридных районах. На первых (Амекни, Менье) сохранились
остатки относительно прочных домов, на вторых — лишь крупные
скопления камней диаметром 0,5—4,0 м, принадлежавших,
возможно, хижинам из жердей, изображенным на росписях
«скотоводческого периода». Такие скопления иногда встречаются группами до 40
кругов. Они, несомненно, оставлены подвижным населением, однако
некоторые исследователи связывают их со скотоводами, другие —
с бродячими охотниками, одни — с негроидами, носителями неолита
сахаро-суданской традиции, другие — со средиземноморским населе-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 281
нием, родственным, возможно, капсийцам. Столь же разноречивы и
мнения о создателях сахарских неолитических росписей121. В Адрар
Бус каменные круги и полукруги V—III (IV—III) тыс. до н. э.
были оставлены, безусловно, скотоводами, а в Тассилин Аджере А.
Лоту вроде бы удалось обнаружить даже загоны для скота. Раскопки
нескольких могильников от Кадеро (Республика Судан) на востоке
до Арлита (Нигер) на западе позволяет связывать это скотоводство
с негроидным населением, носителем неолита сахаро-суданской
традиции. Все же многочисленные изображения бледнолицых пастухов
на скалах и находка в районе Тибести ненегроидного скелета
заставляет предполагать довольно смешанный антропологический
состав неолитического населения Сахары.
По-видимому, речь может идти прежде всего о смешении с
населением средиземноморского антропологического типа, носителем
неолита капсийской традиции122. Различные его группы обитали от
Восточного Алжира до Киренаики и внутренних районов Ливийской
пустыни и вели в целом прежний охотничье-собирательский образ
жизни. На побережье в их хозяйстве большую роль играло
собирательство моллюсков, а во внутренних районах — собирательство
растительной пищи. Аналогичным образом и в материальной культуре
сохранялись в основном прежние традиции. Среди нововведений
следует отметить шлифованные топоры, зернотерки, ступки, песты,
вкладыши жатвенных ножей и, конечно, керамические сосуды с
прочерченным или штампованным орнаментом. В двух местах, в
пещерах Хауа Фтеах и Капелетти, ученым удалось обнаружить кости
домашних коз и овец, которые попали сюда не позднее середины V
(нач. IV) тыс. до н. э. Некоторые специалисты полагают, что в
раннем неолите Северная Африка испытывала влияние европейских
неолитических обществ, откуда сюда поступал обсидиан и мог быть
привезен мелкий рогатый скот123.
В целом та же характеристика подходит и к средиземноморскому
неолиту, локализовавшемуся на побережьях Алжира и Марокко во
второй половине VI—II (V—II) тыс. до н. э. Его носители также
занимались охотой и собирательством. С середины III (кон. III)
тыс. до н. э. упрочились связи населения Северного Марокко с
культурами энеолита и бронзового века Иберийского полуострова, откуда
сюда начали попадать отдельные домашние животные (овцы и
свиньи) 124.
Картина неолитического развития в Северной Африке и Сахаре
вырисовывается сейчас лишь в самых общих чертах. Многое, к
сожалению, остается неясным, в особенности проблема возникновения
здесь производящего хозяйства. Возможно, уже в неолите сахарское
скотоводство имело отгонно-пастбищный характер, однако, судя по
Малочисленным остаткам костей домашних животных, оно вряд ли
было определяющим видом хозяйства. Основную белковую пищу
люди продолжали получать от охоты и рыболовства, а
растительную —- от собирательства. Г. Кан считает, что носители сахаро-су-
?82 Глава четвертая
дапского неолита издавна знали земледелие, но по мнению
некоторых других ученых, земледелие в Сахаре и к югу от нее возникло
лишь в IIΙ—II тыс. до н. э., в тот период, когда процесс аридизации
усилился и привел к сокращению рыбных и растительных ресурсов.
Одни авторы считают, что в этих условиях сахарские скотоводы
начали ухаживать за растениями и постепенно перешли к их куль-
тиваг ии. По мнению других, те же причины вызвали иной
процесс — постепенный отлив населения из Сахары, столкновение
мигрантов с местными охотниками и собирателями на ее южных и
западных окраинах и переход к земледелию в условиях кризиса,
вызвавшего быстрым ростом плотности населения 125. По-видимому,
отмеченный этими учеными кризис действительно мог вызвать
переход к земледельческому образу жизни. Однако затронутое им
население должно было еще накануне его иметь какое-либо
представление о земледелии. Возможно, так оно и было, если, с одной
стороны, вспомнить о раннем возникновении земледелия у восточных
групп неолита сахаро-суданской традиции, а с другой, согласиться
с некоторыми специалистами 126 в том, что ямс был окультурен в
Западной Африке до проникновения туда сахарского населения, о чем,
кстати, свидетельствуют некоторые лингвистические данные 127.
Как бы то ни было, отлив населения из Сахары начиная с
середины III (конца III) тыс. до н. э. сейчас хорошо фиксируется
источниками 12R. В Западной Африке оно встретилось с носителями
«гвинейского неолита», а их смешение дало начало ряду синтетических
культур. Кое-где возникли довольно крупные поселки. Это относится
прежде всего к району Тишиттэ в Мавритании, где в первой
половине II (в сер. II) тыс. до н. э. поселились скотоводы, разводившие
крупный рогатый скот и коз и довольно интенсивно занимавшиеся
рыболовством. К концу третьей четверти II (к концу II) тыс. до н. э.
климат стал суше, озера начали высыхать, а рыбные ресурсы
сократились. В этот период здесь отмечен рост собирательства растений,
а в конце II (на руб. II—I) тыс. до н. э. разведение жемчужного
проса стало уже важным хозяйственным направлением. Со
временем количество поселков значительно возросло, некоторые из них
достигали размеров 36 га. Они строились в одной традиции и иногда
обносились валами Если прав А. Юго, считающий, что в каждом из
них обитало до 3000 человек, то речь может идти о довольно
развитой племенной организации 129.
К концу III (в пер. пол. II) тыс. до н. э. население с
производящим хозяйством проникло из Южной Сахары в Мали (Каркари-
шинкат), к середине II (во втор. пол. II) тыс. до н. э.—в Гану
(культура кинтампо), а в I тыс. до н. э.—в Северный Камерун
(Дайма). Повсюду скотоводство сочеталось первоначально с
развитым рыболовством.
Есть некоторые основания полагать, что носители «гвинейского
неолита» начали расчищать тропические леса для выращивания
ямса и масличной пальмы до появления в этих местах мигрантов с
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 283
севера и северо-востока. Во II—I тыс. до н. э. эти земледельцы
заселили многие районы бассейна Конго. Они же начали расчистку
лесов в районе оз. Виктория и приступили к широкому освоению
экваториальных лесов. Предполагается, что это были предки банту
й убангийцев 13°.
Расселение земледельцев и скотоводов к югу и юго-востоку от
Хартума происходило на протяжении III—II тыс. до н. э.
Возможно, в этот период Северную и Восточную Эфиопию заселили носители
кушитских и восточносуданских языков, причем, по К. Эрету, южные
кушиты уже умели доить коров и получдть от них кровь, которой
они также питались. На Африканском Роге скотоводство возникло
в первой половине II (к сер. II) тыс. до н. э. Однако образ жизни
этих скотоводов до сих пор плохо изучен. Если, по мнению
Дж. Д. Кларка, они уже во II—I тыс. до н. э. кочевали, как
современные галла, афар и сомалиш, то другие специалисты считают,
что возникновение в Восточной Африке групп с преимущественно
скотоводческим хозяйством представляет собой довольно позднее
явление132. Процесс становления земледелия в Эфиопии пока что
не изучен, но здесь, несомненно, были окультурены энсете, нуг и
некоторые другие растения. В последние годы удалось выяснить, что
распространение производящего хозяйства в более южные районы
было связано не с одной, как считалось прежде, а с несколькими
разными культурными группами. Наиболее ранними являются
памятники так называемого «скотоводческого неолита» в низменностях
Северо-Восточной Уганды, где они появились в III—II (втор. пол.
III—И) тыс. до н. э. К середине II (во втор. пол. II) тыс. до н. э.
это население частично передвинулось на восток и на юг, заселив
некоторые горные районы Кении, а позже и Танзании. Другой
развитый скотоводческо-земледельческий комплекс появился в
Западной Кении к середине I тыс. до н. э. Предполагается, что все эти
группы земледельцев и скотоводов в языковом отношении входили
в макросуданскую (шаринильскую) и кушитскую общности. Их
продвижение на юг фиксируется поселениями с домами столбовой
конструкции и небольшими могильниками второй половины II—I тыс.
До н. э. Частично пришельцы ассимилировались с местными
охотниками, рыболовами и собирателями, а частично обитали рядом с
ними до относительно недавнего времени ш.
Дальнейшее распространение производящего хозяйства в
Южную Африку связывалось в прошлом с культурами раннего
железного века и их носителями — бантускими народами. Однако,
основываясь на лингвистических данных, К. Эрет высказал недавно
предположение о том, что носители центральносуданских языков,
знавшие скотоводство и земледелие, появились в Южной Африке за
несколько веков до банту. В то же время исследования в пещере
Шонгуени на восточном побережье ЮАР дали для остатков ряда
культурных растений — африканского проса (дагуссы), жемчужного
проса, дыни и горлянки — необычно раннюю датировку: вторая по-
284
Глава четвертая
ловина III (рубеж III—II) тыс. до н. эЛ34 Как отмечалось выше,
указанные виды проса могли быть одомашнены в Северо-Восточной
Африке и Сахаре в IV (к нач. III) тыс. до н. э. Однако в Южную
Африку они могли попасть только в результате миграции каких-то
групп с севера. Пока что неизвестны данные о столь ранней
миграции. Правда, первобытные культуры Восточной Африки изучены
еще весьма слабо. И все же данные из Шонгуени заслуживают
тщательной проверки. Вместе с тем появление названных культурных
растений в Южной Африке к рубежу нашей эры, судя по данным
той же пещеры и некоторым исследованиям в Трансваале, более
чем вероятно. А это значит, что те восточноафриканские
скотоводческие группы, для которых знание земледелия обосновать не
удалось, действительно занимались им. Следовательно, они вели
комплексное хозяйство, типичное для известных этнографически многих
современных народов Восточной Африки.
Судя по лингвистическим данным, проанализированным К. Эре-
том, центральные койсанцы (кве) задолго до появления банту
контактировали на территории Зимбабве с носителями каких-то цент-
ральносуданских языков. От них они получили термины для
обозначения овец, баранов, зерна, сорго, глиняных горшков и т. д. В
настоящее время в Зимбабве обнаружены памятники, которые можно
связать с местными охотниками и собирателями, получавшими во
второй половине I тыс. до н. э. керамику и овец у более развитых
соседей. В дальнейшем некоторые из этих групп аборигенов перешли
к овцеводству, распространив его по остальной территории Южной
Африки — в Намибию (квади) и в ЮАР (готтентоты) 135.
Европа. Существенные изменения природной среды на рубеже
плейстоцена-голоцена привели к значительной перестройке образа
жизни древнего европейского населения. Этот процесс развивался
постепенно, и еще в раннем голоцене многие группы продолжали
строить свое хозяйство по-прежнему. Однако в новых условиях его
традиционные позднепалеолитические методы все менее себя
оправдывали и оказывались неспособными поддерживать нормальное
течение жизни первобытных охотников и собирателей. Крайним
проявлением этих трудностей было вымирацие ряда групп, запустение
прежде густонаселенных районов и уменьшение плотности
населения на довольно значительных территориях. Прежде всего это
касалось открытых равнин, которых теперь старались избегать.
Население селилось в основном по берегам рек и озер, в предгорьях и
на морских побережьях. Главным в этих местах постепенно
становилась специализация на использовании водных ресурсов, в
особенности рыболовство, а на некоторых морских побережьях, прежде
всего в северных районах, и охота на морского зверя. Еще в
мезолите на этой основе в Восточной Прибалтике сложилась
специализированная культура кунда. Специализированные рыболовецкие
общины возникли со временем на территории Шотландии и Ирландии.
В позднем мезолите VIII—VI (VII—V) тыс. до н. э. рыболовством
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
285
занимались различные группы Северного Средиземноморья —- от
Южной Греции до Португалии.
При этом в большинстве районов хозяйство продолжало
оставаться многоресурсным и в разной степени включало охоту и
собирательство. Охота в некоторых случаях имела специализированный
характер (например, добыча кроликов в Южной Франции). Такое
многоресурсное хозяйство встречалось, например, у носителей
культуры эртебелле, обитавших в Западной Прибалтике во второй
половине V —первой половине IV (IV) тыс. до н. э. Они занимались
сухопутной охотой, добывали тюленей, ловили рыбу и собирали
моллюсков 136.
Описанные сдвиги в системе хозяйства привели к сложению
нескольких новых ХКТ. В пределах лесной и частично лесостепной зон
Европейской части СССР Η. Η. Турина выделяет несколько ХКТ:
1) таежные охотники и рыболовы; 2) морские охотники и рыболовы
с подразделением на арктические группы и группы прибалтийские-
и умеренного пояса; 3) охотники и рыболовы лесостепи137.
По-видимому, аналогичные ХКТ с добавлением четвертого типа —
рыболовов и собирателей Северного Средиземноморья — можно выделить
в Западной и Центральной Европе. Вместе с тем в целом хозяйства
обитателей Западной и Центральной Европы (за исключением
северных районов) было, возможно, менее эффективным, а их
группы — более мелкими и более рассеянными, чем в лесной и
лесостепной зонах Восточной Европы. Вследствие этого производящее
хозяйство с большей легкостью и в более ранние периоды
распространялось на запад, чем на восток. Высокопродуктивное рыболовство и
связанная с ним охота составляли в северных лесных районах
мощную конкуренцию южному производящему хозяйству и вызывали
до некоторой степени сходные изменения в образе жизни,
социальной структуре и духовных представлениях. В частности, в ряде
областей они стали прочной основой для оседлости и быстрого роста
населения 138.
Тенденция к оседлости, рост плотности населения и изменения в
социальной структуре хорошо прослеживаются в рассматриваемых
районах с конца мезолита и на протяжении неолита по материалам
древних поселений и могильников. В связи с указанными выше
сдвигами в хозяйстве произошло формирование двух видов поселений:
базовых зимних с прочными долговременными жилищами и
временных летних с легкими жилищами типа чумов или шалашей.
Первоначально люди продолжали использовать для обитания пещеры и
скальные выступы, однако со временем они все чаще обитали на
открытых поселениях или стоянках. Во многих районах, например
в Восточной Прибалтике, северо-западных областях РСФСР, в Вол-
го-Окском междуречье и т. д., совершался переход от типичных для
мезолита и раннего неолита круглых наземных жилищ или
полуземлянок диаметром до 5—8 м к квадратным" или прямоугольным
наземным или заглубленным в почву жилищам и полуземлянкам. В ос-
286
Глава четвертая
нове последних лежал сруб или каркасно-столбовая конструкция.
В ранний период площадь этих жилищ составляла 15—50 кв. м, в
поздний — еще больше. Например, в позднем неолите в Карелии,
в Верхнем и Среднем Поволжье появились длинные дома площадью
60—80 и даже 200 кв. м 139. Особый характер имел Лепенски Вир,
поселок оседлых рыболовов и охотников на Дунае. Здесь на
территории 2800 кв. м располагалось несколько трапециевидных в плане
домов площадью 5,5—30,0 кв. м. Дома строились из дерева и камня.
В центре пола находились очаги и своеобразные каменные статуи,
на основании чего некоторые исследователи считают их не
жилищами, а святилищами.
Со временем возрастала и площадь стоянок и поселений.
Например, в Южном Приуралье ранние мезолитические стоянки достигали
площади 400—500 кв. м, позднее они увеличились до 700—800 кв. м,
.а в развитом неолите площадь поселков была уже в 10—15 раз
больше. Впрочем, это наблюдалось не везде. На Кольском п-ове и
в III тыс. до н. э. стоянки занимали обычно 200, редко — 1000 кв. м.
О росте плотности населения говорит и увеличение количества
поселков на протяжении неолита. Некоторые районы, например
'бассейн Оки, были заселены в неолите чрезвычайно густо. В
отдельных местах — в особенности это относится к областям
распространения длинных домов — отмечалась хуторская система расселения, в
других, например в северных областях Восточной Европы,
встречались компактные поселки, состоявшие из нескольких вытянутых в
*ряд жилищ, иногда соединенных между собой коридорами.
Почти повсюду охотники и рыболовы хоронили покойников на
территории поселков. Лишь в северо-западных районах РСФСР
^встречено несколько крупных неолитических могильников IV—III
(второй пол. IV—III) тыс. до н. э., содержавших по 100—200
погребений. Однако следов сколько-нибудь существенной социальной
дифференциации в них не отмечено.
В эпоху голоцена все доземледельческое население Европы
распадалось на две крупные историко-культурные зоны. В Западной
и Центральной Европе одна из них локализовалась от Южной
Ирландии до Польши и от низменностей Центральной Европы до
Средиземноморья, а другая занимала Северную Ирландию, северные
области ГДР и ФРГ, Южную Скандинавию и Прибалтику. Для
первой была характерна микролитическая техника и изготовление
орудий из изящных пластин и . отщепов, для второй — преобладание
тмакролитических комплексов 140. Те же две зоны вычленяются в
Европейской части СССР, причем граница между ними проходит по
лесостепной полосе, где отмечается их смешение141.
В целом это деление сохраняет свое значение и для мезолита,
и для неолита. Однако если в южной зоне шлифованные орудия,
керамика и производящее хозяйство или его элементы появились либо
одновременно, либо на протяжении относительно короткого проме-
-жутка времени, то иначе обстояло дело на севере, где поэтому опре-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
287
деление границы мезолита и неолита представляет особую проблему.
По Η. Η. Гуриной, переход к неолиту на севере ознаменовался
следующими достижениями: освоением новых пород камня, массовой
добычей и производством каменных орудий с помощью специальных
шахт и мастерских, широким производством разнообразных крупных
рубящих орудий (в том числе шлифованных топоров),
распространением техники пиления и сверления камня, появлением различных
специализированных видов охотничьих и рыболовческих орудий,,
совершенствованием домостроительства, развитием средств
транспорта и разветвленным обменом. С неолитом, по ее мнению, связано
становление морского промысла и превращение рыболовства в
ведущую отрасль хозяйства142.
Верная в целом, эта схема все же не дает четких критериев для
отделения мезолита от неолита, ибо в разных районах описанный
комплекс складывался по-разному, а отдельные достижения
появлялись в разной последовательности. В ряде мест керамика возникла
до внедрения шлифованных орудий, в других — наоборот. В целом
керамика начала распространяться в лесной зоне с середины V
(кон. V) тыс. до н. э., а характерные для неолита двусторонне
обработанные и шлифованные топоры, двусторонне обработанные
наконечники стрел и т. д.— значительно раньше. Например, в
торфяниках Вычегодского края в слоях VIII—VII (VII—VI) тыс. до н. э.
обнаружены шлифованные орудия, луки, полозья саней143, лыжи,
поплавки, остатки сетей и циновок. В Англии и Ирландии топоры,
причем в Ирландии шлифованные, распространились также задолга
до керамики.
Все это приводит к разногласиям относительно абсолютного
датирования грани между мезолитом и неолитом в лесных районах.
Одни относят ее к VII—V (VI—V) тыс. до н. э., другие — к первой
половине IV (втор. пол. IV) тыс. до н. э. Как бы то ни было, ясно·
одно — охотники и рыболовы Европы достигли относительно
высокого уровня развития, вполне достаточного для перехода к
производящему хозяйству. На этом основании некоторые исследователи
утверждают, что переход к земледелию и скотоводству кое-где
действительно произошел самостоятельно. По мнению одних,
специализированная охота мезолита, вызвавшая движение охотников за
стадами диких животных, ознаменовала ранние шаги первобытного
скотоводства; другие считают, что уже в мезолите и раннем неолита
обитатели Южной Франции одомашнили овец и кроликов; третьи,
опираясь на данные о широких вырубках и поджогах леса в
мезолите, пишут о протоземледелии и разведении орешника и т. д.
На самом деле база для местного перехода к производящему
хозяйству была в Европе весьма узкой. Европейские рыболовы лишь
кое-где самостоятельно одомашнили собак, и свиней144. Становление
Же земледельческо-скотоводческого образа жизни было связано не^с
этими робкими успехами, а с переднеазиатским импульсом, который^
попав на Балканах и в Северной Греции на благодатную почву, дал
288
Глава четвертая
толчок для формирования нового для Европы ХКТ, основанного уже
на производящем хозяйстве. Об этом говорит хотя бы то, что,
несмотря на наличие на Балканах уже в верхнем палеолите диких
ячменя, чечевицы, овса и, видимо, пшеницы-однозернянки,
важнейшим культурным растением у самых ранних земледельцев здесь
повсюду был интродуцированный из Передней Азии эммер.
Древнейшие земледельческо-скотоводческие поселки в Европе
известны сейчас лишь в Фессалии (Северная Греция). Они
представлены слоями докерамического неолита в Аргиссе-Магуле, Сескло,
Ахиллейоне и др. и относятся к рубежу VIII—VII (рубежу VII—-
VI) тыс. до н. э. Со второй четверти VII (втор. четв. VI) тыс. до
н. э. на Балканах появляется первая керамика и родственные
культуры постепенно широко распространяются по всему юго-востоку
древней Европы: протосескло и Неа-Никомедия в Северной Греции,
Караново I и Кремниковцы в Болгарии, Велушка Тумба в
Юго-Восточной Югославии, Старчево в Сербии, Кереш в Юго-Восточной
Венгрии и Криш в Румынии. По равнинам Центральной и частично
Западной Европы земледелие и скотоводство распространились в V
(втор. пол. V — нач. IV) тыс. до н. э. вместе с носителями культуры
линейно-ленточной керамики. По средиземноморскому побережью
Западной Европы производящее хозяйство распространилось еще в
докерамический период на рубеже VIII—VII (рубеж VII—VI) тыс.
до н. э., когда у многих местных позднемезолитических групп
(культура кастельновьен) появились одомашненные овцы и, возможно,
козы. Соответствующие памятники зафиксированы сейчас от
Северо-Восточной Италии до Испанского Леванта и Португалии.
Механизм этого процесса почти не изучен, но некоторые авторы
предполагают, что он происходил благодаря тесным контактам отдельных
•общин, занимавшихся каботажными плаваниями. Древнейшие
свидетельства земледелия относятся здесь к первой половине VI (пер.
пол. V) тыс. до н. э. и связаны прежде всего с отпечатками
растений на керамике импрессо, самой ранней в этих местах. Нет
оснований считать, что до появления керамики земледелие здесь было
неизвестно. Правда, на протяжении многих веков и земледелие, и
скотоводство играли в хозяйстве местных обитателей лишь
подчиненную роль. В северных районах ФРГ, ГДР и Польши, а также
в Южной Скандинавии первые земледельческо-скотоводческие
общины входили в культуру воронковидных кубков IV (втор. пол.
IV —пер. пол. III) тыс. до н. э. В Великобритании и Ирландии
древнейшие земледельцы и скотоводы появились еще во второй
половине V (пер. пол. IV) тыс. до н. э.145
Относительно быстрый рост населения создавал потребность в
расселении древних земледельцев и скотоводов и в освоении ими
новых земель. Вместе с тем, как свидетельствуют новейшие
исследования, этот процесс проявлялся не в крупных однонаправленных
миграциях, а в медленной инфильтрации мелких групп на новые
территории. По некоторым подсчетам, за одно поколение они рас-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
289
ширяли ареал производящего хозяйства примерно на 25 км 146. В
силу различных причин (физико-географических,
хозяйственно-культурных и пр.) это расселение не было равномерным радиальным
движением из одного центра. Во-первых, его направление
определялось естественными преградами (реки, горы и т. д.); во-вторых,
ранние земледельцы заселяли прежде всего районы с доступными
для примитивной обработки легкими почвами; в-третьих, движение
по незаселенным равнинам проходило иначе, чем по областям,
занятым охотниками, рыболовами и собирателями; наконец,
в-четвертых, в разные периоды создавались различные центры расселения,
которые иногда излучали волны мигрантов и в обратном
направлении, т. е. в сторону уже заселенных земледельцами территорий. Все
это создавало довольно сложную картину этнокультурной динамики
в неолитической Европе.
Население с уже сложившимся земледельческо-скотоводческим
комплексом по культуре резко отличалось от соседних охотничье-
рыболовческих коллективов. Прежде всего это находило выражение
в характере поселений и жилищ. Поселки ранних земледельцев
имели довольно крупные размеры. Уже Неа Никомедия занимала
площадь 2,4 га. Еще крупнее были поселки культуры
линейно-ленточной керамики — от 3 (Кельн Линденталь) до 25 (Биланы) га.
Ранние земледельцы Греции и Балкан обитали в наземных
прямоугольных однокомнатных домах размером 25—55 кв. м. В более северных
районах их стены состояли из кольев, оплетенных прутьями и
обмазанных глиной; в южных глинобитные стены возводились на
каркасе из деревянных столбов. Северная техника легла в основу более
поздних домов культуры линейно-ленточной керамики, возникшей,
видимо, на базе культур круга Старчево — Криш — Кереш. Эти
дома иногда достигали в длину 45 м и, как правило, занимали площадь
примерно 120 кв. м. Их конструкция имела в разных районах свои
особенности, что до сих пор вызывает весьма противоречивые
интерпретации. Время бытования таких домов оценивается разными
исследователями в 15—40 лет. По мнению одних специалистов,
жители покидали ветхие дома и основывали поселок на новом месте;
по мнению других, указывающих на следы ремонтов и перестроек,
поселки могли существовать на одном и том же месте до 500 лет.
По числу перегородок в домах считают, что в одних из них обитали
нуклеарные семьи, а в других — большие или же несколько
неродственных нуклеарных семей. В поселке Биланы вроде бы
прослеживается переход от однокомнатных к многокомнатным домам, что
интерпретируется как разрастание малых семей и превращение их
в большие. Однако есть и иное предположение о том, что в одних
Домах могли обитать женщины с детьми, а в других — мужчины 147.
На Балканах поселки состояли из нескольких домов,
расположенных либо рядами вдоль улиц, либо по кругу. В Центральной
Европе встречалось как расселение отдельных домохозяйств
хуторами (в Вестфалии), так и компактные поселки, объединявшие до
История первобытного общества
290
Глава четвертая
десятка домов (в Западной Чехословакии). На Балканах
покойников хоронили на территории поселков, а культура
линейно-ленточной керамики знала уже довольно крупные грунтовые могильники.
Совершенно иная картина наблюдалась на средиземноморском
побережье, где в раннем неолите локализовалось несколько
своеобразных культур, общим элементом которых была керамика с
орнаментом, оттиснутым раковиной Cardium или другими сходными типами
штампов. В Европе такая керамика, получившая название «импрес-
со», широко распространена от Фессалии (культура пресескло) и
Далмации через острова Адриатического моря и итальянское
побережье до Южной Франции, Испании и Португалии. Проблема ее
происхождения и ранних этапов распространения до сих пор не
получила сколько-нибудь однозначного решения. Ясно одно — если
процесс распространения линейно-ленточной керамики на ранних
этапах был связан в основном с миграцией ранних земледельцев, то
культура керамики импрессо возникла на основе автохтонных групп,
находившихся в той или иной степени под влиянием импульсов,
исходивших с востока. В ранний период носители западносредиземно-
морских культур жили по-прежнему мелкими общинами (до 100
человек) в пещерах, под скальными выступами и на открытых
стоянках. Вначале они строили круглые хижины, позже —
прямоугольные дома столбовой конструкции148, но в ряде районов традиция
строительства круглых домов дожила до бронзового века.
С самого начала ранние земледельцы Европы выращивали целый
комплекс растений, близкий переднеазиатскому. В него входили
прежде всего эммер, однозернянка, несколько видов ячменей и
бобовых (горох, чечевица, вика). В Европе к этому набору со временем
прибавилось просо, окультуренное, по-видимому, в юго-восточных ее
районах. Впоследствии из Передней Азии были получены новые
растения, такие, как мягкая и карликовая пшеницы, спельта, рожь,
лен и т. д.149
Стада ранненеолитических земледельцев были также близки
переднеазиатским по составу: первое место у древнейших
обитателей Греции и Балкан занимали козы и овцы, второе — крупный
рогатый скот, потом — свиньи и собаки. Свиней и, возможно, крупный
рогатый скот европейцы одомашнили сами в Юго-Восточной Европе.
То же преобладание в стаде мелкого рогатого скота сохранилось и
у других ранних земледельцев Южной Европы. С продвижением на
север состав стада изменялся. Есть все основания полагать, что,
теряя в более северных районах коз и овец и не имея источников для
их пополнения, носители культуры линейно-ленточной керамики и
их потомки успешно приручали местных диких животных, туров и
свиней, в результате чего эти виды постепенно заняли в их стадах
доминирующее положение 150.
Сейчас установлено, что в раннем неолите земледельцы селились
прежде всего на легких почвах — песчанистых и черноземе в Юго-
Восточной Европе, лёссовых в Центральной Европе и песчанистых
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
291
на равнине Тавольере в Италии. По мнению одних специалистов,
эти чрезвычайно плодородные почвы в условиях первобытной
техники практически не истощались и позволяли долгое время обитать
на одном месте; по мнению других, эти почвы легко поддавались
эрозии, что заставляло население время от времени менять место
поселения. Решение этого вопроса тесно связано с проблемой
реконструкции древнейших систем земледелия. По традиции
считается, что одной из древнейших систем было подсечно-огневое
земледелие. Однако в последнее время появились основания для
предположения о его относительно позднем распространении в древней
Европе в период, когда ранние земледельцы стали расселяться из
районов с легкими почвами в соседние области, требовавшие для
своего освоения более трудоемких работ. С этой проблемой
столкнулись, например, потомки носителей культуры линейно-ленточной
керамики. С переходом на более тяжелые почвы сменилась не
только техника земледелия, но и набор культурных видов претерпел
некоторые изменения. Уже в период культуры уиндмилл-хилл в
Англии на тяжелых почвах сеяли только пшеницу, а на легких —
пшеницу и ячмень.
Занятие земледелием и одновременное содержание относительно
крупных стад скота также ставило важную проблему охраны урожая
не только от диких, но и от домашних животных. Поэтому в период
созревания культурных растений жители должны были угонять скот
подальше от поселков. Это положило начало формированию
отгонной системы скотоводства, о чем как будто бы говорят некоторые
находки в пещерах Карпат, Альп, Апеннин, Бюкка и Матры.
Однако в целом в неолитической Европе преобладали две формы выпаса
скота: во-первых, более ранний вольный выпас, во-вторых, выгон
скота на близлежащие пастбища под надзором особых пастухов —
несколько более поздняя форма, характерная для придомного
скотоводства. На равнине Тавольере сев производили на возвышенных
местах, а скот пасли в низменностях у рек и болот. Прямо
противоположная картина реконструирована для культуры уиндмилл-хилл.
При этих формах скотоводства большое значение должна была
иметь заготовка кормов для скота на зиму.
Расселяясь на новые территории, ранние земледельцы рано или
поздно должны были столкнуться с их исконными обитателями.
Исход этих контактов был, очевидно, различным. В некоторых
случаях пришельцы полностью сменяли местное население, что
фиксируется на поселении Лепенски Вир, в других — смешивались с ними
или обменивались культурными достижениями. Наиболее ранним
памятником, где еще в VII (VI) тыс. до н. э. фиксировалось
проникновение домашних коз и овец к охотникам и рыболовам,
является пещера Франхти в Южной Греции. Как показывают и
археологические, и этнографические материалы, охотники и рыболовы могли
Довольно долго находиться в таких контактах с соседними
земледельцами и скотоводами, сохраняя в общих чертах свой
традиционно
292
Глава четвертая
яый культурный облик. Позже они могли переходить к
производящему хозяйству, либо заимствуя соответствующие навыки у соседей,
либо смешиваясь с ними. В этих случаях возникали новые
своеобразные культуры синтетического облика. Процесс их формирования
теперь хорошо прослежен на европейских материалах 151. Выяснено,
что не только охотники и рыболовы заимствовали у ранних
земледельцев определенные виды культурных растений и домашних
животных, методы их разведения, технику домостроительства и
некоторые виды материальной культуры, но и земледельцы переняли
у них ряд полезных навыков и вещей: методы расчистки участков
из-под леса и кустарников, лук и стрелы, лодки и т. д.152 Теперь
становится все более очевидным, что «загадочные»
западноевропейские мегалиты также могли являться одним из плодов таких
контактов 153. К смешанным культурам, возникшим в результате таких
взаимоотношений, специалисты относят, кроме того, некоторые
культуры керамики импрессо, шассей, рессен, культуру воронковид-
ных кубков и ряд других.
В том случае, когда охотники и рыболовы заимствовали
производящее хозяйство у соседей, становление у них образа жизни,
основанного уже на земледелии и скотоводстве, происходило далеко
не сразу. Это видно и на примере культур керамики импрессо, и
ряда южных культур Европейской части СССР (буго-днестровская,
днепро-донецкая), и на примере целой группы отставших в своем
развитии охотников и собирателей, которые лишь в XIX—XX вв.
заимствовали у соседей отдельные элементы производящего
хозяйства, но и после этого еще долго вели образ жизни, тесно связанный
с традиционными охотой, рыболовством и собирательством
(негритосы Малакки, аэта, некоторые группы пигмеев Африки и др.)· От-
дельные группы населения, как показывает история ченчу и кадаров
в Индии, могли вначале перейти к разведению домашних животных.
Однако эта их деятельность имела крайне ограниченный характер
и существовала в качестве второстепенного уклада на фоне
доминировавшего присваивающего хозяйства. Кроме того, домашние
животные и продукция скотоводства использовались ими главным
образом не для удовлетворения собственных потребностей в пище, а
для обмена с соседними народами. Очевидно, ни ченчу, ни кадаров,
ни другие сходные с ними группы нельзя еще называть
скотоводческими обществами.
В становлении производящего хозяйства на юге Европейской
части СССР описанный процесс заимствования доминировал. Первые
элементы земледелия и скотоводства проникли частично с
юго-запада, а частично, возможно, и с Кавказа на территорию,
протянувшуюся от Днестра до низовьев Дона уже во второй половине VII (втор,
пол. VI) тыс. до н. э. Однако и в буго-днестровской, и в сурско-
днепровской, и в крымской, и в матвеевокурганной культурах на
ранних этапах они составляли лишь незначительный уклад и не
определяли образа жизни, основанного на прежних традиционных ви-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 293
дах хозяйства 154. Становление земледельческо-скотоводческого
образа жизни происходило в лесостепной и частично степной полосе
значительно позже, на протяжении второй половины VI—V (V—
пер. пол. IV) тыс. до н. э., однако ход этого процесса, к сожалениюг
изучен еще весьма слабо. О его результатах можно судить по
формированию во второй половине V (пер. пол. IV) тыс. до н. э. ранне-
энеолитической мариупольской культурно-исторической области,
простиравшейся в степях и лесостепях Восточной Европы от Южного
Буга до Урала 155. Достижением этого времени в южнорусских степях
стала доместикация лошади.
В раннем неолите в лесостепной и степной зонах жилищами
служили, как правило, небольшие круглые и реже продолговатые
полуземлянки или наземные дома типа шалашей, повторявшие
форму более ранних мезолитических жилищ. Почти повсюду они были
однокамерными, и лишь в буго-днестровской культуре иногда
встречались двухкамерные жилища. В горном Крыму люди по-прежнему
обитали в пещерах. В позднем неолите совершился переход к
прямоугольным домам столбовой конструкции. Размеры их оставались
небольшими (6—10 кв. м в днепро-донецкой культуре). Поселки
неолита также не отличались здесь сколько-нибудь значительной
величиной. Так, для днепро-донецкой культуры площадь поселков
колебалась в пределах от 500—600 до 1000—2000 кв. м.
Покойников хоронили, как правило, на территории поселков 156.
В лесную зону Восточной Европы производящее хозяйство
начало интенсивно проникать со второй половины III (конца III) тыс.
до н. э. в связи с последовательными миграциями носителей ряда
культур шнуровой керамики и боевых топоров. Этот процесс
проходил на протяжении всего II тыс. до н. э.
Важным источником появления производящего хозяйства на юге
Европейской части СССР, помимо Балкан, был Кавказ, где
земледелие и скотоводство сложились в значительно более отдаленную
эпоху. Существенные сдвиги в хозяйственном комплексе древнего·
населения Кавказа наступили в позднем мезолите — раннем неолитег
когда на Черноморском побережье значительно усилилось
рыболовство, а в ряде внутренних горных районах наряду с традиционной
охотой возросла роль собирательства. В раннем неолите в
некоторых местах появились шлифованные орудия, а в позднем широко
распространилась керамика, а кое-где — зернотерки, ступки и
вкладыши жатвенных ножей. В настоящее время есть все основания
считать, что основы производящего хозяйства были заложены на
Кавказе в позднем неолите, хотя, видимо, и не во всех районах.
Общий облик культуры древнейших земледельцев свидетельствует о ее
глубоких местных корнях. Однако столь же несомненно и влияниег
шедшее с юга, из более развитых переднеазиатских центров.
Некоторые специалисты находят возможным говорить не только о
заимствовании навыков земледелия и скотоводства с юга, но и о
миграции оттуда мелких групп населения 157.
294
Глава четвертая
К сожалению, неолит Кавказа изучен еще весьма слабо. Лишь в
последние годы здесь стали известны памятники с зачатками
производящего хозяйства. Несколько десятков таких поселков были
обнаружены, например, в Западной Грузии. В первой половине VII (пер.
пол. VI) тыс. до н. э. ареал производящего хозяйства охватил уже
и Северный Кавказ. Об этом свидетельствуют недавние находки
X. А. Амирханова в поселке Чох в Дагестане, где удалось
обнаружить остатки культурных пшеницы-однозернянки и ячменя и кости
мелкого рогатого скота. Еще в неолите на Кавказе сложилось
несколько своеобразных домостроительных традиций. В Западной
Грузии жилища были круглыми и прямоугольными со стенами из
переплетенных ветвей, а в Чохе каменное полукруглое жилище было
пристроено к скале.
На основе поздненеолитического земледельческо-скотоводческого
комплекса в Закавказье сложилась оседлая энеолитическая
культура (или культуры) VI—V (V — пер. пол. IV) тыс. до н. э.,
известная сейчас в трех вариантах: 1) в Юго-Восточной Грузии и
Западном Азербайджане, 2) в Юго-Восточном Азербайджане, 3) в
Араратской долине в Армении, причем наиболее ранним является
первый из этих вариантов 158. Ее носители заселили в основном низовья
и долины рек, реже они появлялись в предгорьях и совсем редко —
в горах. Если в предшествующее поздненеолитическое время
поселки занимали всего 500—1000 кв. м, то теперь их площадь возросла
до 0,3—2,5 га. Предполагается, что население такого поселка
составляло 120—150 человек. Энеолитические земледельцы жили в круглых
однокамерных толосовидных домах из кирпича-сырца, иногда
несколько заглубленных в землю. Хотя техника их строительства
была, видимо, заимствована из Передней Азии, их форма, безусловно,
имеет древние местные корни. О последнем свидетельствуют
встречавшиеся здесь в ранний период круглые полуземлянки. Жилище
энеолитического времени были сравнительно небольшими: от 7—
40 кв. м в Грузии и Армении до 28—50 кв. м в Азербайджане.
Иногда они плотно примыкали друг к другу, иногда разделялись
небольшими двориками. Рядом располагались хозяйственные пристройки,
круглые или прямоугольные. Могилы повсюду устраивали под
полами домов.
Древние земледельцы выращивали несколько видов пшеницы и
ячменя, а также просо, овес, разнообразные бобовые и даже
виноград. Среди этих видов встречались неизвестные в тот период в
Передней Азии сорта культурных растений, безусловно выведенные в
Закавказье. Богарное мотыжное земледелие сочеталось кое-где с
примитивным ирригационным159. В стаде у ранних земледельцев
Закавказья почти повсюду мелкий рогатый скот преобладал над
крупным рогатым скотом и свиньями. Имелись и собаки. Аналогичный
состав стада отмечен у ранних земледельцев в Дагестане и на
Кубани 160. На этом основании некоторые исследователи предполагают,
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
295
qTo уже в IV тыс. до н. э. началось формирование отгонной (яйлаж-
ной) системы скотоводства.
На Северном Кавказе и в Дагестане на основе раннего
производящего хозяйства сложилась своеобразная историко-культурная
область эпохи позднего неолита — энеолита V—IV (кон. V—IV) тыс.
до н. э. В нее входило несколько ранних дагестанских поселков
(Гинчи, Хунзаха и др.), а также.поселение Агубеково и
Нальчикский могильник в Кабардино-Балкарии 161.
Судя по данным из Каменномостской пещеры и недавно
раскопанному поселению Нововочепший I, на Кубани и в Краснодарском
крае производящее хозяйство возникло не позднее второй
половины V—IV (IV) тыс. до н. э. Эти районы стали очевидными
проводниками южных кавказских импульсов в степную зону Европейской
части СССР, на что уже обращал внимание А. А. Формозов 162.
Средняя Азия и Афганистан. Как отмечалось выше, западные
области Ирана входили в один из древнейших первичных очагов
становления земледелия и скотоводства. Уже во второй половине
VIII (втор. пол. VII) тыс. до н. э. отсюда происходили миграции
небольших групп населения в соседние районы. Их движение Hai
север сыграло некоторую роль в распространении новых
хозяйственных навыков в Закавказье, а движение на юго-восток привело
к плотному заселению малоосвоенных южных пределов Ирана.
Третий и, пожалуй, важнейший поток мигрантов устремился на восток,
на пути захватывая и включая в свою сферу влияния местных
охотников и собирателей. Благодаря ему в южной части Средней Азии
и Афганистане возникли новые синтетические культуры,
положившие начало становлению здесь земледелия и скотоводства уже в VII
(VI) тыс. до н. э.163
Ярко выраженная оседлоземледельческая джейтунская культура
VII — начала VI (VI — нач. V) тыс. до н. э. изучена советскими
археологами в подгорной полосе Копет-Дага 164. Поселки ее
древнейшей фазы концентрировались в центральных районах Южной
Туркмении, и, видимо, в Северном Иране. В поздний период в связи с
ростом населения и сегментацией джейтунцы заселили
северо-западные и юго-восточные области Южной Туркмении. Их поселки
занимали площадь от 0,4 до 0,6 га, а иногда и 1,0 га (Чопан-Депе)
и содержали по 10—30 прямоугольных, почти квадратных
однокомнатных наземных ромов, построенных из крупных глиняных блоков.
Площадь домов была невелика: от 13 до 39 кв. м, но, как правило,
20—30 кв. м. К домам примыкали мелкие хозяйственные
пристройки — кладовые, амбары и пр. Иногда дома строились плотно друг
к ДРУгу, а иногда разделялись небольшими двориками. На
некоторых поселениях (Песседжик-Депе) были встречены постройки
необычайно крупных размеров с особым внутренним убранством
(настенные росписи и т. д.), являвшиеся, возможно, мужскими
дозами. Покойников хоронили под полами домов.
296
Глава четвертая
Джейтунцы сеяли ячмень, а также мягкую и карликовую
пшеницу, применяя для их разведения примитивное лиманное орошение.
Эффективному оседлому земледелию здесь способствовало наличие
чрезвычайно богатых лёссовых почв, ежегодно обновляемых и
обогащаемых селями. Стада древних земледельцев Туркмении на
раннем этапе состояли только из мелкого рогатого скота, а на позднем
включали и крупный рогатый скот. У джейтунцев имелись и собаки.
Скотоводство было, по-видимому, придомное.
Другой, к сожалению, гораздо менее изученной культурой
является гиссарская культура Южного Таджикистана VI — первой
половины V (конца VI—V) тыс. до н. э.165 К настоящему времени
скопление ее памятников известно уже в нескольких районах. Они
представлены, с одной стороны, многочисленными сезонными стоянками
на лёссовых почвах, а с другой, базовыми поселками многократного
заселения (Сай-Сайед, Куй-Бульен, Туткаул), на которых
встречены многоярусные каменные выкладки и толстые зольно-гипсовые
обмазки полов несохранившихся жилищ. По площади эти поселки
«были не меньше джейтунских: например, Куй-Бульен занимал
территорию до 1,0 га. Как и джейтунцы, гиссарцы хоронили покойников
на стоянках. По вопросу о хозяйстве гиссарцев мнения
исследователей резко расходятся: одни считают их бродячими охотниками,
другие — горными скотоводами, третьи — скотоводами и
земледельцами.
Имеющиеся материалы — приуроченность поселков к
лёссовым почвам, их крупные размеры и остатки долговременных жилищ,
находки, хотя и редкие, зернотерок, пестов, мотыг и вкладышей
жатвенных ножей — все это свидетельствует о том, что гиссарцы могли
заниматься производящим хозяйством, хотя оно, возможно, и не
определяло полностью их образа жизни, связанного также с охотой
ш собирательством. Вместе, с тем после недавних исследований
Η. Μ. Ермоловой, которая не нашла никаких костей домашних
животных на одном из гиссарских памятников, мнение о наличии у
гиссарцев мелкого рогатого скота в значительной мере поколеблено.
Таким образом, и ныне вопрос о хозяйстве гиссарцев остается
нерешенным.
Южнее в нескольких пещерах Северного Афганистана кости
одомашненных коз и овец соседствовали с многочисленным в отличие
от гиссарских поселений земледельческим инвентарем.
Соответствующая культура Северного Афганистана была синхронна гиссарской
я, возможно, находилась с ней в контактах 166.
В северных и центральных районах Средней Азии наблюдалась
■совершенно иная картина: здесь на протяжении большей части
неолита безраздельно господствовали охота, рыболовство и
собирательство 167. В некоторых областях рыболовство преобладало над
другими видами хозяйственной деятельности, а в ряде мест на его
основе возникли оседлые и полуоседлые общины. Их скопления
фиксируются в особенности в Акчадарьинской дельте, низовьях Зерав-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
297
шана, по Узбою, в Центральной Фергане и т. д. Первобытные
рыболовы жили в крупных прямоугольных или овальных домах
площадью от 80 до 120—150 кв. м. В Акчадарьинской дельте эти
жилища, наземные или полуземлянки, располагались в котловинах, где
они были надежно скрыты от постоянных ветров. Здесь на стоянке'
Толстова обнаружено место обитания одной из таких оседлых
довольно крупных общин VI—IV (V—IV) тыс. до н. э. В Восточном
Прикаспии аналогичные общины неолитических охотников,
рыболовов и собирателей обитали в пещерах (Джебел, Дам-Дам-Чешме 1
и 2, Кайлю). В неолитический период значительные пространства
Средней Азии были обводнены несравненно лучше, чем сейчас, что·
создавало условия для довольно плотного заселения на основе
развитого присваивающего хозяйства. В более аридных пустынных и
степных областях продолжали находить себе пропитание бродячие
охотники и собиратели. Их стоянки были недавно обнаружены,
например, в долине Мургаба. Та же картина была встречена
исследователями в ныне пустынных районах Северного Афганистана 168.
К сожалению, процесс становления производящего хозяйства в
среде всех этих охотников, рыболовов и собирателей до сих пор почтет
не изучен. Кости домашних животных изредка встречаются на их:
стоянках, в особенности в пещерах Восточного Прикаспия, однако*
остается неясным, идет ли здесь речь о развитии у местного
населения скотоводства или о заимствовании домашних животных с юга-
из земледельческо-скотоводческого мира. Для раннего периода
второй вариант в настоящее время кажется предпочтительным. Он
соответствует хорошо известным по этнографическим примерам
ситуациям, когда группы с присваивающим и производящим хозяйством
обитали бок о бок, ведя между собой обмен и поддерживая друг с
другом иные контакты. При наличии высокоэффективного
присваивающего хозяйства в этих условиях не создавалось стимулов для-
заимствования земледелия и скотоводства у соседей. О том, что
такого рода контакты наблюдались и в неолитической Средней Азии,,
материала более чем достаточно. Видимо, благодаря им в северных
и центральных районах возникло специализированное производство*
раковинных бус (стоянка Куба-Сангир в Прикаспии) и изделий из
бирюзы («мастерские» Кызылкумов). Продукция этих центров
нередко проникала далеко на юг, в земледельческо-скотоводческую
сРеду. Бирюзовые украшения, например, широко применялись не
только земледельцами Южной Туркмении, но и древними
обитателями Ирана и Белуджистана. В обмен охотники и рыболовы могли
получать отдельных домашних животных, которых они тут же
съедали.
В районах, лежавших по близости от южных земледельческих
поселений, производящее хозяйство появилось лишь к середине III
(на рубеже III—И) тыс. до н. э. Об этом свидетельствуют
исследования энеолитических стоянок в низовьях Зеравшана. Там был
встречен необычно богатый инвентарь, предназначенный для сборам
298
Глава четвертая
и обработки растительной пищи (зернотерки, вкладыши жатвенных
ножей и пр.) 169.
Южная Азия. В результате последних изысканий эпоха
возникновения производящего хозяйства в Южной Азии отодвинулась
далеко в глубь веков, представив взору ученых целую свиту
развивавшихся на месте культур, подготовивших и положивших начало
древнеиндийской цивилизации и синхронных ей энеолитических
общностей Индии170. В горных долинах Северного Белуджистана
теперь известно более 15 реолитических и энеолитических
памятников VI—IV (V—IV) тыс. до н. э. Один из них, неолитический
поселок Сараи-Кхоле, занимал территорию в 18 га! Общее
представление о неолитической культуре Северного Белуджистана дают
недавние раскопки поселка Мергарх, где обнаружены докерамические
слои VII (VI) тыс. до н. э. Керамика появилась там лишь в VI
(V) тыс. до н. э., причем в конце докерамического периода местные
жители уже украшали себя медными бусами. Они строили
многокомнатные прямоугольные дома из сырцового кирпича. Один из
таких домов занимал площадь 40 кв. м. и состоял из 10 помещений.
Судя по их мелким размерам, не все они использовались для жилья.
Древнейшие мергархцы сеяли несколько видов ячменя и пшеницы
и разводили коз и овец. Возможно, они начали одомашнивать зебу.
В первой половине V (втор. пол. V) тыс. до н. э. их потомки ввели
в культуру ююбу, финиковую пальму и хлопчатник ш. Известное
с 40-х годов XX в. поселение Кили-Гхул-Мохаммед в древнейшей
своей части относится к позднему периоду описанной культуры.
Его обитатели также строили глинобитные дома и разводили
крупный рогатый скот, коз и овец.
В первой половине IV (втор. пол. IV) тыс. до н. э.
сформировавшиеся в белуджистанских горах энеолитические общины начали
вторгаться в долину Инда и смешиваться с местным населением
охотников, рыболовов и собирателей, создавая субстрат, на котором
позже возникла древнеиндийская цивилизация. Их хозяйственный
комплекс (козы, овцы, крупный рогатый скот, пшеница, ячмень) и
общий облик культуры еще мало чем отличались от переднеазиат-
ского, лежавшего в основе белуджистанского неолита. Местными
достижениями Южной Азии было одомашнивание зебу, буйвола,
введение в культуру хлопчатника, создание нового сорта пшеницы —
круглозерного и, как мы увидим ниже, окультуривание риса.
Накануне возникновения на Индостане производящего
хозяйства там существовало несколько этнокультурных общностей,
материальная культура которых характеризовалась микролитической
техникой и которые относились к разным ХКТ. Например, в
Центральной Индии в Гуджарате локализовались полуоседлые охотники,
рыболовы и собиратели, оставившие после себя временные стоянки под
скальными выступами или на открытых местах. Домами им
служили круглые хижины каркасно-столбовой конструкции с полами,
вымощенными камнем. Диаметр этих домов составлял 3—5 м, площадь
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
299
7—20 кв. м. Лишь в редких случаях стоянки достигали довольна
крупных размеров —0,6 га (Багор). В Южной Индии на побережье
у Бомбея и южнее Мадраса располагались стоянки оседлых
приморских рыболовов. Неолитическое население Кашмира первоначально
также относилось к кругу охотников, рыболовов и собирателей.
Древнейшие поселки здесь датируются серединой III (кон. III) тыс.
до н. э. Они состояли из круглых и овальных землянок, по
периметру которых сохранились ямки от кольев, составлявших каркас
жилища. Весьма древняя, по-видимому, оседлая культура
охотников, рыболовов и собирателей была обнаружена недавно в долине
Ганга. Вместе с тем и в неолите во многих районах Индостана
сохранялись мелкие общины бродячих охотников и собирателей.
Существование бок о бок представителей различных ХКТ
нарождало между ними обмен и другие контакты, благодаря которым,
в частности, по Индостану со временем началось распространение
производящего хозяйства. Лучше всего эти контакты в настоящий
момент известны в Центральной Индии, где они начались по
меньшей мере в V (втор. пол. V) тыс. до н. э., о чем свидетельствуют
находки костей домашних животных в Багоре. В последующее»
время следы контактов местных охотников, рыболовов и
собирателей с более развитым населением эпохи неолита — энеолита
фиксируются уже на целом ряде памятников172. Все это не позволяет
вслед за А. Я. Щетенко использовать подобного рода материала
для обоснования тезиса о местном самостоятельном становлении
производящего хозяйства в западной части Индостана в X—IX
(IX—: VIII) тыс. до н. э. Все же историко-культурные предпосылки
для становления земледелия и скотоводства, безусловно, созрели в
среде самих носителей микролитических культур. В частности,
подобно обитателям мезолитической Европы, они уже начали
выжигать степи и кустарники для охоты. Поэтому и здесь неолитические*
культуры часто имели синтетический облик, т. е. основа их была
местная, а основной набор культурных растений и домашних
животных — заимствованный.
Это ярко проявилось, например, в материалах культуры бурза-
хом (кашмирский неолит), носители которой начиная со второй
половины III (с руб. III—II) тыс. до н. э. постепенно овладевали
навыками производящего хозяйства. Во II тыс. до н. э. они уже
разводили пшеницу и ячмень и пасли коз. Уже в самый ранний период
они имели собак.
Неолитическая культура гор Центрального Декана представляла
собой иной тип синтетической культуры. Ее носители жили в
долговременных поселках на холмах или на их склонах в III (втор. пол.
III — нач. II) тыс. до н. э. Они строили круглые и прямоугольные
Дома из глины на столбовом каркасе, возводя фундамент для них
из булыжников. Размеры домов были небольшие — 20—25 кв. м,
однако их число в поселках достигало нескольких десятков, а в
поздний период —и сотен. Следовательно, речь может идти о довольна
300
Глава четвертая
крупных оседлых общинах. Кроме этих поселков, рядом с ними или
на удалении располагались крупные загоны диаметром по 200—300 м.
Первоначально исследователи видели в них доказательство· отгонно-
пастбищного скотоводства, однако в последнее время появились
веские основания считать их конструкциями, предназначенными для
загона и приручения диких зебу 173. Действительно, кости зебу
составляли здесь до 80—85% всего остеологического материала,
причем их морфологические особенности свидетельствовали о
происходящем процессе доместикации. На протяжении II тыс. до н. э.
ассортимент домашних животных пополнился новыми видами и в
конце этого периода, кроме зебу, включал буйволов, ослов, свиней, коз,
овец, собак и даже кур. Помимо скотоводства население занималось
и земледелием, причем среди культурных растений со временем
появились некоторые африканские виды. Эти находки наряду с
некоторыми специфическими особенностми керамики свидетельствуют об
определенных африканских связях, которые, к сожалению, до сих
пор остаются неизученными.
Особый интерес представляет неолитическая культура долины
Ганга, создавшая основу для последующей, считавшейся до
недавнего времени загадочной культуры медных кладов. Как установлено
последними исследованиями, неолитические поселки были широко
распространены в долине Ганга еще в VII—V (VI—V) тыс. до н. э.
и являлись непосредственными преемниками более ранней местной
мезолитической культуры. Уже в мезолите местное население
обитало в круглых, сделанных из обмазанной плетенки домах, и
количество последних в поселках достигало 10. Домостроительство
сохранило тот же характер и в неолите, но размеры поселков
возросли (до 20 домов). Увеличились и размеры домов: от 5—16 кв. м
в мезолите до 16—40 кв. м в неолите. Но самое замечательно^ то,
что местные неолитические группы уже занимались рисоводством,
и есть все основания включать восточные районы Индии в состав
первичного очага раннего земледелия, который на востоке
охватывал часть Южного Китая и северные области Юго-Восточной Азии.
Кроме рисоводства, в долине Ганга разводили домашних животных,
прежде всего крупный рогатый скот. По характеру каменной
индустрии (орудия на пластинах) местный неолит тяготел к западу, а по
облику ранней шнуровой керамики — к востоку, что придавало
специфический облик неолитической культуре долины Ганга 174. К
концу III (нач. II) тыс. до н. э. эта культура находилась в контактах
с ареалом древнеиндийской цивилизации, откуда сюда проникли
такие культурные растения, как круглозерная пшеница, ячмень,
чечевица, горох и т. д. Эти контакты были обоюдными, и долина
Ганга стала источником риса, проникавшего со второй половины III
(рубеж III—И) тыс. до н. э. в Западную, Центральную и Южную
,Индию.
Специальных могильников в неолите Индии не обнаружено.
Повсюду покойников хоронили на территории поселений.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
301
Среди неолитических культур Индостана как бы особняком стоят
памятники Ассама, тяготеющие к совершенно иному, хоабиньско-
бакшонскому миру Юго-Восточной Азии и Южного Китая.
Предполагается, что время от времени пределов Ассама достигали
миграции из Сычуани и Юньнани. В последние годы эти выводы,
основанные на изучении подъемных материалов, были подтверждены
раскопками на поселении Даоджали Хадинг. На некоторых
неолитических поселениях Ассама были обнаружены остатки риса.
Юго-Восточная Азия, Южный Китай и Океания. Если в начале
голоцена значительную часть Юго-Восточной Азии, включая
северные районы Индонезии и Филиппины, а также южные территории
Южного Китая, занимала единая относительно гомогенная хоабинь-
ская культура, или правильнее хоабиньская археологическая
провинция, то в дальнейшем в связи с формированием новых ХКТ
и дроблением прежде единых культурных общностей картина
усложнилась 175. Как и прежде, в неолите многие группы местного
населения продолжали вести образ жизни охотников, рыболовов и
собирателей. Во внутренних районах они обитали в пещерах, а на
морских побережьях — на открытых стоянках, на месте которых со
временем возникали большие раковинные кучи. Роль зародившегося
еще в позднем хоабине рыболовства чрезвычайно возросла,
распространились и связанные с ним технические приспособления — сети,
грузила, корзины.
В северной части Вьетнама стоянки более или менее оседлых
рыболовов, охотников и собирателей возникли еще в раннем неолите.
Из них наиболее известны Куиньван площадью 7400 кв. м и Дабут
площадью 1500 кв. м. К позднему неолиту аналогичные раковинные
кучи площадью от нескольких сотен кв. м. до 1 га и высотой от 1
до 18—20 м широко распространились по всему вьетнамскому
побережью, но особенно они тяготели к центральным аллювиально-пой-
менным районам. Сходные раковинные кучи известны теперь на
побережье Кампучии, Малайзии, Таиланда и в других местах. В
Южном Китае оседлые рыболовы довольно плотно заселили приморскую
область и ряд соседних районов. На Тайване они постоянно селились
У моря в устьях рек. Общества оседлых рыболовов и охотников
встречались и во внутренних континентальных областях, богатых
речными и озерными ресурсами, например на притоках Янцзы в
низменных районах Сычуани.
Одновременно с ними во внутренних, особенно горных
местностях продолжали обитать населявшие пещеры охотники и
собиратели. К ним относились, с одной стороны, бакшонцы Северного
Вьетнама и цзэнпияньцы Южного Китая, а с другой, хоабиньцы
Неверного Таиланда, Малайзии и Кампучии. В списке охотничьей
фауны важное место занимали животные, которые позже были
одомашнены: гауры, буйволы, свиньи, причем кости свиней составляли
подавляющую часть остеологической коллекции из пещеры Гуа Ча
в Малайзии. Важную роль в пищевом рационе этих охотников играли
302
Глава четвертая
и растительные ресурсы. Обитатели пещеры долины Баньян,
например, и в I тыс. до н. э. продолжали в больших количествах
собирать дикий рис.
Все отмеченные выше группы населения обитали в тот период,
когда по соседству с ними уже развивались земледельческо-скотовод-
ческие общества. Они контактировали друг с другом, но это далеко
не сразу и не всегда вело к заимствованию и распространению
вширь производящего хозяйства. В Северо-Восточном Таиланде
потомки хоабиньцев дожили до II—I тыс. до н. э., в Юго-Западном
Таиланде —до III (III —нач. II) тыс. до н. э., Малайзии — до
второй половины IV (нач. III) тыс. до н. э., в Кампучии — до начала V
(втор. пол. V) тыс. до н. э. В Южном Китае в провинции Фуцзянь
еще во второй половине II (кон. II) тыс. до н. э. обитали носители
рыболовческой культуры танынишань, не испытавшие никаких
влияний со стороны носителей производящего хозяйства. Потомки
таких групп дожили в Юго-Восточной Азии и Южном Китае до
недавнего времени. В одной из филиппинских пещер удалось
обнаружить слой непрерывного обживания от III тыс. до н. э. до XIX—
XX вв. н. э. Еще недавно эту пещеру навещали охотники и
собиратели аэта.
Важными техническими достижениями описанных выше
культур, отличавшими их от классического хоабиня, были
многочисленные шлифованные орудия (топоры и тесла) и шнуровая керамика.
Последняя возникла здесь весьма рано и уже в конце плейстоцена —
начале голоцена распространилась по широкой территории от
Японии и долины Хуанхэ до Юго-Восточной Азии. Впрочем, в
некоторых островных районах (Филиппины, Индонезия)
керамика'появилась лишь во второй половине IV (к нач. III) тыс. до н. э., в
других (на большей части Новой Гвинеи) ее производства не знали до
самого последнего времени. Весла, найденные на некоторых
стоянках, и появление рыболовов на островах свидетельствуют о
применении лодок и начале морских плаваний еще в среднем голоцене. К
сожалению, ни на одной открытой стоянке до сих пор не было
найдено каких-либо внятных следов жилищ. Некоторые специалисты
объясняют это тем, что жилища были свайными. Другие
предполагают, что, переходя на новое место обитания, люди разбирали
бамбуковый остов дома и переносили его с собой 176. Это позволяет
понять, почему на многочисленных раковинных кучах не было
обнаружено никаких следов строений, кроме невразумительных ямок,
видимо, от столбов.
Как отмечалось выше, к началу среднего голоцена часть
охотников и собирателей Юго-Восточной Азии и Южного Китая перешла
к земледелию и скотоводству. Южногималайский очаг доместикации
дал толчок развитию целого ряда местных своеобразных оседлозем-
ледельческих культур. Древнейшая из них, культура хэмуду в устье
Янцзы, возникла еще в первой половине V (втор. пол. V) тыс. до
н. э. Так как она лежит уже на значительном удалении от первич-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
303
ного очага, процесс становления в нем земледельческого образа
жизни следует датировать временем не позднее VII (VI) тыс. до н. э.
ft сожалению, неолитические культуры гор Юньнани и Западной
Сычуани известны еще весьма слабо. Там обнаружены довольно
крупные земледельческие дюселки, жители которых занимались
также охотой и рыболовством. На некоторых памятниках найдены
кости яка.
Культура хэмуду, вместе с которой в низовьях Янцзы появилась
южная разновидность риса (сяньдао), положила начало
длительному периоду бытования местных земледельческо-рыболовческих
культур. Во второй половине V (в IV) тыс. до н. э. здесь ее сменила
культура цинляньган, на месте которой во второй половине IV
(в III) тыс. до н. э. возникла культура лянчжу. Во внутреннем
районе Южного Китая в первой половине III (втор. пол. III) тыс.
до н. э. локализовались культуры цюйцзялин и паомалин, первая —
на р. Ханынуй и в левобережье Янцзы, а вторая южнее — на правом
берегу Янцзы. Носители всех этих культур с самого начала
разводили рис, свиней и собак. Рисоводство на первых порах имело, по-
видимому, примитивный заливной (лиманный) характер, но со
временем была введена подсечно-огневая система.
Во второй половине IV (к III) тыс. до н. э. в низовьях Янцзы
появились холодоустойчивая разновидность риса (гэндао),
одомашненные буйволы, куры и шелкоткачество (в культуре лянчжу). Как
показывают многочисленные находки пряслиц, ткачество знали еще
носители культуры хэмуду. Обитатели низовьев Янцзы интенсивно
занимались и рыболовством, они изготовляли лодки, весла, сети и
разнообразные костяные орудия для рыбной ловли. Поселки этих
рисоводов и рыболовов занимали площадь от нескольких тысяч кв.
метров до нескольких га. Судя по некоторым данным, дома были
наземными, прямоугольными, столбовой конструкции, с
четырехскатной крышей. Носители культур цюйцзялин и паомалин жили в
домах площадью от 30 до 70 кв. м, состоявших из 1—2 комнат.
Впрочем, иногда здесь встречались и овальные дома размером
25 кв. м. Во всех поселках конца IV—III (III — нач. II) тыс. до н. э.
обнаружены многочисленные захоронения (до нескольких сотен
могил).
Как показывают исследования на севере провинции Гуандун, там
в середине IV (нач. III) тыс. до н. э. также существовали оседлые
рисоводческо-рыболовческие общества. Один из изученных там
поселков достигал площади 3 га и имел крупный могильник, где уже
обнаружено более 100 погребений.
В Юго-Восточной Азии сейчас известно два крупных
раннеземледельческих центра, сложившихся в V—III (IV—III) тыс. до н. э.
Первый, более ранний локализуется в Северо-Восточном Таиланде
в северной части плато Корат (культура банчиенг); второй, более
поздний — в Северном Вьетнаме в долине р. Хонгха (культура
фунгнгуен). Оба связаны своим происхождением с расселением зем-
304 Глава четвертая
ледельцев по равнине. Этот процесс в особенности прослеживается
в Таиланде, где поселок Нонноктха располагается все еще в
предгорьях, а родственные ему поселки Банчиенг и другие локализуются
уже на равнине. И в Таиланде, и во Вьетнаме такие поселки
тяготели к районам с легкими песчанистыми или аллювиальными
почвами. Их жители занимались пойменным паводковым земледелием и
выращивали главным образом рис, многочисленные остатки
которого (с чертами, переходными от дикого к культурному) обнаружены
на памятниках культуры банчиенг. Местное население обладало
также домашними животными: крупным рогатым скотом (гаялами
или балийским скотом), свиньями, собаками и курами. В этот же
период кое-где в Юго-Восточной Азии начали одомашнивать
буйвола.
Раннеземледельческие поселки представляли собой невысокие
холмы размерами от 0,7—0,8 до 1,5 га, буквально усеянные
захоронениями. Остатков жилищ здесь почти что не найдено, однако
четко выраженные культурные слои, прорезанные многочисленными
ямками и кострищами, свидетельствуют против отождествления
этих холмов со специальными могильниками. Люди, по-видимому,
жили здесь в свайных постройках, которые они разбирали при
переходе на новое место.
Материальная культура ранних земледельцев характеризовалась
шлифованными топорами и теслами, характерными каменными
ножами, до сих пор применяющимися в ряде районов Индонезии для
сбора урожая, мотыгами и керамикой. На протяжении второй
половины IV-—III (III) тыс. до н. э. традиционная шнуровая керамика
уступила в Таиланде место крашеной. С течением времени в
северных районах Таиланда и во Вьетнаме началось распространение
медных и бронзовых изделий. Примерно в это же время возникло
и шелководство, следы которого обнаружены на поселении Банчиенг.
В Северном Вьетнаме к концу неолита уже имелся гончарный круг.
Судя по тому, что с середины IV (с кон. IV) тыс. до н. э. среди
захоронений начинают встречаться довольно богатые, в этот период
наблюдался процесс социальной дифференциации.
Расселение ранних земледельцев по Юго-Восточной Азии π
проникновение навыков земледелия к охотникам, рыболовам и
собирателям представляли собой довольно сложные процессы. В отдельных
случаях, поддерживая брачные отношения с земледельцами,
охотники, рыболовы и собиратели сохраняли свой прежний образ жизни.
Об этом, например, свидетельствуют монголоидные черты негроав-
стралоидного населения Куиньвана. В Северпой Малайзии негро-
австралоиды пещеры Гуа Ча продолжали долго обитать бок о бок с
оседлыми земледельцами культуры банкао. В верхних слоях
соседних пещер (Гуа Кечил и др.) зафиксированы предметы,
свидетельствующие об активных контактах автохтонного населения с
пришлыми земледельцами: здесь в середине IV (нач. III) тыс. дог н. э.
внезапно появилась красная керамика и шлифованные топоры. Ран-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
305
неземледельческая культура банкао, известная в Южном Таиланде
и Северной Малайзии во II тыс. до н. э., имела пришлый характер.
Однако ее носители еще не знали металлов и значительное
внимание уделяли рыболовству и охоте. У них имелись одомашненные
свиньи и собаки.
На Тайване рисоводческие культуры возникли по меньшей мере
к первой половины III (втор. пол. III) тыс. до н. э. На Сараваке в
пещере Ниа одомашненные собаки и свиньи зафиксированы в
могилах второй половины II—I тыс. до н. э., на о. Тимор свиньи и
собаки имелись уже со второй половины IV (в III) тыс. до н. э., а на
о. Сулавеси в пещере Улу Леанг в слое рубежа нашей эры, а
возможно, и ранее, среди других растительных остатков были
обнаружены зерна риса 177. На фоне всех этих процессов, как считают
специалисты, в островной части Юго-Восточной Азии (Восточная
Индонезия — Филиппины) сложилась та часть аустронезийской
общности, представители которой впоследствии осуществили колонизацию
основной части Океании 178.
Вопреки традиционным представлениям, сейчас есть все
основания связывать становление земледелия на Новой Гвинее с доаустро-
незийским населением. Новая Гвинея была заселена еще в
плейстоцене, а на протяжении голоцена там сложилось несколько ХКТ:
1) прибрежные рыболовы и собиратели; 2) сборщики саго; 3)
горные охотники и собиратели. Кроме Новой Гвинеи, папуасоязычное
население обитало также на соседних островах Западной Меланезии
(Новая Британия и др.). Отзвуки сложных этнических процессов,
происходивших на Азиатском материке, время от времени
докатывались и до этих мест в виде волн мигрантов, среди которых были
и древнейшие земледельцы. Следует, конечно, отдать должное и
местному новогвинейскому населению, издавна познавшему
свойства многих полезных растений и разработавшему технику их сбора.
По-видимому, эти знания и навыки облегчили доместикацию таких
растений, как саго, сахарный тростник, один из видов банана и др.,
.росших в диком виде на Новой Гвинее и соседних островах. Однако
по-настоящему земледельческий образ жизни развился на Новой
Гвинее лишь после введения в культуру азиатских клубнеплодов,
таро и ямса, да и то, видимо, не сразу.
Во всяком случае, процесс становления земледелия на Новой
Гвинее происходил в условиях смешения пришлых и местных
элементов и обмена культурной информацией, результатом чего явились
новые синтетические культуры. К настоящему времени имеются
самые различные доказательства распространения земледелия в
Центральной горной области Новой Гвинеи в VI—III (V—III) тыс.
До н. э. Это многочисленные свидетельства целенаправленной
вырубки лесов, особенно усилившейся с IV (III) тыс. до н. э., появление
топоров-тесел и костей свиней в IV—III тыс. до н. э. и, наконец,
Дренажные канавы и грядки, обнаруженные недавно в районе Кук
и в северной части долины Ваги, появившиеся во второй половине
306
Глава четвертая
V (в IV) тыс. до н. э. Первые остатки канав в районе Кук
относятся к VIII (VII) тыс. до н. э., но их связь с земледелием еще
нуждается в изучении179. Все это говорит о начале выращивания
таро и разведении свиней горными папуасами.
Однако еще долго после возникновения земледелия папуасы
часто продолжали селиться под скальными выступами. Настоящие
открытые поселки возникли в долине Каиронк во второй половине
V (в IV) тыс. до н. э., а в долине Маним — только в I тыс. до н. э.
В восточной горной области и земледелие и свиньи, и поселки
появились только на протяжении II тыс. н. э. Еще и до сих пор в ряде
горных районов сохраняются группы охотников и собирателей,
которые только-только начинают переходить к производящему
хозяйству.
Последствия упомянутых выше миграций сказывались и на
северном побережье Австралии, обитатели которого заимствовали
некоторые формы материальной и духовной культуры, однако так
и не перешли к производящему хозяйству 180. Так, в частности, с
одной из волн мигрантов в Австралию попали динго, древнейшие
скелеты которых относятся здесь ко второй четверти II (втор. пол. II)
тыс. до н. э.181 Напомним, что собаки встречались в Юго-Восточной
Азии начиная с неолита, а в раковинной куче Дабут были
обнаружены останки особи, близко напоминающей динго. Интересно, что
на Новой Гвинее кости собак пока что найдены только в слоях
II тыс. н. э.
Широкое расселение аустронезийцев по Океании связывается
археологически с культурой керамики лапита, которая
распространилась от Новой Гвинеи и Новой Британии до Самоа начиная со
второй четверти II (во втор. пол. II) тыс. до н. э. Ее носители были
умелыми мореплавателями, занимавшимися главным образом
рыболовством и потому селившимися первоначально лишь на морских
побережьях. В Меланезии они активно смешивались с местным
населением, заложив основу формирования современных
меланезийских этносов. Протополинезийцы достигли Западной Полинезии в
третьей четверти II (последней четверти II) тыс. до н. э.: о-ва
Тонга—к 1400 (1200) г. до н. э., о-ва Самоа —к 1140 (1000) г. до н. э.
По-видимому, на о-вах Самоа возник следующий мощный очаг
миграции, благодаря которому была заселена Восточная Полинезия.
На Маркизских о-вах и на о. Пасхи люди появились в первых веках
н. э., а на о-вах Общества, Гавайях, Новой Зеландии, Кука — на
протяжении I тыс. н. э.
В процессе расселения мигранты приспосабливались к местным
условиям обитания, в их системе хозяйства и материальной
культуре наблюдались существенные изменения. Например, к началу
нашей эры керамическое искусство было в Полинезии совершенно
забыто, а в Восточной Полинезии в I тыс. н. э. был выработан
специализированный рыболовецкий инвентарь, неизвестный на западе.
Однако наиболее существенные изменения произошли в системе хо-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
307
зяйства. Еще на Новой Гвинее папуасы со временем выработали
несколько различных систем для выращивания влаголюбивого таро
и засухоустойчивого ямса: дренажные канавы, высокие грядки, под-
сечно-огневая система и т. д. Далее к востоку роль подсечно-огнево-
го земледелия понижалась, а роль более интенсивных систем
возрастала. Со временем в некоторых местах Океании возникло
ирригационное земледелие. Наивысшего расцвета в Меланезии оно
достигло на Новой Каледонии. Помимо террас, на
меланезийско-полинезийской границе были выработаны такие важные для
полинезийского земледелия приспособления, как ямы для брожения плодов
хлебного дерева и крупные очаги для приготовления кореньев.
Изменения произошли и в наборе культурных растений и
домашних животных. Так, из двух основных видов таро, известных
меланезийцам, Полинезии достиг только один. Особое значение в
Полинезии и Микронезии приобрело выращивание хлебного дерева,
происходящего из Индии или Малайзии. В восточных районах
Полинезии (о. Пасхи, Новая Зеландия, Гавайи) важным культурным,
растением стал батат, завезенный из Южной Америки. Если
первоначально носители культуры керамики лапита везли с собой
одомашненных собак, свиней и кур, а также крупных крыс, то в
дальнейшем на разных островах некоторые из этих животных вымерли.
Так, к доколониальному времени на Новой Каледонии относятся
только кости крыс, на Новых Гебридах — только свиней, на о.
Пасхи — кур и крыс, на Новой Зеландии — собак и крыс. Полный набор
указанных выше домашних животных отмечался в первобытности
только на о-вах Фиджи, Тонга, Маркизах, Гавайях и на о. Беллона
(Соломоновы о-ва). Однако к началу колониального времени
домашние животные исчезли на о. Беллона, а собаки вымерли на
Маркизах. Если первоначально носители культуры керамики лапита
помимо рыболовства занимались, хотя и в небольших масштабах,
земледелием и скотоводством, то в дальнейшем у разных групп
хозяйственная ориентация менялась весьма по-разному. На некоторых
островах (Гавайи, Маркизы и др.) ранний акцент на рыболовство
сменился позже интенсивным развитием земледелия; в ряде районов
Новой Гвинеи некоторые группы мигрантов занялись
специализированным рыболовством и производством керамики на обмен, а другие
со временем перешли к сухопутной охоте; на Новой Зеландии в
связи с неблагоприятной природной обстановкой роль производящего
хозяйства значительно упала, а на о. Чатэм возникли уникальные
группы полинезийцев, занимающиеся исключительно охотой и
собирательством. На некоторых островах (Новая Каледония, Новые
Гебриды, Фиджи, Тонга, Маркизы, о. Пасхи) в слоях доколониального
времени зафиксированы четкие свидетельства каннибализма.
До сих пор не опровергнуто предположение ряда исследователей
0 том, что в заселении Полинезии и формировании специфической
полинезийской культуры определенную роль могла сыграть
Микронезия. К сожалению, первобытные памятники там остаются мало-
308
Глава четвертая
изученными. Их древнейшие слои с керамикой, тяготеющей к
Филиппинам, относятся к II (втор. пол. II) тыс. до н. э. С этого
времени здесь обитали рыболовы, которые разводили кур, собак и в
определенной степени занимались земледелием. В первой половине
II тыс. н. э. на Марианских о-вах возникло рисоводство.
Восточная Азия, Сибирь, Дальний Восток. На большей части
территории Восточной и Северной Азии в неолите продолжали
обитать охотники, рыболовы и собиратели. В разных районах
соотношение различных отраслей присваивающего хозяйства, тесно
связанных со спецификой окружающей природной среды, отличалось
своими особенностями, что имело важные последствия для развития
социальной организации182. В Сибири и на Дальнем Востоке
А. П. Окладников выделил несколько ХКТ. В Западной Сибири с
ее богатыми рыбными угодьями обитали оседлые или полуоседлые
рыболовы и охотники. Их зимние поселки отличались относительно
крупными размерами и состояли из прямоугольных полуземлянок.
В энеолите встречались поселки площадью 1000—2500 кв. м,
состоявшие из 5—7 жилищ. Ясно, что в них обитали большие общины с
относительно развитой социальной организацией, о чем
свидетельствует и наличие специальных могильников — родовых кладбищ.
Тот же образ жизни вели непосредственные потомки этого
населения — обские угры еще в XVIII в. К востоку от Енисея начинался
совершенно иной мир, мир бродячих охотников, рыболовов и
собирателей. Они жили маленькими общинами на временных стоянках
в легких наземных жилищах. Здесь же на стоянках хоронили
покойников. В степях Забайкалья и частично Монголии также обитали
подвижные охотники, а в Северном Китае и Маньчжурии, видимо,
несколько более оседлые охотники и рыболовы.
Напротив, неолитическое население Приамурья и Приморья,
имевшее обильные источники питания в виде мигрирующих
ежегодно огромных косяков ценных промысловых рыб (кеты, горбушЬ,
чавычи), отличались еще большей степенью оседлости, чем обитатели
Приобья. Здесь выявлено несколько неолитических культур VI—Π
(V—II) тыс. до н. э.183 Для них были характерны поселки, обычно
включавшие до полутора десятков прямоугольных
домов-полуземлянок каркасно-столбовой конструкции с вертикальными стенами и
входом через дымовое отверстие в крыше. Площадь таких домов
составляла от 30 до 60 кв.' м. Иногда эти жилища были овальными
или имели округленные углы. На поселении Майхэ, занимавшем
площадь более 2500 кв. м, их встречено не менее 30. Плотность этих
поселков особенно велика в низовьях Амура. В условиях оседлого,
относительно стабильного образа жизни население быстро росло и
расселялось по окружающей территории, о чем свидетельствует,
например, неоднократное передвижение нижнеамурских групп на
Средний Амур и в Приморье. О том же говорит и увеличение
размеров жилищ, которые в последней четверти II (к рубежу II—I)
тыс. до н. э. достигали 150—200 кв. м. Неолитические рыболовы
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
309
дмура сыграли важную роль в этногенезе нивхов и ряда тунгусо-
маньчжурских народов, которые частично сохранили их образ
жизни до XVIII-XIX вв.
На Охотском побережье от Амура до Камчатки в неолите
обитали предки коряков, которые со временем перешли от бродячей
охоты к прибрежному рыболовству и морской охоте на тюленей и
китов. Это позволило им перейти к прочной оседлости. Их круглые
полуземлянки достигали огромных размеров (до 700 кв. м) и могли
служить жильем для целой общины. В некоторых поселках имелось
до 20 таких домов 184. Севернее вдоль берегов Беренгова пролива и
на соседних островах возникла другая высокоспециализированная
культура морских зверобоев — предков современных эскимосов 185.
Внутренние районы Камчатки, Сахалин и Курильские о-ва населяли
речные рыболовы и охотники. Они также отличались определенной
степенью оседлости, чередуя жизнь в зимних более постоянных
поселках и летних временных стойбищах. На Камчатке они обитали
в круглых полуземлянках диаметром до 10 м.
Главной особенностью описанных рыболовческих культур было
наличие разнообразного набора гарпунов, крючков и сетей. Кроме
того, они обладали и другими типичными для неолита предметами
быта, прежде всего шлифованными топорами и керамикой. Правда,
на Камчатке последние появились не ранее второй половины III
(пер. пол. II) тыс. до н. э.
В Корее и Японии в неолите обитали в разной степени оседлые
группы, занимавшиеся охотой, рыболовством и собирательством.
Рыболовство и возникший в позднем неолите морской промысел
преобладали у жителей побережий, охота и собирательство — во
внутренних районах. Здесь люди также жили в зимнее время года
в квадратных, круглых или овальных полуземлянках с очагами в
центре. Площадь домов в Корее колебалась от 10 до 50 кв. м (в
среднем 18 кв. м), а в Японии (культура дземон) чаще всего
встречались дома по 15—20 кв. м. В некоторых поселках культуры
дземон были обнаружены здания особой конструкции крупных
размеров (50—60 кв. м) —места общинных собраний и церемоний.
Поселки состояли обычно из 10, реже 20 домов, которые в Японии
располагались по дуге в 2—3 ряда. К позднему периоду
определилась тенденция к строительству наземных домов. Аналогичные
направления в домостроительстве выявлены и в Корее 186. Древнейшая
керамика появилась в Японии в XII (XI) тыс. до н. э., а в Корее
типологически сходная керамика известна по меньшей мере с VII
(VI) ТЫС. ДО Н. Э.
К сожалению, проблема возникновения производящего
хозяйства в Восточной Азии остается нерешенной, а этапы его становления
не прослежены187. Древнейшие земледельческие культуры
Северного Китая предстают перед учеными уже в сложившемся виде. Одна
из них, яншао, располагалась в центральной части Китая в бассейне
Р. Вейхэ, где отмечалась высокая плотность неолитических посел-
310
Глава четвертая
ков: на лёссовых террасах площадью 21000 кв. км их обнаружено
более 400. Поселки яншао отличались крупными размерами,
занимая в ранний период до 5—10 га (Баньпо), а в поздний — более
20 га (Мяодигоу 1). Планы поселков достаточно характерны: в
центре располагалась открытая площадка, занятая иногда большим
общественным зданием (в Баньпо его площадь достигала
нескольких десятков кв. метров); вокруг нее концентрировались жилища,
подсобные постройки и ямы-хранилища. За пределами поселка
находились могильник и специальный гончарный квартал с
обжигательными печами. В Баньпо поселок отделялся от них глубоким
рвом. Жилища культуры яншао первоначально представляли собой
полуземлянки, круглые или квадратные, со скругленными углами,
небольшие по площади (15—20 кв. м). Они имели деревянный
каркас, оплетенный прутьями или обшитый досками и обмазанный
глиной с соломой. Со временем с ростом населения площадь жилищ
росла (до 30—40 кв. м), квадратные жилища вытягивались и
превращались в прямоугольные, постепенно совершался переход к
наземным конструкциям. Предполагается, что в поселке Баньпо
имелось до 200 жилищ, в которых обитало 500—600 человек.
Носители культуры яншао занимались земледелием,
рыболовством, охотой и собирательством, причем роль земледелия со временем
возрастала. Люди выращивали в основном чумизу (лисохвостов
просо) и разводили свиней и собак. Характер земледелия окончательно
не выяснен: по мнению одних авторов, оно было подвижным под-
сечно-огневым, по мнению других, оседлым богарным. Не совсем
ясно и то, когда в долине Хуанхэ появился рис. Яншаосцам было
известно ткачество, причем, по-видимому, в поздний период с юга
сюда проникло шелководство.
Культура яншао существовала в Северном Китае с середины V
(нач. IV) до начала III (до втор. пол. III) тыс. до н. э. С ростом
населения ее носители расселились на запад в верховья Хуанхэ
(культура яншао в Ганьсу, потом — мацзяяо), на восток вниз по
Хуанхэ (культура хоуган), на юг в долину р. Ханынуй, где они
предшествовали культуре цюйцзялинь. Повсюду они встречались с
местным населением и смешивались с ним, что вело к появлению
новых оригинальных культур. Так происходило, в частности, в
Северо-Восточном Китае, где движение яншаосцев столкнулось со
встречной волной приамурского населения.
Наиболее высокогорные неолитические поселки Китая
располагались в Тибете недалеко от Лхасы. Там еще во второй половине IV
(пер. пол. III) тыс. до н. э. люди разводили просо и, возможно,
имели домашних свиней. Жилищами служили квадратные полуземлянки
из дерева и глины.
На протяжении IV —первой половины II тыс. до н. э.
производящее хозяйство возникло в Восточной Монголии (поселение Там-
цаг-булак и др.), в Северо-Восточном Китае (культура линьси-чи-
фэн), в Среднем Приамурье (осиноозерская культура), в Корее и,
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 311
возможно, в Южном Приморье (зайсановская культура). Повсюду
3 этих местах первоначальный сельскохозяйственный комплекс
включал разведение проса и выращивание свиней и собак. Вместе
ъ тем к середине III (к кон. III) тыс. до н. э. связи с соседними
районами усилились, благодаря чему с юга на север (в Северный
Китай и Корею) начало проникать рисоводство, а с запада и северо-
запада, из областей евразийских степных культур в некоторые
районы Восточной Азии и Дальнего Востока были интродуцированы
пшеница, ячмень, мелкий и крупный рогатый скот, лошади. В
Северном Китае все эти тенденции проявились в сменившей яншао
культуре луншань, существовавшей с середины III (кон. III) до
второй четверти II (сер. II) тыс. до н. э. Ее поселки были
значительно крупнее, чем в яншао, .и часто обносились оборонительным
валом. Социальная стратификация, наблюдавшаябя еще в яншао,
достигла теперь несравненно более высокого уровня. Возросла и мощь
производящего хозяйства, принявшего более интенсивные формы.
Аналогичные тенденции проявились в локализовавшейся в
провинции Шаньдун в конце IV— начале II (III—II) тыс. до н. э.
культуре давэнькоу. Для нее были характерны особенно крупные
могильники, один из которых, Едянь, достигал площади 56 га. Судя
по погребальному обряду и инвентарю, процесс социальной
дифференциации зашел здесь уже довольно далеко.
В том же направлении шло развитие на Среднем Амуре и в
некоторых районах Приморья, где производящее хозяйство одержало
окончательную победу в первой половине II (к сер. II) тыс. до н. э.
Под влиянием степных евразийских культур производящее
хозяйство достепенно складывалось в Западной Сибири и в Зауралье.
На Южном Урале и в Казахстане зачатки земледелия и
скотоводства, возникшие, возможно, еще в неолите, получили значительное
развитие в энеолитическое время. В этот период связи между
соседними областями значительно усилились, в частности из-за
постоянных миграций растущего населения. Со второй половины IV
(в III—II) тыс. до н. э. эти миграции были устремлены в основном
в степи и таежные районы Западной Сибири. В ходе них
происходило смешение пришлого и местного населения и распространение
навыков производящего хозяйства вширь. Однако отдельным
группам мигрантов, видимо, удавалось сохранить свою этническую
чистоту. Так произошло с афанасьевцами, которые в первой
половине III (втор. пол. III) тыс. до н. э. проникли в Минусинскую
котловину, с далекого запада из ареала ямной культуры. Видимо, под
влиянием афанасьевцев неолитическое население Тувы постепенно
также начало заниматься скотоводством (стоянки Хадынных 1).
Сложнее обстоит дело с проблемой возникновения земледелия
в Японии. В ходе недавней дискуссии188 были высказаны
предположения о возникновении земледелия еще у носителей культуры
Дземон в поздний, средний или даже ранний ее период, хотя
надежные данные об этом относятся лишь к позднему периоду. Выясни-
312
Глава четвертая
лось, что уже в средний период в горных районах Японии охота
рыболовство и собирательство достигли высокой степени
продуктивности и обусловили возникновение довольно развитых общин,
аналогичных известным по этнографическим источникам
калифорнийским. Возможно, уже в этот период были сделаны определенные
шаги к разведению тыкв, бобовых и, возможно, клубнеплодов.
Теперь можно считать доказанным, что в западные районы Япония
рисоводство начало проникать с материка еще в II — первой
половине I тыс. до н. э., т. е. задолго до появления культуры яей.
Однако в отличие от поливного земледелия яей в позднем дземоне
земледелие имело богарный характер. Выяснено также и то, что ряд
специфических для яей особенностей культуры был выработан еще
в дземоне. Следовательно, вопреки прежним представлениям, яей
являлась синтетической культурой, возникшей на местном
субстрате, впитавшем в себя ряд инноваций, происходивших с материка.
Следует отметить, что о высоком уровне развития населения
позднего и финального дземона свидетельствуют и появившиеся в это
время крупные богатые могильники с курганами и каменными кругами.
Мезоамерика. На протяжении VI—III (V—III) тыс. до н. э. в
Мезоамерике происходило формирование двух основных ХКТ189.
На морских побережьях, а также в хорошо обводненных низменнр-
стях внутренних районов со временем возрастала роль рыболовства
и морского промысла, происходило становление оседлорыболовче-
ского образа жизни. С этим ХКТ некоторые авторы связывают
доместикацию сладкого маниока, которая положила начало
земледелию в низменностях. Несмотря на более раннее появление
земледелия в горах, там бродячий охотничье-собирательский образ жизни
продолжался довольно долго и переход к оседлости несколько
затянулся, так как местное примитивное земледелие долго еще не могло
стать основой хозяйственной системы. Дело в том, что древнейший
культурный маис, початки которого едва достигали длины 2,0—
2,5 см, не мог, конечно, конкурировать с другими источниками
питания, и в течение нескольких тысячелетий авокадо, перец, фасоль,
тыквы и другие растения имели для человека несравненно большее
значение. Урожайность древнейшего маиса была крайне невелика
(60—80 кг/га). Все это заставляло людей вести многоресурсное
хозяйство, которое в горных условиях требовало высокой степени
подвижности. Лишь во второй половине III (пер. пол. II) тыс. до
н. э., когда урожайность маиса поднялась до 200—250 кг/га,
создались реальные предпосылки для оседлоземледельческого образа
жизни 190. Вот почему широкое распространение земледелия по
большей части Мезоамерики, сделавшее ее действительно единым
раннеземледельческим очагом, произошло лишь в конце III—II (во II)
тыс. до н. э. Впрочем, распространение отдельных культурных
растений наблюдалось и позже. Маис попал на гватемальское
побережье лишь во второй половине II (к кон. II) тыс. до н. э., а в горы
Западной Панамы — во второй половине I тыс. до н. э.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
313
Результаты проведенной недавно конференции по прибрежным
памятникам Мезоамерики заставляют отказаться от господствующей
недавно теории об опережающих темпах развития прибрежных
обществ по сравнению с горными в IV—II (III—И) тыс. до н. э.
Переход к полной оседлости на побережьях произошел, как и в
горах, далеко не сразу. Морские ресурсы в течение долгого времени
использовались сезонно небольшими общинами, не пренебрегавшими
и ресурсами внутренних районов. Переход к круглогодичной
оседлости и на побережьях, и в горах почти везде произошел, видимо,
одновременно и был в значительной мере связан с распространением
земледелия и совершенствованием систем обмена 191. В низменностях
Северного Белиза выращивание маиса и, возможно, клубнеплодов
началось со второй половины III (с нач. II) тыс. до н. э.
В древнейший период горное земледелие имело богарный
характер, однако и тогда люди старались устраивать небольшие огороды
у рек и озер на хорошо увлажненных почвах и использовали эффект
паводков. Паводковое земледелие в сочетании с богарой встречалось
во II тыс. до н. э. и в тропических низменностях. Ирригация и
террасное земледелие начали распространяться в горах с первой
половины II (втор. пол. II) тыс. до н. э., когда в Центральной Мексике
в фазе ахальпан появилась первая искусственная плотина. В Южной
Мексике в долине Оахаки на протяжении I тыс. до н. э. возникло
колодезное орошение, как у современных сапотеков. Тогда же в
предгорьях появились первые искусственные каналы. К концу II
(нач. I) тыс. до н. э. в горах и низменностях Гватемалы у предков
майя зародилось подсечно-огневое земледелие (система мильпа) 192.
На протяжении II тыс. до н. э. древние мезоамериканцы жили
небольшими автономными общинами по 100—300 человек, причем
в некоторых рыболовецких районах, например на побережье
Гватемалы, плотность населения была выше, чем в горах'. Базовые
поселки по 5—10 домов-полуземлянок, возникшие в горах еще в первой
половине IV (втор. пол. IV) тыс. до н. э., стали крупнее и
превратились в круглогодичные к середине III (нач. II) тыс. до н. э.
И в горах, и на побережье в этот период строились прямоугольные
глинобитные хижины на деревянном каркасе из столбов и плетенки.
В низменностях для защиты от наводнений такие дома возводились
иногда на невысоких искусственных платформах.
В первой половине I тыс. до н. э. в ряде областей Мезоамерики
наблюдался процесс развития социальной стратификации, общество
постепенно обретало предклассовый облик. Об этом свидетельствует
возведение храмовых комплексов, появление древнейших
могильников с богатыми захоронениями и т. д.193
Северная Америка. С начала голоцена на территории США
формировалось несколько ХКТ 194. Главными из них были три: 1)
собиратели и охотники внутренних районов запада и юго-запада; 2)
охотники — рыболовы — собиратели внутренних районов востока; 3)
Рыболовы и охотники на морского зверя на морских побережьях.
314 Глава четвертая
Наиболее подвижными были первые. Центр их расселения
локализовался в области Большого Бассейна (шт. Невада и Юта). В их
хозяйстве, облик которого сохранялся до недавнего времени у
некоторых шошонов, особое место принадлежало усложненному
собирательству диких растений (желудей, ягод, орехов, зерен злаков и пр.).
Хозяйство вторых формировалось на протяжении VIII—III
(VII—III) тыс. до н. э. Со временем это население становилось все
более оседлым, его количество росло, поселки делались стабильнее·
и крупнее. Этот процесс сейчас хорошо прослежен в местечке
Костер (шт. Иллинойс), где временная стоянка VIII (VII)'тыс. до н. э.
занимала примерно 0,3 га, а через три-четыре тысячи лет на ее
месте возникло более постоянное поселение площадью 2 га. На северо-
востоке в шт. Мичиган люди летом жили в базовых поселках и
занимались рыболовством и собирательством, а осенью и зимой вели
более подвижный охотничий образ жизни. То же самое
наблюдалось, по-видимому, и в других восточных районах. Этот образ жизни
сохранялся у чиппева (оджибве) до начала европейской
колонизации. Наконец, третий ХКТ, тип оседлых морских рыболовов, возник
несколько позже на п-ове Флорида, в Калифорнии, на северо-западе
Северной Америки и в ряде других мест. Во Флориде он отмечен с
IV—II (III—II) тыс. до н. э., в Калифорнии —с конца
III (с II) тыс. до н. э., на северо-западе — с I тыс. до н. э. Повсюду
с ним было связано накопление крупных раковинных куч,- которые
во Флориде и Джорджии достигали гигантских размеров (10 м в
высоту).
Если собиратели и охотники запада долго еще жили в пещерах
и легких шалашах на временных открытых стоянках, то более
оседлые охотники и рыболовы, а в особенности морские рыболовы
создавали более прочные жилища-полуземлянки, как правило, круглые.
В Калифорнии такие дома имели диаметр 4—7 м, а площадь 17—
40 кв. м.
Материальная культура рыболовов включала рыболовные
крючки, сети, копья, гарпуны, лодки-долбленки. Древнейшая керамика
появилась в III—II тыс. до н. э. в двух центрах: 1) на юго-востоке
во Флориде и Джорджии; 2) на северо-востоке в районе Великих
озер. По мнению одних авторов, эти центры были независимы, по
мнению других, северный был дериватом южного. Шлифованные
топоры и тесла, судя по их находкам в Костере, были известны с
VIII (VII) тыс. до н. э., зато лук и стрелы распространились по
основным территориям Северной Америки довольно поздно, в течение
II—I тыс. до н. э. И еще одно достижение, связанное с деятельностью
рыболовов и охотников северо-восточных районов США,— ковка
самородной меди, россыпи которой встречались у· оз. Верхнее. Изделия
из меди (копья, топоры, ножи, гарпуны, бусы и пр.) появились там
в IV—II (III—II) тыс. до н. э. Это еще не было настоящей
металлургией, ибо медь продолжали обрабатывать холодным способом»
подобно камню. Тем не менее распространение медных орудий сви-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
315
детельствует о довольно высоком уровне развития технических
знаний. Действительно, богатства природной среды восточных районов
США, Калифорнии и северо-запада Северной Америки и их умелое
использование аборигенами на определенном этапе создали
предпосылки для формирования относительно сложной общественной
структуры, дожившей в некоторых западных областях Северной
Америки до недавнего времени. Кроме того, возникшая
хозяйственная и социальная система до XIX в. н. э. препятствовала
проникновению производящего хозяйства на западе и в течение нескольких
тысячелетий тормозила его развитие на востоке. Так, богатые
природные ресурсы Калифорнии, составлявшей по площади лишь 1%
всей территории Северной Америки, предопределили высокую
концентрацию доземледельческого населения, составлявшего 10% всего
аборигенного населения Северной Америки.
Как отмечалось выше, собаки имелись у индейцев с начала
голоцена, причем уже с VIII (VII) тыс. до н. э. в восточных районах
(Костер) известны их ритуальные захоронения — традиция,
пришедшая из Азии. Однако элементы земледельческой системы стали
проникать в Северную Америку из Мексики гораздо позже, в первой
половине IV—III (втор. пол. IV—III) тыс. до н. э. К этому
времени относятся находки початков маиса в пещере Бэт на юго-востоке
США 195 и пыльцы маиса на стоянке Костер в Иллинойсе 196. А в
первой поЛовине III (втор. пол. III) тыс. до н. э. население восточных
районов США уже обладало окультуренными тыквами 197. Местная
доместикация подсолнечника и бузины на рубеже И—I тыс. до н. э.
в восточных районах США свидетельствует о том, что земледелие
уже заняло прочное место в первобытном хозяйстве.
И тем не менее на большей части территории США вплоть до
второй половины I тыс. до н. э. встречается настолько мало данных о
первобытном земледелии, что есть все основания считать его до
этого времени подсобным занятием населения, получавшего основные
продукты рыболовством, охотой и собирательством198. Считается, что
именно на этой основе на востоке США со второй половины II
(кон. II) тыс. до н. э. распространился обычай возведения сложных
культовых сооружений — площадок, окруженных валами, и
погребальных курганов, отражающий процесс сложения
стратифицированного предклассового общества. Создатели этих культур (вначале
адена, потом хоупвелл) продолжали в течение нескольких столетий
Жить отдельными хуторами и небольшими поселками площадью
0,2—0,8 га, состоявшими из 2—5 круглых жилищ столбовой
конструкции диаметром до 10 м. Лишь в первой половине I тыс. н. э. в
связи с развитием земледелия и ростом населения площадь
поселков увеличилась до 1—3 га. Впрочем, в долине р. Иллинойс
крупные оседлые поселки возникли еще в конце I тыс. до н. э.
Образ жизни этого населения можно представить себе на
примере некоторых индейцев северо-востока США (майями, оттава,
некоторые чиппева). Летом, а в ряде случаев также весной и осенью.
316
Глава четвертая
они жили оседло в крупных поселках, занимаясь земледелием,
рыболовством и собирательством. Для охоты и рыболовства мужчины
могли время от времени покидать поселок и отправляться на
промысел. Зимой все население поселка или же только мужчины
могли надолго уходить на охоту. Иногда устраивались крупные
коллективные загонные охоты, в которых участвовало все население
поселка.
На юго-западе США у потомков бродячих собирателей и
охотников становление земледельческого образа жизни происходило иначе.
В течение двух-трех тысячелетий с момента своего появления здесь
земледелие, основанное на разведении маиса, ограничивалось узким
районом на границе Аризоны и Нью-Мексико, где лесистые горные
долины создавали природную обстановку, сходную с мексиканской.
Во второй половине I тыс. до н. э. наряду с маисом местное
население разводило фасоль, тыквы, горлянку, подсолнечник и
занималось собирательством разнообразных диких растений. В четвертой
четверти I тыс. до н. э. земледельческий образ жизни быстро
распространился по остальной части территории штатов Аризона и
Нью-Мексико благодаря носителям главным образом трех культур:
1) могольон в горах и горных долинах юго-востока; 2) хохокам в
пустынях и полупустынях юго-запада; 3) анасази на северном
плато. Носители культуры анасази стали непосредственными
предками современных индейцев-пуэбло, а хохокам — пима и папаго.
Культура могольон сыграла определенную роль в этногенезе западных
групп индейцев-пуэбло.
Для культур могольон и анасази в I тыс. н. э. было
характерно богарное земледелие, а носители культуры хохокам, жившие в
аридных условиях, с самого начала строили оросительные
сооружения. В первой половине II тыс. н. э. их ирригационные каналы
достигали уже грандиозных размеров. Тогда же ирригация
возникла у культуры анасази. Основным земледельческим орудием
повсюду оставалась палка-копалка, а для обработки растительной пищи
применялись зернотерки и куранты (метате и манос). Земледельцы
юго-запада на протяжение I тыс. н. э. вывели несколько новых
разновидностей маиса, хорошо приспособленных к местным природным
условиям.
Этот тип земледелия был временно воспринят охотниками и
собирателями штата Юта (культура фремонт) во второй половине
I тыс. н. э,, однако с ухудшением природной обстановки в начале
II тыс. н. э. многие из них отказались от него. Лишь у южных паюте
уходящее корнями к этим временам ирригационное земледелие
сохранялось до начала европейской колонизации.
Земледельцы юго-запада жили первоначально в хуторах и
небольших поселках по 1—4 (редко до 20) жилища. На первых порах
эти жилища представляли собой круглые или овальные
полуземлянки диаметром от 2 до 10 м. Их глинобитные стены держались на
деревянном каркасе из столбов и плетенки. Лишь в культуре хохо-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
317
кам уже в ранний период встречались изредка и прямоугольные
дома. Впоследствии развитие наземных прямоугольных домов из
сырцовых кирпичей и камня на деревянном каркасе стало здесь общей
тенденцией. Особеннр отчетливо она проявилась в культуре анасази
в середине I тыс. н. э., когда возникли сначала группы тесно
примыкавших друг к другу домов, а потом и огромные жилые массивы,
состоявшие из нескольких десятков комнат, жилых и хозяйственных.
Каждый такой блок являлся жилищем родовой общины, к
каждому примыкало средоточие ее церемониальной жизни — ритуальная
круглая полуземлянка (кива). В начале II тыс. н. э. в каньоне Чако>
такие поселки, например Пуэбло-Бонито, достигали площади 1 га
и более. В это время под влиянием анасази они возникли и в
культуре могольон.
Иной была эволюция домостроительства культуры хохокам. Там
крупные полуземлянки раннего периода со временем сменились
маленькими жилищами, что часто интерпретируется как отражение
процесса дробления больших семей. Возможно, это действительно
так и было, ибо вполне соответствует отмечавшемуся здесь со
второй половины I тыс. н. э. становлению классового общества.
Последнее стало возможным на основе развитого ирригационного
земледелия. Внешним толчком могло до некоторой степени послужить и ме-
зоамериканское влияние, благодаря которому здесь начали строить
земляные пирамиды, появились характерные медные колокольчики
и ритуальная игра в мяч. Один из поселков второй половины·
I тыс. н. э. (Гу Ачи) достигал огромных для своего времени
размеров — 100 га.
По мнению некоторых специалистов, в начале II тыс. н. э. в
ареале культуры анасази также начали возникать предклассовые
структуры. Однако процесс этот не был прямолинейным, и у индейцев-
пуэбло, так же как у пима и папаго, этнографам не удалось
обнаружить сколько-нибудь развитой социальной стратификации, хотя
отдельные ее черты у них (особенно у восточных пуэбло) безусловно*
отмечались.
На северо-западном побережье Северной Америки и в
Калифорнии показатели социальной стратификации отмечены в местных до-
земледельческих обществах на протяжении I тыс. н. э. Об этом
свидетельствуют крупные могильники, содержащие сильно
различающиеся по инвентарю захоронения, а также некоторые предметы,
связанные с престижным богатством. В Калифорнии подобного рода
сложные социальные системы были изучены этнографами у индей-
цев-чумаш, а на северо-западе — у цимшиян, тлинкитов, хайда, нут-
ка, сэлишей и др. Еще более развитое стратифицированное общество»
отмечалось в период европейской колонизации у калуса, оседлых
рыболовов Южной Флориды.
Напротив, большая часть рыболовов — охотников — собирателей
Субарктики (основная масса атапасков и некоторые алгонкины)
вплоть до европейской колонизации оставалась на уровне раннего-
318
Глава четвертая
общинно-родового строя. Лишь некоторые из южных алгонкинов
(чиппева, оттава и др.)» перешедшие к оседлорыболовческому
образу жизни, а кое-где и к земледелию, развили более сложные формы
социальной организации.
Особая линия развития — интенсивная охота на морского зверя
в суровых условиях высоких широт — наблюдалась в Арктике, где
с IV—II (III—II) тыс. до н. э. ведут начало эскимосские и
алеутские культурные традиции. Издавна эти охотники вели промысел
тюленей и китов, используя свою добычу не только для пропитания,
но и для самых различных потребностей, в частности для
строительства домов. Последние первоначально представляли собой
небольшие круглые и квадратные полуземлянки со стенами из камня,
дерева и китовой кости. В I тыс. до н. э. дома обрели в основном
прямоугольную форму и уже лишь ненамного заглублялись в землю. С
этого времени размеры поселков возросли (до нескольких десятков
домов).
Южная Америка. В тот период, когда у горных охотников и
собирателей Анд кое-где начало зарождаться земледелие, на морских
побережьях Южной Америки население все чаще и чаще
использовало морские ресурсы. Развивалось собирательство моллюсков,
появилось рыболовство, а еще позже возникла охота на морского
зверя 199. Древнейшие раковинные кучи на территориях Перу, Чили,
Южной Бразилии, Эквадора дошли до нас с VII—V (VI—V) тыс.
до н. э. Развитие этих культур, ориентировавшихся на морские
ресурсы, лучше всего прослежено на перуанском побережье.
В VII—V (VI—V) тыс. до н. э. местное население вело
многоресурсное хозяйство. В сезон дождей люди обитали во внутренних
районах, в так называемых «ломас», где источником воды служила
конденсированная атмосферная влага, а в сухие сезоны — на
побережье в устьях рек. В некоторых районах, например в долинах Лу-
рин и Чилька, отличавшихся высокой концентрацией
разнообразных ресурсов, уже в этот ранний период возникли постоянные
поселки, состоявшие из нескольких овальных полуземлянок. Во
многих других местах население еще долго вело правильный сезонно-
подвижный образ жизни. Во второй половине V—IV (IV — пер. пол.
III) тыс. до н. э. повсюду отмечалась устойчивая тенденция к
оседлости на базе высокопродуктивного рыболовческого хозяйства и
охоты на морского зверя (морских львов, тюленей, китов). В этот
период поселки занимали 1500—6000 кв. м и состояли из
прямоугольных или круглых домов с каменными или кирпичными стенами.
Дома имели иногда по две комнаты. Наряду с маленькими
полуземлянками в поселках появились и более крупные дома общественного
назначения. Разнообразные поселки VI—III (V—III) тыс. до н. э.
известны и в «ломас» Чаще всего в них встречалось от 3—5 до 20
домов, но иногда (Полома) образовывались и гораздо более крупные
общины (до 100 домов). Дома были круглыми, небольшими
(диаметром 2,5 м), столбовой конструкции.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
319
Качественно новый период в истории побережья начался с
рубежа IV—III (сер. III) тыс. до н. э., когда наряду с маленькими
общинами в 50—100 человек появились и крупные, насчитывающие
500—1Q00 и более человек. Последние зафиксированы, например, в
Асперо (13 га) и Асии (30 га). Поселок Асия состоял из нескольких
домов диаметром 15—25 м и площадью 200—450 кв. м. В этот период
наряду с прежними полуземлянками появились и наземные дома из
камня, сырцовых кирпичей или плетенки, обмазанной глиной.
Наметился переход от круглых и овальных жилищ к прямоугольным.
Встречались и жилища на искусственных глиняных платформах.
Все это вместе с обнаружением сложных церемониальных построек
и крупных могильников со следами имущественного расслоения
позволяет предполагать определенный уровень социальной
стратификации. По мнению некоторых специалистов, наиболее крупные
общины III тыс. до н. э. уже могли считаться вождествами.
Многие исследователи считают, что на перуанском побережье
социальная стратификация возникла не столько на основе земледелия,
сколько на основе рыболовства и развитого морского промысла.
Первые виды культурных растений (фасоль, тыквы) изредка начали
встречаться на побережье в IV (втор. пол. IV — пер. пол. III) тыс.
до н. э. В первой половине III (втор. пол. III) тыс до н. э. их набор
стал значительно разнообразнее: появились хлопчатник, новые
виды фасоли, лукума, а к концу этого периода — батат, ачира и, наконец*
маис. При этом общий характер многих прибрежных поселков,
обязанных своим местоположением прежде всего морской
хозяйственной ориентации, а также особенности их материальной культуры
(многочисленные находки сетей, грузил, поплавков, рыболовных
крючков и пр. и пищевых остатков — разнообразные виды рыб,
моллюсков, морских млекопитающих) как будто бы свидетельствуют о
господстве присваивающего хозяйства, которое и определяло образ*
жизни прибрежных жителей. Лишь в некоторых прибрежных
поселках первой половины III (втор. пол. III) тыс. до н. э., например в
Лос Гавиланес, разведение маиса играло относительно большую
роль. И все же, судя по некоторым расчетам200, наиболее крупные
прибрежные центры не могли существовать на основе одного лишь
приморского хозяйства и их расцвет во второй половине III
(конец III) тыс. до н. э. до известной степени был связан с
разведением маиса.
Считается, что земледельческий образ жизни окончательно
победил на побережье лишь во второй половине III (нач. II) тыс. до
Н· э., когда здесь распространились относительно крупные
разновидности маиса (длина початков от 2,5 до 9,4 см) и появились
различные системы орошения (лиманное, ирригационное и др.). Характер
поселков и, видимо, социальной структуры с переходом к
развитому земледелию изменялся лишь постепенно. Во II тыс. до н. э.
наблюдалось развитие тех традиций, которые уже сложились в
обществе рыболовов к середине III (к нач. II) тыс. до н. э. Появились
320
Глава четвертая
значительные по размерам поселки (Чукитанте, 50 га) с
населением в 3—4 тыс. человек201.
Земледелие проникло на перуанское побережье из области
Центральных Анд, где оно стало важным видом многоресурсного
хозяйства уже к середине IV (к нач. III) тыс. до н. э. В это время у
горцев кое-где уже имелись одомашненные морские свинки, шел
процесс доместикации гуанако. Сезонный подвижный образ жизни все
еще сохранялся, но некоторые поселки отличались особенно
крупными размерами. Основные сельскохозяйственные растения были
представлены во второй половине V—IV (в IV) тыс. до н. э.
несколькими видами фасоли и тыквы, перцем, маисом, некоторыми
клубнеплодами, (картрфель, ульюко, хикама) и рядом других. В III (втор,
пол. III — нач. II) тыс. до н. э. земледельческий образ жизни
окончательно победил в отдельных горных районах, где возникли
круглогодичные поселки с развитым домостроительством. В этот период
дома уже стали по большей части наземными, хотя и сохранили
круглую форму. Кое-где появились святилища. Котос, например, уже к
середине III (к концу III) тыс. до н. э. представлял собой крупное
поселение с церемониальными постройками, а со второй половины
III (во II) тыс. до н. э. там зафиксировано строительство пирамид
или ступенчатых платформ. Совершенствовалась и земледельческая
техника: к началу II (ко втор. четв. II) тыс. до н. э. в некоторых
местах возникла примитивная ирригация, в частности, в виде
террасного земледелия. К этому времени в горах появилось прядение
на примитивном ткацком станке и зародилось гончарство. На
побережье керамика также была известна с 2000 (1700) г. до н. э.202
Судя по недавним исследованиям в Эквадоре, дихотомия
побережье — горы наблюдалась и там, а тенденции развития там в целом
напоминали перуанскую картину203. Во второй половине IV (к
концу IV) тыс. до н. э. побережье Эквадора было занято культурой
вальдивия, включавшей небольшие общины рыболовов, живших в
маленьких шалашевидных домах. Это население уже владело
гончарным искусством, древнейшим на территории Америки.
Предполагается, что корни культуры вальдивия лежали в горах. При
наличии у ее носителей многоресурсного хозяйства на побережье у них
преобладали рыболовство и морской промысел, а во внутренних
районах — охота, собирательство и, возможно, земледелие, включавшее
^разведение маиса, тыквы-горлянки, ачиры, хлопчатника и т. д. Во
второй половине III (в нач. II) тыс. до н. э. земледельцы уже строили
дамбы, осуществляя таким образом некоторый контроль за водой.
Земледелие могло стать одной из предпосылок формирования к
концу III (пер. пол. II) тыс. до н. э. довольно крупных поселков, как,
например, Риал Альто, занимавший 12 га. В Риал Альто строились
♦овальные наземные жилища столбовой конструкции площадью до
100 кв. м. Предполагается, что там было от 50 до 100 таких домов,
φ которых размещалось 1500—3000 человек. Обнаружены как будто
«бы и крупные общественные здания, стоявшие в центре поселка. Ис-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
321
следователи находят в культуре вальдивия истоки многих форм
материальной и духовной культуры, характерных для индейцев
тропических районов Южной Америки (бороро, уитото, группы же и др.)·
Если в культуре вальдивия действительно имелось развитое
земледелие (а этот факт, по мнению некоторых ученых, не является
окончательно установленным), то это заставляет предполагать
существование более раннего земледельческого центра в горах
Эквадора и Колумбии. Возможно, обнаружится еще один микроочаг,
подобный центральноандийскому.
На побережье Колумбии и Венесуэлы сдвиг к использованию
морских ресурсов наметился в VI (V) тыс. до н. э., а еще через две
тысячи лет здесь появились многочисленные сезонные стоянки
рыболовов, обитавших в легких тростниковых хижинах. На месте этих
стоянок со временем накапливались крупные раковинные кучи.
Одна из них в Пуэрто Хормига была диаметром 80 м и площадью в
5000 кв. м. Местные жители в больших количествах ловили рыбу,
собирали моллюсков и охотились на крокодилов, черепах, птиц и т. д.
Керамическое производство возникло здесь к середине IV (кон. IV)
тыс. до н. э. В первой половине II (ко втор. пол. II) тыс. до н. э.
рыболовы освоили уже не только побережье, но и соседние
острова204.
Исходя из того, что рыболовы занимались интенсивным
собирательством растепий, некоторые авторы (Г. Рейчель-Долматов) их-то
и считают «первооткрывателями» местного земледелия. По мнению
других специалистов, земледельцы пришли на побережье из
Центральной Амазонии (Д. Лэтрап) или с запада и юго-запада, из
Колумбии и Эквадора (Ф. Ольсен). Как бы то ни было, разведение
горького маниока возникло в Колумбии и Западной Венесуэле не
позднее первой половины II (II) тыс. до н. э., так как во второй
половине II (на рубеже II—I) тыс. до н. э. остатки "его культурной
разновидности уже фиксировались на перуанском побережье. Кроме
того, во второй половине III /кон. III) тыс. до н. э. в поселках на
среднем Ориноко появились керамические противни, служившие для
приготовления лепешек и муки из маниока. В третьей четверти II
(с кон. II) тыс. до н. э. они уже имелись на побережье Колумбии и
Западной Венесуэлы, на протяжении I тыс. до н. э.
распространились в Восточной Венесуэле, к середине I тыс. до н. э. были
известны в верховьях Амазонки, а к концу I тыс. до н. э. — на р.Укаяли
и на Антильских о-вах. Некоторые авторы считают, что эти
противни были нужны не столько для обработки маниока вообще, сколько
Для приготовления из него особого вида муки (фарина). Если это
так, то их появление могло свидетельствовать об относительно
высокой стадии культивации маниока.
В начале I тыс. до н. э. на памятниках Колумбии и Западной
Венесуэлы противни исчезли, зато появились многочисленные
зернотерки и куранты (метате и манос). А во второй четверти I тыс. до
н. э. на среднем Ориноко уже бесспорно возделывали маис. Некото-
1' История первобытного общества
322
Глава четвертая
рые исследователи интерпретируют это как смену маниокового
земледелия маисовым. Видимо, картина здесь была сложнее, так как
араваки, например, применяли зернотерки и куранты для
растирания не только маиса, но и мяса, и овощей, а обработка маниока не
обязательно требовала использования противней. Кроме того,
разведение маиса и маниока вполне возможно в рамках единого
хозяйственного комплекса. Некоторые араваки, например, выращивали
на новом участке в первый год маис и фасоль, а во второй — маниок
и бананы. Другое дело, что низменности Восточной Венесуэлы,
Гвианы, Суринама и Антильских островов больше подходили для
культивации маниока, а возвышенности и предгорья Колумбии и
Западной Венесуэлы — для маисового комплекса. Однако судя по
этнографическим данным, местное индейское население не придерживалось
строго этого экологического разграничения. В начале XVII в. на
побережье Гвианы индейцы, например, выращивали и маис, и маниок,
причем урожаи маиса достигали внушительной цифры (сам-1000,
сам-1500). К сожалению, имеющиеся археологические данные не
позволяют полностью воссоздать облик местных древних
земледельческих комплексов.
По-видимому, первоначально индейцы выращивали культурные
растения па небольших придомных участках, которые до недавнего
времени сохраняли большое значение в их земледельческой системе.
Земледелие имело богарный или лиманный характер. Основным
орудием была палка-копалка. Позже с ростом населения началась
колонизация новых земель. Тогда-то в лесных районах и возникло под-
сечно-огневое земледелие и связанные с ним чакрас — участки,
освобожденные из-под растительности и временно превращенные
ранними земледельцами в поля 205.
Иной характер имели изменения земледельческого комплекса в
пойменных долинах, где применению прежней техники мешали
сильные паводки и тяжелые почвы. По мнению А. Зукки, в этих
условиях больше подходил маис, имеющий короткий срок созревания.
Позже, когда люди научились разбивать огороды на искусственных
насыпях, появилась возможность для нового широкого распространения
маниока. Такие искусственные поля возникли во второй половине
I тыс. н. э. на севере Колумбии, в прибрежной зоне Суринама, на
востоке Боливии, в Западном Эквадоре , наконец, на о. Маражо в устье
Амазонки206. Эти сооружения были в особенности характерны для
араваков. Они требовали высокого уровня организации общества, и
не случайно древние испанские хроники сообщают о сложных
общественных структурах у араваков севера Южной Америки и
Антильских островов. Некоторые специалисты предполагают, что и
ранние волны культиваторов маниока (культуры барранкос и саладеро)
в I тыс. до н. э. тоже были связаны с расселением араваков.
Еще один древнеземледельческий центр, возникший в докерами-
ческий период, располагался в Северо-западной Аргентине.
Предполагается, что именно там были введены в культуру ачира, ахи, ара-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
323
хис, фасоль-канавалия и некоторые другие растения. К сожалению,
этот район изучен еще весьма слабо. Известно лишь, что еще в
VII (VI) тыс. до н. э.· местное население занималось интенсивным
собирательством съедобных растений. Наиболее ранние находки
керамики и следов земледелия здесь восходят к I тыс. до н. э. Люди
жили в небольших поселках, состоявших из 2—5 круглых каменных
наземных домов или землянок. Во второй половине I тыс. до н. э.
в этом районе появились террасные поля, стали возводиться
курганы и церемониальные платформы, свидетельствующие о развитии
социальной стратификации.
К чилийским прибрежным рыболовам земледелие проникло на
рубеже нашей эры. Последние волны расселявшихся земледельцев
прокатились по южному и восточному побережью Бразилии и
захватили районы р. Параны во второй половине I — начале II тыс. до
н. э. Они были связаны с тупигуарани, культура которых
сформировалась в Западной Паране.
6. Хозяйство и материальная культура
ранних земледельцев-скотоводов
и высших охотников-рыболовов-собирателей
(Общие итоги)
Общества, относящиеся к ХКТ ранних земледельцев и
скотоводов, до недавнего времени сохранялись на Новой Гвинее и в
отдельных районах Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Африки и
Америки. Общества высших охотников, рыболовов и собирателей описаны
этнографами в Калифорнии, в некоторых районах Новой Гвинеи, в
низовьях Амура и на Оби, бассейне Конго и низовьях Нигера в
Африке. К ним же относились отдельные группы прибрежных
эскимосов, ительмены Камчатки до XVIII в. и т. д. Соответствующие
этнографические материалы, в особенности те, которые можно
рассмотреть в динамике, позволяют проверить, уточнить и глубже понять
выявленные по археологическим данным закономерности развития
хозяйства и материальной культуры первобытного общества и
особенности расселения древних людей. Кроме того, они позволяют
рассмотреть материальную культуру первобытности в социальном
контексте, осветив ряд интереснейших проблем, до сих пор мало
изученных археологически.
В разных местах земледелие возникло в разной природной и со-
цио-культурной обстановке и имело дело с разными видами
растений. Не удивительно, что первичные системы земледелия могли
отличаться друг от друга. В некоторых местах древнейшее земледелие
могло иметь богарный характер, т. е. посевы производились
накануне дождей. Иногда для повышения плодородия почвы траву и
кустарники на таких участках предварительно поджигали, что
свойственно паловому земледелию207. В других районах люди начали
11*
324
Глава четвертая
сажать растения во влажные почвы, расположенные поблизости от
естественных водоемов (болот, озер и пр.). На этой основе возникло
саево-ручьевое, или лиманное, земледелие, которое впоследствии
привело к развитию целенаправленных ирригационных работ208..
Как говорят археологические данные, посадка растений во
влажные болотистые почвы была широко распространена во многих
первичных земледельческих очагах. Она производилась в древней
Передней Азии, например в Али-Коше и Телль-Асуаде. Не
исключено, кстати, что и приуроченность натуфийских поселков Палестины
к болотистой местности209 была связана с зарождением
культивации растений. Древнейшие земледельческие системы в Африке
также возникли на хорошо обводненных участках и до определенной
степени были связаны с лиманным орошением210. В аналогичных
условиях, по мнению многих специалистов, в Южной и Юго-Восточной
Азии производились древнейшие посадки влаголюбивого риса,
суходольные сорта которого были выведены позже211. Население
Северного Китая, заимствовавшее рис с юга в позднем неолите,
выращивало его первоначально в болотистой местности. Наконец,
становление земледелия в Мезоамерике тоже было связано с обработкой
влажных почв и некоторым контролем за водой212. Таким образом,
все фактические материалы заставляют отвергнуть гипотезу о том,
что древнейшей земледельческой системой была подсечно-огневая.
Гораздо правдоподобнее звучит предположение С. А. Семенова, по
которому подсечно-огневое земледелие развилось из палового. Это,
несомненно, происходило при распространении земледелия из
первичных очагов доместикации растений в окружающие лесистые
области 213.
Другой особенностью первичного земледелия были характерные
для него смешанные посевы. Небольшие придомные огороды,
плотно засаженные самыми разнообразными растениями (зерповыми,
зернобобовыми, клубнеплодами и пр.), до недавнего прошлого были
широко известны у многих народов тропического пояса в Африке,
Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Америке214. Этот способ
сева имел целый ряд преимуществ: он положительно влиял на
почву, повышая ее плодородие, позволял максимально использовать
земельную площадь, допускал активную интродукцию новых растений
и эксперименты с ними, гарантировал постоянный урожай, мало
уязвимый от капризов погоды. Такие огороды отличались большой
стабильностью и могли использоваться относительно долго. Однако они
имели и существенный недостаток: будучи невелики по размерам,
они не могли обеспечить основные потребности населения в
питании. Урожай с них служил лишь подсобным целям. Так, сорко
Африки, шаванты Бразилии и маринданим Новой Гвинеи проводили на
огородах лишь по несколько недель в году, выращивая здесь
растения для церемониальных целей. Остальное время года они вели
бродячий или полуоседлый образ жизни, добывая основную пищу
охотой, рыболовством и собирательством.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
325
Впоследствии с возрастанием роли земледельческой продукции
наряду с придомными огородами возникла система более крупных
долей, где выращивались только основные сельскохозяйственные
культуры. В Амазонии такие поля получили название «чакра» и
были связаны уже с подсечно-огневой системой. Они давали урожай,
гораздо больший, чем иридомные огороды, однако истощались
гораздо скорее (через 3—4 года), что требовало освоения все новых и
новых земельных участков. Судя по этнографическим материалам
из Юго-Восточной Азии, на таких полях также иногда
практиковали смешанные посевы215. В горах Новой Гвинеи до появления
батата преобладали смешанные посадки таро, банана, сахарного
тростника и т. д., а после его введения, когда батат стал основной пищей
горных папуасов, в ряде областей получили преобладание
монокультурные поля, засеянные бататом. На ту же линию эволюции
указывают древнейшие палеоботанические находки из Передней Азии и
Европы. Так, недавние исследования в Сииджарской долине
показали, что в VII (VI) тыс. до н. э. там производились смешанные
посевы разных видов ишеницы и ячменя л лишь в VI—V (V) тыс. до
н. э. возникли их раздельные посадки на особых полях216. Таким
образом, тенденцию к раздельным посадкам следует связывать с
совершенствованием методов земледелия на определенной стадии его
развития.
В то же время и после распространения монокультурных посадок
огороды со смешанным набором растений долго еще сохраняли
важное значение. Например, у энга Новой Гвинеи монокультурные поля
снабжали* население основной массой растительной пищи, а огороды
со смешанными посадками служили престижно-ритуальным целям
и располагались рядом с мужскими домами217.
До тех пор пока плотность населения была невелика, а
свободных земель было относительно много, земледелие имело
экстенсивный характер и не наблюдалось сколько-нибудь серьезных попыток
искусственно повышать плодородие почвы, продлевая тем самым
срок использования поля. В этих условиях поля забрасывались на
длительное время (до 10 и более лет). Однако с возрастанием
оседлости и увеличением плотности населения сроки залежи все более
сокращались. Это потребовало совершенствования техники
земледелия и искусственного повышения плодородия почв. Некоторые
авторы полагают, что именно в этих условиях в отдельных местах
мотыга заменила палку-копалку, а еще позже сменилась более
эффективным плугом218. В других областях совершенствование
земледельческой техники могло принять иные формы. В горах Новой
Гвинеи, например, формирование системы постоянных полей
сопровождалось возведением специальных грядок, развитием дренажных
сооружений и пр., при том что палка-копалка сохранила роль главного
земледельческого орудия.
Различные системы земледелия, таким образом, требовали
разного набора орудий и технических приспособлений. Для зернового
326
Глава четвертая
и зернобобового земледелия были характерны палки-копалки,
мотыги, лопаты и топоры-тесла, для обработки зерна — каменные
зернотерки и куранты, песты и ступки, а для сбора урожая — жатвенные
ножи и позже — серпы. Последние изготовлялись на большей части
западной половины Старого Света с помощью вкладышевой техники,
а в восточной его половине (Восточная и Юго-Восточная Азия)
были представлены цельными орудиями сегментовидной или
трапециевидной формы. Впрочем, первоначально урожай собирали руками
без помощи искусственных орудий, по археологическим данным это
известно, например, у ранненеолитических обитателей Молдавии
(пос. Сороки), а по этнографическим — у ламет Лаоса. Зерновому
земледелию повсюду сопутствовали приспособления для хранения
зерна: ямы-хранилища или же наземные амбары разных типов.
Орудийный набор, связанный с культивацией клубнеплодов,
отличался большей бедностью. Например, папуасы использовали для
этого каменные топоры, тесла и ножи, деревянные палки-копалки и
кое-где лопаты и очень редко — мотыги с наконечниками из дерева
или из раковин219. Каких-либо специальных орудий для обработки
растений у них не было. У горных папуасов почти нигде не было и
средств для длительного хранения пищевых запасов. Они
вырывали созревшие клубни каждый день по мере надобности в
количестве, необходимом для дневного пропитания. Зато прибрежные
папуасы умели хранить ямс в хижинах в течение нескольких месяцев.
В тех районах, где использование культурных растений
предполагало предварительное удаление из них токсичных веществ, как
в случае с горьким маниоком у индейцев Южной Америки, был
выработан своеобразный комплекс орудий для обработки растительной
пищи. В северных районах Южной Америки в него входили
деревянные терки, оснащенные каменными или растительными
остриями, рукава или циновки, сделанные из растительных волокон, и
керамические противни, а в прошлом — заменявшие их каменные
плитки. Все это было необходимо Для обезвреживания маниока и
изготовления из него лепешек и муки (фарина). В виде муки и
лепешек маниок можно было долго хранить, брать с собой в путешествие
и обменивать 220.
Скотоводство получило распространение в более узком регионе,
чем земледелие, и на первых порах было тесно с ним связано. Для
раннего скотоводства было характерно содержание небольшого
количества в основном мелких животных (козы, овцы, свиньи, морские
свинки), но в некоторых регионах этот комплекс дополнялся и более
крупными видами (крупный рогатый скот, гаял, балийский скот,
буйвол, лама, альпака). На первых порах уход за скотом сводился
к минимуму, и скот в основном находился на вольном выпасе. Позже
с увеличением плотности полей и ростом размеров стада возникла
необходимость охраны полей от домашних животных. Для этого, с
одной стороны, стал осуществляться более постоянный надзор за
полями, в некоторых случаях земледельческие участки начали окру-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 327
жать изгородями. С другой стороны, возникли специальные загоны
для скота, определенные земельные участки стали отводить под
пастбища, а скот попал под надзор специальных пастухов, которыми
чаще всего служили подростки и юноши. Отдельные мелкие
домашние животные на. первых порах ночевали, как правило, в жилых
домах, где для них отгораживались специальные отсеки. Стойла
возникли гораздо позже221.
Наряду с земледелием и скотоводством относительно большое
значение продолжали сохранять охота, рыболовство и
собирательство. Так как домашних животных вначале было мало и специально
на мясо их почти не убивали, главными источниками белковой
пищи во многих районах служили охота и рыболовство. Последние
играли особенно высокую роль там, где скотоводства вовсе не было,
например, в низменностях Южной Америки. Однако с развитием
земледелия, которое отнимало много времени и энергии, охота
производилась все реже и реже, хотя потребность в мясе не только не
уменьшилась, но напротив, возросла в связи с общим ростом
населения. В этой обстановке усилилось значение мяса как
церемониально-ритуальной пищи. Возникла необходимость в
совершенствовании охотничьего оружия и методов и организации охоты. Для
раннеземледельческих обществ стали характерными коллективные
периодические охоты, устраивавшиеся для обеспечения мясом
праздников или важных ритуалов.
Сходная картина наблюдалась и в рыболовстве с той лишь
разницей, что рыболовство более соответствовало земледельческому
образу жизни, также способствуя оседлости. Поэтому в благоприятных
для рыболовства районах оно несколько потеснило охоту как более
эффективный способ получения белковой пищи.
Собирательство также служило важным дополнением к
земледелию, а в случае неурожая и голода было способно даже временно
заменить его, что не раз отмечалось многими этнографами. Одним
из важных направлений собирательства была добыча меда диких
пчел, широко известная у ранних земледельцев Америки, Африки
и некоторых других областей. В -отдельных случаях на этой
основе возникло примитивное пчеловодство. Оно до сих пор встречается
у некоторых народов Африки (например, у маджангир), которые
изготовляют деревянные улья и подвешивают их на деревьях.
Наряду с целым рядом культурных растений {ячмень, просо, рис,
маниок и др.) мед играл большую роль в производстве увеселительных
напитков, применявшихся для социально-престижных целей у
многих народов мира.
Уровень жизни развитых охотников — рыболовов — собирателей
также существенно отличался от той картины, которая была
свойственна низшим охотникам и собирателям. Главными достижениями
первых являлись более эффективные методы охоты и рыболовства,
создание для них более совершенных орудий и применение
разнообразных способов хранения пищевых запасов. Для добычи рыбы ис-
328
Глава четвертая
пользовались такие методы, как лучение с лодок или далеко
выдвинутых в воду специальных помостов, загоны больших косяков в
специальные запруды, глушение рыбы с помощью растительных ядов.
На морских побережьях рыбу часто ловили сетями или гарпунили с
лодок. Довольно широко были распространены и удочки с самыми
разнообразными крючками. Охота на морского зверя (моржей,
тюленей и особенно китов) отличалась еще большей сложностью и
требовала особых навыков.
Для сухопутной охоты также применялись многочисленные
хитроумные сооружения и приспособления: ловушки, капканы, силки,
сети, загоны и т. д. Во многих местах для загонных охот строились
специальные изгороди из прутьев или камней, а сама охота часто
проводилась с использованием огня. Так, паюте гнали антилоп на
специальную площадку, окруженную забором или кучей камней, а
потом ее поджигали. Некоторые калифорнийцы производили такие
охоты осенью, поджигая обширные пространства степей и загоняя
животных во влажную местность, где их поджидали притаившиеся
охотники. В других местах (у папуасов, лопарей и т. д.) с помощью
изгородей люди направляли обезумевших животных в
ямы-ловушки или реки и озера, где их и добивали.
Развитие плетения позволило изготовлять разнообразные сети
и силки, с помощью которых люди успешно охотились на птиц.
Полученные этими эффективными способами излишки мяса и
рыбы заготавливались впрок. Их сушили, коптили, вялили и
хранили в специальных ямах, каменных цистах или на помостах. Дикие
растения обрабатывались самыми разнообразными способами и
частично также предназначались для хранения. Так, паюте и
калифорнийцы делали лепешки из зерен и желудей, сушили ягоды, а
коренья и сосновые орешки запаковывали в кожаные мешки и
держали в больших ямах в зимних поселках. У некоторых калифорнийцев
для желудей имелись особые деревянные амбары, мало чем
отличавшиеся от аналогичных сооружений, известных у земледельцев.
Универсальным видом транспорта в неолите являлись лодки,
наиболее важными транспортными артериями служили водные
пути. В северных районах кое-где возник и санный транспорт, а
местами для передвижения люди использовали лыжи. Сани и
волокуши первоначально передвигались силами самих людей, и, видимо,
лишь в позднем неолите для этого начали применять домашних
животных.
Изменения в образе жизни нашли яркое отражение в характере,
домостроительства. За отдельными исключениями, здесь отмечались
следующие почти универсальные тенденции: 1) переход от
охотничьих наземных шалашей к более прочным и долговременным
землянкам и полуземлянкам, а от них —к наземным домам (впрочем,
среднее звено этой цепи в некоторых районах отсутствовало); 2)
изменение формы жилища от округлой к квадратной или
прямоугольной; 3) постепенное разрастание одпокамерных домов и превраще-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 329
ние их в многокамерные. Первая тенденция была прямо порождена
процессом оседания, т. е. укреплением связей с более узкой, чем
раньше, территорией. Раннеземледельческий образ жизни
основывался на сезонном хозяйственном цикле, который, как π прежде, часто
требовал перехода с места на место. Однако бродячие охотники и
собиратели не возвращались на одно и то же место с той же
регулярностью, как ранние земледельцы. Поэтому-у первых далеко не
всегда встречались базовые поселки. Напротив, для ранних
земледельцев и высших охотников — рыболовов — собирателей наличие
базовых поселков стало закономерностью, хотя первоначально эти
поселки и не являлись круглогодичными. Сюда люди возвращались
регулярно в определенные сезоны года, для чего им и требовались
более прочные и долговременные дома, чем легкие хижины,
охотников. Такими домами и служили чаще всего землянки и
полуземлянки, но в отдельных случаях эти дома были представлены уже
наземными конструкциями.
Классическим примером базового поселка может служить
поселок шавантов.
Сходные сезонные передвижения отмечались и у высших
охотников-рыболовов-собирателей. Например, прибрежные эскимосы зимой
охотились на тюленей и жили в крупных общинных поселках,
состоявших из прочных полуземлянок. Зато летом община распадалась
на мелкие группы, которые уходили во внутренние районы, где
жили в легких хижинах из шкур и занимались сухопутной охотой.
Распространение прочных наземных домов, как правило,
означало еще большую степень оседлости, возникновение круглогодичных
поселков. В этом случае по крайней мере часть общины (женщины,
дети, старики) жила в поселке постоянно в течение всего года, хотя
взрослые мужчины могли надолго уходить на охоту pi т. д. Иногда,
правда, и в этих условиях люди продолжали жить в землянках, как
это отмечалось у чжурчжэней. Только начиная с этого этапа можно
говорить об окончательном сложении земледельческого образа
жизни, невозможного в предшествовавший период, когда эффект
земледелия был весьма невысок из-за малой урожайности ранних видов
культурных растений, небольших размеров огородов и примитивной
земледельческой техники. Последнее заставляло людей надолго
покидать поселки и заниматься различными видами присваивающего
хозяйства. При этом они оставляли поля без надзора, и те довольно
часто подвергались опустошительным набегам диких животных,
птиц и насекомых, что еще больше понижало продуктивность
примитивного земледелия. Только в условиях прочной оседлости людям
удалось организовать надлежащую охрану посевов.
Изменение формы жилища от круглой к прямоугольной тоже
свидетельствовало о возрастании оседлости, так как квадратные и
прямоугольные дома лучше соответствовали длительному обитанию
на одном месте, позволяя со временем расширять площадь жилища
за счет пристроек при росте населения. А это в свою очередь по-
330
Глава четвертая
рождало третью из указанных выше тенденций — переход от
однокамерных домов к многокамерным.
Правда, в отдельных случаях (энеолитические поселки
Закавказья, жилища неолита и энеолита в Северном Средиземноморье,
постройки некоторых современных народов Африки и т. д.) на осед-
лоземледельческих поселениях сохранялись круглые дома.
Интересно, что в таких случаях хозяйственные постройки иногда получали
прямоугольную форму (неолит Северной Сирии, энеолит Закавказья
и т. д.). По-видимому, в отношении их функциональность оказывала
более сильное воздействие, чем этническая традиция. Кроме того, на
форму хозяйственных построек оказывали влияние прежде всего
хозяйственные потребности, а на форму жилых домов — социальные
факторы, которые, как известно, отличались большим
консерватизмом.
Прямоугольные постройки имели перед круглыми и то
преимущество, что они были более приспособлены для расширения не
только по горизонтали, но и по вертикали. Не случайно многоэтажные
дома за редкими исключениями имеют прямоугольную форму.
Древнейшие двухэтажные дома известны в" Юго-западном Иране в IX
(VIII) тыс. до н. э. в Гандж Дарехе и в Иордании в VIII (VII) тыс.
до н. э. в Бейде.
Связь между переходом от круглых к прямоугольным домам с
развитием земледельческой оседлости прослеживается по
этнографическим материалам у горных папуасов Новой Гвинеи. У наиболее
отсталых этнических групп восточных областей и мужские, и
женские дома имеют круглую форму. Зато в более развитых
центральных районах круглыми остаются лишь те постройки, которые имеют
важное социальное, ритуальное значение (мужские и
церемониальные дома). В этих местах жилища женщин и детей чаще всего
строятся в форме прямоугольника со скругленными углами. На
форму дома влияет и наличие свиней, для которых либо в самом доме,
либо в пристройке к нему устраиваются стойла. Однако у дани,
которые строят специальные прямоугольные свинарники, и мужские,
и женские дома остаются круглыми.
У мелких групп папуасов предгорий, где мужские и
церемониальные дома неизвестны, в полном распоряжении мужчин находится
один из отсеков жилого дома. И именно здесь распространены
прямоугольные многокомнатные жилища, где одна из комнат является
табу для женщин и служит исключительно для организуемых
мужчинами ритуалов.
Если у большинства ранних земледельцев жилые дома имели
небольшие размеры и являлись местом обитания либо женщин с
детьми, либо небольших родственных групп, то в некоторых районах
встречались и крупные общинные дома. Это было характерно,
например, для многих групп индейцев Южной Америки, обитавших
к северу от Амазонки. Там повсюду встречались крупные круглые
жилища или дома со скругленными углами диаметром до 20 м и
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
331
площадью до 300 кв. м. В них располагались целые общины,
достигавшие 100 человек и более. Внутри такие дома разделялись на
отсеки-сегменты, в которых жили отдельные семейные пары. Еще в
доколониальный период эти дома кое-где начали приобретать под-
прямоугольную форму. В прошлом длинные общинные дома,
разделенные на семейные отсеки, были широко известны у сеноев Ма-
лаккского п-ова.
Крупные многокамерные прямоугольные общинные дома,
известные этнографам у индейцев-пуэбло, возникли, как. было показано
выше, в ходе развития земледельческой оседлости. В
раннеземледельческий период им предшествовали землянки, а потом —
наземные однокомнатные жилища.
Облик раннеземледельческих поселков отличался большим
разнообразием даже в пределах довольно узких регионов. Например, в
центральных горах Новой Гвинеи отмечалось расселение хуторами,
причем в каждом хуторе насчитывалось не более 10 домов. А к
востоку встречались компактные поселки по 10—50 домов, нередко
окруженные частоколом. Причиной существования компактных
поселков специалисты иногда называют военную угрозу. Она
действительно представлялась более существенной в восточных горах, чем
в центральных, где социальная организация была более развитой и
имелись механизмы, смягчавшие военную опасность. Кроме того,
в ряде случаев с прекращением войн в восточных районах кое-где
на месте компактных поселков также возникла хуторская система
расселения222. Напротив, необычно крупные для Новой Гвинеи
поселки по несколько сотен жителей существовали именно в тех
прибрежных районах, где в наибольшей степени были развиты войны
и каннибализм. Правда, эти районы были необычайно богаты и
пищевыми ресурсами — рыбой и саго. Та же закономерность
наблюдалась у куаним па в Африке. В прошлом в интересах безопасности
они селились более компактно и имели даже поселки, обнесенные
частоколом, а теперь с прекращением войн живут хуторами223.
Вместе с тем хутора были известны некоторым ранним земледельцам
Африки и в условиях продолжающихся войн. Так, логоли и многие
другие бантуские народы Восточной Африки жили хуторами,
несмотря на постоянные войны. Это объяснялось интересами
земледелия, для развития которого именно хуторская система давала
наиболее благоприятные возможности. Она облегчала земледельческий
труд, сводя к минимуму издержки, связанные с ежедневными
переходами из поселка на поле и обратно, а также создавала наиболее
эффективную охрану полей.
Таким образом, на систему раннеземледельческого расселения
влияли два основных фактора, приводившие к прямо
противоположным результатам. Развитие военного дела и социальных отношений
стимулировало создание компактных поселков, а развитие
земледелия требовало хуторской системы расселения. Выход из этой
дилеммы люди часто находили в/ компромиссном решении. Во многих
332
Глава четвертая
районах Новой Гвинеи, помимо базовых поселков, имелись
отдельные дома у полей, где периодически жили женщины, занимавшиеся
здесь земледелием и разведением свиней. У некоторых групп энга
в центральных горах даже отмечалась тепденция, по которой
мужчины жили в базовых поселках — местах церемоний и ритуалов,, а
женщины — в отдельных домах у огородов224. У тонга
Юго-Восточной Африки поселки также большую часть года оставались
необитаемыми, так как их население предпочитало жить в легких
хижинах у полей, что позволяло заниматься земледелием с
максимальным эффектом225.
До недавнего времени отдельные авторы преувеличивали связь
между передвижением населения с места на место и подвижными
формами земледелия, в том числе подсечно-огневым. На самом деле
связь эта оказывается не такой жесткой, как казалось до сих пор,
и смену места поселения следует рассматривать как относительно
независимую переменную по отношению к системе земледелия226.
С одной стороны, люди могли поколениями обитать на одном месте,
используя для земледелия участки, примыкавшие со всех сторон к
поселению, по очереди. С другой стороны, они меняли место
поселения не только из-за истощения почв, но также и из-за трудностей
прополки, в случаях частых болезней или смертей кого-либо из
общинников, в целях строительства нового более прочного дома, при
сокращении ресурсов окружающей дикой природы и т. д. Все это
хорошо прослеживается по этнографическим материалам Амазонии
и ряда других районов. Повсюду люди стремились, чтобы поля
располагались не далее 2—3 км от дома.
Внутренняя структура поселка ранних земледельцев почти
повсюду определялась строгим делением на мужскую и женскую
сферы, отражавшим принципы противопоставления родичей чужакам.
Поселок довольно часто имел в плане круглую форму. По его
периметру располагались дома, где жили женщины с детьми (женская
сфера), а в центре находилась церемониальная площадка (мужская
сфера). Правда, у добуаицсв при внешне той же структуре
поселка располагавшиеся на его периферии жилые дома рассматривались
как семейная сфера, а центральная площадка, где помещался родовой
могильник, считалась доменом рода. За исключением других
аналогичных случаев, центральная площадка обычно служила для
сооружения мужского дома, где спали холостяки или же вообще все муж-·
чипы π подростки, где мужчины устраивали собрания и церемонии
и принимали гостей. Впрочем, в отдельных случаях (у некоторых
народов же в Бразилии, у куаним па в Африке и т. д.) мужских
домов не было и мужчины ночевали либо в женских домах, либо в
лесу, либо в старых заброшенных постройках. У некоторых групп
предгорных папуасов, не имевших специальных мужских домов,
мужской сферой, как уже указывалось, считался один из отсеков
жилого дома.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 333
Разделение места обитания общины на мужскую и женскую
сферы наблюдалось еще у низших охотников и собирателей. И у них
юноши нередко ночевали в особых хижинах. Однако из-за бродячего
образа жизни, общего более низкого уровня развития культуры
здесь этим хижинам не придавалось того значения, как мужским
домам в более оседлых и более развитых обществах. Только там можно
говорить о возникновении института мужских домов в полном
смысле этого слова как средоточия социально-ритуальной жизни общины.
Особая ситуация встречалась у добуанцев, где
мальчики-подростки, не имея права спать в доме родителей, искали ночлег где-либо
в другом месте: чаще — у девушек соседних поселков, реже — в
хижинах вдовцов или разведенных мужчин. Вообще у добуанцев
наблюдался своеобразный порядок: в поселке не было не только
специального мужского дома, но и сколько-нибудь четко
отграниченной мужской сферы. Таким образом, у них весь поселок
принадлежал материнско-родовому подразделению, и мужчины-свойственники
чувствовали себя в нем весьма неуютно, хотя и жили в отдельных
домах вместе со своими семьями.
Со временем, как это видно на примере наиболее развитых
центральных групп папуасов Новой Гвинеи, социальная роль мужских
домов несколько понизилась, и основные церемонии и ритуалы
начали устраивать в особых общинных домах.
В северных районах Южной Америки, где были распространены
крупные общинные дома, мужские дома отсутствовали, но и там
существовало деление на мужскую и женскую сферы. Так, у кубео
церемониальная площадка, располагавшаяся перед входом в дом,
считалась доменом мужчин, а площадка для готовки пищи позади
дома связывалась с женщинами.
Помимо жилых и общественных домов в поселках ранних
земледельцев в разных регионах мира можно было встретить платформы
для сушки зерна, амбары, сооружения для каких-либо особых работ,
загоны для скота и т. д.
К сожалению, наши знания об одежде эпохи неолита остаются
весьма скудными. Судя по петроглифам и росписям Чатал Гуюка
(Анатолия), Сахары, Кобыстана (Азербайджан), Зараут Камара
(Узбекистан), Индии и др., обыденная одежда в теплых краях была
проста и часто сводилась к набедренным повязкам, юбочкам или
передникам. О том же свидетельствуют глиняные фигурки-догу из
Японии и ранние статуэтки Мезоамерики. Аналогичные выводы
можно сделать и по этнографическим материалам: в ряде случаев
(например, в пекоторых районах Новой Гвинеи) единственным
видом мужской одежды служил фаллокрипт, а местами (в Амазонии)
мужчины носили набедренные повязки, а женщины оставались
полностью обнаженными. Иногда одежда варьировалась в зависимости
от сезона: паюте носили зимой плащи из шкур, маленькие плетеные
шапочки и мокасины, а летом ходили обнаженными. В Зараут Ка-
334
Глава четвертая
маре на древних рисунках также видны люди, одетые в плащи или
накидки.
На неолитических росписях и статуэтках, как правило,
представлена одежда из шкур животных. Это связано с ритуальным
характером изображений, чаще всего посвященных охотничьей символике.
Многочисленный ткацкий инвентарь и рано окультуренные лен и
хлопчатник свидетельствуют о столь же древнем использовании
растительных материалов. Впрочем, они лишь постепенно приходили
на смену шкурам. Одежды некоторых рыболовов отличались особым
своеобразием: в Приамурье и на Сахалине плащи, передники,
сумки, обувь и пр. изготовляли из рыбьих шкур. В высоких широтах
люди нуждались в более теплой одежде, и там ее изготовляли из
оленьих, тюленьих или медвежьих шкур мехом внутрь. Например,
эскимосская одежда состояла из глухой кухлянки с капюшоном,
штанов, меховых чулок и сапог.
Гораздо большей пышностью отличалась церемониальная одежда,
включавшая ожерелья, браслеты, повязки и другие украшения из
раковин, клыков животных и перьев птиц, а также своеобразные
головные уборы. Широко применялась окраска тела, а также
татуировка. В состав ритуальной одежды во многих местах входили
специальные маски, хорошо известные не только по
этнографическим данным, но и по глиняным статуэткам и росписям Чатал
Гуюка, Сахары, древних культур Северного Китая и Японии, Мезо-
америки и пр. Местами в магических целях практиковалась
деформация тела: натуфийцы Палестины удаляли резцы, люди культуры
дземон Японии также подпиливали или вырывали зубы.
Руководители общин иногда выделялись особыми одеяниями.
По-видимому, именно такой персонаж изображен на росписи в
Ин-итинен в Сахаре.
Костюм, украшения, окраска, татуировка и деформация тела —
все это имело многообразные культурные функции: определяло
роль человека в обществе, указывало на его экономическое
положение, подчеркивало половые признаки, играло магико-религиозную
роль, свидетельствовало об этнической принадлежности и пр.
Таким образом, сам внешний вид человека уже в неолите содержал
значительную информацию227.
7. Хозяйство высших охотников,
рыболовов и собирателей
как эквивалент производящего хозяйства
и его экономические пределы
Как было показано выше, в разных районах мира переход к
производящему хозяйству происходил в разных условиях. В одних
случаях (некоторые области Передней Азии, перуанское побережье
и пр.) оседлость предшествовала ему, в других она сама являлась
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
335
следствием его длительного развития (Мезоамерика, Анды, Юго-
Восточная Азия и пр.). В одних случаях производящее хозяйство
довольно скоро начало давать значительные излишки и появился
избыточный продукт (Передняя Азия), в других — оно долго
играло роль второстепенного уклада в рамках прежнего присваивающего
хозяйства (Мезоамерика, восточные районы США и т. д.). Это
зависело и от урожайности отдельных культур, и от техники их
выращивания, и от общей природной и социальной обстановки.
Наконец, в одних случаях еще в условиях присваивающего хозяйства
возникла относительно высокая плотность населения и появились
относительно крупные социальные группы, в других — в условиях
раннего производящего хозяйства социальная организация во
многом сохраняла прежний характер.
Иначе говоря, не сам по себе переход к производящему хозяйству
обусловил общественный прогресс, а общий рост эффективности
хозяйства в целом, связанный с подъемом уровня развития
производительных сил. Поэтому в социальном плане становление
высокопродуктивного собирательского и рыболовческого хозяйства, а тем
более морского промысла имело до определенного предела
идентичные последствия, как и развитие производящего хозяйства.
Об этом говорят многочисленные данные, например, из Новой
Гвинеи, где у самых различных по хозяйственной ориентации групп
наблюдались разительные сходства в социальной структуре и где
одни из наиболее развитых в социальном плане обществ были
представлены прибрежными собирателями саго. То же самое этнографы
отмечали у рыболовов и собирателей Калифорнии, у некоторых ры-
боловов-алгонкинов, у рыболовов-нивхов, у рыболовов и охотников
на морского зверя — коряков и эскимосов и т. д. Аналогичные
случаи можно, по-видимому, выявить и по приведенным выше
археологическим данным. Это прежде всего рыболовы и охотники на
морского зверя на перуанском побережье до появления там маиса,
а также многочисленные рыболовческие группы Северной, Западной
и Восточной Европы, Сибири, Китая, Африки и т. д.
Все же развитое присваивающее хозяйство в своей эволюции
было в гораздо большей мере сковано особенностями окружающей
природной среды, чем производящее хозяйство, и за редкими
исключениями, не давало таких возможностей по искусственному
увеличению пищевой продукции. Поэтому культуры высших охотников,
рыболовов и собирателей были привязаны к довольно определенным
природным ареалам, тогда как производящее хозяйство проявляло
тенденцию к широкой экспансии. Кроме того, постоянно
увеличивая продукцию, получаемую с единицы площади, производящее
хозяйство допускало в исторической перспективе гораздо более
высокую плотность населения, чем присваивающее, а тем самым
открывало более широкие возможности для социального развития.
Правда, этот тезис требует некоторых оговорок. Во-первых, эти
преимущества производящего хозяйства реально проявились только
336
Глава четвертая
в предклассовую и раннеклассовую эпохи. В раннеземледельческий
период они были еще мало заметны. Во-вторых, не все направления
производящего хозяйства могли дать указанный эффект. Так,
кочевое скотоводство, подобно развитому присваивающему хозяйству,
было неспособно создать материальную основу для развития выше
уровня предклассового или в крайнем случае раннеклассовых
общественных структур.
Таким образом, некоторые ранние формы Земледелия и
скотоводства и развитое присваивающее хозяйство создавали во многом
сходные материальные условия для социальной эволюции, что и
отразилось в сходных типах социальной организации. В то же время
имелись и такие формы производящего хозяйства, которые в течение
долгого времени обусловливали сохранение в социальной
организации многих черт, присущих отсталым охотникам и собирателям.
В первом случае речь идет прежде всего об оседлости и
относительно высокой плотности населения, во втором — о сохранении
бродячего образа жизни и мелких раннеродовых общин. Первое
отмечалось в древности в таких, например, районах, как Передняя Азия
и перуанское побережье, а второе — в горах Мезоамерики, Андах и
Юго-Восточной Азии. Об особенностях второго пути
свидетельствуют и этнографические материалы о переходе к земледелию у
пигмеев и бушменов Африки, пунанов и аэта в Юго-Восточной Азии
и т. д.
Впрочем, имелся один фактор, который существенно влиял на
социальную структуру и социальные отношения в ранних
земледельческих и скотоводческих группах независимо от конкретной формы
производящего хозяйства и тем самым йротивопоставлял их всем без
исключения группам с присваивающим хозяйством. Ведь даже у
самых специализированных групп охотников, рыболовов и собирателей
земля и дикие животные выступали в качестве естественного,
данного самой природой фактора производства. Напротив, по словам
К. Маркса, даже у самых отсталых земледельцев и скотоводов, если
только речь не идет о первичной доместикации или расчистке
девственных участков, земля, растения и скот являлись уже не только
предметом, но и продуктом человеческого труда228.
В этих условиях с переходом к производящему хозяйству
изменился сам характер труда. Последний, во-первых, стал более
регулярным и размеренным, что связано с характером сезонного
хозяйственного цикла, основанного на разведении культурных растений и
домашних животных, а во-вторых, отличался большей степенью
кооперации и требовал поэтому более постоянных рабочих групп
(для расчистки огородов и обработки почвы, строительства
примитивных дренажных и оросительных сооружений, возведения домов
и пр.).
Более регулярный характер трудовых затрат, связанных с
одними и теми же ресурсами, и возрастание временного разрыва
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 337
между моментом приложения труда и его результатом, что типично
именно для производящего хозяйства, существенным образом
повлияли на прежние общественные отношения.
8. Общественное разделение труда
В неолитических обществах, как и раньше, внутриобщинное
разделение труда имело прежде всего половозрастной характер. Однако
с изменением качества ряда работ, с появлением новых видов
деятельности, с ростом их трудоемкости организация труда и
соотношение в нем различных половозрастных категорий постепенно
модифицировались.
Важнейшим новым видом работ в условиях производящего
хозяйства стало земледелие. Сразу же следует оговориться, что его связь
исключительно с женским трудом до недавнего времени сильно
преувеличивалась. А между тем утверждение о безусловном
преобладании в нем женского труда служило некоторым авторам основой для
заявлений о господствующем положении женщин у ранних
земледельцев и об универсальности у них на этой базе материнского
рода. Не говоря уже об отсутствии жесткой связи между типом
социальной организации и характером разделения труда, тезис о
главенстве женщин в раннем земледелии нуждается в уточнении.
Повсюду земледельческий трудовой цикл был основан на половом
разделении труда между мужчинами и женщинами, хотя соотношение
полов в нем в разных группах было различным. Везде на мужчин
возлагались прежде всего наиболее трудоемкие работы, к которым
относились расчистка полей из-под деревьев, кустарников и травы,
их поджог и подготовка почвы для посева. Отдельным индивидам
это было не под силу, и поэтому для таких работ обычно
создавалась рабочая группа, состоявшая чаще всего из членов данной
общины, но иногда в нее включались некоторые мужчины из соседних
общин. Все они, как правило, были в той или иной степени связаны
родством. Эти рабочие группы были иногда довольно
многочисленными. У дани Новой Гвинеи они достигали, например, 15 человек.
Ясно, что без такого рода помощи мужчин в подготовке участков
для дальнейших работ «женское» земледелие было бы невозможным.
Во многих обществах участие мужчин в земледелии заключалось
не только в этом. У многих групп папуасов, например, мужчины
часто обносили участки заборами, у маринг они помогали женам
в прополке, у кума и в некоторых других горных обществах Новой
Гвинеи они рыли дренажные канавы и устраивали грядки.
Магические действия, призванные гарантировать высокий урожай,
производились здесь также мужчинами. У трумаи и куикуру Амазонии
роль мужчин в земледелии была еще выше, а участие женщин
сводилось там главным образом к сбору и обработке урожая. У куаним
па (удуков) Африки женщины были вообще исключены из
земледельческого процесса.
333
Глава четвертая
В некоторых обществах Новой Гвинеи половое разделение труда
в земледелии принимало и другую форму. Женщины там
выращивали обычно основные пищевые культуры, а в сфере компетенции
мужчин находились растения престижно-социального значения.
Например, у абелям разведением ямса могли заниматься только
мужчины. Ямс служил символом мужского достоинства, и выращивание
его длинной разновидности велось специально для устройства
важных церемоний. У кума мужчины выращивали фруктовые,
орехоплодные и масличные культуры, а также бананы, сахарный
тростник и ряд других растений229.
Напротив, в раннем скотоводстве, вопреки распространенному
еще недавно мнению, большую роль играли женщины. Именно они
ухаживали за свиньями в большинстве папуасских групп на Новой
Гвинее, и по-видимому, с ними надо вообще связывать процесс
доместикации животных. Однако с совершенствованием методов
контроля над скотом надзор за ним постепенно перешел к
подросткам и юношам, что широко известно в Африке и некоторых районах
Азии. Кое-где со временем роль пастухов начали исполнять
взрослые мужчины, иногда богачи, а иногда и те, кто имел в обществе
приниженное положение. И то, и другое встречалось на Новой
Гвинее 23°.
В некоторых случаях совершенствование технических навыков
и знаний приводило к зарождению специализации в земледелии и
скотоводстве. Так, у абелям родственники мужчины,
прославившегося умением выращивать ямс, поручали ему следить за их
посадками. А в горах Новой Гвинеи люди аналогичным образом отдавали
свиней на выпас наиболее искусным свиноводам.
В других видах хозяйственной деятельности (в охоте,
рыболовстве, собирательстве) в неолитическую эпоху не произошло
принципиальных изменений: охота и рыболовство оставались в основном
делом мужчин, а собирательство — женщин, хотя и мужчины
спорадически принимали в нем участие. Все же и здесь порой
наблюдались зачатки специализации. Например, несмотря на безусловное
убеждение пиароа Венесуэлы в том, что все мужчины должны
снабжать общину мясом, на деле регулярной охотой занимались лишь
некоторые мужчины, тогда как другие не охотились вовсе.
Как уже отмечалось, в земледельческий период возросло
значение коллективных ритуальных охот. Они широко известны и у
папуасов Новой Гвинеи, и у индейцев Амазонии, где их
организовывали силами одной или даже нескольких общин. Иногда такой же
характер имело рыболовство, как это отмечалось у кубео Бразилии.
У йекуана (макиритаре) Венесуэлы в охоте и рыболовстве наряду
с мужчинами участвовали женщины231.
Половое разделение труда в других сферах деятельности
сводилось к тому, что женщины готовили пищу, воспитывали маленьких
детей, собирали хворост, носили воду, а мужчины изготовляли
основные орудия труда, оружие, лодки и различные ритуальные пред-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
349
меты. Почти везде раннее гончарство являлось делом женщин, но
из этого правила имелись и исключения. Например, у яноама
грубую керамику изготовляли мужчины, причем они же и
использовали ее Для праздничных блюд. У ваиваи функцией мужчин было
окрашивание сосудов, сделанных женщинами232. Ткачество в
некоторых обществах считалось мужским занятием (у гуахибо), в
других— женским (ваиваи)233. Плетение корзин, циновок и других
вещей почти повсюду осуществлялось мужчинами, но у куаним па
(удуков) и тонга Африки оно вменялось в обязанности женщинам.
В неолите важные изменения наступили в характере и
организации домостроительства. Если легкие временные хижины прежних
эпох без труда создавались женщинами, то более основательные
неолитические жилища требовали гораздо более существенных
трудовых затрат и их, как правило, возводили мужчины. На долю
женщин в ряде районов приходилось лишь покрытие крыши листьями,
прутьями и травой.
В раннеземледельческих обществах сколько-нибудь выраженная
ремесленная специализация еще отсутствовала, хотя здесь и
встречались мастера, превосходившие других общинников искусством в
некоторых сферах деятельности. За редкими исключениями, их
навыки не наследовались, и они не были освобождены от участия в
производстве продуктов питания. У папуасов чимбу и медлпа
такие специалисты занимались изготовлением церемониальных
каменных топоров, у арапеш и абелям — высокопрестижным
художественным творчеством, у кума — производством особых поясов и
барабанов. У абелям и кума выделялись мастера по строительству
культовых зданий, причем у кума это ремесло наследовалось. У дани и
экаги (капауку) также имелись специалисты в разных сферах
деятельности, однако они не обладали какими-либо особыми знаниями,
не известными другим общинникам. У баруйя восточных гор Новой
Гвинеи некоторые операции по добыче соли были доступны лишь
небольшому числу посвященных.
Абсолютно та же картина встречалась у ранних земледельцев
и в других районах мира. В некоторых общинах на Соломоновых
о-вах лишь немногие мужчины обладали искусством резьбы по
дереву и имели поэтому высокий социальный статус. Однако они не
освобождались от сельскохозяйственного труда. У ваиваи Гвианы
выделялись люди, более искусные, чем другие, в определенных
видах производства (в гончарстве, плетении и т. д.), уделявшие им
поэтому больше внимания. Например, лишь один человек у них
умел изготовлять стулья, он-то и снабжал ими всех других. У кубео
только влиятельные люди обладали специальными знаниями,
необходимыми для производства ритуальных предметов. По-видимому,
об аналогичном характере разделения труда свидетельствуют и так
называемые «мастерские», фиксирующиеся археологами в
неолитических поселках в самых разных регионах мира.
Дальше всего ремесленная специализация зашла у африканских
340
Глава четвертая
тонга. У них ремесло передавалось по наследству в пределах ли-
ииджей, а его продукция широко обменивалась на зерно и скот,
освобождая ремесленников от необходимости регулярных полевых
работ. Однако пример с топга, возможно, не типичен для
неолитических обществ, так как тонга обитали в области, где железный век
наступил уже полторы тысячи лет назад, сами умели плавить
железо и издавна общались с более развитыми группами 234.
Помимо внутрпобщинного разделения труда, в неолите большое
значение получило и межобщинное, связанное с самыми
разнообразными системами обмена. Первым на огромную роль
межобщинного разделения труда в неолите указал Ф. Энгельс, назвавший
выделение «пастушеских племен» из остальной массы варваров
«первым крупным общественным разделением труда» 235. Это
высказывание относится к тому времени, когда скотоводство считалось
бесспорно древнейшим видом производящего хозяйства. Поэтому в
свете новейших открытий оно нуждается в комментарии, тем более
что в работах современных авторов допускаются по меньшей мере
три его различные трактовки. Некоторые специалисты до сих пор
связывают первое общественное разделение труда с выделением
кочевого скотоводства, однако, как сейчас установлено, это событие
. произошло лишь в конце бронзового века. Впрочем, в последние
годы отдельные авторы находят возможным возводить этот процесс к
началу бронзового века, когда кое-где появились древнейшие
группы подвижных скотоводов. Другие исследователи видят в нем
переход к производящему хозяйству, совершившийся на несколько
тысячелетий ранее, а становление кочевого скотоводства называют
«вторым крупным общественным разделением труда». Наконец, по
мнению третьих, первое общественное разделение труда означает
вообще развитое «разделение труда между общинами», причем оно
возникло лишь с появлением регулярного прибавочного продукта236.
Накопленные к настоящему времени данные позволяют
предполагать, что Энгельс имел в виду именно возникновение существенно
различавшихся между собой хозяйственных систем,
локализовавшихся поблизости друг от друга и время от времени
обменивавшихся своей продукцией. У низших охотников и собирателей также
могли отмечаться некоторые особенности в системах хозяйства, но
роль обмена у них была минимальной благодаря высокой
подвижности, обычаю взаимопосещений, преобладанию обмена услугами
над обменом вещами и т. д. Кроме того, необходимость в обмене
у них вызывалась главным образом неравным распределением
естественных ресурсов, а также некоторыми социальными, а не
хозяйственными факторами.
Напротив, у высших охотников, рыболовов и собирателей и
ранних земледельцев и скотоводов обмен получил гораздо большее
значение и достиг несравненно более высокого уровпя развития, что
вызывалось следующими факторами. Во-первых, оседлость
ограничила доступ к разнообразным ресурсам и повысила степень изоля-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
341
дии общин. Наряду с этим, во-вторых, потребность в различных
видах сырья и экзотических (престижных) изделиях не только не
упала, но, напротив, возросла в связи с усложнением культуры в целом.
В-третьих, рост продуктивности хозяйства время от времени давал
избыточный продукт, годный для обмена. Первые два фактора
делали обмен желательным и даже необходимым, а последний
позволял его реализацию. С ростом изоляции общин обмен наряду с
хозяйственной ролью начал во все возрастающей степени играть
важную социальную роль, будучи эффективным механизмом
установления и укрепления социальных связей. Он производился не
-только между неолитическими обществами, близкими по уровню
развития и различающимися по хозяйственной ориентации, но и
между ними, с одной стороны, и низшими охотниками и
собирателями, с другой. В последнем случае уже не было речи о регулярном
избыточном продукте, который у охотников и собирателей
отсутствовал. Такой обмен позволял им реализовать временные излишки
пищи и получать важные средства и стимулы для интенсификации
своей хозяйственной деятельности. Одновременно он делал их жизнь
более стабильной. Ярким примером этого служит ситуация,
сложившаяся в восточных районах расселения пигмеев-мбути, где хозяйство
и образ жизни охотников и собирателей существенно перестроились
в условиях обмена с соседними земледельцами237.
Неолитические системы обмена отличались многообразием,
причем некоторые общества входили одновременно в несколько таких
систем. Так, моту южного побережья Новой Гвинеи знали три
различные системы обмена. К первой относился межобщинный обмен
внутри самой общности моту. Люди поставляли друг другу то, чем
были богаты: растительную пищу, лодки, крабов, дерево для
строительства, раковинные бусы и клыки боровов. При этом две
последние категории вещей изготовлялись только в двух общинах. Ко
второй системе относился межплеменной обмен с ближайшими иноэт-
ничными соседями, койта и койяри, которым моту поставляли
керамику, кокосовые орехи, рыбу, соль, ожерелья из собачьих зубов и
раковин, получая взамен растительную и животную пищу, перья
птиц, одежду из тапы, циновки, бетель, табак и т. д_. Койяри
снабжали своих соседей и известью, которую они одни умели
изготовлять из раковин. К третьей системе относился дальний обмен с
населением, обитавшим в 300—350 км к северо-западу от моту.
Если первые две системы предполагали индивидуальное
партнерство и лишь иногда вторая из них требовала специальных
«торговых походов», то третья вообще не могла бы существовать без
дальних экспедиций. Такие экспедиции «хири» заранее планировались,
их участники специально вербовались из мужчин, обладавших
высоким статусом, а руководили ими лидеры отдельных поселков.
Экспедиция отправлялась в путь на несколько месяцев (до 5). В ней
Участвовало несколько десятков мужчин, которые везли на обмен
До 30 000 глиняных горшков, изготовленных женщинами, а также
342
Глава четвертая
украшения из раковин, клыки боровов и каменные топоры. За это·
они получали саго и дерево для строительства новых лодок. По
возвращении каждая такая экспедиция привозила до 600 τ саго,
которое надолго обеспечивало людей пищей. Жители отдаленных
районов Папуасского залива в свою очередь устраивали подобные же*
экспедиции к моту 238.
Свойственные моту системы обмена в целом типичны для
неолитических обществ. Повсюду обмен с ближайшими соседями велся,
как правило, индивидуально на основе партнерства, а из отдаленных
районов необходимые предметы получали либо путем
посреднического обмена, т. е. с помощью тех же партнеров, либо устраивая
особые экспедиции. Последние известны на Новой Гвинее не только-
у прибрежных моту, но и у горцев (кума, дани и др.), а в Южной
Америке — у йекуана (макиритаре) и других групп.
Если низшие охотники и собиратели вели обмен в основном
сырьем и иногда готовыми изделиями, а пищу в случае надобности
получали с помощью обычая взаимопосещений, то неолитическое
население обменивалось как пищевыми, так и непищевыми (сырье
и готовые изделия) ресурсами. Люди обменивали те предметы,
которыми они были особенно богаты, на те, в которых нуждались.
Например, чамбри обитали в среднем течении р. Сэпик (Новая
Гвинея), где водилось много рыбы, однако у них часто случались
перебои с растительной пищей. Поэтому они регулярно обменивали
рыбу с соседними горцами на саго. Интересно, что этим обменом
здесь занимались женщины. Корофейгу, обитавшие в горном
районе, где часто случались заморозки и неурожаи, специально
разводили свиней для обмена на растительную пищу. Со временем с
развитием скотоводства такого рода обмен стал обычен, и примеры его
до сих пор во множестве встречаются во мпогнх областях Азии и
Африки.
В свете такого обмена особые преимущества получали группыг
на территории которых находились какие-либо ценные природные
ресурсы, и прежде всего соль. На Новой Гвинее эти группы (сайо-
лоф, баруйя, корофейгу, энга, дугум дани) либо сами вели обмен
солью, либо позволяли соседям устраивать сюда специальные
экспедиции, за что с них взималась определенная плата. Дугум дани,
например, получали от них свиней. Поэтому такие общины,
обитавшие по соседству с солеными озерами, нередко были необычно
богаты, особенно если у этих озер происходил обмен и другими вещами
и возникало нечто вроде примитивных рынков, что отмечалось у
эига.
Баруйя использовали соль .растительного происхождения,
которую они сами и добывали, для внутриплеменного и межплеменного
обмена, получая за нее сырье для производства (камень), оружие
(луки, стрелы, каменные булавы), предметы роскоши
(церемониальные украшения), тапу и известь для приготовления бетеля.
Пиароа Венесуэлы получали от иноязычных соседей зубы ягуа-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
343
ров и галлюциногены (от гуахибо), отщепы для производства терок
(у мако), тростник для духовых ружей-сарбаканов (у йекуана).
В ряде случаев отдельные этнические группы или общины,
специализировавшиеся на межплеменном обмене, получали
определенные преимущества в социальном развитии и пользовались ими для
расширения сферы своего влияния и достижения высокого престижа
.среди окружающих их общностей. Нередко такие группы
отличались в своем районе и относительным богатством, как показывает
пример маилу на юго-востоке Новой Гвинеи и манус на о-вах
Адмиралтейства 239.
О развитии межплеменного обмена можно судить и по
археологическим материалам, свидетельствующим о широком
распространении различных сортов кремня и обсидиана, керамики,
драгоценных и полудрагоценных камней, минеральных красок и раковин,
янтаря и т. д. на протяжении неолита в самых разных областях
мира. К настоящему времени удалось локализовать несколько центров
добычи обсидиана и проследить особенности его распространения.
Население ирано-иракского пограничья и ряда областей Сирии
получало обсидиан в основном из района оз. Ван, центральноанатолий-
ские источники обеспечивали им многие области Анатолии и
Леванта вплоть до Южной Палестины, обсидиан с о. Мелос проникал в
Западную Анатолию и Грецию, в Центральном Средиземноморье
главные его источники располагались на о-вах Сардиния, Липари,
Пантеллерия и Палмарола, общины Центральной Европы
пользовались прежде всего восточнословацким обсидианом, а в энеолитиче-
ские поселки Закавказья и Дагестана обсидиан поступал из ряда
месторождений Грузии и Армении. При этом наиболее интенсивные
контакты наблюдались в радиусе 250—350 км от обсидиановых
месторождений, где в ряде случаев из обсидиана изготовлялось до
80—100% каменных орудий.
Свои месторождения обсидиана имелись и в Океании. Они
располагались в Западной Меланезии на о-вах Лоу, Талесиа и Фергюс-
сон. Обмен велся кое-где сырьем, а кое-где и готовыми изделиями,
причем последнее было в большей мере характерно для районов,
значительно удаленных. от месторождений. Судя по π
среднеазиатским данным, обсидиан местами проникал на расстояние до 800—
1000 км, а в Океании благодаря деятельности носителей культуры
лапита он распространялся из Западной Меланезии на восток вплоть
До Новых Гебридов на расстояние до 2700 км. Все это
свидетельствует о весьма оживленных контактах в эпоху неолита и о
высокой подвижности населения. В Передней Азии и в Северо-Восточном
Средиземноморье отмеченные интенсивные связи установились еще
в раннем неолите, а в Центральном Средиземноморье и Центральной
Европе они особенно интенсивно развивались в позднем неолите.
В Восточной Африке аналогичное явление наблюдалось во II—I тыс.
До н. э. благодаря деятельности подвижных скотоводческих
коллективов.
344
Глава четвертая
Другим важным показателем широких обменных связей в Европе
является распространение кремня и кремневых орудий, достигшее
своей кульминации в позднем неолите, когда происходило бурное
становление кремнедобывающего производства240. При изучении
древних систем обмена всегда следует помнить о том, что до нас
доходят лишь те их свидетельства, которые способны долго
сохраняться. Между тем основная масса обмениваемой продукции (пища,
ткани, деревянные и кожаные изделия, соль и пр.), к сожалению,
никаких следов в археологических материалах не оставляет.
До сих пор речь шла главным образом о межплеменном обмене.
Однако обмен производился и между отдельными общинами, хотя и
далеко не везде. В ряде случаев наблюдалась даже специализация
отдельных общин. Она хорошо изучена у тангу Новой Гвинеи, где
каждая из четырех общин славилась производством каких-либо
особых вещей (глиняных горшков, сумок, бетеля, саго и т. д.)241. То же
самое отмечалось в Южной Америке в верховьях р. Шингу, у яноама
и в других местах. Особенностью межобщинного обмена внутри
этнолингвистической общности было то, что он либо вообще не имел
хозяйственного значения (например, обмен козы на козу у куаним
па и пр.), либо его хозяйственное значение было
весьма.относительным, т. е. специализация отдельных общин поддерживалась
искусственно. Так, у яноама такая специализация не вызывалась
хозяйственной необходимостью, ибо каждая община могла сама снабжать
себя всем необходимым. В Южной Америке широко была
распространена практика, по которой некоторые группы не изготовляли
керамику только потому, что могли получить ее у соседей. Однако
при ухудшении отношений с соседями они без труда начинали
сами обеспечивать себя глиняными горшками242. Все это наводит на
мысль об особой роли межобщинного обмена, призванного в первую
очередь устанавливать и укреплять социальные связи. Как правило,
он имел форму дарообмена, символизировавшего готовность
партнеров во всем помогать друг другу и в случае необходимости делиться
имуществом. У яноама межобщинный обмен служил, в частности,
заключению военных союзов.
В настоящее время в науке ведется дискуссия о соотношении
хозяйственных и социальных факторов в первобытном обмене.
Одни авторы считают первичными первые243, другие — вторые244.
Как бы ни*решался этот вопрос, ясно, что в неолите важное
значение имели и те, и другие факторы, однако их соотношение в разных
видах обмена было различным. Последнее хорошо осознавалось
самими людьми. Так, куаним па знали два типа обменов. Первый, в
форме эквивалентного, часто тождественного дарообмена, они
называли «уан». Он велся только между родственниками и друзьями,
т. е. внутри этнолингвистической группы, для укрепления
социальных связей. Второй — они называли его «йол» — имел
хозяйственное значение и был невозможен между родственниками. Его
практиковали лишь в отношениях с соседними народами245. Абсолютно
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНЛ
345
так же классифицировал обмен и И. Голдмэн со слов индейцев-ку-
бео24а. «Немой обмен», хорошо известный этнографам, был
характерен именно для межплеменных, а не внутриплеменных отношений.
Вместе с тем отмеченное разграничение сфер действия двух
видов обмена встречалось не везде. У некоторых островитян
Соломонова моря (тробрианцы, добуанцы и др.) символический дарообмен
«кула» служил установлению дружественных отношений,
способствовавших развитию обмена хозяйственно важными предметами
.между населением разных островов247. Следовательно, рамки
действия обоих видов обмена были здесь идентичными.
В описанных системах обмена уже в^ неолитическую эпоху кое-
где начали вырабатываться определенные обменные эквиваленты,
которые в литературе принято называть «первобытными деньгами».
Например, на Соломоновых о-вах функционировало несколько таких
эквивалентов, представлявших собой либо особые виды раковин или
раковины, обработанные особым способом, либо красные птичьи
перья. У баруйя Новой Гвинеи и в ряде других обществ в этом
качестве использовали соль. А в системе маилу на юго-востоке Новой
Гвинеи эквивалентом служили глиняные горшки, причем они уже
обладали стандартной ценой: за один горшок можно было получить
или связку бананов, или 10—12 клубней таро, или корзину батата,
или одну рыбу и т. д.248 Впрочем, возможно, возникновение такой
урегулированной системы цен было относительно поздним явлением.
Первоначально же она отсутствовала, в чем и состояла одна из
специфических особенностей «первобытных денег». Ведь поскольку у
разных племен существовали свои системы цен, один и тот же
эквивалент мог выражать у них разную стоимость. Кроме того, такой
эквивалент никогда не имел универсального характера, так как на
него можно было обменять только строго определенные категории
вещей. Поэтому в разных системах обмена и социальных отношений
в одном и том же обществе могли использоваться песколько разных
эквивалентов. Еще одной особенностью «первобытных депег» была
их полифункциональность: их роль не сводилась к участию в
обмене, так как они одновременно могли служить символом высокого
социального положения и богатства, украшениями и амулетами,
использоваться в ритуалах и церемониях и т. д. Возможность именно
такой интерпретации некоторых видов древних керамических
сосудов, каменных топоров и украшений, к сожалению, еще
недоучитывается археологами.
9. Возникновение избыточного продукта
Вопреки взглядам некоторых западных исследователей,
пытающихся в последние годы пересмотреть категорию «избыточный
продукт» и даже отказаться от нее249, она остается важным
методологическим орудием исследования, хотя в свете новейших данных и
требует разъяснения. Дело в том, что во многих случаях эта кате-
346
Глава четвертая
гория не поддается строгим статистическим измерепиям, в
особенности когда в ней стремятся видеть ту часть земледельческо-ското-
водческой продукции, которая не идет в пищу непосредственно.
Возможности потребления пищи людьми вообще колеблются в
довольно широких пределах, pi это тоже осложняет подсчеты.
В избыточном продукте следует видеть прежде всего те вещи, в
частности ту пищу, которая не являлась жизненно необходимой иг
следовательно, могла свободно отчуждаться. Сложность подсчетов,
связанных с избыточным продуктом, заключается в том, что объем
пищи, потреблявшейся непосредственно, сильно варьировал не
только в разных обществах и в разных регионах, но и у разных
индивидов, зависел от конкретной ситуации и т. д. Избыточный продукт
выявлялся лишь в отношениях между людьми, принимая форму
дара, брачного выкупа, штрафа, пищи, приготовленной для
устройства праздника и т. д. Понимаемый таким образом избыточный
продукт появился еще в обществах низших охотников и собирателей
и придал продуктам труда, помимо потребительной, еще и дарооб-
менную ценность 25°.
По мнению некоторых авторов, регулярный избыточный продукт
появился лишь с переходом к производящему хозяйствуг да и то не
сразу. Правильно отражая общую тенденцию развития, это
предположение нуждается в уточнениях по отношению к определенным
конкретным случаям. В отдельных ситуациях высшие охотники,
рыболовы и собиратели могли иметь весьма значительные излишки
пищи. Американский ученый Дж. Хэрлан, проведя эксперимент со
сбором урожая дикой пшеницы в Юго-Восточной Турции, показал, что
семейная группа, даже не обладая пи особыми навыками, ни
жатвенными орудиями, могла собрать за три недели больше зерна, чем
ей требовалось для пропитания в течение года251. Собиратели саго
в некоторых районах Новой Гвинеи (на р. Сэпик pi т. д.) получали
столь значительные урожаи диких растений, что считались одними
из самых богатых папуасских групп и обгоняли многих местных
земледельцев по уровню социального развития. Они не только
снабжали себя саго, но и имели большие излишки для обмена на орудия,
керамику и некоторые виды пищи. Сходные примеры нетрудно
найти и у других групп с развитым присваивающим хозяйством —
калифорнийских индейцев, эскимосов, коряков, нивхов и пр.
Между тем самое раннее земледелие действительно далеко не
всегда давало излишки, в особенности если речь шла о первых его
шагах, когда оно еще являлось незначительным укладом в обществе
охотников, рыболовов и собирателей. По подсчетам американских
ученых, переход к прочному земледельческому образу жизни в Ме-
зоамерике мог произойти лишь тогда, когда урожайность маиса
достигла 200—250 кг/га, но дикий предок маиса отличался гораздо
меньшей продуктивностью. Вот почему в этом районе появление
древнейшего земледелия было отделено от перехода к
земледельческому образу жизни несколькими тысячелетиями252.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОПЩИНЛ 347
И все же неолитическое население получало излишки продукции
3 гораздо большем объеме и более регулярно, чем низшие охотники
и собиратели. Об этом свидетельствует появление новых социальных
институтов (мужские дома, тайные союзы, возрастные классы и т. д.),
зарождение ремесла, широкое развитие обмена и усложнение
общего культурного облика. Материальной базой для всех этих
изменений могло служить только получение более или менее регулярного
избыточного продукта. В этом смысле земледелие обладало
большими потенциальными возможностями, и в отдельных районах
(например, у гадсуп Новой Гвинеи) даже в неурожайные годы оно
давало продукции больше, чем нужно было отдельным домохозяйст-
вам для собственного потребления.
Избыточная продукция, как правило, запасалась и/или шла на
устройство пышных пиров и церемоний социально-престижного и
религиозного значения. Не случайно именно в неолитических и
особенно' земледельческо-скотоводческих обществах отмечался
значительный расцвет церемониальной культурной сферы, невиданный
прежде у низших охотников и собирателей. Постоянно требуя
излишков пищи, эта сфера до определенной степени стимулировала
дальнейшее развитие производящего хозяйства. Сплошь и рядом в
интересах ее функционирования людям приходилось разбивать
дополнительные огороды или выращивать особые, связанные с
ритуалом виды растений. Так, разведение мужчинами-папуасами особых
-земледельческих культур, в частности длинной разновидности ямса
у абелям и населения о. Колепом, служило исключительно
социально-престижным целям. Ту же функцию имели попойки, широко
распространенные в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии
и т. д., причем алкогольные напитки для них (чаще всего пиво)
приготовлялись именно из излишков земледельческой продукции —
маниока, проса, риса и т. д. Предполагается, что для тех же целей в
древней Передней Азии использовался ячмень.
С развитием скотоводства именно скот стал главным средством
социально-престижных церемоний, потеснив в этом качестве самые
разнообразные виды растительной пищи. Этот процесс не раз
отмечался этнографами во многих районах Африки, Азии и Меланезии.
Например, для земледельцев и скотоводов банту в Восточной Африке
скот представлял главную социально-престижную ценность, хотя и
здесь питье пива играло важную роль в различных церемониях.
Вообще скот весьма рано стал использоваться для укрепления и
развития социальных связей, составляя неотъемлемую часть брачного
выкупа, штрафов, даров, жертвоприношений и пр. Его
преимущества над растительной пищей и неодушевленными материальными
предметами в этом качестве очевидны, так как скот удачно
объединял в себе лучшие качества обоих: легкую транспортабельность,
которая обусловила легкость отчуждения, а также способность к
самовоспроизводству в возрастающей пропорции в условиях
минимальной заботы о животных со стороны людей 253.
348 ' Глава четвертая
Все отмеченные выше престижно-социальные отношения полу-
чили в науке название престижной экономики. Она выросла из
прежней жизнеобеспечивающей экономики, когда рост
производительных сил позволил получать большие излишки продукции.
Престижная экономика в зачаточном состоянии возникла еще у низших
охотников и собирателей, но ее расцвет пришелся на неолитический
период254. Функции престижной экономики были многообразны: от
гарантирования людям поддержки в случае нужды, ибо она
обусловливала развитие взаимопомощи, до совершенствования системы
брачных связей и установления социальных градаций как по
горизонтали, так и по вертикали. Как правило, престижная экономика
функционировала внутри этнических общностей, противопоставляя
их иноэтничным соседям и устанавливая особые отношения между
отдельными обнщпами (горизонтальная иерархия). Наряду с этим
она окрашивала определенным образом и взаимоотношения между
людьми внутри общин (вертикальная иерархия). И то, и другое со
временем сыграло важную роль в процессе классообразования.
Наконец, с престижной экономикой было связано возникновение
категории «богатство», практически неизвестной низшим охотникам
и собирателям. О том, что богатство имело первоначально прежде
всего социальный смысл, свидетельствуют данные о некоторых
раннеземледельческих обществах, например пиароа, для которых
богатство отождествлялось с жизнью в многолюдном доме под защитой
сильного лидера. Вместе с тем очень скоро под. богатством стали
понимать именно тот излишек материальной продукции, который мог
использоваться для налаживания социальных связей. Так, кума
Новой Гвинеи считали богатством прежде всего пищу и с презрением
относились к людям, неспособным прокормить много друзей или
родственников. По словам М. Рэй, идеалом у кума считалось
производство большего количества пищи, чем люди могли съесть. Тонга
Африки имели для понятия «богатство» особый термин «лубоно»,
которым обозначалось все движимое имущество — скот, орудия,
одежда, и пр., хотя в узком смысле под «лубоио» они могли
понимать скот. Сходная картина зафиксирована у папуасов-абелям,
видевших в богатстве прежде всего ямс, свиней и раковинные кольца.
Повсюду создание такого рода богатства составляло один из
наиболее эффективных и, что важно, вполне осознанных стимулов
развития производства255.
При этом наблюдались и такие случаи, когда престижный
сектор даже наносил некоторый ущерб жизнеобеспечивающей
экономике. Так, в малоплодородных районах о. Колепом, отличавшихся
частыми неурожаями, местные папуасы предпочитали голодать,
питаясь скудной пищей, состоявшей из моллюсков, крабов и т. д., но
сохраняли престижные посадки ямса для устройства потлачевидных
пиров256. В этом следует видеть диалектическую инверсию, в силу
которой возникший на основе жизнеобеспечивающей экономики
престижный сектор в определенном смысле превзошел ее по значе-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНЛЯ ОБЩИНА
349
нито в глазах местного населения и начал оказывать на нее
обратное воздействие, либо замедляя ее развитие, как в отмеченном
примере, либо ускоряя, что наиболее ярко проявлялось в свиноводстве
у горных папуасов. Вот почему представляется неверным вслед за
Б. Бендер257 видеть в престижной экономике универсальный рычаг,
стимулировавший становление и развитие производящего хозяйства.
Впрочем, даже там, где престижная экономика влекла повышение
производства, последнее было далеко не безгранично, ибо
потребность социальной сферы в избыточном продукте имела свои лимиты,
за пределами которых дальнейшее наращивание производства
теряло всякий смысл. Именно поэтому рост производительности труда
у некоторых горных папуасов, получивших недавно железные
топоры, привел не к повышению продукции, а к увеличению
свободного времени258.
Престижная экономика, требовавшая точного подсчета «долгов»
и «даров», по-видимому, существенно повлияла на развитие системы
счета. Горные папуасы, например, применяли для подсчета свиней,
использовавшихся в обмене, специальные бирки. Возможно, для
подобных целей в древней Передней Азии применялись глиняные
конусы, полусферы, шары и т. д., которые, как убедительно показала
недавно Д. Шмандт-Бессерат, определенно связывались со счетом259.
Древнейшие из этих поделок восходят к IX (VIII) тыс. до н. э., и
если наша гипотеза правильна, именно к этому времени следует
относить формирование в Передней Азии престижной экономики.
Следовательно, последняя возникла там одновременно с производящим
хозяйством. Это служит новым доказательством того, что в Передней
Азии производящее хозяйство стало давать избыточный продукт
едва ли не с самого начала.
Судя по некоторым данным (например, о сеноях Малаккского
п-ова), само по себе появление излишка еще не влекло
установления сколько-нибудь развитых престижных отношений.
Традиционные нормы требовали неукоснительного дележа такого излишка и
запрещали подсчитывать размеры даров. В результате избыточный
нродукт распределялся примерно поровну, характер его
распределения еще не вел в какой-либо социальной дифференциации260.
В условиях контактов ранних земледельцев и скотоводов с
соседними более отсталыми охотниками и собирателями могла возникнуть
и такая ситуация, когда излишек не производился самой группой,
а поступал извне. Это бывало в условиях грабительских набегов
охотников и собирателей на поля и скот земледельцев.
10. Изменения в отношениях собственности
Вопрос о характере собственности в обществах ранних
земледельцев и скотоводов не может считаться окончательно выясненным.
В нашей науке его касались разные специалисты, высказывавшие
соображения, далеко не во всем совпадающие друг с другом> а порой
350
Глава четвертая
и прямо противоположные261. Сложность выяснения этой проблемы
заключается не только в том, что отношения собственности, как это
хорошо показал Ю. И. Семенов, имеют в первобытности весьма
своеобразный, с трудом выражаемый в современной системе
понятий характер, но и с тем, что она связана с большим разнообразием
первобытных систем собственности как во времени, так и в
пространстве.
По-видимому, можно назвать три важнейших изменения,
связанных с собственностью, при переходе к земледельческо-скотоводческо-
му хозяйству. Это прежде всего дифференциация собственности на
созданную личным трудом (орудия, утварь, скот и пр.) и
полученную от предков (земля). Такое разграничение стало реальным
вскоре после того, как земля превратилась в важнейшее средство
производства. С этим было тесно связано и другое новшество —
возникновение порядка наследования собственности, чего практически не
отмечалось у низших охотников и собирателей. Наконец, третьим и
завершающим этапом трансформации отношений собственности,
который наступил позже двух вышеназванных, стало формирование
семейной собственности. Все это произошло не сразу, а лишь на
определенных этапах развития раннего производящего хозяйства.
Указанная выше дифференциация собственности была весьма
рано осознана людьми, что нашло отражение в лексических
формулах, известных, например, у некоторых групп папуасов. Так, сиане
знали две важнейшие категории собственности: «амфонка» и
«мерафо». В амфонка мужчины входили его свиньи, украшения, орудия
труда, одежда и деревья, которые он сам выращивал, а в амфонка
женщины — ожерелья, одежда, кухонная утварь, циновка и
растения, посаженные ею на огороде. Дом, где обитала женщина с
детьми, находился в совместном владении: он входил в амфонка и
мужа, и жены. Следовательно, в категорию амфонка входила в
основном личная собственность, часто, хотя и не всегда, созданная
личным трудом.
Напротив, категория мерафо предполагала уже владение
коллективной собственностью, и прежде всего землей. Считалось,
что амфонка была так же неразрывно связана с человеком, как его
тень, и споры о владении ею оканчивались сразу же, как только
выяснялось, кто именно создал спорный предмет. Что же касается
мерафо, то она предполагала тщательную заботу, так как была
получена от предков и должна была в целости и сохранности перейти
к потомкам262. Сходная классификация собственности была известна
у дугум дани с той лишь разницей, что сианской категории амфонка
у них соответствовали два вида собственности: один — для
отдельных орудий и украшений личного пользования, другой — для более
ценных вещей и отношений, связанных с престижной экономикой.
Однако и здесь многие вещи, входящие в эти категории, могли
свободно отчуждаться, а земля, входящая в третью категорию, не
могла263.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНЛЯ ОШЦИНА
351
Двойное разграничение собственности вопреки М. В. Колгаиовуг
было бы неверно связывать с делением на движимое и недвижимое
имущество, так как в первую категорию входили деревья, дома и
другие объекты, которые движимой собственностью назвать трудно.
Ближе к истине разделение собственности на созданную личным
трудом и доставшуюся от предков. Однако и оно не совсем точно,
так как в первую категорию входили, в частности, подаренные
вещи, а со временем — и унаследованные. Поэтому, помимо трудовогог
следует ввести и другой важный критерий разделения этих видов
собственности: входившие в первый объекты могли, как правило/
легко отчуждаться и широко использовались в обмене и престижной
экономике, а входившие во второй не могли; первый был связан с
личной собственностью, второй — с коллективной.
Возрастание роли личного права собственности на многие
предметы, входившие в первую из вышеотмечеиных категорий,
наблюдалось не только у неолитического населения, но в ряде случаев*
и у низших охотников и собирателей. Оно было прямо связано с
формированием престижной экономики264.
В первобытных отношениях собственности следует различать два
существенных аспекта: во-первых, право свободно пользоваться
имуществом, а иногда и отчуждать его, и во-вторых, право наследовать
имущество. У низших охотников и собирателей производство и
использование орудий происходило, как правило, индивидуально.
На этом основании многие исследователи пишут о наличии у них
личной собственности на орудия и утварь. При этом справедливо
указывается на тот факт, что пища, добытая и приготовленная с
помощью этих орудий, распределялась и потреблялась коллективно.
Ю. И. Семенов даже видит в этом доказательство коллективной:
собственности раниеродовой общины на орудия и пищу. И
действительно, независимо от того, кто именно изготовил орудие, оно могло*
широко заимствоваться и использоваться в рамках общины, и этот
обычай нередко сохранял свою силу в раннеземледельческом
обществе. Так, чем ближе были взаимоотношения между индейцами-кубеог
тем проще им было брать и использовать вещи родственников,
причем случавшаяся при этом утрата вещи никого особенно не огорчала
н не вызывала каких-либо ссор265. То же самое зафиксировано у
африканских тонга и некоторых других народов. Интересно, что
при этом понятие «кража» было у кубео уже известно. Но это
понятие связывалось только с использованием пищи с чужого огорода,
что сурово наказывалось.
Описанный порядок использования вещей был возможен лишь
при жизни их владельца. В случае же его смерти принадлежавшие
ему вещи уничтожали на его могиле или погребали вместе с ним.
Этот обычай был широчайшим образом представлен не только у
низших охотников и собирателей, но и у многих самых ранних
земледельцев и скотоводов. У многих индейцев северных районов Южной
Америки было принято сжигать или покидать общинный дом в слу-
352
Глава четвертая
чае смерти его «владельца», т. е. человека, организовавшего его
строительство и возглавлявшего общину.
Все это имело своей основой глубоко укоренившуюся в сознании
людей веру в тесную, до определенной степени сверхъестественную,
связь владельца со своими вещами, влияние которого на последние
сохранялось будто бы и после смерти. Есть все основания полагать,
что описанный обычай соблюдался также и в земледелии и в
скотоводстве на самых ранних этапах их развития. Так, у африканских
тонга девственная земля, расчищенная и обработанная впервые, в
отличие от всех остальных земельных участков забрасывалась после
смерти ее владельца. У кубео и ваиваи никто не осмеливался
собирать урожай с участка, обработанного женщиной, которая потом
умерла, а иногда такой огород вообще уничтожали. В некоторых
обществах этот порядок распространялся на деревья,
принадлежавшие покойным. Что же касается домашних животных, то они в
ранний период тоже умерщвлялись на могилах владельцев266.
С развитием производящего хозяйства и усложнением культуры
в целом вышеописанный обычай постепенно был признан
недопустимым расточительствомг и появился порядок пользования
обработанными землями из поколения в поколение в рамках определенных
родов. Значение этого порядка возрастало с ростом оседлости,
обусловливавшей обработку одних и тех же участков из поколения в
поколение. Эти участки, будучи объектом приложения труда самых
разных людей в самое разное время, естественным образом входили в
коллективную собственность. Интересно, что характер последней
также до определенной степени находился под влиянием все еще
бытующей веры в сверхъестественную тесную связь между
человеком и его имуществом. Так как, по распространенному убеждению,
над земельными участками сохранялся контроль со стороны духов
их прежних владельцев, то и наилучшие шансы в их использовании
имели потомки последних, способные наладить устойчивые
контакты с духами своих предков. То же самое происходило у высших
охотников, рыболовов и собирателей, из поколения в поколение
пользовавшихся одними и теми же богатыми природными угодьями.
Выдвинутый тезис о наследовании земли в неолите требует
оговорки, связанной с особым характером собственности на землю
в эту эпоху. Права собственности отличались определенной
иерархичностью: распоряжаться земельной собственностью мог только
род, взрослые его члены имели право владеть отдельными
участками, а отдельные семьи — право пользоваться ими267. Земля из
поколения в поколение оставалась в основном в собственности рода,
наследоваться же могло лишь право владения ею. В соответствии
с последним отдельные общинники могли передавать свои участки
в пользование другим людям или же завещать их наследникам, но
лишь в пределах рода. Сородичи ревностно следили за тем, чтобы
земля не выходила из сферы их влияния.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
353
Аналогичным образом возникло наследование наиболее ценных
объектов движимого имущества — скота, оружия, орудий
производства и т. д. Этапы этой эволюции прослеживаются у разных групп
индейцев Южной Америки. Так, у мундуруку и шавантов личные
вещи полностью уничтожались после смерти их владельца. У гуахи-
бо уничтожалась лишь часть вещей, но лодки, топоры и собаки
наследовались. Ваиваи и трио ломали большинство личных вещей
покойного, но сохраняли топоры. У более развитых народов,
например в Африке, наследовались уже все вещи покойного. Обычно их
наследование происходило внутри родовой группы, но в отдельных
случаях встречались и отклонения от этого. Так, у гуахибо
сохраненные вещи покойного доставались не только его сыну или брату,
но и зятю, а у кубео отцу наследовал сын, а матери — дочь. В
наиболее развитых папуасских обществах (медлпа, экаги и пр.)
наметилось право майората, по которому старший сын имел
преимущественное право на наследование наиболее важной собственности
отца268.
Одними из самых ранних объектов наследования были
посаженные людьми деревья (кокосовые и саговые пальмы, бананы и т. д.).
Выше делался акцент на трудовые истоки формирования
собственности. Однако, вопреки мнению части авторов (например,
Н. А. Бутинова) 269, было бы неверным только им объяснять
институт собственности в обществах, перешедших к производящему
хозяйству, в особенности после возникновения принципов
наследования. Например, во многих отцовскородовых обществах земля и ее
продукция находились под контролем мужчин, хотя женщины и
выполняли значительную долю земледельческих работ. Кстати, то
же самое отмечалось и в некоторых материнскородовых обществах,
где землей распоряжались мужчины — родственники по материнской
линии.
Этот порядок до определенной степени наблюдался у матрили-
нейных куаним па в Африке, но интересно, что у них при
доминировании мужского труда в земледелии женщины играли большую
роль в организации и регулировании земледельческих работ. У
многих групп папуасов свиноводство являлось женским занятием, но
владельцами свиней считались мужчины. У рыболовов чамбри,
обитавших на р. Сэпик, рыболовство и обмен являлись функцией
женщин, но основные средства производства контролировались
мужчинами. И таких примеров можно привести множество. Все они
свидетельствуют о том, что в позднеродовом обществе не столько сам
по себе труд, сколько уже сложившиеся отношения собственности,
в частности контроль над средствами производства, определяли
место человека в социальной структуре и обусловливали тот или иной
характер его социальной активности. Поэтому вне зависимости от
вклада женщин в снабжение общества продуктами питания — а
вклад этот нередко был весьма высок —во многих случаях в усло-
История первобытного общества
354 Глава четвертая
виях как патри-, так и матрилинейности в социальной сфере, в
частности в социально-престижных отношениях, доминировали
мужчины, в чьих руках находились основные средства производства.
Разумеется, речь здесь идет не об отдельных мужчинах, а о группах
мужчин. Никакого индивидуального контроля над средствами
производства в первобытности не было.
В соответствии с сегментарными принципами общественной
организации, о чем будет сказано ниже, социальным структурам
разного уровня иерархии принадлежали и различные права
собственности. Это хорошо показано М. Меггитом на примере земельной
собственности у энга Новой Гвинеи270. У них примерно 10% всей
территории племени находилось в общеплеменном пользовании.
Сюда входили лесистые горные хребты, болота и отложения соли.
В принципе ими могли свободно пользоваться все члены племени,
но на практике определенные преимущества получали близлежащие
роды. Вся остальная земля племени была поделена между
фратриями, а внутри них — между отдельными родами. Фратрии время от
времени воевали друг с другом за спорные пограничные территории
и нередко захватывали чужие участки земли. То же самое
отмечалось и между родами, но много реже, так как внутри фратрий
существовали моральные нормы, не одобряющие захват земли у
родственных родов.
Родовая территория имела определенное название, и на ней
выделялись участки общеродового значения: место для
церемониальных плясок, святилище, источники питьевой воды, лес и болото.
Местонахождение святилища находилось под особой охраной, и здесь
было запрещено появляться женщинам и детям. Лесные и болотные
участки служили всем членам рода для сбора хвороста, заготовки
стройматериалов, выгона свиней, а в случае надобности каждый
мог расчистить в лесу делянку и устроить там новый огород.
Родовые земли в свою очередь делились между отдельными субкланамиг
причем в распоряжении всех членов субклана находились его
площадка для танцев и дом холостяков, а остальная территория,
представлявшая собой уже исключительно огороды, передавалась более
мелким родовым группам — линиджам. В силу разнообразных
причин участки линиджей самых разных субкланов располагались
внутри родовой территории чересполосно, а земледельческими работами
на них ведали уже отдельные хозяева, которым и принадлежал
собранный с них урожай. Иногда владельцы огородов втыкали по
их периметру щепки, оберегая таким образом свои права от
посягательства со стороны чужаков. Вместе с тем, если человеку было
запрещено брать овощи с огородов другого субклана своего рода и
это рассматривалось как воровство, то член линиджа в принципе мог
удовлетворить голод клубнями с огорода своего собрата, оставив тамт
правда, знак готовности отплатить ему тем же. Впрочем, такое
использование чужих огородов случалось редко, и детей с раннего
возраста учили не залезать в огороды соседей.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
355
При описанной системе землевладения сколько-нибудь четкие
территориальные границы существовали только у отдельных родов,
тогда как границы земель фратрий и племен были весьма
расплывчатыми.
В литературе иногда встречается утверждение, что земля в позд-
неродовом обществе находилась в собственности общины.
Многочисленные этнографические данные не позволяют с ним согласиться,
свидетельствуя о том, что в большинстве случаев собственность на
землю определялась именно принципами родовой организации271.
Наиболее ярко это проявлялось в гетерогенных общинах, т. е. в
общинах, включавших сегменты различных родов, между которыми и
были поделены земельные ресурсы. Например, у матрилинейных
тонга в Африке мужу принадлежал участок земли, полученный им от
своего линиджа, а жене — соответственно от ее линиджа. На своем
участке женщина работала сама или в случае надобности ей помогали
ее родичи, но ни в коем случае не другие жены ее мужа (семья у
тонга была полигамной). Зато в обработке участка мужа участвовали все
его жены. Урожай делился в соответствии с родовым принципом:
у мужа имелись свои амбары, у жен — свои. Каждый мог
использовать свое зерно для помощи своим сородичам, но доступ жен к амбарам
мужей был ограничен. Тот же принцип распространялся частично
и на движимое имущество: дети не имели права свободно
пользоваться вещами отца, хотя в отношении вещей матери это допускалось.
Напротив, отец обладал большой свободой в использовании вещей
своих детей, и они нередко выражали недовольство по этому поводу.
Соответственным образом было организовано и наследование: землю
и другое имущество умершего мужчины наследовали его родичи,
члены его линиджа, а имущество женщины — члены ее линиджа.
В ряде случаев мужчина мог при жизни передать кусок земли в
пользование жене или детям и после его смерти они иногда
продолжали его обрабатывать. Однако сами они уже не могли никому
передать эту землю, и после их смерти она возвращалась к линиджу
отца и/или мужа.
У добуанцев муж и жена обладали не только каждый
собственным огородом, расположенным на землях своего линиджа, но и
собственной рассадой. В результате члены каждого линиджа разводили
свои сорта ямса, полученные ими от. предков. А тот, кто съел весь
свой ямс во время голода, не оставив рассады для посева, вообще
не мог больше заниматься земледелием и вынужден был жить
рыбной ловлей.
В некоторых обществах сходная ситуация наблюдалась по
отношению к скоту. Например, у матрилинейных куаним па отец мог
передать сыну корову на время для того, чтобы он пользовался ее
молоком. Но по истечении определенного срока эта корова со всем
своим потомством возвращалась материнскому роду отца. Напротив,
с даром, полученным от материнского дяди, племянник имел право
делать все, что угодно272.
1?*
356
Глава четвертая
Таким образом, до поры до времени в ранненеолитических
обществах семейной собственности еще не было. Каждый из супругов
входил в свою собственную родовую группу и обладал собственным
имуществом, которое он мог делить в первую очередь с сородичами.
Примеры этого во множестве встречались у горных папуасов, но в
отдельных наиболее развитых их группах уже началось
формирование семейной собственности273. Следовательно, говорить о
всеобщем распространении общинной собственности в позднеродовом
обществе неверно. Община могла лишь пользоваться собственностью
членов своего родового ядра, но лишь в силу того, что последние
являлись прежде всего представителями тех или иных родовых групп.
И именно родовые группы решали вопросы, связанные с передачей
наиболее важных объектов собственности, прежде всего земли.
Другое дело, что в однородовой общине ее родовое ядро совпадало с
общинным, но этого не было в гетерогенной общине, где обитало
одновременно несколько линиджей разных родов.
Преобладание родовых прав собственности накладывало
определенный отпечаток на характер потребления продуктов питания.
Давно замечено, что в позднеродовых общинах земледельческая
продукция, как правило, потреблялась внутри домохозяйств или отдельных
семей, тогда как охотничья, а иногда и рыболовческая добыча
широко распределялась между всеми общинниками. В отношении
первой, таким образом, действовали новые нормы, выработанные в
условиях развития производящего хозяйства, а в отношении второй —
древние традиционные нормы, доставшиеся в наследство от
предшествующей эпохи.
Опираясь на принципы наследования, род внимательно следил за
тем, чтобы собственность его членов не покидала его пределов, и в
идеале земля считалась вечной неотчуждаемой собственностью
рода.
Однако на практике в связи с демографическими, социальными
и иными факторами земля время от времени могла переходить из
рук в руки от одной родовой группы к другой. В особенности это
наблюдалось в относительно развитых районах, где уже начала
сказываться нехватка земли. Судя по материалам из Новой Гвинеи,
землю в этом случае можно было получить несколькими способами.
Здесь в условиях патрилинейности человек мог прибегнуть к
помощи со стороны материнских родственников и свойственников,
предоставлявших ему необходимый участок. В некоторых случаях такая
передача земельных прав имела временный характер, однако если
человек изъявлял желание инкорпорироваться в местный род и
принимал на себя все связанные с Ътим обязанности, происходила его
адопция, и он становился полноправным владельцем земли на общих
основаниях. Эта практика широко встречалась у чимбу, кума, дани,
экаги и некоторых других групп. В этом случае земля оставалась
в пределах рода, хотя и доставалась человеку, который не был
кровным родичем в биологическом смысле 274.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 357
Однако так было далеко не везде. У африканских тонга,
например, временная передача земли людям, не считавшимся родичами,
в некоторых ситуациях приводила к ее переходу от одной родовой
группы к другой275.
Другими механизмами перераспределения земельных ресурсов
были войны и переселения, хотя, за редкими исключениями,
сознательный захват земли еще не был главной целью войн. Война часто
создавала ситуацию, при которой люди вынуждены были бежать
с родовой территории и искать приют у родственников или
свойственников, предоставлявших им новые земельные участки.
Победители почти никогда не претендовали на покинутые их недругами
земли, опасаясь мести со стороны духов, и даже со временем
предлагали побежденным вернуться. Однако если последние не
выказывали такого желания, члены какого-либо из соседних родов, не
вовлеченные в войну, могли постепенно обживать пустующие земли и
по истечении определенного срока рассматривать их как свои
собственные 276.
Право первопоселения наряду с культом предков создавало
своеобразный, широко известный, например, в Африке обычай, согласно
которому потомки древнейших обитателей данной территории
продолжали считаться «владельцами земли», причем даже в том случае,
если ни один из них уже не жил на этой территории. Такое
«владение» не давало реальных прав собственности на землю, но имело
определенное ритуальное значение277. В отдельных районах оно
сыграло некоторую роль в формировании «конических кланов» и в
процессе социальной дифференциации, охватившем отдельные
родовые группы в период классообразования 278.
Особый характер имели отношения собственности, связанные
с ранним скотоводством, так как на них существенным образом
влияла высокая роль скота в престижно-социальной сфере. Будучи одним
из важнейших объектов манипуляций в рамках престижной
экономики, скот с самого начала находился в распоряжении отдельных
индивидов, которые, как правило, могли свободно отчуждать его,
руководствуясь во многом своекорыстными соображениями. В ряде
случаев родовая группа пыталась осуществлять контроль над такого
рода действиями владельцев скота, но этот контроль был слаб и
малоэффективен. Роль родовой группы неизмеримо возрастала, когда
вставал вопрос о наследовании скота. Как и в случае с другим
ценным имуществом, она зорко следила за тем, чтобы скот оставался
в ее' пределах, и поэтому наследовать его могли только родичи279.
11. Социальная организация
и ее основные принципы
Низкий уровень развития производительных сил в
первобытности не позволял еще отдельным людям и даже мелким группам
существовать автономно от общества в течение сколько-нибудь про-
358
Глава четвертая
должительного времени. Спорадически возникавшие хозяйственные,
социальные и демографические кризисы заставляли человека искать
* эффективные меры борьбы с ними. И люди весьма рано разработали
средство, в значительной мере нейтрализовавшие негативные
последствия таких кризисов. Еще у низших охотников и собирателей этой
цели служила широкая социальная сеть280. С переходом к неолиту
появились новые факторы, стимулировавшие ее развитие и
укрепление.
Среди них надо назвать прежде всего вышеотмеченную
эволюцию института собственности и формирование порядка ее
наследования, что стимулировало появление более четких социальных
групп с прочной преемственностью. В особенности это касалось
собственности на обработанную землю, передача которой из поколения
в поколение стала важной, хотя и не единственной, предпосылкой
к оседлости. Последнее привело к сужению прежней социальной
сети, так как теперь люди стремились искать супругов не в
отдаленных общинах, как раньше, а напротив, в близлежащем соседстве.
В итоге, с одной стороны, изоляция отдельных общин усилилась, но
с другой, возросла их внутренняя консолидация. Такая картина
зафиксирована этнографами у некоторых народов Юго-Восточной Азии
и Южной Африки, переходивших к земледелию в самые последние
годы.
Пространственное сужение прежней социальной сети сводило на
нет ее действие как механизма нейтрализации кризисов, и это
потребовало выработки новых и укрепления старых институтов,
способных восстановить положение. В неолите к таким институтам
относились родовая организация, возрастные классы, мужские дома и
зарождавшиеся на их основе тайные союзы, партнерство, система
лидерства, разнообразные дуальные структуры и т. д.
Универсальной основой, на которой строились конкретные
формы социальной организации в неолите, оставалось родство. В
классической первобытности его роль определялась тем, что за почти
полным отсутствием каких бы то ни было других принципов
общественной дифференциации оно одно создавало прочный фундамент,
определявший права и обязанности и соответствующие модели
поведения людей. Вместе с тем еще у низших охотников и собирателей
принцип родства281 испытывал определенные воздействия со
стороны социальной сферы. С переходом к неолиту, когда возникли
новые факторы, обусловливавшие общественную дифференциацию
(общественное разделение труда, зарождение социального и
имущественного неравенства), влияние социальной сферы на
взаимоотношения между людьми усилилось. Конечно, социальные факторы,
прямо не связанные с концепцией родства (соседские связи, союзы
и т. д.), не могли полностью заменить принцип родства, пустивший
глубокие корни в идеологии и практике первобытного населения,
однако постепенно они оттесняли его на второй план, заставляя
работать на себя.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 359
Вопреки эволюционистам, многие современные исследователи
неоднократно справедливо подчеркивали социальный аспект родства в
первобытности. Иначе говоря, по современным представлениям, не
столько само по себе формальное родство автоматически
обусловливало определенные отношения между людьми, сколько, напротив,
взятые ими на себя права и обязанности позволяли включать людей
в круг тех или иных родственников282. Однако если низшие
охотники и собиратели, как правило, не отличали такое родство от
естественного, биологического (в их понимании) и на практике нередко
отождествляли их, то люди эпохи неолита, за редкими
исключениями, довольно четко представляли себе различия между реальными
родственниками по крови и псевдородственниками, и это играло
определенную роль в конкретных ситуациях. Поэтому не удивительно,
что во многих неолитических обществах признавался равный вклад
отца и матери в формирование физического облика человека, и это
придавало определенный вес связям как с отцовскими, так и с
материнскими родственниками даже в условиях четко выраженной уни-
линейности. Возможно также, что такие представления сыгрдли не
последнюю роль в становлении концепции двойного родства.
В первобытном обществе социальное родство было той основой,
на которой строились самые различные формы общественной
организации. Наиболее распространенной из последних была родовая.
В неолите родовая организация, за редкими исключениями, приняла
сегментарный облик, т. е. в ней постепенно выделились различные
иерархические звенья, обладавшие своими собственными
функциями283. Вычленение этих звеньев на практике встречает нередко
значительные трудности в связи с крайним многообразием их внешних
форм и функций в самых различных обществах284. К настоящему
времени в мировой практике принято выделять два основных звена,
с которыми связаны все остальные. Это род (клан, сиб) и линидж.
Род объединяет унилинейную группу родственников, ведущих свое
происхождение от одного предка (женского или мужского) или
считающих символом своего единства одно и то же тотемное существо,
но не способных четко продемонстрировать свои генеалогические
связи. Как правило, род представлял собой экзогамную группу, хотя
изредка встречались и такие случаи, как, например, у папуасов-фо-
ре, когда экзогамия существовала лишь на уровне линиджа или, как
У ленду в Африке, на уровне субклана.
Экзогамия во многих случаях имела прежде всего
социально-экономическое значение. Это ярко видно у добуанцев, которые могли
свободно вступать^в половые отношения со своими
классификационными сиблингами, но брак должны были заключать только с
представителями других родов, так как брак приводил к возникновению
особых отношений не только внутри брачной пары, но и между
родичами супругов 285.
Особенностью рода являлось также единое название. Иногда
несколько родов образовывали более крупное, часто экзогамное един-
360
Глава четвертая
ство, обычно называемое фратрией. При этом во фратрии далеко
не всегда имелась концепция происхождения от единого предка, а
иногда, как у папуасов-энга, не было и экзогамии. Несколько родов
или несколько фратрий, между которыми существовали устойчивые
брачные связи, составляли племя, и его универсальной чертой
поэтому являлась тенденция к эндогамии. Последнее обусловливало и
усиление другой тенденции, в силу которой племя в значительной
мере могло считаться культурно-языковым, а следовательно, и
этническим единством. Но эта тенденция лишь со временем набирала
силу, и в раннем неолите от нее имелось много отклонений. Иногда
племя обладало мифом об общем происхождении, но это ни в коей
мере не делало его экзогамной единицей. Впрочем, и из этого
правила встречались исключения. Так, в Северо-Западной Амазонии
известны отдельные языковые общности (там их называют то
племенем, то фратрией), отличающиеся экзогамией.
Род распадался на несколько сегментов разного уровня иерархии.
Главным из них был линидж, который в отличие от рода играл
выдающуюся роль в организации обыденной жизни. Линидж обычно
состоял из группы близких родичей, четко прослеживавших между
собой родство. Члены линиджа составляли костяк отдельных домо-
хозяйств и являлись, таким образом, ядром общины или локальной
группы, так как члены всего рода были широко рассеяны по
обширной территории и обитали в самых разных поселках. Глубина ли-
ниджных генеалогий у ранних земледельцев и скотоводов была
невелика и достигала трех-четырех, реже — семи поколений. В этот
период значение генеалогий было двойственным. С одной стороны,
ценное имущество и притягательные социальные статусы, из-за
наследования которых впоследствии разгоралась самая отчаянная
борьба, еще только-только возникали. И пока что их распределение
не требовало введения строгого контроля, функцию чего и взяли на
себя со временем длинные генеалогии. Кроме того, смягчение
последствий всевозможных кризисов в раннеземледельческом обществе,
как и прежде, осуществлялось частично за счет сохранения флюид-
ности социальной организации. Это тоже препятствовало развитию
длинных генеалогий, которые могли бы затруднить действие широко
распространенного в этот период обычая адопции. Поэтому в
некоторых неолитических обществах были выработаны даже
специальные нормы, направленные на то, чтобы умершие предки поскорее
забывались, например запрет произносить имена умерших286.
С другой стороны, необходимость в генеалогиях, придававших
строгость социальной структуре, в неолите все же имелась. По
сравнению с низшими охотниками и собирателями в численно
возросших неолитических обществах количество хозяйственных и
социальных проблем увеличилось, и отдельная мелкая группа
самостоятельно уже не справлялась с их решением. Это и обусловило
возникновение сегментарных родовых структур, призванных поделить
решение этих проблем между родовыми сегментами разного уровня
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
361
иерархии. А формирование этих структур, во всяком случае на
низших уровнях иерархии, шло в соответствии с генеалогическим
принципом. На более высоких уровнях этот принцип сохранялся,
приобретая облик псевдогенеалогий или мифологического родства.
Всеобщей чертой сегментарных родовых структур являлась,
следовательно, иерархическая соподчиненность их звеньев и
соответствующее распределение между ними самых разнообразных функций.
При наличии эгалитарной идеологии звенья одного уровня даже в
условиях фактического неравенства считались эквивалентными и
обладали равными статусами. Они могли соперничать друг с другом,
но на более высоком уровне объединялись и выступали единством
по отношению к внешнему миру. Так, главной функцией линиджа
был общий труд, и большинство коллективных работ производилось
прежде всего на линиджной основе. Кроме того, линидж устраивал
для своих членов некоторые церемонии и ритуалы, например по
случаю болезни, брака и т. д.
Наиболее важную в социальном плане единицу составлял род,
а чаще всего его подразделение — субклан. Обычно именно в
рамках субклана собирался брачный выкуп, осуществлялась выцлата
за пролитую кровь, организовывались некоторые церемонии
(погребальная, брачная, инициации и пр.) и ритуалы (например,
ритуальный каннибализм у бена-бена). Нередко в функцию субклана
входили кровная месть и военные набеги. Внутри него имелись
механизмы для мирного решения ссор. В ряде случаев именно субклан
был основой для создания временных рабочих групп, исполнявших
наиболее трудоемкие работы (расчистка огородов, строительство
домов и т. д.). Иногда он обладал общим ритуальным имуществом
(священными флейтами и другими предметами культа), имел единый
мужской дом и церемониальную площадку. Тем самым субклан
являлся одной из важнейших социально-потестарных единиц в
неолитическом обществе и, как будет показано ниже, играл не последнюю
роль в развитии системы лидерства. ]
Обладавший гораздо большими размерами, род был, как правило,
распылен по значительной территории, в отличие от субклана,
члены которого жили если не в едином поселке, то по крайней мере в
ближайшем соседстве. Члены рода не могли столь же часто и
оперативно собираться и действовать вместе, как члены субклана, и
поэтому социальные функции рода были более ограничены. Род, как
правило, являлся крупнейшей социальной единицей, ведавшей
распределением и перераспределением участков возделанной земли. Он
организовывал важнейшие церемонии, как, например, обадевг «тее»
у папуасов-энга и обмен «мока» у медлпа. Он же ведал устройством
крупнейших праздников, на которые приглашались представители
других родов и которые тем самым служили этнической
консолидации. Внутри рода изредка вспыхивали вооруженные столкновения,
но при этом противники стремились избегать смертных исходов.
Как правило, родовая солидарность служила гарантом внутреннего
362
Глава четвертая
мира. Все эхо обусловливало чувство общности, и в ряде случаев
(например, у гахуку-гама на Новой Гвинее, шавантов Бразилии,
некоторых народов Северной Америки) 287 именно членов своего
рода люди относили к категории «одного народа», «наших людей».
Впрочем, вышеотмеченное разграничение функций между родом
и субкланом имело в разных обществах разный вид и приближалось
к описанной картине лишь в тенденции. Например, такие функции,
как кровная месть, устройство набегов, плата за кровь, организация
погребальных церемоний и коллективных работ и т. д., могли
входить в сферу компетенции не субклана, а рода. Все зависело от
конкретной ситуации и прежде всего от размеров соответствующих
родовых единиц и характера их расселения. Иногда, как в случае с абе-
лям или шавантами, роды были еще так малы, что они вообще не
сегментировались, и им, следовательно, не с кем было делить
многочисленные социальные и хозяйственные функции. Напротив, у
равнинных тонга и некоторых других африканских народов
сегментировались даже отдельные линиджи.
Более крупные, чем род, единицы — фратрия и племя —
выступали как единое целое крайне редко, и их социальные функции
были минимальны, хотя от этого они не теряли своей важности. Чаще
всего именно они служили основой для заключения военных
оборонительных союзов, и именно внутри них действовали рычаги
престижной экономики с ее церемониальным обменом и потлачевидными
празднествами. Кроме того, внутри них действовали механизмы, до
определенной степени смягчавшие последствия вооруженных
столкновений и заставлявшие противников воздерживаться от убийства
и вести войну по определенным правилам. Хотя церемонии
общеплеменного уровня возникли у ранних земледельцев весьма рано,
общеплеменной религиозный культ развился далеко не сразу. Он,
например, был неизвестен папуасам Новой Гвинеи, но встречался у
некоторых отсталых земледельцев Африки, достигших более высокого
уровня развития (банту Восточной Африки, иракве и другие
земледельцы Западной Африки и пр.).
Размеры вышеописанных родоплеменных подразделений и их
количество в разных обществах сильно колебались в зависимости от
экологии, особенностей хозяйственной жизни и уровня социального
развития. В наиболее развитых обществах горных папуасов (эига и
чимбу) размеры племен и фратрий достигали в среднем 1000—
5000 человек, родов — 100—1000 человек, субкланов — 50—200
человек, а в линиджах насчитывалось по нескольку десятков членов.
У кубео Бразилии в племени насчитывалось примерно 3000 человек,
во фратрии — 1000, а в роде — 100. У ленду Восточной Африки
роды достигали размеров 1000 человек, а субкланы — 150—300
человек.
Формирование сегментарнойорганизации происходило на
протяжении неолита, о чем можно судить на основе сравнительных
этнографических данных. Первоначально рост населения вел, видимо, на
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
363
к образованию сегментарных структур, а к возникновению большого
количества однопорядковых групп, полностью порвавших прежние
связи друг с другом. Так, разросшиеся роды у абелям делились не
на субкланы, а на новые экзогамные роды, полностью независимые
друг от друга. Как видно по материалам Северной Америки, этому
способствовало в особенности подвижное подсечно-огневое
земледелие, не стимулировавшее формирование линиджей288. Описанный
процесс некоторые авторы предлагают именовать расколом, в
отличие от сегментации, при которой вновь возникшие структуры во
многом продолжали сохранять прежние отношения друг с другом и в
определенных ситуациях выступали как единое целое289.
Ранний этап сегментации иногда также удается проследить
этнографически. Так, появление батата у папуасов-каимби в конце
XIX в. вызвало быстрый рост населения, в результате чего прежние
мелкие родовые группы (по 20—100 человек) разрослись и начали
распадаться. В итоге здесь возникла типичная позднеродовая
организация с тремя-четырьмя уровнями сегментации290. Аналогичные
примеры можно обнаружить и в Африке291. Поводом к сегментации
первоначально служили ссоры из-за женщин, имущественных прав,
обвинений в колдовстве и т. д., но в их основе лежали более глубокие
причины — рост населения и усложнение социально-экономических
отношений. Эти базисные процессы поставили перед людьми
множество новых проблем, для решения которых еще не выработалось
адекватных механизмов. Поэтому-то на первых порах их и решали
простейшим способом — путем сегментации, в результате которой
враждующие стороны пространственно отделялись друг от друга во
избежание эскалации напряженности. Формирование все более
разветвленной сегментарной организации с ростом населения
прослежено у папуасов-кума. Здесь роды размерами в 100—300 человек
делились только на субкланы, при разрастании их до 200—900
человек они уже делились на субкланы и субсубкланы, а по
достижении размеров в 700—1700 человек распадались на две половины,
субкланы и субсубкланы Каждая из этих иерархических родовых групп
обладала теми или иными функциями, но в обыденной жизни
наибольшее значение имела мельчайшая единица, насчитывавшая
несколько десятков человек. Со временем в процессе сегментации все
большую роль начали играть амбиции лидеров, соперничавших друг
с Другом за власть. Однако именно развитие института лидерства в
дальнейшем было призвано затормозить процесс сегментации и
обусловить обратный процесс слияния в рамках единой потестарной
организации.
Явление сегментации было не сразу осознано людьми, и об этом
также свидетельствуют данные этнографии. Например, папуасы-бе-
набена отрицали наличие у них социальных единиц, более мелких,
чем род, хотя на практике здесь вычленялись и субкланы, и линид-
нш. Более развитые папуасы, например чимбу, уже осознавали
процесс сегментации, и у них имелись специальные термины для обо-
364
Глава четвертая
значения фратрий, родов и субкланов. Папуасские материалы
вообще хорошо иллюстрируют ранние этапы сложения сегментарной
родовой организации292.
В процессе оседания, с ростом роли постоянных земельных
участков и их наследования в отдельных случаях сегментарная родовая
организация еще больше усложнилась, укрепилась и стала более
жесткой. При этом возросло значение концепции связи с умершими
предками, воплотившейся в развитый культ предков. Возросла и
роль генеалогий, некоторые из них насчитывали 10 и более
поколений. Такая картина в Африке наблюдалась, например, у талленси,
а в Юго-Восточной Азии в этом направлении шло развитие у части
сеноев293. Однако это, видимо, не было всеобщей закономерностью.
Судя по некоторым океанийским материалам, оседание и
сокращение земельных ресурсов, напротив, могли повлечь ослабление
родовых структур294.
Наряду с расколом и сегментацией в неолитических обществах
наблюдались и процессы объединения, слияния. Они происходили
в тех случаях, когда ослабевшие от голода, эпидемий или войн
группы не могли больше существовать как автономные единицы.
Иногда эти группы специально приглашали родственников,
свойственников и друзей занять пустующие на их территории участки и
инкорпорировали их в свой состав. Иногда же они покидали родную
территорию и сами входили в состав какой-либо более сильной
группы. Слияние групп могло, впрочем, происходить и на другой основе.
Так, у окебо в Конго субкланы разных родов, которые достаточно
долго жили рядом, переставали заключать браки друг с другом и
начинали считать себя принадлежащими одному роду295.
Во всех описанных случаях слияния вновь
инкорпорировавшиеся в род пришельцы получали соответствующие права и
обязанности и изъявляли согласие придерживаться принятых здесь
традиционных норм, без чего инкорпорация была невозможной. При этом
их начинали считать родичами и соответственно к ним относиться,
хотя четко отличали их от реальных кровных родственников.
Однако на их потомков распространялась концепция кровного родства,
ибо, как указывалось выше, генеалогические знания отличались
скудностью и до поры до времени генеалогии большого значения не
имели. Такой процесс инкорпорации получил в науке название
«адопция». Он был шпроко распространен в неолитических
обществах и играл большую роль в перераспределении населения между
различными родовыми группами. Адопция еще раз подтверждает
тезис о том, что родство в первобытности имело прежде всего
социальное значение, так как адоптированные в родовую группу чужаки,
получавшие полный статус.родичей, составляли в ней иногда
весьма значительный процент (от 20 до 50%), судя по папуасам-абелям,
бенабеиа, медлпа, энга и пр. В ряде районов Новой Гвинеи адопция
облегчалась, кроме всего прочего, еще и тем, что единая субстанция,
объединявшая, по понятиям папуасов, членов рода, обреталась не
ПОЗДНЕДБРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
365
только общим биологическим происхождением, но и участием в
дележе пищи с родовой территории, общим трудом, а также
совместным проживанием296. Сходная концепция родства встречалась и в
других регионах мира, например у шавантов Бразилии 297. Н. А. Бу-
тинов называет такое родство «общинным», однако правильнее
сохранить за ним термин «социальное родство», так как оно не везде
было связано только с общиной. Например, у маджангир в Африке
оно зафиксировано в условиях хуторской системы расселения, где
сколько-нибудь четких общин не наблюдалось298.
В тех раннеземледельческих обществах, где с развитием
социально-экономических отношений происходило укрепление родовой
организации и она становилась все более жесткой, адопция начинала
встречать некоторые трудности. Там адоптированные члены родовой
группы были лишены ряда важных прав, и только их внуки
становились уже полноправными родичами. Это наблюдалось на Новой
Гвинее у энга, кума и чимбу299. Впрочем, недавно адоптированные
в родовую группу чужаки и в других случаях занимали в обществе
особое положение и в определенных ситуациях были весьма
уязвимы. Известны примеры, когда именно их обвиняли в неудачах,
постигших группу, причем иногда дело доходило до их убийства300.
Социальная природа родства выражалась в первобытности не
только в обычаях адопции, но и в том, что в случае острой
необходимости отношения родства могли свободно пересматриваться.
Например, в условиях ухудшения брачной обстановки один из
лидеров яноама перевел некоторых из своих классификационных сестер
в другую категорию, для того чтобы его сыновья могли взять их
дочерей себе в жены. У тех же яноама наблюдался и пересмотр
родственных связей по политическим мотивам: иногда люди отрицали
родственные связи с теми, с кем они издавна воевали, и, напротив,
утверждали о наличии таких связей в том случае, когда хотели
завязать дружбу с бывшими врагами. И то, и другое делалось
вопреки очевидным фактам, прослеживаемым генеалогически. У папуасов
Новой Гвинеи также встречались случаи, когда лидеры в
соответствии со своими интересами искусственно изменяли действие
принципов родства 301.
С переходом к неолиту и разрастанием отдельных социальных
организмов прежние принципы родства должны были неизбежно
измениться. Этот процесс развивался постепенно, но чтобы понять его
смысл, необходимо, хотя бы вкратце, дать характеристику
некоторым важнейшим видам первобытного родства. В современной науке
узаконенную связь ребенка с родителями принято называть
филиацией, а его генеалогически прослеживаемую связь с предками —
линейным (линейно-степенным) родством (Descent)302. И то, и другое,
будучи признано обществом, становилось важным фактором,
определявшим место человека в обществе и закреплявшим за ним
определенные права и обязанности. Оба эти способа установления
родства появились лишь на определенных этапах развития общества.
366
Глава четвертая
У древнейших охотников и собирателей их не было 303. Что же
касается их соотношения друг с другом, то вследствие относительно
позднего возникновения и укрепления генеалогического принципа,
с которым связано линейно-степенное родство, появление филиации
следует относить к более раннему периоду. И действительно, если
она возникла на определенном этапе у низших охотников и
собирателей, то линейно-степенного родства нередко не было и у ранних
земледельцев и скотоводов.
Линейно-степенное родство допускает инкорпорацию человека в
родовую группу по принципу его генеалогических связей с общим
отдаленным предком этой группы, а филиация требует для этого лишь
общепризнанной связи с родителями. Линейно-степенное родство
включает два вида: 1) унилинейное (связь с предками
прослеживается исключительно либо по женской, либо по мужской линии. В
первом случае речь идет о материнском, или утеринном, родстве, во
втором — об отцовском, или агнатном, родстве); 2) билинейное
(двойное), или когнатное (связь с предками прослеживается
одновременно и по мужской, и по женской линии). Филиация всегда
предполагает наличие билатеральности, однако, чтобы различить разные
принципы инкорпорации в родовую группу в период до появления
линейно-степенного родства, было предложено использовать такие
термины, как «патрифилиация» и «матрифилиация»304. Ведь членство в
родовой группе, первоначально не требовавшее учета каких-либо
генеалогических категорий, опиралось тем не менее на факт кровной
связи с одним из родителей. А уж посредством последнего человек
находил свое место в группе, вступая с ее членами в обусловленные
им вполне определенные отношения.
Преобладание в первобытных обществах матри- и патрифилиа-
ции называется иначе «горизонтальным родством» 305, а
преобладание линейно-степенных принципов — «вертикальным родством». На
практике различия между ними проявились, в частности, в том, что
в первом случае во вступлении женщин в брак были заинтересованы
прежде всего их братья, а во втором — их отцы или дядья. Это
происходило по следующим причинам. В первом случае встречались
преимущественно браки-обмены сестрами, и в их устройстве,
естественно, были заинтересованы именно братья, так как они получали
невест только в обмен на родных или классификационных сестер.
При этом молодой муж делал подарки брату жены. Впоследствии, с
перестройкой брачных обычаев, о чем будет сказано ниже, выгоду и
от выкупа за невесту, и от отработок стали получать именно отцы
(или дядья) девушек. Соответственно строились и модели поведения,
что имело далекоидущие последствия 306. °
Возникнув еще в среде низших охотников и собирателей,
принципы матри- и патрифилиации продолжали играть большую роль у
ранних земледельцев и скотоводов, определяя характер их
общественной структуры. Так, патрифилиация была широко
распространена у папуасов Новой Гвинеи, а матрифилиация — у многих групп
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
367
Северной Америки. Вместе с тем развитие производящего
хозяйства и высших форм присваивающего хозяйства, вызвавшее целый ряд,
существенных социально-экономических, демографических и иных
изменений, поставило перед обществом серьезные проблемы,
решение которых во многих случаях достигалось путем
совершенствования и ужесточения родовых принципов. Вызвав к жизни длинные
генеалогии, этот путь развития привел к становлению
линейно-степенного родства. Таким образом, переход к более эффективным
формам первобытного хозяйства стал для него важнейшей
предпосылкой307.
С точки зрения структурных принципов формирование линейно-
степенной системы родства означало переход к позднеродовой
организации 308. Следовательно, наличие матри и патрифилиации в
раннеземледельческих обществах до известной степени сближает их по
социальной структуре с наиболее развитыми из низших охотников и
собирателей. Иначе говоря, существенные изменения в родовой
организации наступили с переходом к производящему хозяйству не
сразу.
Судя по современным этнографическим данным, среди групп,
перешедших к производящему хозяйству, матрилинейнооть и матрифи-
лиация встречаются чаще всего у наиболее отсталых народов,
занимающихся палочно-мотыжным земледелием. Напротив, с развитием
скотоводства и возникновением пашенного земледелия проявляется
отчетливая тенденция к переходу к патрилинейности. И вместе с
тем в XIX —начале XX в. патрифилиация была распространена у
палочно-мотыжных земледельцев ничуть не меньше, чем матрифи-
лиация309. Конечно, используя эти данные, нельзя не учитывать
изменений в традиционной культуре отсталых'обществ, вызванных
их соседством с классовыми обществами, особенно в новое время310.
И все же облик целого ряда основанных на патрифилиации обществ,
хорошо описанных этнографами, был таков, что его никак не
возможно объяснить действием каких-либо внешних влияний.
Классическим примером таких обществ являются многочисленные группы
папуасов Новой Гвинеи. Следовательно, было бы неверным
реконструировать социальную структуру древнейших земледельцев как
основанную исключительно на принципах материнского родства. Отцов-
скородовая организация у них кое-где также встречалась, хотя
этот факт и не нашел еще достаточно убедительного объяснения в
науке311. Пока что остается неясным, почему в одних случаях у
ранних земледельцев наблюдался материнский род, а в других —
отцовский. Возможно, ответ на него будет найден йосле того, как
прояснится вопрос о характере социальной структуры предшествовавших
переходу к производящему хозяйству обществ. В этой связи
интересным представляется тот факт, что наиболее отсталые папуасские
группы, которые лишь недавно перешли к земледелию и
свиноводству буквально на глазах у этнографов, уже отличались патрифилиа-
цией.
368
Глава четвертая
Правда, как свидетельствуют археологические данные, древне-
земледельческое население многих районов мира едва ли не с самого
начала изготовляло и использовало культовые женские статуэтки.
Это встречалось в Передней Азии, в Закавказье, на Балканах, в
Средней Азии, в Египте, в Индии, в Северном Китае, в Мезоамерике, в
некоторых областях Южной Америки и т. д. А в Японии эти
фигурки появились еще у охотников и рыболовов дземона. По мнению
некоторых специалистов, такие статуэтки говорят исключительно о
культе богини-матери, отражавшем высокое положение женщин в
обществе, следовательно, наличие материнскородовой организации312.
Подобная цепь рассуждений далеко не бесспорна. Во-первых,
многочисленные этнографические материалы позволяют самую
разнообразную интерпретацию этих фигурок, даже если исходить из их
культового назначения313. Во-вторых, возникновение веры в женское
божество как символ плодородия возможно и в отцовскородовом
обществе, примеры чему известны у папуасов314. Наконец, в-третьих,
между высоким общественным положением женщин и формой
родовой организации нет жестких связей. С одной стороны,
общественное положение женщин в материнскородовых обществах нередко
было приниженным и основную роль в социально-потестарной сфере
играли мужчины315. Но с другой, известно немало случаев, когда
даже в условиях патриархальности положение женщин было довольно
высоким, например у многих кочевников Азии 316.
До сих пор в науке еще не изжито выдвинутое Э. Гроссе и
развитое Венской культурно-исторической школой положение о том,
будто бы матрилинейность являлась следствием перехода к
земледелию, который сделал женщину главным производителем и
поставщиком пищи, а это в свою очередь поставило ее во главе общества.
Как было показано выше, неправомерно связывать земледелие,
даже самое раннее, исключительно с женским трудом317. Чисто
женское земледелие, не опиравшееся в той или иной степени на помощь
мужчин, вряд ли когда-либо существовало. Женский труд
действительно играл в раннем земледелии большую роль, но это
наблюдалось не только в материнскородовых, но и в отцовскородовых
обществах.
По-видимому, если уж искать связи между производственной
деятельностью человека и социальной организацией в первобытности,
следует учитывать не общий объем полученной продукции, а
характер организации труда и некоторые другие социальные моменты.
Например, обычай отработки за жену заставлял юношу жить вместе с
ее родичами, что уже само по себе благоприятствовало матрилокаль-
ности. А так как жена предпочитала работать на огороде вместе со
своими сестрами и матерью, а не со свекровью и свояченицами, то и
это создавало почву для матрилокальности. Такая картина
встречалась, например, в Южной Америке у пиароа и ваиваи318. В свою
очередь делая женщину основой культурной преемственности, мат-
рилокальность, как это выявили еще эволюционисты319 и обосновал
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
369
Дж. Мэрдок320, способствовала существованию материнскородовой
организации. Однако эта возможность реализовывалась не всегда.
Иногда в обществе, где социальная роль мужчин была весьма
велика, имелись какие-то особые, еще слабо изученные механизмы,
действие которых в условиях матрилокальности могло повлечь
становление патрифилиации. Среди типологически весьма ранних обществ
с производящим хозяйством встречались, в частности, такие, где пат-
рифилиация сочеталась с матрилокальностью. Так, у центральных
же (шавантов и шерентов) при сохранении типичной для всех же
матрилокальности развилась характерная отцовскородовая
организация321.
Таким образом, бытовавшее одно время в нашей науке мнение о
том, что все известные по археологическим данным
раннеземледельческие общества характеризовались исключительно
материнскородовой организацией, представляется неточным. Вместе с тем в
настоящее время имеются бесспорные доказательства того, что по крайней
мере в ряде случаев в таких обществах женщины действительно
занимали высокое положение, связанное, очевидно, с материнским
правом. Об этом говорят, например, находки моделированных
глиной женских черепов в сирийско-палестинском районе и особый
характер женских погребений в Чатал-Гуюке 322.
По особенностям инкорпорации своих членов, типам брачного
поселения, отношению к детям, брачным нормам и многим другим
принципам материнско- и отцовскородовая организация были схожи.
Их резкое различие заключалось главным образом в том, что пол
супруга, пришедшего со стороны, в обоих случаях был разным. А так
как и там, и там в социально-потестарной сфере, за редкими
исключениями, господствовали мужчины, то это имело самые серьезные
последствия для функционирования родовых механизмов,
построенных на разных принципах. Если отцовскородовая система требовала
передачи важных социальных статусов и ценных видов имущества
от отца к сыну, то при материнскородовых отношениях речь шла о
переходе их от дяди к племяннику. Переселение жены к мужу в
условиях отцовского рода никак не влияло на систему власти, а пере-
; селение мужа к жене в условиях материнского рода создавало
важный фактор напряженности между мужчинами — родичами и
свойственниками. Последнее часто ослабляло систему власти. Чтобы
бразды правления не выпадали из рук мужчин-родичей, в условиях
материнскородового строя баланс восстанавливался тремя
известными способами. Чаще всего речь шла о многородовых общинах, где
в обстановке общинной эндогамии мужчина, хотя и переходил в
семью жены в силу требования матрилокальности, но не менял при
этом общинной принадлежности. Поэтому материнскородовые
общины нередко отличались более крупными размерами, чем отцовско-
родовые.
Описанный способ сохранения власти в руках мужчин-родичей
был не единственным. У добуанцев, например, был известен поря-
370
Глава четвертая
док, в силу которого семьи жили попеременно то в общине жены, то
в общине мужа. При этом у них сохранялись мелкие однородовые
общины по 20—50 человек. Наконец, третьим способом достижения
той же цели была смена локальности брачного поселения и
возникновение вириавункулокальности, при которой молодая семья
селилась в поселке материнского дяди мужа.
Власть мужчин-родичей при матрилинейности поддерживалась и
-некоторыми механизмами морального давления. Чтобы принизить
роль мужчин-чужаков, кое-где отмечались пренебрежение к
отцовству и более или менее четкое представление об отсутствии связи
между половой активностью и физическим воспроизводством.
Имелись и некоторые другие механизмы, призванные принизить
социальную роль мужа и отца. Поэтому становление моногамной семьи
здесь встречало гораздо большие трудности, чем при отцовскородо-
вом строе.
Вместе с тем пришедшие со стороны мужчины далеко не везде
чувствовали себя постоянно неполноправными. Например, у многих
групп же в Бразилии руководство в большой материнской семье
принадлежало отцу, т. е. старшему зятю.
Материнскородовые отношения не способствовали развитию
длинных генеалогий, и процессы сегментации здесь натыкались на
многочисленные препятствия 323. Разумеется, и тут не обходилось без
исключений. Выше уже упоминались матрилинейные тонга Африки,
равнинные группы которых знали даже сегментированные линиджи.
Все перечисленные и (многие другие факторы обусловливали
упадок матрилинейных структур и, напротив, расцвет патрилинейных в
процессе классообразования, когда и социально-экономические
отношения, и социальные институты значительно усложнились.
Наоборот, в ранний период материнскородовые группы могли кое-где иметь
определенные преимущества над отцовскородовыми.
В неолитических обществах механизмы зачатия в целом были,
как правило, уже так или иначе известны. Иначе говоря, рождение
ребенка связывалось не только с матерью, но и с отцом. Известное
у куаним па в Африке представление о том, что ребенок получал от
матери субстанцию (кровь), а от отца форму, было*в этом
отношении весьма типичным. С сужением прежней социальной сети
концепции такого рода приобрели большое социальное значение,
позволяя снова раздвинуть ее, но уже на иной основе324. Как теперь
выяснено, даже в условиях унилинейности в одних и тех же обществах
могло допускаться действие разных принципов родства,
приуроченное к различным сферам жизни. Так, у тех же матрилинейных
куаним па сын сохранял тесную связь с материнскими родичами отца
и в случае войны должен был выступать на их стороне против
своих собственных родичей. У матрилинейных тонга мужчина имел
большие права по отношению к «лутунду», т. е. группе, состоявшей
из его сыновей и внуков. Эти права позволяли ему осуществлять
значительный контроль над их имуществом. У патрилинейных тал-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 371
ленси колдовские знания передавались от матери к дочери, а
материнские родичи участвовали в совместных жертвоприношениях.
Наконец, у патрилинейных папуасов материнские связи играли
большую роль в перераспределении населения, так как к обычаю адоп-
ции прибегали прежде всего материнские родственники325. В ряде
случаев экзогамия распространялась не только на унилинейных
родственников, но на часть родственников и по другой линии.
Например, у матрилинейных тонга были запрещены браки с членами ли-
ниджа отца, а у патрилинейных талленси и папуасов-маринг — с
ближайшими материнскими родственниками. В матрилинейных
обществах описанные отношения часто являлись симптомом перехода
к патрилинейности, как, например, у равнинных тонга.
Помимо унилинейных систем родства, у ранних земледельцев
встречались порой системы с двойной филиацией. На Новой Гвинее
они были известны, например, у гадсуп, гариа и населения о. Коле-
пом, в Юго-Восточной Азии их зафиксировали у сеноев, в Южной
Америке — у северных же, ваиваи, трио, йекуана и т. д. По мнению
некоторых специалистов, они возникали как переходная стадия при
смене материнской филиации отцовской. Однако при этом могли
появляться настолько эффективные механизмы социальной
сплоченности, что они с успехом заменяли родовую организацию и тормозили
становление патрилинейности.
Одной из важных задач первобытной социальной организации
было сохранение преемственности, при которой все социальные
роли и статусы постоянно и бесперебойно функционировали. Этому
полностью соответствовали родовые принципы, по которым дети
наследовали статус одного из родителей. Вместе с тем теперь известны
примеры неродовых механизмов, справлявшихся с этой задачей
ничуть не хуже. К таким механизмам можно отнести «наследование
теней» (т. е. душ умерших) у африканских тонга и передачу имен у
бразильских же. Эти механизмы, по-видимому, возникли еще в
недрах родового общества. Так, наследование имен существовало в
таком классическом материнскородовом обществе, как общество добу-
анцев. Однако с распадом родовой организации они могли не только
сохраниться формально, но и с успехом во многом ее заменить.
Тонга верили, что духи предков строго следят за культурной
преемственностью и требуют сохранения всех прежних порядков —
системы власти, разделения труда, в частности постоянного
функционирования проторемесел и т. д. Поэтому умершего человека всегда
Должен был заменять его наследник, на которого и переходили все
его права и обязанности. Внешним символом такой
преемственности служила церемония «передачи тени», при которой преемник как
бы обретал душу покойного, а вместе с ней и его место в
социальной структуре. В частности, он становился главой его «лутунду»,
исполнял его хозяйственные функции (проторемесло) и, если покойный
был ритуальным лидером, брал на себя и эту обязанность.
Наследником чаще всего становился член линиджа покойного, но если та-
^72
Глава четвертая
нового не находилось, эти функции брал на себя прямой потомок
покойного, а не член его рода. Иначе говоря, наследование теней у
тонга допускало действие билатерального принципа, хотя и в
ограниченных размерах 326.
У северных же целям социализации служила церемония
«передачи имен». У разных народов ее детали несколько различались, но
в общих чертах смысл этой церемонии сводился к введению ребенка
(мальчика или девочки) в социальную жизнь. Его место в последней
определялось тем статусом, которым обладал человек, передававший
•ему свое имя. Тем самым донор и реципиент как бы
отождествлялись, что вело к сохранению определенных ролей и статусов на
протяжении многих поколений. Мальчик получал имя от брата матери,
а девочка — от сестры отца. Донор передавал реципиенту свои
знания и навыки, обучая его хозяйственной деятельности, нормам,
ритуалам и пр. Отождествление их друг с другом проявлялось, в част-
шости, в том, что, получив имя, юноша, например, начинал называть
детей брата матери своими детьми. Церемония передачи имен
порождала сплоченные «именные группы», члены которых обладали
одними и теми же именами, имели один пол, входили в одну
церемониальную половину и исполняли тождественные ритуальные роли.
Однако они не находились в близком родстве и даже могли входить в
разные племена. Все это было характерно, например, для крикати,
где, следовательно, преемственность во времени основывалась не на
родстве, а на «именных отношениях». Во имя такой
преемственности крикати сознательно отказывались от генеалогической
информации и старались поскорее забывать умерших 327.
В условиях двойной филиации общинные отношения часто
сливались с родственными, а группа родственников и община
терминологически не различались. И то, и другое обозначалось одним термином,
означавшим «мои люди», т. е. население данного и ближайших
поселков, а в узком смысле — те, к кому обращались с помощью
терминов родства. У северных же такими терминами являлись у
крикати «мекву», у крахо «мейхиа», у апинайе «квойя», у каяпо «омбиква»
и т. д. У сеноев Юго-Восточной Азии в том же значении
использовался термин «май», а у населения о. Колепом (Новая Гвинея) —
термины «яеентйеуе» (для реальных и классификационных сиблингов) и
«тйипенте» (для родственников, принадлежавших к нескольким
поколениям). У гариа на основе двойной филиации сложились
определенные социально-потестарные единицы, обладавшие экзогамией и
включавшие в себя все новых и новых свойственников.
г
12. Характер общин
и территориальная организация^
Так как род, а тем более входившие в него более мелкие
подразделения отличались экзогамией, то территориальные группы,
объединенные признаком совместного обитания, неизбежно состояли из
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
373
представителей разных родов. Наиболее важной из таких
территориальных групп являлась община. Облик неолитических общин был
весьма многообразен, но в целом их удается свести к нескольким
основным типам328. По признаку социальной организации они
подразделялись на однородовые и многородовые (гетерогенные), а по
системе расселения — на компактные поселки и хутора. Из них лишь
однородовые общины до определенной степени напоминали более
древние общины низших охотников и собирателей. Остальные
типы общин возникли только в неолите. <
Однородовые общины формировались на основе одного рода или
родового подразделения, члены которого й составляли общинное
ядро. Остальная часть общины состояла из лиц, пришедших сюда по
браку, и некоторых других Категорий людей. Например, типичная
патрилинейная родовая община включала мужчин-сородичей, их жен
и матерей, незамужних сестер и дочерей. Кроме того, в общину
временно или постоянно могли входить материнские родственники, род-
сткенники жен и даже иноплеменники, чему способствовали обычаи
гостеприимства и адопция. Адоптированные члены общины сразу
или со временем входили в ее родовое ядро. Однородовая община по
своему характеру не могла ^сколько-нибудь долго находиться в
изоляции, потому что для постоянного воспроизводства своих членов
она должна была опираться на брачные связи с другими общинами.
Это порождало регулярные межобщинные контакты.
Многородовая община включала сегменты различных родов и
в принципе могла существовать изолированно от других общин, так
как люди часто находили супругов внутри нее. И действительно, в
подавляющем большинстве многородовых общин отмечалась
тенденция к эндогамии. Так, на Новой Гвинее внутри многородовой
общины заключалось браков у абелям более 70%, у населения верховьев
р. Флай — до 85%, а у гадсуп, таирора и ава — до 90% 329.
Для того чтобы система браков внутри многородовой общины
работала бесперебойно, такая община должна была иметь довольно
крупные размеры. Как правило, население многородовых общин
составляло от 100 до 1000 и более человек, тогда как в однородовых
t оно колебалось в пределах от 25—50 до 350—400 человек. При
наличии многочисленного населения и оседлости многородовые
общины могли существовать лишь в условиях относительно хорошо
налаженного снабжения пищей. Это встречалось в районах с
богатыми ресурсами, где, кроме того, имелись особые технические
приспособления, облегчавшие их добычу и транспортировку. Например, на
Новой Гвийее наиболее крупные общины по 1000—2000 человек ло-
кализовалдсь в низовьях крупных рек, богатых зарослями саго и
" рыбой. Там же имелись и лодки, облегчавшие перевозку
значительной продукции.
В некоторых местах многородовые общины возникали там, где
особый характер земледельческих работ требовал высокой
кооперации труда. Последнее наблюдалось у дани Новой Гвинеи в условиях
374
Глава четвертая
относительно развитого земледелия, одним из важных методов
которого служили ирригация и дренаж.
Внутреннее единство многородовых общин, ослаблявшееся
родовыми принципами, требовало выработки особых механизмов
сплочения, прорезавших границы отдельных родов. И поэтому именно
в этих общинах чаще всего встречались такие институты, как
возрастные классы, ритуальные половины, общинные церемонии,
тайные союзы и пр.
На становление крупных многородовых общин определенное
влияние оказало развитие военного дела. Не случайно они нередко
встречались именно там, где войны отличались наибольшей
интенсивностью и где, чтобы обезопасить себя, люди вынуждены были
селиться в крупных компактных поселках. Вместе с тем
возникновение многородовых общин с их устойчивой изоляцией в свою очередь
способствовало росту межобщинной враждебности.
Если отвлечься от их относительных размеров, однородовые и
многородовые общины по внешнему облику мало чем отличались
друг от друга. Так, компактные поселки служили местом обитания и
для однородовых (сиане Новой Гвинеи), и для многородовых (абе-
лям) общин. И там, и там могли встречаться мужские дома, причем
если в некоторых многородовых общинах у каждого родового
подразделения имелся свой мужской дом, то в других один мужской
дом объединял всех мужчин общины независимо от родовой
принадлежности. В однородовых общинах также могло встречаться
несколько мужских домов, каждый из которых принадлежал
отдельному линиджу. Аналогичная картина наблюдалась в северных
районах Южной Америки, где общинный дом мог строиться на
однородовых принципах (ваиваи, кубео), а мог и на многородовых (яноа-
ма).
Не меньшее разнообразие выявляется при сравнении типов
общины и типов родовой организации. На Новой Гвинее патрилиней-
ность допускала существование и однородовых, и многородовых
общин. То же самое можно сказать и о матрилинейности, опираясь на
массовые африканские материалы. Тем не менее следует
подчеркнуть общую тенденцию, в силу которой матрилинейные общества
тяготели к созданию многородовых общин. Это происходило потому,
что только в этих условиях мужчины имели оптимальные
возможности сохранить устойчивые связи с сородичами и тем самым с
успехом использовать те преимущества, которые давало членство в
роде (доступ к высокому статусу и т. д.).
Так как первобытная община объединяла членов нескольких
родов, сферы деятельности последних повсюду пространственно
различались. Как правило, внешне это находило выражение в противо-"
поставлении взрослых мужчин и женщин друг другу. Сплошь и
рядом встречались поселки, периферию которых занимали дома, где
обитали женщины с детьми и располагались места готовки пищи, а
центр — мужской дом или по меньшей мере церемониальная пло-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
375
щадка, средоточие социальной жизни. Мужские дома часто
встречались и в матрилинейных, и в патрилинейных поселках, но в первом
случае в них обитали свояки, а во втором — родичи. В некоторых
мелких предгорных обществах Новой Гвинеи поселки были малы и
часто состояли из одного большого дома. Однако и там выделялась
мужская половина, располагавшаяся в одной из комнат. В северной
части Южной Америки с ее большими общинными домами мужской
сферой считалось либо площадка в центре такого дома, либо перед
ним, тогда как женская сфера располагалась или по его периферии,
где находились семейные отсеки, или позади дома, где готовили
пищу. Как и в отмеченном выше случае с «мужской» и «женской»
собственностью, указанное разграничение сфер деятельности полов
являлось типичной чертой позднеродового общества и служило
внешним выражением отношений между разными родами. А сохраняясь
в условиях двойной филиации, оно символизировало
взаимоотношения между различными родственными группами.
Вообще все вышеописанные черты, характерные для родовых
общин, во многом сохраняли свой облик в общинах, основанных на
двойном родстве, с той лишь разницей, что вместо рода там
выступала группа родственников, связанных родством одновременно и по
мужской, и по женской линиям.
Наряду с компактными поселками в земледельческих районах
встречалось расселение отдельными хуторами. Граница между
хутором и поселком всегда условна, что, однако, не снимает ее
важности, так как поселок мог претендовать на политическую
автономию, а хутор такой возможности не имел. Поэтому хутора, как
правило, объединялись в более крупную социально-потестарную
единицу, называемую общиной. На Новой Гвинее хутор от поселка
принято отличать по размерам: хутором там считался населенный пункт,
насчитывавший не более 10 домов. Эти хутора имелись у наиболее
развитых земледельцев центральных гор (медлпа, энга, хули, кума
и пр.). В каждом хуторе был свой мужской дом, но средоточием
общинной жизни являлось святилище, единое для нескольких
хуторов. Символизируя сплоченность общины, выражавшуюся, в
частности, в устройстве регулярных праздников и церемоний,
святилище тем самым взяло на себя некоторые функции, возложенные в
родовых поселках на мужские дома. Вот почему, как неоднократно
подчеркивалось в литературе, роль мужских домов в центральной
части Новой Гвинеи несколько упала по сравнению с соседними
районами.
Хуторская система расселения встречалась не только на Новой
Гвинее, но и у многих земледельцев Африки: у населения гор Нуба,
у маджангир, куаним па, тонга, логоли и т. д. Интересно, что здесь
она была свойственна не только патрилинейным (маджангир, логоли
и др.), но и матрилинейным (тонга, куаним па и др.) группам.
Обе системы расселения, и отдельными хуторами, и
компактными поселками, хорошо фиксируются по археологическим данным.
376
Глава четвертая
Например, неолитическое население Балкан обитало, как правило, в
крупных поселках, а население культуры линейно-ленточной
керамики во многих районах предпочитало жить хуторами.
Специалисты не раз отмечали, что хуторская система является
оптимальной с точки зрения развития раннего земледелия, но она
делает население уязвимым в случае вражеских нападений. Между
тем сама она служит важным препятствием для развития военной
активности. При хуторской системе общины, в которые
объединялись хутора, не имели четко выраженных границ, ибо у каждого
хутора были свои собственные социальные связи. Тем самым
возникала основа для этнокультурной непрерывности и вырабатывались
нормы, позволяющие регулировать интенсивность военной
деятельности.
Если многородовые компактные общины проявляли отчетливую
тенденцию к общинной эндогамии, то при хуторском расселении,
напротив, фиксировалась тенденция к экзогамии, которая
переносилась на всех ближайших соседей, независимо от степени и
характера родства с ними. В таком объединении соседей иногда возникали
права и обязанности, типичные для родовой организации:
взаимопомощь, дележ пищей и т. д.
Большую роль в упрочении социальных связей между членами
разных родов в позднеродовом обществе играли такие институты,
как возрастные классы, тайные общества, различные
церемониальные группы, партнерство и т. д. Иногда высказываются соображения
о том, что необходимость в них испытывали только многородовые
общины330. И действительно, они чаще всего встречались именно
там. Например, возрастные классы и церемониальная дуальная
организация играли выдающуюся роль у народов группы же,
возрастные классы встречались, кроме того, во многих районах Новой
Гвинеи (в верховьях р. Флай и в ее устье, в низовьях р. Сэпик), тайные
союзы — у индейцев-пуэбло и т. д. Во всех этих случаях их
действие способствовало возникновению сильных многородовых общин.
Вместе с тем там, где они функционировали лишь внутри общин,
общество было, как правило, расколото на мелкие автономные
группы, находившиеся в постоянной вражде между собой. И это
наблюдалось в таких районах, как тропические области Южной Америки,
восточные горы Новой Гвинеи и т. д. Напротив, функционирование
отмеченных институтов на межобщинном уровне могло привести к
реальному племенному единству и прекращению внутриплеменных
войн. В этом направлении, например, работали мужской военный
союз у мундуруку (Бразилия) и тайное общество духа рыбы у уапе
в районе Сэпик (Новая Гвинея).
Помимо указанных институтов, сплочению общин в рамках
более крупных территорий способствовало развитие системы
лидерства. Это отчетливо видно на примере пиароа Венесуэлы, у которых
наблюдалось два уровня лидерства: в общине (итсоде) и на более
крупной территории (итсофха). Главным механизмом, сплачивав-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
377
шим общины на уровне итсофха, был устраиваемый лидером пир.
Он позволял представителям разных общин встречаться и
знакомиться друг с другом. Как ни слабы были эти интеграционные
механизмы у пиароа, они тем не менее помогали поддерживать в
итсофха внутренний мир 331.
Совместное обитание, общий труд и единые интересы повсюду
обусловливали высокую степень солидарности общинников и часто
делали общину автономной социально-потестарной единицей. А в
некоторых случаях в представлениях людей происходило
отождествление рода с общиной и возникала тенденция к общинной
экзогамии. Вместе с тем состав общины не отличался особым
постоянством, и это относилось не только к ее пришлому компоненту, но и к
общинному ядру. Люди могли по нескольку раз за свою жизнь
сменить, общинную принадлежность, чутко реагируя на изменения в
хозяйственной, демографической и социальной ситуациях. Этому
способствовал тот факт, что социальная организация не отличалась
большой жесткостью и допускала свободу выбора, хотя и в
определенных рамках. В отмеченных переливах населения из одной
общины в другую на раннем этапе развития позднеродового общества
немалую роль сыграло становление системы лидерства.
13. Семья и брак
Брак как социальный институт издавна был призван решать две
важнейшие проблемы: 1) проблему кооперации между полами в
труде и воспитании детей; 2) проблему установления и поддержания
широкой социальной сети, охватывавшей свойственников. Обе эти
функции брака получили особое значение с переходом к развитому
родовому обществу.
На первых порах кросскузенный брак и здесь оставался
господствующей формой брака. Он был до недавнего времени известен у
наиболее отсталых групп папуасов, а также у некоторых народов
Америки и Африки. Так, камаюра использовали для обозначения
брачных отношений термин «апитахок», переводившийся как
«пойти в дом брата матери». Иначе говоря, в недалеком прошлом
кросскузенный брак у них господствовал.
Преимуществом раннего кросскузенного брака был
эквивалентный обмен людскими ресурсами, который поддерживал и сохранял
баланс сил между отдельными общинами. Например, в условиях
отцовского рода кросскузенный брак происходил в форме обмена
сестрами, в результате чего, теряя одну женщину, община вместо нее
приобретала другую. Такие «обмены» были типичны для обществ
низших охотников и собирателей и некоторых самых ранних
земледельцев. Если они производились между двумя общинами впервые,
то уже во втором поколении они порождали кросскузенные браки 332.
В ходе дальнейшего развития с укреплением
социально-экономических связей не только между родичами, но и ближайшими родст-
378
Глава четвертая
венниками, а также с получением семьей некоторых важных
социально-экономических функций, сфера действия кросскузенного
брака сужалась и в определенный момент он вообще исчез. Этот
процесс происходил постепенно в различной обстановке, и поэтому
у разных народов он получил различное объяснение. Так, у шаван-
тов в условиях уксорилокальности между братом матери и детьми
сестры устанавливались довольно близкие взаимоотношения, и по
своему статусу он в их глазах сближался с отцом. Следовательно,
он не мог стать отцом жены. Шаванты избегали также и браков с
дочерьми сестер отца. Иначе говоря, они не приветствовали крое-
скузенный брак, считая его «плохим браком». При наличии детально
разработанного этикета в отношениях со свойственниками шаванты
связывали такой брак с путаницей во взаимоотношениях между
^ людьми, так как он идентифицировал брата жены и мужа сестры, с
которыми требовалось вести себя весьма по-разному. У матрили-
нейных тонга и добуанцев любой человек (но чаще племянник)
из линиджа отца мог наследовать соответственно его «тень», т. е.
душу, или имя, обретая одновременно и определенные права над
потомством покойного. Иначе говоря, ближайшие родичи отца
идентифицировались с отцом, и это также вело к исчезновению кросску-
зенных браков. Аналогичным образом у патрилинейных ленду
имелись запреты на браки с членами линиджа матери. Наконец, у папу-
асов-энга был запрещен брак с женщинами из субкланов мужей
сестер, т. е. обмен сестрами здесь был невозможен, а следовательно,
отсутствовал и кросскузенный брак 333.
Во,всех обществах этого типа существовали и другие запреты,
призванные расширить рамки экзогамного коллектива, спаянного
разного рода социально-экономическими связями. Социальная сеть
внутри этого коллектива была достаточно устойчива и уже не
требовала для своего укрепления заключения браков. Поэтому браки
использовались здесь для установления новых социальных связей
за рамками такой экзогамной группы. Кроме того, запрет кросску-
зенных браков свидетельствовал об укреплении семьи за счет рода
и об упорядочивании отношений собственности.
Исчезновение кросскузенных браков нарушило баланс между
общинами или домохозяйствами. Прежде всего это выражалось в
потере женщин, труд которых в земледелии ценился весьма высоко.
Независимо от типа брачного поселения домохозяйства ρ той или
иной степени лишались помощи со стороны женщин, которые
вследствие брака либо вообще уходили в другую общину (при вири- или
авункулокальности), либо часть своего труда отдавали своей
собственной семье (при уксорилокальности). Все это требовало
компенсации, и она была известна в раннеземледельческий период в двух
формах: 1) отработка за жену; 2) брачный выкуп. Обе они
возникли кое-где еще у низших охотников и собирателей, но их развитие
прослеживается в особенности в раннеземледельческий период и
позже.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
379
Отработка за жену встречалась, как правило, в уксорилокальных
общинах, а брачный выкуп — в вири- и авункулокальных. Это
хорошо видно на примере гуахибо, у которых были известны обе формы
брачного поселения и соответственно оба вида компенсации. Но в
этом проявлялась лишь общая тенденции, которая знала и
исключения. Так, у вирилокальных яноама практиковалась отработка за
жену, а у уксорилокальных навахов принято было платить брачный
выкуп. Очевидно, большую роль в выборе той или иной формы
компенсации играла степень богатства общества. Действительно,
брачный выкуп встречался прежде всего в тех обществах, где имелась
высокоразвитая система дарообмена, а с ней — и некоторые ценные
предметы материальной культуры, функционировавшие в качестве
обменных эквивалентов (например, одежда у майомбе, раковины у
тробрианцев, кувшины с пивом у ашанти). В особенности он был
типичен для скотоводческих народов, где домашние животные
составляли основную часть выкупа334.
И вместе с тем было бы ошибочным видеть в отмеченных
формах брачной компенсации последовательные эволюционные ступени.
Действительно, в случаях перехода от уксори- к вирилокальности
специалисты не раз отмечали исчезновение обычая отработки за
жену и появление брачного выкупа. Однако известны и такие случаи,
когда переход от брака-обмена к другим формам брака в условиях
вирилокальности вел к тому, что первой формой брачной
компенсации сразу становился брачный выкуп (у папуасов-киваи и комо в
Африке). Зарождение брачного выкупа зафиксировано у кубео, где при
браке-обмене обладание одной женой не требовало компенсации, а
за вторую жену уже надо было платить. Иногда элементы обеих
форм брачной компенсации могли встречаться вместе в нерасчле-
ненном комплексе. Это наблюдалось у крахо в Бразилии. Там при
вступлении в брак юноша был обязан делать небольшие подарки и
оказывать услуги ближайшим родственникам жены, но
подсчитывать объем этих услуг не было принято335.
Брак связывал не только супругов, но и устанавливал
определенные отношения между группами их родичей, и поэтому последние
играли большую роль в его организации. Например, в условиях
кросскузенных браков особенно велика была роль братьев, которые
устраивали браки своих сестер с тем, чтобы самим получить жен.
, Ваиваи стремились этим способом снизить свою зависимость от
родичей жены, возникавшую при уксорилокальности. Отдавая своих
сестер за братьев жен, они тем самым устанавливали над свояками
такой же контроль, какой те имели над ними, и тем уравновешивали
взаимные претензии. С появлением брачного выкупа молодые в еще
большей степени попадали в зависимость от родственников, которые
помогали им в его сборе и поэтому считали себя вправе проводить ту
или иную брачную политику. В условиях патрилинейности отец
нередко без труда подчинял себе строптивого сына, пригрозив лишить
его помощи в уплате брачного выкупа. У папуасов первые годы
380
Глава четвертая
своего существования молодая семья тратила на то, чтобы
компенсировать родичам мужа затраты, связанные со сбором ими брачного
выкупа336.
На первых порах супругов искали прежде всего в общинах
свойственников, чтобы закрепить установившиеся с ними дружеские
отношения. Это-то и способствовало поддержанию традиции кросску-
зенных браков и укреплению дуальной организации. В некоторых
случаях в условиях вирилокальности родители были заинтересованы
в том, чтобы дочь выходила замуж где-нибудь поблизости от их
общины и тем самым могла без труда продолжать оказывать им
помощь в земледельческом труде и участвовать в родовых ритуалах 337.
Это совпадало с интересами самих женщин, которые в таком случае
всегда могли опираться на помощь родичей и находить у них
спасение от жестокости мужей.
Со временем, когда социальные связи с обитателями соседней
округи значительно укрепились, возобладала иная тенденция к
поиску супругов в отдаленных областях (например, у куаним па, энга
и пр.).
При небольших размерах и хозяйственной уязвимости ранних
небольших общин брак внутри них не только не давал никаких
экономических выгод, но и вел к расколу общины и внутренним
распрям 338. Вот почему в однородовых общинах существовали довольно
жесткие требования внешних браков, хотя половые отношения
допускались и внутри таких общин, как это наблюдалось у добуанцев.
В некоторых раннеземледельческих обществах, например у па-
пуасов-маринг, женщины обладали довольно большой свободой в
выборе супругов. В других обществах, например у яноама, с мнением
женщин мало считались и помолвка иногда производилась с
маленькой девочкой, так что жених сам принимал участие в ее воспитании.
У шавантов девочкам находили женихов тогда, когда первые были
еще детьми или даже новорожденными. У йекуана о браке детей их
родственники договаривались сразу же после их появления на
свет339.
На протяжении раннеземледельческого периода происходило и
постепенное развитие брачной церемонии. У некоторых сеноев,
например, брачной церемонии совсем не было, как не было и
специальных терминов, обозначавших «брак» и «развод». По словам
изучавшего их Р. Дентана, они даже не всегда могли твердо сказать,
состоят они в браке или нет. У йекуана невеста обучалась готовить
для мужа напиток «сукутака», и о женатом мужчине там говорили,
что «он пьет сукутака». Если же жена хотела развода, она просто
переставала поить мужа напитком. У куаним па настокщим браком
считался тот, при котором мужчина строил хижину для жены и
начинал обрабатывать землю, а жена выполняла домашние
обязанности. У народов северо-запада Амазонии брачная церемония
сводилась к обрядовому похищению невесты, причем у кубео это делал
жених, а у тукано — его отец 34°.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
381
Иногда (у шавантов) вступление в брак растягивалось на
долгий срок. Мальчики вступали в брак сразу же после инициации. Но
их жены были еще слишком малы, и мужьям приходилось годами
ждать момента, когда можно было вступать с ними в половые
отношения. Сначала юноши начинали периодически навещать своих женг
но проходило еще несколько лет, прежде чем жены были готовы
взять на себй все супружеские обязанности. Обычно это наступало
после рождения первого ребенка, когда муж навсегда селился
вместе с женой и брак считался окончательно заключенным. У кубео
окончательное закрепление брака тоже было связано с рождением
первого ребенка. Лишь после этого молодая семья получала право
завести собственное хозяйство341.
В тех обществах, где было принято платить брачный выкуп,
развились довольно сложные церемонии вступления в брак, с которыми
можно связывать зарождение свадебной обрядности. Там эти
церемонии происходили публично при встрече множества
представителей заинтересованных родов, которые обменивались большим
количеством ценностей. У папуасов в состав брачных выкупов входили
разнообразные раковины и перья птиц, украшения из них,
многочисленные изделия вроде каменных топоров и т. д., а также^
свиньи342.
При наличии однородовых общин одному из супругов (мужу при
уксорилокальности и жене при вири- или авункулокальности)
приходилось, переселяясь к другому, покидать родной поселок. Но в
многородовых общинах с тенденцией к эндогамии, вступая в брак,
супруги, хотя и переходили часто в другой дом, оставались в своей
общине и продолжали поддерживать тесные отношения с родичами.
Так, в уксорилокальных многородовых общинах мужья довольно
часто навещали сестер, находя в их домах отдых.
В некоторых обществах супруги жили в основном раздельно —
муж в мужском доме, а жена в своей отдельной хижине вместе с
детьми. Так как они и работали и принимали пищу порознь, то и
встречались они редко, главным образом ночью. Это было
свойственно некоторым группам папуасов343. Напротив, у многих народов
северных районов Южной Америки в домах-общинах имелись
специальные семейные отсеки, где мужья жили вместе с женами
постоянно, а в поселках добуанцев у каждой семьи был свой
отдельный дом.
Однако во всех этих случаях семья была слаба и не являлась еще
социально-экономической ячейкой общества в полном смысле этого
слова. Оба супруга были еще мало связаны друг с другом и в своей
деятельности ориентировались в основном на свои родовые
подразделения. Выше уже отмечалось, что у каждого из них была своя
собственность, на которую другой супруг не претендовал. Между
ними существовала некоторая отчужденность и даже враждебность,
нашедшая отражение в резком противопоставлении полов друг другу,
хорошо известном на Новой Гвинее. Считая жену членом чужого
■382 Глава четвертая
рода, папуас относился к ней с опаской, постоянно ожидав от нее
каких-либо вредоносных действий. В восточных горных районах
Новой Гвинеи по смерти мужа жена должна была даже кончать жизнь
самоубийством, чтобы доказать свою непричастность к колдовству.
Аналогичный страх перед свойственниками или свойственницами не
был чужд и материнскородовому обществу добуанцев344.
В более развитых группах центральных районов Новой Гвинеи
наблюдался процесс становления семьи как
социально-экономической ячейки. Там прослеживалось формирование частносемейной
собственности, возросли права мужа над женой, и парная семья, по
мнению Ю. И. Семенова, сделала первый шаг на пути превращения
в моногамную345. Именно там наблюдался постепенный процесс
интеграции жен в род мужей, хотя они еще и не получили в нем
полных прав. На это указывает, например, то, что у кума замужнюю
женщину называли по роду мужа. Еще дальше этот процесс зашел
у энга, где женщины нередко участвовали в ритуалах,
организованных родом мужа, и в случае смерти их хоронили на территории этого
рода. По-видимому, постоянные ссоры из-за собственности,
вспыхивавшие у медлпа между мужьями и женами, также следует
трактовать как отражение процесса формирования частносемейной
собственности346. Однако окончательно моногамные семьи
сформировались у более развитых земледельцев (например, у кофьяров Африки)
или земле дел ьческо-скотоводческих групп (нилоты).
Параллельно происходило укрепление самих браков, которые на
первых порах были довольно непрочными, причем не только в мате-
ринскородовых (добуанцы), но и в отцовскородовых (гахуку-гама и
др. наиболее отсталые группы папуасов) обществах. У энга разводы
встречались редко и составляли не более 7% браков. Даже после
смерти мужа энга стремились не выпускать вдову с детьми из-под
контроля его рода. Ее опекали его родичи, и нередко кто-либо из
них брал ее в жены. Впрочем, довольно прочные браки встречались
кое-где и у самых ранних земледельцев (пиароа, шаванты).
В раннеземледельческой среде наряду с парными браками были
широко распространены полигамные, в частности в форме сорората
и реже левирата. Многоженство имело две главные причины. Во-
первых, оно было прямо связано с большой ценностью женского
труда в земледелии. Следовательно, чем больше жен имел мужчина, тем
больше земли он мог обработать и тем больше был собранный
урожай. С ростом социального значения богатства этот фактор сыграл
не последнюю роль в развитии лидерства. Вторая причина была
тесно связана с первой и заключалась в том, что,обладатель нескольких
жен тем самым публично демонстрировал свои способности и
обретал высокий престиж. Правда, связь многоженства с лидерством не
отличалась особой жесткостью, и в ряде случаев лидеру вполне
хватало одной жены.
В рамках полигамного домохозяйства кажда(я из жен имела
обычно свое хозяйство и заботилась исключительно о своей семье. Как
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
38$
правило, какой-либо кооперации между женами здесь не отмечалось.
Напротив, между ними постоянно вспыхивали ссоры, и муж должен
был отличаться определенной мудростью, чтобы поддерживать
в семье мир347. Поэтому полигиния чаще всего принимала форму
сорората, так как сестры были лучше подготовлены к совместному
обитанию и находили меньше поводов для скандалов. Правда, как видно
на примере йекуана, и здесь без ссор не обходилось348.
Полиандрия была распространена несравненно меньше, чем
полигиния. Она хорошо известна в ряде обществ Южной Америки, где к
ней прибегали в силу необходимости, испытывая нехватку женщин.
От полиандрии выигрывал прежде всего старший муж, который тем
самым получал дополнительного работника. В некоторых случаях
полиандрця принимала форму левирата.
Принято считать, что в первобытном обществе, в том числе и r
развитом, положение женщин было довольно свободным и если не
господствующим, то во всяком случае равным с мужчинами. Вместе
с тем детальный анализ имеющихся фактов не позволяет с этим
полностью согласиться. Действительно, в рамках своего рода жен-
щины обладали равными с мужчинами правами на родовую
собственность. Однако в силу общественного разделения труда на долю-
женщин нередко доставалось господство лишь в хозяйственной сфере
(в земледелии), а на долю мужчин — в социальной. Уже одно это
создавало некоторое неравенство прав и обязанностей. В еще
большей мере последнее проявлялось в семейной жизни, объединявшей
представителей разных родов. Обычно эволюцию взаимоотношений
между полами представляют так, что при уксорилокальности мужья
попадали в чужую родовую общину, костяк которой составляли
женщины, олицетворявшие местную родовую группу и в силу этого
претендовавшие на господство. Позже с переходом к вирилокальности
положение будто бы коренным образом изменилось и господство в
обществе перешло к мужчинам.
Действительно, в условиях уксорилокальности положение
женщин было относительно свободным и они могли открыто высказывать
свое мнение и спорить с супругом349. Однако все это, как правило,,
относилось к хозяйственной или домашней сферам. Как показывает
пример добуанцев, женщины могли приобретать относительно
высокий авторитет в глазах чужаков-зятьев в однородовых материнских
общинах. В ряде случаев женщины, прослывшие могучими
колдуньями, могли временно оказывать влияние и на всю общину. Но и здесь
в социальных отношениях большое значение имели мужчины-родичи,
которые и претендовали на роль лидеров. В этих условиях обитание
мужчин-родичей в своих собственных общинах обусловливалось тем,
что по традиции один год из двух мужчина со своей семьей должен
был обитать в своей родовой общине350. Там, где такого порядка не
отмечалось, социальная сфера, как это видно на примере северных
же, часто находилась в руках мужчин-пришельцев. Более того, у
одного из этих народов (крикати) роль женщин в социальной жизни
384
Глава четвертая
возросла лишь сравнительно недавно351. Есть предположение, что
аналогичную эволюцию в колониальный период претерпело и
общество ирокезов.
Что же касается вирилокальных общин, то и там наблюдалась
сходная ситуация. У многих папуасов женщины играли большую
роль в семейной жизни, оказывая влияние на мужей и детей, и
происходило это благодаря их значительной роли в земледелии.
Например, у энга мужу достаточно было убедиться в полной компетенции
жены в земледелии, чтобы он отдавал хозяйство под полный ее
контроль, а сам следил лишь за выращиванием престижных растений.
При подготовке к пиру и при планировании земледельческих работ
муж советовался с женой и часто соглашался с ней, хотя и имел
право вето. В этих условиях статус мужчины и его участие в социально-
ритуальной жизни в большой мере зависели от жены. Холостяки во
многих обществах были неполноправны. Со смертью жены, как
считали в некоторых папуасских группах, мужчина терял часть присущей
ему магической силы (например, у тауна ава). Влияние жен на
мужей, даже если муж являлся лидером, было огромным. И вместе с
тем за пределами дома роль женщин резко падала, и во внешних
взаимоотношениях их представляли мужья или родичи352.
Следовательно, говоря о социальном положении женщин,
необходимо всегда уточнять, какая сфера жизни имеется в виду. В
развитом первобытном обществе положение женщины в хозяйственной
и домашней жизни нередко было выше, чем у мужчин, а в
социально-ритуальной сфере, как правило, ниже. Что же касается общей
тенденции эволюции, то она заключалась в том, что мужчины
постепенно захватывали бразды правления также в хозяйственной и
домашней сферах. Если в рамках родового строя этому противостояли
тесные контакты женщин со своими родичами, которые всегда могли
прийти к ним на помощь, то с ослаблением родовых связей и
формированием моногамной семьи женщины все больше и больше
ощущали деспотизм мужей.
14. Терминология родства
и ^взаимоотношения родственников
Коллективизм, господствовавший в первобытном обществе,
проявлялся, в частности, в том, что, вступая в те или иные отношения
с другими людьми, индивид во многих случаях рассматривался
прежде всего как представитель определенной относительно широкой
категории лиц. Во взаимоотношениях с внешним миром он выступал
прежде всего как член рода, родового подразделения или иной
группы кровных родственников, а во внутренних взаимоотношениях —
как член той или иной половозрастной категории. Обычай экзогамии
повсюду делил социальный мир на две половины: на тех людей, с кем
нельзя заключать браки, и тех, с кем это было возможно. Степень
^участия в социальной жизни также'порождала определенные града-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
385
ции, связанные с возрастом и некоторыми особенностями
социального положений. Семейная жизнь, объединявшая лиц,
принадлежавших к разным родам, накладывала свой отпечаток на отношения
между людьми и т. д.
Таким образом, участие в различных сферах общественной
деятельности, объединявшей самые разные по составу группы людей,
требовало разработки социальных механизмов, упорядочивающих
взаимоотношения отдельных индивидов и помогавших им
ориентироваться в сложностях социальной действительности. Решить эту
задачу и было призвано разделение общества на более или менее
четкие категории, внутри которых и между которыми существовали
определенные права и обязанности. Принадлежность к таким
категориям выражалась в терминах родства. Последние помогали человеку
определить свое место в обществе. Так, во взаимоотношениях с
родственниками ему вовсе не требовалось каждый раз вспоминать свои
генеалогические связи с ними; вполне достаточно было знать, в каких
отношениях с ними состоит его родители или другие лица, свою связь
с которыми он четко представлял. Например, у яноама внутри одного
линиджа все мужчины, принадлежавшие к одному поколению, звали
друг друга «братьями», а всех женщин своего поколения —
«сестрами». Зато мужчин линиджа другого рода они неизменно называли
«свояками», а женщин — «женами». По отношению к последним они
применяли термин «суабойя», и лишь из этой категории они имели
право брать жен353.
Такая система родства была типичной при дуальной организации.
В науке она фигурирует под разными названиями (бифуркативно-
слившийся тип, турано-ганованская, ирокезско-дравидская, дакот-
ская). Порожденные ею термины родства объединяют сиблингов и
параллельных кузенов, отделяя их от кросскузенов. Эта система
возникла в эпоху господства кросскузенного брака, однако она
сохранялась во многих обществах и после его исчезновения до тех пор, пока
бытовало дуальное деление общества на родичей (иногда
родственников) и свойственников. Принадлежность как к родичам, так и к
свойственникам налагала на человека определенные права и
обязанности. Обычно родичи должны были во многом помогать друг другу,
в частности совместно собирать брачный выкуп, мстить за кровь и
г. д., а свойственники, как правило, находились друг с другом в
отношениях дарообмена.
В домохозяйствах, где свойственники обитали вместе,
складывалась особая ситуация. Так как они принадлежали к разным родам,
они никогда не могли избавиться от недоверия друг к другу, что
порождало некоторую напряженность, грозившую ссорами. Для того
чтобы смягчить эту напряженность, во многих обществах был
разработан особый этикет, требовавший от свойственников определенных
форм поведения. Так, у шавантов в доме своей сестры юноша
считался своим («иари»), а в доме жены —чужим («изамю»).
Взаимоотношения между «иари» и «изамю» составляли одну из важнейших
13 История первобытного общества
386
Глава четвертая
особенностей жизни шавантов. Будучи членами разных родов,
свойственники постоянно проявляли недовольство друг другом,
подозревали друг друга в недоброжелательстве, а в случае невзгод и бед
обвиняли друг друга в колдовстве. Чтобы умерить враждебность
между ними, шаванты требовали от них проявлять, по крайней мере
внешне, вежливость и быть великодушными. Они обязаны были
помогать друг другу, причем изамю не мог запрещать иари
использовать его вещи, а. иари обязан был делать ему подарки. В том случае,
если иари и изамю оказывались вместе под одной крышей, они
делились пищей. Отношения зятя с тестем отличались некоторылш
особенностями. Между ними также наблюдалось внешнее уважение и
скрытая враждебность. Однако из-за разницы в возрасте уважение
преобладало, и зять часто помогал тестю, спрашивал его совета и
делал ему подарки.
У куаним па в Африке также отмечалось формальное уважение
к свойственникам, соседствовавшее с их избеганием. Особенно строго
это соблюдалось до рождение ребенка. В отличие от шавантов здесь
свойственникам было запрещено принимать пищу вместе. Если они
находились рядом, их отношения принимали типичную форму
«подшучивания», характерную для многих африканских обществ. Во
многих других раннеземледельческих обществах также наблюдалось
избегание друг друга свойственниками разных полов и поколений,
а кое-где оно касалось в особенности отношений зятя и тещи354.
Так как сестра матери и брат отца нередко принимали на себя
материнские и отцовские функции, участвуя в воспитании детей и
оказывая им поддержку в случае необходимости, они
терминологически отождествлялись с матерью и отцом и кое-где их влияние на
детей оказывалось даже большим, чем влияние родителей.
Наряду с этим сестра отца в условиях вирилокальности и брат
матери в условиях уксорилокальности могли также принимать
живейшее участие в воспитании своих племянников, по крайней мере в
первые годы их жизни. В особенности большое значение имела
возникающая при этом связь с братом матери, которая нередко
сохранялась на протяжении всей жизни человека. Брат матери мог обучать
племянника особым искусствам, дарить ему некоторые украшения и
ритуальные предметы, посвящать в-детали церемониальной жизни.
У многих народов группы же именно брат матери передавал
мальчику свое имя, что вело к социальному отождествлению этих лиц,
признанию за ними одной и той же социальной роли. Результатом
этого была характерная особенность терминологии родства, известная
в науке под названием «терминологии типа кроу». Иначе говоря,
обретая имя, юноша терминологически отождествлялся с дядей и
называл детей дяди не кузенами, а своимц^детьми.
Аналогичное явление зафиксировано там же в связи с обычаем
передачи имени от сестры отца к племяннице. Здесь также
происходило их терминологическое отождествление, порождавшее так
называемую «терминологию родства типа омаха». Первоначально терми-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
387
нология «кроу» была зафиксирована в матрилинейных обществах, а
терминологий «омаха» — в патрилинейных. Действительно, именно
в этой обстановке создавались оптимальные условия для
отождествления дяди с племянником в первом случае и тетки с
племянницей — во втором. Вместе с тем, как показали дальнейшие
исследования, связи этих типов терминологий родства с соответствующими
типами социальной структуры не являлись жесткими. Важнее
оказывались социальные механизмы, обусловливающие исполнение одних
и тех же социальных ролей детьми и сиблингами их родителей. Это
в полной мере проявлялось у северных же, у которых господствовала
уксорилокальность, но какой-либо унилинейности не было355.
О том, что терминология родства существовала не сама по себе,
а выражала сложившиеся в обществе социальные отношения,
свидетельствуют факты ее пересмотра с изменением социальной ситуации.
Например, у шавантов принято было называть родичей термином
«уаниуиха». Но на практике этот термин употребляли лишь по
отношению к членам линиджей, входивших в социально-потестарную
группировку Ego. В результате к «уаниуиха» иногда относили
неродственные линиджи, по тем или иным причинам присоединившиеся к
этой группировке, и напротив, отсюда исключали те родственные
линиджи, которые в эту группу не входили. У крахо было принято
называть членов своей общины терминами родства, но если брак
заключался внутри общины, то муж начинал называть жену «женой», а ее
родственников «свойственниками», хотя до того он называл всех их
«родичами». Соответственно менялись их отношения друг к другу,
возникали новые права и обязанности356.
Вообще термины родства помогали превратить свойственников
в родичей и наоборот в соответствии с меняющейся ситуацией. Это,
в частности, значительно облегчало действие обычая адопции.
Особым средством такого превращения служила текнонимия, т. е.
обычай называть родителей и других взрослых родственников детей по
именам последних («отец такого-то» и т. д.). Текнонимия
зафиксирована у сеноев Юго-Восточной Азии, куаним па в Африке, ваиваи,
восточных тимбира, пиароа в Южной Америке и у многих других
народов.
В некоторых раннеземледельческих обществах старшие и
младшие сиблинги терминологически различались. Это происходило там,
где старшинство давало право на особое уважение и позволяло
осуществлять руководство.
Маленькие дети кое-где назывались только по имени, и термины
родства по отношению к ним не применялись. В этом снова
проявлялся социальный характер терминов родства, функционировавших
лишь между теми людьми, которые находились в определенных
правовых отношениях и были способны выполнять свои обязательства.
Маленькие дети еще не были к этому готовы и до определенного
возраста не входили в социальную систему. Например, у пиароа тер-
13*
388
Глава четвертая
мины родства начинали применяться к ним лишь по достижении ими
пяти-шестилетнего возраста.
Действие систем родства и их социальная обусловленность не
ограничивались рассмотренными примерами. Однако уже
отмеченные выше факты показывают огромное социальное значение
разделения людей на определенные категории в первобытном обществе.
По сути дела за отсутствием централизованного руководства
системы родства в значительной мере помогали людям поддерживать
общественный порядок, основанный на взаимных правах и
обязанностях. Вот почему люди страшились инцеста, нарушавшего
установившиеся взаимоотношения и тем самым угрожавшего крахом всей
социальной системы. Интересно, что у добуанцев сам по себе инцест
считался частым делом и в определенных рамках допускался. Зато
самым страшным преступлением там являлся адюльтер между
племянником и женой его материнского дяди или, наоборот, между
материнским дядей и женой его племянника. Именно этот акт приводил
к расколу внутри родового подразделения и тем самым угрожал
самому существованию общества357.
15. Процесс социализации
Любое общество, в том числе и первобытное, могло нормально
функционировать лишь при том условии, что оно состояло из
социальных личностей. Под социальной личностью следует понимать
индивида, усвоившего основные нормы и навыки поведения,
характерные для данного общества, и нашедшего свое четкое место в
системе социальных связей. Индивид становится социальной личностью
далеко не сразу, а в процессе длительного обучения, в процессе его
постепенного введения в социальный коллектив. Это и называется
процессом социализации358. Лишь социальные личности способны
воспроизводить данную культурную и социальную среду, и
следовательно, лишь с ними можно связывать общественную
преемственность. Поэтому нормальный ход общественного развития требует
производства не только материальных и духовных ценностей, но и
самого человека, на что в свое время указывал Ф. Энгельс359. Этот
тезис Ф. Энгельса одно время вызывал недоумение у специалистов360,
так как под производством человека они понимали исключительно
физиологическую сторону этого процесса. Между тем, если смотреть
на воспроизводство человека шире, включая в него и становление
индивида как социальной личности, то тезис Ф. Энгельса обретает
глубочайший смысл и находит подтверждение в многочисленных
этнографических фактах.
В обществах ранних земледельцев процесс социализации
растягивался на долгие годы, проходя в своем развитии несколько
стадий. В разной этнокультурной среде он выгл(ядел по-разному, но в
целом его следует рассматривать дифференцированно по отношению
к следующим основным возрастным категориям: младенчество (от
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
289
рождения до 3—4 лет), детство (от 3—4 до 8—10 лет), отрочество
(от 8—10 до 13—15 лет), юность (от 13—15 до 17—25 лет). В
большинстве обществ по окончании юности люди получали статус
взрослых, однако на этом социализация не завершалась, продолжаясь в
некоторых случаях до старости. Вышеперечисленные возрастные
категории характерны прежде всего для процесса социализации муж·
чин. Женщины переходили в категорию взрослых значительно
раньше, вступив в свой первый брак (начиная с 12—15 лет).
В разных обществах роды происходили в доме матери, в спе-
' циальном доме рожениц, в доме могущественного колдуна или в
каком-либо другом месте, причем мужья, как правило, не имели права
при них присутствовать. Во многих папуасских группах контакт с
младенцем считался опасным для мужчины, и он избегал его в
течение определенного периода, длившегося от нескольких дней до
года. Аналогичным образом кубео и тукано видели в новорожденном
угрозу для общины, и в течение года все общинники соблюдали
особые правила поведения. И у папуасов, и у названных
южноамериканских групп с их отцовскородовыми порядками новорожденный еще
не считался человеком в полном смысле слова. Он был для них
чужаком и в качестве такового, по их мнению, представлял для рода
реальную опасность. Лишь через некоторое время, с началом
процесса социализации, отношение к ребенку видоизменялось.
Сходные обычаи, требовавшие от отца соблюдения особых табу,
были известны и у многих других групп, например, в Южной
Америке. Однако там их основное назначение заключалось в обеспечении
безопасности ребенка, связанного с родителями, в особенности с
отцом, единой субстанцией. Смысл всех этих своеобразных обычаев,
получивших название кувады, таким образом, в разных обществах
был далеко не идентичным. Следовательно, вопреки мнению ранних
авторов, в каждом конкретном случае следует искать свое
собственное объяснение дл^ кувады361.
Эволюционисты XIX в. устами Э. Тайлора выдвинули гипотезу,
согласно которой кувада явилась ритуальным отражением перехода
от материнского рода к отцовскому. Между тем, как теперь
установлено, в куваде невозможно видеть универсальный обычай,
повсюду свойственный этому переходному периоду. Например, в ряде
африканских обществ переходного типа ничего, подобного куваде,
обнаружено не было. Правда, в обычае кувады проявлялось
осознание роли мужчины в производстве потомства, но эта его роль была
в неолите известна не только в отцовскородовых, но и в материнско-
родовых обществах. Единственный вывод, который из этого следует,
это тот, что кувада в развитом виде была порождением неолита, хотя
и не имела повсеместного распространения. Что же касается ее
истоков, то они восходили к гораздо более раннему времени, так как
некоторые из обществ низших охотников и собирателей уже знали
ритуалы, направленные на охрану здоровья младенца, отдаленно
напоминавшие куваду.
290
Глава четвертая
В различных раннеземледельческих обществах период
младенчества совпадал с периодом грудного кормления, который длился от
1,5 до 3,0—4,0 лет. В это время родители исполн'яли ритуалы,
связанные не только с обеспечением безопасности ребенка, но и
стимулировавшие его рост. Для этого на него, в частности, надевали
разнообразные украшения-обереги, амулеты и пр. Одновременно его
учили ходить и говорить, причем и в материнско- и в отцовскородо-
вых обществах на этом этапе обучение велось в основном матерями.
Во многих обществах на первых порах младенец еще не считался
вполне человеческим существом. Период признания за ним
человеческой сущности растягивался порой на многие годы и был
неразрывно связан с определенными этапами социализации. Так, кубео давали
ребенку имя лишь через год после его рождения, а гуахибо — через
3—4 года. Получение имени вообще во многих местах считалось
важным шагом на пути введения человека в род или в группу
родственников и производилось в церемониальном порядке повсюду от
индейцев же Бразилии до папуасов медлпа в Новой Гвинее. У шаван-
тов, например, мальчик начинал считаться полноправным членом
общества, лишь вступив в дом холостяков.
Иногда признание ребенка человеческим, т. е. социальным,
существом связывалось с представлением о душе. Так, апинайе (одна
из групп же) придерживались того мнения, что дети до 7—8 лет еще
не могли быть людьми в полном смысле слова, так как над ними
висела угроза «потерять душу». Яноама представляли душу
разделенной на две части: одна (но ухуди) имелась у всех, другая (но
боребе) —только у взрослых, обладавших опытом и знаниями.
Первая, по их словам, после смерти бродила в джунглях и нападала на
путников, а вторая отправлялась на небо. Нанайцы считали, что
ребенок обретал жизненную силу (эргэн) только на втором году
жизни.
Обычаи, имевшие ту же суть, в той или иной форме отмечались
в самых разных обществах и находили отражение в погребальном
ритуале. По данным, собранным Л. Бинфордом, во многих обществах
детей хоронили иначе, чем взрослых. Если для взрослых устраивали
специальный могильник, то умерших младенцев могли хоронить под
полами домов или рядом с домами. А если взрослых погребали на
территории поселения, то могилы детей могли располагаться вне ее
и т. д.362
Все приведенные выше примеры свидетельствуют о сознательном
отношении людей к процессу социализации и его культурном
закреплении.
Детство являлось тем периодом, когда ребенок начинал
постепенно выходить из-под влияния семьи. В отцовскородовых обществах
отец и его родичи со временем начинали все чаще вмешиваться в
воспитание ребенка, а в материнскородовых активное участие в
воспитании принимал брат матери. В обоих случаях речь шла о
намеренном ослаблении семейных связей во имя приобщения ребенка к
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
391
родовой солидарности. Так, у патрилинейных кубео ребенок, будучи
отлучен от материнской груди, переходил под надзор своей старшей
сестры, и с этих пор за ним постоянно наблюдали члены отцовского
рода.
Правда, было бы неверным утверждать, что ребенка
воспитывали исключительно члены его собственного рода. В ряде случаев
в процессе воспитания участвовали и другие родственники. Так, у
матрилинейных добуанцев в обучении магии наряду с материнским
дядей участвовал и отец. А во многих патрилинейных обществах, как
известно, определенную роль в воспитании продолжал играть
материнский дядя.
Детей 6—8 лет постепенно начинали обучать половому
поведению. С этих пор мальчики обычно проводили большую часть дня в
играх со сверстниками, а девочки помогали матери по хозяйству.
Игровая группа составляла ту исключительно важную с точки
зрения воспитания среду, где мальчики на личном примере обучались
нормам социального поведение и прежде всего навыкам
коллективизма. Напротив, девочки, лишенные участия в таких группах, в
большей степени воспитывались в индивидуалистском духе.
Обучение детей, а позже и подростков велось неформально, по
большей части путем наблюдения, имитации, с максимальным
использованием игровых моментов. Например, именно так абелям
обучали своих детей рисовать. Формальные методы обучения
применялись реже, для ознакомления детей с социальными и этическими
нормами, но прежде всего для того, чтобы привить им уважение к
чужой собственности. Наказания осуществлялись родичами и по
форме были как физическими, так и моральными (высмеивание,
публичное презрение, запугивание духами и т. д.). Того, кто брал без спроса
чужие вещи, во многих обществах считали «плохим».
В районах, где часто велись войны, — а такими в первобытности
были почти все раннеземледельческие районы, — люди уделяли
большое внимание воспитанию в детях агрессивности. У некоторых
народов (ятмул) для этого их привлекали к убийству пленных.
Взрослые старались вызывать у детей вспышки раздражительности,
стремление верховодить среди сверстников, а также развивали в них
честолюбие, задиристость и хвастовство, так как все эти качества
помогали в борьбе за лидерство363.
Окончание детства у девочек совпадало с первой менструацией,
которая означала их физическую готовность к вступлению в брак.
К этому времени, т. е. к 12—14 годам, девочки, в течение ряда лет
помогавшие матерям по хозяйству, были готовы к браку и социально,
обладая необходимыми для этого знаниями и навыками. В некоторых
обществах с наступлением половой зрелости девочки на небольшой
срок изолировались от общества в особом доме, где женщины
совершали над ними необходимые обряды инициации и продолжали
заниматься их подготовкой к супружеству. Изоляция длилась от
нескольких дней до года. В других обществах, например у папуасов-уован,
392
Глава четвертая
никаких специальных ритуалов инициации ддк девочек не было,
причем девочки с самого начала считались «маленькими
женщинами».
Те же вариации встречались и в отношении мужских инициации,
которые в ряде обществ вообще отсутствовали (у яноама, гуахибо и
др.), а в некоторых заменялись несколькими элементарными
символическими действиями (у ваиваи и др.). Тем не менее детство и
зрелость во всех раннеземледельческих обществах разделялись у
мальчиков относительно продолжительным периодом отрочества, в
течение которого они уже не имели права спать вместе с родителями и
вынуждены были искать ночлег на стороне: либо в доме холостяков
(шаванты и др.), либо в хижине знакомой девушки (добуанцы), либо
в центре большого общинного дома (йекуана). Повсюду в этот период
мальчики-сверстники почти все время проводили вместе в игровых
группах, подражая поведению взрослых, воспроизводя в игре
реальную социальную структуру и реальные социальные отношения.
У кубео этот период длился до 14—15 лет, когда мальчиков
приобщали к культу предков, тем самым окончательно вводи их в род и
отделяя от материнского влияния. Взрослым кубео считали того, кто
мог самостоятельно изготовить для себя рыболовецкий инвентарь.
В ряде случаев вступление в категорию взрослых давало право на
ношение важных знаков различий, как, например, белые бусы у
ваиваи, которые мальчики надевали в 15 лет, а девочки в 13 лет.
У*некоторых из раннеземледельческих обществ были известны
и специальные ритуалы инициации для мальчика. Одни из наиболее
сложных таких инициации, растягивавшиеся на многие годы,
наблюдались у некоторых групп папуасов, например у уован, где мужчин
делили па 5 возрастных категорий. Три из них приходились на
добрачный период. Инициации уован интересны именно тем, что они
позволяют поэтапно проследить постепенный процесс интеграции
мужчин в социальную структуру. Первый шаг в этом направлении —
церемония одевания (анганаив) для мальчиков 4—6 лет. Мальчики
получали традиционный пояс с прикрытием, а также сетчатый мешок
и ожерелье из каури. Эта церемония накладывала на мальчика пер- *
вые в его жизни социальные обязательства (перед руководителем
инициации и другими инициируемыми) и требовала исполнения
определенных табу. В 13—16 лет подросток проходил церемонию
получения головного убора (хамо), на которой ему сообщали о нормах
поведения по отношению к женщинам, к собственности и к
животным. После этого в течение года юноши соблюдали целый ряд
разнообразных табу и их учили магии, связанной с охотой и земледелием.
Все это должно^было способствовать их превращению в настоящих
мужчин. Юноши после 20 лет участвовали в третьей церемонии
(ангге), дававшей им право украшать голову перьями какаду. Во
время нее их посвящали в мифы о происхождении различных
элементов культуры и учили обязанностям по отношению к предкам и
общине. Лишь после этого им позволялось вступать в брак364.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
393
После инициации, которыми заканчивалось отрочество, для
мальчиков наступал период юности. Юноши уже носили взрослую одежду
и входили в группу холостяков, которая часто составляла основную
военную силу общины, играла большую роль в проведении
разнообразных церемоний и нередко служила опорой лидерам общины.
Кроме того, как и более ранняя игровая группа, юноши помогали
взрослым в коллективном труде при строительстве домов, расчистке
огородов и т. д. У них имелась своя ритуальная собственность. Однако, как
говорят данные о папуасах-энга, до вступления в брак юноши все еще
находились под контролем родичей, в данном случае отца, и не имели,
как правило, доступа к важнейшим видам собственности (к земле,
продукции огородов, дому, свиньям и пр.)365. Правда, в ряде случаев
взрослые дарили домашних животных еще детям, а у добуанцев
последние уже в 5—8 лет имели небольшие огороды. Все же все это
служило прежде всего воспитательным целям и не могло обеспечить
человеку экономическую самостоятельность. В редких случаях, как,
например, у папуасов-экаги, юноши получали свиней и огороды до
брака и вели хозяйство с помощью матерей и сестер для того, чтобы
накопить материальные ценности и обрести престиж, необходимые
для вступления в брак366. Но даже в этом случае молодые люди
оставались в большой экономической зависимости от родичей, без
поддержки которых было невозможно уплатить брачный выкуп.
Вступление в брак часто сопровождалось требованием убить хощ
бы одного врага.
Как уже отмечалось выше, девочки и мальчики в
раннеземледельческих обществах включались в трудовой процесс далеко не
одновременно. Первые с 6—8 лет помогали матерям, постепенно
приобщаясь к ведению домашнего хозяйства и земледельческим работам.
Вторые гораздо дольше были освобождены от хозяйственных забот.
Как правило, они начинали привлекаться к серьезным работам лишь
в период отрочества. Но и тогда они участвовали в труде, в
значительной мере сообразуясь с собственными желаниями. Как правило,
группу подростков просили помочь лишь при проведении каких-
либо крупных коллективных работ. У папуасов юноши начинали
работать в полную силу, только обзаведясь своей собственной семьей.
А основным стимулом к этому служила необходимость уплаты
родичам долга за то, что они собрали брачный выкуп.
В обществах, где имелся домашний скот, мальчиков начинали
привлекать к труду гораздо раньше. Так, у гоахиро они с 5 лет пасли
мелкий рогатый скот, а с 8—12 —коров, лошадей и мулов. У тонга
в Африке мальчики пасли мелкий рогатый скот с 8—12 лет, а позже
им доверяли и крупный. У куаним па мальчики следили за скотом
и оберегали поля. То же самое наблюдалось у наиболее развитых
горных папуасов.
Заключение брака, знаменовавшее вступление юношей в
категорию взрослых мужчин, не завершало процесс социализации. Во
многих обществах папуасов обучение продолжалось и среди взрослых.
394
Глава четвертая
В ряде мест лишь через много лет после обзаведения семьей можно
было стать специалистом по резьбе или знахарству. Готовясь стать
отцом, мужчина овладевал магическими средствами влияния на
физическое развитие детей, а перед смертью своего отца перенимал от
него некоторые специальные знания. Во многих случаях мужчины
называли себя «детьми», признавая длительность процесса
социализации, завершавшегося лишь в зрелом возрасте. У папуасов Новой
Гвинеи вступивший в брак мужчина оставался неполноправным
членом общества до тех пор, пока он не выплачивал долг родичам,
помогавшим ему в уплате брачного выкупа. Он, например, не имел
права выступать на общинных собраниях и тем более не допускался к
руководству. У папуасов-уован, даже обзаведись детьми, мужчина
еще не считался полностью взрослым, если он не участвовал в
церемонии аиме. Последняя требовала его недельной изоляции в мужском
отсеке общинного дома, где старики обучали его магии и знахарству,
а также общению с миром духов 367.
Таким образом, деление общества на возрастные группы,
являвшееся, по справедливому замечанию ряда авторов, универсальной
чертой первобытного общества368, в неолите значительно,
усложнилось и обросло сложной обрядностью и новыми идеологическими
представлениями. Вместе с тем превращение возрастных групп в
институционализированную систему было характерно далеко не для
всех первобытных коллективов. С переходом к производящему
хозяйству оно совершилось лишь у некоторых групп, как, например,
у индейцев-же в Бразилии, у варопен и маринданим на Новой
Гвинее и ряда восточноафриканских народов. Повсюду возрастные
группы выполняли многочисленные хозяйственные, социальные и
церемониально-религиозные функции. Вопреки встречающемуся
мнению369, основу становления и развития возрастных групп следует
искать не только в производственной, айв социальной сфере. Ведь
их главной задачей было именно введение человека в общественную
структуру, формирование из него полноценной социальной
личности, активно участвующей не только в хозяйственной жизни, но и во
всех общественных мероприятиях.
16. Организация власти и социального контроля
Представление о том, что за отсутствием формализованной вла- .
сти в первобытном обществе господствовала анархия, безнадежно
устарело. В первобытности дмелись строгие системы норм,
регулировавшие взаимоотношения между людьми и до определенной
степени стимулировавшие те или иные их поступки370. Нормативные
предписания пронизывали все аспекты жизни людей: во
взаимоотношениях внутри семьи и общины, между родственниками и
свойственниками, соплеменниками и чужаками, представителями разных
поколений и разных ритуальных групп и пр., повсюду действовали
неписанные правила, основанные на традиции, идущей от предков.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 395
Коллективизм, тесно связанный с наличием широкой социальной
сети, которая только и помогал'а людям преодолевать жизненные
невзгоды, неизбежно должен был опираться на нормы, до
определенной степени ограничивавшие свободу действий отдельных индивидов.
«Забота о благе индивидуума была производной от блага общины,
а не наоборот. Моральный кодекс носил подлинно коллективный
характер» 371.
Первобытные нормы не различали мотивов и результатов
проступков, и наказание определялось прежде всего характером
совершенного преступления. При этом главенствующим принципом была
эквивалентная компенсация («око за око, зуб за зуб»), на чем и
основывались всевозможные выплаты и штрафы за понесенный ущерб,
кровная месть и т. д. Вместе с тем при вынесении решениД о том
или ином наказании люди учитывали и личность преступника,
прежде всего его родственные и общинные связи. Поэтому отношение к
проступкам родичей или членов своей общины коренным образом
отличалось от реакции на преступления чужаков. Убийство чужака
вообще не считалось преступлением. Зато родичи убитого в этом
случае жестоко мстили убийце и его близким, чаще всего устраивая
вооруженное нападение. Лишь в редких случаях, когда произошло
непреднамеренное убийство, можно было откупиться определенными
материальными ценностями.
Совершенно иная картина наблюдалась при убийстве сородича.
В принципе первобытные нормы требовали добрых
взаимоотношений внутри рода или общины, где конфликты старались решать
мирным путем. И все же убийство сородичей встречалось. В этом случае
в силу вступал принцип обеспечения прежде всего интересов
социальной группы. Так, папуасы-гадсуп говорили: «Один из наших
братьев мертв, не будем умирать все». Преступник у них подвергался
чисто символическому наказанию. Они ставили его в центре поселка,
давали ему щит и стреляли в него из луков, стараясь не только не
убить, но даже и не ранить его. У некоторых других папуасов
Восточных гор преступнику мстили ближайшие родичи убитого или
же такое преступление вообще оставалось безнаказанным. Во всяком
случае, община предпочитала не вмешиваться в такого рода
конфликты.
То же самое происходило и при совершении ряда других
проступков внутри социальной группы (нарушение супружеских и
имущественных прав). В крайнем случае наказание сводилось к
общественному устному порицанию, но на более жесткие санкции община
в Восточных горах Новой Гвинеи не решалась. У африканских тонга
наказание сородича принимало еще более своеобразную форму. Так
как его близкие были не вправе применять к нему какие-либо
санкции, будучи обязаны оказывать друг другу всемерную поддержку, они
просили устыдить нарушителя норм тех своих партнеров, с которыми
они были связаны, так называемыми шуточными отношениями372.
396
Глава четвертая
С разложением общинно-родовых связей, переходом от родовой
общины к соседской, укреплением* имущественных прав отдельных
общинников описанный порядок менялся и родственные отношения
переставали служить гарантом безнаказанности при совершении
проступков против своей общины. В отличие от папуасов Восточных гор
у более развитых папуасов-экаги в западном районе Новой Гвинеи
существовали гораздо более разработанные и более жесткие нормы.
Там убийство сородича безусловно осуждалось общиной и убийцу
всегда казнили его ближайшие родичи: братья, дядья и пр. Столь же
сурово расправлялись и с богачом, не желавшим проявлять
необходимую щедрость, ибо это также рассматривалось как серьезное
покушение на интересы общины373.
Весьма типичный пример описанных порядков зафиксирован
К. Ридом у папуасов гахуку-гама 374, где во взаимоотношениях между
людьми царил принцип «идеального равновесия». Согласно
последнему папуасы руководствовались такими моральными нормами, как
«не вредить родичу», «быть готовым всегда отомстить за проступок»
и т. д. Коллективистская мораль требовала от людей умения уступать
и не проявлять упорства в выступлениях против мнения большинства.
Она же создавала некоторые препятствия процессу социального
расслоения: нельзя было иметь имущества значительно больше, чем у
других; нельзя было дарить больше, чем одариваемые могут вернуть,
и т. д. В некоторых обществах праздники с характерным
церемониальным обменом ставили своей целью прежде всего поддержание
равновесия между общинниками. Сверстники обязаны были
проходить основные жизненные рубежи (инициация, помолвка, брак,
обзаведение собственным хозяйством и пр.) примерно одновременно.
Отступление от этого правила наносило серьезную моральную травму,
и отставшие от своих сверстников юноши нередко кончали жизнь
самоубийством.
Другой важной нормой было соблюдение принципа старшинства:
сын обязан был слушаться отца, а младший брат — старшего. Кстати,
во многих случаях это подчеркивалось терминологическим различием
младших и старших сиблингов. Старшинство давало определенные
основания претендовать на руководство, хотя, как мы увидим ниже,
в позднеродовом обществе наряду с ним существовали и другие
механизмы, открывавшие путь к власти. Во всяком случае, во всех
обществах юноши, не прошедшие определенных церемоний, не
выплатившие долги, не вступившие в брак, не обзаведшиеся
собственным хозяйством, т. е. не вошедшие еще в категорию взрослых
мужчин, не могли наравне с последними участвовать в общих собраниях
и не имели там права голоса.
Высшим органом власти в позднеродовом обществе было
собрание общинников. Чаще всего оно устраивалось в мужском доме и
состояло исключительно из взрослых мужчин, каждый из которых мог
свободно излагать свое мнение, но у гадсуп, например, на собрании
присутствовали и все желающие. Собрания созывались лишь в особо
\
\ ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 397
сложных д серьезных ситуациях. Их устраивали намеренно, если
речь шла об^ организации какой-либо хозяйственной деятельности,
осуществлении военного набега, приеме новых членов в общину и
т. д. Они могли возникать и стихийно, в случае ссор, проступков или
провинностей. Дела, связанные с интересами каких-либо лиц или
групп, решались при участии всех заинтересованных сторон. Обычно
собранием руководили наиболее уважаемые мужчины, обладавшие
красноречием, и именно один из них имел право предлагать
собранию то или иное решение, однако именно предлагать, а не
навязывать. Дискуссия велась до тех пор, пока не достигалось согласие и
принятое решение не получало поддержку большинства, в том числе
и понимания со стороны наказуемых. Решение могло выноситься
только с согласия всего собрания. Обычно в его основе лежал
коллективный опыт, опиравшийся на те или иные имевшие место в
прошлом прецеденты. Несогласным предоставлялась возможность
покинуть общину. Серьезные разногласия внутри общины
действительно нередко приводили к ее расколу и уходу части общинников
на новое местожительство.
В принципе каждый взрослый мужчина не только имел голос
в общем решении, но и мог стать инициатором и руководителем
задуманного дела. Важно было лишь убедить общинников и
организовать их. Так, дли строительства нового дома или для расчистки
нового участка земли, что было не под силу одной семье, ее глава
призывал на помощь группу родственников и соседей, а по окончании
работ устраивал пир.
В ранний период ссоры в позднеродовом обществе возникали
главным образом из-за супружеской неверности и обвинений в
колдовстве. Чаще всего такого рода конфликты решались с помощью
той или иной компенсации, которую ответчик выплачивал истцу. Но
иногда свою правоту приходилось доказывать участием в поединке
на палках, а также в иного рода состязаниях (песни, словесные
дуэли и пр.). В случае межобщинных разногласий дело нередко
оканчивалось вооруженным набегом с целью отмщения. Со временем
причиной конфликтов все чаще становилось нарушение каких-либо
имущественных интересов. Например, у наиболее развитых групп
папуасов ссоры часто возникали из-за потрав или кражи свиней (более
6% всех конфликтов у папу асов-хул и), в других случаях речь могла
идти о посягательстве на чужой земельный участок, краже части
урожая и т. д. Поэтому ранние земледельцы и скотоводы заботились
о воспитании с детского возраста уважения к чужой собственности.
И все же одного общественного мнения и норм коллективной
морали оказывалось недостаточно для того, чтобы управлять обществом.
В некоторых ситуациях нужны были люди, поддерживавшие эти
нормы своим авторитетом или даже изменявшие их. Такого рода
главари встречались еще в раннеродовом обществе, однако в неолите
с развитием социально-экономических отношений и увеличением
размеров и усложнением структуры отдельных общин их положение и
398
Глава четвертая
функции существенно изменились. У низших охотников и
собирателей общины были относительно невелики и строились ра основе
какой-либо одной родовой группы. Поэтому проблема управления ими
не вызывала сколько-нибудь серьезных затруднений./Лишь
единичные мужчины обладали здесь знаниями и опытом, необходимыми для
руководства общиной. Как правило, ими оказывались самые старые
мужчины, которых издавна принято называть «старейшинами». Так
как большинство членов этих общин было связано кровным родством,
власть сплошь и рядом передавалась между сородичами, что и
породило иллюзию существования здесь наследственного порядка
передачи власти. На самом деле принцип формального наследования
власти возник гораздо позже, в эпоху классообразования. Об этом
свидетельствует тот факт, что его не было у ранних земледельцев и
скотоводов, хотя в этот период начали складываться предпосылки его
формирования.
Отсутствие принципа наследования, т. е. формализованного
механизма передачи власти, породило в неолите своеобразную форму
соперничества, на основе которой развилась широко
распространенная у ранних земледельцев и скотоводов система лидерства.
Действительно, теперь уже не единичные, а многие мужчины в пределах
общины обладали сходными родовыми статусами, а таю#е знаниями
и навыками, которые в равной мере позволяли каждому из них взять
на себя руководство общиной. Это и порождало соперничество,
принимавшее в разных обществах самые разные формы. Чаще всего оно
выливалось в форму престижно-социальных пиров, но иногда
принимало такой специфический облик, как песни «охо» у ваиваи.
В условиях соперничества главным залогом успеха являлись
личные качества претендентов на власть: физическая сила,
агрессивность, ораторское искусство, умение организовывать людей и ладить
с ними, багаж различных знаний, хозяйственные навыки, ритуальное
искусство и т. д. В разных обществах соотношению этих качеств
придавалось разное значение, и лишь обладатели некоторых из них
имели реальные шансы стать лидерами. Так, в восточных горах Новой
Гвинеи лидерство функционировало главным образом в военной
сфере, и поэтому основными качествами лидера там считались
агрессивность, смелость и военный талант. У арапеш в связи с
исключительным местом изобразительного искусства в системе ритуалов,
игравших огромную социальную роль, руководство общественными
делами возлагалось на художников и скульпторов. Абелям почитали
искусных земледельцев, выращивавших необычно крупные клубни
ямса. В центральных горах Новой Гвинеи первое место занимали
организаторские способности и ораторское искусство375.
В ряде случаев лидерство было привилегией колдунов, что,
однако, не являлось универсальной закономерностью и зависело от
соотношения социальной и религиозной сфер. Как правило, многие
общинники могли отправлять большинство религиозных ритуалов
самостоятельно. Только особо важные ритуалы находились в веде-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 399
нии специальных колдунов, но роль этих колдунов в обществе была
весьма различной. Например, кубео наделяли их определенной
властью, но весьма ограниченного свойства, и лидерство здесь ни в
коей мере не било связано с религиозной сферой. У йекуана колдуны
обладали особы^ статусом. Их боялись и уважали, однако само по
себе умение колдовать еще не давало права на должность лидера.
Колдун мог стать лидером, лишь проявив необходимые для этого
способности, не связанные с религией. Зато у пиароа, камаюре, добуан-
цев и др. лидеры общин являлись одновременно и колдунами. В
некоторых африканских обществах, например у маджангир, колдуны
обладали более широкими возможностями в организации людей, чем
лидеры общин, и нередко распространяли свое влияние на довольно
крупные территории376.
По-видимому, роль религии в системе власти возрастала с
развитием культа предков. Этому способствовало распространение идеи
о наличии у людей особой сверхъестественной силы, от величины
которой зависели их способности в общении с внешним миром. В
Меланезии такую силу называли «мана», тив Африки звали ее «цав»,
кубео Южной Америки— «парие». Со временем возникло
представление о том, что эту силу можно наследовать физическим путем. И на
этой основе развилась особая форма каннибализма, при которой люди
стремились поедать трупы своих выдающихся деятелей или же пепел
от их сожжения, считая, что тем самым они приобщались к
могуществу последних.
Во многих африканских обществах важной функцией лидера
было установление «контактов» с духами предков и общение с ними
в интересах общины (талленси, иракве и др.).
Власть лидера покоилась не только на его личных качествах, но
и зависела от размеров группы, оказывавшей ему поддержку.
Поэтому вербовка многочисленных сторонников была одним из главных
путей к лидерству. Так как в однородовой общине соперниками
оказывались классификационные братья, находившиеся формально в
равных отношениях со своими родичами, то единственной
возможностью расширить социальную базу своих претензий на лидерство
являлось для них привлечение сторонников извне. Иначе говоря, в
борьбе между собой они стремились опираться на поддержку
родственников и свойственников. В одних местах это осуществлялось
с помощью раздач пустующих общинных земель в пользование
пришельцам (на Новой Гвинее), в других — с помощью удачной выдачи
сестер замуж (в некоторых обществах Южной Америки). Повсюду
для повышения своего авторитета и вербовки сторонников лидеры и
претенденты на эту должность устраивали потлачевидные пиры.
Если первоначально лидеры происходили, как правило, из
доминировавшей в общине группы (у яноама и талленси, например, из
самого крупного линиджа), то с возрастанием оседлости основную
роль начало играть право первопоселения. Иначе говоря, возникла
иерархия родовых коллективов, по которой наибольшим престижем
400 Глава четвертая
пользовались линиджи, происходившие по прямой линии от тех, кто
поселился в данном месте впервые. Из этих линиджей в/первую
очередь и избирались новые лидеры. Такой порядок лучше всего изучен
в Африке (маджангир, тонга и др.), но он встречался и в других
местах (например, у абелям на Новой Гвинее и кубео в
Амазонии).
Имущественный достаток на первых порах не играл почти
никакой роли в развитии системы лидерства, однако постепенно богатство
становилось все более важным фактором, определявшим престиж
человека в обществе. Это диктовалось тем, что многие функции лидера
начали требовать все больших и больших имущественных затрат,
которые были под силу лишь обеспеченным людям. Регулярное
устройство пиров и организация ритуалов, прием гостей и материальна^
помощь сородичам, наконец, просто проявление щедрости по тем или
иным поводам — все это заставляло лидеров идти на значительные
материальные затраты. Правда, благодаря системе ответных даров
эти затраты всегда окупались. Лидеры принимали участие в общем
труде и всюду должны были возделывать более крупные участки
земли. Впрочем, сколь бы ни были велики их собственные трудовые
усилия, им везде приходилось привлекать для этого дополнительную
рабочую силу, вербуя ее прежде всего из членов своей общины.
Однако самый большой вклад в создание необходимых излишков
пищи вносили женщины, и поэтому во многих районах мира лидеры
стремились к многоженству. Женщины не только заботились о
запасах пищи, но принимали живейшее участие в организации пиров и
церемоний. Вот почему порой встречались и такие случаи, когда
смерть жены заставляла прежнего лидера уступать свое место
другому, ибо он уже не справлялся с возложенными на него функциями
(например, у ваиваи)377.
Лишь в немногих раннеземледельческих обществах, например
у трумаи, лидеры были освобождены от земледельческого труда. Но
и там они активно участвовали в охоте, рыболовстве* и сами
изготовляли орудия труда378.
С возрастанием роли богатства в системе лидерства высокий
престиж и реальная власть перестали отождествляться» Так, у папуасов-
дани человек, достигший высокого престижа смелостью в бою, не
имел реальной власти, если был беден и не мог участвовать в
социальных мероприятиях с той регулярностью, которая требовалась
лидеру379. β
Как явствует из всего вышеописанного, богатство в
рассматриваемый период было важно не само по себе, а лишь как существенный
фактор, обусловливавший степень участия в социальной жизни.
Накопление богатства в виде сокровищ еще было невозможным, так как
это противоречило господствовавшим нормам распределения
общественного продукта. Людей, скопивших особенно крупные запасы, в
той или иной форме заставляли делиться с окружающими, а в случае
отказа могли даже убить (это известно у экаги).
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
401
На разных стадиях развития неолита функции лидерства весьма
существенно различались. В некоторых мелких наиболее отсталых
обществах необходимости в лидерах вообще не было, и социальные
конфликты выносились на обсуждение собрания взрослых мужчин.
Так происходило, например, в некоторых папуасских группах в
районе р. Сэпик. В более развитых обществах функции лидеров
постепенно становились все более разнообразными. Они являлись
организаторами общественных работ в земледелии, рыболовстве и охотег
руководили важными ритуалами, принимали главное участие в
решении внутренних конфликтов, представляли общину во внешних
сношениях, иногда хранили церемониальные предметы. В некоторых
случаях лидеры являлись посредниками в общении общины с
«миром духов», а с развитием культа предков начали играть важную
роль в его ритуалах. У индейцев северных районов Южной Америки,
где лидер считался «владельцем» общинного дома, строительство
последнего представляло собой своеобразные выборы, так как только
его организация давала право на лидерство. Иногда, как, напримерг
у форе Новой Гвинеи, лидерство заключалось главные образом в
руководстве военными операциями. У кубео хозяйственная роль
лидеров была минимальной и сводилась к организации производства пива
для пиров. Кроме того, лидеры у кубео выращивали особого рода
наркотические растения и снабжали ими всех членов общины. В
некоторых случаях власть лидера ограничивалась сферой межобщинных
отношений, а решение внутренних конфликтов входило в
компетенцию собрания общинников. С развитием межобщинного обмена его
основные нити очень часто попадали в руки лидеров, которые тем
самым повышали свое влияние среди общинников (Центральная
Новая Гвинея, пиароа и др.)·
Что касаетад размеров власти лидеров, то она в ранний период
была невелика. Лидеры не имели права ни командовать, ни
приказывать и не обладали аппаратом физического принуждения. Их
руководство покоилось на их личном авторитете и сводилось к советам,
просьбам и уговорам. Нередко лидер личным примером привлекал
людей к участию в общественных работах. Вместе с тем, будучи
тесно связаны с личными качествами лидера, рамки этой власти в
конкретных ситуациях могли существенно колебаться. Этнографам
известны лидеры, которые держали общинников в страхе и не
терпели неповиновения. На Новой Гвинее этим отличался, например, Ма-
тото, лидер папуасов-таирора, а в Южной Америке подобного типа
лидеры встречались у яноама. Один из последних время от времени
убивал зачинщиков ссор, а другой изгнал из общины всех своих
братьев, претендовавших на лидерство наравне с ним 380.
В неолите система власти впервые обрела иерархический
характер. Чаще всего встречалось два уровня иерархии: на общинном
уровне руководителями Являлись лидеры, а на уровне отдельных домо-
хозяйств — старейшины, главы отдельных линиджей, отцы семейств.
Все черты лидерства, отмеченные выше, не относились к системе
402
Глава четвертая
власти на низшем уровне. Там главными принципами оставались
родство и старшинство.
Власть надобщинного характера в неолите встречалась лишь в
наиболее развитых обществах. В редких исключениях, как,
например, у пиароа, несколько общин составляли весьма непрочное
объединение, возглавлявшееся наиболее влиятельным из лидеров этих
общин. С его смертью такое объединение чаще всего распадалось.
Наиболее четкая многоступенчатая иерархия власти известна
этнографически у развитых земледельцев центральных и западных
районов Новой Гвинеи. Там родовые подразделения разных уровней
сегментации составляли ядра соответствующих территориальных групп,
которыми и руководили лидеры. Однако и там ни о какой
общеплеменной системе власти не было и речи.
Появление внутри общины двух сильных претендентов на
лидерство чаще всего вело к ее расколу на две враждующие группировки
и в конечном итоге — к распаду. Две вновь образованные общины
первое время относились друг к другу враждебно, а иногда даже вели
войны друг с другом.
С совершенствованием системы лидерства и развитием прав
собственности и принципов ее наследования определенные изменения
претерпевали и механизмы преемственности власти. Иначе говоря,
со временем функции власти усложнились, а требования к ним
возросли настолько, что одних только личных качеств стало
недостаточно для обеспечения успешной борьбы за лидерство. У лидеров
появились специальные знания и опыт, передача которых их
преемникам существенно помогала последним утвердиться у власти. Не
меньшее значение получило и наследование различных
материальных ценностей (богатства, ритуальных предметов и т. д.). Поэтому
возросла роль лидеров в обеспечении механизмов преемственности
власти. В ряде случаев они сами стали назначать и даже готовить
своих преемников, которых они специально обучали. Чаще всего
они выбирали себе смену из ближайших родичей: братьев и
сыновей — при патрилинейности, племянников — при матрилинейно-
сти. Однако так было не везде. Иногда их преемниками становились
зятья (у пиароа) или какие:либо дальние родственники. У йекуана
при выборе своих помощников и преемников лидеры вообще не
учитывали характер родственных связей. В некоторых обществах на
лидерство мог претендовать любой общинник, прошедший
за'определенную плату курс обучения у лидера (у ленду, пиароа и т. д.).
И все же решающим в утверждении человека на должность
лидера было общественное мнение. Повсюду сколь бы основательными
ни были претензии кандидата на власть, он становился лидером лишь
в том случае, если общинники признавали его в качестве такового.
Без этого никакие права наследования не помогали, и этим
лидерство в раннеземледельческих обществах коренным образом
отличалось от вождеств, где формальный момент в передаче власти
приобрел гораздо более серьезное значение.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
403
По мнению некоторых авторов, одной из отличительных черт
вождеств в отличие от более ранних обществ было формирование
системы редистрибуции, тогда как раньше господствовала реципро-
кация. Иначе говоря, в вождествах общественные блага стали
перераспределяться вертикально, а не горизонтально, как прежде.
Изложенное предположение представляется излишне категоричным, так
как редистрибуция свойственна не исключительно вождествам, а
любой социально-потестарной системе, включающей ступенчатую
иерархию власти. Так, в указанных выше примерах, где имелась власть на
надобщинном уровне (центральные и западные горы Новой Гвинеи,
пиароа и т. д.), ей сопутствовала и система редистрибуции.
17. Межобщинные отношения.
Военные столкновения
В условиях низкого уровня развития производительных сил и
малонадежной хозяйственной основы отдельные общины никогда не
были застрахованы от кризисов того или иного порядка. Неурожаи
и голодовки, эпидемии и неустойчивость демографической картины,
вражеские нападения и внутренние конфликты — все это придавало
большое значение широкой сети социальных контактов. Развитию
этой сети способствовало то, что лри сегментарной структуре
родовой организации значительная часть родичей обитала в других
общинах. Кроме того, в других общинах жили родственники и
свойственники, на помощь которых также можно было рассчитывать.
Выше уже отмечалось, что в неолитических обществах помимо
родовых, т. е. унилинейных родственных связей, большое значение
имело и родство иного порядка. Например, при патрилинейности
люди стремились поддерживать добрые отношения с материнскими
родственниками, а при матрилинейности — с отцовскими. Интересно
идеологическое обоснование этих связей. Патрилинейные папуасы-
энга считали, что прямо от отца и посредством ряда ритуалов
человек получал связь с духами патрилинейных предков, а от матери —
свой физический облик. Тем самым кровь матери ставила человека
в особые отношения с ее братьями, которые были заинтересованы в
благополучии племянников. Если человека настигал какой-либо
физический недуг, энга связывали это с ослаблением его агнатных
духов, и материнские родственники больного были вправе требовать
компенсации от членов его патрилиниджа. Смерть ребенка также
объяснялась нападением на него одного из духов отцовских предков.
В этом видели угрозу материнским родственникам умершего, так как
они имели с ним единую физическую субстанцию. В таком случае,
чтобы умерить их гнев, отцовские родичи покойного делали им
особенно крупные подношения381.
Аналогичные отношения в патрилинейных обществах с
материнскими родственниками и в матрилинейных — с отцовскими
зафиксированы у многих народов. Они влекли особые обязательства, вы-
404
Глава четвертая
ражавшиеся в регулярном дарообмене и взаимопомощи, тем самым
сплачивай членов разных родов. Например, у тех же энга мужчина
мог оказывать военную поддержку братьям своей матери и
сыновьям сестры и отказывался участвовать в набеге па общину своих
материнских родственников. Иногда такие отношения между двумя
издавна брачевавшимися родами принимали
институционализированную форму. Такими были, например, отношения нгвиче между
родами бомагаи и ангоянг у папуасов-маринг. Их члены регулярно
помогали друг другу и вели дарообмен 382.
Социальная сеть не всегда опиралась на принципы,
порожденные только кровным родством или браком. Иногда в силу вступали
некоторые другие механизмы. Так, у папуасов-асмат родичам
убитого было запрещено покушаться на жизнь человека, который
прошел инициацию и получил его имя. Напротив, в силу этого ритуала
они начинали считать его своим родичем. В обстановке
ожесточенных войн именно такие люди служили парламентерами,
облегчавшими контакты между враждовавшими общинами383. Другим способом
установления и укрепления межобщинных связей служило
партнерство, основанное на регулярном обмене материальными ценностями
и периодической взаимопомощи. Партнерство являлось
дополнительным средством укрепления дружбы между родственниками или
свойственниками, но среди партнеров нередко встречались и
иноплеменники 384.
В большинстве случаев связи, основанные на браках, не
отличались особой устойчивостью. Сегодняшние друзья могли завтра стать
врагами и наоборот, и соответственно менялась брачная политика 385.
Следовательно, формальные родственные принципы отличались
большой слабостью и сами по себе не могли обусловить прочность
дружеских контактов. Поэтому последние требовали бесконечного
обновления и укрепления посредством реальных действий, начиная
от периодических хождений в гости и оказания всевозможных
мелких услуг (на индивидуальном уровне) и кончая крупными
регулярными пирами-праздниками (на групповом уровне).
Регулярные пиршества представляли собой характернейшую
черту раннеземледельческого периода. Отдельные общины
устраивали их для целой округи, и на них сходилось от нескольких сотен до
нескольких тысяч человек. Главной целью таких церемоний было
укрепление социальных контактов, гарантировавших определенную
стабильность в межгрупповых отношениях на ближайший период
времени. Праздник предоставлял людям возможность общения,
обмена информацией, уплаты долгов, заключения всевозможных
сделок и пр. На празднике завязывались любовные отношения,
обусловливавшие взаимные браки. В ряде случаев праздник помогал
организации коллективных хозяйственных работ, в других — вербовке
военных союзников. Пиры описанного типа хорошо известны
этнографам у самых различных народов Азии, Африки, Америки и
Океании. Повсюду их подготовка требовала создания значительных запа-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 405
сов растительной пищи и мяса или рыбы. В скотоводческих районах
наиболее ценным блюдом считалось мясо домашних животных, оно
служило как бы символом праздника. Например, у многих
земледельцев и свиноводов Новой Гвинеи праздник так и называл$я «свиным
праздником». В земледельческих обществах гвоздем программы
являлись увесилительные напитки — пиво и т. д. В Америке их
изготовляли из маниока и маиса, а Африке и Азии — из ячменя, проса,
риса и пр.
Помимо установления дружеских отношений неотъемлемой
частью пиров-праздников было соперничество. Публично
демонстрируя свое хозяйственное и военное могущество, община тем самым
вынуждала гостей впоследствии организовывать не менее пышное
празднество. Этим она как бы пыталась возвыситься над ними и
подчинить их себе, ибо, как гласит поговорка кубео, «лидерство
возникает от отдачи, а подчинение — от получения» 386. Если пир был так
обилен,, что гости чувствовали, что не в силах устроить нечто
подобное, это их унижало и порождало враждебность. У тех же кубео
чересчур богатые общины рисковали остаться в одиночестве и не только
не могли рассчитывать на поддержку соседей, но, напротив,
подвергались угрозе их нападения.
Организацией пиров ведали лидеры, и часто именно их
деятельность придавала праздникам характер соперничества. Роль лидеров
в развитии этих церемоний хорошо видна на примере горных
папуасов. Там в наиболее отсталых восточных районах основной акцент
делался на коллективный характер празднества и его подготовки. Зато
в более развитых центральных районах наблюдалось смещение к
индивидуализации и на первый план постепенно выдвигалась борьба
лидеров за личный престиж.
Иным типом межобщинных контактов являлись военные
столкновения. Если у низших охотников и собирателей вооруженные
столкновения встречались крайне редко, а охоты за головами и
каннибализма вовсе не было, то для более развитых обществ войны
превратились в характерную черту общественной жизни. С переходом к
неолиту причины войн и их характер стали гораздо более
многообразными. На первых порах войны велись главным образом в связи с
обвинениями в колдовстве, местью за кровь, а также для захвата
женщин. Однако со временем все большую роль в развязывании войн
начало играть нарушение имущественных прав: использование чужих
угодий (охотничьих, рыболовческих и пр.), кражи, потрава посевов
и т. д. Вместе с тем представление, по которому главным стимулом
развития войн являлся захват материальных ценностей, кажется
несколько упрощенным. У наиболее отсталых земледельцев имущество
врага вообще не захватывалось, а полностью уничтожалось. Позже
победители начали присваивать наиболее ценное движимое
имущество побежденных (керамику, утварь, одежду, украшения и т. д.),
однако это не было причиной войны, а являлось ее побочным
следствием. Так, многие индейцы Южной Америки устраивали набеги на
406 Глава четвертая
соседей с целью захвата женщин и детей для увеличения размеров
своих общин. Но в некоторых случаях они попутно могли забрать
с собой и часть имущества побежденных.
Даже в более развитых обществах, когда войны временами вели
к перераспределению земельных ресурсов, захват территории, за
редчайшими исключениями, не являлся целью вооруженных нападений.
Последние велись прежде всего для того, чтобы обескровить
противника, подорвать его материальное благосостояние и, если возможно,
изгнать как можно дальше. Что же касается его территории, то она
считалась местом обитания духов предков побежденных, и из страха
перед сверхъестественными силами чужаки, как правило, не
отваживались сразу здесь селиться. Поэтому через некоторое время
победители могли даже пригласить своих бывших врагов вернуться на
прежнюю территорию. Если же последние отказывались, их земли
постепенно начинали обживаться. Там вначале могли устроить
пастбище или подсобные огороды, и лишь позже происходило заселение
этих земель. Прежде всего на это отваживались те группы населения,
которые не участвовали в вооруженных действиях. Победители
иногда также селились на территории бывших врагов, но дл/я этого им
следовало организовать особые ритуалы 387.
Таким образом, в раннеземледельческий период войны за
передел земли встречались крайне редко, как правило, эта цель являлась
побочной. Пожалуй, из современных народов только у энга Новой
Гвинеи и еще некоторых групп войны велись иногда ради захвата
новых земель. Это наблюдалось в густонаселенных районах, где
нехватка земли ощущалась особенно остро. Однако и там имелись иные,
мирные механизмы перераспределения земельных участков.
Специалисты выделяют два (реже — три) типа военных действий
у ранних земледельцев: 1) набеги карательного характера (в
наказание за те или иные проступки); 2) длительные, затяжные военные
действия, причины которых действовали постоянно (кровная месть,
охота за головами, ритуальный каннибализм)388. Набеги имели
быстротечный характер и прекращались, как только их цель была
достигнута. Иначе обстояло дело с затяжными военными действиями.
Например, там, где регулярно производились ритуалы, требовавшие
голов врага или каннибализма, постоянные войны являлись
общественной нормой. Набеги нередко производились внутри племени или
фратрии, а затяжные военные действия, как правило, велись только
между иноплеменниками. Внутри племени обычно имелись
определенные нормы и другие механизмы, сдерживавшие противников и
смягчавшие вредоносные последствия вооруженных столкновений,
хотя и неспособные исключить их вовсе 389. Вне племени таких
механизмов не было, и военные действия здесь могли вестись до полного
истребления. В некоторых случаях внутри племени был запрещен
каннибализм. Интересно, что наличие двух указанных типов военных
действий признавалось и самими ранними земледельцами 390.
Если в развитии военных действий первого типа с переходом к
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
407
земледелию сыграла роль эволюция имущественных отношений, то
второй тип был связан с особенностями механизма социализации и
зарождением культа предков, а также с другими духовными
представлениями и ритуалами, которых в предшествующий период еще
не было.
Главными военными единицами у ранних земледельцев являлись
субклан и род, внутри которых вооруженные столкновения вообще
исключались. При этом в развязывании войн и ведении
наступательных операций участие принимали, как правило, отдельные субкла-
яы, род выступал в качестве единого целого при обороне. Но иногда
субкланы или роды заключали друг с другом военные союзы.
Правда, такие объединения были непрочными. Центром военной
организации служили мужские дома, а главную ударную силу составляли
юноши, для которых участие в вооруженных набегах означало
вступление в престижную категорию взрослых мужчин. Например, во
многих папуасских группах восточных районов Новой Гвинеи юноша
не имел права вступать в брак, если он не убил ни одного врага.
Вооруженные отряды в раннеземледельческих обществах могли
достигать нескольких сотен мужчин, причем в пути их кое-где
сопровождали жены и дочери, которые несли пищу и другое необходимое
имущество.
Как удачно показал П. Силлитоу, большую роль в развитии
военного дела^ сыграло лидерство, военные действия занимали важное
место в функционировании системы социально-потестарных
отношений391. Вооруженные столкновения и начинались и заканчивались,
как правило, по инициативе лидеров, которые тем самым
упрочивали свою власть в общине, а иногда и распространяли свое влияние
за ее пределами. Вместе с тем лидер общины далеко не всегда
являлся одновременно и военным руководителем. В некоторых
обществах эти должности занимали разные лица.
В раннеземледельческий период наблюдалось совершенствование
наступательного и оборонительного вооружения. В особенности
следует обратить внимание на появление частоколов, каменных стен и
рвов, окружавших компактные поселки.
Военные действия, которые вели ранние земледельцы,
определенным образом повлияли и на их более отсталых соседей. Так, более
оседлые и лучше оснащенные технически группы папуасов в районе
Сэпик нападали на соседних более отсталых горцев, охотясь за
черепами для ритуалов392. Напротив, у гуахибо встречалась
противоположная ситуация; подвижные охотники и собиратели совершали
набеги на соседних земледельцев для захвата земледельческой продук-
ции, различных предметов материальной культуры и женщин**0.
1 Alexander J. The indirect evidence for domestication.— DEPA, p. 124.
2 Childe V. G. Man makes himself. L., 1941, p. 66—104; Idem. Old World
prehistory: Neolithic— In: Anthropology Today. Chicago, 1953, p. 193—207;
White L. The evolution of culture. N. Y., 1959, p. 281 f.
408
Глава четвертая
3 Сходный подход см.: Монгайт А. Л. Археология Западной Европы.
Каменный век. М., 1973, с. 197; Турина Η. Η. Некоторые общие вопросы
изучения неолита лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР.— В
кн.: Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской
части СССР в неолите. Л., 1973, с. 10—12; Формозов А. А. Проблемы
этнокультурной истории каменного века на территории Европейской части
СССР. М., 1977, с. 17—21.
4 Верещагин Н. К. Охота первобытного человека и вымирание плейстоценовых
млекопитающих в СССР.— В кн.: Материалы по фаунам антропогена
СССР. Л., 1971, с. 215, 225; Будыко М. И. Человек и биосфера.— ВФ„
1973, №1, с. 64-65.
5 Flannery К. V. Origins and ecological effects of early domestication in Iran
and the Near East.— DEPA, p. 77—79; Idem. Archaeological systems theory and
Early Mesoamerica.— In: Prehistoric Agriculture. N. Y., 1971, p. 80—93;
Cohen M. N. The food crisis in prehistory. New Haven; London, 1977.
6 Angel J. L. Paleoecology, paleodemography and health.— In: Population,
Ecology and Social Evolution. The Hague; Paris, 1975, p. 179, 180.
7 Семенов С. А. Изучение первобытной техники методом эксперимента.— В
кн.: Новые методы в археологических исследованиях. М.; Л., 1963, с. 191 —
214; Кор об ков а Г. Ф. Древнейшие жатвенные орудия и их
производительность.— СА, 1978, № 4, с. 36—52, и др.
8 Подробно о горных выработках в неолите см.: Турина Η. Η. Древние камне-
добывающие шахты на территории СССР. Л., 1976; Shepherd R. Prehistoric
mining and allied industries. L., 1980; Nenquin J. Salt. A study in economic
prehistory. Brugge, 1961.
9 Подробнее о технических достижениях неолита см.: Монгайт А. Л.
Археология Западной Европы. Каменный век, с. 196—199; A History of Techno logy.
Oxford, 1955, v. 1; Hawkes J. Prehistory.— In: History of Mankind. L., 1963,
v. 1, p. 286—326; Cole S. M. The Neolithic revolution. L., 1963, p. 30—58;
Smith Ph. E. L. The consequences of food production.— Current Topics in
Anthropology, 1973, v. 6, N 31, p. 13—16.
10 Вахта В. М. К вопросу о структуре первобытного производства. — ВИ,
1960, № 7, с. 66-69.
11 Кабо В. Р. У истоков производящей экономики.— В кн.: Ранние
земледельцы. Л., 1980, с. 79.
12 Там же, с. 80.
13 Bean L. /., King Th. F. Editor's introduction.— In: Antap. California Indian
Political and Economic Organization. Ramona, 1974, p. 6—9; King Th. F.
Don't that beat the band? Nonegalitarian political organization in prehistoric
Central California.— In: Social Archaeology. N. Y., 1978, p. 225—226.
14 Bohrer V. L. On the relation of harvest methods to >early agriculture in the
Near East.— EB, 1972, v. 26, N 2, p. 145-155.
15 Pohlhausen N. Standpunkte zur Diskussion iiber das Alter der Viehzucht.—
Anthropos, 1972, Bd. 67, S. 176—195.
16 Papers in Economic Prehistory. Cambridge, 1972; Palaeoeconomy,
Cambridge, 1975.
17 Carter G. F. A hypothesis suggesting a single origin of agriculture,— OA,
p. 89—129; LathrapD. W. Our father the Cayman, our mother the Gourd;
Spinden revised, or a unitary model for the emergence of agriculture in the
New World.— OA, p. 713—744.
18 О A; Muhly J. D. Summary: the origin of agriculture and technology — West
or East Asia.— Technology and Culture, 1981, v. 22.
19 Stevens H. B. The recovery of culture. N. Y., 1949; Werth E. Grabstock, Hacke
und Pflug. Ludwigsburg, 1954; Davies O. West Africa before the Europeans.
L., 1967.
20 Подробнее об этих теориях см.: Bender В. Farming in prehistory. From
hunter-gatherer to food-producer. L., 1977; Шнирельман В. А. Современные
концепции происхождения производящего хозяйства.— СА, 1978, № 3, с. 260—
263; Он же. Происхождение скотоводства. М., 1980.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
409
21 Bender В. Gatherer-hunter to farmer: a social perspective.— WA, 1978, v. 10,
N. 2, p. 204—222; Vincent J. On the sexual division of labour, population and
the origins of agriculture.— CA, 1979, v. 20, N 2, p. 422—425.
22 Schwanitz F. The origin of cultivated plants. Cambridge, 1966; Jarman H. N.
The origins of wheat and barley cultivation.— PEP, p. 15—16; BronsonB. The
earlies farming: demography as cause and consequence.— OA, p. 26, 27.
23 Синантропизация и доместикация животных. Материалы к совещанию 1969 г.
М., 1969; Боголюбский С. Н. Доместикация как биологическая проблема.—
В кн.: Проблемы доместикации животных и растений. М., 1972, с. 3.
24 HiggsE. £., Jarman Μ. The origins of agriculture: a reconsideration,—
Antiquity, 1969, v. 43, N 169.
25 Murdoch G. P. Cultural correlates of the regulation of premarital behavior,—
In: Process and Pattern in Culture. Chicago, 1964, p. 400; Whiting J. W. M.
Comments.— MH, p. 336; Redman Ch. L. Man, domestication and culture in
Southwestern Asia.— О A, p. 524.
26 Вавилов Η. И. Центры происхождения культурных растений,— В кн.:
Вавилов Η. И. Избр. произв. Л., 1967, т. 1, с. 88—202; Он же. Ботанико-гео-
графические основы селекции.— Там же, с. 343—405.
27 Комаров В. Л. Происхождение культурных растений.— В кн.: Комаров В. Л.
Избр. соч. М.; Л., 1958, т. 12; Синская Е. Н. Учение Н. И. Вавилова об
исто рико-географических очагах развития культурной флоры.— В кн.:
Вопросы географии культурных растений и Н. И. Вавилов. М.; Л, 1966, с. 22—
31; Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. Л., 1971;
Боголюбский С. Н. Происхождение и преобразование домашних животных. М.,
1959; Семенов С. А. Происхождение земледелия. Л., 1974; Андрианов Б. В.
Земледелие наших предков. М., 1978; ШнирельманВ. А. Происхождение
скотоводства; Darlington С. D. Chromosom botany and the origins of cultivated
plants. N. Y., 1963; Schwanitz F. The origin...; HeiserCh.B. Seed to
civilization. The story of man's food. San Francisco, 1973; Bender B. Farming...
28 Smith С Ε. From Vavilov to the present — a review.— EB, 1969, v. 23, N 1,
p. 2—17; Zohary D. Centers of diversity and centers of origin.— In: Genetic
Resources in Plants — their Exploration and Conservation. L., 1970, p. 33—
39; Harlan J. R. Agricultural origins: centers and noncenters.— Science, 1971,
v. 174, p. 468—473.
29 См., например: Вавилов Н. И. Центры происхождения..., с. 100.
30 Шнирельман В. А. Натуфийская культура.— СА, 1973, № 1; Он же.
Проблема происхождения натуфийской культуры.— СА, 1975, № 4; Valla F. R.
La Natoufien. Une culture prehistorique en Palestine. P., 1975; Mellaart J. The
neolithic of the Near East. L., 1975, p. 22—42; Henry D. O. An analysis of
settlement patterns and adaptive strategies of the Natufian.— In: Prehistoire du
Levant. P., 1981, p. 421—432.
81 Wright G. A. Social differentiation in the Early Natufian.— In: Social
Archaeology. N. Y., 1978, p. 201—223.
32 Правда, имеется сообщение о находке древнейших зерен «культурного» эммера
(Triticum dicoccum) в кебаранском слое стоянки Вади Фалла (Нахал Орен)
XIV тыс. до н. э. См.: Noy Г., Legge А. /., HiggsE. S. Recent excavations
at Nahal Oren.—PPS, 1973, v. 39, p. 92, 93. Однако стратиграфическое
положение этих зерен не вполне ясно.
33 Perrot J. Le «neolithique» du Liban et les recent decouvertes dans, la haute et
moyenne vallee du Jourdain. — MUSJ, 1969, t. 45, p. 136.
34 Van Zeist W., Bakker-Heeres J. A. H. Some economic and ecological aspects
of the plant husbandry of Tell Aswad.— Paleorient, 1979, v. 5, p. 161—169.
35 Mellaart J. The Neolithic..., p. 42—48, 54, 55: Van Loon M., Skinner J. H.
The Oriental Institute excavations at Mureybit, Syria: preliminary report on
the 1965 Compaign.—JNES, 1968, v. 27, N4, p. 265—290; Moore Α. Μ. Τ.
The excavation of Tell Abu Hureyra in Syria: a preliminary report.— PPS, 1975,
v. 41, p. 50—69; Cauvin J. Les premiers villages de Syrie — Palestine du
IXeme ou Vlleme Mill, av J. С Lyon; Paris, 1978.
36 Mellaart J. The neolithic..., p. 52, 53.
410
Глава четвертая
87 Van Zeist W. Palaeobotanical results of the 1970 season at Cayonu, Turkey.—
Helinium, 1972, v. 12, N 1, p. 9-10.
38 Бадер Η. О. Телль Магзалия — ранненеолитический памятник на севере
Ирака.— СА, 1979, № 2.
*ь MellaartJ. The Neolithic..., p. 70—77; OatesJ. Mesopotamian social
organization: archaeological and philological evidence.— In: The Evolution of
Social Systems. Pittsburgh, 1978, p. 458—460.
40 Wendorf F., Schild R. The use of ground grain during the Late Paleolithic of
the Lower Nile valley, Egypt.—OAPD, p. 271—286; Wendorf F. et al. Use
of barley in the Egyptian Late Paleolithic— Science, 1979, v. 205, p. 1341 —
1347; Wendorf F., Schild R. Prehistory of the Eastern Sahara. N. Y., 1980.
41 Wendorf F., Schild R. Prehistory of the Eastern Sahara; Wendorf F., Hassan F.
Holocene ecology and prehistory in the Egyptian Sahara.— In: The Sahara and
the Nile. Rotterdam, 1980, p. 415—418; Roubet C, Hadidi N. el, 20 000 ans
d'environment prehistorique dans la vallee du Nil et le desert Egyptien.—
L'Anthropologie, 1981—1982, t. 85, N 1, p. 31—57.
42 Murdoch G. P. Africa. Its peoples and their culture history. N. Y., 1959, p. 64—
70; Porteres R. Primary cradles of agriculture in the African continent.— In:
Papers in African Prehistory. Cambridge, 1970, p. 43—55; Dames O. West
Africa..., p. 117, 118, 151, 152; Coursey D. G. The origins and domestication of
yams in Africa.— OAPD, p. 399—402; Harris D. R. Traditional systems of
plant food production and the origins of agriculture in West Africa.— OAPD,
p. 335—339; Show Th. Early crops in Africa: a review of evidence.— OAPD,
p. 130, 136—138.
43 Yen D. E. Hoabinhian horticulture: the evidence and the questions from
Northwest Thailand.— SS, p. 567—599.
44 Вавилов Η. И. Ботанико-географические основы селекции; Жуковский П. М.
Культурные растения. . .,; Chang K.-Ch. The beginnings of agriculture in the
Far East.— Antiquity, 1970, v. 44, N 175; Evolution of Crop Plants. L.;
N. Y., 1976, p. 11, 24, 98-102.
45 Chang Т. T. The rice cultures.—EH A, p. 143—155.
46 Glover I. C. Prehistoric plant remains from Southeast Asia, with special
references to rice.— In: South Asia Archaeology, 1977. Naples, 1979, v. 1, p. 7—35.
47 Яхонтов С. Е. Языки Восточной и Юго-Восточной Азии в IV—I тыс. до н. э,—
РЭИНВА, с. 100 и ел.; Чебоксаров Η. Η. Антропологический состав
населения на территории современного Китая в палеолите, мезолите и неолите.—
Там же, с. 82—89.
48 Чеснов Я. В. Доместикация риса и происхождение народов Восточной и Юго-
Восточной Азии.— В кн.: IX МКАЭН. Доклады сов. делегации. М., 1973,
с. 1—16; Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства, с. 123—124.
49 Bellwood P. Man's conquest of the Pacific: the prehistory of Southwest Asia
and Oceania. Auckland, 1978, p. 238.
50 Gorman Ch. A priori models and Thai prehistory: a reconsideration of the
beginnings of agriculture in Southeastern Asia.— OA, p. 321—350.
61 Чеснов Я. В. Доместикация риса...; Он же. Историческая этнография стран
Индокитая. М., 1976, с. 93—94.
62 Glover I. С. The Hoabinhian: hunter-gatherers or early agriculturalists in South-
East Asia.— HGFF, p. 160.
63 Вавилов Н. И. Центры происхождения культурных растений, с. 124—127;
Жуковский П. М. Культурные растения. . ., с. 204—206.
54 Cheng Te-K'un. The beginning of Chinese civilization.— Antiquity, 1973, v. 47,
N 187, p. 197—207; Chang K.-C. Early Chinese civilisation: anthropological
perspectives. Cambridge, 1976.
δδ Ho P.-T. The cradle of the East. Chicago, 1975, p. 37—42. См. также:
Крюков М. В., Софронов Μ. В., Чебоксаров Η. Η. Древние китайцы. Μ., 1978,
с. 147.
66 Чеснов Я. В. Доместикация риса. . ., с. 9,10.
,? Васильев Л. С. О роли внешних влияний в возникновении китайской
цивилизации.—НАА, 1964, № 2; Он же. Происхождение древнекитайской цивили-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
411
зации.— ВИ, 1974, № 12; Он же. Проблемы генезиса китайской
цивилизации. М., 1976.
68 Окладников А. П., Бродянский Д. Л. Дальневосточный очаг древнего
земледелия.—СЭ, 1969, № 2; Окладников А. П., Деревянно А. П. Далекое прошлое
Приморья и Приамурья. Владивосток; 1973; Окладников А. П. Из области
духовной культуры неолитических племен долины Керулена: ритуальные
захоронения остатков животных.— В кн.: Археология и этнография
Монголии. Новосибирск, 1978, с. 199—204.
69 Chang К.-С. The archaeology of Ancient China. New Haven; London, 1977
(3d Ed.).
60 Подробнее см.: Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства, с. 121 и ел.
61 Диков Η. Н. Захоронение домашней собаки в жилище позднепалеолитиче-
ской стоянки Ушки I на Камчатке.— В кн.: Новые археологические
памятники Севера Дальнего Востока. Магадан, 1979, с. 12—15.
62 Walker D. Ν., Frison G. С. Studies on Amerindian dogs, 3: prehistoric wolf/dog
hybrid from the Northwestern Plains.— JAS, 1982, v. 9, N 2, p. 125—172; Pi-
res-Ferreira /., Pires-Ferreira E., Kaulicke P. Preceramic animal utilization
in the Central Peruvian Andes.— Science, 1976, v. 194, p. 483—490.
63 Schoenwetter J. Pollen records of Guila Naquitz cave.— AAn, 1974, v. 39,
N 2, p. 301; litis Η. H. From teosinte to maize: the catastrophic sexual
transformation.— Science, 1983, v. 222, p. 886—894.
64 Башилов В. А. Появление культурных растений в древнейших
земледельческих центрах Америки.— Л А, 1980, № 5, с. 97.
66 Pickersgill В.ч Heiser Ch. В. Origins and distribution of plants domesticated
in the New World tropics,—OA; Galinat W. C. The origin of corn.—In: Corn and
Corn Improvement. Madison, 1977, p. 1—47; Smith С. Е. Ancient Peruvian
highland maize.—In: Guitarrero Cave. Early Man in the Andes. N. Y., 1980, p. 121 —
143.
66 Renvoize B. S. The area of origin of Manihot esculenta as a crop plant. A
review of the evidence.— EB, 1972, v. 26, N 4, p. 352—360.
67 O'Brien P. J. The sweet potato: its origin and dispersal.— AAn, 1972, v. 74,
N3, p. 342—365; Pickers gill В., Heiser Ch. В. Origins...
68 Richardson J. B. The pre-Columbian distribution of the Bottle gourd (Lage-
naria siceraria): a re-evaluation.— EB, 1972, v. 26, N 3, p. 265—273.
69 Гуляев В. И'. Древнейшие цивилизации Мезоамерики. М., 1972, с. 32—47;
Bray W. From foraging to farming in early Mexico.— HGFF, p. 225—247.
70 Pickersgill В., Heiser Сh. B. Origins..., p. 803—829; Гуляев В. И.
Древнейшие цивилизации..., с. 47; Башилов В. А, Появление..., с. 93—94.
71 Башилов В. А. Появление..., с. 94—95; MacNeish R. £., Patterson Т. С,
Browman D. L. The Central Peruvian prehistoric interaction sphere. Andover,
1975; Guitarrero cave...
72 Zevallos M. C, Galinat W. C, Lathrap D. W. et all. The San Pablo corn
kernel and its friends.— Science, 1977, v. 196, p. 385—389; PearsallD. M. Phy-
tolith analysis of archaeological soils: evidence for maize cultivation in Formative
Ecuador.—Science, 1978, v. 199, p. 177—178. Впрочем, эти данные о разведении
маиса в Эквадоре в III тыс. до н. э. оспариваются. См.: Roosevelt A. С. Parmana.
Prehistoric maize and manioc subsistence along the Amazon and Orinoco.
N. Y., 1980, p. 63, 64.
73 Rouse /., CruxentJ.M. Venezuelan archaelogy. New Haven, 1963; Reichel-
Dolmatoff G. Colombia. L., 1965; Cohen M. N. The food crisis..., p. 265—270;
Roosevelt A. С Parmana.,.., p. 233—238.
74 Zucchi A. Prehistoric human occupations of the Western Venezuelan llanos.—
AAn, 1973, v. 38, N 2, p. 188.
76 Lathrap D. W. The Upper Amazon. N. Y., 1970.
76 Olsen F. On the trail of the Arawaks. Norman, 1974.
77 Braidwood R. J. The earliest village-communities of southwestern Asia
reconsidered.— In: Atti del VI Congresso Internationale delle science Preistonche
e Protoistoriche. Roma, 1962, t. 1; Smith Ph. E. L. The consequences..., p. 7.
78 Подробнее см.: Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства.
412
Глава четвертая
79 ΜΗ.
80 Sahlins Μ. Stone Age economics. Chicago, 1972, p. 32—35.
81 Nicolaisen J. The Negritos of Casiguran Bay. Problems of affluency,
territoriality and human aggressiveness in hunting societies of Southeast Asia.— Folk,.
1974/75, v. 16—17, p. 417—421; Cohen M. The food crisis..., p. 27, 28; Haw-
kes K.y O'Connell J. F. Affluent hunters? Some comments in light of the Aly-
awaracase. —AA, 1981, v. 83, N 3, p. 622—626; Кабо В. Р. У истоков...,
с. 65, 66. ·
82 Heiser Ch. В, Seed to civilization, p. 36; Smith Ph. E. L. The consequences...,
p. 28; Hassan F. A. Diet, nutrition and agricultural origins in the Near East.—
UISPP. IX Congress. Collogue XX. Origine de l'elevage et de la domestication.
Nice, 1976, p. 227—247; Cohen M. N. The food crisis..., p. 29, 35, 36;
Козинцев А. Г. Переход к земледелию и экология человека.— В кн.: Ранние
земледельцы. Л., 1980, с. 25—31.
83 Шнирелъман В. А. Этнокультурные контакты и переход к производящему
хозяйству.—СЭ, 1982, № 2; Он же. Инновации и культурная преемственность.—
НАА, 1982, № 5.
84 Lips /. Ε. Government.—In: General Anthropology. Boston, 1938 ,p. 502; Idem.
Die Erntevolker, eine wichtige Phase in der Entwicklung der Menschlichen
Wirtschaft. В., 1953.
85 Максимов Α. Η. Накануне земледелия.— Уч. зап. Ин-та истории РАНИОН,
1929, т. 3, с. 21-33.
86 Campbell A. H. Elementary food production by the Australian Aborigines.—
Mankind, 1965, v. 6, N. 5, p. 206—211; Irvine F. R. Evidence of change in
the vegetable diet of Australian Aborigines.— In: Diprotodon to Detribalization.
East Lansing, 1970, p. 278—280; Tindale N. B. Adaptive significance of the
Panara or grass seed culture of Australia.— In: Stone Tools as Cultural Markers.
Canberra, New Jersey, 1977, p. 345—349; Harris D. R. Subsistance
strategies across Torres Strait.— SS, p. 423—439.
87 HarrisD. R. Subsistence strategies..., p. 426—429.
88 Smith Ph. E. L. The consequences..., p. 6, 7; Cohen M. The food crisis, p. 18—
23; Семенов С. А. Происхождение земледелия, с. 10—16.
89 Андрианов Б. В. Древние оросительные системы Приаралья. М., 1969,
с. 51, 52.
90 Kimber R. G. Beginnings of farming? Some man-plant-animal relationships
in Central Australia.— Mankind, 1976, v. 10, N 3, p. 146—150.
91 Kraybill N. Pre-agricultural tools for the preparation of foods in the Old
World.- OA, p. 485-514.
92 Подробно см.: Шнирелъман В. А. Этнокультурные контакты...
93 Moore D. R. Islanders and Aborigines at Cape York. Canberra, 1979, p. 278—
280.
94 Шнирелъман В. А. Современные концепции..., с. 261; Кабо В. Р. У
истоков. . ., с. 63.
95 HarrisD. Traditional systems..., p. 348, 349.
96 Mellaart J. The Neolithic..., p. 55—67; Cauvin J. Les premiers villages...,
p. 45-62, 79-103.
97 Zohary D. On macroscopic traces of food plants in Southwestern Asia.— EHA,
p. 27—41; Hillman G. On the origins of domestic rye — Secale cereale: the
finds from Aceramic Can Hasan III in Turkey.— AnS, 1978, v. 28, p. 157—174.
98 Mellaart J. The Neolithic,.., p. 80—90, 92—98; Oates J. The background and
development of early farming communities in Mesopotamia and the Zagros.—
PPS, 1973, v. 39, p. 512—519; Payne S. Can Hasan III, the Anatolian Aceramic
and the Greek Neolithic— PEP.
99 Mellaart J. The Neolithic..., p. 135—155; Mepnepm H. Я. Миграции в
эпоху неолита и энеолита.—СА, 1978, №3, с. 14; Мунчаев Р. М., Мер·^
перт Н. Я. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. М., 1981-
L0° Helbaeck Η. Samarran irrigation agriculture in Choga Mami in Iraq.— Iraq·
1972, v. 34, parti; Oates D., Oates J. Early irrigation agriculture in Mesopo»
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
413
tamia.— PESA, p. 109—135; Лисицына Г. #., Прищепенко Л. В. Палеоэтно-
ботанические находки Кавказа и Ближнего Востока. М., 1977, с. 33—37, 51.
101 Mellaart J. The Neolithic..., p. 135—170; Мврперт Н. Я. Миграции...r
с 14—15; МунчаевР. Μ., Mepnepm Η. Я. Раннеземледельческие поселения...
102 Oates J. Prehistory in Northeastern Arabia.— Antiquity, 1976, v. 50, N 197,.
p. 20—31; Mepnepm H. Я. Миграции..., с. 16.
103 Moore Α. Μ. Τ. The Late Neolithic in Palestine.— Levant, 1973, v. 5, p. 36—
68.
104 Anati E. The rock engravings of Dahthami wells in Central Arabia.— BooL
del Gentro Gamuno di Studi Preistorici, 1970, v. 5, p. 99—153.
105 Honea K. Prehistoric remains on the island of Kythnos.— A J A, 1975, v. 79,.
N 3, p. 276-279.
106 Mellaart J. The Neolithic..., p. 129—134.
107 Sutton J. E. G. The aquatic civilization of Middle Africa.— JAH, 1974, v. 15,
N 4; Sutton J. E. G. Prehistoire de l'Afrique Orientale.— In: Histoire generate-
de l'Afrique. Jeune Afrique, 1980, t. 1, p. 519—524.
108 Кларк Дж. Д. Доисторическая Африка. Μ., 1977, с. 165—166.
109 Maitre J. P. Notes sur deux conceptions traditionelles du Neolithique Sahari-
en.— Libyca, 1972, t. 20.
110 Sutton J. E. G. The aquatic civilization...; Camps G. Les civilisations pre-
historiques de l'Afrique du Nord et du Sahara. P., 1974; Camps G. Beginnings·
of pastoralism and cultivation in North-West Africa and the Sahara.— In:
Cambridge History of Africa. L., 1982, v. 1; Hugot H.-J. Le Sahara avant le
desert. Colombes, 1974.
111 Sutton J. E. G. The aquatic civilization...
112 Arkell A. J. Dotted-wavy-line pottery in African prehistory.— Antiquity,.
1972, v. 46, N 183; Sutton J. E. G. The aquatic civilization...; Hays T. R.
The Sahara as a center of ceramic dispersion in Northern Africa.— In: West
African Culture Dynamics: Archaeological and Historical Perspectives. The·
Hague, 1980, p. 183-194.
113 Harlan J. /?., De Wet J. M. /., Stemler A. Plant domestication and
indigenous African agriculture.— OAPD, p.44.
114 Hugot H.-J. Le Sahara..., p. 130—135; Shaw Th. Early crops in Africa: a review
of evidence.— OAPD, p. 112.
116 Hopf M. Eincorn (Triticum monococcum) in Egypt? — JAS, 1981, v. 8, N 4,.
p. 313-314.
116 Последняя сводка по неолиту Египта см.; Wendorf F., Schild R. Prehistory
of the Nile valley. N. Y., 1976.
117 Krzyzaniak L. New light on early food-production in the Central Sahara.—
JAH, 1978, v. 19, N 2.
118 Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства, с. 110.
119 Chowdhury К. Α., Buth G. Μ. 4500 year old seeds suggesting that true cotton-
is indigenous to Nubia.— Nature, 1970, v. 227, p. 85—86.
120 Trigger B.G. Nubia under the Pharaohs. L., 1976.
121 Gabriel В. Steinplatza: Feuerstellen Neolitisches Nomaden in der Sahara.—
Libyca, 1973, v. 21; Gabriel B. Zum okologischen Wandel im Neolithikum der
ostlichen Zentralsahara. В., 1977; HuardP. Datation de squelletes neolit-
hiques, postneolithiques et preislamiques du Nord-Tibesti.—Bull, de la Societe·
Prehistorique Francaise, 1973, t. 70, N4, p. 100—101.
122 Roubet C. Sur la definition et la chronologie du Neolithique de tradition Cap-
sienne.— L*Anthropologic, 1971, t. 75, N7—8; Hugot H.-J. Le Sahara...,
p. 108—113; Camps G. Les civilisations..., p. 281— 340; Idem. Beginnings of
pastoralism...
123 Camps G. Beginnings of pastoralism...; Idem. Berberes. Toulouse, 1951.
124 GilmanA. The later prehistory of Tangier, Morocco. Cambridge, 1975;
Шнирелъман В. A. Происхождение скотоводства, с. 103—104.
126 Shaw Th. The Late stone age in West Africa.— In: The Sahara: Ecological
Change and Early Economic History. L., 1981, p. 93—130; Clark J. D. The*
domestication process in Sub-Saharan Africa with special reference to Ethiopia.—
414
Глава четвертая
UISPP. IX Congress. Golloque XX. Origine de l'elevage et de la domestication.
Nice, 1976, p. 60, 61; The Sahara and the Nile. Rotterdam, 1980.
126 Coursey D. G. The origins and domestication of Yams in Africa.—OAPD,
p. 391—403; Shaw Th. Early crops in Africa.... p. 129—130; Harris D.
Traditional systems..., p. 335—337.
127 Vansina J. Western Bantu expansion.— JAH, 1984, v. 25, N 2.
128 Clark J. D. The domestication process... ;EllisD. V. Comments on the advent
of plant cultivation in West Africa. — In: West African Culture Dynamics,
p. 123—137.
129 Hugot #.-/. Le Sahara..., p. 197—228; Munson P. J. Archaeological data on
the origins of cultivation in the South-Western Sahara and their implications
foi West Africa.— OAPD.
130 Vansina J. Western Bantu expantion; Saxon D. Ε. Linguistic evidence for
the eastward spread of Ubangian peoples.—In: An Archaeological and
Linguistic Reconstruction of African History. Berkeley, 1982; Ehret Ch. Linguistic
inferences about Early Bantu history.— Ibid.
131 Clark J. D. The domestication process...
132 Sutton J. E. G. The archaeology of the Western Highlands of Kenia. Nairobi,
1973; Jacobs A. H. Maasai pastoralism in historical perspective.— In: Pastora-
lism in Tropical Africa. Oxford, 1975.
133 Sutton J. E. G. The interior of East Africa.— In: The African Iron Age.
Oxford, 1971, p. 144—152; Idem. Prehistoire de l'Afrique Oriental, p. 521—524;
Phillipson D. W. Early food production in Sub-Saharan Africa.—Jn: Cambridge
History of Africa, 1982, v. 1, p. 802—809; Ambrose S. H. Archaeology and
linguistic reconstructions of history in East Africa.— In: An Archaeological
and Linguistic Reconstruction...
134 DaviesO., Gordon-Gray К. Tropical African cultigens from Shongweni
excavations, Natal.— JAS, 1977, v. 4, N 2, p. 153—162.
136 Ehret Ch. Patterns of Bantu and Central Sudanic settlements in Central and
Southern Africa.— Transafrican Journal of History, 1973, v. 3, N 1-2; Ehret Ch.
The first spread of food production to Southerh Africa.— In: An Archaeological
and Linguistic Reconstruction. . .; Walker N. J. The significance of an early
date for pottery and sheep in Zimbabwe.— The South African Archaeoogical
Bulletin, 1983, v. 38, N 138.
136 Об обитателях Европы эпохи голоцена, занимавшихся присваивающим
хозяйством, см.: Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны
Европейской части СССР в эпоху неолита.—Л., 1973; Формозов А. А. Проблемы
этнокультурной истории каменного века...; The Mesolithic Europe. Warszawa,
1973; GlarkeD. Mesolithic Europe: the economic basis.—PES4, p. 449—
481; The Early Postglacial Settlement of Northern Europe. Pittsburgh, 1979;
Early European Agriculture. Cambridge, 1982, p. 72—113.
й37 Турина Η. Η. Некоторые общие вопросы. . ., с. 15—16.
138 Там же, с. И Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории..., с.
19-20.
139 Подробнее см.: Этнокультурные общности...
140 Case Η. Acculturation and the earlier Neolithic in Western Europe.— ACAE,
1976, p. 46.
a41 Формозов А. А. Этнокультурные области на территории Европейской части
СССР в каменном веке. М., 1959; Он же. Проблемы этнокультурной
истории..., Г урина Η. Η. Некоторые общие вопросы. . ., с. 15.
142 Г урина Η. Η. Некоторые общие вопросы. . ., с. И.
143 Наряду с аналогичной находкой в Финляндии эти полозья служат
древнейшими свидетельствами развития наземного транспорта. В тот период
мускульную силу животных еще не использовали. См.: Буров Г. М.
Фрагменты саней с поселений Вис I и Вис II.— СА, 1981, № 2, с. 117—131.^
Д44 Подробнее см.: Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства, с. 85, 86. '
^4б Общие сводки по этим культурам см.: Монгайт А. Л. Археология Западной
Европы. Каменный век; Титов В. С. Неолит Греции. М., 1969; Археология
Венгрии. Каменный век. М., 1980; Tringham R. Hunters, fishers and farmers
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
415
of Eastern Europe. L., 1971; Murray J. The first European agriculture.
Edinburgh, 1970; Phillips P. Early farmers of Western Mediterranean Europe. L.f
1975; Bradley R. The prehistoric settlement of Britain. L., 1978; Early European
Agriculture...
146 О расселении древних земледельцев в Европе см.: Титов B.C. Древнейшие
земледельцы в Европе.— В кн.: Археология Старого и Нового Света. М.,
1966; Мерперт Н. Я. Миграции..., с. 20—26; Case Η. Neolithic explanation.—
Antiquity, 1969, v. 43, N 171; Ammerman A. /., Cavalli-Sforza L. L.
Measuring the rate of spread of early farming in Europe.— Man, 1971, v. 6, N 4·
147 Дискуссию об этих домах см.: Монгайт А. Л. Археология..., с. 231; Trin-
gham R. Hunters, fishers and farmers..., p. 118—121; Case H.
Acculturation..., p. 48—49; Marshall A. Axially-pitched long-houses from New Guinea
and Neolithic Europe.— APHAO, 1979, v. 14, N 2, p. 99—106.
148 Последние сводки о культуре керамики импрессо см.: Phillips P. Early
farmers...; Guilaine J. The earliest Neolithic in the West Mediterranean: a new
approach.— Antiquity, 1979, v. 53, N 207, p. 22—30; Trump D. H. The
prehistory of the Mediterranean. Harmondsworth, 1981, p. 43—48. О проблеме
появления здесь овцеводства см.: Guilaine J. Les debuts de Televage du mou-
ton en France.— Ethnozootechnie, 1977, t. 21, p. 103—105; Geddes D. Les
debuts de l'elevage dans la vallee del'Aude.— Bull de la Societe prehistorique
francaise, 1981, t. 78, N 10—12, p. 370—378.
149 Renfrew J. M. Palaeoethnobotany. The prehistoric food plants of the Near
East and Europe. N. Y., 1973, p. 203—204.
150 Murray J. The first European agriculture...
161 Whitehouse R. The last hunter-gatherers in Southern Italy.— WA, 1971, v. 2r
N. 3; Barker G. W.W. Prehistoric territories and economies in Central Italy.—
In: Palaeoeconomy. Cambridge, 1975; Acculturation and Continuity in
Atlantic Europe. Brugge, 1976.
162 Case H. Acculturation...
163 Ibid., p. 50—52; Renfrew C. Megaliths, territories and populations.— ACAE·
164 о становлении производящего хозяйства на территории Европейской части
СССР см.: Даниленко В. Н. Неолит Украины. Киев, 1969; Он же. Энеолит
Украины. Киев, 1974; Краснов Ю. А. Раннее земледелие и животноводства
в лесной полосе Восточной Европы. М., 1971; Формозов А. А. Проблемы
этнокультурной истории...; Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства...
166 Синюк А. Т. Υ истоков древнейших скотоводческих культур лесостепного-
Дона.— В кн.: Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж,
1979, с. 63—72; Васильев И. Б. Энеолит Поволжья. Степь и лесостепь.
Куйбышев, 1981.
166 Многие авторы (А. А. Формозов, В. Н. Даниленко и др.) не разделяют
мнения Д. Я. Телегина о принадлежности крупных могильников днепро-
донецкой культуре, а считают их уже энеологическими.
167 Подробнее см.: Кушнарева К. X., Чубинишвили Т. Н. Древние культуры
Южного Кавказа. Л., 1970; Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века.
М., 1975; Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории..., с. 46—53;
Мерперт Н. Я. Миграции..., с. 19—20; Энеолит СССР. М., 1982, с. 93—
164.
168 Кигурадзе Т. В. Периодизация раннеземледельческой культуры Восточного-
Закавказья. Тбилиси, 1976 (на груз. яз. с рез. на рус. яз.); Кавтарадзе Г. Л.
К хронологии эпохи энеолита и бронзы Грузии. Тбилиси, 1983; Энеолит
СССР, с. 93-164.
169 Лисицына Г. #., Прищепенко Л. В. Палеоэтноботанические находки...г
с. 40—48.
160 Нариманов И. Г. К истории древнейшего скотоводства Закавказья.— Докл.
АН Азерб. ССР, 1977, т. 33, № 10, с. 56—58; Межлумян С. К. Палеофауна
эпох энеолита, бронзы и железа на территории Армении. Ереван, 1972;
Золотое К. Н. Остеологические особенности сельскохозяйственных
животных по материалам археологических раскопок.— Труды Дагестанского»
с.-х. ин-та. Махачкала, 1968, т. 18, с. 155—157.
416
Глава четвертая
61 Гаджиев М. Г. К выделению северо-восточно кавказского очага каменной
индустрии ранних земледельцев.— В кн.: Памятники эпохи бронзы и
раннего железа в Дагестане. Махачкала, 1978, с. 7—38; Он же. Древнее
земледелие и скотоводство в горном Дагестане.— В кн.: Северный Кавказ
в древности и в средние века. М., 1980, с. 7—14; Энеолит СССР, с. 124—
126, 128—131.
162 Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории..., с. 70—71.
163 Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства, с. 73, 77.
164 Бердыев О. Древнейшие земледельцы Южного Туркменистана. Ашхабад,
1969; Массой В. М. Поселение Джейтун. Л., 1971; Лоллекова О. Хозяйство
неолитических племен юга Туркмении в свете экспериментально-трасологи-
ческих данных. Авто реф. канд. дисс. Л., 1979.
авб Массой В. М. Неолитические охотники и собиратели.— В кн.: Средняя
Азия в эпоху камня и бронзы. М.; Л., 1966, с. 145—148; РановВ. А. Гиссар-
ская культура: распространение, хронология, экономика.— В кн.: Культура
первобытной эпохи Таджикистана. Душанбе, 1982; Шнирелъман В. А.
Происхождение скотоводства, с. 76, 77.
lee Prehistoric Research in Afghanistan (1959—1966).— Transactions of the
American Philosophical Society, 1972, v. 62, part 4; The Archaeology of
Afghanistan. L.; N. Y., 1978.
ae7 Массон В. М. Неолит Средней Азии.— В кн.: Каменный век на территории
СССР. М., 1970; Коробкова Г. Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических
племен Средней Азии. Л., 1969; Виноградов А. В. Древние охотники и
рыболовы Среднеазиатского междуречья. М., 1981.
ав8 Виноградов А. В. Исследование памятников каменного века в Северном
Афганистане.— В кн.: Древняя Бактрия. М., 1979, вып. 2.
169 Аскаров А. Археологические материалы пв истории земледелия в
Узбекистане.— В кн.: Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии
и Казахстана. М., 1975, с. 95—96.
170 Последние сводки по Южной Азии см.: Sankalia Я. D. Prehistory and
protohistory of India and Pakistan. Poona, 1974; Щетенко А. Я. Первобытный
Индостан. Л., 1979; Allchin В., Allchin R. The rise of civilization in India
and Pakistan. Cambridge, 1982. О культурных растениях см.: Vishnu-Mittre.
The Beginnings of Agriculture. Palaeobotanical Evidence in India.— In:
Evolutionary Studies of World Crop. Cambridge, 1974; Vishnu-Mittre. Changing
Economy in Ancient India.— О А. О домашних животных см.:
Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства, с. 77—82.
171 Lechevallier Μ., Quivron G. The Neolithic in Baluchistan: new evidences from
Mehrgarh.— In: South Asian Archaeology, 1979. В., 1981; Meadow R. H. Early
animal domestication in South Asia: a first report of the faunal remains from
Mehrgarh, Pakistan.— Ibid.
172 Allchin #., Allchin B. The relationship of Neolithic and later settled
communities with those of Later Stone Age hunters and gatherers in Peninsular
India.— In: Indian Society: Historical Probings. New Delhi, 1974, p. 45—66;
Joshi R. V. Stone Age cultures of Central India. Poona, 1978.
U73 Allchin F. #., Allchin B. Some new thoughts on Indian cattle.— In: South
Asian Archaeology, 1973. Leiden, 1974. f
174 Шарма Д. Новое о культивации растений и доместикации животных в
Индии.— СЭ, 1982, № 2; Древние культуры Средней Азии и Индии. Л., 1984.
176 О Юго-Восточной Азии см.: Борисковский П. И. Первобытное прошлое
Вьетнама. М.; Л., 1966; Мухлинов А. И. Происхождение и ранние этапы
этнической истории вьетнамского народа. М., 1977; Кулланда С. В.
Материальная культура и экономика народов Западной Индонезии в дописьмен-
ный период. Η А А, 1983, № 5; Bellwood P. Man's conquest... О Южном Китае
см.: И тс Р. Ф. Этническая история юга Восточной Азии. Л., 1972;
Кучера С. Китайская археология. М., 1977.
Я7в Чеснов Я. В. Историческая этнография стран Индокитая. М., 1976, с. 122
и ел.; Мухлинов А. И. Происхождение..., с. 48.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
417
177 О расселении древних земледельцев Юго-Восточной Азии см.: Bellwood P.
Man's conquest...
178 Ibid. О культурных растениях и системах земледелия в Океании см.: Ваг-
rau J. L'humide et le sec. An essay on ethnobotanical adaptation to contrastive
environments in the Indo-Pacific area.— JPS, 1965, v. 74, N 3; YenD. E. The
development of agriculture in Oceania.— In: Studies in Oceanic Culture
History. Honolulu, 1971, v. 2; Idem. The origins of Oceanic agriculture.— APHAO,
1973, v. 8, N 1; Bellwood P. Prehistoric plant and animal domestication in
Austronesia.— PESA; о домашних животных см.: Cram С. L. Osteoarchaeology
in Oceania.— In: Archaeozoological Studies. Amsterdam, 1975.
179 Powell J. M. Plant resources and palaeobotanical evidence for plant use in
the Papua New Guinea Highlands.— Archaeology in Oceania, 1982, v. 17,
N 1, p. 28—37; Christensen 0. A. Hunters and horticulturists: a preliminary
Teport of the 1972—1974 excavations in the Manim Valley, Papua New
Guinea.— Mankind, 1975, v. 10, N 1; Golson J. No room at the top: agricultural
intensification in the New Guinea Highlands.— SS; Harris E. C, Hughes Ph. J.
An early agricultural system of Mugumamp Ridge, Western Highlands province,
Papua New Guinea.— Mankind, 1978, v. 11, N 4.
180 White J. P. New Guinea and Australian prehistory: the «Neolithic problem».—
In: Aboriginal Man and Environment in Australia. Canberra, 1971.
81 Barker С W., Macintosh A. The dingo — a review.— APHAO, 1979, v. 14,
N 1.
182 Окладников А. П. Неолит Сибири и Дальнего Востока.— В кн.: Каменный
век на территории СССР. М., 1970; Окладников А. П., Васильевский Р. С.
Северная Азия на заре истории. Новосибирск, 1980.
183 Обзор см.: Окладников А. П., Деревянко А. П. Далекое прошлое Приморья
и Приамурья; Окладников А. П., Бродянский Д. Л"., Чан Су Бу.
Тихоокеанская археология. Владивосток, 1980.
184 Васильевский Р. С. Происхождение и древняя культура коряков.
Новосибирск, 1971.
185 Васильевский Р. С. Древние культуры Тихоокеанского Севера. Новосибирск,
1973.
186 Чан Су Бу. Жилища и поселения позднего дземона Хоккайдо.— В кн.:
Археологические материалы по древней истории Дальнего Востока СССР.
Владивосток, 1978; Pearson R. Paleoenvironment and human settlement
in Japan and Korea.— Science, 1977, v. 197, p. 1239—1246.
187 О неолите Северного Китая см.: Cheng Т.-К. Archaeology in China.
Prehistoric China. Cambridge, 1959, v. 1; Chang K.-C. Archaeology of Ancient China.
New Haven, 1977; Cheng T.-K. Supplement to vol. 1. New light on prehistoric
China. Cambridge, 1966; Ho P.-T. The cradle of the East; Крюков М. В., Соф-
ронов Μ. В., Чебоксаров Н. Я. Древние китайцы...
188 О дискуссии по этому вопросу см.: Kidder J. E. Agriculture and ritual in
the Middle Jomon period.— AP, 1968, v. 11; Kagawa M. Primitive agriculture
in Japan: latest Jomon agricultural society and means of production.— AP,
1973, v. 16, № 1; Pearson #., Pearson K. Some problems in the study of
Jomon subsistence.— Antiquity, 1978, v. 52, N 204; Koyama Sh. Jomon
subsistence and population.— Senri Ethnological Studies, 1978, v. 2; Kotani Y.
Evidence of plant cultivation in Jomon Japan: some implications.— Ibid.f
1981, v. 9, p. 201—212; Васильевский Р. С, Лавров Ε. Л., Чан Су Бу.
Культуры каменного века Северной Японии. Новосибирск, 1982, с. 189—191.
189 Weaver Μ. P. The Aztecs, Maya and their predecessors. N. Y.; L., 1972;
Adams R. E. W. Prehistoric Mesoamerica. Boston, 1977.
190 Flannery K. V. The origins of agriculture.— ARA, 1973, v. 2, p. 297—299.
191 Prehistoric Coastal Adaptations. The Economy and Ecology of Maritime Middle
America. N. Y., 1978.
192 MacNeish R. S. A summary of the subsistence.— In: The Prehistory of the
Tehuacan Valley, Texas, 1967, v. 1, p. 308.
"3 Гуляев В. И. Древнейшие цивилизации Мезоамерики. М.; 1972; Weaver Μ. Ρ.
The Aztecs...
14
История первобытного общества
418
Глава четвертая
Х94 Willey G. Introduction to American archaeology. Ν. Υ., 1966, v. 1; Snow D.
The American Indians. L., 1976; Ancient Native Americans. San Francisco,
1978.
196 Winter J. C. The processes of farming diffusion in the southwest and Great
Basin.— AA, 1976, v. 41, N 4, p. 421.
196 Schoenwetter /. Comment on «Plant husbandry in prehistoric Eastern North
America.» — AAn, 1979, v. 44, N 3, p. 600—601.
197 Chomko S. Α., Crawford G. W. Plant husbandry in prehistoric Eastern North
America: new evidence for its development.— AAn, 1978, v. 43, N 3, p. 405—
408.
198 Hall R. L. An interpretation of the two-climax model of Illinois prehistory.—
In: Early Native Americans. The Hague, 1980.
109 Meggers B. J. Prehistoric America. Chicago, 1972; Cohen M. N. The food
crisis...; Meggers B. /., Evans С Lowland South America and the Antilles.—
ANA, p. 543—591.
200 Wilson D. L. On maize and man: a critique of the maritime hypothesis of state
origins on the coast of Peru.— AA, 1981, v. 83, N 1, p. 93—120.
201 О развитии на побережье см.: Березкин Ю. Е. Начало земледелия на
перуанском побережье.— СА, 1969, № 1; Parsons Μ. Η. Preceramic subsistence
of Peruvian Coast.— AAn, 1970, v. 35, N 3; Patterson Т. С Central Peru: its
population and economy.—Archaeology, 1971, v. 24, N 4; Engel F. New
facts about Precolumbian life in the Andean lomas.— CA, 1973, v. 14, N 3;
Cohen M. N. Population pressure and the origins of agriculture: an
archaeological example from the coast of Peru.— OA; Moseley Μ. Ε. The evolution of
Andean civilization.— ANA, p. 491—515.
202 О развитии в Центральных Андах см.: MacNeish R. £., Patterson Т. С, Brow-
manD. L. The Central Peruvian prehistoric interaction sphere; MacNeish R. S.
The beginning of agriculture in Central Peru.— OA; Guitarrero Cave, Early
Man in the Andes, N. Y., 1980.
203 Lathrap D. W.y Collier D., Chandra H. Ancient Ecuador; culture, clay and
creativity 3000—300 В. С Chicago, 1975; Zevallos M. С et al. The San Pablo
corn kernel..., p. 385—389.
204 О Колумбии, Венесуэле и различных районах Амазонии см.: Rouse /., Сги-
xent /. Μ. Venezuelan archaeology; Reichel-Dolmatoff G. Colombia; Lath-
rap D. W. The Upper Amazon; Olsen F. On the trail...; Meggers В. /., Evans C.
Lowland South America...; Roosevelt A. C. Parmana...
206 Lathrap D. W. Our father the Cayman..., p. 729—739.
206 Zucchi A. Prehistoric human occupations..., p. 182—190.
207 Семенов С. А. Возникновение земледелия и начальные стадии его развития.—
В кн.: Тезисы конференции «Формы перехода от присваивающего хозяйства
к производящему и особенности развития общественного строя». М., 1974,
№ 4; Он же. Происхождение земледелия, с. 121—123.
208 Новиков Ю. Ф. О возникновении земледелия и его первоначальных
формах.— СА, 1959, № 4, с. 39—41; Андрианов Б. В. Древние оросительные
системы Приаралья. М., 1969, с. 50—51; Массон В. М. Экономика и
социальный строй..., с. 49—50.
209 Vita-Finzi С, Higgs Ε. Prehistoric economy in the Mount Carmel area of
Palestine.-. PPS, 1970, v. 36, p. 1—37.
210 Harris D. R. Traditional systems..., p. 311—352; Munson P.J. Archaeological
data..., p. 187—205.
211 Hutchinson J. India: local and introduced crops.— EHA, p. 136—137.
212 Flannery K. V., Kirkby A. V. Т., Kirkby M. /., Williams A. W. Farming
systems and political growth in Ancient Oaxaca.— Science 1967, v. 158,
p. 453.
213 Сходные мысли о характере древнейших систем земледелия высказывал
М. О. Косвен. См.: Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры»
М. 1953 с. 63 64.
214 Anderson Ε. Plants, man and life. Boston, 1952, p. -136—150; Harris D. R.
Traditional systems...; Lathrap D. W. Our father the Cayman..., p. 729 f.;
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
419
Watson J. В. From hunting to horticulture in the New Guinea Highlands.—
Ethnology, 1965, v. 4, p. 295—309.
*1Ъ Чеснов Я. В. Историческая этнография..., с. 105—110; Waiters R. F. The
nature of shifting cultivation.— Pacific Viewpoint, 1960, v. 1, N 1, p. 72—75.
216 Bakhteyev F. KL·, Yanvshevich Z. V. Discovering of cultivated plants in the
early farming settlements of Yarym-Tepe I and Yarym-Tepe II in Northern
Iraq.— JAS, 1980, v. 7, p. 176.
217 Waddell E. The mound builders. Seattle; London, 1972, p. 179—180.
218 Smith Ph. E. L., Young Т. С. The evolution of early agriculture and culture
in Greater Mesopotamia: a trial model.— PGAI.
219 Golson J. Simple tools and complex technology.— In: Stone tools as Cultural
Markers. Canberra, 1977, p. 155—157.
220 Dole G. E. The use of manioc among the Kuikuru: some interpretations.— In:
The Nature and Status of Ethnobotany. Ann Arbor, 1978, p. 217—247.
221 Подробно см.: ΠΙнирелъман В. А. Происхождение скотоводства, с. 233 и ел.
222 Reed К. Е. Cultures of the Central Highlands, New Guinea.— SJA, 1954,
v. 10, N 1, p. 1-43.
223 James W. Kwanjm pa: the making of the Uduk people. Oxford, 1979.
224 Waddell E. The mound builders, p. 31—32.
226 Colson E. Social organization of the Gwembe Tonga. Manchester, 1967, p. 94—
95.
226 Smith Ph. E. L. Land-use, settlement patterns and subsistance agriculture:
a demographic perspective.— MSU, p. 414.
227 Подробно см.: The Fabrics of Culture: the Anthropology of Clothing and
Adornment. The Hague, 1979.
228 Маркс Я*., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 192. Эту идею удачно развил В. М.
Вахта (Вахта В. М. К вопросу о структуре первобытного производства.— ВИ,
1960, № 7, с. 68—69).
229 См. о папуасах-дани: Heider К. G. The Dugum Dani. A Papuan culture in the
Highlands of West New Guinea. N. Y., 1970, p. 39; о маринг: Clarke W. C.
Place and people. An ecology of a New Guinea community. Canberra, 1971,
p. 30; о кума и энга: Reay Μ. The Kuma. Carlton, 1959, p. 10; Waddell E.
The mound builders, p. 42 ff.; о трумаи и куикуру: Murphy R. F., Quain B.
The Trumai Indians of Central Brazil. Seattle; London, 1966, p. 22—24; о куа-
ним па: James W'. Kwanim pa..., p. 89; об абелям: Kaberry Ph. M. Political
organization among the Northern Abelam.— PNG, p. 40.
230 111нирелъман В. А. Происхождение скотоводства, с. 149.
231 Об охоте и рыболовстве у пиароа, кубео и йекуана см.: Kaplan J. О. The
Piaroa. A people of the Orinoco basin. A study in kinship and marriage. Oxford,
1975, p. 41; Goldman I. The Cubeo. Indians of the Northwest Amazon. Urbana,
1963, p. 65—68; A rvelo-Jimenez N. Political relations in a tribal society:
a study of the Ye'cuana Indians of Venezuela. Ithaca; New York, 1971, p. 30.
232 Chagnon N. A. Yanomamo. The fierce people. N. Y., 1968, p. 20; Fock N.
Waiwai. Religion and society of an Amazonian tribe. Copenhagen, 1963,
p. 209-210.
233 Morey R. V., Metzger D. J. The Guahibo: people of the savanna. Wien, 1974,
p. 59; Fock N. Waiwai, p. 209—210.
234 О зачатках ремесла у разных народов см.: Read К. Е. Cultures of the Central
Highlands..., p. 8; Tuzin D. F. Politics, power and divine artistry in Ilahi-
ta.— AQ, 1978, v. 51, № 1; Kaberry Ph. M. Political organization...; Reay M.
The Kuma, p. 14; Heider K. G. The Dugum Dani, p. 23; Pospisil L. Kapauku
Papuan economy. NewZHaven, 1963, p. 297—298; Fock N. Waiwai, p. 209—210;
Goldman I. The Cubeo* p. 65—68; Colson E. Social organization..., p. 35—37;
Mead S. M. Becoming a master-curver in the Star Harbour area, Eastern
Solomons.— In: Southeast Solomon Islands Cultural History. Wellington, 1976,
p. 107—121.
236 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 160.
236 О разных точках зрения см.: Потапов Л. П. Из истории кочевничества.—
ВИМК, 1957, № 4, с. 57; Смирнов А. П. Скифы. М., 1966, с. 13; Поля-
420
Глава четвертая
ков С. #. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. М., 1980,
с. 24; Титов В. С. Первое общественное разделение труда. Древнейшие-
земледельческие и скотоводческие племена.— КСИА, 1962, вып. 88; Хло-
пин И. Н. Возникновение скотоводства и* общественное разделение труда
в первобытном обществе.— В кн.: Ленинские идеи в изучении истории
первобытного общества, рабовладения и феодализма. М., 1970; Бутинов Н, А,
Разделение труда в первобытном обществе.— ПИПО, с. 145; АверкиеваЮ. Я.
Естественное и общественное разделение труда и проблема периодизации
первобытного общества.— В кн.: От Аляски до Огненной Земли. История
и этнография стран Америки. М., 1967; Генинг В. Ф. Этнический процесс
в первобытности. Свердловск, 1970, с. 92; Энеолит СССР, с. 323 и др.
237 Abruzzi W. S. Population pressure and subsistence strategies among the Mbuti
Pygmies.— HE, 1979, v. 7, p. 183—189; Idem. Flux among the Mbuti
Pygmies of the Ituri forest: an ecological interpretation.— In: Beyond the Myths,
of Culture. N. Y., 1980, p. 3—31.
238 Allen /. Fishing for wallabies: trade as a mechanism for social interaction,
intergration and elaboration on the Central Papuan coast.— In: The Evolution
of Social Systems. Pittsburgh, 1978, p. 435—438; Dutton T. Language and trade
in Central and South-East Papua.— Mankind, 1978, v. 11, N 3, p. 345—351.
239 Об обмене у разных обществ см.: о чамбри — Gewertz D. Tit for tat: barter
markets in the Middle Sepik.— AQ, 1978, v. 51, N 1; о корофейгу — Шни-
рельман В. А. Происхождение скотоводства, с. 153; о дани — Heider К. G.
Dugum Dani, p. 87—88; об энга — Meggitt M. /. Salt manufacture and trading·
in the Western Highlands of New Guinea.— Australian Museum Magazine,
1958, v. 12, N 10, p. 309—313; о пиароа — Kaplan J. O. The Piaroa, p. 27—
28; о баруйя — Godelier M. Perspectives in Marxist anthropology. Cambridge,
1977, p. 127—151; о маилу — Irwin G. J. The development of Mailu as a
specialized trading and manufacturing centre in Papuan prehistory: the causes
and the implications.— Mankind, 1978, v. 11, N 3, p. 406—415; о манус —
Ambrose W. R. The loneliness of the long distance trade in Melanesia.— Ibid.,
p. 326—330.
240 Renfrew C, Dixon /. E., Cann J. R. Obsidian and early cultural contacts in
the Near East.— PPS, 1966, v. 32; Renfrew С Dixon J. E., Cann J.R. Further
analyses of Near Eastern obsidians.— PPS, 1969, v. 34; Wright G. A. Obsidian
analyses and prehistoric Near Eastern trade: 7500—3500 В. С Ann Arbor,
1969; Hallam B. #., Warren S. E., Renfrew С Obsidian in the Western
Mediterranean: characterisation by neutron activation analysis and optical emission
spectroscopy.— PPS, 1976, v. 42; Williams 0., Nandris /. The Hungarian and
Slovak sources of archaeological obsidian: an interim report on further field-
work, with a note on tektites.— J AS, 1977, v. 4, N 3; Ambrose W. R. The
loneliness..., p. 330—331; Michels /. W'., Tsong I. £., Nelson Ch. M. Obsidian
dating and East African archaeology.— Science, 1983, v. 219, p. 365; Кушна-
рева К. X. Обмен и торговля в Закавказье в древности.— КСИА, 1974,
вып. 138, с. 28—33; Турина Н. Н. К вопросу об обмене в неолитическую·
эпоху.— Там же, с. 13—19 и др. (
241 Burridge К. Tangu political relations.— PNG, p. 98.
242 См. например: Chagnon N. Л. Yanomamo, p. 100.
243 Sahlins Μ. Stone Age economics. Chicago, 1972.
244 Sillitoe P. Exchange in Melanesian society.— Ethnos, 1978, v. 43, N 1—2r
p. 7—29; Кабо В. Р. Обмен и его социальная роль в первобытном обществе.—
В кн.: Обмен и торговля в древних обществах. Краткие тезисы докладов. Л.г
1972, с. 3—4.
245 James W. Kwanim pa ..., p. 103—105.
246 Goldman I. The Cubeo, p. 69—71. M. Сэлинс пришел к тому же выводу о роли
двух указанных видов обмена в разного типа социальных взаимоотношениях»
См.: Sahlins Μ. Tribesmen. Englewood Cliffs, 1968, p. 23, 81—86.
247 Fortune R. F. Sorcerers of Dobu. L., 1932, p. 201—209.
248 О первобытных обменных эквивалентах см.: Miller D. An organizational
approach to exchange media: an example from the Western Solomons.— Man-
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
421
kind, 1978, v. 11, Ν 3, p. 288—295; Irwin G. J. The development of Mailu ...,
p. 407; Godelier M. Perspectives ..., p. 127—151; Dalton G. Primitive money.—
AA, 1965, v. 67, № i, p. 44-65.
249 Pearson H. W. The economy has no surplus: critique of a theory of
development.— In: Trade and Market in the Early Empires. Glencoe, 1957.
260 Семенов Ю. И. Первобытная коммуна и соседская крестьянская община.—
В кн..: Становление классов и государства. М., 1976, с. 28; Он же. Эволюция
экономики раннего первобытного общества.— ИОЭ.
261 Harlan J. R. A wild wheat harvest in Turkey.— Archaeology, 1967, v. 20,
N 3, p. 197-198.
262 Flannery K. V. The origins of agriculture..., p. 298—299.
263 Шнирелъман В. А. Доместикация животных и религия.— ИОЭ; Он же.
Происхождение скотоводства.
264 Семенов Ю. И. Первобытная коммуна..., с. 81.
266 См. о богатстве у пиароа — Kaplan J. О. The Piaroa, p. 30; у кума —
Reay Μ. The Kuma, p. 23; у тонга — Colson Ε. Social organization..., p. 37—
38; у абелям — Kaberry Ph. M. Political organization..., p. 40.
266 Bruijn J. V. de. Anthropological research in Netherlands New Guinea since
1950.— Oceania, 1958, v. 29, N 2, p. 138.
267 Bender B. Gatherer-hunter to farmer..., p. 204—222.
268 Salisbury R. F. From stone to steel: economic consequences of a technological
change in New Guinea. Cambridge, 1962, p. 118.
269 Schmandt-Besserat D. Reckoning before writing.— Archaeology, 1979, v. 32,
N 3, p. 22-31.
260 Dentan R. K. The Semai. A nonviolent people of Malaya. N. Y., 1968, p. 49.
261 См., например: Перший А. И. Развитие форм собственности в первобытном
обществе как основа периодизации его истории.— ПИПО; Колганов М. В.
Собственность. Докапиталистические формации. М., 1962; Вахта В. М.
Папуасы Новой Гвинеи: производство и общество.— ПИ ДО; Первобытное
общество. М., 1975; Файнберг Л. А. Индейцы Бразилии. М., 1975;
Семенов Ю. И. Первобытная коммуна... и др.
262 Salisbury R. F. From stone to steel..., p. 61—62.
263 Heider K. G. The Dugum Dani, p. 176—177.
264 Семенов Ю. И. Первобытная коммуна..., с. 81—83.
266 Goldman I. The Cubeo, p. 75.
2ββ об уничтожении личного имущества в случае смерти владельца: Fock N.
Waiwai, p. 164; Goldman I. The Cubeo, p. 34, 72; Colson E. Social
organization..., p. 85; Oosterwal G. People of the Tor. A cultural-anthropological study
on the tribes of the Tor territory. Assen, 1961, p. 70, 71, 86; Van Baal I. Dema.
Description and analysis of Marind-Anim culture. S'Gravenhage, 1966, p. 769;
Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства, с. 162., 169, 187, 194, 200.
267 Бутинов Н. А. Общинно-родовой строй мотыжных земледельцев.— В кн.:
Ранние земледельцы. М., 1980, с. 139.
268 См. о мундуруку: Murphy R. F. Headhunted heritage. Social and economic
change among the Mundurucu Indians. Berkeley-Los Angeles, 1960, p. 84;
о шавантах: Maybury-Lewis D. Akwe-Shavante society, Oxford, 1971, p. 280;
о гуахибо: Morey R. F., Metzger D. J. The Guahibo, p. 93—96; о ваиваи:
Fock N. Waiwai, p. 163; о трио: Rivier P. Marriage among the Trio: a
principle of social organization among a South American forest people. Oxford,
1969, p. 42; о кубео: Goldman I. The Cubeo, p. 71—76; о медлпа: Gitlow A. L.
Economics of the Mount Hagen tribes, New Guinea. Seattle; London, 1966,
p. 90—91; об экаги: Pospisil L. Kapauku Papuans and their law. New Haven,
1958, p. 201.
269 Бутинов Η. A. Папуасы Новой Гвинеи, с. 96 и ел.
270 Meggitt Μ. J. The lineage system of the Mae-Enga of New Guinea. Edinburgh;
London, 1965, p. 223—245.
Об этом см.: Ольдерогге Д. А. Иерархия родовых структур и типы больше-
семейных домашних общин.— В кн.: Социальная организация народов
Азии и Африки. М., 1975, с. 10—11. Мнение Бутинова по этому вопросу
422
Глава четвертая
различно: он пишет то об общинной собственности (Бутинов Н. А.
Первобытный строй (основные этапы и локальные варианты).— ПИ ДО), то о родовой
(Бутинов Н. А. Общинно-родовой строй..., с. 139).
272 См. о тонга: Colson Ε. Social organization..., p. 72, 73, 88—90, 113, 114;
о добуанцах: Fortune R. F. Sorcerers..., p. 69, 70; о куаним па: James W.
Kwanim pa, p. 148.
i73 Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи. М., 1974, с. 236, 237.
274 Brookfield Η. С, Brown P. Struggle for land. Melbourne, 1963, p. 125—127,
175—177; Kelly R. C. Demographic pressure and descent group structure in
the New Guinea Highlands.— Oceania, 1968, v. 39, p. 36—63.
276 Colson E. Social organization..., p. 75.
276 См. например: Reay M. The Kuma, p. 7; Ross J. B. Ecology and the problem
of tribe: a critique of the Hobbesian model for preindustrial warfare.— In:
Beyond the Myths of Culture. N. Y., 1980, p. 47.
277 Stauder J. The Majangir. Ecology and society of a South-West Ethiopian
people. Cambridge, 1971, p. 162—163.
278 Horton R. Stateless societies in the history of West Africa.— In: History of
West Africa. L., 1971, v. 1, p. 94—95.
279 Шнирелъман В. А. Происхождение скотоводства.
280 Об этом см.: Шнирелъман В. А. Протоэтнос у охотников и собирателей;
Он же. О специфике этнической структуры у охотников, собирателей и
рыболовов.— РН, 1982, 12.
281 Следует отметить, что концепция кровных, естественных связей в
первобытности коренным образом отличалась от современной. В ранней первобытности
под кровными связями понимались связи только с одним из родителей и его
родичами, тогда как другая часть родственников (т. е. родственники другого
родителя и он сам) полностью исключались из этой категории. Это
вызывалось представлениями о том, что биологическая субстанция (кровь) могла
физически передаваться только лицами строго определенного пола
(первоначально женщинами). Поэтому для самих первобытных людей основанная
на этом родовая организация имела биологическое обоснование.. Но так как
на самом деле физиологически кровный принцип связывает ребенка с обоими
родителями, родовая организация должна рассматриваться как исключи-
1 тельно социальное образование.
282 Впрочем, проблема соотношения социального и биологического в
первобытном родстве еще не может считаться до конца решенной. Об этом см.: Кее-
sing R. Μ. Kin groups and social structure. N. Y., 1975, p. 12—14;
Evolutionary Biology and Human Social Behavior: an Anthropological Perspective.
North Scituate, 1979.
283 О сегментарной организации и ее типах см.: Fortes Μ., Evans-Pritchard Ε.Ε .
Introduction.— In: African Political Systems. Oxford, 1970 (1st ed.— 1940),
p. 5—22; Oberg K. Types of social structure among the lowland tribes of South
and Central America.—AA, 1955, v. 57, N 3, pt. 1, p. 483—484; Middle-
ton J. Τ ait D. Introduction.— In: Tribes without rulers. Studies in African
segmentary systems. L., 1958, p. 1—30; Gough K. Descent groups of settled
and mobile cultivators.— MK, p. 453; Sahlins M. The segmentary lineage:
an organization of predatory expansion.—AA, 1961, v. 63, N -2, pt. 1,
p. 322—342; Idem. Tribesmen; Keesing R. M. Kin groups..., p. 30—32.
284 На хэтом основании М. Вердон в последние годы даже сделал попытку
отказаться от концепции сегментарных линиджей. См.: Verdon M. Where have
all their lineages gone? Cattle and descent among the Nuer.— AA, 1982, v. 84,
N 3, p. 566—579.
286 Fortune R. F. Sorcerers. ., p. 26, 60, 69.
286 Ibid., p. 31.
287 Read K. E. Leadership and consensus in a New Guinea society.— AA, 1959,
^ v. 61, N 3, p. 425; Μ ay bury-Lewis D. Akwe-Shavante society, p. 167—168;
looker E. Clans and moieties in North America.— CA, 1971, v. 12, N 3.
p. 360.
S*8 looker E. Clans..., p. 358.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА 423
289 Middleton /., TaitD. Introduction, p. 7—8.
290 Nelson Η. Ε. Disease, demography and the evolution of social structure in
Highland New Guinea.— JPS, 1971, v. 80, N 2, p. 204—216.
291 James W. Kwanim pa..., p. 182—183.
292 См. о бенабена: Langness L. L. Bena Bena political organization.— PNG,
p. 301; о чимбу: — Brown P. The Chimbu political system.— PNG, p. 211.
293 См. о талленси: Fortes Μ. The political system of the Tallensi of the northern
territories of the Gold Coast.— In: African Political Systems, p. 243; о сеноях:
Dentan R. K. The Semai, p. 72.
294 Holy D. Kin groups structural analysis and the study of behavior.— ARA,
1976, v. 5, p. 112-113.
296 Southall A. W. Alur society: a study of processes and types of domination.
Cambridge, 1953, p. 170.
296 HolyD. Kin groups..., p. 115—116; БутиновН. А. Общинно-родовой строй...,
с. 117—118.
297 Maybury-Lewis D. Akwe-Shavante society, p. 167—168.
298 Stauder J. The Majangir...
299 Meggitt M. /. The lineage system..., p. 31—32; Reay M. The Kuma, p. 50—
51; Brown P. The Chimbu political system, p. 213—214.
300 См., например: Maybury-Lewis D. Akwe-Shavante society, p. 176.
301 См. о яноама; Chagnon N. A. Yanomamo, p. 63—65; Chagnon N. A. Studying
the Yanomamo. N. Y., 1974, p. 69, 70, 74; о папуасах: Sillitoe P. Big man
and war in New Guinea.— Man, 1978, v. 13, N 2, p. 259.
302 Fortes M. Descent, filiation and affinity: a rejoinder to Dr. Leach.— Man,
1959, v. 59, p. 206; Keesing R. M. Kin groups..., p. 17, 22. Несколько иную
точку зрения см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака..., с. 160—162.
303 Семенов Ю. И. Происхождение брака...,с. 162.
304 Barnes J. A. Agnation among the Enga: a review article.— Oceania, 1967,
v. 38, N 1, p. 40. Некоторые советские африканисты для обозначения тех
же понятий используют термины «матрилатеральность» и «патрилатераль-
ность». См.: Попов В. А. Ашантийцы в XIX в. М., 1982, с. 123.
306 Бутинов Я. А. Первобытнообщинный строй..., с. 116—117.
306 O'osterwal G. People of the Tor..., p. 101, 102; Held G. J. The Papuas of Waro-
pen. The Hague, 1957, p. 95; Collier J. F.,Rosaldo Μ. Ζ. Politics and gender
in simple societies.— In: Sexual Meanings. The Cultural Construction of
Gender and Sexuality. Cambridge, 1981, p. 275—329.
307 Keesing R. M. Kin groups..., p. 16—17.
308 Перший А. И. Проблема типологизации общины в дореволюционной русской
и советской этнографии.— В кн.: Очерки истории русской этнографии,
фольклористики и антропологии. М., 1978, вып. 8, с. 147—148.
309 Aberle D. F. Matrilineal descent in cross-cultural perspective.— MK, p. 655—
727.
310 Об этих изменениях см.: Первобытная периферия классовых обществ до
начала Великих географических открытий. М., 1978; Файнберг Л. А. Индейцы
Бразилии, и др.
311 Бутинов Н. А. Первобытнообщинный строй, с. 117; Олъдерогге Д. А.
Иерархия родовых структур..., с. 10; Semenov Υ и. I. More on Marxism and the
matriarchate.— CA, 1979, v. 20, N 4, p. 817.
312 См., например: James Ε. Ο. The cult of the Mother-Goddess. L., 1959; Ефи-
менко Я. П. Первобытное общество. Киев, 1953, с. 403—404 и др.
313 Reichel-Dolmatoff G. Colombia, p. 76; Ucko P. Antropomorphic figurines of
predinastic Egypt and Neolithic Crete with comparative materia) from the-
prehistoric Near East and Mainland Greece.— Royal Anthropological Institute
Occasional Paper, 1968, N 24, p. 420—439; Массон В. М., Сарианиди В. И.
Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. М., 1973, с. 83—122.
14 Бутинов Н. А. Общинно-родовой строй..., с. 125.
316 Schneider D. Μ. The distinctive featurs of matrilineal descent groups.— MK,
p. 1—29; Service E. R. Primitive social organization: an evolutionary
perspective. N. Y., 1971, p. 115; Hammond D., Jablow A. Women: their economic
424
Глава четвертая
role in traditional society,— Current Topics in Anthropology, 1973, v. 6, p. 22.
316 Грач А. Д. Древние кочевники в центре Азии. Μ., 1980, с. 55—56.
317 Еще в 30-е годы Е. Ю. Кричевский критиковал подобного рода подход как
«голый экономизм». См.: Кричевский Е. Ю. Марксизм и социал-фашистские
извращения в вопросах семейных отношений первобытного общества.—
ИГАИМК, 1934, вып. 81.
318 См. также: Gough К. Variation in residence.— MK, p. 553; Service Ε. R.
Primitive social organization..., p. 110.
319 Тейлор Э. О методе исследования развития учреждений в применении к
законам о браке и происхождении.— Этнографическое обозрение, 1890, № 2, с. 15.
320 Murdoch G. P. Social structure. Ν. Υ., 1967 (1st ed.— 1949); Gough К.
Variation..., p. 553.
321 Maybury-Lewis D. Akwe-Shavante society; Dialectical Societies. Cambridge,
1979.
322 Lechevallier M. Abou Gosh et Beisamoun. Deux gisements du Vile Millenair
avant Геге Chretienne en Israel. P., 1978, p. 179—181; Mellaart J. Catal
Huyuk. A Neolithic town in Anatolia. L., 1967; Idem, Excavations at Catal
Huyuk, 1965.— AnS, 1966, v. 16, p. 183; Narr K. J. Mutterrechtliche Zuge
im Neolithikum (Zum Befund von Catal Huyuk).— Anthropos, 1968—1969,
Bd. 63—64, N 3-4, S. 409—420; Иванов Вяч. Be. Чатал-Гююк и Балканы.
Проблемы этнических связей и культурных контактов.— В кн.: Balcanica.
Лингвистические исследования. М., 1979, с. 5—38.
323 Schneider D. Μ. The distinctive features..., p. 1—29; Douglas M. Is matriliny
doomed in Africa? — In: Man in Africa. L., 1969, p. 121—135; Keesing R. M.
Kin groups..., p. 62—73.
324 Об этом см.: Keesing R. Μ. Kin groups.,.
326 James W. Kwanim pa, p. 150; Colson E. Social organization..., p. 73;
Keesing R. M. Kin groups...
326 Colson E. Social organization..., p. 122—135.
327 Lave J. Cycles and trends in Krikati naming practices.— DS, p. 30.
328 о типологии ранних общин см.: Б утипов И. А. Папуасы Новой Гвинеи;
Семенов Ю. И. О стадиальной типологии общины,— В кн.: Проблемы
типологии в этнографии. М., 1979, с. 77—78; Sillitoe P. Big man and war..., p. 255—
258.
329 См. об абелям: Kaberry Ph. Μ. Political organization..., p. 43; о населении
в верховьях р. Флай: Barth F. Tribes and intertribal relations in the Fly
Headwaters.— Oceania, 1971, v. 41, N 3, p. 175—176; о гадсуп, таирора,
ава: Littlewood R. A. Isolate patterns in the Eastern Highlands of New
Guinea.- JPS, 1966, v. 75, N 1, p. 95-106.
330 Horton R. Stateless societies..., p. 97 f.
331 Kaplan J. O. The Piaroa...
832 Chagnon N. Yanomamo, p. 55.
333 См. о шавантах: Maybury-Lewis D. Akwe-Shavante society, p. 223, 224, 228;
о тонга: Colson E. Social organization..., p. 122 f.; о добуанцах: Fortune R. F.
Sorcerers..., p. 13, 14, 28; об энга: Meggitt Μ. J. The lineage system..., p. 93;
о ленду: Southall A. W. Alur society..., p. 159.
334 Gouph K. Variation in residence, p. 564—568.
336 См. о киваях: Landtman G. The Kiwai Papuans of British New Guinea. L.
1927; о комо: James W. Kwanim pa, p. 243; о кубео: Goldman I. The Cubeo,
p. 144—147; о крахо: Melatti J. С The relationship system of the Kraho.—
DS, p. 69.
336 Fock N. Waiwai, p. 133—136; Meggitt M. J. The lineage system..., p. 106.
337 Rappaport R. A. Pigs for the ancestors: ritual in the ecology of a New Guinea
people. New Haven, 1967, p. 101—104.
338 Fortune R. F. Sorcerers..., p. 60, 69.
339 См. о маринг: Rappaport R. Pigs for the ancestors, p. 101—104; о яноама:
Chagnon N. A. Yanomamo, p. 81—83; о шавантах: Maybury-Lewis D. Akwe-
Shavante society, p. 78—80; о йекуана: A rvelo-Jimenez N. Political
relations..., p. 101.
ПОЗДНЕПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА
425
340 Dentan R. К. The Semai, p. 73; Arvelo-Jimenez N. Political relations...,
p. 102; James W. Kwanim pa, p. 126; Goldman I. The Cubeo, p. 142—143.
341 Μ ay bury-Lewis D. Akwe-Shavante society, p. 78—86; Goldman J. The Cubeo,
p. 149—150.
342 о брачных церемониях у папуасов см.: Pigs, pearlshells and women. Engle-
wood Cliffs, 1969.
343 См., например: Salisbury R. F. From stone to steel..., p. 17—18.
344 Berndt R. M. Excess and restraint. Social control among a New Guinea
mountain people. Chicago, 1962, p. 182; Fortune R. F. Sorcerers..., p. 22—24.
345 Семенов Ю. И. Происхождение брака..., с. 237.
34β Reay M. The Kuma, p. 44; Meggitt M. /. The lineage system..., p. 182, 184,
192, 193; Strathern M. Women in between. L., N.-Y., 1972.
347 Colson E. Social organization..., p. 104 f.
348 Arvelo-Jimenez N. Political relations..., p. 97—108.
349 Fock N. Waiwai, p. 137.
360 Fortune R. F. Sorcerers..., p. 84—85.
361 Lave J. Cycles and trends..., p. 38.
362 Meggitt M. /.'The lineage system..., p. 245—246; Hayano D. M. Misfortune
and traditional political leadership among Tauna Awa of New Guinea.—
Oceania, 1974, v. 45, N 1, p. 20—25; Heider K. G. The Dugum Dani, p. 97.
363 Chagnon N. A. Yanomamo, p. 56—57.
354 См. о шавантах: Μ ay bur у-Lewis D. Akwe-Shavante society, p. 101—103;
о куаним па: James W. Kwanim pa, p. 141—144.
зьб DS.
366 Maybury-Lewis D. Akwe-Shavante society, p. 218; Melatti J. C. The
relationship system..., p. 63.
367 Fortune R. F. Sorcerers..., p. 61, 62. См. также: Maybury-Lewis D. Akwe-
Shavante society, p. 224; Matta R. da. The Apinaye relationship system:
terminology and ideology.— DS, p. 119.
368 Параллельно индивид приобщается к культурным ценностям данного этноса
и становится их носителем. Этот процесс носит название «энкультурации».
Как видно из определений, он близок, но не идентичен социализации.
369 Маркс Я., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 25—26.
360 Об этом см.: Вахта В. М. Папуасы Новой Гвинеи..., с. 269.
361 Об этом см.: Riviere P. G. The couvade: a problem reborn.— Man, 1974, v. 9,
N 3, p. 423—435.
362 Binford L. R. Mortuary practices: their study and their potential.— In:
Memoirs of the Society for American Archaeology, 1971, N 25, p. 22.
363 Berndt R. M. Excess and restraint, p. 92.
364 Flanagan J. G. Hatmen of the mountains: aspects of ethnic identity in tie
New Guinea Highlands.— Expedition, 1981, v. 23, N 2, p. 35—47.
366 Meggitt M. J. The lineage system..., p. 247.
366 Pospisil L. Kapauku Papuan economy, p. 387.
367 Chowning A. Child rearing and socialization.— In: Anthropology in Papua
New Guinea. Melbourne, 1973, p. 61—79; Read К. Е. Leadership and
consensus..., p. 428; Flanagan J. G. Hatmen of the mountains..., p. 45—46.
368 Шурц Г. История первобытной культуры. СПб., б. г., с. 108; Калинов-
ская К. П. Возрастные группы народов Восточной Африки. М., 1976.
869 Калиновская К. П. Возрастные группы..., с. 124—125.
370 Токарев С. А. Проблемы общественного сознания доклассовой эпохи.—
ОСР, с. 265; Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии.—ИОЭ;
Hoebel Ε. Α. The law of primitive man. Cambridge, 1954; D iamond A. S.
Primitive law: past and present. L., 1971.
871 Дэвидсон Б. Африканцы. М., 1975, с. 52. Ср.: Токарев С. А. Проблемы
общественного сознания..., с. 265—268.
372 DuToit В. М. Akuna. A New Guinea village community. Rotterdam, 1975,
p. 100; Berndt R. M. Excess and restraint..., p. 292; Gluckman M. Politics,
law and ritual in tribal society. N. Y., 1968, p. 128.
3 Pospisil L. Kapauku Papuans and their law.
426 Глава четвертая
374 Read К. Ε. Leadership and consensus..., p. 428—430.
376 См. например: PNG.
376 См. о кубео: Goldman I. The Cubeo, p. 151—160; о йекуана:
Arvelo-Jimenez N. Political relations..., p. 231—250; о пиароа: Kaplan J. О. The Piaroa,
p. 45—66; о -камаюра: Oberg К. Indian tribes of Northern Mato Grosso.
Washington, 1953, p. 51; о маджангир: Stauder J. The Majangir, p. 175—179;
о ваиваи: Fock N. Waiwai, p. 123—132, 184.
377 Fock N. Waiwai, p. 203-205.
378 Murphy R. F., Quain B. The Trumai Indians..., p. 56.
379 Heider K. G. The Dugum Dani, p. 94.
380 Watson: J. B. Tairora: the politics of despotism in a small society.— PNG,
p. 224—275; Chagnon N. A. Studying the Yanomamo, p. 161, 166.
881 Meggitt M. J. The lineage system...,p. 163—176.
882 Clarke W. С Place and people, p. 34—35.
883 Zegwaard G. A. Head hunting practices of the Asmat of Netherlands New
Guinea.-AA, 1959, v. 61, p. 1026-1027.
384 Clarke W. С Place and people, p. 34—35; Chagnon N. A. Yanomamo, p. 99—
100; Colson E. Social organization..., p. 48, 178, 180, 181; James W. Kwanim
pa, p. 172-175.
386 См. например: Kaberry Ph. M. Political organization..., p. 63; Berndt R. M.
Excess and restraint..., p. 233—234.
386 Goldman I. The Cubeo, p. 202-204.
387 Kelly R. C. Demographic pressure...; Berndt R. M. Excess and restraint...,
p. 232—268; Kaberry Ph. M. Political organization..., p. 42—43; Rappa-
port R. A. Pigs for the ancestors, p. 170.
388 Metraux A. Warfare, cannibalism and human trophies.— In: HSAI,
Washington, 1949, v. 5, p. 384 f.; Read К. Е. Cultures of the Central Highlands...,
p. 11—12; Langness L. L. Bena Bena political organization, p. 161—165;
Sillitoe P. Big men and war..., p. 260—263.
889 Ср.: Gluckman M. Politics...; Sahlins M. Tribesmen, p. 10.
390 Williams F. E. Orokaiva society. L., 1930, p. 160; Meggitt M. J. System and
subsystem: the Те exchange cycle among the Mae Enga.— HE, 1972, v. 1,
N. 2, p. 118.
891 Sillitoe P. Big men and war...; см. также: Chagnon N. A. Studying the
Yanomamo; Strathern A. The rope of moka. Cambridge, 1971.
892 GewertzD. Tit for tat..., p. 39—41.
№ Morey R. F., MeizgerD. J. The Guahibo, p. 102.
Глава пятая
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ЭПОХИ ПЕРВОБЫТНОЙ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ
1. Демографические процессы
Эпоха раннепервобытной общины. До недавнего времени
проблемы первобытной демографии затрагивались специалистами крайне
редко. А между тем, как показывают последние исследования,
знания об основных характеристиках народонаселения позволяют
глубже понять суть жизнедеятельности общества, объяснить те или иные
особенности его структуры. Ведь, как известно, человек является
одним из важнейших компонентов производительных сил.
Следовательно, чем глубже в первобытность с ее крайне низким уровнем
развития техники, тем существеннее становилась роль мускульной
силы и навыков самого человека. Иначе говоря, величина
трудоспособного населения, его распределение во времени и в пространстве, его
соотношение с нетрудоспособной частью общества и т. д.— все это
имело прямое отношение к жизнестойкости первобытных
коллективов и их способности к эволюции. Кроме того, характер людских
ресурсов играл, конечно, немаловажную роль во всех аспектах
жизнедеятельности общества.
Изучение проблем первобытной демографии актуально в
особенности потому, что среди части зарубежных специалистов широкое
распространение получили неомальтузианские воззрения, согласно
которым рост народонаселения рассматривается как главная движу*
щая сила технического и общественного прогресса, опережающай
развитие производительных сил. По отношению к первобытному об*
ществу подобного рода концепции в той или иной форме
выдвигались Э. Бусерюп, Р. Карнейро, М. Харнером, М. Коуином и др.г
Другие исследователи (С. Полгар, Ф. Хассан, Б. Бронсон, Дж. Кау-
гил и др.) пытаются противопоставить этим взглядам иной подход,
основанный на поиске обратных связей между народонаселением, с
одной стороны, и хозяйственной и социальной системами, с другой2.
В поисках аргументов эти авторы часто опираются на предположение
о гомеостатическом состоянии первобытных популяций, т. е. о будто
бы присущей им способности эффективно противостоять изменениям
и сохранять состояние равновесия с окружающей средой. Однако
при таком подходе неизбежно возникает вопрос о механизмах,
помогавших сохранять гомеостаз, если он действительно существовал,
что само по себе представляется маловероятным.
Решение всех этих вопросов требует детального изучения
проблем народонаселения в первобытности, которые следует рассматри-
428
Глава пятая
вать как в статике (размеры отдельных первобытных коллективов,
плотность населения), так и в динамике (рождаемость, смертность,
миграции). Источниками для исследования первобытной демографии
служат данные археологии, палеоантропологии, этнографии и
различные письменные документы. Все эти источники весьма
неравноценны и не могут использоваться без предварительного
критического анализа.
Археологические методы сводятся к попыткам установить
величину народонаселения по: 1) размерам стоянок и поселков, а также
по площади отдельных жилищ; 2) экологическим возможностям
данного природного ареала при данном уровне развития техники;
3) аналогии с этнографическими моделями, связанными с тем же
хозяйственно-культурным типом (ХКТ) 3. При высокой степени
гипотетичности отдельных звеньев логической процедуры палеодемо-
графических расчетов, производимых археологическими методами,
последние представляются одними из наименее надежных. Гораздо
более эффективными в этом отношении являются исследования
палеоантропологов, в особенности когда они ведутся в содружестве с
археологами. Однако и здесь есть свои трудности, связанные с
неточным определением возраста умерших, с малопредставительными
выборками, с некоторым порой значительным влиянием на выборки
культурного фактора (социальный отбор в процессе образования
отдельных кладбищ и т. д.)4. Вместе с тем, говоря о соотношении
археологических и палеоантропологических методов в палеодемогра-
фических реконструкциях, было бы ошибочным упускать из виду
тот факт, что первые позволяют реконструировать главным образом
размеры отдельных групп и плотность их расселения, а вторые —
структуру народонаселения. Поэтому оба подхода представляются
полезными и безусловно должны дополнять друг друга.
К сожалению, на практике это не всегда оказывается возможным,
так как одни первобытные общества до сих пор известны нам
только по могильникам, другие — только по стоянкам или поселениям.
Несравненно более детальную картину народонаселения на
различных уровнях социокультурного развития дает этнография.
Преимущество этнографов заключается в том, что, не прибегая к
рискованным гипотезам, они могут на практике собирать вполне
достоверные данные о самых разных демографических параметрах
изучаемых групп. Вместе с тем даже в этих, казалось бы, оптимальных
условиях исследования характер получаемой информации далеко не
идеален. И здесь установление возраста информаторов составляет
далеко не простую проблему. Кроме того, на протяжении короткого
периода обследования исследователь не имеет возможности выявить
динамику ' населения путем непосредственного наблюдения и
вынужден полагаться на данные опроса информаторов. А это чревато
серьезными ошибками, в особенности при установлении индекса
рождаемости5. Однако наиболее серьезной проблемой, связанной с
демографией малых популяций (а именно такие популяции харак-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 429
терны для первобытности), является крайняя неустойчивость их
демографических параметров, которые из года в год дают сильные
отклонения от среднестатистических величин. Следовательно,
детальное изучение какой-либо группы в течение года или даже
нескольких лет еще не является надежной гарантией того, что здесь
будет установлена типичная для нее, а тем более вообще для
первобытности, демографическая картина. В настоящее время
исследователи небезуспешно пытаются решить эту проблему с помощью
построения математических демографических моделей, привлекая
для.этого ЭВМ6.
Другая сложность, связанная с использованием этнографических
данных для палеодемографических реконструкций, заключается в
том, что в условиях контактов с современными развитыми
обществами отдельные отсталые группы в той или иной мере изменили свои
демографические показатели: в ряде районов наблюдалась
депопуляция, а в других — необычайно быстрый рост населения. Поэтому
для корректировки этнографических данных особый интерес
приобретают записи первых путешественников, миссионеров и других
наблюдателей, которые могли фиксировать еще нетронутую
влиянием колониализма картину. Однако использование этих отрывочных
сообщений, основанных часто на случайных, непроверенных, а
иногда и неверно истолкованных фактах, требует двойной
осторожности7. К сожалению, авторы классических сводок по первобытной
демографии А. Карр-Сандерс и Л. Крживицкий не всегда относились
к таким источникам с должной критикой 8.
И все же из всех вышеперечисленных источников наибольшей
полнотой и достоверностью отличаются прежде всего
этнографические источники. Кроме того, имеющиеся к настоящему времени
археологические и палеоантропологические данные для ранних
этапов первобытности (палеолит,- мезолит, неолит) крайне скудны и
противоречивы и сами по себе не позволяют реконструировать
сколько-нибудь целостную картину. Поэтому в настоящей главе основной
акцент будет сделан на этнографические источники, предлагающие
нам более или менее достоверные модели демографических
процессов в первобытности.
Сравнительные данные показывают, что в различных регионах в
зависимости от характера окружающей природной обстановки и ее
хозяйственного использования показатели плотности расселения
низших охотников, собирателей и иногда рыболовов весьма
существенно различаются. Возьмем к примеру Австралию. Здесь в
прибрежных и некоторых внутренних хорошо обводненных районах с
относительно обильными пищевыми ресурсами на 1 аборигена
приходилось, как правило, 1,5—10,0 км2 (с отклонениями от 0,5 км2 на
побережье Нового Южного Уэльса до 13—18 км2 на западном
побережье и в Кимберли). Напротив, во внутренних пустынных и
полупустынных областях плотность населения была несравненно ниже.
Так, на 1 человека приходилось в Центральной Австралии 32—90 км2,
ί
430 Глава пятая
в Западной пустыне —- 77—130 км2, а в верховьях р. Муррей — даже
205 км.2 Сходные цифры мы встречаем и у западных шошонов:
78 км2 в засушливых пустынных районах и 1,3—-2,6 км2 в гумидных»
Наименьшей заселенностью отличались области обитания некоторых
эскимосских групп: на Баффиновой Земле на 1 эскимоса
приходилось 390—520 км2, у эскимосов-нетсилик — 300 — 485 км2, у
эскимосов-карибу — 210—370 км2. Более плотно были заселены районы
Аляски, где на одного обитателя приходилось 30—100 км2.
Конечно, если брать в расчет лишь реально используемую территорию,,
плотность заселения арктических районов окажется большей, так
как эскимосы ведут свое хозяйство главным образом в прибрежной
зоне и слабо осваивают внутренние районы. У некоторых наиболее
оседлых групп эскимосов встречались совершенно иные показатели
плотности населения — 1 человек на 0,1 км2, но эти группы следует
относить к категории высших рыболовов, охотников и собирателей·
Приведем еще несколько цифр. У бушменов-кунг на 1 человека
приходилось 20—25 км2, а у обитавших на юго-западе Северной
Америки индейцев-паи — 35 км2.
В целом это соответствовало ситуации в ряде мест в Центральной
Австралии, где наблюдалась столь же бедная ресурсами обстановка.
В Африке у пигмеев-мбути на 1 человека приходилось 2,5—3,0 км2,
у пигмеев-бабинга — 5,0 км2, а у хадзапи — 6,5 км2. Это несколько
меньше, чем в экологически сходных тропических лесах и лесосте-
пях Восточной Австралии, хотя и ненамного. У андаманцев на 1
человека приходилось примерно 1,0 км2, а у некоторых
калифорнийских индейцев — 0,7 км2. Сходная плотность населения отмечалась у
собирателей саго на Новой Гвинее (асмат и др.) ив Южной
Америке (варао) —1 человек на 0,5—2,0 км2. Последние цифры относятся
уже к высшим охотникам, рыболовам и собирателям, и мы даем их
здесь лишь для того, чтобы показать тот высший предел, до
которого может расти плотность населения в условиях отсталого
присваивающего хозяйства 9.
Интересно, что при отмеченном значительном колебании
плотности населения, прямо связанном с возможностями добычи пищи в тех
или иных природных условиях, размеры социальных групп
охотников, собирателей и рыболовов отличаются гораздо большим
постоянством, что свидетельствует о влиянии на них каких-то иных
дополнительных факторов. Как правило, основную часть жизни эти люди
проводили в общинах размером от 15 до 75 человек (в среднем 25—
30 человек) 10. Продуктивность природной среды, воздействующая на
общество через хозяйственную систему, конечно, в определенной
степени влияла и на размеры общин. Не случайно наиболее крупные
из них (50—60 и даже 100 человек) встречались в районах с
относительно богатыми пищевыми ресурсами: на морских побережьях, в
долинах крупных рек, в тропических лесах и отчасти лесостепях.
И все же верхние и нижние пределы размеров общин определялись
прежде всего социально-экономическими факторами: нижние — необ-
1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 431
ходимостью наличия не менее 4—6 мужчин для нормального
ведения охотничьего хозяйства и обороны от врага, верхние —
невозможностью существования сколько-нибудь крупных групп при
отсутствии развитой родовой организации и определенной системы
управления.
Отдельные общины повсюду объединялись в более крупные
общности, отличавшиеся в той или иной степени тенденцией к
эндогамии. Эти общности издавна фигурируют в литературе под названием
племен, хотя в последние годы у ряда авторов и наметилось
стремление к отказу от этого термина11. В Австралии такие племена
насчитывали от 150—200 до 1000—1500 человек, что составляло в
среднем 450—500 человек. И размеры большинства племен достаточно
близко подходили к этой средней величине. То же самое наблюдалось
у некоторых других охотников и собирателей, обитавших в
пустынных условиях (бушметы, западные шошоны, паи). Напротив, в
более богатых приморских и лесных районах племена отличались
меньшими размерами (200—300 человек) 12. Как мы увидим ниже,
то же самое было характерно для некоторых высших охотников,
рыболовов и собирателей и ранних земледельцев. Сокращение
размеров племен в этих условиях диктовалось ростом изоляции,
связанным на первых порах с переходом к оседлости. Иная ситуация
наблюдалась в бедных пищей районах, где высокая подвижность
населения облегчала контакты, а они в свою очередь укрепляли
широкую социальную сеть, благодаря которой здесь только и было
возможно выживание. Как показал А. Йенгоян, в Австралии
существовала устойчивая связь между брачными системами и размерами
племен. Заключение брака между двумя половинами (фратриями)
было возможно в небольших племенах в 250—300 человек, тогда как
система секций (4 брачных класса) требовала 550—600, а система
субсекций (8 брачных классов) —1100—1150 человек13. При этом
племена первого типа, как уже отмечалось, локализовались в
наиболее плодородных районах побережий, а племена с секциями и
субсекциями — во внутренних районах со скудными природными
ресурсами и.
В отличие от общин племена были обязаны своими размерами
прежде всего необходимости физического воспроизводства населения.
Не случайно высокая степень эндогамии сближала их с
популяциями. Низшая граница размеров племен, следовательно, диктовалась
условиями выживания относительно эндогамной группы при наличии
запретов на браки с ближайшими родственниками и характерных
для первобытности показателей рождаемости и смертности, а также
других специфических демографических параметров. Как
показывает математическое моделирование, в указанной ситуации мелкие
популяции размером менее 100—150 человек неизбежно вымирают
и лишь группы, насчитывающие минимум 200—300 человек, имеют
реальные шансы выжить15. Что касается высшей границы размеров
племен, то она определялась степенью интенсивности контактов в
432
Глава пятая
\
условиях бродячего, полубродячего или более или менее оседлого
образа жизни при отсутствии какого бы то ни было транспорта.
Во внутренних равнинных районах материков общины чаще всего
располагались гексагонально и каждая из них имела в среднем
5—6 соседей. Это создавало основу для интенсивных радиальных
контактов и обусловливало существование довольно крупных
племен.
Напротив, в прибрежных районах и речных долинах связи
имели по большей части линейный характер, и это значительно
сужало социальный горизонт, результатом чего и явилось
распространение здесь довольно мелких племен 16.
Что дает нарисованная здесь картина для археологических
реконструкций? Исходя из рассмотренных выше данных, некоторые
специалисты предполагают, что плотность населения в верхнем
палеолите также колебалась в пределах от 1 до 100 км2 на 1 человека,
и это как будто бы подтверждается палеодемографическим
моделированием 17. Как полагают, население мира к концу позднего
палеолита составляло от 3 до 9 млн. человек, причем в Передней Азии,
Аравии и Египте в это время обитало 50—100 тыс. человек, а во
Франции, видимо, 50 тыс. человек18.
Подобно современным охотникам и собирателям, люди жили в тот
период отдельными общинами, размеры которых также имели
региональные особенности. По мнению некоторых специалистов, эти
общины в Юго-Западной Азии, Франции и на Украине объединяли
по 20—50 человек19. Однако, учитывая высокую эффективность
позднепалеолитической охоты в некоторых районах Европы, наличие
крупных общинных домов и определенную степень оседлости, можно
вслед за Г. П. Григорьевым предполагать и более крупные размеры
восточноевропейских общин (50—100 человек) 20.
Во всяком случае ясно, что размеры общин в тот период в
разных областях колебались не в меньшей степени, чем у современных
охотников и собирателей. То же самое следует, видимо, говорить и о
более крупных общественных единицах. Как указывает Ф. Хассан,
при характерной для пустынь плотности населения 30 км2 на 1
человека некоторые археологические культуры, известные в пустыне
к западу от Нила и обнимающие 15—16 тыс. км2, вполне могли
соответствовать племенам в 450—500 человек. Зато на берегах Нила*
где основные ресурсы располагались линейно, аналогичные племена
при плотности 1 человек на 1,0—5,0 км2 могли занимать территорию
протяженностью в 100—200 км. И здесь сейчас известны
археологические культуры такого рода21. По С. Н. Бибикову и В. М. Массону,
в позднем палеолите Молдавии на 1 человека приходилось 25—
30 км2, ч:то дает цифру 750 человек на всю территорию (20000.
км2) 22. Однако если, вопреки указанным авторам, климатическая
и ландшафтная обстановка здесь была относительно
благоприятной23, то Молдавия могла быть заселена по меньшей мере в два
раза плотнее.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 433
Картина заселения Украины представляется менее ясной. Здесь
тоже вычленяются локальные археологические культуры, которые
некоторые исследователи отождествляют с племенами24. Если вслед
за Г. П. Григорьевым считать, что местные позднепалеолитические
культуры занимали от 50 до 250 км в поперечнике25, или же
принять идею об их линейном расселении26, то мы получим плотность
расселения на пределе возможной для низших охотников и
собирателей. Правда, учитывая высокую эффективность местного
хозяйства и относительную оседлость населения, это не должно вызывать
удивления. Даже более того, можно предполагать, что у
соответствующих групп наблюдались отдельные черты позднеродовой
организации, в чем, однако, нельзя не видеть исключения из общей
картины, характерной для многих других районов. Тенденция
некоторых авторов27 приписать эти особенности всей позднепалеолитиче-
ской ойкумене, будто бы распадавшейся на отдельные локальные
культуры с территориями по 50—200 км2, представляется
малообоснованной. В этом случае либо археологические культуры будут
соответствовать не племенам, а отдельным общинам, либо придется
говорить о чрезвычайно высокой плотности населения в позднем
палеолите и о наличии к концу этого периода на земном шаре десятков
или даже сотен миллионов обитателей, что кажется мало вероятным.
Моделируя картину пространственного размещения позднепалео-
литического населения, надо, конечно, иметь в виду неоднозначность
толкования социальной сущности выделяемых археологами
локальных культур, что само по себе представляет нерешенную проблему.
Ведь наличие крупных прочных домов еще не свидетельствует о
высокой степени оседлости и высокой плотности населения. Так, у
эскимосов имелись поселки с каменными и снежными домами, в
которых обитало по несколько десятков (до сотни) человек. Тем не
менее эти поселки имели сезонный характер, для эскимосов
отмечалась высокая подвижность, а плотность населения была невелика.
С переходом к мезолиту картина вряд ли качественно
изменилась. В ряде районов Евразии с исчезновением крупных животных
размеры отдельных общин могли уменьшаться, а плотность
населения понизиться. Зато в некоторых других областях в мезолите,
напротив, возросла оседлость, а вместе с ней могла повыситься и
плотность населения. Все зависело от характера локальных природных
изменений с наступлением эпохи голоцена и от особенностей
приспособления к ним местных обществ. Но в принципе эти изменения
происходили в рамках одной модели, характерной для низших и
отчасти высших охотников, рыболовов и собирателей.
Перейдем теперь к характеристике демографической динамики у
низших охотников и собирателей28. Как известно, она определяется
показателями рождаемости, смертности и миграций. В целой
рождаемость у охотников и собирателей, судя по данным первой
половины XX в., могла быть относительно высокой (более 35%о).
Коэффициент суммарной рождаемости, выражающийся в среднем коли-
434
Глава пятая
честве детей на одну женщину к концу детородного периода,
составлял 5—6 детей. Однако наблюдались значительные отклонения:
некоторые женщины имели до 10—12 детей, а у других их не было
вовсе. Вместе с тем коэффициент смертности лиц в возрасте до
15 лет был необычайно высок и достигал 400—500 на 1000
населения. Особенно велика была младенческая (до 1 года) смертность
(200—300 на 1000). Некоторые авторы, например, Э. Россет,
называют и более высокую цифру младенческой смертности (более 500).
Значит, до репродуктивного возраста, который начинался примерно
с 15 лет, в среднем могли дожить не более 1—3 детей.
По мнению некоторых авторов, прироста населения в эпоху
плейстоцена и у многих более поздних охотников и собирателей в этих
условиях вообще почти не было29; по предположению
других,он,хотя и имелся, отличался крайне невысокими показателями — от 0,007
до 0,02%о30. Вместе с тем, как показывают некоторые факты, в
определенных условиях прирост населения у низших охотников и
собирателей мог быть довольно высоким. Если у австралийских
аборигенов в период серьезных голодовок умирало очень много детей,
то в последующие годы демографический баланс восстанавливался,
так как повышалась рождаемость. Известен интересный случай,
свидетельствующий о высоком уровне детопроизводства у аборигенов.
В конце XIX в. один юноша вместе с двумя женщинами бежал в
пустынную область, спасаясь от колонизаторов. Когда через тридцать
лет эта группа снова вступила в контакт с белыми, в ней
насчитывалось уже 29 человек, т. е. она разрослась до нормальных для
охотничьей общины размеров. При этом каждая из женщин родила по
10 детей, а шесть человек из третьего поколения появились на свет
в результате инцеста31. Сходная картина наблюдалась и на
некоторых других территориях в периоды их первичного заселения. Однако
коль скоро плотность населения на них достигала определенного
размера (по подсчетам некоторых авторов, 20—50% от теоретически
возможного32), рост населения резко замедлялся.
Подтверждает ли это давно отстаиваемую Дж. Бердселлом и
некоторыми другими исследователями концепцию о гомеостазе, якобы
присущем охотникам и собирателям?33 Дискутируя с Дж.
Бердселлом, различные специалисты уже не раз отмечали тот факт, что
мелкие популяции охотников и собирателей в своей динамике
подвержены весьма значительным колебаниям34. Например, при
демографических показателях, зафиксированных у современных бушме-
нов-кунг, популяция из 500—1000 человек за 1000 лет при одних
обстоятельствах могла бы вырасти до 4000 человек, а при других —
полностью вымереть. Поэтому приведенные выше цифры роста
народонаселения в условиях простого присваивающего хозяйства не
следует понимать чересчур буквально. Они были, видимо,
характерны для всего раннепервобытного населения земного шара на
протяжении длительных отрезков времени. Что же касается отдельных
популяций, то для них была характерна динамичная картина пуль-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 435
сирующих колебаний. Справедливости ради следует отметить, что
сам Дж. Бердселл не отрицает наличия этих колебаний, настаивая
лишь на том, что «эквилибриум» был характерен для достаточно
длительных промежутков времени. Однако тем самым он практически
лишает почвы саму идею гомеостаза, имеющую смысл только в
применении к отдельным популяциям. Ведь на протяжении длительных
временных отрезков мелкие первобытные популяции неизбежно
видоизменялись: одни количественно уменьшались и
перегруппировывались, если совсем не вымирали, другие разрастались и
сегментировались.
И все же концепцию Дж. Бердселла и его последователей было
бы неверно полностью игнорировать, так как она опирается на вдол-
не реальные факты. Дело в том, что рост населения у охотников и
собирателей, как правило, действительно не достигает биологически
возможных пределов. Даже в трансформированных под влиянием
других обществ группах австралийских аборигенов, бушменов,
эскимосов и др., где в последние годы отмечен необычайно высокий для
охотников и собирателей темп прироста народонаселения (до 45% о
в год у тиви), он сдерживается целым рядом факторов, глубоко
коренящихся в самом образе жизни этих коллективов. Наиболее
полно эти факты были выделены и классифицированы Б. Хейденом,
который подразделил их на физиологические и социокультурные.
К физиологическим он отнес колебания в характере и объеме
пищевых ресурсов, а к социокультурным — особенности половых
связей (время их начала, процент холостяков и вдовых, наличие
послеродовых табу, других воздержаний от половых сношений,
распространение полигамии и ритуальные повреждения половых органов),
факторы, влияющие на детородные способности (длительность
грудного кормления, или лактации, использование противозачаточных
средств, бесплодие), а также те, которые воздействуют на
выживание плода или повышают смертность (аборт, детоубийство, мертво-
рождения, войны и гибель в силу каких-либо иных обстоятельств) 35.
Рассмотрим эти факторы по порядку. Характер снабжения
пищей влиял на общества охотников и собирателей как прямо, так и
косвенно. Его прямое воздействие заключалось в том, что
нерегулярное снабжение пищей, ее скудность и низкое качество могли
повысить возраст половой зрелости и брачный возраст, увеличить
количество мертворождений и выкидышей, а отсутствие подходящего
искусственного детского питания удлиняло период лактации 36. В
последние годы этот вопрос был особенно подробно рассмотрен
Р. Фриш, по мнению которой нехватка жиров в теле существенно
задерживает наступление половой зрелости у женщин или даже
может повлечь бесплодие, а также ускорить наступление вторичного
бесплодия. Кроме того, это, возможно, отражается на
жизнестойкости новорожденного и на особенностях лактации37.
Несмотря на имеющиеся сомнения в сколько-нибудь
эффективном действии рассмотренного фактора38 и на отсутствие достаточно
436
Глава пятая
детальных этнодемографических исследований, способных
установить его действительную роль39, определенное его влияние на
рождаемость представляется вполне реальным. Особенности добычи
нищи, а шире — особенности ведения хозяйства в целом также не
могли не влиять на способность женщин охотников и собирателей к
детопроизводству. Не следует забывать, что в этих условиях
хозяйственная роль женщин была чрезвычайно велика. Особенно это
проявлялось в районах умеренного и жаркого поясов, где собранная
женщинами пища составляла до 70—80% рациона. А если учесть,
что в обязанности женщинам вменялись, кроме того, забота о воде
ш топливе, приготовление пищи, перенос различной утвари в течение
длительных переходов, строительство жилища и т. д., то становится
яснее, почему в классической первобытности люди стремились
избегать частых родов, отрывающих женщин от их нелегкого труда.
Впрочем, и сам этот труд приводил к быстрому увяданию женщин
и раннему вторичному бесплодию40.
У многих охотников и собирателей отмечалось весьма раннее
начало половой жизни. У аборигенов Северной Австралии девочки
нередко вступали в половые отношения до наступления половой
зрелости, иногда с 9 лет. Сходная ситуация наблюдалась также у
бушменов и эскимосов. Считается, что это вело к травматизму и тем
самым понижало рождаемость. Беременность у малолетних девочек
встречалась крайне редко, составляя, например, у некоторых тиви
не более 8%, но и эта цифра представляется высокой. В целом для
первобытности было характерно очень раннее вступление девочек
в брак, причем в ряде случаев (у тиви, некоторых северных
эскимосов— нетсилик и медных — и т. д.) помолвки заключались с
новорожденными или же брачный сговор совершался еще до рождения
невесты.
Наиболее раннее вступление девочек в брак (в 8—12/13 лет)
известно у отдельных групп в Северной Австралии. В других
местах девушки вступали в брак позже: в Центральной Австралии —
в 15—19 лет, у эскимосов —в 13—16 лет, у пигмеев-мбути и
бушменов—в 16—17 лет, у индейцев-паи — в 18 лет. Первые
беременности и роды происходили далеко не сразу после начала половых
-отношений. Как правило, дети появлялись у женщин в период от
15 до 20 лет, чаще — в 17—19 лет, а время наивысшей плодовитости
падало на 20—27 лет (20—22 года в Северной Австралии, 20—
25 лет у бушменов, 25—27 лет у тиви и т. д.). Начиная с
тридцатилетнего возраста плодовитость женщин постепенно падала, и у
большинства из них к 35—40 годам наступало вторичное бесплодие
(к 35—40 годам у тиви, к 35 годам в Центральной Австралии, к 35—
40 годам у бушменов, к 38 годам у индейцев-паи). Следовательно,
репродуктивный период был невелик, не превышая у большинства
женщин 15 лет. Помимо этого, на общую рождаемость влияли
наличие бесплодных женщин (до 14% У бушменов-кунг), крайняя
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 437
неустойчивость браков, а также тот факт, что большинство женщин
не доживало до конца репродуктивного периода.
Что касается мужчин, то они вступали в первый брак позже, чем
женщины (в 25—35 лет в Австралии, в 20—35 лет у бушменов и
т. д.), и мужья, следовательно, были, как правило, старше жен не
менее чем на 5—6 лет. Во многих местах это оказывало влияние
на социальные отношения, так как у молодых жен нередко
оказывалась более обширная родня, чем у их мужей, а с приближением
старости это соотношение резко менялось41. Частота браков между
сильно различавшимися по возрасту супругами до определенной
степени определялась некоторой диспропорцией полов,
наблюдавшейся в обществах охотников и собирателей. Впрочем, вопрос о
характере и сути этой диспропорции не совсем ясен. По Дж. Бердсел-
лу, в различных племенах Центральной Австралии численность
мужчин резко преобладала над численностью женщин (от 130 до 260
мужчин на 100 женщин) 42, однако по данным других авторов это
соотношение в гораздо большей степени приближалось к
нормальному (от 68 до 150 мужчин на 100 женщин) 43.
При сравнении этих данных следует, конечно, учитывать
различия в методах и обстоятельствах исследования. Если Дж. Бердселл
работал у аборигенов в самом начале 50-х годов XX в. и помимо
статистических материалов использовал генеалогические данные,
что позволило ему судить о ситуации, имевшей место в первой
половине XX в., то последующие авторы пользовались статистикой
конца 50-х—60-х годов XX в., когда традиционные обычаи
аборигенов все более отмирали. Следовательно, указанное противоречие
могло быть вызвано исчезновением обычая детоубийства. Однако,
как явствует из сводки М. Меггита, в 50—60-е годы существенные
диспропорции наблюдались прежде всего у сильно уменьшившихся
в размерах племен и могли иметь случайный характер, так как в
нормальных племенах половая диспропорция была значительно
меньшей — примерно 117:100. Сейчас трудно установить, как это
явление могло отразиться на данных, использованных Дж. Берд-
-селлом.
Столь же противоречивы сведения о других народах, где
отмечались аналогичные диспропорции,— об эскимосах. Судя по
сообщениям авторов конца XIX — начала XX в., количество мужчин здесь
превышало количество женщин не менее чем в полтора-два раза.
Однако при критическом подходе к этой информации цифры
нередко оказываются завышенными. Как теперь установлено, при сборе
►соответствующих данных исследователи опирались не столько на
физические половые признаки, сколько на такие социальные маркеры,
как одежда, что и приводило к ошибкам44. Таким образом, можно
предполагать, что у многих эсимосских групп диспропорция полов
была не столь значительной, как это было принято считать до
недавнего времени.
438
Глава пятая
Широкое обследование, проведенное недавно у пигмеев-бабинга,
показало, что соотношение полов не является сколько-нибудь
постоянной величиной. В ряде случаев среди детей (до 15 лет)
преобладали девочки, и половой индекс в этой возрастной группе составлял
90—93, а среди взрослых (старше 15 лет) встречалась обратная
картина (половой индекс — до 123, а в одном случае до 190). Зато у
некоторых других групп среди детей преобладали мальчики (120), а
среди взрослых — женщины (81). Иначе говоря, половой индекс
определялся здесь, видимо, в основном случайными факторами44а
Влияние половых диспропорций на брачную ситуацию
усиливалось там, где широкое распространение получили полигинические
браки. У различных племен Центральной Австралии они составляли
до 10—25%, причем некоторые авторы отмечают, что эти цифры
свидетельствуют об определенном упадке роли многоженства в
процессе современной трансформации культуры аборигенов, когда
хозяйственное значение роли женщин понизилось. В других районах
мира многоженство, видимо, встречалось не так часто: у бушменов —
5%, у пигмеев-мбути-—3,3%, а у некоторых эскимосов, хотя и не
у всех,— совсем редко.
Многоженство было привилегией мужчин старшего возраста.
Поэтому молодым мужчинам было очень трудно достать себе невест,
и нередко они оставались холостыми. Это встречалось в особенности
там, где имелся количественный перевес мужчин. У бушменов-кунг,
у которых его не было, холостяки, в основном мужчины в возрасте
15—35 лет, составляли не более 10%. Зато у питьяндьяра
Центральной Австралии их количество достигало 20%, а у индейцев-паи 64%
мужчин возраста 20—29 лет оставались холостыми. Впрочем, вряд ли
этот фактор существенно влиял на рождаемость, так как для
женщин репродуктивного возраста повсюду была характерна почти
полная брачность. Иногда юноши вступали в свой первый брак с
вдовами, которые были много старше их.
Особое влияние на рождаемость у охотников и собирателей
оказывал зафиксированный у них довольно строгий интервал между
родами, составлявший от 3 до 5 лет (не менее 3 лет в Центральной
Австралии, от 3,9 до 4,5 лет у бушменов, от 3 до 5 лет у эскимосов,
не менее 4 лет у пигмеев-мбути и бабинга и т. д.). Существование
этого интервала, по мнению ряда авторов, могло обусловливаться
следующими факторами: а) невозможностью в условиях бродячей
жизни нести на себе более 1 малолетнего ребенка; б) отсутствием
иной подходящей для младенцев пищи, кроме материнского молока,
и, следовательно длительным периодом кормления грудью; в)
избеганием осложнений для здоровья молодых матерей, не
освобождавшихся от ежедневной тяжелой работы; г) наличием отмеченных
выше физиологических механизмов45. Правда, как показал недавно
У. Денем, у аборигенов Центральной Австралии малолетних детей
переносили не только матери, но и их сестры (начиная с
пятилетнего возраста), тетки и другие родственницы46. И все же перенос
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
детей осуществлялся главным образом матерями. Так что этот
фактор, вопреки У. Денему, мог играть, определенную роль в
ограничении рождаемости, хотя он и не имел того первостепенного
значения, которое ему до сих пор придавали отдельные авторы.
Совершенно очевидно, что указанный интервал мог
существовать только при наличии определенных искусственных мер по
предотвращению рождаемости. Со времен А. Карр-Сандерса к таким
мерам принято относить применение противозачаточных средств,
аборты, послеродовые половые табу, половые воздержания в периоды
определенной хозяйственной деятельности, во время праздников,
поминок, сезонные колебания в интенсивности половых отношений,
coitus interruptus, а также детоубийства. К сожалению, как
правило, не удается проследить действенность или даже наличие многих
из этих обычаев, а данные, сообщаемые А. Карр-Сандерсом, к
сожалению, не всегда точны. Во всяком случае применение
противозачаточных средств (различные травы, настои из них и т. д.), кажется,
не имело широкого распространения, а эффективность их была
невысокой. Аборты также встречались нечасто). Например, в ходе
недавнего детального обследования бушменов-кунг йи того, ни другого
у них вообще установить не удалось. Послеродовые табу на половые
отношения вызывались опасением, что они могут повредить грудному
ребенку или прервать лактацию. Они длились обычно от нескольких
месяцев до года и лишь в исключительных случаях до двух лет.
Определенную роль в ограничении интенсивности половых
отношений играла вера в их вредное воздействие на результаты
предстоящей охоты или рыбной ловли. Кроме того, отношения
прерывались многодневным отсутствием мужчин, ушедших на охоту или на
другие промыслы. Отмечалось и воздействие сезонного фактора, т. е.
резкое увеличение интенсивности половой жизни весной и ранним
летом, в периоды относительного благоденствия. Coitus interruptus
вряд ли был сколько-нибудь широко распространен в классической
первобытности, так как он требовал хороших знаний
физиологического механизма зачатия. Кроме того, он предполагал сознательное
ограничение рождаемости, а это тоже вряд ли имело место, так как
в целом охотники и собиратели приветствовали многодетность.
Например, бушмены-кунг жаловались обследовавшей их Н. Хауэлл на
малочисленность своего потомства, которое они желали бы
увеличить. Уменьшению рождаемости способствовали и некоторые
превратные представления о ней, в частности существующее у пигмеев-
мбути убеждение в том, что наиболее плодотворно на ней
сказывается половое общение в период менструаций.
Одной из самых действенных искусственных мер, сдерживавших
рост народонаселения, у охотников и собирателей могло бы служить
детоубийство. И не случайно именно эта проблема уже не первый
год вызывает оживленную дискуссию в научной литературе.
Наличие самих фактов детоубийства зафиксировано достаточно надежно
и ни у кого сомнений не вызывает. Спорным является вопрос о
440
Глава пятая
степени распространенности детоубийств и их характере.
Устанавливая интенсивность детоубийств, многие авторы до сих пор
опирались на такой косвенный показатель, как соотношение полов в
популяции. Обычно при этом исходили из того, что для всего
человечества среднестатистическое соотношение новорожденных мальчиков
и девочек равно 105:100. При высокой мужской смертности это
соотношение впоследствии выравнивается и даже изменяется в пользу
женщин. С этих позиций соотношения типа 150 :100 и даже 200 :100
сплошь и рядом трактовались как неоспоримое доказательство
преимущественного убийства девочек. На самом деле все обстоит
гораздо сложнее и связано как с методикой исследования, так и с
динамикой половых соотношений. Выше уже отмечались методические
ошибки в установлении последних у эскимосов. То же самое
наблюдалось в Австралии, где аборигены часто прятали девочек от
чужаков. Кроме того, проводя количественный анализ, многие авторы
включали в группу взрослых лишь тех индивидов, которые
находились в браке. Но так как юноши вступали в брак намного позже
девушек, эти подсчеты неизбежно показывали преобладание в
категории детей мальчиков, а в категории взрослых — женщин.
Впрочем, на характер половых соотношений могли влиять и
некоторые объективные обстоятельства. Теперь выяснено, что
соотношение полов при рождении является не константой, а переменной
величиной. Оно, например, зависит от возраста родителей, причем
у молодых матерей рождается больше мальчиков (120 :100), а у
женщин, заканчивающих репродуктивный период — больше девочек
(90:100). Кроме того, избыток мальчиков бывает и следствием
особо интенсивной половой деятельности мужчин47.
Таким образом, как было показано выше, в классической
первобытности имелись благоприятные условия, способствовавшие
возникновению высоких половых диспропорций и без убийства девочек.
Например, описанный механизм и без гипотезы об убийстве девочек
хорошо объясняет изменения половых соотношений от 119:100 у
детей до 77:100 у взрослых у пинтуби в Центральной Австралии48.
Все сказанное не означает, что детоубийств в первобытности
совсем не было. Однако в количественном отношении его роль была,
видимо, ниже, чем те 15—30% и даже 50%, о которых пишут иные
авторы49. В условиях высокой детской смертности не было
потребности в сколько-нибудь систематическом детоубийстве, и оно вряд ли
превышало 8—10% 50. Выявились и региональные различия.
По-видимому, чаще детоубийства встречались в экстремальных
климатических условиях. Это отмечалось у наиболее северных групп эскимосов
и аборигенов засушливых пустынь Центральной Австралии. В
других районах, изученных этнографами (у южных эскимосов, бушме-
нов-кунг, пигмеев-мбути), роль детоубийств была несравненно ниже.
Чем же вызывалась потребность в детоубийствах? В условиях
тяжелой бродячей жизни люди убивали новорожденных, если они
рождались слабыми или с какими-либо физическими дефектами. Но-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 441
ворожденного могли убить и в том случае, если он составлял
конкуренцию уже имеющемуся грудному ребенку. Кстати, по этой
причине в первую очередь и убивали одного из близнецов. Поэтому
в попытках объяснить умерщвление близнеца исключительно
религиозно-магическими соображениями можно видеть подмену
первичного фактора вторичным, возникшим на его основе. По некоторым
сообщениям, в обстановке жестоких голодовок, изредка случавшихся
в Центральной Австралии, аборигены могли убивать малолетних
детей, а их мясом кормить детей более старшего возраста.
Аналогичные случаи, хотя и крайне редко, встречались и у эскимосов.
Как справедливо отмечает А. Йецгоян, в описанной обстановке
было бы трудно отдавать сколько-нибудь явное предпочтение
убийству девочек51. И тем не менее люди нередко действительно
предпочитали умерщвлять девочку. Это отмечалось, например, у некоторых
австралийских аборигенов и эскимосов в случае рождения
разнополых близнецов. Вместе с тем у эскимосов отмечалось и убийство
двух- и даже четырех-шестилетних дочерей в случае рождения
сына или если они остались непомолвленными. Вообще эскимосы, у
которых главными добытчиками пищи служили мужчины, считали
женщин непроизводительным балластом и предпочитали иметь
сыновей. Поэтому убийство девочек, видимо, действительно, было
распространено у них шире, чем у других охотников и
собирателей52. Впрочем, повсюду, где социально-престижное значение
мужского труда было выше, чем женского, в условиях простого
присваивающего хозяйства следовало бы ожидать аналогичную картину53.
Иногда смертность среди девочек объяснялась худшим уходом на
протяжении первого года жизни.
Распространено представление о том, что детоубийство являлось
сугубо семейным делом и, как правило, осуществлялось матерью
ребенка. Однако, судя по австралийским данным, этот вопрос нередко
решался общиной, волю которой выражала всеми уважаемая
старуха, умерщвлявшая новорожденного 54.
Таким образом, потенциально высокая плодовитость у охотников
я собирателей никогда полностью не реализовывалась из-за целого
ряда противодействовавших ей факторов, в том числе социально-
культурного порядка. Но при этом последние, по-видимому, были
малоэффективны, и в них вряд ли следует видеть сознательную
демографическую политику. Поэтому выдвинутый в последние годы
рядом авторов тезис о наличии в классической первобытности сколько-
нибудь действенного искусственного контроля за ростом
народонаселения представляется несоответствующим действительности55.
Коэффициент смертности в классической первобытности
составлял не менее 30—40% о, однако причины этого изучены недостаточно.
Сейчас ясно лишь то, что огромное влияние на него оказывала
высокая детская смертность. Что же касается смертности взрослых
(старше 15 лет), то ее главными факторами считаются несчастные
случаи на охоте, травматизм, стихийные бедствия и т. д., тогда как
442
Глава пятая
роль инфекций и эпидемий значительно возросла лишь с переходом
к оседлости и земледелию56. Действительно, у эскимосов высокий
процент смертности среди мужчин определялся несчастными
случаями на охоте (15%). Многие из них, в частности, тонули,
перевернувшись в лодке. Однако наряду с этим одним из важнейших
факторов смертности среди эскимосов К. Биркет-Смит называет
туберкулез, правда, его данные относятся к группам, издавна
контактировавшим с белым населением. По данным Н. Хауэлл, лишь
5—10% бушменов-кунг гибли от травм и насилия, а 70—80% —от
болезней (туберкулез, пневмония, малярия и т. д.). По ее мнению,
эта картина была характерной для бушменов не только в настоящем,
но и в прошлом. Однако некоторые другие исследователи прямо
связывают распространение в Африке малярии с развитием земледелия.
Не менее противоречивы высказывания австраловедов. По Ф.
Джонсу, простудные и желудочно-кишечные заболевания широко
распространились у австралийских аборигенов лишь в последние годы в
связи с их переходом на оседлость. Однако Дж. Бердселл считает
возможным связывать с ними высокую смертность среди аборигенов
и в далеком прошлом. Таким образом, роль болезней в обществах
охотников и собирателей остается не вполне ясной, однако было бы
ошибочно полностью ее игнорировать 57.
Вопреки мнению ранних авторов, смерть от голода в
традиционных условиях встречалась лишь в порядке исключения, однако коль
скоро случались серьезные голодовки, они могли погубить целые
группы. В таких ситуациях люди могли убивать или покидать
стариков, убивать маленьких детей, а также заниматься
каннибализмом. Но это наблюдалось лишь в экстремальных услових и известно
только у некоторых групп эскимосов, а также аборигенов
Центральной Австралии.
Средняя продолжительность жизни современных охотников и
собирателей относительно высока — от 34 лет у некоторых эскимосов
до 48—49 лет у аборигенов Северной Австралии. Но это вызвано
прежде всего резким снижением детской смертности в связи с
такими факторами, как улучшение питания, медицинской помощи
и т. д. в современных условиях. У древних охотников и собирателей
этот показатель был значительно ниже, составляя 19—25 лет.
Кстати, такая картина встречается и ныне у пигмеев Африки (21 год).
Однако из приведенных данных неверно было бы делать вывод о
том, что в первобытности люди умирали, едва оставив потомство.
Ведь эти и аналогичные им цифры получены с учетом высокой дет·
ской (до 15 лет) смертности. На самом деле носителями культурных
традиций были взрослые, и именно с их деятельностью связывалось
развитие культуры и ее передача последующим поколениям. Поэтому
для нас гораздо важнее значение средней продолжительности жизни
лиц, доживших до 15 лет, а оно по разным оценкам составляло 16—
27 лет58. Некоторые же люди (до 8%) доживали до 50—60 лет, а
отдельные индивиды жили еще дольше. Как правило, женщины жи-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 443
ли на 2—4 года меньше мужчин, что было следствием тяжелого
каждодневного труда и частых родов в антисанитарных условиях.
Нарисованная выше картина основана прежде всего на
этнографических данных, однако интересно, что при сопоставлении с хотя
и немногочисленными палеоантропологическими данными она в
основном подтверждается59. Что же касается интерпретации
полученного цифрового материала, то здесь изложенные выше факты даже
помогают уточнить и дополнить некоторые выводы
палеоантропологов. С их учетом, например, приведенные А. Валлуа палеодемогра-
фические выкладки для синантропов и для эпипалеолита Магриба
оказались малоправдоподобными, видимо, из-за статистически
непредставительных выборок 60.
В Восточном Средиземноморье на каждую женщину в период
позднего палеолита приходилось примерно 4,5—5,0 родов. А детская
смертность (до 15 лет) в этот период здесь превышала 500 на 1 тыс.
населения. В Европе детская смертность была ниже (300—400).
Средняя продолжительность жизни лиц 15-летнего возраста в
Восточном Средиземноморье составляла у мужчин 18,3 года, у
женщин — 13,7 лет. В мезолите в связи с кризисом первобытного
хозяйства эти цифры несколько снизились: соответственно до 17,0 и
9,9 лет. В тот же период в районе Вади Халфа в Египте те же
показатели составляли для мужчин 12,2 лет, а для женщин— 11,7 лет.
По-видимому, сходные цифры дают культуры архаического периода,
частично соответствующего европейскому мезолиту, в Северной
Америке. Но в мезолите Магбира и на Украине люди, достигшие половой
зрелости, жили, по-видимому, значительно дольше (до 30—40 лет),
хотя средняя продолжительность жизни и там составляла 20—23
года. Л. Энджел объясняет падение продолжительности жизни в
Восточном Средиземноморье переходом к оседлости и сопутствовавшим
ему ухудшением эпидемиологической обстановки. Но носители
культур Магриба и Украины жили как будто бы тоже до некоторой
степени оседло, а обитатели Северной Америки стали переходить к
оседлости не ранее конца архаического периода.
Наконец, еще одним фактором, влиявшим на демографическую
ситуацию, который нам осталось рассмотреть, были миграции61.
По классификации Дж. Бердселла, среди них следует различать
индивидуальные, общинные и племенные. Люди могли бежать в
чужую общину или даже чужое племя в случае серьезных ссор,
убийства или нарушения брачных норм. Кроме того, как уже
указывалось, сильные демографические колебания, свойственные малым
группам, влекли соответствующие колебания в количестве внешних
браков. Поэтому-то племя и не было никогда абсолютно эндогамной
единицей. Общинные переселения имели иные причины и стимулы.
Они могли происходить в условиях серьезных
природно-климатических катаклизмов, когда группы пытались спастись на чужой
территории от голода и бедствий. Они могли вызываться и сильным
разрастанием размеров общины, в результате чего от нее отпочко-
444
Глава пятая
вывалась группа, уходившая в поисках нового пристанища.
Напротив, сократившаяся ниже известных пределов община неизбежно
присоединялась к другой более крупной общине. Общеплеменных
передвижений у охотников и собирателей, как правило, не было из-за
отсутствия племенного социально-потестарного единства. Племена
передвигались лишь в исключительной ситуации, когда их размеры
сокращались до предела, делавшего их нежизнеспособными. Правда,
иногда они пытались выйти из положения, приглашая к себе общины
соседних племен. Но если это не помогало, они неизбежно должны
были или вымереть, или сами влиться в состав более крупного
племени.
Все отмеченные процессы вели к тому, что состав отдельных
социальных групп был весьма неустойчив. Постоянно происходили
переливы населения с одной территории на другую, тем самым как
бы нивелируя возникавшие то здесь, то там нарушения
демографического равновесия. Археологически эта картина фиксируется в
изменении границ распространения отдельных археологических
культур. Так, по мнению большинства исследователей, появление на
Русской равнине костенковско-авдеевской культуры обязано
расселению позднепалеолитических общин из Центральной Европы. Тем
же, по-видимому, объясняется и сосуществование здесь в эту эпоху
разнокультурных комплексов 62.
Эпоха позднепервобытной общины. С переходом к неолиту
демографическая ситуация во многих регионах мира существенно
изменилась. Некоторые авторы трактуют эти изменения как «первую
демографическую революцию» и связывают их с переходом к
производящему хозяйству, что, строго говоря, неточно. Во-первых, как
будет показано ниже, важным фактором демографических
изменений служил не только переход к земледелию и скотоводству, а и
оседлость. Но, с одной стороны, оседлость была возможна и в рамках
высокоэффективного присваивающего хозяйства, а с другой, раннее
земледелие во многих районах мира еще не создавало основ для
прочной оседлости. Во-вторых, переход к оседлости был сложным
обратимым процессом. И если на большей части земного шара
тенденция к оседлости4 возникла в мезолите и успешно развивалась в
неолите, то в отдельных областях, например в Европе и в Сибири,
на смену более или менее оседлым позднепалеолитическим общинам
пришли бродячие коллективы охотников, рыболовов и собирателей.
При этом в Сибири последние дожили до сравнительно недавнего
времени. Наконец, в-третьих, механизмы и масштабы этой
«демографической революции» остаются весьма неопределенными.
Ясно одно — в неолите прирост народонаселения несомненно
возрос. Это фиксируется как по археологическим данным,
свидетельствующим о быстром росте отдельных поселков и об увеличение
плотности населения, так и по материалам этнографии, которые
дают представление о возрастании населения у оседающих в
последние годы отдельных групп охотников и собирателей. Правда, эти:
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 445
данные нельзя принимать без надлежащей критики. Ведь
археологические источники могут создавать иллюзию преувеличенной
скорости роста населения в неолите просто из-за худшей изученности и
худшей сохранности более ранних памятников. Что же касается
современных отставших в своем развитии групп, то у них ускорение
роста населения отчасти связывается с появлением более надежных
нетрадиционных источников' питания, с некоторым улучшением
условий жизни, в частности медицинского обслуживания, с
прекращением войн, с исчезновением обычая детоубийств и т. д. И тем не
менее не приходится сомневаться в самом факте роста населения
в условиях перехода к земледелию и оседлости, который, по разным
оценкам, составлял от 0,8 до 2,5% о, а кое-где временами и до
10% о63.
Сложнее обстоит дело с установлением причин этого роста. Не
говоря уже о том что отдельные авторы сам переход к оседлости и
земледелию стараются увязать с ростом населения, большинство
исследователей, придерживающихся прямо противоположной точки
зрения, выдвигают самые разные и нередко противоречащие друг другу
объяснения. В качестве причин различные специалиста называют
переход к использованию более доступных ресурсов и уменьшение
подвижности, общее увеличение объема пищевых ресурсов или
овладение новыми высокоурожайными культурами, улучшение питания
(рост количества белковой пищи) или, напротив, его ухудшение
(рост роли углеводов), появление подходящего для младенцев
искусственного питания, улучшение условий женского труда, облегчение
ухода за детьми, появление потребности в их труде и осознание
преимущества больших семей перед небольшими в земледельческой
практике и т. д. В неменьшей мере разнятся взгляды и на то,
действие каких демографических механизмов повлекло указанный рост
населения. Среди них называют понижение смертности при той же
рождаемости, повышение рождаемости при прежней или даже чуть
возросшей смертности, уменьшение интервала между родами, более
раннее наступление половоц зрелости, падение детской смертности,
рост средней продолжительности жизни женщин и, наконец,
уменьшение действия практики, искусственно сдерживавшей рост
населения прежде64. Так как большинство этих предположений опирается
на очевидные факты, следует, по-видимому, отказаться от попыток
построения какой-либо жесткой однозначной схемы и допустить
наличие некоторой вариативности причин и следствий, хотя и в
определенных рамках.
Искусственно создавая необычайно высокую, невиданную ранее
концентрацию обильных пищевых ресурсов на небольшой площадит
земледелие открывало широкие возможности для роста населения.
Однако аналогичные возможности, хотя и в меньших масштабах,
создавались и в рамках высокоэффективного присваивающего
хозяйства, базировавшегося на богатых локальных ресурсах (рыба,
съедобные растения и т. д.). Для примера можно сопоставить хотя бы та-
446
Глава пятая
кие цифры. У рыболовов северо-западного побережья Северной
Америки приходилось на 1 человека от 0,5 до 10,0 км2 у охотников,
собирателей и рыболовов Калифорнии — от 1,5 до 4,4 км2, у собирателей
оаго в Южной Америке (варао) и на Новой Гвинее (асмат и др.) —
не более 0,5—2,5 км2, а у таких земледельцев, как семаи (сенои)
и яноама,— соответственно 1,0 и 3,0 км2. Более высокая плотность
населения наблюдалась на Новой Гвинее: 0,025—0,14 км2 у
наименее развитых земледельцев Восточных гор и 0,01—0,014 км2 у более
развитых земледельцев Центрального района 65.
Оседлое население жило не только более плотно, чем подвижные
охотники и собиратели, но и в более крупных общинах. Например,
у варао и асмат общины насчитывали от 25 до 60 и даже 100
человек, а у некоторых рыболовов и собирателей саго на побережье
Новой Гвинеи (корики, варопен и др.) встречались вообще самые
крупные из известных у папуасов поселки (до 500—600 и более
человек). Поселки размерами в несколько сотен человек имелись
и у некоторых рыболовов северо-западного побережья Северной
Америки. Интересно, что у варао Венесуэлы, которые лишь несколько
десятилетий назад перешли к земледелию, возросла оседлость и
увеличились размеры общин. Та же тенденция отмечается при
сравнении различных групп ранних земледельцев. У наименее развитых из
них, отличающихся высокой степенью подвижности (яноама, семаи,
ваиваи и др.)? общины невелики (от 30—40 до 100—200 человек).
Но с ростом интенсивности земледелия и упрочением оседлости
размеры общин, очевидно, росли. Tart, у горных папуасов в них
насчитывалось по 100—350 человек (от 40 до 650), а у африканских
тонга в горных местностях встречались общины по 300—400 обитателей
и в долинах — по 1500—2000.
Еще одним важным явлением, кое-где сопутствовавшим
указанным изменениям, был рост тенденции к общинной эндогамии. И у
собирателей саго, и у ряда ранних земледельцев внутриобщинные
браки составляли до 80—90%, чего у низших охотников и
собирателей никогда не встречалось. Правда, этот процесс не был
однонаправленным. По достижении определенного уровня хозяйственного
и социокультурного развития удельный вес внешних браков в ряде
случаев (например, у некоторых папуасских и африканских групп)
мог снова возрасти. Здесь важно подчеркнуть одно: в
рассматриваемых условиях оседлая община взяла на себя функцию, связанную
с физическим воспроизводством людей, которая раньше у низших
охотников и собирателей находилась в ведении племени.
И действительно, в новых условиях и роль племен, и сам их
облик со временем изменились. Если у собирателей саго и наиболее
отсталых земледельцев они еще насчитывали, за редкими
исключениями, от 150—250 до 500—600 человек, то у более развитых
земледельцев их размеры достигали 4000—5000. Там, где размеры
племен были малы, они представляли собой компактную группу и
нередко сливались с общиной, тем самым сильно отличаясь от племен
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 447
низших охотников и собирателей, состоявших из нескольких
широко разбросанных по территории общин. Подробнее о роли племен
у земледельцев будет сказано ниже. Здесь же следует упомянуть
еще только о резком сокращении размеров территорий общин,
которая у некоторых собирателей саго достигала 60—200 км2, у семаев —
45 км2, а у горных папуасов — 1,5—8,5 км2. Соответственно
уменьшались и площади племенных территорий.
Изменилось ли в новых условиях что-либо в демографической
динамике? 66 Судя по этнографическим данным, рождаемость по
сравнению с низшими охотниками и собирателями вряд ли существенна
повысилась. Она составляла 40—50% о. Коэффициент суммарной
рождаемости достигал 7—9 детей, но так как многие женщины
умирали в более молодом возрасте, эту цифру следует понизить до 5—7.
При высокой детской смертности (30% всех умерших приходилось
на возраст до 1 года, а 40—50% —на возраст до 15 лет) рост
населения в этих условиях не мог быть особенно высок, хотя, видимог
и превышал соответствующий показатель у низших охотников и
собирателей. Однако в течение столетий, а тем более тысячелетий
этот прирост мог стать весьма ощутимым. Вместе с тем и здесь у
отдельных групп могли наблюдаться значительные сдвиги в
размерах народонаселения. Это видно на примере яноама, число которых
за последние 100 лет росло со скоростью 10—30% о в год, причем
некоторые группы за это время увеличились в 5—6 раз. То же
самое происходило, очевидно, до недавнего времени у семаев и чимбу.
Однако такой высокий прирост населения не мог происходить в
течение сколько-нибудь длительного периода. В последние годы его
скорость у чимбу резко упала.
Так же как у охотников и собирателей, у ранних земледельцев
и скотоводов существовали механизмы, в той или иной степени
влиявшие на рост населения. С переходом к производящему
хозяйству пищевой рацион значительно изменился, причем, вопреки
мнению некоторых авторов, первоначально в худшую сторону. Иначе
говоря, удельный вес углеводов в пище резко повысился за счет
белков. И лишь много позже, с ростом продуктивности
скотоводческого хозяйства и появлением молочных продуктов, положение
снова улучшилось. Если исходить из предположения ряда
специалистов о наличии отрицательной связи между потреблением белков
и рождаемостью, то можно было бы видеть здесь эффективный
фактор, обусловливавший ускоренное воспроизводство детей. Однако
эта гипотеза мало изучена и справедливость ее нередко
оспаривается67. Влияние пищевого рациона можно было бы видеть в том,
что именно среди оседлых бушменов, поселившихся в поселках
банту, встречались высокие крупные многодетные матери. Но, как
отмечает Н. Хауэлл, этот факт допускает и иное объяснение:
возможно, именно такие женщины, стремившиеся к многодетности,
предпочитали селиться вместе с банту68.
Что касается объема женского труда, то он также изменился*.
448
Глава пятая
Даже у полуоседлых земледельцев количество длительных
изнурительных переходов резко сократилось, причем в первую очередь
это ощутили на себе женщины, так как мужчины продолжали
заниматься охотой и совершать далекие экспедиции с целью обмена.
Кроме того, безусловно тяжелый земледельческий труд имел ярко
выраженный сезонный характер, а самую трудоемкую работу в нем
(расчистка огородов) брали на себя мужчины. Они же освободили
женщин и от некоторых работ, например от строительства жилища.
Определенное влияние на демографическую картину оказывали и
пекоторые культурные нормы, лучше всего рассмотренные Р. Бул-
мероад на примере папуасов69. В целом эти нормы мало отличались
от тех, с которыми мы встречались выше у охотников и собирателей.
Однако было бы неверным видеть здесь тождество, так как в
типологически разных обществах эти нормы имели разный смысл и
применялись с разной степенью интенсивности.
У наиболее отсталых земледельцев и собирателей саго половая
жизнь начиналась рано. В некоторых обществах девочки вступали
в половые связи до наступления половой зрелости, что приводило
к травматизму. Были распространены и очень ранние браки: для
девочек — в 10—12 лет. У более развитых земледельцев девушки
обзаводились семьей лишь с 15—19 лет. У них же встречались
случаи, когда в девушках ценилось целемудрие и добрачные
отношения находились под запретом, что, видимо, следует ставить в
прямую связь с формированием здесь моногамной семьи.
Добрачные половые связи с девочками-подростками, как
правило, не приводили к деторождению (вероятно, из-за
неоформившегося еще организма девушек). Но в ряде обществ (например, в
Африке), где девушки вступали в брак относительно поздно, напротив,
еще до вступления в брак девушка должна была доказать свою
способность к деторождению. Девушки начинали рожать, как правило,
с 17—19 лет, и репродуктивный период длился до 39—40 лет, а кое-
где и дольше. Период наивысшей плодовитости падал на первую
половину этого срока, например у яноама он приходился на возраст
25—34 года. Таким образом, репродуктивный период здесь был на
несколько лет дольше, чем у низших охотников и собирателей.
Вместе с тем и здесь встречались бесплодные женщины,
количество которых у некоторых собирателей саго, а возможно, и
ранних земледельцев, достигало 5—10%. У яноама бесплодие
наблюдалось крайне редко. Браки у наименее развитых из групп были
весьма непрочны, однако у развитых земледельцев центральных
районов Новой Гвинеи они отличались довольно высокой
устойчивостью. Далеко не все женщины доживали до конца
репродуктивного периода — у некоторых собирателей саго на Новой Гвинее
21% женщин умирали в возрасте 20—29 лет, у яноама до 40 лет
доживало только 25% женщин, но у семаев — 45%.
Мужчины, как и прежде, вступали в первый брак на 5—10 лет
позже женщин. Так, если у варао к 19 годам замужем было уже
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 449
60% Девушек, то среди мужчин этого возраста в браке состояли
лишь 17%. В определенной степени на это влияла аналогичная
охотникам и собирателям диспропорция полов. Так, у асмат для
возрастов до 20 лет соотношение мужчин и женщин было 158:100,
а после 20 лет — 92 :100. У семаев этот индекс колебался от 120 :100
до 130:100, а у яноама — от 121:100 до 157:100. И здесь эту
ситуацию часто объясняют распространением практики убийств
новорожденных девочек. Однако, как свидетельствуют факты на Новой
Гвинее, соотношение мужчин и женщин из года в год колебалось
от 75:100 до 156:100 в одних и тех же общинах, что говорит о
случайных отклонениях, а не о какой-либо преднамеренной практике.
Определенное влияние на демографическую ситуацию оказывало
многоженство, составлявшее у папуасов от 5 до 30% браков. Как
правило, оно было связано с престижным моментом и наибольшее
распространение получало в относительно развитых обществах, где
уже начался процесс социального расслоения. Многоженцами были,
как правило, наиболее влиятельные мужчины, лидеры, которым
была выгодна многодетность, ибо она обусловливала им поддержку со
стороны широкого круга родственников, а тем самым и социальное
превосходство. Недавно было установлено, что 76% населения семи
поселков племени шаматари у яноама прямо или косвенно
происходило от единого мужского предка70. В условиях отмеченных
половых диспропорций наряду с многодетными лидерами имелось
много холостых мужчин, часть из которых была обречена на это
пожизненно.
Важным демографическим фактором служили существовавшие
кое-где запреты вдовцам и разведенным лицам вступать в новый
брак. Во многих районах Новой Гвинеи вдова должна была
оплакивать умершего супруга от нескольких недель до нескольких лет.
Так, у телефомин и сиане вдовы снова выходили замуж лишь через
три года, а у мае энга они часто вообще оставались незамужними.
Есть определенные основания связывать этот обычай с ростом
значения моногамии. В ряде районов вдов умерщвляли или же
вынуждали кончать жизнь самоубийством.
Интервал между родами составлял, как правило, 3—4 года, но
иногда он снижался и до двух лет, а в отдельных случаях возрастал
до 5—6 лет. Но в целом можно отметить тенденцию к его
сокращению, хотя и небольшому, по сравнению с низшими охотниками и
собирателями. Одним из эффективных способов, поддерживавших
этот интервал, было табу на послеродовую половую связь,
считавшуюся вредной для младенца, а кое-где и для мужа. Время действия
этого табу исчислялось по-разному: до возвращения матери к
нормальной хозяйственной деятельности, до появления второго зуба
у ребенка, до того как он начинал ходить или говорить и т. д. По
обоснованному мнению Р. Булмера, длительность табу была прямо
связана со степенью загруженности женщины домашней и
сельскохозяйственной работой. Замечено, что длительность полового воздер-
15 история первобытного общества
450
Глава пятая
жания была меньше там, где новорожденные часто умирали и где
было распространено детоубийство.
Детоубийство совершалось по тем же мотивам, что у низших
охотников и собирателей, однако роль его, по-видимому, несколько
снизилась. Высказываемое не раз мнение о широком
распространении убийства девочек (до 30%) у яноама71 не опирается на
сколько-нибудь четкие статистические данные и представляется сильно
преувеличенным72. По-видимому, основным фактором повышения
смертности среди девочек был худший уход за ними по сравнению
с мальчиками. У папуасов Новой Гвинеи и у многих других
раннеземледельческих народов детоубийство встречалось крайне редко,
что, как уже отмечалось, могло быть связано с постепенным
возрастанием хозяйственной роли детей в земледельческо-скотоводческих
обществах, т. е. фактором, отмеченным в свое время еще В. Г. Чайл-
дом. Действительно, за редкими исключениями в этих обществах,
дети составляли более 40% населения, тогда как у низших
охотников и собирателей их было, как правило, менее 40%. Кстати,
высокий процент детей является косвенным показателем молодого,
быстрорастущего населения.
Иногда для предотвращения зачатия применяли coitus interrup-
tus, использовали некоторые механические предохранительные
средства, а также средства растительного происхождения. Аборты
встречались почти повсеместно, чаще всего женщины прыгали с
высокого дерева, стягивали туго живот, клали на него горячие камни
и т. д. Кроме того, рождаемость ограничивалась половыми
воздержаниями во время различных ритуалов, регулировалась сезонным
фактором и т. д.
Коэффициент смертности оставался высоким, составляя 20—40% о.
В литературе уже не раз совершенно правильно отмечалось, что в
условиях концентрации населения в долговременных поселках роль
эпидемий и инфекций значительно возросла. И действительно, где
бы мы ни встретили оседлых собирателей и рыболовов или ранних
земледельцев и скотоводов, повсюду они жестоко страдали от
простудных и желудочно-кишечных заболеваний. С переходом к
земледелию, повлекшим за собой вырубку лесов, было, по-видимому,
связано и широкое распространение малярии, а также таких инфекций,,
как тиф, чума, холера и т. д. Соотношение этих болезней у разных
групп населения до определенной степени было связано с физико-
географическими факторами. Например, горные папуасы страдали
прежде всего от пневмонии, а равнинные — от малярии. У яноама
более половины всех смертей было вызвано действием различных
заболеваний. При этом чаще всего от них гибли женщины, что не
удивительно, так как именно они большую часть времени проводили
в поселках. Важным фактором женской смертности были, как и
прежде, частые роды в антисанитарных условиях. Большинство
мужчин погибало насильственной смертью, чаще всего во время
участившихся теперь войн (у яноама, например, 33%).
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 451
У всех ранних земледельцев отмечалось белковое голодание,
вызывавшее у детей рахит. Лишь с ростом продуктивности
скотоводства действие этого фактора начало понижаться. Как считают
некоторые исследователи, голодовки, вызванные неурожаями, имели у
ранних земледельцев более серьезные последствия, чем у низших
охотников и собирателей. Возможно, случаи голодной смерти даже
несколько участились. У семаев известны случаи, когда в голодное
время стариков оставляли умирать без всякой помощи. Рост доли
растительной пищи в рационе вел к общему ослаблению организма
и усиливал предрасположенность к болезням, а также отрицательно
•сказывался на зубной системе. У некоторых ранних земледельцев
до 10—20% населения страдало кариесом73.
Средняя продолжительность жизни у ранних земледельцев все
же, видимо, кое-где могла возрасти. У яноама она равнялась 20
годам, но средняя продолжительность предстоящей жизни лиц 15-лет-
яего возраста составляла у мужчин 20—25 лет, а у женщин —
20 лет. У семаев эти цифры достигали 16,3 и 13,3 года. До
преклонного возраста люди доживали вряд ли чаще, чем прежде.
У яноама до шестого десятка лет доживало лишь 7—10%
населения, а до седьмого — не более 1 %. То же самое было у семаев и ас-
мат, но у первых 60-летний рубеж миновали главным образом
мужчины, у вторых — женщины.
И у ранних земледельцев важным демографическим фактором
являлись миграции. Как и прежде, отдельные люди или семьи могли
менять место жительства и переселяться из одной общины в другую.
Но главным типом миграций в этот период были групповые,
общинные миграции. Общины могли переходить с места на место из-за
истощения земельных и других ресурсов, а также понеся
поражение от врага. Разросшиеся общины сегментировались, и часть их
могла уйти в другое место, образовав там новую независимую
общину. Это нередко было следствием борьбы за престиж между
влиятельными людьми, о чем будет сказано ниже.
Таким образом, в целом, судя по этнографическим данным,
демографическая ситуация у ранних земледельцев и скотоводов и
высших охотников, рыболовов и собирателей несколько улучшилась.
Однако среди новых тенденций отмечались не только
положительные (рост средней продолжительности жизни, в частности женщин,
рост рождаемости, сокращение интервала между родами и т. д.), но
и отрицательные (рост роли эпидемиологического фактора, войн и
т. д.). Поэтому картина была весьма противоречива и, кроме того,
имела существенные локальные особенности. В целом это находит
подтверждение и в палеоантропологических материалах74.
По-видимому, на первых порах переход к оседлости и/или производящему
хозяйству неблагоприятно сказывался на популяции в связи с
повышением смертности из-за болезней. По данным Л. Энджела, в
Восточном Средиземноморье средняя продолжительность жизни в этот
период снизилась на 1—4 года75. Аналогичная картина наблюдалась
15*
452 \
Глава пятая
и в некоторых районах Северной Америки76, а также в раннем
неолите в Юго-Восточной Европе, в Северной Африке, в Японии и
т. д.77
Интерпретации этих данных помогают материалы о переходе к
оседлости современных бушменов и пигмеев. У них в первый момент
и рождаемость, и интервал между родами остались прежними, а
смертность упала78. Но в данном случае на понижение смертности
повлияло улучшение медицинского обслуживания и переход к
молочному питанию. У ранних земледельцев ни того, ни другого не
было. Следовательно, с ухудшением эпидемиологической обстановки
смертность у них могла на первых порах возрасти.
Однако со временем преимущества оседлой жизни и
производящего хозяйства брали верх, и на протяжении неолита кривая
средней продолжительности жизни медленно, но неуклонно ползла
вверх. По данным А. Валлуа, по сравнению с предшествовавшими
эпохами количество лиц, миновавших сорокалетний рубеж и
доживших до глубокой старости, постепенно росло. В
раннеземледельческой Греции средняя продолжительность предстоящей жизни лиц
пятнадцатилетнего возраста достигала у мужчин 16,0 лет, а
женщин — 15,0 лет, а в Анатолии VI тыс. до н. э.— соответственно 19,3
и 14,8. Еще выше эти показатели были у ранних земледельцев
о. Крит (20,2 и 18,6) и Южной Туркмении (23,1 и 21,1). Правда,
этот процесс не был непрерывным: как мы увидим в своем месте,
и в энеолите и раннем бронзовом веке продолжительность жизни в
некоторых районах снова упала.
Палеоантропологические данные свидетельствуют и о
распространенности отмеченных выше половых диспропорций. В Чатал
Гуюке (Анатолия) соотношение мужчин и женщин составляло
среди детей 178: 100, а среди взрослых — 66: 100. Рост населения в
Чатал Гуюке отличался весьма высокими темпами (8,0%о), а
плотность населения за 800 лет возросла с 1 до 0,3 км2 на 1 человека.
В начале VI тыс. до н, э. здесь, по-видимому, обитало 5 тыс. человек.
В лесной и лесостепной зоне Восточной Европы на протяжении
мезолита и неолита многие общины вели высокоэффективное
присваивающее хозяйство, и, видимо, поэтому здесь наблюдалась весьма
благоприятная демографическая ситуация — средняя
продолжительность предстоящей жизни лиц пятнадцатилетнего возраста была
относительно высокой. Это является дополнительным объяснением того,
что, как мы видели выше, в лесостепную и особенно лесную полосы
производящее хозяйство проникало с трудом.
В целом, как показывает проведенный обзор, переход к неолиту,
в частности возникновение производящего хозяйства, повлекли за
собой некоторые демографические сдвиги. К сожалению, пока что их
не всегда можно оценить и объяснить. Однако тот факт, что, судя
по приведенным выше цифрам, темпы роста населения возросли не
менее чем в 100 раз, является впечатляющим.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 453
2. Возникновение
хозяйственно-культурных типов
Крупнейшие группировки людей, выделявшиеся в первобытности
по облику культуры в самом широком смысле, в нашей науке
принято называть хозяйственно-культурными типами (ХКТ) и истори-
ко-этнографическими областями (ИЭО). По теперь уже
классическому определению, данному М. Г. Левиным и Н. Н. Чебоксаровым,
«хозяйственно-культурные типы —это исторически сложившиеся
комплексы особенностей хозяйства и культуры, характерные для
народов, обитающих в определенных естественно-географических
условиях при определенном уровне их социально-экономического
развития» 79. В свете развернувшейся в 70-е годы дискуссии, выявившей
разные толкования категории ХКТ80, последняя требует некоторых
пояснений.
Во-первых, так как первобытное хозяйство повсюду выступало
в комплексной форме, объединяя самые разные виды хозяйственной
деятельности, ХКТ выделяется, естественно, по ведущему
направлению хозяйства. Во-вторых, именно это ведущее направление
хозяйства в определенной мере обусловливает весь образ жизни
населения, в частности такую его важнейшую характеристику, как степень
оседлости. А последняя в свою очередь существенно помогает
уточнить специфические особенности отдельных ХКТ81. В-третьих,
облик культуры определяется не только хозяйственными ориентация-
ми в целом, но и тем, как именно ведется хозяйство, какими
способами, насколько интенсивно и т. д. Именно на этой основе
производится дифференциация четырех основных групп ХКТ
(присваивающее хозяйство, мотыжное земледелие, пашенное земледелие,
кочевое скотоводство) на отдельные ХКТ.
Таким образом, проблема вычленения отдельных ХКТ не
ограничивается установлением хозяйственных различий между
обществами, а необходимо должна включать установление устойчивых
культурных комплексов, связанных с тем или иным видом хозяйства, и
анализ характера этих связей. Следовательно, если хозяйственная
система не порождает специфического, свойственного только ей
одной культурного комплекса, то нет смысла говорить и о каком бы
то ни было ХКТ. Из этого мы и будем исходить при решении такого
дискуссионного вопроса, как время появления отдельных ХКТ.
В нашей науке на этот счет существуют три точки зрения.
Наиболее ранняя из них принадлежит одному из основоположников
теории ХКТ С. П. Толстову, который считал, что первые признаки
географической дифференциации хозяйственной деятельности
человека проявились на рубеже палеолита и неолита в связи с переходом
к высшим формам присваивающего хозяйства. В этот период, писал
он, выделяются полуоседлые племена береговых рыболовов и
охотников на морского зверя, бродячих охотников и собирателей
полупустынных пространств и скалистых предгорий, охотников на круп-
454
Глава пятая
ных стадных травоядных животных, лесных охотников и
собирателей умеренной и тропической зон, полуоседлых рыболовов лесных
рек и морских побережий умеренной зоны82. По другой точке
зрения, некоторые ХКТ восходят еще к эпохе становления человека,
причем у архантропов и палеоантропов можно было наблюдать будто бы
уже несколько разных ХКТ. Однако сторонники этой точки зрения
проявляют колебания, в их работах встречается и утверждение о том,
что древнейшие ХКТ начали складываться в позднем палеолите и
мезолите83. Наконец, третья группа специалистов находит
возможным связывать становление отдельных ХКТ с эпохой разложения
первобытнообщинного строя и возникновением первого крупного
разделения труда84. Эти исследователи исходят из того, что именно
общественное разделение труда и порожденный им интенсивный
обмен создали почву для развития специализированных
хозяйственных систем, а те в свою очередь обусловили формирование
специфических комплексов культуры.
К изложенной точке зрения, по сути дела, близок С. А.
Арутюнов, но его идеи основаны на иных аргументах. По его мнению, для
эпох палеолита и мезолита либо вообще нельзя говорить о наличии
каких-либо ХКТ, либо следует реконструировать единый ХКТ
комплексных охотников и собирателей. Хотя этот ХКТ и мог
подразделяться на подтипы в зависимости от ландшафтно-климатических
зон, в целом материальная культура была достаточно едина у всех
человеческих коллективов. Кроме того, важный рубеж, наступивший
с переходом к производящему хозяйству, определялся тем, что
только теперь стало возможным совместное обитание носителей разных
хозяйственных систем в одних и тех же ландшафтно-климатических
зонах. Это и послужило мощным стимулом для развития ХКТ85.
Сколь бы несходными ни казались на первый взгляд
приведенные точки зрения, они смыкаются в том, что их авторы, делая
акцент на те или иные предпосылки формирования ХКТ, пишут в
сущности об одном и том же процессе, хотя и о разных его этапах.
Ясно ведь, что ХКТ существовали не изначально, а сложились с
формированием достаточно устойчивых хозяйственных систем и соответ-
■' ствующих культурных комплексов. Судя по археологическим
данным, несмотря на некоторую специализацию охоты, ни в мустье,
ни на протяжении большей части позднего палеолита не отмечалось
каких-либо устойчивых связей между особенностями орудийного
комплекса и характером объектов охоты или в целом спецификой
хозяйства86.
Как пишет специально изучавший этот вопрос В. П. Степанов87,
в раннюю пору позднего палеолита (24—16 тыс. лет назад) и на
Русской равнине, и в Сибири люди вели хозяйство достаточно
однообразно. Онп занимались коллективной охотой на крупных стадных
животных, причем главным объектом охоты служили то лошади, то
северные олени, то бизоны. Судя по наличию жилищ-полуземлянок,
образ жизни этих охотников был, по-видимому, полуоседлый. Юж-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 455
нее, в Крыму и на Кавказе, обитали бродячие охотники и
собиратели, которые жили более мелкими группами и нередко
использовали индивидуальные методы охоты. Облик их орудийного
комплекса был иным, но не в силу специфики местного хозяйства, а из-за
его связей с древней культурной традицией, уходящей корнями в
Переднюю Азию. Кстати, некоторые группы, обитавшие в
Северном Причерноморье, были по образу жизни близки к своим более
северным соседям, а по набору каменных орудий напоминали
жителей кцымско-кавказского ареала. В ряде районов Средней Азии
отмечался третий тип хозяйства — бродячая охота на стадных степных
животных. По материальной культуре местные охотники частично
были близки переднеазиатскому миру, а частично — сибирскому.
Гораздо ярче дифференциация первобытного хозяйства
проявилась на тех же территориях в конце позднего палеолита (16-—10 тыс.
лет назад). В центральных районах Русской равнины обитали
более или менее оседлые охотники на мамонтов, к западу от Днепра
появились бродячие охотники на северного оленя, входившие в
единый ареал с центральноевропейскими охотниками, а в приазовских
степях расселялись бродячие охотники на бизонов. В этот же
период в Сибири выделились группы бродячих охотников на северного
оленя (долина р. Енисея), бродячих охотников на мамонтов
(Якутия) и полуоседлых охотников и рыболовов (Прибайкалье).
Важно подчеркнуть, что именно в этот период как будто бы
прослеживается и формирование специфических орудийных
комплексов, связанных с той или иной хозяйственной ориентацией88.
Изменения в орудийном комплексе, соответствовавшие важным
хозяйственным сдвигам, зафиксированы в этот же период в Южном При-
каспии89. Возможно, то же самое явление наблюдалось в Северной
Америке, где на рубеже плейстоцена-голоцена более ранние
охотники на мамонтов и более поздние охотники на бизонов пользовались
разными типами метательного оружия. Но особенно показательны
в этом отношении поселки собирателей диких хлебных злаков,
возникшие в самом конце позднего палеолита в Верхнем Египте.
Несмотря на связь их обитателей с разными археологическими
культурами, все они давали настолько своеобразный и представительный
комплекс орудий для сбора и обработки зерна, что могут
трактоваться как один из наиболее ранних примеров ХКТ более или менее
специализированных собирателей90.
Не умножая археологических примеров подобного рода,
обратимся к их интерпретации по этнографическим материалам.
Наибольший интерес в этом отношении вызывает огромный Австралийский
континент, дающий уникальную возможность проследить
особенности приспособления сильно отставших в своем развитии групп
аборигенов, занимавшихся присваивающими отраслями хозяйства, к
чрезвычайно разнообразной природной среде. В целом по
особенностям хозяйства общества австралийских аборигенов группируются
следующим образом: 1) охотники и собиратели пустынь, полупустынь
456
Глава пятая
и горных районов; 2) охотники, собиратели и отчасти рыболовы
степей и саванны; 3) охотники и собиратели тропических лесов
Северо-Восточной Австралии; 4) речные охотники, рыболовы и
собиратели; 5) прибрежные рыболовы, собиратели и охотники91. Различия
в хозяйственной ориентации и особенностях среды обитания,
естественно, накладывали отпечаток на культурный облик каждой из
этих групп. Последние различались по сезонному хозяйственному
циклу, соотношению разных хозяйственных направлений, степени
оседлости, плотности населения, некоторым чертам материальной
культуры и т. п. Но в целом, как единодушно отмечают специалисты-
австраловеды, у аборигенов сложился единый культурный
комплекс, связанный со сходным в своей принципиальной основе
образом жизни. Отсутствовала и сколько-нибудь ярко выраженная
региональная специализация, вследствие чего здесь почти нигде не
наблюдалось свойственного более развитым народам обмена
пищевыми ресурсами.
По-видимому, ко времени европейской колонизации ХКТ в
Австралии находились в процессе формирования. В ряде мест, и прежде
всего в богатых рыбой речных и прибрежных районах, отмечалась
тенденция к специализации хозяйства. Здесь складывался
специфический пищевой рацион, и люди позволяли себе игнорировать
часть имевшихся под рукой съедобных ресурсов. Некоторые местные
группы, хотя и вели бродячий образ жизни, передвигались только
вдоль побережья, и сезонные отличия в их хозяйстве сводились к
минимуму. Отдельные коллективы северного побережья перешли
к охоте на дюгоней, позаимствовав соответствующую технику у
населения Новой Гвинеи. Однако для большинства прибрежных групп
охота на морского зверя была непосильной задачей, и они лишь
изредка питались мясом выброшенных на берег китов. Многие из
прибрежных и речных групп использовали рыбные угодья лишь
в определенные сезоны года, а в другое время уходили в степи и
саванны, где занимались охотой и собирательством. Плотность
населения и степень оседлости на побережье были значительно выше,
чем во внутренних районах, но даже здесь никаких прочных жилищ
не было. При всей вариативности конструкция жилища у
австралийских аборигенов сводилась к нескольким типам. В основном это
ветровые заслоны, платформы из жердей, круглые полусферические
наземные жилища и стоянки под скальными выступами.
Какой-нибудь связи этих типов с особыми хозяйственными системами не
прослежено.
Степи и саванны представляли собой другой район, где также
отмечалась тенденция к формированию специализированного
хозяйства. Некоторые группы аборигенов занимались здесь интенсивным
собирательством съедобных зерен. При этом они выработали особую
технику для сбора и обработки растительной пищи, у них
наблюдались зачатки ирригации и зарождение техники хранения зерна.
И рыболовы, и собиратели урожая обладали более разнообразной
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 457
материальной культурой, чем соседние охотники и собиратели. Но
эти различия имели в основном количественный характер. В целом
материальная культура была малоспециализированной, многие
орудия и приспособления (копья, копьеметалки, сети, изгороди и пр.)
отличались многофункциональностью и использовались равным
образом и в охоте, и в рыболовстве. Часто различались даже не столько
сами орудия, сколько методы их использования и вообще способы
ведория хозяйства. Но это зависело нередко не столько от
культурных традиций, сколько от сезона года, характера добычи, от
состояния воды в реке, от погоды и т. д. Отдельные виды материальной
культуры без труда заимствовались и проникали из одной
хозяйственной зоны в другую. Поэтому, как уже давно показали австрало-
веды, картографирование различных предметов материальной
культуры давало в Австралии картину многочисленных частично
накладывавшихся друг на друга ареалов и не позволяло вычленять какие-
либо устойчивые комплексы.
У некоторых народов Земли зафиксированы этнонимы,
включающие характеристику определенных специфических черт ХКТ92.
Внешне аналогичные этнонимы встречались и у аборигенов
Австралии93. Но здесь они увязывались не с ХКТ, а с формами
хозяйствования или с ландшафтными особенностями мест обитания.
Например, одно из племен Квинсленда включало шесть общин, носивших
названия по отличительным особенностям тех территорий, где они
жили большую часть года: жители песков (т. е. прибрежные
жители), люди плоских скал (в верховьях р. Малгрейв), горные люди,
жители плоскогорья, лесные обитатели, население степи. В каждой
из общин наблюдались свои особенности в соотношении разных
видов хозяйственной деятельности и в сезонном хозяйственном цикле.
Однако по мере необходимости одни из общин посещали территории
других, временно перенося туда центр своей хозяйственной
активности, и каких-либо резких отличий в культуре между общинами
не было94. То же самое наблюдалось и в том случае, когда
вышеуказанные этнонимы относились к целым группам племен.
Таким образом, как нам представляется, картина формирования
отдельных ХКТ в конце позднего палеолита и в мезолите по своим
общим закономерностям должна была напоминать ту, которая
наблюдалась в Австралии накануне колонизации. ХКТ — сложное
явление. Для того чтобы оно стало реальностью, необходима как
определенная степень дифференциации первобытного хозяйства, так и
соответствующая ей дифференциация первобытной культуры. И то,
и другое возникло далеко не сразу. Вот почему кажется неверным
реконструировать какие бы то ни было ХКТ для эпохи антропосо-
циогенеза. Даже окончательно сформировавшись, люди еще долго
должны были вести недифференцированное простейшее охотничье-
собирательское хозяйство, которое было направлено на
использование всех доступных природных ресурсов. А в условиях отсталой
техники доступно было очень немногое, главным образом разнообраз-
458
Глава пятая
ные съедобные растения и стадные животные, многочисленность
которых допускала ведение охоты простейшими средствами. Кроме
того, свойственные многим палеолитическим группам дальние
передвижения, а также существенные климатические колебания,
примитивная техника препятствовали формированию какой бы то ни было
хозяйственной специализации. В этих условиях ведение
нормального образа жизни требовало быстрой реакции на любое изменение
внешней среды, и этому способствовал комплекс
неспециализированных методов и орудий хозяйствования, пригодных для самых разных
видов охоты и собирательства.
Другим фактором, замедлявшим развитие, был консерватизм
культурной традиции, которая, будучи однажды выработана предками,
свято береглась потомками и почти без изменений переносилась в
новую природную обстановку. Возможно, этим и объясняется
сходство отдельных широко разбросанных в пространстве памятников
ашельского и мустьерского времени и, напротив, чересполосное
обитание разнокультурных общин, ведущих сходное хозяйство в единой
природной среде, характерное для этих эпох95. Напротив, как
единодушно отмечают все исследователи, в позднем палеолите
наблюдалась тенденция к нивелированию культуры на широких
пространствах. Это означало существенный сдвиг к более адекватному
приспособлению к окружающей природной среде, чему способствовали
растущее взаимопонимание и контакты между общинами,
обитавшими в единой ландщафтно-климатической обстановке и ведущими в
целом сходное хозяйство. Однако процесс этот развивался
медленно, и существенным рубежом на его пути стало формирование
специализированных хозяйственных комплексов в конце позднего
палеолита, когда наряду с охотой кое-где возникло усложненное
собирательство и появилось рыболовство. Вот к этой-то эпохе, видимо,
и восходят своими корнями древнейшие ХКТ.
Кульминационным пунктом отмеченного процесса стала эпоха
мезолита, когда на основе неизмеримо возросших производительных
сил появилась реальная возможность для нового этапа развития
первобытного хозяйства, уже не столько вширь, сколько вглубь.
Именно в этот период во многих местах земного шара огромные
культурные ареалы начали дробиться, и многие человеческие коллективы
в своей жизнедеятельности оказались надолго связанными с
довольно узкими областями, осваивая их ресурсы полнее, чем прежде96.
Так создавались предпосылки для сложения целого ряда
специализированных хозяйственных систем, в том числе и основанных на
земледелии и скотоводстве, вызревала почва для первого крупного
общественного разделения труда. В то же время сопутствовавший
общественному разделению труда обмен создавал определенные
внешние стимулы для дальнейшей специализации хозяйственной
деятельности у отдельных групп населения. Эти процессы
зародились в мезолите, а расцвет их падает на эпоху неолита.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 459
На протяжении мезолита и особенно неолита сложилось
большинство ХКТ, доживших кое-где до настоящего времени: охотники и
собиратели лесов жаркого пояса, охотники и собиратели степей и
полупустынь, собиратели урожая в степях и болотистых лесостепях,
собиратели и рыболовы побережий умеренного и жаркого поясов,
рыболовы и кое-где охотники на морского зверя на крупных реках
и морских побережьях, охотники и рыболовы таежной зоны,
арктические охотники на морского зверя, палочно-мотыжные
земледельцы (выращивавшие зерновые и/или клубнеплоды), земледельцы
и скотоводы и т. д.
ХКТ, имеющие дискретное распространение, не следует
смешивать с ИЭО, всегда привязанными к строго определенным
территориям. ИЭО — «это территория, на которой в результате длительных
связей, взаимного влияния и общности исторических судеб народов,
населяющих эту территорию, сложилась определенная культурная
общность» 97. Хотя теоретически ИЭО может включать народы,
живущие в несколько различающихся природных условиях и
обладающие несходными хозяйственными системами, на практике в
первобытности ИЭО чаще всего возникали на базе единого ХКТ,
открывавшего возможность для взаимопонимания, интенсивных
контактов и обоюдных заимствований. Это создает объективную основу
для ошибочного отождествления ХКТ и ИЭО, и такая ошибка
долгое время присутствовала в работах американских исследователей —
представителей исторической школы (К. Уисслер, А. Кребер и др.) 98.
В последние годы ее повторил Д. Л. Кларк". Он называет
крупнейшую группировку населения по культуре технокомплексом,
определяя его как единство, возникшее на основе сходного хозяйства π
технологии в сходной природной среде. В то же время
реконструируемые им технокомплексы строго привязаны к отдельным
протяженным ареалам, внутри которых осуществляются широкие
контакты и заимствования. Следовательно, под технокомплексами Д.
Кларка надо понимать все же крупные ИЭО, сложившиеся на базе
единых ХКТ. В то же время Д. Л. Кларк допускает, что
технокомплексы, расположенные на разных отрезках пространственно-временной
шкалы, могут обладать некоторыми сходствами, в чем следует видеть
проявление определенных закономерностей. Однако он не решается
разрабатывать эту плодотворную идею глубже, так и останавливаясь
на пороге открытия ХКТ.
Понятие ИЭО представляется чрезвычайно плодотворным для
изучения древних этнических процессов, так как именно в рамках
ИЭО создавались оптимальные услория для развития интенсивных
контактов между отдельными человеческими коллективами. И эти
контакты в зависимости от своего характера обусловливали и
многообразие форм этнических процессов: в одних случаях происходил
широкий культурный обмен, на основе сходного образа жизни
устанавливалось тесное взаимопонимание и этнические различия посте-
460
Глава пятая
пенно исчезали. По-видимому, именно так надо трактовать такие
археологические общности, как культуры линейно-ленточной
керамики, шнуровой керамики и боевых топоров, андроновская и т. д.
В других случаях в обстановке этнической стратификации
этнические различия, напротив, усугублялись и вели к становлению ярко
выраженных этносов, но и это не мешало культурному обмену.
Первое происходило, как правило, в рамках единого ХКТ или в эпоху
до возникновения ХКТ, а второе — в условиях контактов отдельных
групп населения, представлявших разные ХКТ и нередко
различавшихся по уровню развития.
3. Этнокультурные процессы
Этническая ситуация в эпоху раннепервобытной общины.
Отмеченные выше особенности демографической и
хозяйственно-культурной картины в первобытности определенным образом влияли и на
этническую ситуацию, которая отличалась большим своеобразием.
Глубокое изучение этнической структуры в первобытности началось
лишь в последние десятилетия, и основные достижения в этой области
связаны главным образом с теоретическими работами советских
исследователей по проблемам этноса в целом. Благодаря последним
был выявлен комплекс объективных и субъективных предпосылок
формирования этносов, проведен детальный анализ соотношения
этих факторов, намечена иерархия этнических категорий, создана
типология этнических процессов и т. д.
Многие из отмеченных теоретических разработок пригодны, в
частности, для изучения этнической ситуации в первобытности. Так,
мы безусловно будем пользоваться тем определением этноса,,
которое сформулировано в работах Ю. В. Бромлея и нашло поддержку
у большинства советских исследователей. «Этнос в узком смысле
слова в самой общей форме может быть определен как исторически
сложившаяся совокупность людей, обладающих общими
относительно стабильными особенностями культуры (в том числе и языка) и
психики, а также сознанием своего единства и отличия от других
таких же образований» 10°. Не менее важным для нас представляется
и введенное Η. Η. Чебоксаровым разграничение, по которому
следует отделять такие предпосылки формирования этноса, как общая
территория, единство социально-экономической жизни, сходство
культуры и языка, от возникшего на их основе вторичного
фактора — этнического самосознания. Но, подчеркивал Н. Н. Чебоксаров,
именно этот вторичный фактор являлся в конечном счете решающим
при определении принадлежности к тому или иному этносу101.
Специфическим для первобытности являлся тот факт, что
этническая общность до определенной степени сопрягалась с популяци-
онной, чему служили особые брачные системы. Если, по мнению
большинства исследователей, без этнического самосознания этноса
не существовало, то культурное единство, напротив, могло существо-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 461
вать, и не будучи осознано носителями культуры. Это происходило,
во-первых, в период становления отдельных этносов, а, во-вторых, на
уровне надэтнических образований. Последнее отличало этнос от
более крупной этнической общности. Выдвинутое Ю. В. Бромлеем
разграничение этникоса и ЭСО представляется существенным для
поздних этапоз развития первобытного общества. В ранний период,
когда системы власти находились еще в эмбриональном состоянии,
а степень этнической консолидации была невелика, о каком бы то
ни было этносоциальном организме, отличном от этникоса, говорить
не приходится.
До недавнего времени этнос раннего первобытного общества у нас
было принято вслед за С. А. Токаревым 102 отождествлять с
племенем, опираясь прежде всего на австраловедческие исследования103.
Несколько иную позицию заняли Η. Η. Чебоксаров и С. А.
Арутюнов, предлагавшие связывать этнос у австралийских аборигенов не
с отдельными племенами, а с группами родственных племен,
говоривших на диалектах одного языка. Для этих групп племен
указанные авторы ввели термин «соплеменность» 104. Сразу же отметим,
что, если культурно-языковая специфика была действительно в ряде
случаев свойственна как племени, так и группе племен, то в
ранний период наличие последней почти никогда не осознавалось
людьми. Следовательно, исходя из признака самосознания, племя, хотя
и не всегда, могло считаться этносом, а группу племен правильнее
рассматривать в качестве этнической общности более высокого
ранга.
Дискуссионность проблемы раннепервобытного этноса еще более
возросла в последние годы в связи с углубленным анализом
племенной ситуации у австралийских аборигенов и у многих других групп
охотников и собирателей. Новые исследования определили некоторый
отход от традиционных взглядов, и в последние годы все более
крепнет убеждение в том, что в этих условиях этносы находились в
стадии формирования или же что здесь мы встречаемся с «предэтниче-
скими общностями» 105. Основываясь на этих работах, можно,
казалось бы, возводить время возникновения настоящих этносов к эпохе
мезолита, но никак не раньше. А между тем отдельные авторы
считают возможным говорить об этносах или этнических общностях
в позднем палеолите или даже в среднем и раннем палеолите106.
В особенности эта тенденция характерна для работ археологов, хотя
и среди них находятся авторы, выступающие с критикой такого
подхода107.
Таким образом, сколько-нибудь устоявшейся точки зрения на
проблему первобытного этноса в нашей науке сейчас нет, и это,
очевидно, связано как с неразработанностью многих вопросов, в том
числе и теоретических, так и с различными подходами у разных
авторов, а также со спецификой источников, которыми они
пользуются. Подобная ситуация отразилась и на страницах настоящего
издания, в котором в главе III отстаивается традиционный подход.
462
Глава пятая
Этнографические материалы свидетельствуют о довольно
многообразной этнической картине у низших охотников и собирателей.
Все же в ней можно вычленить и нечто общее, характерное для всех
них. Повсюду в основе общественной консолидации лежало
социально-экономическое единство, то, что специалисты часто называют
общностью экономической жизни. Однако поддерживающие его
механизмы отличались в классической первобытности большим
своеобразием. Они были связаны не с интенсивным развитием четкой
экономической структуры, специализацией ее отдельных звеньев,
хорошо налаженным регулярным обменом и единым механизмом
распределения и перераспределения общественного продукта, а с
совершенно иными отношениями, призванными создавать для
отдельных общин условия, благоприятствовавшие нормальной
жизнедеятельности и облегчавшие преодоление хозяйственных и
социальных кризисов. Эти механизмы покоились на широкой социальной
сети, основанной на партнерстве, дарообмене, родственных
связях и пр.
Действительно, в стабильной обстановке, гарантирующей общине
удовлетворительное пропитание, она вполне могла сама обеспечивать
свои хозяйственные запросы. Однако, если такая стабильная
обстановка и наблюдалась, то лишь на протяжении коротких
промежутков времени. В условиях сезонных природных колебаний, нередких
стихийных бедствий, постоянных изменений демографической
ситуации и т. д. община не могла выжить, не вступая в контакт с
соседними общинами, не опираясь на их поддержку и помощь.
Потребность в таких контактах вызывалась необходимостью использования
соседних богатых пищей природных угодий в случае голода,
пополнения резко уменьшившейся в численности общины новыми
адоптированными членами, ведения сезонных коллективных охот и т. д»
Кроме того, для снижения социальной напряженности в общине
отдельные ее члены должны были время от времени менять свою
общинную принадлежность.
Однако мирные, дружественные отношения между общинами, без
которых взаимопомощь была невозможной, могли строиться в
первобытности только на основе родства. Поэтому важнейшей основой
и гарантом прочности этих отношений служили межобщинные
браки. И в то же время, однажды возникнув, они уже в свою очередь
требовали дальнейшего укрепления межобщинных контактов.
Следовательно, социально-экономическая общность в ранней
первобытности в идеале совпадала и с общностью брачного круга. Этот факт
уже не раз отмечался исследователями, либо отождествлявшими
племя низших охотников и собирателей с малой популяцией, либо
фиксировавшими наличие в нем такой тенденции108.
В зависимости от сезона года описанная группа общин то
распадалась на более мелкие коллективы, то вновь объединялась. В
периоды временных объединений членов такого сообщества
действовали определенные механизмы, направленные на их сплочение: ор-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 463
ганизовывались коллективные охоты, праздники, церемонии,
осуществлялся дарообмен, заключались новые браки и т. д. В условиях
крайне низкого развития культуры охотников и собирателей
упомянутые крупные сборища могли происходить только в наиболее
благоприятные сезоны года в районах с обильными пищевыми
ресурсами. Ясно, что в разных природно-климатических поясах при
разной технической оснащенности населения длительность таких
сборищ могла быть разной. И действительно, в гипераридных
условиях австралийских пустынь она колебалась от нескольких дней до
нескольких недель, а у некоторых прибрежных эскимосских групп
достигала нескольких месяцев. Поэтому в районах таких сборищ в
Австралии не строили никаких прочных жилищ, а у эскимосов на
долговременных зимних стоянках такие жилища встречались.
Этот факт интересен тем, что помогает интерпретировать
крупные позднепалеолитические жилища Европы как аналогичные
сезонные предположительно зимние пристанища более или менее
крупных групп, которые в другое время года распадались на
составные части. Существенно и другое. У эскимосов, которые жили
в зимних поселках, кое-где отмечалось возникновение временной
сезонной централизованной власти, а следовательно, становление со-
циально-потестарной организации, совершенно не характерной ни
для бушменов, ни для австралийских аборигенов. Этот фактор также
имел важное значение для этнической консолидации, которая у
некоторых групп эскимосов зашла дальше, чем у аборигенов
Австралии. Возможно, то же самое наблюдалось у отдельных более или
менее оседлых групп позднепалеолитических охотников.
В целом для описанных сообществ, в рамках которых
завязывались интенсивные связи, отмечалась тенденция к выработке единого
языка или диалекта или единой культуры. Однако это была именно
тенденция, так как такое объединение имело открытый характер и
не отличалось особой прочностью. Если не имелось сколько-нибудь
серьезных географических барьеров, то его территориальные и
социальные границы не были жесткими. Напротив, они были легко
проницаемы и для культуры, и для языка. У западных шошонов
и алакалуфов, например, то и дело происходили перегруппировки
мелких родственных коллективов, и. их объединения имели каждый
раз иной состав. У австралийских аборигенов в периодических
сборищах участвовали общины, принадлежавшие к разным племенам.
Как теоретически обосновали В. Ф. Генинг и Г. Уобст109, и это
подтверждается массовыми этнографическими материалами110, в
обстановке малой плотности населения и высокой подвижности
мелких общин при отсутствии какого-либо транспорта каждая община
имела свою систему брачных связей и находилась в центре своей
собственной социальной сети. В результате создавались цепи таких
брачных объединений, частично перекрывавших друг друга. Г. Уобст
и некоторые другие авторы полагают, что такая картина наблюдалась
лишь до начала позднего палеолита, на протяжении которого рассмат-
464
Глава пятая
риваемые объединения общин стали более строго очерченными.
Однако наличие описанной им ситуации у некоторых современных
охотников и собирателей свидетельствует о том, что они могли
существовать в истории несравненно дольше.
Это не означает, конечно, полной неизменности социальной
структуры в некоторых населенных охотниками и собирателями регионах
на протяжении всей многотысячелетней истории человечества. С
одной стороны, как справедливо подчеркнул С. А. Арутюнов, в
отдельных областях в течение позднего палеолита могли создаваться более
сплоченные, более устойчивые коллективы, которые в мезолите
распались и картина вновь приобрела прежний облик ш. Однако теперь
она имела уже вторичный характер. Но с другой стороны, во многих
регионах мира с переходом к мезолиту наблюдалась прямо
противоположная картина эволюции: мелкие бродячие общины постепенно
переходили к оседлости и разрастались. И все же степень этих
изменений остается не вполне ясной. Возникали ли в классической
первобытности настоящие этносы с четким этническим самосознанием или
изменения происходили в рамках описанных выше диффузных групп,
границы которых все же не обретали достаточной для возникновения
настоящих этносов устойчивости?
Трудно окончательно ответить на этот вопрос, так как
необходимая для этого источниковедческая база остается весьма узкой, а
методика обработки источников оставляет желать лучшего. Казалось бы,
прочной опорой для нас здесь могут служить вычленяемые
археологами теперь уже не только для позднего, но и для среднего и даже
раннего палеолита локальные варианты культуры. И некоторые
авторы действительно пытаются видеть в них доказательство едва ли
не изначальной этнической дробности человечества. Между тем и
само выделение таких археологических культур, и их интерпретация
представляют собой далеко не решенную проблему112.
В частности, есть археологические культуры, которые
приурочиваются, безусловно, к отдельным общинам. Однако, как показано
выше, изолированные общины отсталых охотников и собирателей
не имели шансов выжить и должны были контактировать друг с
другом. Кстати, свидетельства таких контактов в виде
«экзотических» вещей (раковины, редкие виды сырья и т. д.) археологам
давно известны. Следовательно, по одной только этой причине было бы
ошибочным видеть в археологических культурах палеолита
воплощение деятельности отдельных изолированных этносов. Ведь
общины аборигенов Австралии тоже до некоторой степени отличались
друг от друга по культуре, а между тем они всегда входили в более
крупные социальные общности.
Кроме того, многое в вычленении самих археологических культур
зависит от принятой методики. В настоящее время главным
критерием считается комплекс каменных орудий особого облика. Между
тем, как свидетельствуют те же археологические данные,
распространение типов жилищ нередко имело иные границы, чем указанные
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 465
комплексы, а отдельные типы орудий могли встречаться сразу в
нескольких разных комплексах. Аналогичная картина наблюдалась и
в аборигенной Австралии, и это только доказывает диффузность и
неопределенность культурных границ, вообще характерную для
отсталых охотников и собирателей.
Ясно, что в этих условиях не могло возникать сколько-нибудь
четких этнических границ. Напротив, они способствовали развитию
клинальной изменчивости и сопутствовавшей ей этнической
непрерывности. По мнению некоторых авторов, культурные различия,
появившиеся, безусловно, чрезвычайно рано, сами по себе
порождали этническое чувство и, таким образом, влекли за собой
становление этносов. Между тем связи здесь были не столь уж
прямолинейны. Культурные и языковые различия, конечно, очень рано стали
объективными реалиями, однако в разных ситуациях люди
придавали им разное значение, руководствуясь прежде всего
стремлением расширить свою социальную сеть. Вот почему в классической
первобытности в ряде районов, где культурные и языковые границы
не подкреплялись физико-географическим фактором, существенна
ослаблявшим интенсивность контактов, они были выражены весьма
нечетко. У некоторых групп охотников и собирателей языковой
критерий и до сих пор не является строгим этническим индикатором.
Люди не только без большого труда и с большой охотой учили
языки соседей (а для охотников и собирателей многоязычие являлось
едва ли не универсальной чертой), но иногда даже полностью
переходили на чужой язык пз.
Культурно-языковая общность порождала ярко выраженное
чувство этноцентризма лишь в том случае, когда в результате далекой
миграции группа входила в соприкосновение с коллективами,
обладавшими совершенно иными культурными традициями. В
результате между малоизвестными друг другу общинами могла возникать
напряженность и даже враждебность с сопутствовавшим им четким
противопоставлением себя чужакам по оппозиции «мы —они».
Но так как эти группы вели сходный образ жизни в сходных
природных условиях и не сильно отличались уровнем развития, то со
временем между ними начинался культурный обмен, отражавший
их взаимное стремление включить друг друга в свою социальную
сеть. При этом культурные различия постепенно сглаживались.
Дольше всего они, вероятно, держались в сознании людей, но
сознание охотников и собирателей не отличалось большой исторической
глубиной, и рано или поздно совершался возврат к прежней
картине. Поэтому смена этнической принадлежности и процессы
этнического смешения происходили у охотников и собирателей без боль-
v шого труда.
Иначе говоря, на основе культурного и языкового обмена в
классической первобытности в крупных ареалах, однородных по уровню
развития и хозяйственным системам, создавалась так называемая
этническая непрерывность. Ей соответствовало и диффузное груп-
466
Глава пятая
повое самосознание: члены разных общин могли представлять себе
границы более крупных объединений по-разному. Например, в
Кимберли аборигены считали соседние группы, сходные по языку и
культуре, близкородственными и называли их «дьянду». Для всех
других групп у них имелся термин «нгаи», означавший «чужаки,
враги». Контакты с нгаи происходили много реже, чем с дьянду.
Они, как правило, осуществлялись на межплеменных сборищах.
Вместе с тем отношение к нгаи было дифференцированным. Тех из
них, кто жил по соседству и с кем контакты имелись, аборигены
считали «бин», т. е. людьми по своему физическому облику. Что же
касается населения, жившего вдалеке, то аборигены сомневались
в его принадлежности к разряду людей. Ясно, что понятие
«дьянду» было относительным: какую бы общину мы ни взяли, все
непосредственно окружавшее ее население рассматривалось как дьянду,
а все жившее в отдалении — как нгаи114.
Своеобразием этнической картины классической первобытности
было то, что этнические связи воспринимались и осознавались
людьми как родственные. Уже А. М. Золотарев отмечал, что первой
формой группового самосознания было сознание родства по крови и по
браку, причем эти два вида родства не различались, равно как
фактическое родство не обособлялось от фиктивного115. Кроме этого,
концепция родства сливалась с идеей общности исторических судеб.
Впрочем, охотники и собиратели еще не овладели идеей историзма,
и их сознание, как уже говорилось, не отличалось большой
временной глубиной. Поэтому концепция родства отражалась в нем не
столько в виде представления о единстве происхождения, т. е.
вертикального родства (такая идея, хотя и встречалась, имела
подчиненное значение), сколько как единство людей в настоящем
времени, т. е. горизонтальное родство. Вот почему у охотников и
собирателей огромное распространение получили фиктивное родство,
обычай адопции и т. д. Перед идеей родства все другие критерии
этноса, являвшиеся важными разграничительными вехами в
последующие эпохи, отступали на второй план. В этих условиях не
могло появиться какого-либо этнического чувства, отличавшегося от
родственного. Поэтому и этнические названия, т. е. самоназвания
групп, не имели большого значения и могли время от времени
меняться: люди воспринимали название, данное им соседями,
принимали новое название при переселении в другое место и т. д.
Описанные брачные сообщества, которые не имели четких
культурно-языковых границ и отличались диффузным самосознанием,
еще не могли считаться этносами в полном смысле этого слова,
хотя они обладали некоторыми этническими чертами и при
определенных условиях были способны превращаться в этносы. Однако
такие условия в основном начали возникать лишь в последующий
исторический период в обстановке этнической стратификации. Вот
почему указанные сообщества правильнее именовать протоэтносами.
Отдельные протоэтносы обычно объединялись в более крупные куль-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 467
турные и лингвистические блоки. В австраловедческой литературе·
их иногда называли «нациями». Они встречались и у других
охотников и собирателей и обычно получали от исследователей названия
по характерным для них языкам. Как правило, внутри таких
объединений также отмечалась тенденция к единству многих форм
культуры, а их члены говорили на диалектах одного языка. И
именно внутри них в первую очередь реализовывалась этнокультурная
непрерывность. Однако входящие в них люди никогда не
представляли себе их рамок полностью и если и обладали единым
самосознанием, то весьма слабым. Вот почему эти крупные этносоциальные
образования лучше называть протометаэтническими общностями, на
не этносами. Их пространственные границы, как правило,
устанавливались естественным образом по водоразделам или другим
серьезным физико-географическим рубежам, а территории совпадали с
определенными ландшафтно-климатическими зонами.
Отдельные общины охотников и собирателей не являлись и не
могли являться этническими единицами какого бы то ни было
уровня этнической иерархии в силу своего гетерогенного состава. Лишь
родовое ядро общины отличалось большим или меньшим
постоянством. Оно-то и служило хранителем и передатчиком общинных
традиций, в нем и реализовывалась культурная преемственность.
Поэтому, если в обществе охотников и собирателей и имелась какая-
либо микроэтническая единица, более мелкая, чем протоэтнос, то
ею, несомненно, следует считать не общину, а ее родовое ядро116.
Приведенной этнической иерархии кое-где соответствовали и три
уровня группового самосознания. Так, аборигены-питьяндьяра
признавали всю территорию расселения питьяндьяра «своей страной»
в отличие от страны соседних аранда и др. Они сознавали и свою
принадлежность к отдельным общинам. Но в большинстве случаев,
отвечая на вопрос о своей принадлежности, люди указывали на
географический район обитания нескольких общин, которые,
по-видимому, и составляли группу интенсивного общения, или протоэтнос,
по нашей терминологии117.
Протоэтнические структуры отличались от этнических, видимо,
не столько качественно, сколько количественно, т. е. их границы
были менее резкими, а отдельные объективные характеристики
(язык, элементы культуры) увязывались с ними гораздо менее
четко, чему и соответствовало диффузное групповое самосознание·
Древнейшее языковое состояние. Все отмеченные выше
специфические особенности этнического и хозяйственно-культурного
членения первобытного человечества существенно влияли на характер
этногенеза в древнейшую эноху. В частности, их надо учитывать
при реконструкции языковых процессов в первобытности. В
настоящее время прямое эволюционистское отождествление древнейших
этнических процессов лишь с бесконечной сегментацией постоянна
разрастающихся отдельных коллективов представляется
односторонним. То же самое относится и к популярной в XIX в. концепции
468
Глава пятая
праязыка, который понимался как монолитный стабильный
гомогенный комплекс языковых явлений, время от времени распадавшийся
на отдельные группы и подгруппы (А. Шлейхер, младограмматики).
В XX в. сложилось иное понимание языка как цепи меняющихся
во времени и пространстве диалектов, находившихся в постоянном
контакте друг с другом. С этой точки зрения и праязык трактуется
более гибко как некое «языковое множество в сильно сошедшемся
состоянии» или, иначе говоря, «праязыковое состояние» с
характерной для него существенной вариативностью 118.
В отдельных районах в древности языковая картина могла
представлять собой отдельные радиально расходившиеся диалекты
или же в других случаях — несколько контактировавших друг с
другом языков (языковой союз). Эти языки, или диалекты, независимо
от характера своих генетических связей, но под воздействием
определенных социальных факторов взаимно обогащали друг друга,
обменивались всевозможными лексическими формами и могли на
этой основе сближаться. В условиях миграции группы в иноязычную
среду возникала одна из следующих возможных ситуаций: либо
побеждал и становился языком-основой язык пришлого населения,
либо победителем был язык аборигенов, либо языки сохраняли
свою основу, но оказывали сильное влияние друг на друга, причем
последнее могло сказываться и в лексике, и в фонетике, и в
грамматике в разной степени в зависимости от конкретной ситуации.
При взаимодействии двух или нескольких существовавших в
контакте и взаимовлияющих языков возникало, как теперь принято
говорить, не «родство», а «сродство» языков (теория языковых
союзов). В описанных условиях, наблюдавшихся в течение достаточно
длительного' времени, формировались параллели, зафиксированные
в таких языках, как нивхский и алтайские, китайский и тайские,
каренский и аустроазиатские и т. д. Одним из ярких примеров
служит также центральноазиатский языковой союз119. Следует иметь в
виду, что на протяжении многотысячелетней истории отдельных
языков они могли так или иначе участвовать во всех названных
процессах.
Другим фактом, не укладывающимся в шлейхеровскую
концепцию праязыка, было встречавшееся порой резкое дробление
исходной языковой общности и постепенное расширение ее ареала при
длительном сохранении непрерывного диалектного континиума и
взаимодействия соседних диалектов. Такая картина была
характерна, например, для ареала финно-угорских языков.
Таким образом, неустойчивость этнических и языковых границ,
нетождественность языковой общности этносу, безусловное
членение языка на диалекты, динамическая картина контактов языков и
диалектов, наличие процессов не только дивергенции, но и
конвергенции языков — все это сильно затрудняет поиск каких-то узких
прародин для отдельных языков или семей, а также реконструкцию
каких-либо изолированных гомогенных праязыков. Это же усложня-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 469
ет и задачи компаративистики. В результате, несмотря на
разрабатываемые лингвистами весьма изощренные приемы реконструкции
древних праязыковых состояний и контактных общностей, многое
в этой области остается до сих пор неясным и спорным. В
частности, лингвистические гипотезы пока что еще весьма слабо
увязываются с археологическими построениями. Поэтому приводимые
ниже реконструкции отражают прежде всего современный уровень
развития компаративистики и должны рассматриваться не более
чем рабочие гипотезы.
При всем критическом отношении к концепциям лингвистов
XIX в., как считает большинство советских ученых, не
оправдывают себя и полный безоговорочный отказ от концепции
«родословного дерева», и увлечение «антигенеалогическими» моделями истории
развития языков, как и теориями «смешения» языков (Г. Шухардт,
итальянские неолингвисты). С этой точки зрения особое внимание
уделяется четкому различению генетических, типологических и
^реальных классификаций языков мира 120.
Все же представляется бесспорным, что языковая картина в
доклассовом обществе при отсутствии не только письменности и,
следовательно, стимулирующих интеграцию развитых литературных
языков, но и каких-либо доминирующих диалектов отличалась
большим своеобразием. Поэтому не удивительно, что работающие с
языками бесписьменных народов Африки, Азии и Америки специалисты
нередко сталкивались с картиной, далекой от той, которая
представлялась по данным классической индоевропеистики. Для обществ
с отсталым присваивающим хозяйством весьма характерной
являлась ситуация, встреченная лингвистами у аборигенов Австралии121.
Там все языки и диалекты развивались исключительно на
равноправных началах. Необходимость в интенсивных межобщинных
контактах, вызывавшаяся указанными выше
социально-экономическими факторами, вела к тому, что практически любой взрослый
абориген если и не разговаривал активно на чужом языке или
диалекте, то по меньшей мере знал или понимал 1—2 соседних
диалекта. При относительной длительности таких связей в некоторых
случаях наблюдались активные языковые заимствования как в
области лексики, чему способствовал широко распространенный
обычай табуации терминов, так и в области грамматики и фонетики.
Поэтому, по словам ведущего специалиста по австралийскому
языкознанию Р. Диксона, задача группировки местных языков
чрезвычайно сложна, никакого «языкового дерева» здесь построить
не удается, а методы лексикостатистики оказываются абсолютно
беспомощными. Если большинство компаративистов считают, что
главным критерием создания генетических классификаций
являются лексические сходства, то при выделении отдельных языков в
Австралии специалисты вынуждены пользоваться более гибким
подходом, учитывая прежде всего взаимопонимаемость диалектов.
Например, 10 племен в районе р. Дарлинг обладали почти идентичной
470
Глава пятая
лексикой (90—95% сходств), но различались многими
грамматическими особенностями. Напротив, в Западной пустыне у некоторых
племен имелась сходная грамматика, но встречалось много
лексических различий (менее 70% общих слов). Вместе с тем в обоих
случаях члены разных племен хорошо понимали друг друга, на
основании чего в первом случае выделяется общий язык баагандьп, а во
втором — «язык Западной пустыни» 122.
Впрочем, проблема вычленения отдельных австралийских языков
еще требует детального изучения. По мнению Р. Диксона,
своеобразие лингвистической ситуации в Австралии заключалось в том, что
для каждой черты какого-либо одного языка можно было найти
аналогию в другом языке, но для разных таких черт аналогии
обнаруживались в разных языках.
Контактная языковая ситуация со всеми вытекающими отсюда
последствиями, отмеченными выше, широко встречалась у известных
этнографам групп охотников и собирателей и некоторых ранних
земледельцев и скотоводов ш. Например, аналогичные австралийским
процессы интенсивного заимствования лексических, грамматдческих
и фонетических особенностей широко наблюдались у папуасов
Новой Гвинеи 124.
Попытка дать социологическое объяснение этому интересному
лингвистическому явлению впервые в науке была предпринята
С. П. Толстовым, связавшим его с контактной сетью, объединявшей
отдельные общины в классической первобытности. Этот
исследователь назвал описанное им явление «первобытной лингвистической
непрерывностью», имея в виду прежде всего непрерывность
контактов и взаимопонимания между соседними общинами,
складывающуюся под воздействием не столько генетического, сколько ареаль-
ного фактора.
Учитывая конкретно-историческую специфику приведенных
примеров, можно Сделать вывод о том, что непрерывность контактов и
сопутствующие ей языковые процессы были в первобытности
характерны прежде всего для коллективов, общавшихся в рамках единых
ИЭО, основанных на общих ХКТ. Это-то и вело к формированию
языковых союзов. Иная картина наблюдалась при общении групп,
относившихся к разным ХКТ. Лучше всего это изучено на примере
контактов охотников и собирателей с земледельцами и
скотоводами 125. Первые, как правило, утрачивали свой родной язык и
перенимали язык вторых, в лучшем случае сохранив некоторую
специфику произношения и т. д.
Интересно, что в более богатых природных условиях, где
общества, по-прежнему ведущие присваивающее хозяйство, имели более
надежные источники существования и обладали более
разнообразной материальной культурой, отмечался рост лингвистической
дробности и языки начинали четче отличаться друг от друга. В Австралии
така,я картина была зафиксирована в Арнемленде, Виктории и Новом
Южном Уэльсе, где, таким образом, с развитием производительных
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 471
•сил нарастала изоляция отдельных обществ и образование особых
языков шло более интенсивно.
Следовательно, предположение лингвистов об особенностях
«праязыкового состояния» подтверждается наблюдениями, полученными
на жцвом этнографическом материале. Поэтому степень его
достоверности можно признать довольно высокой. Это предположение
является, тем самым, надежным основанием для того, чтобы судить об
особенностях языковых процессов в глубокой древности, начиная,
видимо, с позднего палеолита. Представляется несомненным, что уже
в эту эпоху в рамках широких ареалов, характеризовавшихся
сходным образом жизни и тесными контактами их обитателей,
складывались конвергентные диалектные цепи. Важными импульсами для
интенсификации контактов служило распространение новой более
эффективной технологии или вообще новых идей.
К сожалению, в настоящее время мы слишком плохо знаем, на
каких именно языках говорили люди эпохи позднего палеолита и
в каких районах мира располагались эти языки. Однако некоторые
«специалисты все же предпринимают отважные попытки заглянуть в
эту отдаленную от нас многими тысячелетиями древность.
Предполагается, что многие языки Евразии и Северной и частично
Восточной Африки можно возводить к некоему «праязыковому состоянию»,
называемому ими ностратической (борейской, бореальной, сибиро-
европейской) общностью126. Аналогичным образом, по выдвинутой
недавно гипотезе, выделенные в свое время Дж. Гринбергом нигеро-
(конго)-кордофанская и нило-сахарская семьи, включающие
подавляющее большинство языков Тропической Африки, объединяются в
единую конго-сахарскую, или зинджскую, общность 127. В Восточной
части Старого Света языки сейчас группируются в основном в три
крупные семьи: синотибетскую, аустроазиатскую и аустротайскую,
причем последняя объединяет паратайские и аустронезийские языки.
Весьма перспективными представляются поиски свкзей между
аустроазиатской и аустротайской семьями, которые В. Шмидт
объединял когда-то в единую аустрическую общность. Некоторые
специалисты высказывали гипотезу аустрическо-синотибетского родства
(тихоокеанский языковой ствол), но она как будто не
подтвердилась 128. В настоящее время гораздо более основательной
представляется гипотеза С. А. Старостина, по которой синотибетская семья
должна объединяться с северокавказскими и енисейскими языками
в синокавказскую общность, чью прародину надо искать западнее,
чем Восточная и Юго-Восточная Азия 129. Центр ностратической
общности лежал скорее всего в Передней Азии, конго-сахарской — в
саванне между Нигером и Нилом, а гипотетическая аустрическая
общность могла локализоваться первоначально где-то в южных и юго-
восточных районах Восточной Азии и на севере Юго-Восточной Азии.
Все отмеченные общности обладали лексикой, свойственной
исключительно населению с присваивающим хозяйством, что позволяет
относить их к эпохе позднего палеолита.
472
Глава пятая
Помимо вышеназванных языковых общностей, известны и более
мелкие изолированные языковые семьи и отдельные языки. В
Сибири, Северо-Восточной Азии и на Дальнем Востоке последние
группируются как палеоазиатские языки, а в Тропической Африке — как
палеоафриканские. На Новой Гвинее благодаря работам С. Вурма
удалось вычленить несколько отдельных языковых семей, а для
Австралии в последние годы Р. Диксон реконструировал
общеавстралийское языковое состояние. Ни для новогвинейских, ни для
австралийских языков внешние связи пока что проследить не удается. Ясно·
лишь, что, судя по лингвистическим данным, часть из языковых
семей попала на Новую Гвинею еще в позднем палеолите. То же
самое, возможно, относится и к общеавстралийскому языку, хотя по
вопросу о его хронологических рамках мнения лингвистов
расходятся: С. Вурм пишет о его проникновении в Австралию 5000 лет назад,
а Р. Диксон предпочитает относить его ко времени едва ли не
первоначального заселения Австралийского континента 13°.
Что касается палеоазиатских языков, то здесь картина со
временем постепенно проясняется. Детальное изучение юкагирского языка
позволило сблизить его с уральскими, причем отдельные авторы
находят возможным говорить даже об урало-юкагирской семье. О
древних контактах нивхского языка с алтайскими выше уже
упоминалось, однако еще более тесные отношения, видимо, существовали у
него с синокавказскими языками. Чукотско-камчатские и
эскимосские языки, по мнению некоторых специалистов, поддерживали
определенные отношения с языками ностратической общности.
Таким образом, к настоящему времени компаративистика
Старого Света достигла значительных успехов, позволяющих вплотную
подойти к изучению языковой ситуации в эпоху позднего палеолита.
К сожалению, американский лингвистический материал изучен
много хуже, и попытку Э. Маттисон вычленить единый протоамерикан-
ский язык 131 вряд ли можно признать удачной, так как этот «язык»
отразил весьма высокое состояние общества, уже знакомого с
довольно развитым земледелием. Вместе с тем последние исследования
советских лингвистов (в особенности С. Л. Николаева) открывают
новые перспективы в изучении языков Америки. В частности,
появились основания сближать атапасские языки (надене) с
синокавказскими. Делаются небезуспешные попытки увязать и некоторые
другие языки американских индейцев с языками восточных районов
Старого Света. Тем самым, лингвистика становится новым
источником для решения проблемы заселения Америки, над которой уже
давно работают археологи и антропологи.
Процесс распада реконструируемых лингвистами древнейших
языковых общностей изучен еще очень слабо, а его механизмы и
последовательность отделения различных семей представляют сложную,
почти неизученную проблему. Лучше всего это видно на примере
ностратической общности, которая распадалась на шесть крупных
семей (афразийская, картвельская, индоевропейская, дравидская,
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 473
уральская, алтайская) лишь постепенно, причем процесс вряд ли
сводился к одной лишь дивергенции.
Попытки увязать известные языки Старого Света с названными
выше общностями вовсе не означают, что этим как бы отрицается
наличие в древности каких-либо других языков. Такие языки
несомненно были, но они впоследствии либо вымерли, либо настолько
тесно слились с другими, что их бывает чрезвычайно трудно
обнаружить в составе сохранившихся до нашего времени языков.
Этническая ситуация в эпоху позднепервобытной общины.
В процессе перехода к оседлости и с ростом народонаселения и его
плотности, в особенности когда это вызывалось переходом к
производящему хозяйству, описанный выше характер этнических
общностей и этнических взаимоотношений неизбежно менялся. Это
происходило прежде всего потому, что возникшие новые хозяйственно-
экономические возможности неизмеримо возросли и там, где раньше
группа в 500 человек лишь с трудом добывала себе пропитание,
теперь вполне могли прокормиться 5000 человек и даже более крупные
коллективы. В результате на первых порах в относительно узких
районах наблюдалась концентрация отдельных столь же мелких, как
и прежде, общин, но со временем размеры общин увеличивались, и
они становились не менее многолюдными, чем обычные племена
охотников и собирателей. Это имело ряд существенных
последствий. С одной стороны, размеры общин были теперь вполне
достаточны для обеспечения полной брачности. Поэтому, как уже
отмечалось, во многих районах мира у раннеземледельческих общин
отмечалась сильная тенденция к эндогамии. Кроме того, при возросшем
населении в общине теперь было достаточно рабочих рук для
выполнения ряда коллективных работ, которые прежде требовали
совместной деятельности нескольких общин.
Все это наряду с появлением такой важнейшей формы
недвижимой собственности, как обработанная земля, обусловливало
тенденцию к изоляции общин. Попутно последние вырабатывали и
своеобразный культурно-языковой облик. Казалось бы, создавались
предпосылки для формирования на основе отдельных общин особых
этносов. И действительно, нам известны случаи тождества общин с
отдельными племенами, наблюдавшиеся в Амазонии (в районе Шин-
гу), на Новой Гвинее (в районе р. Тор), у оседлых рыболовов и
охотников на морского зверя и т. д.
С другой стороны, указанная тенденция если и реализовывалась
на практике, то только в особых обстоятельствах и на протяжении
* небольших промежутков времени, так как она вступала в
противоборство с прямо противоположными тенденциями. Как и прежде,
отдельная община была весьма уязвима перед лицом постоянно
меняющихся хозяйственных, социальных и демографических
обстоятельств. На сравнительно небольшом принадлежавшем ей участке
земли она не могла найти многого из диких видов фауны и флоры, а
также сырья, в которых она нуждалась. Силами одной общины не-
474
Глава пятая
редко трудно было вести военные действия. Эпидемии, сокращавшие
размеры общины иногда на добрую половину, тоже делали ее
маложизнеспособной. Неурожаи и военные поражения заставляли людей
по крайней мере временно, а чрезмерный рост населения и
нехватка земельных участков — и постоянно менять свое местожительство.
Имелись и многочисленные иные причины, по которым состав
общин никогда не был вполне постоянным, но об этом речь пойдет
ниже.
Как бы то ни было, и в оседлых условиях создавалась
потребность в надобщинном уровне социальной организации. Поэтому и
здесь возникали межобщинные браки, причем особенно длинные
брачные цепи имели место в условиях хуторской системы
расселения, которая встречалась на протяжении неолита. Но там, где
многородовые общины с их тенденцией к эндогамии сохранялись, этот
фактор действовал не столь эффективно. Да и в случае с однородо-
выми общинами он не играл такой большой роли, как в обществах
низших охотников и собирателей. Зато местами возникшие еще у
последних другие механизмы межобщинной интеграции достигли в
оседлых обществах наивысшего расцвета и дополнились новыми
организационными структурами. К ним, и это уже не раз отмечалось
в литературе 132, относились позднеродовая организация с ее
разветвленной сегментарной структурой, возрастные классы, мужские
дома, партнерство, именные отношения, разнообразные дуальные
структуры, система лидерства и пр. Конечно, все это возникло
далеко не сразу и набирало силу лишь постепенно, и в ранненеолитиче-
ских обществах степень межобщинной консолидации была еще
слаба. Тем не менее в неолите были заложены основы для
возникновения этнических единств совершенно иного облика, чем прежде. Та
группа, которая раньше выступала в форме племени, теперь
принимала облик общины, а та, что могла ранее считаться соплеменностью,
становилась племенем. Что же касается соплеменности, то она
совпадала с культурно-языковым массивом более высокого ранга.
Основной этнической единицей была группа общин,
составлявших племя, и именно внутри нее действовали указанные выше
механизмы консолидации. Правда, и здесь племя нередко представляла
собой весьма аморфную общность с нечеткими размытыми
границами. Но, как справедливо подчеркнул С. А. Арутюнов 133, в отдельных
местах это могло быть вторичным явлением, связанным с
особенностями эволюции этнической организации после перехода к
относительной оседлости и/или производящему хозяйству. Ведь одной из
главных тенденций развития в доземледельческий период был рост
долговременности обитания в тех местах и в те сезоны, где и когда
создавалась наиболее благоприятная для прокормления ситуация.
Эта тенденция приводила к тому, что у развитых собирателей
урожая крупные группы возникали в районах сбора созревших плодов,
зерен или кореньев. С возникновением земледелия такие группы
естественным образом превращались в раннеземледельческие общины·
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 475
Позже между этими общинами завязывались контакты и
складывались предпосылки для формирования более широких общностей.
Развитие этого процесса фиксируется по некоторым
этнографическим данным. Если в отдельных группах собирателей саго и
ранних земледельцев Новой Гвинеи внутриобщинные браки составляли
S0% всех браков, а брачнад общность в целом ограничивалась
несколькими соседними общинами, то в более развитых центральных
горных районах острова внутриплеменные браки едва достигали 50%.
Соответственно менялся и уровень этнической интеграции: у первых
племя еще только начинало осознаваться как культурно-языковое
•единство, а у вторых племя уже нередко выступало в виде социо-по-
тестарной организации, тогда как культурное единство осознавалось
на несравненно более высоком уровне! Например, для чимбу племя
являлось не более чем военным союзом и в зависимости от
расстановки сил и изменений в межобщинных отношениях его состав время от
времени существенно менялся.
Все же во многих местах состав племени был более устойчивым,
и в представлении людей оно так или иначе отграничивалось от
остального мира. Это происходило по ряду причин. Во-первых, в
племени имелись механизмы смягчения последствий военных
столкновений: требование воздерживаться от убийства, вести войну по особым
правилам и т. д. Зато в отношении чужеплеменников никакие
законы не действовали, здесь можно было вести войну до полного
истребления. Во-вторых, престижная экономика функционировала, как
правило, тоже только внутри племени, а одной из важнейших ее
задач как раз и являлось укрепление социальных связей. Напротив,
межплеменной обмен велся чаще всего ради удовлетворения
утилитарно-хозяйственных потребностей. Наконец, в-третьих, если
общеплеменной религиозный культ сложился далеко не сразу, то зато
церемонии, ритуальные обмены и пиршества общеплеменного
значения возникли довольно рано. Такие церемонии устраивались
лидерами или целыми общинами раз в несколько лет, и на них
сходилось от нескольких сотен до нескольких тысяч людей. Поводы для
их организации могли быть самыми разными (ритуальный обмен,
инициация, поминовение усопших и т. д.), однако все они имели
универсальное значение как фактор этнической консолидации.
Казалось бы, отмеченные факторы служили предпосылками для
сложения более или менее гомогенных культурно-языковых
общностей. Действительно, общества такого типа в неолите встречались, и
они имели несравненно более крупные размеры, чем в
предшествовавший период. Между тем их границы нередко, как и прежде, были
аморфными, размытыми, и здесь тоже наблюдалась картина
культурной и языковой непрерывности. Представление о большом
своеобразии отдельных раннеземледельческих этносов, будто бы резко
отличавшихся друг от друга и имевших четкое этническое
самосознание, было порождено в известной степени ошибочным подходом
ранних исследователей к изучению ситуации, во многом несходной с
476
Глава пятая
привычной для них европейской 134. Поэтому названия, полученные
такими группами от первых европейских путешественников и
исследователей и вошедшие с тех пор в литературу (дани, орокаива, форе
и пр.), как правило, или весьма условно соответствовали реальной
этнической ситуации, или вообще ей не соответствовали. Чаще всего
такие названия давались крупным культурно-языковым блокам,
насчитывавшим до нескольких тысяч и даже десятков тысяч человек.
Эти блоки в лучшем случае можно рассматривать как соплеменно-
сти, но сами входившие в них люди осознавали их наличие крайне
редко. Как не раз отмечали этнографы, сопровождавшие их
местные проводники, попав на территорию соседнего племени, выражали
крайнее удивление, обнаружив здесь язык и культуру, сходные с их
собственными.
В раннеземледельческий период различные формы культуры
довольно свободно заимствовались, и это вело к возникновению
широких культурных ареалов, охватывавших иногда население,
разговаривавшее на нескольких разных языках. Впрочем, и для этого
периода было характерно многоязычие, причем взрослые знали по 2—
3 соседних языка. Все это облегчало процессы этнического слияния
или, напротив, дивергенции. Целые иноэтничные группы вливались
в состав этноса, быстро заимствовали его язык и культуру и
начинали считать себя его неотъемлемыми компонентами. Лишь в
обстановке особой изоляции, обусловленной серьезными
физико-географическими преградами, могли формироваться этносы, резко отличные
друг от друга по культурно-языковым особенностям. Чаще всего это
происходило в труднопроходимых горных местностях, и
исследователи предполагают наличие такой картины, например, в Дагестане или
на Памире. Однако в горах Новой Гвинеи или в горах Кордофана в
Северо-Восточной Африке, напротив, часто наблюдалась культурно-
языковая непрерывность.
Культурно-языковой непрерывности во многих местах
соответствовало и диффузное этническое самосознание. В особенности оно
было характерно для земледельческих районов с хуторским
расселением. Так, у африканских тонга каждая из отдельных групп
называла себя «тонга», более восточных соседей — «уе», а более
западных — «лумбила», хотя все они были близки по языку и
культуре 135. То же самое отмечалось у мотыжных земледельцев Северной
Ганы, где наблюдалось следующее явление: чем дальше на запад,
тем более вероятным было, что местное население назовет себя «ло»,
а восточное — «дагаа». Противоположная тенденция обнаруживалась
при движении в обратном направлении. В любом случае название
относилось сразу к нескольким этническим группам 136. Аналогичная
ситуация встречалась у яноама, сеноев и многих других
раннеземледельческих групп. Нередко самоназваний вообще не было, но зато
всегда имелись названия для иноязычных и/или инокультурных
соседей, что указывает на наличие этнического сознания. Иногда
группа использовала в качестве самоназвания прозвище, данное ей со-<
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 477
седями, если только оно не имело ярко выраженного негативного
оттенка. -*«*(
Интересная картина иерархичности группового самосознания не·
давно была зафиксирована у варао. Последние называли близких
родичей «авараовиту», членов своего племени — «аварао», членов
других племен общности варао — «варао даиса» («другие варао»), а всех
других людей, не входивших в эту общность, — «хотарао». Этноним
«варао» означал «лодочники», а «хотарао» — «сухопутные люди»,
т. е. этническое разграничение здесь опиралось на экологический
фактор и связанный с ним образ жизни. Внутри этнической общности
варао наблюдалась этническая непрерывность: одна община могла
рассматривать членов другого племени как «даиса», а другая —как
«аварао». И это ослабляло социальные границы племени, внутри ко·
торых тем не менее наблюдалась отчетливая тенденция к
эндогамии 137.
Во многих случаях племенное самосознание ослаблялось тем, что
в племени еще не выработалось этногоническое предание, хотя миф
о происхождении от единого предка имелся у рода и реже — у
фратрии. Поэтому племенное единство часто воспринималось лишь как
единство в настоящем времени, не имеющее ни прошлого, ни
будущего. С одной стороны, это облегчало инкорпорацию в племя
иноплеменников, но с другой, ослабляло единство племени.
Своеобразие этнической ситуации в неолите состояло в том, чта
теперь бок о бок обитали группы населения, отличавшиеся друг ог
друга по образу жизни и уровню социально-экономического
развития. Это сразу же порождало действие механизма этнической
стратификации, которое заключалось в том, что отдельные группы
соотносили свою культуру с культурой соседей и строили, исходя из этого,
свои межэтнические взаимоотношения и этнические концепции138.
При этом более развитые группы земледельцев или оседлых
рыболовов и собирателей могли рассматривать своих более отсталых
соседей как «варваров» и использовать свои материальные преимущества
для нападений на них и грабежа. Правда, в других случаях именно
охотники и собиратели нападали на более оседлых земледельцев.
В этой обстановке неизбежным было обострение этнического чувства,
и у некоторых охотников и собирателей просыпалось четкое
этническое самосознание, невозможное в прежних условиях. Иногда они,
ориентируясь на более развитых соседей, воспринимали для себя их
этноним и заимствовали многое из их культуры^ надеясь повысить
тем самым свой социальный статус. В других случаях они, напротив,
противопоставляли себя соседям как особый этнос и гордились
своеобразным обликом своей собственной культуры.
Возникновение отдельных языковых семей. Отмеченные выше
особенности исторического процесса в неолите (формирование
различных ХКТ, неравномерность развития, рост некоторой изоляции
отдельных групп населения и т. д.) не могли не сказаться и на
характере лингвистической картины. Не случайно специалисты уже·
478
Глава пятая
давно говорят о сложении основных языковых семей именно в
неолите, и это только подтверждается тем, что по отмеченным выше
данным этнические процессы в неолите приняли более интенсивный
характер. Возможно, в конце верхнего палеолита и безусловно в
мезолите и с переходом к неолиту ностратическая общность
постепенно распадалась на отдельные языковые семьи, которые
первоначально все еще локализовались по близости друг от друга и не
теряли контактов. О неодновременности вычленения из ностратической
общности отдельных крупных семей и различных хронологических
рубежах их распада свидетельствуют как характер реконструктируе-
мой лексики, так и лексико-статистические данные. Период
афразийского единства представляется гораздо более древним (распалось в
XI—X тыс. до н. э.), чем индоевропейского (до IV тыс. до н. э.).
А индоевропейское единство распалось в тот период, когда еще
существовала общекартвельская общность (IV—III тыс. до н. э.).
Аналогичным образом и алтайская общность (распалась не позднее X—
VIII тыс. до н. э.) выглядит значительно архаичнее уральской
(распалась в IV тыс. до н. э.).
Ранние прародины указанных семей располагались, возможно,
следующим образом: праафразийские группы обитали в сирийско-
палестинском районе, картвельские — в горных районах на границе
Южного Кавказа и Передней Азии, эламодравидские —- в Иране,
уральские и алтайские — где-то в Средней Азии и частично в
Северном Иране. Сложнее обстоит дело с индоевропейской прародиной,
которую в прошлом разные авторы пытались локализовать в очень
разных местах. Однако, исходя из ностратической гипотезы, ее
следует искать где-то в северных районах Передней Азии.
В настоящее·время, когда лингвисты ставят своей задачей ввести
хронологические и пространственные параметры в историю
«праязыковых состояний», уже недостаточно ограничиваться указанием
какой-либо одной прародины. Необходимо разграничивать по крайней
мере понятия ранней и поздней прародины. С этой точки зрения
важным представляется не только факт дивергенции прежнего
языкового единства, но и процессы контактов отколовшихся языков с
языками аборигенов в районах поздних прародин, где и завершалось
становление отдельных языковых семей.(К сожалению, при
неопределенности корреляции между культурой и языком представляется
почти невозможным проследить в настоящее время древнейшие
стадии этого процесса. Вероятно, археологически он до некоторой
степени сопрягался с широким распространением на обширных
пространствах Евразии и Северной Африки комплексов с
геометрическими микролитами. Так как по большей части эти комплексы
распространялись накануне появления производящего хозяйства или в
период его зарождения, нет оснований ставить отмеченный процесс
в прямую связь с возникновением земледелия и скотоводства. И
действительно, носители уральских и алтайских языков узнали произво-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 479
дящее хозяйство гораздо позднее, чем, например, праафразийцы и
протоэламодравиды.
На протяжении позднего неолита — энеолита границы
индоевропейского праязыкового состояния могли захватить часть Восточной
Европы, картвельская общность окончательно утвердилась на Южном
Кавказе, протодравиды постепенно просачивались в Индию, а
элементы уральских и алтайских языков, проникая в языки аборигенов,
распространялись по широким территориям соответственно к северу
и востоку от Средней Азии.
Как показали А. Ю. Милитарев и С. А. Старостин, в V—IV тыс.
до н. э. на территории Передней Азии (видимо, в северных ее
районах) обитали носители северокавказских языков, которые
контактировали с расположенными южнее отдельными группами афразий-
цев. По данным Н. В. Гурова и И. И. Пейроса, примерно в это же
время на территории Индии наблюдались активные контакты между
представителями протодравидской и синотибетской общностей.
В период неолита в Африке протекали сложные этногенетические-
процессы139. Нило-сахарские языки, видимо, формировались
первоначально в рамках неолита сахаро-суданской традиции, а нигеро-
кордофанские — в ареале еще мало изученных неолитических
культур Западной Африки. Распад тех и других происходил скорее всего
уже после перехода к производящему хозяйству. Первые
распространились из Сахары на запад, юго-восток и юг в период ее высыхания,,
с исчезновением прежних благоприятных для ведения традиционного
хозяйства природных условий. Одновременно началось расселение и
носителей нигеро-кордофанских языков, в частности банту и адамауа-
убангийских.
На протяжении неолита в Африку начали проникать и
представители другой, афразийской общности. Ранее всего на ее крайнем
северо-востоке появились предки древних египтян, за которыми затем
последовали прачадцы, праливио-гуанчи и пракушиты. Накануне
указанных миграций огромные территории Африки к югу от Сахары
были заселены охотниками, собирателями и рыболовами,
говорившими на разных не известных нам палеоафриканских языках. Однака
в силу ареальных и генетических факторов здесь имелись крупные
очаги языковой непрерывности, один из которых с характерными для
него языками сан (бушменскими) до сих пор сохранился в Южной
Африке.
В ходе расселения носителей производящего хозяйства на юг они
смешивались с местными охотниками, рыболовами и собирателями,
так или иначе воздействуя на них. Это выразилось, в частности, в
резком сокращении древнего ареала палеоафриканских языков.
В одних случаях аборигены сохранили традиционное хозяйство, но
переходили на язык пришельцев (пигмеи Конго), в других, наоборот,
заимствовали у них производящее хозяйство, но продолжали говорить
на родном языке (готтентоты).
480
Глава пятая
К эпохе неолита относится и процесс распадения крупных
языковых общностей восточных районов Азии, причем и в этом случае,
видимо, большую роль сыграл переход к земледелию, определивший
различные пути развития отдельных групп населения, обитавших
первоначально в предгорьях Гималаев140. Аустроазиатские языки
широко распространились в Южном Китае, Восточной Индии и Юго-
Восточной Азии, видимо, в V—IV тыс. до н. э. В южной части Юго-
Восточной Азии первоначально обитали носители негро-австралоид-
ного антропологического типа, говорившие, видимо, на ^языках,
входящих в некоторые современные новогвинейские семьи (сэпик-раму,
трансновогвинейская). Возникновение в Юго-Восточной Азии новых
ХКТ и связанные с этим сложные этнические процессы вынудили
часть негро-австралоидного населения отступать все далее к югу.
В результате на протяжении раннего и среднего голоцена на Новой
Гвинее одна за другой появились такие языковые семьи, как сэпик-
раму и позже — трансновогвинейская. Они местами потеснили
аборигенные языки семьи торричелли и некоторые другие, а местами
смешались с ними. В ходе этих процессов был заселен и архипелаг
Бисмарка 141. В ряде южных районов Юго-Восточной Азии
оставшееся здесь автохтонное население утратило свой родной язык и
полностью перешло на языки пришлых аустроазиатов.
По современным представлениям, древнейший район протоаустро-
незийского языкового состояния локализовался где-то на побережье
Южного Китая, видимо, южнее устья Янцзы. Здесь в неолите
обитали довольно развитые рисоводы и рыболовы, которые были
умелыми мореходами и могли преодолевать широкие морские
пространства. Со временем они проникли на Тайвань, Филиппины и в
некоторые области Индонезии. Полагают, что плацдармом, с которого они
начали заселение Океании, послужила Восточная Индонезия
примерно в IV—III тыс. до н. э. Судя по последним данным, большая
часть Меланезии, прежде всего ее восточные и юго-восточные районы,
была заселена ими до начала контактов с папуасами. Поэтому-то
мигрировавшие впоследствии далеко на восток предки полинезийцев и
сохранили свой первоначальный антропологический тип. Оставшиеся
в Меланезии аустронезийцы постепенно смешивались с папуасами,
причем в этот период происходили весьма сложные этнические
процессы, в результате которых отдельные папуасские группы
оказались далеко от своего первоначального места обитания, например на
Соломоновых о-вах 142.
Аборигенные языки Америки изучены еще недостаточно. Здесь
известно несколько десятков мелких языковых семей и
изолированных языков, связи между которыми установить пока что не
удается из. Зато здесь имеется благодатная почва для изучения языковых
процессов в первобытности — процессов и конвергенции, и
дивергенции. Кстати, на материалах Америки и Австралии хорошо видно, что
и те, и другие процессы были широко представлены в доклассовую
эпоху. Более того, судя по сравнительным материалам, сложение
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 481
крупных языковых массивов происходило в истории сравнительно
поздно. Оно началось, по-видимому, в предклассовый период и
продолжилось уже в условиях государственности. Следовательно,
переход к предклассовым обществам ознаменовал важный рубеж на пути
этногенетических процессов/)Не исключено, что значительную роль
при этом сыграло формирование социально-потестарных структур,
служивших мощным фактором стабилизации этноса. Из этого следует
вывод о том, что описанная выше картина языковых процессов
сильно обеднена. Она не учитывает массы вымерших языков, которые
некогда играли не меньшую роль, чем все названные выше
языковые семьи.
В условиях интенсивных этнокультурных процессов, в частности
с развитием обмена, в неолите в некоторых районах могли
выделяться какие-либо доминирующие языки, служившие здесь
лингва-франка. Под их влиянием соседние языки могли существенно менять свою
лексику. Такая картина наблюдалась, например, в Северо-Западной
Амазонии, где лингва-франка служил язык тукано 144, и на крайнем
юго-востоке Новой Гвинеи, где особым влиянием пользовался язык
маги 145. В ряде случаев в условиях дальнего обмена,
осуществлявшегося сильно отличавшимися друг от друга по культуре группами,
могли формироваться особые торговые языки — пиджины, как это
наблюдалось местами на Новой Гвинее 146.
1 Boserup Ε. The conditions of agricultural growth. L., 1965; Carneiro R. L.
A theory of the origin of the state.— Science, 1970, v. 169, p. 733—738;
Harrier M. J. Population pressure and the social evolution of agriculturists.— SJA,
1970, v. 26, p. 67—86; Cohen M. N. The food crisis in prehistory:
overpopulation and the origins of agriculture. New Haven, 1977; Population Growth:
Anthropological Implications. Cambridge, 1972, и др.
2 Dumond D. Population growth and culture change.— SJA, 1965, v. 21, N 4;
Polgar S. Population, evolution and theoretical paradigms.— PESE; Hassan F.
Demography and archaeology.— ARA, 1979, v. 8; Bronson B. The earliest
farming: demography as cause and consequence.— О A; Cowgill G. L. Population
pressure as a non-explanation.— AAn, 1975, v. 40*, N 2, и др.
3 Массой В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976,
с. 100—105; Hassan F. A. Demographic archaeology.— In: Advances in
Archaeological Method and Theory. N. Y., 1978, v. 1; UbelakerD. H.
Approaches to demographic problems in the Northeast.— In: Foundations of Northeast
Archaeology. N. Y., 1981.
4 Кожин П. М. Археологические обоснования палеодемографических
реконструкций.— IX Μ КАЗН. Доклады сов. делегации. М., 1973; Алексеев В. П.
Историческая антропология. М., 1979, с. 54, 55; Россет Э.
Продолжительность человеческой жизни. М., 1981, с. 160—162; Vallois H. V. Vital statistics
in prehistoric population as determined from archaeological data.— In: The
Application of Quantitative Methods in Archaeology. Chicago, 1960, p. 186—
219; Angel /. L. The bases of paleodemography.— AJPhA, 1969, v. 30,
p. 427—437; Cook S. F. Prehistoric demography.— Current Topics in
Anthropology. Theory, Method and Content, 1972, v. 3, N 16, p. 1—42; Masset С
La demographie des populations inhumees: essai de paleodemographie.—
L'Homme, 1973, t. 13, p. 95-131, и др.
16 История первобытного общества
482
Глава пятая
5 Howell N. Demography of the Dobe Kung. N. Y., 1979; Brass W. et al. The
demography of tropical Africa. Princeton, 1968, и др.
6 Computer Simulation in Human Population Studies. N. Y.; L., 1973;
Weiss R. M. Demographic theory and anthropological inference.— ARA, 1976,
v. 5, p. 355—356.
7 McArthur N. The demography of primitive populations.— Science, 1970r
v. 167, p. 1097—1101.
8 Carr-Saunders A. M. The population problem: a study in human evolution.
Oxford, 1922; Krzywicki L. Primitive society and its vital statistics. L., 1934.
9 О плотности населения у низших охотников и собирателей см.: Yengoyan А .А.
Demographic and ecological influences on Aboriginal Australian marriage
sections.— MH; Weyer Ε. Μ. The Eskimos. Their environment and folkways.
Hamden, 1962, p. 109—110; Wobst Η. M. Boundary conditions for Paleolithic
social systems: a simulation approach.— AAn, 1974, v. 39, N 2, и др.
10 Williams В. /. A model of Band society.— AAn, 1974, v. 39, N 4, pt. 2;
Wobst Η. M. Boundary conditions...; Idem. Locational relationships in
Paleolithic society.— DEHP; Martin J. F. On the estimation of the sizes of local
groups in a hunting-gathering environment.— AAn, 1973, v. 75, N 5; Bird-
sell J. B. Some predictions for the Pleistocene based on equilibrium systems
among recent hunter-gatherers.— MH.
11 Подробно об этом см.: Шнирельман В. А. Протоэтнос охотников и
собирателей.— ЭДРО.
12 Birdsell J. В. Ecological influences on Australian Aboriginal social
organization.— In: Primate Ecology and Human Origins. N. Y.; L., 1979, p. 137—139.
13 Yengoyan A. A. Demographic..., p. 196—198.
14 Карту распространения брачных систем в Австралии см. в кн.: Берндт Р. Μ.Ύ
Берндт К. X. Мир первых австралийцев. М., 1981, с. 42.
16 Computer Simulation...; MacCluer J. W., Dyke B. On the minimum size of
endogamous populations.—SB, 1976, v. 23, N 1; Hammel Ε. Α., McDani-
el C. K., Wachter K. W. Demographic consequences of incest tabus: a micro-
simulation analysis.— Science, 1979, v. 205, p. 972—977.
16 Birdsell J. B. Some predictions...; Idem. Ecological influences...; Wobst Η. Μ *
Locational relationships... Несколько иную точку зрения см.: Арутюнов С.А.
Этнические общности доклассовой эпохи,— ЭДРО, с. 64.
17 Braidwood R. /., Reed Ch. A. The achievement and early consequences of food-
production: a consideration of the archaeological and natural-historical
evidence.— In: Gold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 1957,
v. 22, p. 21—22; Hassan F. A. Demography and archaeology, p. 140; Mac-
сон В. М. Экономика...
18 Carneiro R. L., Η Use D. F. On determining the probable rate of population
growth during the Neolithic— AA, 1966, v. 68, p. 178; Polgar S. Population
history and population policies from an anthropological perspectives.— CAt
1972, v. 13, N 2, p. 204; Dumond D. The limitation of human population:
a natural history.— Science, 1975, v. 187, p. 717; Hassan F. A. Demography
and archaeology, p. 146, и др.
19 Hassan F. A. Demography and archaeology, p. 140.
20 Григорьев Г. П. Верхний палеолит.— В кн.: Каменный век на территории
СССР. М., 1970, с. 59.
21 Hassan F. A. Demography and archaeology.
22 Массон В. Μ. Экономика..., с. 104.
23 Природа и древний человек. М., 1981, с. 161.
24 Природа и развитие первобытного общества на территории Европейской
части СССР. М., 1969, с. 193, 206.
25 Там же, с. 206; Григорьев Г. П. Верхний палеолит, с. 60.
26 Арутюнов С. А. Этнические общности..., с. 64.
27 Природа и древний человек, с. 146.
28 Об австралийских аборигенах см.: Jones F. L. A demographic survey of the
Aboriginal population of the Northern territory, with special reference to Bat-
hurst Island Mission. Canberra, 1963; Birdsell J. B. Some predictions...; Idem.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 483
Human evolution. Chicago, 1972; Idem. Ecological influences...; Yen-
goyan A. A. Demographic factors in Pitjandjara social organization.— In:
Australian Aboriginal Anthropology. Nedlands, 1970; Idem. Biological and
demographic components in Aboriginal Australian socio-economic
organization.— Oceania, 1972, v. 43, N 2. о бушменах: Howell N. Demography of the
Dobe Kung. Об эскимосах: Weyer F. M. The Eskimos...; Вirket-Smith K. The
Eskimos. L., 1959. Об индейцах-паи: Martin J. F. On the estimation... О бирхо-
pax: Verma К. К. The Birhor: an anthropodemographic study.— In: IX
International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Plan of the
Congress and Resume of Contributions. Chicago, 1973. Supplement II. О
пигмеях: Turnbull С. Μ. Demography of small-scale societies.— SHP, p. 283—
310; Cavalli-Sforza L. L. Pygmies, an example of hunters-gatherers, and the
genetic consequences for man of domestication of plants and animals.— In:
Human Genetics. Amsterdam, 1972, p. 79—95; Vallois H. V., Marquer P.
Notes ethno-demographiques sur les Pygmees de la Republique Populaire du Congo
et de ses zones-frontieres avec les Republiques Centrafricaine et Gabonaise.—
Bull, et memoires de la Societe d'Anthropologie de Paris, 1980, t. 7, ser. 13,
N 2, p. 109—123. См. также: Сarr-Saunders A. M. The population problem...;
Krzywicki L. Primitive society...; Hassan F. A. Population in prehistory: A
demographic approach to archaeology. N. Y., 1981; Козлов В. И. Динамика
численности народов. М., 1969; Он же. Особенности воспроизводства населения
в доклассовом и раннеклассовом обществе.— ЭДРО; Козинцев А. Г. Переход
к земледелию и экология человека.— В кн.: Ранние земледельцы. Л., 1980;
Россэт Э. Продолжительность...; Авербух М. С. Законы народонаселения
докапиталистических формаций. М., 1967.
29 Yengoyan A. A. Demographic and ecological influences..., p. 194; Sussman R,
Child transport, family size and increase in human population during the
Neolithic— CA, 1972, v. 13, N 2, p. 259; Birdsell J. B. Ecological influences...,
p. 127.
30 Hassan F. A. Determination of the size, density and growth rate of hunting-
gathering populations.— PESE, p. 42; Polgar S. Population evolution and
theoretical paradigms.— PESE, p. 2—Z\DumondD. The limitation..., p. 717.
31 Birdsell J. B. Ecological influences..., p. 128.
32 Η ay den B. Population control among hunter/gatherers.— WA, 1972, v. 4,
N 2, p. 205; Hassan F. A. Determination of the size..., p. 32.
33 Birdsell J. B. Some predictions...; Вишневский А. Г. Демографическая
революция. Μ., 1976, и др.
34 Крупник И. И. Факторы устойчивости и развития традиционного хозяйства
народов Севера. Автореф. дис. М., 1977, с. 22; Cowgill G. L. Population
pressure as a non-explanation.- AAn, 1975, v. 40, N 2; Ammerman A. J. Late
Pleistocene population dynamics: an alternative view.— HE, 1975, v. 3, N 4.
35 Η ay den B. Population control...
36 Ibid., p. 206 f; Jorde L. В., Harpending H. Cross-spectral analysis of rainfall
and human birth rate: an empirical test of a linear model.— DEHP, p. 129—
130; Hassan F. A. The growth and regulation of human population in
prehistoric times.— In: Biosocial Mechanisms and Population Regulation. New Haven;
London, 1980, p. 312.
37 Frisch #., McArthur J. Menstrual cycles: fatness as a determinant of minimum
weight for height necessary for their maintenance or onset.— Science, 1974,
v. 185, p. 949—951; Frisch R. Demographic implications of the biological
determinants of female fecundity.— SB, 1975, v. 22, N 1, p. 17—22.
38 Bongaarts J. Does malnutrition affect fecundity? A summary of evidence.—·
Science, 1980, v. 208, p. 564-569.
39 Howell N. Demography..., p. 189—210.
40 Hayden B. Population control..., p. 212—213; Faris J. C. Social evolution,
population and production.—PESE, p. 250—254.
484
Глава пятая
41 Birdsell J. В. Human evolution, p. 365; Idem. Ecological influences...,
p. 126; Shapiro W. Social organization in Aboriginal Australia. N. Y., 1979,.
p. 84—85; Howell N. Demography..., p. 227—252, 329—330.
42 Birdsell J. B. Ecological influences..., p. 124—125.
43 Yengoyan A. A. Demographic factors..., p. 73—74; Meggitt M. J. «Marriage
classes» and demography in Central Australia.— MH, p. 180—184; Den-
ham W. D. Population structure, infant transport and infanticide among
Pleistocene and Recent hunter-gatherers.— JAR, 1974, v. 30, N 3, p. 194.
44 Schrire C, Steiger W. L. A matter of life and death: an investigation into the
practice of female infanticide in the Arctic— Man, 1974, v. 9, N 2.
[iA ValloisH. V., MarquerP. Notes ethno-demographiques...
45 Hassan F. A. The growth and regulation..., p. 311.
46 Denham W. D. Population structure...; Idem. Infant transport among the Alya-
wara tribe of Central Australia.— Oceania, 1974, v. 44, N 4.
47 Геодакян В. А. О существовании обратной связи, регулирующей
соотношение полов.— Проблемы кибернетики, 1965, вып. 13, с. 190—193; Он же.
О структуре эволюционирующих систем.— Там же, 1972, вып. 25, с. 87—88.
48 К сходному выводу, но исходя из другой логики, пришел Ф. Салзано (Sal-
zano F. M. Genetic aspects on the demography of American Indians and
Eskimos.— SHP, p. 239).
49 Carr-Saunders A. M. The population problem..., p. 218; Birdsell J. B. Some
predictions..., p. 236; Idem. Ecological influences..., p. 123; Yengoyan A. A.
Biological and demographic components..., p. 88.
50 Schrire C, Steiger W. L. A matter of life..., p. 178—179; Denham W. D.
Population structure..., p. 193; Faris /. C. Social evolution..., p. 250; Howell N.
Demography..., p. 120.
61 Yengoyan A. A. Biological and demographic components..., p. 88.
52 Weyer E. M. The Eskimos, p. 132—134; Schrire C, Steiger W. L. A matter
of life..., p. 161—184; RichesD. The Netsilik Eskimo: a special case of selective
female infanticide.— Ethnology, 1974, v. 13, N 4, p. 351—361.
63 Martin J. F. On the estimation..., p. 1457.
54 Birdsell J. B. Ecological influences..., p. 126.
65 К тому же выводу пришли и некоторые другие исследователи. См.: Polgar S,
Population evolution..., p. 3; Hassan F. A. Determination of the size...,
p. 27—52; Faris J. С Social evolution..., p. 250—254; Cowgill G. L.
Population pressure..., p. 128.
66 Dunn F. L. Epidemiological factors: health and disease in hunter-gatherers.—
ΜΗ; Η ay den B. Population control..., p. 206; Acsadi G., Nemeskeri J. History
of human life span and mortality. Budapest, 1970; Урланис Б. В. Эволюция
продолжительности жизни. М., 1978, с. И.
67 Козинцев А. Г. Переход к земледелию..., с. 9—10.
58 Weiss К. М. Demographic models for anthropology. Washington, 1973, p.49 —
50
69 См., например: Vallois Η. V. Vital statistics in prehistoric population as
determined from archaeological data.— In: The Application of Quantitative
Methods in Archaeology. Chicago, 1960, p. 195—196; Acsadi G., Nemeskeri J.
History of human life...; Angel L. Paleoecology, paleodemography and health.—
PESE, p. 167—190; Saxe A. A. Social dimensions of mortuary practices in
a Mesolithic population from Wadi Haifa, Sudan.— In: Memoirs of the Society
for American Archaeology, 1971, N 25, p. 39—52; Алексеев В. П. Палеодемо-
графия СССР.— СА, 1972, № 1; Урланис Б. В. Эволюция...; ПотехинаИ. Д.
К вопросу о продолжительности жизни человека каменного века на
Украине.— В кн.: Древности Среднего Поднепровья. Киев, 1981, с. 21—30.
60 Dumond D. The limitation..., p. 717; Урланис Б. В. Эволюция...
61 Birdsell J. В. Ecological influences..., p. 145—149.
62 Рогачев Α. Η. Значение и роль социальной среды в развитии культуры
первобытного общества.— В кн.: „Природа и развитие первобытного общества
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 485
на территории Европейской части СССР. М., 1969, с. 192—193; Природа
и древний человек, с. 173.
63 Carneiro R. L., Hilse D. F. On determining...; Polgar S. Population history...;
Idem. Population evolution...; Hassan F. A. On mechanisms of population
growth during the Neolithic— CA, 1973, v. 14, N 5; Idem. The growth and
regulation...; DumondD. The limitation...; Козинцев А. Г. Переход к
земледелию..., с. 15—16.
64 Обзор разных гипотез см.: Козинцев А. Г. Переход..., с. 17, 32; DumondD,
The limitation..., p. 718; Hassan F. A. The growth and regulation..., и др.
66 Schalk R. F. Land use and organizational complexity among foragers of
Northwestern North America.— Senri Ethnological Studies, 1980, v. 9, p. 53—75;
Brown P., Podolefsky A. Population density, agricultural intensity, land tenure
and group size in the New Guinea Highlands.— Ethnology, 1976, v. 15, N 3;
Sillitoe P. Land shortage and war in New Guinea.— Ibid., 1977, v. 16, N 1;
Gajdusek D. C, Alpers M. Genetics studies in relation to Kuru. I. Cultural,
historical and demographical background.— AJHG, 1972, v. 24, N 6, pt. 2,
p. 14-16.
66 О собирателях саго см.: Hoeven J. A. van der. Some demographical data from
Netherlands New Guinea.— Documente de medicina geographica et tropica,
1956, v. 8, N 4, p. 303—308; Arsdale P. W. van. Population dynamics among
Asmat hunter-gatherers of New Guinea: data, methods, comparisons.— HE,
1978, v. 6, N 4, p. 435—466; Demographic and Biological Studies of the Warao
Indians. Los Angeles, 1980. О ранних земледельцах см.: Brown P., tyinefield G.
Some demographic measures applied to Chimbu census and field data.—
Oceania, 1965, v. 35, N 3; Kelly R. C. Demographic pressure and descent group
structure in the New Guinea Highlands.— Ibid., 1968, v. 39; Fix A. The
demography of the Semai Senoi. Ann Arbor, 1977; MacCluer J. W., Neel J, F.,
Chagnon N. A. Demographic structure of a primitive population: a
simulation.— AJPhA, 1971, v. 35, N 2; Neel J. V., Weiss К. M. The genetic structure
of a tribal population: the Yanomama Indians.— Ibid., 1975, v. 42, N 1.
Обобщающие работы: Сarr-Saunders Α. Μ. The population problem...; Krzy-
wicki L. Primitive society...; Hassan F. A. Population in prehistory...;
Козинцев А. Г. Переход к земледелию..., и др.
67 Hassan F. A. The growth and regulation..., p. 314—315; Козинцев А. Г.
Переход к земледелию..., с. 32.
68 Howell N. Demography..., p. 189—210.
69 Bulmer R. N. H. Traditional forms of family limitation in New Guinea.—
In: Population Growth and Socio-Economic Change. Canberra, 1971.
70 Chagnon N. A. Is reproductive success equal in egalitarian societies? — In:
Evolutionary Biology and Human Social Behavior. North Scituate, 1979.
71 MacCluer J. W., Neel J. F., Chagnon N. A. Demographic structure..., p. 197;
Neel J. V., Weiss K. M. The genetic structure..., p. 31·
72 Lizot J. Population, resources and warfare among the Yanomami.— Man, 1977,
v. 12, N 3—4, p. 504; Chagnon Ν. Α., Flinn M. F., Melancon Th. F. Sex-
ratio variation among the Yanomamo Indians.— In: Evolutionary Biology
and Human Social Behavior, p. 295 f.
73 Turner II, C. G. Dental anthropological indications of agriculture among the
Jomon people of Central Japan.— AJPhA, 1979, v. 51, N 4, p. 622, tab. 3;
Schindler D. L.4 Armelagos G. /., Bumsted M. P. Biocultural adaptation: new
directions in Northeastern anthropology.— In: Foundations of Northeast
Archaeology. N. Y., 1981.
74 Vallois H. V. Vital statistics...; Acsadi G., Nemeskeri J. History of human
life...; Angel L. Paleoecology...; Idem. Early Neolithic skeletons from Catal
Huyuk: demography and pathology.— AS, 1971, v. 21, p.-77—96; Pietrusew-
sky M. The palaeodemography of a prehistoric Thai population: Non Nok Tha.—
AP, 1974, v. 17, N 2, p. 127—138; Алексеев В. П. Палеодемография...; По-
техина И. Д. К вопросу...; Урланис Б. В. Эволюция..., и др.
75 Angel L. Paleoecology...
486
Глава пятая
76 Lewin R. Anthropology meeting highlands: disease clue to dawn of
agriculture.— Science, 1981, v. 211, p. 41.
77 Weiss К. М. Demographic models..., p. 21—22, tab. 4.
78 Harpending H. Regional variation in Kung populations.— In: Kalahari Hunter-
gatherers. L., 1976, p. 158—165.
79 Левин Μ. Л, Чебоксаров Η. Η. Хозяйственно-культурные типы и историко-
этнографические области.— СЭ, 1955, № 4, с. 4; Чебоксаров Н. #., Чебокса-
рова И. А. Народы..., с. 169.
80 Генинг В. Ф. Этнический процесс..., с. 92—93; Чеснов Я. В. О социально-
экономических и природных условиях возникновения
хозяйственно-культурных типов.— СЭ, 1970, № 6, с. 15—26; Андрианов Б. В., Чебоксаров Η. Η.
Хозяйственно-культурные типы и проблема их картографирования.— СЭ,
1972, № 2, с. 3—16; Алексеев В. П. Антропогеоценозы — сущность,
типология, динамика.— Природа, 1975, № 7, с. 18—23; Чеснов Я. В. Об
этнической специфике хозяйственно-культурных типов.— ЭДРО, с. 109 ел.
81 Андрианов Б. В. Неоседлое население мира и опыт его
картографирования.— Б кн.: Проблемы этнической географии и картографии. М., 1978.
82 Толстое С. П. Очерки первоначального ислама.— СЭ, 1932, № 2, с. 31.
83 Чебоксаров Н. #., Чебоксарова И. А. Народы..., с. 170, 174; Андрианов Б. В.
Хозяйственно-культурные типы и исторический процесс— СЭ, 1968, № 2,
с. 33; Он же. Земледелие наших предков. М., 1978, с. 18; Андрианов Б. В.,
Чебоксаров Я. Я. Хозяйственно-культурные типы..., с. 9—10.
84 Генинг В. Ф. Этнический процесс..., с. 92, 93; Чеснов Я. В. О социально-
экономических и природных условиях..., с. 15—26.
85 Арутюнов С. А. Этнические общности..., с. 67, 77, 78.
86 Гвоздовер М. Д. Специализация охоты и характер кремневого инвентаря
верхнего палеолита.— В кн.: Первобытный человек, его материальная
культура и природная среда в плейстоцене и голоцене. М., 1974, с. 48—52.
87 Степанов В. П. Природная среда и зональность первобытного хозяйства
в эпоху верхнего палеолита на территории СССР.— В кн.: Проблемы общей
физической географии и палеогеографии. М., 1976, с. 300—322.
88 Гвоздовер М. Д. Специализация охоты..., с. 51—52; Степанов В. П.
Природная среда.... с. 311—320.
89 МсВигпеу С. В, М. The cave of Ali Tappeh and the epi-palaeolithic in North-
East Iran.— PPS, 1969, v. 34, p. 400.
90 Wendorf F. Schild R. The use of ground grain during the Late Paleolithic of.
the Lower Nile valley, Egypt.— OAPD, p. 275—282.
91 Meggitt M. J. Indigenous forms of government among the Australian
Aborigines.— Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. 'S-Gravenhage, 1964,
deel 120, le Aflevering, p. 165—168; Lawrence R. Aboriginal habitat and
economy. Canberra, 1968.
92 Чеснов Я. В. Об этнической специфике..., с. 118—119.
93 Lawrence R. Aboriginal habitat..., p. 41—43, 123—124, 217—218.
94 Dixon R. M. W. A grammar of Yidin. Cambridge, 1977, p. 3, 9.
95 Григорьев Г. П. Начало верхнего палеолита..., с. 145—146.
96 Hayden В. Research and development in the Stone Age: technological
transitions among hunter-gatherers.— CA, 1981, v. 22, N 5.
97 Левин Μ. Г., Чебоксаров Η. Η. Хозяйственно-культурные типы..., с. 10—11;
Чебоксаров Н. #., Чебоксарова И. А. Народы..., с. 215—221.
98 См.: Чеснов Я. В. О теории «культурных областей» в американской
этнографии.— В кн.: Концепции зарубежной этнологии. М., 1976.
99 Clarke D. L. Analytical archaeology, p. 328—362.
100 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, с. 37.
101 Чебоксаров Η. Η. Проблемы происхождения древних и современных
народов.—VII МКАЭН, М., 1964, с. 4, 5.
102 Токарев С. А. Проблема типов этнических общностей.— ВФ, 1964, № И,
с. 47.
103 Кабо В. Р. Первобытная община охотников и собирателей.— ПИ ДО, с. 232,
233; Козлов В. И. Динамика численности..., с. 59; Вахта В. Л/., Сенюта Т.В.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 487
Локальная группа, семья и узы родства в обществе аборигенов Австралии.—
ОСР, с. 73; Бромлей Ю. В. Этнос и этнография, с. 128; Лашук Л. Я.
Введение в историческую социологию. М., 1977, вып. 2, с. 37, 38, и др.
104 Чебоксаров Я. Я. Проблемы происхождения..., с. 6, 7; Он же. Проблемы
типологии этнических общностей в труда» советских ученых.— СЭ, 1967,
№ 4, с. 101; Чебоксаров Я. Я., Чебоксарова И. А. Народы..., с. 70, 71;
Арутюнов С. Α., Чебоксаров Я. Я. Раса, популяция и этнос. М., 1970, с. 10—12;
Они же. Передача информации как механизм существования этносоциальных
и биологических групп человечества.— РН, 1972, т. 2, с. 23, 24.
105 Генинг В. Ф. Этнический процесс в первобытности. Свердловск, 1970, с. 59;
Чебоксаров Я. Я., Чебоксарова И. А. Народы..., с. 23; Чеснов Я. В. Ранние
формы этнонимов и этническое самосознание.— В кн.: Этнография имен. М.,
1972, с. 10; Кабо В. Р. [Рец. на кн.: Fried Μ. Я. The notion of tribe] — HAA,
1979, № 2, с 234; Шнирелъман В. А. Протоэтнос охотников и собирателей.—
ЭДРО; Он же. О специфике этнической структуры у охотников, собирателей
и рыболовов.— РН, 1982, т. 12.
106 Григорьев Г. П. Начало герхнего палеолита и происхождение Homo sapiens.
Л., 1968, с. 146 ел.; Он же. Первобытное общество и его культура в мустье
и начале позднего палеолита.— В кн.: Природа и развитие первобытного
общества. М., 1969, с. 201 ел.; Рогачев А. Я. Значение и роль социальной
среды в развитии культуры первобытного общества.— Там же; Любин В. Я.
Нижний палеолит.— В кн.: Каменный век на территории СССР. М., 1.970;
Файнберг Л. А. Возникновение и развитие родового строя.— В кн.:
Первобытное общество. М., 1975, с. 154, 155; Алексеев В. П. О самом раннем этапе
расообразования и этногенеза.— ЭДРО, с. 38; Арутюнов С. А. Этнические
общности..., с. 62—64.
107 Об этом см., например: Формозов А. А. Проблемы этнокультурной истории
каменного века на территории Европейской части СССР. М., 1977, с. 26 ел.
108 Арутюнов С. Α., Чебоксаров Я. Я. Раса, популяции..., с. 12; Бромлей Ю. В.
К характеристике понятия «этнос».— РН, 1971, т. 1, с. 25, 26; Алексеев В. Я.
О самом раннем этапе..., с. 37, 41; Арутюнов С. А. Этнические общности...,
с. 64; Yengoyan A. A. Demographic and ecological..., p. 188; Williams В. J.
A model..., p. 105—106; Birdsell J. B. Ecological influences..., p. 135—136;
Howell N. Demography..., p. 356—357.
109 Генинг В. Ф. Этнический процесс..., с. 43—55; Wobst Я. М. Locational,
relationships..., p. 51—54.
110 Шнирелъман В. А. Протоэтнос...; Он же. О специфике...
111 Арутюнов С. А. Этнические общности..., с. 62 ел.; ср.: Формозов А. А. О
времени и исторических условиях сложения племенной организации.— СА,
1957, № 1.
112 Ср.: Григорьев Г. П. Верхний палеолит.— В кн. Каменный век на
территории СССР. М., 1970, с. 44; Он же. Восстановление общественного строя
палеолитических охотников и собирателей.— ОСР; Он же. К методике
установления локальных различий в палеолите.— УСА; Ранов В. А. О некоторых
вопросах, связанных с выделением локальных вариантов (фаций) в эпоху
палеолита.— Там же; Любин В. П. О проявлении локальных различий
в нижнем палеолите.— Там же; Формозов А. А. Развитие локальных
вариантов и спорные проблемы этнокультурной истории.— Там же, с. 26—39;
Борисковский Я. И. Древнейшее прошлое человечества. Л., 1979, с. 89—92;
Clarke D. Analytical archaeology. L., 1978.
113 Шнирелъман В. А. Протоэтнос...; Он же. О специфике...; Он же.
Этнокультурные контакты и переход к производящему хозяйству.— СЭ, 1982, № 2;
Hill J. Language contact systems and human adaptation.— JAR, 1976, y. 34,
N 1, p. 1—19; Merlan F. Land, language and social identity in Aboriginal
Australia.— Mankind, 1981, v. 13, N 2.
114 Kolig E. From tribesman to citizen? Change and continuity in social identities
among South Kimberley Aborigines.— In: Aborigines and Change: Australia
in the '70s. Canberra, 1977, p. 39—42.
488
Глава пятая
115 Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964, с. 64;
см. также: Токарев С. А. Проблема типов..., с. 47—48; Крюков М. В.
Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза.— РН, 1976, т. 6,
с. 59, и др.
116 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография, с. 129—136.
117 Yengoyan A. A. Demographic factors..., p. 82—83.
118 Герценберг Л. Г. К вопросу о языковом ландшафте в древнейшую эпоху.—
ОСР, с. 51.
Х19 Эделъман Д. И. К субстратному наследию центральноазиатского языкового
союза.— ВЯ, 1980, № 5; Benedict Р. К. Sino-Tibetan. A conspectus.
Cambridge, 1972.
120 Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное
состояние и проблемы. М., 1981; Сравнительно-историческое изучение
языков разных семей. Задачи и перспективы. М., 1982; Теоретические основы
классификации языков мира. М., 1980—1982, ч. 1—2, и др.
121 Dixon R. Μ. W. The languages of Australia. Cambridge, 1980.
122 Ibid., p. 36.
123 Шнирелъман В. А. Протоэтнос..., с. 88—91; The Languages of Native
America: Historical and Comparative Assessement. Austin; London, 1979.
124 Wurm S. Α., McElhanon K. Papuan language classification problems.— Γη:
New Guinea Area Languages and Language Study. Canberra, 1977, v. 1,
p. 145—147.
125 Шнирелъман В. А. Этнокультурные контакты...; Он же. Инновации и
культурная преемственность.— НАА, 1982, № 5.
126 Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков.— В кн.:
Славянское языкознание. Доклады сов. делегации на VII международном
съезде славистов. М., 1968, с. 407—426; Он же. Опыт сравнения
ностратических языков. М., 1971—1976, т. 1—2; Долгопольский А. Б. Гипотеза
древнейшего родства языковых семей Северной Евразии с вероятностной точки
зрения.— ВЯ, 1964, № 2; Ностратические языки и ностратическое
языкознание. Тезисы докладов конференции. М., 1977; Палмайтис Л. Праязык —
генетическая или контактная общность? — ВЯ, 1978, № 1; Он же. Место
уралистики в разрешении бореальной гипотезы. Вопрос эргатива.— Уч. зап.
Тартуского ун-та, Тарту, 1978, вып. 455; Проблемы изучения ностратиче-
ской макросемьи языков.— В кн.: Лингвистическая реконструкция и
древнейшая история Востока. М., 1984, ч. 5. /
127 Gregersen Ε. A. Kongo-Saharan.— Journal of African Languagies, 1972, v. 11,
pt. 1; Olderogge D. Migrations et differenciations ethniques et linguistiques.—
In: Histoire general de l'Afrique. PM 1980, t. 1, p. 317.
128 Benedict P. K. Thai, Kadai and Indonesian: a new alignment in Southeast
Asia.— AA, 1942, v. 44, N 4,.pt 1; Idem. Sino-Tibetan...; Idem. Austro-Thai.
Language and culture. New Haven, 1975; Пейрос И. И. Древняя Восточная
и Юго-Восточная Азия: сравнительно-исторические данные и их
интерпретация,— В кн.: Лингвистическая реконструкция..., ч. 4.
129 Старостин С. А. Гипотеза о генетических связях синотибетских языков
с енисейскими и северокавказскими языками.— В кн.: Лингвистическая
реконструкция..., ч. 4.
130 Wurm S. A. The emerging linguistic picture and linguistic prehistory of the
Southwestern Pacific— In: Approaches to Languages. The Hague; Paris, 1978,
p. 204—208; Dixon R. M. W. The languages of Australia, p. 19, 227, 228.
131 Matteson E. Toward Proto Amerindian.— In: Comparative Studies in
Amerindian Languages. The Hague, 1972, p. 21—89. Критику см., например:
Key Μ. R. The grouping of South American Indian languages. Tubingen, 1979,
p. 112-113.
132 Service E. R. Primitive social organization: an evolutionary perspective. N. Y.,
1971; Sahlins M. D. Tribesmen. Englewood Cliffs, 1968.
133 Арутюнов С. А. Этнические общности... с. 73—74.
134 Read К. Е. Cultures of the Central Highlands, New Guinea.— SJA, 1954,
v. 10, № 1; Бутинов Н. А. Происхождение и этнический состав коренного
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 489
населения Новой Гвинеи.— В кн.: Проблемы истории и этнографии
народов Австралии, Новой Гвинеи и Гавайских островов. М.; Л., 1962; Он же.
Папуасы Новой Гвинеи. М., 1968; Шнирелъман В, А. Проблема доклассового
и раннеклассового этноса в зарубежной этнографии.— ЭДРО.
135 Colson Ε. Social organization of the Gwembe Tonga. Manchester, 1967, p. 13—
14.
136 Goody J. R. The social organization of the LoTFiili. L., 1956, p. 17—19.
137 Demographic and Biological Studies of the Wsltslo Indians.
138 Об этнической стратификации см.: Shibutani Т., Kwan К. Μ. Ethnic
stratification. Ν. Υ., 1965.
139 Ср.: Порхомовский В. Я. 'Проблемы генетической классификации языков
Африки.— В кн.: Теоретические основы классификации языков мира.
Проблемы родства. М., 1982; МилитаревА. Ю. Современное
сравнительно-историческое афразийское языкознание: что оно может дать исторической науке? —
В кн.: Лингвистическая реконструкция..., ч. 3; Diakonoff I. M. Early
Semites in Asia.— Altorientalische Forschungen. В., 1981, Bd VIII; An
Archaeological and Linguistic Reconstruction of African History. Berkeley, 1982.
140 Чеснов Я. Б. Деместикация риса и происхождение народов Восточной и Юго-
Восточной Азии.— IX МКАЭН. Доклады сов. делегации. М., 1973;
Яхонтов С, Е. Языки Восточной и Юго-Восточной Азии в IV—I тысячелетиях
до н. э.— РЭИНВА.
141 Wurm S. A. The emerging linguistic picture..., p. 195—202.
142 Ibid., p. 211—218.
143 Key M. R. The grouping...; The Languages of Native America...
144 Sorensen A. P. Multilingualism in the Northwest Amazon,— AA, 1967, v. 69,
N 6, p. 670.
146 Button Τ. Language and trade in Central and South-East Papua.— Mankind,
1978, v. 11, N 3, p. 343, 344.
146 Ibid., p. 347-350.
Глава шестая
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
1. Особенности общественного сознания
первобытной эпохи.
Об общественном сознании людей рассматриваемой эпохи мы
знаем, к сожалению, очень мало. Об этом предмете написано,
правда, большое количество книг; уже давно ведутся споры и
высказываются весьма различные мнения о том, чем отличается и
отличается ли сознание (мышление) людей первобытной эпохи от нашего.
Но уже само наличие этих разных, до прямой противоположности,
взглядов на характер мышления первобытного человека есть
признак того, как мало известно о нем достоверного.
Эволюционистское направление этнографической науки
исходило из идеи коренного единства человеческой психики,
универсальности и неизменности законов мышления. Это — «Elementargedanke»
А. Бастиана — категория, при помощи которой немецкий
путешественник и ученый пытался объяснить общие закономерности и
сходства в явлениях культуры всех народов. Дж. Мак-Леннан был
убежден в том, что сходств в культуре и обычаях самых разных народов
гораздо больше, чем различий между ними 1. Патриарх этнографии
Э. Тайлор тоже исходил в своих построениях из предположения об
исконном единстве человеческой психики и универсальности
действия логических законов мышления2. Г. Спенсер, хотя и проводил
различие между психикой первобытных людей («дикарей») и
цивилизованных народов, но видел это различие главным образом в
эмоциональной сфере, а также в объеме положительных знаний;
«законы мысли,— как говорил он,— повсюду одни и те же»; поэтому
«заключение, выводимое первобытным человеком, есть разумное
заключение из тех данных, которые ему известны» 3.
Упадок эволюционистского направления в конце XIX в.
выразился и в том, что появилась тенденция подчеркивать существенные
отличия в строе мышления «первобытных» и «цивилизованных»
людей. Очень резко выразил эту тенденцию А. Фиркандт, который
постарался систематически противопоставить психику «естественных»
и «культурных» народов и в области мышления («ассоциативный» и
«апперцептивный» типы), и в области волевых актов (в первом
случае «непроизвольные», а во втором «произвольные» действия,
«играющая» и «организованная» энергия), и в характере эмоций и
аффектов 4. Следом за ним К. Прейс видел особенность первобытного
мышления в преобладании магических представлений, из которых он
склонен был выводить не только религиозно-мифологические
верования, но и искусство, и язык, и даже технику5.
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
491
Все это были попытки объяснить в рамках общей
эволюционистской концепции и в строго рационалистическом духе заметные
различия и в типах культуры, и в психическом облике народов,
стоящих на разных уровнях развития.
Другое применение получила та же эволюционистская концепция
в трудах 3. Фрейда и его последователей. «Психо-аналитический»
метод привел Фрейда к выводу, что духовный мир отсталых народов
напоминает клиническую картину нервно-психических заболеваний:
там действуют те же навязчивые идеи, неврозы, «фобии» и пр.,
принимающие форму табуации, тотемических представлений,
анимистических образов. Основой же всего этого служат якобы подавленные
в детстве эротические влечения6. Подобно классикам
эволюционистской школы, фрейдисты тоже исходят из постулата единства
человеческой психики, но интересуются сферой не «сознательного», а
«подсознательного» и ищут не нормальных и разумных, а
патологических и иррациональных черт психики. Некоторые из
последователей Фрейда доводят до абсурда настойчивые поиски сексуальной
символики в культуре, обычаях, представлениях отсталых народов,
которые изображаются чуть ли не совокупностью эротоманов7.
Например, Г. Рохейм в своем обстоятельном исследовании об
австралийском тотемизме настойчиво старался истолковать не только все
верования, мифы, обряды австралийцев в духе фрейдовского
«эдипова комплекса», но даже технику обработки камня объяснял как
нечто производное от ритуального употребления камня в связи с тем же
«комплексом».
Иной подход к пониманию различий между психическими
типами народов разного уровня развития содержался в социологической
концепции Э. Дюркгейма и его последователей. Э. Дюркгейм ввел в
научный оборот понятие «коллективных представлений» для
обозначения идей, не заимствованных индивидом из его собственного
практического опыта, а как бы навязываемых ему общественной средой.
Это понятие существенно отличается от понятия «общественное
сознание», употребляемого в советской науке, так как последнее
включает в себя и данные практического опыта, и представления,
обусловленные ограниченностью такого опыта. Привлекая внимание к
«коллективным представлениям», Дюркгейм открыл путь для
исследования этой категории идей и соответствующих им эмоций и
действий8. По этому пути двинулся Л. Леви-Брюль, считавший, что к
«коллективным представлениям» неприложимы рационалистические
нормы логического мышления, что сознание человека, подчиненное
«коллективным представлениям», непроницаемо для опытной
проверки.
Этот тип мышления Леви-Брюль обозначил как «дологическое
мышление». Он неоднократно оговаривался, что термин этот
относится только к области «коллективных представлений» и что вне
данной области, в сфере практического опыта, любой человек, хотя
бы принадлежащий к самому отсталому народу, действует и мыслит
492
Глава шестая
вполне разумно и целесообразно. Но вопреки своим же оговоркам, Ле-
ви-Брюль зачастую выражался так, как будто термин «дологическое
мышление» характеризует вообще склад ума отсталых народов
(«низших обществ», как сказано даже в заголовке первой и
важнейшей книги французского ученого) 9. В то же время сам Леви-Брюль
не раз говорил, что и в наших современных обществах не исчезли
«коллективные представления» с присущим им «дологическим»
строем мысли.
Общая непоследовательность и противоречивость концепции Ле^
ви-Брюля привели к тому, что она очень по-разному оценивается в
современной науке, а сам этот ученый в своих посмертно изданных
«Записных книжках» отбросил гипотезу «дологического мышления»
как плохо фундированную93. Но при всем том ясно: то, что Дюрк-
гейм и его единомышленники называли «коллективными
представлениями», занимало на ранних ступенях развития общественного
сознания значительно более видное место, чем на более поздних
стадиях. «Индивидуализация» мышления делала только первые свои
шаги. И в этом смысле исследование Леви-Брюлем особенностей
первобытного мышления остается небесполезным для понимания
форм общественного сознания данной эпохи. Ниже мы еще
вернемся к оценке теории Леви-Брюля.
Мысль о том, что существуют разные «типы мышления»,
исторически (или этнически) размежеванные, оказалась очень живучей.
Ее подхватили, взяв от Дюркгейма — Леви-Брюля, ученые разных
школ и развили в разных направлениях; другие пришли к сходным
мыслям, может быть, независимо от французских социологов. Здесь
имеются в виду не расистские теории о специфике психики у каждой
отдельной расы — эти теории стоят вообще далеко от науки и не
заслуживают рассмотрения; дело идет тут о более серьезных научных
направлениях.
Так, среди немецких этнографов-диффузионистов сложилось
мнение (и это без прямого влияния со стороны Леви-Брюля), что у
каждой «культуры» есть свои, ей присущие особенности психики. Такой
вывод делал, например, Л. Фробениус, который в своей
научно-поэтической классификации «культур», выделяя «женские» («хтониче-
ские») и «мужские») («теллурические»), пытался найти место и для
психологической характеристики каждого из этих типов «культур».
«Теллурическая» культура, по его мнению, стремится как бы вверх,
и это проявляется будто бы не только во внешних формах (свайное
жилище, свайные амбары* кровать на ножках), но и
психологически: людям здесь свойственно «чрезвычайное чувство далекого»;
возрастные классы ведут его по ступенькам вверх. «Хтонической» же
культуре свойственно стремление зарыться в землю: подземные
жилища, и зернохранилища, земляные печи, представления о
подземном мире душ и т. д.10
В подобных взглядах, впрочем, больше романтики, чем научного
анализа: Более реалистичной представляется попытка Ф. Гребнера,
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
493
сделанная им в самой последней его работе «Das Weltbild der Pri-
mitiven» и плохо вяжущаяся с общей механической методикой,
применявшейся им в других работах: попытка определить
особенности «мировоззрения» (Weltbild) различных групп народов,
принадлежащих к определенным хозяйственным типам11. У Гребнера
получились, таким образом, типы «мировоззрения» таких групп, как
народы «низших культур» (австралийцы и др.), «древние
земледельцы» с их «материнско-правовой культурой» «отцовско-правовые
культуры», «арктические народы», «древние высокие культуры».
Первым (низшим культурам) Гребнер приписал «магическое
мировоззрение», «древним земледельцам» — «анимистическое
мировоззрение», «отцовско-правовым культурам» — «личностное
мировоззрение» (Personlichkeitsweltanschauung), арктическим народам
—шаманское мировоззрение, высоким культурам — более сложное
мировоззрение. И хотя в таком распределении типов «мировоззрения»,
конечно, много натянутого и искусственного, да и сама
классификация типов культур не слишком-то выдержана логически, однако уже
одна попытка присмотреться к специфическим различиям в
психике, зависящим от экологических и социальных условий,
заслуживает внимания.
Наиболее оживленный спор о единстве психики человека при
разных культурных условиях и на разных ступенях исторического
развития завязался среди американских культурных антропологов —
последователей Ф. Боаса или испытавших на себе его влияние. Сам
Боас, выдающийся ученый и мыслитель, неутомимый борец
против расизма и разных шовинистическо-колониалистских взглядов, в
своих работах последовательно проводил точку зрения
принципиального единства человеческой психики на всех ступенях исторического
развития.
В своем замечательном строго научном труде «Ум
первобытного человека» (1911) он сумел убедительно опровергнуть те
легковесные обывательские характеристики, которые давались
отсталым народам авторами-расистами. Критический пересмотр
основанных на предубеждении характеристик приводит Боаса к выводу, что
«во многих случаях различия между человеком цивилизованным и
первобытным оказываются скорее кажущимися, чем
действительными, и что «в действительности основные черты ума одинаковы» 12.
Существенные функции человеческого ума, говорит он в другом
месте, «являются общим достоянием всего человечества» 13.
Ученики и продолжатели Боаса развивали его антирасистские и
антиколониалистские идеи по двумя направлениям: с одной
стороны, они настаивали на отсутствии существенной разницы между
психикой первобытных и современных людей; с другой стороны, все
более старались вникнуть в различия между психическим складом
отдельных народов (отдельных культур) из категории так называемых
первобытных. Но они сами сильно разошлись между собой во
взглядах.
494
Глава шестая
Так, А. Гольденвейзер особенно подчеркивал, что единство
человечества не исключает множественности культур («Man is one,
civilizations are many») 14; он старался показать качественное
своеобразие каждой отдельной культуры, которой присущ свой особый
психический тип. При этом Гольденвейзер все же старался вынести за
скобку и общие черты, в том числе психологические, «ранних»
(первобытных) культур: сравнительную гомогенность и слабую диффе-
ренцированность, несвободу отдельной личности, авторитет
стариков, отсутствие систематизированных знаний и пр.15 Напротив,
другой ученик Боаса, П. Радин, решительно отрицал всякую
принципиальную разницу между «примитивной» и «нашей» культурами.
Он резко отвергал, в частности, тезис классической
эволюционистской этнографии о том, что в культуре первобытных народов как-то
больше проявилась «человеческая природа», и что поэтому именно
на их изучении можно основывать разные общеисторические
«спекуляции». Сам Радин, наоборот, считал, что эти «примитивные»
культуры — а значит, и свойственные им психические типы — не
меньше отличаются друг от друга, чем каждая из них, например,
от испанской, от немецкой, от английской культуры: все они стоят
в одном общем ряду16.
Л. Уайт, представитель крайне левого крыла Боасовской школы,
стоял на прямо противоположной Радину позиции, ни в чем не
соглашаясь, однако, и с Гольденвейзером. Он мало интересовался
локальными и этническими различиями между отдельными группами —
представителями «примитивных» обществ, так как стремился,
напротив, построить общую схему эволюции человечества; зато он
проводил самую резкую грань между «примитивным» обществом со
свойственным ему общественным сознанием и «гражданским»
(цивилизованным) обществом. Первое он неумеренно идеализировал,
видя в нем воплощение идей свободы, равенства и братства; второе,
напротив, чернил, воскрешая идеи Руссо и рассматривая
«гражданское» общество как бесчеловечное, негуманное, безличное, неэтичное,
где человек со всеми его чувствами и понятиями стал лишь придатком
безликой собственности: «в гражданском обществе собственность есть
мера всех людей» 17.
Есть ли все же качественное различие между психическими
типами в разных культурах и на разных уровнях культурного
развития? И если есть, чем оно порождено? Спор об этом вновь
разгорелся в американской этнографической науке в 1930—1950-х годах,
когда на сцене появилось новое направление — «этнопсихологическая»
школа (иначе — школа «культуры и личности»). Все сторонники
этой школы, во главе которой стоял психиатр А. Кардинер,
единогласно отстаивали тезис о качественном различии психических типов
разных народов, разных «культур» (patterns of culture) и
связывали это различие с неодинаковостью средних типов личности (basic
personality), характерных для каждой отдельной «культуры». Но
в вопросе о причинной связи этих вещей они между собой расходи-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
495
лись. Что от чего зависит? Тип «основной личности» от «культуры»
или «культура» от типа «основной личности»? Сам Кардинер
держался последней точки зрения, правда, не умея ее обосновать и
фактически сам себя опровергая своими рассуждениями18. Более же
здравомыслящие и добросовестные этнографы, хотя и примкнувшие
к этому направлению (Р. Линтон, Р. Бенедикт и др.)» отстаивали
более правильный с точки зрения исторического метода взгляд: они
видели прямую зависимость «структуры основной личности» от
окружающей культурной среды 19.
Наконец, одно из новейших направлений в американской
этнографии — школа «культурного релятивизма» — сочетало идею о
качественных различиях в общественном сознании (культурные и
социальные идеалы, система воспитания) у разных народов с идеей
их равноправия. «Системы ценностей», ориентировка целей в каждой
культуре настолько различны, что они даже не сопоставимы, а
потому могут считаться равноправными и равноценными. Глава
релятивистского направления М. Херсковиц решительно отрицал, что
«бесписьменные» народы (которых, как он подчеркивал,
неправильно называют «дикарями» или «варварами») чем-то существенным
отличаются от нас. Их склад ума совершенно такой же, как у нас;
они мыслят, как мы, хотя посылки их рассуждений могут быть и
иные. Превосходство европейской культуры над культурами
внеевропейских народов Херсковиц признавал только в одном — в области
технологии. Вообще же он склонен подчеркивать скорее сходства,
чем различия между народами — в частности, в области
общественного сознания. Самым важным он считал «универсалии», т. е.
черты общечеловеческой культуры: они могут проявляться у разных
народов весьма различно, но в существе своем они универсальны.
Так, например, народное творчество принимает неодинаковые
формы у разных народов, но основа его — стремление к красоте или
«эстетический импульс» — везде одна и та же20.
В последние десятилетия в изучении первобытного общественного
сознания все более заметна тенденция видеть на всех ступенях
развития человечества действие одних и тех же законов мышления, и
при том законов чисто логических. Такая тенденция пронизывает,
например, работы выдающегося археолога и этнографа А. Леруа-Гу-
рана. Он считает, что по крайней мере со времени перехода древних
людей к оседлости и земледелию (неолит) человеческое мышление
действует одинаково и при том вполне логично и рационально, ибо
оно стремится внести порядок в окружающую действительность.
«Мысль африканца и галла совершенно эквивалентна моей
собственной мысли»,— пишет Леруа-Гуран21.
Но ярче всего это «рационалистическое» направление
проявилось в «структуралистской» концепции К. Леви-Стросса. При всей
сложности, даже вычурности его построений очень заметно его
стремление рассматривать самые различные явления человеческой
культуры — от древнего тотемизма, мифологии и отношений родст-
496
Глава шестая
ва до современных научных теорий — как разные выражения одной
и той же неодолимой потребности человеческого разума вносить
порядок, систему в наблюдаемые явления. Тотемизм, например, есть
для Леви-Стросса способ классификации предметов природы, а так
как любая классификация лучше, чем хаос, то и тотемизм был для
человека шагом вперед в деле познавательного овладения природой.
Виды животных, говорил Леви-Стросс, выбираются в качестве
тотемов не потому, что их «хорошо есть» (bonnes a manger), а потому,
что о них «хорошо мыслить» (bonnes a penser) 22. Больше того: то-
темическая классификация не отличается* по мнению Леви-Стросса,
от классификаций, применявшихся средневековой наукой, и даже от
применяемой сейчас зоологами и ботаниками23. Логика
классификации естественных предметов в тотемической системе основана, как
и в современных классификациях, на смежности и на сходстве 24.
Систему тотемических обозначений Леви-Стросс считает своего рода
«кодами», служащими для «идеального преобразования (convertibi-
lite) различных уровней социальной реальности» 25. «Тотемизм
устанавливает логическую эквивалентность между обществом
естественных видов и миром социальных групп» 26.
Что касается мифологии, то и ее Леви-Стросс рассматривает как
орудие логического познания. «Мифическая мысль, хотя и вклеенная
(engluee) в образы, может быть уже обобщающей, следовательно,
научной» 27. Чтобы понять мифы и обряды, надо знать точную
систематику животных и растений, о которых идет речь28. Никаких «со-
причастий» или «мистицизмов» (о которых говорил Леви-Брюль) не
существует29. «Никогда и нигде «дикарь»... не был тем существом,
едва вышедшим из животного состояния, находящимся во власти
потребностей и инстинктов, каким его часто любили воображать» 30.
Этот «дикарь» есть существо вполне разумное. Он руководствуется
прежде всего не практическими потребностями, а стремлением к
познанию; «животные и растительные виды не потому познаются, что
они полезны: они объявляются полезными или интересными
потому, что они сначала познаются» 31.
Хотя некоторые идеи Леви-Стросса и его единомышленников
несомненно интересны, но рассматривать вместе с ними первобытного
человека как чисто познавательную и логическую машину, которая
удовлетворяет свои «практические потребности» только во вторую
очередь, мы никак не можем. Такое понимание, хотя Леви-Стросс и
любит порой ссылаться на К. Маркса, есть чистейший идеализм.
В советской науке проблемы общественного сознания и его
исторического развития в последние годы получили серьезную
разработку. Одно время в советской науке довольно популярна была
упрощенно-схематическая концепция первобытного мышления Н. Я. Мар-
ра. Под несомненным влиянием Леви-Брюля и увлекшись слишком
широкими выводами из собственных чрезвычайно субъективных
лингвистических построений, Марр пришел к мысли, что вначале
существовало некое «космическое мировоззрение», которое отражалось
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 497
в первобытном языке словами «полисемантического», необычайно
расплывчатого значения (небо — солнце — птица — золото —
серебро— море — тотем — человек — дитя и т. д.). Эти слова имели, по
Марру, «труд-магическое» происхождение, причем более отвлеченное
их значение Марр считал более ранним, а «технологическое»,
связанное с «орудиями производства»,—более поздним32.
Немалую роль в правильной постановке проблемы сознания в
первобытности сыграло учение И. П. Павлова о природе высшей
нервной деятельности и новейшие данные экспериментальной
психологии и физиологии головного мозга.
В книге А. Г. Спиркина, посвященной этой проблеме, автор
считает самым важным выяснение «рациональных сторон сознания»
первобытного человека, в которых отразился стихийный трудовой
опыт древнейшего человеческого коллектива. Первобытное сознание
было по существу логическим, оно «более или менее верно
отражало связи предметов и явлений объективного мира и служило
необходимой предпосылкой целесообразной общественно-трудовой
деятельности человека» 33. А. Г. Спиркин подробно рассматривает
вопросы возникновения древнейших логических категорий — качества,
количества, пространства, времени, причинности, цели, закона. Он
уделяет, однако, должное внимание и «фантастическим элементам»
и «религиозным напластованиям» в первобытном мышлении,
возникавшим из чувства бессилия человека, особенно перед постигавшими
его грозными бедствиями, опасностями, голодовками34.
Рассматривается и происхождение «эстетической» и «нравственной» формы
сознания.
Ю. И. Семенов в своей книге тоже рассматривает вопросы
зарождения ранних форм общественного сознания. Он разбирает
вопрос о «раздвоении человеческой практики» в древнейшую эпоху: на
относительно «свободную практическую деятельность» и
относительно «несвободную, зависимую практическую деятельность». Первая
вела к неуклонно возраставшему реальному познанию природы,
вторая — напротив, к возникновению иллюзорного, магического образа
мышления, в конечном счете к возникновению религии, т. е. к
«раздвоению мира в сознании человека на мир естественный и мир
сверхъестественный» 35. Ю. И. Семенов, видимо, вполне прав, видя
корни этого «раздвоения» не в собственно познавательной области,
а наоборот: «развитие практической деятельности определяло
развитие познания» 36.
Много верных мыслей о первобытном сознании есть и в
небольшой книжке А. Ф. Анисимова363. Общая концепция этого автора
относительно происхождения «рациональных» и «иррациональных»
черт в первобытной психике не расходится с изложенным.
Одна из причин существующих в науке разногласий по вопросу
о характере мышления людей первобытного общества заключается
498
Глава шестая
в туманности самого понятия «первобытное мышление» или
«примитивное сознание». Подлинная первобытность отделена от нас
десятками, если не сотнями тысячелетий. Даже сознание Homo sapiens
ориньякской или мадленской эпох может служить для нас скорее
предметом гипотез, построенных на косвенных свидетельствах,
например на памятниках палеолитического искусства, чем предметом
прямого изучения. Непосредственное наблюдение над явлениями
человеческого сознания возможно для нас только в отношении
современных нам народов, а ведь даже наиболее отсталые из них уже
очень далеки от настоящей первобытности.
Есть, однако, основания заменить ускользающее от нас во тьме
тысячелетий понятие «первобытное сознание» более широким и
более для нас доступным понятием «общественное сознание людей
доклассового общества». Мы можем и теперь еще непосредственно
наблюдать жизнь и поведение людей, живущих в условиях еще нераз-
ложившегося общинно-родового, доклассового строя. Правда, таких
людей, таких народов становится с каждым годом все меньше, но
наука уже располагает большим фондом хорошо
документированных наблюдений над мышлением и поведением людей, еще в XIX —
начале XX в. сохранявших крепкие устои общинно-родовых
отношений и, очевидно, адекватные им формы общественного сознания.
Но тут возникает другая трудность: наблюдаемый и хорошо
документированный материал, относящийся к проявлениям
общественного сознания отсталых, условно выражаясь, народов, оказывается
до крайности разнообразным, пестрым и с трудом укладывается в
рамки каких-либо обобщений. Это одна из главных причин того, что
авторы, писавшие о мышлении людей первобытной эпохи (или о
«психологии первобытного человека»), без труда могли выбрать из
пестрого запаса фактических данных то, что соответствовало их
взглядам и могло служить подтверждением таковых.
И в самом деле: имеем ли мы право вообще говорить об
«общественном сознании доклассового общества» как о чем-то едином,
цельном, одинаковом? Ведь не говоря уже о колоссальной
продолжительности этой эпохи, длившейся десятки тысячелетий и у некоторых
народов не закончившейся еще и теперь, эпохи, па протяжении
которой сознание людей, хотя и медленно, но развивалось, менялось;
не говоря уже об этом, если ограничить наше рассмотрение только
кругом ныне существующих «отсталых» народов, живущих, скажем,
охотиичье-собирательским хозяйством, но и в пределах этого
сравнительно узкого круга различий будет много: быт австралийских
аборигенов не очень-то похож на быт племен кубу, семангов, ведда Юго-
Восточной и Южной Азии, еще меньше похож он на быт
охотничьих племен Южной Америки, еще меньше — на быт эскимосов или
североканадских индейцев. Наконец, совсем особый уклад
хозяйственного быта и особый образ жизни свойствен народам, перешедшим
к раннему земледелию и примитивному скотоводству. Очевидно, что
ή общественное сознание этих народов не может быть одинаковым.
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 499
Да и внутри каждого отдельного племени различия в проявлении
психической деятельности, даже чисто индивидуальные различия,
оказываются, как видно из фактических наблюдений, довольно
заметными.
ν И при всем том все же, видимо, есть некоторые общие
особенности, присущие сознанию людей, живущих в условиях доклассового
общественного строя,— особенности, которые могли бы оправдать и
употребление понятия «общественное сознание доклассовой эпохи».
Во всяком случае, задача проверки научной обоснованности такой
историко-этнографической категории вполне оправдана.
2. Рациональные знания
Выйдя постепенно из животного и полуживотного состояния,
став шаг за шагом «людьми», наши предки отнюдь не отдалились
от окружающей их природной среды. Уже в эпоху праобщины они
вооружились для борьбы против неблагоприятных воздействий этой
среды: научились добывать и применять огонь, строить примитивные
шалаши и землянки, защищать меховой одеждой тело от холода;
стали изготовлять каменные, деревянные, потом костяные орудия
для охоты и обработки предметов, но при всем том они оставались
лицом к лицу с суровой природой и подчинялись ее силам. Как же
отражалось это подчинение природе, этот непрекращающийся
контакт с ней на общественном сознании первобытных людей?
Уточним этот вопрос: как познавал первобытный человек
окружающий его природный мир, как он ориентировался в нем? И как,
сообразно этой ориентировке, строил свое практическое поведение?
Этнографический материал, очень богатый, позволяет в известной
степени восполнить отсутствие непосредственных данных.
Правда, специальных исследований, посвященных
положительным знаниям разных народов об окружающем их мире, в
этнографической литературе очень мало. Почти каждый наблюдатель,
полевой исследователь, записывавший свои впечатления или свою
информацию о том или ином народе, считает своим непременным долгом
подробно рассказать о различных поверьях, суеверных
представлениях, религиозных обрядах данного народа, т. е. в конечном счете
о том искаженном отражении реальной действительности, которое
у этого народа имеется, а что касается положительных знаний о
природе, накопленных тысячелетним трудовым опытом народа, об этом
в большинстве этнографических описаний сообщается лишь
вскользь, мимоходом, как будто эта, так сказать, обыденная
сторона жизни народа не представляла большого интереса. Однако если
собрать по крупинкам все то, что по этим вопросам все же имеется
в этнографических, описаниях, то получится рельефная картина.
Мы видим перед собой первобытных охотников, которые
поразительно тонко, до мельчайших подробностей, знают окружающую их
природу, знают свою местность, растительный и животный мир. Зна-
500
Глава шестая
ния эти, конечно, ориентированы вполне практически, они касаются
лишь тех сторон природной среды, которые имеют жизненно важное
для людей значение. Но в этих пределах знание природы у
охотников, собирателей, рыболовов, можно сказать, виртуозно.
Так, многие наблюдавшие австралийцев путешественники и
специалисты-этнографы не раз отмечали их изумительное знание своей
местности: каждое урочище, каждая скала, каждое дерево им
знакомы. Они умеют найти в песчаной степи, в пустыне воду и пищу;
это умение позволяет им жить и кочевать в таких местах, где
непривычный человек быстро погиб бы от жажды и голода; не раз
спасали австралийские аборигены колонистов, заблудившихся в
безводной пустыне. Они прекрасно знают всех животных своей страны,
знают их повадки, умеют ловко подстеречь их, выследить и
незаметно подкрасться, найти скрывшегося в дупле на высоком дереве
опоссума, найти и вырыть из земли мелкого грызуна, ящерицу, змею...
Не менее поразительно знание растительного мира, который, конечно,
интересует австралийского аборигена тоже главным образом как
источник пропитания: они ведь не только охотники, но и собиратели.
Австралийцы никогда не возделывали культурных растений, но они
в совершенстве знали и знают, какие части каких дикорастущих
трав, деревьев и кустарников пригодны в пищу. Количество видов
растений, отдельные части которых употребляются туземцами для
еды, очень велико: таких видов растений, например, в одной только
центральной части Квинсленда В. Рот, хорошо изучивший быт
аборигенов, насчитывал более 200, и все они прекрасно известны
аборигенам. У одних растений в пищу идут плоды, ягоды, орехи, зерна,
у других — корневища, корни, у третьих — молодые побеги, мягкие
стебли, сердцевина, почки и т. д. Очень характерна техника
обработки этих растительных пищевых веществ, зачастую совершенно
непригодных для еды, даже ядовитых в сыром виде; а это означает
хорошее знание уже не одних только внешних, видимых признаков
растений 37.
Те, кто имел возможность близко наблюдать быт бушменов
Южной Африки, тоже отмечали их поразительное знание своей страны;
по словам В. Элленбергера, «бушменские охотники великолепно
приспосабливались к местности и искусно использовали все особенности
рельефа. Они знали наперечет все тропы, все ущелья и проходы, по
которым передвигались стада диких животных в поисках пастбищ,
и держали их под неослабным контролем» 38. «Знание повадок и
привычек животных, мы бы сказали — научные знания, которые
бушмены передавали из поколения в поколение, несомненно, облегчали им
охоту»,39 — говорит тот же автор.
Что касается народов, перешедших к земледельческому
хозяйству» то у них многие исследователи отмечали столь же поразительное
знание растительного мира. Например, меланезийцы умеют с
необычной точностью различать сорта возделываемых растений. На
Новой Ирландии одной из главных продовольственных культур служит
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
501
клубневое растение таро (Colocasia antiquorum), и женщины умеют
различать 220 сортов этого растения, причем каждый сорт известен
под своим названием. Они же различают 10 сортов ямса, 52 сорта
банана, 14 сортов хлебного дерева40. Подобные сообщения есть и о
друодх этнических группах меланезийцев.
/Вековой опыт народов приводил к накоплению очень обширных
и точных, хотя и чисто эмпирических, знаний о химических
свойствах веществ, особенно растительного происхождения, о лечебных и
токсических их свойствах. У всех народов земного шара, даже у
самых отсталых, многократно отмечалось наличие разнообразных
средств лечения и самолечения; многие из этих средств при
проверке их европейскими врачами оказывались весьма действенными и
разумными. Сюда относятся не только различные приемы
примитивной хирургии — перевязки, лечение ран и переломов, вывихов, кро-
веостанавливающие средства, но и применение разнообразных
лекарств большей частью растительного происхождения41. У
австралийских племен Центрального Квинсленда отмечено употребление с
лечебными целями до 40 различных видов растений42.
Некоторые народы обнаруживают изумительное знание
токсических свойств разных веществ и умение изготовлять и употреблять
яды, главным образом для охоты и рыболовства. Этим отличаются,
например, индейские племена Южной Америки, умеющие
приготовлять сильные яды типа кураре. Бушмены Южной Африки готовили
яды из веществ как животного происхождения (яд змей,
скорпионов, пауков и пр.), так и растительного (сок молочая и др.) и
смешанные яды сложного состава. Бушмены прекрасно разбирались в
этих сортах яда, зная, какой из них годится при охоте на то или иное
животное. Еще интереснее то, что бушмены знали и противоядия от
этих разных видов яда и приготовляли их43.
Рациональные знания, естественно, неодинаковы у народов,
стоящих на разных уровнях исторического развития, они тем более
неодинаковы у жителей разных широт, климатических зон и
ландшафтов, у носителей различных хозяйственных укладов. Приморские
народы и островитяне обычно хорошо знают море; классическим
примером могут служить полинезийцы — смелые мореплаватели,
прекрасно знавшие морские течения и направление ветров, знавшие
расположение островов и архипелагов за многие сотни километров
от собственного острова; они же великолепно ориентировались по
звездному небу, умея находить свой путь в океане по звездам.
Жители тайги отлично знают свою лесистую родину, безошибочно
ориентируются в густых зарослях, кочуя и промышляя зверя на
больших расстояниях. Степняки по неуловимым признакам находят свою
дорогу среди ровной травянистой или песчаной степи.
Практическая деятельность, трудовой опыт — вот главный
источник познания мира людьми, начиная с самых древнейших времен
существования человечества. Накопление этих чисто эмпирических
и при том практически необходимых знаний уходит в чисто инстинк^ *
/
/
502 Глава шестая
тивную приспособительную деятельность животных предков
человека.
Практическая, материально-производственная основа
становления и развития рационально-познавательных начал в духовной
культуре первобытного общества особенно рельефно выступает по мере
изучения той роли, которую играет здесь ритм — упорядоченное
чередование однородных элементов. Первоначальная
непосредственная связь ритмичных действий с динамикой жизнедеятельности
формирующихся людей постепенно, по мере развития первобытного
общества, все более усложняется, опосредуется,~выражается в
самостоятельных абстрагированных формах. Одним из наиболее ярких
документальных свидетельств этого является, начиная с охотничьих
общин эпохи палеолита, специальная графическая фиксация (с
помощью зарубок, нарезок, насечек, красочных пятен и линий и т. п.)
определенных множеств однотипных знаков в едином для них ритме.
Изучение обширных комплексов такого рода древнейших
памятников ритмически организованной изобразительной деятельности
вполне определенно показывает важнейшую роль, которую в ранние
периоды развития первобытного общества играли формирующиеся
представления о ритме в практике простейших и вместе с тем
жизненно необходимых для коллективов охотников и собирателей
ориентации в пространстве, во времени, в количественных соотношениях
между предметами и явлениями окружающего мира.
Становление категории количества, одной из центральных в
общественном сознании человечества, представляет особый интерес πσ
целому ряду причин. Прежде всего понятие о количестве
формируется и проверяется путем исчисления предметов, на которые
направлена человеческая деятельность. Характер счетных операций при
этом выступает в качестве важного объективного критерия,
позволяющего судить о степени интеллектуального опосредования
людьми результатов их действий, об уровне перехода от действия к
мысли. Несомненно, счет является «первой теоретической
деятельностью рассудка, который еще колеблется между чувственностью и
мышлением» 44.
С другой стороны, когда по мере развития первобытного
общества численный результат счета отделяется от его деятельностной
основы и предстает в виде абстрактных чисел, появляются особенно
стойкие иллюзии внепрактического, внематериального
происхождения понятия числа. Другие исторически исходные понятия
математики, механики и прочих наук значительно нагляднее, чем понятие
числа, сохраняют следы своего эмпирического происхождения и тем
самым значительно надежнее «защищены» от идеалистических
интерпретаций. Соответственно, значительно труднее восстановить и
реальную картину генезиса категории количества в общей картине
развития позитивных знаний первобытного общества. Отсюда, в
частности, непрекращающиеся в западноевропейской и американской
науке попытки свести, опираясь на косвенные этнографические и линг-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 503
вистические данные, специфические черты первобытных систем
•счисления к неким изначальным особенностям мистической
ориентации первобытного мышления (в духе взглядов французской
социологической школы) или к некоему древнему магическому
ритуалу, как будто бы единственному источнику возникновения счета в
первобытном обществе45.
Тем большее значение приобретают прямые вещественные
свидетельства, относящиеся к первоначальному генезису счета в
древнейшую, палеолитическую эпоху истории первобытного общества.
Благодаря исследованию такого рода свидетельств на протяжении
более чем 100 лет археология, антропология и история науки дают
возможность избежать произвольного манипулирования огромными
массивами этнографических данных об архаических формах
систематического счета и количественных представлений.
В кратком изложении суть дела сводится к следующему46.
Первоначальные предпосылки количественных операций и
представлений длительное время складывались у формирующихся людей
в ходе многообразных утилитарных действий, связанных с добычей
пищи, использованием минерального сырья, огня, оборудованием
жилищ и т. п. Еще в технике ранней поры нижнего палеолита
проявлялись такие отдаленные намеки на будущие арифметические
операции, как разделение целого на части (в изготовлении орудий,
разделе добычи), сложение нового целого из частей (составные
орудия, жилища), последовательное повторение однотипных процедур
и т. п. Важно подчеркнуть, что значительная часть подобных
предвозвестников счетных действий сложилась задолго до первых следов
внеутилитарной деятельности первобытных охотников и тем более
до каких-либо определенных свидетельств о существовании у них
того или иного ритуала.
Вместе с тем постепенному вызреванию счетных навыков
несомненно предшествовали все более сложные проявления коллективных
навыков ритмичных действий: от количественного и качественного
развития комплексов каменных орудий до графической фиксации
ритмов со все возрастающим числом однотипных знаков,
усложнением их комбинаций вплоть до законченных композиций
геометрических орнаментов.
Обширные комплексы палеолитической графики обнаруживают
определенное единообразие в своем построении у самых разных в
этнокультурном отношении групп древнейшего охотничьего
населения различных районов Евразии. Первое, что обратило на себя
внимание многих исследователей,— бесспорное доминирование в
ритмах графических элементов, групп, рядов таких количеств,
которые кратны 5 или 10. Вторая черта первобытного единообразия
графических ритмов состояла в выделении числа 7 и кратных ему
величин. Поскольку не вызывает сомнений формирование ритмов с
основой 5 или 10 под воздействием практики счета на пальцах,
универсальной в первобытном мире, наиболее убедительная трактовка
504
Глава шестая
акцентов на ритмы, кратные 7, связывает их с широко
распространенными приемами времяисчисления по таким ориентирам, как
суточное движение Солнца, месячный цикл Луны: последний делится
пополам, а затем и на четверти по 7 суток.
Действительно, в палеолитической графике Евразии изучена
масса примеров «записи» ритмически повторяющимися единицами в
пределах 1, 2, 3 и более лунных месяцев47, вплоть до ряда случаев
фиксации периодов в 10 лунных месяцев (обычная длительность
беременности у женщин) и солнечного года48. На фоне единообразного·
повторения средствами ритмически организованной графики
палеолита определенных сторон жизни природы и первобытного
общества складывались также и локально-этнические особенности
развития представлений о ритме и счете. Так, в одних коллективах
первобытных охотников отдавалось предпочтение ритмам, кратным
3 (6, 9), тогда как в других соответственно 4 и 8. В конечном итоге в
первобытных общинах охотников палеолита была подготовлена
почва для развития основных систем счисления позднейших эпох, на*
чиная с наиболее распространенной пятерично-десятичной.
Здесь уместно вспомнить одно из самых интересных в
этнографической литературе описаний архаичной процедуры пальцевого счета*
принадлежащее Η. Η. Миклухо-Маклаю. «Излюбленный способ
счета состоит в том, что папуас загибает один за другим пальцы руки,
причем издает определенный звук, например «бе, бе, бе»... Досчитав
до пяти, он говорит: «ибон-бе» (рука). Затем он загибает пальцы
другой руки, снова повторяя «бе, бе»... пока не дойдет до «ибон-али»
(две руки). Затем он идет дальше, приговаривая «бе, бе»... пока не
дойдет до «сам-ба-бе» и «самба-али» (одна нога, две ноги). Если
нужно считать дальше, папуас пользуется пальцами рук и ног
кого-нибудь другого» 49. К аналогичным или подобным процедурам
обращались при вычислениях аборигены Австралии, Северной Азии,
Северной и Южной Америки.
Традиционая ритмика пальцевого счета во многих племенах
охотников и собирателей привела к однотипным формам зрительных и
словесных обозначений определенных количеств. Так, для
обозначения числа 5 тасманиец поднимал руку и пересчитывал ее пальцы.
У аборигенов Западной Австралии то же число 5 обозначалось как
«половина рук», 15 — как «рука на каждой стороне и половина ног».
Гренландские эскимосы число 5 называли словом «рука», 6 — «на
другой руке один», 7 — «на другой руке два» и т. д.50 Зачатки
формирования такого рода символики для обозначения и запоминания
чисел на весьма ранних стадиях развития первобытного общества
представляются вполне естественными, поскольку именно рука была
первым орудием труда, самым прочным связующим звеном между
объектом труда и мыслью, первым инструментом для
количественного членения предметов материального мира.
Ритмичная организация совместных трудовых действий у членов
первобытного коллектива объединяла их усилия для достижения
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
505
общей цели с меньшей затратой сил. Точно так же первобытные
процедуры счета значительно облегчались и ускорялись при
ритмичном перечислении единиц, затем групп, составленных из единиц.
Индивид следовал производственному опыту своего коллектива.
При этом важно отметить, что практика пальцевого счета и
определяемые ею разного рода «ручные числительные»,
зафиксированные этнографами в разных местах земного шара у наименее
развитых племен, отнюдь не являются первоначальными, исторически и
психологически исходными формами становления практики счета и
относящихся к ней представлений. Здесь перед нами выступает уже
сравнительно высокая стадия абстрагирующей работы интеллекта,
основанная по крайней мере на двух освоенных ранее стадиях
генезиса счета. В чем их особенности?
На первой стадии счет еще невозможно отделить от объектов
счета: количество предметов в их совокупности определяется лишь
непосредственно на ощупь или на взгляд, оно не представляется вне
осязательных или зрительных ассоциаций, не отделимо от формы,
цвета и т. п. конкретных качественных признаков конкретных
предметов. Пережиточно эта стадия сохранялась у многих охотничьих и
скотоводческих племен, изученных этнографами, например в
ситуациях, когда охотник сразу определяет в массе животных, без их
пересчета, отсутствие одной или нескольких особей, известных ему но
каким-либо индивидуальным признакам.
На второй стадии генезиса счета совокупность уже может быть
расчленена на составные элементы так, что каждый из них может
быть соотнесен с качественно иным элементом из другой
совокупности для того, чтобы в итоге констатировать взаимно однозначное
соответствие, означающее равенство обеих совокупностей по числу
входящих в них единиц. Пережиточно эта стадия проявлялась,
например, в практике межгруппового обмена «предмет за предмет»,
типа обмена определенного числа съедобных кореньев на равное
число рыб у аборигенов Австралии.
Третья стадия характеризуется введением в процедуру
счисления еще одной, третьей совокупности, служащей в данном случае
как бы опосредующим звеном при сравнении двух других
совокупностей. Эту функцию специального средства вычисления
первоначально выполняли, как уже говорилось, пальцы, а наряду с ними и
другие части тела, а также камешки, раковины, палочки и т. п.
предметы, предоставляемые человеку окружающей природной средой.
Существенно отметить, что этнографы неоднократно обнаруживали
обращение считающего к помощи камешков или иных предметов
для фиксации счета лишь после того, как «живая шкала» его тела
оказывалась исчерпанной, а необходимость продолжать счет
оставалась. Впрочем, здесь был и другой путь: приобщение к процедуре
вычислений других членов коллектива, каждый из которых должен
был однотипно продолжать счет, пользуясь собственной «живой
шкалой» для достижения общей цели всех участников вычисления —
506
Глава шестая
точного числового результата. У папуасов, тасманийцев, аборигенов
Австралии и Африки, чукчей и эскимосов в разных формах
коллективного счета проявлялась со всей очевидностью изначальная
общественная сущность традиционных навыков вычисления. Развитие
общественных потребностей в этой сфере создавало предпосылки для
дальнейшего прогресса вычислительных операций и выработки
новых средств фиксации получаемых результатов.
На четвертой стадии генезиса счета естественные посредники
вычислений заменяются искусственными. Таковы разного рода
зарубки, нарезки, насечки на палках, костях или других предметах,
узелки на шнурах, полосы краски на теле или на вещи и т. п.
Необходимость их изготовления и использования отражает такой
уровень развития первобытного общества, когда для его
функционирования уже недостаточно непосредственной передачи информации о
точном количестве прежними средствами: пространственные и
временные масштабы соответствующих социальных потребностей
покрываются лишь более долговечными специальными формами точной
фиксации числа, несущими ее знаки. Если пальцы были
посредниками в счете, то заменяющие их искусственные средства являются
в свою очередь отвлечением, абстрагированием от прежних
посредников, своего рода «посредниками посредников». В качестве
археологических документов, как уже говорилось, они свидетельствуют
о широком развитии такого рода навыков счета в родовых общинах
охотников и собирателей. При этом и начертательные особенности
исходных графических элементов (линия, ямка, точка, клиновидная
зарубка) и их ритмика отражают непосредственное происхождение
такого рода счетных инструментов из производственной практики
палеолитических общин. Вместе с тем мы видим здесь уже и истоки
начальных числовых знаков позднейших общин первобытности, так
же как и истоки наиболее распространенных, вплоть до
этнографической современности, систем счисления. На первое место среди них
в конечном счете выдвигается пятирично-десятичная система,
которую еще античные мыслители, зная о ее универсальном
распространении в известной им ойкумене, объясняли всеобщим характером
пальцевого счета.
Наконец, на пятой стадии происходит постепенное освобождение
процессов счета и его числовых результатов от всех вещественных
признаков рассматриваемых совокупностей предметов и явлений,
ведущее к оперированию абстрактными «числами вообще» в любых
пределах.
Именно с этого момента постепенного высвобождения числовой
символики из недр породившего ее материально-производственного
фундамента жизнедеятельности первобытного общества нарастает
тенденция к иллюзорному, превратному объяснению
счетно-числовых знаний как некого мистического феномена, порожденного
«чистым» разумом вопреки практическому опыту первобытного
человечества. Любопытным обстоятельством в разнообразных попытках
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
507
идеалистических интерпретаций числовой мистики и ритуальных
функций счета является непременная ссылка как на решающий
аргумент на леви-брюлевскую концепцию изначальной мистической
ориентации первобытного мышления. Самым удивительным
моментом (по-видимому, не замеченным авторами подобного рода
рассуждений) является тот очевидный факт, что не кто иной, как Л. Леви-
Брюль, решительно отвергал возможность появления числовой
мистики без достаточно высокого уровня развития практического счета
и оформленного в языке понятия о числе как объективном
показателе количественных отношений51. Создатель концепции пралогиче-
ского мышления пришел к указанному выводу относительно
первобытных числительных и числовых символов в итоге систематизации
и обобщения известных к тому времени этнографических данных о
самых отсталых группах охотников и собирателей, несмотря на то
что такой вывод противоречил самой сути его концепции. Но
именно такой вывод как единственно верный следует из рассмотрения
всей совокупности не только этнографических, но и историко-архео-
логических материалов, которыми мы располагаем сегодня и
частично упоминавшихся выше.
Короче говоря, сейчас уже достаточно очевидно, что упрощенно-
модернизаторские попытки увести генезис категории количества в
•сферу первобытных религиозно-магических представлений не могут
рассматриваться как предмет сколько-нибудь серьезного научного
обсуждения.
Среди наиболее важных проблем развития представлений о
счете в первобытном обществе особый интерес вызывает многообразие
приемов систематических вычислений. Так, среди 307 систем
счисления, изученных у индейцев Америки, 146 — децимальные, 106
имеют основание 5 или 10; 35 систем — с основанием только 20, еще 15
систем — с основой 4 или 8; в числе остальных 81 — простейшие
бинарные, и лишь в единичных, редчайших случаях в основании счета
"появляется З52. Иными словами, после универсальной десятиричной
системы доминирующими являются способы вычисления с помощью
чисел 20, а также 2, 4, 8. Счет двадцатками (по числу пальцев на
руках и ногах одного человека) предполагает 4 повторения числа 5.
Таким образом, перед нами уже знакомый по палеолитической
графике «ритм 4», проявлявшийся у некоторых охотничьих общин в
качестве своего рода локально-этнической вариации, дополнявшей
основные, единообразные ритмы, кратные 5 и 10. Сопоставление
археологических и этнографических данных (счетом, основанным на
4 и 20, с индейцами сближаются эскимосы, чукчи и некоторые
другие жители Старого Света) свидетельствует о выделении «ритма 4»
благодаря таким простейшим для первобытных охотников
пространственным ориентациям, как число конечностей одного человека, 4
стороны горизонта, 4 ветра53.
Наряду с таким направлением развития представлений о ритме
и счете, в итоге особенно полно отобразившимся в культурах абори-
508
Глава шестая
генов Америки и постепенно приведшим к почитанию числа 4 как
«особого», «священного», также в палеолите берет начало
совершенно иное направление, акцентирующее числа 3, 6, 9 в основании
счета, а затем и в мифах, ритуалах, магикорелигиозных
представлениях во многих районах Старого Света.
Анализ истоков второго направления локально-этнических
вариаций систематического счета обнаруживает его сопряженность с
противоположной — вертикальной ориентацией ритмических делений
пространства, начиная с простейшего: верх, середина, низ. Такое
первичное деление предполагает возможность последующих делений
каждой части еще на 2, 3 с получением чисел 6, 9. Среди
позднейших результатов эволюции в этом направлении может быть
названо и шестикратное повторение десятки, применявшееся, например,
собирателями и рыболовами айнами, а на противоположном конце
Азии определившее в итоге основную счетную систему шумеро-ва-
вилонской математики.
Конечно, сказанное далеко не исчерпывает всего многообразия
способов вычислений, выработанных в недрах первобытного
общества. Здесь необходимо хотя бы кратко упомянуть о том, что крайне
долго даже в обиходе одного небольшого коллектива охотников,
рыболовов или собирателей названия одних и тех же чисел
оказываются разными и зависят от качественных особенностей счисляемых
предметов, от разной роли этих предметов в промысловой,
производственной, хозяйственной деятельности. Так, у индейцев
северо-западного побережья Америки выявлены до 7 разных видов
числительных в пределах одного племени, а у гиляков на
противоположном берегу Тихого океана сходным образом разные слова
обозначали одно и то же число людей, рыб, сетей, лодок, палок, небесных
тел54.
Таким образом, история развития представлений о счете и числе
в первобытном обществе представляется как сложное
многоаспектное взаимодействие различных, порой и противоположно
направленных тенденций дифференциации и интеграции навыков, знаний,
процедур, следующих за прогрессом производственной и общественной
практики. В психологическом отношении речь идет здесь о переходе
во внутренний план мышления индивидов и закреплении как
аксиом стереотипных понятий и действий тех внешних для каждого
индивида рабочих операций с количествами, что ранее повторялись
ими в совместной, коллективной предметной деятельности.
К вопросу о положительных знаниях в первобытном
общественном сознании примыкает очень важный вопрос о зарождении и
развитии в нем общих понятий и логических категорий. Эта проблема
в науке еще недостаточно разработана, но в этнографической
литературе уже есть немало фактического материала для ее постановки
и есть уже попытки ее принципиального решения.
Ограничимся здесь вопросом о происхождении понятий
пространства и времени. Нельзя отрицать, что эти объективные формы суще-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
509
ствования материи по-разному отражаются в сознании людей, и это
прежде всего зависит от конкретно-исторических условий и от
общего уровня исторического развития данного народа.
На этот важный факт впервые обратила внимание французская
социологическая школа. Основатель ее Э. Дюркгейм выдвинул
смелое до парадоксальности положение, что идеи пространства и времени
(в их общей форме) могли зародиться в человеческом сознании
только в условиях общественной жизни, а никак не через
индивидуальный опыт человека.
Ведь в. самом деле, каждый отдельный человек в своих
практических действиях не нуждается в общих понятиях пространства и
времени: для ориентировки в пределах своего практического опыта
ему достаточно знать дорогу из одного места в другое, знать, в какой
определенный момент он должен проделать то или иное действие.
Такое знание есть и у животных. Но эти конкретные представления
о месте и о временной связи коренным образом отличаются от
общих понятий о времени и о пространстве, которые рождаются
только в практике коллектива, общества: распределение территории меж·
ду социальными группами во избежание столкновений, измерение
времени для организации коллективных охот, обрядов, военных
походов и т. д.55
Л. Леви-Брюль на некоторых убедительных примерах показал,
что представления о времени и о пространстве у культурно
отсталых народов сугубо конкретны. Однако он трактовал эти факты
лишь с точки зрения своей односторонней теории «дологического
мышления» и «закона партиципации», а потому не мог понять
самых корней зарождения данных представлений56.
Чрезвычайно интересные выводы о понятиях времени и
пространства сделал Э. Эванс-Притчард, один из основателей
современного структурализма, из своих вдумчивых наблюдений над
культурой нуэров (верховья Нила). Этот ученый различает два
понятия времени, которые он называет «экологическим» и
«структурным», и два понятия пространства — тоже «экологическое» и
«структурное». «Экологическое» время и пространство — это категории,
относящиеся к природной среде; «структурное» — к общественной
среде. Для изученных Эванс-Притчардом нуэров этот второй аспект
времени и пространства имеет гораздо большее значение.
Так, они делят год на сезоны (дождливый и сухой) не по смене
погоды (дожди, засуха и пр.), а по чередованию хозяйственных
занятий, конечно, тоже связанному с природными условиями;
обработка земли, посадка, сбор урожая, охота, рыболовный промысел,
перекочевка из деревень в летние стойбища и обратно, сезон изобилия
пищи, сезон скудости и т. д.57 Время суток определяется
привычными работами: выгон скота, дойка скота, вечерний пригон скота и
пр.58 Длительные периоды времени выражаются еще более
характерным образом — промежутками между посвятительными
обрядами, которые проводятся возрастными группами под строго опреде-
510
Глава шестая
ленными названиями и в строго определенной последовательности.
«Например, нуэр может сказать, что такое-то событие произошло
после того, как родились люди возрастной группы «тхут» или во
время инициации возрастной группы «бойлок», но никто не скажет,
сколько лет тому назад оно совершилось... Если мужчина
возрастной группы «дангунга» говорит, что событие случилось во время
инициации группы «тхут», это значит, что оно случилось за три
возрастные группы до его собственной возрастной группы,
следовательно, 6 возрастных групп тому назад» 59.
Еще любопытнее такой способ исчисления времени. Оно
определяется степенью родства агнатов: родные братья — родственники по
отцу, значит, время жизни одного поколения определяется родством
между ними; двоюродные братья — родственники по деду, а потому
родственное расстояние между ними определяет время жизни двух
поколений, и т. д.; а то время, которое простирается вглубь за
пределы исчисления родства, это уже мифическое время, где нет
определенной последовательности событий: нельзя сказать, что такое-то
мифическое событие предшествовало другому60.
Отчасти сходны и очень интересны мысли о происхождении идеи
времени, высказанные Э. Личем. По его мнению, понятие времени
психологически родилось из двух совершенно разных источников:
ритмическое повторение чего-то (ударов пульса, суточной смены дня
и ночи, сезонов года), время как повторение; и неповторимое,
однократное течение чего-то (например, рождение, рост, старение и
умирание живых существ); все остальные аспекты времени —
длительность, последовательность событий — Лич считает
производными от этих двух основных: повторяемости и неповторяемости. Наше
же отвлеченное понятие времени есть как бы соединение этих двух
совершенно различных понятий. А такое соединение могло
произойти в нашем сознании, как думает Лич, не в силу здравого смысла, а
в силу религиозного стремления человека преодолеть неповторимость
своей земной жизни: религия-де дает надежду, что жизнь после
смерти повторится61. Конечно, ссылка на религию у Лича мало
убедительна, но важно и интересно то, что этот автор тоже аппелирует
к социальным условиям формирования такого общего понятия, как
время.
Точно так же и представления о пространстве у нуэров
окрашены, по Эванс-Притчарду, ярко социальными тонами. Например,
расстояние между деревнями определяется не километрами, а степенью
этнической близости их населения: если две деревни находятся от
данной третьей деревни на равном (по нашим понятиям)
расстоянии, но в одной живут люди «нашего племени», а в другой
чужеплеменники, то первая деревня «к нам» ближе62.
В более широком, уже философском плане построена
аналогичная концепция пространства и времени у Леруа-Гурана. Для него
эти понятия суть «символы общества» (les symboles de la societe).
притом настолько важные для самого формирования человека как
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
511
такового, что «одомашнивание (доместикацию) времени и
пространства» Леруа-Гуран считает чуть ли не более существенным
моментом в антропогенезе, чем начало изготовления орудий63.
Первоначальное восприятие пространства человеком, по мнению этого
автора,— это еще чисто животное ощущение безопасности внутри
какого-то убежища; первоначальное пространство — это «периметр
безопасности»: для животного — нора, гнездо, для человека —
примитивная хижина. Одновременно с этим происходит и «одомашнивание
времени», т. е. замена «естественной ритмичности сезонов, дней,
расстояний», «ритмичностью, планомерно обусловленной»,—
календарной символикой, расписаниями и пр.64
Очень оригинальны мысли Леруа-Гурана о типах
пространственных восприятий, связанных с образом жизни людей. Есть два типа
восприятий окружающего мира: «динамическое» («маршрутное»),
связанное с движением через пространство, и «статическое»
(«радиальное») восприятие пространства в виде концентрических кругов,
затухающих к горизонту. Первое, более свойственное наземным
животным, преобладало у человека на охотничьей стадии развития,
когда охотники-собиратели воспринимали мир, кочуя по местности;
отсюда и древняя мифология — мифы о культурных героях,
вносящих порядок в мир как бы по пути своих странствований. Второе
восприятие пространства, из животных более свойственное
птицам, получило господство у человека с момента его перехода к
земледелию и оседлости: «оседлый земледелец строит мир
концентрическими кругами вокруг своей житницы»; отсюда и библейский миф
о рае земном в средоточии мира с четырьмя реками, текущими из
него по 4 направлениям света. Это «радиальное» (в отличие от
первого — «маршрутного», или линейного) восприятие пространства,,
порожденное оседлоземледельческим бытом, а в дальнейшем
получило господство и сохранилось до новейшего времени в виде идеи горо-
да-«микрокосма», находящегося в центре вселенной— «макрокосма»
(например, Рим) 65.
Хотя в изложенных здесь кратко концепциях
западноевропейских исследователей содержится много спорных моментов, важно
то, что современная научная мысль, опирающаяся на обильные
данные этнографии и археологии, вплотную подошла к решению
кардинальных вопросов генезиса и развития человеческого ума и
духовной культуры.
В советской научной литературе проблема формирования
категорий мышления, кажется, еще не получила должной разработки.
Так, в упоминавшейся книге А. Г. Спиркина проблема образования
логических категорий хотя и рассмотрена весьма обстоятельно и
интересно, но автор трактует лишь чисто психологическую (или
психофизиологическую) сторону изучаемого явления. Образование
«категории пространства» автор рисует лишь в плане развития этой
идеи как бы в индивидуальном мозгу человека, а роль общественной
среды он оставляет без внимания66. Зато, рассматривая генезис «ка-
512
Глава шестая
тегории времени», Спиркин в известной мере избег этой
односторонности. «В связи с развитием труда, общественных отношений и
речи,— пишет Спиркин,— люди все в большей и большей степени
становились способными мыслить прошлое, выходящее за пределы
их жизни. Это прошлое — прошлое семьи, рода, племени, уходящее
в глубь ряда поколений» 67. Мысль, очевидно, вполне правильная.
Очень ценно, во всяком случае, что Спиркин подробно исследует
(хотя тоже преимущественно с индивидуально-психологической
точки зрения) зарождение и развитие других логических категорий:
причинности, цели, закона, качества, количества (идеи числа,
развитие системы счисления, речь о чем была выше).
В советской науке нашла интерпретацию идея о «религиозном»
зарождении понятия о времени. Так, И. В. Бестужев-Лада считает,
что «первобытный человек» был вообще начисто лишен
представлений о прошедшем и будущем; для него существовало лишь
настоящее («презентнзм первобытного мышления»). Понятия прошедшего
времени, будущего времени, времени вообще зародились гораздо
позже и не прямым, а окольным путем, через наблюдения над телами
умерших. Куда ушел умерший? В иной мир. Отсюда разные мифы
об этом ином мире, а значит, и об ином, мифическом времени68-69.
Хотя этот взгляд грешит малоубедительной искусственностью, но в
нем есть здоровое зерно: понятие о «мифическом времени».
Что такое это мифическое время и в каком отношении стоит оно
к сегодняшнему, реальному времени, об этом тоже спорят между
собой этнографы, фольклористы, философы, мифологи. Мифическое
время — это то время, когда жили и странствовали фантастические
существа, тотемические предки, культурные герои. Некоторые
специалисты считают, что оно резко отграничено от сегодняшнего
времени, ибо тогда было «все не так», животные были людьми, а
люди — животными70. Вместе с тем, хотя мифическое время лежит в
далеком прошлом, однако оно не отделено от настоящего какой-то
преградой: напротив, оно вторгается в настоящую реальность, оно
воспроизводится в различных ритуалах, «первобытных мистериях» 71.
Вероятно, наиболее правилен взгляд Л. А. Файнберга, который,
опираясь на многочисленные этнографические свидетельства, при-
. ходит к выводу о тесной связи понятия времени с конкретной,
реальной человеческой практикой. Абстрактного понятия времени как
такового в первобытную эпоху не было — время составляло лишь часть
тех или иных событий или явлений. Естественно, что важнее всего
было для первобытных людей настоящее время, а о прошлом и
будущем они имели смутное представление72. ,
3. Изобразительное искусство
Первые памятники первобытного искусства были открыты в
середине XIX в. (1843 г.— начало раскопок в пещере Шаффо во
Франции; 1834 г.— наскальные изображения в Северной Африке; 1848 г.—
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 513
петроглифы Карелии, 1850 г.—петроглифы Феццана в Сахаре).
Однако его изучение началось только в конце XIX — начале XX в.
В 1897 г. Э. Ривьер, доказав, что рисунки пещеры Ля Мут
являются созданием палеолитического человека, привлек внимание и к
сделанным ранее открытиям, в частности к знаменитой живописи
Альтамиры, долгое время считавшейся подделкой. Подлинность
палеолитической живописи была окончательно установлена в начале
XX в., после специальных исследований, проведенных французскими
археологами А. Брейлем, Л. Капитаном, Д. Пейрони. С этого
времени и до середины 1950-х годов открытия ансамблей и отдельных
памятников первобытного искусства следуют друг за другом. Только
во Франции с 1900 до 1933 г. было открыто более двадцати мест с
живописью, петроглифами, рельефами, мелкой пластикой. В
Испании, кроме пещер в горах Кантабрии, найдены десятки новых мест,
в том числе комплексы мезолитических наскальных изображений
на восточном побережье. В те же годы поступили сообщения об
открытии наскальных изображений на территории Швеции, Норвегии,
Италии, Сибири, в Южной и Центральной Африке.
В отличие от собственно первобытного искусства (в частности,
пещерной палеолитической живописи, которая впервые была
замечена только в 1864 г.) его этнографически фиксируемые аналоги
(обозначаемые в искусствознании как предметы племенного, или
традиционного, искусства) были всегда «на поверхности». Однако
даже в конце XIX в., когда европейские этнографические музеи уже
располагали солидными африканскими и океанийскими
коллекциями скульптуры, она все еще оставалась вне поля зрения теоретиков
и историков искусства. В частности, в работах Г. Швейнфурта,
Л. Пигорини, Л. Фробениуса и других авторов конца XIX в. маски и
статуэтки рассматриваются исключительно с точки зрения их
общекультурных функций73. И только в первых десятилетиях XX в.,
после «открытия» африканской скульптуры французскими
художниками-авангардистами, такой подход сменяется
искусствоведческим, эстетическим. В работах этого времени этнографически
фиксируемая скульптура (вначале африканская, а позднее —
океанийская, американская и т. д.) рассматривается в плане задач
художественной практики того времени с точки зрения чистой
пластической структуры74.
Условный, идеопластический характер этой скульптуры дает
основание для такого подхода, однако рассматривая это явление лишь
с эстетической точки зрения, нельзя понять его сущность. Осмыслить
его можно только изнутри, в контексте первобытнообщинной
культуры, прослеживая возникновение ранних форм изобразительного
искусства и их эволюцию, значение общих и локальных
особенностей искусства и его социальных функций в доклассовом обществе.
Если о раннепалеолитических корнях изобразительного
искусства продолжают спорить (зачатки настоящего искусства?
натуральная изобразительная деятельность?), то существование искусства у
17 история первобытного общества
514
Глава шестая
позднепалеолитического Homo sapiens ни у кого не вызывает
сомнений.
Всеобщность зрительного восприятия и то, что известно о роли
эстетики как начала, организующего сознание и активизирующего
контакты между индивидуумами, позволяет сделать заключение о
первостепенном значении изобразительного искусства для
интеллектуального развития. В то же время изображение дало человеку
средство для передачи опыта, накопленного поколениями, стало
универсальным инструментом для воспроизводства культуры. Можно
только догадываться о значении изображения в момент его появления»
Надо полагать, что оно было столь же всеобъемлюще, сколь и
неопределенно 75.
Чтобы получить какое-то представление о восприятии
первобытным человеком образов пещерного искусства, надо придать им
смысловую нагрузку и выразительность всего множества современных
художественных форм, имея в виду то, что в синкретическом монолите
первобытной культуры спрессовано все многообразие будущих видов
человеческой деятельности.
Понятие «синкретизм» в данном случае означает не соподчинение
или взаимодействие самостоятельно существующих форм культуры
(подобно взаимодействию религии и искусства, идеологии и
искусства в разные эпохи), а соотнесение со всеми без исключения
аспектами бытия, определяя в целом состояние социума. Именно
слитность функций и значений прежде всего отличает первобытную
стадию развития и определяет специфические черты первобытного
изобразительного искусства: гомогенный, коллективный,
непрофессиональный, полифункциональный характер искусства. Все эти черты
свойственны как начальной, палеолитической, фазе развития
первобытного искусства, так и позднейшим этапам его развития.
Один из крупнейших знатоков родоплеменного общества М. Гри-
оль писал: все, что только можно сказать по поводу о^них видов
традиционной деятельности, относится и ко всем остальным. На
основании изучения искусства догонов и некоторых других народностей
Западного Судана он пришел к заключению, что африканское
искусство мало отличается по своему назначению от медицины,
религии, колдовства и всех иных аспектов традиционной культуры. То
же утверждают и современные африканские ученые, говоря, что
явление, называемое нами искусством, неразличимо в традиционном
обществе, поскольку здесь оно растворяется во всеобщем потоке
бытия 76.
В системе первобытной культуры только условно можно
различать обряд, культовые предметы, тексты, музыку, танец. Только
«опрокидывая настоящее в прошлое», можно смотреть на
мифологический текст как на сценарий, существующий независимо от обряда,
танцевальных, музыкальных, пластических ритмов — всего того, что
дает мифу эримую, слышимую форму. Поскольку чтение текста —
речитатив, пение, сопровождаемые музыкой, танцем — и есть само
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 515
священнодействие, а культовые предметы — маски, статуи —в
данном случае сами же и являются предметами культа, все элементы
.этой системы равнозначны.
Сюжетная и стилистическая однородность первобытного
изобразительного искусства в рамках отдельных культурных ареалов
указывает на то, что это искусство в большей степени, чем какое-либо
иное, является воплощением социального, выражая только общие,
коллективные мифологические представления. Коллективному
характеру первобытного искусства соответствуют коллективные же,
непрофессиональные формы его бытования.
Уже синкретизм определяет полифункциональный характер
первобытного искусства. Полифункциональность в некоторой степени
присуща и развитым формам искусства, однако в условиях
современной специализированной художественной деятельности она носит
рудиментарный характер. Именно в сфере функций происходят
наиболее существенные, исторически обусловленные перемены,
превращения искусства — изменения, значительно более сложные и
глубокие, нежели в области морфологии.
Обратим внимание на то, что рисунок как таковой, рисование —
«два ли не единственный вид деятельности, который сохраняется до
наших дней в своей изначальной форме. Изображения оленя или
бизона, сделанные палеолитическим человеком, могут не
отличаться от рисунков современного художника. Однако заключение об их
действительной идентичности было бы ложным. Различие здесь, так
же как различие, например, между рисунком колоса в ботаническом
атласе и государственном гербе, лежит за пределами самого
изображения.
В первобытном искусстве образ воплощает все многообразие
мифологических представлений. Такого рода множественность,
равнозначность и слитность функций составляют особенность только
искусства доклассовой эпохи. Позднее, в соответствии с нарастающей
экономической поляризацией и социальным расслоением,
функциональная структура искусства приобретает иерархический характер.
Уже в предклассовых образованиях разделение труда,
разветвляющаяся специализация в такой же мере касаются искусства, как и
всех других форм человеческой деятельности. С этого времени под
действием экономических, социальных, политических факторов
^функциональная структура искусства усложняется,
перестраивается, меняет акценты.
Социальные функции искусства реализуются в процессе
коммуникации. В доклассовых обществах искусство выступает как
универсальное средство коммуникации, как важнейший канал связи
между личностью и социумом, между поколениями внутри
этнической группы, между отдельными этническими группами.
Если произведение искусства вообще является воплощением
некоторой суммы идей и знаний, выражением культурных и
жизненных ценностей, то следует признать, что произведения первобытно-
17*
516
Глава шестая
го искусства являются выражением только таких идей, которые
отражают мироощущение коллектива и лишь в самой незначительной
мере могут быть соотносимы с личностью мастера-исполнителя. Как
правило, художественные изделия здесь не отражают
индивидуальных особенностей изображаемых персонажей, не имеют целью
имитацию. Изготовитель ритуальной маски, статуи в своей работе
следует определенным предписаниям. Все образы, в идеале, должны
быть воспроизведением некоего устоявшегося стереотипа.
Консервативность в отношении содержания, сюжетов, видов
художественных изделий не полностью распространяется на
изобразительные средства. При сохранении общего стилистического
единства здесь порой допускается некоторая вариативность трактовки тех
или иных образов. Австралийские рисунки на коре, раскрашенные
статуи меланезийцев, скульптура догонов, бауле (Западная
Африка) дают примеры различной интерпретации некоторых сюжетов»
Бесконечно разнообразны вариации на тему птицы-фрегатк в
меланезийском искусстве или образа первопредка-кенгуру в живописи
на коре и наскальных изображениях аборигенов Австралии.
Сюжетная и стилистическая однородность палеолитического
искусства свидетельствует о том, что оно так же, как его
этнографические аналоги, выражает коллективные представления. «Венеры»,
найденные на территории Франции (Брассемпуи, Леспюг), Италии
(Бальчи Росси, Савиньяно), Австрии (Виллендорф), Чехословакии
(Дольни Вестоницы), СССР (Костёнки, Гагарино), обнаруживают
одинаковую степень условности, а иногда и поразительное сходство
в деталях. Для подавляющего большинства фигур характерно
отсутствие черт лица, гипертрофированные объемы груди, живота, бедер,
отсутствие или схематическое изображение нижней части ног и рук
и т. д. Эта, общность в значительной мере является выражением
стадиальной общности.
Столь же однородно и значительно шире распространенное
неолитическое искусство. Сходные сюжеты, композиции, стиль
наскальных изображений Западной Европы, Сахары, Карелии, Сибири,
Южной Америки свидетельствуют об общих закономерностях
развития художественного сознания.
В основе произведений искусства доклассовой эпохи лежит пла:-
стическая идеограмма. Австралийские чуринги, нательные и
наскальные рисунки, символические рисунки на земле и другие
изобразительные формы и художественные изделия, используемые при
совершении обрядов посвящения, африканские и океанийские
маски, так же как игры, танцы, театрализованные представления,
составляют «одну из связей, соединяющих различные поколения и
служащих именно для передачи культурных приобретений из рода
в род» 77. Символический характер племенного искусства, его
условный изобразительный язык, идеопластические формы призваны
выражать сложные идеи и понятия, которые не могут быть переданы
методом непосредственного натуралистического воспроизведения.
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
517
Форма пластической идеограммы может быть более или менее
сложной, но и в тех случаях, когда изображение состоит из
нескольких простых геометрических фигур, из трех-четырех линий, оно
наполнено более или менее конкретным содержанием для
посвященных. Австралийские чуринги — каменные или деревянные плитки
овальной формы, покрытые геометрическим узором из
параллельных линий, кругов и спиралей,— являются своеобразными
трансляторами мифа. Мы никогда не смогли бы правильно оценить такой
предмет традиционного искусства, как чуринга, если бы исходили
из современных представлений, потому что его пластический узор
может рассматриваться как изобразительная проекция речевых и
музыкальных ритмов и обретает свое значение только во время
обряда, в процессе коллективного ритуального действа. Ритмические
узоры на чуринге, так же как и иные виды пластической
идеограммы, служат канвой, по которой рассказчик восстанавливает
количество и последовательность сюжетов, тогда как конкретный материал,
само содержание мифа хранится в памяти. Можно предположить,
что подобным образом использовались и такие предметы
первобытного искусства, как «жезлы» или каменные и костяные плитки,
покрытые прямыми и изогнутыми линиями, концентрическими
кругами, насечками и т. д. То же относится к покрытым
геометрическими узорами плиткам из Мальты (Сибирь) костяной дощечке
из Лалинда (Дордонь, Франция), костяному диску из Петерсфельса
(Баден, ФРГ). Возможно, что так же, как чуринги, использовались
разрисованные гальки из Мае д'Азиля (Франция).
Синкретизм первобытного искусства выражается как в слитности
функций, так и в полисемантичности художественного акта.
Преемственность, связь между поколениями в родоплеменном обществе
осуществляется через систему обрядов посвящения молодежи
(инициации) и культ предков, в которых фигурируют те же предметы.
Ритуальные статуи так же, как и чуринги, воплощают дух предка
и являются символом наследования качеств умершего. Те же
статуэтки играют и определенную социальую роль, поскольку в них
отражена реально существующая социальная структура общества.
Нерасчлененность магико-религиозных, социально-политических
и иных функций искусства соответствует нерасчлененности этих
аспектов в реальной жизни родоплеменных обществ. Нельзя провести
четкой границы между статуями предков, различными фетишами,
масками, так как и те и другие наделены сверхъестественной силой,
способны вмешиваться в жизнь людей, служат предметами
поклонения.
Однозначность и всеобщность зрительного восприятия,
по-видимому, указывают на первоначальное существование мифа в зримой,
пластической форме. Иначе говоря, есть основание предполагать,
что вначале было изображение.
Мифологические представления, по-видимому, формировались в
примитивных магико-религиозных действах, разворачивавшихся вок-
518
Глава шестая
руг изображений животных. Возможно, что появление фигуративных
изображений, общая и равная способность их опознавания
стимулировали зарождение и развитие коллективной охотничьей магии.
Фигуры животных, написанные краской, вылепленные из глины,
гравированные на кости и камне, быть может, уже самые первые
предметы изобразительного искусства служили магическим целям.
Ведь изображенные виды животных — северные олени, бизоны,
дикие лошади, мамонты,— как свидетельствуют археологические
материалы, были основным объектом охоты.
Предполагается, что наряду с охотничьей магией и в связи с ней
существовал культ плодородия, выражавшийся в разных формах
эротической магии. Культ плодородия сохранился до наших дней в
архаическом виде у многих племен Австралии, Африки, Океании.
Стилизованное или символическое изображение женщины, женского
начала, столь частое в первобытном искусстве, занимает важное
место в обрядах, направленных на размножение определенных видов
животных и растений. Можно было бы ожидать, что среди
изображений, посвященных культу плодородия, на первом месте будут
сцены спаривания животных, но в первобытном искусстве такие сцены
довольно редки. Чаще встречаются символические изображения
женского начала — в виде миндалевидной формы или треугольника.
Параллельно с созданием аппарата магии и отправлением
обрядов человек закреплял разнообразные знания. Уже то, что
первобытный религиозно-художественный комплекс по-своему
моделировал гипотетическую картину мироздания, свидетельствует о том, что
искусство изначально использовалось как инструмент познания.
В процессе изобразительной деятельности человек воссоздавал образ,
стоявший перед его мысленным взором, что само по себе было актом
абстрагирования. Рука помогала мысли, фиксируя образ, делая его
доступным стороннему восприятию, исследованию и, что особенно
важно, трансляции во времени и пространстве. Изображение давало
возможность акцентировать детали, группировать предметы,
выявляя их значение, сущность.
Древнейшие изображения свидетельствуют о том, что вначале
исследовались ближайшие, жизненно важные явления. Первыми
объектами изобразительного искусства были животные. Человеческие
изображения вначале были очень редки. К числу древнейших
относятся барельефы из Лосселя (Дордонь, Франция), изображающие
женские фигуры, а также статуэтки: вначале — женские
(палеолитические «Венеры»), позднее — мужские.
В мезолитическом наскальном искусстве Восточной Испании,
Сахары, Южной Африки и т. д. человек уже занял не меньшее место,
чем животное. Еще позднее человек стал основным объектом
изображения. Даже образы животных теперь часто принимали
антропоморфный характер.
Искусство все явственней становилось инструментом
самопознания 78.
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
519
Хотя в первобытном искусстве отсутствовали предметы,
предназначенные непосредственно для эстетического наслаждения, однако
гармония, экспрессия, чувство ритма ярко выражены как в
палеолитической пещерной живописи, так и в культовых масках и
статуэтках. Эффектность этих изделий определяется именно их
художественными достоинствами. Чувство симметрии, правильность в
соотношении объемов, в построении композиций в полной мере
присутствуют в палеолитических «Венерах», в процарапанных на
кости и камне рисунках животных, в навершиях «жезлов», в
наскальных изображениях.
Орнаментальные формы, связанные с изначально присущим
людям чувством ритма и симметрии , появились уже у самых истоков
изобразительного искусства. Простейший орнаментальный мотив,
встречающийся в палеолитическом искусстве, состоял из ряда
прямых и волнистых линий (насечки на гарпунах, «жезлах», остриях
копий), спиралей, точек и т. п. В дальнейшем в орнаменте стали
использоваться более сложные фигуры: концентрические круги,
треугольники и т. д., и наконец — фигурки животных, людей,
элементы растений и т. п. Как правило, используемые в орнаменте
фигуративные изображения геометризованы. В процессе дальнейшей
стилизации они часто принимали форму, настолько далекую от
первоначальной, что в конце концов воспринимались просто как
геометрический узор.
При изготовлении каменных орудий на протяжении миллионов
лет у человека не могло не закрепиться представления о
правильной форме как о наиболее целесообразной. Испытав тяжесть и
радость труда, научившись обрабатывать материал, придавать ему
определенную форму, человек научился видеть красоту таких
бесполезных предметов, как цветы и птичье оперенье. Положительная
эмоциональная реакция на гладкую поверхность, четкую линию,
правильную φορώγ в конечном счете выступала как эстетическая
реакция, связанная с чувством ритма, симметрии. Эта реакция,
отраженная в размеренном чередовании элементов орнамента, в графических
и пластических символах, выражавших в виде симметрии или
повтора равновесие, постоянство в соотношении частей, соотносима с
идеей порядка, стабильности и представляла собой один из шагов на
пути к осознанию понятия закономерности.
В эволюции западноевропейского палеолитического пещерного
искусства принято выделять пять больших периодов: шательперон-
ский (начало около 35 тыс. лет), ориньякский (30 тыс. лет), гравет-
тский (25 тыс. лет), солютрейский (18 тыс. лет), мадленский
(15 тыс. лет; делится на древний —15 тыс. лет, средний—12 тыс.
лет и поздний — 10 тыс. лет).
К шательперонскому периоду относят такие ранние следы
изобразительного искусства, как процарапанные на камне и кости
прямые и зигзагообразные параллельные линии, разного рода насечки,
а также украшения типа амулетов. Изображения как таковые впер-
520
Глава шестая
вые появились в начале ориньякского. периода. Одновременное
появление натуралистических и геометрических форм подтверждается
их наличием в одном памятнике (ср. схематическую и
натуралистическую трактовку различных частей женских палеолитических
статуэток, наличие геометрического орнамента наряду с
натуралистическими изображениями в пещерной живописи и рисунках на
кости; ср. также относительно натуралистический торс «Венеры» из
Брассемпуи, покрытый геометрическим узором).
В ориньякскую группу входят предметы мобильного искусства:
изображения на каменных плитках, главным образом фигуры
животных. Вначале яснее всего изображались голова и передняя часть
туловища (Белькайр, Ля Ферраси, Истюриц). Затем появились более
законченные изображения. Фигуры бизонов, мамонтов, лошадей,
относящиеся к граветтскому и солютрейскому периодам, отличаются
большей детализацией. Четко изображались особенности,
позволяющие определить вид животного. К концу граветтского периода на
стенах пещер появились процарапанные и нанесенные красками
изображения. Уже в это время одновременно с использованием в живописи
второго цвета делались первые попытки пространственного
построения: тело животного изображалось в профиль, копыта и рога — в фас
или три четверти. Живопись граветтского периода сохранилась в
пещерах Пер-нон-Пер, Гарга, Ля Грез; гравированные каменные
плитки и женские статуэтки — в Лябатю, Истюрице, Верхней Ло-
жери.
В следующем, солютрейском периоде детализация усиливалась;
на смену контурной и силуэтной пришла полихромная, стремящаяся
к объемности живопись. Косыми параллельными штрихами
изображалась шерсть, цветом воспроизводились пятна на шкурах
животных. Контурная линия подчеркивала наиболее характерные
особенности силуэта: иногда наиболее выразительные части фигуры
усиливались врезанной линией. К этому периоду принадлежат
древнейшие слои живописи и петроглифы в пещерах Ласко, Пеш Мерль, Ля
Пасьега, Рок де Сер. Памятники мобильного искусства — в
Истюрице, Бурдель, Эль Парпалло, Фурно дю Диабль и др.
Своего апогея пещерное искусство достигало в среднем мадлен-
ском периоде. В это время созданы громадные анималистические
ансамбли — основная масса изображений в пещерах Альтамира,
Ласко, Руфиньяк, Фон де Гом, Нио, Труа Фрер, Монтеспан, Ля Мадлен,
Комбарель, Марсула, Бернифаль и др. Об анималистической
живописи среднемадленского периода можно было бы сказать, что она
достигла предела возможностей реалистического искусства,
первобытности, если бы не отсутствие видимой связи между отдельными
предметами. Великолепно воспроизведенные фигуры чаще всего
образуют как бы беспорядочные хаотические нагромождения. Элементы
композиции очень редки: в основном это парные изображения
самца и самки оленей, бизонов, лошадей. Уже в конце этого периода
художественное мастерство постепенно перерождается в техническую
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
521
виртуозность. Линия рисунка становится более динамичной, тогда
как изображение утрачивает живость. Размеры петроглифов
уменьшаются, живопись становится плоскостной.
В позднем мадленском периоде стилизация усилилась. Если
вначале произведения мобильного искусства еще сохраняли
относительную реалистичность, то настенные изображения постепенно
схематизируются, а затем исчезают. С угасанием мадленской культуры
закончился палеолитический период первобытного искусства.
Искусство мезолита (VIII—IV тысячелетия) отразило глубокие
экологические изменения, повлиявшие на самые существенные
стороны жизни.
Наиболее интересный комплекс мезолитического искусства
находится в Восточной Испании. Мезолитические наскальные
изображения резко отличаются от палеолитических. Там в центре —
животное, здесь — человек; там надо всем тяготеет предмет, его
материальность, весомость, цвет, объем, фактура; .здесь все внимание
поглощено действием, движением. Пещерная палеолитическая живопись
состоит из отдельных, не связанных между собой фигур, здесь же
преобладают многофигурные композиции, воспроизводящие различные
эпизоды из жизни мезолитических охотников. Об истоках этого
искусства ничего не известно, хотя некоторые особенности позволяют
связать его с более ранней средиземноморской культурой, памятники
которой сохранились на юге Аппенинского полуострова и в Сицилии
(Аддора, Леванцо).
Анализом наскальной мезолитической живописи, найденной к
настоящему времени примерно в пятидесяти пунктах, выявлено
несколько стилистических групп изображений. Первая по времени
группа состоит из довольно близких к натуре, пропорциональных, в
меру детализованных рисунков. Затем изображения стилизуются,
причем фигуры животных меньше подвержены стилизации, чем
человеческие. Стилизация человеческих фигур, приводящая постепенно
к схематизму,— результат общей тенденции мезолитической
живописи. Художник как бы освобождает фигуры от всего
второстепенного, затрудняющего передачу и восприятие движения, сложных
поз, динамики массовых сцен.
В дальнейшем тенденция к схематизму усиливается. В
наскальной живописи в районах Гренады и Сьерра-Морена встречаются
схематические изображения, очень близкие к геометрическим знакам на
гальках из Мае д'Азиля (Франция). Схематизм, усиливающийся
вначале в южных областях, позднее распространяется к северу, до
Скандинавии, где ему предшествует наскальное анималистическое
искусство, продолжающее традиции пещерной живописи.
Неолитическое искусство поначалу мало чем отличается от
искусства мезолитических охотников. Наиболее интересные памятники
европейского искусства раннего неолита находятся на территории
Норвегии и Швеции, а также Карелии (в районе Белого моря и
Онежского озера). Судя по сюжетам, сохранившиеся здесь петрогли-
522
Глава шестая
фы выбиты охотниками и рыболовами, наделявшими эти районы, еще
и теперь богатые рыбой и дичью. Основную массу скандинавских
петроглифов составляют фигуры лосей, оленей, медведей, китов,
тюленей. В восточных районах, на пологих берегах Онежского озера и
Белого моря, неолитические охотники оставили высеченные на
гранитных плитах вереницы лосей, силуэты рыб и лебедей,
примитивные человеческие фигуры.
На территории СССР, кроме Карелии, неолитические петроглифы
найдены в Сибири, на Урале, в Средней Азии, на Дальнем Востоке,
в Крыму и Закавказье. Во всех случаях основной сюжет — местная
фауна, дикие и домашние животные: лоси, быки, козлы, бараны
и т. д. Имеются также человеческие изображения и связанные с
ними различные предметы (одежда, оружие и т. д.).
В художественном отношении особенно интересны памятники
начала и середины неолитического периода. К ним относятся
изображения лосей с Каменных островов Ангары, отдельные петроглифы
наскальных комплексов Кобыстана (Азербайджан), Агмагана
(Армения) и др.
Если петроглифы встречаются повсеместно, то ранненеолитиче-
ские росписи на скалах сохранились главным образом в горных
массивах Центральной Сахары, в Южной Африке и в прибрежных
районах Австралии. Древнейшие памятники наскального искусства
Сахары (около VIII тыс.) — это одиночные фигуры крупных диких
животных (слон, буйвол, бегемот, носорог). Они имеют некоторое
стилистическое сходство с ориньякскими, однако ранненеолитиче-
ские сахарские изображения значительно крупнее и совершеннее по
технике исполнения.
Памятники наскального искусства позднего неолита сохранились
во многих районах на всех континентах. Кроме широко
распространенных знаков в виде кругов, крестов, свастик, спиралей,
полумесяцев и других лунарных и солярных символов, очень часты
стилизованные изображения людей и животных, лодок с гребцами, а также
различные орнаментальные мотивы.
Эволюция наскального искусства эпохи неолита завершается так
же, как эволюция пещерного палеолитического искусства:
изобразительная форма постепенно лишается образной выразительности,
изображения приобретают однотипный характер. На последней стадии
наскального искусства в Евразии и на Африканском континенте
схематизация достигает того уровня, когда односюжетные изображения
почти не отличаются друг от друга. Эти изображения по существу
являются знаками, а их изготовление уподобляется ритуальному
действию.
Эволюция скульптуры этнографически фиксируемых обществ в
общих чертах повторяет эволюцию собственно первобытного
искусства. При этом стилистический анализ, выходящий за пределы
отдельных этнических культур, позволяет выявить системную
взаимосвязанность сопредельных очагов художественной культуры.
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
523
В той мере, в какой "амальгама стиля поддается расщеплению,
можно видеть достаточно ясно, что его особенности формируются под
воздействием стадиального, социального, этнического и
индивидуального факторов. Анализ различает морфологические особенности,
представляющие различные уровни как в плане диахронии
(стадиальные черты), так и синхронии (локальные особенности).
Обобщенность форм, симметричность композиций, иерархичность и другие
черты, сближающие африканскую или океанийскую скульптуру с
палеолитической, свидетельствуют о ее принадлежности к
первобытной культуре. В то же время, сопоставляя отдельные комплексы
этнографически фиксируемой скульптуры друг с другом и все вместе —
с палеолитической скульптурой, можно выявить структурные
особенности, отличающие более поздние образцы пластики. В
стилистическом плане тенденция к гипертрофии (палеолитические
«Венеры») сменяется тенденцией к геометризации.
Разумеется, стадиально детерминированные морфологические
показатели проявляются как в общем (региональный, племенной
стиль), так и в единичном (например, статуэтка догонов).
Рассматривая ту же статуэтку в синхронном плане, мы обнаруживаем
некоторые особенности, отличающие доклассовое африканское искусство
в целом от искусства других ареалов, например от искусства
Океании (отмечено, в частности, что в массе африканская скульптура
тяготеет к формам монолитным, океанийская —к дробным). В то же
время статуэтка догонов отражает особенности, характерные для
стилей Западного Судана (плоскостность, сухость, кубистичность),
ватем -— специфические черты собственно стиля догонов и наконец -—
индивидуальный почерк мастера.
Следует отметить, что мера условности того или иного образа,
как правило, представляет универсальный аспект стиля:
ассоциируется с диахронией, с факторами стадиальным, социальным;
показатели же специфического характера, особые способы стилизации
связаны с синхронией, с факторами этническим (региональным),
индивидуальным.
Несмотря на то что процесс создания традиционного образа есть,
в идеале, воспроизведение некоего эталона, форма каждой
конкретной маски, статуэтки несет отпечаток индивидуальности создавшего
ее мастера. В разных изделиях и у разных мастеров мера этого
качества различна. Существенно то, что подобные индивидуальные
проявления в рамках традиционной культуры не запрограммированы:
не влияют на специфические показатели стиля. Показатели эти в
традиционной скульптуре выражены особенно четко, поскольку они
маркируют племенную принадлежность, выполняют этнодиффереп-
цирующую функцию.
Группируя племенные стили Тропической Африки по признаку
некоторой морфологической общности, можно заметить, что в
большинстве случаев они представляют некоторое подобие
спектральных линий, образуя нечто вроде концентрических кругов, опоясыва-
524
Глава шестая
ющих отдельные центры — племенные стили, в которых
особенности данной зоны выражены наиболее ярко. При этом «центры» с
примыкающими стилями могут быть в своюх очередь объединены на
основании стилистической общности в несколько больших зон. Этот
аспект морфологической структуры традиционного искусства, в
целом определяемый как синхронная стилистическая эволюция79,
свидетельствует, что художественный процесс не ограничен ячейками
отдельных этносов; что художественная культура функционирует не
только на уровне локальных племенных стилей, но и как система,
чья целостность обусловлена культурно-исторической общностью
этнических групп данного региона.
При всем своеобразии отдельные стили выступают как элементы
некоего сложного единства. В плане морфологическом их
взаимозависимость выявляется посредством анализа частных аспектов
каждого отдельного племенного стиля. При ближайшем рассмотрении
оказывается, что именно характерные особенности часто
парадоксальным образом (способом инверсии) связывают две соседние
художественные культуры. Взаимосцепление традиционных стилей,
выражающееся как во взаимовлиянии, так и во взаимоотталкивании,
прослеживается повсеместно и убеждает в том, что родоплеменное
искусство необходимо исследовать не только как сумму локальных
явлений, но как систему, точнее — суперсистему, которая является
полицентричной, поскольку состоит из множества иерархически
организованных взаимодействующих систем, и многоуровневой,
поскольку объединяет неодинаково продвинутые системы и подсистемы.
Синхронная стилистическая эволюция, выявляя общую картину
морфологического спектра — закономерности перехода от одного
стиля к другому, раскрывает некоторые особенности взаимодействия
этнических культур. В процессе синхронного анализа,
устанавливающего, что на родоплеменной стадии каждый этнос генерирует
специфическую художественную структуру, становится очевидным
наличие некоего общего субстрата, перекрывающего региональные
особенности, при этом наличие более и менее продвинутых пластов
позволяет установить некоторые закономерности его развития, отметить
последовательные этапы становления идеопластических форм.
Закономерности диахронной стилистической эволюции
соотносятся с общими субстратными элементами (в каждой отдельной
художественной традиции), имеют универсальный характер и
выражаются в постепенной своеобразной эрозии формы, обнажении
пластической структуры, нарастании условности.
Некоторое представление о ранней фазе развития
этнографически фиксируемой скульптуры дают маски-наголовники аньянг-экои
(Нигерия). Традиция их изготовления насчитывает не более двух
веков. По некоторым данным некогда это были отрубленные головы
врагов. Затем их место заняли маски, предельно натуралистические
по стилю, обтягивавшиеся кожей убитых пленных или рабов. Еще
позднее в обрядах аньянг стали использоваться маски-наголовники,
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
525
вырезанные из дерева с большой анатомической точностью и
обтянутые кожей животных.
Следующий этап показывает дальнейший отход от первичной
модели. Пластические объемы приобретают более правильную и,
соответственно, более отвлеченную форму, углубляется и развивается
принцип архитектурного дискретного сочленения, некоторые
элементы деформируются настолько, что уже не могут быть
непосредственно соотнесены с естественными формами. Нередко для того,
чтобы идентифицировать те или иные элементы такой скульптуры,
необходимо провести последовательный сравнительный анализ серии
однотипных изделий (например, «абстрактные» статуэтки мбулу ба-
кота, которые, так же как агадесский, «сахарский» крест,
представляют разные этапы эволюции одного сюжета).
Образцы пластической идеограммы дает скульптура догонов.
Вариации некоторых форм (в частности, канага) колеблются между
художественным образом и знаком. На примере трансформации этой
формы можно видеть, как в процессе эволюции художественный образ
достигает того порога, за которым он переходит в новое качество.
Именно такие, до предела сжатые, почти абстрактные формы
типичны для последней фазы доклассового искусства. Показательно, что
эта фаза совпадает с концом предписьменного периода и появлением
первых местных систем письма. Показательно также, что на этом
этапе художественного развития различные способы аккумуляции и
передачи информации складываются естественно, вне связи с
европейским влиянием, в процессе эволюции изобразительных форм.
«Негры, — пишет Ж.-П. Лебёф, — используют для передачи идей
графические изобразительные средства, которые образуют одну из
упорядоченных систем связи и сообщения и являются зачатками
собственно письменности» 80.
Уяснение закономерностей стилистической эволюции полезно не
только для адекватного восприятия доклассового изобразительного
искусства, но и иных аспектов традиционной культуры, поскольку на
этой стадии художественный процесс существует как
нерасторжимое единство. Как показывает стилистический анализ, все без
исключения элементы этой недифференцированной системы, включая
и те, чьей фундаментальной функцией является стабилизация,
подвержены трансформации. Эволюция одних элементов системы
неизбежно связана с трансформацией других. Причем трудно решить,
что здесь первично: кристаллизация мифологических представлений,
их развитие от конкретного (действительный умерший вождь
племени и т. п.) к отвлеченному, архитипическому (культурный герой,
первопредок и т. п.) или постепенная стилизация изображения того
же предка, сворачивание художественной формы, ее эволюция от
конкретного к абстрактному. Но каково бы ни было это соотношение,
очевидно, что в искусстве первобытного цикла устойчивые
условные идеографические формы повсеместно являются продуктом
эволюции.
526
Глава шестая
В заключение отметим некоторые важнейшие особенности худо·
жественного процесса. Анализ первобытного искусства показывает^
что ранней стадии соответствует относительно однородная
художественная структура: в пещерном и наскальном искусстве региональные,
этнические, индивидуальные особенности размыты, зато
стадиальная общность прослеживается повсеместно.
В более позднем этнографически фиксируемом искусстве уже-
четко вычленено не только стадиальное, но и этническое начало.
Именно оно определяет специфику локальных художественных
стилей, региональные особенности. В отличие от панойкуменного
палеолитического изобразительного искусства это более позднее искусства
наряду с другими сферами культуры выполняет этнодифференци-
рующую функцию.
4. Религия у мифология
и первобытный синкретизм
Посмотрим теперь, каким способом сочетались рациональные
знания человека первобытного общества и рациональные приемы его
мышления с теми суеверными, фантастическими представлениями
о мире, которые обычно отмечаются у всех отсталых народов. И
какое место занимали и занимают эти фантастические представления
в общей, структуре общественного сознания людей первобытной
эпохи? Об этом, впрочем, отчасти уже говорилось.
Конечно, неправы те ученые (этнографы, психологи,
религиоведы), которые склонны, как мы уже видели, рассматривать сознание
людей доклассового общества как вместилище нелепых и
сумасбродных идей, как богатую коллекцию суеверных представлений об
окружающем мире и о самом человеке. А ведь именно такие
представления чаще всего и привлекали" внимание полевых этнографов, они
тщательно записывались и подробно публиковались. Сводить все
содержание сознания отсталых народов к таким фантастическим
представлениям — значит давать явно однобокую, а потому неверную
характеристику духовного мира этих народов. Наша задача — правильно
понять соотношение реалистических и суеверных представлений в
сознании человека доклассовой эпохи.
Как уже говорилось выше, французские социологи школы Дюрк-
гейма — Леви-Брюля впервые попытались теоретически
разграничить две сферы человеческого сознания: сферу индивидуальных
представлений и сферу коллективных представлений — и
усматривали принципиально разные источники у тех и у других:
индивидуальные представления рождаются из собственного опыта
человека и они, по крайней мере в принципе, адекватны объективной
действительности и подчиняются правилам нашей общеобязательной
логики; коллективные же представления не связаны с личным опытом
человека, напротив, они как бы навязаны человеку окружающей его
общественной средой, а потому они не подчинены нашей логике, а
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
527
следуют совсем особым «дологическим» законам мышления. Такую
форму придал этой концепции Леви-Брюль.
Невпопад критиковали эту концепцию и самого Леви-Брюля те
авторы, которые приписывали этому французскому мыслителю вели-
кодержавно-колониалистскую тенденцию очернить мышление
отсталых народов, представить их безмозглыми дураками и
противопоставить умным и логически мыслящим европейцам81. Леви-Брюль
этим грехом не грешен. Как уже говорилось, он неоднократно
оговаривался в своих книгах, что исследует не вообще строй мышления
отсталых народов, а только сферу действия.«коллективных
представлений», наряду с которыми в сознании представителей любого народа
есть и другие, вполне реалистические представления. Он, правда,
считал (и в этом, видимо, был прав), что в «низших обществах», т. е. на
ранних ступенях исторического развития, эти коллективные
представления играли более заметную роль, чем, скажем, в европейском
обществе.
Действительная ошибка ученых школы Дюркгейма — Леви-Брюлй
состояла в другом. Она состояла, во-первых, в том, что, видя
источник формирования коллективных представлений в обществе, в
общественных силах, принудительно действующих на индивида, Дюрк-
гейм и его последователи понимали само общество чисто
идеалистически, не как реально действующий трудовой коллектив, а как
систему психических связей; поэтому сама система коллективных
представлений опирается у них фактически на самое себя, т. е. иначе
говоря, висит в воздухе. Вторая же ошибка Дюркгейма и его
учеников состояла в том, что они резко противопоставляли это самое
общество как особую реальность всему окружающему материальному
миру, природе. Человеческое общество есть часть той же
материальной природы; самое же главное в том, что отношение человека к
окружающему его материальному миру ни в коем случае не есть
отношение индивида-одиночки, находящегося глаз на глаз с мертвой
природой: это отношение всегда социально опосредовано; строго говоря,
не отдельный индивид противостоит природе, а человеческий
коллектив — орда, род, племя включены в нее.
Из этой принципиальной ошибки Дюркгейма вытекала и
односторонность и некоторая упрощенность объяснения им
происхождения религии. Дюркгейм правильно видел в религии явление
общественного сознания, а потому и искал социальные корни религии. Но
он ошибался, когда резко отмежевывал социальные силы, давящие
на человека и тем самым порождающие в нем религиозное чувство,
от тех природных сил, которые тоже давят на человека (при том,
как уже говорилось, на общественного человека) и которые, как это
уже a priori можно ожидать, тоже способны порождать религиозные
представления.
При всем остроумии, при всей меткости дюркгеймовского
объяснения корней религиозных верований и обрядов (он это делал на
примере австралийских тотемических верований) мы все же видим,
528
Глава шестая
что совершенно невозможно свести все религиозно-магические
представления к чисто «социоморфической» модели, вывести их из чисто
общественных сил, отстраняя напрочь действие природных сил. Ведь
это значило бы представлять себе первобытного человека как
существо, совершенно не зависящее от стихийных сил природы, не
испытывающее на себе их воздействия.
На самом деле при всей изощренности своей промысловой
техники, при всей точности и проверенности своих знаний о повадках
зверей, первобытный охотник очень часто терпел полную неудачу в
своих стараниях промыслить дичь, а это означало для него нередко
голод и всякие лишения.^Яри всем своем трудолюбии, при всех своих
знаниях свойств почвы, сортов растений, примет погоды
первобытный земледелец нередко терпел неурожай, за которым шла та же
голодовка. Очень часто убеждался первобытный человек, что его сил,
его умения, его знаний, его настойчивости не хватает для
достижения желаемой цели — не умереть с голоду, сохранить жизнь себе,
семье, общине.
Очень хорошо выразил это Л. Я. Штернберг, добросовестный и
вдумчивый исследователь, много лет живший среди гиляков и
других народов Приамурья. В своей борьбе за существование, писал он,
человек прежде всего «применяет свои собственные силы. Наряду
с грубой физической силой он применяет свое великолепное орудие —
свой интеллект, свои изобретения — орудия... Его основной метод
борьбы за существование — это метод техники, изобретения. Но вог
оказывается, что все его гениальные изобретения недостаточны для
борьбы с природой. При всем своем искусстве в одном случае он
направляет стрелу в животное даже в самую плохую погоду и убиваег
его, а в другом случае при самых благоприятных условиях делает
промах, стреляет и не попадает. В одном случае он может наловить
рыбы в один день столько, что ее хватит надолго, а в другом случае
могут пройти целые месяцы, и он не поймает ни одной рыбы... Мало
того, в борьбе за существование бывают явления еще худшего
порядка: болезни, смерть... В подобных случаях человек бессилен. Но
он не хочет покориться, и так же, как он делает открытия в области
техники, он делает открытия и в той области, где он совершенно
бессилен в борьбе за существование. Вот тут-то и начинается область
религии»82.
Бессилие и беспомощность первобытного человека, и именно
беспомощность в жизненно важном деле поддержания своего
существования, — вот подлинный корень древнейших религиозно-магических,
т. е. суеверных и фантастических представлений. Это бессилие
вынуждало человека хвататься за самые, казалось бы, неразумные в
нецелесообразные средства, чтобы добиться результата, не дающегося
в руки при помощи привычных и разумных, проверенных опытом
средств:
Иными словами, в религиозно-магических обрядах и
соответствующих им верованиях первобытный человек стремился как бы
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 529»
восполнить свои недостаточные силы, недостаточное умение и
знание 83.
Было бы грубой ошибкой полагать, что обе сферы сознания
человека первобытной эпохи (как и более поздних эпох), реалистическая
и фантастическая, разделены непроницаемой стеной; ошибочно было·
бы рассматривать их как два параллельных потока, не
смешивающихся и не пересекающихся друг с другом. Напротив, с самого
начала существовали, видимо, весьма тесные и сложные связи между
реалистическим познанием природы, опирающимся на трудовой опыт
людей, и превратными, фантастическими представлениями о нейг
расходящимися с непосредственным опытом, но в конечном счете
исходящими из него же.
В самом деле. Изучая ранние формы религии на живых
этнографических примерах, мы многократно наталкиваемся на факты, когда
очень трудно судить о том, с реальными или с фантастическими
представлениями мы имеем дело. И если с фантастическими, то
составляют ли они предмет религиозных верований или всего-на-всего
фольклорные образы? Или о том, рациональный или магический
(либо шарлатанский) прием употребляется людьми для достижений
какой-то практической цели? Приведем лишь несколько примеров»
Вероятно, у всех народов земного шара существуют поверья о
животных. Поверья эти чрезвычайно разнообразны, но их можно
сгруппировать в несколько главных категорий.
1) Вполне реальным животным приписываются необычайные и
таинственные свойства. Например, способность предвещать своим
поведением будущее. Собака воет— «к покойнику» или «к пожару»,
«к войне»; перебежавшая дорогу кошка предвещает неприятность;
карканье ворона — к беде, к смерти; кукованье кукушки означает,
«сколько лет осталось человеку жить»; бегство мышей и тараканов
из жилья — предвестие пожара, и пр. Некоторым домашним
животным — козлу, собаке, петуху — приписывается способность отгонять
«нечистую силу». Из многочисленных поверий о медведе вспомним
суеверное мнение, что медведь — это превращенный человек, что
медведь может похитить женщину и сожительствовать с ней. Паук
приносит счастье, но в то же время убить паука — сделать доброе
дело. Нашествие саранчи — божья кара. И т. д. и т. п. Эти и многие
другие поверья отмечались у народов многих стран.
Самое интересное здесь то, что многие, если не все, подобные
суеверные представления основаны на тех или иных вполне реальных
свойствах животных, и зачастую нелегко различить, где здесь
суеверие, а где меткое наблюдение над повадками животных. Пение
петуха предвещает наступление утра, конец ночной тьмы, ночных
страхов — но ведь это и есть изгнание «нечистой силы»! Собака,
преданная своему тяжелобольному хозяину, действительно может
чувствовать тревогу семьи и выражать воем свое беспокойство.
2) Из среды животных выделяются отдельные особи, наделяемые
сверхъестественными качествами. Помимо простых волков есть вол-
2)30 Глава шестая
ки-оборотни или белый волк, царь волков. В Индии верят в особых
тигров-оборотней, в Африке — в таких же леопардов, в Южной
Америке — в ягуаров. В Индии бытуют поверья о царе обезьян, о царе
змей и пр. Вероятно, в основе этих поверий тоже лежат факты: есть
особо сильные, хищные, неуловимые особи среди волков, медведей,
тигров — что же мудреного, если им приписываются таинственные,
необычные свойства!
3) У отсталых народов нередко отмечались верования о
мифических предках-животных, видимо, тотемического происхождения.
Они оказываются иногда великими демиургами, или культурными
героями. Таковы в мифологии североамериканских индейцев
Великий Заяц, Великий Койот, Великий Ворон и др. Подобная
мифологизация образов животных, в остальном вполне реальных, есть еще
один мостик, соединяющий мир реалистических представлений
человека и мир его фантазии.
4) В поверькх многих народов разных частей света фигурируют
образы животных либо явно фантастических, либо таких, о которых
это предстоит еще выяснить. Таковы разные драконы, грифоны,
саламандры, чудовищные водяные змеи, гигантские черепахи и пр.
Здесь опять не всегда йсно, где кончается знание реальной местной
фауны и где начинается мир сказочных зверей.
К подобным поверьям близко примыкают широко
распространенные поверья о «диких людях», обитающих где-то неподалеку или
живших прежде. Это разные «чучуна», «челюгдеи» и пр. в Сибири,
«чуды» в Северном Приуралье, «алмасты», «каптары», «гульбиява-
ны» и др. на Кавказе и в Средней Азии, «йети» в Гималаях. Наука
до сих пор окончательно не раскрыла корней этих поверий и не
смогла решительно ответить на вопрос, основаны ли хотя бы
некоторые из них на реальном факте соседства людей с какими-то
реликтовыми гоминоидами — «снежными людьми» 84.
Как в области поверий, так и в области практических действий
можно указать множество примеров того, как сфера разумных и
целесообразных действий переплетается со сферой магических,
колдовских актов. Об этом в этнографической литературе писалось
неоднократно.
Так, приемы лечебной магии теснейшим образом связаны с
народной медициной и в простейших своих формах от нее неотделимы.
Насылание «порчи» (вредоносная магия, ведовство) не всегда можно
отграничить от причинения вполне материального вреда врагу: через
опаивание ядовитым зельем, нанесение раны «заговоренным»
копьем и пр. Любовная магия в своих элементарных проявлениях
сводится к полуинстинктивным приемам ухаживания. Военная магия
выражается нередко в действиях, явная цель которых — поднять
боевой дух воинов, напугать врага устрашающей раскраской тела,
воинственной пляской с дикими криками и пр. В промысловой (охот-
ничье-рыболовческой, земледельческой) магии зачастую хорошо
видны ее как бы «технологические» корни: окуривание охотничьих
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 531
снастей, рыболовных сетей, отбивающее у них «человеческий» запах,
меры предосторожности и запреты во время промысла.
Чем примитивнее, чем элементарнее магические приемы, чем
архаичнее верования, тем более отчетливо видна тесная связь тех и
других с целесообразными, основанными на стихийном трудовом
опыте действиями и с опирающимися на тот же опыт реальными
знаниями. Вот почему, говоря о соотношении — историческом и
психологическом — реалистических и фантастических черт в общественном
сознании первобытной эпохи, мы, хотя и стараемся разграничить их:
одни от других, но не можем даже и пытаться оторвать их друг от*
друга. Корни реалистического познания и корни суеверных
(религиозно-магических) представлений первобытного человека — в
конечном счете одни и те же: это трудовая практика, материальная
производственная деятельность, реальные человеческие отношения. Но они
отражаются в сознании двояко: адекватно, реалистически — и
превратно, фантастически. Второй вид отражения есть «восполнение»
первого в той сфере человеческой деятельности, где положительный
опыт еще не дает человеку подлинной власти над природой, не дает
уверенности в своих силах и где он притом слишком подавлен
царящей над ним природной и общественной стихией.
Все сказанное приводит к выводу о господстве нерасчлененности,
недифференцированности, синкретизма в строе общественного
сознания первобытной эпохи. Этот синкретизм, делающий трудным, а та
и невозможным, разграничение черт позитивного познания
окружающего мцра и элементов оторвавшейся от этого познания фантазии,,
присутствует, как мы видели, зачастую и в сознании людей гораздо
более поздних эпох; но тем с большим основанием можем мы
предполагать решительное преобладание этого нерасчлененного сознания
на ранних стадиях развития человечества.
Здесь необходимо, однако, предостеречь от двух ошибочных
взглядов, которые связаны с неправильным пониманием отмеченного-
только что явления: одни авторы склонны, основываясь на факте
недифференцированности первобытного общественного сознания,
объявлять его целиком «мистическим», «магическим», «религиозным»,
«космическим» и т. п.; другие, напротив, не видя в первобытном
сознании ничего, кроме сочетания правильных и неправильных
представлений, не находят в нем вообще места для идеи
сверхъестественного, а потому отрицают возможность существования какой бы то ни
было религии в первобытную эпоху, считая религию явлением,
присущим лишь классовому общественному строю.
Первую из этих ошибок совершали многие, особенно со времени
появления работ Леви-Брюля, который и сам порой сбивался, как уже-
говорилось выше, на понимание характера мышления первобытных
людей как сплошь мистического. Этого же взгляда держались и
некоторые последователи Леви-Брюля и люди, так или иначе
испытавшие на себе его влияние (например, Н. Я. Марр с его теорией
«космического мировоззрения»). В числе недавних ярких примеров —
532
Глава шестая
голландский этнограф-миссионер П. Темпе лье, за долгие годы своей
деятельности среди бемба и балуба (в Конго) пришедший к мысли
о том, что мировоззрение и вся жизнь народов банту подчинена
«метафизической системе», вере в вездесущие «силы»85; или видный
французский этнограф-африканист М. Гриоль, рассматривавший весь
быт и культуру африканских народов как
сексуально-мифологическую символику 86.
Однако уже первые критики Леви-Брюля указывали на ошибоч- г
ность подобных взглядов и на необоснованность некоторых
высказываний этого ученого. Так, еще О. Леруа в своем обстоятельном
критическом разборе трудов Леви-Брюля убедительно показал, что
взгляд на первобытного человека как на некоего мечтателя-мистика
или колдуна не подтверждается фактами, что представители даже
самых отсталых народов ведут себя в повседневной жизни как вполне
разумные люди; что, например, охотники-австралийцы, бушмены и
др. проявляют свое изумительное охотничье искусство отнюдь не в
применении магических обрядов и заклинаний, а в изощренном ма- ,
стерстве изготовления и употребления промыслового оружия, в
виртуозном умении выслеживать и подстерегать дичь и что в этом
охотничьем мастерстве «коллективные представления не играют никакой
роли» 87. Да это и понятно, ибо иначе эти народы вообще не могли
бы сохранить свое существование. На самом деле, говорит Леруа, в
уме и в поведении «нецивилизованных» людей можно найти и
суеверные черты, и вполне разумные действия — так же как и то и
другое обнаруживается в быту «цивилизованных» народов. Ошибаться
могут и те и другие, но ошибки эти вовсе не свидетельствуют о
какой-то «мистичности» в складе ума первобытного человека.
Накопившаяся с тех пор богатая этнографическая литература все
более подтверждает, что на каком бы низком или высоком уровне
исторического развития ни стояли люди, они действуют, пока
находятся в привычной обыденной обстановке, так, как это диктуется
обстановкой, умея поддерживать равновесие со своей экологической
средой. Иное дело — в моменты нарушения рутины, при наступлении
непредвиденных, необычных событий, особенно в моменты грозной
опасности, голодовки, болезней, стихийных или иных бедствий.
Сбившаяся с привычной, повседневной тропы мысль, подстегнутая
эмоциями страха, тревоги, растерянности, вполне могла и должна была
пойти по пути создания фантастических обрядов, и даже
привычные, разумные действия приобретали искаженное направление и
начинали осмысляться как некие колдовские акты.
Другая, противоположная ошибка состоит в стирании всяких
принципиальных граней между реалистическими и фантастическими
представлениями первобытного человека о мире. Первобытный чело-
век-де не знал разницы между «сверхъестественным» и
«естественным», он не мог знать законов природы, а потому сознание его не
вмещало идеи о чем-то, нарушающем эти законы; для первобытного
человека все было одинаково «естественным»: и вполне натураль-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
533
ный тигр, и тигр --оборотень, и огнедышащий дракон, и молния, и бог-
громовик, ее посылающий. Подобные мысли, высказывавшиеся еще
Леви-Брюлем88 и Дюркгеймом 89, встречаются порой и в новой
научной литературе90. Сторонники этого взгляда делают из него такой*
вывод: говоря о сознании первобытных людей, мы можем различать
в нем правильные и ошибочные представления, но не можем
разграничивать сферы «естественного» и «сверхъестественного», а значит,
здесь еще нет места для того, что мы называем религией.
В таких рассуждениях есть доля истины. Она заключается в том,
что разграничивать в первобытном сознании сферу
««сверхъестественного» и «естественного» и отмежевывать «религиозные» идеи от
«нерелигиозных» по чисто познавательному признаку нельзя. Это
разграничение проходит не в гносеологической, а в аффективной
сфере психики, оно задевает не область ума, а область чувства.
«Сверхъестественное» для первобытного сознания — это не то, что нарушает
«естественные» законы природы, ибо этого последнего понятия в
первобытном сознании еще нет (тут вполне правы сторонники
упомянутого взгляда). «Сверхъестественное» — это то, что нарушает
рутину повседневной жизни, врывается Б привычную
последовательность явлений, это нечто неожиданное, необычное и, что всего
важнее, нечто опасное, угрожающее жизни или благополучию людей.
Человек своими привычными средствами, своим вековым стихийным
опытом справляется с повседневными трудностями бытия; но когда
нависает нежданная опасность, грозит или уже началось бедствие,
эпидемия, голодовка, засуха, землетрясение, привычные средства
отказывают, вековой опыт бессилен, нужны экстраординарные меры.
И вот по преимуществу тогда пускаются в ход магические действия,
заклинания, молитвенные обращения к духам предков, к богам,
принесение жертв, в самых угрожающих случаях — даже человеческих
умилостивительных жертв. Вот где область «сверхъестественного»!
Итак, из синкретизма первобытного общественного сознания
нельзя выводить ни абсолютного доминирования «мистики» в этом
сознании, ни, наоборот, полного отсутствия в нем представлений
о «сверхъестественном».
В св(язи с только что сказанным нам осталось осветить еще один
вопрос: о месте мифологии в первобытном общественном сознании.
Об этом предмете существует обширная литература. Немало есть
и теоретических исследований — этнографических,
литературоведческих, религиоведческих, философских — о сущности мифологии как
формы устного народного творчества, о мифологии как первобытном
мировоззрении. И тем не менее в оценке сущности и происхождении
мифологии, в оценке ее роли в развитии человеческой культуры
остается много неясного. По этим вопросам существуют самые
разнообразные, даже противоположные мнения.
Больше всего разногласий вызывает вопрос об отношении мифа
к религии. Подавляющее большинство исследователей, особенно
прежних, связывает мифологию с религией самым тесным образом.
534
Глава шестая
Старая «мифологическая» школа Гримма-Мюллера видела в
мифологии древнейшую религию и источник всякой религии. По взгляду
Э. Тайлора, мифология построена из тех же анимистических
представлений, которые лежат в основе всей религии. В. М. Вундт
рассматривал мифологические представления как нечто
предшествующее собственно религии, тогда как П. Эренрейх считал, что даже
самые сложные религии корнями своими восходят к первобытному
мифологическому мировоззрению. Многие авторы-марксисты тоже
смотрели на мифологию как на непременную составную часть
религии.
Однако с конца XIX в. наметилась и тенденция отделить миф от
религии, даже противопоставить одно другому. Ф. Джевонс понимал
мифологию в отличие от религии как первобытную философию и
художественный вымысел91, С. Рейнак —как простое собрание
рассказов, Э. Лэнг — как некую постороннюю струю,
примешивающуюся к религии и загрязняющую ее потоком «магии, обмана и
скандальных легенд»92. Глава «венской школы» этнографии В. Шмидт
настойчиво и неутомимо доказывал, что мифология («солярная»,,
«лунарная» и пр.) составляет лишь сравнительно позднее наслоение
в религии, затемняющее «возвышенный образ небесного бога», пер-»
воначально лишенный всяких мифологических черт.
Если ученые сторонники религии старались, таким образом,
отмежевать мифологию от религии, чтобы очистить и обелить
последнюю, то некоторые исследователи-атеисты разграничивали одно от
другого как раз с противоположной точки зрения: они видели в
мифологии свободный порыв творческой фантазии, опережающий в
предвосхищающий развитие техники и науки, а в религии,
напротив, — тяжелый груз, сковывающий человека, подчиняющий его
тайным силам. Так смотрели на соотношение мифологии и религии
М. Горький93, венгерский исследователь И. Тренчени-Вальдап-
фель 94.
Остаются неясными в науке до сих пор и вопросы о соотношении
мифологии с другими видами народной фантазии, народного
творчества: миф и сказка, миф и героический эпос, миф и легенда. По
этим вопросам тоже существуют весьма различные мнения943.
Мифологическая (натурмифологическая) школа сводила чуть ли не все
виды народного творчества к древним мифам: и сказку, и
историческую легенду, и даже народную обрядность сторонники этой школы
рассматривали как деградировавший солярный или астральный миф.
Напротив, последователи «антропологической» школы (Г. Спенсер
и др.) самую мифологию нередко сводили к историческим событиям
и историческим личностям.
Чем бы ни были вызваны такие резкие расхождения в понимании
сущности и исторической роли мифологии — сложностью ли самого
явления или субъективными факторами, связанными с оценкой всего
того, что касается религии, во всяком случае полезно сделать по-
лытку разобраться в существе вопроса без предвзятой точки зрения.
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
535
Нередко определяют мифы как рассказы, в которых дается
объяснение природным или иным явлениям окружающей человека
действительности путем юс олицетворения. Это определение, хотя и
близкое к истине, однако слишком узко и при том упрощено:
серьезные исследователи (Малиновский, Леви-Брюль, А. Ф. Лосев и др.)
не раз предостерегали против приписывания первобытному человеку
склонности к постановке чисто отвлеченных вопросов о причинах
природных или иных явлений95. Впрочем, и попытка А. Йенсена
противопоставить «этиологические» мифы «истинным» мифам96
представляется искусственной и неубедительной.
И все же, чтобы получить первое приближение к пониманию
сущности мифа — в отличие от сказки, героического эпоса и пр. —
лучше всего исходить именно из объяснительной, этиологической
функции мифа. Это наиболее бросающаяся в глаза черта всякого
мифа, хотя черта, еще недостаточная для полного понимания его
сущности и происхождения. Элементарные мифы, объясняющие
происхождение, например, животных и их различных особенностей или
небесных тел, или рек, гор и т. п. географических явлений, или,
наконец, разных социальных институтов и обычаев, хорошо известны
не только у самых отсталых народов, как австралийцы, папуасы,
бушмены и др., но и у более развитых, включая греков античной
эпохи и современные народы Европы.
Но, всматриваясь внимательно в содержание этих, даже наиболее
элементарных, чисто этиологических мифов, мы замечаем в них
особенности, которые не позволяют нам удовлетвориться данным выше
упрощенно интеллектуалистическим пониманием сущности и роли
мифа.
Во-первых, то «объяснение» определенного природного явления,
которое даетср в мифе, никогда не бывает основано на понимании
объективной каузальной связи явлений (каким должно быть всякое
действительное объяснение явлений). Напротив, оно всегда
субъективно и прежде всего выражается в олицетворении объясняемого
явления: о нем говорится в мифе как о живом существе, чаще
антропоморфном, а если зооморфном, то с человеческими чертами и с
человеческой мотивировкой действий. Вот простейшие примеры — из
записей В. Рота по Северному Квинсленду (Австралия). «Попугай и
опоссум дрались, и оба были ранены: у попугая шея и грудь были
в крови (отсюда красные пятна на этих местах), а у опоссума
—синяк на морде (черное пятно)». Другой миф содержит в себе
объяснение того, почему черепаха живет в море: ее столкнули туда другие
животные за то, что она прятала воду у себя под мышками97.
Рассматриваемое явление, таким образом, как бы уподобляется
человеку; но не человеку вообще, а человеку данной конкретной
этнической среды; явление природы (в том числе животного мира) как бы
вводится в кадр традиционных социальных ячеек, в которых живут
люди. Было бы совсем нетрудно показать, что и все более сложные
536
Глава шестая
мифы любого народа — и это давно установлено в науке — построены
целиком на олицетворении природных явлений и социальных сил.
Во-вторых, «объяснение» данного явления дается часто в наивной
форме прецедента: то, что случилось когда-то, с тех пор повторяется.
Вот предельно простой миф (племя кайтиш, Центральная
Австралия), объясняющий видимое суточное движение солнца по небу:
«Женщина-солнце по имени Окерка родилась далеко на востоке и
странствовала до местности, называемой Аллумба, где с тех пор
выросло памятное дерево. Через некоторое времй женщина вернулась
на восток; и теперь она каждый день поднимается на востоке, идет
к западу и спускается, чтобы вновь вернуться утром» 98. Вот другой
пример — миф, рассказывающий о происхождении обычая бигамии
(араваки, Южная Америка): «Жили две сестры, одни во всем мире.
Спустился с неба мужчина, первый, кого они увидели не во сне, а
наяву, и обучил их земледелию, приготовлению пищи, тканью и
всяким ремеслам. Вот почему у каждого индейца теперь по две жены» "-
На эту характерную черту — подмену каузального объяснения
ссылкой на прецедент — уже указывалось в литературе, например Леви-
Брюлем 10°.
В-третьих, в примитивных этиологических мифах очень часто
встречается в качестве наивной замены каузального объяснения еще-
один мотив: объяснение «от противного». Данное явление возникло-
де потому, что раньше было наоборот. Вот два примера из
мифологии племени сулка на Новой Британии (Меланезия). Один миф
рассказывает о происхождении моря: некогда море было-де маленьким
и его хранила одна старуха в горшке под камнем, пользуясь соленой
водой для варки пищи; но внуки ее однажды подсмотрели, как она
это делает, и с тех пор море широко разлилось. Другой миф говорит
о свете солнца и луны: когда-то луна светила так же ярко, как
солнце, но маленькая птица залепила ее диск комком ила, и с тех пор
луна светит тускло 101. Неразвитый интеллект человека, скованный
общинно-родовыми традициями, видимо, удовлетворялся подобным
решением задачи, не задавая дальнейших вопросов.
В-четвертых, чисто объяснительная функция мифа зачастую — и
это даже в самых примитивных мифах — осложняется привнесением
морализирующего мотива: в мифическом повествовании часто
наличествует идея наказания за какое-то недозволенное или
предосудительное действие. Это видно и в уже упомянутых мифах о черепахе
(Квинсленд), о море (сулка).
Эта сторона народной мифотворческой фантазии как-то мало
отмечалась в научной литературе, а она очень важна. Даже Вундт,
подчеркивавший эмоциональный аспект в «мифологической
апперцепции», ни слова не говорил о том, что мифологические
повествования призваны удовлетворить в какой-то мере не только
интеллектуальную любознательность, но и моральное сознание, чувство
справедливости человека. Ближе других подошел к пониманию этической
функции мифа, быть может сам того не замечая, К. Леви-Стросс>
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 537
когда он рассматривает миф как своего рода многоплановое «созна-
чение», имеющее своей функцией подчеркивание и усиление некоего
простого социального факта^но и он, оставаясь верным своей чисто
интеллектуалистической концепции, не обратил вниманий на
социально-этическое звучание некоторых мифов, как бы
успокаивающих нравственное сознание людей.
В-пятых, внимательно сопоставляя содержание мифов разных
народов, нельзя не заметить характерной закономерности: и самый
сюжет, и все мотивы и детали мифа всегда соответствуют, иногда
вплоть до подробностей, условиям материальной жизни данного
народа и общему уровню его развития. Вопросы «откуда» и «почему»,
лежащие в основе любого мифа, никогда не относятся к предмету
праздного любопытства: они всегда направлены на явления
окружающей человека среды, притом такие явления, которые имеют для
человека жизненно важное значение и так или иначе связаны с
объектами и формами его практической деятельности.
У охотничьих племен круг зрения обычно ограничивается
местным животным и растительным миром и привычными, простейшими
формами общественного быта; поэтому мифология их включает, как
правило, сюжеты о происхождении тех или иных животных и их
характерных особенностей и повадок, а также о происхождении огня,
брачных правил, тотемических групп, обрядов инициации и пр.; мифы
о небесных телах тоже встречаются, но относятся лишь к чисто
внешним явлениям: суточное движение солнца (смена дня и ночи), фазы
луны.
Зато у оседлых земледельческих народов с их более
устойчивой материальной жизнью, более высоким уровнем общественного
развития и более широким умственным кругозором мифология
представляет собой обычно сложный цикл повествований, где даются
ответы не только на вопросы о происхождении небесных и земных
природных явлений и форм общественной жизни, но иногда и
содержится целое мировоззрение, картина зарождения, развития и даже
грядущей гибели вселенной. Впрочем, эта последняя категория
мифов — «эсхатологические» мифы — стоит вообще особняком среди
всех остальных мифологических циклов: она требует особого
исследования.
Зато очень типичным и характерным является цикл мифов о
происхождении огня. Он прежде всего поддается очень надежной
исторической датировке, позволяющей относить мифы о добывании огня
к глубочайшей первобытности. Ведь бесспорно, что сам исторический
факт — открытие способа добывать огонь и пользоваться им —
составляет один из существенных рубежей в процессе антропогенеза,
рубеж, отделяющий человека от его животных предков. Мифы о
происхождении огня не могут быть древнее, чем отраженный в них
исторический факт — добывание огня и пользование им; таков terminus
post quem. Верхняя же грань этой датировки — terminus ante quern
определяется завершением процесса антропогенеза, когда пользова-
538
Глава шестая
ние огнем уже давно стало достоянием людей и было перекрыто
другими, более сложными культурными достижениями.
Это лишний пример того, что мифология имеет свои стадии
развития; но не самостоятельные, а соответствующие общим стадиям
развития материальных условий общественной жизни людей.
Миф о происхождении огня известен и у самых отсталых, и у
более развитых народов. Содержание подобных мифов довольно
разнообразно: в одних больше чисто фантастических мотивов, другие
довольно прозаически повествуют о том, как люди случайно
научились добывать огонь трением или высеканием. Но даже и самый
фантастический рассказ отражает в сущности какую-то реальность.
Чаще всего, особенно на самой ранней ступени, налицо мотив
похищения: люди (и животные) не имели огня, зябли, ели сырую пищу;
но некое существо — животное либо человек, чаще женщина —
владело огнем, ни с кем не желая им делиться; и вот другое существо —
по большей части какая-то птица — похитило огонь у скупого
владельца и принесло его людям; попутно объясняется, почему у птицы-
похитителя красное пятно на шее или на голове.
Мотив похищения варьируется: похищают огонь с неба,
откалывают кусочек от солнца; владелец огня добровольно его уступает;
огонь храните^ в теле женщины, между ее ногами (ассоциация огня
и секса). Но почти всегда налицо фигура похитителя или
передатчика огня людям, а значит, фигура культурного героя. Очень вероятно,
что в мотиве похищения отразилась некая реальность: вероятно,
было время, когда какое-то племя владело огнем, а соседние
племена его не имели.
Еще ближе к исторической реальности мифологические рассказы,
где просто говорится о человеке, который случайно или по каким-то
мифологическим обстоятельствам научился добывать огонь трением.
Очень прозрачны и рассказы, согласно которым огонь был кем-то
спасен и сохранен от великого пожара, вызванного ударом молнии,
или от наводнения.
Дж. Фрэзер, собравший большое количество мифов об огне со
всех частей света, пришел к выводу, что в них как бы
воспроизведены три исторические ступени: 1) когда люди совсем не знали огня,
2) когда они научились им пользоваться и 3) когда научились его
добывать 102.
Но не всякая мифология выполняет эту функцию датирующего
культурного признака. Любопытно для сравнения привести цикл
мифов о происхождении смерти. Эти мифы количественно
превосходят, может быть, всякий другой цикл. Но дл>1 датировки они ничего
не дают по той причине, что люди умирали, умирают и будут
умирать во все исторические эпохи. Правда, самое содержание мифов
о смерти, мифологизация самого образа смерти — все это тоже,
конечно, зависит от общих исторических условий.
Иными словами: если первичный смысл и функция мифа состоят
в удовлетворении человеческой любознательности (почему? и отку-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
539
да?), то не надо забывать, что сама эта любознательность вовсе не
есть неизменное и абстрактное свойство человеческого ума, напротив,
она зависит от условий материальной жизни человека. То, что
возбуждает любопытство и интерес у людей одной эпохи, может
оставить вполне равнодушными людей другой эпохи, и наоборот.
Но надо постараться уяснить себе следующие вопросы: 1)
Каково взаимное соотношение мифа и обряда, что является первичным и
что вторичным? 2) Играет ли и культовый миф ту же
«объяснительную» (этиологическую) роль, как все прочие виденные нами выше
мифы? 3) Каково идейное значение религиозной мифологии в
истории умственного развития человечества?
По вопросу о соотношении мифа и религиозного обряда в
современной науке стало распространенным мнение, что именно обряд
был основой для создания мифа. Эта мысль высказана впервые
историком-семитологом Робертсоном-Смитом еще в 1880-годах и позже
развита Р. Мареттом, К. Прейсом, Б. Малиновским и др., в России
Ю. П. Францевым и некоторыми другими марксистами. Эти
исследователи вполне правильно рассматривают культовый миф как своего
рода пояснение, осмысление, а главное, как обоснование
совершаемого обряда. По Б. Малиновскому, миф призван обосновать
законность обряда, исполняемого данной социальной группой, как бы
узаконить право ее на совершение данного обряда 103. По А. П. Эльки-
ну, «мифы [австралийцев] санкционируют обычаи, правила и обряды,
связывая их с историческим прошлым и временем вечных
сновидений» 104. В исследовании русского фольклориста Н. Познанского о
заговорах очень хорошо показано, что содержащееся обычно в заговоре
словесное описание якобы совершаемых действий есть лишь остаток
обрядовых движений, которые некогда действительно
производились 105; и это описание действий очень легко перекидывается в
прошлое и может рассматриваться как мифологический рассказ.
Конечно, причинная зависимость «миф — обряд» в значительной
мере взаимна. Возникший скорее всего как интерпретация и
обоснование простейших ритуальных действий, миф в свою очередь влияет
на закрепление ритуала, а в дальнейшем и на его усложнение.
Известны и примеры обрядовых действий, целиком построенных в
качестве как бы инсценировки уже существующих мифологических
повествований. Примеры — их легче найти на поздних стадиях
развития — хотя бы церемонии в православных и католических храмах,
воспроизводящие те или иные эпизоды евангельских рассказов:
«шествие на осляти» (в старину), «омовение ног», «вынос плащаницы»
и др.; в буддистском культе — церемонии «Цам» и «Круговращение
Майдари»; в мусульманском культе — обход паломниками святынь
Мекки.
Б. Малиновский, по существу вполне правильно рассматривая эту
проблему, напрасно противопоставлял функцию мифа как
священного обоснования обряда его объяснительной функции 106. Такое
противопоставление имело бы смысл только в том случае, если бы мы
540
Глава шестая
понимали объяснительную (этиологическую) роль мифа так упро-
щенно, как понимали ее эволюционисты: как плод чисто умственной,
созерцательной и логической деятельности первобытного человека,
якобы задававшего себе отвлеченные вопросы о происхождении того
или иного явления и отвечавшего на них созданием олицетворяющих
мифов. Но мы уже видели, что даваемое в мифах «объяснение»
явлений природы или фактов культуры далеко от каузальных
рассуждений; это скорее ссылка на прецедент или на прежнее
противоположное состояние, притом ссылка сугубо субъективная,
олицетворяющая объясняемое явление и притом обычно морализирующая по поводу
него. А в таком случае, велика ли разница между подобным
«объяснением» и «обоснованием» (оправданием, узаконением) данного
явления, в нашем случае — религиозного обряда? Думается, что
разницы по существу нет никакой; мифологическое обоснование обряда
есть его своеобразное, весьма субъективное объяснение. Вот так
произошел данный обряд и вот почему мы имеем право и обязаны
его совершать.
Наиболее труден, пожалуй, ответ на третий вопрос — о том месте,
какое занимает религиозная мифология (и вообще всякая мифология)
в общественном сознании людей ранних эпох, какую роль сыграла
она в умственном развитии человечества.
Едва ли можно согласиться с теми исследователями, которые
считали, что мифология представляла собой как бы философию
первобытного общества — в отличие от более поздних эпох господства
рациональной философии; что все мировоззрение первобытного
общества было насквозь мифологично. Однако и мнение о том, что
мифология есть лишь собрание занимательных рассказов, не играющих
заметной роли в умственной жизни народов, никак не может быть
принято.
Наиболее близок к истине, по-видимому, взгляд по этому вопросу
А. ван Геннепа о том, что мифы, и прежде всего религиозные мифы,
составляют неотделимую часть религиозно-магических обрядов, при
том часть весьма существенную. «Их [мифов] рецитации сама по себе
есть существенный обряд в различных церемониях, без выполнения
которого эти церемонии не имели бы никакого действия на
сверхъестественный мир» 107.
Отнюдь не вся умственная жизнь даже самых первобытных
людей была заполнена мифологическими представлениями. Сфера
будничной, повседневной жизни имела к ним мало отношения.
Убедительным доказательством этого могут служить обстоятельные
описания быта и культуры аборигенов Австралии.
У австралийцев весь их традиционный уклад жизни (до
разрушения его английской колонизацией) характеризовался резким
расколом, разделением на две сферы: область повседневного быта и
область религиозно-магической обрядовой жизни. В этой последней
могли участвовать не все, а только «посвященные»; места
совершения обрядов считались недоступными для посторонних; они не могли
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
541
даже видеть культовые предметы, принадлежности церемонии. И
священные мифы, тесно связанные с обрядностью, приуроченные к
местам церемоний, сами по себе тайные для непосвященных ушей,,
призваны были как бы подчеркнуть, усилить и, главное, идейно
обосновать это выделение особого мира священного.
Сакрализирующая функция культового мифа еще более
усиливается в тех случаях — кажется, многочисленных — когда наряду с
этими «эсотерическими» (тайными, священными) мифами бытуют
«экзотерические», нарочито сочиненные для непосвященных, чтобы
их отпугнуть, не дать им проникнуть в тайны обрядов. В этих
экзотерических мифах обычно присутствуют образы странных духов —
убийц, людоедов, монстров, в существование которых сами
посвященные не верят.
Священный, мистический мир, изображаемый в культовых
мифах, олицетворенный в фантастических образах «предков» — нередко
полулюдей-полуживотных, мир особых существ, живших в
мифические времена сновидений (dream time) — альтьира, майзурли, унгуд,
вонджина и пр. (на местных диалектах) — резко противостоит
обыденному миру. В мифах элементы будничного мира — вещи, люди,,
местности, действия — переносятся в иной план, в иное измерение:
исполнитель обряда становился тотемическим предком-ящерицей, его»
шаги по обрядовой площадке — странствованием предка по стране^
обрядовый головной убор — священным телом предка, полускрытый
в землю камень — вместилищем тотемических зародышей. Само
исполнение обряда обязательно сопровождается рецитацией мифа.
Словом, культовый миф как бы преобразует будничную жизнь
людей в таинственный мир сверхъестественных существ и действий.
Такова была и есть главная функция культовой мифологии:
истолкование, оправдание совершаемого обрйда, обоснование права на
его совершение и одновременно — ключ для «кодирования»
производимых действий, их символического и мистического осмысления.
Ясно поэтому, что рассматривать мифологию как некую
универсальную философию первобытной эпохи нет никаких оснований.
Культовый миф представляет собой, как известно, некую
интерпретацию или экспликацию совершаемого религиозно-магического»
обряда. Это есть как бы либретто, по которому совершается
обрядовое действо. Об этом многократно писалось в литературе. И если
совершаемые обряды считаются священными, порой тайными и
исполняются вдали от глаз непосвященных, то в такой же мере считаются
священными и тайными связанные с ними мифы. Нет надобности
приводить примеры, они общеизвестны.
Многократно, вновь и вновь поднимался в науке, и в зарубежной*,
и в нашей атечественной, вопрос о тех конкретных формах, какие
принимала первобытная религия на заре своего становления. Но
каких только ответов ни давали на этот вопрос! Первобытный
монотеизм; культ умерших; культ предков; первобытный анимизм;
фетишизм; преанимизм; магия, аниматизм; тотемизм; в разное время та
542
Глава шестая
одна, то другая из этих теорий пускалась в научный оборот и
служила предметом споров. Мы сейчас не ка'саемся вопроса, какай система
взглядов, какое научное направление стояло за каждой из
упомянутых теорий, каким классовым интересам каждая из них отвечала.
Среди этих теорий были более и менее оригинальные и остроумные,
более и менее серьезные. Но общий их порок состоял и состоит в
одном: в однобоком выпячивании какого-нибудь одного, бросившегося
в глаза элемента, какой-нибудь черты или особенности религии,
которая и принималась почему-то за основу и корень всякой религии.
В самом деле. Анимизм (вера в душу и в духов) присутствует
в любой религии и, можно скавать, составляет ее необходимый и
важный компонент. Но из чего следует, что именно анимизм был
источником всех религий? Фетишизм — не менее распространенный
и существенный признак, он тоже свойствен едва ли не всякой
религии. Но откуда следует, что это есть древнейшая стадия всякой
религии? То же можно сказать о магии, о культе умерших и пр.
Более объективное, основанное на непредвзятом изучении фактов
-исследование показывает, что религия (каковы бы ни были
составляющие ее элементы) принимает исторические формы в соответствии
с теми исторически сложившимися типами социальных
отношений, с теми формами материальной деятельности людей, которые ее
в каждом случае порождали. Ведь недостаточно повторять в который
раз бесспорное марксистское положение о том, что в религии
искаженно отражается общественное бытие: надо постараться
исследовать на конкретных фактах, какое общественное бытие и как именно
отразилось искаженно в той или иной исторической форме религии.
А сообразно этому определится и сама типологическая (или
морфологическая) разбивка религии на исторические формы.
Проведенные до сих пор исследований позволяют предварительно
разбить все разновидности доклассовой (племенной) религии на
такие исторические формы: тотемизм — вера в родство человеческих
групп с видами животных или растений — превратное отражение
быта обособленных охотничьих общин с их исключительно
кровнородственным принципом социальных связей; ведовство (или
вредоносные обряды), связанное с верой в «порчу», в которой отразился
в первую очередь безотчетный страх перед врагом-чужеплеменником,
порождаемый самим фактом взаимной разобщенности первобытных
орд, родов, племен; знахарство (лечебная магия), связанное своим
происхождением с народной медициной; эротические обряды и
культы, порожденные в последнем счете историческими формами
разобщенности полов, первобытными приемами полуинстинктивного
ухаживания, позже впитавшие в себя множество разнообразных
запретов и частью сросшиеся с аграрными культами плодородия;
погребальные культы, выросшие из древнейших полуинстинктивных
приемов обращения с трупами, а впоследствии породившие множество
верований о душе умершего, о загробном мире; промысловые культы,
выросшие из примитивных обрядов охотничьей магии, но развившие-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
54S
ся позже на почве индивидуализации охотничьего промысла; ранне-
племенные культы, сложившиеся на почве главным образом системы
возрастных инициации (одной из древнейших форм проявления
общеплеменной жизни), с главным объектом этого культа — образом
духа-покровителя инициации, в дальнейшем образом племенного бога.
Все перечисленные формы племенных (доклассовых) культов могут
считаться древнейшими, ни одна из них не может претендовать на
исторический приоритет, потому что все они опираются на те или
иные стороны самых ранних форм социальной связи, на самые
примитивные формы материальной деятельности людей.
Все эти разнообразные исторические формы религии, примеры
которых в изобилии могут наблюдаться среди народов чуть не всех
частей света, не размежеваны, конечно, между собой
непроницаемыми гранями; напротив, они постоянно сплетаются, контаминируются
между собой, порождая сложные и промежуточные формы; но πα
своему происхождению они не могут быть сведены одна к другой:
каждая из перечисленных форм имеет свой собственный
материальный корень, и очень нередки случаи, когда мы имеем возможность
наблюдать ту или иную форму религии в ее как бы чистом виде»
А это и дает нам право убедиться на конкретном факте в
правильности примененного метода выделения типологических единиц — т. е~
исторических форм религии — по признаку их материальных корней.
А когда эти формы выделены, нас уже не могут смущать факты, когда
формы религии предстают перед нами не в чистом, а в смешанном,,
переплетенном, синкретном виде108.
Все сказанное выше вовсе не исключает возможности иных
способов классификации религиозных явлений. Так, например, очень
широко применяется (и вполне законна) систематизация
религиозных верований, исходящая из самого объекта поклонения: культ неба,
культ солнца, культ земли, культ растений (деревьев), культ
животных (быка, кон1я, орла) и пр. Правомерна также общая
классификация религиозных верований по стадиям их развития: анимизм,
полидемонизм, политеизм, монотеизм. Существуют и другие
классификации 108а.
5. Социальные нормы
Особняком стоит и требует специальной трактовки чрезвычайно*
важный вопрос о возникновении и обусловленности социальных норм
поведения, которые в первобытном обществе выступают чаще как-
традиционные обязательные обычаи, ограничения и запреты и
которые осмысляются зачастую как предписания, исходящие от
сверхъестественных существ и подкрепляемые религиозно-магической
санкцией. Каково реальное происхождение этих норм, этих предписаний
и запретов? Какова действительная роль религиозных представлений
в их возникновении и в их закреплении? Какова в этом смысле
также роль иных средств идеологического воздействия, в частности роль
544
Глава шестая
художественно обработанных мифологических преданий, роль
театрализованных обрядовых действий и прочих видов художественного
воздействия на воображение и поведение человека? Выполняют ли
подобные приемы воздействия, хотя бы косвенно, какую-то
нормативную, социально-регулирующую, воспитательную функцию в жизни
первобытного общества? И какова, наконец, первичная основа
социально-моральных норм в первобытную эпоху? Все эти вопросы
тесно связаны с задачей изучения духовной культуры первобытной
эпохи, общественного сознания доклассового строя.
Общеизвестно, что моральные понятая, т. е. нормы поведения
людей, рефлектированные в их сознании, возникли в отдаленную
первобытную эпоху. Возникли они потому, что не могло бы и дня
просуществовать какое-то человеческое общество, члены которого не
подчинялись бы в своем поведении никаким общеобязательным
регулирующим правилам. В ходе исторического развития, с постепенным
усложнением форм общественной жизни, усложнилась и система
моральных норм. Одни виды деятельности людей мало-помалу выходили „
из круга действий, регулируемых моральными правилами; таковы,
например, правила, связанные с принятием пищи, которые в
прошлом человечества были куда более строги и неумолимы, чем теперь.
Другие виды деятельности, напротив, бывшие некогда как бы
нейтральными в моральном отношении, постепенно становились
предметом более и более строгой нравственной оценки; сюда
принадлежит, например, вся область чисто личных, индивидуальных
взаимоотношений между людьми, они в первобытном обществе почти
целиком поглощались нормами, регулирующими отношения не между
личностями, а между группами: кровными родственниками, родней
по браку, старшими и младшими, мужчинами и женщинами,
соплеменниками и чужеплеменниками.
Именно этот «коллективизм» в содержании и сфере приложения
моральных норм был, очевидно, самой существенной чертой в
этическом кодексе первобытного общества. Все предписания и запреты
были приурочены опять-таки не к отдельным лицам, а к социальным
группам: вот так-то должен вести себя мальчик до приближения
зрелости; вот так-то — подросток во время прохождения инициации;
вот так-то — после их прохождения; вот так-то должны вести себя
девушки, иначе — замужние женщины, опять иначе — вдовы,
старухи и т. д.
При этом важнейшим мотивом или, лучше сказать, общей и
объективной целью всех без исключения моральных предписаний и
запретов было благо коллектива (общины, рода); личные интересы
индивида моральным кодексом первобытного общества мало
принимались во внимание.
Господствующий же регулятор отношений между членами
общины, критерий моральности или неморальности поведения
индивида — это отношения родства. А форма регулирования этих
отношений — это обычай, заменяющий людям на этой ступени развития и
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
545
свод законов, и правовые понятия, и этикет повседневного
поведения.
Этот как бы диффузный, синкретный характер первобытной нор-
матики, включающей в себя и мораль, и этикет, и зачатки права, и
Даже религиозные предписания и запреты, хорошо отражен в
термине «мононормы», предложенном А. И. Першицем 109.
Подтверждением сказанного может служить богатейший
этнографический материал. Все, что мы знаем о первобытной морали,
заимствовано целиком из него. Правда, материал этот все же настолько
разнообразен, что из него не раз черпали подкрепление своих
концепций сторонники самых различных взглядов.
Например, в очень интересном исследовании В. Бека
«Индивидуум у австралийцев» автор ее, борясь с упрощенной·схемой А. Фир-
кандта, о которой говорилось выше, стремился показать, что у
отсталых народов (как пример берутся австралийцы) индивид, хотя и
находится под властью социальных сил, однако отнюдь не обезличен;
что психические взаимодействия «я» и «среды» сложны, что эта
сложность и двусторонность «психических отношений» индивида и
общества выражается понятием «социальный индивид» и что,
наконец, законы психической жизни всех народов одни и те же110. Все
это хорошо, но общий вывод Бека, «что утверждение о полном и
исключительном коллективизме на первобытных ступенях
односторонне и даже ложно» и что индивидуальных различий на самых
ранних ступенях даже больше, чем на позднейших (ибо социальные
группы мельче) 1П, —этот вывод, конечно, принять трудно.
Противоположную крайность представляет взгляд Б. Ф. Поршне-
ва, согласно которому человек при первобытнообщинном строе был
целиком порабощен социальной средой. По мнению Б. Ф. Поршнева,
«там, в глубинах первобытнообщинного строя, человек в известном
смысле был еще более порабощен, чем при рабовладельческом строе...
Да, корни того, что называется рабской покорностью, возникли
значительно раньше рабства. Это не принуждение, а добровольное
подчинение, при котором даже не брезжит помысел или ощущение
какого бы то ни было протеста» 112. С точки зрения
«всемирно-исторического... процесса раскрепощения человека» автор смотрит на
положение индивида в первобытном обществе как на «абсолютный
нуль» ш. Но и с этим взглядом согласиться едва ли можно.
Ближе всего к истине подошла, вероятно, советская
исследовательница О. Ю. Чудинова (Артемова). Тщательно анализируя
конкретные этнографические данные — особенно о быте и нормах
поведения австралийских аборигенов, — она пришла к тому выводу, что
отношения «личность — общество» на этой ступени социального
развития выглядят значительно сложнее, чем это казалось. Хотя
силы социального регулирования здесь действуют бесспорно
эффективнее и индивид подчинен им гораздо полнее, однако и
индивидуальные, личностные отношения дают о себе знать: «Личность,
индивидуальные характеры и условия для их проявления существовали
516
Глава шестая
уже на ранних этапах развития человеческого общества» 114.
«Несмотря на существование регламентации, призванных организовать
общество по единой модели, поведение австралийцев весьма сложно
и разнообразно. Индивидуальные характеры, индивидуальные
взаимоотношения и индивидуальные чувства постоянно проявляются и во
многом влияют на конкретный ход событий в австралийском
обществе» 115.
Особую точку зрения, близкую к идее «ритуализованного
конфликта» М. Глакмена и других английских антропологов права,
высказала Л. Макариус, современный французский этнограф. Собрав
и обобщив многочисленные этнографические данные об обычаях,
поверьях, запретах у народов всех частей света, она пришла к выводу:
хотя обычаи везде требуют соблюдения запретов-табу, но иногда
бывает наоборот: обычай санкционирует именно нарушение табу.
В числе постоянных «нарушителей табу» особо видное место
занимали вожди-цари, им обычай разрешал то, что строго запрещалось
всем прочим, — убийство родственников, инцест ит.д.116
При всей спорности этой теории она во всяком случае верна в
одном: в признании гибкости первобытных обычаев, которые далеко
не всегда угнетали и подавляли личность; напротив, обычай и
общественное сознание давали и тогда выдающейся личности определе-
ленные возможности для самовыражения, инициативы, личной
деятельности.
В целом, однако, модель «личность — коллектив» сохраняет для
первобытного общественного сознания свой довольно однообразный
и однозначный вид. Внимательное изучение фактического — и
прежде всего этнографического — материала по австралийцам,
тасманийцам, папуасам, бушменам и любым другим отсталым народам
показывает, что сила обычаев и племенных традиций, регулирующих
жизнь и поведение человека, очень велика; они касаются всех
сторон жизни — правил участия в производительной деятельности и
раздела добычи, брачных порядков, взаимоотношений полов,
повиновения старикам, междуобщинных отношений и пр. Не то что
невозможно нарушение обычая — оно возможно и оно случается. Личность
не порабощена в настоящем смысле слова; человек может восстать
против обыча!я во имя личной склонности, симпатии или антипатии,
такие случаи засвидетельствованы. Но в возникающем неизбежно
конфликте победа всегда остается за коллективом и за ограждающим
интересы коллектива обычаем. Любой протест индивида против
обычая обречен на неудачу.
Да эти протесты, очевидно, бывали редко. Повседневная жизнь
первобытной общины текла по ровной колее, освященной
традициями, стариной, обычаем.
Уже давно обращено внимание на крайнее разнообразие обычаев
разных народов, имеющих отношение к общественной морали, и на
их порой полярную взаимоисключаемость. Уже в XVI в. М. Мон-
тень (не говоря о более ранних, хотя бы античных авторах) отмечал
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 547
этот необозримый хаос обычаев. «Здесь питаются человеческим
мясом, там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного
возраста; еще где-нибудь отцы решают участь ребенка, пока он еще
во чреве матери: сохранить ли ему жизнь и воспитать или, напротив,
покинуть без присмотра и убить; еще в каком-нибудь месте мужья
престарелого возраста предлагают юношам своих жен, чтобы те
услужили им; бывает и так, что жены считаютф общими, и в этом
никто не усматривает греха...» 117
В новейшей этнографической литературе этот вопрос выдвигался
и выдвигается неоднократно. При этом ставится он не столько в
плане объяснительном (как произошел тот или иной обычай, то или
иное моральное воззрение), сколько в плане оценочном. По этому
поводу довольно настойчиво высказываются две мысли — одна
несомненно правильная, другая весьма сомнительная.
Почти общим местом стало сейчас — по крайней мере в
этнографической литературе — правило, что нельзя подходить к оценке
моральных норм и обычаев разных народов с меркой европейских
моральных понятий; нельзя мерить их европейским аршином. То, что
у нас считается нравственно предосудительным, у иного
внеевропейского народа может вполне соответствовать кодексу морали — и
наоборот. Мы не имеем никакого права выдавать
европейско-американские оценки за абсолютное: они относительны, релятивны. Эта
отчасти правильная мысль высказывалась Ф. Боасом118, Л.
Уайтом 119, М. Херсковицем 120 (у которого эта идея легла в основу целой
системы «релятивистских» взглядов) и др.
И вот в связи с этой мыслью, содержащей зерно истины, но
односторонне раздутой и утрированной, высказывается и другая идея: что
нормы морали сами по себе вообще не эволюционируют, что они
одинаковы на всех ступенях исторического развития, меняется только
сфера их приложений. В первобытном родовом обществе под
защитой моральных норм стоят только члены данного рода, по отношению
же к чужеродцам эти нормы недействительны; в цивилизованном же
обществе все граждане государства одинаково защищены нормами
морали и закона. Эту мысль высказал тот же Ф. Боас 121, ее
высказывали и другие этнографы. Само по себе это верно, но отсюда еще не
следует, что само содержание правил нравственности остается на всех
исторических ступенях одним и тем же.
Как же осознавались самими людьми в первобытную эпоху те
нормы поведения и морали, которые налагались на них обычаем?
Как понимали люди самый источник обычая? Как они его осмысляли
и обосновывали?
Можно думать, что одной из ранних форм осознания моральных
требований, налагаемых на человека обычаем, было религиозное их
обоснование. Объективно-то нормы социального поведения, т. е.
моральные предписания, складывались с самого начала как выражение
очевидной общественной потребности: они были необходимым
элементарным условием самосохранения первобытной общины. Но пра-
18*
548
Глава шестая
вильно осознать и понять этот подлинный и объективный источник
социально-нравственных предписаний первобытный человек,
конечно, был не в состоянии. И как только начала в его мозгу брезжить
какая-то мысль, как только возникла смутная потребность дать
самому себе — а главное, внушить окружающим — какое-то
объяснение действующих исстари и вначале просто инстинктивно правил
поведения, — это объяснение неминуемо возводило источник этих
правил к некоей сверхъестественной силе.
Конечно, очень трудно подтвердить сказанное прямыми
фактическими свидетельствами из области подлинной первобытности. Но
для доклассовой эпохи человеческой истории в наших руках есть, как
уже говорилось, обильный фактический материал, и он бесспорным
образом подтверждает правильность высказанного выше
предположения. Это многочисленные и обширные этнографические описания
самых различных, в том числе весьма отсталых народов земли.
Так, судя по обстоятельным сведениям об австралийских
племенах, одна из важнейших, если не самая важная функция их
священных тотемических и других мифов состояла в том, что они служили
обоснованием всех обычаев, регулирующих человеческие
"взаимоотношения людей. «Законы и обычаи, которые надлежит соблюдать, —
пишет Элькин, один из самых осведомленных австралийских
этнографов, — и обряды, необходимые для благосостояния племени, были
учреждены героями или предками в давно прошедшие времена. Если
какой-либо обычай не упоминается в мифе, то на него смотрят как
на дело рук человеческих и не придают ему большой важности.
Напротив, если необходимо разработать и принять новые установления,
если сочтут нужным ввести новые обычаи, то их свяжут с
мифологией и таким образом сделают священными и будут рассматривать
как санкции» 122. «Мифы санкционируют обычаи, правила и обряды,
связывая их с историческим прошлым и временем вечных
сновидений», — пишет он же в другом месте 123. «В Центральной и Северо-
Западной Австралии достаточно сказать об обычае, что это алтжира,
джугур, унгуд и т. д., т. е. время сновидений, чтобы придать ему
окончательный и бесспорный авторитет» 124. У племен Юго-Восточной
Австралии с их несколько более развитым общественным строем и
более сложными религиозными представлениями учреждение
обычаев и разных социально-моральных норм приписывалось небесным
существам — Байаме, Дарамулуну, Бунджилу и др., являющимся
подобиями общеплеменных богов. Правила поведения и моральные
предписания — особенно в области взаимоотношений полов, а также
в отношениях к старшим и обычаях раздела охотничьей добычи —
внушались подросткам во время прохождения ими сложных и порой
мучительных обрядов инициации и всегда санкционировались
повелениями того или иного сверхъестественного существа.
То же самое было у бушменов Южной Африки. Главный смысл
практиковавшихся у них обрядов посвящения юношей заключался
в том, что «мальчиков учат поведению с женщинами, на охоте, во
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 549
время церемонии, соблюдению табу, их вводят в мир религиозных
мифов и верований» 125.
Точно так же у огнеземельцев-яганов. По обстоятельным
сообщениям В. Копперса, главное значение церемоний посвящения («чи-
хаус»), которые обязательно проходили подростки обоего пола,
заключалось в преподавании посвящаемым моральных правил
поведения, и Копперс излагает их очень подробно; правила эти
преподносились от имени небесного существа Ватауинева, учредителя и
покровителя инициации. В заключение длинной цепи моральных
назиданий руководитель обряда обращался к неофитам с такими
словами: «Если ты не будешь соблюдать полученные при чихаусе
предписания, то мы тебе ничего не сделаем, ибо ты уже взрослый и
самостоятельный. И это твое дело, будешь ли ты выполнять их втайне
или нет. Но не думай, что ты и в том и в другом случае уйдешь от
наказания. Потому что тот вверху [Ватауннева] видит тебя, и он тебя
накажет, и прежде всего накажет ранней смертью. А если он тебя
сразу и не накажет, то он погубит твоих детей» 126.
Об андаманцах тоже сообщалось, что для них нарушать обычаи —
значило гневить небесное существо Пулугу 127.
Эскимосский шаман Ауа говорил этнографу К. Расмуссену, что
ему дали это имя в честь его личного духа-покровителк. «Ауа был
моим духом-покровителем и строго следил за тем, чтобы мы не
делали ничего запрещенного» 128. По его словам, его соплеменники
держатся старых обычаев и соблюдают различные запреты именно
потому, что боятся стихийных бедствий, боятся «мертвых людей и душ
зверей, убитых на лове», боятся «духов земли и воздуха» 129.
Приведенные примеры — а количество их можно бы сильно
умножить — плохо вяжутся с довольно распространенным мнением, что
релищя и нравственность вначале будто бы не были связаны между
собой, что такая связь появляется-де лишь на поздней стадии
развития. Такого мнения придерживались этнографы-эволюционисты
Э. Тайлор, Дж. Леббок и др.130 Его разделял В. Г. Плеханов, правда,
ссылаясь для подкрепления этого взгляда на Э. Тайлора131. Взгляд
этот, однако, основан на двух ошибочных допущениях: во-первых,
сторонники его, говоря о нравственности, молчаливо подразумевали
при этом чисто европейские, т. е. свойственные капиталистическому
строю, нравственные понятия и, естественно, не находили их у
отсталых народов; во-вторых, и под религией они по существу
понимали господствующее в Европе христианское о ней представление,
т. е. учение о загробном воздаянии за добрые и злые дела, и опять-
таки подобного представления у отсталых народов, конечно, не
находили. Если же отрешиться от обоих этих ошибочных постулатов
и посмотреть на факты без предубеждений, то можно убедиться, что
у всех отсталых народов без исключения моральные предписания и
запреты подкрепляются сверхъестественной санкцией; установление
их приписывается небесным существам, духам, культурным героям,
богам, и за нарушение их ожидается кара от этих самых духов или
550
Глава шестая
богов. Эта религиозная санкция морали, ее религиозное
обоснование — вот в чем заключалась одна из самых ранних форм осознания
моральных норм людьми.
Но религиозное обоснование моральных норм никогда не было
единственной формой их осознания. С древнейших же времен рука
об руку с ним бытует и другое, которое можно условно назвать
«традиционным». Суть его может быть выражена в коротких формулах:
«Так все делают», «так исстари велось», «так принято», или же «так
никто не поступает», «так не принято». Психологически это
традиционное обоснование морали, быть может, еще элементарнее, чем
религиозное. В нем выражается собственно лишь голый инстинкт
подражания, лишь то «стадное» первобытное сознание, о котором
говорил уже К. Маркс1313. Первоначально это даже не обоснование, не
мотивировка действия, а непосредственно само действие, «стадное»
поведение, где для самостоятельных размышлений отдельной особи
просто не остается места. Но когда с постепенным развитием
человеческого сознания — быть может, уже в верхнепалеолитическую эпоху
либо в раннем неолите — у людей, сначала у одиночек, начинала
слабо мерцать какая-то мысль о мотивировке своих действий, то вполне
возможно, что эта мысль не всегда принимала форму: «так надо, а
то духи разгневаются», а порой также и форму: «так все всегда
делают».
Как бы то ни было, но на протяжении тысячелетий человеческой
истории «религиозное» и «традиционное» осознание морали редко
отделялось одно от другого, а гораздо чаще то и другое действовало
вместе. Установленные обычаи и правила поведения соблюдались
каждым человеком и потому, что все их соблюдают, и потому, что
несоблюдение их может повлечь за собой гнев духов или богов. Какой
мотив здесь главный, об этом едва ли спрашивали, самая мысль о
возможности нарушения обычая в большинстве случаев не возникала 132.
Однако даже на ранних ступенях исторического развития
известны факты, когда религиозное и традиционное обоснование
моральных правил (в данном случае — обычаев) расходятся. У тех же
австралийских аборигенов нарушение пищевых — тотемических —
запретов рассматривается обычно как действие, влекущее за собой
магическую, т. е. религиозную кару: нарушитель может заболеть от
вкушения недозволенной пищи, да и голод его не будет
удовлетворен этой пищей; он может от нее даже умереть. Напротив, другая
категории запретов — запреты родственных браков (экзогамия) —
по-видимому, не связана у австралийцев ни с какими
непосредственно религиозными санкциями; хотя введение экзогамных запретов и
приписывается сверхъестественным существам — культурным
героям, но за нарушение этих запретов виновных постигает не
сверхъестественное, а вполне реальное наказание, при том суровое: по
старым обычаям виновных убивали, ибо нарушение экзогамных правил
рассматривалось как тяжкое преступление.
В эпоху позднепервобытной общины, когда родовой строй уже
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
551
начал разлагаться, назревающие весьма сложные социальные
противоречия нередко отражались в общественном сознании в такой
форме, что социальные «инновации» выступали в религиозной оболочке
как некие «откровения», исходящие от духов, и тем самым вступали
в конфликт с традиционными идеями, со старыми обычаями и
верованиями. Примеров таких религиозных новшеств, не одобряемых
приверженцами старых обычаев, этнография знает немало. Так, среди
индейцев-оджибуеев в XIX в. возникло новое «еретическое»
движение, секта «ваубено», которую старые люди, приверженцы традиций,
считали вредной и опасной; об этом сообщает Джон Тэннер,
проживший среди индейцев 30 лет 133. Сравнительно недавно развились в
Западной Африке фетишистские культы, практиковавшиеся
отдельными лицами, тогда как сторонники традиционного родового культа
предков осуждали это новшество 134. В подобных конфликтах спор
шел, казалось бы, только между последователями разных
религиозных взглядов, но традиционная мораль была здесь на стороне
защитников старых взглядов и старых ритуалов, они порицали новаторов
не за ложность их религиозных воззрений, а именно за то, что они
отходят от традиции, действуют не так, «как принято».
Следует упомянуть, кстати, о попытке классифицировать нормы
поведения людей вообще, не принимая во внимание их
религиозную санкцию. По мнению Ю. М. Лотмана, можно разделить эти
нормы на две «области»: «регулируемую стыдом и регулируемую
страхом» (что отчасти соответствует «тривиальному различию
юридических и моральных норм поведения»). «Стыдом» регулируются нормы
взаимоотношений внутри данного социального коллектива («мы»), а
«страхом» — взаимоотношения между коллективами («они») 135.
Однако при всем остроумии этой концепции согласиться с ней трудно:
история человеческих взаимоотношений и регулирующих их
нормативов бесконечно сложнее этой упрощенной формулы.
6. Выводы
Все сказанное выше приводит к некоторым общим выводам о
специфике общественного сознания в рассматриваемую эпоху. Выводы
эти можно свести к следующим главным тезисам.
1. Основные черты человеческой психики — те же, что и на
других стадиях исторического развития. Способы познания
окружающего мира, аппарат мышления, сфера эмоций и аффектов, реакции и
импульсы деятельности по существу однородны в любом
человеческом общежитии. Различия в каждом из этих аспектов человеческого
сознания бесспорно существуют: это или индивидуальные,
возрастные и частью половые различия внутри каждого отдельного
общества, или различия, порожденные особенностями хозяйственного,
социального и общекультурного уклада, которые у каждого отдельного
народа свои. Но к изучению последних следует подходить,
исторически, ибо со временем они меняются. Попытки объяснить существую-
552
Глава шестая
щие различия расовыми признаками людей отвергаются всеми
серьезными учеными; попытки свести их к качественно противостоящим
типам мышления «естественных» («диких») и «цивилизованных»
народов оказались тоже необоснованными. Ф. Боас лучше всех показал
неубедительность расистских и полурасистских взглядов на
недоразвитость мышления и других сторон психики отсталых народов.
2. Сложнее обстоит дело с теорией «дологического мышления»
Леви-Брюля. В основе ее лежат несомненные факты, и отмахиваться
от них не следует. Трудно отрицать, что есть в человеческой среде
тип мышления, не укладывающийся в логические формы: это
суждения и умозаключения, недоступные для логического контроля,
нечувствительные к противоречием; это оценки и нормы поведения,
продиктованные не здравым смыслом, а эмоциями, чаще —
традициями. Что же это за тип мышления, кому он свойствен и в каком
отношении стоит к нормам логического мышления?
Вопреки распространенному, но поверхностному пониманию
дюркгеймо-левибрюлевской концепции, «дологическое мышление» —
это не мышление отсталых народов в отличие от мышления народов
цивилизованных; нет, это просто сфера «коллективных
представлений, по Дюркгейму, т. е. сфера внеопытного традиционного
общественного сознания. Оно выражается и в господствующей религии, и
в традиционной морали, и в «общественном мнении». Рубеж,
отделяющий «дологическое мышление» от «логического», проходит не
между общественным сознанием, скажем, внеевропейских и
европейских народов: он режет на две половины сознание каждого человека,
к какому бы отсталому или передовому народу он ни принадлежал;
по одну сторону этого рубежа лежат знания, навыки, оценки и
решения, заимствованные из опыта, проверяемые практикой и
подчиненные разуму; по другую — вей область унаследованных, привитых
воспитанием и внушаемых общественной средой взглядов, привычек,
норм поведения, с трудом или совсем не поддающихся контролю
разума. Первая половина — это сфера «логического мышления»,
вторая— сфера «дологического мышления», или «коллективных
представлений» в дюркгеймовском смысле.
Нельзя, конечно, отрицать, что, чем ниже развитие
производительных сил труда, чем ниже общий культурный уровень народа, тем
больше доля сознания, подчиненная законам «дологического»
мышления; чем выше развито материальное производство и общий
уровень культуры, тем больше возрастает тот сектор сознания, где
господствуют здравый смысл и логические законы умственной
деятельности.
Само собой разумеется, что упомянутый только что рубеж,
разделяющий сознание человека на две половины, есть лишь
теоретическое и чисто абстрактное понятие. На самом деле обе эти
«половины» сознания вовсе не отделены одна от другой непроницаемой
перегородкой, а, напротив, постоянно взаимодействуют,
переливаются друг в друга, влияют одна на другую. Ведь даже в области рели-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
553
гии, сфере, казалось бы, наиболее недоступной для критики, для
опытной проверки, для здравого смысла, — даже в этой области нет той
абсолютно непреодолимой грани, какую пытался установить Дюрк-
гейм, когда он говорил об абсолютной, не знающей оттенков и
переходов, границе между миром «sacre» и миром «profane». Даже в
религии есть вещи более священные и более мирские, есть «святая
святых», «misterium tremendum» (P. Отто), и есть сфера, слабее или
совсем слабо контролируемая религиозными традициями. Креститься
или не креститься, проходя мимо церкви? Целовать или не целовать
руку священника? Соблюдать строго или менее строго пост?
Толковать буквально или иносказательно библейские тексты? И т. д.
Нечего и говорить, что в области общественной морали нарушение
традиции, протест разума против обывательщины — вовсе не такие
редкие явления.
Но, подчеркнем еще раз, нормы морали, сила «общественного
мнения», господство религиозных взглядов и оценок, «общепринятых»
представлений об окружающем мире тем могущественнее, а
возможности здравого смысла против них тем слабее, чем ниже общий
уровень культуры, а в конечном счете — чем менее развиты
материальное производство и общественные отношения. Только в этом смысле
можем мы говорить о качественных особенностях первобытного
сознания, т. е. общественного сознания людей доклассовой эпохи в
сравнении с общественным сознанием более поздних эпох. И одна из
самых характерных черт того, что мы называем первобытным
общественным сознанием, — это традиционализм, т. е. преобладание
рутинных, привычных, установившихся взглядов, оценок, привычек
над индивидуальными, критическими, рациональными 136.
Господство «коллективных представлений» (пользуясь опять
дюркгеймовским термином) в доклассовом обществе есть лишь
отражение коллективизма в самой материальной жизни, лишнее
подтверждение того не раз доказанного положения, что доклассовое
общество было первобытнообщинным, первобытнокоммунистическим.
3. Синкретизм форм общественного сознания доклассовой эпохи
есть бесспорный факт. Конечно, и на самых поздних стадиях
исторического развития, даже в нашу современную эпоху далеко не всегда
можно четко разграничить отдельные формы и отдельные «уровни»,
общественного сознания. Не только науки переплетаются одна с
другой, но не всегда отделишь науку от искусства (словесного,
изобразительного и др.); то и другое не всегда отграничивается от областк
правовых и моральных норм; и эти нормы, и познавательная
научная деятельность, и художественная практика очень часто подпадают
под влияние религии; и религия, и наука, да и искусство граничат
с философией — идеалистической или материалистической. Словом,
нет такой формы сознания в наши дни, которая была бы резко
отмежевана от других. И все же чем больше развито общество, тем легче
их разграничить. Что касается' «первобытного» (доклассового)
общественного сознания, то я нем нерасчлененность составляет, пожалуй,
554
Глава шестая
наиболее зацметный и при том существенный признак. Первобытное
искусство зачастую (хотя и не всегда!) пронизано магическими
представлениями; оно, с другой стороны, то и дело обнаруживает свои
коммуникативные, т. е. чисто утилитарные цели; оно же — особенно
музыка, пляски, театральные действа — связано постоянно с
трудовой деятельностью, с охотой, войной, посвящением юношей; в
области познания окружающего мира здравые понятия густо пересыпаны
фантастическими представлениями. Распределить все эти
разнообразные явления и уровни общественного сознания строго по ящичкам
наших понятий: «религия», «искусство», «знание» и пр: — далеко не
всегда возможно.
Очевидно — и едва ли требует особых доказательств, — что этот
синкретизм первобытного общественного сознания был закономерным
порождением нерасчлененности самого производства материальной
жизни, т. е. самого общественного бытия: еще не было общественного
разделения труда, умственный труд не был отделен от физического,
области материального производства не были резко расчленены, в
общественных отношениях кровно-родственные связи совпадали (или
тесно переплетались) с территориальными и с производственными,
организация общественной власти не обособилась от самого общества.
4. Однако это ни в коей мере не значит, что мы имеем право
«сводить», как это зачастую пытаются делать, одну сферу
общественного сознания первобытного мира к другим: выводить первобытное
искусство из магии и религии, выводить его из познавательных и
коммуникативных функций, выводить мораль из религии, выводить
первые реальные знания о природе из фантастических, ложных о ней
представлений. Эти различные сферы, или аспекты, или уровни,
общественного сознания первобытной эпохи сплетаются или даже порой
сливаются, но каждая из них имеет свои собственные корни.
Реальные знания о мире вырастали из непосредственной трудовой
практики, из самого материального производства, из эмпирического, хотя
бы и чисто стихийного опыта. Фантастические, превратные
представления, связанные с магическими и культовыми актами,
порождались ограниченностью этого опыта, скованностью общественных
отношений, узостью форм общественной связи, беспомощностью
человека перед окружающими стихийными и общественными силами.
Моральные правила — нормы поведения — вырастали из стихийной
потребности людей держаться вместе и действовать сообща;
осознавались же моральные нормы частью как традиционные правила
поведения, частью как веления сверхъестественных сил, не подлежащие
сомнению или критике. Наконец, художественная деятельность, хотя
и связывалась с самого начала с чисто производственной практикой,
с потребностями социального общения, а также с ложными
представлениями о природе, с магическими ритуалами, но в основе своей она
коренилась в общечеловеческой потребности творить красоту и
наслаждаться ею.
В позднейшие исторические эпохи нерасчлененность обществен-
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
555
ного сознания по мере усложнения самих форм общественной жизни
уступает место дифференцированному развитию и специализации:
знания, верования, мораль, искусство. Но взаимодействие их и
взаимосвязи сохранялись и позднее.
Впрочем, говоря о динамике исторического развития форм
общественного сознания рассматриваемой эпохи, не следует упрощать
вопрос. Эта историческая динамика, а особенно ее движущие силы,
еще далеко не достаточно изучены нашей наукой. Наука уже не
может удовлетворяться в принципе верной стереотипной формулой:
«по мере развития материальных производительных сил
общественное сознание эволюционирует...» и т. д. Ведь сама зависимость форм
общественного сознания от конкретного состояния материального
производства у того или иного народа далеко не однозначна. Всегда
необходимо учитывать действие сложных общественных условий,
исторических факторов, взаимовлияния культур, меняющегося
воздействий экологической среды и пр. Наконец, чем ближе к позднему
этапу первобытнообщинного строя, тем более заметным делается
отражение в общественном сознании — в религии, в мифологии, в
морали — зачаточных форм социального расслоения: выделение родо-
племенной верхушки, жрецов — гадателей — шаманов и т. п. Этот
«элитарный» слой оказывает порой мощное воздействие на модели
общественного сознания.
Сложные процессы изменения форм общественного сознания на
рубеже доклассового и классового общества будут рассмотрены в
следующем томе данной серии.
1 MacLennan J.-F. Studies in ancient history. L., 1876, p. XIV—XV.
2 Тэйлор Э. Первобытная культура. М., 1939, с. 265—266 и др.
3 Спенсер Г. Основания социологии, т. 1, СПб., 1876, с. НО*
4 Vierkandt A. Naturvolker und Kulturvolker. Leipzig, 1896.
Б Preuss К. Der Ursprung der Religion und Kunst. — Globus, 1904, Bd. 86, S.
321, 358, 389 и др.; 1905, Bd. 87, S. 337, 380, 381, 387, 397, 419 и др.
6 См.: Фрейд 3. Тотем и табу. М., Пг., 1923; У эле Г. Зигмунд Фрейд него
учение. — ВФ, 1956, № 6.
7 Roheim G. Australian totemism. L., 1925, p. 369.
8 Durkheim E. Representations individuelles et representations collectives.—
Revue de Metaphysique et de Morale, 1898, N 6.
9 Levy-Briihl L. Les fonctions mentales dans les societes inferieures. P., 1910;
Леви-Брюлъ Л. Первобытное мышление. М., 1931.
9а Les carnets de L. Levy-Bruhl. P., 1949, p. 60, 62. ,
10 Frobenius L. Das unbekannte Afrika. Munchen, 1923, S. 41—44, 69—78.
11 Grabner F. Das Weltbild der Primitiven. Munchen, 1924.
12 Боас Ф. Ум первобытного человека. Μ.; Л., 1926, с. 64.
13 Там же, с. 68.
14 Goldenweiser А. Early civilization. Ν. Υ., 1921, p. 14.
16 Ibid., p. 117-118, 401-410.
16 Radin P. The method and theory of ethnology, an essay in criticism. N. Y.,
1933, p. 253-258.
17 White L. A, The evolution of culture. N. Y., 1959, p. 278, 330.
18 Kardiner A. The psychological frontiers of society. N. Y., 1939, p. 47—49,
81, 96 и др.
19 Linton R. The study of man. N. Y., 1936; Idem. The cultural background of
556
Глава шестая
personality. Ν. Υ., 1945; Benedict R. Patterns of culture. Boston, 1936; Eadem.
The Chrysanthemum and the Sword. Boston, 1946; Токареве. А. История
зарубежной этнографии. М., 1978, с. 270—286.
20 HerskovitsM. Cultural anthropology. Ν. Υ., 1955, p. 234, 256 f.
21 Leroi-Gourhan A. Le geste et la parole: technique et langage, P., 1964, p. 208.
22 Levi-Strauss CI. Le totemisme aujourd'hui. P., 1962, p. 128.
23 Levi-Strauss CI. La pensee sauvage. P., 1962, p. 57, 58.
24 Ibid., p. 84-85.
26 Ibid., p. 101, 120.
26 Ibid., p. 138.
27 Ibid., p. 31.
28 Ibid., p. 63.
29 Ibid., p. 52.
30 Ibid., p. 57.
31 Ibid., p. 15, 16. См. также: Levi Strauss CI. Le totemisme aujourd'hui.
32 Mapp H. Я. Этапы развития яфетической теории.— Марр Η. Я. Избр.
работы, т. 1 Л., 1933, с. 257, 334 и др.
33 Спиркин А. Происхождение сознания. М., 1960, с. 465, 467.
34 Там же, с. 266—271 и др.
36 Семенов Ю. И. Как возникло человечество. М., 1966, с. 351 и др., 413.
36 Там же, с. 352.
зва Анисимов А. Ф. Духовная жизнь первобытного общества. М.; Л., 1966.
37 См.: Максимов А. Н. Накануне земледелия.— УЗИИ, 1929, т. 3.
38 Элленбергер В. Трагический конец бушменов. М., 1956, с. 140.
39 Там же, с. 136.
40 Kramer A. Die Malanggane von Tombara. Munchen, 1925, S. 52.
41 Drobec E. Heilkunde bei den Eingeborenen Australiens,— In: Kultur und Spra-
che. Wien, 1952.
42 Roth W. Food, its search, capture and preparation.— North Queensland
Ethnography. Brisbane, 1901, Bull. 3.
43 Элленбергер В. Трагический конец. . ., с. 161—171.
44 Маркс /Г., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 31.
45 Seidenberg A. The ritual origin of counting.— AHES, 1962, v. 2, N 1, p. 1—40.
46 Подробнее см.: Фролов Б. А. Числа в графике палеолита. Новосибирск, 1974.
47 Marshack A. The roots of civilization. N. Υ., 1972.
48 Фролов Б. А. К истокам первобытной астрономии.—Природа, 1977, №8.
49 Миклухо-Маклай Н. Н. Собр. соч. в 5 т. Т. 3, ч. 1. М; Л., 1951, с. 177.
60 Tylor F. В. Primitive culture, v. 1. Ν. Υ., 1957, ρ. 248—249.
61 Levy-Bruhl L. Les functions mentales dans les societes inferieures. P., 1951,
p. 256.
62 StruikD. J. Stone age mathematics.— SA, 1948, Dec, p. 46.
63 FrolovB. A. Variations cognitives et creatrices dans Part mobilier au Paleo-
lithique superieur: rythmes, nombre, images.— IX CISPP, Coll. XIV. Nice,
1976, p. 8-23.
54 Крейнович E. А. Гиляцкие числительные.— Тр. Научн. ассоциации Ин-та
народов Севера, 1932, т. 1, вып. 3, с. 3—24.
56 Durkheim Ε. Les formes elementaires de la vie religieuse. P., 1912, p. 628—633.
56 Леви-БрюлъЛ. Первобытное мышление, с. 82—83, 285—287, 300—301.
57 Evans-PritchardE. E. The Nuer. Oxford, 1940, p. 94—100.
68 Ibid., p. 101—104.
69 Ibid., p. 105.
60 Ibid., p. 105—108.
61 Leach E. R. Two essays concerning the symbolic representation of time.— In:
Leach E. Rethinking anthropology. L., 1961, p. 125—126.
62 Evans-PritchardE. E. The Nuer, p. 108—110.
63 Leroi-Gourhan A. Le geste et la parole: la memoire et les rythmes. P., 1965»
p. 139.
64 Ibid., p. 139—142 et al.
66 Ibid., p. 155—168 et al.
ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 557
ββ Спиркин А. Происхождение сознания, с. 376—410.
67 Там же, с. 415.
β8-β9 Бестужев-Лада И. В. Развитие представлений о будущем: первые шаги
(Презентизм первобытного мышления).— СЭ, 1968, № 5, с. 123—133.
70 Мифы народов мира. М., 1960, т. 1, с. 13.
71 Файнберг Л. А. Представления о времени в первобытном обществе.— СЭ,
1977, № 1, с. 135.
72 Там же.
73 Schweinfurth G. Artes africanae. Leipzig; London, 1875; Pigorini L. Museo
Preistorico e Etnografico di Roma. Roma, 1881; Fro ben ius L. Die В ildende
Kunst der Afrikaner.— Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in
Wien. Wien, 1897.
74 См., например, первые книги, посвященные африканскому искусству:
Einstein С. Negerplastik. Leipzig, 1915; Марков В, (В. И. Матвей). Искусство
негров. Пг., 1919.
76 См., например: Marshack A. Upper Paleolithic symbol systems of the Russian
plain: cognitive and comparative analysis.— CA, 1979, v. 20, N 2, p. 271—312.
76 Griaule M. Les symboles des arts africains. L'art Negre. P., 1966, p. 25—34;
Gueye D. Sens et signification de Part negro-africain. Art negre et civilisation
de L'Universel. P., 1975, p. 31—56.
77 Плеханов Г. В. Избранные философские произведения, т. V. М., 1958, с. 346.
78 Показательно, что в то время как в процессе развития художественное
творчество принимало все более индивидуальный характер, собственно научное
исследование постепенно освобождалось от субъективности.
79 Мириманов В. Б. «L'art negre» и современный художественный процесс— В
кн.: Взаимосвязи африканских литератур и литератур мира. М., 1975, с.
53-55.
30 Lebeuf J.-P. Systeme du monde et ecriture en Afrique noire.— Presenceafri-
caine, 1965, ler trim., p. 129—135.
81 См., например: Шаревская Б. И. Против антимарксистских извращений в
освещении вопросов первобытного мышления и первобытной религии.— СЭ,
1953, № 3, с. 13-16.
62 Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936, с. 246—
247, 276 и др.
83 Очень удачный в этом значении термин «восполнение» (Erganzung)
принадлежит К. Марксу, и его весьма кстати употребил в этом самом значении
Ю. А. Левада (Левада Ю. А. Социальная природа религии. М., 1965, с.
127-133).
84 См.: Гурвич И. С. Таинственный чучуна. М., 1975; HeuvelmansB. Sur la
piste des betes ignorees. P., 1955; Sanderson I. T. Abominable Snowmen:
legend come to life. Philadelphia, 1961; Idem. Hommes-des-neiges et hommes-
des-bois. P., 1961.
85 См.: Шаревская Б. И. Миссионерская пропаганда на службе
неоколониализма в Африке.— СЭ, 1960, № 6, с. 49—51.
86 См.: Шаревская Б. И. «Этнографический метод» Марселя Гриоля и вопросы
методологии в современной французской этнографии.— СЭ, 1962, № 6,
с. 53 и др.
87 Leroi О. La raison primitive. Essay de refutation de la theorie du prelogisme
P., 1927, p. 253—260 et al.
88 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление, с. 42.
89 Durkheim E. Les formes. . ., p. 33—40.
90 См., например: Попов Α. Α. Пережитки древних до религиозных воззрений
долганов на природу.— СЭ, 1958, № 2, с. 78—80 и др.
91 Jevons F. В. An introduction to the history of religion. 2nd ed. L., 1902, p.
264—266.
92 Lang A. The making of religion. 3-d ed. N. Y., 1909, p. 183.
93 Горький Μ. О литературе. М., 1955, с. 728—729.
94 Тренчени-Валъдапфелъ И. Мифология. Пер. с венг. М., 1959, с. 41—43.
ма См.: Мелетинский Ε. Μ. Поэтика мифа. М., 1976.
/
558 Глава шестая
96 MalinowskiB. Myth in primitive psychology. L., 1926, p. 41—43, 79 etc.;
Levy-Bruhl L. La mythologie primitive. P., 1935, p. 175—176; Лосев А. Ф.
Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, с. 8.
96 Jensen Ad. Ε. Mythos und Kult bei Naturvolkern. Wiesbaden, 1951, S. 90—93
etc.
97 Roth W.E. North Queensland Ethnography. Brisbane, 1903, Bull. 5, Super-
stititon. Magic and medicine, p. 12, 14.
98 Gennep A. van. Mythes et legendes d'Australie. P. [s. d.J, p. 32.
99 Levi-Strauss CI. Du miel aux cendres. P., 1966, p. 156.
100 Levy-Bruhl L. La mythologie primitive, p. 172—174.
101 Parkinson R. 30 Jahre in der Subsee. Stuttgart, 1907, S. 693, 698.
102 Frazer J. Mythos sur Torigine du feu. P., 1931.
103 MalinowskiB. Myth. . ., p. 36, 52, 78.
104 ЭлъкинА. Коренное население Австралии. М., 1952, с. 193.
*06 ПознанскийН. Заговоры. Пг., 1917, с. 143, 146, 148, 162.
106 MalinowskiB. Myth. . ., p. 41, 79 etc.
107 Gennep A. van. La formation des legendes. P., 1910, p. 15.
108 См. об этом подробнее в кн.: Токареве. А. Ранние формы религии и их
развитие. М., 1964. См. также: Мифы народов мира. М., 1980, 1982, т. 1—2.
10»а Шаревская Б. И. Старые и новые религии Тропической и Южной Африки.
М., 1964; Анисимов А. Ф. Исторические особенности первобытного
мышления. Л., 1971; Крывелев И. А. История религий. М., 1976, т. 1—2.
109 См.: Перший А. И. Проблемы нормативной этнографии.— В кн.:
Исследования по общей этнографии. М., 1979.
110 Beck W. Das Individuum bei den Australiern. Leipzig, 1924, S. 3, 4, 33—37,
75 et al.
111 Ibid., S. 15, 73-74.
112 Поршнев В. Ф. Социальная психология и история, с. 197.
113 Там же, с. 198.
114 См.: Чудинова О. Ю. Индивидуальное поведение и общественная
регламентация у аборигенов Австралии,— В кн.: Страны Южных морей. М., 1980,
с. 201; см. также: Она же Миф и мораль (по австралийским материалам).—
В кн.: Фольклор и этнография. Л., 1977.
115 См.: Чудинова О. Ю. Индивидуальное поведение. . ., с. 200.
116 MakariusL. L. Le sacre et la violation des interdits. P., 1974.
ш Монтенъ Μ. Опыты, кн. 1. Μ.; Л., 1958, с. 145.
118 BoasF. Anthropology and modern life. N. Y., 1928, p. 200—204.
119 White L. The evolution of culture, p. 220—225.
120 Herskovits M. Cultural anthropology, p. 349—351.
121 Boas F. Anthropology. . ., p. 217—219.
122 ЭлъкинА. Коренное население. . ., с. 183.
123 Там же, с. 193. 124 Там же, с. 197—198.
126 Бъерре И. Затерянный мир Калахари. М., 1963, с. 124.
126 Koppers W. Unter Feuerland-Indianern. Stuttgart, 1924, S. 94—95.
127 Man Ε. Η. On the aborigiral inhabitants of the Andaman Islands .L., 1932,
p. 44, 89-90.
128 Расмуссен К. Великий санный путь. Μ., 1958, с. 80.
129 Там же, с. 82—83.
130 Тэйлор Э. Первобытная культура, с. 265, 337—339, 472—473 и др.; Лёб-
бокДж. Начала цивилизации. СПб., 1876, с. 150 и др.
131 Плеханов Г. В. О религии и церкви. М., 1957, с. 150, 152, 344 и др.
131а Маркс К., ЭлъгелъсФ. Соч., т. 3, с. 30.
132 См.: Токарев С. А. Три обоснования морали.— Наука и религия, 1967, № 12.
133 Теннер Дж. 30 лет среди индейцев. М., 1963, с. 172—173, 330.
134 ТордайЭ. Конго. М., 1931, с. 182 и др.
135 Лотман Ю. М. Тезисы докладов IV летней школы по вторичным
моделирующим системам. Тарту, 1970, с. 98—100.
136 См. об этом, например; Varagnac A. Civilisation traditionnelle et genres de
vie. P., 1948.
\
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЖ'— антропологический журнал
БКИЧП — Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода
В А — Вопросы * антропологии
ВИ — Вопросы истории
ВИМК — Вестник истории мировой культуры
В Φ — Вопросы философии
ВЯ — Вопросы языкознания
ИГАИМК—Известия Государственной Академии истории материальной
культуры
ИОАИЭ — Известия общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете
ИОЭ — Исследования по общей этнографии. М.: Наука, 1979
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК— Краткие сообщения Института истории материальной культуры
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии АН СССР
МКАЭН — Международный конгресс антропологических и этнологических
наук
МИ А — Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
НАА — Народы Азии и Африки
ОСР — Охотники, собиратели, рыболовы. Л.: Наука, 1972
ПИ ДО — Проблемы истории докапиталистических обществ, кн. 1. М.: Наука,
1968
ПИПО — Проблемы истории первобытного общества. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1960
Ρ Η — Расы и народы
РЭИНВА — Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М.: Наука,
1977
СА — Советская археология
СЭ — Советская этнография
СМАЭ — Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР
ТИЭ — Труды Института этнографии АН СССР
ТКИЧП — Труды Комиссии по изучению четвертичного периода
УЗИИ — Ученые записки Института истории
УЗМГУ — Ученые записки МГУ
УСА — Успехи среднеазиатской археологии. Л., 1972
УСБ — Успехи современной£биологии
ЭДРО — Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М.: Наука, 1982
АА — American Anthropologist
AAn — American Antiquity
ACAE — Acculturation and Continuity in Atlantic Europe. Brugge, 1976
AEASH — Acta ethnographica Academiae Scientiarium hungaricae
AHES — Archive for History of Exact Sciences
AJA — American Journal of J] Archaeology
560 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
AJHG — American Journal of Human Genetics
A J PhA — American Journal of Physical Anthropology
ANA —Ancient Native Americans. San Francisco, 1978
AnS — Anatolian Studies
AP — Asian Perspectives
APAMNH— Anthropological Papers of the American Museum of Natural History·
New York
APHAO — Archaeology and Physical Anthropology in Oceania
AQ — Anthropological Quarterly
ArA — Arctic Anthropology
ARA — Annual Review of Anthropology
ARBAE — Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary
of the Smithsonian Institute
AS — American Scientist
BBAE — Bulletin of the Bureau of American Ethnology. Washington
BUM — Bulletin of University Museum, University of Tokyo
CA — Current Anthropology
DEHP — The Demographic Evolution of Human Populations. London — New
York, 1976
DEPA —Domestication and Exploitation of Plants and Animals. London.
1969
DS — Dialectical Societies. Cambridge, 1979
EB — Economic Botany
EHA — The Early History of Agriculture. London, 1976
EPSEA — Early Paleolithic in South and East Asia. Paris, 1978
Η Β — Human Biology
HE — Human Ecology
HGFF — Hunters, Gatherers and F irst Farmers beyond Europe. Leicester, 1977
HSAI — Handbook of South American Indians
J AH — Journal of African History
JAR — Journal of Anthropological Research
J AS — Journal of Archaeological Science
JHE — Journal of Human Evolution
JNES — Journal of Near Eastern Studies
J PS — Journal of the Polynesian Society
J (R)AI — Journal of (Royal) Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland
JZMN — Jenische Zeitschrift der Medizinischen Naturwissenschaften
MAAA — Memoirs of American Anthropological Association. Menasha
MH — Man the Hunter. Chicago, 1968
Μ Κ — Matrilineal Kinship. Berkeley — Los Angeles, 1961
MSU — Man, Settlement and Urbanism. London, 1972
MUSJ — Melanges de l'Universite Saint-Josef. Beyrouth
OA —Origins of Agriculture. The Hague, 1977
OAPD — Origins of African Plant Domestications. The Hague, 1976
OHS — The Origin of Homo Sapiens. Paris, 1972
PAPhS — Proceedings of the American Philosophical Society
PEP —Papers in Economic Prehistory. Cambridge, 1972
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 561
PESA — Problems in Economic and Social Archaeology. London, 1976
PESE — Population, Ecology and Social Evolution. The Hague, 1975
PGAI — Population Growth: Anthropological Implications. Cambridge, 1972
PNG — Politics in New Guinea. Washington, 1977
PPS — Proceedings of the Prehistoric Society
PS — Palaeontologia Sinica
SA — Scientific American
SB — Social Biology
SHP — The Structure of Human Population. Oxford, 1972
SS — Sunda and Sahul: Prehistoric Studies in Southeast Asia, Melanesia
and Australia. New York, 1977
S J A — Southwestern J ournal of Anthropology
UISPP — Union International des sciences prehistoriques et protohistoriques
VP — Vertebrata palaeasiatica
WA — World Archaeology
YUPA — Yale University Publications in Anthropology
ZS — Zeitschrift fur Saugetierkunde. Berlin
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Маркс К. 210, 336, 496,
550
Энгельс Ф. 121, 122, 124,
340, 388
Абрамова 3. А. 168, 170
Айзек Э. 246
Амирханов X. А. 294
Анисимов А. Ф. 497
Арутюнов С. А. 454, 461,
464, 474
Балу Л. 182
Бальмонт К. Д. 53
Бастиан А. 490
Батулин С. Г. 153
Бахофен Й.-Я. 121
Бек В. 545
Бендер Б. 349
Бенедикт Р. 495
Берд Дж. 139
Бердселл Дж. 211, 434,
435, 437, 442, 443
Бестужев-Лада И. В. 512
Бибиков С. Н. 217, 432
Бидл Дж. 258
Бинфорд Л. 390
Биркет-Смит К. 205, 442
Боас Ф. 493, 494, 547,
552
Богораз (Тан) В. Г. 109,
246
Больк Л. 91
Борд Ф. 182
Борисковский П. И. 145,
146, 152, 159, 161 —
163, 219
Брайтингер Э. 19
Брейдвуд Р. 263
Брейль А. 513
Бромлей Ю. В. 460, 461
Бронсон Б. 427
Брюсов В. Я. 53
Булмер Р. 448, 449
Буль М. 8
Бунак В. В. 22, 28, 29,
44
Бурдье Ф. 82
Бусерюп Э. 427
Бутинов Н. А. 353, 365
Вавилов Н. И. 246, 248,
249
Вайденрайх Ф. 33, 42—
44, 59, 60
Валлуа А. 443, 452
Вандермеерш Б^ 96, 98
Васильевский Р. С. 164,
165, 179
Вейер Э. 217
Верт Е. 245, 265
Виссман Г. фон 245
Влчек Э. 26
Воеводский М. В. 151
Вудберн Дж. 196
Вундт В. М. 534, 536
Вурм С. 472
Генинг В. Ф. 463
Геннеп А. ван 540
Герасимов Μ. Μ. 166
Гер дер И. Г. 245
Гиллен Ф. 87
Глакмэн М. 546
Голденвейзер А. 494
Голдмэн И. 345
Горн Дж. 190
Горький А. М. 534
Гребнер Ф. 492, 493
Григорьев Г. П. 182,
217, 432, 433
Гринберг Дж. 471
Гринмэн Э. 52
Гриоль М. 514, 532
Гроссе Э. 368
Турина Η. Η. 285, 287
Гуров Н. В. 479
Дарвин Ч. 48
Дарт Р. 49
Дебец Г. Ф. 29, 39
Декандоль А. 248
Денем У. 438, 439
Дентам Р. 380
Деревянко А. П. 163,
170
Дериянагала П. 213
Джевонс Ф. 245, 534
Джонс Ф. 442
Диков Η. Η. 170-172,
210, 211
Диксон Р. 469, 470, 472
Долло А. 90
Дэвис О. 246
Дюбуа Э. 8
Дюмонд Д. 171, 179
Дюркгейм Э. 491, 509
526, 527, 533, 553
Ермолаева Η. Μ. 296
Ефименко П. П. 145,
147, 148
Замятнин С. Н. 20
Зелигмэн Б. 138
Зелигмэн К. 138
Золотарев А. М. 107.
466
Зукки А. 321
Иванов А. Н. 91
Ивенс-Притчард (Эванс-
Притчард) Э. 509, 510
Йенгоян А. 431, 441
Йенсен А. 535
Кабо В. Р. 137, 188,
190, 243, 244
Кан Г. 281
Капитан Л. 513
Кардинер А. 494, 495
Карнейро Р. 427
Карр-Сандерс А. 429,
439
Каугил Дж. 427
Кинг У. 5
Кларк Д. Л. 459
Кларк Дж. Д. 80, 182,
283
Клейн Р. 182
Ковалевский Μ. Μ. 109
Колганов М. В. 351
Комаров В. Л. 246
Кондорсе М. 245
Копперс В. 245, 549
Коробков И. И. 131
Косвен М. О. 122
Кочеткова В. И. 15, 16
Коуин М. 427
Кребер А. 459
Крживицкий Л. 429
Крюков М. В. 137
Кун К. 45
Курси Д. 253
Ларичев В. Е. 165
Ларичева И. П. 174, 178
Леббок Дж. 245, 549
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 563
Лев Н. Д. 151
Леви-Брюль Л. 491, 492,
507, 509, 526, 527,
531—533, 535, 536, 552
Левин М. Г. 453
Леви-Стросс К. 495, 496,
536
Леруа О. 532
Леруа-Гуран А. 495,
510, 511
Ли Р. 142, 195, 196
Линней К. 5
Линтон Р. 495
Липе Ю. 268
Лиссан Э. 163
Лич Э. 510
Лосев А. Ф. 535
Лот А. 281
Лотман Ю. М. 551
Лоуи Р. 121
Лэнг Э. 75, 534
Лэтрап Д. 263, 321
Майр Э. 10
Макариус Л. 546
Маккарти Ф. 190
Мак-Леннан Дж. 121,
490
Максимов А. Н. 268
Малиновский Б. 83—85,
88, 535, 539
Малори Ж. 217
Мамедов Э. Д. 153
Мангледорф П. 258
Маррет Р. 539
Марр Н. Я. 496, 497,
531
Мартин П. 132
Маршалл Л. 142
Массой В. М. 217, 432
Маттисон Э. 472
Меггит М. 211, 354, 437
Мелларт Дж. 247
Мещанинов И. И. 246
Миклухо-Маклай Η. Η.
504
Милитарев А. Ю. 479
Монтень М. 546
Монтескье Ш. 245
Морган Л. Г. 104—106,
109, 110, 120-122,
124, 237, 245
Мортилье Г. 242
Мочанов Ю. А. 170
Мэрдок Дж. П. 123,
253, 369
Николаев С. Л. 472
Нун Г. 190
Огнев С. И. 91
Окладников А. П. 130,
152, 164-167, 169,
179, 308
Олчин Б. 138, 142
Ольсен Ф. 263, 321
Отто Р. 553
Павлов И. П. 497
Пейрони Д. 513
Пейрос И. И. 479
Перри У. 245
Перро Ж. 250
Першиц А. И. 545
Пигорини Л. 513
Пидопличко П. Г. 144
Пик Г. 245
Плеханов Г. В. 549
Познанский Н. 539
Полгар С. 427
Польхаузен Г. 245
Портер Р. 253
Поршнев Б. Ф. 545
Прейс К. 490, 539
Пропп В. Я. 75, 86
Пэй Вэньчжуань 163
Равдоникас В. И. 246
Радин П. 494
Ранов В. А. 152, 155
Расмуссен К. 201, 549
Рейнак С. 246, 534
Рейчель-Долматов Г.
263 321
Риверс У. 106, 107, 109
Ривьер Э. 513
Рид К. 396
Рогачев А. Н. 147, 210
Рогинский Я. Я. 14, 15,
19, 43-45, 92, 96, 97,
99
Россет Э. 434
Рот В. 500, 535
Рохейм Г. 491
Румянцев А. М. 209
Рэй М. 348
Салинс М. 266
Саразин П. 138
Саразин Ф. 138
Семенов С. А. 324, 382
Семенов Ю. И. 202, 350,
351, 497
Сентив П. 75
Сергеев А. М. 91
Силбербауэр Дж. 195
Силлитоу П. 407
Симунс Ф. 246
Смит Р. 539
Смит- Ф. 182
Соэр К. 245
Спенсер Б. 87
Спенсер Г. 490, 534
Спиркин А. Г. 497, 511,
512
Старостин С. А. 471, 479
Степанов В. П. 145, 146.
454
Стивене Г. 246
Страбон 86
Сушкин П. П. 91
Сэксон Э. 246
Тайлор Э. 107, 109, 245,
389, 490, 534, 549
Тальбицер В. 235
Танака X. 141, 214
Темпельс П. 532
Тиндейл Н. 190
Тобайас Ф. 15
Токарев С. А. 461
Толстов С. П. 107, 109,
453, 470
Тренчени-Вальдапфель
И. 534
Тринкаус Э. 19
Тэннер Дж. 551
У Жукан 163
Уайт Л. 494, 547
Уисслер К. 459
Уобст Г. 463
Фаган Б. 139
Файсон Л. 76, 108, НО
Фиркандт А. 490, 545
Флер Г. 245
Форд С. 245
Формозов А. А. 95, 145,
167, 215, 295
Францев Ю. П. 539
Фрейд 3. 491
Фриш Р. 435
Фробениус Л. 492, 513
Фрэзер Дж. 538
Хан Э. 245
Харнер М. 427
Хартланд Э. С. 75
Хассан Ф. 427, 432
Хауэлл Н. 439, 442, 447
Хейден Б. 435
Хейзер Ч. 246
Хейердал Т. 54
Херсковиц М. 495, 547
Хокарт А. М. 105
Хокс Э. 205
Хрдличка А. 5,19, 43, 58
564
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Хэрлан Дж. 346
Цейтлин С. М. 170
Чайлд Г. 237, 238, 246,
450
Чебоксаров Η. Η. 453,
460, 461
Черныш А. П. 146, 147
Чжап Гуанчжи 163, 257
Чудинова (Артемова)
О. Ю. 545
Шапера И. 213
Швальбе Г. 5
Швейнфурт Г. 513
Шлейхер А. 468
Шмандт-Бессерат Д. 349
Шмидт В. 245, 534
Шовкопляс И. Г. 210
Штернберг Л. Я. 528
Шухардт Г. 469
Щетенко А. Я. 299
Эванс-Прнтчард Э. см.
Ивенс-Притчард Э.
Эллен Г. 246
Элленбергер В. 500
Эллиот-Смит Г. 245
Элькин А. П. 539, 548
Энджел Л. 443, 451
Эренрейх Ф. 534
Эрет К. 284 58
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Австралоиды см. Расы (негро-австра-
лоидная)
Австралопитек 42, 49
Агамия 75—77, 83, 100, 102, 108, 120
Адопция 356, 360, 364, 371, 373, 387,
466
Амазонки 85, 86, 116
Аналоги первобытным обществам
этнографические 138—140, 132, 144,
186
Аниматизм 541
Анимизм 541—543
Антропогенез 3, 9, 16, 42, 43, 49, 91,
511, 537
гипотеза «двух скачков» 16
гипотеза «трех скачков» 16
гипотеза фетилизации 91
Антропосоциогенез 15, 83, 457
Архитектура первобытная 260
Атавизм гибридный 98
Архантроп (древнейший человек) 6—8,
10, 16, 34, 35, 42, 43, 49, 50, 59, 73,
76, 147, 454
Археолит (ранний палеолит) 73, 92,
97 99
Ашель 49, 50, 73, 81, 146, 147, 182
Биомеханика 12
Богатство 122—124, 345, 348, 382, 400,
402
Брак 100—102, 106, 107, 109—120,
122—124, 212, 215, 216, 224, 377,
379—382, 385, 392—394, 396, 404,
407, 431, 436—438, 440, 443, 446,
448, 449, 462, 474, 475, 550
групповой 76, 100, 105, 109—112,
114, 117, 121, 124
индивидуальный 76,109—111,118,
120, 124
Брахикефализация 23, 31
Брахикрания 23, 31, 32
Ведовство (вредоносная магия) 530,
542
Век бронзовый 4, 242, 281, 290, 340,
452
Век железный 23, 165, 243, 283, 340
Век каменный 23, 32, 48—50, 52, 92,
94, 99, 140, 143, 153, 157, 162, 164,
165, 187, 216
древний (ранний, палеолит) 44, 72,
92, 131, 137, 159, 162, 164, 168,
169, 172, 173, 178, 182, 188, 205,
239, 241, 257, 453, 454, 464, 502,
504, 508
верхний (поздний) палеолит 31—
33, 39, 44, 45, 50, 60, 61, 73,
92—100, 131—134, 136-139,
144-148, 150, 152—156, 158—
161, 163—166, 168, 169, 171—
174, 178, 180, 182—185, 187,
191—194, 196, 204, 206—208,
210, 211, 214-219, 239, 242,
246, 252, 263, 270, 288, 432,
443, 454, 455, 458, 463, 464,
471, 472, 478
нижний (ранний) палеолит 23, 31,
44, 49, 50, 92—94, 99, 100, 146,
158, 162, 163, 166, 464, 503
средний палеолит 39, 41, 44, 50,
92, 93, 94, 98, 159, 165, 270,
464
новый (поздний, неолит) 32, 44, 92,
94, 130, 131, 134, 137, 140, 141,
149, 155, 159, 163, 165, 166, 169,
172, 182, 183, 186, 194, 199, 204-
206, 208, 217, 236, 237, 238, 240-
243, 255, 257, 263, 267, 275, 277,
278, 281, 285—287, 290, 293-
295, 299-301, 306, 308, 309, 311,
324, 328, 330, 333, 334, 343, 344,
352, 358-360, 362, 365, 373, 389,
394, 397, 401, 405, 433, 444, 445,
452-454, 458, 459, 474, 477-481,
495, 521, 522, 550
средний (мезолит) 32, 44, 50, 60, 92,
94, 130-139, 141, 144, 145, 147—
157, 159, 161-165, 172, 173, 180-
183, 190, 192—194, 196—199, 201,
204, 206, 208, 210, 211, 214, 215,
217—219, 239, 241, 242, 246, 257,
263, 270, 284—287, 293, 360, 443,
452, 458, 459, 461, 463, 478, 521,
Взаимопомощь 348, 376, 404
Власть и властвование (управление)
219-222, 369, 371, 394, 396, 398—
403, 407, 431, 461, 463, 554
Вождество 319, 402, 403
Вожди 213, 221, 222, 525, 546
Война 78, 88, 331, 357, 362, 374, 376,
391, 402, 404—407, 435, 451, 475,
554
566
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Воспитание 223—226, 391 см. также
Социализация
Вражда ритуальная 88, 89, 108, 109
Генеалогия 360, 364, 366
Гетерозис 90
Гибридизация 89—92, 98
Гомеостаз 427, 434, 435
Гоминиды 5, 6, 9—11, 14—17, 23, 31,
33, 34, 41, 42, 44, 45, 48-51, 59,
98, 194
Гончарство (керамическое
производство) 279, 320, 339
Грацилизация 19, 30, 31, 37, 267
Группа хозяйственная 212
Деграцилизация 267
Демография первобытная 427, 428
«Деньги первобытные» 345
Детоубийство 439—441, 445, 450
Диспропорции половые 437, 438, 440,
449, 452
Д ифференциация
имущественная 236, 238
социальная 236, 238, 250, 280, 286,
304, 311, 349, 357
этническая 242
Диффузионизм 245, 492
Долихокрания 6, 23, 26—28, 31
Дома мужские 113—116, 330, 332, 333,
347, 358, 361, 374, 375, 381, 396,
407, 474
Дома женские 113—116, 330, 332
Дома общинные 330, 331, 333, 374,
375, 392, 394, 401
Дома (стояники) девушек ИЗ, 114,
116
Дома (стояники) холостяков ИЗ, 114,
116, 390, 392
Доместикация 19, 247, 248
животных 194, 245, 261, 264, 267,
273-275, 293, 300, 320, 336, 338
растений 246, 254, 255, 258, 259, 264,
278, 300, 302, 305, 315, 324, 336
Домостроительство 287, 289, 290, 292,
294, 300, 309, 317, 318, 320, 328
Европеоиды см. Расы
Жертвоприношения 347, 371
Живопись наскальная, пещерная 93,
281, 333, 334, 513, 519-521 см.
также Искусство первобытное
Жилище 112, ИЗ, 118, 130, 146, 147,
151, 154, 155, 162, 165-167, 169,
171, 172, 182, 184, 190, 192, 193,
197, 198, 203, 207, 208, 216—219,
272, 277, 279, 285, 286, 289, 293,
294, 296, 297, 302, 304, 308, 309,
314-317, 320, 329-331, 428, 436,
448, 454, 456, 463, 464, 503
Земледелие 78, 123, 132, 133, 138,
143, 158, 198, 199, 222, 224, 237,
240, 243, 244, 246—254, 256-271,
275, 278—280, 282, 287, 288, 291 —
293, 297, 299, 300, 302, 304-306,
308, 309, 311—313, 315, 316, 319,
321-327, 331, 332, 336-338, 346,
347, 352, 355/ 358, 366, 368, 374,
376, 383-384, 392, 401, 407, 442,
444, 445, 458, 472, 478, 480, 495,
498, 511
палочно-мотыжное 245, 294, 367,
453
паловое 323, 324
подсечно-огневое 291, 303, 307,
310, 313, 322, 324, 325, 332, 363
пашенное 245, 367, 453
См. также Хозяйство производящее
Знахарство (лечебная, благотворная
магия) 394, 542
Изменчивость приспособительная 12
Инбридинг 73
Индекс половой 437, 449
Индивид 395, 505, 527, 544, 545, 546
Индивидуализм зоологический 17
Индустрия каменная 49, 50, 57, 73,
92-97, 130, 140, 154, 155, 158, 173,
179, 187
Инициации возрастные ИЗ, 220, 223,
225, 226, 381, 392, 393, 396, 404,
475, 517, 537, 543, 544, 548
Инстинкт
пищевой 76
половой 76, 83, 84, 101, 109
Интеграция этническая 475
Инцест 101, 102, 107, 108, 388, 434,
546
Ирригация 275, 313, 316, 320, 374,
456
Искусство первобытное 52, 93, 94, 148,
278, 398, 490, 498, 512-519, 521—
523, 525, 526, 554
Кайнолит 92, 97
поздний 92
ранний 94—96, 99
средний 92
Каннибализм 307, 331, 361, 399, 406,
442 .
Категории возрастные 388, 389
Керамика 158, 161, 163, 164, 186, 236,
237, 241, 242, 251, 253, 262, 277, 278,
287, 288, 290, 293, 298, 300, 302,
304, 308, 309, 314, 320, 343, 344,
346
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
567
Клан 359
Классообразование 244, 348, 357, 370,
♦ 398
Классы (группы) возрастные 224, 347,
358, 374, 376, 394, 474
Коллективизм первобытный 200, 217—
219, 223, 384, 395, 544, 553
Консолидация этническая 461, 463,
474, 475
Контроль социальный 76, 101
Кооперация труда 336, 373
Копьеметалка 133, 134, 136, 137, 188,
189, 192, 457
Кризис демографический 358
Кризис экологический 143, 189, 247
Круг гончарный 304
Кувада 389
Культивация растений 246, 247, 251,
282, 324, 326
Культура материальная 131, 136, 142,
144, 169, 188, 189, 191, 197, 224,
236, 240, 277, 278, 291, 292, 298,
304, 306, 314, 319, 321, 323, 407,
454, 455, 457
Культуры археологические 131, 215,
433, 444, 464
адена 315
азильская 148
анасази 316, 317
андроновская 460
аньятская 95, 159
раннеаньятская 159
позднеаньятская 159
аскала 149
астурийская 148
атерская (атер) 183, 184
афонтовская 169
бадарийская 279
банкао 304, 305
банчиенг 304
барадостская 99
бакшонская 159, 161
боевых топоров 293, 460
бонди 189
буго-днестровская 292
бурзахом (кашмирский неолит) 299
вальдивия 261, 320, 321
воронковидных кубков 288, 292
восточный вудленд 180
гамбир 190
геометрическая кебара А 154
геометрическая кебара Б 154
гиссарская 296
гримальдийская 144
дабба 98, 99
давэнькоу 311
джейтунская 295
„дзёмон 164, 255, 309, 311, 312, 334,
368
днепро-донецкая 292, 293
докерамического неолита А 250
докерамического неолита Б 273
дюктайская 170
ежмановская 99
зайсановская 311
зарзи 252
иберо-маврская 184, 277
каперти 187, 188, 190
капсийская 184, 277
караново-1 288
карта 187, 190
кастельновьен 288
кебаранская 154
керамики импрессо 290, 292
керамики лапита 306, 307
кереш 288
кинтампо 282
к л арене 187, 188
кловис 172, 174, 175, 176, 178
кловис-камберленд 178
кловис-энтер л айн 178
кокоревская 169
косма 149
костенковско-авдеевская 444
кремниковцы 288
криш 288
крымская 292
кунда 284
лаогуаньтай 257
леваллуа 99
лингби 149
линейно-ленточной керамики 288,
289, 290, 291, 376, 460
линьси-чифэн 310
луншань 311
лупембе 182
лянчжу 303
маглемозе 149, 150
матвеево-курганная 292
маунт-моффат 187, 190
мацзяяо 310
медных кладов 300
могольон 316, 317
натуфийская 154, 250
начикуфская 186
неолит гвинейский 282
неолит капсийской традиции 281
неолит сахаро-суданской традиции
278, 280, 281, 282
неолит хартумский 279
нубийская 280
оранская 184
ориньяк левантийский 153, 154
осиноозерская 310
паомалин 303
пирри 189
пресескло 290
протосескло 288
568
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
пэйлиган 257
рессен 292
самаррская 264, 275
сангиранская 159
санго 182
сандиа 172, 174—176
свидерская 150
селет 93, 98
сибердиковская 172
смитфилд 186
старчево 288
сурско-днепровская 292
таньшишань 302
тарденуазская 148
тартанга 189
уилтон 186, 187
уиндмилл-хилл 291
ушковская 169, 170
фолсом 172, 174, 177
орсмит 182
осна 149
фремонт 316
халафская 275
хассунская 274
хоабиньская 159—161, 163, 187,
188, 254, 300
хоуган 310
хоупвелл 315
хохокам 316, 317
хэмуду 302, 303
цинляньган 303
цишань 257
цюйцзялинь 303, 310
читольская 186
шассей 292
шательперрон (нижний перигор) 93,
97, 99, 167, 184
шнуровой керамики 293, 300, 460
шонви 160
эртебелле 285
яей 312
яншао 257, 309, 310, 311
Культы
богини-матери 368
племенного бога 543
предков 236, 357, 364, 392, 399, 401,
517, 541, 551
ранне племенные 543
умерших 541, 542
эротические 542
Курганы 312, 315, 323
Левират 212, 382, 383
Легенды 85—87, 108, 116\ 534
Лидерство 219, 221, 247, 358, 361,
363, 376, 377, 382, 391, 398-402,
405, 407, 474
Лингва франка 481
Линидж 354—356, 359—363, 370, 371,
374, 378, 385, 387, 399, 400, 401
Линия родства 103, 104, 106
Личность 223, 226, 395, 494, 495, 515,
516, 534, 545, 546
Локализация брачная см. Поселение
брачное
Лук и стрелы 133, 134, 136, 150, 158,
169, 170, 183, 192, 194, 195, 197—
200, 287, 292, 314
Магия 391, 392, 394, 518, 534, 541,
542, 554
Мадлен 93, 144, 148, 498, 519, 520, 521
Маски 52, 334, 515—517, 519, 523, 524
Матриархат 369
Матрифилиация 366, 367
Мегалиты 292
Мезокрания 28
Мезолит см. Век каменный (средний)
Месть кровная 361, 362, 395, 406
Металлургия 237, 242, 243, 314
Метисация 12
Метод пережитков 74
Миграции 45, 53, 54, 56, 197, 249,
257, 271, 284, 288, 293, 295, 301,
306, 311, 428, 433, 451, 465, 468
Миграционизм 245
Мифология, мифы 115, 116, 392, 477,
491, 495, 496, 508, 511, 514, 517,
533-541, 548, 549, 555
Многоженство см. Полигиния
Многомужество см. Полиандрия
Могильники 280, 281, 285, 286, 290,
295, 300, 303, 304, 308, 310-313,
332, 390, 428
Моделирование 432
Монголоиды см. Расы
Мононормы см. Нормы социальные
Монотеизм 541, 543
Мораль см. Нормы социальные
Мустье 16, 20, 51, 73, 81, 93, 95, 97—
99, 133, 144, 146, 147, 153, 163, 182,
183, 191, 192, 454
Мышление 19
«Мышление дологическое (пралогиче-
ское)» 491, 492, 507, 509, 552, 553
«Мышление первобытное» 497
Наследование 208, 210, 350, 352, 353,
355-358, 402
Неандерталец см. Палеоантроп
Негроиды см. Расы
Неоантроп (сапиенс) 5, 8—14, 16,
19-21, 27-30, 36-42, 44-47, 51,
57, 59, 89, 90-92, 96-101, 131,
132, 162, 163, 182, 185, 498, 514
Неолит см. Век каменный (новый)
«Неолит докерамический» 237, 288
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
569
Неотения 96, 97
Непрерывность культурно-языковая
476
Непрерывность лингвистическая
(языковая) 470, 475, 479
Непрерывность этническая,
этнокультурная 465, 467, 477
Нормы социальные 223, 225, 356, 364,
388, 391, 392, 394, 395, 406, 543, 544,
545
мононормы 545
моральные 397, 544, 546—550, 552—
555
правовые (юридические) 545, 551,
554
этикетные 385, 545
Области историко-этнографические
225, 453, 459, 470
Области культурно-исторические 154,
293
Области этнокультурные 131, 145,
178 215
Обмен 208—210, 243, 287, 340—347,
353, 362, 404, 448, 458, 462, 475,
481
дарообмен 208, 344, 345, 379, 385,
404, 462, 463
Обряды (ритуалы) 84—86, 115, 208,
214, 215, 220, 327, 330, 333, 345,
361, 381, 382, 389, 390, 392, 398,
400, 401, 404, 406, 407, 450, 491,
496, 499, 503, 508, 509, 512, 514, 517,
528, 539, 540, 541, 549
Общества классовые 317, 367, 369
Общества пред классовые 315, 317,
481, 515
Община 76, 144, 149, 151, 192, 194,
197, 202-204, 210, 222, 223, 318,
319, 329, 332, 333, 337, 373, 375,
377, 380, 389, 394-397; 401-404,
406, 430-432, 434, 441, 443, 444,
446, 447, 449, 451, 452, 457, 458,
462, 463, 465, 470, 473-475, 528, .
542, 544, 547
дородовая 212
охотников и собирателей
(локальная группа) 194, 195, 206, 213,
214, 216, 272, 373, 398, 444, 464,
467
первобытная соседская (прото-
крестьянская) 396
родовая 171, 210-212, 214, 218,
225, 317, 369, 375, 383, 396, 506
многородовая (гетерогенная) 355,
356, 369, 373, 374, 376, 381, 474
однородовая (гомогенная) 356,
370, 373, 374, 380, 381, 383,
399, 474
компактнородовая 212
позднепервобытная (позднеродо-
вая) 3, 204, 208—210, 219, 236,
238, 444, 551
раннепервобытная (раннеродовая)
3, 4, 130, 131, 136-139, 181,
193, 194, 198, 201, 204, 206-
208, 210, 218, 219, 225, 226,
236, 336, 351, 427,
территориальная 213, 214
Общности этнические 213, 215, 216,
348, 461, 467, 477
Общности этнокультурные 298
Общности языковые 305, 360, 471,
472, 473, 478-480
Обычай 74, 83, 84, 87, 88, 112, ИЗ,
216, 223, 351, 352, 357, 389, 390,
437, 543, 545-551
Одежда 130, 167, 333, 334, 437
Организация дуально-праобщинная
87, 89, 90, 92, 100
Организация дуально-фратриальная
107, НО
Организация племенная 216, 282
Организация родовая 121, 122, 124,
213, 214, 355, 358, 359, 363, 365,
367-369, 371, 372, 374, 376, 403,
431, 433, 474
дуально-родовая 89, 100, 101, 107—
112, 117, 121, 122, 364, 380
Организация ро до-племенная 136, 218
Организация социально-потестарная
363, 463, 475
Организм этносоциальный (ЭСО) 219,
520
Орда 109, 527, 542
Ориньяк 93, 98, 99, 144, 148, 166,
167, 498, 519, 520
Орошение искусственное 251, 253,
296 313 319
Оседлость'l8, 150, 154, 166, 186, 197,
198, 211, 239, 240, 257, 260, 261,
266, 267, 285, 308, 309, 312, 313,
. 318, 325, 329—331, 334, 336, 358,
373, 399, 433, 442—446, 451-453,
456, 464, 473, 474, 495, 511
Отбор 17, 19, 46—48, 90
Отношения производственные
(социально-экономические) 112, 118,
200, 202, 217, 218, 238
Охота 13, 17, 55, 56, 75, 77-80, 130,
132-134, 138, 139, 141-143, 146,
148, 149, 151, 153, 155, 158, 161,
163, 164, 169, 170, 172, 174, 176—
182, 183, 186, 189—194, 196, 198—
200, 202—204, 206, 211, 213, 214,
219, 220, 222, 239, 242, 250—252,
254, 256, 257, 259, 260, 262, 263,
266—269, 272, 277, 280, 281, 284—
570
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
286, 292, 293, 296, 299, 303, 305,
307, 309, 310, 312, 315, 316, 318—
320, 324, 327, 328, 338, 392, 400,
401, 432, 439, 442, 448, 454-458,
463, 501, 509, 518, 554 см. также
Хозяйство производящее
Палеоантроп (неандерталец) 5—14, 16,
17, 19, 20, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 60,
73, 76, 80, 82, 90-92, 96-101
Палеоантропология 31, 53, 92, 100,
428
Палеолит см. Век каменный
Патрилинидж 403
Патрифилнация 366, 367, 369
Пережитки (остаточные явления)
первобытнообщинного строя 74, 75, 78,
79, 85, 89, 109, ИЗ, 116, 120
Петроглифы 52, 333, 513, 520—522
см. также Искусство первобытное
Пиры престижные, потлачевидные
347, 348, 399, 400, 404, 405
Питекантроп см. Архантроп
Племя 151, 210, 213, 215, 216, 219,
221-223, 354, 355, 360, 362, 406,
431, 432, 433, 437, 443, 444, 446,
461, 470, 473-477, 512, 527, 542
Полигамия 382, 435
полиандрия (многомужество) 110,
383
полигиния (многоженство) 110, 382,
383, 400, 438, 449
Полидемонизм 543
Политеизм 543
Поселение брачное 369, 370, 379
авункулокальное 378, 379, 381
вириавункулокальное 370
вирилокальное 378—381, 386
матрилокальное 212, 368, 369
патрилокальное 213
уксорилокальное 378, 379, 381, 383,
386, 387
Постмустье 131, 182
Право см. Нормы социальные
Праздник первобытный 81—85, 88,
89, 327, 346, 375, 404, 405, 439, 463
Праобщина (первобытное человеческое
стадо) 17, 73, 76, 80—89, 92, 101,
111, 112, 194, 499
Прародина человечества 48—50
Преанимизм 541
Предания этногонические 477
«Представления индивидуальные» 526
«Представления коллективные» 491,
492, 516, 526, 527, 532, 553
Премустье .73
Пресапиенс 19, 20
Продолжительность жизни 442, 443,
451, 452
Продукт избыточный 345, 346, 347,
349
Промискуитет (гетеризм,
неупорядоченные половые отношения) 77, 78,
81, 100, 108-110
Промысел зверобойный морской см.
Охота
Протоавстралоиды 60
Протоевропеоиды 33
«Протоземледелие» 268, 269, 287
Протомонголоиды 33, 58, 60
Протонегроиды 33
Протоэтнос 466, 467
Процессы этнические, этнокультурные
3, 256, 305, 459, 460, 467, 478, 480,
481
Процессы языковые (лингвистические)
467, 470, 471, 480, 481
Разделение труда общественное 337,
340, 358, 383, 454, 458, 515
Расообразование (расогенез) 30, 31,
41, 43, 44, 47, 59
Расы
австралоидная 32, 44, 59, 61
европеоидная 21, 22, 30—32, 39,
41, 43, 44, 47, 52, 53
монголоидная 32, 39, 42—44, 52,
53, 58, 59-61
негро-австралоидная 31, 32, 44, 304,
480
негроидная 29, 32, 40, 41, 49, 278,
280
«Революция демографическая» 444
«Революция неолитическая» 238, 246
Религия 236, 399, 497, 498, 514, 527—
529, 531, 533, 534, 541-543, 549,
552-555
Релятивизм культурный 495
Ремесло 8, 236, 339, 347
Ритм 502-504, 507, 517, 519
Род 76, 77, 83, 85, 100-102, 107, 109,
111, 112, 119-122, 210, 211, 214,
223, 352, 354-357, 359-364, 373—
378, 381-386, 389, 390, 392, 395,
404, 407, 477, 502> 527> 542' 544
материнский " 121—124, 212, 223,
337, 355, 367, 369
отцовский 121—124, 212, 367, 369
377 391
Родство' 102—104, 213, 214, 216, 337,
358-360, 365, 372, 402, 403, 462,
466, 510, 544
генетико-биологическое
(биологическое) 104, 106, 359
линейно-степенное 106, 107, 365 у
366, 367
социальное 106, 359, 365
групповое 106
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
571
вертикальное 236, 266
горизонтальное 366
искусственное (фиктивное) 466
кровное 359, 364, 398, 404, 466
Рождаемость 428, 431, 433, 434, 436,
438, 439, 445, 447, 451, 452
Рыболовство 78, 134, 138, 139, 148—
151, 153, 158, 163, 169-171, 180,
182, 185, 190, 192, 193, 199-201,
204, 210, 239, 240, 242, 250, 252-
254, 257, 262, 263, 267-269, 275,
277, 280, 281, 284, 285, 287, 292,
301, 303, 306, 309, 310, 312, 314-
316, 318-320, 324, 327, 338, 353,
400, 401, 457, 501 см. также
Хозяйство присваивающее
Самоназвание 215, 216, 466, 476
Самосознание 215, 216, 460, 461—467,
475, 476
Самоубийство 382, 396, 449
Сапиенс см. Неоантроп
Сапиентация палеоантропа 3, 73, 162
гипотеза монофакторной эволюции
17, 19
гипотеза моноцентризма 36, 40, 43—
45, 99
гипотеза поведенческая 14
гипотеза полифакторной эволюции
17, 19
гипотеза полицентризма 40, 43—45
Сарбакан (стрелометательная трубка)
194, 200
Семьи языковые 215, 471—473, 477—
481
Семья 115, 210, 216, 381, 382, 393,
394, 512, 528
кровнородственная 109, 110
материнская 370
парная (синдиасмическая) 203, 210—
212, 218—220, 382
патриархальная (большая) 214
полигамная 355
пуналуа 105, 109, 110
элементарная (нуклеарная) 101, 102,
104, 107, 110, 207, 214, 216-218
Сиб 359
Сиблинги 359, 385, 387, 396
Синантроп 10, 42, 43, 443 см. также
Архантроп
Синантропизация 247
Синкретизм первобытный 514, 515,
517, 531, 533, 554
Системы родства 103—106, 371, 385,
388
классификационные (групповые)
104—107, 110, 214
дуальные 106, 107, 110
описательные 104, 106
Системы счисления 502, 506, 507
Сказки 534, 535
Скотоводство 78, 133, 237, 238, 240,
241, 243-248, 251, 253, 258, 264,
265, 267, 271, 279, 281, 282, 288,
291-293, 295-297, 299, 302, 311,
326, 327, 336, 338, 340, 342, 347,
352, 357, 367, 444, 458, 478, 498
кочевое 244, 453
отгонное (выгонное, яйлажное) 291,
295, 300 см. также Хозяйство
производящее
Скульптура (пластика) первобытная
53, 93, 513, 522—525 см. также
Искусство первобытное
Смертность 428, 431, 433—435, 440—
444, 447, 450, 452
Собирательство 75, 138, 142, 150,
153-155, 158, 163, 165, 174, 176—
178, 186, 190, 192, 195, 196, 198—
200, 211, 213, 223, 240, 250—252,
254, 257, 259—263, 266—270, 272,
277, 280, 282, 285, 292, 293, 296,
307, 309, 310, 312, 314-316, 318,
320, 321, 323, 324, 327, 338, 456, 458
см. также Хозяйство присваивающее
«Собирательство усложненное» 241,
269, 314
Собственность 202—206, 210, 236, 244,
349, 350-355, 357, 358, 378, 391,
392, 393, 397, 402, 473, 494
коллективная 350—352
общинная 204, 205, 207; 208, 352
родовая 212, 356, 383
личная 207, 208, 350, 351
семейная 207, 208, 350, 356, 382
частная 122, 382
Солютре 93, 144, 519, 520
Сооружения ирригационные 275, 316
Сооружения культовые 315
Соплеменность 461, 474, 476
Сорорат 212, 382, 383
Социализация 223, 224—226, 372,
388-390, 393, 407
Социогенез 3
Союз языковой 468, 470
Союзы тайные 347, 358, 374, 376
мужские 115, 376
Стадо первобытное человеческое см.
Праобщина
Старейшины 212, 214, 219—223, 398,
401
Статус социальный 339, 360, 369, 372,
374, 399
Степень родства 103
Стоянки 133, 140, 144, 146, 148—152,
155, 159, 163, 164, 166, 168-170,
173, 174, 176, 177, 179-181, 184,
208, 210, 216, 239, 250—254, 259.
572 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
260, 297, 298, 299, 308, 321, 428, 456
Стратификация социальная 313, 317,
319, 323
Стратификация этническая 460, 466,
477
Строй родовой 318, 384, 498, 551
Структурализм французский 495
Структуры сегментарные 360, 361,
364, 403, 474
Субклан 354, 359, 361—364, 407
Счет 349, 502-508
Счет родства 106, 121, 122, 212 см.
также Филиация
Табу 77-79, 81-84, 89, 102, 107, 109,
389, 392, 439, 449, 546, 549
Татуировка 334
Терминология (номенклатура) родства
102, 104—106, 372, 385—387
Типы хозяйственно-культурные (ХКТ)
150, 180, 215, 277, 285, 288, 298,
299, 301, 305, 308, 312, 323, 428,
453, 454, 455, 457, 459, 460, 470, 477
Ткачество 242, 261, 280, 310
Торговля 78
Тотемизм, тотемы 73, 87, 491, 496, 541,
542
Транспорт 240, 287, 328, 432, 463
Фетишизм 541, 542
Филиация 122, 123, 211, 365, 366, 371,
372, 375 см. также Счет родства
Фольклор 75, 86, 116
Фольклористика 75, 85
Фортификация 274
Фратрия 89, 107—109, 119, 121, 123,
215, 221, 354, 355, 360, 362, 364,
406, 431, 477
Хозяйство
присваивающее 154, 166, 174, 187,
196, 197, 199, 202, 205, 212, 238,
244, 248, 263—265, 267, 297, 308,
319, 329, 335, 336, 346, 430, 434,
444, 452, 453, 456, 469, 470, 471
производящее 133, 134, 151, 201,
205, 237, 238, 242, 244, 247, 248,
252, 257, 263-266, 269, 271-273,
275, 279, 281—283, 285-289, 292,
293, 294, 296-299, 302, 306, 309,
310, 311, 314, 335-337, 340, 346,
347, 349, 350, 352, 353, 356, 367,
369, 444, 447, 451, 452, 454, 455,
473, 474, 478, 479
Цепи диалектные 471
Шелль 49
Школа венская,
культурно-историческая 534
Школа мифологическая 534
Школа социологическая 491, 503, 509
Школа этнопсихологическая
(культуры и личности) 494
Эволюционизм 264, 490, 491, 494
Экзогамия 76, 77, 100—102, 107—109,
120, 212, 213, 221, 359, 360, 371,
372, 376, 377, 384, 550
Экономика престижная 348—351, 357,
362, 475
Эндогамия 76, 360, 369, 373, 376, 381,
431, 446, 473, 477
Эндокран 14—16
Энеолит 281, 295, 299, 330, 452, 479
Эолит 92
Эпипалеолит 154, 443
Эпос героический 534, 535
Этикет см. Нормы социальные
Этникос 461
Этногенез 309, 316, 467
Этноним 215, 477
Этнос 215, 225, 306, 460, 461, 464—
468, 475—477, 481, 524
Этноцентризм 465
Язык 215, 216, 460, 461, 465, 467, 468,
470-472, 476, 478, 479, 481, 490>
507
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
Глава первая
Завершение процесса антропогенеза и формирование
человеческих рас . . ; 5
Глава вторая
Завершение становления человеческого общества и
возникновение первобытной родовой общины ........ 73
Глава третья
Раннепервобытная община охотников, собирателей, рыболовов 130
Глава четвертая
Позднепервобытная община земледельцев-скотоводов и
высших охотников, рыболовов и собирателей 236
Глава пятая
Демографические и этнокультурные процессы эпохи
первобытной родовой общины 427
Глава шестая
Формы общественного сознания 490
Список сокращений 559
Указатель имен . . : : 562
Предметный указатель : : 565
ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА
Эпоха первобытной родовой общины
Утверждено к печати
Ордена Дружбы народов Институтом
этнографии
им. Η. Η. Миклухо-Маклая
Академии наук СССР
Редактор издательства С. Я. Василъченко
Художник Φ. Η. Буданов
Художественный редактор Η. Я. Власик
Технический редактор В. Д. Прилепская
Корректоры В. А. Алешкина, Л. Р. Мануилъская
ИБ Кя 29400
Сдано в набор 28.02.85
Подписано к печати 28.08.85
T-1673Z. Формат 60x90 Vie
Бумага кн.-журн. импортн.
Гарнитура обыкновенная новая
Печать высокая
Усл. печ. л. 36,0. Усл. кр. отт. 36,375
Уч.-изд. л. 44,0
Тираж 7800 экз. Тип. зак. 2148
Цена 3 руб.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485
Профсоюзная ул., 90
Набрано в Ордена Трудового Красного Знамени
Московской типографии JMe 2 «Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, 1ι2ι9Ό85, Проспект мира, 105
Отпечатано во 2-й типографии издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6. Зак. 2132
В 1986 г.
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»
выйдет в свет
Виноградов А. В., Итина Μ. Α., Яблонский Л. Г.
ДРЕВНЕЙШЕЕ НАСЕЛЕНИЕ НИЗОВИЙ АМУДАРЬИ.
Археолого-палеоантропологическое исследование.
18 л., 2 р. 50 к.
В монографии анализируются уникальные археологические-
памятники севера Средней Азии. На основе анализа находок из
древнейших могильников (орудия труда, оружие, украшения,
черепа и кости) авторы реконструируют эпоху камня и бронзы
этого обширного региона, высказывают гипотезы о происхождении
его населения.
Для историков, археологов, этнографов, антропологов.
ДРЕВНИЕ ОБРЯДЫ, ВЕРОВАНИЯ И КУЛЬТЫ
НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ
(Историко-этнографические очерки).
12 л., 1 р. 20 к.
В книге исследуются пережитки доисламских верований и
обрядов, сохранявшихся у мусульманского населения Средней Азии.
На основе новых полевых историко-этнографических материалов
авторами рассматриваются земледельческие ритуалы и культы;
демонологические. представления и шаманство; обрядность похо-
ронно-поминального цикла; пережитки магии.
Для этнографов, историков, атеистов.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК СОВЕТСКИХ
НАЦИЙ
36 л., 3 р. 50 к.
Книга — результат этносоциологических исследований,
проведенных в разных районах страны —в РСФСР, Узбекистане,
Грузии, Молдавии, Эстонии и др. В ней рассказывается о жизни
советских людей различных национальностей, общем и особенном
в их социальном положении, занятиях, трудовых навыках и
профессиональных ориентациях, нормах семейной жизни; о значении
национальных факторов. В книге раскрыто многообразие
культурных интересов, анализируются изменения в языковой жизни,
национальном самосознании, межличностных национальных
отношениях.
Для историков, социологов, этнографов, а также широкого
круга читателей.
Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:
117192, Москва, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой»
Центральной конторы «Академкнига»; 197345 Ленинград,
Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы
«Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий
отдел «Книга — почтой».
480091 Алма-Ата, ул. Фурманова,
91/97 («Книга — почтой»);
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13
(«Книга — почтой»);
232600 Вильнюс, ул. Университе-
то, 4;
690088 Владивосток, Океанский
проспект, 140;
320093 Днепропетровск, проспект
Гагарина, 24 («Книга —
почтой»);
734001 Душанбе, проспект
Ленина, 95 («Книга —
почтой» );
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова,
289 («Книга — почтой»);
420043 Казань, ул. Достоевского,
53;
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252142 Киев, проспект
Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4
(«Книга — почтой»);
277012 Кишинев, проспект
Ленина, 148 («Книга
—почтой»);
343900 Краматорск, Донецкой обл.,
ул. Марата, 1 («Книга —
почтой»);
660049 Красноярск, проспект
Мира, 84;
443002 Куйбышев, проспект
Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 Ленинград, Литейный
проспект, 57;
199164 Ленинград, Таможенный
пер., 2;
196034 Ленинград, В/О, 9 линия,
16*
197345 Ленинград, Петрозаводская
ул., 7 («Книга — почтой»);
220012 Минск, Ленинский
проспект, 72 («Книга —
почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 19а;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
117192 Москва, Мичуринский
проспект, 12 («Книга
—почтой»);
630076 Новосибирск, Красный
проспект, 51;
630090 Новосибирск,
Академгородок, Морской проспект, 22
(«Книга — почтой»);
142284 Протвино, Московской обл,.
«Академкнига»;
142292 Пущино, Московской обл.,
MP, «В», 1;
620151 Свердловск, ул. Мамина-
Сибиряка, 137 («Книга —
почтой»);
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700100 Ташкент, ул. Шота
Руставели, 43;
700187 Ташкент, ул. Дружбы
народов, 6 («Книга —
почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки,
18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10
(«Книга — почтой»);
450025 Уфа, ул.
Коммунистическая, 49;
720001 Фрунзе, бульвар
Дзержинского, 42 («Книга —
почтой» );
310078 Харьков, ул.
Чернышевского. 87 («Книга — почтой»).
ИСТОРИЯ
ПЕРВОБЫТНОГО
ОБЩЕСТВА
Ниша ί.ι печати первый к>м серии:
Оьщис попрись/. Проблемы антропосоциоге-
iii'.ul Μ.: ИацКа, 1Ш.
J'lifomrrcn к печати третий том серии:
■ >i)nxa клвссаоора.уишния.