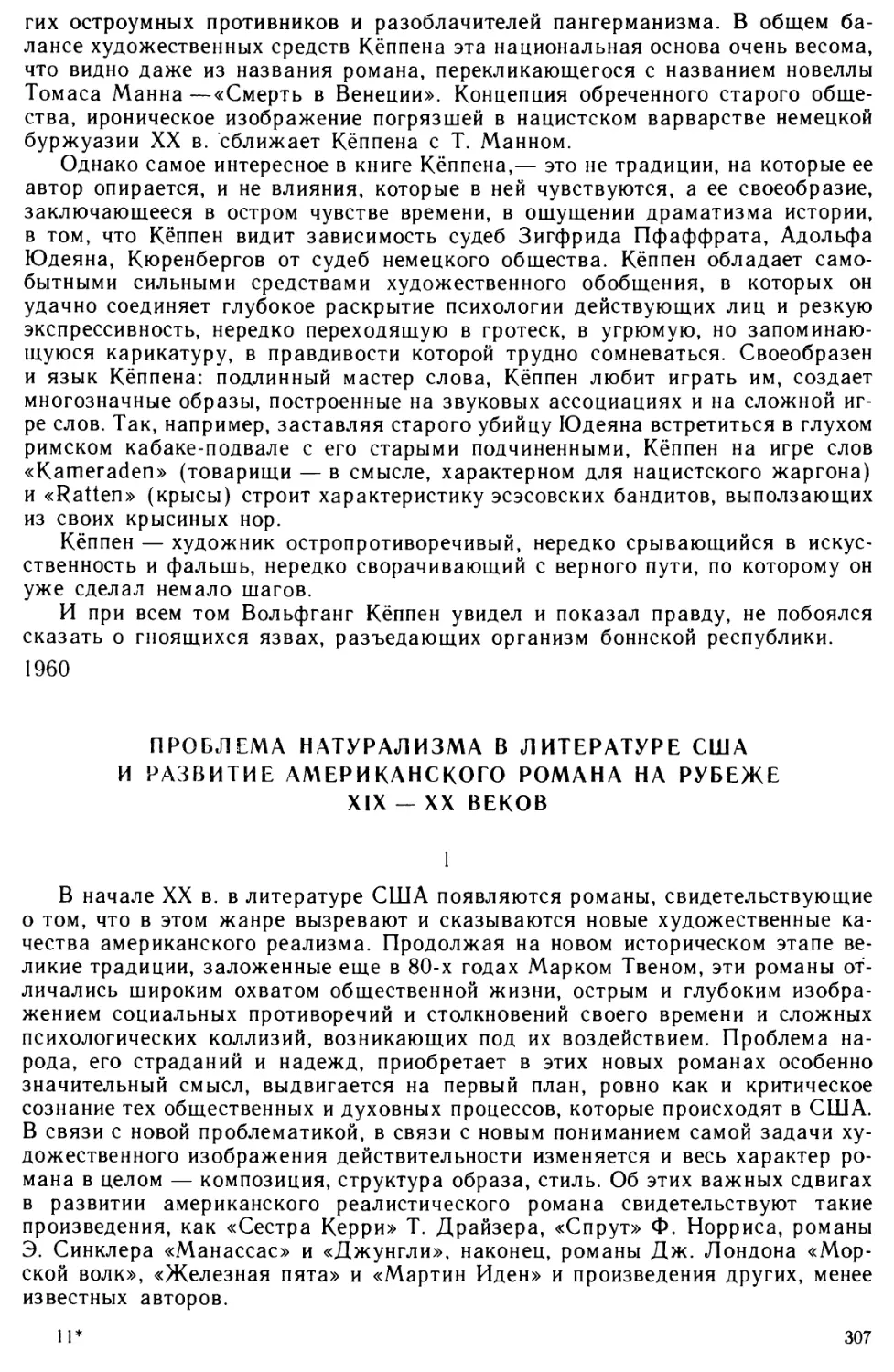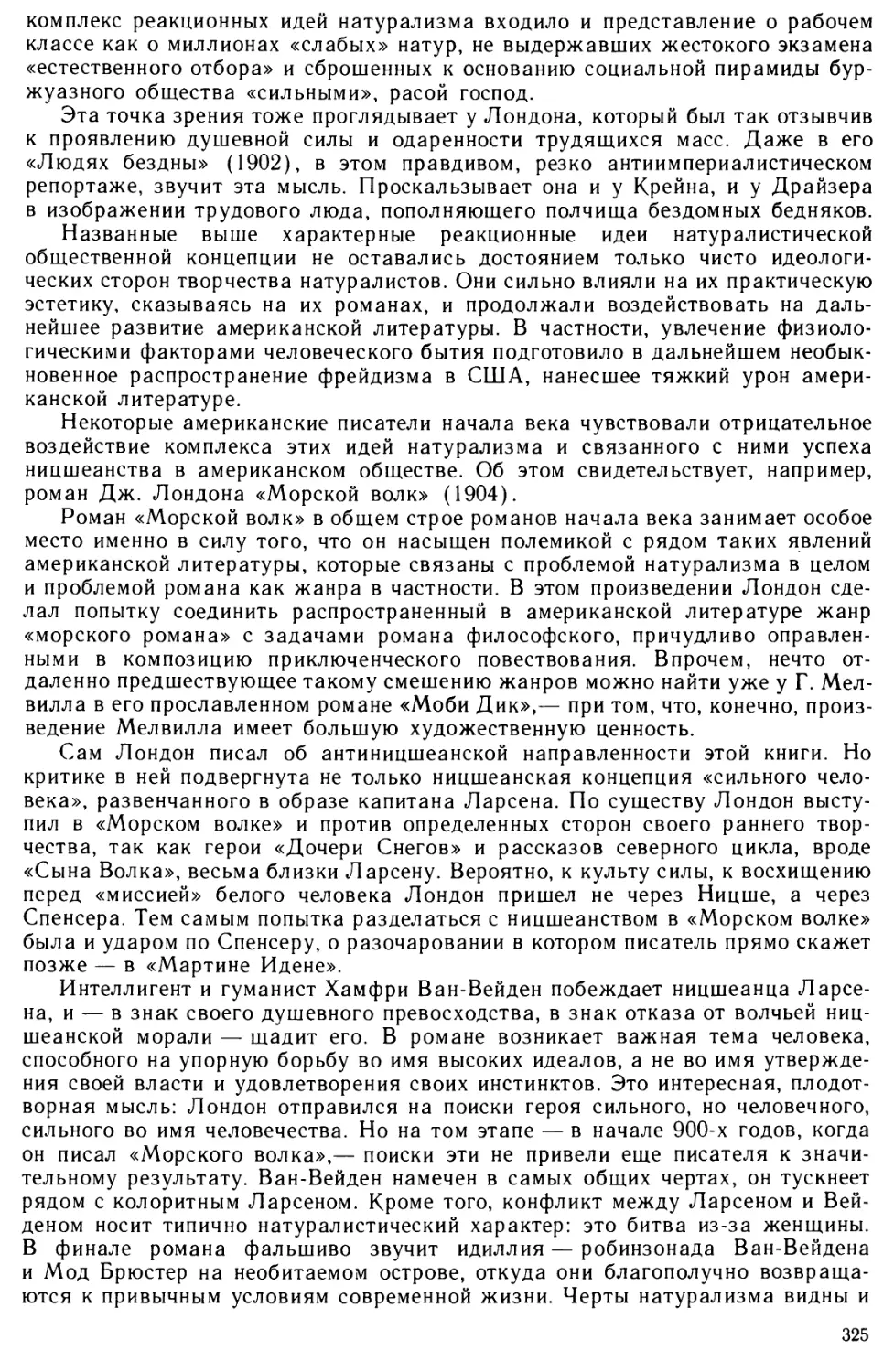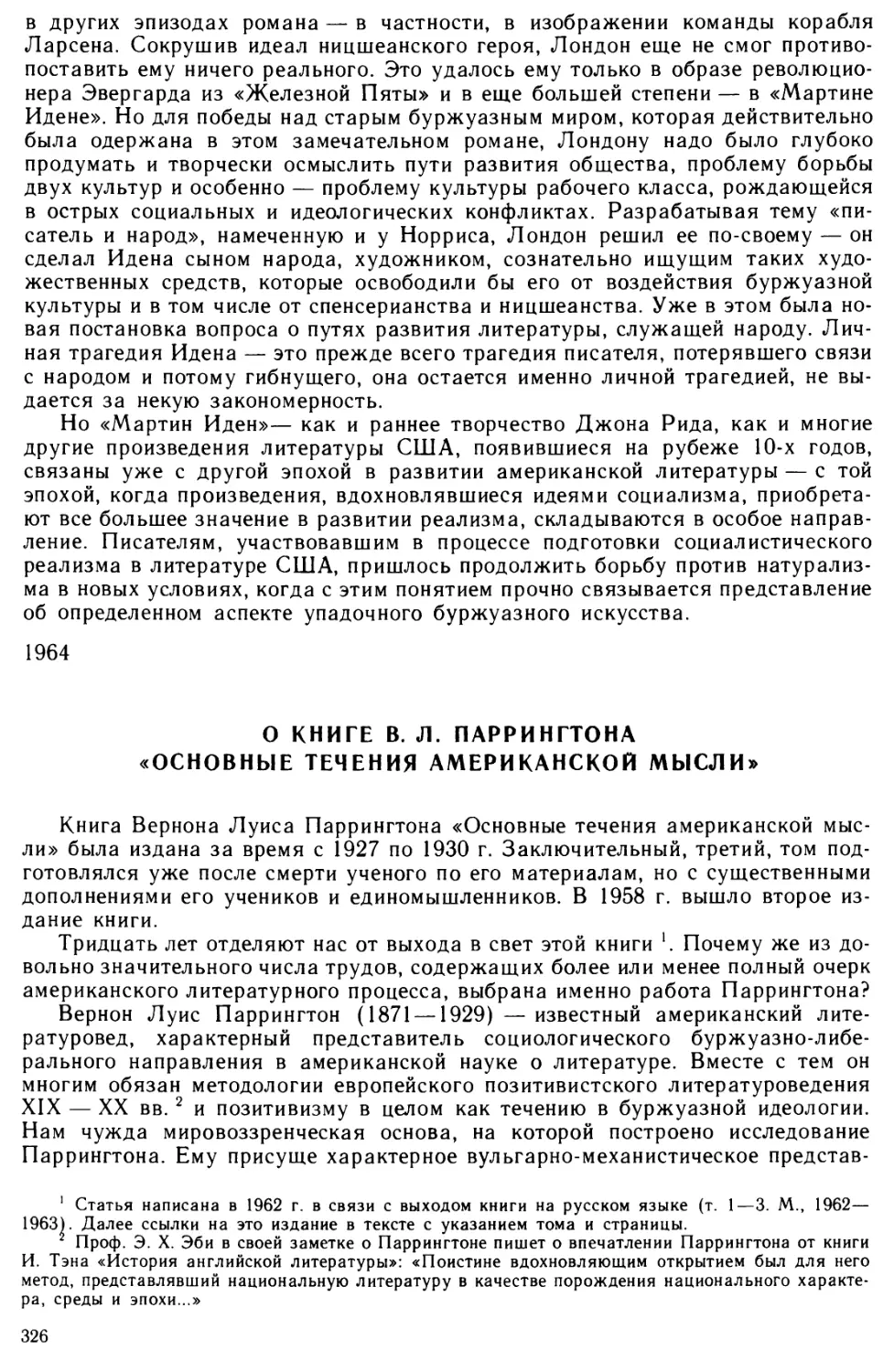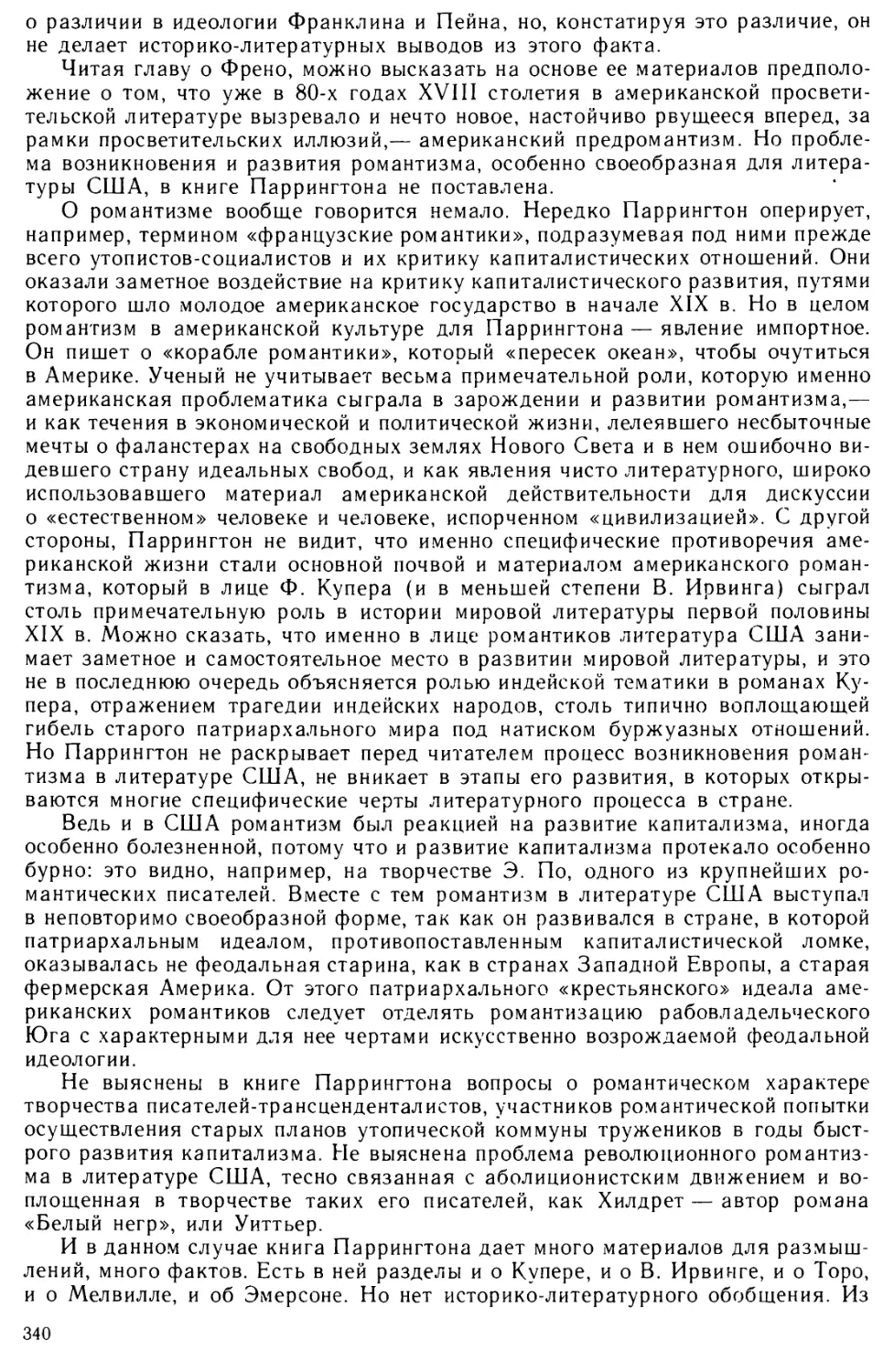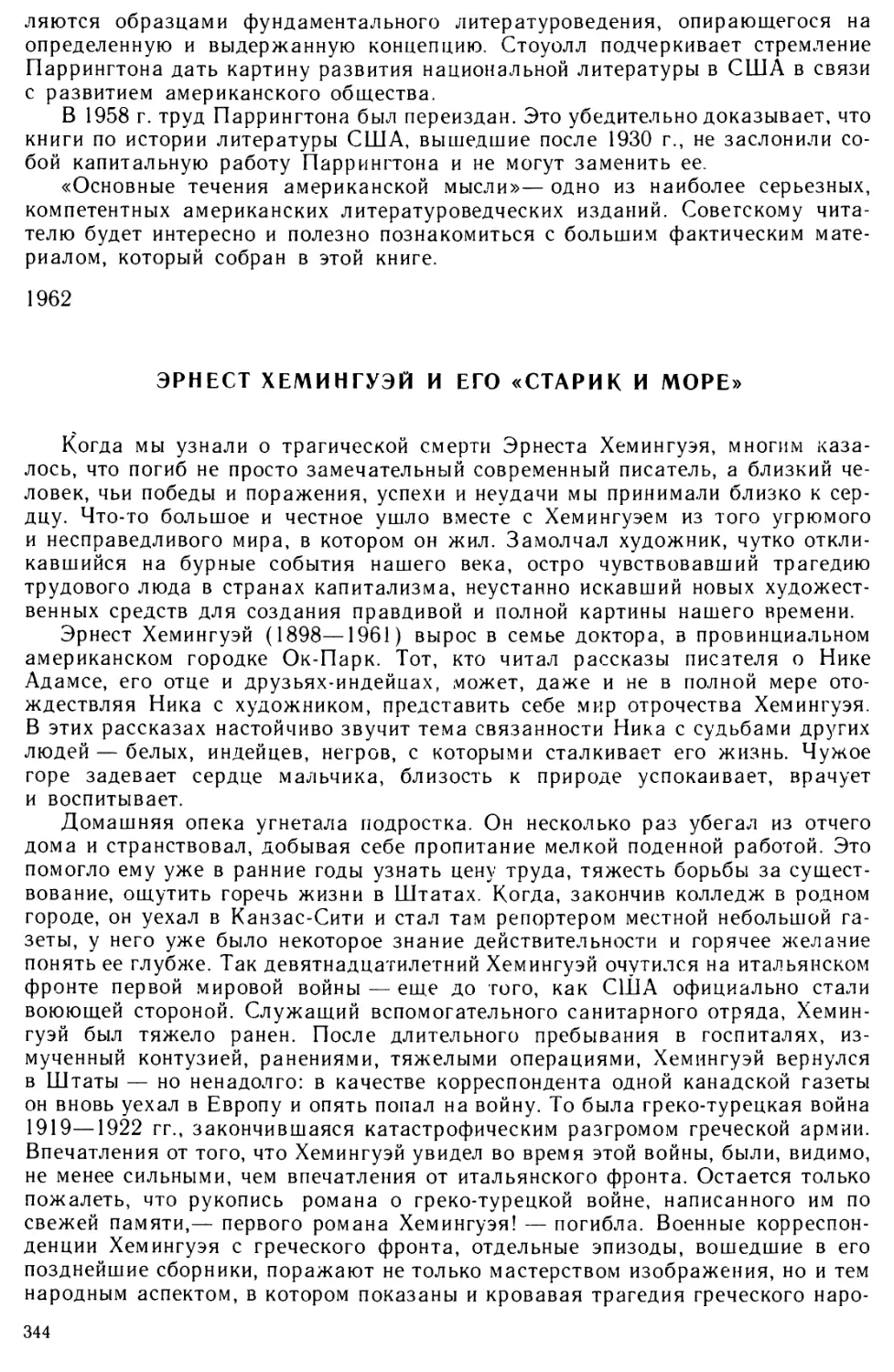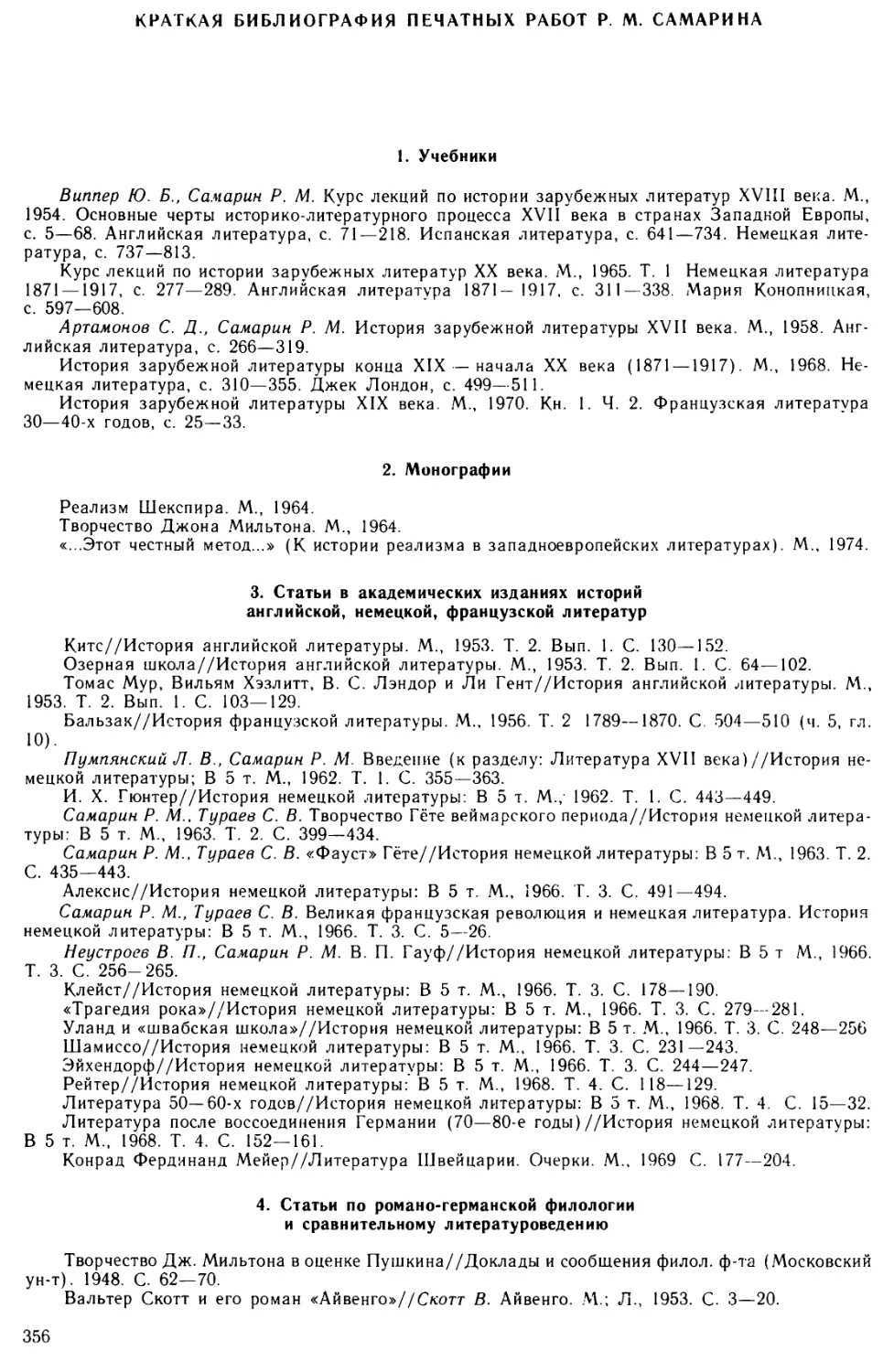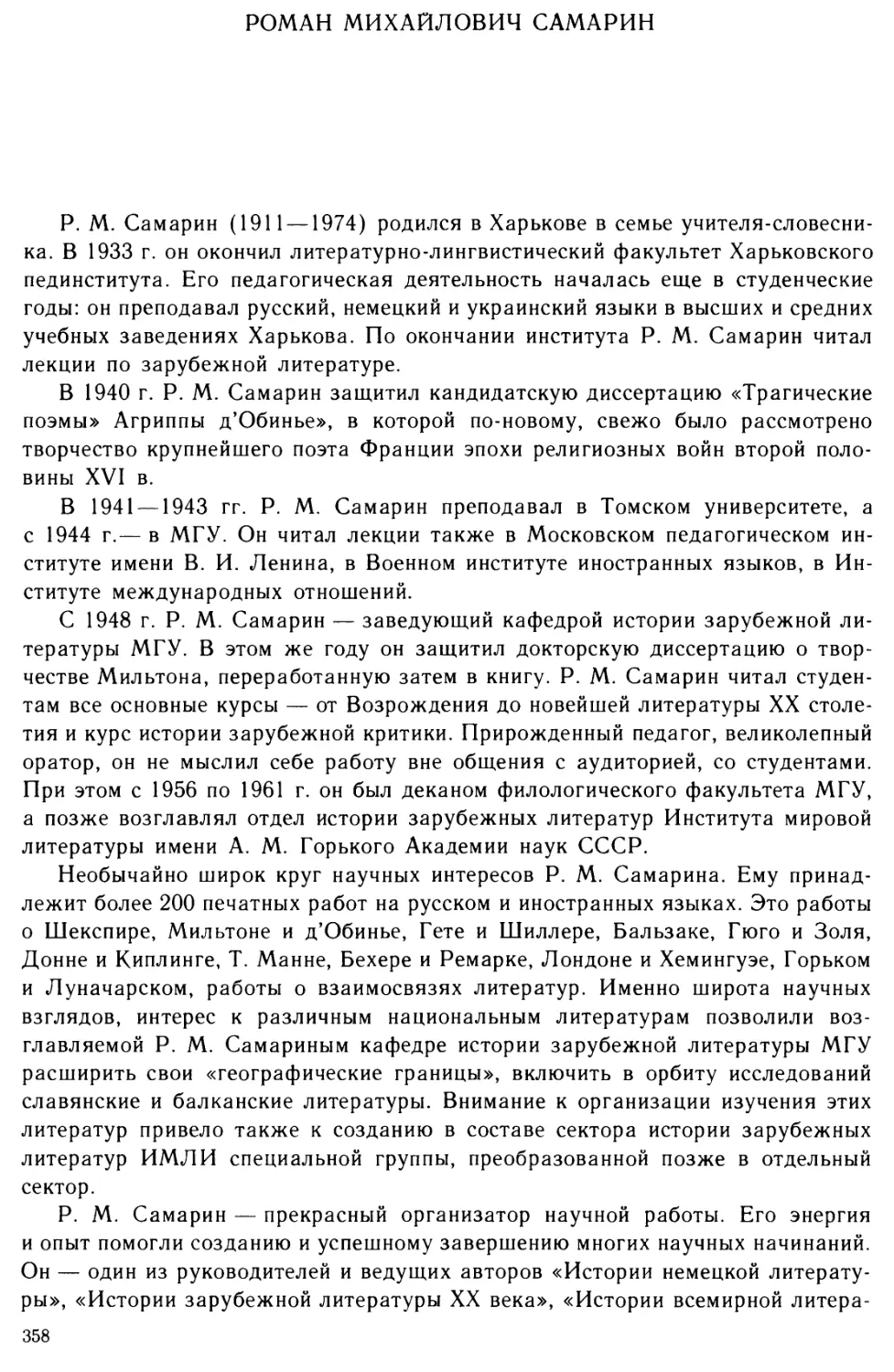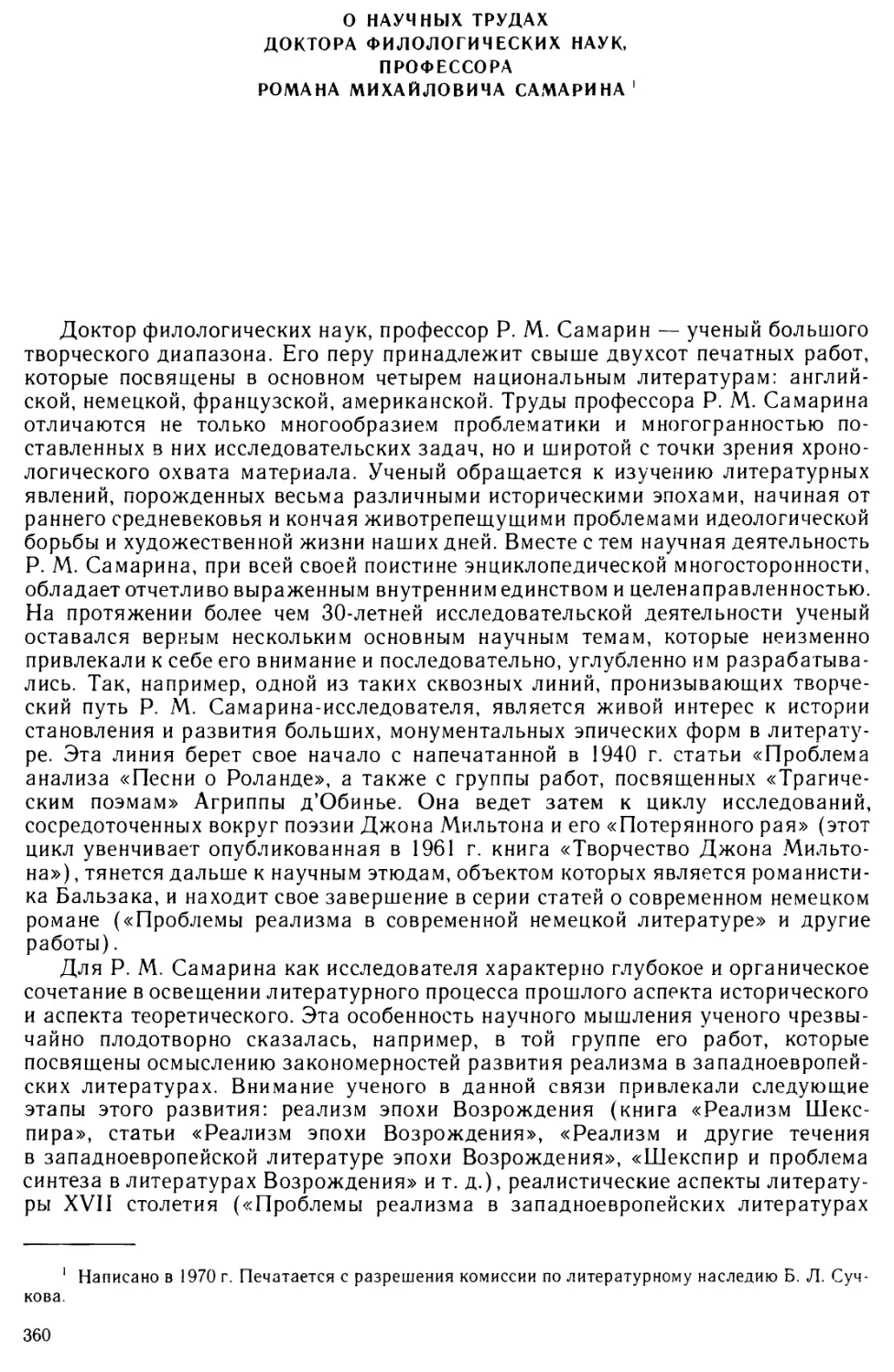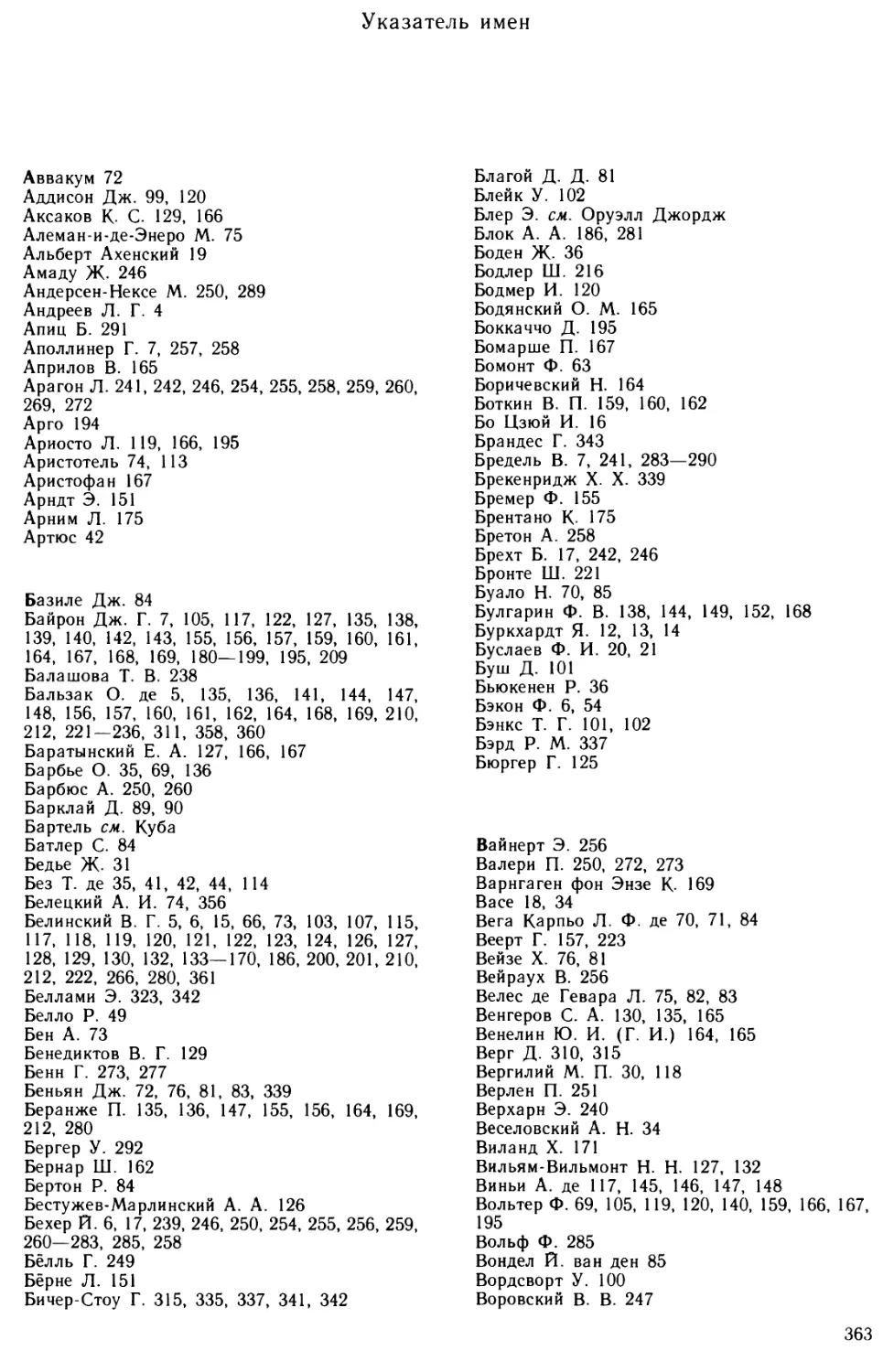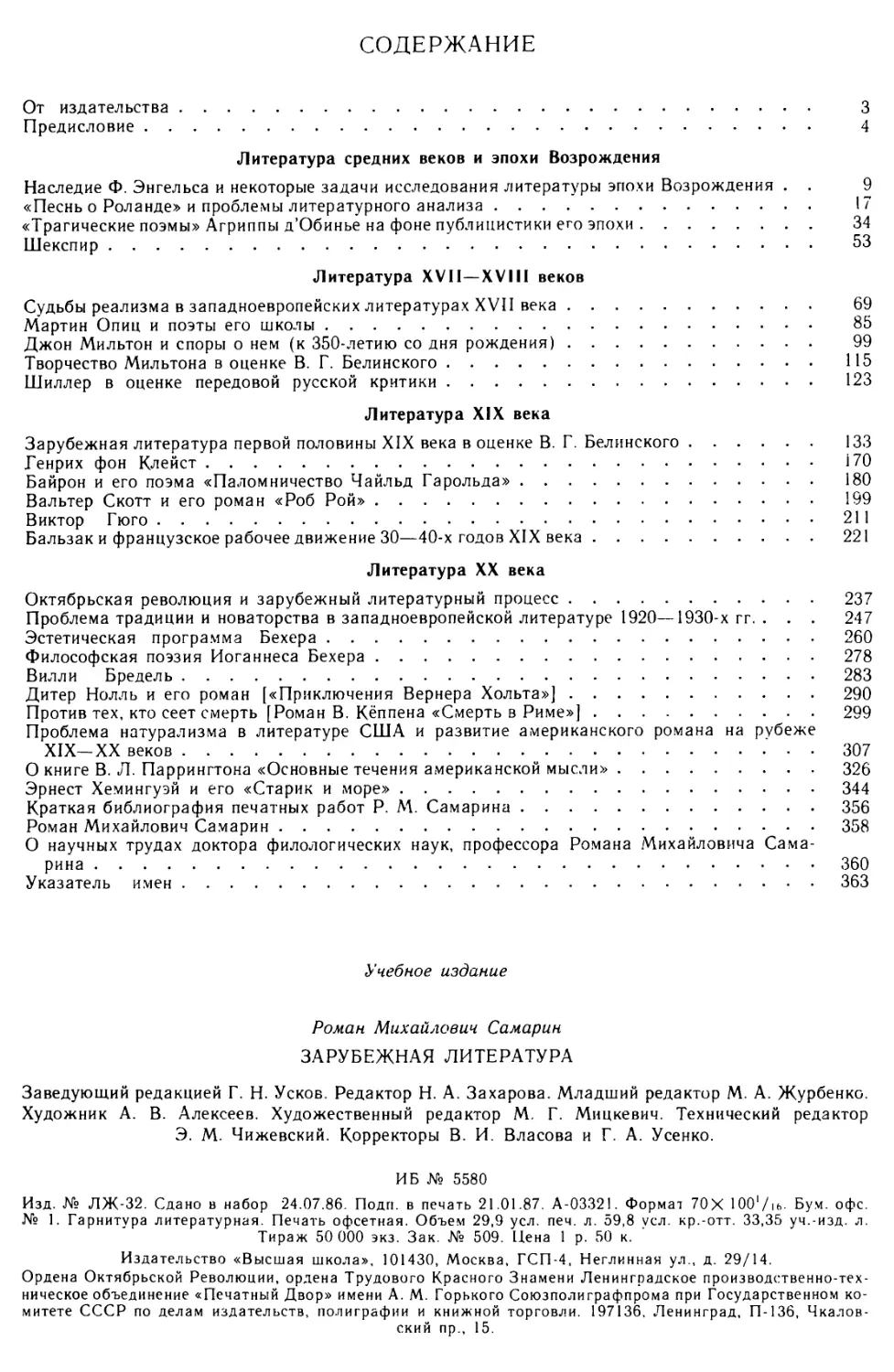Author: Самарин Р.М.
Tags: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран литература зарубежная литература
Year: 1987
Text
Р.М.САМАРИН
ЗАРУБЕЖНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Р.М.САМАРИН
ЗАРУБЕЖНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Ф
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ,
И ДОПОЛНЕННОЕ
Допущено
Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебного пособия
для студентов
филологических специальностей
высших учебных заведений
Москва
«Высшая школа»
1987
Составитель M. Р. Волкова
Рецензенты:
кафедра зарубежной литературы Московского государственного
педагогического института имени В. И. Ленина
(зав. кафедрой д-р филол. наук, проф. Н. П. Михальская)
#
Самарин Р. М.
Cl7 Зарубежная литература: Учеб. пособие для филол.
спец. вузов/Сост. М. Р. Волкова; Предисл. А. В. Руса-
ковой; Послесл. Б. Л. Сучкова.—2-е изд., испр. и доп.—
М.: Высш. шк., 1987.—368 с.
Пособие включает в себя работы известного литературоведа Р. М. Сама-
рина по зарубежным литературам средних веков и Возрождения, литературам
XVII — XX вв. Разделы пособия посвящены как отдельным вопросам литера-
турного процесса, так и творчеству некоторых писателей.
В отличие от предыдущего издания (1978 г.) пособие дополнено статьей
«Проблема натурализма в литературе США и развитие американского рома-
на на рубеже XIX—XX веков».
г 4603020000-105 ^я ft7 ББК 83.34
^ 001(01)—87 **28~87 8И
© Издательство «Высшая школа», 1978
© Издательство «Высшая школа», 1987,
с изменениями
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Настоящее учебное пособие содержит работы известного советского
литературоведа доктора филологических наук, профессора Романа Ми-
хайловича Самарина. Книга составлена его дочерью М. Р. Волковой при
активном участии доцентов кафедры истории зарубежной литературы
Московского университета Н. П. Козловой и О. В. Мелихова. Сборник
обсуждался на кафедре и был одобрен к изданию. На разных этапах
в работе над ним принимали участие профессора МГУ, доктора филоло-
гических наук Л. Г. Андреев, Я. Н. Засурский, В. П. Неустроев, а также
профессор Даугавпилсского педагогического института, доктор филоло-
гических наук И. А. Дубашинский. Большую помощь в работе над руко-
писью оказали рецензенты — кафедра истории зарубежных литератур
Саратовского университета (заведующий кафедрой доцент Т. С. Никола-
ева) и профессор ЛГУ, доктор филологических наук А. В. Русакова, на-
писавшая также предисловие к сборнику. Издательство благодарит всех,
кто в той или иной мере помог в выпуске книги покойного профессора
Р. М. Самарина.
Второе издание книги дополнено работой Р. М. Самарина «Проблема
натурализма в литературе США и развитие американского романа на ру-
беже XIX — XX веков» (1964). Работа важна для понимания закономер-
ностей литературного развития на рубеже XIX — XX вв., для теории на-
турализма, а также при освещении этих проблем в лекционном курсе и на
практических занятиях в вузе. Кроме того, изменена структура сборника
в соответствии с распределением материала в учебных курсах по зару-
бежной литературе.
éké>u*id^/)b~ fv
ПРЕДИСЛОВИЕ
Научная и педагогическая деятельность замечательного ученого, крупней-
шего советского литературоведа Романа Михайловича Самарина — яркий
пример щедрого и доброго таланта, отданного воспитанию специалистов-фи-
лологов. Не одно поколение исследователей зарубежной литературы обязано
Р. М. Самарину своими знаниями, умением глубоко и серьезно анализировать
сложные вопросы литературного процесса, художественные произведения.
Роман Михайлович Самарин ушел из жизни рано, не успев завершить мно-
гие свои замыслы и начинания. Но и то, что им сделано, составляет яркую
страницу в истории советского литературоведения. Научное творчество Р. М.
Самарина неотделимо от его педагогической деятельности. Про Р. М. Самарина
можно сказать, что он был прежде всего ученым вузовского типа. Великолеп-
ный лектор, наделенный цепкой памятью, блистательной эрудицией, ораторским
талантом, он запоминался не только отдельными своими докладами, дискусси-
онными выступлениями в научной среде, но прежде всего лекциями в студен-
ческой и аспирантской аудитории. Он умел и любил передавать свои знания, и
у него всегда было много учеников, а бывшие его аспиранты, которые когда-то
прошли первую научную школу в руководимом им семинаре, работают сейчас
во многих крупнейших университетах и вузах нашей страны и за рубежом. Этой
близостью Р. М. Самарина к проблемам вузовского образования во многом
определяется широта его научных интересов.
Вспоминая о Р. М. Самарине, профессоре Московского университета,
Л. Г. Андреев писал:
4
«Поразительная многогранность научной деятельности профессора Сама-
рина сказывается и в том, что она несводима к деятельности романиста или
германиста. В лице Р. М. Самарина мы имели уникального специалиста по
всемирной литературе, знатока всех ведущих литератур мира. Начав как ро-
манист, Р. М. Самарин далее развивался как специалист по английской лите-
ратуре (докторская диссертация и монография о Мильтоне), потом по немецкой
литературе, литературам США и другим национальным литературам, вплоть до
русской и украинской».
Именно этот широчайший диапазон научных интересов позволил Р. М. Са-
марину не только как автору многочисленных работ, посвященных литературе
разных веков и стран, но и как инициатору и организатору внести неоценимый
вклад в дело изучения всемирной литературы. Мы можем вспомнить, что по его
инициативе и при его активном участии в ИМЛИ было предпринято капиталь-
ное коллективное исследование — 10-томная «История всемирной литературы».
Это была дань одной из его любимейших идей, которую он постоянно пропа-
гандировал и защищал, поскольку считал, что в наше время никак нельзя
ограничиться изучением традиционно малого числа зарубежных литератур.
Даже в университетских учебниках, издававшихся под его редакцией, связан-
ных вузовской программой и жесткими рамками учебных планов, мы обнару-
живаем тенденцию к изучению процессов именно всемирной литературы, а не
нескольких зарубежных литератур. Можно по-разному оценивать эту привер-
женность профессора Самарина к идее всемирной литературы, но не видеть
позитивных результатов, которые она уже дала и, надеемся, еще даст в буду-
щем, нельзя. Поэтому и в настоящее пособие, в которое вошли работы Р. М.
Самарина, написанные им в период с 1940 г. и по год его смерти (1974) и раз-
бросанные по периодическим изданиям, включены статьи, позволяющие увидеть
основные направления его исследовательской мысли. Читатель несомненно об-
ратит внимание на тематическое разнообразие статей. Р. М. Самарин увлекался
исследованием литератур эпохи средних веков, Возрождения и XVII—XVIII вв.,
но он, что бывает в нашем литературоведении крайне редко, соединял это
увлечение с интересом к актуальным проблемам литератур нового и даже но-
вейшего времени. Мы найдем здесь выделяющееся глубиной мысли изящное
сочинение о «Трагических поэмах» Агриппы д'Обинье или рассуждения о неко-
торых проблемах литературного анализа на материале «Песни о Роланде»— на
одном полюсе его научных пристрастий и статьи о новинках западноевропей-
ской литературы наших дней («Дитер Нолль и его роман») — на другом. Чтобы
продемонстрировать разнообразие работ Р. М. Самарина по национальным
литературам, в пособие включены статьи «Мартин Опиц и поэты его школы»,
«Генрих фон Клейст», «Бальзак и французское рабочее движение 30—40-х го-
дов XIX века», статьи о Хемингуэе, Паррингтоне, Д. Мильтоне.
Следует отметить также, что большую долю работ Р. М. Самарина состав-
ляют статьи, посвященные собственно критике и истории литературоведения
в России, Советском Союзе и за рубежом. В 60-е годы профессор Самарин по-
ложил начало чтению курса по истории зарубежной критики и зарубежного
литературоведения в Московском университете; теперь этот курс читается на
филологических факультетах вузов страны. В данном пособии мы найдем
статьи о Белинском и его оценках западноевропейских авторов и статьи о тра-
дициях нашего литературоведения, о становлении социалистического реализма
за рубежом, о спорах и дискуссиях в зарубежной прессе, а также об отдельных
критиках, например об американце Паррингтоне. Р. М. Самарин сам объяснил
эту свою двойную ориентацию в статье, подводившей в 1967 г. итоги полувеко-
вого развития одного из важнейших направлений в нашем литературоведении.
Говоря о филотоге, изучающем проблемы зарубежного социалистического ре-
ализма, Р. М. Самарин отметил, что в повседневной работе такого филолога
«сливаются основные аспекты науки о литературе и задачи литературного кри-
5
тика, для которого умение написать острую полемическую статью столь же не-
обходимо, как строгая филологическая школа».
В данном пособии отведено место как полемическим статьям на актуальные
темы, так и работам историко-филологического плана. Так как разные статьи
создавались в разные годы (с издания первой статьи прошло почти пятьдесят
лет), естественно, что некоторые точки зрения исследователя устарели и были
бы, вероятно, уточнены и модернизированы Р. М. Самариным, если бы сборник
к печати готовил он сам. Так, в статье «Октябрьская революция и зарубежный
литературный процесс» не вполне соответствуют современным нашим оценкам
определения экспрессионизма и модернизма; излишней категоричностью стра-
дает противопоставление суждений Белинского всем английским критикам, пи-
савшим о Мильтоне (статья «Творчество Мильтона в оценке В. Г. Белинско-
го») ; в чем-то повторяются некоторые положения в статьях о Бехере. Однако не
мешает напомнить, что Р. М. Самарин был в послевоенные годы одним из за-
чинателей в изучении творчества и особенно эстетики крупнейшего немецкого
поэта XX в. и что в этих статьях содержится интересная и проницательная
оценка его поэзии и эстетики 1.
Работы, включенные в настоящее издание, иллюстрируют многообразие
подходов автора к исследуемому материалу. Например, статья о Шекспире,
почти не известная читателям и исследователям, являет собой образец научного
исследования, опирающегося на большой филологический фундамент, но
оформленного опытным оратором. Оперируя в ней фактами как широко, так
и малоизвестными, выстраивая цепь своих рассуждений, Р. М. Самарин пред-
лагает в статье свое, новое истолкование главной проблемы последнего периода
творчества величайшего английского драматурга. Но доказывая главную свою
идею, ученый насыщает статью неожиданными находками и поворотами мысли,
высказывает свое отношение к итогам многочисленных дискуссий о Шекспире,
покоряет читателя проникновенным вниманием к бытовым, политическим и те-
атральным реалиям XVI — начала XVII в.— и все это сделано изящно и ло-
гично. О проблемах шекспировской, елизаветинской, эпохи автор говорит так,
что читатель ощущает четкие контуры этой эпохи, удаленной от нас на четыре
столетия. Эмоциональность, которую помнят все, слушавшие лекции Р. М. Са-
марина, и автор этих строк в том числе, соединенная с трезвым логическим хо-
дом мысли, с изящными полемическими выпадами, приводит к весьма интерес-
ным результатам в научной работе. Р. М. Самарин старается вести за собой
читателя, внушить ему свои мысли и свое отношение к предмету. Вот, например:
«Он (Шекспир.— А. Р.) был многим обязан поэтам своего времени, новел-
листам, романистам, философам, географам, историкам — всем труженикам
науки и искусства, к которым устремлялся его пытливый мозг. Но больше всего
он обязан самой английской действительности и своему таланту, который на-
ложил неоспоримый отпечаток на большинство произведений, известных под
его именем.
Этот шекспировский знак, шекспирова печать, по которой мы узнаем его
творения среди многих схожих с ними произведений английской драмы эпохи
Возрождения, заключается прежде всего в комплексе шекспировских идей,
в своеобразии многостороннего шекспировского гуманизма, в его подходе к че-
ловеку как к существу, сотканному из развивающихся, динамических противо-
речий. Нельзя забывать, что гениальный поэт и драматург Шекспир был не
только восприимчивым наследником, но и гениальным самостоятельным мыс-
лителем, достойным занять почетное место среди философов Ренессанса, рядом
со столь близким ему по мысли Бэконом. И задачей шекспироведения является,
конечно, не столько установление тех или иных связей Шекспира с тем или
1 В ряде статей в учебных целях сделана редакторская правка: некоторые статьи частично со-
кращены, сняты устаревшие дефиниции, излишне резкие оценки творчества отдельных писателей,
добавлены сноски.— Ред.
6
иным писателем, сколько дальнейшее изучение своеобразия великого драма-
турга».
Р. М. Самарин считал выявление своеобразия литературного явления глав-
ной, но не единственной своей задачей.
Обычно Р. М. Самарин рассматривает творчество одного писателя или даже
одно литературное произведение, обязательно включая его в непрерывный ли-
тературный процесс, показывая в окружении последователей или истолковате-
лей, на широком историко-литературном фоне (см. в нашем сборнике «Траги-
ческие поэмы» Агриппы д'Обинье на фоне публицистики его эпохи», «Джон
Мильтон и споры о нем», «Проблема традиции и новаторства в западноевро-
пейской литературе 1920—1930-х годов» и др.).
Статья «Проблема традиции и новаторства в западноевропейской литера-
туре 1920—1930-х годов» дает — в полном соответствии со своим названием —
широкую картину литературных движений, идеологической и политической де-
ятельности мастеров культуры в Европе в рассматриваемую эпоху. Стараясь не
упустить из виду бесконечного разнообразия как больших, так и малых течений,
групп и группировок, хотя и не претендуя на их тщательную классификацию,
Р. М. Самарин подчеркивает кардинальную линию развития прогрессивной ли-
тературы Запада, связывая наиболее яркие достижения этой литературы с име-
нами писателей, которые в своем творчестве отстаивали реалистические тради-
ции и принципы. Присущая Р. М. Самарину ясность, отчетливость формулиро-
вок обнаруживается и в тех местах этой статьи, где ему приходится отстаивать
свою точку зрения в острейших дискуссиях и полемике вокруг проблем искус-
ства социалистического реализма. Особенно поучительной и привлекательной
кажется непредубежденному читателю манера исследователя доводить свои
рассуждения до логического конца, приводить, не боясь повторений, разные
аргументы для доказательства одной и той же мысли. А так как к числу таких
«аргументов» в данной статье принадлежат, например, весьма краткий, но
очень точный в общих выводах анализ романа Томаса Манна «Доктор Фа-
устус», или спор по поводу Франца Кафки с привлечением его новеллы «Пре-
вращение», или характеристика работ А. В. Луначарского о западной литера-
туре, то читатель, следуя за автором статьи, может окинуть мысленным взором
многослойные, многоступенчатые и разноречивые художественные системы,
о взаимодействии которых в работе говорится с убежденностью и последова-
тельностью ученого. В статье интересны и общие рассуждения, и конкретные
оценки, и даже краткие упоминания, «работающие» на главную мысль (суж-
дения об Аполлинере, Элюаре и Прусте, о Р. Роллане и «новом романе» во
Франции, и ссылки на произведения живописцев, и сравнения стихотворений
20-х и 50-х годов, и многое другое).
Настоящий сборник, как уже упоминалось, имеет целью продемонстриро-
вать разные аспекты научной деятельности Р. М. Самарина, но прежде всего
дать в руки читателям учебное пособие особого типа. Статьи, отобранные из
большого литературного наследия ученого, должны напомнить о нем как
о многоопытном лекторе и организаторе современных форм преподавания за-
рубежной литературы в вузе. Богатство и разнообразие материала позволили
выбрать для книги композицию, аналогичную композиции вузовских учебников.
Был избран хронологический, а не национальный принцип расположения работ,
и сборник имеет в соответствии с этим принципом четыре раздела, соответст-
вующие основным курсам истории зарубежных литератур: «Литература сред-
них веков и эпохи Возрождения», «Литература XVII—XVIII веков», «Лите-
ратура XIX века», «Литература XX века». Особое место в сборнике занимают
несколько статей, первоначально существовавших в виде предисловий к раз-
личным популярным изданиям. В них Р. М. Самарин задавался целью истол-
ковать для широкого читателя данное художественное произведение, расска-
зать о его авторе, а не проводить специальное литературоведческое исследова-
7
ние, поскольку популяризаторское назначение статей предусматривалось самим
типом издания (см. статьи «Вальтер Скотт и его роман „Роб Рой"», «Байрон
и его поэма „Паломничество Чайльд Гарольда"», «Шиллер в оценке передовой
русской критики», статьи о Викторе Гюго, о Бределе). Но и в этих статьях
Р. М. Самарин находит возможным вести с читателем вполне серьезный разговор.
Перечитывая, к примеру, предисловие к роману Вальтера Скотта «Роб Рой»,
нельзя не обратить внимание на ту щедрость эрудита, которой Р. М. Самарин
обладал в полной мере. Как будто бы по форме перед нами популяризаторская
работа, но ведь она глубоко фундирована, в ней рассматривается не один Роб
Рой и даже не роман «Роб Рой», а целый комплекс проблем — и история Анг-
лии и Шотландии, и творчество Вальтера Скотта, и его так называемые шот-
ландские романы. Вальтер Скотт и его произведение вписаны в определенную
эпоху, мы ощущаем ее дыхание и значение через роман, но одновременно уз-
наем и о том, как оценивали творчество английского романиста русские его
современники. Когда-то Ф. И. Тютчев писал:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
Но в обязанность литературоведа входит как раз изучение этого «сочувст-
вия», и не только современников, но и потомков художника. Р. М. Самарин
владел даром не только трактовать, объяснять, как именно к тому или иному
литературному произведению приходило признание, «сочувствие», но — что не
менее важно — он умел пробуждать своими статьями интерес — и интерес со-
чувственный — в сердцах читателей к тому, о ком или о чем он писал. Поэтому
предисловия Р. М. Самарина — не традиционный пролог к художественному
произведению, а скорее необходимая любому путнику в лабиринте авторских
мыслей и чувств нить Ариадны.
И наконец, в пособие включены статьи Р. М. Самарина о некоторых новей-
ших авторах, которых он в числе первых критиков представлял советскому чи-
тателю («Против тех, кто сеет смерть», «Дитер Нолль и его роман»). Первая из
этих статей анализирует роман западногерманского писателя Вольфганга
Кёппена «Смерть в Риме», роман очень сильный, резкий. Автор статьи показы-
вает нам Кёппена в сложном переплетении английских и немецких литератур-
ных традиций, но, пожалуй, еще теснее, чем с литературными и культурными
традициями, несомненно присутствующими в романе о нацисте Юдеане, Р. М.
Самарин связывает идеи и стиль Кёппена с определенным моментом европей-
ской и западногерманской истории.
Р. М. Самарин разнообразил методы подачи материала, форму и компози-
цию своих статей и пронизывал каждую из них особым настроением. Статья
о Хемингуэе начинается так: «Когда мы узнали о трагической смерти Эрнеста
Хемингуэя, многим казалось, что погиб не просто замечательный современный
писатель, а близкий человек, чьи победы и поражения, успехи и неудачи мы
принимали близко к сердцу». И повествуя о жизни Хемингуэя, о его победах
и его трагедии, автор статьи сохраняет до конца сочувственный, уважительный
и даже лирический тон.
Соединяя в учебном пособии разнотипные и неодинаковые по своим целевым
установкам, величине и характеру работы профессора Самарина, составители
стремились показать результаты его научной, педагогической и популяриза-
торской деятельности, несомненно представляющие собой выдающийся вклад
в советскую науку о литературе.
Публикуя настоящее пособие, мы отдаем дань уважения и любви блестя-
щему ученому-эрудиту, неутомимому исследователю, страстному пропаган-
дисту филологической науки Роману Михайловичу Самарину.
А. Русакова
I
ЛИТЕРАТУРА
СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
4>
НАСЛЕДИЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Человек энциклопедически образованный и с широчайшими интересами
в области истории культуры, Ф. Энгельс проявлял особое внимание к вопросам
культуры эпохи Возрождения. Это отражено в большом количестве его отдель-
ных высказываний о писателях, художниках, политических деятелях и ученых
Возрождения, в замечаниях, находящихся в его статьях и переписке. Но есть
и ряд больших работ Энгельса, в которых проблемы культуры Возрождения
затрагиваются в широком объеме, начиная с общей оценки и определения этого
периода в истории человечества и кончая освещением отдельных национальных
аспектов истории и культуры Возрождения.
Если представить перечень основных работ Энгельса, в которых проблемы
истории и культуры Возрождения затрагиваются специально, то получится
примерно такой список:
1. Статья «Немецкие народные книги», 1839 г.
2. Исследование «Крестьянская война в Германии», 1850 г.
3. «Диалектика природы», работа над которой относится к 1873—1883 и
1885—1886 гг.
4. «Развитие социализма от утопии к науке»— написана в 1880 г.; я умыш-
ленно указываю именно эту книгу, а не всего «Анти-Дюринга», следствием ра-
боты над которым она явилась. Очень большой интерес для выяснения взглядов
Энгельса на процессы, ведущие к эпохе Возрождения или протекающие в эту
эпоху, представляют обнародованные в 21-м томе собрания сочинений К. Мар-
кса и Ф. Энгельса материалы «Из рукописного наследства Ф. Энгельса» и среди
них особенно статьи «О разложении феодализма и возникновении националь-
ных государств» (написана в 1884 г.) и «К Крестьянской войне» (написана
в 1884 г.).
Взятая в целом, эта группа трудов охватывает полвека — от ранних
1840-х до 1890-х гг., т. е. очевидно, что названная проблема в той или иной мере
интересовала Энгельса в течение всей его деятельности.
Уже это обстоятельство само по себе достойно того, чтобы взгляды Энгельса
на проблемы истории и культуры Возрождения стали объектом специального
изучения. Поскольку эти проблемы всегда привлекали внимание советских об-
щественных наук — искусствоведения, истории, филологии, и за последнее
9
время приобрели особую остроту, эта часть наследия одного из основополож-
ников марксизма приобретает значительную актуальность и имеет не только
общий, но и узкоспециальный интерес.
К тому времени, когда юный Энгельс создает работу о немецких народных
книгах, термин «Возрождение» в применении к определенному периоду истории
Западной Европы и особенно к его культуре был еще далеко не общеупотреби-
тельным. В работах по истории литературы, где затрагивались и проблемы
общего культурного процесса — в книгах Сисмонди, Галлама,— чаще можно
встретить деление на историю средних веков и новую историю; в работах по
искусствоведению это название было распространено в большей степени.
В применении к истории и культуре немецких земель чаще всего эту эпоху
определяли как эпоху Реформации. Видимо, долгое время это определение бы-
ло привычным и для самого Энгельса.
Но уже в первой работе Энгельса «Немецкие народные книги» чувствуется,
что молодой исследователь видит в этом жанре не просто один из жанров
средневековой литературы, хотя и отлично знает о средневековых корнях мно-
гих народных книг, а произведения, отражающие в той или иной степени
общественную борьбу и сдвиги в немецкой культуре, происшедшие в XV—
XVI вв. Энгельс прямо говорит об искажении первоначального текста народной
книги о докторе Фаусте в том наиболее распространенном издании, которое он
упоминает в своей статье. За суждениями Энгельса о народной книге отчетливо
прослеживается его представление о пути от легенды к книге XVI в. и от книги
XVI в.— к более поздней ее редакции, которая не удовлетворяет Энгельса.
Очень важно и то, что в лучших и наиболее точно передавших дух первопечат-
ного варианта изданиях Энгельс видит выражение народного искусства, рас-
цветающего в немецких землях на рубеже XV — XVI вв.— накануне Кресть-
янской войны 1525 г.
Этой огромной теме была посвящена монография Энгельса, созданная им
под свежим впечатлением от событий революции 1848 г. и предназначенная для
того, чтобы осмыслить исторический опыт этих событий в параллелях с классо-
выми боями другой эпохи, политическая ситуация которой напоминает Энгель-
су о ситуации 1848—1849 гг. в Германии. Важнейшей политической задачей
Энгельса было показать гибельные последствия предательства немецкого бюр-
герства, в обоих случаях изменившего народным массам и способствовавшего
этим поражению революции, а также непоправимый вред, наносимый револю-
ционному движению в Германии раздробленностью страны, отсутствием наци-
онального единства. Но эти большие проблемы XIX в. он рассматривает на фо-
не анализа исторических событий 1520-х гг.
Известно, что, работая над своими исследованиями, Энгельс широко ис-
пользовал книгу буржуазного историка В. Циммермана «История Крестьян-
ской войны в Германии», вышедшую в 1843 г. Однако даже при самом беглом
сравнении этих работ видно, что книга В. Циммермана — одно из многочис-
ленных исследований, в которых Крестьянская война 1525 г. рассматривается
преимущественно как религиозная война, и что автор проходит мимо экономи-
ческих и социальных факторов, а если и называет их, то не умеет соединить
в целостную систему. Из-под пера Энгельса вышла классическая марксистская
монография, давшая глубокий классовый анализ трагических событий немец-
кой революции XVI в.
В свете конкретно-исторического анализа структуры немецкого общества
Энгельс осуществил анализ различных идеологических направлений в предре-
волюционную эпоху и в месяцы крестьянского восстания. Обращает на себя
внимание скрупулезнейший подход к различным оттенкам настроений и поли-
тических воззрений участников будущей революции. Немецкая идеология XVI в.
предстает перед нами как сложнейшее и многослойное явление. Лагерь про-
тивников феодализма охарактеризован не в общих чертах, а во всем живом
ю
многообразии позиций различных социальных сил — начиная от оппозиции
обедневших рыцарей и кончая предшественниками рабочего класса, чьи убеж-
дения в книге Энгельса рассмотрены как новое яркое идейное течение. Высоко
ценя идейные устремления Мюнцера и его бойцов, Энгельс указывает и на не-
развитость, наивность их чаяний.
«Лишь в Тюрингии под непосредственным влиянием Мюнцера и в некоторых
других местах под влиянием его учеников плебейская часть городского населе-
ния была настолько увлечена общей революционной бурей, что зачаточный
пролетарский элемент получил в ней кратковременный перевес над всеми
остальными элементами, участвовавшими в движении». Этот эпизод, пишет
Энгельс, составил «кульминационный пункт всей Крестьянской войны... Само
собой понятно, что эта часть плебеев должна была быстрее всего потерпеть по-
ражение, что в то же время ее движение должно было носить преимущественно
фантастический отпечаток и что способ, каким она выражала свои требования,
должен был отличаться очень большой неопределенностью, ибо именно она ме-
нее всего имела твердую почву в тогдашних общественных отношениях» '.
Да, и все же борьба Мюнцера и его последователей —«кульминационный
пункт» восстания. Энгельс властно «отодвигает» в сторону Мартина Лютера,
предавшего интересы восставших крестьян и плебеев, и делает подлинным ге-
роем немецкой Реформации Мюнцера.
Революционный гуманизм Мюнцера, даже и выраженный в неизбежно уто-
пических идеях, поднимается над всей разноголосицей мнений и концепций,
выдвигаемых немецкими общественными деятелями этой эпохи.
Энгельс блестяще продемонстрировал всю сложность того нового идеоло-
гического процесса, который протекал в Европе в эпоху Возрождения, дал ключ
к пониманию всей трагедии немецкой культуры XVI в., быстро развивавшейся
до 1525 г. и обреченной на спад после поражения крестьянства и других пере-
довых сил немецкого общества.
На примере исторического, политического и идеологического анализа собы-
тий Крестьянской войны 1525 г. он показал, что в этом процессе выявились не
только развитые антифеодальные, но и зарождающиеся антибуржуазные тен-
денции, и этим сразу поставил под вопрос господствовавшую тогда, а в ряде
работ заявляемую нередко и сейчас точку зрения, согласно которой именно
буржуазия была главной, ведущей силой общественной борьбы и в культурном
процессе эпохи Возрождения. Наоборот, детальный анализ событий 1525 г. по-
зволил Энгельсу вскрыть предательскую роль бюргерства по отношению к на-
родным массам, готовность его пойти на сговор с врагами народа.
Вместе с тем на примере крестьянского восстания в Германии Энгельс по-
казал, что главной сущностью эпохи, о которой он писал, оставалась борьба
против феодализма и всех его порождений. Но только Мюнцер и его сподвиж-
ники в этой борьбе были по-настоящему последовательны и принципиальны.
Такова была живая и сложная динамика эпохи Реформации, или эпохи
Возрождения, о которой писал Энгельс. Открытие законов этой динамики было
одним из великих завоеваний марксистской исторической мысли, весьма по-
учительным для исторических условий XIX в.
Наблюдение Энгельса за сложностью происходящих социальных процессов,
в ходе которых распадалось старое феодальное общество и рождалась новая
культура, было подтверждено им через несколько лет в письме к Ф. Лассалю по
поводу его трагедии «Франц фон Зиккинген» (письмо от 18 мая 1859 г.). Ди-
намическая социальная среда, характерная для эпохи Возрождения как в Гер-
мании, так и в других странах Западной Европы, названа в этом письме кры-
латым эпитетом «фальстафовский фон». Энгельс любуется им у Шекспира
и советует Лассалю не пренебрегать этим фоном, ибо по существу именно в нем
1 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии//Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 356
11
и заключается один из самых важных художественных секретов шекспиров-
ского реализма. Сам Энгельс блестяще показал этот «фальстафовский фон»
немецкой крестьянской войны в своей книге 1850 г.
Самая развернутая группа высказываний Энгельса о проблематике Воз-
рождения содержится в «Диалектике природы», работа над которой затянулась
на целое десятилетие и охватила обширный материал по истории науки. Эн-
гельс подошел к характеристике эпохи Возрождения прежде всего как новой
эпохи в истории науки, дав при этом сжатую, но замечательную как в научном,
так и в художественном отношении картину Возрождения, начиная с поста-
новки вопроса о самом названии этой эпохи. Показав ограниченность таких
существующих определений этой эпохи, как «Ренессанс», «Реформация»,
«Чинквеченто», Энгельс именно здесь и дает общее определение эпохи как ве-
личайшего прогрессивного переворота из всех пережитых до того времени
человечеством К
Несомненно, за столь долгий срок взгляды Энгельса на Возрождение пре-
терпели определенную эволюцию. От характеристики одного из явлений куль-
туры Возрождения — немецких народных книг, характеристики свежей и глу-
бокой, но еще стоящей особняком, Энгельс поднялся до исчерпывающей кар-
тины немецкого идеологического процесса XVI в. в работе о Крестьянской войне
1525 г. В ней ясно ощутимы результаты перехода от позиций революционного
демократизма, которые занимал юный Энгельс, к позициям научного социа-
лизма.
Концепцию Возрождения, развернутую в «Диалектике природы», отделяет
от монографии о Крестьянской войне не одно десятилетие. Это были годы на-
учного роста самого Энгельса и годы работы его над изданием «Капитала», где
прослежена вся история капитализма в главнейших его фазах, в том числе и
в фазе первоначального накопления. Несомненно, опыт работы Маркса в целом
и особенно опыт его работы над «Капиталом» оказали мощное воздействие на
развитие научных представлений Энгельса, и это отразилось в той великолеп-
ной и разносторонней формуле Возрождения, которая дана им в «Диалектике
природы».
Советские общественные науки — философия, история, искусствоведение,
история литературы, бережно относясь к наследию Энгельса и опираясь на не-
го, использовали учение Энгельса как методологическую основу для целого ря-
да своих работ, так или иначе затрагивающих проблему истории и культуры
этой эпохи.
Советская наука усвоила взгляд Энгельса на эпоху Возрождения как на
великий прогрессивный переворот. На этой идее зиждется оценка данной эпохи
в основных работах по истории различных видов искусства, появившихся
в СССР начиная с 20-х годов — с тех пор, как в 1925 г. в русском издании стала
известна «Диалектика природы».
Когда Энгельс вырабатывал свою концепцию эпохи Возрождения, уже су-
ществовал ряд теорий Возрождения, созданных буржуазными учеными. В кни-
гах Я. Буркхардта, особенно в известной монографии «Культура Ренессанса
в Италии» (1860), было талантливо развито представление о культуре Воз-
рождения как о результате деятельности плеяды замечательных личностей.
Буркхардт выдвигает на первый план в истории Возрождения прославленных
кондотьеров и политиков Висконти, семью Сфорца, Лодовико Моро и т. д.
В этой теории нашел свое выражение воинствующий индивидуализм, охваты-
вавший западноевропейскую науку и искусство в те годы. Именно эти, по сути
зловещие фигуры душителей коммунальных свобод, предателей национальных
интересов итальянского народа были для Буркхардта героями Ренессанса, на-
1 См.: Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.
12
иболее яркими его выразителями, создателями ренессансных государств и их
культуры.
На другой лад миф Буркхардта был повторен Л. Гейгером в его работах
о немецкой Реформации, только Гейгер называет своих героев — Рейхлина,
Лютера, Меланхтона. На первый план в работах Гейгера выдвинут вопрос
о церковной борьбе XVI в. Сущность Реформации для него заключается
в столкновении католической и евангелистской доктрин. В этом же русле, сводя
историю эпохи к борьбе религиозных концепций, пишет В. Любке свои книги
«История Ренессанса во Франции» и «История Ренессанса в Германии».
Другую концепцию — чисто эстетическую — положил в основу своей книги
«Возрождение классической древности» Фойгт: для него Возрождение есть
именно и буквально возрождение античной древности в интересах и деяниях
людей XV — XVI вв.
Учитывая эти концепции и отбрасывая их, Энгельс утверждает, что ни одно
из ходовых определений конца XIX в.— ни Ренессанс, т. е. буквально «Воз-
рождение», ни Реформация, ни определения чисто хронологические — не охва-
тывает сущности эпохи. «Это был величайший прогрессивный переворот из всех
пережитых до того времени человечеством...» 1 Однако, дав это общее опреде-
ление, Энгельс подчеркнул необходимость учитывать национально-специфи-
ческие условия, в которых проходил переворот в разных странах Европы. Это
было учтено нашими исследователями как в общих работах, так и в книгах по
истории отдельных западноевропейских литератур (см. истории английской,
французской и немецкой литератур, изданные АН СССР).
Из анализа общих изменений, происходящих в структуре западноевропей-
ского общества, проведенного Энгельсом в указанной работе, вытекает важное
для нас утверждение Энгельса о том, что переворот, происходивший в Европе,
был процессом, в котором формировались современные европейские нации
и возникала «новая, первая современная литература». Но изучение условий
формирования этой новой литературы открыло перед нами картину возникаю-
щих классовых противоречий, широко отражающихся в этой литературе.
Прежде всего в нашей науке отмечался антагонизм между литературой фео-
дальной и гуманистической, возникающей на основе прогрессивной роли бур-
жуазии. По мере исследования конкретно-исторических форм развития лите-
ратур XVI в. была рассмотрена проблема не только антифеодальных, но и ан-
тибуржуазных тенденций в передовом искусстве великого переворота. Пусть
эти антибуржуазные тенденции выступают в неразвитом виде, в форме народ-
ной критики разных видов сословности, стяжательства, ростовщичества, обма-
на, но за ними стоит великий демократический фактор эпохи, могучие народные
движения, в ходе которых раскрывались не только антифеодальные, но и анти-
буржуазные утопические чаяния масс. Они и есть подлинный источник народ-
ности Шекспира, Сервантеса, Рабле, Дюрера, Веласкеса, не только обостряю-
щий критическую направленность их творчества, но и оживляющий их произ-
ведения дыханием народной утопии — будь это видение вольной жизни в шер-
вудском лесу Шекспира или мираж золотого века у Сервантеса.
Постановка проблемы влияния (прямого или косвенного) коммунистических
наивно-утопических чаяний народных масс и на мировоззрение великих худож-
ников XVI — XVII вв. вызывала и вызывает возражения со стороны некоторых
ученых. Однако и анализ идеологии революционных крестьянско-плебейских
масс в «Крестьянской войне», и обобщенная образная характеристика выступ-
лений народных масс в «Диалектике природы», где названы «предшественники
современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием об-
щности имущества на устах» 2, подчеркивают значение этой проблемы в целом
1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 345.
13
и указывают на необходимость дальнейших исследований в этом направлении.
Энгельс не раз говорит о незрелости наивно-уравнительных тенденций XVI —
XVII вв., об их несоответствии экономическому состоянию общества, но видит
в их носителях наиболее революционных и последовательных выразителей на-
родных чаяний, способных в пределах исторической возможности совершить
акции последовательно-революционного характера, как это явствует из анали-
за движущих сил Крестьянской войны в монографии, посвященной этому со-
бытию.
Мысли Энгельса о сложности и противоречиях динамики развития идеоло-
гического процесса в XVI в. требуют от нас более глубокого анализа проблемы
гуманизма. Из характеристик деятелей эпохи «величайшего переворота» и
в «Крестьянской войне», и в «Диалектике природы» видно, что для Энгельса
гуманисты этого времени были совсем не тем единым потоком мудрецов и ге-
донистических радетелей о человеческом благе, какими они выглядят в некото-
рых наших работах. Энгельс противопоставляет гуманистам XVI в. Мюнцера,
подлинного вожака народных масс, носителя революционного гуманизма своего
времени. В «Диалектике природы» «кабинетным ученым» («людям второго
и третьего ранга», или «благоразумным филистерам», «не желающим обжечь
себе пальцы») противопоставлены подлинные герои того времени, живущие
в «гуще интересов своей эпохи», «способные бороться за свои идеи «и пером,
и мечом»,— те, кого принято называть титанами Возрождения. Эти подлинные
подвижники науки и искусства и подлинные герои эпохи в работах Энгельса,
как и в истории, объективно противостоят и тем «сильным личностям», в кото-
рых воплощалось Возрождение для Буркхардта или Фойгта.
В освещении Энгельса исторические пределы переворота очень широки. Хо-
тя он не раз указывает на середину XV в. как на дату начала Ренессанса, тем не
менее в известном высказывании о Данте ранний этап или приближение этого
переворота отодвигается до конца XIII в. Важно изучить и понять этот ранний
этап, именуемый в наших работах предренессансом, а в некоторых — проторе-
нессансом. В свете работ Энгельса проблема перехода от средневековой куль-
туры к культуре, возникающей в ходе переворота, приобретает большое мето-
дологическое значение.
Действительно, анализ различных литератур Западной Европы дает осно-
вания для того, чтобы говорить об очень длительном этапе подготовки перево-
рота. Его предпосылки складываются в Италии на исходе XIII в., во Франции
и Германии — во второй половине XVb., а в Англии, наметившись в ряде явле-
ний XIV столетия, переживают упадок в XV в., чтобы в полной мере сказаться
только в XVI столетии, как и в Испании. Более четкой является граница, опре-
деляющая собой тот момент, когда передовые силы, приведя к ряду революци-
онных изменений в Западной Европе, встречают нарастающий отпор сил реак-
ции, которым удается в силу ряда экономических обстоятельств в некоторых
странах, например в Италии и Германии, замедлить ход поступательного раз-
вития истории. Эта грань — XVII век.
Таким образом, на основании многочисленных работ советских ученых
можно утверждать, что если культура, отражающая этот великий процесс, на-
чинает формироваться в Италии самое раннее на рубеже XIII и XIV вв., то ее
кризис повсеместно наступает в начале XVII столетия. Собственно говоря, на-
ибольшие достижения западноевропейской культуры эпохи Возрождения от-
носятся, таким образом, к трем векам — XIV, XV, XVI — и началу XVII в.
Принципиальное значение для нас имеет и то замечание Энгельса, что су-
щественной особенностью рассматриваемого периода является «выработка
своеобразного общего мировоззрения» '. Как видно, речь идет не об общности
воззрений, а о новом уровне мировоззрения, доступном при состоянии науки,
1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 348.
14
сложившемся в результате переворота. Но разумеется, это своеобразное общее
мировоззрение, которое включало в себя ряд естественноисторических,
общественных и эстетических концепций, развивалось по отношению к самому
перевороту в сложных аспектах, иногда в различных странах Европы обгоняя
события в области экономики и общественной жизни, иногда строго соответст-
вуя им. Особенно существенным моментом открытия и «прозрения» в данном
случае обладало искусство — как словесное, так и изобразительное,— отра-
жавшее рождение нового общества и нового сознания во всей сложности этого
процесса. Анализ немецкой идеологии начала XVI в. в монографии Энгельса
о Крестьянской войне 1525 г. позволяет показать, насколько сложным и разно-
сторонним был этот процесс выработки нового мировоззрения, насколько не-
обходимо конкретно-историческое его изучение в каждом отдельном случае,
когда речь идет о решении той или иной историко-литературной проблемы.
Большой интерес представляет и освещение проблем культуры эпохи вели-
кого переворота в работе «Развитие социализма от утопии к науке». В этой
книге Энгельс уделил особое внимание тем теориям, созданным в эпоху Воз-
рождения, которые выразили утопические наивно-коммунистические искания
народных масс XVI в., в частности учение анабаптистов и Т. Мора. Энгельс ви-
дит в утопистах-коммунистах эпохи Возрождения предшественников научного
социализма XIX в. Это наблюдение Энгельса, поддержанное В. И. Лениным,
проявлявшим большой интерес к Т. Мору, обязывает нас с особым вниманием
изучить утопические идеи Возрождения и их значение для общего развития
культуры эпохи великого переворота. Именно они придают такую силу гума-
нистическим идеям этих писателей. Культура Возрождения в странах романо-
германского региона богата прямыми и косвенными проявлениями этих идей;
в них, очевидно, содержится одна из важнейших черт культуры этих стран
в период великого переворота.
В искусстве, порожденном великим переворотом, Ф. Энгельс подчеркивает
не только то, что оно возобновило преемственную связь с античностью, выра-
зило чувства и мысли титанов Возрождения, но прежде всего то, что возникла
«новая, первая современная литература» '. Современная в том смысле, что она
сохраняла свое живое эстетическое значение не только до той эпохи, когда пи-
салось произведение Энгельса, но сохраняет его и в наше время, являясь одним
из самых ценных и жизненно необходимых пластов культурного наследия.
Современная в том смысле, что в ней закладывались основы реалистического
искусства, которые неустанно развиваются и трансформируются вплоть до
эпохи Маркса и Энгельса, вплоть до наших дней.
При этом, мне кажется, надо учитывать не просто сумму явлений, входящих
в понятие «новой современной литературы», но иметь в виду именно те из них,
в которых их сущность — сущность ренессансного реализма — выразилась
с наибольшей силой. Едва ли возможен спор о том, что такими сконцентриро-
ванными явлениями, в которых воплотилась суть и результаты всех культурных
завоеваний великого переворота, были Шекспир и Сервантес, которых Белин-
ский считал создателями новой европейской литературы.
Являясь ярчайшим выражением формирующегося национального характера
своих народов, отражая прежде всего их чаяния и противоречия, их развитие,
оба эти художника, однако, воплотили в своем реалистическом искусстве
и идею синтеза национальных культур ренессансной Европы, стран, пережив-
ших великий переворот. Оба они, пролагая путь вперед, основывались на опыте
итальянской, французской, немецкой культуры этого времени, синтезировали
его, были провозвестниками того явления, которое может быть названо евро-
пейской культурой в целом. Синтез творческого опыта литератур Европы, про-
явившийся в искусстве Шекспира и Сервантеса, стал возможен только на
1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.
15
основе того результата «величайшего переворота» в культуре западноевропей-
ского региона, который охарактеризован Энгельсом следующими словами:
«...вся Западная и Центральная Европа, включая сюда и Польшу, развивалась
теперь во взаимной связи...» 1 Эта «взаимная связь»— одна из примет «новой,
современной литературы»— была достигнута только вследствие происходив-
шего «величайшего переворота», как это видно из всей работы Энгельса.
Я полагаю, что «новой, современной литературой» искусство великого пе-
реворота было названо Энгельсом в силу новых взглядов на общество и чело-
века, которые запечатлены в теориях этих писателей. В чем, кратко, заключа-
лись эти новые взгляды? В том, что и Шекспир и Сервантес не только показали
общество в движении, изменении (это было и у других, более ранних поэтов),
но объективно раскрыли саму динамику общества как переход от одного типа
социальных несправедливостей — феодального — к другому, со временем на-
званному буржуазным, капиталистическим.
Конечно, ни Шекспир, ни Сервантес не могли дать развернутую картину
этого нового типа социальных несправедливостей, но проявлением гения с их
стороны было и то, что они смогли подняться над более распространенным
в среде ученых людей того времени мнением об абсолютности прогресса, до-
стигаемого человечеством за счет свержения феодального строя и его институ-
тов. Критическая, объективная, реалистическая позиция Шекспира и Серван-
теса была отражением сложности того великого переворота, в котором высту-
пали как действующая сила обездоленные народные массы, одерживающие
победу над феодальным строем, и на следующий день после нее — обманутые
теми сословиями, из которых формировалась европейская буржуазия. Это
можно назвать народной точкой зрения Шекспира и Сервантеса на сущность
проходившего на их глазах процесса, и не случайно полное понимание и триумф
этих писателей в мировом масштабе пришли позже, когда их «прозрения» ока-
зались не просто трагическими пророчествами, а предвидением, подтвержден-
ным самой историей.
Диалектике общественных процессов, гениально открытой в их искусстве,
соответствовало и другое великое открытие — диалектика души, открывающа-
яся в их произведениях, новое и современное искусство изображения человека,
а также диалектика соотношения человека и общества, общественная обус-
ловленность характера начиная с его социальных особенностей и кончая инди-
видуальными, неповторимо субъективными чертами, которые делают Шейлока
не только скупым, но и остроумным и чадолюбивым.
Реалистическое искусство XIX в. действительно видело в этих гениях своих
родоначальников и учителей, и в этом смысле они были представителями новой,
современной литературы. Ученый историзм многих писателей XIX в. еще не
поднимался до уровня стихийного историзма Шекспира, на что указал Энгельс
Лассалю, советуя учиться у Шекспира изображению динамики истории. Со-
ветских писателей — представителей социалистического реализма — учиться
драматическому мастерству у Шекспира призывал Горький.
Таковы были результаты великого переворота, такова была новая литера-
тура, вызванная им к жизни в западноевропейском регионе.
Можно ли сказать это о великих писателях других регионов, которых в на-
ши дни тоже называют художниками Возрождения применительно к их стра-
нам — о лирике Бо Цзюй И, поэзии Рудаки и Омара Хайяма, даже о Навои
и Низами? Было ли их творчество тоже «новой, современной литературой»,
у которой могут и должны учиться мастера социалистического реализма, изоб-
ражая наше время и наших современников, как советовал Горький, «примени-
тельно к Шекспиру»? Может ли быть общее определение «Ренессанс» перене-
сено на эти другие регионы и другие эпохи? Могут ли быть отождествлены жи-
1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Мар/сс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 501.
16
вые формы итальянской, немецкой, испанской, французской и английской ли-
тератур— и шире—литератур романо-германской зоны с формами, склады-
вающимися в других регионах в то же или другое время, в более или менее
сходных условиях?
При всей моей убежденности в существовании общих закономерностей раз-
вития литературного мирового процесса, при всей вере в результативность
и необходимость изучения литератур мира в духе конкретно-исторического
сравнения (я умышленно избегаю термина «сравнительно-историческое изуче-
ние», так как считаю его изжившим себя и сейчас уже не выражающим целей
наиболее ценных наших исследований такого рода) на этот вопрос я должен
ответить отрицательно.
В наши дни, как и сто лет назад, в мировой науке бытуют различные трак-
товки понятия культуры Возрождения: кто видит в ней позднюю жатву, вырос-
шую из посева, взращенного руками мастеров средневековой культуры, кто
осуждает бунтарство великих ренессансных вольнодумцев и ставит им в пример
коварного Аквината, чьи идеи оживают в современном неотомизме, кто ото-
ждествляет ее с культурой патрициев и вельмож-меценатов, кто недооценивает
ее гуманистические тенденции и сводит все к некоему празднику раскрепощен-
ной плоти. Споры идут, и уже их наличие говорит о жизненности и значении
этой проблемы. С уверенностью можно сказать, что искусство социалисти-
ческого реализма в сонетах Бехера и в драматургии Брехта, обращаясь к тра-
дициям Возрождения, вбирает самое ценное, что в них есть, и в их героях видит
людей, близких нам. Невольно приходят на ум слова Энгельса о предшествен-
никах нынешнего «пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием
общности имущества на устах». Эта историческая движущая сила переворота
и была решающей в великих исторических битвах. Разве она не роднит нас
с эпохой «величайшего переворота» и его культурой, разве не ее влияние про-
является в лучших произведениях искусства, созданных ею?
Наследие Ф. Энгельса служит нам верным и неоценимым руководством
в дальнейшем изучении искусства и культуры эпохи Возрождения.
1972
«ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ»
И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО АНАЛИЗА
«Песнь о Роланде»— древнейший памятник французского героического
эпоса, дошедший до нас в относительно законченном виде. Известны девять
различных списков «Песни», из которых наиболее древним и законченным яв-
ляется так называемый Оксфордский список, именуемый так по месту, где он
был найден (Оксфордская библиотека).
Оксфордская рукопись, считающаяся наиболее полной — сплошной стихо-
творный текст, не разбитый на отдельные главы, состоящий из 289 неточных
строф, так называемых лэсс, или тирад. Число стихов в строфе неодинаковое —
от 7 до 17 и больше. Общее число стихов 4002. Стихи соединены ассонансами.
В конце большинства строф стоит восклицание «аой», значение которого до сих
пор не выяснено, быть может, это рефрен, а быть может — сокращенное обо-
значение музыкального мотива, исполнявшегося в качестве аккомпанемента
к «Песни». По иному толкованию, восклицание «аой»— испорченное или диа-
лектологическое слово, переводимое как «вперед».
Видимо, этот текст «Песни» был записан около 1170 г. К этому времени
«Песнь» существовала уже как художественное произведение, оформившееся
и в устной передаче и письменно. Но каким именно было это произведение, что
17
в нем существовало до текста 1170 г. и что возникло в этом тексте впервые —
установить невозможно.
То, что текст был записан в Англии, объясняется известным фактом: языком
англо-нормандского придворного общества XII в. был язык старофранцузский,
и многие произведения французской литературы для этого общества были
родными и понятными. Вернее, англо-нормандская придворная литература
в XII в. просто не ощущалась как литература нефранцузская: и кругом своих
тем и стилем она составляла общий фон средневековой французской культуры.
Эта культура существовала на огромном (для сознания средневекового чело-
века). пространстве— от Прованса до Лондона, от Бретани до Лотарингии.
Установить точную дату создания «Песни о Роланде» еще невозможно.
Именно в этой области мнения специалистов особенно разноречивы. В основ-
ном выдвигаются три приблизительные даты возникновения «Песни о Ролан-
де»— либо IX в., эпоха Каролингов, к которой относится событие, описанное
в «Песни», либо начало XII в., когда тема «Песни» — борьба против сарацин —
могла ожить в связи с развертывавшимися крестовыми походами, либо собст-
венно XI в., когда французские рыцари приняли деятельное участие в борьбе за
очищение Пиренейского полуострова от завоевателей-мавров.
Древнейшее упоминание о песни, восхваляющей Роланда, встречаем в анг-
лийской хронике XII в. «Деяния английских королей». В этой хронике указано,
что в день исторического сражения при Гастингсе (1066), в котором англосаксы
были разбиты герцогом Нормандским — Вильгельмом Завоевателем, норман-
дские воины пели какую-то песнь о Роланде, «дабы воинственный пример сего
мужа распалил бойцов». Англо-нормандский поэт Васе сохранил даже имя ле-
гендарного менестреля — рыцаря Тайлефера, который, распевая «Песнь о Ро-
ланде», скакал во главе нормандской конницы, примером своим и песней по-
буждая товарищей к мужеству.
Очевидно, «Песнь» бытовала в рыцарской среде задолго до 1170 г., когда
она была записана или когда на основе ее было создано некое совершенно но-
вое, художественно самостоятельное произведение. Надо полагать, что народ-
ные сказания о Роланде — племяннике Карла Великого — были в какой-то
степени собраны и обработаны неизвестным автором. Очевидно, оставшийся
неизвестным воин или клирик (вернее, воин) XII столетия записал и сюжетно
организовал материал, известный ему ранее, и обогатил его ярким опытом
своей жизни или тем, что он слыхал в своей среде о крестовых походах на
Восток и об экспедициях против испанских мавров.
«Песнь» оканчивается упоминанием о некоем Турольдусе: но был ли он ав-
тором поэмы, неясно, так как смысл этой последней строки не расшифрован
окончательно.
Конечно, за время своего долгого существования в качестве устного преда-
ния «Песнь» не могла не измениться. Важно усвоить, что между приблизитель-
ной датрй ее записи или создания (XII в.) и годом события, изображенного
в «Песни» (778), лежат четыре столетия, сильно изменившие весь облик сред-
невековой Европы.
Какое же событие легло в основу «Песни»?
В 778 г. войско императора Карла, прозванного Великим, возвращалось
после своего набега на Испанию. Путь франков лежал через Пиренейские
ущелья. Ночью арьергард и обоз Карла подверглись неожиданному нападению
басков — народа, через земли которого прошел опустошительный путь отсту-
павшего франкского войска. В этой ночной стычке был убит Хруодланд, на-
чальник Бретонской марки (пограничной полосы, отделявшей Францию от по-
луострова Бретань).
Ни до, ни после этого сообщения мы ничего не знаем о Хруодланде, погиб-
шем в ночном бою в Пиренеях. Узнаем мы о нем только тогда, когда Хруодланд
18
станет легендарным графом бретонским Роландом, героем целого ряда сказа-
ний и песен европейских народов.
Действительные исторические условия, в которых совершался поход 778 г.
в Испанию, были забыты. В «Песни» на франкское войско нападают не баски,
а сарацины (или мавры, или язычники, как их называет «Песнь»); погибают не
лица, павшие вместе с Хруодландом (королевский стольник Эггпхард и граф
Ансельм), а действующие лица распространенных во Франции героических
преданий, сложившихся в последующие века — после 778 г.
Да и обычаи, и быт, и обстановка, описанные в «Песни», уже совсем не по-
хожи на эпоху Каролингов. Они во многом отражают действительность XI —
XII вв. Однако наряду с этим много важных особенностей «Песни» говорит о ее
древности. Например, в годы, когда была записана «Песнь», Франция уже
давно не только не входила в состав империи, созданной Карлом Великим, но
была конгломератом отдельных феодальных организмов, а номинально назы-
валась королевством.
В северной Франции XI — XII вв. бушевали феодальные усобицы, раскро-
шившие страну на целый ряд отдельных самостоятельных и полусамостоятель-
ных провинций. Резиденцией французского короля в то время уже определенно
становился Париж, о котором в «Песни» нет ни слова.
Ничего этого мы не найдем в «Песни». Взаимоотношения ее героев отража-
ют эпоху XI —XII вв., а ее исторический фон — яркое воспоминание о прош-
лом, живущее в народной памяти.
Франция — часть империи, столица ее — Ахен; в войске Карла целый де-
сяток европейских народностей; за Карлом идут сыны всей Западной Европы,
выступившие против язычников-сарацин из Испании и Италии, стремившихся
распространиться по землям Западной Европы.
Но нельзя думать, что этот любопытный анахронизм — люди XII в., дей-
ствующие на фоне VIII в.,— был выдержан и осознан безымянным творцом или
хранителем «Песни». Нет, рядом с чертами эпохи Карла мы встречаем мно-
жество новшеств, внесенных в «Песнь» эпохой крестовых походов. Это особен-
но заметно в описании народов, входящих в рать Марсилия и Балиганта.
Перечисление этих народностей, как и европейских народностей в войске
Карла, звучит явным отголоском многочисленных хроник, повествующих
о крестовых походах. Хроники эти, возникавшие в изобилии в европейских
странах под свежим (и неоднократно повторявшимся) впечатлением от
крестовых походов, иногда составлялись очевидцами (на свидетельства кото-
рых, впрочем, не стоит особенно полагаться), а иногда и людьми, не участво-
вавшими в походах, но вдохновленными рассказами и баснями о них.
Перечисление фантастических народностей, входящих в сарацинское вой-
ско, и вымышленная огромная его численность, характерны для этих хроник
(например, хроника Альберта Ахенского).
Очевидно, такое соединение живых вопросов современности с памятью
о героическом, великолепном прошлом не было случайностью. Нечто подобное
мы найдем в русском устном героическом эпосе — в былинах, где киевские бо-
гатыри, исторически возможные защитники Руси против печенегов, хазар
и половцев, были пересмотрены народом и изображены как борцы против но-
вого врага — монголо-татарских завоевателей.
Так и «Песнь о Роланде» опирается на память о героическом прошлом как
на исторический опыт, обнадеживающий и подбодряющий в трудную пору. Так
мужество Роланда подбодрило, по преданию, воинов Вильгельма Завоевателя
и заставило их храбро сражаться в день битвы при Гастингсе, который явился
первым днем истории Англии,— уже не земли семи королей, а зарождавшейся
великой страны. Пусть эта память стала сказкой о справедливом императоре
Карле, о котором мечталось средневековому человеку, о племяннике императо-
ра — витязе Роланде, но сказка жила и горячо волновала сердца теми силь-
19
ными и разнообразными чувствами, которые были в ней выражены. Присмот-
римся к этим чувствам, т. е. к содержанию «Песни».
Содержанию «Песни» не везло у исследователей. Обращая внимание на
многие ценнейшие и интереснейшие детали, они подчас забывали о самой
простой, но от этого не менее важной, стороне «Песни»— о ее сюжетном со-
держании, о мотивировке поступков действующих лиц.
Небрежность к этой мотивировке, прямо указанной в «Песни», давала
иногда поразительные эффекты. Крупнейший русский ученый Ф. И. Буслаев,
пересказывая сюжет «Песни» в своей статье «Песнь о Роланде», прямо говорит:
«...Наконец, недоумение, кого бы послать — решает Роланд, указывая на Га-
нелона, и Карл соглашается. Ганелон за это почему-то приходит в ярость про-
тив Роланда» '.
Это «почему-то» звучит очень естественно, но «Песнь» дает полное объяс-
нение, почему именно. Так как причина ярости Ганелона (Гуенелона) против
Роланда — важнейшая пружина сюжета «Песни», то придется обратиться
именно к сюжету, чтобы вспомнить детали взаимоотношений отчима и пасын-
ка — Гуенелона и Роланда.
Император Карл завоевал почти всю Испанию. Только город Сарагоса, где
правит царь Марсилий, избежал общей участи. Марсилий решил заключить
обманный мир с Карлом, задарить его и умиротворить, чтобы спасти свое госу-
дарство. Он отправляет к Карлу послов, униженно просящих мира.
Когда в лагере Карла обсуждают предложения Марсилия, разгорается
жаркий спор: граф Роланд, храбрейший витязь Карла, выступает против мир-
ных переговоров и требует похода на Сарагосу. Роланд напоминает, что Мар-
силий уже раз обманул франков и убил двух франкских послов. Роланду резко
и оскорбительно противоречит его отчим Гуенелон, сторонник мирных перего-
воров, обзывая Роланда «хвастуном и глупцом».
Карл решил принять предложения Марсилия. Нужно найти среди франк-
ских рыцарей нового посла, который не побоялся бы поехать туда, где уже по-
гибли его товарищи. Бароны Карла — старый Найм, архиепископ Турпин, Ро-
ланд, перебивая друг друга, просят оказать им эту честь. Но Карл отвергает их
требования и просит выбрать кого-нибудь из своей среды.
Роланд запомнил оскорбление, нанесенное ему Гуенелоном («хвастун, глу-
пец»). Видя, что Гуенелон не решается просить для себя опасного посольского
поручения, Роланд сам указывает на него, как на подходящего человека.
Взбешенный Гуенелон не может не принять такой вызов, но при императоре
и всех собравшихся он объявляет Роланду вражду. Здесь в «Песни» отразился
древний обычай, дошедший до европейского средневековья от нравов древне-
германского общества: после объявления вражды рассорившиеся стороны
считали себя врагами и должны были ожидать друг от друга любого враждеб-
ного поступка.
Разгневанный и озабоченный опасным поручением Гуенелон покидает Кар-
ла. Дружина Гуенелона заживо оплакивает его. Из этого ясно, что средневе-
ковый автор и его читатель, или слушатель, совершенно реально видели смер-
тельную опасность, грозившую Гуенелону. В дороге посол Марсилия Бланкан-
дрин подбивает Гуенелона на предательство, позднее окончательно скрепленное
договором в Сарагосе. Однако и здесь автор дважды ставит Гуенелона перед
лицом смерти: в первый раз царь Марсилий замахивается на него дротиком, во
второй раз сарацинский царевич бросается на него с обнаженным мечом. Еще
раз слушатели и читатели убеждаются в реальной опасности поездки Гуе-
нелона.
Вернувшись к Карлу, Гуенелон настаивает на том, чтобы с арьергардом
остался именно Роланд. Уже в этом Роланд видит ответный злой умысел отчи-
1 Сборник Отд. русск. языка и словесности Акад. наук. Спб., 1887. Т. 42. С. 290.
20
ма, начинающего приводить в исполнение свой план мести. Как известно, план
удался — Роланд убит; но затем разгромлена Сарагоса и жестоко наказаны
сарацины. В Ахене начинается суд над Гуенелоном. В этом случае коммента-
торы и пересказчики тоже небрежно обходились с текстом поэмы. Тот же Ф. И.
Буслаев излагает суд так: после защитительной речи Гуенелона, объявившего,
что он мстил Роланду, но не предавал императора, «подумавши, судьи пред-
стали перед Карлом и говорили: «Государь, мы просим, чтобы вы освободили
Гуенелона».
Но в «Песни» сцена суда изображена вовсе не так. Гуенелон действительно
не признает себя виновным в измене императору, а его защитительная речь до-
стойна того, чтобы быть воспроизведенной — настолько она отражает дух
непокорного феодала, пропитана местью за оскорбление:
Меня Роланд ненавидел издавна,
Послал меня на смерть и на расправу.
Ехать послом к царю Марсилью мавру.
Своим умом от смерти я избавлен.
Я объявил вражду Роланду явно,
Другу его и всем близким и равным,
То слышал Карл при всех баронах знатных,
Я только мстил, не предавал бесславно '.
Из-за оскорбленного самолюбия Гуенелона погибли двадцать тысяч воинов
Роланда и двенадцать лучших рыцарей Карла с Роландом во главе.
Но Гуенелон чувствует себя невиновным. Он явился на суд с многочислен-
ной родней, и его родич, рыцарь Пинабель, запугивает баронов, судящих Гуе-
нелона. Судьи, не желая вступать в кровавый спор с родней преступника, гото-
вы уступить ему. Они предлагают Карлу простить его.
Разгневан и опечален император Карл. Но вот к нему обращается анжуй-
ский рыцарь Тьедри, требуя казни Гуенелона, потому что он предал не только
Роланда. Он виноват и перед Карлом, так как Роланд, слуга Карла, по самому
положению своему должен быть охранен от посягательств раздраженного фео-
дального самолюбия.
Пускай Роланд пред Гуенелоном крив.
Но, вам служа, он этим был храним.
А Гуенелон, как подлец, изменил,
Клятву свою попрал и посрамил.
Тьедри не испугался родни Гуенелона, он вызвал на поединок («божий
суд») Пинабеля и убил его. Гуенелон, виновность которого доказана смертью
Пинабеля, казнен.
Таким образом, сюжет «Песни» построен в основном на двух темах: это
рассказ о борьбе против сарацин и рассказ о феодальной мести, в результате
которой был предательски убит герой Роланд, истребитель язычников и, так
сказать, богатырь земли западной. Надо ли говорить, что феодальная месть
резко и пространно, в подробностях, осуждена «Песнью»?
Обе эти темы были интересны и поучительны не только для феодалов, но
и для гораздо более широких слоев средневекового европейского общества.
Сюжет борьбы против сарацинского нашествия на европейскую землю был
весьма народен по своему историческому значению. В эпоху Каролингов сара-
цины были опасными врагами молодых европейских народов. Сарацинские за-
воеватели утвердились на Пиренейском полуострове, захватили Сицилию,
овладели цепью укрепленных пунктов на итальянском побережье, засели даже
в горном проходе через Альпы, связывающем Италию с Германией. Арабские
флотилии были постоянной угрозой не только для еще слабо развитой среди-
1 Цит. по кн.: Песнь о Роланде/Пер. Б. Ярхо. М.; Л.: Academia, 1934.
21
земноморской европейской торговли, но и для всего франко-итальянского по-
бережья, заплывая вплоть до берегов Англии. Поэтому борьба против сарацин
понималась как великое государственное и общенародное дело, обеспечивавшее
национальную независимость и нормальное развитие привычного националь-
ного уклада нарождавшегося французского народа.
Известно, что в этой борьбе французские феодалы оказывались нередко
изменниками и предательски помогали сарацинам, преследуя свои мелкие фео-
дальные интересы.
Дед Карла Великого — Карл Мартел (Молот), разгромивший сарацин
в 732 г. на юге Франции при Пуатье (кстати, победа эта была одержана в зна-
чительной степени благодаря участию пехоты, т. е. крестьянского ополчения),
сурово наказывал таких изменников.
В поэме франкского поэта Эрмольда Нигелла «Во славу Людовика импе-
ратора», посвященной походу Людовика I в Испанию в 800—801 гг., изображен
судебный поединок между двумя графами-христианами; причина поединка та,
что один граф обвинил другого в измене, совершенной во время похода.
Так к основной теме — борьбе против сарацинского нашествия — прибав-
ляется тема другая: предательство своевольника-феодала, ради своих интере-
сов губящего франкскую рать. Как видим, эта тема — тема предательства Гу-
енелона — весьма естественно вытекала из первой темы.
Тема феодальной мести, вредящей народному делу, и жестокого наказания
за нее, поставлена в «Песни» весьма резко: в процессе Гуенелона, пересказан-
ном очень подробно, немало интересных черт, порожденных именно условиями
XI — XII вв.
Опираясь на свою многочисленную родню (30 человек — по средневековым
понятиям целая дружина), Гуенелон просто запугивает баронов помельче,
и они, вопреки воле Карла, готовы сговориться с Гуенелоном. Это соперничест-
во крупного феодала с королевской властью было чрезвычайно характерным
для французской и англо-нормандской жизни XI — XII вв. Например, согласно
преданию XI в., некий граф Одеберт Перигорский на вопрос, заданный ему
братьями-королями Гуго и Робертом: «Кто тебя сделал графом?», ответил во-
просом: «А вас кто сделал королями?»
И дружина и, в особенности, народные массы хорошо знали страшные по-
следствия многолетней вражды короля и феодалов: вытаптываемые из года
в год поля, выжженные и ограбленные деревни и города, кишащие разбойни-
ками дороги, замки, ставшие гнездами феодальных банд, терроризировавших
страну.
Предатель Гуенелон, виновный не только перед Роландом, но и перед импе-
ратором, слугу которого он убил и интересам которого нанес ущерб, оказыва-
ется преступником вдвойне: слушатель не прощал ему смерти Роланда — на-
родного героя — и видел в нем знакомую фигуру феодала-своевольника, нагло
утверждающего свое кулачное право на месть и предательство.
Так остро и для XII в. актуально были развернуты две основные, тесно свя-
занные темы поэмы.
«Песнь о Роланде» относится к числу так называемых «chansons de geste»—
эпических поэм средневековой французской литературы. Некоторые общие сю-
жетные черты этих песен позволяют их делить на «королевские джесты» и «ба-
ронские джесты», т. е. джесты, воспевающие образ сюзерена, и джесты, по-
священные феодальным распрям (например, «Джеста о Рауле из Камбрэ»).
«Песнь о Роланде»— яркий пример «королевской джесты», в которой самый
принцип королевской власти торжествует над феодальной анархией, во-
площенной в образе Гуенелона и его родичей.
Композиционно сюжетный материал разбивался на четыре основных раз-
дела: 1) посольство Бланкандрина и предательство Гуенелона, 2) бой в Ронсе-
22
вале и смерть Роланда, 3) месть Карла, 4) судебный процесс и казнь Гуе-
нелона.
«Песнь» дает яркую и широкую картину эпохи. Мы видим императора —
верховного феодального монарха — на совете среди его баронов, где решаются
важные государственные дела. Подробно и разнообразно описаны военные
действия, дающие полное представление о феодальной войне XI—XII вв.,
изображена придворная жизнь, отражено состояние законов. Дворец, поле
битвы, лагерь — фон «Песни». Читая ее, мы детально знакомимся с одеждой,
обычаями и характером людей XI — XII столетий.
В самом деле, можно ли говорить о проблеме характера в «Песни»? Конеч-
но, характеры ее героев обрисованы только в общих чертах, далеки от реа-
листической многосторонности и законченности, но все же немало в них живых,
запоминающихся черт. Персонажи «Песни», во всяком случае основные, запо-
минаются именно как живые люди.
Герой «Песни»— граф бретонский Роланд, племянник Карла Великого.
«Песнь» скупа на краски в описании его внешности: о нем мы знаем только, что
он «весел лицом и красив станом». Зато его характер разработан подробнее.
Роланд всегда выступает в ореоле военной славы. Он — лучший из рыцарей
Карла; на совете баронов, при обсуждении перемирия с Марсилием, он требует
беспощадной войны до конца; когда перемирие решено, Роланд в числе первых
добивается опасного поручения быть послом у Марсилия. Он начинает бой,
и, описывая его подвиги, автор «Песни» не может сдержать своей воинственной
фантазии: враги падают десятками и сотнями.
Даже когда Роланд появляется в мирный час перед Карлом, то и в эту ми-
нуту он «в броне», и автор спешит сообщить, что «он только что Каркасову
разграбил». Даже умирая Роланд ложится лицом к стране врага — пусть зна-
ют все, что он умирает победителем и поле боя осталось за ним.
Но в этом идеальном воинском образе есть и отрицательные черты. Его
друг-побратим Оливьер, неразлучный товарищ, говорит ему: «Очень горяч
и горделив ваш норов». Все дальнейшее подтверждает слова Оливьера. Окру-
женный ратью, которая в пятнадцать раз сильнее его войска, Роланд мог бы
спасти и себя и своих воинов, если бы послушался Оливьера и затрубил в рог до
начала битвы: войско императора вернулось бы, чтобы разбить сарацинские
полчища. Но Роланд надменно отвергает предложение Оливьера: «в краю род-
ном постигнет нас хула»,— говорит он, объясняя, что считает трусостью про-
сить помощи.
Напрасно убеждает его благоразумный Оливьер, заклиная его жизнью
двадцати тысяч франков, обреченных легкомыслием вождя на неравный бой
и гибель: Роланд отказывается. Когда же он берется за рог, то делает это
слишком поздно: участь франков уже решена.
Да, но Роланд все-таки берется за рог, и это очень важно для «Песни». Она,
бесспорно, обвиняет Роланда в том, что он не попросил помощи вовремя.
Однако в «Песни» показано, что Роланд понимает свой поступок и горько ка-
ется в нем: «Франки падут, и я тому виною»— восклицает Роланд, и его даль-
нейшие слова глубоко раскрывают это трагическое чувство вины; «Коль не
убьют, от горя я изною».
Роланд уже не славы ищет и не бесславия боится, а ждет смерти, которая
искупила бы его вину перед павшими товарищами, заставила бы забыть о его
легкомыслии.
Чувство боевой дружбы крепко связывает Роланда с Оливьером и прочими
рыцарями. Когда Оливьер умирает от ран, Роланд «рыдает и крушится,— никто
вовек не знал такой кручины». «Коль умер ты, не жить мне на земле»,— стонет
Роланд, лишаясь чувств от горя. Когда сарацины бегут с поля сражения, на-
пуганные близящимся рокотом труб,— это Карл идет на помощь своим,— Ро-
ланд, шатаясь от тяжелых ран, стаскивает всех своих мертвых друзей к при-
23
горку, на котором умирает архиепископ Турпин, потому что стыдно бросить
убитых там, где сразил их враг.
Так же свято чтут дружбу и другие герои «Песни»— Оливьер и Турпин.
Умирающий Оливьер молится за Роланда, умирающий епископ Турпин стара-
ется помочь Роланду, лишившемуся чувств от горя и страданий.
Кроме храбрости и верности друзьям, автор подчеркивает в характере Ро-
ланда несокрушимую верность сеньору — императору Карлу. Племянник Кар-
ла и лучший рыцарь его рати, Роланд прежде всего — верный вассал, и свои
взгляды на обязанности вассала он образно высказывает в следующей строфе:
Должен вассал пострадать за сеньора,
Должен терпеть и тяжкий жар, и холод,
Должен терять и волосы, и кожу.
Смотрите все: пусть каждый бьет, как может,
Песни дурной пускай о нас не сложат.
Герой Роланд, верный друг и вассал, пламенно любит свою родину —
«сладкую Францию». Он умирает не только за своего сеньора, но и за Францию,
за «Большую Землю», на страже которой его поставил Карл.
Любовь к родине проходит красной нитью через всю «Песнь»: о «сладкой
Франции» молится умирающий Оливьер, бороться за нее призывает архие-
пископ Турпин, к ней рвутся усталые франки, покидая Испанию.
Кроме всех этих черт, подчеркнутых в Роланде самим автором, отметим еще
любопытные подробности, дорисовывающие его характер.
Роланд несдержан,— об этом нам уже сказал Оливьер. Эта несдержанность
особенно бросается в глаза в разговоре с Гуенелоном, после того как Роланду
навязана должность начальника арьергарда. Начав разговор вежливейшим
обращением, Роланд кончает его бешеным взрывом негодования: «Негодяй,
худородный мерзавец!»— кричит он отчиму. Однако, когда Оливьер называет
Гуенелона предателем, Роланд холодно останавливает Оливьера —«Изволь
молчать!.. Он — отчим мой: ни слова про него».
Таков образ Роланда, вырастающий в образ «богатыря франкской земли»:
когда гибнет Роланд, губительный смерч проносится над Францией, пугая лю-
дей. И автор спешит добавить:
Все говорят: «Последний день настал.
То страшный суд, скончание векам»,
Но это ложь: не с того — ураган;
То — злая скорбь, что должен пасть Роланд.
Природа скорбит, узнав о смерти Роланда:
Бушует вихрь среди французских стран,
Гроза и гром, и ветр, и ураган,
Молнии бьют и часто и подряд...
Это мощное выражение скорби по герою, это ощущение народной потери не
может не напомнить известное место из «Слова о полку Игореве».
Не таков Оливьер, друг-побратим Роланда. Конечно, образ Оливьера блед-
нее, чем образ Роланда, но и в нем немало самостоятельных, живых черт. Это
вдумчивый, осторожный и от того не менее храбрый воин, вождь с великолеп-
ным чувством ответственности за жизнь своих бойцов и за исход боя. Он раз-
гневан на Роланда за его легкомысленную самоуверенность истого феодала —
и силу гнева Оливьера автор дает почувствовать в том, что Оливьер отбирает
свое согласие на брак Роланда со своей сестрой Альдой. Когда Роланд все-таки
берется за рог, Оливьер горько упрекает друга. Его мудрые и горячие слова
ярко характеризуют его высокие воинские качества, его ум и верность сеньору,
его заботу о Франции:
24
Вы поступили худо.
Храбрость с умом — не блажь и безрассудство.
Дороже нам умеренность, чем глупость,
Франки падут за ваше неразумье;
Карл не узрит вовек от нас услуги.
Здесь ждет вас смерть, а Францию остуда.
Трогательная и суровая дружба Роланда и Оливьера выражена во многих
строках «Песни», но ярче всего воплощена она в сцене смерти Оливьера, уми-
рающего на руках у Роланда.
Третий соратник Роланда — архиепископ Турпин — представитель средне-
вековых церковников, взявшихся за оружие. Средневековые хроники знают
много аббатов и епископов, которые боевой палицей владели не хуже, чем ка-
дилом, и советскому читателю известна многовековая борьба русского народа
с целой организацией воинствующих церковников — с тевтонским орденом,
войско которого понесло в 1242 г. памятное поражение на Чудском озере.
Вот таким монахом-воином, свирепым и беспощадным, является и Турпин.
Автор «Песни» бесхитростно рассказывает о Турпине: держа ободряющую речь
к франкам, Турпин, пообещав им рай, заранее отпускает им грехи с условием:
«рубить сильней».
Останавливая дрогнувших под напором врага франков, Турпин обращается
к ним с пламенной проповедью воинской чести:
Богом молю, не думайте о бегстве,
Чтоб честный муж не спел вам студной песни.
Лучше падем мы все, сражаясь вместе.
Конечно, для автора «Песни» Турпин — положительный образ, Турпин —
авторитет. Его слушаются не только воины — он вовремя мирит Оливьера
и Роланда, вздумавших среди боя перекоряться о чести и обязанностях васса-
ла; Роланд обращается к нему с особой почтительностью.
Вместе с тем в образе Турпина проскальзывает черта грубоватости, неук-
люжего юмора. То, что он «в епитимью им дал: рубить сильней», звучало, ве-
роятно, для средневековой аудитории как шутка, вызывавшая искренний вос-
хищенный смех: вот епископ-вояка!
Церковный, христианский элемент поэмы, конечно, ярко выражен в образе
попа-воина Турпина. Этот образ так же правдиво воплощает особенности слу-
жителя католической церкви, как и оброненное вскользь свидетельство о том,
что воины Карла, взяв штурмом Сарагосу, разрушили «все мечети и синагоги»,
а жители Сарагосы —«либо убиты, либо крещены». Эта деталь отражает жи-
вую историческую действительность: взяв штурмом в 1099 г. «град христов»—
Иерусалим, крестоносцы устроили в нем многодневный кровавый погром, ко-
торого не избежало и христианское население города. Этот тип воина-попа мог
сложиться так ярко именно в эпоху крестовых походов, когда епископ-полко-
водец и монарх-рыцарь стали обычным явлением в европейской жизни: су-
ществовали воинские ордена в Палестине и Сирии (тамплиеры и иоанниты),
в Испании (св. Якова и Калатравы), в Прибалтике.
Стихия народного предания чувствуется более всего в образе старого импе-
ратора Карла. В «Песни» ему — двести лет, и поэт неоднократно описывает его
седую бороду.
Император Карл — образ, настолько популярный и известный в средневе-
ковой Европе, что автор не задерживается подробно на его характере. В образе
Карла воплощены его народные мечты о справедливом, мудром и мужествен-
ном хозяине страны, ее хранителе, ее гордости.
Карл изображен в «Песни» государем, объединившим всю Европу —
«Песнь» даже приписала ему завоевание Англии, которое не имело места
в действительности.
25
Карл в «Песни»— нежный родственник и ценящий верную вассальную
службу сеньор. Он тоскует по Роланду и, узнав о его гибели, яростно мстит за
племянника. Любопытно отметить, что «Песнь» показывает некоторую само-
стоятельность баронского совета в отношении Карла: Гуенелон не боится ока-
зать давление на баронов, бароны не боятся требовать прощения для Гуенело-
на, и неизвестно, как должен был бы поступить Карл, если бы не появление
мужественного Тьедри, вступившегося, собственно говоря, уже не за Роланда,
а за оскорбленное достоинство императора.
Рядом с образом Карла намечен образ его верного советника — престаре-
лого герцога Найма, суждения которого имеют решающее значение для по-
ступков Карла. Это Найм советует Карлу мириться с Марсилием, Найм сове-
тует поторопиться на зов рога Роланда.
Положительным образам «Песни»— Карлу и его верным паладинам —
противопоставлен изменник Гуенелон. Мы уже упоминали о том, какое важное
место занимает он в «Песни». Присмотримся к нему внимательнее. Автор далек
от желания очернить Гуенелона. «Лицом румян и вид имеет бравый»,— так
сказано о Гуенелоне, даже когда он предстает перед судилищем франкских ба-
ронов. Из первых строф узнаем, что Гуенелон «челом красив, широк и статен
в бедрах, так он хорош, что все собратья смотрят».
Но за этой привлекательной внешностью скрывается коварство, заносчи-
вость, мстительность, слепое себялюбие.
Если Гуенелон и не трус, то все же он нехотя принимает поручение Карла,
а Роланд, Найм и Турпин сами добивались этого поручения, как чести для себя.
Гуенелон «рад бы оказаться за горами» в тот момент, когда ему вручают его
посольские знаки. Оскорбив Роланда («хвастун и глупец»), Гуенелон затаивает
ненависть в ответ на прямой вызов, брошенный ему Роландом, и весь оказыва-
ется во власти этой ненависти: Гуенелон не думает ни о двадцати тысячах
франкских воинов, ни о двенадцати пэрах, ни о поражении,— он думает только
о мести и считает себя правым в ней. Не будем искать следов раскаяния в по-
ведении Гуенелона. Он до последней минуты злорадно высмеивает Карла, по-
рывающегося ринуться на помощь Роланду. На суде в Ахене Гуенелон не
только не признает себя виновным, но и стремится решить дело в свою пользу
новым преступлением — застращивает баронов Карла местью своей родни.
Сила феодальных предрассудков, слепая и губительная сила феодальной
мести, показана в судьбе Гуенелона — во всем прочем доблестного рыцаря
и верного вассала, готового умереть за императора Карла, когда ему прихо-
дится в конце концов стать лицом к лицу со смертью во дворце Марсилия.
Отрицательный персонаж и король Марсилий — хитрый и вместе с тем не-
сдержанный, борющийся против франков то обманом, то ударом в спину.
Мастерски намечен образ посла Бланкандрина — лукавого, проницательного,
холодно-расчетливого царедворца, которому быстро удается сломить волю Гу-
енелона, пылающего жаждой мщения.
Бароны Марсилия — вожди сарацинского войска — изображены отнюдь не
однообразно-отрицательно; если для иных автор находит только нелестные
эпитеты «подлецов, предателей и негодяев», то других он наделяет привлека-
тельными чертами: эмир из Балагета «лицом и смел и светел» и известен своим
«славным нравом»; на Маргерита дамы не могут смотреть без улыбки — так он
красив. Вообще, автор неоднократно отдает должное храбрости врагов и со-
жалеет, что они не христиане: то-то рыцари были бы! Особенно одобрительно
отзывается «Песнь» об африканском союзнике Марсилия — Балиганте, «витязе
без пятна», «премудром», «храбром».
Эта идея рыцарственно-вежливого отношения к врагам, надо полагать,
вошла в «Песнь» гораздо позже, когда между аристократией феодальных го-
сударств установились те специфические отношения, при которых пленный
собрат по классу рассматривался как почетный гость (что в других случаях не
26
мешало весьма жестоко обращаться с очень и очень важными пленниками —
например, Ричардом I Английским в Австрии.
Особое место занимают женские образы «Песни»— жена Марсилия Бра-
мимонда и невеста Роланда Альда.
Если мы почти ничего не знаем об их наружности, кроме обычной похвалы
(и Брамимонда и Альда —«красавицы»), то об их душевных качествах сказано
подробнее. И Брамимонда и Альда живут интересами любимых ими людей.
Брамимонда горько оплакивает неудачный исход битвы и гибель мужа, а чув-
ства Альды так сильны, что она умирает при известии о смерти Роланда. На
слова Карла, утешающего ее и обещающего ей в мужья своего сына, Альда
находит сдержанный и строгий ответ:
Не дай мне бог и святой его ангел,
Чтоб я жила после смерти Роланда.
Так, живыми — если и не богатыми, то своеобразными яркими красками
охарактеризованы герои «Песни».
Автор смог придать им запоминающиеся качества, создать в каждом случае
некий человеческий образ, иногда достигая даже известной зрительной выра-
зительности (вообще слабой в описании действующих лиц). Вот, например,
образ анжуйца Тьедри, вступившегося за императора:
Строен и сух и худощав на вид;
Кудри черны, смугловат его лик;
Ростом не мал и не очень велик.
Много умения и динамики проявил автор в описании действия. Движение,
жесты — это он подмечал и описывал лучше, чем чувства. Нам кажутся уто-
мительными бесконечные описания множества поединков между франками
и сарацинами, но если приглядеться к ним, то выяснится, что эти повторяющи-
еся описания сделаны с изумительным реализмом и точностью. То, что запом-
нилось бы как молниеносный взмах меча, удар, нанесенный в сотую долю се-
кунды, оказывается расчлененным на целый ряд отдельных движений, подме-
ченных острым глазом поэта:
С силой такой его ударил граф,
Что раскроил с наносником шишак,
И нос, и рот, и челюсть пополам,
Тело рассек и алжирский юшман,
И на седле две бляхи из сребра;
Всадил клинок он в спину скакуна,
Сразу убил коня и ездока.
В окружающей действующих лиц обстановке автор замечает прежде всего
то, что особенно интересовало его аудиторию,— вооружение.
По строфам «Песни» мы можем полностью представить себе вооружение
французского рыцаря XI — XII вв. с головы до ног, от шлема до шпор, ознако-
миться со всеми его обычаями, с его наступательным и оборонительным
оружием.
Нельзя, конечно, было обойти молчанием и боевого скакуна — верного бое-
вого товарища. Вот его яркое описание, сделанное знатоком:
Хорош скакун и годен для ристания,
Копытом кос и с плоскими ногами,
В крупе широк, короток ладвеями.
Высок в седле и с длинными боками,
С белым хвостом и гривою буланой,
Мордою рыж, с короткими ушами.
27
Кроме вооружения, описана одежда, предметы обихода. На страницах
«Песни» сверкают золото и серебро, горят драгоценные камни; читатель узнает,
что оружие было украшено драгоценностями, что мебель делалась из слоновой
кости и ценных пород дерева.
Немало слов и образов употребляет автор для описания природы. Повторе-
нием суровой картины скудного пиренейского ландшафта он создает мрачный
героический фон похода Карла и боя в Ронсевале:
Высок хребет и беспросветны долы,
Скалы мрачны, диковинны проходы.
Трава — то зеленая, то залитая кровью, деревья плодового сада, скалы —
вот постоянные детали пейзажа «Песни».
Автор умел оценить и морской пейзаж. В рассказе о появлении флота Ба-
лиганта ночь расцвечена фонарями плывущей африканской флотилии, а даль-
ше в одной строке вспыхивает яркое видение морского берега, пестреющего
парусами кораблей:
Пришли суда к испанскому прибрежью,
Весь край кругом сияет и алеет.
Запоминаются скупые, но выразительные слова, описывающие день и ночь:
Вечер красив, и ясен свет заката,
Проходит ночь, заря, сияя, встала,
Сияет день, и ярко светит солнце,
Светла луна, и полыхают звезды.
Одной лаконической строкой умеет автор создать острое ощущение южного
поля битвы:
Ужасен зной, и столб из пыли поднят.
Особенно мощна картина бури, вещающей народу о смерти Роланда.
Но пейзаж «Песни» почти всегда оживлен движением и является не просто
фоном,— он все время слит с действием, с основной темой поэмы — войной:
Явился день, и утро рассвело.
В его лучах доспех горит светло,
Ярко блестят и панцирь, и шелом,
Сверкает щит, украшенный цветком,
Светит копье и прапорец на нем.
Что же можно сказать о том, как отражена в «Песни» личность автора и его
настроение?
Конечно, автор — повсюду. Это он любовно собрал предания и песни о Ро-
ланде, соединил их со своим житейским, военным, социальным опытом и создал
величественную и простую эпопею.
Скорее всего можно предположить, что автор — военный человек, не только
в тонкостях знающий свое дело, но и искренно любующийся им. Однако ему
чужда психология простого рубаки, сегодня служащего одному господину,
а завтра — другому. За ограниченным кругозором его феодальной идеологии,
идеологии верного вассала, живет мощная, великая идея родины, которой слу-
жит не только Роланд, но и сам император Карл.
Идея родины сливается с идеей христианской Европы, противоборствующей
мусульманскому Востоку.
Здесь произошла любопытная передвижка идей: первоначально оборони-
тельная идея борьбы против мусульман, вторгшихся в Европу, превращалась
в обстановке крестовых походов в идею явно наступательную; но в конкретной
теме «Песни о Роланде» идея все же была именно оборонительная и заключа-
28
лась в том, что мужество франкских пехотинцев остановило арабское нашест-
вие в битве при Пуатье.
Вернемся к идее вассалитета, очень важной для выяснения настроений ав-
тора. Были попытки истолковать всю «Песнь» едва ли не как своеобразную
агитку, пропагандирующую идею вассальной верности '.
Конечно, такая точка зрения на поэму, многообразно впитывающую в себя
культуру своей эпохи, неверна, предвзята, неисторична. Тема вассалитета,
очень ярко выраженная в поэме, развита в ней далеко не элементарно. Из трех
вассалов — Гуенелона, Роланда и Оливьера — самый мудрым оказывается
именно Оливьер, вассал, заботящийся не только о своем честном имени и славе
сеньора, но и о жизни дружинников — жизни рядовых, незнатных бойцов фео-
дального войска.
А вассал Гуенелон оказывается изменником не только потому, что убил Ро-
ланда, но и потому, что убил государева слугу, нанес урон королевскому, госу-
дарственному делу. Все это указывает на неизвестного автора «Песни» как на
представителя той рыцарской среды, которая складывалась вокруг крупных
феодальных дворов с их тенденцией к известному централизму, к обузданию
феодальной анархии.
Гуенелон, предавая Роланда, ослаблял Францию, а сводя личные счеты —
предавал важное государственное дело. Если и смутно еще автор «Песни»
представлял себе свой народ, то величие патриотизма, судьба «сладкой Фран-
ции» уже волновали его мужественное сердце.
Многое в образах «Песни» свидетельствует о близости ее автора к народ-
ному устному творчеству, говорит о понимании народных чувств, о народном
значении двух тем поэмы, о чем уже сказано выше. Император Карл — попу-
лярный герой народных сказаний Западной Европы. Во многих народных пре-
даниях за ним утвердилась слава «справедливого короля», защитника угне-
тенных и борца за национальную независимость средневековой Европы от по-
сягательств арабских и аварских завоевателей. В «Песни» он и показан таким
сказочным монархом, окруженным своими сказочными сподвижниками-пэрами.
Автор песни широко использует такую характерную особенность устного
творчества, как повтор: Бланкандрин трижды заводит разговор с Гуенелоном,
Марсилий трижды приступает к Гуенелону с предложением убить Роланда,
Оливьер трижды просит Роланда затрубить в рог, и Роланд трижды трубит,
пока его не услыхал Карл.
Такая типичная особенность народного творчества, как параллелизм, чрез-
вычайно характерна для всей «Песни». Образу венценосного Карла противо-
поставлен мужественный образ его врага — Бланкандрина, двенадцати пэрам
и Роланду — двенадцать сарацинских пэров.
На близость с народной поэзией указывает и обилие постоянных эпитетов,
часто мелькающих в «Песни»: Карла мы запомним по его седой бороде, Гуене-
лона всюду сопровождают эпитеты «изменник», «предатель», Франция —
«сладкая», «вольная», вассал —«добрый».
Особой конкретностью отличаются эпитеты — зрительные образы. Вот опи-
сание царя Марсилия в его дворце:
...Пошел он в сад под тень дерев плодовых,
Ложится он на мрамор-камень желтый.
«Песнь» любит яркие краски: красную кровь на зеленом ковыле, белые
и желтые флажки на копьях (представим себе белое и желтое на буром фоне
скал и голубом фоне неба).
1 См.: Гвоздев А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение.
М.; Л., 1935.
29
Найдем в «Песни» и гиперболу, столь любимую устным народным творчест-
вом: у Карла — стотысячная рать, у Марсилия — четыреста тысяч сарацин,
у Балиганта — три тысячи фрегатов.
В действительности армии ранних средних веков были неизмеримо меньше:
чаще всего они исчислялись даже не десятками тысяч, а тысячами человек.
Гипербола заметна не только в числах, но и в описаниях подвигов Роланда
и его рати. Роланд, Оливьер и Турпин принимают на себя удар многотысячного
войска врагов и истребляют их десятками, невольно напоминая подвиги рус-
ских богатырей («махнет — улица, размахнется — переулочек»).
Сны, столь характерный сюжет и деталь произведений народного творчест-
ва, играют большую роль в «Песни»: они дважды предупреждают Карла
о близящейся опасности.
Характерно, что речь о стилистических особенностях «Песни» собственно
и исчерпывается этими элементами — параллелизмом, гиперболой и повтором
(сравнениями «Песнь» удивительно бедна). Таким образом, стилистика ее
особенно доказательно раскрывает близость автора к народной поэзии (отбра-
сывая вопрос о сравнениях).
Наряду с этой близостью к народному творчеству мы ощущаем, что автор
кое-что читал и слышал о тех странах и народах, которые стали известны евро-
пейцам в эпоху крестовых походов. Это особенно видно в описаниях рати Ба-
лиганта: она в своей восточной (и вполне фантастической) многонациональ-
ное^ противопоставлена европейской многонациональности франкского
войска.
Вероятно, знал автор не только о крестовых походах в Палестину и Сирию,
но и об участии европейских баронов в крестовых походах против испанских
мавров в Испании, где в конце XII в. продолжалась кровавая борьба между
испанским народом и мавританцами-завоевателями.
Видимо, знаком был автор и с литературой прошлого: он знает, что Верги-
лий и Гомер жили когда-то очень давно (Балигант, впрочем, старше и Вергилия
и Гомера), а это едва ли не указание на то, что автору были известны средне-
вековые переделки «Энеиды» и «Илиады».
Если именно о таких переделках-переводах на французский язык знал ав-
тор, то это — лишнее указание на семидесятые годы XII в., как на эпоху воз-
никновения Оксфордского текста,— переделки «Энеиды» и «Илиады» («Роман
о Трое») относятся ориентировочно только к 1160—1165 гг. Но, возможно, что
автор знал понаслышке имена Вергилия и Гомера или был знаком с прозаи-
ческими латинскими пересказами IV и VI вв. н. э.
Вероятно, каким-то книжным отголоском именно античной тематики звучит
в «Песни» упоминание о рыцаре Марсилия, которого зовут Приамом.
О богах Аполлоне и Юпитере автор тоже слыхал, но для него они (как и для
авторов хроник о крестовых походах) —то же, что Маом (Магомет) и фан-
тастический Тервагант — все это боги «язычников»— сарацин.
Интересно, что автор неоднократно ссылается и на современные литератур-
ные источники, упоминая о «Деяниях», т. е. о хрониках своего времени и более
раннего средневековья, и о джестах — героических песнях. Дважды автор
прямо говорит о «Деяниях франков», но какой именно памятник он имел в виду,
говоря о них, установить невозможно. Быть может, это были «Gesta Dei per
francos», написанные около 1124 г. Гвибертом Пожанским, который дал в них
подробное описание первого крестового похода, быть может — иные хроники.
Возможно, что именно под впечатлением хроник о крестовых походах сложился
и эпизод с Балигантом, уже неоднократно объясненный как более поздняя
вставка в основной текст «Песни».
Вероятно, об иных, более древних, «Деяниях» говорит автор, показывая
императора в Ахене на суде. Надо полагать, «Деяния» для него вообще были
30
равносильны понятию «книги», понятию как-то зафиксированного истори-
ческого опыта.
Говоря о джестах, автор называл понятный для его аудитории, распростра-
ненный литературный жанр, к которому относилась и сама «Песнь о Роланде».
Видно, что джесты — эпическая героическая поэзия — были хорошо знакомы
автору. Он ввел в «Песнь» такое количество персонажей из джест, что кажется,
будто они нарочно назначили друг другу свидание в пределах этой поэмы.
Подле Карла встретим известных героев, воспетых джестами,— Оливьера,
Ожьера Датчанина, Турпина, Найма, А(0)тона, Джерарта Руссильонского
и т. п.
Правдоподобна возможность влияния на данный текст «Песни» (вероятно,
дооксфордский) богатой эпической латинской поэзии, процветавшей при дво-
рах франкских королей и воспевавшей войны франков (Отфрид, Седулий
Скотт, Эрмольд Нигелл — IX в. н. э.). В частности, поэма Нигелла «Во славу
Людовика императора» посвящена испанскому походу Людовика I в 800—
801 гг. и кое в чем может быть сопоставлена с «Песнью».
В нескольких местах «Песни» ощущается и влияние собственно церковной
литературы. Кроме ряда сближений между лексикой «Песни» и церковным
словарем, особенно важна указанная Бедье в его «Комментариях» известная
близость между текстами молитв в «Песни» и некоторыми церковными памят-
никами на латинском языке.
Очень значительно количество заимствований из библии. Уже не говоря
о том, что Карл Великий останавливает солнце так же, как Иисус Навин, в по-
эме встречается целый ряд библейских персонажей: Дафан и Авирон, Ион,
Даниил и Лазарь, упоминание о «невинно убитых» (подразумеваются, очевид-
но, младенцы, истребленные, по преданию, Иродом). Из библейской географии,
очевидно, встречаются в «Песни» Ниневия и Вавилон.
Возникшая где-то на французской почве, в сознании французского народа,
«Песнь о Роланде» быстро завоевала себе общеевропейскую известность и во
многих частях Европы была переделана на свой лад.
Уже к середине XII в. (значит, до Оксфордского списка) «Песнь» была пе-
реведена на немецкий язык священником Конрадом и во многом переделана.
К XVI в. имелось по меньшей мере пятнадцать разноязычных вариантов «Пес-
ни» на тему о битве при Ронсевале.
Образ витязя Роланда стал родным для большинства зарождавшихся на-
циональных литератур средневековой Европы. По этому факту лишний раз
можно судить о народности сюжета, темы и о популярности ее героя.
* * *
Сводя к основным положениям материал этой статьи, можно указать на
следующие:
1. Тематика «Песни» носит не узкофеодальный, а широкий национально-ис-
торический характер.
2. Народное значение ее идей подтверждено известной связью между твор-
ческим мышлением автора и особенностями народного устного творчества, ко-
торое могло влиять на автора как непосредственно, так и через литературные
источники, во многом изменившие первоначальный народный характер ис-
пользованного в них материала (песен и преданий).
3. «Песнь» дает яркую и правдивую картину европейского феодализма, не
задаваясь целью изобразить его широко, полностью, а сужая свою задачу во-
енно-моральным сюжетом.
4. Развитие сюжета приводит к осознанию зарождающейся французской
национальности, к возвеличению более строгого централизованного строя,
с королем во главе, противопоставленного феодальной анархии.
31
5. В образе графа Роланда воплощены черты идеального рыцаря — борца
за европейские земли против мусульманского (и прочих) нашествия.
6. Вероятно, Оксфордский список — творение одного автора, располагав-
шего более древними вариантами «Песни» (в письменной или устной форме).
Автор, очевидно, сам происходил из военной среды (быть может, стал впослед-
ствии монахом, как то произошло с предполагаемым автором «Задонщины»).
По всей вероятности, в рукописи, возникшей в 20-е годы XII в., имеются по-
зднейшие вставки.
«Песнь о Роланде»— монументальный памятник средневекового эпоса,
разносторонне и богато отразивший эпоху. Она воспела чувство боевой друж-
бы, чувство верности народу и вождю, женскую преданность, воинскую доб-
лесть и любовь к родине.
Все эти темы, знакомые и близкие нам по «Слову о полку Игореве» и по
«Витязю в барсовой шкуре», не могут не волновать советского читателя
и поныне.
* * *
В заключение автору хотелось бы привести некоторые соображения о месте
возникновения Оксфордского списка и об идейной его направленности — если
не основной, то косвенной.
Эти соображения никак не связаны с проблемой анализа «Песни» и вполне
гипотетичны. «Песнь о Роланде», королевская джеста, характерна своими цен-
трализаторскими тенденциями: параллельно им выдвигается идея большого
многонационального европейского государства, объединенного под властью
императора Карла. Конечно, это государство — память об империи Каролин-
гов — знакомо и по другим джестам, циклизировавшимся вокруг образа Карла.
Но все же ни в какой другой джесте эта идея многонационального христиан-
ского государства не выступает так настойчиво, как в «Песни»: от Восточной
Европы (поляки и сербы) до Англии и Ирландии лежат границы этого госу-
дарства.
Где и почему могла возникнуть и укрепиться такая идея во Франции XI —
начала XII в.? Собственно французское королевство в то время было совсем
слабо. Его окружали со всех сторон могучие вассалы — графы Шампани, Ту-
лузы, владельцы Бургундии.
Борьба нескольких феодальных групп во Франции XII в. привела к росту
значения одного из соперников и в то же время вассалов французского коро-
ля — Анжуйской графской фамилии. К середине XII в. граф Анжуйский Жоф-
фруа Плантагенет был могущественнейшим феодалом, сын его Генрих — мо-
гущественнейшим вассалом в государстве Людовика.
Генрих Плантагенет, обладатель многих французских графств, был наслед-
ником английского трона (а с 1154 г.— королем Англии Генрихом II) и пре-
тендовал на французские города и местности. Под властью Анжуйской фами-
лии Плантагенетов к середине XII в. были уже объединены (или могли отойти
по праву наследования) герцогство Нормандия и графство Бретань, земли Мен,
Анжу и Пуату, герцогство Аквитанское и герцогство Гасконское (граничившее
с Провансом) и Овернь, а за морем — Англия.
В 1154 г. это подготовлявшееся гигантское для средневековой Европы объ-
единение феодальных земель было закончено, но, конечно, блестящее заверше-
ние этой карьеры анжуйского дома явилось результатом долгой и упорной
подготовительной работы.
История государства, возглавленного анжуйским родом Плантагенетов,
остро заинтересовала буржуазную науку. В 1933 г. вышла специальная работа
медиевиста Шарля Пти-Дютайе — «Феодальная монархия во Франции и в Анг-
лии X — XIII вв», в которой прямо выдвигается понятие «анжуйской импе-
32
рии»— такое название дает Дютайе этому объединенному англо-французскому
королевству.
При целом ряде специфических дефектов (Дютайе игнорирует проблемы
экономики и классовой борьбы) эта работа дает яркую картину создания госу-
дарства Плантагенетов. Приведенные в ней документы раскрывают полити-
ческий кругозор эпохи. Генрих Плантагенет, сын графа Анжуйского, именует
себя «королем Англии, герцогом Нормандии и Аквитании, графом Анжу»
и приветствует «своих баронов»—«французских и английских».
Каждый английский король лелеял мечты о присоединении к своей короне
Шотландии и Ирландии — и король Шотландии стал вассалом Генриха II,
а завоевание Ирландии было им начато. Дочери Генриха II стали королевами
Кастилии и Сицилии, король Арагонии был его союзником, графство Тулуза
(Прованс) еле избежало его цепких рук.
Этот политико-географический размах знаком нам по «Песни о Роланде».
Пересчитывая земли, завоеванные для Карла мечом Дюрандалью, Роланд по-
очередно их называет:
Тобой я взял Анжуйский лен с Бретанью
И Пуату и весь Мен без изъятья.
Тобой я взял весь вольный край Норманский
И взял тобой Прованс и Аквитанию.
Тобой смирил я скоттов и ирландцев,
Англию всю ...
Эти земли — земли достигнутых к 1154 г. владений анжуйской фамилии.
Правда, они перемежаются с историческими завоеваниями Карла, но ни ир-
ландцы, ни скотты, ни Англия, ни Бретань Карлу не принадлежали. С другой
стороны, случайно ли выпали из этого перечисления Бургундия, Шампань, Иль
де Франс — коренные французские земли, как раз принадлежавшие Карлу?
Единственный верный вассал Карла, не убоявшийся своры родичей Гуене-
лона и выступивший за королевскую честь,— это анжуйский граф Тьедри. Из
многочисленных французских феодалов особое предпочтение выказано именно
анжуйской фамилии: хвалебно упомянут граф анжуйский Джефрейт
(958—987), тезка и по линии престолонаследия предок Жоффруа Анжу План-
тагенета, основателя анжуйского могущества.
В «Песни» Джефрейт —«гонфалоньер коронный»; Джефрейт X в. действи-
тельно был облечен высокой для феодального войска честью носить королев-
ское знамя. Но и Жоффруа д'Анжу (XII в.) — наследственный великий маршал
или верховный судья.
Эта юридическая власть фамилии Анжу (при всей призрачности такой
власти) невольно заставляет задуматься о роли анжуйца Тьедри на суде
в Ахене.
После смерти Роланда и Оливьера этот Тьедри — единственный решитель-
ный заступник императора, защитник императорской власти перед баронской
«грубой анархией» и Гуенелоном.
Немецкий перевод «Песни», сделанный в 30-х годах XII в. попом Конрадом,
добавляет еще одну интересную подробность: у Конрада Диррих (Тьедри)
объясняет свою готовность биться с Пинабелем тем, что Роланд воспитывал
его. «Я — росток того же корня»,— говорит Диррих,—«я — ближайший родич
Роланда». Эта версия мести Дирриха-Тьедри за Роланда дает две возможности
толкования: либо Конрад для себя объяснил показавшееся ему странным за-
ступничество какого-то неизвестного барона за Карла (у Конрада — за Ро-
ланда), либо это — утерянная и очень важная деталь анжуйской тенденции
в поэме: ведь если Диррих-Тьедри —«ближайший родич» Роланду, а Роланд —
племянник Карла, значит, Диррих-Тьедри — какой-то косвенный родич самого
Карла.
2 Р. М. Самарин
33
Эта деталь дорисовывала бы ту линию «Песни», которую можно было бы
рассматривать как попытку восстановить идею империи в интересах растущих
политических планов анжуйской фамилии, объединившей под своей властью
почти всю Францию.
Но если эта деталь остается «недостающим звеном цепи», то во всяком
случае Роланд изображен в цитированном месте поэмы как объединитель зе-
мель, входивших в планы анжуйской экспансии.
Вообще анжуйцы — три брата Готфрид, Диррих и Аргун (?) — у Конрада
встречаются гораздо чаще, чем в Оксфордском списке, и за Готфридом
(Джефрейтом) было закреплено его звание знаменосца: всюду он со знаменем
в руках (семь упоминаний на всю переделку-перевод Конрада).
Так или иначе, едва ли оспорима некая связь действующих лиц и Оксфорд-
ского списка, и того варианта, который лег в его основу и в основу «Песни
о Роланде» Конрада с Анжуйской династией, стремление как-то приобщить
«Песнь» к анжуйским интересам и планам: кроме герцога X в. Ричарда Старого
Нормандского (тоже близкого интересам Анжуйского двора) да Джефрейта,
«Песнь» не называет среди пэров Карла ни одного лица, которое было бы ис-
торически известно.
Когда-то (в 20-х годах XII в.) бывшая собственно анжуйской, а к 70-м го-
дам ставшая англо-нормандской, «Песнь о Роланде» в своем утверждении
претензий Плантагенетов была не одинока на фоне пестрой латинско-француз-
ско-англо-нормандской литературы XII в. Была не одинокой, так как в середине
XII в. архидиакон Груффуд ан Артур (он же Готфрид из Монмаута) в своей
латинской сказочной хронике «История королей Британии» открыто высказал
мысль о правах английских королей на императорскую власть, привлекши для
пропаганды этой идеи национальные кельтские предания о короле Артуре —
центральном герое цикла преданий, подобного циклу преданий о Карле.
Король Артур в книге Груффуда становится главой всего западнохристи-
анского мира, прокладывает себе путь к Риму и торжественно вступает в него.
Уже в 1154 г. известный англо-нормандский трувер Васе перевел (с большими
переделками) книгу Груффуда на старофранцузский, и его перевод, названный
им «Брут», имел очень заметный успех. Васе был придворным поэтом Генриха
II Плантагенета — государя, при котором анжуйская династия достигла на-
ибольших успехов на материке. Была ли анжуйская имперская ориентация
придана жонглером, подвизавшимся при анжуйском дворе, или «Песнь» в ее
Оксфордском списке была задумана с этой ориентацией — вопрос остается от-
крытым.
1939
«ТРАГИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ» АГРИППЫ Д'ОБИНЬЕ
НА ФОНЕ ПУБЛИЦИСТИКИ ЕГО ЭПОХИ
До тридцатых годов XX в. Агриппа д'Обинье (1552—1630), выдающийся
французский писатель, поэт и политический деятель эпохи религиозных войн,
не обращал на себя внимания советской науки.
Все, что можно было найти о нем на русском языке — лекция А. Веселов-
ского, прочитанная 29 января 1889 г. и напечатанная позже в книге «Этюды
и характеристики» («Последний рыцарь»), и переводы, сделанные С. Пинусом
в его книге «Французские поэты» (Пб., 1914 г.). Другие случайные заметки
в курсах французской и всеобщей литературы, в трудах по истории Франции
почти не касались темы данной работы —«Трагических поэм» д'Обинье.
Между тем именно ими заинтересовались советские переводчики и состави-
тели хрестоматий. Отдельные стихи и отрывки из «Трагических поэм» включены
34
в антологию «Поэты Французского Возрождения» (М., 1938), в хрестоматию Б.
Пуришева по западноевропейской литературе («Эпоха Возрождения», М.,
1939), в книгу В. Парнаха «Испанские и португальские поэты — жертвы инк-
визиции» (М*; Л., 1934) '.
В. Парнах пытается передать русским стихом стиль д'Обинье — талантли-
вого политического поэта, повлиявшего на все дальнейшее развитие полити-
ческой поэзии во Франции и, в частности, на Вольтера («Генриада»), на В.
Гюго («Кары»), на О. Барбье («Ямбы»).
Ныне имя д'Обинье можно найти уже в программах по зарубежной литера-
туре для высших учебных заведений СССР. Все это указывает на своевремен-
ность появления работы, которая хотя бы в общих чертах наметила значение
и особенности д'Обинье как большого политического поэта.
Буржуазное литературоведение во Франции относилось к творчеству
д'Обинье с уважением, указывало на силу и пафос его стихов, но никак не мог-
ло найти для его произведений, для всего его творчества подходящего места во
всем развитии французской литературы.
Д'Обинье упрекали в грубости, в безвкусии, в нелитературности («слишком
много политики»), спорили о том, куда его отнести — к XVI или к XVII в. Ведь,
например, «Трагические поэмы» написаны в 70—80—90-е годы XVI в., а роман
д'Обинье «Приключения барона Фенеста»— в XVII в.
По нашему мнению, творчество д'Обинье, тесно связанное с бурной полити-
ческой жизнью его эпохи, было смелым исканием нового стиля, как о том гово-
рил сам автор: нельзя было по-старому описывать то, чему он был свидетель.
Этот новый стиль д'Обинье создать не смог, но все же его «Трагические по-
эмы»— вполне своеобразное произведение, сильно повлиявшее на дальнейшее
развитие политической поэзии во Франции.
Публикуемые ниже наблюдения над идейной связью поэм д'Обинье с сов-
ременной ему публицистикой — только отрывок из работы, задача которой —
дать анализ «Трагических поэм» и выяснить их литературно-политическое зна-
чение.
* * *
Для эпохи, выдвинувшей Агриппу, и в частности для семидесятых годов,
когда Агриппа складывается как поэт и мыслитель, характерен быстрый рост
острой политической мысли.
Через год после Варфоломеевской ночи адвокат Франсуа Отман, гугенот,
печатает в Женеве нашумевший и еще через год переведенный на французский
язык трактат «Франко-Галлия, или Трактат об управлении королевством Гал-
льским и о законе престолонаследования». Книга пропагандировала зависи-
мость короля от Генеральных штатов, делала королевскую власть ответствен-
ной перед народом, представленным тремя палатами, в которые должны, по
мнению Отмана, войти представители дворянства, представители судей и тор-
говцев, представители ремесленников и земледельцев. Церковь исключалась
вовсе из этого нового состава Генеральных штатов. Преследования и памфле-
ты, направленные против этой замечательной книги Отмана, не смогли разру-
шить популярность этого раннего манифеста буржуазного политического со-
знания.
В 1575 г. либо де Без 2, либо Анри Этьен 3 выпустили памфлет против Ека-
терины Медичи «Чудесные беседы о жизни, поступках и распущенности Екате-
1 В послевоенное время вышли «Трагические поэмы и сонеты. Мемуары» (М., 1949). О твор-
честве д'Обинье см.: История французской литературы. М.; Л., 1946. Т. 1, а также: Писатели
Франции. М., 1964.— Ред.
2 Без де (1519—1605) —один из вождей кальвинизма во Франции, выдающийся теолог,
публицист и писатель.
3 Этьен Анри (1531 —1598) — крупный ученый и памфлетист.
2*
35
рины Медичи». Памфлет обрушивался на авторитет королевской власти со всей
буржуазной решительностью «женевского папы»— учителя авторов трактата
Кальвина.
Эту антимонархическую тенденцию подхватила книга рано умершего Ла-
Боэси ' «Против одного», разысканная и напечатанная кальвинистами только
в 1578 г. Ла-Боэси живописал в своем трактате положение «бедного народа»,
поля которого разграблены, дома которого обворованы. Показав наглядно на-
родные бедствия, Ла-Боэси утверждал: «Весь этот ужас, эти несчастия, это
разорение идет не от врагов или очень редко от врагов; вам причиняют его те,
кто возвышен вами, те, за кого вы мужественно сражались, за величие кого вы
не боялись жертвовать собой». «Те»— это тираны, абсолютные монархи, против
которых обращено это второе произведение нарождающейся передовой бур-
жуазной мысли.
В 1579 г. книга Юбера Ланге 2 «Требования к тиранам», изданная в Эдин-
бурге, целиком оправдала борьбу кальвинизма против дома Валча: подданные
имеют право не слушаться тирана, нарушающего «слово божие», народ стоит
выше королевской власти и, борясь против нее, имеет право обратиться за по-
мощью даже к интервенции иностранцев-единоверцев. Женевский кальвинизм
здесь брал верх над патриотизмом.
Подводя итоги книгам Отмана и Ланге, Бьюкенен 3 в том же 1579 г. в книге
«О праве королевской власти в Шотландии» уже настойчиво доказывал право
народа на убийство короля-тирана.
То, что рыцари Колиньи делали шпагой и пистолетом, адвокаты и клерки
реформы делали своими памфлетами и сочинениями, имевшими, пожалуй,
больший успех, чем хитроумные рейды и неудачные сражения сухопутного ад-
мирала. Армия разносчиков-агитаторов распространяла по стране эти издания
и листовки с едкими карикатурами на папу и его сторонников.
В ответ на появление серии гугенотских памфлетов заработали другие
станки, печатая «Республику» Ж. Бодена \ защитника абсолютизма, умерен-
ного Генеральными штатами, «Всадника и мужика» лигеров и многое другое.
Развернулась самая настоящая «памфлетная война», в которой «Траги-
ческие поэмы» Агриппы д'Обинье нашли свое место.
Сам Агриппа в своих «Мемуарах Агриппы д'Обинье» 5 рассказывает, что
«Трагические поэмы» были им начаты в 1577 г., в Кастель-Жалу, где он лежал
при смерти от ран, полученных в сражении при Кастель-Жалу. Там он, «будучи
в постели от своих ран, когда даже хирурги считали его положение сомнитель-
ным, велел записать со слов своих судье этого города первые клаузулы своих
трагических поэм».
Видимо, так начата была первая поэма «Бедствия». Продолжение последо-
вало не скоро. Агриппа писал его «верхом и в траншеях». Возможно, что пер-
вые две или три книги были закончены до смерти короля Анри III ( 1580) и даже
до его союза с Анри IV 6. Последующие четыре появились в годы царствования
Анри IV.
В очень важном предисловии («Aux lecteurs») к изданию «Трагических по-
эм» 1629 г. 7 д'Обинье прямо говорит об Анри IV, как о вдохновителе и читателе
своего произведения. «Этот государь уже читал все «Трагические поэмы» не-
сколько раз». Там же он рассказывает о том, как Анри IV призвал его однажды
1 Л а-Б о э с и (1530—1569) — писатель, знаток римской литературы.
2 Ланге Юбер (1518—1581) — французский дипломат, гугенотский публицист.
3 Бьюкенен (1506—1582) —франко-шотландский историк, поэт и публицист.
4 Боден Жан (1530—1596) —философ, юрист и публицист.
5 См.: Mémoires d'A. d'Aubignè publ par L. Lalanne. Paris, 1889. P. 252.
6 Французские короли Генрих III Валуа и Генрих IV Бурбон (Генрих Наваррский).— Ред.
7 См.: Les Tragiques el devant donnez au public par de larcin de Prométhée et depuis avouez et
enrichis par le s. d'Aubigné. Genèves, 1629.
36
к себе с просьбой прочитать «Трагические поэмы» вслух «в присутствии господ
дю Фей и дю Пэн». Надо думать, что во втором случае речь может идти, конеч-
но, не обо всей поэме (9358 стихов), а о каких-то ее фрагментах. Но первое
указание, подчеркивающее, что Анри IV читал именно все поэмы Агриппы,
должно нас убедить, что в каком-то виде поэмы эти были закончены до 1593 г.,
с которого началось явное расхождение между королем и поэтом. Впрочем,
Лаланн в своем предисловии к изданию «Трагических поэм» (1857) 1 указывает
как примерные даты их создания промежуток времени от 1577 до 1598 г. Как бы
то ни было, в рукописи или напечатанные в виде фрагментов в конце 80-х годов
и в середине 90-х годов поэмы д'Обинье были известны задолго до 1616 г., когда
автор впервые издал их полностью.
Видимо, в 80—90-е годы XVI в. они имели непосредственное агитационное
значение, о котором говорит сам Агриппа, упоминая в своей «Всеобщей исто-
рии» о влиянии «Трагических поэм» на ход борьбы с Лигой» 2 [«Всеобщая ис-
тория», Т. 3, Кн. 31. Гл. 23]. То, что поэмы создавались на таком большом про-
тяжении времени, не могло не отразиться, думается, на всем характере их. На
вопросе изменения и художественных вкусов, и некоторых взглядов Агриппы за
время постепенного возникновения его поэм мы остановимся ниже. Промежут-
ки между ними были настолько значительны, что, например, в один из них Аг-
риппа успел написать еще одну поэму, совершенно выпадающую из этого цик-
ла, поэму «Сотворение» («Creation»).
События царствования Анри IV и начало регентства Марии Медичи были
временем забвения «Трагических поэм». Казалось, они имели значение только
актуально-политическое и должны были отойти в прошлое вместе с эпохой ре-
лигиозных войн.
Но в 1616 г. д'Обинье находит нужным собрать их воедино и издать отдель-
ной книгой, причем обставляет это издание целым рядом странных уловок. Он
стремится подчеркнуть свою мнимую непричастность к этому изданию. Оно —
случайно, его, будто бы без ведома автора, подготовил некий неведомый слуга
д'Обинье, потому оно и названо «Трагические поэмы», опубликованные Про-
метеем, укравшим их». Вместо указаний на место издания и фирму книга да-
вала еще более странные сведения: «Напечатано в пустыне, Козлом Отпуще-
ния, в год 1616» («Les Tragiques, donnez au public par le larcin de Prométhée.
Au Dezert par le Bouc du Dezert, MDCXVI»).
Своеобразное указание «Au Dezert»—«в пустыне» вообще встречается
в гугенотских изданиях того времени: «в пустыне», то есть в «исходе», в пути
«к земле Ханаанской», ибо после смерти Анри IV гугеноты опять считали себя
отщепенцами и гонимыми, к чему имели немало оснований.
«Козлом Отпущения» Агриппа назвал сам себя после резких расхождений
со своими бывшими соратниками на ассамблеях гугенотской партии в Сомюре
и Туаре, где его непреклонная принципиальность напугала и обозлила даже
гугенотов, пытавшихся уступками отстоять при регентстве Марии Медичи осо-
бое положение, закрепленное за ними Нантским эдиктом.
Формально это издание было анонимным. Агриппа как бы отмахивался от
него. Такой поступок станет понятным, если учесть накаленную политическую
атмосферу, в которой появилась книга: только что кончилась новая религиоз-
ная война и подготовлялось еще одно гугенотское восстание против королевы-
регентши. Через два года, в 1618 г., второй том «Всеобщей истории» д'Обинье
будет сожжен рукой палача. Такой участи автор мог ждать для своих поэм и
1 См.: Les Tragiques par Theodore Agr. cTAubigné nouvelle edition, revue et annotée par L. La-
lanne. P., 1857.
2 Лига — Католическая лига, создана в 1576 г. во Франции якобы для борьбы с гугенотами.
Действительной ее целью было ограничение королевской власти феодальной знатью, ослабление
централизации.— Ред.
37
в 1616 г., причем, видимо, не столько содержание их могло привести к таким
последствиям, сколько имя автора.
Это издание 1616 г. Агриппа повторил с переработками уже в Швейцарии за
год до смерти, назвав его «Трагические поэмы», ранее опубликованные Проме-
теем, укравшим их, а ныне проверенные и дополненные господином д'Обинье»
(Женева, 1629 г., у Пьера Обер, печатника Республики и Академии). Женев-
ское издание было уже любовно подготовлено автором, снабжено предислови-
ем, гораздо более пространным, чем краткое обращение «К читателю» в изда-
нии 1616 г., подписанное многозначительным псевдонимом «Прометей». К пре-
дисловию, важному и с политической, и с чисто литературной стороны, было
прибавлено второе предисловие в стихах, в котором еще раз подчеркивалось
политическое значение поэм Агриппы: в нем автор прямо говорит, что его книга
заставит «скрежетать зубами» некоторых читателей, что другим ее переплет
понравится больше, чем ее стихи.
В завещании Агриппы мы находим просьбу о новом издании его «Траги-
ческих поэм».
Оба прижизненных издания «Поэм» состоят из семи отдельных произведе-
ний (больших стихотворений, в среднем по тысяче с лишним строк), которые
сам Агриппа в своих «Мемуарах» и в предисловии к изданию 1629 г. твердо
называет «книгами» («livres»). Это семь книг: «Бедствия» («Misères»), «Госу-
дари» («Princes»), «Золотая палата» («La Chambre Dorée»), «Пламена» («Les
Feux»), «Лезвия» (a не «Оковы», как ошибочно перевел В. Парнах,—«Les
Fers»), «Возмездие» («Vengeance») и «Суд» («Jugement»). В целом эти семь
поэм дают картину эпохи, столь бурно и разнообразно прожитой автором.
Они — итог целого полустолетия (1577—1616) его военно-политической и ли-
тературной деятельности. Имея в виду богатейшее политико-историческое со-
держание поэм Агриппы и связь между их появлением и историческими собы-
тиями, необходимо представить себе хотя бы в основном эти важнейшие исто-
рические факты, свидетелем и участником которых был Агриппа. Нелишним
будет сконцентрировать и пересмотреть их здесь, чтобы сложилась некая общая
картина, ставшая объектов изображения в поэмах Агриппы.
В 1577 г., когда была начата первая поэма, автор имел уже десятилетний
военный стаж рядового всадника и командира. На протяжении пяти лет он
изучал нравы двора как большого парижского, так и наваррского. Знал из
знаменитых современников всю царствующую семью, Анри Гюиза и Анри
Наваррского, с которым уже был связан прочной дружбой. Свидетель четырех
войн, он принимал в них самое непосредственное участие как друг и боец Анри
Наваррского.
80-е годы были не менее богаты такими же бурными военными впечатлени-
ями. К уже знакомым картинам гражданской войны прибавилось и нечто новое.
В Париже и в целом ряде других крупных городов Франции укрепилась Лига,
религиозно-политическая организация римско-католической реакции, объеди-
нившая вокруг себя буржуазию (преимущественно мелкую) городов севера
Франции. Д'Обинье знал в подробностях историю диктатуры Лиги в Париже,
приведшую к побегу короля Анри III из столицы. История эта особенно богата
фактами отвратительного фанатизма.
Полчища интервентов, зазванных Лигой, обрушились на Францию, ис-
тощенную войной и лишенную твердой власти. Анри Наваррский и его капита-
ны, продолжая душить Лигу, грудью отстаивают французские земли от испан-
цев, савойцев, лотарингцев, занимавшихся во Франции грабежом и насилием
в еще более страшных и жестоких формах, чем то было раньше. 1593 г. особен-
но должен был запомниться Агриппе: 25 июля 1593 г. его друг и повелитель
стал католиком и королем Франции Анри IV, и мы знаем, что Агриппа принял
этот поступок, как предательство.
38
Но далеко еще было хотя бы до временного успокоения. В 1594—1595 гг.
разразилась крестьянская война в Перигоре и Лимузене. Гугеноты негодовали
на короля за его переход в католицизм, католики — за его мягкость к гугено-
там. Нантский эдикт 1598 г., сохранивший гугенотскую партию во всеоружии,
укрепил за ней положение «государства в государстве», из чего последовало
немало серьезнейших политических осложнений для Анри IV, вплоть до наме-
тившегося в 1601 г. гугенотского заговора против короля.
При дворе с женитьбой короля на Марии Медичи появились ненавистные
Агриппе и его друзьям итальянцы. Охлаждение между королем и будировав-
шими гугенотами делалось все более явным. В 1600 г. с соизволения Анри IV
и в его присутствии бывший поэт-ронсардист ', а теперь епископ дю Перрон на
особом диспуте подверг осмеянию старого друга и соратника короля, гугенота
Дюплесси-Морнея 2. В весьма вольнодумном трактате Морнея «О причастии»
дю Перрон нашел 500 ошибок против священного писания и цитированных
Морнеем богословских книг.
Диспут гугенотского воина-теолога и католического попа-книжника пре-
вратился в поединок критического, свободно оперирующего цитатами разума
с возрожденной церковной схоластикой. Агриппа присутствовал на этом дис-
путе и резко выступил в защиту ошельмованного Морнея, с которым был связан
тридцатилетней боевой дружбой. Отношения между д'Обинье и некогда обо-
жаемым им королем изменились до того, что Агриппе грозила Бастилия. В
1603 г. иезуиты, ненавидимые Агриппой, получили во Франции прежние приви-
легии, и у короля завелся духовник-иезуит отец Котон. Убийство Анри IV в
1610 г. сразу обеспокоило гугенотов. Новый, откровенно реакционный курс,
взятый правительством королевы-регентши Марии, разительно напоминал
кальвинистам события 60-х годов XVI в., памятную обстановку начала религи-
озных войн: вместо регентши Екатерины Медичи была регентша Мария Меди-
чи, вместо старых Гюизов, влиявших на политику Екатерины, при дворе укре-
пился итальянец Кончини и молодые Гюизы. Когда в 1615 г. начинается новый
тур религиозных войн, Агриппа, видя уже третье поколение вождей гугенотской
партии — герцога Роана и молодого Кондэ, вновь берется за оружие, вновь
борется против регентства и фаворитов, превращающих Францию, с его точки
зрения, в вотчину папского Рима.
Но если в 60-е годы XVI в. вокруг молодого воина-гугенота было столько
прекрасных, мужественных образов, если в то время Агриппа ощущал живую
силу того, что он называл своей «партией», то теперь, перед новым туром рели-
гиозных войн, перед новым кровавым потопом, стареющему политику и поэту
уже не на что было опереться. Он стал свидетелем разложения своей «партии»,
массового перехода в католичество, массового проявления трусости как раз
в дворянской гугенотской среде, которая уже боялась резкости и непримири-
мости старого Агриппы.
Видя надвигающуюся опасность новой гражданской войны, Агриппа
вспомнил о своих «Трагических поэмах». Он обратился с ними к читателю,
к родине как с итогом полувекового политического опыта и как с предостере-
жением. Если принять во внимание некое внешнее сходство этих лет — эпохи
регентства Марии Медичи — с эпохой, породившей первые поэмы всего траги-
ческого цикла, то станет ясно, что «Трагические поэмы» приобретали теперь
новое, актуальное значение, и едва ли автор издавал их в 1616 г. без некоторой
переделки. Когда-то «Трагические поэмы» сослужили свою службу Анри
Наваррскому и его деду — теперь Агриппа обращался с ними через голову ко-
ролевских капитанов и министров к сыну «Великого Анри», к молодому Луи XIII,
1 Ронсардист — последователь Пьера Ронсара, крупнейшего французского поэта XVI в.
2 Д ю п л е с с и-М о р н е й (1549—1623) — известный кальвинистский политический деятель
и богослов, прозванный «гугенотским папой».
39
к которому апеллировал и другой старый слуга его отца — оскорбленный
и все же верный Дюплесси-Морней, друг Агриппы, в книге «Тайна несправед-
ливости» призывавший молодого короля разделаться с агентами папы.
Таков, в важнейших его чертах, исторический фон возникновения «Траги-
ческих поэм» и в то же время основной объект их изображения.
* * *
Как видим, на этом фоне сосуществовали произведения разных направле-
ний, отражавшие всю сложность исторического момента, все особенности эпохи
религиозных войн во Франции. Эти войны нельзя представить как просто борь-
бу между буржуазией и абсолютизмом, кальвинистами и католиками.
Во Франции к буржуазному кальвинизму присоединился кальвинизм дво-
рянский. Целое королевство на юге Франции — Наварра, родина будущего
Анри IV, было кальвинистским королевством. С другой стороны, среди фран-
цузской буржуазии нашлись пламенные защитники католицизма, которые,
когда ослабела мощь королевской власти, стоявшей на страже католицизма,
сами взяли на себя защиту интересов католической церкви и создали Лигу —
сильную политическую организацию, с которой считались Испания, Рим и Анри
Наваррский.
И буржуа, и дворяне противостояли с обеих борющихся сторон. Причины
такой сложной ситуации мы не можем еыяснить на страницах этой работы, но
отметим, что кальвинизм городов юга Франции и южнофранцузского дворян-
ства был реакцией на усиление централизующей абсолютистской системы,
шедшей от Парижа и опиравшейся на старые земли «королевского домена»—
Центральную и Северную Францию.
Вместе с тем католические симпатии других городов Франции означали
верность зарождавшемуся французскому абсолютизму и церковно-полити-
ческому единству страны. Но кроме того, кальвинистские симпатии части
французского дворянства были связаны еще и с тем, что с начала 60-х годов
XVI в. во Франции завязалась борьба двух феодальных групп за влияние на
политику королевского двора: группа, возглавляемая домом лотарингских гер-
цогов де Гюиз, была католической ориентации; группа, возглавляемая прин-
цами из дома Бурбонов-Кондэ и семьей Шатильонов, к которой принадлежал
пресловутый вождь гугенотов, адмирал Колиньи, была связана с кальвинизмом.
В этой ситуации кальвинизм Агриппы объясняется и как наследственная
религия дворянской семьи, служащей наваррскому дому Бурбонов, и как со-
знательно принятое мировоззрение, укрепленное ненавистью рыцаря к крупным
феодалам, ненавистью гуманиста к духовной диктатуре Рима.
Специфическая религиозная окраска споров и диспутов эпохи повлияла на
весь строй мышления Агриппы. К нему целиком можно отнести то, что сказано
Марксом об английской буржуазной революции: «...Кромвель и английский
народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями
и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета» '.
Обратившись к циклу поэм Агриппы, заметим, что цикл этот явственно
членится на три части — не композиционно, а по своей тематике: поэмы «Бед-
ствия», «Государи», «Лезвия» посвящены преимущественно общеисторическим
событиям французской жизни XVI в.; поэмы «Золотая палата» и «Пламена»
вырастают из фактов истории кальвинистской и протестантской церкви и по-
строены на отдельных эпизодах борьбы реформы против папства; наконец, по-
эмы «Возмездие» и «Суд»— мечта о неосуществившейся расправе с полити-
ческими врагами кальвинизма; избежав мести Агриппы и его единомышленни-
ков, эти враги не избегнут суда истории, высшей справедливости.
1 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8.
С. 120.
40
В целом эти три темы, объединенные циклом поэм Агриппы, подводили итог
целому полустолетию французской политической мысли и французской лите-
ратуры. Поэмы Агриппы по-своему выражают основные важнейшие идеи, вол-
новавшие его современников, и подчас эти идеи в строках Агриппы были вы-
сказаны острее и шире, чем в книгах политиков, теологов и мемуаристов.
Присмотримся к литературно-политической актуальности «Трагических по-
эм», которая раскрывается полностью только на всем богатейшем фоне фран-
цузской общественной мысли XVI в.
Итак, первая тема — общеисторические события, религиозная война, ин-
тервенция, развал Франции (поэмы «Бедствия», «Государи» и «Лезвия»). Ви-
новников всего этого Агриппа видел в семье Валуа и ее итальянском окруже-
нии, в кардинале Шарле Лоррэнском и особенно в папской церкви с ее агента-
ми-иезуитами. Таково было мнение не только Агриппы, но и всех его выдаю-
щихся современников-кальвинистов. Агриппа делал некое поэтическое обоб-
щение, вывод в стихах, построенный не только на личном опыте, но и на целом
ряде боевых политических книг, приток которых особенно оживился именно
в 70-х годах XVI в., к которым, как мы помним, относится во всяком случае
первая поэма его цикла.
Ознакомимся с этой публицистической основой «Трагических поэм».
В 1573 г. выходит знаменитый «Призыв к пробуждению французов», под-
писанный «Евсением Филадельфом, Космополитом» (псевдоним так и остался
нераскрытым). Книга эта была своеобразной политической энциклопедией
70-х годов XVI в. В ней изображалось фантастическое странствование трех
путников — Филалета, Политики и Историографа,— ищущих в Европе
местопребывание Истины, которую они находят в Венгрии под покровительст-
вом великого Турка (невольно вспоминается надпись на кошельках и поясах
гёзов 1—«лучше турок, чем папа»). Беседа Истины с гугенотом Филалетом
прервана воплем церкви, жалующейся на смуту и гражданскую войну во
Франции. Особое негодование церкви вызывает Варфоломеевская ночь и гибель
Колиньи. Вся эта часть существенно напоминает соответствующие места из
«Бедствий» и «Лезвий», а завершающее жалобу церкви библейское проклятие
отзовется эхом в частых проклятиях, щедро рассыпаемых Агриппой.
Картина гражданской войны, раздирающей Францию, намечена уже здесь.
В том же 1573 г. появляется книга известного кальвиниста-памфлетиста
Отмана —«Франко-Галлия», остро направленная против папы, макиавеллизма
и итальянского засилья. Книга напоминала французам о временах, когда Рим
трепетал перед мечом галла Бренна. А. д'Обинье так и начинал свою поэму:
«давайте двинемся на легионы Рима» и сам себя называл «франко-галлом».
Итальянское засилье тесно связывалось в представлении Агриппы с двором
Екатерины Медичи и с самой «Иезавелью»— одним из главных персонажей его
поэм. Ненависть гугенотов к Екатерине нашла себе выход во множестве на-
родных песен и в целой библиотеке памфлетов. «Минервой» была Екатерина
для учтивого придворного Ронсара и апокалипсической блудницей для кальви-
нистов. В 1574 г. появилось беспощадное «Житие св. Екатерины», острый
пасквиль на королеву-мать, приписываемый либо Анри Этьену, либо де Серру.
В частности, «Житие» обвиняло, подобно народным песням, вдову Анри II
в широком применении ядов и указывало ее жертвы — гугенота д'Андело, бра-
та Колиньи, мать Анри Наваррского — Жанну д'Альбрэ, кардинала Шатильо-
на, родственника Колиньи, дофина Франсуа и прочих. Этот перечень мы найдем
и у Агриппы. В 1575 г. сам де Без, учитель Агриппы, столп кальвинизма, вы-
ступал против «Иезавели»-Екатерины со своими «Беседами о Екатерине Меди-
чи». Против нее была направлена и ехидная «Гинократия» («Женовластие»)
1 Гёзы — борцы за независимость Нидерландов XVI в.; французские кальвинисты помогали
гёзам в их борьбе против испанского владычества во Фландрии.
41
поэта-кальвиниста Шандье, сыгравшего такую важную роль в борьбе, разыг-
равшейся вокруг политических стихов Ронсара.
Рядом с «Иезавелью»-Екатериной Агриппа проклинал «Ахитофеля»— кар-
динала Шарля де Гюиза. Но «кровавый кардинал» был уже заклеймен тем же
самым Отманом в его «Послании против тигра Франции». Отману вторил пуб-
лицист-гугенот Ренье де ла Планш в своей «Книге купцов», старающийся раз-
дуть ссору кардинала с парижанами и натравить парижские корпорации на
Гюизов. После смерти кардинала Ла Планш почтил его еще одним памфлетом
«Житие Шарля из Лоррэна», который перекликался с латинским памфлетом де
Беза, направленным против того же кардинала.
Нападки на итальянцев и «итальянщину» под пером Агриппы превращались
в борьбу против ненавистного для него макиавеллизма (если он и не мог опре-
делить это понятие, то оно принимает в его политическом мировоззрении со-
вершенно конкретный исторический облик). Макиавеллизм во Франции — это
ненавистный двор Валуа, его политика, которая в своем «коварстве» представ-
лялась Агриппе «нефранцузской», «итальянской». Поэтому неразрывно связано
у Агриппы с ненавистью к «итальянцам» и его резко отрицательное отношение
к придворным, к «светской черни», которой в лицо бросил юный Ла-Боэси свой
великолепный цицеронианский памфлет «Против одного», возможно, повлияв-
ший на Агриппу. Это резкое осуждение придворной знати, дворянчиков, при-
служивающихся королю и его фаворитам, станет одной из основных тем романа
Агриппы «Фенест», даст тему для сатиры современника Агриппы — поэта-реа-
листа Матюрена Ренье.
«Рыцарское» самоощущение Агриппы особенно ясно в его взглядах на по-
ложение и поведение придворного. Сатира на двор развертывается полнее всего
во второй поэме —«Государи». Французская сатира XVI в. особо отметила то,
что поразило и Агриппу в придворной жизни эпохи Анри III — разнузданный,
противоестественный разврат. Тонкая, но лишенная политической силы сатира
на жизнь двора этого короля дана уже в книге поэта Артюса «Остров гермаф-
родитов», где описаны приключения почтенного благонравного француза, сбе-
жавшего от ужасов гражданской войны во Франции и попавшего на блажен-
ный плавающий остров, отданный воле ветров и волн. Остров этот — царство
«Великого Гермафродита», под которым недвусмысленно подразумевался сам
Анри III. Боги королевства — Вакх, Венера и Купидон; королевство управля-
ется особым сводом законов, который подписан «императором двуликим, Гели-
огабалом, гермафродитом, гоморрянином, евнухом, вечно нечестивым».
Задевая самого короля, Артюс тем более высмеивал его «миньонов», заси-
лия которых не выдерживал даже Ронсар, деликатно возмущавшийся распу-
щенностью Анри III в своих «Сонетах о государстве». Старый слуга рода Ва-
луа, великий французский поэт XVI в. предостерегал своего монарха: «Вы иг-
раете Вашей короной, как костями». Впрочем, не только и даже не столько гу-
геноты не прощали Анри III его привычек, сколько сторонники Гюизов, уже
вступавших с ним в борьбу из-за трона. Гюизы нашли верный способ досаж-
дать королю убийством его любимцев на спровоцированных дуэлях. Не отста-
вали и соратники Гюизов — лигеры. Их проповедник Буше громил прегрешения
последнего Валуа с не меньшим жаром, чем Агриппа.
Да, но Агриппа негодовал на Анри III не только за миньонов и придворный
разврат. Он видел в нем и в его политике воплощение ненавистного макиавел-
лизма, примеров которого привести поэт-гугенот мог немало. Такие интриги
Анри III, как убийство Гюизов и ловкое использование в 1576 г. первой Лиги,
направленной отчасти против него, но им же одураченной, были сами по себе
доказательствами того, чего не прощал королю Агриппа,— выявлением поли-
тической двуличности, фальши, лживости Анри III. В своей критике двора
и особы короля Агриппа тоже был не одинок: не только книга Ла-Боэси была
к тому времени в арсенале произведений, насыщенных теми же идеями, но вы-
42
ступил уже и «галльский Брут»— Юбер Ланге, автор латинского трактата
«Требование к тирании», который был направлен именно против макиавеллиз-
ма. Вопросы, поставленные Ланге, были чрезвычайно актуальны для гугенотов.
Ланге спрашивал, надо ли подчиняться государям, когда они поступают против
«божеских законов»? Призывая «гнев божий» на Анри III, Агриппа отвечал на
этот вопрос отрицательно. Ланге спрашивал, можно ли отнять власть у госу-
даря, раз он приносит вред своему государству? Агриппа всей своей поэмой
«Бедствия» иллюстрировал мысль о «вреде государству», нанесенном Екатери-
ной Медичи и Гюизами, и был сторонником отстранения от власти дома Валуа.
Ланге ставил вопрос о помощи со стороны иностранных государей народу, ко-
торый поднял борьбу против тирана. Агриппа, при всей своей искреннейшей
любви к родине, был космополитом-кальвинистом и воспринимал как нечто
вполне естественное участие монархов-протестантов — Елизаветы Английской
и Казимира Пфальцского — в религиозных войнах во Франции. А участие это
ложилось тяжелейшим бременем на французский народ. В компенсацию за во-
енную помощь гугенотам Елизавета 1 оккупировала Кале, рейтары Казимира
Пфальцского грабили страну не хуже испанцев Филиппа II, приглашенных
Гюизами.
Поэма «Государи»— самое мощное выступление против макиавеллизма во
французской литературе XVI — XVII вв. В обстановке борьбы за победу Анри
Наваррского поэма должна была сыграть значительную роль, и не менее зна-
чительна могла быть эта роль в годы регентства Марии Медичи. Ненависть
к итальянцам, как было сказано выше, неразрывна с ненавистью Агриппы
к политике Анри III, который, действительно, охотно перенимал итальянские
манеры и моды, утвержденные при дворе еще Екатериной Медичи. Ныне эти
моды еще усилились благодаря особой симпатии Анри III к итальянским госу-
дарям и ко всей придворной итальянской цивилизации XVI в. На обратном пути
из Польши Анри III особо долго задержался именно в Италии и прибыл из нее
во Францию, окруженный целой свитой итальянцев. Близкими к Анри III
людьми были итальянцы-ученые Корбинелли и дель Бене. Инспектором пехоты
стал итальянец Строцци, главнокомандующим — Лодовико Гонзаго, канц-
лером — итальянец Бираг. Французские финансы оказались в руках итальян-
цев Гонди и Сардини, по поводу которого сложилась знаменитая француз-
ская народная песенка о том, как итальянская сардинка превратилась во
Франции в кита. Одним из первых важных событий начала царствования
Анри III была уступка герцогу Савойскому, итальянскому государю, ряда
важных укрепленных пунктов, захваченных при Анри II. Уступку эту Ан-
ри III сделал даже без ведома своих военных советников. Если вспомнить,
что защитник Екатерины Медичи, французский придворный, итальянец
Камилло Капилапи воспел Варфоломеевскую ночь в своей макиавеллистской
брошюре «Стратагема Шарля IX», то ненависть к итальянцам, как к вдох-
новителям макиавеллизма при дворе Анри III, станет окончательно понят-
ной. Для Агриппы Анри III — макиавеллистский государь, «тиран», а идеи
тираноборства распространяются в 70—80-е годы во Франции очень быстро.
Но и Гюизы и Медичи, и Валуа — оружие в руках главного, с точки зрения
Агриппы, врага Франции — в руках папизма, «папского волка». Если в своей
ненависти к светским государям Франции Агриппа был далеко не одинок,
с особой выразительностью высказывал мысли не только многих передовых
писателей, а иногда и мнение народных масс, то уж тут Агриппа — только одно
из многочисленных литературно-публицистических явлений, порожденных
многовековой борьбой против папизма. Поэмы «Золотая палата», «Пламена»,
«Возмездие» и «Суд» посвящены именно вредному влиянию папизма на жизнь
1 Агриппа идеализирует Елизавету как королеву-протестантку и в поэме «Лезвия» называет ее
«нежной Елизаветой».
43
Франции. Если они не являются антикатолическими в догматическом смысле, то
их антипапистская тенденция вполне ясна. Здесь Агриппа опирался прежде
всего на оплот новой церкви — на Кальвина и на Лютера с их публицисти-
ческими выступлениями против папы. Но кроме этих выступлений существова-
ла и другая, собственно художественная антипапистская литература. Знаме-
нитый сподвижник Кальвина, гугенотский писатель де Без высмеял папу в ко-
медии «Больной папа», где сатана ставил папе клистир и верховного первосвя-
щенника проносило митрами, индульгенциями, буллами, мощами и колоколами.
Конечно, Агриппа в своих поэмах далек от такого раблезианского вольнодум-
ства, но писания де Беза против папы не могли не повлиять на поэта-гугенота,
к тому же бывшего некоторое время учеником де Беза. Сама идея современной
истории, представленной как борьба папизма—дьявольского наваждения —
и «церкви истинной», реформированной, возникает уже в цитированной выше
книге «Призыв к французам». Ее антипапистская тенденция находит себе под-
держку в книге Анри Этьена «Апология Геродота», где под видом Теофагов
и Филомессов высмеяны католики («богоеды»— намек на догмат причастия —
и «мессолюбы»). Еще полнее критика папизма в защиту политической свободы
Франции от всякого римского влияния развернута во вдумчивом памфлете
Этьена Паскье «Изыскания о Франции». Реалистическая сатира против реак-
ционеров, намеченная уже у Эразма и Гуттена, разнообразно представлена
в литературе, на которой воспитывался Агриппа. «Ответ цензорам-богословам»
Робера Этьена высмеивал ухищрения инквизиторских допросов. Реакционер
Лизе, враг кальвинистов, стал главной персоной знаменитой сатиры де Беза
«Мэтр Бенуа», повлиявшей, кстати, на «Исповедь господина де Санси»— поз-
днюю сатиру Агриппы д'Обинье. Мнение де Беза о его противниках видно хотя
бы из слов автора о том, что «если Валаам и его ослица — предметы разные, то
Лизе и его мул — одно и то же». Католики-невежды Евсевий и Иером в диало-
гах замечательного сатирика-кальвиниста Вире дополняют образ Лизе. Вире
недаром указывал на свою близость к народу и к его мнению о папе: «Я не го-
ворю языком Аттики, не мыслю в риторических прикрасах, я часто обращаюсь
к своему патуа»— в народе ходили песни и анекдоты, высмеивавшие папу.
XVI век дает и целый ряд анонимных памфлетов против папы — книги
«Лавочка папы» и «Такса римской курии» высмеивали продажу индульгенций;
цикл сатир «Папская кухня» был посвящен изображению жизни курии, высме-
янной в самом дерзком духе; для протестантской сатиры папа —«антихрист»,
«великий Идол», «разрушитель», «сын дьявола». Нельзя обойти здесь молча-
нием и сатирические эпиграммы Маро, и в особенности Рабле (как подлинного,
так и в «Путешествии Пантагрюэля»). Карикатура на королевскую юстицию —
«Остров мохнатых кошек»— обязательно стоит в связи с «Золотой палатой»
Агриппы (вспомним, что Агриппа высоко ценил Рабле).
Все эти пестрые, в разное время и в разных условиях возникавшие явления
слились в нечто целое, когда с 1594 г. группа талантливых писателей и уче-
ных — кружок Жака Жилло ] — создала свою «Мениппову сатиру» 2.
Пусть из числа участников группы четверо были католики, а двое — об-
ращенные в католичество протестанты, но в своей лояльности к Анри IV,
в своем патриотизме эта группа нашла достаточно доводов для того, чтобы по-
казать папскую политику и католическую догму — чудодейственный «Католи-
кон», «Мениппову сатиру»— как орудие в руках Испании, использованное во
вред Франции. Как ни далек был в идейном смысле Агриппа от этой группы так
называемых «политиков» (со многими из них он был хорошо знаком и ценил,
в частности, мнение Никола Рапэна), но и этот литературный памфлет, кос-
1 В состав кружка входили: каноник Л е р у а, парламентский советник Ж. Жилло, адвокат
Н. Р а п э н, поэт П а с с е р а, медик К р е с т ь е н, юрист Питу.
2 Эта сатира написана в подражание «Менипповой сатире» римского сатирика Варрона, для
которой характерно соединение стиха и прозы.
44
венно задевающий папу, лишний раз показывает популярность борьбы против
папистских влияний даже в среде будущих католических подданных Анри
Наваррского. Мы уже говорили, что в несчастьях, терзающих Францию, Аг-
риппа винит также Лигу. Здесь он тоже выступает единым фронтом с «полити-
ками», ибо «Мениппова сатира» в основном была направлена как раз против
Лиги и против ее испанско-римских связей, так как лигеры стали явными аген-
тами Испании и допустили испанский гарнизон в Париж. Агриппа вполне со-
гласился бы с тем определением, которое дано в «Менипповой сатире» одному
из заправил Лиги, попу Буше: «войны гражданской поджигатель и всех злодеев
коновод». Агриппа видел в Лиге, Гюизах и иезуитах происки испанской поли-
тики, коварно пользовавшейся все большим ослаблением французского госу-
дарства. И здесь он был близок к авторам «Менипповой сатиры», из которых
Пассера уже предлагал мир с кальвинистами для восстановления Франции
и отражения испанской опасности, особенно выразительно обрисованной
в трактате Юро, так и названном «Антиэспаньоль». В изображении шутовской
процессии лигеров, которая является одним из важнейших эпизодов «Менип-
повой сатиры» (сатира на лигерскую манифестацию 1590 г.), основные коми-
ческие персонажи — Испанец и Лоррэнец— были наибольшим литературным
достижением антииспанской и антигюизовской сатиры '.
Наконец, против папизма был направлен неуклюжий и аморфный трактат
писателя-рыцаря Марникса де Сент-Альдегонде, деятеля нидерландской рево-
люции, «Различия религий», где еще раз было подвергнуто осмеянию и про-
клято папство, религия «какотеликов» (непристойное изменение слова «като-
лик») с ее верными слугами — иезуитами, французское название ордена кото-
рых (société de Jesus Christ) было переделано с помощью игры слов и стало
обозначать «город глупцов» (sotte cité). Мы уже говорили о ненависти Агриппы
к иезуитам, к этому «мечу, рукоять которого в Риме». Агриппа был поддержан
в этом чувстве и Паскье в его «Разысканиях», и даже Ронсаром, с брезгли-
востью наблюдавшим проникновение иезуитов в Лувр. Любая книга, на-
правленная в то время против папы, обрушивалась попутно и на иезуитов, ко-
торые со своей стороны вели деятельную агитацию, носившую весьма недвус-
мысленный характер. Как только во Франции наметилась возможность перехо-
да власти к Анри Наваррскому, иезуитские авторы выступили с пропагандой
борьбы против такой королевской власти, которая непокорна папе (кардинал
Беллярмин —«О власти первосвященника», иезуит Мариана —«О власти ко-
ролевской»). Убийство Анри IV, совершенное в 1610 г. Равальяком, было под-
готовлено и осуществлено в духе идей, проповедовавшихся в этих иезуитских
брошюрах.
Анонимные «Набат против Беллярмина» и «Окровавленная сорочка Анри
Великого» ничего уже не могли изменить в упрочившемся влиянии иезуитов на
внутренние дела Франции, но в обстановке напряженной борьбы французского
общественного мнения против иезуитского засилья особенно веско звучат ци-
тированные слова Агриппы, обращенные против ордена. Иезуиты, толкнувшие
Равальяка на убийство короля, были для Агриппы памятны как завзятые ли-
герские агитаторы, бешеные враги Анри Наваррского и гугенотов. Недаром
иезуит Лайнец, прибывший от Лойолы еще ко двору Екатерины Медичи, обо-
звал гугенотов «волками, лисами, змеями, убийцами».
В своей непоколебимой ненависти к папизму Агриппа был поддержан уже
в XVII в. старым другом Дюплесси-Морнеем, который в книге «Тайна неспра-
ведливости» еще раз выступил против папизма, аргументируя свою борьбу
против него всей историей Франции, с его точки зрения, немало страдавшей от
папизма и от своего попустительства в отношении Рима. Как молодой Агриппа
1 Интересно отметить упоминание о «Менипповой сатире» у Маркса («Вопрос о войне.— Фи-
нансовые дела.— Забастовки»//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 9. С. 431).
45
призывал «ринуться на легионы Рима», так и его старый соратник, уже всеми
забытый провинциальный гугенот, заклинал молодого сына Анри Великого об-
рушиться на Рим и положить конец его козням.
Конечно, этот список книг, на которых мог воспитываться пламенный анти-
папизм Агриппы, мог бы быть умножен. Но кроме указания на все эти сотни
страниц, вероятно, прошедших перед его глазами, важно отметить и нечто
другое: в своей ненависти к папизму Агриппа лишен той истинно ханжеской
ограниченности, которая заставляла вульгарно переругиваться Кальвина
и Лютера или третировала немецких протестантов, обзывая их «обезьяньими
рожами», «ослиными ушами» и т. п.
В трагическом синодике «Пламена» Агриппа объединяет именно всех муче-
ников-антипапистов в один кровавый строй. Выступая против инквизиции, он
в поэме «Возмездие» дает такую широкую картину религиозных гонений, кото-
рая перерастает в протест против религиозной нетерпимости в целом. Этот гу-
манистический пафос делает поэмы Агриппы самым сильным произведением
современной ему европейской литературы, направленной против инквизиции.
Французских писателей-протестантов инквизиция особенно никогда не за-
нимала в силу ее специфического положения во Франции. Но Агриппа умыш-
ленно не ограничивает себя здесь узко французскими интересами. Призывая
к всеевропейской борьбе против папизма, его политики и его агентов, он вы-
ступает в своей поэме от лица всей непапистской христианской церкви, вспо-
миная даже далекую Москву.
Этот гуманистический всеевропейский масштаб антипапистской борьбы
в поэмах Агриппы выгодно отличает их автора от всех его современников.
Вдумываясь в характер этой идеи Агриппы, невольно вспоминаешь знаменитый
«Великий план» Анри IV, направленный к пацификации Европы и полному
ограничению политического влияния Рима и Испании.
Таковы враги Франции и Европы в изображении Агриппы: папа — тира-
ны — Лига — испано-итальянское влияние.
Из содержания поэм Агриппы видно, что образам врагов и злых демонов
Франции противопоставлен в меньшей степени образ адмирала Колиньи,
в большей — образ Анри IV. Адмирал Колиньи был узкогугенотский герой,
вызывавший такую ненависть в католических кругах, что позже поэт Депорт не
постеснялся оскорбить прах гугенотского вождя ругательным сонетом «К Ко-
линьи».
Личный пиетет Агриппы к памяти адмирала был чрезвычайно велик. Для
него Колиньи был образцом добродетельного человека, рыцаря и патриота,
о чем пространно говорится во «Всеобщей истории», где Колиньи и его родня —
семья Шатильонов — прямо противопоставлены «гнезду выродков» Валуа.
Но верное чутье политического поэта, далекого от сектантской узости, не
изменило Агриппе, когда он в своих поэмах отдал предпочтение именно образу
Анри Наваррского. Ожесточенная борьба этого государя за французский пре-
стол отражена в не менее ожесточенной «памфлетной войне», особенно уси-
лившейся в 1589 г. Лигеры звали его «аптекарем дьявола», «беарнским мясни-
ком», «козлом сатаны». Талантливый писатель — лигер Дорлеан в памфлете
«Банкет графа д'Арет» особо едко высмеял и самого Наваррца и его окруже-
ние. Уже упоминавшийся лигер Буше оставил весьма многозначительную для
всего облика Анри Наваррского характеристику: «Он весел, говорят, большой
шутник, но это присуще всей их братии: и Рабле, и Анри Этьену». Нападки на
Беарнца особенно настойчивы в интересной лигерской брошюре «Всадник
и мужик», где уже признаются его военные и административные таланты, но где
сказано, что несмотря на все это Беарнец — еретик, и потому его дело — дело
дьявола. Но против всего этого публицистического, проповеднического и лите-
ратурного антинаваррского арсенала «политики» сумели выдвинуть свою ве-
ликолепную «Мениппову сатиру», утверждавшую права Анри Наваррского на
46
французский престол. Целое семейство Отманов — старый памфлетист Фран-
суа, его брат Антуан и племянник Жан — в ряде латинских трактатов поддер-
живали раблезианскую сатиру мениппейцев. Однако героический облик Анри-
победителя, Анри-«избранника божия» дан именно в эпопее Агриппы, вобрав-
шей в себя и старую феодальную привязанность дома д'Обинье к наваррской
короне, и расчет «политиков», и юридические домыслы кальвинистских ученых.
В наваррском короле Агриппа видел надежду Франции на спасение от происков
пап и тиранов.
Поэмы «Бедствия» и «Лезвия», во многом сходные, показывают плоды пап-
ской тиранической политики — картины гражданской войны во Франции. Ко-
нечно, и здесь Агриппа как писатель был не одинок. Прежде всего, эту тему он
развернул не только в своих поэмах, но и в своей «Всеобщей истории», где по-
казал себя выдающимся мастером художественной мемуарной прозы. Но здесь
он имел длинный ряд предшественников и, несомненно, учителей — канцлера
л'Опиталя («Цель войны и мира»), протестанта де ла Ну («Беседы полити-
ческие и военные») и угрюмого католика Монлюка («Комментарии»), чью
книгу Анри IV назвал «библией солдата». Прямая связь мемуаров и косвен-
ная — поэм д'Обинье с мемуарами л'Эстуаля («Мемуары-дневник») может
считаться доказанной. Помещая имя д'Обинье среди выдающихся историков
XVI в., с ним рядом обыкновенно называют также Ла Попелиньера («История
Франции и Европы с 1551 по 1571 г.») и де Ту («История моего времени»). Ко-
нечно, уже эта, даже неполная, книжная полка мемуаров не осталась без вли-
яния и на поэмы, и на «Всеобщую историю» Агриппы, затрагивая и те сюжеты,
о которых было сказано выше (папизм, Валуа, Лига, итальянцы и испанцы во
Франции) — но это все была историография.
В области собственно художественной литературы единственная попытка
изобразить бедствия, потрясшие Францию, была сделана только Ронсаром за
десятилетие до Агриппы. Политическая тематика в поэзии Ронсара начинает
бурно развиваться с 1562 г., параллельно обострению религиозных войн во
Франции. Наиболее яркие образцы политической поэзии Ронсара — две «Речи
о бедствиях нашего времени», «Увещание к народу Франции» и «Ответ на кле-
вету неких женевских проповедников и попов». Здесь уместно сравнить их по-
литический уровень и размах со всем характером поэм Агриппы.
Поэмы Ронсара, видимо, были продиктованы чувством долго копившейся
презрительной ненависти к гугенотам и направлены именно против них. Ронсар
безоговорочно осуждал всех протестантов, «реформированную церковь» в це-
лом, ибо на ней, по его мнению, лежала вина в бедствиях Франции. Как пом-
ним, Агриппа был осторожнее и в бедствиях Франции обвинял не католиков
в целом, а Валуа и Гюизов. Он мыслил как политик, а не как фанатик. Ронсар
негодовал на гугенотов за то, что под их влиянием «подданный презрел клятвы,
данные своему королю». Громя Женеву, он подчеркнул, что «нечестивый» город
изгнал своих законных государей — герцогов Савойских. Ронсар бичевал гу-
генотов за то, что они привели во Францию интервентов и начали губительную
внешнюю войну и внутреннюю смуту. Наконец, Ронсар восставал вообще про-
тив права дискутировать на религиозные темы:
Прекрасно спор вести о чудесах природы,
О молниях, ветрах, явлениях погоды,
Но где религия — там споры не нужны:
Не дискутировать, а верить мы должны.
(«Увещание к народу Франции»)
Объясняя движение кальвинистов как мятеж против церкви и государства,
Ронсар упрекал и гугенотов в демократизме, в том, что их пасторы —«камен-
щики и цирюльники». Изящный царедворец, Ронсар не преминул посмеяться
над мрачным костюмом гугенотов и над их неэлегантной внешностью.
47
Изысканный стилист, он не отказал себе в удовольствии отметить плохой язык
и грубый стиль их проповедей и писаний. Вот сатирический образ гугенота
у Ронсара:
Он спешно учится, чтоб гугенотом стать,
Как папу поносить и мессу осуждать:
Не бреется, грустит; в гостях молчит серьезно;
Наморщив лоб, глядит пронзительно и грозно.
Забыв о гребешке и брови отрастив,
Он худ и бледнолик, суров и молчалив,
Ведет себя чудно, прослыть ученым хочет.
О вечности, Христе и господе бормочет.
Что и говорить, такого живого, реалистического портрета мы не найдем
у Агриппы.
Но, сам оставаясь поэтичным и изящным, витиевато называя немецких
рейтаров «воинственными готами», «пьющими воды Дуная и Рейна», Ронсар
обрушивается на гугенотов, требует дальнейшей войны против них, наказания,
истребления виновных. Ронсар бросал в лицо гугенотам справедливые обви-
нения:
При помощи огня, и пороха, и стали
Вы в бредни ваши нас поверить понуждали?
но забывал о кострах инквизиции, пылавших по всей Европе. Ронсар создал
потрясающий реалистический образ воинствующей протестантской церкви —
образ «Христа с пистолетами за поясом, с лицом, черным от порохового дыма»,
но не захотел увидеть такого же католического Христа, уже целое тысячелетие
лившего кровь по всем землям Европы. Правда, иногда в стихах Ронсара про-
бивается протест против всей этой ненавистной и непонятной для него, при-
дворного и поэта, кровавой кутерьмы из-за теологических споров, но уже
и Ронсар понимал, что суть дела заключается далеко не только в них.
Красноречивые и высоко поэтические поэмы Ронсара уступали, однако,
в широте картины поэмам д'Обинье. Ронсар не показал бедствий народных,
а на них-то Агриппа обратил особое внимание.
Агриппа подвел итог всему политическому опыту своего поколения, увидел
в Екатерине, Гюизах, Лиге, Риме единый строй врагов Франции и обрушился на
них. Он атаковал этих врагов, не выступая «за короля», окруженного «плохими
советниками», как это возвестил в своих (или приписываемых ему) стихах поэт
и полководец гугенотов Конде. Нет, Агриппа ратоборствовал за счастье своей
родины, ибо именно ее страдальческий образ властно заполонил поэтическое
воображение Агриппы.
Ни у одного из поэтов и писателей, в разной мере повлиявших на Агриппу,
мы не найдем такой печали о родине и такой заботы о народе, какие звучат
в поэме «Бедствия». Это внимание Агриппы к «земледельцу», так отличающее
его от современников, встретим мы и в его поздней грозной сатире на дворян-
перевертней —«Исповеди господина де Санси»: «Пот несчастного земледельца
превращается в жир процветающего подлизы или богача. То, что добыто тру-
дами виноградаря из Гаскони, наполняет брюхо паразита. Слезы вдовы из
разрушенной Бретани сделаются румянами придворных дам...» «Всеобщая ис- *
тория» Агриппы пестрит подобными же отступлениями, совсем нечастыми для
историков его эпохи. Наконец, уже в Женеве, составляя свои мемуары, Агриппа
вспомнит, как жестоко корил себя за то, что «он не приказал наказать солдата-
овернца, убившего крестьянина».
Известно, что французское крестьянство, ожесточенное и разоренное вой-
ной, пыталось положить ей конец. Иногда это выливалось в стихийные распра-
вы и с католиками, и с гугенотами — с теми, кто в данный момент терпел пора-
жение. В 1594 г. на юге Франции развернулось целое большое крестьянское
48
восстание «кроканов», призывавшее объединиться под своими знаменами
и католиков, и гугенотов, чтобы положить конец смуте.
В расправах с крестьянами гугеноты и католики будто стремились превзойти
друг друга в жестокости — и Агриппа-историк во «Всеобщей истории» повест-
вует, как в 1569 г. обожаемый им «Катон наших лет», адмирал Колиньи, рас-
правился с крестьянами, разгромившими отставший гугенотский отряд: «В за-
мке дела Шапель-Фоше их (крестьян.— Р. С.) он перебил хладнокровно в од-
ном зале двести шестьдесят душ».
Ни упрека, ни согласия, но в этой детали «перебил хладнокровно» («de
sang-froid») звучит какое-то явное осуждение: Агриппа д'Обинье никогда не
был палачом. Пожалуй, единственной параллелью к частым мыслям Агриппы
о крестьянстве может послужить только упомянутая уже брошюра «Всадник
и мужик», вышедшая из ненавистных для Агриппы лигерских кругов и очень
подробно изображавшая тяжелейшее положение крестьянства, ограбленного
и измученного религиозными войнами.
Ронсар, изображая войну во Франции, сетовал на нее и проклинал ее ви-
новников как верный королевский слуга; поэты Пассера и Белло воспевали
в придворных одах победу над гугенотами при Монконтуре; тот же Белло
оправдывал события Варфоломеевской ночи в латинском «Стихе о войне гуге-
нотской», подпевая итальянцу Капилапи с его «Стратагемой Шарля IX», изоб-
ражая кровавые события религиозных войн в кривляющихся макаронических
стишках '.
Над всеми этими произведениями возвышается истинно трагический цикл
поэм Агриппы, взволнованно показавшего картины гибели родины в поэме
«Бедствия» и давшего лучшее поэтическое изображение Варфоломеевской ночи
в поэме «Лезвия». Агриппа болел душой за народ, и это принципиально отли-
чало его от всех его современников.
Поэмы Агриппы (во всяком случае «Бедствия») призывали не к продолже-
нию войны, а к миру; пусть мир понимался, как передышка перед новой схват-
кой — уже с Испанией, но нельзя это стремление к миру во Франции объяснить
только тем, что в то время, когда Агриппа начал свою поэму, гугеноты понесли
тяжелое военное поражение.
Нет, требование внутреннего мира для Франции органично для Агриппы.
В последних поэмах «Возмездие» и «Суд» Агриппа показывает не расправу
с католиками «добрым порохом, добрым свинцом, добрым огнем, добрыми
пистолетами» (именно этим советовал воздействовать на гугенотов Ронсар),
а «суд бога», суд справедливости, суд истории над феодально-католической
реакцией. Та же пропаганда мира была одной из основных идей его «Всеобщей
истории», законченной, как мы знаем, немного позже последней переработки
«Трагических поэм».
Правда, призывая к миру, Агриппа принял участие в новых религиозных
войнах при Луи XIII, но это объясняется как идейной невозможностью для него
отхода от гугенотов, капитуляции перед королевской властью, так и тем, что
свою пропаганду мира, свое предостережение он направлял к католикам, к ко-
ролевской власти, как бы стремясь удержать министров Луи XIII от дальней-
шего наступления на гугенотов. Когда эта миссия не удалась, Агриппа еще раз
выступил против своих старых врагов («и друзей, ставших врагами»), но не как
старый папефиг с пистолетом в руках и шпагой на боку, а как гуманист, созна-
тельно защищавший свое право свободно мыслить и высказывать свои мысли.
Такая независимая позиция, казалось бы, несколько неосторожная для про-
винциального губернатора, располагающего сотней всадников и двумя укреп-
1 Макароническая поэзия — сатирическая или шуточная поэзия, в которой комизм достигает-
ся благодаря смешению слов и форм из разных языков.— Ред.
49
ленными пунктами, вполне логично вытекает из всей суммы политических
взглядов Агриппы, развернутых в цикле его поэм.
В последнем предисловии к этому циклу Агриппа сам высказывает очень
важную мысль: «Я заслужу имя возмутителя и республиканца; то, что я гово-
рил против тиранов, будет понято, как сказанное против королей». Думается,
что разговоры о нем, как о «возмутителе и республиканце», шли еще при дворе
Анри IV (вспомним обычную резкость Агриппы и его острую фразу о Бернаре
Палисси: «Я б сделал королем горшечника такого»). Во всяком случае, трудно
иначе объяснить причину очень важной беседы между поэтом и Анри IV, о ко-
торой Агриппа рассказывает следующее. Однажды Анри IV призвал его к себе
и просил почитать «Трагические поэмы» «в присутствии господ дю Фей и дю
Пэн». После чтения король вдруг (получается впечатление, что именно «врас-
плох») задал вопрос Агриппе: какой режим считает Агриппа лучшим? На это
Агриппа ответил: «Французская монархия, а за ней польская». Затем Агриппа
пояснил свой взгляд сравнением: как бог на небеси и сатана в аду, так есть ко-
роли и тираны. Короли — это «образы бога», тираны —«образы ада».
Беседа даже в передаче Агриппы производит впечатление проверки его по-
литических убеждений, внезапно сделанной Анри IV. Ответ Агриппы звучит
очень странно: французская монархия имела Генеральные штаты, а польская,
фактически не имея таковых, учредила зато шляхетскую конституцию —«пакта
конвента», которой должен был присягать король, избираемый шляхтой.
Ничего похожего во Франции не было, но Анри IV, с точки зрения гугенот-
ской «шляхты», т. е. именно того рыцарства, к которому принадлежал Агриппа,
был, конечно, ее избранником. Это был как бы чистосердечный урок, данный
Агриппой Анри IV, как бы замаскированное требование о создании такой же
дворянской конституции с выборными правами во Франции.
Конечно, Агриппа не «возмутитель» и не «республиканец», но его грозные
тирады против тиранов должны были встретить сочувственный отклик не только
среди гугенотских рыцарей Анри IV, но и среди гораздо более широких кругов
французского общества.
Итак, Агриппа выступает против «тиранов». Недаром в «Бедствиях» вино-
ваты не католики «вообще» (Ронсар винил гугенотов «вообще»), а дурное
правительство, тирания. С точки зрения Агриппы, тиран — это «плохой» ко-
роль. Что же такое «плохой» король? Это тот, кто не верит своему народу.
«Между королем и народом есть обязательное доверие,— поучает Агриппа.—
Клятвы, нарушенные и попранные государем, освобождают от этих клятв и тех,
кто их давал... Государь, не верящий народу, нарушает веру народа в себя».
Тезису «божественного» права королей Агриппа противопоставлял право под-
данных, которое разрешало им поднимать оружие для защиты от «короля,
превратившегося в тирана»: «Мы обязаны во всем подчиняться королю, и ни
в чем — тирану». Народ, с точки зрения Агриппы, должен помогать королям
удерживать их от несправедливостей, раскрывать им правду, скрытую неради-
выми или преступными слугами. Высокая обязанность помощи королю, идей-
ного воспитания короля ложится на избранных — на пророков, к которым
причислял себя и Агриппа. Все эти мысли Агриппы высказаны в форме афо-
ризмов и выводов преимущественно во «Всеобщей истории» и в переписке, но
«Трагические поэмы» также насыщены ими. Вместо старой Франции Валуа,
Агриппе мерещилось видение Франции с дворянской конституцией, с дворян-
ским сеймом, в котором «пророки», вроде него или Морнея, направляли бы умы
государей и удерживали бы их от деспотизма. С кем же и против кого выступал
Агриппа?
Конечно, очень соблазнительно было бы объявить гугенотские симпатии
и связи Агриппы случайностью или второстепенной деталью, а его причислить
к «политикам», с которыми его роднит и патриотизм, и вера в необходимость
твердой власти, и преданность Анри IV. Но такая «реабилитация» старого гу-
50
генотского капитана невозможна, фальшива: не будучи фанатиком, он все-таки
требовал для гугенотов совершенно особого положения — положения «госу-
дарства в государстве». Он был гугенот, но не смог стать фанатиком; он был
рыцарем Анри Наваррского, но не смог стать придворным короля Анри IV; он
был рыцарем, но печалился об участи крестьянина и горожанина и с презрени-
ем говорил о придворной черни, о королевской тирании, о римской церкви.
Вся эта живая сумма противоречий во многом напоминает путаное и герои-
ческое мировоззрение «отчаянного остряка и умницы» Ульриха фон Гуттена,
смело выступившего против феодальных тиранов в «Фаларизме» (кстати, образ
Фалариса ' неоднократно встречается в словаре Агриппы), против папского
Рима — в «Вадиске», против схоластов и мракобесов немецкой инквизиции —
в «Письмах темных людей».
Трудно говорить не только о параллели, но даже и о беглом сравнении этих
разных судеб гугенота д'Обинье и поэта-рыцаря Гуттена, но слова Маркса:
«...трагическая противоположность между рыцарством, с одной стороны, и им-
ператором и князьями — с другой» 2 звучат применимо и к мыслям Агриппы.
Слова Энгельса о том, что «там, где в своих произведениях Гуттен обращается
к крестьянам, он лишь слегка задевает щекотливый пункт об отношении к дво-
рянству и старается направить всю ярость крестьян главным образом против
попов» 3, тоже очень выпукло освещают апелляцию Агриппы к разоренному
войной французскому крестьянству. Виновников войны он видит не в Колиньи
и Конде, а в Гюизах и Валуа.
И конец Агриппы, перессорившегося с измельчавшими гугенотами, не при-
мирившегося с французским абсолютизмом, конец одинокого женевского из-
гнанника, еще как-то надеявшегося на новый мировой успех протестантизма,
уже вполне укладывается в слова Маркса о гибели Зиккингена: «Он погиб по-
тому, что восстал против существующего или, вернее, против новой формы су-
ществующего как рыцарь и как представитель гибнущего класса» 4.
Идейная трагедия Агриппы заключалась в том, что он сам своею кровью
скреплял эту «новую форму существующего»— абсолютную монархию Анри IV,
против которой он выступил при его сыне Луи XIII. Правдив ли Агриппа как
политический поэт, объективен ли он? Искренен, патетичен — да, но об объек-
тивности говорить нельзя. Агриппа правдив, когда он говорит о положении на-
рода, когда он ополчается против тиранов; но он неправ, приписывая вину
в начале религиозных войн только Екатерине и кардиналу Лоррэнскому. Он
особенно неправ, когда изображает Шарля IX только кровожадным убийцей,
а Анри III только развратником. Шарль IX воспитал свой вкус в общении
с Ронсаром, писал лирические стихи, учредил Академию, в которой, будто бы,
состоял одно время и сам Агриппа. Король Анри III был просвещенный и нег-
лупый государь, долго лавировавший между гугенотами, Лигой, Гюизами, па-
пой. Агриппа свободно нашел бы немало черт, показывающих в Анри III не
только развратника и негодяя, но и тонко образованного придворного XVI в.
Справедливость требует заметить, что во «Всеобщей истории» Агриппа дает
характеристики тех и других исторических лиц гораздо более полно, объектив-
но. Например, Екатерина, которая в поэмах только «Иезавель», в «Истории»
охарактеризована довольно разнообразно. Значит, они не так объективно
изображены в поэмах Агриппы не случайно, а с умыслом: так фигуры их выра-
зительней, так они «трагичней».
Агриппа отчасти страдает тем же, чем и Ронсар: перечисляя в поэме «Пла-
мена» жертвы феодально-католической реакции, он забывает о том, как сви-
1 Фа ларис — легендарный античный тиран, известный своей жестокостью.
2 [Письмо] Маркс — Фердинанду Лассалю. 19 апреля 1859 г.//Маркс К-, Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 29. С. 483.
3 [Письмо] Энгельс — Фердинанду Лассалю. 18 мая 1859 г.//Там же. С. 495.
4 [Письмо] Маркс — Фердинанду Лассалю. 19 апреля 1859 г.//Там же. С. 483.
51
репствовали гугенотские капитаны в католических городах. Но вместе с тем
надо подчеркнуть, что в поэме «Бедствия» ужасы войны он объясняет не только
жестокостью католических войск. В «Мемуарах» он даже определенно будет
вспоминать с искренним омерзением о жестокостях, учиненных его кавале-
ристами и им самим, хотя об этом он говорит весьма туманно, намеками (у со-
ратников, слушающих «Исповедь» молодого д'Обинье, «волосы становятся
дыбом» от выслушанного).
Интересно проследить, как в общих чертах меняются настроения самого
Агриппы на протяжении всего цикла поэм. Поэма «Бедствия» все еще насы-
щена живыми отзвуками только что закончившейся кампании 1577 г.: пала Ла-
Рошель, в лагере гугенотов раздоры; по миру 17 ноября 1577 г. утеряно боль-
шинство свобод, завоеванных в кровавых кампаниях 1575—1576 гг. В этой об-
становке Агриппа создал самую сильную и гуманистическую из своих поэм —
плач по Франции и призыв к миру — поэму «Бедствия».
Вторая поэма —«Государи», направленная против Анри III и его двора,
против королевских фаворитов, вызревала в ту эпоху, когда фактически во
Франции уже было два короля и два двора. «Государи»— наваррская сатира
на Париж и Валуа придворных кругов Анри Наваррского, уже явно претенду-
ющего на общефранцузское политическое значение. Конечно, в ней Агриппа
заботится уже не об участи земледельца. И здесь участь Франции остро беспо-
коит поэта, но в его нападках чувствуется озабоченность друга Анри Наварр-
ского и рыцаря, ненавидящего крупную придворную знать. Это сатира, рас-
считанная более на придворные круги, чем на широкого читателя. Агриппа
в ней явно сбивается с того пророческого тона, который так удачно найден
в «Бедствиях».
«Золотая палата» и «Пламена» показывают Агриппу-гугенота, пожалуй,
менее заметного в первых поэмах. Вспомним, что еще в 1575 г. Агриппа под
командой младшего Гюиза участвовал в разгроме рейтарского немецкого кор-
пуса Торе, шедшего на выручку французским гугенотам; вероятно, создавая
свои кальвинистские инвективы против Лиги и инквизиции, Агриппа искренне
забыл об этом эпизоде. Но вместе с тем общий идейный размах этих поэм,
в особенности поэмы «Пламена», шире. «Пламена» охватывают, как сказано
выше, не одну эпоху и не одну Францию, а демонстрируют широкую богослов-
скую начитанность автора. Кроме того, «Золотая палата» направлена, в част-
ности, против Лиги и носит тот же характер памфлета, что и «Государи», но
памфлета аллегорического.
В «Лезвиях» Агриппа уже явно вспоминает о том, что было им перевидано
на долгом веку капитана и придворного. Однажды «Трагические поэмы» были
названы «гугенотской джестой». Это относится более всего к «Лезвиям», где
именно гугенотизм, воинская легенда о Наваррце и его рыцарях, является
основой. В «Лезвиях» дана меньшая, значительно меньшая картина ужасов
войны, подобных описанным в «Бедствиях»; но читатель зато может проследить
историю религиозных войн в стране в важнейших этапах — и здесь уже гуге-
ноты —«закланные агнцы», понуждаемые к сопротивлению палачами, спрово-
цированные Варфоломеевской ночью.
Так искажается первоначальная гуманистическая концепция «Бедствий»,
в которых Агриппа, обвиняя Екатерину и Гюизов, все же говорил от лица
Франции. В «Лезвиях» он говорит от лица той гугенотской знати, к которой он
принадлежал сам и которая своими клинками снискала победу Наваррцу при
Кутра и Иври, устлав перед тем своими телами парижские мостовые в Варфо-
ломеевскую ночь.
Поэмы «Возмездие» и «Суд» в их обращении к высшей справедливости, в их
подчеркнутом библеизме, отодвигающем расправу с врагом в некое апокалип-
сическое будущее (пусть даже в 1666 г.— и то ждать пришлось бы немало),—
все же явно написаны бойцом, у которого из рук выбито оружие. С негодова-
52
нием видел Агриппа, как д'Эпернон и прочие любимцы Анри III — католи-
ческая знать — шли в гору при Анри Великом; как бывший Наваррец окружал
себя недавними врагами и карал тех, кто считал положение гугенотов при дворе
особым, позволяющим то, что запрещено католикам. «Все мы опьянели от вой-
ны, и пора, наконец, взяться за ум»,— сказал Анри IV в речи к депутатам Ту-
лузского парламента 3 ноября 1599 г. Правда, сказано это было как раз в за-
щиту протестантов, но эти замечательные слова относились и к тем из гугено-
тов, которые не хотели «взяться за ум».
Агриппа «взялся за ум» и уехал в Майезак, но от кровавого дурмана войны
он уже не избавился до смерти. Его писания, ратующие за мир, неустанно вос-
производят все те же картины бесконечных стычек и побоищ. Поэмы «Возмез-
дие» и «Суд» переносят перспективу войны — расправу с врагами гугенотиз-
ма — в мрачную перспективу судного дня и в план морального торжества над
врагами, покаранными богом-справедливостью. О Франции в «Возмездии»
и «Суде» вспоминает автор уже совсем редко. Пройдет несколько лет, и он,
мечтавший в первой поэме в 1577 г. о мире для своей родины, снова будет
в седле, а кругом опять задымятся пожарища новой религиозной войны, ведо-
мой последышами Колиньи и Конде — де Роаном и прочими.
Подведем некоторые итоги наблюдениям, собранным выше.
1. «Трагические поэмы» Теодора Агриппы д'Обинье вобрали в себя бога-
тейший исторический, философский, публицистический и теологический ма-
териал.
2. Автор «Трагических поэм» сумел органически ввести этот материал в по-
этическую стихию своего произведения и создал образец политической поэзии,
который не имеет себе равных в современной ему поэзии XVI в.
3. Основные политические проблемы «Трагических поэм» глубоко актуальны
для Франции XVI —XVII вв.
4. В основном эти проблемы рассмотрены с точки зрения гугенотского ры-
царства— дворянства Анри Наваррского. Но вместе с тем, рассматривая эти
проблемы, д'Обинье показывает себя не фанатиком, не человеком узкофео-
дальных интересов, а врагом феодально-католической реакции, воинствующим
гуманистом и патриотом.
5. В художественной литературе XVI — XVII вв. «Трагические поэмы»—
наиболее полное отражение эпохи религиозных войн во Франции.
1940
ШЕКСПИР
Как со своими предшественниками, так и со своими современниками Шекс-
пир был связан множеством сложных связей. Шекспироведы высказывают бо-
лее или менее веские предположения о том, что как своему предшественнику
Марло, так и своему современнику Филиппу Мессинджеру Шекспир обязан
большим количеством стихов, заимствованных прямо из текста их произведе-
ний. Во многих случаях можно говорить о сотрудничестве Шекспира с другими
драматургами, как это утверждают относительно драмы «Король Генрих VIII».
Наконец, можно говорить об использовании ситуаций и характеров, которые
в том или ином виде уводят нас к их прототипам у предшественников или сов-
ременников. Шекспироведы больше столетия ищут точные средства для опре-
деления этих заимствований; сравнивая особенности стиха у Шекспира с осо-
бенностями стиха у других английских драматургов его эпохи, они приходят
к тем или иным выводам, находя у Шекспира порой тысячи строк заимст-
вованных или подражательных.
53
Но эти наблюдения, время от времени пытающиеся вырвать из наследия
Шекспира ту или иную прославленную пьесу, не имеют принципиального зна-
чения для историка литературы.
Следует иметь в виду, что в эпоху Шекспира подобные заимствования счи-
тались дозволенными. Авторского права — особенно на рукописи, предназна-
ченные для театра — еще не существовало. Сплошь и рядом пьеса, написанная
одним автором, сдавалась в типографию другим, который был всего лишь хо-
рошим стенографом, успевшим на слух записать текст после неоднократного
посещения спектакля. Недаром такие издания назывались «пиратскими»— они
выходили порой без ведома автора. Ряд пьес Шекспира сохранились именно
в этих «пиратских» изданиях. Широкое использование уже шедших на сцене
пьес для создания новых было в порядке вещей. Существовал термин «play-
platcher» (что-то вроде «драмодел»), обозначающий лицо, занимающееся по-
добным изготовлением новых драм из старого материала; и у некоторых кри-
тиков хватает совести именно так называть Шекспира (так, например, посту-
пает корифей мирового модернизма XX в. Т. С. Элиот).
Но эту специфику профессии драматурга в эпоху Возрождения — право
пользования произведениями предшественников и конкурентов как неким об-
щим добром, как почти народным анонимным богатством — не следует забы-
вать, когда мы говорим о том, чем был обязан Шекспир другим драматургам
своего времени.
Он был многим обязан поэтам своего времени, новеллистам, романистам,
философам, географам, медикам, историкам — всем труженикам науки
и искусства, к которым устремлялся его пытливый ум. Но больше всего он обя-
зан самой английской действительности и своему таланту, который наложил
неоспоримый отпечаток на большинство произведений, известных под его
именем.
Этот шекспировский знак, шекспирова печать, по которой мы узнаем его
творения среди многих схожих с ними произведений английской драмы эпохи
Возрождения, заключается прежде всего в комплексе шекспировских идей,
в своеобразии многостороннего шекспировского гуманизма, в его подходе к че-
ловеку как к существу, сотканному из развивающихся, динамических противо-
речий. Нельзя забывать, что гениальный поэт и драматург Шекспир был не
только восприимчивым наследником, но и гениальным самостоятельным мыс-
лителем, достойным занять почетное место среди философов Ренессанса, рядом
со столь близким ему по мысли Бэконом. И задачей шекспироведения является,
конечно, не столько установление тех или иных связей Шекспира с тем или
иным писателем, сколько дальнейшее изучение своеобразия великого драма-
турга.
Долгое время биография Шекспира изучалась поверхностно, вне связи
с изучением его эпохи и английской литературы XVI в. в целом. И так как от
Шекспира осталось очень мало документальных материалов — хотя и совер-
шенно достаточно, чтобы установить важнейшие даты его жизни,— сложилась
и легенда о том, что Шекспир не автор произведений, существующих под его
именем, а подставное лицо, согласившееся поставить свое имя под произведе-
ниями, написанными кем-то другим. Существует много теорий, авторы которых
пытались приписать наследие Шекспира тем или иным представителям анг-
лийской культуры XVI в.— называли имена лорда Ретленда, лорда Дерби
и других вельмож елизаветинской эпохи. Настойчиво упоминалось в связи
с этим и имя Фрэнсиса Бэкона — великого английского философа. И в наши
дни сторонников теории, которую можно было назвать «антишекспировской»,
немало.
Советская наука, разделяя позиции наиболее значительных зарубежных
шекспироведов, считает авторство Шекспира доказанным и дальнейшие споры
о нем не принципиальными. При этом советская наука не может пройти мимо
54
того факта, что почти все антишекспировские «теории» отдают честь создания
произведений, которые для нас остаются произведениями Шекспира, предста-
вителям английской знати.
Видимо, семья Шекспира относилась к формировавшейся средней социаль-
ной прослойке английского городского сословия, но отец его не преуспевал
в делах. Будущему поэту не пришлось окончить школу: он должен был помо-
гать отцу в его деловых занятиях. Молодой Шекспир женился, появились дети.
Очевидно, в поисках лучшего заработка юноша отправился в Лондон; он ока-
зывается к концу 1590-х годов уже в той пестрой среде, которая возникла вок-
руг театров столицы и где можно было встретить и начинающих актеров, и пи-
сателей. Это был прообраз будущей европейской богемы. Относительно твердо
установлено, что Шекспир в течение ряда лет был именно актером на неболь-
ших ролях. Но вот к актерскому ремеслу прибавились постоянные занятия
драматургией и поэзией. Стихи молодого провинциала понравились лорду Са-
утгемптону, блестящему молодому вельможе. Ему посвящены два печатных
издания первых поэм Шекспира «Венера и Адонис» (1593) и «Лукреция»
(1594). Возможно, что ему же посвящен и ряд ранних сонетов Шекспира, по-
явившихся, впрочем, значительно позже.
Конец 1580-х и 1590-е годы характеризуются расширяющейся драматурги-
ческой деятельностью, протекающей прежде всего в сфере общедоступного те-
атра. Это годы, когда Шекспир завоевывает прочное место в английском театре.
Он выхлопотал себе дворянское звание, купил большой хороший дом в родном
Стратфорде. В эти годы Шекспир бывал не только в актерской среде, но и
в домах лондонских вельмож, покровителей искусств. Среди них, очевидно, был
и юный лорд Эссекс, человек блестящей и трагической судьбы. Вельможа, по-
лучивший гуманистическое воспитание, Эссекс занимал высокие дипломати-
ческие и придворные должности и посты, воевал во Франции, Испании и Ир-
ландии и в течение ряда лет пользовался неограниченным доверием королевы.
Однако интимные отношения, связывавшие венценосную старуху и молодого
аристократа, сменились отчуждением и опалой; на это Эссекс отвечал фрондой.
На рубеже XVI — XVII вв. он оказался во главе группы вельмож, недовольных
правлением Елизаветы и составивших заговор против нее. Эссекс и его друзья
рискнули на восстание. Против заговорщиков были двинуты войска, и в течение
суток с восстанием было покончено. Впрочем, Елизавета была настолько осто-
рожна, что к смертной казни приговорили только Эссекса и нескольких наиме-
нее знатных бунтарей. Остальные отделались ссылкой и тюрьмой. Среди них
был и покровитель Шекспира лорд Саутгемптон. После смерти королевы, ока-
завшись на воле, Саутгемптон навсегда переселился в Голландию.
Неизвестна доля осведомленности во всем этом Шекспира. Во всяком слу-
чае, даже если Эссекс действительно водил в театр Шекспира своих друзей пе-
ред восстанием посмотреть какую-то пьесу о злодеяниях Ричарда II, чтобы
усилить в них тираноборческий дух, близость актера и поэта Шекспира
к кружку знатных заговорщиков не могла быть, по условиям тогдашней этики,
слишком большой: Шекспир был всего-навсего безродным лицедеем, поэтом из
актерской среды. Но трудно сомневаться в том, что участь Эссекса и его обра-
зованных друзей не могла не потрясти Шекспира. Жизненная драма Эссекса
была слишком эффектна, чтобы не увлечь такого страстного драматурга, каким
был Шекспир, беспощадная расправа королевы с фаворитом — слишком тра-
гической.
Ближайшие годы были временем неуклонного возвышения Шекспира. Он
вошел в число лучших актеров, приглашенных играть в придворном театре,
и вследствие этого приглашения получил придворное звание.
Шекспир богател: видимо, он даже давал деньги в рост, что со временем
глубоко возмутило его почитателей, которые в этом увидели признак душевной
низости. Между тем это занятие в XVII в. не считалось само по себе недостой-
55
ным. Погиб добитый королевской цензурой и поповским террором общедоступ-
ный театр. Шекспир был к тому времени, очевидно, настолько знаменит, что
стал автором частного театра, и его собственный театр «Глобус»— он был уже
его пайщиком,— сохраняя в своей конструкции черты театра общедоступного,
был близок к этому респектабельному типу зрелищ. Уход Шекспира из театра
и прекращение литературной деятельности в 1612 или 1613 г., выглядят весьма
неожиданно. Последние годы жизни Шекспира протекают в родном Стратфорде
в скромном семейном кругу. Предания, которые сохранились о последних годах
его жизни, изображают большого человека на покое, окруженного семьей, ра-
душно принимающего лондонских друзей, но уже прочно отошедшего от своей
бурной творческой деятельности. На первый взгляд эта жизнь кажется обы-
денной, лишенной эффектных деталей. Но достаточно представить себе, сколько
сделано за четверть века пребывания в Лондоне, чтобы понять, что эти годы
были наполнены прежде всего титаническим трудом. На прочее просто не оста-
валось времени. Тридцать шесть пьес, две поэмы, книга сонетов — вот плоды
неустанной работы человека, который должен был еще заниматься сложными
театральными делами как актер, затем как руководитель большого театра!
Существует канон — установленный список творений Шекспира. Читая его,
надо помнить, что, наверное, существовали и другие его произведения, не до-
шедшие до нас {.
Хронологическая таблица произведений Шекспира
Название произведения
Вторая часть «Генриха
VI»
Третья часть «Генриха
VI»
Первая часть «Генриха
VI»
«Ричард III»
«Комедия ошибок»
«Венера и Адонис»
«Лукреция»
Сонеты
«Тит Андроник»
«Укрощение строптивой»
«Два веронца»
«Бесплодные усилия
любви»
«Ромео и Джульетта»
«Ричард II»
«Сон в летнюю ночь»
Напи-
сано
1590
1591
1591
1592
1592
1592
1593
1592—
1600
1593
1593
1594
1594
1595
1595
1595
Напе-
чатано
1623
1623
1623
1597
1623
1593
1594
1609
1594
1623
1623
1598
1597
1597
1600
Название произведения
«Король Джон»
«Венецианский купец»
Первая часть «Генриха
IV»
Вторая часть «Генриха
IV»
«Виндзорские кумушки»
«Много шума из ничего»
«Генрих V»
«Юлий Цезарь»
«Как вам это понра-
вится»
«Двенадцатая ночь»
«Гамлет»
«Троил и Крессида»
«Конец — делу венец»
«Мера за меру»
«Отелло»
«Король Лир»
«Макбет»
Напи-
сано
1596
1596
1597
1597
1597
1598
1599
1599
1599
1600
1601
1602
1602
1604
1604
1605
1605
Напе-
чатано
1623
1600
1598
1602
1600
1600
1600
1623
1623
1623
1603
1623
1623
1623
1622
1623
1623
1 Шекспировский канон насчитывает 37 пьес. В него включен и «Перикл», первоначально не входивший
в собрание сочинений Шекспира. Пьеса была включена лишь в третье собрание сочинений драматурга, вы-
шедшее в 1664 г.— Ред.
56
Продолжение
Название произведения
«Антоний и Клеопатра»
«Кориолан»
«Тимон Афинский»
«Перикл»
Напи-
сано
1606
1607
1608
1609
Напе-
чатано
1623
1623
1623
1609
Название произведения
«Цимбелин»
«Зимняя сказка»
«Буря»
«Генрих VIII»
Напи-
сано
1609
1610
1612
1612
Напе-
чатано
1623.
1623
1622
1623
Изучение канона дает основание к тому, чтобы говорить о сложной эволю-
ции, пройденной поэтом за четверть века.
Исследователи Шекспира устанавливают либо три, либо четыре этапа этой
эволюции. Сторонники четырех этапов намечают следующую периодизацию
творчества Шекспира: 1) от конца 1580-х гг. до середины 1590-х; 2) вторая по-
ловина 1590-х гг.— 1602—1603; 3) 1603—1609; 4) 1609—1613. Сторонники те-
ории трехэтапного развития творчества Шекспира отличаются от своих оппо-
нентов тем, что за первый этап развития Шекспира, согласно их воззрениям,
принимаются i580-e и 1590-е гг. до начала XVII в. Крупнейший шекспировед
СССР профессор А. А. Смирнов был сторонником теории трех этапов твор-
ческого развития Шекспира.
Уже первый этап — конец 1580-х гг. и 1590-е гг.— дает представление об ис-
ключительном богатстве творчества Шекспира. К этому времени относятся обе
поэмы, видимо, начало работы над сонетами, все (за исключением одной —
«Жизнь короля Генриха VIII») исторические драмы-хроники, самые веселые
комедии, группа ранних трагедий, среди которых, однако, такой шедевр, как
«Ромео и Джульетта». При всем подлинно шекспировском многообразии этих
пьес в них есть некоторые важные общие черты. Так, например, внутри поэм
Шекспира, которые прекрасны и сами по себе, как образец английской ренес-
сансной поэмы, легко проследить за развитием драматического элемента. Если
в первой из них («Венера и Адонис») этот элемент заключается прежде всего
в разработанных психологических диалогах, пламенно звучащих на фоне анг-
лийской природы, изображенной с еще неведомой английской поэзии свежестью
и экспрессивной силой, то вторая —«Лукреция»— членится на своеобразные
пять актов, пять эпизодов, состоит из характерных для драмы Шекспира диа-
логов и массовых сцен, отличается большим драматизмом самих диалогов. По
этим поэмам можно проследить, как эпос все в большей степени превращается
у Шекспира в драму. Но значение обеих поэм не только в этом. Они отмечены
самобытным художественным великолепием, в них раскрывается дух анти-
чности, увиденный глазами ренессансного художника. Марло в поэме «Геро
и Леандр» еще не поднялся до той степени органического сплава античной
и английской словесности, который есть в поэме «Венера и Адонис», до той
степени гражданского трагизма, которым напоена поэма «Лукреция», образец
тираноборческой поэзии Ренессанса, обращающейся за образами и ситуациями
к античности, но вносящей в них свои идеи. Тирания насильника Тарквиния
разбилась о мужество и доблесть слабой женщины, погубленной тираном, но
завещающей борьбу своим согражданам.
Путь от эпоса к драме составляет и сущность художественного развития
Шекспира в его исторических хрониках. Первая из них, видимо, лишь частично
принадлежала Шекспиру. «Король Генрих VI» состоит из трех частей, являясь
по существу трилогией, в которой господствует стихия эпоса, событие, повесть о
нем, вложенная в уста персонажей. Последняя в их ряду — «Король Ричард II» —
одно из высших творений драматургического гения Шекспира, в котором
драматизм и динамика образов властно отодвинули на задний план эпический
материал истории. Историческая драма из сцен театральной обработки хроник
Холиншеда и других великих хронистов Англии превратилась в могучую исто-
57
рическую трагедию, драматическому искусству которой не перестанут удив-
ляться зрители. Создан тот жанр европейской исторической драмы, которому
суждено долгое развитие. Найден масштаб совмещения частной судьбы
и судьбы народа в пределах единого произведения, «судьбы человеческой»,
«судьбы народной».
Нечто сходное видим и в развитии комедии молодого Шекспира. В начале
его стоит комедия ситуации, к тому же заимствованная из античной тради-
ции —«Комедия ошибок»,— где все комические эффекты зависят от нехитрой
путаницы, в которой виновно внешнее сходство братьев. Искорки шекспиров-
ской самобытности сверкают и здесь в стихии юмора, но как это не похоже на
морально-этическую сложность комедии «Укрощение строптивой», где в сюжете
старой итальянской новеллы найдено и поднято актуальное для эпохи Шекс-
пира проблемное зерно. Одна за другой проходят перед нами блистательные
пробы различных жанров комедии: рядом с маской («Сон в летнюю ночь») —
комедия двойной интриги («Двенадцатая ночь»); рядом с комедией-маскара-
дом («Бесплодные усилия любви») — сложнейшая и во многом философская
комедия «Много шума из ничего»; и наконец —«Венецианский купец», с его
смелым выступлением против устанавливающейся в Англии власти денежного
мешка, воплощенной в фигуре Шейлока, этого пуританского банкира, прототип
которого было легко найти среди лондонских «отцов города», все настойчивее
заявлявших о своих претензиях на власть над душами и телами своих сооте-
чественников. Конечно, прекрасна гуманистическая позиция Шекспира, про-
тестующего в этой комедии против расовых предрассудков и изуверства. Но на
фоне конкретной английской действительности конца XVI в. зловещая фигура
кровопийцы Шейлока приобретала особенно убедительные, чисто английские
черты.
Вырываясь из сферы только комической, комедия Шекспира приобретает
черты драмы, вмещавшей в себя всю сложность европейской действительности
того времени. Смешная притча, новеллистический анекдот становились только
частью большого замысла, в котором трагическое переплеталось с комическим.
Старая средневековая концепция комедии, как произведения поучительного и
с обязательным благополучным исходом, все еще во многом тяготела над
Шекспиром, но именно в его комедии стали определяться и все важнейшие
тенденции комедии нового времени, действующие вплоть до наших дней.
Новаторские черты побеждали и в трагедии молодого Шекспира. Если «Тит
Андроник»» относительно которого есть предположение, что он принадлежит
Марло, в полной мере относится к жанру «кровавой трагедии», идущему от
Сенеки и его концепции трагического, то открытием новых возможностей тра-
гедии была «Ромео и Джульетта», трагедия идеи, воплощенной в вечно живые
и реальные образы молодых людей, погубленных неблагоприятным для них
временем, но поправших смертью смерть.
В центре внимания Шекспира движение времени, изменения, происходящие
в обществе и в человеке. Под его пером жизнеописания королей Англии, из ко-
торых чаще всего состояли дошекспировские хроники, использованные поэтом
при изучении родины, превратились в движущуюся картину жизни английского
народа. Шекспировские хроники проникнуты пафосом борьбы нового со ста-
рым, пафосом трагичности и сложности того движения вперед, которое он сла-
вил в своем творчестве в целом. Новое борется со старым и побеждает его
и силой смеха в комедиях, которые во всей совокупности были комедией смерти
старого общества, и выражением победы тех новых воззрений и моральных
концепций, что нес с собой Ренессанс. В этом торжественном утверждении
права на победу за силами нового, наполнявшими собой творчество Шекспира,
было выражение не только лучших идейных тенденций эпохи великого перево-
рота, именно у Шекспира и запечатленного с особой силой, но и того нацио-
нального подъема, который переживала в конце XVI в. Англия, превратившая-
58
ся из окраинного государства Западной Европы в великую державу. Еще жива
была память о великих днях победы над Армадой. Вновь и вновь приводили
в Лондон свои победоносные корабли флотоводцы Англии — Рэлей, Дрейк,
Хоукинс, громившие теперь испанцев на их исконных морских путях в Атлан-
тике и наведывавшиеся в испанские порты и реки. Франция искала союза
с Англией. Елизавета открыто вмешивалась в войну молодых Нидерландских
Штатов с Испанией, помогая голландцам. Англия становилась общепризнанной
защитницей реформированной церкви и всех врагов папизма. Драму рождения
нации и запечатлел Шекспир в своих хрониках; комедии становились как бы
сложным и веселым комментарием к этой основной большой теме. Она звучала
все шире, и материалы для нее Шекспир черпал не только из английских хро-
ник, но и из итальянских новелл, и из романа Рабле, и из книг о судьбе анти-
чных держав, вынужденных уступить место молодому римскому исполину.
Опираясь на предшествующее движение, Шекспир вступил в период своего
творческого расцвета, в котором универсальность его метода позволила ему
обратиться к коренным вопросам европейского общественного бытия.
Посмотрим на канон: с начала XVII в. ведущим жанром для драматургии
Шекспира становится трагедия. Появляются основные трагедии, построенные
на античном, средневековом, современном материале,— здесь и легендарный
Кориолан, и наемник-мавр, каких было немало в войсках Венецианской Рес-
публики и печальную историю которого, разыгравшуюся в XVI в., запомнили
итальянские новеллисты. У одного из них нашел этот сюжет Шекспир. Какой
размах! Не меньше двух тысяч лет... Вместе с тем ясно, что в любой из трагедий
идет речь об острых вопросах английской и европейской современности, что
к любой из трагедий в большей или меньшей степени могут быть применены
и известные слова Ф. Энгельса о том, что «где бы ни происходило в его (Шекс-
пира.— Р. С.) пьесах действие — в Италии, Франции или Наварре,— по су-
ществу перед нами всегда merry England, родина его чудаковатых простолю-
динов, его умничающих школьных учителей, его милых необыкновенных
женщин...» '
Кроме большой группы трагедий, ко второму периоду относятся только две
комедии, очень «трагические» по содержанию: это «Мера за меру» и «Конец —
делу венец» и сборник сонетов, в котором много подлинно трагических мотивов.
Глубокий трагизм характерен для второго периода творческого развития Шек-
спира и связан во многом с изменениями мировоззрения поэта. Если и раньше
Шекспир видел и понимал многое в трагическом смысле великих переломов, во
время которых рушилось старое европейское общество и рождались основы
нового, то теперь эти трагические черты эпохи делаются для него, очевидно,
преобладающими. Сквозь призму неизбежно трагической перспективы рас-
сматривается краткосрочное счастье, выпадающее на долю человека.
Причин, вызвавших трагическое изменение мировоззрения Шекспира, было,
вероятно, несколько. Некоторые исследователи усиленно подчеркивают воз-
можное значение гибели Эссекса и его друзей, а среди тех, кого постигла ка-
тастрофа, был и покровитель Шекспира, лорд Саутгемптон. Что ж, падение
Эссекса и распад его кружка и последовавшая расправа Елизаветы с недавни-
ми друзьями были яркими фактами, свидетельствовавшими о преобразовании
«старой веселой Англии» в полицейское государство, и это не могло не стра-
шить Шекспира. Одной из функций этого государства был натиск на всяческое
вольнодумство, контроль за театрами; линия на уничтожение общедоступного
театра, родного для Шекспира, была следствием этого натиска, поддержанного
церковью и сектами. Все это были черты того обострения противоречий в анг-
лийской жизни, выражением которого безусловно явились конфликт королевы
и парламента, не желавшего подчиняться воле монархии, и волна крестьянских
1 Энгельс Ф. Ландшафты//Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 41. С 79.
59
восстаний, прокатившаяся по Англии в первом десятилетии XVII в., и городские
волнения, усилившиеся к тому же времени и кое-где связанные с крестьянскими
бунтами. Менялся характер всей жизни Англии по сравнению со второй поло-
виной XVI в.— и эти изменения говорили о возникновении такой государствен-
ной системы и таких отношений, в которых со все большей силой сказывалась
их капиталистическая сущность. На смену феодальному угнетению пришло уг-
нетение нового характера — капиталистическое. С этим выявлявшимся харак-
тером новых отношений были связаны и многочисленные религиозные движе-
ния, секты, деятельность которых в Англии была во всяком случае враждебна
гуманизму и его культуре свободомыслия. Гуманисты, еще недавно чувство-
вавшие поддержку английской монархии, возглавленной образованным и про-
зорливым лидером, теперь видели себя и лишенными той поддержки, и безза-
щитными против пресвитерианских гонителей светского вольнодумства. В Анг-
лии, конечно, знали и о том, что на континенте силы реакции, враждебной гу-
манизму, искали единства для решительного наступления на сторонников ре-
формы и защитников вольномыслия. Обнажался итог «величайшего переворо-
та», раскрывалась страшная цена его издержек, все более злободневными ока-
зывались страшные слова Томаса Мора: «Овцы съели людей».
В эти годы, когда начинает намечаться кризис гуманизма, лишенного под-
держки в народе, когда появляются тревожные симптомы крушения гума-
нистических иллюзий и многие вчерашние вольнодумцы и свободомыслящие
любомудры не выдерживают, отказываются от своих убеждений, каются, при-
бегают к защите церкви и теологии, мировоззрение такого внимательного на-
блюдателя действительности, каким был Шекспир, не могло не претерпеть су-
щественных изменений. В его отношении к миру на смену концепции, по кото-
рой новое уже побеждает в своей борьбе с прошлым, выдвигается концепция
гораздо более глубокая и сложная: до победы далеко, но борьба идет, продол-
жается, и хотя в ней гибнут часто самые лучшие люди, она стоит того, чтобы ее
продолжать. Ценою трагедий и смерти лучших история движется вперед — та-
кова была истина, постигнутая Шекспиром на том новом этапе, на котором он
оказывается в 1600-е годы.
Но далеко не всегда трагедия заключается только в этом. О том, как оттал-
кивающе изменяются люди, еще недавно бывшие героями, мы узнаем из траге-
дии о Макбете, превратившемся из героя в преступника, и о Кориолане, поте-
рявшем свой героический ореол, так как он пошел против своего народа. Теперь
Шекспира в первую очередь занимает феномен трагедийного изменения харак-
тера: превращение благородного Макбета в кровавого хищника или же венце-
носного самодура Лира в страдающего человека, это превращение ослепляет
и развенчивает Отелло, делает поэта и мечтателя Гамлета грозным мстителем...
Впоследствии Стендаль скажет, что именно трагическое изменение характера
в героях Шекспира больше всего увлекает человека начала XIX столетия. От
чего же зависят эти таинственные перемены, происходящие в человеке? Шекс-
пир не говорит об этом прямо, но ответ подсказан самим материалом и логикой
его трагедий. Дело не в общественных условиях, в которых человек живет. Если
уже в пьесах первого этапа было доказано, что человек — существо глубоко
противоречивое, что в нем уживаются и низкие и высокие качества, что благо-
родный принц Хел иногда подвержен мучительным припадкам властолюбия, что
мстительный Ричард III обладает ясным и трезвым разумом, то теперь, в тра-
гедиях второго периода, показано, как развиваются эти противоречия, как под
давлением обстоятельств именно низкие или именно высокие качества персо-
нажей Шекспира берут верх. Складывается динамика многосторонних и про-
тиворечивых образов Шекспира, формируется их реакция на те испытания, ко-
торым их подвергает жизнь, демонстрируются их попытки преодолеть законо-
мерности, которым подчинены события, или, наоборот, использовать эти зако-
номерности. Макбет с мечом в руках до конца сопротивляется необходимости,
60
ведущей к гибели деспота и тирана; Гамлет берется за меч, поняв или почувст-
вовав ту же закономерность, но ощутив в себе силу стать ее вершителем — на-
казать тирана и его сообщников.
В трагедии «Гамлет» конфликт между передовыми силами общества и си-
лами реакции, обострявшийся в Европе в начале XVII в., выражен особенно
сильно. При этом надо подчеркнуть, что речь идет уже не о конфликте между
силами старого феодального мира и его противниками, а о конфликте между
абсолютистской реакцией, великолепно воплощенной в образе тирана Клавдия
и его холопов, и гуманизмом, воплощенным в Гамлете и его друзьях —«солда-
тах и студентах». Однако дух народного мятежа присутствует в трагедии тоже,
мощно выражаясь в сцене, в которой мятежный народ врывается в Эльсинор,
чем ловко пользуется Лаэрт, чтобы запугать и без того растревоженного
Клавдия.
Однако Шекспир отдавал себе отчет в том, что не Гамлету и Горацио
удастся занять место Клавдия. Наказав его, Гамлет гибнет — и на фоне дат-
ской смуты обрисовывается воинственная фигура Фортинбраса, внося с собой
в трагедию в известной мере ноту просвещенного героического абсолютизма,
сменяющего гнилой режим Клавдия. Гуманист Гамлет, все же дерзающий
взяться за шпагу и кидающийся в бой за дорогие ему принципы,— фигура глу-
боко характерная для начинающегося XVII столетия. Среди политических де-
ятелей XVII в., сторонников монархии и республиканцев, было немало людей,
подобно Гамлету, сменивших ученые занятия и гуманистическую отчужден-
ность от шумного мира на политическую и военную деятельность.
Огромные возможности для постановки проблем общественного развития
и связанных с ним изменений человеческого характера дало Шекспиру антич-
ное прошлое, увиденное им глазами Плутарха, который был известен драма-
тургу в переводе Норта. За сценами римской жизни здесь все время угадыва-
ется английский и даже общеевропейский подтекст: в «Юлии Цезаре», конста-
тируя неодолимую закономерность, Шекспир показал, что, несмотря на гибель
Цезаря, торжествует идея цезаризма, и высказывал мысль об иллюзорности
республиканских мечтаний, которые на рубеже XVI — XVII вв. кружили голову
многим гуманистам; что поражение честнейшего республиканца Брута столь же
закономерно, как и торжество демагога — цезариста Антония. В свою очередь,
поражение Антония — авантюриста, верящего только в себя, в борьбе с рас-
четливым политиком Августом, составляющее политический нерв трагедии
«Антоний и Клеопатра», тоже закономерно и тоже глубоко характерно для
общеевропейской международной ситуации, в которой все в большей степени
обрисовывалась роль «кабинетной» политики и дипломатии, как своеобразного
шахматного искусства, основанного на тонком и точном расчете. В этом отно-
шении и «монарх на коне»— воинственный Фортинбрас, и монарх-дипломат
Август оказались фигурами в высокой степени характерными для наступавшего
столетия.
Однако не надо недооценивать и ту долю античного колорита, на воссозда-
ние которой был способен Шекспир. Образ Рима — грозного, вечно беспокой-
ного улья, чреватого народной смутой, вечно готового к жестоким эксцессам,
если и внушен в известной мере тем Лондоном, который поставлял наиболее
благодарного и наиболее возбудимого зрителя в театр Шекспира, еще в боль-
шей степени порожден теми эпизодами из Плутарха и тем Римом, что создан
в книге этого гениального писателя, одного из учителей Шекспира, до того, как
позже он станет учителем стольких европейцев XVII и особенно XVIII столетий.
Этот колорит особенно чувствуется в Кориолане, который — у Шекспира, как
и у Плутарха,— окружен атмосферой, создаваемой трагической, уверенной
в себе и потому истеричной героиней.
Критицизм в отношении к современной политической действительности,
сильный и в исторических хрониках первого периода, теперь углубляется
61
и приобретает особенно жизненный, непосредственный характер. Наиболее
сильное и глубокое его выражение — трагедия «Король Лир», в которой, в силу
метаморфоз, происходящих с Лиром и из короля превращающих его в бродягу,
действительность сначала показана в аспекте восприятия Лира с его династи-
ческими расчетами, а затем увидена глазами бездомного бедняка и нищего,
обездоленного и гонимого. Ни в какой другой пьесе Шекспира, да, пожалуй,
и ни в каком другом произведении литературы Ренессанса не раскрыта с такой
силой беспросветная, безнадежная доля бедняка, английского простолюдина,
согнанного с земли и бредущего бесцельно в поисках пропитания. Было бы не-
верно, однако, за волнующими проблемами политики не увидеть в трагедиях
второго периода и всего того необозримого мира личных чувств, который кипит
в них,— и прежде всего не оценить тех новых вершин, которых достиг Шекспир
в изображении любви. Но и в этой проблеме на смену светлым боттичеллиев-
ским тонам, все-таки преобладавшим в трагедии «Ромео и Джульетта», каков
бы ни был ее печальный конец, приходит тема трагически сломанной любви,
которая особенно сильна в «Отелло». Эта трагедия, в первой своей половине
звучащая как подлинный гимн свободному великому чувству любви, разруша-
ющему расовые и социальные преграды, во второй своей половине уже развер-
тывается как доказательство глубокой враждебности существующего общества
по отношению к такой любви — любви, нарушавшей его писаные и неписаные
законы. Стоило бы подумать над особой ролью Дездемоны в этой трагедии.
Если женщины Шекспира вообще замечательны своими сильными характера-
ми, своей уравненностью с героями-мужчинами, то это в особой мере относится
к Дездемоне, которая является в не меньшей степени героем трагедии, чем
Отелло. Можно спорить о причинах, по которым Отелло поверил наговору, но
ясно, что вся пьеса прежде всего трагедия Дездемоны, отдавшей все за счастье
соединить свою судьбу с судьбой любимого и потерявшей все — и самое важное
для нее — доверие Отелло. Эта трагедия нового человека, отдающегося своим
чувствам, доверчивого к людям, прежде всего выражена в судьбе Дездемоны,
в имени которой звучит аллегорический намек: Дездемона — лишенная
счастья, оставленная ее демоном-покровителем.
Гибель лучших, смерть героев, цена, которой оплачивает общество свой путь
вперед,— вот что особенно беспокойно повторяется в пьесах второго периода.
А рядом с этим, хотя смерть героев все же является напрасной, возникает
с особой силой и тема разочарования в новом рождающемся обществе. В этом
смысле наряду с трагедией «Король Лир» очень показательна трагедия «Тимон
Афинский», одна из заключающих второй период.
Едва ли можно сомневаться в том, что картина афинского общества, про-
клинаемого Тимоном, как и образ Афин, из которых он, задыхаясь от ярости,
удаляется в свое отшельничество, относятся к Англии и Лондону. Да и обще-
ство «Тимона» с его знатными болтунами, дипломированными подхалимами,
жадно ловящими подачки Тимона, грубыми слугами, безжалостными заимо-
давцами — это то лондонское общество, каким знал его стареющий Шекспир.
С особой силой прозвучало в этой трагедии проклятие золоту, осуждение все-
разрушающей силы денег — ее знаки Шекспир видел вокруг себя все чаще, все
неотвратимее. Этому врагу людей, врагу общества Шекспир, страстный чело-
веколюбец и поэтому беспощадный ненавистник врагов человека, мог противо-
поставить только резиньяцию Тимона, исключающего себя из круга, уже не-
достойного называться обществом. Тимон проклял Афины и ушел в лес, прочь
от людей. В 1613 г. примерно так поступил Шекспир, покинув Лондон
и искусство.
Но до этого были еще последние годы, проведенные в театре и отличавшиеся
от предыдущих лет. Был третий период творчества Шекспира, очень непохожий
на все, что было раньше.
62
Третий период. 1609—1613 гг... Ни одной трагедии, кроме трагедии самого
Шекспира, пережившего закат общедоступного театра, гибель и опалу друзей,
смерть королевы, с веком которой он так связан, явную победу Бомонта
и Флетчера, вытесняющих его из сердец зрителей. В его собственном творчест-
ве —«Зимней сказкой» и «Цимбелином»— укрепился жанр трагикомедии. Во
многом загадочна его «Буря», полная тревоги и предвидений.
Некоторые шекспироведы видят в этих пьесах «упадок» и «оскудение»
творческого дара великого англичанина. Другие говорят о резкой перемене ко-
лорита, о вторжении барочных или «романтических» тенденций, о «закате»
Шекспира. Обращает на себя внимание работа советского шекспироведа
В. Узина: «Может ли,— спрашивал Узин,— советское шекспироведение мирить-
ся с тем утверждением, что великий создатель образов Гамлета, Лира, Отелло
решительно отошел от своих прежних идеалов?» Отвечая отрицательно, Узин
выдвигал мысль о том, что в третьем периоде мы встречаемся с дальнейшим
сложным развитием шекспировских идей, а не с «закатом». Это мнение пред-
ставляется наиболее объективным. Действительно, в «Зимней сказке» и «Цим-
белине» продолжается — временами даже в особенно резкой форме — критика
абсолютистского произвола, жестокости и бесчеловечности венценосных хозяев
земли. Возникают — в измененной форме — мотивы, известные нам по «Отел-
ло» и другим более ранним произведениям Шекспира. И это не просто возврат
на изведанные творческие пути, не обращение к былым удачам, а новая обра-
ботка эпизодов и ситуаций, свидетельствующая о неразрывной творческой ра-
боте в сфере знакомых уже, давно манивших проблем и вопросов. Особенно
видна живая связь с «Тимоном Афинским»: вслед за ним герои пьес третьего
периода вынуждены, спасая свою жизнь, стать изгнанниками, бежать из
враждебного им мира. Имогена бежит, спасаясь у Белария от опасности. Ут-
рату должны убить. Просперо и его дочь — изгнанники, чудом спасшиеся от
верной гибели. Мотивы утопии, известные нам по первому периоду, где в «Двух
веронцах» и в комедии «Как вам это понравится» больному и злому обществу
был противопоставлен великий и добрый Лес, живуший по законам Робина
Гуда и его друзей, возникали теперь с новой силой, претворившись в добрую
охотничью общину старика Белария, в пастушескую идиллию «Зимней сказки»,
в остров Просперо.
Но многоплановая утопичность третьего периода вводится не столько для
того, чтобы стать предметом восхищения ею, сколько для того, чтобы показать,
что в утопии нет действительного спасения, что уход от больного и гниющего
общества — это не выход для тех, кто осуждает его и тем ставит себя выше
обычных его представителей, смиряющихся с несправедливостями этого
общества.
Нет, утопия — это фантазия, как бы ни была эта фантазия прекрасна,—
утверждает Шекспир всем духом своих пьес. Человек, пытающийся уйти, укло-
ниться от борьбы, все равно не сможет сделать этого. Как ни оберегает по-
чтенный Беларий своих воспитанников от встречи с гнусным и растленным
придворным обществом, принц Клотен сам ввязывается в ссору с Гвидерием
и вынуждает его поднять меч. Утрату все равно найдут в ее скромном убежище,
Имогене придется вернуться в мир, где она опять станет знатной дамой. Из-
гнанник и мудрец Просперо будет настигнут на своем острове теми, кто некогда
был причиной его горя и с кем ему теперь придется жить в одном обществе.
Прямо отвечая на вопрос о том, что такое утопии великих мыслителей раннего
Возрождения, Шекспир заставляет милого и смешного старого чудака Гонзало
завести разговор в утопических тонах — и с кем же? — с двумя негодяями, го-
товыми его убить:
Шекспировский сборник. М., 1947. С. 179.
63
Г о н з а л о
Когда бы эту землю дали мне...
А н т о н и о
Засеял бы весь остров он крапивой.
Себастиан
Репейник тут везде бы насадил.
Г о н з а л о
...и королем бы здесь я стал, то что бы
Устроил я?
Себастиан
Уж верно, не попойку
По той причине, что вина тут нет.
Г о н з а л о
Устроил бы я в этом государстве
Иначе все, чем принято у нас.
Я отменил бы всякую торговлю,
Чиновников, судей я упразднил бы,
Науками никто б не занимался.
Я б уничтожил бедность и богатство,
Здесь не было бы ни рабов, ни слуг,
Ни виноградарей, ни землепашцев,
Ни прав наследственных, ни договоров,
Ни огораживания земель.
Никто бы не трудился. Ни мужчины,
Ни женщины. Не ведали бы люди
Металлов, хлеба, масла и вина,
Но были бы чисты. Никто над ними
Не властвовал бы...
Себастиан
Вот тебе и раз,
Ведь начал он с того, что он властитель!
Го н з а л о
Все нужное давала бы природа —
К чему трудиться? Не было бы здесь
Измен, убийств, ножей, мечей и копий
И вообще орудий никаких.
Сама природа щедро бы кормила
Бесхитростный, невинный мой народ.
И я своим правлением затмил бы
Век золотой.
(Пер. М. Донского)
Но не скепсис и не разочарование вызывает у Шекспира сознание несбы-
точности великих надежд, высказанных на заре Ренессанса. Человек может
и должен выработать иное мировоззрение, может и должен продолжить борьбу
за высокие идеалы этого мировоззрения, уже не утопического, но подлинно гу-
манистического, считающегося со слабостями человеческой природы. Беларий
отдает своих воспитанников обществу, от которого пытался их спасти. Пасту-
шеская чета расстается с Утратой, которая украсит двор отца и смягчит его
нравы. Просперо возвращается к людям и возвращает им Миранду. Возвра-
щение изгнанников в общество отнюдь не представляет собой примирения
с ним. Это начало новой борьбы, в которой будут развиваться силы, противо-
стоящие злу, как бы всесильно оно ни было.
Чем же отличаются воспитанники Белария, а за ними — Утрата и Миранда,
от того испорченного общества, в которое они призваны вернуться, чтобы стать
64
в нем живым противодействием пороку и низости? Тем, что они «естественные»
люди, не испорченные жизнью под гнетом дурного и бесчеловечного строя, вос-
питанные своими наставниками в правилах человечности, в традициях гума-
нистической педагогики, которые в своеобразном поэтическом изложении рас-
крыты в пьесах Шекспира.
Носителем высшего, сознающего свои силы и возможности человеческого
разума представляется Просперо. Его пытались отождествить с подлинно
жившими деятелями Возрождения — с Леонардо да Винчи и с самим Шекспи-
ром. Это не исключено, но образ Просперо есть прежде всего гениальное обоб-
щение тех черт людей Возрождения, о которых Энгельс говорил, как о титанах.
В Просперо с наибольшей силой выразилось представление Шекспира о чело-
веке, как о владыке вселенной.
Уже давно было замечено, что «Буря» во многом предвосхищает проблема-
тику «Фауста» Гете, что Просперо — своеобразный Фауст, нашедший в бурной
и грозной жизни свое «прекрасное мгновение» и за него отдавший свой вол-
шебный жезл. «Прекрасное мгновение» Просперо — рождение мысли о том, что
он нужен людям, что его возврат в общество, отношение к которому остается
у Просперо весьма скептическим, необходим и оправдан. Но, соотнося Проспе-
ро с Фаустом Гете, не надо забывать и еще об одном соотношении — Просперо
и Фауста Марло. В этом соотношении раскрывается дистанция, отделяющая
гуманизм Шекспира от гуманизма Марло.
Около четверти века отделяют эти образы друг от друга, и каждый из них —
образ гуманиста, и в каждом из этих образов выражена вера в силу челове-
ческой мысли, но как велико идейное различие между ними! Как трагично оди-
нок Фауст у Марло, как впустую гибнут его силы, его знания! Для чего он копил
эту силу? Для того, чтобы восторжествовать над другими, для того, чтобы его
титаническая гордыня нашла себе удовлетворение в сознании своего величия?
Иной оказывается мудрость Просперо. Она — средство самопознания
и воспитания, средство, ведущее к жизни, а не поднимающее Просперо над нею.
Различны и финалы двух историй о гуманистах — в одном случае смерть, зна-
менующая бессилие Фауста, в другом — стоическое приятие жизни такой, ка-
кова она есть, но не с тем, чтобы смириться с нею, а чтобы быть в ней живым
укором тому, что так ненавидит Просперо.
Поразительная сила многостороннего философского и эстетического обоб-
щения скрывается и в образе Калибана — этого антипода Просперо. Это одно
из самых сложных созданий Шекспира, жертва и воспитанник Просперо, пер-
вобытное существо, насильственно вырванное из своего природного состояния
и затем насильственно же остановленное в своем начавшемся развитии.
Диалектика, свойственная пониманию и изображению действительности
у Шекспира, выявилась в образе Калибана с особой силой.
Но в какой бы мере он ни был живым укором Просперо, безжалостно нака-
завшему своего воспитанника, Калибан — это олицетворение антиразума,
противопоставленного разуму Просперо. Калибан живет мечтой о расправе
с Просперо и о сокрушении всего, что связано с Разумом и потому ненавистно
Калибану:
Я говорил тебе: после обеда
Он спит всегда. Убей его во сне,
советует Калибан пьянице Тринкуло,—
Но только книги захвати сначала,
Ему ты череп размозжи поленом,
Иль горло перережь своим ножом,
Иль в брюхо кол всади. Но помни — книги!
Их захвати! Без них он глуп, как я,
И духи слушаться его не будут:
3 Р. М. Самарин
65
ведь им он ненавистен, как и мне,
Сожги все книги...
Когда были написаны эти страшные строки, книги пылали уже по всей ста-
рой Европе: католики жгли книги лютеран, лютеране жгли книги католиков,
и те и другие жгли книги ненавистных им в равной степени гуманистов—те
самые книги, которые были так дороги и Шекспиру, и Просперо, и Фаусту. Ев-
ропейский Калибан замахивался колом на тех, кто хотел вызволить его из
зверского состояния против воли его и знатных и богатых господ. Философская
пьеса Шекспира была одним из первых произведений, фиксировавших особенно
жестокую схватку Разума и Антиразума, уже развертывавшуюся в те годы,
когда жизненный путь великого англичанина подходил к концу.
Творческий метод Шекспира в «Буре» изменился, расширился, выявились
его новые качества, уже накапливавшиеся в пьесах, которые были подходом
к «Буре». В «Буре» проявились в полной мере те новые художественные сред-
ства, в которые воплощен философский замысел пьесы, остающейся притом
и просто «маской», вызывавшей восторг публики своей затейливой и радующей
душу выдумкой.
Глубокая жизненность и правдивость образов Шекспира издавна давала
основание для того, чтобы называть его великим художником-реалистом. Таков
смысл высказываний о Шекспире, принадлежащих Гете, Пушкину, Белинскому,
Гейне, Марксу, Энгельсу, Горькому. Советское литературоведение уверенно
говорит о реализме Шекспира как своеобразном синтезе реализма Возрожде-
ния. Глубина лирики Ренессанса, ситуации и характеры его бытовой новеллы,
трагизм его историков и философов, пафос освоения природы в его гносеологии,
победоносная сила смеха, свойственная сатирикам Ренессанса, соединение
с опытом античной литературы, создали некий синтез, не известный дотоле ми-
ровой литературе.
Творчество Шекспира было цепью великих открытий, прежде всего в об-
ласти изображения человека как части целого общества, неразрывно связан-
ного с этим целым, от него зависящего, составным его элементом. Развитие че-
ловеческой души, связанное с развитием общества, с процессами, в нем проис-
ходящими, было основной великой темой Шекспира. Масштабы изображения
человека и общества раздвинулись как в пространственном, так и во временном
отношении.
Шекспир, как и многие великие драматурги Возрождения, неоднократно
говорил, что жизнь — это огромный театр; такой образ предполагает и воз-
можность обратного сравнения — театр уподоблялся жизни, возникала задача
охвата всей жизни на подмостках. Недаром театр самого Шекспира назывался
«Глобусом» и, согласно устойчивому мнению, был украшен фигурой гиганта,
несущего на плечах шар земной. Сам Шекспир был таким гигантом, демон-
стрировавшим земную жизнь во всей ее грандиозности и сложности. Друзья
Шекспира, старые актеры, авторы предисловия к первому собранию его сочи-
нений, писали о нем как о «счастливейшем подражателе» природы, «совершен-
нейшем выразителе ее», и для того времени это было очень точным определе-
нием реализма Шекспира. Эта идея «верности природе» высказана в сонете 84:
Как беден стих, который не прибавил
Достоинства виновнику похвал.
Но только тот в стихах себя прославил,
Кто попросту тебя тобой назвал.
Пересказав, что сказано природой,
Он создает правдивый твой портрет.
Которому бесчисленные годы
Восторженно дивиться будет свет.
(Пер. С. Маршака)
56
Гамлет советует актерам «держать зеркало перед природой»: этот принцип
«зеркала» выдерживается Шекспиром очень ревниво. Вместе с тем он допол-
няется принципом поэтической фантазии, свободой домысла, которая в боль-
шой степени была присуща Шекспиру и сознательно вводилась им в поня-
тие его «честного метода», будучи ограничена требованием жизненной
правды.
Одним из великих открытий, сделанных Шекспиром при использовании
найденного метода, было диалектическое изображение жизни и характера как
явлений глубоко противоречивых. «Одной из особенностей английской траге-
дии,— писал К. Маркс,—...является причудливая смесь возвышенного и низ-
менного, страшного и смешного, героического и шутовского» 1. В этой смеси
Шекспир видел специфику сложности жизни, сказавшуюся как во всем ходе
общественного процесса, так и в духовном развитии отдельного индивидуума.
Глубочайший интерес к противоречивости в развитии, особенно усилившийся во
втором периоде творчества, был характерной особенностью реализма великого
английского поэта.
Великим открытием Шекспира, о чем уже говорилось выше, было его по-
стижение— или догадка?—закономерностей как факторов, воздействующих
на изменение общества и личности в нем. Это — наиболее острое выражение
своеобразного стихийного историзма Шекспира, конечно, еще далекого от на-
учной обоснованности, но все же существующего. С этой гениальной догадкой
Шекспира связана и народность великого английского поэта, заключающаяся
не только в его постоянном обращении к сокровищам народного устного твор-
чества и народной мысли, но и в растущем сознании исторической роли народа.
Вместе с тем Шекспир знал и страх перед народной массой, вырвавшейся из-
под власти государственной машины: он явственно сквозит в ряде сцен из «ан-
тичных» трагедий, особенно из «Юлия Цезаря». Но все же именно народ и на-
родность оказываются важнейшими элементами так называемого «фальста-
фовского фона», отмеченного Ф. Энгельсом как одно из самых выдающихся
достижений Шекспира, которое он советовал учесть Ф. Лассалю в его драма-
тургических опытах, критикуя его пьесу «Франц фон Зиккинген».
Реализм Шекспира не был категорией застывшей. Он обогащался и изме-
нялся и, как было сказано выше, достиг своего апогея в трагедиях второго пе-
риода, а в третьем он приобрел своеобразный философский оттенок, ока-
завшийся в характере обобщений, к которым Шекспир обратился в пьесе
«Буря».
Изменился и стиль Шекспира. Под термином «style», как писал сам Шекс-
пир, он подразумевал, видимо, манеру письма. Из сонетов Шекспира видно,
сколько забот доставила ему выработка своего собственного стиля, который он
сам характеризует как «простой» и «неукрашенный», противопоставляя его
изысканному, ученому, построенному на античной традиции стилю кого-то из
своих современников и сравнивая его стихи с великолепным кораблем, гордо
плывущим под всеми парусами, а свой стиль — с утлым челном. Нельзя не от-
метить при этом, что язык Шекспира отличается поразительным богатством
и разнообразием, вмещая в себя самые разные диалектальные и профессио-
нальные особенности в качестве моментов, раскрывающих характеры действу-
ющих лиц. Состав словаря Шекспира — 16 000 слов — остается до сих пор од-
ним из самых богатых в мировой литературе и удивительно полно отражает
состояние английского языка на исходе Ренессанса.
Великий синтез культурного развития Европы, творчество Шекспира стало
и фундаментом того нового искусства, которое складывалось в ней после эпохи
Ренессанса. Любая следующая ступень развития европейской литературы,
1 Маркс К. Парламентские дебаты о войне//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 10. С. 174.
3*
67
а затем литературы мировой, не обошлась без обращения к Шекспиру. Свое
понимание Шекспира создала литература эпохи Просвещения, которая устами
Лессинга, Гете и английских писателей-просветителей высказала свое отноше-
ние к его наследию. Эра общеевропейского увлечения Шекспиром наступила
в эпоху романтизма, видевшего в Шекспире своего учителя и вдохновителя.
С другой стороны, когда Стендалю понадобился авторитет, который он мог бы
противопоставить устарелому авторитету классицистов, он обратился к Шекс-
пиру. В течение XIX и XX веков мировая известность пьес Шекспира, их воз-
действие на мировую литературу стали неоспоримым фактом. Горький видел
в пьесах Шекспира пример для драматургии социалистического реализма. И
в наши дни шекспировский театр живет новой жизнью в искусстве стран соци-
ализма.
1973
II
ЛИТЕРАТУРА
XVII-XVIII ВЕКОВ
Ф
СУДЬБЫ РЕАЛИЗМА
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ XVH ВЕКА
«Век, нравы изменив, иного стиля просит, сорвем же горькие плоды, что он
приносит!»—так писал А. д'Обинье, в юности — ронсардист и автор сладчай-
ших любовных сонетов в духе своего учителя, а впоследствии — создатель мо-
гучих «Трагических поэм» (1616), романа «Приключения барона Фенеста»
(1630) и замечательной «Истории моей жизни» (напечатана посмертно).
Остро чувствуя переход от позднего Ренессанса, у поэтов которого он учил-
ся, к новой эпохе, А. д'Обинье как художник слова ощущал невозможность пи-
сать по-старому о тех страшных новых событиях, участником и летописцем ко-
торых он стал. Ни у кого из мастеров «Плеяды» нельзя было найти ответ на
вопрос, как описать события Варфоломеевской ночи, кровавую многолетнюю
братоубийственную войну, в которую вовлекла Францию религиозная смута
конца XVI в. Катастрофа, обрушившаяся на Францию, изменила не только
жизнь общества, но и человеческие души, требовала других слов, других обра-
зов. Те слова и образы, которые были найдены А. д'Обинье для гигантской
фрески «Трагических поэм», затянутой дымом аутодафе, сражений и пожарищ,
оказались настолько необычными и смелыми, что французское литературо-
ведение, долго помучившись с ним, зачислило Агриппу в разряд «опоздавших»
и «заблудившихся»: ни к помпезной школе Депорта, ни к блестящей, но сухо-
ватой школе Малерба его присоединить было нельзя.
Выработав свой индивидуальный, поразительно смелый и сильный поэти-
ческий стиль, повлиявший затем на Вольтера, Барбье, В. Гюго, д'Обинье вы-
сказался о своем времени и в романе «Приключения барона Фенеста», где очень
резко поставил вопрос все о том же — о столкновении старого с новым. Этот
конфликт он изобразил в виде встречи двух персонажей — старого рыцаря Эне,
человека скромного и прямого, превыше всего ценящего суровую простоту
нравов и выражений, и кавалера Фенеста, воспитанника французской галант-
ной среды 1610-х годов, болтуна и невежды, выскочки с замашками бретера,
стремящегося прежде всего произвести определенное впечатление, заставить
о себе думать как о настоящем барине и придворном. В диалогах, из которых по
преимуществу и состоит роман, своеобразная моральная авантюра барона Фе-
неста разоблачается автором как выражение черт, характерных для новой
69
французской знати и ненавистных старому солдату Генриха IV, доживавшему
свою жизнь в добровольном изгнании в Женеве (впрочем и с женевскими хан-
жами д'Обинье не поладил). Вчитываясь в роман д'Обинье, встречая в нем
места, говорящие о связи с французской сатирой эпохи Возрождения, мы все
же не можем не заметить то новое, что пробивается сквозь этот глубокий
и острый психологический этюд. Как и в поэме, в романе А. д'Обинье создал
произведение «иного» и неповторимого стиля, улавливавшего особенности
эпохи полнее и смелее, чем это делали в 10-х и 20-х годах XVII в. писатели
рождавшегося французского классицизма или кумир прециозных читателей —
Оноре д'Юрфе. Я полагаю, что этот «иной стиль», которого требовал век,—
своеобразный реализм XVII столетия ].
В той истории реализма, которая за последние годы создана стараниями
советских ученых, есть заметное белое пятно — это литература XVII в. Мы
признаем существование реализма ренессансного, просветительского, крити-
ческого реализма XIX—XX вв. и социалистического реализма... Но есть ли
у нас работы о реализме XVII в.? Правда, век этот начинается лучшими траге-
диями Шекспира, к его первой трети относится появление прозы Сервантеса
и многих лучших произведений Лопе де Вега; но их относят к ренессансному
реализму, а подчас даже подтягивают к средневековым ситуациям духовной
жизни. Если последнее вызывает возражения, то взгляд на этих авторов как на
наиболее ярких представителей ренессанского реализма мне представляется
верным. Да, но за ними — обширная лакуна, из которой исключается лишь
«Буржуазный роман» Фюретьера,— лакуна вплоть до Д. Дефо, с которого уже
начинается роман просветительский.
Между тем нам известно широкое развитие реализма в изобразительном
искусстве Западной Европы XVII в.; реализм Веласкеса, Ван-Дейка, наконец,
«суровый реализм» Рембрандта не позволяют сомневаться в существовании
могучего реалистического искусства в этом столетии — притом я беру имена,
«лежащие», как говорится, «на поверхности» истории искусства. Что же каса-
ется истории литературы, то если в ней и есть замечания о развитии реалисти-
ческого словесного искусства, они идут либо как соображения о реалисти-
ческом таланте Мольера и Лафонтена, выходящего за рамки нормативной
эстетики классицизма, либо выступают как определения варианта барок-
ко; при этом фигурирует даже термин «барочный реализм», пущенный в
оборот таким тонким исследователем, как Л. Е. Пинский, который чувствует
реализм в литературе XVII в., но отдает первенство барочным элементам в ре-
алистической прозе этого столетия.
Мне представляется, что эти точки зрения, допускающие реализм в литера-
турах XVII в. только в виде привходящих явлений классицизма или барокко,
связаны с двумя ошибочными концепциями. Согласно одной — достаточно
старой — XVII век был «эпохой классицизма»/При этом игнорируется то об-
стоятельство, что классицизм, начиная от Малерба и кончая Буало, утверждал
себя именно в борьбе с другими направлениями в литературе своего времени,
о чем достаточно ясно свидетельствует хотя бы яростная полемичность «По-
этического искусства». Другая концепция, истоки которой уходят в конец XIX в.,
но которой суждено было расцвести в XX в. и особенно после второй мировой
войны, считает XVII век «веком барокко». Между двумя войнами над этим
превращением богатейшей и необыкновенно разнообразной литературы XVII в.
в царство барокко потрудились так называемые «сенчентисты»— литературо-
веды, стремившиеся изолировать XVII век («сенченте») от других эпох лите-
ратурного развития Западной Европы. Среди «сенчентистов», отдавших пред-
1 Проблема реализма во французской литературе XVII в., и в частности в романе А. д'Обинье,
была поставлена в неопубликованной кандидатской диссертации Ю. Б. Виппера «Французский ре-
ально-бытовой роман XVII в. (от Агриппы д'Обинье до Скаррона)». М., 1947.
70
почтение барокко, настойчивостью и широким масштабом исследований осо-
бенно выделялся Марио Прас. После второй мировой войны, опираясь глав-
ным образом на исследования немецких филологов XX в., американские лите-
ратуроведы выдвинули теорию некоего универсального барокко, явления кото-
рого они видели и во французской литературе, относя к ним и прециозную ли-
тературу, и в литературе английской, занося в разряд барочных писателей Д.
Донна и так называемых метафизиков. Мне кажется, если и есть основания для
того, чтобы рассматривать эти явления французской и английской литературы
в плане барокко, то с очень большими оговорками, настолько серьезными, что
проще будет оставить прециозных писателей и англокатолическую школу поэ-
тов под старыми и привычными их именами. Стремление присоединить их
к действительно барочной позиции маринизма и культеранизма и к некоторым
произведениям немецкой литературы, по вполне понятным причинам близкой
к барочному искусству католических стран, ведет к заметному упрощению
и пренебрежению национальной спецификой развития французской и англий-
ской литературы XVII в.
Увлечение термином «барокко» как универсальным определением господст-
вующего направления в искусстве XVII в. привело даже к возрождению поня-
тия «эпоха барокко», что можно увидеть в статье «барокко» («Краткая лите-
ратурная энциклопедия»). При этом «эпоха барокко»— это и есть вообще весь
XVII век. Сколько-нибудь развернутого и продуманного определения этого по-
нятия, однако, до сих пор еще нет.
Замечательный испанский филолог Р. Менендес Пидаль в статье «Темный
и трудный стиль культеранистов и консептистов», анализируя эстетику Гонго-
ры, на этом частном примере показал характерные особенности стиля испан-
ского барокко. Подчеркивая, что «темный и трудный стиль—вот главное
в культеранизме и консептизме» ', испанский филолог писал, что Гонгора в од-
ном из своих писем «исключительно верно подметил главное в искусстве ба-
рокко— отвращение к ясности выражения идеи»2. Высоко ценя .Гонгору,
Р. Менендес Пидаль говорит об этом свойстве барокко не как о пороке, а как
о характерном качестве замечательного испанского поэта. Ему он противо-
поставляет Кеведо. Кеведо, пишет Пидаль, нападает на темный стиль, беспо-
щадно высмеивает Гонгору — путаника культераниста — с его «нагроможде-
нием всяких странных и непонятных слов». Пидаль отличает позицию Кеведо от
позиции Лопе де Вега, настаивавшего на том, что «язык все время должен
оставаться ясным и доступным», и от позиции Гонгоры, этого классика «ба-
рочной» поэзии XVII в. «Консептист Грасиан,— добавляет Пидаль,— тоже не
выступает в защиту темного стиля, хотя в отличие от Кеведо он в самой реши-
тельной форме заявляет о своем отвращении к ясности» 3. Так богато и сложно
выглядит литературная борьба направлений в испанской литературе XVII в.
у наиболее выдающегося современного филолога-испаниста. Какой уж там «век
барокко»!
Что касается нашей науки, то наиболее объективным представляется на-
правление, рассматривающее литературный процесс XVII в. как сложное раз-
витие ряда разнородных явлений, важнейшими среди которых были классицизм
и барокко.
Другие явления согласно этой концепции либо носят второстепенный ха-
рактер, либо так или иначе входят в одну из этих групп, давая основу как раз
для той точки зрения, согласно которой реалистические тенденции развиваются
или внутри классицизма, взрывая его изнутри, не подчиняясь его теории, или
внутри барокко. При этом хочется оговорить одно важное обстоятельство. Хотя
в целом проблема реализма в западноевропейской литературе XVII в. у нас
1 Пидаль Менендес Р. Избранные произведения. М., 1961. С. 771.
2 Там же. С. 768.
Л Там же. С. 769.
71
почти не ставилась, а если ставилась, то лишь в самых общих чертах, однако
именно в связи с романом XVII в. вопрос о реализме XVII в. в нашем литера-
туроведении возникал нередко.
Применительно к английскому роману XVII в. (Дж. Беньян) этот вопрос
поставлен в «Истории английской литературы» '. В книге Б. И. Пуришева
«Очерки по истории немецкой литературы XV — XVII вв.» романы Гриммельс-
гаузена рассматриваются как реалистические 2. В многочисленных предисло-
виях к русским переводам испанских и французских романов XVII в. так или
иначе говорится об их реализме, пусть даже о «барочном реализме», как упо-
миналось выше. В «Истории немецкой литературы» 3 А. А. Морозов говорит
о реалистической силе романов Гриммельсгаузена.
Таким образом, можно признать, что изучение определенной группы рома-
нов XVII в. давно уже подводит советское литературоведение к выводу о том,
что в западноевропейских литературах этой эпохи существовал довольно бо-
гатый реалистический роман. Обращение к русской литературе XVII в. сразу же
приводит к удивительной «Повести о Савве Грудцыне», этому подлинно нова-
торскому произведению русской литературы, и далее — к протопопу Аввакуму
с его мощной автобиографической прозой. Анализ китайской художественной
прозы XVIII в. в работе О. Л. Фишман 4 касается в основном литературы
XVIII в., и все же он дает основание говорить, как и переведенные у нас повести
из сборников XVII в., о наличии реалистической сатирической тенденции и в ки-
тайской литературе рассматриваемого в данной статье столетия. Я ограничусь
лишь этими общими замечаниями, смысл которых — указать на присутствие
реалистического течения в мировой литературе XVII в.
* * *
Можно ли предположить, что столетие, столь важное в развитии реализ-
ма изобразительных искусств, стало некоей паузой в развитии реализма сло-
весного искусства? Мне это представляется невероятным: я полагаю, что и
в литературе XVII в. были свои великие реалистические явления, достойные
занять место в общей истории реализма как одно из ее звеньев. Основой для
развития реализма в литературах XVII в. являлась сама действительность.
Крушение утопических идеалов эпохи Возрождения отмечалось в XVII в. в За-
падной Европе повсеместно, хотя и происходило в различных формах. Условия,
в которых рождалось новое общество XVII в.,— укрепление национальных го-
сударств под эгидой абсолютизма в одних странах, первые кризисы абсолю-
тизма — в других, буржуазная сущность Нидерландских Соединенных Штатов
и эволюция английской республики к диктатуре Кромвеля, затяжное гниение
и распад старого феодального общества в Испании и рефеодализация многих
немецких земель как результат Тридцатилетней войны — все это были сложные
формы борьбы между старым феодальным обществом и обществом буржуаз-
ным, медленно прокладывавшим себе дорогу вперед. В этих процессах особенно
резко и трагически обнажался и характер разрушавшегося старого
общественного строя, и черты того нового общества, которое шло на смену фе-
одальной Европе. Эти процессы знаменовали становление буржуазных наций
в Европе с их новыми и еще небывалыми в истории классовыми и националь-
ными противоречиями. Впрочем, по всей древней Евразии, даже там, где еще
было далеко до формирования наций, росли города с их контрастной социаль-
ной жизнью, усложнялись экономические отношения, вспыхивали мощные на-
родные восстания, в которых резко обнажались глубинные конфликты нового
общества.
1 См.: История английской литературы. М., 1945. Т. I. Вып. 2.
2 См.: Пуришев Б. И. Очерки по истории немецкой литературы XV—XVII вв. М., 1955.
3 См.: История немецкой литературы. М., 1962. Т. 1.
4 См.: Фишман О. Л. Китайский сатирический роман. М., 1966.
72
Недаром через всю литературу XVII в. проходит, усиливаясь во второй по-
ловине столетия, тема перехода от идиллического состояния к жестокой правде
жизни. Эта тема звучит по-разному в романе Гриммельсгаузена «Похождения
Симплициссимуса», в эпизоде разгрома патриархальной крестьянской усадьбы,
где прошли первые годы жизни Симплиция, и в эпосе Мильтона «Потерянный
рай», где эта идея перехода от райского существования к суровой человеческой
истории составляет одну из важнейших сторон замысла автора. Можно было
бы сказать, что тайну нарождавшегося общества открыл Гоббс в своей знаме-
нитой формуле «война всех против всех». В этом смысле его «Левиафан»— ве-
ликая философская основа реализма XVII в., явление в области философии,
параллельное тем открытиям, которые делал в те же годы роман XVII в. Не
менее важным было и другое открытие Гоббса — осознание растущего значе-
ния народных масс, того «парня сильного, но и злонамеренного», которого так
опасался автор «Левиафана» и который заявил о себе, доведя до эшафота
Карла Стюарта, расправившись с «пенсионарием» де Виттом в Голландии,
тряхнув всей южной Италией в дни восстания Томмазо Аньелло и поставив на
грань революции Францию в годы Фронды. Да и сокрушительная для культуры
Средней Европы Тридцатилетняя война была развязана для того, чтобы на-
нести удар тому же «парню» в землях немецких государей и австрийских импе-
раторов. Отсюда видно, что «пуэр робустус» не желал безропотно подчиняться
новым ударам, наносимым абсолютистскими правительствами и лидерами мо-
лодой европейской буржуазии.
Из горечи разочарования, мук голода и нищеты, порывов протеста — из
этой мучительной атмосферы нового европейского общества XVII в. не могло не
родиться великое новое искусство, не укладывавшееся ни в рамки классицизма,
ни в неясное, как сама жизнь, искусство барокко, по-своему выражавшее эту
трагическую ситуацию XVII в., но обращавшее порывы исстрадавшейся чело-
веческой души к экстазу мистики.
Мне кажется, далее, что развитие реалистических тенденций в литературах
XVII в. шло в различном виде в трех основных жанрах, в которых они наиболее
отчетливо сказались еще на исходе Ренессанса,— в области новеллы, романа
и, наконец, драматургии (в данном случае менее плодотворно, ибо здесь дей-
ствительно особенно сильным было влияние классицизма). Интенсивной сферой
развития реализма в XVII в. была в целом область сатиры с ее бурлескными
корнями, уходившими в народную почву. Однако сферой особенно значитель-
ного развития реалистического искусства в XVII в. был, как я полагаю, роман.
Роман XVII в.— огромный, недостаточно изученный аспект литературного
процесса этой эпохи, богатый самыми различными образцами данного жан-
ра — и доставшимися в наследство от позднего Средневековья, вроде прозаи-
ческого рыцарского романа; и только приобретающими характер художествен-
ной литературы, вроде различных описаний подлинных путешествий и приклю-
чений. Здесь и сложная эволюция романа прециозного от м-ль де Скюдери —
к м-м де Лафайет с их английскими параллелями, очень богатыми, и роман ба-
рочный, расцветший в немецкой литературе (У. фон Цезен, Лоэнштейн и
т. д.), и многие забытые образцы приключенческих, любовных, воспитательных
романов, вобравших сложный опыт литературного развития этого динами-
ческого века — вплоть до «Ориноко» Афры Бен (1668), в котором соединены
черты многих видов романа этого времени. Однако магистраль развития жанра
проходила не по этим линиям, как бы ни были они важны, будь то в пределах
той или иной национальной литературы или в пределах литературы Западной
Европы в целом. Основное направление развития романа, ведшее к его подъему
в XVIII в., лежало в иной области, и у истоков этого основного направления
были «Дон Кихот» Сервантеса и его «Назидательные новеллы».
Много раз в наших работах вспоминались слова Белинского о том, что
Шекспир и Сервантес стоят у начала новой, современной литературы. Эти
73
справедливые слова в полной мере относятся и к роли, которую роман Серван-
теса объективно сыграл в истории реалистического романа XVII в.
Обрушиваясь на определенные явления в рыцарском романе XVII в. и
в близких к нему развлекательно-авантюрных и галантных жанрах романской
прозы, Сервантес противопоставлял им свое произведение—«сочинение... не
блещущее выдумкой, не отличающееся ни красотами слога, ни игрою ума...».
Конечно, все эти отрицания «заряжены» издевкой: из дальнейших слов видно,
что Сервантес в данном случае под «выдумкой» подразумевает самые нелепые
приемы фантастики рыцарского романа, под «красотами слога»— нелепейшие
примеры помпезного красноречия, под «игрою ума»— претензии на эрудицию,
замеченные им у авторов, которых Сервантес презирал. Но даже и в таком случае
эта пропаганда заведомой простоты очень характерна. Если вспомнить приве-
денный у Пидаля отзыв Кеведо о «неясности» Гонгоры и его барочных едино-
мышленников, то особенно весомо прозвучит призыв Сервантеса к ясности:
«...позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были понятны, пристойны и пра-
вильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш период, за-
тейливый (это Сервантес допускал.— А С.) и полнозвучный, с наивозможною
и доступною вам простотою и живостью передавали то, что вы хотите сказать;
выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла». (Напоминаю значи-
тельность этого вопроса для испанской литературы, на что указывал Пидаль.)
Объявляя себя сторонником древнего принципа Аристотеля и Горация,
подхваченного реалистами Ренессанса,— принципа следования природе
в искусстве («чем искуснее автор ей подражает, тем ближе к совершенству его
писания»— читаем в Прологе к «Дон Кихоту»), Сервантес, однако, весьма
расширял это общее положение реалистической эстетики Ренессанса и вводил
в него задачи изображения повседневной жизни, бытовых подробностей, каких
не знала литература прежних веков. «...Это лучшая книга в мире,— говорит
священник по поводу одного из романов, обнаруженных в библиотеке Дон Ки-
хота.— Рыцари здесь едят, спят, умирают на своей постели, перед смертью со-
ставляют завещания...»
Едят, пьют, умирают в своей постели... совсем, как Дон-Кихот, с которым,
впрочем, происходит и много вещей необычных.
В отличие от писателей барокко, которые, по меткому слову Пидаля, стре-
мились скрыть смысл идей своих произведений (а то и не умели их осознать до
конца), Сервантес постоянно и в тексте своих произведений, и в программных
введениях к ним говорит об идеях своих книг, о наставительном и воспитатель-
ном их значении. Надо полагать, в это понятие искусства как средства воспи-
тания входило и представление о необходимости обличать и осуждать опреде-
ленные стороны испанской жизни, что с таким искусством делается и в «Дон
Кихоте», и в «Назидательных новеллах».
В самом деле, при всем нашем уважении к великим гуманистическим идеа-
лам романа Сервантеса, самым ценным в нем была и остается его критическая
тенденция; в ней и заключается сила реализма Сервантеса. Т. Манн в этюде
«Путешествие по морю с Дон Кихотом», богатом тонкими наблюдениями над
романом великого испанца, полагает, что роман «вознесся над временем не
только в силу его всечеловечности», но и в силу «критичности» его автора ',
сказывающейся и в таком характернейшем моменте мастерства Сервантеса-
романиста, как «юмористический стиль книги». Эту «критичность», временами
великолепно замаскированную, Т. Манн замечает во многих эпизодах — осо-
бенно в эпизоде с мориском, на что, независимо от Т. Манна, указывал в своей
работе «Предисловие к русскому переводу „Дон Кихота"» известный советский
литературовед А. И. Белецкий. «Критичность» Сервантеса великолепно ужи-
вается с «комическим пафосом», «патетическим комизмом» (определения
1 Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 182.
74
Т. Манна), этим важным аспектом изображения действительности в романе,
снимающем мнимую значительность того или иного явления или претенциоз-
ность того или иного персонажа.
На суровый реализм многих страниц романа Сервантеса, как и на своеоб-
разную функцию его юмора, указывали советские исследователи. Подтвержде-
ние этой мысли мы находим и в ценной книге мексиканского литературоведа
Мауро Ольмеда (глава VII в разделе «Литературный реализм «Дон Кихо-
та») '. Ольмеда говорит о том, что некоторые сцены романа, в частности сцена
освобождения колодников, насыщены настроением протеста.
Итак, «подражание природе» приводило писателя к созданию сцен, глубоко
жизненных, в ряде случаев объективно выражавших возмущение обществен-
ными условиями. Подражая природе, он создал правдивую картину испанской
действительности, язвы и пороки которой были изображены с точки зрения на-
рода и его потребностей, открывали страшную правду, таившуюся за раззоло-
ченным фасадом испанской монархии начала XVII в. Подражая действитель-
ности, Сервантес создал сложный образ испанского крестьянина Санчо Пан-
сы — первый реалистический образ человека из народа в западноевропейской
литературе. Результаты «подражания природе» Сервантеса были поистине
огромны — он создал новые принципы построения романа, повлиявшие на
развитие этого жанра в мировых масштабах.
Принято считать, что великое наследие Сервантеса было по-настоящему
понято и освоено только романистами XVIII в., в эпоху просветительского реа-
лизма. С этой точкой зрения мне хочется поспорить. Я полагаю, что объективно
«линия Сервантеса»— конечно, без учета его гениальности и независимо от не-
го самого, так как дальше в большинстве случаев речь пойдет о писателях, ко-
торые его и не читали,— развивалась именно в течение XVII в., точнее —
в определенных типах романа этого столетия.
Ниже приводится список (конечно, неполный) хронологии романа XVII в.
В него не вошли: развитие прециозного романа во Франции, барочного —
в Германии и Италии, образцы классицистского романа. Точнее говоря, это
хронологическая таблица тех родов западноевропейского романа, которые,
продолжая некоторые традиции романа ренессансного 2, стали в XVII в. на-
иболее полным выражением критического «подражания природе». Наряду
с ним приводятся некоторые образцы документальной литературы, только еще
превращающейся в литературу художественную, и, наконец, образцы сатири-
ческого жанра, пополняющие развитие романа XVII в.
1599—1604. М. Алеман. Жизнеописание Гусмана де Альфараче, наблю-
дателя жизни человеческой.
1617. А. д'О б и н ь е. Приключения барона Фенеста.
1618. В. Эспинель. Маркое Обрегон.
1623. Ш. С о р е л ь. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона.
1626. Ф. Кеведо. Жизнеописание проходимца Пабло.
1627. Ш. С о р е л ь. Антироман или сумасшедший пастух.
1627. Ф. Кеведо. Сновидения.
1630. Д ж. Смит. Подлинные странствования, приключения и наблюдения
капитана Джона Смита.
1642. Л. Велес де Гевара. Хромой бес.
1642. И. Мошерош. Диковинные и истинные видения Филандера фон
Зиттевальда.
1648. Ш. С о р е л ь. Полиандр.
1651. П. С к а р р о н. Комический роман.
1 См.: Olmeda M. El ingenio de Cervantes y la locura de Don Quijote. Mexico, 1958. P. 225.
2 «Жизнь Ласарильо с Тормеса», «История Джона Уильтона».
75
1652. Ф. Г. Английский Гусман, или история о несравненном воре Дж.
Гинде.
1652. Старший брат Гинда (без автора).
1656. Мошенник, пойманный, осужденный и повешенный, или история не-
сравненного вора Ричарда Гайнама (без автора).
1659. Р. Г э д. Английский мошенник.
1665. Р. Г э д. Вымогатели.
1666. А. Фюретьер. Буржуазный роман, комическое сочинение.
1667. Г. Гриммельсгаузен. Целомудренный Иосиф.
1668. Г. Гриммельсгаузен. Похождения Симплиция Симплицис-
симуса.
1670. Г. Гриммельсгаузен. Обманщица и побродяжка Кураж.
1670. Г. Гриммельсгаузен. Музай.
1670. Г. Гриммельсгаузен. Шпрингинсфельд.
1672. X. В е й з е. Три величайших в свете дурака.
1673. Г. Гриммельсгаузен. Чудесное птичье гнездо.
1678. Д ж. Б е н ь я н. Странствование паломника.
1680. Д ж. Б е н ь я н. Жизнь и смерть м-ра Бэдмена.
1696. X. Рейтер. Описание забавного и очень опасного странствования
Шельмуфского по суше и морю.
Повторяю, список неполон и в известной мере выборочен. Но в нем пред-
ставлены романы, которые при всех их различиях наглядно демонстрируют бо-
гатство типов романа XVII в. внутри жанра, объединяются существенными об-
щими чертами.
Заметна и еще одна особенность романов, приведенных в хронологической
таблице. Только в трех случаях («Антироман» Сореля, «Комический роман»
Скаррона, «Буржуазный роман» Фюретьера) эти книги прямо названы «рома-
нами», причем во всех трех случаях — с важными оговорками. В других это
определение отсутствует. Да и считали ли авторы этих книг свои произведения
«романами»? Видимо, для них в понятии «роман», каким бы сложным и раз-
личным на разных языках Европы оно ни выглядело, заключалось нечто, резко
отличавшееся от их произведений. Только последующая литературно-крити-
ческая и издательская традиция свалила на одну полку под рубрику «роман»
и старые романы, и те новые жанры прозы —«жизнеописание», «история жиз-
ни», «приключения» и т. п., которые рождались в XVII в.
Конечно, и изысканные повествования м-ль де Скюдери и г-на де Скюдери,
и психологический роман м-м де Лафайет, и галантно-приключенческий боевик
Афры Бен, и многотомная «Азиатская Баниза» были тоже своеобразным опи-
санием современности и современника, человека XVII столетия. Но в этих про-
изведениях прециозной литературы и литературы барокко человек выступал
чрезвычайно манерным, искусственным, в условиях исключительных, отрезан-
ный от жизни и общества, в аристократической, избранной среде (как в рома-
нах французских дворянских писателей XVII в.). Взятая в целом, при всем
своем различии, атмосфера названных романов и многих других, близких к ним,
далека от повседневной жизни и быта западноевропейского общества XVII в.,
от нужд, бедствий и надежд простого, заурядного человека этого столетия.
Представим себе, что от всего богатейшего наследия романической литературы
XVII в. уцелели только романы прециозного и барочного типа: картина века,
существующая в нашем сознании, была бы внешне чрезвычайно пестрой, но по
существу бедной и односторонней. И хотя, например, роман м-м де Лафайет
вводит нас в духовную атмосферу образованной части общества XVII в., наше
представление о социальной жизни западноевропейского общества XVII в.
строится по другим романам этого столетия — ив значительной степени по тем,
названия которых приведены в нашей хронологической таблице.
76
Произведения, представленные в ней, дают почти в каждом отдельном слу-
чае живые сгустки действительности, картины повседневного существования
стран Западной Европы, те самые «типические условия» (в доступном для ли-
тературы XVII в. виде), о которых в применении к критическому реализму XIX в.
писал Энгельс. Во многих из этих романов особую роль играет город — сум-
ма искусственных условий, созданных людьми. Тема Большого Города XVII в.
во весь голос звучит в других романах XVII в. Связь этих романов с действи-
тельностью подчеркивается уже в их названиях: «Жизнеописание Гусмана»,
«Жизнеописание Пабло» (в подлинниках—«История жизни»), «Жизнеописа-
ние Франсиона»; авторы стремятся рекламировать подлинность, действитель-
ность того, о чем они рассказывают, называя свои произведения: «Правдивое
комическое жизнеописание Франсиона», «Подлинные странствования капитана
Смита», «Диковинные и истинные видения Филандера». Впечатление «подлин-
ности» должно было усиливаться характерной для многих романов XVII в.
формой повествования от первого лица, воспоминаниями о пережитом,
и здесь — точка соприкосновения романов и мемуаров, ибо многие из романов
выдаются за мемуары, хотя отлично видно, что это — вымысел (впрочем были
и мемуары поинтереснее любого романа). Конечно, такая «реклама подлин-
ности» не всегда могла быть принята всерьез. Но это и не просто литературная
традиция — определенная жанровая установка, определенный тип романа,
привлекающий того или иного писателя. Гусман де Альфараче назван «наблю-
дателем жизни человеческой»: было бы вернее отнести это высказывание к ав-
тору романа о Гусмане, как и к авторам других названных в списке романов.
Они сочетают в себе и наблюдения над жизнью одного человека, и наблюдения
над современным обществом, «жизнью человеческой». Впервые в жанре романа
микрокосм человеческой личности и гигантский, страшный макрокосм общества
совмещаются в осознании противоречий как непримиримые антитезы, в борьбе
которых микрокосм, за редким исключением, оказывается побежденным
и включенным в виде малого изуродованного атома в безжалостный макрокосм
социального бытия, пугающего и влекущего к себе художника. Ведь в нем во-
пиет его собственный микрокосм творческого гения, мучающегося и терзающе-
гося тем, что он видит вокруг себя. В этом смысле авторы бесчисленных
романов о муках простого человека, «колесуемого» страшной действитель-
ностью XVII столетия, были объективно продолжателями великого дела
Сервантеса. Ни в каких других литературных произведениях столетия и даже
в бессмертных трагедиях Шекспира человек XVII в. так не обнажается
в своей незащищенности, одинокости, отверженности от рода и племени,
«отчужденности» (употребляя модное сейчас слово), как в романе этого
типа.
Его принято называть пикарескным, и о нем написано много интересного.
Прослежена его генеалогия вплоть до восточной новеллы и т. п. Все это хоро-
шо, но нельзя не видеть, что в развитии этого жанра в начале XVII в. происхо-
дит перелом, роман этого типа становится далеким прообразом социального
романа более поздних стадий реализма. В истории этих эпох тоже не случайно
так часто встречаются романы, анонсирующие как основную большую их те-
му — жизнь человека, его жизнеописание. Рождается социальный реалисти-
ческий роман XVII в., рождается раньше всего в Испании, где особенно тра-
гичны контрасты разрушающегося сословного мира и нового общества, под-
властного деньгам, контраст между золотым фасадом империи и ее подлинной
жизнью. Возникнув в Испании, эта тема правды, обнажаемой во имя обличения
красивой лжи, будет характерной для литературы всего XVII в.
Вплоть до великого цикла романов Гриммельсгаузена тема «малого чело-
веческого атома», бьющегося за сохранение своего существования про-
тив множества диких и страшных сил, тоже пройдет через всю литературу
века.
77
Другая особенность романов, собранных в нашей таблице,— это их герои,
обыкновенные люди XVII в., чаще всего люди «низкого» происхождения или
воспитанные в «низах». Лукавые испанские пикаро и хмурые английские воры,
подкидыши великой войны, кромсавшей Европу с 1618 по 1648 г., калеки, по-
таскухи, наемные солдаты, деловые мещане, странствующие актеры, мелкие
чинуши, авантюристы вроде капитана Смита (кстати, подлинного лица), му-
жики, над которыми насмехаются, но на которых и посматривают с уважением,
промотавшиеся дворянчики, шарлатаны-врачи и такие же шарлатаны-учителя,
попы и монахи — поразительно богатая и разнообразная социальная среда,
в которой основу все же составляет народ, плебс. С романами такого типа, об-
разцы которого приведены в хронологической таблице, в литературу хлынул
поток персонажей, которые раньше не рисковали переступить порог, отделяв-
ший литературу от сферы бытового анекдота или лубка. В XVII в. именно
в прозе проходит своеобразный процесс демократизации литературы, и одна из
первых сфер, в которой он развертывается,— социальный реалистический ро-
ман этого столетия.
Стремление показать современность и участь современника объединяет ро-
маны различных типов. Своеобразный фантастический реалистический роман
XVII в., в котором стихия «сна» обрамляет самые реальные ситуации, а в рам-
ках сказки о бесе развернута истинно бальзаковская картина Испании, ис-
пользуется для той же реалистической задачи. В «Сновидениях» Кеведо этот
прием служит могучим сатирическим обобщением, как и в «Видениях» Мо-
шероша.
Только в первом случае перед читателем проходят сцены испанской дей-
ствительности, во втором — немецкой, раздираемой войной. Действительно
подлинная, но поэтому не менее поразительная история жизни рассказана
в книге Джона Смита, английского авантюриста и писателя XVII в., оставив-
шего кроме романа о своей жизни — этого яркого звена между лубочным пи-
ратским романом и английским реалистическим романом XVIII в.,— велико-
лепную «Историю Виргинии», эпос создания первой британской колонии на
территории Америки.
Нередко диалектика отношений микрокосма — человека и макрокосма —
общества изображается в комическом аспекте, что особенно настойчиво под-
черкивается во французских романах: «Комическое жизнеописание Франсио-
на», «Комический роман», «Буржуазный роман» («комическое сочинение»);
природа этого комизма XVII в. еще должна быть изучена; но уже сейчас видно,
что она социальна прежде всего, что комические эффекты порождены опреде-
ленными социальными ситуациями, что перед нами — национальное выражение
той сложной и многообразной стихии юмора, которая действительно царит
в названных ниже романах — от гротескного юмора Кеведо до немецкого гру-
боватого и часто сердечного юмора Гриммельсгаузена. Социальный роман
рождался не только как роман, исследующий жизнь, наблюдающий ее, но и как
роман, пытающийся вооружить своего читателя хотя бы юмором для преодо-
ления того страшного и уродливого, что окружало его в жизни.
Взятые в целом, романы приведенного типа так или иначе оказываются
предшественниками «робинзонады» как характерного мировоззренческого
стержня просветительского романа XVIII в., и здесь для понимания не только
эволюции жанра, но и его генезиса особенно много дает роман Д. Дефо. Этот
гениальный зачинатель романа XVIII в. как бы собрал в своей творческой
мастерской типы романов, восходящих к XVII в. Если «История капитана Син-
гльтона» прямо граничит с книгами капитана Смита, то «Молль Флендерс»—
достойное увенчание пикарески; если «Роксана» типологически близка к рома-
нам Гриммельсгаузена, которых Дефо не читал, то «Дневник кавалера», этот
недооцененный шедевр Дефо, указывает на еще одну область прозы XVII сто-
летия, оказавшую большое влияние на выработку новых форм реалистического
78
искусства,— на подлинные и фальшивые мемуары XVII в., огромную литера-
туру, прихотливо соединяющую атмосферу пикарескного романа и светского.
Венцом всего этого обобщенного использования великого наследия романа
XVII в. был новаторский «Робинзон Крузо», в своей теме, однако, связанный
с корнями реализма XVII в. уже не только потому, что там и здесь были робин-
зонады в переносном смысле слова, но и робинзонады буквальные: Симплиций
становится одним из первых робинзонов XVII в., и некоторые исследователи
(особенно Й. Схольте в своих работах) показали, что его появлению на необи-
таемом острове предшествовали многочисленные робинзонады на немецком
и голландском языках, до сих пор не включенные в понятие «литературы XVII
века», хотя нет сомнения, что они не менее значительны, чем сочинения фон
Цезена или Ульриха Брауншвейгского.
Романы, названные в хронологической таблице, раскрывают поразительно
богатую картину жизни западноевропейского общества XVII в., взятую в це-
лом. Испанские романы первой половины века дают неутешительную, но вер-
ную оценку испанского общества, в котором переход от старого к новому про-
исходил с особой выразительностью. Испанский пикаро, проходящий через
разные этапы социальной жизни, как бы «сшивает» своей предприимчивостью
это некогда блестящее общество, разлезающееся ныне по швам. О печальном
круговращении предметов, превращающихся из богатой одежды в жалкие об-
носки, выразительно сказано в известном романе Кеведо. «На наших телах нет
ни одной вещи, которая бы не была уже чем-нибудь другим и не имела бы своей
истории,— повествует дон Торивио,— поглядите, например, на мой камзол.
Это — сын штанов, внук жилетки и правнук плаща, наследник старинного рода,
а со временем он превратится в чулки и мало ли еще во что. Мои туфли были
носовыми платками, а еще раньше — полотенцами, а перед тем — рубахами,
детьми простыни. Превратившись в тряпки, все это пойдет на бумагу. На бу-
маге мы пишем, а потом пеплом из нее черним свои башмаки...»
Параллельно развертывается картина существования французского обще-
ства в романах Сореля, где наряду с обломками старой французской сословной
жизни уже укореняется прочный новый строй, представленный накопителями
и стяжателями, великолепно высмеянными в фрагментах незаконченного ро-
мана «Полиандр», достойного большего внимания, чем то, которое уделяется
ему до сих пор. В «Комическом романе» Скаррона призрачному богемному быту
комедиантов, изображенных так, как если бы этот остроумный писатель заду-
мал составить текст к рисункам Калло, уже противопоставлен прочный, сытый
мир французского местечка, непохожий ни на французскую жизнь XVI в., ни на
условия, сложившиеся в XVIII столетии. Это — особый внутренний мир про-
винциальной Франции, не знающий ни отчаянной испанской нищеты, ни тем
более страшного немецкого безвременья.
Английский воровской роман — именно воровской, а не плутовской, ибо
английский «rogue» мало чем напоминает своего испанского собрата. Перед
нами беспощадные условия становящегося буржуазного общества, жестоко
расправляющегося с каждым, кто посягает на частную собственность, и пре-
клоняющегося перед вором ловким, сумевшим победить врагов хитростью,
сноровкой, богатством. В английском воровском романе XVII в. «борьба всех
против всех» чувствуется особенно остро и неумолимо. Английский вор —«ка-
валер удачи» в большей степени, чем его континентальные собратья. Но ему же
грозит виселица в случае поражения в битве жизни. И хладнокровный анализ
английского общества, потревоженного революцией, и своеобразная дидактика,
вторгающаяся в роман, который учит не только воровать, но и храбро идти на
виселицу, специфичны для английского воровского романа, от которого тянутся
прямые связи к «Джонатану Уайльду Великому» Филдинга, «Ньюгейтскому
роману» и даже к некоторым моментам поэтики Диккенса. Французской па-
раллелью изображения английского общества в романах середины века служит
79
и «Буржуазный роман» Фюретьера, в котором спорят сочное жизнеописание
и поучающие, морализаторские тенденции.
Во второй половине XVII в. развертывается творческий путь великого
немецкого писателя Ганса Гриммельсгаузена. В течение десятка лет он изда-
ет две серии романов — библейскую, еще мало изученную, и собственно
немецкую, связанную в первую очередь с личностью Симплиция и его
друзьями.
Среди библейских романов Гриммельсгаузена особенно значителен роман об
Иосифе Прекрасном, властно напоминающий о замысле другого великого пи-
сателя Германии — Томаса Манна, хотя этот последний едва ли думал о своем
далеком предшественнике, когда начинал работу над сложнейшей библейской
эпопеей. Но как роман Т. Манна «Иосиф и его братья» является остросовре-
менным для 40-х годов, когда он противостоял антигуманистической и антиим-
периалистической волне, вызванной успехами нацизма, так и роман Гриммель-
сгаузена, несмотря на библейский сюжет, был тесно связан с общей ситуацией
в Германии и шире — в Западной Европе. Иосиф Гриммельсгаузена — светлый
и чистый человек, сумевший защитить свой духовный мир от грязи и бесчестия,
грозившего Захлестнуть его и временами, казалось, праздновавшего победу над
этим подлинным человеком. Отчасти разрабатывая те же моральные проблемы,
которые есть в «Симплиции», где они решены на материале немецкой действи-
тельности, роман об Иосифе выразительнее в художественном отношении, так
как в центре его — более разработанный образ человека из народа, сильного
природной мудростью и чутким сердцем. Образ Иосифа у Гриммельсгаузена —
не менее значителен в своей народности, чем образ мужика-отца, «кнана», ко-
торый когда-то спас жизнь безвестному дитяти человеческому и воспитал его
в порядках и правилах немецкой крестьянской семьи. В том, что «кнан», му-
жицкий батька офицерского сына Симплиция, как бы бессмертен и выживает
в самых трудных условиях, заложен некий смысл, как и в притче о дереве —
этом символе современного общества, чьи корни уходят в народную мужиц-
кую толщу, подобно таланту Гриммельсгаузена. В эту же почву — в стихию
устного народного творчества — уходят и многочисленные сказочные тради-
ции романа, используемые, однако, в интересах общей реалистической
концепции.
В начале века Кеведо говорил устами своего несчастного, отчаявшегося
Пабло, втоптанного в самую грязь испанского дна: «Поступай так, как дру-
гие..,— говорит пословица.— И правильно говорит. Именно вспомнив ее, я
и решил быть мошенником из мошенников и, если можно, наибольшим мошен-
ником среди прочих...»
Иначе поступает Симплиции: пройдя сквозь ад войны и разгул лагерной
жизни, побывав и шутом, и солдатом, и пленником, и странником, он стремится
остаться верным доброму началу, которое теплится в нем, воспитанному не-
когда «кнаном» и добрым отшельником, в коем он не узнал своего настоящего
отца. Быть может, Кеведо был реалистически более точным, когда излагал
кредо своего Пабло. Но в реализме Гриммельсгаузена уже есть большая перс-
пектива и большее обобщение, на которое еще не был способен великий испан-
ский писатель начала XVII в.
Эта перспектива ведет в дальнейшем к морально-дидактическому и сатири-
ческому роману X. Вейзе, к идее «воспитательного» романа XVIII в.
Своеобразие реализма XVII в. в его английском варианте, его возможности
и перспективы проявились в творчестве Дж. Беньяна.
Уже в первом своем произведении «Изобильное милосердие, изливающееся
на главного грешника» (1666) Беньян создал своеобразный исторический
и психологический документ, характеризующий внутренний мир пуританина —
демократа послереволюционных лет, раскрыл сложное духовное состояние,
свойственное ему — правдоискателю и глубокому мыслителю, впрочем, лишен-
80
ному всякого образования. Выбирая путь «нравственного усовершенствова-
ния», так как путь открытой политической борьбы в его глазах был скомпроме-
тирован всем опытом республики, Беньян, однако, призывает к обличению ре-
жима Стюартов, помогает понять духовный мир тех бесстрашных проповедни-
ков, которые вышли из народной среды Англии конца XVII столетия. Говоря
о жизни английских правящих классов периода реставрации, Беньян уже по-
казывает свои недюжинные возможности писателя-сатирика.
Они развернулись в «Странствовании паломника». В данном случае нас
интересует не теологически моральная концепция этой книги, обратившей на
себя пристальное внимание Пушкина (см. исследование Д. Д. Благого, по-
священное этой теме), а именно картина мира, противостоящего Христиану,
дорога, по которой он идет к цели.
Враждебный ему мир наглядно показан в сценах, рисующих город, в центре
которого шумит Ярмарка Тщеславия, восхитившая позднее Теккерея. Все про-
дается на Ярмарке Тщеславия, пишет Беньян: люди, чувства, богатства, по-
чести, целые страны и правительства. Всесильное золото хозяйничает и в горо-
де, и на Ярмарке Тщеславия, развращая и губя людей.
За пуританским словарем и аллегорическими именами персонажей книги
Беньяна, имеющими значение характеристик (мистер Жизнемудр, мистер
Многослов, Маловер), проступают реальные типы английской действительности
тех лет. Среди них есть даже и Атеист, чьи доводы воспринимаются как умыш-
ленно искаженные и преувеличенные идеи Гоббса. На деле Атеист Беньяна —
просто бессовестный корыстолюбец. И если романы Гриммельсгаузена навеки
запечатлели подлинные картины немецких сел и городов, разрушенных страш-
ной войной, бушевавшей между Рейном и Одером, Бельтом и Трансильванией,
то книга Беньяна дает не менее выразительную и горькую картину английского
общества в годы, последовавшие за крушением республики, показывает ее ре-
альные результаты —торжество Ярмарки Тщеславия на тех стогнах, где побе-
доносный английский «пуэр робустус» двадцать лет назад проводил на плаху
своего легкомысленного и вспыльчивого короля 1.
Но сила художественного мастерства Беньяна в полную меру проявилась
в одном из последних его произведений — в «Жизни и смерти мистера Бэдме-
на» («Badman»—«дурной человек», г-н Злодеев).
Сын почтенных английских обывателей, Бэдмен, с детских лет склонный
к порокам и преступлениям, промотал деньги, данные ему заботливым отцом
«на обзаведение». Вступив в брак по расчету и разбогатев таким образом,
Бэдмен пускается в бессовестные спекуляции, постепенно становится богачом,
беззастенчивым грабителем, не останавливающимся ради наживы даже перед
преступлением.
Процесс заканчивается, родился литературный тип английского дельца, ка-
ким мы будем знать его по многим произведениям английской реалистической
литературы. Из грязи и крови возник новый строй, заменивший собой старую
патриархальную Европу. На смену персонажам старой европейской литературы
приходит Бэдмен, возникает контур романа, резко обличающего новые
общественные отношения. Доза пуританского дидактизма, которая, конечно,
есть в книге Беньяна, уже ничего не смягчает по существу и не ослабляет об-
личительную силу его романа.
На исходе века появляется «Шельмуфский» Рейтера. Это великолепная па-
родия на плутовской и авантюрный романы XVII в., одновременно широко ис-
пользующая их возможности. Но прежде всего это пародия; жанр в основном
исчерпан, он стал точкой отталкивания; роман Рейтера, как верно отметил Б. И.
Пуришев,— начало «мюнхгаузениады», а она уходит в XVIII век.
1 Английский король Карл I Стюарт был казнен в 1649 г. во время английской буржуазной ре-
волюции.— Ред.
81
* * *
Хотя в каждом отдельном случае, естественно, надо говорить об индивиду-
альном стиле автора данного романа, но все же в поэтике жанров прозы есть
нечто общее, что позволяет говорить о себе как о важном признаке жанра
в целом; в данном случае это тот особый повествовательный стиль, который
вырабатывается именно в прозе XVII в. и не похож ни на лаконическую или
изукрашенную прозу XVI столетия, ни на темный стиль барокко, ни на сухова-
тую прозу классицизма. Это стиль нового эпоса, эпоса нового времени, для кото-
рого важна масса мелочей, не существовавших для творческого сознания про-
шлого века. Вот образчики этого реалистического повествовательного стиля из
нескольких романов XVII в., для которых в целом, разумеется, характерно
и множество национально-специфических черт, быть может, не улавливаемых
в предложенных отрывках:
«Уже начинал закипать человеческий котел столицы,— пишет Гевара, один
из первых прозаиков-урбанистов, создавший первый образ столицы в европей-
ской прозе, предшествующий образам Парижа, Лондона и Петербурга,— одних
поднимало кверху, других устремляло вниз, третьих — поперек, и все они об-
разовывали шумный круговорот, и в одушевленном океане Мадрида замелька-
ли уже киты на колесах, иначе называемые каретами. Закипала дневная битва:
у каждого были свои дела и намеренья, всякий старался обмануть другого;
вздымалось густое облако лжи и обмана, за которыми нельзя было разглядеть
ни одной крупицы истины» '.
«...В один из больших церковных праздников наплыв был особенно велик.
Кроме лиц, которые пришли сюда из благочестия, явились также в большом
количестве любители музыки, привлеченные оркестром из двадцати четырех
скрипок, иные пришли, чтобы послушать сладкоречивого проповедника, моло-
дого аббата без аббатства, отпрыска знатной семьи, где всегда один из сыновей
становится священником» 2,— писал Фюретьер, знаток парижского быта того
времени.
«Итак, на этой ярмарке в любое время можно увидеть фокусника, шахма-
тистов, игроков, разные забавы, дураков, обезьян, мошенников и воров и про-
чий подобный люд... И как на разных ярмарках нашего времени, здесь были
улицы и переулки под разными названиями, и они были товар, ими торговали...
Здесь был Британский переулок и переулок Французский, Испанский и Немец-
кий, их можно было купить или продать» 3,— писал Беньян, причудливо соеди-
няя конкретность и аллегоризм.
«Хотя я и не намеревался вести миролюбивого своего читателя вместе с от-
чаянными рейтарами в дом и усадьбу моего тятеньки, ибо там будут твориться
великие бесчинства, однако нить моего повествования требует, чтобы я оставил
в наследство любезному потомству описание омерзительных и совершенно не-
слыханных жестокостей, то и дело чинившихся в этой нашей немецкой вой-
не...» 4,— повествует Симплиций, вспоминая о разгроме крестьянского двора,
где он вырос.
Для рождающегося стиля реализма XVII в. характерны общие новые инто-
нации повествования, нередко передающие тон рассказа бывалого человека
или, как у Гевары или Фюретьера, напоминающие описательные пассажи из
реалистического романа XIX в.
В заключение — еще одно соображение по поводу эволюции самой личности
романиста XVII в. В начале века среди авторов, прокладывавших дорогу
«иному стилю», было еще немало людей из служилого и не лишенного знат-
1 Цит. по кн.: Хрестоматия по западноевропейской литературе XVII века/Сост. Б. И. Пуришев.
М., 1949. С. 219.
2 Фюретьер А. Мещанский роман. М., 1962. С. 31.
3 Bunyan's Pilgrim's Progress. London, (б/д). P. 140.
4 Цит. по кн.: Хрестоматия по западноевропейской литературе XVII века. С. 269.
82
ности дворянского сословия. Из него происходил Кеведо и некоторые другие
испанские писатели; к нему в полной мере относился Агриппа д'Обинье, по
сравнению со своим отцом даже восстановивший и приумноживший старые
феодальные достатки и претензии семьи.
С течением времени среди писателей этого направления все чаще встреча-
ются разночинцы, профессионалы, люди из третьего сословия. В последней
трети века над всеми другими авторами возвышаются фигуры писателей, вы-
двинутых действительно народом,— в полном смысле слова народных писате-
лей — Гриммельсгаузена и Беньяна, корчмаря и проповедника. Оба в прошлом
солдаты и самоучки, они сложились как художники слова — один в работе над
народными календарями и дешевым занимательным народным чтивом, дру-
гой — в работе над произведениями, адресованными темной и яростной пастве
и заменявшими ей обычный круг духовных интересов, более богатый на конти-
ненте. Кстати, оба они — писатели с отчетливо проявляющимся интересом
к национальной демократической традиции своих литератур: Беньян — к «Ви-
дению Питера пахаря», Гриммельсгаузен — к немецкой гуманистической са-
тире XVI в. Эти писатели со своей точки зрения, являющейся одновременно
и народной точкой зрения, вынесли приговор XVII столетию и переменам, ко-
торые претерпел род человеческий за это время в горниле войн и революций.
В данной работе предпринята попытка рассмотреть проблему реализма
в литературах XVII в. на материале ряда романов, которые, как мне кажется,
могут быть названы социальными реалистическими романами XVII в. Я ста-
рался показать, что этот роман прошел в течение XVII в. славный путь разви-
тия — от испанского плутовского романа, во многом натуралистического, до
немецкого и английского романов конца XVII в., с их могучими и сложными
обобщениями. Реализм XVII в. в том виде, в каком он раскрылся в этих рома-
нах, представляется мне искусством, которое примечательно изображением
динамики общественной жизни, претерпевающей ряд решительных изменений,
и порождаемых ею типов, каковы пикаро, английские «rogues», Симплиций,
Франсион, Христиан, м-р Бэдмен и многие другие. Это — типы жизни XVII в.,
хотя во многом еще и не индивидуализированные. Их зависимость от общества
и осознание факта этой зависимости писателем очевидны.
Для реализма XVII в. характерна демократическая точка зрения, при всем
различии оттенков, которые выступают у различных писателей. Это некий об-
щий, по выражению А. Ф. Иващенко, «угол зрения», заключающийся в том, что
в этих произведениях учитываются интересы народа, говорится о его тяжелом
положении, бедствиях и горестях. Этот новый «угол зрения» очень важен для
реализма XVII в. С ним связана тема персонажей «из народа»— крестьян,
плебеев, появляющихся в ряде реалистических романов XVII в.
Это развитие традиций Шекспира и Сервантеса и эти черты вместе с развити-
ем критицизма позволяют говорить о народности реализма XVII в. Для реализ-
ма XVII в. характерна близость к народным истокам творчества, народность
суждений и во многих случаях — народность стиля; идеи и стиль реалистов
XVII в. «ясны и просты».
Реализму XVII в. присуща особая функция смеха, юмора, бурлеска, гро-
теска, множества оттенков сатиры. Смех часто являлся защитой от страшного
натиска общества, давившего на писателей XVII в., и едва ли не основным
оружием, к которому они обращались.
На аналогичные явления реалистического искусства можно указать и
в драматургии, и в поэзии XVII в. Назову великую поэму С. Батлера «Гудиб-
рас» (1663—1668), сыгравшую известную роль в становлении английского
просветительского реализма. Это — признанное «сервантесистское» произве-
дение.
Несомненно, на писателей-реалистов XVII в. сильное влияние оказывали
явления нереалистического искусства — и классицизма и барокко. Нельзя не
83
согласиться, например, с наблюдениями А. А. Морозова над реализмом Грим-
мельсгаузена как над методом, развивавшимся в сложном взаимодействии
с некоторыми течениями немецкого барокко.
Конечно, творческий опыт писателя-классициста м-м де Лафайет в ее рома-
не «Принцесса Клевская» (1678) относится к числу смелых экспериментов
в области реалистической психологии. В дальнейшем реалисты XIX в. будут
опираться на этот опыт в не меньшей мере, чем на опыт создателей социального
романа, писателей, крайне далеких от м-м де Лафайет. Не вызывает сомнения
также глубоко реалистический характер мышления Ларошфуко, многие «Мак-
симы» (1665) которого звучат как конспекты реалистических романов или
эпиграфы к великим произведениям реалистического искусства. Я считаю осо-
бенно существенным значение Мольера и Расина в развитии реалистических
тенденций искусства XVII в. «Характеры или нравы нашего Еека» (1688) Ж.
Лабрюйера тоже, конечно, будучи произведением классицистским, пропитаны
тенденциями реалистическими.
Хочется особо сказать о значении еще трех областей прозы XVII в., малои-
зученных, для формирования реализма в литературе этого века. К этим об-
ластям относятся прежде всего малые прозаические жанры в литературах
XVII в.: новелла в романских литературах (вспомним новеллы Сервантеса, Лопе
де Вега, А. Солорсано, итальянские новеллы и среди них прежде всего новеллы
Дж. Базиле, французскую новеллу П. Скаррона) и очерк-эссе в литературе
английской — произведения Т. Овербери, Дж. Эрля, Р. Бертона, Дж. Стивенса.
Функции этих двух жанров малой прозы были различны — в новелле подго-
тавливалась преимущественно сюжетная канва, проблема ситуации, в эссе —
типология, но в целом связи этих жанров с формирующейся эстетикой реализ-
ма XVII в. очень существенны.
Во-вторых, особой областью развития реалистических тенденций в прозе
XVII в. были многочисленные мемуары — среди них и многочисленные панора-
мы жизни века, вроде мемуаров выдающегося английского политического де-
ятеля Э. X. Кларендона; и удивительно сжатые и мастерски написанные авто-
биографические очерки вроде «Истории моей жизни» упомянутого А. д'Обинье,
относящиеся к числу лучших образцов французской прозы своего времени;
и близкие к мемуарам различные записки и дневники вроде всемирно известных
«Дневников» С. Пеписа. Эта огромная область прозы XVII в. еще ждет своих
исследователей и, несомненно, даст немало нового материала для освещения
проблемы реализма.
В-третьих, определенную роль в формировании реализма XVII в. сыграла
народная лубочная проза (тесно связанная с фольклором), многочисленные
приключенческие, пиратские и воровские повествования, до сих пор мало изу-
ченные и эволюционировавшие от простейших форм повествовательного стиля
к явлениям более сложным, как это показывают голландские и немецкие ро-
бинзонады XVII в. в сравнении с робинзоновским эпизодом «Симплицисси-
муса».
Наконец, пока что неисследованной остается голландская художественная
и документальная проза XVII в., несомненно, важная для развития английской
и немецкой прозы. Голландская литература XVII в., до сих пор заслонена от нас
гигантской фигурой великого классициста Й. ван Вондела — учителя немецких
и английских классицистов. Но есть, конечно, многие интересные явления в этой
литературе и в тени ван Вондела, и вне круга тех нескольких лирических поэ-
тов, которые обыкновенно называются «младшими богами» подле и после него.
Однако каковы бы ни были поиски и открытия классицистов, барочных
и прециозных писателей, выводившие их за пределы эстетики Буало или Гра-
сиана, какова бы ни была роль новеллы, эссе и мемуаров, основное направле-
ние развития реалистических потенций словесного искусства XVII в.— тот но-
вый роман, о котором шла речь в этой работе.
84
Именно в нем мы видим особенно отчетливо звено, связывающее великое
искусство ренессансного реализма с реализмом просветительским.
1969
МАРТИН ОПИЦ И ПОЭТЫ ЕГО ШКОЛЫ
Мартин Опиц (1597—1639) происходил из зажиточной бюргерской семьи.
Он получил образование сначала в школах Силезии \ славившихся своим хо-
рошим преподаванием латинского языка, а затем в университетах Франкфурта
и Гейдельберга. Уже в молодые годы Опиц сознательно стремился стать ученым
поэтом, опереться на традиции итальянской и французской ученой поэзии эпо-
хи Возрождения.
Бурные события Тридцатилетней войны отразились на биографии Опица.
Еще студентом он вынужден был бежать в Голландию, опасаясь, как про-
тестант, расправы испанских оккупантов, захвативших город, где он учился.
Вернувшись на родину, Опиц много путешествовал, то по обстоятельствам во-
енного времени, то из-за перемен службы. В качестве секретаря, историографа,
придворного поэта он состоял в штате крупных вельмож, полководцев и поли-
тических деятелей своего времени, благодаря чему побывал в Голландии, Да-
нии, Венгрии, Франции, Польше. Уже в 20-х годах Опиц становится самым из-
вестным немецким поэтом.
Немецкие буржуазные литературоведы используют запутанную и сложную
биографию поэта для того, чтобы изобразить его циником, хладнокровным
карьеристом, ловким придворным. Это не соответствует действительности. Опиц
был уверен в необходимости объединения Германии и искал политического де-
ятеля, который смог бы возглавить борьбу за воссоединение страны, раздирае-
мой войнами и междоусобицей. Лютеранин по вероисповеданию, он был скло-
нен одно время видеть в Габсбургах (политику которых он перед тем осуждал)
возможных объединителей Германии. Очевидно, это сблизило поэта с некото-
рыми представителями лагеря Габсбургов в Силезии, где Опиц жил в то время,
и даже заставило его предпринять поездку в Вену. Там он был обласкан при
дворе и увенчан лавровым венком за свои стихи.
Но это не помешало Опицу впоследствии понять свою ошибку. Порвав
с Габсбургами, поэт восстанавливает отношения с Евангелической унией 2 и ее
союзниками и до самой смерти остается в этом лагере, верно ему служа и вы-
полняя его важные поручения.
Связав свои надежды с Евангелической унией и веря, что она сможет вы-
вести Германию из все более затягивавшегося экономического и политического
кризиса, Опиц, однако, опять ошибался. Он не понимал, что оба лагеря, оспа-
ривавшие власть над Германией, стремились только к своим корыстным целям,
использовали несчастья немецкого народа, чтобы упрочить положение той или
иной феодальной клики. Умер Опиц рано; он стал жертвой чумы, свирепство-
вавшей в военные годы в Германии и в соседних странах.
Опиц пытался распространить в Германии искусство, построенное на раци-
оналистической эстетике, тесно связанной с традициями ученой гуманисти-
ческой поэзии XVI в. и правилами французского классицизма. Но в раздроб-
ленной Германии XVII в. не было общественных предпосылок для развития
1 Силезия в то время — герцогство, входившее в состав «Священной Римской империи». Не-
мецкие колонисты, захватившие силезские земли, составляли значительную часть городского насе-
ления.
2 Протестантская уния 1608 г.— союз германских протестантских князей и ряда имперских
городов. Противостояла Католической лиге 1609 г.— Ред.
85
классицистического направления в том широком масштабе, о котором мечтал
Опиц, думавший создать великую немецкую эпическую поэзию, проникнутую
идеями героики и патриотизма.
Поэтому попытка Опица не увенчалась успехом. Он так и не смог осущест-
вить свои планы создания новой немецкой литературы, построенной на основе
строгих поэтических правил, опирающейся на опыт великой античной поэзии
Греции и Рима, на опыт итальянской и французской поэзии эпохи Возрож-
дения.
Но поэтическое творчество Опица было важным шагом вперед в разви-
тии немецкой литературы, представляло значительную художественную
ценность.
Свою теорию искусства Опиц разработал в трактате «Аристарх или о пре-
зрении к немецкому языку» (1621) и в «Книге о немецкой поэзии» (1624). На-
иболее ценная сторона этих работ Опица заключается в настойчивом утверж-
дении необходимости изучения и обогащения родного немецкого языка, как
важного средства создания великой немецкой литературы.
Выступая против немецких поэтов, писавших по-латыни, и против поэтов
и теоретиков прециозной немецкой литературы, слепо подражавших чужезем-
ным образцам, Опиц утверждал, что немецкий язык не менее богат и гибок, чем
другие языки Европы.
Взгляды Опица на развитие немецкого языка были тесно связаны с его
мыслями о развитии немецкой литературы. Он призывал своих современников
неустанно совершенствоваться в поэтическом мастерстве: разрабатывать не-
мецкое стихосложение, создавать, опираясь на традиции немецкой литературы
прошлых веков, современную немецкую поэзию. Опиц говорил о пользе изуче-
ния опыта других литератур — и прежде всего античных — греческой и рим-
ской. Но освоение опыта литератур древнего мира и современных литератур
Европы было для него не самоцелью, а средством, которое должно было помочь
развитию немецкой поэзии.
В то время, как во Франции —«Плеяда», в Англии — Спенсер и Сидней,
в Италии — Тассо и другие замечательные поэты XVI в. способствовали рас-
цвету национальной литературы, создавали эпическую и лирическую поэзию,
пронизанную идеями эпохи Возрождения, Германия в XVI в. не выдвинула ни
одного значительного поэта. Немецкая поэзия не прошла еще через те рефор-
мы, которые осуществились в эпоху Возрождения в творчестве поэтов других
стран Европы.
Немецкие поэты XVI в. не нашли ни больших национальных сюжетов, ни
общего литературного языка, ни характерных национальных форм, чтобы от-
разить подъем культуры и расширение кругозора, порожденные эпохой Воз-
рождения. Вот эту реформу и попытался осуществить Опиц, мечтавший вы-
вести немецкую поэзию из состояния упадка и застоя. Опиц сделал немало для
развития немецкой поэзии. Но реформа, о которой он мечтал, по-настоящему
была осуществлена только великими поэтами XVIII в., Гете и Шиллером.
У Опица для совершения реформы, за которую он взялся, не было достаточно
смелого и широкого кругозора, не было народного взгляда на будущее Герма-
нии. Выдающийся немецкий поэт был существенно ограничен бюргерскими
чертами своего мировоззрения, которое связывало его с буржуазным патрици-
атом и отделяло от народных масс. Опиц писал о страданиях и горестях народа,
но его надежд и стремлений понять и принять не мог.
Уделив много внимания вопросам языка и формы, Опиц не сумел в своей
«Книге о немецкой поэзии» достаточно глубоко поставить вопрос об идейном
содержании поэзии, не указал на важнейшие темы, которые вставали перед
немецкой литературой в бурную эпоху Тридцатилетней войны. Этот сущест-
венный недостаток его «Книги о немецкой поэзии» объясняется общим состоя-
нием немецкого искусства в начале XVII в., отсутствием в нем больших обще-
86
национальных идей, что связано с растущей раздробленностью немецких зе-
мель, с усилением феодальной реакции в Германии.
В основе эстетики Опица лежит представление о том, что подлинное искус-
ство — не только плод учености, но прежде всего результат знания жизни;
следуя поэтическим системам, созданным в эпоху Возрождения, Опиц видел
в произведении искусства «подражание природе». Критерий правдоподобия
занимает в эстетике Опица заметное место, но, по его словам, художник должен
описывать предметы не «столько такими, какими они существуют, сколько та-
кими, какими они могли бы быть». Это условие накладывало на творчество по-
эта печать определенной ограниченности, искусственности.
При всех недостатках поэтики Опица ее достоинство заключалось прежде
всего в том, что Опиц стремился высоко поднять значение искусства, указывал
на его воспитательную силу и познавательную ценность. Пылкая любовь к по-
эзии, выраженная в книге Опица, была тем более отрадным явлением, что
в кровавые 20-е годы XVII в. в Германии, раздираемой событиями Тридцати-
летней войны, никто, кроме Опица, не говорил с такой уверенностью о великом
будущем немецкой культуры, немецкой поэзии.
Очень существенна произведенная Опицем реформа стиха. Опираясь на
глубокие познания в области античного стихосложения, на знакомство с сов-
ременной иностранной поэзией и особенно — на прекрасное знание немецкой
литературной традиции, немецкого народного творчества, Опиц смело начал
вводить в немецкое стихосложение метрические формы, которые впоследствии
стали основными в развитии немецкого стиха.
Используя гибкость ударений в немецком языке и все его возможности,
Опиц создал немецкий ямб, немецкий хорей, варьировал их в различных фор-
мах. Он разработал немецкий александрийский стих — немецкий шестистопный
ямб, который затем в течение века служил немецким поэтам. Гете и Шиллер
пользовались плодами реформы Опица.
В работе Опица над немецким стихом были и неудачи. Например, он не по-
нял глубокой народности немецкого дольника — размера, который допускает
свободные отклонения от количества слогов в стихе и именно в силу этого об-
ладает замечательной выразительностью и певучестью.
Свою реформу Опиц подкрепил прежде всего собственным творчеством.
В 1626 г. вышло первое собрание его стихотворений: оно было замечательно не
только тем, что Опиц смело обращался к самым острым темам современности,
писал о несчастьях и надеждах своей родины. Поэт продемонстрировал в своих
опытах жизненность предлагаемой им реформы, показал немецкому читателю,
каким богатством форм обладает немецкий язык, как разнообразны поэти-
ческие жанры немецкой литературы. Оды, сонеты, эпиграммы, элегии были
введены Опицем в обиход немецкой поэзии, и, хотя подобные эксперименты до
него уже производили некоторые поэты конца XVI в., их опыты были лишены
содержательности, образности, языкового богатства, присущих стихотворениям
Опица. Немецкую тематику Опиц стремился вложить в формы, которые в XVI в.
были распространены по всей Европе, но делал это, сохраняя немецкое нацио-
нальное своеобразие, исторический и бытовой колорит, заключающийся в жи-
вом и правдивом отражении жизни немецкого народа в страшные годы Трид-
цатилетней войны. Именно страданиям народа в многолетней войне и посвя-
щена первая большая поэма Опица —«Утешение в ужасах военного времени»
(1621).
Поэма разделена на четыре книги и состоит почти из двух тысяч стихов,
написанных шестистопным ямбом. Поэт создал ее под впечатлением того, что
видел на родине, спасаясь от испанцев и слушая рассказы беженцев, потоком
двигавшихся из областей, уже разоренных войной. Из Голландии Опиц попал
тогда в Данию, ища дороги домой и не находя ее — война всюду стояла на его
пути. Полуголодное существование на чужбине, отсутствие вестей о семье еще
87
больше усугубили ощущение беды, обрушившейся на Германию: Опиц на себе
познал ее размеры.
Закончив поэму еще в 1621 г., Опиц не рискнул ее печатать в ближайшие
годы. Только в 1633 г. доработанное и отшлифованное со всем тщанием, при-
сущим поэту, «Утешение» было опубликовано. К этому времени его автор был
первым поэтом Германии и видным деятелем лагеря, боровшегося против Габ-
сбургов.
Опиц ставил перед собой задачу не только показать со всей правдивостью
военный произвол в Германии, но и противопоставить деморализующему воз-
действию войны некую спасительную философию, утешить читателя в тревогах
и несчастьях его жизни.
Сильной стороной поэмы является изображение постигших Германию воен-
ных бедствий. Опиц заявляет, что в отличие от своих предыдущих произведений
будет вести повествование без риторических прикрас, сообщая «одну истину»,
как бы страшна она ни была. Эта «истина»— тяжелейшее положение страны.
Опиц подробно изображает страдания народа в деревнях и городах Германии,
запустение, страшный экономический кризис, порожденный войной, уничтожа-
ющий посевы, обесценивающий труд крестьянина, разрывающий торговые от-
ношения. Отказываясь от обычной для его более ранних произведений аллего-
рической системы образов и сравнений, Опиц поднимается до высокого реа-
листического пафоса, правдиво изображая бедствия своей родины и сооте-
чественников.
В отличие от более ранних произведений Опица, в «Утешении» особенно
много сказано о страданиях крестьян. Правдивость изображения последствий
войны в поэме заключается именно в том, что Опиц правильно подметил бес-
спорный исторический факт — особенно тяжкое положение немецкого кресть-
янства. В результате войны, голода и эпидемий население в некоторых областях
Германии сократилось более чем на две трети.
Но и здесь Опиц не поднялся до изображения немецкого крестьянства как
силы активной, в ряде случаев пытавшейся противиться феодальной реакции
XVII в. Нет в этой поэме и вывода, который напрашивался из всех страшных
фактов, описанных поэтом,— вывода о том, что в тяжкой участи немецкого на-
рода виновны прежде всего немецкие князья, использующие военную ситуацию
для укрепления своих позиций и ослабления антифеодальных сил страны.
Правда, в нескольких местах поэмы Опица звучит призыв к активному вмеша-
тельству в войну, идущую от Германии,— призыв, противоречащий всему сто-
ическому и описательному духу поэмы. Опиц призывает своих читателей всту-
питься за попираемую свободу:
Самой свободе враг теперь грозит. Внемлите —
она взывает к нам и молит о защите,
какие б ни были нам муки суждены,
за дело правое вступиться мы должны.
(Пер. О. Румера)
Но свобода, о защите которой ратует Опиц, есть свобода вероисповедания:
призыв к действию, принцип активного вмешательства в борьбу, раздирающую
Германию, тем самым крайне сужен, ограничен, звучит как призыв выступить
на стороне Евангелической унии против Габсбургов — не более того.
Остальные три книги «Утешения» Опиц посвящает мировоззрению, которое,
по его мнению, и должно послужить «утешением» в превратностях военного
времени.
Здесь-то и раскрываются полностью слабые стороны поэта, становится осо-
бенно заметной его удаленность от народа: правдиво повествуя о страданиях
людей, Опиц в то же время не видел другого пути утешения для народа, кроме
стоицизма.
88
Опираясь на христианские основы лютеранства, Опиц проповедует в «Уте-
шении» пассивную философию приятия бед, обрушившихся на немецкий народ.
Реальным опасностям поэт пытается противопоставить «духовные ценности»,
выражающиеся, в конечном итоге, в сомнительных христианских добродетелях.
В «Утешении» отразились пессимистические настроения поэта, не видевшего
конца войны и терявшего надежду на то, что какая-нибудь из воюющих сторон
может принести Германии мир и единение.
Иначе говорит поэт о современности в послании «Златна или Стихотворение
о покое душевном» (1623). Опиц воспел в «Златне» 1 спокойную жизнь и мир-
ный труд, которые открылись ему во владениях венгерского князя Бетлен Га-
бора, где он служил в то время. Как резкий контраст с описаниями мирной
сельской жизни, в «Златне» возникают сцены насилий и грабежа, опустошаю-
щего Германию и Голландию, видения пылающих городов, где еще недавно
находили приют ремесленники и купцы, художники и ученые.
Опиц с ненавистью пишет о «кровавом псе»— герцоге Альбе, полководце
Габсбургов, который во главе испанских войск вторгся в страны Евангели-
ческой унии и ее союзников. Вся «Златна» построена на противопоставлении
мира, царящего во владениях Габора, и войны, опустошающей Германию.
С душевной болью поэт вспоминает родную страну, пылающую в пожаре вой-
ны, и заключает «Златну» знаменательными словами, что как бы ни был для
него отраден отдых на чужбине, пощаженной войной, он возвращается на
родину.
Чувство любви к страдающей родной стране выражено в «Златне» как чув-
ство долга по отношению к родине. И действительно, пренебрегши выгодной
службой у Габора, Опиц вернулся в Германию, раздираемую смутой и войной.
Значительным событием в деятельности Опица был его перевод романа Д.
Барклая «Аргенида» (1626), изданного во Франции сначала по-латыни, а затем
на французском языке. Этот роман, написанный шотландцем, воспитанным
и служившим во Франции, в условной форме любовно-приключенческой по-
вести рисовал широкую картину нравов современной Франции.
Пользуясь античным сюжетом, историческими и вымышленными персона-
жами, Барклай в своем романе горячо защищал политику Ришелье, объеди-
нявшего Францию, укреплявшего централизованную абсолютную монархию.
Действующие лица романа — идеализированные светские люди, обладающие
высоким чувством ответственности за судьбы родной страны. Своих героев ав-
тор охарактеризовал как людей рыцарственных, благородных, умеющих под-
чинить личные интересы большим государственным интересам. Иносказательно
изображая религиозные войны во Франции, сопротивление феодальной реакции
объединению страны, Барклай в своем романе выступил как сторонник извест-
ной терпимости в церковных делах и как убежденный противник религиозных
войн, раскалывающих страну на враждующие лагери, что выгодно для сосед-
них государств, пользующихся этими раздорами.
Появление «Аргениды» в немецком переводе имело большое значение для
развития немецкой литературы. В начале XVII в. в Германии еще не сложился
жанр политического романа, в увлекательной и свободной форме отстаиваю-
щего идеи объединения страны, осуждающего вековые религиозные распри.
Перевод «Аргениды» свидетельствует о том, что идеи романа были близки
Опицу. И он стремился к прекращению религиозных войн, которые так мешали
борьбе против внешних врагов Германии, и он был сторонником объединения
страны, сильной централизованной власти. В ней он видел выход из несчастий,
обрушившихся на Германию.
Впечатления последующих лет, политический опыт Опица и страдания не-
мецкого народа послужили материалом для поэмы «Хвала богу войны», по-
1 Название местности, где жил Опиц.
89
явившейся в 1628 г. Ко времени создания этого произведения Опиц был уже не
только образованным поэтом и ученым, но и дипломатом, принимавшим де-
ятельное участие в политических событиях. Он в тонкостях знал явные и тайные
пружины политики немецких князей, толкавшие их к продолжению и развер-
тыванию войны в Германии. Он имел представление и о страшных опустоше-
ниях, уже причиненных тем землям Германии, где война особенно свирепство-
вала, и о тех богатствах, которые вследствие грабежей и конфискаций сосре-
доточивались в руках воюющих немецких феодалов и военачальников-кон-
дотьеров, вроде Валленштейна, особенно выдвигавшегося тогда среди полко-
водцев австро-испанской коалиции.
В поэмах Опица конкретное представление о современном состоянии Гер-
мании обогащено его знанием древней истории, опытом политика, хорошо зна-
комого с развитием международных отношений. Опиц развивает в «Хвале богу
войны» новый и оригинальный взгляд на действительность: он близок*к выводу,
который позже будет сделан Гоббсом в его положении о возникающем буржу-
азном обществе XVII в. как о «войне всех против всех».
Опиц еще не мог подняться до обобщения такой силы. Но в его поэме уже
присутствует взгляд на жизнь общества, как на непрерывную войну: «...юнкер
ненавидит бюргера,— пишет он,— богатый бедного, светский человек — попа.
Венгрия чинит зло Германии, Голландия ссорится с Фландрией, Дания с Боге-
мией... Врач преследует своего соперника — как и купец, юрист, поэт... и по-
скольку все воюют друг против друга, что же необычного в походах короля
и князя?»
Раскрывая панораму современного мира, во всех углах которого кишит
большая и малая война, борьба классов и национальностей, Опиц показывает,
что «бог войны» царит и над Европой, и над Азией, и над Америкой. Его по-
клонники направляют свои суда в далекие воды, пролагая не только пути для
завоевания, но и связывая страны, некогда неизвестные друг другу; война
опустошает одни страны и обогащает другие. Так раскрывает поэт картину
первоначального накопления, драматическую и кровавую.
Причиной войн Опиц считает погоню за деньгами, стяжательство. Утверж-
дению этого он посвящает целый раздел своей поэмы. Иногда в поэме звучит
фаталистическое признание всесилия военной стихии, бушующей над его роди-
ной, трусливая мысль о тщетности высоких и благородных побуждений перед
кровавым стяжательством, искусно изображенным Опицем. Но преодолевая
эти слабые стороны поэмы, звучит в ней и другое: отвращение к насилию, воз-
веденному в систему. Война превращает людей в ослов, утверждает поэт, и это
резкое место «Хвалы богу войны» насыщено едкой сатирической тенденцией. Не
только благородные животные служат богу войны. Если Марс — всеобщее бо-
жество, царящее повсюду, то пусть осел станет животным Марса потому, что
и осел живет всюду:
Ослов отечество— весь неоглядный мир.
В любой стране найдется немало ослов: здесь Опиц, используя традиции
немецкой сатиры эпохи Реформации, традиции Эразма, начинает обличать че-
ловеческую глупость, косность, отсталость. Народ, отягощенный бедствиями
войны, деградирует, как утверждает Опиц: он отупел, он запуган, обманут, он
не умеет постоять за себя — и уже не думает об этом; война помогает оконча-
тельно поработить некогда свободолюбивый и смелый народ, превратить его
в скопище ослов. Законы, которые вводят сторонники войн, таковы, что и тот,
кто не был ослом, становится им — охотно выполняет любое приказание.
Этот замечательный фрагмент «Хвалы богу войны» свидетельствует о зна-
чительном сатирическом даровании Опица. Насмешливые и гневные слова
о Германии, превращенной в страну ослов князьями, ввергшими ее в бесконеч-
90
ную войну, свидетельствуют о глубоком понимании антинародного характера
политики немецких феодальных клик, борющихся за власть в Германии и при-
чиняющих ей неисчислимые бедствия. Раньше Опиц не был способен на такие
важные выводы.
В конце «Хвалы богу войны» Опиц обращает внимание враждующих не-
мецких государств на то, что их взаимное ослабление — следствие войны —
выгодно Турции, собирающей силы для нового натиска на немецкие земли.
Против нее призывает поэт обратить соединенные усилия всех немецких госу-
дарств, чтобы предотвратить реальную опасность новых тяжелых поражений,
которые, подобно разгрому Венгрии в XVI в., могут закончиться отторжением
и насильственным отуречиванием многих других стран Европы. Насколько ре-
альны были опасения Опица, видно из того, что в конце XVII в. сама Вена —
столица австрийской империи — была спасена от турецких полчищ только не-
ожиданным ударом польских войск, приведенных Яном Собеским.
«Хвала богу войны»— наиболее значительное произведение Опица. После-
довавшие затем поэмы «Фильгут» (картина жизни в усадьбе одного из покро-
вителей поэта, 1629) и «Везувий» (1633) отличаются совершенством стиха
и мастерством описаний (особенно рассказ об извержении Везувия), но уходят
от острых общественных вопросов, которыми насыщена поэзия Опица в пре-
дыдущие годы. Поэт все теснее связывал свою судьбу со знатными покровите-
лями, требовавшими от него «стихов на случай», с нравами карликовых кня-
жеских резиденций, придворной и военной среды, в которой он вращается в
30-х годах.
«Пастораль о нимфе Герцине» (1630), написанная звучными стихами с бо-
гатой рифмой и изощренной строфикой, убеждает в том, что положительный
идеал поэта становится все более ограниченным. Кровавой немецкой смуте
Опиц противопоставил в этой пасторали уже не реальную перспективу прекра-
щения войны, а сказочную мечту о мирном бытии пастухов и пастушек под
сенью дубрав, населенных благожелательными божествами. В этой идиллии
Опица пробиваются аристократические тенденции, ранее не столь заметные
в его творчестве.
Последние большие работы поэта — перевод «Антигоны» Софокла и траге
дия «Юдифь» (перевод с итальянского). В изображении войны, свирепствую-
щей в Иудее, ожили некоторые мотивы раннего творчества Опица.
Героические образы смелых юных женщин, стоящие в центре обеих траге-
дий, нарисованы в стихах Опица с глубоким сочувствием к их подвигу. Но
в обоих случаях героини — жертвы. Эта жертвенность настойчиво подчерки-
вается поэтом и имеет определенный оттенок религиозного служения абстрак-
тной идее «провидения». Юдифь и Антигона — только средство проявления
воли провидения, его живые символы. Религиозная тенденция, обесцвечиваю-
щая и обесценивающая человечность образов, особенно чувствуется в «Юди-
фи»; итальянский текст этой трагедии давал Опицу больше возможностей для
проведения этой тенденции, чем отчасти переделанный текст трагедии Софокла,
которую Опиц не осмелился изменить слишком сильно.
Религиозная тенденция, ослабляющая и «Юдифь» и «Антигону», тесно свя-
зана со всем развитием позднего Опица. Окончательно сблизившись с про-
тестантским лагерем участников войны, Опиц настойчиво работал в 30-х годах
над переводами и переработками псалмов, часто обращался к религиозной ли-
рике, не представляющей художественного интереса и отражавшей наиболее
слабые, реакционные стороны мировоззрения поэта.
Характерно, что в поздних подражаниях Опица библейской традиции уже
нет общественного содержания, свойственного его ранним стихам, в которых он
опирался на образы библейской поэзии и ораторской прозы (например, цикл
стихотворений 1626 г. «Плач Иеремии» и «Молитва Иеремии»).
91
Наряду с поэмами Опица большое значение для своего времени имела его
любовная лирика, особенно ранняя. В ней отразились жизнерадостные, эпику-
рейские черты мировоззрения поэта, явно противоречившие изложенной
в «Утешении» стоической философии пассивного страдания. Опиц-лирик был
одним из первых немецких поэтов нового времени, воспевших в анакреонти-
ческом духе радости жизни, утешающие человека даже в годину грозного во-
енного испытания.
При всей своей противоречивости и неравноценности творчество Опица
в целом противостояло литературе феодальной реакции. Его сильные сторо-
ны — рационалистическая основа поэтики, гражданские мотивы, патриоти-
ческие тенденции, забота о ясности и богатстве языка — нашли поклонников
и подражателей среди немецких поэтов XVII в.
Им пришлось бороться против реакционного направления в немецкой поэ-
зии — против так называемой второй силезской школы, которая с середины
XVII в. пыталась сделать господствующей в немецкой литературе мистическую
религиозную эстетику.
В этой борьбе за будущее немецкой поэзии выделились ученики Опица —
Пауль Флеминг (1609—1640) и Фридрих фон Логау (1605—1655). Им удалось
не только закрепить реформу стиха, проведенную Опицем, но и существенно
развить немецкую поэзию в целом.
Значительная часть произведений Флеминга написана по-латыни. Молодой
поэт в начале своего творческого пути следовал традициям ученой немецкой
литературы XVI в., охотнее всего обращавшейся к латинскому языку, пренеб-
регавшей языком своего народа.
Испытав сильное влияние Опица, с которым он познакомился в 1630 г.
в Лейпциге, Флеминг обратился к немецкой поэзии. Как и в творчестве Опица,
в стихах Флеминга 20—30-х гг. возникает прежде всего образ Германии — из-
мученной, ограбленной, опозоренной. Но, в отличие от Опица, политические
позиции Флеминга были твердыми и постоянными. Он убежденный противник
австро-испанской коалиции и католической реакции, пылкий сторонник Еван-
гелической унии и ее союзников.
Происходя из семьи скромного школьного учителя в Саксонии, Флеминг был
далек от дворянской знати и патрициата. Врач по профессии, он был связан
с кругами городской интеллигенции и бюргерством. Вместе с широкими демо-
кратическими кругами Германии Флеминг питал наивные иллюзии относитель-
но Густава-Адольфа — шведского короля, охотно изображавшего себя бесхит-
ростным защитником немецких протестантов. Его смерть Флеминг, как и многие
другие лютеранские поэты, отметил стихотворным некрологом.
Черты демократизма, присущие мировоззрению Флеминга, отразились в его
стихах о родине. Он находил простые и теплые слова для создания образа «ма-
тери Германии»: о ее страданиях Флеминг помнит и на далекой чужбине; «ве-
ликой матери»— своей родине — он готов служить, не жалея сил (сонет
«К Германии»). В другом сонете—«Об упадке и боязливости немцев»— поэт
с иронией и гневом говорит о трусости саксонской знати: ее пернатые шлемы,
мундиры и пестрые знамена не испугают кроатов — разбойничью конницу
Валленштейна:
Когда боимся мы — зачем доспех берем?
Для тела хилого одно мученье в нем:
Отцовский шлем велик для жалкого потомка...
(Пер. Д. М.)
— так заканчивает Флеминг свой сонет, признаваясь, что он стыдится и самого
себя, видя всеобщую растерянность и страх перед угрозой вражеского на-
шествия.
92
Преодолевая классицистскую абстрактность Опица, Флеминг создает заме-
чательно живые типы солдат, участников Тридцатилетней войны. В стихах
«Похвала всадника», «Похвала пехотинца» поэт убедительно показал амора-
лизм, продажность, бесчеловечие немецких наемников — этого бича немецкой
жизни XVII в.
Сатирические стихи Флеминга о немецкой военщине дополняют картину,
уже намеченную в «Похвале богу войны» Опица. Но Флеминг идет дальше
Опица в искусстве характеристики, предвосхищая своими всадником и пехо-
тинцем правдиные образы солдат-разбойников, созданные Шиллером в «Лагере
Валленштейна».
В 1635 г. Флеминг вместе с известным путешественником Олеарием отпра-
вился сначала в Россию и затем в Персию. Долгая поездка вырвала молодого
поэта из удушливой и тревожной обстановки Германии, раскрыла перед ним
необозримые просторы русского государства, познакомила с жизнью других
народов. Путешествие обогатило и развило молодого поэта, способствовало
расширению его кругозора.
За время своего пребывания в России и Персии Флеминг создал целый ряд
стихотворений (преимущественно сонетов), в которых запечатлены наиболее
поразившие его картины: «благородная река Волга», Астрахань, Нижний —
и особенно «великий город Москва» с ее златоглавыми церквами. Хотя и эти
стихи перегружены обычными для Флеминга античными сравнениями,— поэт,
например, обращается к «нимфам» Волги, называя себя и своих товарищей-
голштинцев «кимврами» ',— но в них есть немало живых деталей, в которых
отразилась и русская действительность XVII в., и растущее в поэте чувство
изумления перед силой и богатством огромной страны.
0 русской природе и о людях, живущих на привольных просторах России,
Флеминг повествовал согласно своей манере — в сложных строфах, приподня-
то, обращаясь к образам и метафорам, почерпнутым из античных поэтов:
Итак, прощайте, русские наяды,
Вы, сердцу милый рой!
Да никакие не смутят досады
Привольный ваш покой.
Теки, Москва, замолви Волге слово,
Ей прожурчи о нас,
Что мы за нею следовать готовы
За Каспий на Кавказ!
(Пер. Д. М.)
Сонеты Флеминга, написанные во время путешествия, составляют своеоб-
разный поэтический дневник странствований и переживаний. В нем картины
русской природы, Каспийского моря и приключений, которые выпали на долю
поэта и его товарищей, перемежаются сонетами к любимой девушке. Флеминг
оставил ее на далекой северной родине и, постоянно вспоминая о ней, при каж-
дом удобном случае посылает ей свои стихи.
Создание такого лиро-эпического цикла, отразившего чувство искренней
большой любви, не оставляющей поэта среди тревог и опасностей путевой
жизни, было тоже завоеванием молодой немецкой поэзии, расширяло ее воз-
можности, выводило ее за пределы канонов, намеченных Опицем.
В поэзии Флеминга настойчиво боролись два течения, отражавшие проти-
воречивость его мировоззрения: Флеминг, нередко поддаваясь формалисти-
ческим влияниям, широко распространенным в немецкой поэзии его времени,
вводит в свои произведения вычурную игру слов, искусственные выражения:
Когда б меня любила
О Ты, мое Я —
1 Германское племя, обитавшее некогда на территории Голштинии.
93
обращается Флеминг к возлюбленной в одном из своих лирических стихотво-
рений; в другом он жалуется:
Я знаю — и не знаю, что я знаю.
(Пер. Д. М.)
Подобные формалистические черты выступают яснее всего в религиозных
стихотворениях Флеминга, отражающих схоластический характер теологи-
ческой немецкой литературы XVII в.
Гораздо шире выражено в поэзии Флеминга тяготение к ясной, простой ре-
чи, иногда близкой к народной немецкой песне. У нее учился поэт искусству
глубокого выражения сильных человечных чувств, ощущению природы, метко-
му эпитету, легкому стиху. Введение традиций народной песни в немецкую по-
эзию XVII в. явилось значительной заслугой Флеминга. Ученик Опица, он со-
хранил свою творческую оригинальность, существенно развил возможности
немецкой поэзии.
В творчестве Фридриха фон Логау демократические тенденции выявились
еще резче и активнее, чем в поэзии Опица и Флеминга. Наиболее характерной
особенностью поэтического дарования Логау является склонность к сатире,
к ироническому изображению немецкого общества XVII в. Произведения Логау
при жизни поэта появлялись под псевдонимом Соломона фон Голау (в 1638 и
в 1654 -гг.).
Сборники стихотворений Логау состоят преимущественно из двух- или че-
тырехстрочных эпиграмм: в этом своем излюбленном жанре Логау достиг зна-
чительного совершенства.
Обнищавший дворянин, Логау прожил трудную жизнь незначительного
придворного чиновника, зависящего во всем от капризов своих государей —
силезских герцогов. Тридцатилетняя война разорила семью Логау, и сам он не
раз испытал превратности и опасности военного времени. Подобно Опицу
и Флемингу, Логау во многих своих стихотворениях выступает с осуждением
кровавых и разорительных военных авантюр немецких феодалов.
Бесповоротно осуждая войну, Логау четче и резче, чем Опиц и Флеминг,
указывает, что от нее больше всего страдает крестьянин и что феодальная кли-
ка наживается на военном времени и его невзгодах. Опиц и Флеминг не поды-
мались до такого прямого осуждения немецкого дворянства, которое звучит во
многих эпиграммах Логау:
Те, что в кандалах томятся, часто меньшие злодеи,
Чем сидящие на креслах с цепью золотой на шее.
(Пер. О. Румера)
— писал Логау о немецкой знати XVII в. Поэт разоблачал подлинную сущ-
ность «подвигов» немецкой военщины и ее вожаков, опустошавших Германию
и добивавшихся за свои походы титулов, богатства, власти:
Чрез трупы мужиков к чинам и славе путь —
Вот государевой военной службы суть.
Мужик свой крест несет, чтоб лился дождь наград
На тех, кто о своих деяниях шумят.
(Пер. О. Румера)
Клеймя разбойничьи нравы немецкой знати и ее вооруженных банд, Логау
вступался за крестьянина, видел в нем наиболее страдающую от войны часть
немецкого народа. Поэт с полным основанием указывал, что война ведется
94
фактически за счет ограбления крестьянских масс, принявшего характер систе-
матической экспроприации:
Солдат уверен непреклонно,
что грабить мужика — законно!
(Пер. Д. М.)
— негодующе восклицает Логау.
Сотни эпиграмм поэта посвящены изображению быта немецкой знати —
и это замечательный обвинительный материал, вскрывающий ее пороки, ее
развращенность и низость. Двумя-тремя штрихами Логау умел создать полный
разящей иронии портрет придворного интригана, наглой фаворитки, самоуве-
ренного выскочки. Эпиграммы Логау — хроника повседневной жизни немецкой
княжеской резиденции, обнажающая отсталость, косность и провинциализм
феодальной Германии, сочетание дворянской чванливости и филистерского са-
модовольства, характерные для немецкой придворной жизни. Логау сумел пе-
редать в своих двустишиях подлую атмосферу немецкого деспотизма:
Кто правде при дворе дать прозвучать сумеет? —
спрашивает поэт — и отвечает:
Сей смог бы, да молчит,— тот хочет, да не смеет.
(Пер. О. Румера)
Очевидно, в известной степени к последним принадлежал и сам поэт, который
до конца своих дней зависел от силезского герцогского двора.
Логау заклеймил в своих эпиграммах не только дворянство, но и отталки-
вающие пороки немецкого бюргерства, его скупость, трусость и самодовольную
ограниченность. Подобно Опицу и Флемингу, Логау с отвращением пишет
о растущей власти денег, перед которыми бессильны в современном обществе
все, кто хотел бы противиться этому новому хозяину жизни. С горечью говорит
поэт о развращающей власти золота:
Деньгами стали плоть и дух людей в наш век,
Тот, чья мошна пуста,— мертвец, не человек!
(Пер. О. Румера)
Важно подчеркнуть и антиклерикальную направленность поэзии Логау. В то
время как Опиц и Флеминг, осуждая католическую реакцию, явно идеализиро-
вали лидеров немецкого протестантства и самое лютеранство, Логау не-
сравненно более радикально настроен в вопросах религии. Он критически от-
зывается о таких предметах, которые оставались неприкосновенными как для
поэта-католика, так и для поэта-протестанта. Различая католическое и люте-
ранское духовенство, Логау в общих чертах осуждает в своих эпиграммах
церковные круги в целом за всю их политику в Германии, за разжигание рели-
гиозной распри, за насаждение фанатизма, который помогает церковникам уп-
рочить свои позиции в Германии:
Как турецкие султаны, властвовать попы желают:
те, чтоб скиптра не лишиться, кровных братьев умерщвляют,
церковь, так же в деле веры к полновластию стремится,
сжить с лица земли готова всех, кто ей не подчинится.
(Пер. Д. М.)
95
Ни Опиц, ни Флеминг не отваживались так говорить о церковниках, так прямо
обвинять их в разжигании братоубийственной войны. Логау отважился на это.
Высмеивая в своих дистихах попов, проповедников и монахов, разоблачая
их невежество и стяжательство, Логау в середине XVII в. в годы, когда мистики
и сектанты стремились возродить в Германии самые фантастические религиоз-
ные идеи средневековья, обращался к лучшим традициям немецкой литературы
XVI в., к ее антиклерикальной сатире, создавая стихотворения, разоблачавшие
реакционную деятельность церкви в Германии.
В эпиграмме, названной «Безмозглая вера», он писал:
Церкви и ее попам вы беспрекословно верьте —
И тогда не нужно вам мыслить вплоть до самой смерти.
(Пер. О. Румера)
Выступления Логау против духовенства связаны с присущим этому поэту
свободомыслием, которое проявлялось не только в смелых эпиграммах против
дворянства и попов, но и в дистихах, задевавших непосредственно самые ост-
рые и дискуссионные вопросы религиозной борьбы XVII в. В то время, как ка-
толики и протестанты стремились переспорить друг друга по различным глубо-
ко схоластическим вопросам, в которых особенно явно обнажались связи обоих
религиозных течений с правящими классами, Логау дерзал выступать одно-
временно и против церкви католической и против реформации, как это делали
в XVI в. лучшие представители гуманистической литературы, выражавшие на-
строения народных масс:
Да, три веры возглавляют папа, Лютер и Кальвин,—
насмешливо писал Логау, отказываясь отдать предпочтение любой из трех
«вер»,— и тут же спрашивал читателя:
Но скажи, твоя где вера, истинный христианин?
(Пер. О. Румера)
Следовательно, все трое, с точки зрения Логау, не были «истинными христиа-
нами». В Германии XVII в. решиться на такое смелое заявление мог только
выдающийся мыслитель и поэт, чувствовавший себя ответственным перед не-
мецким народом, ограбленным, униженным и обманутым.
В некоторых эпиграммах Логау осмеливался шутить по поводу самой биб-
лии, что невозможно представить в стихах Опица или Флеминга:
Да, Адам вкусил от плода — но его вина ли,
в том, что люди в оны годы о ножах не знали?
(Пер. Д. М.)
— иронически писал Логау, и за этой шуткой кроется, конечно, нечто большее,
чем простой каламбур. Пытливая передовая мысль XVII в. уже не раз оста-
навливалась перед вопросом о границах познания человека, стремилась отвое-
вать для человека право на бесстрашное движение вперед в области науки,
в области изучения и покорения природы. И в том, что Логау своей эпиграммой
как бы отбрасывал пресловутый тезис об изначальной греховности человека,
в шутливой форме оправдывал его ослушание, его первый протест против за-
96
претов религии, кроется отрицательное отношение поэта к религиозной морали,
превращающей сильного и мудрого человека в «раба божия», в жалкого червя,
во всем якобы зависящего от воли «провидения». Убежденный в несправедли-
вости немецкого феодального строя, Логау возвышался до протеста против со-
словного строя, до идеи равенства людей. Об этом он прямо писал в своей
эпиграмме «Люди есть люди»:
У слуги и господина — та же человечья кожа:
нет слуги без недостатков — но таков же и вельможа.
(Пер. Д. М.)
Критическое отношение Логау к дворянской монархии, сквозящее во многих
его эпиграммах и дистихах, яснее всего проявилось в четверостишии «Цареу-
бийцы», посвященном казни Карла I, короля английского. В данном случае
поэт не мог выразиться прямее, без обиняков, не опасаясь преследований.
В этом маленьком стихотворении Логау в тоне народной песни, короткими
задорными строчками констатирует совершившийся факт: король Карл ли-
шился короны, чтобы она ему больше не понадобилась, ему сняли и голову. Но
в этой насмешливой эпиграмме скрыт существенный политический смысл. Мо-
нархически настроенная печать в странах Западной Европы объявила Карла
жертвой, оплакивала его, клеветала на английский революционный народ, ко-
торый заставил английскую буржуазию, победившую в гражданской войне,
казнить Карла. В самой Германии были писатели, с сочувствием изображавшие
судьбу Карла Стюарта, разжегшего в Англии пламя войны, торговавшего ин-
тересами страны, чтобы обеспечить себе поддержку других держав в подавле-
нии революции. В трагедии Грифиуса «Карл Стюарт» осужденному на казнь
королю приданы черты мученика, якобы невинно обреченного на смерть.
В противоположность такой точке зрения на казнь короля Логау намекает
читателю на то, что революционная расправа с Карлом была вполне разумной
мерой: голову ему сняли, чтобы он не пробовал вновь надеть на нее корону,
чтобы он не стал главой заговоров и мятежей, угрожающих стране новыми по-
литическими и военными потрясениями. Без всякого почтения, с оттенком на-
родного юмора говорит Логау о «короле Карле английском», который, по его
выражению, «расквитался с короной».
Подобно Опицу и Флемингу, Логау был поэтом-патриотом. Но его патрио-
тизм гораздо более демократичен: вопрос о благе Германии для Логау нераз-
рывно связан с вопросом о положении крестьянских масс, а на улучшение его
в ближайшее время поэт не надеялся. Он был одним из первых немецких мыс-
лителей, понявших, что Вестфальский мир ' закрепил раздробленность Герма-
нии, санкционировал дальнейшее усиление феодальной реакции в стране. Что
принесла Германии война? — спрашивает Логау в стихотворении «Трофеи не-
мецкой войны»,— и отвечает: новых господ, графов и аристократов.
Многие эпиграммы Логау направлены против космополитизма немецкой
знати, против ее пренебрежения к родному языку, к родной культуре. Логау
показывает, насколько правящие классы Германии чужды народу, его обычаям,
его речи. Продолжая борьбу Опица за чистоту и народность немецкого языка,
Логау протестует против потока варваризмов, затопляющих немецкие книги
и разговорную речь с легкой руки знати и пресмыкающегося перед ней бюргер-
ства. Но подлинный немец для Логау — не тот, кто старается говорить «тонко
и звонко» по-немецки, кто щеголяет своим правильным произношением, прове-
ренным и утвержденным в разных «плодотворных обществах» XVII в.— а тот,
кто «немец в сердце своем». Очевидно, под этим эмоциональным определением,
1 Вестфальским миром 1648 г. завершилась Тридцатилетняя война.— Ред.
4 Р. М. Самарин 97
противопоставленным внешнему, ложному патриотизму, Логау подразумевал
подлинную любовь к родному народу.
Значительное количество эпиграмм Логау написано на любовную тему.
Поэт в рамках короткого стихотворения, часто двустишия, умел сжато и ко-
ротко рассказать о своем чувстве, о радостных минутах свидания или о пере-
живаниях, вызванных ветреностью его подруг. Он в нескольких строках на-
брасывал портрет любимой женщины, обрисовывал ее характер. В своих лю-
бовных эпиграммах Логау показывает замечательное умение быть предельно
кратким, говорить о многом в немногих словах, обдуманно и тщательно
отобранных. Это свидетельствует о богатом запасе слов и о тонком чувстве
языка. Любовная лирика Логау не лишена некоторых черт стилизации: в ней не
так полно передан реальный мир немецкой жизни, как в произведениях других
жанров. Но и в ней за литературными штампами, заимствованными из антич-
ной поэзии, за греческими и латинскими женскими именами проступает немец-
кая действительность, которую Логау даже в своей любовной лирике изобра-
жает не в пасторальных тонах, а в тоне легкой иронии.
Многому научившись у Опица, подготовившего почву для его деятельности,
Логау существенно обогатил и развил немецкую поэзию, взялся за разработку
таких тем, которых не было ни у Опица, ни у Флеминга. Логау ввел в немецкую
поэзию острые социальные темы, нашел новые формы для выражения своих
смелых мыслей, направленных против деспотизма князей и церковников. Ло-
гау — один из первых немецких писателей нового времени, в творчестве кото-
рых после долгого перерыва вновь зазвучал антифеодальный протест, отра-
жавший настроения широких народных масс Германии, исстрадавшихся под
властью феодальной реакции.
Используя опыт Опица и античной поэзии, особенно римских поэтов-сати-
риков, Логау строил свои стихотворения на основе немецкой народной поэзии,
на основе великих традиций немецкой литературы эпохи Возрождения. Сатира
и юмор Логау, его эпиграмматическое искусство, связанное с пословицей и за-
гадкой, органически близки немецкому шванку, фастнахтшпилю и народной
песне. Творчество Логау, складывавшееся в годы Тридцатилетней войны
и развивавшееся после ее окончания, стало новым важным этапом в развитии
немецкой поэзии XVII в., в развитии реалистической традиции немецкого
искусства в целом. Именно в силу этого великий немецкий просветитель Лес-
синг обратил особое внимание на поэзию Логау. В 1752 г. при участии немец-
кого поэта Раммлера переиздал книгу избранных эпиграмм Логау, в которой
были помещены наиболее характерные из его произведений.
В «Письмах о новейшей литературе» Лессинг дважды (письма 36-е и 43-е)
с большой похвалой отозвался о Логау. Лессинг указывал на большое значение
поэта для развития немецкой литературы и цитировал стихи Логау, на-
правленные против Тридцатилетней войны и деспотизма немецких князей. От-
бор цитируемых произведений был таков, что они по существу использовались
Лессингом для обличения немецкого абсолютизма XVIII в., для критики его
военных авантюр.
Называя Логау «классиком немецкой литературы», Лессинг видел в нем
одновременно Марциала, Катулла и Катона, указывая таким образом на та-
лантливость любовной лирики Логау, на остроту его эпиграмм, разоблачающих
упадок нравов в правящих кругах немецкой знати, и на политическое значение
его произведений, в которых Логау выступил с протестом против политики не-
мецких князей. Лессинг подчеркивал одновременно и сатирическую на-
правленность произведений Логау, и их моральный характер. В глазах Лес-
синга сатира Логау была сильна именно тем, что, обличая пороки немецкой
знати, поэт начинал борьбу за мораль антифеодальную, опиравшуюся на
представления широких демократических масс Германии XVII в. о нравствен-
ности и человеческом достоинстве.
98
Демократическая сатира Логау, замечательная своей выразительностью
и народным языком, разоблачающая правителей Германии, защищает немец-
кий народ, клеймит зачинщиков войны, расколовшей и опустошившей Герма-
нию. В силу всего этого она сохраняет свое актуальное звучание и в наши дни.
1954
ДЖОН МИЛЬТОН И СПОРЫ О НЕМ
(К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
В августе 1655 г. в Лондоне на латинском языке вышла книга под странным
названием: «В защиту себя». Ее автором был Джон Мильтон. От кого же за-
щищался этот известный ученый и публицист, не раз выполнявший ответ-
ственные поручения правительства английской республики?
От многих. Ему пришлось обороняться и от лейденского схоласта Салмазия
(так на латинский манер именовался юрист Сомэз, служивший английской ро-
ялистской эмиграции), и от некоего Анонима, и от истеричного краснобая А.
Мора, от Бромголла, Филмера, Роуленда и от прочих врагов, которых Мильтон
иногда упоминает, а иногда подразумевает и опровергает, не называя.
Защищаясь от противников, которые в пылу политической полемики не гну-
шались чернить его честное имя, Мильтон защищался от нападок английской
и — шире — европейской реакции, встревоженной и разозленной успехом его
блестящих трактатов, в которых отстаивались интересы английского народа,
доказывалось его право судить и казнить королей, обличались другие абсолю-
тистские правительства и их заговор против молодой английской республики.
Так началась трехсотлетняя борьба вокруг произведений Мильтона — борьба,
идущая и в наши дни, перенесенная со временем из публицистики Мильтона на
его поэтическое и философское наследие.
После победы Реставрации некоторые книги Мильтона были сожжены рукой
палача; ему самому грозила смертная казнь. Не раз в первые годы Реставрации
писатели-монархисты вновь и вновь обращали внимание властей на Мильтона,
призывая к расправе с ним. Одинокий слепой поэт, разоренный и преследуемый,
долгое время ждал новых преследований и кар.
В конце XVII в. Драйден, а затем в начале XVIII в. влиятельнейшие анг-
лийские публицисты Стиль и Аддисон много сделали для того, чтобы утвердить
среди своих читателей мнение о Мильтоне как о великом английском поэте. Но
с легкой руки Аддисона в течение долгого времени Мильтон-поэт рассматри-
вался прежде всего как художник глубоко религиозный и этим по преимущест-
ву примечательный. В России XVIII в. представление о «божественном писателе
Иоанне Мильтоне» было в значительной степени основано именно на этой точке
зрения.
Несмотря на широкое международное признание, которое пришло к Миль-
тону в XVIII в., долгое время его революционную публицистику, пугавшую мо-
нархистов XVIII столетия, отделяли от его художественного творчества, игно-
рируя теснейшую взаимную связь, скрепляющую творения Мильтона-поэта
и Мильтона-прозаика. За двести пятьдесят лет изучения Мильтона накоплено
немало ценных наблюдений; есть много основательных и солидных работ, на-
писанных с горячей любовью к Мильтону и с честным стремлением осмыслить
его сложный творческий путь. Но немало среди книг и статей о Мильтоне и та-
ких, авторы которых пытались и пытаются либо приспособить Мильтона для
узких политических целей, либо клевещут на него, искажая и приуменьшая его
подлинное значение.
4*
99
Вполне закономерно, что в XX в. нападки на великого английского поэта —
поборника демократических идей сделались особенно настойчивыми
и вздорными.
Лидеры английского и американского декаданса — Э. Паунд, Т. С. Элиот —
певец «полых людей» и другие, начиная с 20-х годов, не раз посягали на
Мильтона '.
Т. С. Элиот не скрывал, что выступая против авторитета и популярности
Мильтона, он хотел «освободить» от его влияния современных молодых поэтов.
Доводами для необходимости такого акта Элиоту служат обвинения в том, что
Мильтон «несимпатичен» Элиоту, в том, что он «насилует английский язык», и
в том, что современному поэту у Мильтона учиться нечему; однако за этими
«доводами» возникает некий другой и более определенный мотив: Мильтон
неприятен ему как великий поэт революционной эпохи, а «мы,— замечает Эли-
от,— не можем ни в литературе, ни тем более в жизни вообще пребывать все
время в состоянии революции» 2.
Среди доводов, поясняющих причину антипатии Элиота к Мильтону, один
особенно курьезен. Оказывается, Мильтон виноват в том, что после него уже
никто не может создать эпическое произведение, по грандиозности своей равное
«Потерянному раю» 3... Нет, так писать нельзя, утверждает Элиот. Ему неуютно
в тени великого поэта.
Т. С. Элиот охотно цитирует в своих статьях о Мильтоне тех авторов, чьи
высказывания пополняют его не очень разнообразный арсенал. Но если желч-
ная воркотня замечательного английского критика XVIII в. С. Джонсона
остроумна даже там, где он проявляет очевидную несправедливость к Мильто-
ну, то выпады против Мильтона, почерпнутые Т. С. Элиотом у М. Мерри, Тиль-
ярда, Льюиса, свидетельствуют только о предвзятом и одностороннем отноше-
нии этих литературоведов нашего времени к великому английскому писателю
XVII в. Подчеркивая связь определенных английских филологических кругов
с идеями Т. С. Элиота, критик Ливис выражает свое удовлетворение тем, что
выступление Т. С. Элиота против Мильтона помогло «низложению Мильтона»,
которое произошло «после двух веков преобладания авторитета Мильтона
в английской поэзии» 4. Однако поэзии «полых людей» не заменить в англий-
ской литературе великой национальной поэзии, в которой имя Мильтона оста-
ется одним из самых значительных, невзирая на попытки Т. С. Элиота, Льюиса,
Ливиса и их единомышленников снизить его значение. С ними нельзя согла-
ситься, так же как невозможно согласиться с проф. Грирсоном, который в своей
книге «Мильтон и Вордсворт» ставит Вордсворта в истории английской поэзии
неизмеримо выше Мильтона и объясняет это противопоставление тем, что
Джон Мильтон был «революционером», остался верен республиканским прин-
ципам, верен политике, якобы убившей в нем поэта, а Вордсворт отказался от
симпатий к революции во имя служения поэзии и достиг-таки положения поэта-
лауреата.
Грирсон относится к тем ученым, которые стремятся, весьма вольно интер-
претируя Мильтона, сделать его приемлемым для буржуазной идеологии наших
дней. Еще прямее в этом отношении действует проф. Льюис: в своей книге
«Введение к Потерянному раю» 5 он просто объявил Мильтона последователем
и учеником блаженного Августина. Отметим, что Льюис в данном случае
в корне разошелся с интересным и доказательным исследованием Д. Сора
1 См.: например Eliot T. S. A Note on the Verse of John Milton. London, 1936. Эту статью Элиот
затем переиздавал.
2 Там же. Р. 18—19.
3 Eliot T. S. A Note on the Verse of John Milton. P. 5.
4 Leavis F. R.//Revaluation. 1936.
5 См.: Lewis C. S. A Preface to Paradise Lost. London, 1942.
100
«Мильтон — человек и мыслитель» '. Со многим в книге Сора нельзя согла-
ситься (прежде всего с его собственной попыткой примирить материализм
и религию), но нельзя не признать ценными его наблюдения над философскими
взглядами Мильтона. В труде Д. Сора, в отличие от эффектного, но поверх-
ностного труда Льюиса, сделан вывод, что Мильтону присуща тяга к материа-
лизму, что в его теологии многое выглядит весьма еретически не только для
католика, но и вообще для христианина.
Дальше Льюиса пошел в годы второй мировой войны Вильсон Найт. В своей
книге «Колесница ярости» 2 он пытался приспособить гениальные видения поэ-
та для целей британской военной пропаганды. Найт нашел, что Мильтон пред-
восхитил в своей поэме появление «сверхбомбардировщиков», а особенно
одобрил Мильтона за то, что его Мессия — этот «христианский герой» поэтики
XVII в.— по мнению Найта, «конституционный монарх», нечто близкое королю
Георгу, восседавшему в ту пору на том самом английском престоле, против ко-
торого когда-то так яростно выступал Мильтон.
Впрочем, Грирсон, Льюис, Найт и многие другие мильтоноведы, близкие
к ним, не оригинальны. Они продолжают старую традицию английского миль-
тоноведения — традицию, которая была заложена еще в XVIII в. теми, кто пы-
тался доказать, что Мильтон не поэт английской революции, а прежде всего
добрый христианин и писатель душеспасительный.
Конечно, это не похоже на раздраженные и нелепые выступления Элиота, М.
Мерри, Ливиса. Но если невозможно согласиться с попыткой «низложить»
Мильтона, то в такой же степени нельзя примириться и с попыткой превратить
его в добродетельного святошу.
Советским литературоведам вполне понятно то негодование, с каким отста-
ивает престиж Мильтона американский ученый Д. Буш в книге «Потерянный
рай в наше время» 3. Вместе с известным мильтоноведом Б. Н. Френчем мы мо-
жем назвать книгу Буша «могучей, логической, интересной защитой Миль-
тона».
Отрадно видеть, что в книге К. Мьюира «Джон Мильтон» 4, вышедшей
в популярной серии «Люди и книги», позиции Т. С. Элиота, Ливиса и М. Мерри
подвергнуты критике, пусть весьма осторожной; отрадно видеть, что в книге
Т. Г. Бэнкса «Система образов Мильтона» 5 продолжена работа нескольких
поколений ученых, внимательно и глубоко изучающих поэтическую мастерскую
великого англичанина; что в книге К. Свендсена «Мильтон и наука» 6 широко
освещены научные и философские интересы поэта на фоне общего состояния
научной мысли его эпохи.
Однако и эти новые книги о Мильтоне вызывают желание о многом поспо-
рить с их авторами. Напрасно К. Мьюир так мало сказал о трагедии Мильтона
«Самсон-борец». Видимо, это отвечало общей концепции творческого пути
Мильтона, намеченной Мьюиром. Согласно этой концепции, Мильтон в 60—
70-х годах уже безмерно далек от общественной проблематики. Конечно, при
такой постановке вопроса удобнее закончить книгу разбором «Возвращенного
рая». Но сделать так,— а Мьюир так и поступает,— это значит умолчать о том,
что творческий путь поэта закончился не проповедью христианской аскезы,
а призывом к продолжению борьбы против угнетателей английского народа.
Истолкование творческого пути Мильтона у Мьюира в данном случае вы-
глядит как уступка тем, кто хотел бы видеть Мильтона 60-х гг. в качестве Сам-
сона порабощенного, а не Самсона борющегося, каким был Мильтон в дей-
1 См.: Saurat D. Milton. Man and Thinker. N. Y., 1925, 1940.
2 См.: Knight G. W. Chariot of Wrath. 1942.
3 См.: Bush D. Paradise Lost in Our Time. Some Comments. Cornell Univ. Press, 1945.
4 См.: Muir K. John Milton. London, 1955.
5 См.: Banks Th. H. Milton's Imagery. N. Y., 1950.
6 См.: Svendsen K. Milton and Science. Harvard Univ. Press, 1956.
101
ствительности, о чем вполне справедливо пишет в своей книге «Джон Мильтон,
англичанин» Д. X. Хэнфорд 1.
Далеко не все убеждает и в книге Бэнкса. Так, он пишет о бедности музы-
кального, слухового восприятия Мильтона. По выкладкам Бэнкса выходит, что
поэзия Мильтона знает только громкие звуки — грохот катастроф, небесные
громы, угрюмый шум стихий. Слов нет, в «Потерянном рае» эта тревожная
«музыка сфер», как любил говорить сам поэт, эта грозная симфония гигантских
битв звучит часто и настойчиво. Титаническая музыка «Потерянного рая»—
немаловажная сторона эстетики Мильтона. Но поэтическое ухо Мильтона,
с детства тянувшегося к музыке и воспитанного в доме, где музыка была в осо-
бой чести, улавливало множество звуков, для которых поэт находил и богатый
словарь: и в его ранних стихах, и в эпопее постоянно звучат голоса птиц, пение
ручьев, шорох листьев, мелодия человеческой речи, наконец, песня.
Удивительно также, что Бэнкс отказывает Мильтону и в умении передать
выражение лиц его героев. С точки зрения Бэнкса, они несколько статичны,
иконописны. Это полностью или почти полностью верно по отношению к обра-
зам бога, Мессии, ангелов, но совершенно неверно в применении к образам
Сатаны, Адама и Евы. Говоря о мимике своих героев, Мильтон показал себя
вдохновенным живописцем. В книге Бэнкса есть главы о том, как и чем обога-
тили образную систему Мильтона общественная и частная жизнь Лондона,
труд и война, природа, животные, книги, но нет главы о человеке у Мильтона,
нет главы, которая была бы специально посвящена образам людей в его пуб-
лицистике и поэзии. Конечно, при таком странном недосмотре возможны про-
счеты, допущенные Бэнксом.
Содержательная книга Свендсена огорчает тем, что в ней слишком мало
и несмело сказано о вкладе самого Мильтона в развитие философской мысли
его времени. А вклад этот был немаловажен и самобытен. Напрасно ограничил
себя Свендсен предпочтительно естественными науками. Мильтон — поэт
с огромным и живым ощущением истории, был начитан в области исторической
науки и сам выступал как историк. Различие между Мильтоном и многими
мыслителями его эпохи в том и состояло, что великий поэт равно интересовался
науками естественными и общественными; в этом он был сродни титанам Ре-
нессанса и предвосхищал людей Просвещения.
Обстоятельная работа Д. X. Хэнфорда, о которой уже упоминалось
вскользь, привлекает многими достоинствами. Хэнфорд — самостоятельно
мыслящий солидный ученый, вероятно, наиболее компетентный среди совре-
менных мильтоноведов, широко и конкретно рассматривающий творения поэта
на фоне его эпохи. Новая книга Хэнфорда продолжает и развивает его более
ранний серьезный труд «Пособие для изучения Мильтона» (1933). Это особенно
чувствуется в главе, посвященной посмертной славе Мильтона.
Хэнфорд собрал ценный материал, показывающий широкое использование
наследия Мильтона английскими и американскими прогрессивными мыслите-
лями и общественными деятелями XVIII в. Самостоятельное значение имеют
страницы, посвященные тому, как воспринял Мильтона замечательный анг-
лийский поэт У. Блейк. Жаль, что чем ближе к современности, тем более бегло
освещает Д. X. Хэнфорд историю усвоения Мильтона. Так, например, гораздо
богаче можно было осветить отношение романтиков к Мильтону, отношение
чартистов, восприятие Мильтона в наше время... Жаль, что проф. Хэнфорд
этого не сделал с такой же обстоятельностью и живостью, как это вышло у него
в применении к XVIII в. В книге явно не хватает и главы о популярности
Мильтона за рубежом. Под пером такого крупного специалиста, как Хэнфорд,
1 См.: Hanford J. H. John Milton Englishman. A Critical Biography. London, 1950; см. ch.
8 «Milton-Agonistes».
102
эта глава могла бы выглядеть блестяще, и слава «Мильтона-англичанина» от
этого только выиграла бы.
Хэнфорд, как и другие, менее значительные исследователи Мильтона,
оставляет в стороне вопрос о гуманизме Мильтона, вопрос о творческом методе
великого английского поэта. Эволюция творческого метода Мильтона рассмот-
рена недостаточно даже и в этом серьезном труде.
Нет, и в наши годы мог бы появиться новый вариант книги «В защиту себя»:
мильтоноведы все еще в долгу у великого английского поэта, и хотя о нем на-
писано внушительное количество работ, в середине XX в. приходится вновь
и вновь вступаться за доброе имя и честь автора «Ареопагитики» и «Потерян-
ного рая».
Принимая участие в вековой борьбе вокруг наследия Мильтона, советские
литературоведы следуют традициям, которые были завещаны великими рус-
скими писателями и критиками, высоко ценившими английского художника.
Мы помним о том, с каким уважением говорил о Мильтоне Пушкин, как це-
нил его Белинский, верно видевший в творчестве Мильтона яркое выражение
целой эпохи английской жизни, как внимательно следили за русскими перево-
дами из Мильтона Добролюбов и Чернышевский.
Выдающийся деятель советской культуры А. В. Луначарский ярко и содер-
жательно охарактеризовал Мильтона: «Джон Мильтон был революционный
публицист, писавший против папы, против монархии, за крайние формы демо-
кратии, за республику, за свободу развода, за свободу личности, за свободу
слова, причем он, например, католиков хотел лишить свободы слова и граж-
данских прав. Он был, очевидно, последовательный революционер, а не болтун,
и в этом смысле, как публицист, защищавший свои революционные доводы до
конца, он являет собою образ одного из самых последовательных республи-
канцев, в то время, когда еще Французской революцией и не пахло. Вместе
с тем он был великий поэт» '.
Луначарский напоминал о «великом революционном сердце Мильтона,
полном бунта». «Вся поэма Мильтона,— отметил он,— написана дивными сти-
хами, с огромным количеством ярчайших образов» 2. Вместе с тем Луначарский
подошел к творчеству Мильтона как к отражению и порождению его эпохи, со-
бытий английской буржуазной революции. В этом плане и повели изучение
Мильтона советские литературоведы, создавшие очерки его творчества в книгах
по истории английской литературы и в учебных пособиях, специально по-
священных литературе XVII в.
Советские исследователи отдают себе отчет в том, насколько противоречив
и сложен был путь Мильтона, насколько выше общего уровня своих едино-
мышленников стоял он и насколько на него влияли идеи, господствовавшие
в его политической среде. Выясняется и степень зависимости Мильтона от его
предшественников и современников, и его самобытность, и значение его поэти-
ческого новаторства.
Советская наука не модернизирует Мильтона, считая, что он по праву за-
нимает славное место и в истории английской литературы, и в истории литера-
туры мировой.
Да, прав был Радищев: человечество не забудет Мильтона — пламенного
патриота и гуманиста, врага тиранов и поборника свободы. Все это в соедине-
нии с могучим поэтическим талантом Мильтона озарило его прозу и стихи не-
меркнущим светом высокого и подлинного вдохновения.
1 Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4: История западноевропейской литературы в ее
важнейших моментах. М., 1964. С. 173.
2 Там же. С. 172.
103
Джон Мильтон (1608—1674) родился триста пятьдесят лет назад 1. Но
можно говорить и о другом юбилее — о трех веках славы Мильтона, начало
которой положили его политические трактаты 40-х и особенно 50-х годов
XVII в.
То были «Ареопагитика» (1644), ратовавшая за свободу слова, «Иконобо-
рец» (1649), объявивший всей Европе, что король Карл Стюарт подлежит каз-
ни за преступления против народа Англии и за измену отчизне, и особенно две
«Защиты английского народа» (1650 и 1654), отстаивавшие право народа вы-
бирать и защищать ту форму власти, которая кажется ему наиболее пригодной.
Уместно в дни юбилея Мильтона напомнить о том, что известность пришла
к нему прежде всего как к публицисту английской буржуазной революции,
страстному врагу самодержавия, поборнику республиканского строя.
Лишь много позже, после смерти великого слепца, скончавшегося в нищете
и забвении, его прославили как автора поэмы «Потерянный рай» (1662), как
создателя горькой и мужественной трагедии «Самсон-борец» (1671). И эти со-
здания поэтического гения Мильтона, как и его проза, всеми корнями своими
уходят в революционную эпоху, воплощают опыт английского народа, заво-
еванный в годы революции и в эпоху борьбы против реставрированной монар-
хии Стюартов. О Мильтоне в большей мере, чем о любом другом писателе его
времени, можно сказать, что он был рожден революцией, идеям которой служил
как публицист и поэт, памяти которой остался верен и после ее поражения.
На пороге революции — в середине 40-х годов XVII в.— он был молодым
поэтом, тонким, глубоким, но еще искавшим своей большой темы. Она пришла
к Мильтону в годы революции, и, служа ей, Мильтон стал писателем мирового
масштаба.
Да, это была буржуазная революция XVII в.— в которой «буржуазия в со-
юзе с новым дворянством боролась против монархии, против феодального дво-
рянства и против господствующей церкви» 2. Специфической особенностью ан-
глийской революции было еще и то, что она развертывалась под знаком
ожесточенной религиозной борьбы. Ее участники, для выражения своих чаяний
и страстей воспользовались, как отмечает Маркс, «языком, страстями и иллю-
зиями, заимствованными из Ветхого завета» . Все это не могло не сказаться
в творчестве Мильтона: он был сторонником партии индепендентов, выражав-
ших интересы средней буржуазии и среднего дворянства, которая в решитель-
ную минуту борьбы против абсолютизма увлекла за собой народные массы;
вместе с тем Мильтон был далек от более демократических политических тече-
ний, вроде левеллеров или диггеров, которые после победы над абсолютизмом
воспротивились укреплению диктатуры Кромвеля. Человек своего времени,
Мильтон был и теологом. Он деятельно участвовал в спорах о будущем анг-
лийской церкви и этому вопросу придавал огромное значение 4. Свои страсти
и иллюзии он, подобно сотням тысяч англичан его времени, тоже воплощал
в образах и выражениях, заимствованных из библии.
Но ярче и полнее, чем в творчестве любого другого поэта его эпохи, в твор-
честве Мильтона выразилось общеисторическое значение революционной
борьбы английского народа. Вспоминая об английской и французской револю-
циях, В. И. Ленин писал, что размах и силу им придал «именно союз городского
«плебса»... с демократическим крестьянством» 5, из которых составились побе-
1 Статья написана в 1958 г.
- Маркс К. Буржуазия и контрреволюция//Мар/сс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 114.
'* Маркс К- Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8.
С. 120.
4 Изучение его собственных теологических взглядов, шире всего выраженных в книге
«О христианском учении» свидетельствует о том, что Мильтон выработал систему религиозных
воззрений, близкую к верованию секты «морталистов», но все же самостоятельную. Об этом
см.: Saurat D. Milton. Man and Thinker.
5 Ленин В. И. Принципиальные вопросы избирательной кампании//Полн. собр. соч. Т. 21. С. 89.
104
доносные полки английской революционной армии. Эти «размах и сила», даже
в условной оболочке библейских образов, присущи лучшим образцам публи-
цистики Мильтона, его поэмам и трагедии.
Конечно, при этом не следует забывать о противоречиях мировоззрения
и творчества Мильтона, которые во многом оказались трагичными для поэта.
Но каковы бы ни были эти противоречия, самые различные читательские круги
XVIII и затем XIX в. знали и любили Мильтона прежде всего за смелость его
мыслей и образов, за гигантский масштаб его обобщений, в которых вырази-
лись «размах и сила» народной борьбы, обновившей жизнь английского
общества.
Мильтон оказывал разнообразное и могущественное влияние на развитие
поэзии в Англии и других странах. Воздействие Мильтона легко проследить и
в публицистике XVIII в. и в развитии такого важного жанра поэзии, как эпо-
пея,— от Вольтера, упомянувшего о нем в предисловии к «Генриаде» (да и
в самой поэме есть немало мест, свидетельствующих о воздействии Мильто-
на) — до русских поэтов-эпиков XVIII в., включая все развитие этого жанра
в России от Кантемира до Хераскова '. Радищев в «Путешествии из Петербурга
в Москву» утверждал, что «произведения Мильтона читаемы будут, доколе не
истребится род человеческий». Клопшток, ища путей развития немецкой наци-
ональной эпопеи, обратился к опыту Мильтона в «Мессиаде».
Еще более существенным и заметным было влияние Мильтона на поэтов
и писателей романтизма. Мильтон и европейский романтизм первой половины
XIX в.— сложный и большой вопрос. Не приходится, с одной стороны, сомне-
ваться в значении Мильтона для развития Байрона, Шелли, Китса; с другой —
очевидно использование многих особенностей эпической техники Мильтона
в «Мучениках» Шатобриана, известного своим переводом поэм Мильтона. Уже
это говорит о сложности творчества самого Мильтона: с одной стороны, бун-
тарский пафос образа Сатаны, воинствующий гуманизм поэта манили к нему
романтиков начала XIX в., связанных с великими освободительными движени-
ями той поры или испытывавших их сложное воздействие; с другой — Мильтон
как «христианский поэт» (а такое понимание Мильтона было весьма распрост-
ранено в XVIII в.) оказался увлекательным учителем для поборника монархии
и христианизма Шатобриана.
Глубина и богатство содержания поэзии Мильтона объясняются тем, что он
сложился и вырос в эпоху, отмеченную ясно выраженными чертами гибели
старого мира —«старой веселой Англии»— и рождения мира нового — Англии
буржуазной. Но то, что в наши дни укладывается в эту историческую формулу,
в эпоху Мильтона было живым общественным процессом, множеством явлений
и признаков, в которых только гениальное чутье поэта — современника
и участника великой исторической битвы — могло угадать крах старого мира,
железную силу исторической необходимости.
Пытливо вглядывавшийся вперед, в будущее, Мильтон высоко ценил со-
кровища человеческой культуры, опыт, накопленный прошлыми веками. Он не
был ограниченным и непримиримым «пуританином», которых было так много
в его дни. С полным основанием советские ученые говорят о Мильтоне, как
о продолжателе лучших традиций английского и — шире — европейского гу-
манизма.
Вместе с тем гуманизм Мильтона отличался от гуманизма его великих
предшественников. В нем уже не было беспредельной широты и непосредствен-
ной жизнерадостности Шекспира, Рабле, Сервантеса. Мировоззрение Мильто-
на, обогащенное по сравнению с его предшественниками новыми перспективами
научного отношения к действительности, открывавшимися перед людьми
XVII в., было в известной мере сужено и ограничено воздействием теологических
1 Речь в данном случае идет, разумеется, о самобытном использовании опыта Мильтона.
105
концепций и буржуазным рационализмом. Вместе с тем Мильтон был резче,
последовательнее в своей ненависти к феодальному строю. Основной конфликт
эпохи в его публицистике — да и в его художественных произведениях — вы-
ступил с неприкрытой ясностью. Органическая связь национального и общече-
ловеческого раскрывается в гуманизме Мильтона с новой и еще дотоле не-
виданной силой: опыт английского народа ведет поэта к постановке проблем,
важных для человечества в целом. В значительной мере это связано с пред-
ставлением Мильтона — как и многих других английских писателей революци-
онной эпохи — о том, что события английской революции 40—50-х годов имели
мировое значение.
Мы не ошибемся, если скажем, что эта гуманистическая содержательность
творчества Мильтона, рожденная революционным пафосом, присущим писате-
лю, сделала жизнь его произведений столь длительной и столь важной для
других литератур и для других веков.
Если, учитывая значение религиозной идеи «Потерянного рая», сводящейся
к изображению «первого греха людей» и к нахождению путей его исправления,
мы обратимся к художественной сущности поэмы Мильтона, то убедимся, что
это поэма о судьбах людского рода. Гигантская космическая битва между вос-
ставшими ангелами и божьими легионами — только пролог к борьбе за чело-
века, которую начинает Сатана, желая отомстить богу. Вовлеченный в борьбу
бога и Сатаны, человек со своей «свободной волей» [ становится вровень с ни-
ми. Он участник этого спора, а не безвольный его объект. Адам по своей воле,
зная о том, что он совершает проступок, нарушает запрет бога и становится
соучастником преступления, совершенного Евой: он поступает так из-за любви
к Еве, в то время как титаническими силами, которые распоряжаются его
судьбой — богом и Сатаной,— руководят взаимная ненависть, ярость, зависть,
страх.
Адам и Ева Мильтона — прекрасные владыки прекрасного мира, созданного
для них. Они, как пишет Мильтон, «достойнейшая пара»: Адам —«лучший
мужчина», а Ева —«прекраснейшая женщина». Человек для Мильтона —«на-
местник бога» на земле, о чем юноша Мильтон писал еще в одном из кембрид-
жских студенческих сочинений, и это не теологическое построение, а твердая
уверенность гуманиста.
Адам и Ева не безлично «прекрасны». Показав их вместе на фоне цветущего
рая, как бы воспроизведя в стихах один из любимых сюжетов мастеров Ренес-
санса, так охотно изображавших первых людей в раю, Мильтон создал обо-
собленные и детализированные портреты Адама и Евы, тоже напоминающие
аналогичные мотивы изобразительного искусства Ренессанса, но с вырази-
тельной антикизирующей 2 тенденцией.
Адам — воплощение доблести, мудрости и мужества. Богат его внутренний
мир. Разум и страсть — главные противоречия, живущие в Адаме. Разум
удерживает его в пределах «естественного закона», в пределах человечности.
Страсть может столкнуть его в хаос низких вожделений, обесчеловечить. Важ-
нейшим фактором внутренней жизни Адама Мильтон считал его «свободную
волю»— волю выбора того или иного пути, возникающего перед человеком.
Мильтон не был оригинален, развивая свое учение о «свободной воле». Он во
многом зависел от точки зрения христианских теологов IV — V вв., с которыми
всегда считался (и это показатель: в христианской теологии той поры еще не
заглохли некоторые гуманистические идеи эллинизма).
Еще в большей степени зависел Мильтон в вопросе о «свободной воле» от
кальвинистского учения о предопределении, с которым он далеко не во всем был
1 «Free will»— с точки зрения Мильтона, важнейшее свойство человеческого характера.
2 Антикизация — использование писателями XVII — XVIII вв. традиций античной истории
и культуры при решении социально-политических и эстетических задач.— Ред.
106
согласен, но которое он принимал: в этом учении находила себе ложное выра-
жение верная догадка Мильтона о том, что человеческое общество развивается
по определенным законам. Но как бы ни были запутаны теологические воззре-
ния Мильтона, «свободная воля» Адама прославлена в поэме как великое ак-
тивное начало, движущее человеком. Уже в силу этого Адам — не кукла в тра-
гическом театре жизни, не жалкий червь, каким изображали человека писатели
реакционных литературных направлений — современники Мильтона.
Не менее значителен и образ Евы. В поэме Мильтона вырастает замеча-
тельный по своей привлекательности облик женщины, который не имеет себе
равных в английской поэзии XVII в. В любовании Евой сказывается высокое
представление о духовном достоинстве женщины. Таким мы знаем Мильтона
и по его трактатам 40-х годов о разводе, в которых широко высказан взгляд
поэта на право женщины выбирать себе спутника жизни, не подчиняясь чужой
воле.
Ева — живой образ; «первая женщина» Мильтона весьма далека от пури-
танских абстракций. Не один Адам подвластен очарованию Евы: ему поддается
и хмурый соглядатай людского счастья — Сатана, с горечью взирающий на
первых людей в раю и обдумывающий свою месть богу. И здесь, в этой под-
властности простому человеческому чувству, раскрывается одна из важных
сторон могучего образа. Сила Сатаны Мильтона именно в том, что он, при всей
своей титаничности, человечен. Его гордыня, его ненависть, его властолюбие,
его страстность, его смелость — это черты человеческие, но только во много раз
усиленные поэтической фантазией Мильтона. В отличие от того, как обрисова-
ны бог и его блистательное окружение, включая добродетельно абстрактного
бога-сына — Мессию, Сатана портретизирован.
Мильтон собрал множество наблюдений над человеческими страстями, что-
бы рассказать, как изменяется грозное и прекрасное лицо Сатаны, обожженное
пламенем страшной битвы и огнями ада, изборожденное морщинами, облаго-
роженное страданиями и думами. И если Адам и Ева глубоко человечны
в своем счастье, в своей любви, то человечность Сатаны — в его неукротимом
бунтарском духе, в его готовности переносить муки и вновь кидаться в роковое
соревнование со своим непобедимым, но от этого тем более ненавидимым про-
тивником.
Образ Сатаны очеловечен еще и тем, что он показан в изменении, в разви-
тии. Один из ангелов, он становится их вождем только в силу того, что восстает
против бога. В битвах со своим противником он обретает свое заманчивое и уг-
рюмое обаяние. Прекрасные дети, Адам и Ева становятся людьми в полной ме-
ре, только нарушив запрет бога, только сделав «свободный выбор», шагнув из
блаженного Эдема навстречу суровому ветру человеческого бытия. Будущее их
сурово, но отныне они обязаны всем себе самим: начинается осмысленная
и требующая ответственности человеческая история.
Отметим здесь, что вопрос об отношении Мильтона к Сатане, вопрос автор-
ской сознательной оценки этого образа не разрешается только указанием на то,
что из-под пера Мильтона Сатана вышел далеко не таким, каким хотел изоб-
разить его поэт. Да, Белинский был прав, указывая на это противоречие и вы-
соко поднимая образ Сатаны над другими образами поэмы, как делали это
и многие другие исследователи Мильтона.
Однако при всей своей грандиозности образ Сатаны — именно в тех его
проявлениях, где Сатана особенно человечен,— не только задуман Мильтоном,
как образ «отрицательный», но и является таковым по существу. Уже давно
было подмечено, что «архивраг» Мильтона сродни многим злодеям и тиранам,
созданным гением елизаветинской драматургии. Мильтон поясняет, что внут-
ренний мир Сатаны искажен и обезображен властолюбием, мучительным эго-
измом. Отсюда и его цинизм, и духовная опустошенность, причиняющая ему
страдания: потому что с завистью смотрит он на счастье людей в Эдеме.
107
Великий Сатана внутренне надломлен именно тем, что он не устоял в борьбе
с собственным эгоизмом, со своими гигантскими себялюбивыми мечтами. В та-
кой сложной форме ставит Мильтон проблему индивидуализма, постоянно тре-
вожившую его.
Общее решение этой проблемы весьма примечательно: злобный и эгоисти-
ческий замысел Сатаны независимо от него идет на пользу человеку — ведет
его в суровую школу жизни, в которой человек совершенствуется. В такой ми-
фологической форме высказывает Мильтон свою догадку о диалектике, о про-
тиворечивых связях вещей в мире. И это тоже одно из проявлений гуманизма
художника.
Глубокая человечность эпопеи Мильтона, нарастающее значение индиви-
дуального начала (противопоставленного началу индивидуалистическому, на-
меченному в образе Сатаны), раскрывается и в такой своеобразной особен-
ности «Потерянного рая», как лирические отступления, играющие большую
композиционную роль, но представляющие и самостоятельную ценность.
В них Мильтон вступает в число действующих лиц эпопеи, говорит о своем
понимании значения поэта:
...я вспомню и о тех,
Кого судьба со мной сравняла горем,
С кем славой я сравняться бы хотел:
Слепого Тамириса, Меонида,
Тирезия, Финея — этих древних
Пророков знаменитых вспомню я.
(Пер. Н. Холодковского)
Горько жалуясь на свою слепоту — в частности и потому, что она оторвала
его от книг, от знания («путь мудрости при входе мне закрыт»),— Мильтон го-
ворит о внутреннем свете души, который озаряет для него очертания его по-
этического замысла. Мильтон напоминает в своих отступлениях о том времени,
когда он пишет свою поэму: она рождается «в злые дни»; он трудится над поэ-
мой, живя «среди злых языков, во мраке, в одиночестве, окруженный опас-
ностями» ].
Так личность поэта не только накладывает отпечаток на всю поэму, но
и просвечивает явственно в отдельных ее отрывках, связывает — через обра-
щение поэта к читателю — нас с ним.
Поэт, мыслитель и историк, Мильтон сознавал, что он живет в эпоху траги-
ческих и гигантских столкновений, в которых общественные силы, развязанные
ходом «прогрессивного переворота», как называл Энгельс эпоху Возрождения,
вели отчаянную борьбу за будущее против сил старого общества, далеко еще не
сломленных, переходивших в наступление.
Прислушиваясь к этой грозной музыке истории, создавал Мильтон свои
грандиозные картины побоищ в пространствах вселенной, фрески космических
битв, озаренных огнями «небесной артиллерии» 2. Но в тесной связи с видения-
ми грозовых небес находятся и залитые солнцем картины жизни людей в раю
и их исход из Эдема, охваченного мстительным божьим огнем: судьба людей
определяется гигантской битвой, которая гремит во всей вселенной 3.
Мильтон стал величайшим эпическим поэтом XVII в. Однако своеобразие
его эпоса заключалось в том, что в нем собственно эпическая тема — борьба
Сатаны с богом — переплеталась с темой «частной жизни», с темой судьбы
Адама и Евы. Переплетение этих тем в «Потерянном рае» настолько тесно, что
в общей композиции эпопеи они не только не дисгармонируют, но, наоборот,
1 Это место обратило на себя внимание Пушкина. Он цитирует его в известной статье
«О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая"».
2 Выражение Мильтона из «Потерянного рая».
3 Разумеется, это не значит, что во вдохновенной символике «Потерянного рая» надо искать
буквальную параллель к английской революции, к ее событиям и деятелям.
108
дополняют друг друга, создают новую концепцию эпоса, в которой эпические
события и зависящая от них «частная жизнь» уже неразделимы.
В этом сказалась специфика эпохи Мильтона. Создание подлинного герои-
ческого эпоса в духе народной героики раннего средневековья или в духе ры-
царских романов было уже немыслимо, сколько бы усилий ни было на это по-
трачено сторонниками «искусственного эпоса», настойчиво работавшими над
этой задачей именно в XVII в. А новая эпопея, рождаясь под пером участника
буржуазной революции, властно включала в себя, кроме общего героического
и мифологического плана, план частный, судьбу человека, переживающего крах
старых привычных условий существования, выходившего на новые жизненные
дороги, на которых он будет предоставлен самому себе, своему «разуму», своей
«свободной воле». В литературе эти новые дороги вели от эпопеи к эпосу нового
времени, к роману с его героем-личностью, человеком-индивидуальностью.
Адам в последних трех песнях поэмы — стоик, готовый мужественно взва-
лить на свои плечи бремя человеческой истории. Непреднамеренный приход
поэта к этому стоическому идеалу вполне объясним. Поэма «Потерянный рай»
писалась в те тяжкие для Мильтона и для других сторонников поверженной
республики времена, когда надежда на активное сопротивление силам побе-
дившей Реставрации временно угасла. Тем более значительным для Мильтона
и его друзей был идеал стоического сопротивления, мысль о дальнейшем ду-
ховном совершенствовании, ярко выраженная в Адаме, который — не восстав
против божьего гнева и считая его справедливым — из пасторального подобия
божьего, резвящегося на райском лугу вместе со львами и ягнятами, становит-
ся мыслящим и страждущим зачинателем рода человеческого, героем-стоиком.
Однако герой, покорно переносящий кару, обрушившуюся на него только за
то, что он разрешил себе стать самим собой, изведал сладость познания — ко-
нечно, не герой того совершенного эпического произведения, о котором мечтал
молодой Мильтон в годы, когда он только прислушивался к нарастающему
грохоту исторических битв. Стихия буржуазной революции с ее разочаровани-
ями, с ее крушением иллюзий, вызванными годами господства Кромвеля, так
и не дала материала для создания подлинной героической эпопеи, для создания
подлинно героического образа.
И поиски героя, работа над образом героя продолжались. Об этом свиде-
тельствует образ Иисуса —«Спасителя», «Сына божия»— в «Возвращенном
рае» (напечатанном в 1671 г.), задуманный и разрешенный как образ человека
из народа, живущего в бедности, среди простых людей. И действительно, где же
еще мог искать Мильтон героя в годы Реставрации, когда над республикой и ее
славным прошлым охотно глумились не только эмигранты, вернувшиеся на
родные пепелища, но и недавние «сторонники» Кромвеля, новая знать, нажив-
шаяся на революции? Ненависть к восстановленной династии Стюартов, мечты
о справедливом социальном строе все еще жили именно в толще английского
народа, обманутого в своих надеждах, но вновь и вновь выдвигавшего бес-
страшных проповедников и борцов, призывавших не смиряться с «сатанински-
ми» порядками восстановленного абсолютизма. Исследователи не раз подчер-
кивали нарочитую простоту Иисуса в «Возвращенном рае», противопоставлен-
ного Сатане, который выступает в поэме в одеянии аристократа, джентльмена.
Известно, что «Возвращенный рай»— беднее, дидактичнее, чем первая поэ-
ма Мильтона. Но при всех своих недостатках «Возвращенный рай»— земная
поэма о земном, с точки зрения Мильтона, подлинно существовавшем человеке.
В евангельской легенде Мильтона увлекла психологическая ситуация, лишен-
ная мистических мотивов, свойственных другим эпизодам легенды о Христе.
Речь идет не о «чудесах, творимых Христом», а о внутренней борьбе, которая
происходила в нем и привела его к победе не только над Сатаной, но и над са-
мим собой.
109
Наиболее полно и ярко проблема героя была разрешена Мильтоном
в «Самсоне-борце». Заслоненная мировым успехом поэм Мильтона, трагедия
«Самсон-борец» долго не привлекала особого внимания исследователей, хотя
уже в XVIII в. на нее отозвался своей ораторией «Самсон» Гендель. В старых
больших монографиях о Мильтоне трагедия рассматривалась гораздо поверх-
ностнее, чем поэмы. В XX в. мнение о трагедии изменилось. Английские и аме-
риканские литературоведы заметили, наконец, ее глубокую содержательность
и своеобразную форму 1. Но в ней настойчиво хотят видеть просто подражание
античным драматургам, забывают о тесной связи трагедии с английской
жизнью.
«Самсон-борец» создавался в годы, когда в английском обществе все опре-
деленнее намечалась перспектива нового общественного подъема. Еще далеко
было до тех событий, когда рухнула реставрированная монархия Стюартов. Но
с каждым годом нарастало недовольство ею, охватывавшее самые различные
группы, и прежде всего народные массы, на положении которых Реставрация
отозвалась весьма тяжко. Слепой поэт слышал знакомый шум приближаю-
щейся бури, грохот цепей Самсона, пробуждающегося ото сна.
На фоне драматургии Реставрации особенно резко и мощно обозначилась
огромная фигура Самсона, созданная Мильтоном. Самсон предстает как образ
подлинно героический, многозначительный и по своему содержанию, и по той
пластической форме, в которую он отлился.
В 60-х годах XVII в. когда писался «Самсон-борец», английская драматур-
гия заметно оживилась. Однако английский театр в годы Реставрации был
безмерно далек от великих традиций начала XVII в., от традиций Шекспира
и Бена Джонсона. Самая интересная и перспективная линия его развития —
комедия — находилась еще в зачатке, успехи Конгрива и Уичерли были еще
далеко впереди. На сцене царил Джон Драйден, талантливый поэт и драма-
тург, загубивший свое немалое дарование в погоне за успехом у новой знати,
любимцем которой он был в те годы.
Мильтон сознательно противопоставил свою трагедию общему направлению
развития английской драматургии в эти годы. Создавая «Самсона-борца», он
завершал планы многих лет, подводил итоги исканий и раздумий о театре, ко-
торые легко проследить во всем его творчестве — начиная от ранней латинской
элегии, в которой он говорит о лондонском театре 20-х годов, еще живущем
традициями елизаветинцев, и кончая высказываниями о театре, рассыпанными
в трактатах 40-х и 50-х годах. Потому-то так веско и содержательно звучало
предисловие Мильтона к «Самсону», озаглавленное «О том роде драматической
поэзии, который называется трагедией». В этом предисловии Мильтон осудил
драматургию Реставрации и выдвинул идею новой трагедии —«величавой, мо-
ральной и полезной», вырастающей из сочетания античной традиции и дости-
жений европейской драматургии XVI — XVII вв.
Мильтон выбрал из предания о Самсоне то, что представляло для него на-
ибольший драматический интерес. В его трагедии, построенной по всем прави-
лам Аристотелевой поэтики, показано предсмертное преображение Самсона,
его путь к последнему и самому великому подвигу — путь к смерти, ценой ко-
торой Самсон покупает победу над наглым и торжествующим врагом. В фи-
листимлянских «лордах» и «священниках» легко можно узнать образы англий-
ской знати, в слепом богатыре Самсоне подчеркиваются черты народной суро-
вости и простоты. Мильтон как бы забывает, что в библии Самсон — один из
«судей» Израиля, представитель племенной знати. Нет, Самсон в трагедии
Мильтона — прежде всего борец за освобождение от чужеземного ига, и он
1 См. ценную работу: Parker W. R. Milton's Debt to Greek Tragedy in «Samson-Agonistes».
Baltimore, 1937.
110
поднимается против филистимлян вопреки желанию трусливых «правителей»
своего народа, погрязших в рабстве.
Так складывается центральный образ «величавой трагедии», библейский
миф облагораживается и усложняется гуманистическим трагизмом Ренессанса,
переплавляется в горниле страстей революционной эпохи.
Можно утверждать, что в образе Самсона Мильтон разрешил, наконец,
проблему героя, занимавшую его издавна,— центральную проблему нового
искусства, поборником которого он был. В Самсоне воплощены живые челове-
ческие чувства, показана внутренняя борьба, ведущая к победе над искушени-
ями, которая дается Самсону нелегко. Но и последствием этой победы оказы-
вается уже не стоицизм, как было в «Потерянном рае», не готовность отка-
заться от себя во имя праведной веры, как в «Возвращенном рае», а способ-
ность к активному выступлению «во имя общего дела». Преодоление искушения
в «Самсоне-борце»— уже не пассивная аскетическая цель, а момент этического
созревания, необходимый для совершения подвига. Покорный богу, Адам
только мечтал о подвиге; Иисус, выйдя из пустыни, где он спорил с Сатаной,
был готов к нему, но остался евангельски и христиански пассивным; Самсон
совершает подвиг.
Чрезвычайно важно и то обстоятельство, что Самсон — не ангел, не бес, не
аллегория,— просто человек. Адам был тоже человек, но он был «царственный
прародитель», «король Эдема»; Самсон — сын своего народа, раб в рубище,
человек, потерявший все, кроме своего духовного мира,— и возродившийся
в подвиге.
В земной и человеческой трагедии художник восторжествовал над теологом,
хотя и не вытеснил его полностью. Эта победа привела к созданию самого
цельного произведения Мильтона. Самсон гибнет героем. Но он гибнет одиноко.
Его жалкие соплеменники только издали смотрят на его подвиг, узнают о его
высокой доле от вестника; они придут за его трупом.
Так из разочарований и раздумий поэта, пережившего и подъем, и катаст-
рофу буржуазной революции, родилась революционная трагедия. Буржуазная
революция не дала материала для создания героического эпоса, для создания
эпического героя. Но для трагедии личности, одиноко отстаивающей временно
потускневшие идеалы во имя их будущего торжества, материала оказалось до-
статочно.
В «Самсоне-борце» завершились и многолетние поиски стиля, которыми от-
мечено все творчество Мильтона.
Нетрудно заметить, что глубокая и изящная поэзия молодого Мильтона,
собранная в книге 1646 года ', была еще продолжением традиций английской
литературы позднего Ренессанса. Изучение прозы писателя и в связи с нею его
сонетов и псалмов 40-х и 50-х годов убеждает нас в том, что в эти годы в твор-
ческой лаборатории Мильтона развертывается сложный процесс развития, по-
исков своего стиля, ярче всего выраженный в «Потерянном рае».
«Потерянный рай» полон не только философских и моральных противоре-
чий. Он глубоко противоречив в своем стиле. В эпопее Мильтона явственно
проступает не только художественное представление о современности, об эпохе
ожесточенной общественной и идейной борьбы, но и стремление подчинить себе
гигантский материал, вбирающий в себя и мифологию, и библию, и современ-
ные Мильтону научные представления о человеке и природе.
«Потерянный рай» не только эпичен, но и драматичен: в нем действуют
и законы эпоса, и законы драмы, особенно ощутимые в книгах IX — X (история
грехопадения). Здесь драматический элемент явственно преобладает над эпи-
ческим, становится принципиально ведущим средством разрешения художест-
1 В сборнике Мильтона «Poems» (1646) были помещены его стихи 20—30-х годов.
111
венной задачи. Именно средствами драматической поэтики раскрывает Миль-
тон психологию своих героев в момент происходящего кризиса, смерть идилли-
ческого человека, рождение человека трагедийного. В драматической стороне
«Потерянного рая» особенно ясно проявляется классицистическая тенденция
Мильтона, находящаяся в противоречии с теми средствами, которыми обрисо-
ван и Сатана, и гигантские батальные сцены поэмы.
Стиль «Потерянного рая» тесно связан с так называемой эмблематической
поэзией XVII в., представленной до Мильтона поэтами Флетчерами, в эпоху
Мильтона — многими пуританскими стихотворцами и проповедниками. Эмбле-
матизм как особая система сравнений широко отражен в прозе Мильтона; его
влияние необыкновенно сильно чувствуется в «Потерянном рае».
Преодолевая в своем творчестве эмблематизм пуританина и хаотическую
многосложность схоласта (а она была у него), Мильтон двигался к определен-
ному стройному творческому порядку. Он есть в композиции поэмы: он просту-
пает в изображении Адама и Евы; не случайно, создавая эти образы, Мильтон
ни разу не обратился к языку отвлеченных сравнений, к эмблематизму. В при-
менении к этим образам можно говорить о простоте Мильтона-поэта, чего ни-
как не скажешь о нем как создателе образа Сатаны.
Примат разума, многократно возвышенного Мильтоном в «Потерянном
рае», распространяется в поэме и на понимание искусства. Об этом Мильтон
прямо говорит устами Адама, разъясняя Еве соотношение Воображения (Fan-
cy) и Разума (Reason). Воображение — одна из «способностей» человека,
служащая, однако, Разуму. Это оно составляет образы (Shapes), утверждае-
мые или отрицаемые Разумом. Иногда, в час отдыха Разума, Воображение
действует самостоятельно, воспроизводя образы природы, но соединяет их без
порядка и смысла. Только Разум — вождь человеческих способностей — может
вместе с Воображением создать правдивую, «отобранную» картину действи-
тельности, так как, по словам Мильтона, Разум — это Выбор. Так Разум в ко-
нечном счете господствует над фантазией в поэме Мильтона, замыкая гранди-
озные видения ее первых книг поучительной и трезвой картиной истории чело-
вечества. Порядок, к которому стремился Мильтон, был близок к порядку свое-
образного английского классицизма, возвещенного в начале века Беном
Джонсоном, но теперь он вырастал из пафоса революционной поры. Поэтому
нам представляется возможным говорить о том, что уже в «Потерянном рае»
Мильтон шел к революционному классицизму.
Классицистические тенденции сделались более отчетливыми в поэме «Воз-
вращенный рай». Из всей легенды о Христе Мильтон выбрал именно тот эпизод,
который был наиболее важен для его задачи — создания героического харак-
тера Христа. Классицистическая тенденция сказывается и в четком разграни-
чении свойств персонажей, которым отличается «Возвращенный рай» от первой
поэмы: Сатана — прежде всего искуситель, и никаких других черт, сближаю-
щих его с импозантным Сатаной из «Потерянного рая», мы в нем не обнару-
жим: Мессия — прежде всего искушаемый, осмотрительно и убежденно упор-
ствующий.
В связи с открытым выдвижением двух персонажей в качестве главных
действующих лиц второстепенные персонажи только намечены (Велиал, Мария,
Ученики). В поэме три плана, как и надлежит тому быть в «эпопее»; в ней уже
не пять планов, как в «Потерянном рае», где, кроме земли, ада и небес, есть еще
космос и будущее. Но и трехплановость «Возвращенного рая»— только номи-
нальная. Основное действие развертывается на земле, в определенное время
(четыре дня) и в очень определенную эпоху. Конкретно и выразительно описана
и Палестина, ее скудная природа. Вовсе нет лирических отступлений, которые
занимают много места в «Потерянном рае».
Но в «Возвращенном рае» это еще не сложившийся стиль. Пуританская
ограниченность еще сильно воздействует на поэтический мир Мильтона. Быть
112
может, в годы работы над «Возвращенным раем» отрицательно сказалось
и влияние квакерской среды, с которой сблизился Мильтон. Иисус Мильтона
слишком пассивен и статичен. Его победа над собой только декларирована, а не
показана. Вследствие этого не получило полного развития и то классицисти-
ческое драматическое начало, которое заметно в «Возвращенном рае».
Рождающийся в творчестве Мильтона английский революционный класси-
цизм полнее всего определился в «Самсоне-борце». В этом произведении мы
находим прежде всего характерные классицистические единства, понятые в том
духе, как трактовались они европейскими комментаторами Аристотеля: траге-
дия Мильтона развертывается в одном месте, в течение одного дня; в ней нет ни
одного отступления от основной линии сюжета, ни одной сцены, которая не
имела бы прямого и важного отношения к основному действию— к рождению
героя в человеке. И эти три единства укреплены единым принципом изображе-
ния человека, единством средств выражения.
На первый взгляд кажется, что античность и библия, служащие английской
современности 70-х годов XVII в., спорят в трагедии, сюжет которой восходит
к библейской Книге судей. Но побеждает античность, как и следует ожидать от
произведения, написанного в духе революционного классицизма: Далила —
филистимлянская «матрона»; место гибели Самсона названо «театром»; тра-
гедия говорит о «трофеях Дигона»; старец Маной — отец Самсона — говорит
о своем намерении соорудить на античный лад памятник сыну среди рощи, ук-
рашенный его «трофеями».
Решающим фактором оказалось в данном случае обращение Мильтона
к форме зрелой греческой трагедии, рожденной веком великих политических
бурь — V веком. Мильтон обратился к ней, движимый стремлением создать
политическую трагедию своей эпохи, тоже насыщенной бурными событиями,
тоже широко вводившей гражданское начало в свое искусство. Вместе с биб-
лейским эпосом на задний план был оттеснен и библейский колорит, уступив-
ший место образам и выражениям, напоминающим об антикизации английской
республики в обеих «Защитах» Мильтона. На основании всех этих данных
и представляется возможным утверждать, что «Самсон-борец»— эта лебединая
песнь Мильтона — яркий образец английского революционного классицизма.
Говоря о революционном классицизме «Самсона-борца», не следует видеть
в нем некоего «стиля в чистом виде», свободного от взаимосвязей с другими
литературными направлениями эпохи Мильтона, но что в трагедии преобладает
классицистическая поэтика, с этим спорить трудно. Разумеется, английский
революционный классицизм, как и вообще классицизм в английской литературе
(и до и после Мильтона), надо понимать как явление абсолютно своеобразное,
отличающееся от классицизма во французской литературе и в любой другой
литературе.
Так, например, своеобразие английского революционного классицизма, чьи
черты наметились в «Самсоне-борце», надо выяснять, сравнивая его не только
с классицизмом Драйдена, Гоббса и Давенанта, с классицизмом французских
писателей, но и с классицизмом голландским. Забытый в наши дни (и незас-
луженно, так как он представляет первостепенный исследовательский интерес),
голландский классицизм в европейской литературе XVII в. играл весьма важ-
ную роль, и его представители — особенно великий голландский поэт Йост ван
ден Вондел (1587—1679) —оказали заметное воздействие на развитие неко-
торых явлений в английской литературе (прежде всего пуританской).
Мильтон знал голландскую литературу своего времени и, в частности, ви-
димо, был обязан многим художественному творчеству де Гроота, более из-
вестного как юрист Гроциус. Не мог не знать Мильтон и произведений Вондела,
в том числе его трагедию «Самсон, или Священная месть» (1660). Но уже са-
мое поверхностное сравнение двух трагедий, появившихся в пределах одного
десятилетия, показывает и их различие: «Самсон» Вондела полностью чужд
113
того пафоса общественной борьбы, того могучего антифеодального подъема,
которым дышит трагедия Мильтона. Произведение Вондела повернуто к личной
драме Самсона; по-своему весьма примечательное, оно является как бы быто-
вой трагедией о Самсоне.
Конечно, и в английской литературе XVII в. классицистические явления,
в том числе и явления революционного классицизма, были выражением того
исторического маскарада, о котором говорит Маркс в «Восемнадцатом брюме-
ра Луи Бонапарта», упоминая об «идеалах», «художественных формах и ил-
люзиях», которые необходимы деятелям буржуазных революций для того,
«чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей
борьбы...»
В связи с тем что для английской революции был более характерен маска-
рад библейский, а не античный, английский классицизм охотно обращался и
к библии. Впрочем, как это видно из анализа «Самсона-борца», у английского
классицизма было очень много живых связей с античной традицией, как
у французского классицизма XVII в., преимущественно связанного с нею, были
и случаи обращения к библейской тематике (например, библейские трагедии
Расина).
К этому надо добавить то обстоятельство, что библейская классицисти-
ческая трагедия в английской антифеодальной литературе опиралась на ста-
рую, уже вековую традицию кальвинистской классицистической трагедии на
библейские сюжеты. Эта последняя была представлена в XVI — XVII вв. целым
рядом имен французских и менее известных английских авторов и в свое время
начата трагедиями Теодора де Беза, общепризнанного зачинателя художест-
венной литературы кальвинизма, глубоко антифеодальной по своему существу.
Мильтон, великий знаток литературы протестантизма, безусловно, хорошо знал
литературные труды де Беза. Конечно, черты революционного классицизма
в литературах XVI —XVII вв., связанные с ранними революционными движе-
ниями этой поры, существенно отличались от развитого и многообразного
искусства революционного классицизма, в полной мере развернувшегося в годы
французской буржуазной революции, а шире — в ряде европейских литератур
второй половины XVIII в.
Что касается судеб революционного классицизма в английской литературе,
то они были определены прежде всего событиями, последовавшими вскоре за
смертью Мильтона,— крахом монархии Стюартов и компромиссом 1688 г.
Классицистическая традиция английской литературы в ближайшие за тем де-
сятилетия пошла по линии весьма умеренной, определяемой общей позицией
английской буржуазии на рубеже XVII —XVIII вв., ее сговором с аристокра-
тической реакцией. Место Самсона занял респектабельный Катон Аддисона.
Но видимо, было бы ошибкой считать, что революционный классицизм
«Самсона-борца»— только эпизод, только неразвившееся полностью, хотя
и прекрасное, начало без продолжения. Изучение передовой английской лите-
ратуры XVIII в., в частности литературы, связанной с корреспондентскими
обществами, убеждает нас в том, что традиции революционного классицизма
жили и развивались в английской литературе этого столетия. Проблема анг-
лийского революционного классицизма еще ждет своего дальнейшего изучения.
Во всяком случае ясно, что у истоков этого плодотворного направления анг-
лийской литературы мы сталкиваемся с великим наследием Мильтона — рес-
публиканца-гуманиста XVII в.
1958
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 120.
114
ТВОРЧЕСТВО МИЛЬТОНА
В ОЦЕНКЕ В. Г. БЕЛИНСКОГО
Творчество Джона Мильтона, замечательного поэта, выдвинутого англий-
ской буржуазной революцией XVII в., было и остается одной из политически
острых проблем в изучении западных литератур. Объясняется это тем, что
вопрос о Мильтоне — это прежде всего вопрос о художнике и революции.
В 20-х годах нашего столетия проф. Грирсон ', обвинявший Мильтона
в близости к... большевизму, сокрушенно рассуждал на тему о загадках, тая-
щихся в замысле поэм Мильтона, и констатировал бессилие английских и аме-
риканских литературоведов перед этими «загадками», главной из которых для
Грирсона оставался вопрос о Сатане: кто же он для Мильтона —«герой» или
«архивраг»?
В высказываниях Белинского о Мильтоне есть ключ к этой мнимой «за-
гадке».
Редкие голоса, защищающие в Мильтоне поэта, замечательного как
общественным содержанием, так и художественным мастерством своих произ-
ведений, звучат неуверенно и робко в общем хоре реакционной западноевро-
пейской критики. Однако мы помним, что М. Горький назвал Мильтона одним
из тех великих писателей, которых окрылило творчество коллектива 2, которые
«черпали вдохновение из источника народной поэзии»3. М. Горький зорко
увидел в Мильтоне поэта, во многом ограниченного буржуазным кругозором, но
он же назвал его одним из лучших представителей мировой литературы.
Мильтон был участником английской буржуазной революции; это во многом
определило его мировоззрение и его творческий метод. Непосредственное
участие в революционных событиях 40—50-х годов XVII в. духовно закалило
Мильтона, дало ему огромный политический опыт, органически слившийся с его
энциклопедической образованностью, воспитало в нем поэта, по праву считаю-
щегося одним из великих представителей английской литературы.
В течение 250 лет идет борьба вокруг Мильтона. В конце XVII в. Мильтон
вызывал восхищение врагов абсолютизма и ненависть его защитников. В
XVIII в. английские просветители (особенно Аддисон) в своих журналах
прославляли Мильтона как великого поэта, а виги вроде Бэрона популяризи-
ровали его публицистику, предпосылая новым изданиям трактатов Мильтона
предисловия, полные намеков на современные политические события в Англии.
В ответ на это торийская критика во главе с С. Джонсоном ополчилась на поэ-
та английской буржуазной революции.
Вместе с тем уже в XVIII в. английские церковники, выдвигая на первый
план религиозные элементы творчества Мильтона, пытались превратить его
в один из столпов лицемерного британского ханжеского пуританизма в той
особо гнусной его форме, которая стала складываться после событий 1688 г.
В конце XVIII в. французская буржуазная революция обострила борьбу вокруг
оценки Мильтона. Для передовых людей Запада и в трактовке представителей
революционного романтизма (особенно Шелли), он был поэтом-гражданином
и тираноборцем. И как бы ни старались его фальсифицировать романтики-ре-
акционеры, чартистская пресса в 30—40-х годах XIX в. пользовалась для об-
личения буржуазной тирании словами Мильтона, направленными против тира-
нии абсолютизма.
Романтическая критика уделила Мильтону очень много внимания. Не раз
представители консервативного романтизма пытались фальсифицировать
творчество Мильтона.
1 См.: Grierson. Gross-Currents of English Literature. Oxf., 1929.
2 См.: Горький M. Литературно-критические статьи. M., 1937. С. 32.
3 Переписка А. М. Горького с проф. Анучиным//Горький М. Письма в Сибирь. Красноярск,
1948.
115
С. Т. Колридж в своих лекциях 1, читанных в 1817 г., убеждал аудиторию
в том, что Мильтон ушел в поэзию, разочаровавшись в революции. В произве-
дениях Мильтона Колридж видел религиозное покаяние грешника, некогда
оправдавшего мятеж и цареубийство.
В интерпретации Шатобриана 2 Мильтон будто бы осуждает в образе Са-
таны мятежные силы, ибо поэт познал бессмысленность мятежа, будучи сам его
участником. Вместе с тем весь очерк Шатобриана о Мильтоне построен как
иносказательное выступление против французской революции: Шатобриан
иезуитски заставляет поэта одной революции свидетельствовать против другой
революции, участники которой в действительности ценили в Мильтоне респуб-
ликанца и тираноборца.
Хэзлитт, один из представителей либерального романтизма, в своей лекции
о поэте (1817), снисходительно одобрил Мильтона. Но Хэзлитт сосредоточил
все внимание на эстетической стороне поэзии Мильтона и превратил его —
оратора, обличителя, мыслителя — в эстета-формалиста, поглощенного забо-
той о звуках и образах.
Дизраэли, не раз тревоживший память Мильтона в своих гладких, но бес-
содержательных этюдах 3, развязно настаивал на его либерализме, забыв
о том, что именно в трактатах Мильтона идея революционного насилия нашла
убежденное и яркое оправдание, наложив печать активности и исторического
оптимизма на все творчество Мильтона.
В противовес этим концепциям выступил революционный романтик П. Б.
Шелли 4, ценивший в Мильтоне поэта-гражданина. Для Шелли Мильтон был
«светочем в ночи Реставрации». В «Защите поэзии» (1821) Шелли указывал на
пример Мильтона, призывая не поддаваться тлетворному влиянию безвременья.
Но Шелли умер, не успев закончить свою драму об английской буржуазной
революции («Карл I»), отмеченную некоторым влиянием Мильтона. В 1825 г.
Т. Б. Маколей, в будущем один из самых типичных представителей британского
буржуазного лицемерия, напечатал в журнале «Эдинбургское обозрение»
статью «Мильтон» 5, где нашел формулу, широко использованную в дальней-
шем многими буржуазными мильтонистами: «Он не был пуританином, он не
был вольнодумцем; он не был роялистом. В его характере самые благородные
качества каждой из партий слились в гармоническое единство» 6.
Так была найдена «точка зрения», давшая буржуазным ученым возмож-
ность «обезвредить» Мильтона и перейти к спокойному «академическому» изу-
чению, которое превратилось в новый этап фальсификации великого англи-
чанина.
Русские литературные круги 20—30-х годов, хорошо знакомые с поэзией
Мильтона и в подлиннике и во французских или русских переводах, знали
о борьбе вокруг его наследия. Более того, борьба эта развертывалась и в рус-
ской критике — естественно, не столь активно, как в английской.
Карамзин представил Мильтона читателям «Вестника Европы» 7 как юного
джентльмена-меланхолика, влюбленного в сельскую тишь, но весьма не чуж-
дого светских удовольствий и абсолютно далекого от общественной жизни
Англии.
Гнедич выбрал для перевода 8 вступление к III книге поэмы «Потерянный
рай» (стихи 4—55), подчеркивающее личную трагедию Мильтона — слепоту.
1 См.: Coleridge S. Т. Seven Lectures on Shakespeare, Milton etc. 1856.
2 См.: Chateaubriand F. R. de. Essai sur la literature anglaise. Bruxelles et Leipzig, 1836.
3 См.: D'Israeli. Amenities of Literature. Paris, 1824; Curiosities of Literature. 1839.
4 Предисловие к поэме «Лаон и Цитна», 1818; к «Прометею раскованному», 1820.
5 См.: Macauley Т. В. Milton. Edinburgh Review, 1825.
6 Цит. по кн.: Macauley Т. В. Selected Essays. Ldn., 1886. P. 89.
7 Вестник Европы. M., 1802. IV. С. 312—313.
8 См.: Гнедич Н. Мильтон, сетующий на свою слепоту.
116
Слепой поэт, ассоциирующийся у Гнедича с Гомером, возвеличен и абстраги-
рован. В нем трудно узнать Мильтона, потерявшего зрение за работой над
трактатами, где защищалась честь английского народа и молодого республи-
канского строя.
Безыменные авторы, наспех стряпавшие предисловия к новым русским пе-
реводам Мильтона \ часто подсовывали русскому читателю клеветнические
материалы на поэта, опубликованные за рубежом.
Наконец, университетские профессора — авторы руководств и курсов 20-х
и 40-х годов — Мерзляков, Давыдов, Шевырев рассматривали творчество
Мильтона, согласно традиции, в разряде «эпопей», превознося моральные до-
стоинства его поэм и осторожно осуждая «странности» стиля.
Тем разительнее контрастируют со всем этим высказывания о Мильтоне
Пушкина, рассеянные в ряде его законченных и незавершенных критических
заметок2 и систематизированные в поздней статье «О Мильтоне и шатобриа-
новом переводе «Потерянного рая» 3. На основании сверки текста статьи
в «Современнике» с ее черновиками мы узнали, что Мильтон для Пушкина —
«пылкий суровый защитник 1648 г.»4 (т.е. революции), «защитник прав анг-
лийского народа» 5, «политический писатель, славный в Европе».
Кроме этой весьма сочувственной характеристики, статьи и заметки Пуш-
кина ценны и интересны не только заостренностью внимания к общественному
содержанию творчества Мильтона, но и чрезвычайно верным подходом к его
творческому методу, в котором Пушкин увидел противоречия, не отрицающие
друг друга, а находящиеся в некоем диалектическом единстве. Белинский, не-
сомненно, присматривался к отзывам Пушкина о Мильтоне. Великий русский
критик одобрительно упоминал в своих статьях о том, как Пушкин вступился за
Мильтона, высмеяв Гюго и Виньи за легкомысленную фальсификацию биогра-
фии и творчества Мильтона 6.
Пушкин был не одинок в своем отношении к Мильтону. За его высказыва-
ниями чувствуется целая традиция, восходящая к Радищеву, к декабристам
(Кюхельбекер) — русским ценителям мильтоновой гражданственности.
Мнения Пушкина о Мильтоне выгодно отличаются от того, что писалось
о нем эссеистами и критиками Западной Европы. Высказывания Белинского
о Мильтоне отразили новый этап в истории русской науки, ознаменованный
деятельностью революционера-демократа.
У Белинского нет специальных статей, посвященных творчеству Гете, Бай-
рона, Диккенса, но в его работах рассыпано так много замечаний о творчестве
этих писателей, что понятно желание собрать их и присмотреться к ним.
Высказывания о Мильтоне встречаются реже и кажутся менее значитель-
ными. Они нередко остаются в стороне от основных теоретических вопросов,
решаемых критиком.
Тем не менее эти высказывания представляют большой интерес. Они не
только свидетельствуют об исключительной широте историко-литературного
кругозора В. Г. Белинского. Они важны не только для литературоведа, зани-
мающегося английской литературой или западноевропейским литературным
процессом XVI — XVII вв., в котором очень заметное место принадлежит эпо-
пее. Важны эти высказывания потому, что они, даже в таком второстепенном
для Белинского вопросе, как творчество английского поэта XVII в., с большой
1 Например, анонимное предисловие к переводу 1827 г. («Потерянный рай», поэма Иоанна
Мильтона. М., 1827).
2 «О поэзии классической и романтической», «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен
И. А. Крылова», «О смелости выражений».
3 См.: Современник. 1837. Т. 5. С. 127, 139.
4 См.: Неизданный Пушкин. 1922. С. 195.
5 Там же. С. 199.
ь См.: Белинский В. Г. Собр. соч.: В. 3 т. М., 1948. Т. 1. С. 398—399; Т. 3. С. 639. Дальше ци-
таты в статье даны по этому изданию с указанием тома и страницы.
117
убедительностью говорят о передовой роли русской революционно-демократи-
ческой мысли в литературоведении XIX столетия. Достаточно представить себе
систему мнений Белинского о Мильтоне не обособленно, а в связи со всем дви-
жением критической и литературоведческой мысли в России и на Западе, как
будет ясно, что система эта далеко опережает построения и догматы многих
современников Белинского, занимавшихся Мильтоном усидчиво и специально.
Попутно это сопоставление разоблачает реакционные истолкования творчества
Мильтона, очень характерные для буржуазного литературоведения уже в те
годы. В тех случаях, когда Белинский вводит Мильтона в круг имен и явлений,
охватываемых той или иной его статьей, немедленно проявляется превосходство
метода, которым пользуется Белинский.
Еще в студенческие годы Белинского, когда накапливались его читательские
впечатления, связанные с русской поэзией XVIII в., Мильтон, постоянно инте-
ресовавший ее корифеев, должен был остановить на себе внимание будущего
критика.
«Петров занимается переводом «Потерянного рая» на русский, стихами —
и переводит — лихо!»,— писал Белинский П. П. и Ф. С. Ивановым в январе
1831 г. ' Подчеркнутое определение —«стихами»— представляется нам кос-
венным указанием на то, что В. Г. Белинскому к этому времени должны были
быть известны какие-то (или какой-то) из существующих русских переводов
в прозе. Устанавливаемое по письмам общение с Петровым, первым из русских
переводчиков, применившим белый стих для перевода поэмы Мильтона, могло
дать Белинскому немало в смысле более непосредственного ощущения худо-
жественных особенностей поэмы Мильтона.
Минуя случаи, когда Белинский просто называет Мильтона среди других
замечательных европейских писателей, мы остановимся на тех его высказыва-
ниях о поэте, которые в известной мере развернуты.
С первым из этих наиболее интересных упоминаний о Мильтоне мы встре-
чаемся в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» [«Телескоп»,
1835, №7—8]. Констатируя искусственность европейской эпопеи XVI — XVIII
столетий, Белинский, не отказывая в таланте ее авторам, указывал на ложность
методов, которыми они пытались создать эпос, подражая Вергилию. Подлин-
ным эпосом нового европейского общества Белинский считал роман, указывая
на его генетическую связь с эпопеей 2. Говоря о том, что авторы эпопей придают
«своим поэтическим созданиям колорит идеальный», Белинский тут же конста-
тирует неудачу этой попытки примирить новый исторический опыт человечества
с отжившей формой: «Упрямо, назло природе, держится он прошедшего и
в духе и в формах, и опытный муж, невозвратно утративший веру в чудесное,
освоившийся с опытом жизни, силится придать своим поэтическим созданиям
колорит идеальный. Но так как у него поэзия не в ладу с жизнью, чего никогда
не должно быть, то удивительно ли, что... его чудесное переходит в холодную
аллегорию...» [/, 105—106]. Среди произведений, которыми он иллюстрирует
эту мысль, Белинский называет поэму Мильтона: «...скажите, бога ради, что
такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Иерусалимы»? «Потерянные рай»,
«Мессиады»? Не суть ли это заблуждения талантов, более или менее могу-
щественных, попытки ума, более или менее успевшие привести в заблуждение
своих почитателей?» [/, 106].
«Чудесное переходит в холодную аллегорию»— эти слова замечательно
точно характеризуют слабость некоторых образов Мильтона; они буквально
применимы к образу бога в обеих поэмах, к образу Мессии в «Потерянном рае».
Слабость творческого метода английского поэта, сказавшуюся в этом «холод-
1 Письмо от 13 января 1831 г.//Письма. Т. 1. С. 27. П. Я. Петров — товарищ Белинского по
Московскому университету.
2 «...поэма превратилась в роман» [Т. 1, с. 107].
118
ном аллегоризме», Шатобриан объявил его достоинством. Революционер-де-
мократ Белинский не только подчеркнул эту слабость, но и дал ей историко-
литературное объяснение.
С этими мыслями Белинского о судьбах европейской эпопеи XVI — XVIII
вв. тесно связаны некоторые его высказывания в другой работе: «Разделение
поэзии на роды и виды» [«Отечественные записки», 1841, № 3]. Соответственно
опыту, накопленному за пять лет, разделяющих эти работы, Белинский развил
и уточнил свои соображения об эпопее, дав сжатый очерк развития эпических
жанров.
Это уточнение выразилось прежде всего в том, что Белинский с замечатель-
ным лаконизмом отмечает национально-исторические особенности эпопей, сво-
димых им в единое явление, но отличных друг от друга. Историческая конкрет-
ность Белинского в подходе к каждой эпопее видна и в решении вопроса
о «Потерянном рае». Белинский подчеркивает, что это поэма «кромвелевской
эпохи»; в своем анализе он опирается на политические условия ее возникно-
вения.
В этом очерке «Потерянный рай», вместе с «Освобожденным Иерусалимом»
Тассо, назван «лучшими попытками в эпопее у новейших народов» '. Белинский
называет поэму Мильтона «произведением великого таланта». Но, пишет он,
«форма этой поэмы неестественна, и при многих превосходных отдельных
местах, обличающих исполинскую фантазию, в ней множество уродливых
частностей, не соответствующих величию предмета». Белинский объясняет это
несоответствие тем, что «форма» поэм, о которых он говорит, «чужда содержа-
нию и духу времени». Так Белинский приходит к мысли об известном отстава-
нии формы от содержания; общий наглядный пример такого отставания он ви-
дит в целом в эпопее XVI — XVIII вв. (от Тассо до Вольтера), в качестве част-
ного приводит «Потерянный рай» Мильтона и повторяет вывод, уже сделанный
им в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «эпопея нашего времени
есть рома н».
В общем ходе мысли Белинского эпопея предпосылается роману, что, как
помним, даже закреплено его фразой: «поэма превратилась в роман»; эпопея
становится как бы этапом, предшествующим роману в литературном процессе.
Недаром Белинский так прозорливо отделяет от других эпопей «Неистового
Роланда»: «Хотя Orlando Furioso Ариоста и далеко не пользуется такою зна-
менистостию, как «Освобожденный Иерусалим», то он в тысячу раз больше
рыцарская эпопея, чем пресловутое творение Тасса» [2, 35] В этой поэме дей-
ствительно гораздо меньше черт того нового романа, который начал склады-
ваться в «Дон Кихоте» Сервантеса и особо развился, по концепции Белинского,
в XVIII в. «...Философские повести Вольтера и юмористические рассказы
Свифта и Стерна — вот истинный роман XVIII века» [3, 206].
Мысль Белинского о превращении поэмы в роман подтверждается, как из-
вестно, изучением эпопеи; в применении к «Потерянному раю» определение ро-
мана, данное Белинским, уже характеризует известные черты поэмы Мильто-
на — именно те, в которых это «превращение» сказывается особенно опреде-
ленно: «Роман может брать для своего содержания... историческое событие и
в его сфере развить какое-нибудь частное событие, как и в эпосе: различие за-
ключается в характере самих этих событий, а следовательно, и в характере
развития и изображения...» [2, 38].
В восстании Сатаны против бога развито «частное событие»— отношения
Адама и Евы, по характеру весьма отличные от эпической темы борьбы и как
раз во многом предвещающие будущий буржуазный роман.
1 Белинский В. Г. Т. 2. С. 34 («Разделение поэзии на роды и виды»).
119
До Белинского «Потерянный рай» Мильтона безоговорочно считали эпо-
пеей, а часто и образцовой. Аддисон и Вольтер, «швейцарцы» ', Клопшток,
Шатобриан при всем различии своих взглядов на Мильтона подтвердили пре-
стиж Мильтона как эпического поэта. Однако накапливались и критические
замечания относительно особенностей этой эпопеи: Мильтона упрекали то
в дурной композиции, то в странности образов, то в недостаточной обработке
стиля, и это сочетание упреков с комплиментами сделалось в применении
к Мильтону обязательным, было закреплено школьными поэтиками XVII — XIX
вв., в том числе и русскими.
Авторы английских критических работ о Мильтоне первой трети XIX в.—
Колридж, Хэзлитт, Дизраэли, Маколей — создали эмпирическую описательную
традицию разбора произведений Мильтона, игнорирующую вопросы анализа.
Но и они привыкли констатировать «странности» стиля Мильтона, уже не за-
думываясь над их причинами.
Белинский, рассматривая поэму XVI —XVIII вв., поставил попутно вопрос
о противоречиях в поэме Мильтона, и, как мы могли убедиться, разрешил этот
вопрос, указав на искусственность эпопеи — устарелой формы, в которую все
еще втискивается новое содержание. Конечно, это новое содержание во многом
преображало старую форму, что особенно видно в «Потерянном рае». Но и оно,
это новое содержание, искажалось и омертвлялось канонами старой формы.
Замечательная мысль Белинского находит себе обоснование и подтвержде-
ние в известном высказывании К. Маркса: «...возможен ли Ахиллес в эпоху
пороха и свинца? Или вообще «Илиада» наряду с печатным станком и тем бо-
лее с типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни
и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появле-
нием печатного станка?» 2
В статьях, о которых мы сказали выше, Белинский включил Мильтона —
эпического поэта — в общий историко-литературный процесс, чего не сделали
до него ни критики XVIII в., рассматривавшие Мильтона только в рамках по-
этики жанра (Аддисон, Вольтер, Бодмер), ни критики начала XIX в., рассмат-
ривавшие его изолированно как великую индивидуальность (Колридж, Ша-
тобриан, Хэзлитт, Маколей).
Но Белинский решил вопрос и о месте Мильтона в английской литературе.
Самые глубокие и плодотворные мысли критика о Мильтоне встречаются в од-
ной из его поздних и наиболее значительных работ — в статье «Взгляд на рус-
скую литературу 1847 года» [«Современник», 1848, т. 7.]. Только зрелостью кри-
тической мысли Белинского и огромным опытом участника ожесточенной лите-
ратурно-политической борьбы можно объяснить тот факт, что Белинский, спе-
циально не занимавшийся ни Мильтоном, ни его эпохой, нашел ключ к истол-
кованию особенностей образа Сатаны, над которым лишь иногда задумывались
немногие пытливые западные мильтонисты XIX в. Большинство и не пыталось
никак его истолковать, довольствуясь признанием в Мильтоне поэта-«сата-
ниста», подыскивая Сатане политические параллели (Колридж, Хэзлитт) или
сравнивая его с другими образами дьявола в литературе3. Из многочисленных
замечаний о загадочной роли Сатаны в поэме «Потерянный рай», где он одно-
временно и явный «враг», «тиран» и вместе с тем «герой», как на том настаивал
еще Драйден, наиболее примечательны соображения Шелли. Приведем их
полностью:
«Поэма Мильтона содержит в себе философское опровержение той самой
системы, для которой она, силою странного и естественного противопоставле-
1 Ше^й царские критики И. Бодмер (1698—1783) и И. Брейтингер (1701 —1776). Бодмеру при-
надлежит перевод «Потерянного рая» — на немецкий язык.
2 Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов) //Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 12. С. 737.
3 См. Массой Д. The Three Devils: Luter's, Milton's and Goethe's. Fraz. Magazin, 1844.
120
ния, явилась главною всенародной поддержкой. Ничто не может превзойти
энергию и величие в характере Сатаны, как он выражен в «Потерянном
рае» 1.
Однако даже рядом с этими очень глубокими соображениями Шелли, вни-
мательно изучавшего литературное наследие Мильтона, мысль, высказанная
Белинским, выглядит гораздо более точной: «Поэзия Мильтона явно произве-
дение его эпохи: сам того не подозревая, он в лице своего гордого и мрачного
сатаны написал апофеозу восстания против авторитета, хотя и думал сделать
совершенно другое» [3, 792].
В этой короткой фразе заложено принципиальное решение «загадки» Сата-
ны. Если бы Мильтон не был поэтом своей эпохи, т. е. эпохи буржуазной пури-
танской революции, то он не стал бы делать Сатану «апофеозой восстания
против авторитета».
Нам кажется возможным предположить, что слово «авторитет» в данном
случае — термин из словаря эзоповых выражений, к которым прибегал Белин-
ский, чтобы избежать цензурных придирок. Если бы Белинский здесь думал
о буквальном смысле библейской легенды, которой пользовался Мильтон, он
просто назвал бы бога противником Сатаны: восстание против авторитета —
выражение, звучащее тем более многозначительно, что ему предпослано ут-
верждение: «поэзия Мильтона явно произведение его эпохи».
Итак, сын революционной эпохи, сам участник «восстания против автори-
тета», Мильтон изобразил в своем Сатане «апофеозу восстания». Но Белинский
вместе с тем помнил о пуританских, религиозных чертах английской буржуаз-
ной революции.
Дважды, говоря о Мильтоне, Белинский напоминает читателю о том, что
Мильтон — поэт-пуританин; он связывает его с «пуританским движением»
в цитируемой статье, как связывал его с пуританизмом и в статье «Разделение
поэзии на роды и виды». Белинский прекрасно понимал отрицательное влияние
пуритански-религиозного начала на творчество Мильтона и осторожно,
иносказательно указал на это влияние: «Потерянный рай» есть произведение
великого таланта; но подобная поэма могла бы быть написана только евреем
библейских времен, а не пуританином кромвелевскои эпохи, когда в верование
вошел уже свободный мыслительный (и притом еще чисто рассудочный) эле-
мент» [2, 35]. В этом «но» и лежит причина того, что Мильтон «думал сделать
совершенно другое», а его Сатана, невзирая на это пуританское «другое», стал
«апофеозой восстания против авторитета».
Так Белинский раскрыл мнимую «загадку» Сатаны Мильтона, разобрав-
шись в противоречиях писателя — участника буржуазной революции, но рево-
люции пуританской. Пуританское начало омрачило творческий мир Мильтона,
говорит Белинский. Это видно в контексте всего цитируемого отрывка: «Шекс-
пир был поэтом старой веселой Англии, которая в продолжение немногих лет
вдруг сделалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движение имело
сильное влияние на его последние произведения, наложив на них отпечаток
мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он десятилетиями двумя позже, ге-
ний его остался бы тот же, но характер его произведений был бы другой. Поэзия
Мильтона явно произведение его эпохи: сам того не подозревая, он в лице своего
гордого и мрачного сатаны написал апофеозу восстания против авторитета, хотя
и думал сделать совершенно другое. Так сильно действует на поэзию истори-
ческое движение общества» [<?, 792].
Следовательно, не будь этого «исторического движения»—«пуританского
движения», как выше уточнил сам Белинский, и герой «восстания против авто-
ритета» не был бы гордым и мрачным сатаной.
1 Шелли П. Б. Поли. собр. соч./В пер. К. Д. Бальмонта. Спб., 1907. Т. 3. С. 401 («Защита по-
эзии»).
121
Культурно-историческая школа буржуазного литературоведения — Массон
и Патиссон, а за ними Дауден в Англии, Лотайссен и Штерн в Германии, пози-
тивист Тэн во Франции — связывали творчество Мильтона с пуританской ре-
волюцией то вульгарно и поверхностно, то эмпирически скрупулезно.
Тори Джонсон в XVIII в. упрекал Мильтона за эту связь с «мятежниками»,
Массон видел в нем великого поэта «великого мятежа», Тэн издевался над
прямыми отголосками политических событий в «Потерянном рае». На основа-
нии данных изучения Мильтона виги и либералы считали его своим, Маколей,
извращая историю, объявил его поэтом «над партиями». И никто не мог вос-
пользоваться этими данными для объяснения особенностей творчества Миль-
тона, как это сделал, пусть в общих чертах, Белинский, обладавший в данном
случае меньшим историко-литературным материалом, но применивший к нему
свой метод критика-материалиста, представителя революционной демократии.
Западноевропейская буржуазная критика была труслива в решении вопроса
о революционных особенностях творчества Мильтона; трусила и лгала она и
в вопросе о влиянии религии на его творчество, умиляясь, подобно Колриджу
и Шатобриану, пиетистским элементам поэмы Мильтона.
И в этом случае особое значение имеют соображения Шелли; его склонность
к диалектике и здесь подсказала ему гораздо более глубокое суждение о рели-
гиозности Мильтона: «Искаженные представления о невидимом, которым Дан-
те и его соперник Мильтон дали идеальное олицетворение, являются как бы
маской и мантией: великие поэты облеклись в них...» '
Но не говоря о прочих, и Шелли не мог так сформулировать отрицательное
влияние пуритански-религиозного начала на поэзию Мильтона и исторически
объяснить это влияние, как сформулировано и объяснено оно у Белинского.
Превосходство исследовательского метода Белинского было основано в данном
случае на тех элементах революционного, материалистического мировоззрения,
которые выражены в его подходе к Шекспиру и Мильтону как писателям, вы-
двинутым разными эпохами английской истории.
В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» их творчество было
примером, доказывающим положение, сформулированное Белинским: «...вполне
признавая, что искусство, прежде всего должно быть искусством, мы тем не
менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем
в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами
жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда
и нигде не бывало» [3, 791].
Приложив этот тезис к английской литературе XVI — XVII вв., Белинский
создал свою общую концепцию английской литературы: Шекспир — поэт
«старой и веселой Англии», в своих трагедиях, однако, уже предсказывающий
нарастающий в ней кризис, Мильтон —«пуританин кромвелевской эпохи»,
Свифт — создатель «истинного романа XVIII века»,— а за ними Байрон
и Диккенс.
Место, отводимое В. Г. Белинским Мильтону в истории английской литера-
туры, представляется нам вполне обоснованным. Что бы ни говорили англо-
американские буржуазные литературоведы 30—40 годов XX в., заслоняющие
Мильтона то «метафизиками» с Донном во главе, то писателями Реставрации
во главе с Драйденом, ни одно из этих явлений и никакой другой английский
писатель XVII в. не запечатлели в прозе и поэзии эпоху буржуазной революции
в Англии так, как запечатлел ее Мильтон.
Суждения Белинского о Мильтоне и эпопее были в корне противоположны
рутинным взглядам, развиваемым в университетских поэтиках 20—40 годов
XIX в. Их авторы, постоянно переносившие в русскую науку устарелые и
ложные западноевропейские теории, были бессильны дать научное объясне-
1 Шелли П. Б. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 401.
122
ние историко-литературных явлений. В противоположность несамостоятельной
и ограниченной мысли Белинский, обгоняя и опровергая своих противников,
стремился осмыслить историко-литературный процесс. Он закономерно объ-
единял в нем явления европейской литературы в целом, включая литературу
русскую, но помнил и о национально-исторических особенностях, формирующих
развитие отдельных литератур. В этом процессе критик отвел конкретное место
и Мильтону. #
* * *
Революционно-демократическая сущность оценки Мильтона в работах зре-
лого Белинского делается особенно заметной в сравнении с мыслями Пушкина
о Мильтоне, для своего времени весьма значительными и верными.
Пушкин, вопреки обычному мнению мильтонистов начала XIX в., установил,
что противоречия стиля «Потерянного рая» не были отклонением от нормы
классицистской эпопеи, а являлись выражением самой художественной сущ-
ности поэзии Мильтона, отнесенного им к числу смелых поэтов-новаторов.
Видел Пушкин и другую сторону деятельности Мильтона: как помним, он
считал его замечательным политическим писателем, выдвинутым историческими
событиями середины XVII в., прежде всего революцией 1648 г. Но то, что Пуш-
кин констатировал, Белинский мог объяснить, раскрыв с помощью анализа ис-
торической ситуации особенности противоречий Мильтона.
Пушкин назвал Мильтона «фанатиком». Если такой эпитет в применении
к Мильтону и неточен, то Пушкин все же был прав в том, что (хотя бы так,
сгущая краски) отметил в творчестве английского писателя ограничивающее
религиозное начало, определившее многие недостатки творчества Мильтона —
среди них и противоречия стиля.
Революционер-демократ Белинский не только выявил отрицательную роль
этого религиозного начала, но и дал ему отрицательную же оценку, совершенно
основательно указав на то, что в английской литературе XVII в. далеко не все
писатели, даже находившиеся во власти религиозных предрассудков, подчиня-
ли свое творчество религиозному началу в такой степени, как это было в «По-
терянном рае»— поэме, написанной в эпоху, «когда в верование вошел уже
свободный мыслительный (и притом еще чисто рассудочный) элемент». Тем
самым Белинский подчеркнул ограниченность Мильтона. Эти замечания Бе-
линского давали историческую перспективу развития английской литературы
XVII в., отмечали в ней наличие борющихся сил.
Так в оценке творчества Мильтона, поэта, казалось бы, весьма далекого от
русской литературно-политической борьбы середины XIX в., проявились пере-
довые методологические принципы, свойственные революционеру-демократу
Белинскому.
Для изучения западноевропейской литературы XVII в., в особенности тех ее
явлений, которые связаны с революционными движениями этого столетия,
проблема Мильтона представляет серьезный интерес. Белинский указал нам
пути ее решения, закрепив в данном случае безусловный научный приоритет за
русским революционно-демократическим литературоведением.
1949
ШИЛЛЕР В ОЦЕНКЕ ПЕРЕДОВОЙ РУССКОЙ КРИТИКИ
Борьба за исторически верное и подлинно научное истолкование творчества
великого немецкого писателя шла не только в Германии, но и в России, где
Шиллер — поэт и драматург, Шиллер — автор трудов по вопросам эстетики —
был давно и хорошо известен. Мы можем по справедливости гордиться резуль-
123
татами, достигнутыми советской наукой. Стараниями ее представителей, авто-
ров исследований о Шиллере, установлен прогрессивный, демократический ха-
рактер его творчества; разбиты попытки превратить великого писателя-гума-
ниста в болезненного мечтателя, якобы капитулировавшего перед немецкой
действительностью XVIII в.; намечены плодотворные возможности решения
сложной проблемы противоречий Шиллера, наличие которых советские иссле-
дователи никогда не замалчивали, но в которых они видели отражение проти-
воречий этой действительности.
В своем изучении Шиллера советское литературоведение действовало
в тесном контакте с советским театром: ни на один год не прерывалась жизнь
героев пьес Шиллера на сцене советского театра. Он был и остается одним из
любимых театральных авторов советского зрителя. Углубляя старую класси-
ческую трактовку шиллеровских ролей, завещанную русской сценой XIX в., со-
ветский театр дал новое истолкование основных образов шиллеровской драма-
тургии, ярко и убедительно показал тираноборческий, демократический харак-
тер «Разбойников», «Коварства и любви», «Вильгельма Телля», раскрыл дра-
матизм эпохи, изображенной в «Дон Карлосе» и «Марии Стюарт».
Советское литературоведение изучает творчество Шиллера в тесной связи со
всем немецким литературным процессом XVIII в. и, в частности, с творчеством
Гете. Видя существенные различия, имевшиеся в ряде важнейших полити-
ческих, философских и эстетических вопросов между Гете и Шиллером и не за-
малчивая их, советские литературоведы всегда подчеркивали и те неразрывные
связи, которые объединяли Гете и Шиллера в борьбе за развитие передовой
немецкой литературы.
Изучая Шиллера, советские исследователи основываются на общих прин-
ципах марксистско-ленинского литературоведения, на работах Маркса и Эн-
гельса, в которых специально рассматриваются вопросы истории Германии
и немецкой культуры. Вместе с тем советские ученые широко используют в сво-
их работах о Шиллере наиболее ценные достижения передовой русской науки
XIX в.
Изучение и освоение творчества Шиллера в русской литературе, в русской
критике началось еще на рубеже XVIII —XIX вв.
Много сделал для ознакомления русского читателя с Шиллером В. А. Жу-
ковский. Его переводы стихов и драм Шиллера — среди них «Орлеанской де-
вы»— являются и значительным событием в истории русской литературы,
и выдающимся достижением в истории русского художественного перевода.
О том, что переводы Жуковского из Шиллера открывали доступ к творчест-
ву великого немецкого поэта, увлекали русского читателя, показывали худо-
жественные достоинства оригинала в самом привлекательном виде, свидетель-
ствуют такие взыскательные судьи переводческого искусства, как Белинский
и Чернышевский.
Огромна была работа, проделанная Жуковским — переводчиком Шиллера.
Надо было использовать богатство русского языка, русского стиха, русской
ритмомелодики для того, чтобы воспроизвести в полной мере и шиллеровский
пафос, и шиллеровское богатство зрительных образов, и шиллеровскую гиб-
кость стиха.
Разумеется, для этой многолетней работы, в которой отразилось и развитие
самого Жуковского-поэта, понадобилось глубокое проникновение в творческий
мир Шиллера. Жуковский изучал творчество Шиллера пристально и всесто-
ронне, стремясь понять особенности мировоззрения поэта и передать это пони-
мание в своих переводах. Поэтому следует поставить вопрос не только о Жу-
ковском — переводчике Шиллера, но и о Жуковском — критике Шиллера, да-
вавшем подчас глубоко своеобразную интерпретацию его произведений, объ-
яснявшуюся особенностями мировоззрения самого Жуковского. Точный в том,
что касалось технических сторон стихотворного перевода и по преимуществу
124
точный в передаче духа подлинника, Жуковский разрешал себе нередко харак-
терные отступления от оригинала — не резкие, но придававшие переводу не-
сколько иной колорит по сравнению с подлинником. На это уже указывали не-
которые исследователи Жуковского, изучавшие и его работу переводчика.
В нашей литературе о Жуковском отмечена, например, особенно вольная ин-
терпретация «Леноры» Бюргера.
Нечто подобное можно встретить и в интерпретации Шиллера. Жуковский
«смягчает» колорит некоторых его стихотворений, устраняет важные реа-
листические детали, которые кажутся ему грубыми и слишком материальными,
усиливает — где это возможно — спиритуалистические тенденции поэзии
Шиллера. Так было даже в классическом по совершенству переводе баллады
Шиллера «Торжество победителей» (на это уже указывалось в некоторых ра-
ботах о Жуковском); так было и в переводе «Орлеанской девы». Например,
шиллеровские стихи:
Doch auf Erden ist mein Hoffen,
und im Himmel ist es nicht!
переведены у Жуковского:
Но души моей желание
не живет на небесах!
Как будто ничего не изменено: внесен незначительный на первый взгляд нюанс.
Однако если у Шиллера земная сущность Иоанны резко подчеркнута словами
«auf Erden», то нюанс, введенный Жуковским, создает известную поэтическую
недоговоренность, возможность различных толкований, снимает точность шил-
леровского текста, важную для понимания характера Иоанны. В той же песне
Иоанны строки
Mich der Schuld dahinzugehen
Ach! Es war nicht meine Wahl!
переведены у Жуковского:
Но... лишь гибель мне послала ты...
Я ль сама то избрала?
Сравнительно незначительный нюанс снова многое изменяет в поэтике Шилле-
ра, привносит в нее тот колорит, который был в целом чужд ей, хотя временами
и встречался в ней.
Попутно следует отметить, что весь перевод песни Иоанны, безусловно за-
мечательный по своим художественным достоинствам, сделан у Жуковского
в ином метрическом ключе, чем у Шиллера: Жуковский ввел дактилическую
рифму, которой нет в подлиннике, и придал всему стихотворению меланхоли-
ческую, медитативную интонацию. Подлинник, написанный четырехстопным
хореем, звучит более нервно, трагично, стремительно.
При всем том переводы Жуковского ввели поэзию и драматургию Шиллера
в широкий обиход русских читателей.
Широкое и прочное признание Шиллер получил в России уже в
10—20-х годах XIX в. 1 Тогда же наметились и две различные точки зрения на
него в русской критике.
Если реакционно настроенные литераторы видели в Шиллере прежде всего
поэта-идеалиста, использовали глубокую противоречивость многих его произ-
ведений для того, чтобы представить его творчество как уход от действитель-
ности в мир отвлеченных эстетических идеалов, то прогрессивная русская ли-
тература уже тогда, в 10—20-х годах XIX в., чутко улавливала значение гума-
низма Шиллера, ценила тираноборческую тенденцию его лучших произведений,
отзывалась на благородный общественный пафос его творений.
1 Первые переводы произведений Шиллера появляются в конце XVIII в.—«Разбойники», на-
пример, в 1793 г.
125
Писатели-декабристы высоко ценили Шиллера-тираноборца. В статье
«Взгляд на русскую словесность» Бестужев-Марлинский, горячо любивший
Шиллера, отнес его к числу «иноземных классиков» и особо отметил, как важ-
ный факт, перевод «Орлеанской девы», сделанный Жуковским. Шиллером-ти-
раноборцем остро интересовался Кюхельбекер.
Хотя в высказываниях Пушкина о зарубежной литературе Шиллеру уделя-
ется значительно меньше внимания, чем Гете, однако несколько замечаний
свидетельствует о постоянном внимании Пушкина к Шиллеру. Великий немец-
кий поэт был для Пушкина не мечтателем, далеким от жизни, а художником,
создававшим произведения со значительным общественным содержанием.
Как влияли лучшие гуманистические идеи Шиллера на его русских читате-
лей, показывают «Былое и думы» Герцена. Замечательный русский писатель
и политический борец с глубокой признательностью вспоминает о поэзии Шил-
лера: она была близка романтическому бунтарству молодого Герцена и его
друга Огарева.
Примечательны упоминания о Шиллере, имеющиеся в литературно-крити-
ческих статьях Гоголя. В статье «Петербургские записки 1836 года» Гоголь
среди крупнейших драматургов прошлого упоминает после «строгого, осмот-
рительного Лессинга» «благородного пламенного Шиллера», который, по его
словам, «в таком поэтическом свете» показал «достоинство человека». Великий
русский сатирик-реалист проник в самую сущность патетического гуманизма
Шиллера; об этом свидетельствует и более позднее высказывание Гоголя. Упо-
миная Шиллера, Гоголь говорит о том, что немецкий поэт грезил «о лучших
и совершеннейших идеалах», создал себе «из них мир»— и жил в этом «поэти-
ческом мире». Конечно, это только одна сторона богатой творческой натуры
Шиллера: но русский писатель верно подметил и порыв Шиллера к лучшему
будущему, и противопоставленность эстетической мечты Шиллера грубой и
жалкой, «ничтожной» немецкой действительности конца XVIII в.
Белинский, еще в юные годы высоко ценивший драматургию Шиллера, соз-
дал, опираясь на своих предшественников в области литературной критики —
декабристов и Пушкина, глубокую и широко разработанную систему взглядов
на творчество Шиллера.
Интерес к Шиллеру проходит через всю деятельность Белинского. Шиллер
был одним из тех зарубежных писателей, которых он особенно хорошо знал
и любил. Белинский восторженно упоминает о нем уже в «Литературных меч-
таниях»— первом своем выступлении — и часто возвращается к нему в
40-х годах, в пору своей зрелости. Вместе с тем во взглядах Белинского на
Шиллера отразилось и общее развитие великого русского критика. Они дела-
лись все более историчными и глубокими по мере формирования передовых
эстетических воззрений Белинского.
Белинский видел в Шиллере и Гете «двух великих гениев». Их гениальность
заключалась для русского критика не только в художественном таланте, но и
в высоких гуманистических идеях, проповедниками которых они выступали.
Гуманистическое содержание творчества Шиллера Белинский отмечал неод-
нократно и в самых восторженных выражениях: произведения Шиллера он на-
зывал «трепещущими пафосом любви ко всему человечному» '. Со временем
этот пафос любви «ко всему человечному» предстал перед Белинским в более
конкретном историческом аспекте: он увидел в Шиллере великого националь-
ного поэта Германии и вместе с тем не просто провозвестника любви к челове-
честву, но «трибуна человечества», «страстного поклонника всего высокого
и нравственно прекрасного»[Зу 384], борца за это «прекрасное».
1 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1948. Т. 2. С. 299. Далее в статье ссылки на это издание
с указанием тома и страницы.
126
В 40-х годах Белинский рассматривает творчество Шиллера как порождение
общественных условий, сложившихся в Германии в XVIII в.
Опираясь на свое представление о том, что творчество писателя тесно свя-
зано с общественной жизнью его эпохи, Белинский наметил постановку вопроса
о внутренней противоречивости Шиллера. Противоречивость эстетики Шилле-
ра, борьбу реалистических и отвлеченных, схематизирующих тенденций
в творчестве писателя критик отмечал уже в первых своих высказываниях
о Шиллере. Но в 40-х годах противоречия Шиллера ставятся им в прямую связь
с условиями немецкой действительности: говоря о них, Белинский указывает,
что эти противоречия «прямо вышли из социального положения немцев» [3,
56].
Высказывая общие замечания о Шиллере и об отдельных эстетических
проблемах его творчества, Белинский специально останавливался на анализе
некоторых произведений поэта. Известна его статья-рецензия на русский пере-
вод «Мессинской невесты» Шиллера, в которой затронуты многие важные воп-
росы художественного мастерства великого немецкого поэта. В статье «Стихо-
творения Е. Баратынского» Белинский высказывал ряд мыслей о драматургии
Шиллера, особенно о «Разбойниках»; в статье, посвященной комедии «Горе от
ума», великий критик прозорливо заметил, что подлинным героем драмы
«Орлеанская дева» является народ; Белинский отмечал «эксцентрическую силу
пламенного, бурного одушевления» в «Гимне радости» Шиллера [2, 47]; во
второй статье о сочинениях А. С. Пушкина критик дал развернутую характе-
ристику «Торжества победителей».
В ряде высказываний о Шиллере Белинский связывал великого немецкого
поэта не только с историей немецкой литературы, но и с будущим немецкого
народа. С особой отчетливостью эта мысль нашла себе выражение в известном
месте статьи «Сочинения Державина»: «Вообще, Байрон так же есть намек на
будущее Англии, как Шиллер — намек на будущее Германии: оба эти поэта
были резкими противоречиями национальному духу своих стран, и в то же вре-
мя каждый из них мог явиться только в своей стране» [2, 514—515]. Следует
согласиться с мнением советского литературоведа Н. Н. Вильяма-Вильмонта,
считающего, что под этим «будущим» критик, применительно к Германии, под-
разумевал «прямое восстание против полуфеодальных немецких порядков».
В высказываниях Белинского о Шиллере был затронут и творческий метод
немецкого писателя. Указывая на то, что в произведениях Шиллера действи-
тельность нередко находит себе яркое и правдивое отражение, подчеркивая
жизненность многих тем Шиллера, русский критик в то же время выдвигал не
раз мысль о том, что в творчестве Шиллера немало черт романтизма.
Вопрос о романтизме Шиллера Белинский решал очень плодотворно. Он
указывал на борьбу реакционных тенденций в мировоззрении и эстетике Шил-
лера — Белинский называл их «романтизмом в смысле средних веков»— с тен-
денциями романтизма прогрессивного, наличие которых позволяло Белинскому
сравнивать Шиллера с Байроном. Не подлежит сомнению, что слабые стороны
творчества Шиллера Белинский рассматривал как нечто второстепенное по
сравнению с сильными сторонами, нашедшими яркое воплощение в «Вильгель-
ме Телле»— произведении, высоко ценимом Белинским.
В одном из писем мы находим замечательное по своей выразительности вы-
сказывание о Шиллере, как бы суммирующее взгляды зрелого Белинского на
общественное значение творчества немецкого поэта. «Да здравствует великий
Шиллер,— восклицает Белинский,— благородный адвокат человечества, яркая
звезда спасения, эмансипатор общества от кровавых предрассудков предания!»
В такой образной форме дана оценка Шиллера именно как великого пере-
дового поэта, борющегося против феодальной реакции. К этой оценке Белин-
ского близок Герцен. В своей статье «Дилетантизм в науке» (1843) Герцен не
раз упоминает Шиллера, говоря о нем как о писателе, имеющем большое
127
общественное значение. Герцен цитирует стихотворение Шиллера «Начало но-
вого века» как пример глубокой поэзии, полной «предчувствий и вопросов».
В своих последующих работах Герцен высказал много важных наблюдений над
творчеством Шиллера, над природой его творческого метода.
Новый этап изучения Шиллера в России начался в 50-х годах прошлого ве-
ка, в связи с деятельностью Чернышевского. Его первая большая работа
о жизни и деятельности Лессинга свидетельствует о глубине специальных зна-
ний в области истории немецкой литературы, которыми обладал Чернышевский.
Уже в этой работе он рассматривал Шиллера как одного из продолжателей
дела Лессинга, отмечая вместе с тем и те противоречия Шиллера, которые от-
личали его от Лессинга — последовательного просветителя.
Чернышевский не разделял эстетической теории Шиллера. Нередко он пря-
мо полемизировал с ее положениями. Но, несмотря на это, он видел в Шиллере-
художнике крупнейшего деятеля немецкой литературы. Чернышевский посвя-
тил специальную статью выходу в свет первого тома русских переводов стихо-
творений Шиллера, изданного в 1856 г. Н. В. Гербелем.
Это издание, начатое в 1856 г., состояло из девяти томов и было закончено
в 1861 г. Оно явилось первой попыткой дать русскому читателю систематизи-
рованное и относительно полное собрание сочинений Шиллера. Чернышевский
приветствовал появление первого тома как важное начинание: «Произведения
Шиллера были переводимы у нас,— писал Чернышевский,— и этого довольно,
чтобы мы считали Шиллера своим поэтом, участником в умственном развитии
нашем» '. «Чувство справедливой благодарности», говорит Чернышевский, ха-
рактеризует отношение русского читателя к Шиллеру.
С большим чувством пишет Чернышевский о значении Шиллера в мировой
литературе. «Его поэзия никогда не умрет», утверждает великий русский рево-
люционер-демократ. «Пафос этой поэзии,— продолжает он,— пламенное со-
чувствие всему, чем благодарен и силен человек». Подобно Белинскому, Чер-
нышевский был уверен в большом будущем, которое ждет произведения Шил-
лера: «Пора такой поэзии не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет
стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действитель-
ность» 2.
Говоря о противоречиях Шиллера, Чернышевский точнее, чем Белинский,
определяет их характер. «По его мнению,— пишет русский критик, подразуме-
вая Шиллера,— необходимо нравственное возрождение человека для того,
чтобы изменить к лучшему существующие отношения». В устах вождя револю-
ционной демократии это, конечно, полемическая характеристика. Но даже
критикуя немецкого поэта, Чернышевский тут же указывает на историческую
обусловленность его заблуждений.
Огромное мастерство Чернышевского — критика и историка литературы —
полностью выразилось в этой небольшой, но очень содержательной статье.
Немногие слова, сказанные в ней о Шиллере, дают вместе с тем весьма полное
для 50-х годов прошлого века решение вопроса о непреходящей ценности твор-
чества Шиллера и об его внутренних противоречиях.
Собрание сочинений Шиллера, первый том которого получил оценку Чер-
нышевского, продолжало выходить. Рецензии на следующие его выпуски писал
уже не Чернышевский, а его друг и ученик Н. А. Добролюбов, блестящий зна-
ток Шиллера, сам поэт-переводчик, тонко разбиравшийся в искусстве худо-
жественного перевода.
Небольшие статьи Добролюбова о переводах Шиллера составляют особую
главу в истории русского шиллероведения. Они появились под одним и тем же
названием —«Шиллер в переводе русских поэтов», с указанием тома, которому
1 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 4. С. 505.
2 Там же. С. 507.
128
посвящена данная рецензия,— в 1857, 1858, 1859 гг. Добролюбов уделяет осо-
бое внимание качеству переводов: по его мнению, прекрасная поэзия Шиллера
должна быть воспроизведена на русском языке с максимальным приближением
к содержанию и форме подлинника. Добролюбов требовал от переводчиков
точности в передаче национальной формы и решительно восставал против ру-
сификации подлинника, против перенесения в подлинник черт, присущих рус-
ской поэзии. Критикуя за неточный перевод стихов Шиллера поэтов В. Бене-
диктова и К. Аксакова, Добролюбов демонстрирует недостатки их перевода как
раз на таком тексте, который в подлиннике звучит как прямой тираноборческий
призыв, а в переводе ослаблен и обезличен. Так, обходя препоны царской цен-
зуры, Добролюбов раскрывал русскому демократическому читателю подлинное
общественное значение поэзии Шиллера.
Среди рецензий Добролюбова особый интерес представляет его отзыв на
перевод драмы «Заговор Фиеско в Генуе». По существу Добролюбов пишет
здесь не столько о качестве перевода — это только предлог — сколько о самом
произведении, в котором критику дороги свободолюбивые порывы молодого
Шиллера, его ненависть к феодальному немецкому режиму, его мечты о рес-
публиканском строе. С особым сочувствием говорит Добролюбов о республи-
канце Веррине, который представляется ему подлинным героем трагедии Шил-
лера. «Прямота и неуклонная безбоязненность республиканца выражаются
в каждом слове»,— заявляет Добролюбов.— Он состарился в республиканских
убеждениях, они вошли в плоть и кровь его» '.
Мужественный и неподкупный республиканец Веррина — обаятельная фи-
гура. Добролюбов указывает на его моральную красоту, на его благородство
и самоотверженность. Неукротимая духовная сила Веррины, его непреклон-
ность и решимость — следствие его служения делу свободы, делу борьбы про-
тив несправедливого социального строя.
Никто до Добролюбова в русской критике не раскрыл с такой глубиной
сильные стороны этой драмы Шиллера. Пропаганда республиканских идеалов,
прославление героя-республиканца, содержащиеся в этой рецензии, делают
небольшую работу Добролюбова важным явлением не только в русской лите-
ратуре о Шиллере, но и в русской передовой критике вообще. Статья интересна
общей постановкой вопроса о положительном герое-республиканце, герое-ре-
волюционере.
Традиции Белинского, Чернышевского и Добролюбова не угасли и в после-
дующие десятилетия, несмотря на все старания реакции. Они сохранялись
в подходе передовой русской критики 1860—1870 гг. к Шиллеру. Салтыков-
Щедрин, с горячим сочувствием упоминая «Разбойников» Шиллера среди ряда
лучших произведений мировой литературы, называет их произведением
«в высшей степени тенденциозным», имея в виду острую антифеодальную на-
правленность этой драмы 2.
Та оценка Шиллера, которая дана в работах Чернышевского, Добролюбова
и в высказываниях Салтыкова-Щедрина, противостоит иным взглядам на
Шиллера, развивавшимся некоторыми русскими критиками в 60—70-х годах,
в частности взглядам Достоевского.
Достоевский упоминает о Шиллере в своих статьях на литературные
и общественные темы; задевает он шиллеровские мотивы и в своих художест-
венных произведениях. Не раз Достоевский говорит о Шиллере с присущим ему
нервным пылом, словно защищая немецкого поэта от чьих-то нападок; настаи-
вая на том, что Шиллера в России понимают и знают лучше, чем в Западной
Европе, Достоевский в 1876 г. писал: «У нас он, вместе с Жуковским, в душу
1 Добролюбов И. Л. Собр. соч.: В 9 т. М.: Л., 1962. Т. 5. С. 528, 530.
2 Это замечание Салтыкова-Щедрина особенно интересно в связи с оценкой, данной Ф. Эн-
гельсом драме Шиллера «Коварство и любовь» в письме М. Каутской 26 ноября 1885 г.: «первая
немецкая политически тенденциозная драма» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 333).
5 Р. М. Самарин
129
русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего раз-
вития обозначил» '. Однако присущая Достоевскому глубокая противоречи-
вость обнаруживается и тут: в том же «Дневнике писателя», только за 1877 г.,
мы находим ядовитое суждение о «русских джентльменах»— либералах, среди
которых есть люди почти невинные, почти Шиллеры» 2. Тогда же, в 1877 г., До-
стоевский с глубоким осуждением упоминает о том, что Шиллер приветствовал
французскую революцию.
То иронизируя над шиллеровским идеализмом, то превознося его, Достоев-
ский обнаружил непонимание тех сложных противоречий Шиллера, той рево-
люционной силы, жившей в его творчестве, о которых писали русские револю-
ционные демократы.
Если в официальной науке второй половины XIX в. укреплялось «академи-
ческое» представление о Шиллере как о поэте-идеалисте, бунтовавшем в своей
юности, но затем пришедшем к примирению с немецкой действительностью, то
в научной среде находились и передовые деятели, вроде безвременно погибшего
молодого А. Шахова, который в своих лекциях «Гете и его время» (1873—
1874) подчеркнул тираноборческие тенденции Шиллера, отметил политическое
значение его поэзии.
Глубокую оценку творчества Шиллера в его отношении к литературе «Бури
и натиска» дал М. Н. Розанов в обстоятельной монографии «Якоб Ленц» (М.,
1901). Анализ юбилейной шиллеровской литературы 1905 г. в связи со столе-
тием со дня смерти писателя свидетельствует об углубляющемся интересе
к изучению Шиллера в России: революционные события 1905 г. отразились во
многих статьях о Шиллере либо прямыми намеками на созвучность тиранобор-
ческих мотивов Шиллера революционным настроениям того времени, либо за-
мечаниями о воспитывающей, политической роли литературы в странах, борю-
щихся против абсолютизма.
Неустанная работа над переводами Шиллера, над изучением его наследия,
которая велась в России в конце XIX в., получила отражение в новом, четы-
рехтомном собрании его сочинений под редакцией С. А. Венгерова, снабженном
научным аппаратом и рядом статей, характеризовавших степень развития
шиллероведения в русской науке начала XX в. Однако в целом на этом издании
Шиллера все же лежал отпечаток академизма; против той объективистской
трактовки, которая преобладала в статьях данного издания, уже в начале XX в.
выступала русская марксистская критика 3.
Горький в высказываниях о литературе не раз уделял особое внимание всей
эпохе Гете и Шиллера в Германии. Основоположник социалистического реа-
лизма указывал на народные истоки творчества великих немецких писателей
XVIII в., на гуманистический характер их творчества, служившего в XX в. делу
борьбы рабочего класса.
После 1917 г. пьесы Шиллера стали у нас еще более популярны, чем в ста-
рой России. Ряд драматургических произведений Шиллера не сходит с совет-
ской сцены в годы гражданской войны. В своем романе «Хмурое утро» А. Н.
Толстой рассказывает, как в одном из полков Красной Армии в 1919 г., в пору
ожесточенной борьбы против белых, драматический кружок ставит, ко всеоб-
щему удовольствию, «Разбойников» Шиллера. «Правдивая вещица», говорит
об этой постановке красноармеец Латугин, а красный командир Сапожков по
требованию аудитории выступает с лекцией «о немецкой литературе времен
«Бури и натиска», где сравнивает «бурных гениев»— Шиллера, Гете, Клинге-
ра — с молодыми орлятами, разбуженными приближающимися зарницами ве-
ликой французской революции».
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 12 т. Спб., 1894—1895. Т. 10. С. 205.
2 Там же. Т. 11. С. 335.
3 Г. В. Плеханов в статье «Литературные взгляды В. Г. Белинского» (1897).
130
В романе К. Федина «Необыкновенное лето» рассказано о другом шилле-
ровском спектакле, поставленном в дни гражданской войны, о «Коварстве
и любви». В самый разгар спектакля, когда публика — рабочие, красноармей-
цы, трудовая интеллигенция — захвачена игрой актеров, приходит весть
о разгроме белых войск на Южном фронте. Несомненно, советский писатель не
случайно сделал немецкого драматурга своеобразным свидетелем торжества
революционного народа.
И Толстой, и Федин, вводя изображение шиллеровских спектаклей в свои
романы, отражали факты советской действительности: советский зритель любил
и любит Шиллера, понимает его пафос, его искренность, его благородные по-
рывы, его ненависть к угнетателям.
В курсе лекций «История западноевропейской литературы в ее важнейших
моментах», читанном в первые годы Советской власти, А. В. Луначарский ста-
вит вопрос о природе революционности Шиллера. Луначарский утверждает,
что, несмотря на трагическую противоречивость всего произведения, Шиллер
«развертывает в «Разбойниках» громадную революционную энергию». Указы-
вая также на большую ценность «Коварства и любви», Луначарский далее
освещает в своей лекции о немецкой литературе XVIII в. внутреннюю эволюцию
Шиллера, намечая в принципе правильно основные этапы творческого развития
писателя. Важно также то обстоятельство, что Луначарский подчеркивает
значение демократичности, плебейского начала в творчестве Шиллера.
Однако не со всеми высказываниями Луначарского о Шиллере можно со-
гласиться. Так, он недооценивал значение драмы «Вильгельм Телль», которую
современные советские литературоведы считают вершиной в творчестве зрелого
Шиллера.
Изучение Шиллера в СССР вступает в новый этап в 30-е годы в связи с из-
данием целого ряда работ Маркса и Энгельса, среди которых многие были
опубликованы впервые и, таким образом, впервые стали использоваться при
изучении истории литературы. Среди материалов, которые были особенно важ-
ны для изучения Шиллера и получили у нас широкое распространение именно
в 30-е годы, необходимо в первую очередь назвать статью Энгельса «Положе-
ние в Германии» и переписку Маркса и Энгельса с Лассалем, а также письмо
Энгельса к Минне Каутской от 26 ноября 1885 г.
В них вопросы изучения Шиллера затрагивались самым непосредственным
образом. Работа Энгельса содержала общую характеристику творческого пути
Шиллера и определяла значение некоторых его произведений; переписка про-
ливала свет на специфические черты эстетики Шиллера; в письме к Минне Ка-
утской Энгельс давал высокую оценку «Коварства и любви», важную для
общего понимания Шиллера.
Развернувшееся во второй половине 30-х годов изучение Шиллера в СССР
было одним из участков огромной культурной работы, которую в то время про-
водила советская научная общественность. Как и в других областях советской
культуры, в советском шиллероведении вырисовывались все более широкие
перспективы, намечались все новые и новые исследовательские и издательские
возможности.
Идя навстречу интересам массового читателя, советские издательства после
1917 г. часто и в самых различных изданиях выпускали произведения Шиллера.
Собрание сочинений Шиллера, начатое еще до второй мировой войны, было
результатом работы не только советских переводчиков, но и советских ученых.
Среди работ, посвященных Шиллеру советскими учеными, следует отметить
труд Ф. П. Шиллера «Творческий путь Ф. Шиллера» (1934). Хотя эта книга
теперь устарела в методологическом отношении, она дает во многом верную
характеристику творческой эволюции Шиллера и особенностей его творческого
метода.
5*
131
Несомненный интерес представляет статья H. Н. Вильяма-Вильмонта, на-
печатанная в качестве предисловия к однотомнику произведений Шиллера,
выпущенному в 1954 г. Эта работа, несмотря на свою сжатость, дает новое ре-
шение вопроса об общем направлении развития творчества Шиллера в послед-
ние годы жизни писателя. Вильмонт с полным основанием полагает, что твор-
ческий путь Шиллера оборвался в пору расцвета его таланта и что последние
его произведения были отражением освободительных движений народных масс
Европы, поднимавшихся на борьбу против феодальной реакции и против кро-
вавой, угнетательской политики Наполеона. В этой статье впервые сделана по-
пытка рассмотреть трилогию о Валленштейне в свете исторических задач,
встававших перед немецким народом на пороге столетия, задач, выдвигаемых
борьбой за воссоединение Германии. (...)
Слова Белинского и Чернышевского, сказанные около века тому назад
о том, что Шиллер прочно вошел в культурную жизнь русских читателей, стал
близок и понятен им, с еще большим основанием могут быть повторены в наши
дни. В СССР великое гуманистическое искусство Шиллера стало народным
достоянием. Десятки советских театров ставят пьесы Шиллера; в программу
советских филологических вузов Шиллер входит как один из авторов, которым
уделяется особое внимание. Каждый советский школьник знает о Шиллере.
Творения великого немецкого писателя переведены на многие языки народов
СССР, его произведения выходят в новых переводах и новых изданиях огром-
ными тиражами и расхватываются читателями.
Шиллер дорог советским людям, которые чтут в нем великого немецкого
поэта. Дорог Шиллер и миллионам людей, объединенным в движении за мир.
Но особенно велико значение Шиллера для немецкого народа. В поэзии Шил-
лера немецкий патриот наших дней найдет немало стихов и образов, которые
и сегодня сохраняют свое высокое общественное и художественное звучание.
Пламенные слова Шиллера о единстве в борьбе за вольность, в борьбе против
тирании, сказанные им в его оде «К радости», звучат и сегодня как завещание
поэта-патриота, как боевой призыв.
1955
Ill
ЛИТЕРАТУРА
XIX ВЕКА
Ф
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
В ОЦЕНКЕ В. Г. БЕЛИНСКОГО
1
Велик вклад славянских народов в мировую культуру XIX в. Борьба сла-
вянских народов против социального и национального угнетения, в разных
своих формах активизировавшаяся в начале XIX столетия, способствовала то-
му, что в славянских странах выдвинулось немало выдающихся мыслителей,
обогативших своей деятельностью различные отрасли мировой науки — в том
числе и науку о литературе.
Такова была деятельность Д. Обрадовича, В. Караджича, Я. Коллара, Ф. Л.
Челаковского, А. Мицкевича, Э. Дембовского, особенно близкого и понятного
нам в силу его революционно-демократических и материалистических взглядов.
Существенным фактором в развитии передовой культуры XIX в. была и де-
ятельность славной плеяды русских критиков — революционеров-демократов.
Белинский, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, сыг-
равшие основополагающую роль в развитии передовой русской науки о лите-
ратуре, рассматривали ее проблемы в тесной связи с состоянием мировой лите-
ратуры. Ее важнейшие явления постоянно затрагиваются в трудах русской ре-
волюционно-демократической критики, получают принципиальную оценку,
представляющую большой научный интерес.
Можно с полным основанием утверждать, что русская революционно-демо-
кратическая критика глубоко и верно осветила основные стороны современного
ей зарубежного литературного процесса; это способствовало широкой и перс-
пективной постановке главных вопросов русской литературы и отражало ин-
тернационалистические тенденции русской революционной демократии, призы-
вавшей к братству народов во имя общих великих целей социального преобра-
зования.
Это относится в полной мере к В. Г. Белинскому, который в литературах
Западной Европы видел отражение общественного развития ее народов, рево-
люционных битв XVIII — XIX вв. и их исторических предпосылок. Белинский
противопоставлял этот путь — с его точки зрения, исторически закономер-
ный — утопиям славянофилов. Он полагал, что и перед народами России лежит
эпоха великих революционных потрясений, что и весь опыт народов Западной
Европы — включая их литературу — приобретает тем самым особое значение
133
для развития русской передовой культуры. Много работ и рецензий Белинского
посвящено отдельным западноевропейским писателям и проблемам зарубеж-
ных литератур XIX в. Рассмотрение этих проблем органически входит в его
основные статьи, посвященные русской литературе, придавая им ту широту
и историчность, которые характерны для зрелого Белинского в целом. Разра-
батывая свой взгляд на русскую литературу, великий русский критик освещал
в своих трудах искусство других народов, создавал новые принципы исследо-
вания, предполагающие рассмотрение литературного процесса во всей слож-
ности взаимосвязей и взаимовлияний, с учетом национального своеобразия
каждой отдельной литературы и с учетом того, что каждая из них приносит
в общий процесс развития мировой литературы.
Продолжая лучшие традиции декабристской критики и традиции Пушкина-
критика, усваивая все наиболее ценное, что он мог получить от русской и зару-
бежной науки о литературе, Белинский и в этой области выступает как смелый
новатор, руководствующийся ненавистью ко всем проявлениям реакции в ли-
тературе, науке и общественной жизни. Интересы народных масс —
общественные и культурные—выдвигаются революционером-демократом Бе-
линским в качестве основного критерия при оценке явлений русской и зару-
бежной литературы. Это придавало работам Белинского особую глубину
и остроту, помогало критику верно определить перспективы развития литера-
турного процесса.
Работы и высказывания Белинского о зарубежной литературе XIX в. дол-
жны рассматриваться только в связи со всейего борьбой за развитие передовой
русской общественности, передовой русской литературы. Пафос борьбы против
крепостничества и его порождений в русской жизни — вот та сила, которая
помогала Белинскому пылко и талантливо писать о целом ряде явлений зару-
бежной литературы, вызывавших горячие дискуссии в России 30—40-х годов.
Однако результаты, к которым приходил Белинский, обдумывая эти проблемы
зарубежных литератур, уже выходили за пределы только русской литературной
жизни, объективно приобретали международное значение.
Работы советских исследователей показали, что В. Г. Белинский, неутомимо
изучавший не только русскую, но и всеобщую историю, обладал определенной
системой взглядов на историю мировой литературы и на литературы отдель-
ных народов К При этом надо подчеркнуть, что взгляд Белинского на историю
литературы того или иного народа основывался всегда на общей оценке истории
народа, на стремлении понять его национальный характер.
Великий русский критик писал о различных эпохах истории мировой ли-
тературы 2. Однако с особым вниманием он относился к литературе своего вре-
мени. Зарубежный литературный процесс 20-х, 30-х и 40-х гг. представлял для
него — деятельного борца за развитие русской литературы — особый интерес.
Литературный процесс первой половины XIX в. развивался необыкновенно
бурно, сложно, динамично, отражая обострение экономических, классовых
и национальных противоречий, связанное с революционными движениями кон-
ца XVIII — первой половины XIX в. и с национально-освободительной борьбой
порабощенных народов.
Огромную сложность литературного процесса, в который вливались все но-
вые и новые молодые литературы — рождавшиеся и возрождавшиеся,— заме-
1 См., например: Иващенко А. Ф. Белинский о французском социально-утопическом рома-
не//Белинский — историк и теоретик литературы. М.; Л., 1949; Неустроев В. П. Скандинавские
заметки Белинского//Там же; Фридлендер М. Белинский о Шекспире//Белинский. Статьи и мате-
риалы. Л., 1949; Лаврецкий А. М. О мировом значении критики Белинского//Литературное на-
следство. М., 1948. Т. 55; Гуляев А. И. Мировое значение эстетики Белинского. Томск, 1955.
См. также освещение этого вопроса в работах: Жирмунский В. М. Гёте и русская литература. М.,
1939; Алексеев М. П. Белинский о Диккенсе//Венок Белинскому. Л., 1924.
2 См., например, статьи Белинского о Шекспире, Сервантесе, Мольере.
134
тили в 30-х годах лишь немногие критики и писатели: Стендаль, Мериме
и Бальзак во Франции, Гете и Гейне в Германии, Мицкевич в Польше, Пушкин
и Белинский в России. Они различили в литературной борьбе своего времени не
только развертывавшийся на авансцене спор сторонников старого или поднов-
ленного классицизма с романтиками, но и глубокие противоречия между раз-
личными течениями романтизма, а также формирование нового могучего лите-
ратурного направления, наметившегося еще в 20-х и 30-х годах и уже властно
заявившего о себе,— того направления, которое мы привыкли называть крити-
ческим реализмом.
Ожидая от XIX в. великих перемен в жизни общества, Белинский называл
его «историческим веком», «переходным моментом» в развитии человечества.
Многого ожидая и от литературы XIX в., Белинский с замечательной широ-
той подошел к определению ее масштабов. Он верно подметил, что в мире после
великих революционных событий конца XVIII — начала XIX в., в новых исто-
рических условиях, выдвинулись новые общественные силы, дающие новое со-
держание литературе. Белинский смело включил в понятие современной евро-
пейской литературы русскую литературу, которая до него — наряду с некото-
рыми другими литературами Европы — рассматривалась критиками на некоей
периферии по отношению к литературам Англии, Франции и Германии. Белин-
ский включил в понятие современной литературы и писателей Скандинавии,
и литературы славянских стран, и литературу США.
Наиболее важные фигуры мировой литературы первой половины века, к то-
му времени признанные и известные в России, нашли оценку в работах Белин-
ского. Ему принадлежат глубокие высказывания о Гете, Шиллере, Ж.-П. Рих-
тере, Шатобриане, Байроне, Гюго, Ж. Санд, Гофмане, Гейне, Мицкевиче,
Бальзаке, Диккенсе, В. Скотте, Беранже, Тегнере, Купере К В работах Белин-
ского обсуждались такие характерные для первой половины века явления, как
романы А. Дюма, Э. Сю, П. де Кока; не входя в круг классической литературы,
творчество этих писателей было популярно в ряде стран, становилось сущест-
венным фактом литературной жизни Европы.
Белинский пришел со временем к выводу о необходимости именно исто-
рического подхода к явлениям современной литературы. Он указал на ее
органическую связь с прошлым: «...Органическая последовательность в разви-
тии,— писал критик,— вот что составляет характер литературы...
Если произведение литературы носит на себе печать существенного досто-
инства,— оно уже не может быть случайным явлением, которое не было бы не-
которым образом результатом предшествовавших ему произведений, или, по
крайней мере, не объяснялось бы ими, и которое, в свою очередь, не порождало
бы других литературных явлений, или, по крайней мере, не имело бы на них
прямого или косвенного влияния... Не только современная нам французская, но
и современная нам германская литература не могут быть поняты и оценены
надлежащим образом без знания французской литературы XVII века...» 2
Стремясь определить явления, особо характерные для литературы XIX в.,
Белинский уже в ранних своих работах с глубоким сочувствием говорит
о борьбе романтиков против эпигонов классицизма (эта проблема, столь живая
в русской литературе 20-х годов, была в 30-х годах еще весьма актуальной
и для французской литературы), о природе романтизма и различных его тече-
ниях, о писателях-реалистах, которых он противопоставляет приверженцам
1 Хотя отдельные статьи и работы Белинского о Гёте, Шиллере, Ж.-П. Рихтере, Байроне,
Ж. Санд, Гофмане, Бальзаке, В. Скотте, Купере, Гюго чаще всего — рецензии на новые русские пе-
реводы, в них затрагиваются многие вопросы общего характера.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 12 т./Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1903. Т. 6. С. 518.
Далее ссылки в статье даны по этому изданию с указанием тома и страницы. (СПб, 1900—1914.
Т. 1 — 10; Пг., 1917. Т. 11; М.; Л., 1926. Т. 12).
135
«искусства для искусства» и развлекательной буржуазной литературе 30-х и
40-х годов.
Белинский стремился определить новую проблематику литературы XIX в.—
отражение общественных процессов, в которых гибнет старая Европа и рож-
дается буржуазное общество с его сложнейшими противоречиями, с его новыми
социальными типами, с новыми чувствами и представлениями. Белинский кон-
статирует рождение новых жанров, ранее не существовавших. К ним он относит
исторический роман, рождение и развитие социального романа, возникновение
особого жанра поэмы, впервые появляющегося в форме романтической поэмы,
и бурное развитие лирики, резко отличающейся по своему характеру от лири-
ческой поэзии предыдущих столетий своей индивидуальностью, психологи-
ческой глубиной и сложностью.
Большое внимание обращал Белинский на изучение художественных
средств писателей и поэтов XIX в. Русский критик сделал много ценных на-
блюдений над романтической поэзией (см. его анализ поэм Байрона и баллад
Саути и В. Скотта), поэзией и драматургией Гете и Шиллера (см. его статьи
о «Римских элегиях» и о «Мессинской невесте»), драматургией Гюго (см. отзыв
о постановке «Бургграфов»), романтической повестью. С замечательной тон-
костью характеризует Белинский художественную сущность столь различных
явлений, как песни Беранже и политическая лирика Барбье, фантастика Гоф-
мана и романтическая ирония Жан-Поля Рихтера, повествовательный талант
А. Дюма и стилизаторское искусство Э. Тегнера 1.
Особенно глубоко изучал Белинский художественные средства западноев-
ропейского романа XIX в.
Его замечания о специфике исторического романа В. Скотта, о сюжетах
Диккенса, композиции романов Бальзака, Э. Сю, Ж. Санд раскрывали нова-
торские черты западноевропейского романа. На первый план в суждениях Бе-
линского о нем выдвигается проблема типизации; Белинский был первым лите-
ратурным критиком, выдвинувшим этот вопрос при изучении современного ро-
мана. Опираясь на опыт западноевропейских писателей, Белинский в статье
«Разделение поэзии на роды и виды» (1841) говорит о «характере типическом»
как о важнейшей особенности эпоса XIX столетия — реалистического романа.
Глубокий и разносторонний анализ художественных средств литературного
произведения давал Белинскому возможность показать национальную специ-
фику литературы, конкретно выяснить литературные взаимосвязи и взаимо-
влияния, особенно активизировавшиеся в XIX в. Народность многих за-
мечательных произведений литературы XIX в. особенно убедительно раскры-
валась в работах Белинского через анализ художественной специфики (напри-
мер, народность поэзии Беранже, романов Диккенса).
В высказываниях критика о европейской литературе проявились и противо-
речия, присущие развитию Белинского. Они отразились, например, в его отно-
шении к В. Гюго (Белинский не сумел достаточно полно понять сложность раз-
вития Гюго в 40-х годах), к Гофману, Гете, Бальзаку, Мицкевичу, в отношении
к тому или иному методу (например, оценка классицизма у раннего и зрелого
Белинского).
Взятая в целом, концепция европейского литературного процесса XIX в.
в работах Белинского имеет большое значение для истории науки о литературе.
Изучение взглядов Белинского на важнейшие явления мировой литературы
позволяет говорить о замечательно глубоких наблюдениях Белинского над ее
развитием, о близости взглядов передовой русской и зарубежной критики,
включая литературную критику чартистов, западноевропейских революционе-
ров-демократов XIX в. и французских социалистов-утопистов.
1 Хотя у Белинского и не было работ, специально посвященных Беранже и Барбье, однако, как
и во многих других случаях, отдельные замечания критика об их творчестве дают основания для
подобного вывода.
136
Особый интерес приобретают взгляды революционера-демократа и матери-
алиста Белинского на развитие зарубежной литературы XIX в. в свете истори-
ко-литературной концепции молодого Маркса и молодого Энгельса. При со-
поставлении их оценок и оценок Белинского применительно к ряду конкретных
вопросов (противоречия Гете; проблема социального романа во Франции
40-х годов и особенно творчество Э. Сю и Ж. Санд; оценка Гейне; оценка реак-
ционного романтизма) видно направление эволюции Белинского — мыслителя
и ученого, приближавшегося к идеям научного социализма.
Ниже мы рассмотрим некоторые важнейшие этапы в развитии взглядов Бе-
линского на западноевропейскую литературу XIX в.
'2
Впервые материалы западноевропейской литературы были широко исполь-
зованы Белинским в статье «Литературные мечтания» (1834). Уже в ней про-
звучал призыв к борьбе за создание реалистической русской литературы, на-
родной и общественно-активной. Автор антикрепостнической драмы «Дмитрий
Калинин» в то время только начинал свой славный путь.
В этой статье Белинский провозгласил свой принцип: «Жизнь есть действо-
вание, действование есть борьба». Следуя ему, критик выступил поборником
развития такой действенной литературы, которая помогала бы русскому народу
освободиться от крепостного строя и всех его порождений.
Такой литературой могла стать литература реалистическая, безжалостно
рисующая правдивые картины русской жизни и зовущая к ее переустройству.
Мечтая о такой литературе и справедливо видя ее начало в Пушкине, Белин-
ский резко критиковал и эпигонов классицизма в русской литературе, и реак-
ционно-романтическое направление, а также его сторонников в русской
критике.
Однако уже тогда с понятием «романтизма» Белинский связывал не только
отрицательные явления, мешавшие развитию реалистического направления.
В «Литературных мечтаниях», отбрасывая романтиков, изображавших «одно
ужасное, одно злое природы», Белинский отметил, что творчество других ро-
мантиков было «не иное что, как возвращение к естественности, а следственно
самобытности и народности в искусстве, предпочтение, оказанное идее над
формою, и свержение чуждых и тесных форм древности...» [/, 359].
Романтические литературные движения, направленные против консерва-
тивного и антинародного искусства, Белинский уже в этой статье связывает
с политическими событиями начала века — с решительным натиском прогрес-
сивных исторических сил Европы на твердыни феодализма.
Белинский вводит в свою статью широкие исторические категории не пото-
му, что его историко-литературное построение отвлеченно, а потому, что он от-
дает себе отчет в масштабах политических событий современности. Участь
каждой отдельной страны Европы в эти годы особенно тесно связана была
с общеевропейскими историческими факторами: до 1815 г. с борьбой против
Наполеона, затем — с борьбой народных масс, руководимых буржуазией, про-
тив «Священного союза». Историческая роль русского народа в этих событиях
становилась Белинскому все более ясной уже в начале 30-х годов. Он чувство-
вал себя литературным деятелем страны, лучшие люди которой нанесли в
1812 г. решающее поражение армии Наполеона, а в 1825 г. пытались подорвать
одну из основ «Священного союза»— российское самодержавие.
Этим оправдана патетическая широта обобщений, которая есть уже в «Ли-
тературных мечтаниях», и утверждение общеевропейской значимости литера-
турных движений, ратующих за «народность» и «самобытность».
Отмечая выдающуюся роль крупнейших писателей-романтиков, боровшихся
против антинародного дворянского искусства, доставшегося в наследие от
137
дворянской Европы XVIII в., Белинский писал: «Байрон... и Вальтер Скотт
раздавили своими творениями школу Попа и Блера, и возвратили Англии
романтизм '. Во Франции явился Виктор Гюго с толпою других мощных талан-
тов, в Польше—Мицкевич, в Италии — Манцони, в Дании—Эленшлегер, в
Швеции — Тегнер» [/, 360]. Замечательное чутье критика-демократа и под-
сказало здесь Белинскому имена, которые — за исключением В. Скотта — были
связаны с прогрессивными общественными движениями XIX в., а в ряде случа-
ев — с революционной борьбой народов Европы против «Священного союза»
(Байрон, Мицкевич, Мандзони). Характерно, что среди писателей, названных
Белинским, нет тех представителей английской, французской, немецкой роман-
тической литературы, чья деятельность уже и в те годы воспринималась как
нечто связанное с идеологией феодально-аристократической реакции.
К выводу о росте и усилении передовой литературы в современной Европе
Белинский пришел в результате полемики со своими политическими и литера-
турными врагами. Среди них были не только Греч, Сенковский и Булгарин, но
и противники гораздо более серьезные — официальная «академическая» кри-
тика, представленная Шевыревым, и нарождавшаяся буржуазно-либеральная
критика, возглавленная Н. Полевым.
Оценка зарубежной литературы в статьях Булгарина, Греча и Сенковского
была настолько неавторитетна, что с нею не приходилось полемизировать: ее
надо было отбросить, как заведомую дезинформацию, что Белинский не раз
и делал.
Работы и статьи Шевырева и Н. Полевого приходилось оспаривать; теории
этих авторов надо было преодолевать: они обладали серьезными знаниями
и известной популярностью в довольно многочисленных кругах русских чи-
тателей 2.
Когда писались «Литературные мечтания», Шевырев все определеннее
сближался с лагерем открытой литературно-политической реакции. В частно-
сти, его деятельность как поэта, лектора и критика утверждала в мнении рус-
ского читателя, в кругах студенческой молодежи ложное представление о пло-
дотворности немецкого реакционного романтизма как «умозрительного» глу-
бокого литературного направления, противопоставленного «поверхностной»
французской литературе.
Как уже было сказано выше, в картине развития современной передовой
зарубежной литературы, намеченной Белинским в «Литературных мечтаниях»,
немецкие романтики 10—20-х годов отсутствовали. Гейне был еще мало из-
вестен русскому читателю, Гофмана 3, Тика, Новалиса и Клейста Белинский не
нашел возможным называть рядом с Байроном, Мицкевичем, Мандзони.
Несогласие Белинского со взглядами Шевырева на современную зарубеж-
ную литературу выразилось еще полнее в характеристиках последней, совер-
шенно различных у Шевырева и Белинского.
В своей рецензии на драматическую поэму Байрона «Манфред» Шевырев
заявил, что в современной литературе он видит «два противоположные
(разрядка наша.— Р. С.) направления». Представители одного из них изобра-
жают «жизнь человеческую с ее стихиями, как-то: характерами, действиями,
случаями, чувствами и проч. до малейшей подробности» 4.
1 Здесь слово «романтизм» следует понимать как «самобытность».
2 Белинский был многим обязан двум курсам Шевырева —«История поэзии» (М., 1834)
и «Теории поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (М., 1836; ранее была из-
вестна в конспектах лекций Шевырева). Из работ Шевырева Белинский почерпнул богатый фак-
тический материал. Это, однако, не мешало ему резко критически относиться к методологии Ше-
вырева.
3 Гофмана Белинский в те годы считал замечательным писателем; тем выразительнее его от-
сутствие среди имен плеяды писателей — борцов за «народность» и «самобытность».
4 Шевырев С. П. Рецензия на «Манфреда» Байрона//Московский вестник. 1828. Ч. 10. С. 57.
138
Писатели, представляющие другое направление, видят в «происшествии»,
т. е. в действительности, «одно с р е д с т в о», «о д н у рамку», для того
только, чтобы вместить в них идею (разрядка наша.— Р. С.) или сильное чув-
ство или несколько богатых минут жизни, в которые мы живем всеми силами
души нашей» '.
Сочувственная характеристика этого второго направления у Шевырева есть,
по существу, суммарное изложение эстетики реакционного романтизма, проти-
вопоставленной реалистическому направлению, сторонником которого объявил
себя Белинский.
К числу писателей, изображающих «жизнь человеческую с ее стихиями... до
малейшей подробности», Шевырев относил Вальтера Скотта, Мандзони, при-
соединяя к ним Пушкина; к числу писателей, для которых действительность —
только «средство» и «рамка» для выражения «идеи», у Шевырева отнесены
Шиллер, Байрон, Мур, Мицкевич, Жуковский. Рядом с этими крупными име-
нами Шевырев поставил имя весьма посредственного немецкого драматурга
Раупаха.
В противоположность построениям Шевырева, Белинский выдвинул точку
зрения, замечательную своей убедительностью и стройностью.
У Белинского Байрон, Мицкевич, Мандзони объединены как группа
поэтов, знаменующих новое направление в литературе. Белинский действовал
и в данном случае именно как историк литературы; он ставил писателей
в определенное отношение к общественной жизни, подчеркивая тен-
денцию развития, свойственную им, и намекая на общественное со-
держание их творчества.
Наряду с выступлением против Шевырева в статье «Литературные мечта-
ния» обнаруживается и весьма серьезное расхождение Белинского с Надеж-
диным.
Вопрос об отношениях Белинского и Надеждина не принадлежит к числу
окончательно выясненных. Несмотря на длительное сотрудничество и взаимную
поддержку, противоречия между Надеждиным и Белинским сказывались за-
долго до поворота в развитии Надеждина. В частности, существенные расхож-
дения между Надеждиным и Белинским видны в их отношениях к западноев-
ропейскому романтизму, что явствует из «Литературных мечтаний».
В 1-м номере «Вестника Европы» за 1830 г. была напечатана статья На-
деждина «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэ-
зии» 2. Внешне его выступление заострено против романтизма «вообще». Но
внимательное чтение не оставляет сомнений в том, какие именно явления ро-
мантизма вызвали критику Надеждина. Романтическая поэзия XVIII—XIX вв.,
с точки зрения Надеждина, была явлением искусственным, болезненным, глу-
боко вредным. Ее представителей критик называл не иначе как «лжероман-
тическими гаерами». Романтический герой в истолковании Надеждина —«иг-
ралище призраков собственного воображения».
Под этими «призраками» критик подразумевал, в частности, «непреодоли-
мую гордость души, не признающей над собой никакого владычества»; эта
гордость «и именуется ныне мятежничество»— прямо писал Надеждин. Свобо-
да, воспеваемая «лжеромантическими гаерами», осуждалась Надеждиным как
«пагубное безначалие» и «своевольное буйство»; современные романтики пу-
гали Надеждина как «проповедники новой поэтической революции».
Выражение это имело в виду не только революцию в поэзии, как оно может
быть истолковано, если его вырвать из контекста статьи Надеждина. Филиппи-
ке против проповедников «новой (разрядка наша.— Р. С.) поэтической ре-
1 Шевырев С. П. Рецензия на «Манфреда» Байрона//Московский вестник, 1828. Ч. 10.
С. 58.
2 Отрицательное отношение Надеждина к революционному романтизму, сказавшееся в этой
статье, характерно и для других его выступлений.
139
волюции» предшествует красноречивое напоминание: «Кому неизвестно беше-
ное сумасшествие, возбужденное некогда (разрядка наша.— Р. С.) Шил-
леровскими «Разбойниками»?»
За «сумасшествием» конца XVIII в., т. е. за кипением умов в эпоху фран-
цузской буржуазной революции, приходит новая пора «пагубного безначалия»
и «своевольного буйства», возвещенная революционными романтиками или,
в терминологии Надеждина, «лжеромантиками». И, развивая эту свою мысль,
Надеждин прямо называл писателя, которого считал самым опасным среди
проповедников «новой поэтической революции»— Байрона. Вольтер и Бай-
рон —«две зловещие кометы, производящие доселе столь сильное и столь па-
губное давление на век свой»,— так намечалась в статье Надеждина перспек-
тива неуклонного нарастания революционного антифеодального движения от
первых столкновений XVIII в., подготовленных просветителями, к решающим
боям 30—40-х годов, приближения которых с тревогой ждал Надеждин.
Осудив Байрона и «нынешних байронистов», под которыми, конечно, под-
разумевались уже русские поборники «пагубного безначалия» и «своевольного
буйства», Надеждин на протяжении всей статьи постоянно возвращается к ан-
глийскому поэту, не жалея красноречия для того, чтобы дискредитировать
Байрона в глазах русского читателя.
Следует отметить, что в статье Надеждина не было стремления доказать
бездарность или незначительность Байрона. Наоборот, Надеждин постоянно
упоминает о гениальности и таланте английского поэта —«одинокого колос-
сального Полифема». Выполняя основную задачу своей статьи, Белинский
в «Литературных мечтаниях» вместе с тем противопоставил Надеждину свой
взгляд на современную зарубежную литературу. Развитие революционной
традиции в ней, напугавшее Надеждина, было показано Белинским как естест-
венный и отрадный процесс.
Вопреки Надеждину, молодой Белинский утверждал положительную роль
передовых писателей-романтиков в борьбе за «самобытность и народность
в искусстве», в «свержении чуждых и тесных форм древности». «Я люблю Кар-
ла Моора, как человека»,— писал молодой Белинский в этой статье, как бы
возражая на фразу Надеждина о «бешеном сумасшествии», вызванном «Раз-
бойниками».
Белинский признавал, что у писателей-романтиков есть «герои», отталки-
вающие читателей; но «если поэт,— писал критик,— изображает вам, подобно
какому-нибудь Капитану Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказыва-
ет, что кругозор его ума тесен...» [/, 322]. С тем большей симпатией отозвался
Белинский о Байроне; он прямо назвал его «властителем дум» своего поко-
ления.
При этом Белинский не преувеличивает значение Байрона. Он назван пер-
вым — но среди других романтиков: Мицкевича, Гюго, Мандзони, Эленшлеге-
ра, Тегнера. Тем самым молодой критик подчеркнул необходимость конкретного
подхода к каждому из названных писателей, подхода, при котором учитывались
бы национально-исторические особенности каждой литературы в отдельности.
«Литературные мечтания» были началом борьбы за критический реализм
в русской литературе, а не за революционный романтизм. Белинский указал на
значение революционного романтизма в литературе Запада, однако подчеркнул
тот факт, что он уже уходит в прошлое. На очереди был вопрос о том искусстве,
о котором думал критик, когда утверждал, что «жизнь есть действование, дей-
ствование есть борьба».
Вслед за «Литературными мечтаниями» проблема критического реализма
поставлена в статье «О русской повести и повестях Гоголя» (1835).
В этой работе Белинский, подведя итоги развития русской прозы в XIX в.,
выдвинул на первое место творчество Гоголя, так как оно, с точки зрения кри-
тика, наиболее полно отвечало задачам, стоявшим перед современной русской
140
литературой. Утверждая значение Гоголя-сатирика, Гоголя-реалиста, Белин-
ский прямо вел читателя к мысли о том, что реалистическое направление —
важнейшее явление в современном русском искусстве.
«...Истинная и настоящая поэзия нашего (разрядка наша.— Р. С.) вре-
мени,— писал Белинский,— ...поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия дей-
ствительности» [2, 194], прямо противопоставляя эту подлинно современную
литературу реакционно-романтической «идеальной» поэзии.
В этой статье Белинский дал первый вариант своей истории эпического
жанра, в дальнейшем не раз пересмотренный и обогащенный им. В истории
эпического жанра русскому эпосу XIX в.— прозе Гоголя — отводилось почет-
нейшее место крупнейшего современного явления в мировой литературе. На
предыдущих этапах Белинский отмечал эпос античности, рыцарский роман
и так называемую «искусственную» поэму. Однако, как и следовало ожидать,
вопрос об этапах развития реализма в литературах Европы вывел Белинского
за рамки истории жанра, и как только критик дошел до характеристики реа-
листического искусства нового времени, рядом с романистом Сервантесом в его
работе появился Шекспир.
«Окончательную реформу в искусстве», выражающуюся в формировании
«поэзии реальной, поэзии действительности», Белинский в литературах Европы
относит к XVI столетию. «...Сервантес убил своим несравненным «Дон-Кихотом»
ложно-идеальное направление поэзии,— писал Белинский,— а Шекспир на-
всегда помирил и сочетал ее с действительною жизнию» [2, 193].
Уже и раньше имена Сервантеса и Шекспира появлялись в статьях Белин-
ского как имена великих писателей, перед которыми (особенно перед Шекспи-
ром) критик неизменно преклонялся как перед художниками, чье творчество
замечательно своей правдивостью. Но только в этой работе Сервантес и Шекс-
пир впервые определены Белинским как великие мастера реалистического
искусства, как его замечательные зачинатели '.
Необходимо подчеркнуть, что оба эти автора — и особенно Шекспир — бы-
ли для Белинского не только писателями XVI — XVII вв. Тонко чувствуя конк-
ретно-национальное и историческое значение их творчества, русский критик
вместе с тем видел в их произведениях — особенно в драмах Шекспира — ве-
ликий образец реалистического искусства, сохраняющий свое познавательное,
эстетическое и этическое значение вплоть до времени, когда писались работы
Белинского. Нередко вопрос о Шекспире в работах Белинского становится во-
просом о принципах реализма, и пламенная защита Шекспира — защитой
принципов реалистического искусства. При этом в защите Шекспира у Белин-
ского надо видеть не противопоставление искусства XVI — XVII вв. современ-
ности, не совет подражать Шекспиру, а призыв к созданию новых реалисти-
ческих произведений, которые подняли бы русское искусство на новый и выс-
ший уровень. Высокая оценка, которую Белинский дает Шекспиру — великому
реалисту, и постоянное обращение к нему как к примеру реалистического
мастерства станут еще более понятны, если учесть конкретные исторические
условия эпохи написания статей Белинского. Критик начал свою борьбу за ре-
алистическое искусство в те годы, когда еще не были написаны лучшие романы
Бальзака и Диккенса, когда Стендаль был мало известен, когда великие рус-
ские реалисты второй половины XIX в.— Тургенев и Толстой — только начи-
нали свой жизненный путь. Но, опираясь на творчество Пушкина и Гоголя, уже
создавших свои реалистические шедевры, Белинский начал свой подвиг не-
устанного поборника «поэзии действительности» и, отстаивая ее, обращался не
1 Взгляды Белинского на Сервантеса и Шекспира развивались в течение всей деятельности
великого русского критика и заслуживают особого монографического изучения, которое частично
уже начато советскими литературоведами. Мы не будем специально останавливаться на них, так
как анализ взглядов Белинского на Сервантеса и Шекспира увел бы нас от основной задачи иссле-
дования — от оценки историко-литературного процесса XIX в.
141
только к опыту современной русской литературы, но и к литературе других ве-
ков и народов.
Итак, творчество Шекспира в статье о повестях Гоголя определено критиком
как важный этап в истории «поэзии действительности».
Следующий этап ее Белинский закономерно усмотрел в ряде литературных
явлений XVIII в., из которых он в этой статье выделил Гете и Шиллера.
Далее Белинский уделил особое внимание В. Скотту,— несколько переоце-
нив, впрочем, его творчество. Долгое время В. Скотт остается для русского
критика замечательным образцом современного писателя, глубже других усво-
ившего шекспировское мастерство «поэзии жизни, поэзии действительности»
и поднявшего это мастерство на новый уровень, отвечающий требованиям пе-
редового русского читателя 30-х годов XIX в. Но и В. Скотт, даже при том, что
Белинский преувеличивал его талант и значение, выступает в рассматриваемой
работе как уже пройденный этап в истории реалистического направления.
От русской литературы, от Гоголя и тех, кто пойдет за ним, ждал Белинский
произведений, которые превзойдут шедевры реалистического искусства прош-
лых веков. По существу это утверждение Белинского было полемикой с Шевы-
ревым, не понявшим значение сатиры Гоголя.
Намеченная Белинским история «поэзии действительности» от Шекспира до
середины XIX в. была замечательным научным открытием, сделанным на осно-
вании широких, но исторически конкретных и точных обобщений. Белинский
наметил эстетически цельную концепцию развития европейской литературы,
указав в ней на реализм эпохи Возрождения как ранний этап развития реа-
листического направления, на реализм ряда литературных произведений
XVIII в. как его следующий этап и реализм XIX в.—как новую и высшую стадию.
Белинский подошел в своей статье к мысли о том, что реалистическое на-
правление, «поэзия действительности» развивается в борьбе с другими, анти-
реалистическими направлениями. Далеко не во всем правильно истолковывая
историко-литературный процесс XVII — XVIII вв., он все же отметил в нем си-
лы, противоборствовавшие реалистическому направлению, ошибочно ото-
ждествив их во всем с классицизмом. Белинский указал на противоречия между
Гете и Шиллером, противопоставил — к чему еще мы вернемся при рассмотре-
нии этой его работы — творческий метод Шекспира творческому методу Шил-
лера. Наконец, он прямо указал на активное антиреалистическое (и «идеаль-
ное») направление в современной русской литературе и в литературах других
стран Европы — как на течение, пытающееся противостоять реализму.
Точка зрения Белинского на борьбу направлений в это время еще во многом
механистична. Это особенно сказалось в его суждении о «точках соприкоснове-
ния» между «идеальною и реальною поэзиею».
Известная механистичность в оценке литературного процесса была харак-
терной слабостью методологии раннего Белинского. Она сказывалась особенно
ясно в его суждениях, касающихся зарубежных литератур.
«Впрочем, есть точки соприкосновения, в которых сходятся и сливаются
эти два элемента поэзии \— писал Белинский.— Сюда должно отнести, во-
первых, поэмы Байрона, Пушкина, Мицкевича,— эти поэмы, в которых жизнь
человеческая представляется, сколько возможно, в истине, но только в самые
торжественнейшие свои проявления, в самые лирические свои минуты...» 2
Выбор авторов — Байрон, Мицкевич, Пушкин (как автор поэм) — глубоко
характерен: перед нами писатели, прошедшие через революционный
романтизм, внесшие в свой реализм обогащающие черты романтизма — пате-
тику, героику, революционный идеал; но все это были черты не просто «иде-
1 Т. е. «идеальный» и «реальный».
2 Отметим, однако, глубоко характерный факт: в «Литературных мечтаниях» среди писателей-
романтиков назван и В. Скотт, не только поборник «самобытности» и «народности», но и великий
представитель «поэзии действительности», в понимании Белинского.
142
альной» поэзии, а именно революционного романтизма. Как выше было
сказано, Белинский уже заметил историческую закономерность выдвижения
писателей, связанных с революционной борьбой начала века (Байрон, Мицке-
вич, Мандзони в «Литературных мечтаниях»), указывал на то, что они высту-
пают как поборники «самобытности» и «народности», но еще не объяснял этой
связью их неизбежный приход к «поэзии действительности».
В более поздних работах этот механицизм изживается. Возникает взгляд
Белинского на революционных романтиков как на поэтов действитель-
ности, а не только «идеала».
Обосновывая величие реализма Гоголя, Белинский в той же статье дал
анализ особенностей реализма Шекспира. О творческом методе великого анг-
лийского реалиста Белинский писал не раз, но в рассматриваемой нами статье
вопрос о реализме Шекспира поставлен в особом аспекте — как вопрос о том,
чему может учиться художник современности у великого реалиста эпохи Воз-
рождения.
Глубоко знаменателен тот факт, что для этого Белинский обратился к тра-
гедии, которая сравнительно мало привлекала внимание русского и зарубеж-
ного шекспироведения — к «Тимону Афинскому». Эту трагедию Шекспира Бе-
линский оценил как замечательный образец «простоты вымысла», которую
критик считал «одним из самых верных признаков истинной поэзии, истинного
и притом зрелого таланта» [2, 219].
Белинский подчеркивает, что сила этой «ужасной, хотя и бескровной, тра-
гедии в ее «простоте», в том, что она приготовляется глупою комедиею, отвра-
тительною картиною, как люди обжирают человека, помогают ему разориться
и потом забывают о нем... И вот вам жизнь, или, лучше сказать, прототип жиз-
ни, созданный величайшим из поэтов! Тут нет эффектов, нет сцен, нет драма-
тических вычур, все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень
ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян» [2, 219—
220].
С поразительной прозорливостью Белинский выбрал из всего наследия
Шекспира именно ту его позднюю трагедию (1608), в которой Шекспир —
в оболочке условной античности — с наибольшей глубиной раскрыл противо-
речия нарождавшегося буржуазного общества, показал «прототип жизни»—
возникающие буржуазные отношения, названные Белинским «отвратительною
картиною».
Этим Белинский как бы угадывал тенденцию, которая должна была вдох-
новить лучших писателей европейского общества XIX в.— обличение буржуаз-
ного строя, осуждение «бескровных трагедий», ежедневно им порождаемых.
Анализ трагедии «Тимон Афинский», рассмотренной Белинским как изоб-
ражение повседневной драмы буржуазного общества, замечателен этическим
обобщением: «Люди обманули человека, который любил людей,— пишет Бе-
линский,— надругались над его святыми чувствованиями, лишили его веры
в человеческое достоинство, и этот человек возненавидел людей и проклял их...»
В этих словах критика сформулирован взгляд на антигуманность, безнравст-
венность возникающего буржуазного общества; тут же определена трагедия
одинокого героя, иллюзии которого —«вера в человеческое достоинство»— ру-
шатся под натиском действительности, не оставляя ему взамен ничего кроме
ненависти и презрения к обществу, травящему его.
Значение традиций Шекспира для развития реалистических течений в лите-
ратуре XIX в. подчеркнуто самим Белинским: «вторым Шекспиром» назвал Бе-
линский В. Скотта, «главою великой школы, которая теперь становится всеоб-
щею и всемирною» [2, 194], т. е.— в его понимании — школы реалистической.
Конечно, взгляд на В. Скотта как на главу школы реалистов 30-х годов XIX в.
свидетельствует о существенной переоценке подлинного значения этого пи-
сателя. Эта переоценка объясняется тем, что к 1835 г. В. Скотт оставался
143
признанным популярнейшим романистом Европы не только в глазах сотен ты-
сяч читателей, но и являлся значительнейшим именем для выдающихся пред-
ставителей критического реализма, которые связывали с ним коренную и пло-
дотворную реформу романа на Западе. С точки зрения великих писателей-реа-
листов— Пушкина, Стендаля, Бальзака — именно В. Скотт придал западно-
европейскому роману достоверность, простоту, писал его, исходя из истори-
ческих и этнографических данных.
Однако независимо от того, кого Белинский считал «главой» новой школы
романистов, школы представителей «поэзии жизни», важно было прежде всего
то, что русский критик увидел это направление, назвал его главным, решающим
в современной европейской литературе.
Сопоставляя высказывание Белинского о «втором Шекспире»— В. Скот-
те — как главе «новой школы», школы реальной, и анализ «Тимона Афин-
ского» как анализ возможностей и задач этой новой реальной школы, мы мо-
жем сделать вывод, что в статье «О русской повести и повестях Гоголя» Бе-
линский не только констатировал наличие складывавшегося в литературах
Европы нового направления — критического реализма — но и наметил задачи,
стоящие перед ним: ему предстояло отразить трагедию современности, «ужас-
ную в своей простоте». Смысл трагедии русской современности был ясен Бе-
линскому — автору «Дмитрия Калинина»; вопрос о характере этой трагедии
в различных зарубежных странах критик затронул в своих последующих ра-
ботах.
Статья о повестях Гоголя, во многом направленная против Шевырева, за-
канчивалась возвращением к полемике с рецензией Шевырева на «Миргород»
развернутой во многих местах этой работы Белинского: «В одном журнале бы-
ло изъявлено странное желание, чтобы г. Гоголь попробовал свои силы в изоб-
ражении высших слоев общества: вот мысль, которая в наше время отзывается
ужасным анахронизмом!» '.
Против этого «ужасного анахронизма», как насмешливо и гневно назвал
Белинский попытку Шевырева превратить Гоголя в бытописателя российских
дворянских салонов 30-х годов, направлена статья «О критике и литературных
мнениях «Московского наблюдателя» (1836). Она была выступлением не толь-
ко против Шевырева и тех «советов», которые давал Шевырев передовым рус-
ским литераторам, требуя от них «светскости», но и против тяготевших к Ше-
выреву, смыкавшихся вокруг него реакционно-дворянских литературных кру-
гов. Писатели и критики кружка «Московского наблюдателя» сторонились
гнусного «триумвирата» Греча, Булгарина и Сенковского, подчас даже разре-
шали себе осуждать его. Но н а деле «Московский наблюдатель» все полнее
проникался охранительными тенденциями. В статье «О критике...» Белинский
разоблачил позицию Шевырева, рассмотрев ее в целом и, в частности, анали-
зируя статью Шевырева «О критике вообще и у нас, в России» и рецензию на
одну популярную компиляцию Ж. Жанена 2.
Разбирая статью Шевырева, Белинский разъяснил ее политический харак-
тер. Он процитировал и прокомментировал резко отрицательный отзыв Шевы-
рева о французской литературе, в которой тот увидел «буйство искусства», вы-
званное будто бы слишком «практическим», а не «умозрительным» направле-
нием французской критики. Параллель, проводимая Шевыревым, имела смысл
предостережения, делаемого не столько по поводу всей линии «Телескопа»,
сколько в отношении Белинского: его деятельность выставлялась в виде лите-
ратурных выступлений смутьяна, опасного для «спокойствия» российского
общества.
| Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. Отд. 5. С. 410.
2 См.: Janin J. Romans, contes et nouvelles littéraires; Histoire de la Poésie chez tous les peuples.
Жанен Жюль (1804—1874) —французский критик.
144
Еще нагляднее разоблачал Белинский позиции Шевырева, разбирая рецен-
зию на статью Жанена. Правильно усмотрев в этой рецензии не столько разбор
слабой работы Жанена, сколько еще одно выступление против «буйствующей»
французской литературы, Белинский уже прямо показывает, в какой мере кон-
сервативное «французоедство» совпадает с взглядами Сенковского, которого
тот же Шевырев с таким пылом осуждал в своей статье о «Критике вообще...».
«...Его взгляд на этого писателя (Ж. Жанена.— Р. С.) был бы очень справед-
лив,— писал Белинский,— если бы не отзывался каким-то безотчетным и бе-
зусловным предубеждением против всей современной французской литерату-
ры — предубеждением, которое очень понятно в татарском критике «Библио-
теки для чтения» ', отводящем глаза православному русскому народу от своих
проказ, но которое совсем непонятно в г. Шевыреве, не имеющем никакой нуж-
ды придерживаться такого образа мыслей» [2, 475—476].
Констатировав предвзятое отношение Шевырева ко «всей» французской
литературе, Белинский еще раз показывает реакционную сущность этого «пре-
дубеждения», анализируя отзыв Шевырева об А. де Виньи. «Альфредом де
Виньи,— пишет Белинский,— овладела мысль о бедственном положении поэта
в обществе, о его враждебном отношении к обществу, которому он служит
и которое в награду за то допускает1 его умереть с голоду. Эту идею он выразил
в своем превосходном сочинении «Стелло»... В мысли Альфреда де Виньи много
истины. Но не такой показалась она г. Шевыреву, и он напал на нее стреми-
тельно, опровергает ее с каким-то ожесточением, как явную нелепость, как
клевету на общество» [2, 489].
Рассмотрение причин действительно крайне ожесточенного нападения Ше-
вырева на драму и роман Виньи приводит Белинского к выводу о том, что Ше-
вырев испуган жизненной правдой, раскрывающейся в некоторых сценах
«Чаттертона». Потому-то и требует Шевырев «светской литературы»; потому-то
и старается журнал Шевырева «...о распространении светскости в литературе,
о введении литературного приличия, литературного общежития; он хочет, во
что бы то ни стало, одеть нашу литературу в модный фрак и белые перчатки,
ввести ее в гостиную...» [2, 512].
Искусно используя произведения Виньи, осужденные Шевыревым, Белин-
ский этой реакционной мечте Шевырева о русской литературе «в модном фраке
и белых перчатках» противопоставляет жизненную правду, трагизм современ-
ности, о котором он писал в статье «О русской повести и повестях Гоголя». Бе-
линский приводит цитату из предисловия Виньи к «Чаттертону»: «Разве вы не
слышите звуков уединенных пистолетов? Их удары красноречивее, чем мой
слабый голос. Не слышите ли вы, как эти отчаянные юноши просят насущного
хлеба, и никто не платит им за работу? Как! Ужели нации до такой степени ли-
шены избытка? Ужели от дворцов и миллионов, нами расточаемых, не остается
у нас ни чердака, ни хлеба для тех, которые беспрестанно покушаются насильно
идеализировать их нации?» [2, 512].
Этими словами Альфреда де Виньи Шевырев пользуется как предлогом для
того, чтобы пуститься в рассуждение о будто бы роскошной жизни писателей,
неблагодарных обществу, щедро одаряющему их; у Белинского слова Виньи
превращаются в один из случаев иносказания, дающего возможность великому
критику говорить вещи, которые иначе были бы запрещены цензурой.
«Альфред де Виньи показывает Чаттертона, питающегося почти подаянием,
выпивающего склянку с ядом; Жильбера, при смерти проклинающего своего
отца и мать, за то, что они выучили его грамоте и тем оторвали от плуга и об-
ратили к перу...» [2, 490].
Эту тираду, направленную против современного общественного строя, ко-
торый по мысли Белинского, враждебен таланту, критик усилил ссылкой
1 Речь идет о Сенковском. «Тютюнджи-Оглу»—один из его псевдонимов.
145
на очерк французского писателя О. Люше «Литературное сотрудничество»,
появившийся в русском переводе.
Герой этого очерка — молодой талантливый писатель, под давлением усло-
вий французского буржуазного строя «делает свой талант средством, искусст-
во — ремеслом, лишается первого, теряет способность понимать второе... Такое
нравственное самоубийство не гибельнее ли физического?...»— спрашивает
Белинский [2, 495].
Использование произведений Виньи и Люше для иносказательного обвине-
ния русской крепостнической действительности — один из ярких примеров
глубокой публицистичности, острейшей актуальности произведений Белинского.
Вместе с тем в этой статье Белинского содержатся замечательные наблю-
дения над развитием современного французского искусства, свидетельствую-
щие и о неуклонном росте молодого критика и о тех противоречиях, которые ему
приходится преодолевать.
В начале разбора одной из статей Шевырева Белинский высказывает ха-
рактерное для его ранних работ ошибочное общее суждение о французской ли-
тературе: «Мы думаем, что французской литературе не достает чистого, сво-
бодного творчества, вследствие зависимости от политики, общественности
и вообще национального характера французов, что ей вредят скорописность,
дух не столько века, сколько дня, обаяние суетности и тщеславия, жажда ус-
пеха во что бы то ни стало» [2, 477].
В отличие от М. Я. Полякова ', мы не полагаем, что здесь Белинский просто
повторил мнение Надеждина о французской литературе, изложенное им в его
«Путевых записках».
Во-первых, как мы пытались доказать выше, Белинский уже тогда расхо-
дился с Надеждиным в оценке многих явлений зарубежной литературы. Во-
вторых, эта оценка французской литературы сложилась у молодого Белинского
как следствие его резко отрицательного отношения к тем французским писате-
лям, которых усиленно выдвигала консервативная русская пресса начала сто-
летия: это были модные литераторы, вскоре забытые, либо писатели-роялисты
вроде Шатобриана, чьим стилем восхищался Шевырев, или Ламартина, вос-
принимавшегося в России 30-х годов как характерное проявление салонной
и старомодной поэзии.
Наконец, надо иметь в виду законное и постоянное предубеждение Белин-
ского против ряда второстепенных «развлекательных» французских писателей,
широко популяризировавшихся в дворянской России: мадам Жанлис, мадам
Коттен, Дюкре-Дюмениль и подобные им сочинители и сочинительницы маку-
латурных развлекательно-сентиментальных романов действительно были чрез-
вычайно полно представлены в русских переводах, многократно переиздавав-
шихся даже в годы деятельности Белинского.
Однако поверхностно-снисходительное общее суждение о французской ли-
тературе, приведенное в статье «О критике и литературных мнениях «Москов-
ского наблюдателя», значительно расходится с тем, что Белинский в ней же
говорил о целом ряде явлений французской литературы. Ведь недаром же он
взял под защиту каких-то ее представителей, когда не согласился с предубеж-
дением Шевырева относительно «всей» современной французской литературы.
Кого же защищал Белинский, что он ценил в современной французской лите-
ратуре?
Кроме «литературы Жаненов», т. е. кроме либеральной буржуазной фран-
цузской прессы, Белинский увидел в современной французской литературе А. де
Виньи и заинтересовался, как помним, его двумя произведениями («Стелло»
и «Чаттертон»).
См. его комментарий к 1-му тому собрания сочинений в трех томах В. Г. Белинского (М.,
194а. С 777).
146
Однако Белинский даже тогда — в 1836 г.— был далек от полного приятия
А. де Виньи, о котором он позже будет писать резко отрицательно. Критика
буржуазного общества у Виньи уже тогда не удовлетворяла Белинского. При-
ведя цитату из Виньи, Белинский одобрил ее в той части, которая прямо била
по обществу собственников, но осудил вывод, тут же сделанный Виньи.
Сокрушаясь по поводу участи талантливых юношей, загубленных буржуаз-
но-дворянским строем, Виньи восклицал: «Когда перестанем мы отвечать им:
«despair and die (отчаивайся и умирай)»? Дело законодателя излечить эту ра-
ну, самую живую, самую глубокую рану на теле нашего общества...» [2, 490].
Эту мысль писателя-романтика Белинский называет «очень ложной».
Зато с живым одобрением говорит критик об «Отце Горио» Бальзака, отме-
чая реальность и живость «французской повести».
Особенно многозначительны неоднократные в этой статье упоминания
о Беранже —«царе французской поэзии».
Белинский и раньше ценил Беранже —«беззаботного весельчака-политика».
«...Франция аплодирует на улице, когда видит Беранже»,— писал Белинский
в одной из статей 1835 г., подчеркивая широчайшую популярность поэта. От-
сюда понятно его вполне обоснованное мнение о Беранже как о «великом
и истинном поэте современной Франции», противопоставленном «кокетливо-
продажному» «журнальному болтуну Жанену» с его вздорностью, бесстыдст-
вом, невежеством и наглостью. Уже в этом глубоком противопоставлении на-
родного поэта продажному буржуазному литератору кроется глубокий демо-
кратизм взгляда Белинского на французскую литературу — взгляда, еще очень
противоречивого. Как помним, Белинский писал, что «французской литературе
не достает чистого, свободного творчества вследствие зависимости от полити-
ки»,— между тем слава Беранже, его подлинная народность заключалась
именно в глубоко политическом характере его творчества; Белинский к тому
времени уже имел об этом определенное представление — иначе он не дал бы
известной характеристики поэзии Беранже: «У него политика — поэзия, а поэ-
зия — политика; у него жизнь — поэзия, а поэзия — жизнь» [2, 488].
Особое внимание уделил Белинский очерку «Литературное сотрудничество»
О. Люше; об этом очерке Белинский писал как о «прекрасной статье» и по-
дробно пересказывал ее, противопоставляя материал, содержащийся в ней,
разглагольствованиям Шевырева о роскошной жизни литераторов, неблаго-
дарно обличающих заботящееся о них общество.
При ближайшем знакомстве с ним очерк «Литературное сотрудничество»
оказывается одним из образцов того жанра «физиологии», который сыграл
столь значительную роль в становлении французского критического реализма.
Конечно, в блестящем изложении Белинского он выглядит глубже и острее, чем
сам текст Люше в русском переводе, к тому же, видимо, «смягченном». Под
пером Белинского очерк Люше превратился в своеобразное предвестие «Утра-
ченных иллюзий»; в нем довольно точно намечены основные этапы истории
Люсьена Рюбампре.
Очерк Люше по своему содержанию был гораздо более сильным разобла-
чением буржуазного общества, чем «Чаттертон» Виньи. Белинский использовал
его для того, чтобы подвести читателя к важному, основному выводу своей
статьи: писатели, продающиеся «свету», т. е. правящим классам, работающие
по их заказу, теряют свой талант, совершают «нравственное самоубийство».
Современное общество либо убивает талантливых писателей, либо развращает
их: «С одной стороны, общество его душит, прежде чем узнает о его достоинст-
ве; с другой стороны, оно развращает его своей благосклонностью» [2, 493].
А люди с «литературными мнениями» Шевырева не только прикрывают язвы
этого общества, не только замалчивают его враждебность подлинному искус-
ству, но и призывают к созданию лживой, бездарной «фрачной» и «салонной»
литературы, призывают к свершению этого «нравственного самоубийства».
147
Роман и пьесы Виньи не дали Белинскому такой возможности для обличитель-
ных иносказаний, как очерк Люше. Упоминая его, Белинский сделал смелое
обобщение, распространявшееся на весь современный буржуазный мир: «И это
еще во Франции,— писал он, познакомив читателя с судьбой героя очерка Лю-
ше,— что же в Англии, где кусок насущного хлеба так дорог, где борьба
с внешнею жизнью так ужасна, требует таких великих сил, где люди так хо-
лодны, такие эгоисты, так погружены в себя и в свои расчеты?..» [2, 495].
О. Люше, с точки зрения Белинского, относится именно к тем французским
писателям, которых Белинский высоко ценил и за честь которых вступился,
обороняя их от нападок Шевырева. Белинский едва ли знал, что О. Люше —
один из французских литераторов, связанных с республиканским движением
30-х годов, близкий к рабочим поэтам — предшественникам французской про-
летарской литературы. Тем более знаменательно, что классовое чутье Белин-
ского, ненавидевшего все острее и сознательнее как крепостнические, так
и буржуазные формы угнетения, привело критика именно к одному из тех поэ-
тов-демократов, которые были близки к «героям монастыря Сен-Мерри»—
подлинным представителям народных масс Франции.
У нас есть веские основания для того, чтобы видеть в суждениях о фран-
цузской литературе, сконцентрированных в статье «О критике и литературных
мнениях «Московского наблюдателя», отражение возникающей у Белинского
конкретно-исторической концепции этой литературы.
Эта концепция складывается у него раньше, чем концепция других зару-
бежных литератур; генетически она предшествует развитию взглядов Белин-
ского на другие литературы Западной Европы, и поэтому заслуживает особого
внимания.
В отличие и от Шевырева, и от Надеждина Белинский видит две совре-
менные французские литературы. Он критически относится к литературе ухо-
дящего дворянства и торжествующей буржуазии; осуждает «нелепый роман-
тизм» Гюго, но ценит реальность повестей Бальзака, дающих «синтетическую
картину внешней жизни». Особенно важны для него — политическая поэзия
Беранже и «прекрасная» статья Люше — обличительный очерк передового
французского писателя-реалиста.
Впрочем, в 1836 г. Белинскому еще неясны были положительные идеалы,
которые могли бы быть противопоставлены страшной «внешней жизни», вол-
чьим законам буржуазного общества. В 1835 г. он критиковал сенсимонизм,
бичуя не слабые его стороны, а антибуржуазные, свободолюбивые устремления
сенсимонистов; тогда же он крайне резко отозвался о Жорж Санд, видимо,
связывая ее с сенсимонистами. В замечательных работах Белинского, на-
писанных в 40-х годах, критика сенсимонизма стала следствием понимания его
бесперспективности, но в 1835—1836 гг. отрицательное отношение к сенсимо-
низму было выражением противоречий роста Белинского. Конечно, отсутствие
Жорж Санд в концепции современной французской литературы у Белинского
делало эту концепцию неполной. Но общая тенденция развития литературной
борьбы была схвачена верно: Белинский уже не на «Тимоне Афинском», а на
романах Бальзака, на песнях Беранже и на очерке Люше показывал значение
критического реализма.
Это было сделано Белинским и в противопоставлении повестей Гофмана
и романов Бальзака. Высмеивая «героя» Гофмана, «мученика своего расстро-
енного воображения», живущего в «мире волшебства и фантазии» и заканчи-
вающего свои поиски идеала сумасшествием, Белинский в то же время высоко
оценил «французскую повесть»— со ссылкой на «Отца Горио». В его рекомен-
дации она —«синтетическая картина внешней жизни, а не аналитическая ис-
тория души, сосредоточенной в самой себе, как у немцев, и притом не в фан-
тастических попытках, не в психических опытах, которые всегда неудачны, а в
представлении внешней, общественной жизни» [2, 488]. В правдивом изобра-
148
жении общественной жизни видел Белинский тот путь, который приведет
писателя к народности. Независимо от его последующих мнений о Бальзаке
здесь он упоминал о нем именно как о писателе, который идет этим путем.
В «Литературных мечтаниях» Белинский уже писал о задачах, стоящих пе-
ред русскими писателями-реалистами,— об изображении повседневного тра-
гизма жизни русского крестьянства.
В статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»
Белинский указал и на основную трагическую тему современной действитель-
ности тех стран Европы, где к середине 30-х гг. буржуазия стала правящим
классом: на все усиливающиеся противоречия буржуазного общества, особенно
острые в Англии и Франции, которые зорко выделены Белинским как страны,
где эти противоречия ведут к особенно жестокой эксплуатации, к формирова-
нию особенно бесчеловечной и эгоистической философии жизни.
Уже в 1836 г. Белинский объяснил эти противоречия как страшный контраст
между положением богача и бедняка. Белинский шел к пониманию того,
что сущность противоречия западноевропейского буржуазного общества
30—40-х годов XIX в. заключалась в развивавшейся борьбе труда и капитала.
3
...Статью Белинского «Менцель, критик Гете» (1840) неверно было бы рас-
сматривать только как выражение его восторга перед «олимпийством» Гете,
только как отражение ошибочных эстетических положений, выдвинутых Бе-
линским в период «примирения с действительностью», хотя нелепо и отвергать
их наличие в этой статье.
Известно, что именно в этой статье Белинский прямо заявил, что нельзя
требовать от искусства «споспешествования общественным целям», и дал резко
отрицательную характеристику Жорж Санд за романы, направленные к тому,
чтобы «приложить к практике идеи сенсимонизма об обществе».
Но и эта работа Белинского по всему своему существу была ударом по рус-
ской реакционной критике. Творчество Гете рассматривалось в ней как образец
реалистического мастерства. В Гете Белинский увидел не только «олимпийца»,
но прежде всего великого художника-реалиста. Об этом Белинский
писал и раньше, не раз упоминая о Гете в своих работах 30-х годов и неизменно
отмечая его значение.
В своем утверждении реалистического значения творчества Гете Белинский
был не одинок. Он был поддержан молодым Герценом, рассказ которого «Пер-
вая встреча» обязательно должен быть учтен в данном случае не столько как
художественное произведение, сколько как определенный критический взгляд
на Гете, принадлежащий представителю русской революционно-демократи-
ческой мысли. Несмотря на существенные противоречия, которые есть в оценке
Гете у Герцена и Белинского, было нечто, объединявшее их выступления, при-
дававшее рассказу и статье известную общую целеустремленность.
К тому времени, когда были написаны новелла Герцена и статья Белинского,
русская консервативная критика создала свой культ Гете. Возникший не без
участия Жуковского, этот культ был утвержден в равной степени как офици-
альными ссылками на Гете — великого писателя — в писаниях Булгарина,
Сенковского и Греча, так и стараниями московских «любомудров»— особенно
Шевырева. В 30-х годах незначительный поэт реакционного лагеря Губер,
произведения которого впоследствии вызвали отрицательную рецензию Белин-
ского, выступил с рядом переводов из Гете и с заметками и статьями о его
творчестве.
Общий характер весьма положительной оценки Гете у критиков и писателей
из рядов русской реакции сводился не только к тому, что так называемый по-
литический индифферентизм великого поэта объявлялся причиной успеха его
149
творческой деятельности и обязательным условием его гениальности. К этой
фальсификации Гете— в значительной степени построенной на легенде о нем,
созданной немецкими реакционными романтиками,— присоединялся еще один
обязательный момент: Гете объявлялся «великим идеалистом», христианней-
шим поэтом, художником-отшельником, противопоставившим реальной дей-
ствительности уход в мир эстетической мечты.
Начиная с Августа-Вильгельма Шлегеля, реакционные романтики в Герма-
нии и других странах Европы обращались к авторитету Гете, используя опре-
деленные стороны его противоречий и его отказ от прямой полемики с реакци-
онным романтизмом, к которому Гете относился отрицательно. Реакционному
лагерю русской литературы 20—30-х годов тоже было свойственно стремление
исказить подлинное значение творчества Гете.
Статья Белинского замечательна как полемическое утверждение ценности
Гете-реалиста. Как великий поэт действительности Гете противопостав-
лен в ней немецкому романтизму, с которым его обычно объединяли не-
мецкие и русские реакционные критики.
Основываясь на общепризнанном таланте Гете, Белинский делал в этой
статье чрезвычайно важные и далеко не общепризнанные в те годы теорети-
ческие выводы о сущности реалистического искусства:
«Искусство есть воспроизведение действительности,— писал он,— следова-
тельно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее
так, как она есть на самом деле. Только при этом условии поэзия и нравствен-
ность тождественны. Произведения неистовой французской литературы не по-
тому безнравственны, что представляют отвратительные картины прелюбодея-
ния, кровосмешения, отцеубийства и сыноубийства, но потому, что они с осо-
бенною любовию останавливаются на этих картинах и, отвлекая от полноты
и целости жизни только эти ее стороны, действительно ей принадлежащие,
исключительно выбирают их» (4, 479).
Такому болезненно одностороннему и потому неправильному изображению
действительности Белинский противопоставил в своей статье мастерство Гете
и Шекспира. В произведениях писателя-реалиста, писал Белинский, «есть те же
стороны жизни, за которые неистовая литература так исключительно хватается,
но в нем они не оскорбляют ни эстетического, ни нравственного чувства, потому
что вместе с ними у него являются и противоположные им...» [4, 479].
Так Белинский приходит к представлению о задачах художника-реалиста:
подлинный великий художник должен показать действительность в ее ж и в ы х
противоречиях, а не фиксировать отдельные явления общественного
процесса, не искажать его.
Вполне закономерно, что это требование подлинного реалистического
искусства было сформулировано в работе великого русского мыслителя. Хотя
это положение и выдвинуто в статье, посвященной творчеству Гете, однако оно
сложилось у Белинского как обобщение данных развивающегося русского реа-
лизма.
Статья Белинского утверждала значение Гете — художника-реалиста —
в борьбе против русской реакционной критики. Вот в этом смысле Белинский
и был поддержан рассказом Герцена «Первая встреча» (вставная новелла
в повести «Из записок молодого человека»). В нем проблема Гете поставлена
у Герцена полнее и глубже, чем в статье Белинского. Автор «Первой встречи»
сумел показать кричащие противоречия Гете: он резко осудил «олимпийство»
Гете, его филистерские черты.
Но острота рассказа Герцена, вся сила критики Гете в нем зависит целиком
от того, что Гете — филистеру и «олимпийцу», Гете — врагу французской бур-
жуазной революции противопоставлено впечатление, складывающееся у чита-
телей от лучших его произведений. Пафос рассказа Герцена заключается
в мысли о трагедии великого художника-реалиста, который вместе с тем оттал-
150
кивает от себя своей политической позицией, так унижающей его талант.
И рассказ Герцена, и статья Белинского утверждают значение реалиста
Гете, которое через несколько лет после этого будет подчеркнуто в философских
статьях Герцена мыслями о материалистических элементах в мировоззрении
великого немецкого писателя.
Конечно, и предыдущие статьи Белинского — среди них особенно статья
«Гамлет», драма Шекспира, Мочалов в роли Гамлета» (1838) — имели значе-
ние не только в пределах русской литературы, но и за ними — как в своих чисто
русских материалах, так и в проблематике зарубежных литератур. Однако
статья «Менцель, критик Гете» в этом смысле особенно знаменательный факт:
выступая в европейской критике как провозвестник реализма Гете, Белинский
становился участником той борьбы за Гете, которую вели передовые деятели
мировой культуры.
Статья «Менцель, критик Гете»— одно из резко полемических выступлений
Белинского. Поводом для нее послужило появление русского перевода книги
В. Менцеля «Немецкая литература», вышедшей в Германии в 1827 г. !
Автор книги в годы ее написания был представителем немецкого буржуаз-
ного либерального движения, и печать мещанского самодовольства лежит на
всей книге Менцеля, обвинявшего Гете, Гегеля и других замечательных пред-
ставителей немецкой культуры в том, что они «отстали» от идейного движения
в Германии, т. е. не отвечают требованиям и интересам либерализма.
Энгельс высмеял эти претензии немецких либералов в критических очерках
«Немецкий социализм в стихах и прозе». «Мы упрекаем Гёте не за то, что он не
был либерален, как это делают Берне и Менцель...» 2,— насмешливо писал Эн-
гельс в очерке о книге Грюна «О Гёте с человеческой точки зрения», подчерки-
вая принципиальное отличие марксистского взгляда на Гёте от либерального
пустословия.
Основной смысл критики Менцеля в работе Белинского сводится не только
к вопросу о том, что Белинский возражает на упреки в аполитичности, сделан-
ные Менцелем писателю 3. Самое существенное в возражениях Белинского —
разоблачение мещанского внеисторического, крайне узкого и вульгарного под-
хода Менцеля к Гете. Белинского особенно возмутило то обстоятельство, что
Менцель анализирует творчество Гете, руководствуясь интересами немецкого
либерализма — жалкого, трусливого и самодовольного одновременно. Белин-
ский уже тогда презирал либерализм, прозорливо чувствуя его беспринцип-
ность, ведущую либерала в лагерь контрреволюции в годину подлинного раз-
вития революционного движения масс. Как известно, либерал Менцель осо-
бенно быстро проделал эту эволюцию, характерную для буржуазного либера-
лизма в целом. Ко времени написания статьи Белинского Менцель был уже ре-
негатом.
Если внимательнее проанализировать работу Белинского, мы убедимся, что
он, даже защищая «олимпийство» Гете, отнюдь не видит в нем писателя, дале-
кого от важнейших политических вопросов немецкой жизни. Опровергая Мен-
целя, Белинский писал, что Гете «чувствовал» современные политические со-
бытия. Противопоставляя Гете, не участвовавшего в шовинистической «фран-
цузоедской» шумихе 1813 г., «господам Арндту и Кернеру», проклинавшим
Наполеона, «как губителя своей отчизны», Белинский указал — правда, кос-
венно — на объективно реакционные результаты войны немецких государств
против французов в 1813—1814 гг. и на исторически прозорливую позицию,
занятую по отношению к ней Гете.
1 См.: Menzel W. Die deutsche Literatur. 1827, 1836. Русский перевод издан в 1839 г.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 233.
3 Видимо, Белинский тогда еще не знал о переходе В. Менцеля в лагерь националистической
реакции и о его доносе на «Молодую Германию».
151
Наконец, Белинский все в той же статье особо отметил значение фрагментов
«Прометей». Гете в «Прометее», писал критик, «воспроизвел художнически
момент восстания сознающего духа против непосредственности на веру
признанных положений и авторитетов» [4, 480], а известно, что под выраже-
нием «авторитет» Белинский не раз подразумевал монархический строй.
Наряду с «Прометеем» в статье упомянуты (несмотря на данную в ней об-
щую отрицательную оценку Шиллера) «благородные порывы пламенной, не-
истощимой любви к человечеству» — «Разбойники» и «Коварство и любовь»,
революционное содержание которых, как известно, подчеркивал Энгельс. Стиль
эпитетов, примененных в данном случае Белинским,—«пламенная любовь
к человечеству»— указывает на то, что и теперь, как и в более ранних своих
работах, Белинский видел в пьесах Шиллера революционные произведения.
Следовательно, прежде всего статья «Менцель, критик Гете» была направ-
лена против политиканов, требующих от большого писателя, чтобы он служил
их мелким интересам, и судящих о писателе с точки зрения этих мелких интере-
сов. Мелких, а часто и подлых—и чтобы русские читатели поняли, что
статья касается не только «г. Менцеля», Белинский предпослал ей специальное
вступление: «Года с полтора назад тому сочинение Менцеля о немецкой лите-
ратуре явилось в прекрасном русском переводе... Так как, говоря о Менцеле, мы
хотим говорить о критике, имея в виду собственно русскую публику,— то
и возьмем этот перевод за факт, за данное для суждения, чтобы каждый из на-
ших читателей сам мог быть судьею в этом деле».
В тех русских критиках, которых Белинский обобщенно называл «менцеля-
ми» и против которых была написана его статья, читатель легко узнавал плеяду
реакционных литераторов, травивших Белинского, поучавших Пушкина, тре-
бовавших «светскости» от Гоголя,— Греча, Булгарина, Сенковского — да
и Шевырева, как бы ни был он от них далек. Подобно пигмею Менцелю, ста-
вившему титану Гете в вину то, что они с ним не схожи во взглядах на жизнь
и искусство, русские менцели пытались заставить «критическое направление»
русской литературы служить интересам реакции и преследовали тех русских
писателей, которые становились их противниками.
Статья Энгельса о книге Грюна «О Гёте с человеческой точки зрения», со-
ставившая основу второго очерка работы «Немецкий социализм в стихах
и прозе» (1847), нанесла сокрушительный удар по мещанским фальсификато-
рам Гёте в Германии. За семь лет до нее Гёте был взят под защиту от нападок
либеральных политиканов Белинским.
Статья Г. Гейне «Менцель — французоед» не обладала резкостью и про-
блемностью работы Белинского; Гейне не смог вступиться за Гете с таким пы-
лом, как это сделал Белинский,— возможно, в силу того, что сам склонен был
недооценивать значение Гете.
В дальнейшем, преодолев полосу «примирения с действительностью», Бе-
линский пришел к более глубокой постановке вопроса о противоречиях Гете —
и это было существенным шагом вперед во всем развитии методологии русской
критики.
Следует отметить особое значение статьи «Менцель, критик Гете» в литера-
турном наследии Белинского. Выше мы упоминали о том, что у Белинского по-
степенно складывались свои взгляды на историческое развитие немецкой,
французской, английской и североамериканской литературы (о них русский
критик писал больше, чем о других зарубежных литературах). Сказываясь
в отдельных замечаниях и отзывах Белинского, рассеянных в его работах
о русской литературе, взгляды эти иногда очень полно отражались в тех его
работах, которые были посвящены тому или иному вопросу одной из западно-
европейских литератур. Статья «Менцель, критик Гете», несмотря на свои сла-
бые стороны, примечательна именно как яркое отражение общей концепции
немецкой литературы, возникающей у Белинского на исходе 30-х годов. Весьма
152
ценно, что, опираясь на эту концепцию, Белинский смог верно оценить реакци-
онные позиции Менцеля и его националистически настроенных союзников
и противопоставить их претензиям великие традиции немецкого Просвещения.
4
Процесс стремительного развития, пережитый Белинским в начале 40-х го-
дов, был тесно связан с общеисторическими сдвигами в жизни России и шире —
в жизни Европы.
Во всей европейской действительности и, понятно, прежде всего в русской
действительности Белинского особенно привлекают теперь силы и люди, несу-
щие действенный протест против правящих классов. Недаром такое впечатле-
ние производит на великого русского критика знакомство с Лермонтовым и бе-
седа, состоявшаяся с ним в ордонанс-гаузе после дуэли Лермонтова с Баран-
том. В великом русском поэте Белинский понял и оценил как огромную силу
отрицания, направленную против николаевской реакции, так и огромную силу
любви к русскому народу — чувства, бесконечно близкие и понятные самому
критику.
Путешествуя по Западной Европе, Белинский с особым вниманием отнесся
к положению трудового люда, к проявлению его активности. Еще в 1844 г.
в статье «Парижские тайны» Э. Сю» он выступил с защитой прав европейского
рабочего класса. В письмах из-за границы критик много и взволнованно пишет
о тяжелом положении пролетариата, в частности о жизни силезских рабочих.
Насколько близко к сердцу принимал Белинский события, разыгрывавшиеся
весной 1848 г. в Париже, видно из воспоминаний А. М. Берха, посетившего Бе-
линского незадолго до его смерти. «...Деятельный ум его не был способен
усыпляться, и он тогда совершенно был поглощен политикой и событиями За-
пада. Февральская революция вспыхнула во Франции, и большая обширная
комната, в которой мы находились, носила на себе следы тогдашних его заня-
тий. Всюду висели и лежали географические карты, тут около них теснились
книги, идущие к делу, планы и т. п. Он в то время был в переписке с кем-то из
своих знакомых или приятелей, жившим в Париже и посылавшим ему все го-
рячие животрепещущие вести оттуда. Белинский начал с того, что заговорил со
мною о политических делах Франции, изъясняя влияние переворотов ее на
другие государства» 1.
Как полагают советские ученые, весьма существенную роль в идейном раз-
витии Белинского в 40-х годах сыграло его знакомство с работой Маркса
«К критике гегелевской философии права», известной ему по «Немецко-фран-
цузскому ежегоднику» 2.
Резко критическое отношение Белинского к буржуазии, к капитализму и его
культуре сложилось в течение 40-х годов в последовательную систему взглядов,
далеко превосходящую по своей остроте его более ранние выступления против
власти денег, стяжательства и всесилия богачей. В 40-х годах великий пред-
шественник социал-демократии в России пошел значительно дальше, развернул
в своих работах замечательно глубокую для его времени критику капитализма
на Западе.
Происходивший в мировоззрении Белинского поворот был началом того за-
мечательного пути развития, по которому он шел вплоть до своей безвременной
кончины. Следуя по этому пути, Белинский создал свои лучшие работы — мо-
нографию, посвященную Пушкину, серию больших статей-обзоров по вопросам
русской литературы 40-х годов. Содержанием этих работ была упорная, после-
1 Белинский В. Г. Статьи и материалы. Л., 1949. С. 236.
2 См. об этом: Описание книг библиотеки Белинского/Предисл. и публ. Л. ЛанскогоЦЛитера-
турное наследство. Т. 55.
153
довательная борьба за развитие и победу реалистического направления в рус-
ской литературе, за выдвижение писателей, которые выступили бы как худож-
ники-учители, призывающие широкую демократическую читательскую массу
России к борьбе против самодержавия и крепостничества.
Работы Белинского, поднимавшиеся на все более высокий методологический
уровень, делались все более острыми в своем политическом содержании. Вместе
с гениальным литературоведом в Белинском развивался великий публицист
русской революционной демократии, создатель «Письма к Гоголю», произве-
дения, которое Ленин считал «одним из лучших произведений бесцензурной
демократической печати», сохранивших значение и в эпоху борьбы пролетари-
ата против империалистической реакции '.
Мощное развитие передовых методологических принципов Белинского —
литературоведа, историка и политического мыслителя — идет в теснейшей свя-
зи с развитием материалистической тенденции в его мировоззрении.
Это сказывается в подходе Белинского к литературным явлениям как к от-
ражению классовой борьбы, развертывающейся в определенных исторических
условиях, в подходе к литературе как к оружию, служащему интересам опре-
деленного класса. В своих суждениях, которые были гениальным открытием для
его времени, Белинский приближался к тем взглядам на литературу, которые
развивали в своих работах молодые Маркс и Энгельс.
С особой ясностью признаки такого приближения Белинского к идеям Марк-
са и Энгельса сказались в его работах и высказываниях, посвященных литерату-
рам Западной Европы.
Как и до 40-х годов, проблематика зарубежных литератур то включается
Белинским в его большие статьи, посвященные русской литературе, то рас-
сматривается в его специальных статьях. Разумеется, особый интерес пред-
ставляют для нас специальные работы Белинского, посвященные вопросам за-
рубежных литератур, например статьи о романах Э. Сю («Парижские тайны»
Э. Сю», 1844; «Тереза Дюнойе», 1847) или рецензии на романы Ж. Санд. Не
меньшее значение имеют и те замечания о западных писателях, которые орга-
нически входят в большие работы Белинского — в его монографию о Пушкине,
в обзоры русской литературы.
Поскольку методология Белинского в целом в 40-е гг. становится стройнее
и последовательнее, можно указать на ряд важнейших ее черт, утверждаю-
щихся в это время как известная основа, на которую Белинский опирается
в своих суждениях.
Прежде всего, Белинский увереннее и последовательнее обращается к ис-
торическим фактам как к объяснению важнейших моментов в борьбе литера-
турных направлений. Историзм в подходе к анализу данного литературного
явления тесно связан у Белинского с выяснением специфических нацио-
нальных особенностей, в которых сложился и боролся писатель.
Исторический процесс данной страны, отражением которого является твор-
чество писателя, раскрывается перед Белинским как сложное переплетение
национальных и классовых противоречий. Из них и складывается картина дей-
ствительности, отражаемой в творчестве писателя.
В качестве примера такого исторического подхода Белинского к решению
историко-литературных вопросов укажем на его попытку наметить в общих
чертах английский исторический процесс.
Указывая на остроту противоречий, подмеченных им в истории Англии, Бе-
линский пишет в статье 1841 г. «Князь Даниил Дмитриевич Холмский. Драма...
Н. В. Кукольника»:
«Первая и главная причина этого (острых противоречий.— Р. С.) — трой-
ное завоевание: сперва туземцев римлянами, потом англо-саксами, наконец
1 См.: Ленин В. И. Из прошлого рабочей печати в России//Полн. собр. соч. Т. 25. С. 94.
154
норманнами; далее: борьба с датчанами, вековые войны с Франциею, религиоз-
ная реформа, или борьба протестантизма с католицизмом» [6, 434].
Как видим, налицо попытка разобраться именно во всей сложности классо-
вых и национальных противоречий, принимающих форму захватнических войн
и освободительной борьбы, выступающей под маской религиозных движений.
Именно из этих противоречий выводит Белинский особенности творчества
Шекспира: «...не случайно,— писал он,— Шекспир явился в Англии, а не
в другом в каком государстве: нигде элементы государственной жизни не были
в таком противоречии, в такой борьбе между собою, как в Англии» [6, 434].
Решал ли великий русский критик вопрос о значении творчества Ф. Купера,
давал ли он оценку произведений Гете, писал ли рецензии на новые русские пе-
реводы романов Э. Сю,— во всех этих случаях конкретные исторические усло-
вия эпохи, породившие автора, как и национально-исторические традиции его
страны, становились основой, опираясь на которую, Белинский выносил свое
суждение.
Важнейшей чертой суждений Белинского о зарубежной литературе, отно-
сящихся к 40-м годам, является стремление определить классовую сущность
писателя. За рубежом эта тенденция намечена в работах Гейне и критиков-
чартистов; но Белинский в последовательном проведении этой тенденции го-
раздо ближе, чем они, подходит к Марксу и Энгельсу.
Белинский еще не мог обосновать историческую теорию классовой борьбы
и ее отражение в литературе, связать систематически вопрос о противоречиях
писателя с проблемой классовости искусства. Но в ряде случаев он вплотную
подходил к решению этих вопросов. Белинский ставил вопрос о классовой при-
роде литературы, выясняя, кому же служит то или иное направление в литера-
туре, то или иное художественное произведение.
На материале зарубежных литератур Белинский мог иногда смелее приме-
нять это свое открытие, так как цензура в данном случае была менее придир-
чивой и подозрительной. Исходя из своих революционно-демократических
взглядов на современный исторический процесс на Западе, Белинский прямо
ставил вопрос о литературе, защищающей интересы феодальных и буржуазных
режимов Европы, и о литературе, критикующей буржуазно-дворянское обще-
ство, о писателях, либо непосредственно связанных с революционно-демокра-
тическими движениями 20—40-х годов, либо косвенно и объективно отражаю-
щих в своем творчестве борьбу и чаяния народных масс. Белинский указывал
на то, что эти писатели — Беранже, Жорж Санд, Диккенс — глубоко народны.
Отношение Белинского к защитникам феодальной реакции и к апологетам
буржуазного строя было резко отрицательным. Оно особенно ясно сказалось
в общей оценке явлений реакционного романтизма и в многократных выступ-
лениях Белинского против различных жанров «семейного» и «развлекательно-
го» романа — против романов шведской писательницы Бремер, против романов
А. Дюма-отца, Э. Сю.
Что касается писателей, ценимых Белинским за критику правящих классов
и за сочувствие к бедствиям народных масс, то в данном случае его отношение
оказывается весьма дифференцированным.
Пересматривая свои старые взгляды, не раз менявшиеся до 40-х годов, Бе-
линский порицает себя за недооценку Шиллера —«адвоката человечества».
Шиллер связан для него с традициями просветительского тираноборческого
гуманизма. В работах 40-х годов Белинский утверждает устойчивое признание
Шиллера как благороднейшего общественного поэта, воспитывающего
демократические и гуманные чувства, зовущего на героический подвиг. Дока-
зательства для такого революционно-демократического истолкования Шиллера
почерпнуты преимущественно из «Разбойников» и «Коварства и любви».
Восторженная оценка Байрона, устойчивая и раньше, теперь становится
особенно четкой, подчеркивает политический бунтарский смысл его поэзии,
155
противопоставляет творчество Байрона и его личность английскому
общественному строю.
Беранже, который и раньше относился к числу поэтов, особенно высоко це-
нимых Белинским, осмысляется им в 40-х годах именно как поэт французской
демократии. С острым интересом следит Белинский за творчеством Г. Гейне,
в котором видит одного из крупнейших поэтов современности.
Особенно существенно меняется отношение к Жорж Санд. Если раньше
Белинский упрекал ее за излишнюю тенденциозность, то в статьях и рецензиях
40-х годов Жорж Санд переоценена 1, поставлена выше всех других западных
писателей.
Иначе складывается отношение Белинского к Бальзаку и Диккенсу. Весьма
положительно отзывается критик о целом ряде их романов («Отец Горио»,
«Приключения Мартина Чезлвита», «Домби и сын»), в которых правдиво по-
казаны противоречия буржуазного общества. Но вместе с тем Белинский не раз
выступает с резкими критическими замечаниями и по поводу отдельных произ-
ведений, в которых он видит спад критической тенденции (так было в отноше-
нии «Рождественских рассказов» Диккенса), и по поводу политических взгля-
дов Бальзака и Диккенса. Легитимизм Бальзака и черты мещанской сентимен-
тальности в Диккенсе отталкивали Белинского. Обоих писателей — и особенно
Диккенса — критик обвинял в отсутствии «выводов», под этим подразумевая
отсутствие у Бальзака и у Диккенса той социалистической тенденции, которую
он так ценил в творчестве Жорж Санд.
Однако в целом Жорж Санд, Беранже, Гейне, Бальзак, Диккенс состав-
ляют ту плеяду живых современников Белинского, в творчестве которых он ви-
дит развитие реалистического направления в современной западной литературе.
Наряду с острым интересом к Жорж Санд и Гейне, к Бальзаку и Диккенсу
у Белинского заметно слабеет интерес к В. Скотту и Ф. Куперу. Они для крити-
ка становятся уже пройденным этапом развития зарубежных литератур; их
романы далеки от тех противоречий, которые так приковывают к себе вни-
мание Белинского в европейской современности 40-х годов, идущей навстречу
революционным бурям 1848—1849 гг. Недаром о Купере и Скотте больше всего
сказано в статье «Разделение поэзии на роды и виды», иногда носящей харак-
тер историко-литературных итогов и выводов.
В статьях 40-х годов Белинский намечает борющиеся классовые лагери
в западноевропейской литературе его времени. В ряде статей (особенно в статье
«Парижские тайны» Э. Сю») Белинский показывает, что писатели, служащие
интересам правящих классов Европы, не могут создать подлинно художест-
венных произведений. Их реакционное искусство антинародно, антихудожест-
венно, порачно, вредно. Белинский доказывает, что подлинно художественные,
правдивые произведения объективно несут в себе обличение буржуазного
строя. Реализм, демократичность и народность составляют для Белинского не-
кое гармоническое целое, присущее отдельным западноевропейским писателям.
Но если у Беранже и Жорж Санд эта гармония, с точки зрения Белинского,
достигнута (несмотря на искусственность положительного героя у Жорж Санд,
о чем Белинский писал специально), то в творчестве Бальзака и Диккенса кри-
тик этой гармонии не видит.
В связи с этим возникает вопрос еще об одной существеннейшей черте ме-
тодологии статей Белинского, написанных в 40-х годах.
Белинский и раньше видел, что писатель развивается в противоречиях. Он
прямо писал об этом в своей работе «Менцель, критик Гете». Но в 30-х годах
самые противоречия воспринимались Белинским несколько абстрактно. В ра-
ботах же 40-х годов вопрос о противоречиях ставится на конкретную истори-
ческую и классовую почву. Говоря о противоречиях Гете, Белинский пишет
1 При этом Белинский критикует Ж. Санд за прямое перенесение теорий утопического социа-
лизма в роман, за подмену действительности отвлеченными построениями.
156
о филистерстве немецкого мещанства, о его страхе перед революцией; указывая
на противоречия Байрона, он ставит вопрос о его аристократической среде
и «лордстве»; он подчеркивает ограничивающее влияние консервативной то-
рийской идеологии на В. Скотта; иронизирует над легитимизмом, мешающим
развитию таланта Бальзака.
Не менее важной особенностью высказываний Белинского о зарубежной
литературе, относящихся к 40-м годам, является его систематическое стремле-
ние определить не только классовый характер, но и национальную специфику
данного литературного явления, данного писателя.
Белинский и раньше умел в своих суждениях о зарубежных литературах
подчеркнуть национальные особенности анализируемого им произведения или
художника. Но в 30-х годах эти замечания Белинского бывали иногда проти-
воречивы и не систематичны, подчас отражали идеалистические стороны его
мировоззрения, впоследствии изжитые.
В 40-х годах эти суждения сопровождают любое развернутое высказывание
о западной литературе, тесно увязываются с исторической концепцией Белин-
ского, с его стремлением раскрыть общественный характер исследуемого явле-
ния. Белинский умел, не уходя в абстракцию, дать почувствовать национальный
колорит в оттенках идейного содержания, в своеобразии формы, в конкретных
художественных особенностях произведения.
Важнейшим моментом в постоянных мыслях Белинского о национальной
специфике той или иной зарубежной литературы является его приближение
к постановке вопроса о двух нациях, нарождавшихся в каждой из наций бур-
жуазной Европы, к вопросу о двух культурах.
Разумеется, Белинский не мог осмыслить и поставить эту огромную про-
блему, выяснение которой было под силу только создателям марксистско-
ленинской теории. Даже в работах Маркса и Энгельса 40-х годов эта проблема
только намечалась (см. например, «Положение рабочего класса в Англии»
Ф. Энгельса). Но Белинский в своих статьях отражал реальные факты, свиде-
тельствовавшие о формировании «нации труда», борющейся против «нации ка-
питала», которая становится носительницей реакции, предательницей интересов
широких народных масс.
Шире всего Белинский отразил этот процесс в своих статьях о французской
литературе 40-х годов, и это понятно: во Франции 30—40-х годов процесс раз-
межевания «нации труда» и «нации капитала» развертывался особенно бурно
и активно, предшествуя процессу упадка буржуазной культуры (который на-
чался вскоре после 1848 г.) и быстрому росту культуры рабочего класса.
В этом смысле глубоко симптоматичен тот факт, что зрелость Белинского
совпала с выдвижением первых западноевропейских писателей, связанных
с борьбой рабочего класса, с идеями научного социализма. Такими писателями
были лучшие представители чартистской литературы, немецкие поэты и публи-
цисты «Союза коммунистов» (и среди них особенно Г. Веерт), Г. Гейне, а также
молодой Э. Потье, начало творчества которого относится к 40-м годам.
В статье «Парижские тайны» Э. Сю» Белинский высказал свою глубокую
веру в огромные творческие силы, заложенные в европейском рабочем классе.
Великий русский революционер-демократ дожил до того времени, когда эти
силы начали сказываться в первых выступлениях художников, вышедших из
рядов рабочего класса или навсегда связавших с ним свою судьбу.
* * *
Могучее развитие великого критика, шедшее под влиянием нараставшей
волны народной ненависти к царизму, нашло выражение в том более высоком
уровне обобщений, которым отличаются его статьи 40-х годов.
Теперь Белинский вел борьбу за победу реализма в русской литературе бо-
лее совершенными и научными методами, чем это было в 30-х годах. Умение
157
научно обобщать огромный материал наблюдений и размышлений ярко сказа-
лось в том, как решал Белинский в работах 40-х годов вопрос о направлениях
современной литературы — вопрос о романтизме и реализме.
...Уже в ранних работах Белинский выступал поборником реализма и врагом
реакционного романтизма. Однако попытка теоретически осмыслить сложный
вопрос о романтизме в целом была сделана Белинским только в 40-х годах.
Полнее всего отражение размышлений Белинского о том, что же следует пони-
мать под условным термином «романтизм», представлено в статье «Н. А. По-
левой» и в монографии о Пушкине.
Не все мысли Белинского о романтизме высказаны в его работах. Нередко
за тем или иным выводом, сделанным относительно какой-либо проблемы ро-
мантизма, чувствуется уже сложившаяся, но не развернутая в данном случае
система взглядов Белинского, отраженная в письмах критика. Взгляды Белин-
ского на проблему романтизма изложены в его работах только в некоторых
своих моментах, с точки зрения Белинского, наиболее важных.
Далеко не все во взглядах Белинского на романтизм может быть принято
советской наукой о литературе. В частности, советское литературоведение не
может согласиться с тем местом второй статьи Белинского о Пушкине, где ве-
ликий критик устанавливает особые формы и фазы романтизма, пишет о ро-
мантизме «восточном», «греческом» и «средневековом» '. Но когда Белинский
доходил в работах о Пушкине и в статье о Н. А. Полевом до рассмотрения сов-
ременной романтической литературы, до анализа романтизма как одного из
направлений литературы XIX в., его соображения делались замечательно обо-
снованными.
«Романтизм во Франции,— пишет он в статье «Н. А. Полевой»,— сперва
был реакциею революционному рационализму и явился в ней с Шатобрианом,
этим рыцарем Реставрации» [10, 322].
Выражение «реакция» в применении к романтизму было постоянным тер-
мином Белинского-литературоведа. В той же статье говорится, что немецкий
романтизм был «реакция влиянию французской литературы», причем под тер-
мином «французская литература» здесь, вероятно, следует понимать именно
литературу, насыщенную революционными идеями конца XVIII в.
В монографии о Пушкине эта мысль о романтизме, как о реакции на собы-
тия французской революции, на просветительскую идеологию, выражена еще
яснее: «...романтизм средних веков все еще держал Европу в своих душных
оковах,— развивает свою мысль Белинский,— и — боже мой! — как еще для
многих гибельны клещи этого искаженного и выродившегося призрака!.. XVIII
век нанес ему удар страшный и решительный; но дело тем не кончилось: как
лампа вспыхивает ярче перед тем, когда ей надо угаснуть, так сильнее, в начале
нынешнего века, восстал было из своего гроба этот покойник. Всякое сильное
историческое движение необходимо порождает реакцию своей крайности: вот
причина внезапного появления романтизма средних веков в литературе XIX
века» [//, 245].
Следует разобраться в условном, эзоповом языке этого важнейшего выска-
зывания Белинского об исторических причинах появления романтизма.
Разумеется, «искаженный, выродившийся призрак»— средневековый ро-
мантизм — в данном случае образ, под которым следует понимать старую фео-
дальную Европу, помещичий строй, абсолютизм XVIII в., «старый режим».
«Страшный удар», который нанес по этому «выродившемуся призраку» XVIII
век,— такое же образное обозначение революционных движений этого века
и прежде всего— французской революции. В той же статье Белинский пишет
1 В мысли о том, что романтизм — сумма явлений, существовавших задолго до XIX в., Белин-
ский близок к точке зрения А. Мицкевича, изложенной в предисловии к первому тому стихотворе-
ний (Вильно, 1822).
158
о XVIII веке —«этот умнейший и величайший из всех веков был особенно
страшен для средних веков...» Их он, по словам Белинского, «дорезал... ради-
кально», и здесь образная энергичность глагола сразу же напоминает извест-
ные слова Белинского о его «маратовской любви к человечеству» 1.
«Я понял и французскую революцию, и ея римскую помпу, над которою
прежде смеялся»,— писал Белинский Боткину. Французская революция 1789 г.
и есть то сильное историческое движение, реакцией на которое, по словам Бе-
линского, было появление романтизма средних веков в литературе XIX в.— по-
явление «покойника», «восставшего из гроба», последняя попытка «выродив-
шегося призрака» удержать в «своих душных оковах» Европу.
Эта резкая отрицательная характеристика дана именно реакционному ро-
мантизму. Это к нему должна быть отнесена известная общая отрицательная
оценка художественных свойств романтизма, данная Белинским: «все неточное,
неопределенное, сбивчивое, неясное, бедное положительным смыслом, при бо-
гатстве кажущегося смысла,— все такое должно называться романтическим...»
[12, 43]. Основываясь на вышеприведенной характеристике «выродившегося
призрака» реакционной романтики, осуждал Белинский реставраторскую ан-
тинародную литературу «Священного союза»— Шатобриана и Шлегеля, Саути
и Тика. Писаниям тех, кто служил феодальной реакции, Белинский противо-
поставлял не только самую силу исторического процесса, «радикально доре-
завшего» феодализм в некоторых странах Западной Европы, но и литературу
просветительского движения, высоко ценимую Белинским.
«XVIII век создал себе свой роман, в котором выразил себя в особенной,
только одному ему свойственной форме: философские повести Вольтера и юмо-
ристические рассказы Свифта и Стерна,— вот истинный роман XVIII века.
«Новая Элоиза» Руссо выразила собою другую сторону этого века отрицания
и сомнения — сторону сердца, и потому она казалась больше пророчеством
будущего, чем выражением настоящего...» [11, 218].
XVIII век трудом лучших своих людей «обогащал идеями», по выражению
Белинского, новую философию; он выдвигал тех французских мыслителей, чьи
произведения стали одним из источников марксизма. Призракам средневеко-
вого романтизма было не под силу ни остановить историю, ни победить натиск
новых идей, становившихся силой материальной в обстановке ожесточенной
классовой борьбы. Белинский ясно видел обреченность строя, поддерживаемого
реакционными романтиками, видел антихудожественность и порочность их
эстетики. Но не только эту «средневековую реакцию» на французскую револю-
цию и просветительство заметил русский критик. Убийственно высмеивая и ра-
зоблачая «средневековых» романтиков, Белинский в той же работе о Пушкине
ставит вопрос о романтизме «новом», как он его называет. Вот это замечатель-
ное место его работы: «Много нужно было времени, битв, борений, переворотов
и страданий, чтоб явилась человечеству заря нового романтизма и настала для
него эпоха освобождения от романтизма средних веков» [11, 245].
Предтечей «нового» романтизма Белинский считал в литературах Западной
Европы Байрона. Его он противопоставлял писателям-романтикам, вдохнов-
ляющимся идеалами средневекового романтизма: «Был в Англии другой, еще
более великий поэт и романтик по преимуществу,— писал Белинский о Байро-
не,— но тот наделал много вреда и нисколько не принес пользы средним векам.
(...) ...но он был провозвестником нового романтизма, а старому нанес страш-
ный удар» [//, 246—247].
«...В романтизме современной Европы,— поясняет Белинский,— нет мрака
и много света...». «...Наш новейший романтизм,— утверждает он,— не думает
отрицать любви, как естественного стремления сердца... Не отнимая у чувства
свободы, наш романтизм требует, чтоб и чувство, в свою очередь, не отнимало
1 Белинский В. Г. Письма/Ред. и прим. Е. А. Ляцкого. Пб., 1914. Т. 2. С. 246.
159
у человека свободы, а свобода есть разумность. (...) Широка жизнь, и много
дорог на ее бесконечном пространстве, и любую из них может выбрать себе
свободная деятельность мужчины» [11, 252—254].
И дальше, развивая эту мысль через несколько страниц, Белинский уже
полностью намечает программу нового романтизма, который он подчас назы-
вает «нашим романтизмом»: «...есть для человека и еще великий мир жизни,
кроме внутреннего мира сердца,— мир исторического созерцания и обществен-
ной деятельности,— тот великий мир, где мысль становится делом, а высокое
чувствование — подвигом,— и где два противоположные берега жизни — здесь
и там — сливаются в одно реальное небо исторического процесса... Это мир
непрерывной работы, нескончаемого делания и становления, мир вечной борьбы
будущего с прошедшим... (...) Благо тому, кто... носил в душе своей идеал
лучшего существования, жил и дышал одною мыслию — споспешествовать, по
мере данных ему природою средств, осуществлению на земле идеала...»
[11, 272].
Этот патетический отрывок заканчивается образом борца «за святое дело
совершенствования», гибнущего с чувством выполненного долга, с верой
«в победу святого дела».
Едва ли можно сомневаться и в подлинном смысле «идеала», о котором вы-
нужденно иносказательно говорил Белинский. Вторая статья о Пушкине, где
находилась эта страстная проповедь борьбы за «святое дело совершенствова-
ния», вышла в IX книге журнала «Отечественные записки» в сентябре 1843 г.,
а еще осенью 1841 г. Белинский писал Боткину о том, что «идея социализ-
м а» стала для него «идеей идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою
и омегою веры и знания» 1. «...Ею я объясню теперь всю жизнь мою, твою
и всех, с кем встречался на пути к жизни»,— писал Белинский дальше. Не-
сомненно, что великая идея социализма лежала в основе «идеала», в основе
дела «совершенствования», к борьбе за которое звал Белинский.
В отличие от несбыточных мечтаний реакционных романтиков, «идеал» но-
вого, современного романтизма был для Белинского осуществимым, истори-
ческим будущим человечества. Уже в этой особенности «нового романтизма»
была выражена его характерная черта — теснейшая связь с реальностью:
«здесь и там — сливаются в одно реальное небо исторического прогресса».
Характернейшей чертой «нового романтизма» Белинский считал его тесную
связь с жизнью, с действительностью; недаром еще в «Литературных мечтани-
ях» великий критик называл Байрона, Мицкевича, Мандзони представителями
«поэзии действительности».
Белинский связывал проблему «нового романтизма» с идеями социализма
(очевидно, их подразумевал он под «идеалом», которому призван служить пе-
редовой писатель его времени) и с реалистическим направлением в современ-
ных литературах. Вместе с тем пламенная проповедь революционного искусст-
ва, приведенная выше, звала писателей к такому реализму, в котором имеются
черты «нового романтизма», к реализму, насыщенному революционной мечтой
о преобразовании общества.
Было бы, однако, неправильно считать, что Белинский отождествлял «новый
романтизм» с критическим реализмом зарубежных писателей XIX в. Хотя Бе-
линский и высоко ценил актуальность поэзии Байрона, ее реалистические тен-
денции, однако он не характеризовал поэтику «нового романтизма» теми эпи-
тетами, которыми наделял творческий метод Бальзака или Диккенса.
Говоря об этих представителях европейского критического реализма, Бе-
линский постоянно подчеркивает точность передачи явлений действительности,
типизацию, как характерную черту творческого метода этих писателей.
1 Белинский В. Г. Письма. Т. 2. С. 262.
160
«О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми от-
тенками их индивидуальности»,— писал Белинский об «Истории тринадцати»
Бальзака; «что за разнообразие характеров, так глубоко задуманных, так верно
очерченных»,— писал он о «Мартине Чезлвите».
Анализируя творчество Байрона, Белинский никогда не отмечал этой осо-
бенности — искусства правдивой передачи многообразия современ-
ной социальной жизни. Об этом качестве Белинский пишет именно
тогда, когда характеризует творчество писателей-реалистов.
Ценя кровную связь поэзии Байрона с действительностью, Белинский обра-
щал внимание русского читателя на черты субъективности в поэтике Байрона,
на его «односторонность», на титанизм его образов. Особенности романти-
ческой эстетики отличают в понимании Белинского творчество Байрона от
творчества писателей-реалистов, с которыми он, однако, связан наличием
мощного обличительного начала, умением отзываться на острейшие вопросы
современности.
Однако ни Бальзак, ни Диккенс не отвечали своим творчеством той
программе боевого искусства, которую Белинский изложил во второй статье
о Пушкине. Герои произведений этих крупнейших представителей западноев-
ропейского критического реализма — за исключением некоторых персонажей
Бальзака — далеки от борьбы во имя преобразования общества, к которой звал
Белинский.
Вот почему, показывая русскому читателю достоинства Бальзака и Дик-
кенса — критиков буржуазного строя на Западе, Белинский еще выше их ста-
вил Жорж Санд, которую не раз называл в работах 40-х годов наиболее выда-
ющимся писателем современной зарубежной литературы.
Исключительное внимание Белинского к Жорж Санд, как выше уже гово-
рилось, объясняется именно тем, что в ее лучших романах русский критик на-
ходил призыв к борьбе за преобразование общества, героические образы людей,
способных на эту борьбу, все то, чего не было в романах Диккенса и Бальзака,
известных Белинскому. На рубеже 30—40-х годов, отражая подъем революци-
онного движения во Франции, Жорж Санд смогла создать произведения, об-
ладавшие не только критической направленностью, разоблачавшей буржуазное
общество, но и положительным идеалом «совершенствования общества»; в ее
романах открывался мир, «где мысль становится делом, а высокое чувствова-
ние — подвигом». Черты «нового романтизма» соединялись в данном случае
с чертами реального изображения действительности.
Вместе с тем Белинский видел и недостатки некоторых романов Жорж
Санд — особенно тех, в которых утопический социализм писательницы про-
явился в самых слабых своих сторонах. Критикуя эти романы, Белинский вы-
ступил фактически с критикой утопического социализма, что свидетельствовало
о его дальнейшем росте, о развитии материалистических сторон мировоззрения
замечательного предшественника русской социал-демократии. «Вспомните ро-
маны Жоржа Санда: Le Meunier d'Angibault, Le Pèche de Monsieur Antoine,
Isidore \— писал Белинский, указывая, что в них «автор существующую дей-
ствительность хотел заменить утопиею, и вследствие этого заставил искусство
изображать мир, существующий только в его воображении. Таким образом,
вместе с характерами возможными, с лицами всем знакомыми, он вывел ха-
рактеры фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался со сказкою,
натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с реторикою» 2.
Эти замечания Белинского глубоко значительны не только как критика не-
достатков романов Жорж Санд, но и как важное высказывание о сущности ре-
алистического творчества — подлинный художник-реалист, даже вдохновляясь
1 «Мельник из Анжибо», «Грех господина Антуана», «Изидора».— Ред.
2 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года//Т. 11. С. 101.
6 Р. М. Самарин
161
революционной мечтой, должен изображать «характеры возможные» — не
фантастические, но и не эмпирически скопированные, аправдоподобные
в своем обобщении.
Белинский считал, что отсутствие революционно-демократической тенденции
обедняет творчество Диккенса и Бальзака, ослабляет художественную ценность
их произведений. Однако великий русский критик был далек от механисти-
ческого, вульгарного противопоставления писателей-реалистов, вдохновляв-
шихся идеями демократии и социализма,— художникам-реалистам, далеким от
этих идей, но обличающим корыстность и бесчеловечие буржуазного строя.
Рассматривая художника в его развитии, Белинский с полным основанием
считал, что борьба народных масс и учения, порождаемые ею, не могут не вли-
ять положительно на развитие писателя. Белинский чутко улавливал признаки
этого влияния. Отсюда тот пристальный интерес, с которым Белинский следил
за творческим ростом Диккенса в 40-х годах.
Отзываясь о писателе одобрительно, но сдержанно в более ранних работах,
Белинский в обзоре русской литературы за 1847 г. охарактеризовал новые ро-
маны Диккенса («Мартин Чезлвит», «Домби и сын») как произведения, кото-
рые «глубоко проникнуты задушевными симпатиями нашего времени»,— так он
никогда не отзывался о произведениях Диккенса до того, как появились в рус-
ском переводе эти его романы.
Верно улавливая общее направление развития литературного процесса,
Белинский в своей оценке писателей-реалистов Запада нередко ошибался. Ве-
ликий русский критик не смог по достоинству оценить творчество Бальзака
и Диккенса. Не поднявшись до исторического материализма, он не нашел пра-
вильного критерия для раскрытия значения школы английских реалистов, как
крупного явления в истории английской литературы; не было у Белинского
правильного критерия и для оценки Бальзака.
Слишком высока была оценка, данная в работах Белинского романам
В. Скотта и Ф. Купера, хотя в более поздних своих работах критик указывал на
ограниченность обоих писателей — в одном случае связывая ее с торийским
политическим романтизмом, в другом—с консервативностью американских
землевладельцев, сопротивлявшихся аграрному движению 20—30-х годов
XIX в. Наряду с этим, Белинский даже в зрелые годы не раз переоценивал значе-
ние писателей второстепенных. Так было с одним из романистов бальзаковской
школы, Ш. Бернаром, которого Белинский ставил незаслуженно высоко.
Однако из всего сказанного нельзя сделать вывод о том, что русский критик
недооценивал или преуменьшал в целом значение западноевропейских крити-
ческих реалистов. Белинский видел в зарубежных художниках-реалистах пе-
редовое, важнейшее явление современной литературы на Западе. Каковы бы ни
были его критические суждения о Бальзаке и Диккенсе, о Жорж Санд и Бе-
ранже, он постоянно выдвигал эти имена как крупнейшие имена мировой лите-
ратуры.
Как было сказано выше, Белинский считал, что романтизм возник и сло-
жился в обстановке революционных движений начала XIX в., образно охарак-
теризованных им как пора «битв, борений и переворотов». Не менее богата
фактами, не менее замечательна по глубине содержания и та картина истори-
ческих событий, которая складывается в работах Белинского как анализ усло-
вий, способствующих возникновению и развитию критического реализма
в странах Западной Европы.
Об исторической жизни Европы в 30—40-х годах XIX в. Белинский говорит
во многих своих письмах и работах, подчеркивая постоянно одну ее особен-
ность, ярко охарактеризованную в письме к Боткину: на Западе «буржуазй»,
как пишет Белинский, превратилась из революционной в реакционную, закан-
чивается период буржуазных революций, исторически-прогрессивная роль
буржуазии в некоторых странах Запада (во Франции, в Англии) — уже позади,
162
и теперь она соединяет свои усилия с усилиями покорного ей, побежденного
дворянства для того, чтобы сообща эксплуатировать и угнетать народные мас-
сы. В письмах и работах Белинского все чаще и ярче возникает мысль о вели-
ком будущем трудового народа, о великой исторической миссии «работника»,
«пролетария», как говорил критик в последние годы своей жизни (письмо Бот-
кину из Германии).
С наибольшей полнотой критика капитализма, полная веры в великое буду-
щее народных масс Запада, развертывается в статье Белинского «Парижские
тайны» Э. Сю» (1844) '.
В этой работе особенно определенно наметились черты Белинского как
предшественника социал-демократии в России. Белинский дал замечательное
по сжатости и полноте описание противоречий труда и капитала в том их виде,
в каком он наблюдал эти противоречия в современной западноевропейской
действительности.
Противоречия французской действительности раскрыты в этой статье в за-
мечательной фразе, которая сама по себе свидетельствует о том, насколько уг-
лубились к тому времени исторические взгляды Белинского. Анализируя фран-
цузскую историю после 1830 г., говоря о том, что только народ вырвал власть из
рук монархии и был после своей победы предан буржуазией, Белинский писал:
«Аристократия пала окончательно; мещанство твердою ногою стало на ее
место, наследовав ее преимущества, но не наследовав ее образованности,
изящных форм ее жизни, ее кровного презрения, высокомерного великодушия
и тщеславной щедрости к народу. Французский пролетарий перед законом ра-
вен с самым богатым собственником (propriétaire) и капиталистом; тот и дру-
гой судится одинаким судом и, по вине, наказывается одинаким наказанием; но
беда в том, что от этого равенства пролетарию ничуть не легче. Вечный работ-
ник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо
тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату» [8, 471]. «...Вся
власть, все влияние на государство,— продолжает Белинский,— сосредоточены
в руках владельцев, которые ни единою каплею крови не пожертвовали за хар-
тию, а народ остался совершенно отчужден от прав хартии, за которую стра-
дал» [6\ 472].
Однако угнетаемый, ограбленный, хищнически эксплуатируемый народ,
«работник», «пролетарий», «рабочий класс» только начал свой исторический
путь, и будущее за ним. С огромной верой в силы французского рабочего пишет
Белинский о его исторической миссии, и в его словах, конечно, следует искать
обобщающий смысл; они относятся не только к французскому рабочему классу,
а шире— к рабочему классу в целом.
Белинский еще в 1844 г. был убежден, что у народных масс «есть будущее,
которого уже нет у торжествующей преобладающей партии, потому что в на-
роде есть вера, есть энтузиазм, есть сила нравственности» [#, 473].
Показав, что народные массы Франции, и прежде всего рабочий класс, были
решающей исторической силой во всех больших политических событиях
30-х годов, Белинский делает общий вывод: «Таким образом, народ сделался во
Франции вопросом общественным, политическим и административным. Понят-
но, что в такое время не может не иметь успеха литературное произведение, ге-
роем которого является народ» [8, 473].
Роман Э. Сю, которому посвящена статья Белинского, подвергнут в ней
справедливой разоблачительной критике: русский революционер-демократ по-
казал читателю, что для Э. Сю народ — средство литературной спекуляции, что
его роман о народе не народен, дает ложное о нем представление. Но весь
1 Значение этой работы Белинского, во многом существенно приближающейся, но все же не
поднимающейся до уровня марксистской критики, полно и глубоко охарактеризовано в статье А. Ф.
Иващенко «Белинский о французском социально-утопическом романе» (сб.: Белинский — историк
и теоретик литературы. М.; Л., 1949).
6*
163
смысл статьи был в том, что Белинский доказательно обосновал свою мысль
о важности подлинно народной темы в современной литературе, о необ-
ходимости создания таких произведений, которые дали бы правдивую картину
противоречий труда и капитала, извращенную в романе Сю. Эти противоречия
Белинский считал теперь важнейшей исторической особенностью западноевро-
пейской современности; о них он говорил, упоминая о западных писателях-ре-
алистах.
Произведения, разоблачавшие царство «золотого тельца», высоко ценились
Белинским, как это было с «Мартином Чезлвитом» и «Домби и сыном»; еще
положительнее отзывался он о произведениях, в которых выдвигались люди из
народа, в которых проповедовались социалистические идеи,— об этом свиде-
тельствуют оценки романов Жорж Санд, произведений Гейне и Беранже.
Ценя в Бальзаке, Диккенсе, Жорж Санд писателей, разоблачающих капи-
тализм, Белинский тем самым подчеркивал новое качество литературы крити-
ческого реализма на Западе. Если революционные романтики боролись прежде
всего против феодально-романтического призрака средневековой старины,
возрождаемой «Священным союзом», то писатели критического реализма вы-
ступали не столько против пережитков этой старины, еще державшейся кое-где
в Европе, сколько против «золотого тельца», против «господина с головой осла
на туловище быка»— против капитализма, против служивших ему буржуазных
литераторов, неустанно бичуемых и высмеиваемых в статьях Белинского.
Образ западного пролетария, образ рабочего человека Запада вырисовы-
вается в этой статье Белинского, как и в других его статьях и письмах, с яр-
костью и силой почти художественной. Видя в рабочем классе Франции основ-
ные массы французского народа, Белинский считал, что именно «народ», ото-
ждествляемый им в этой статье с рабочим классом, «хранит в себе огонь наци-
ональной жизни и свежий энтузиазм убеждений, погасший в слоях «обра-
зованного общества».
Упоминая в этой же статье о поэтах, растущих во французском народе,
о развитии образования в народных массах, Белинский противопоставлял эти
рождающиеся новые культурные ценности, создаваемые французским рабочим
классом, продажной и начинающей загнивать культуре буржуазной Франции.
Белинский верил в то, что культура народов мира в ее дальнейшем развитии
будет создана при ближайшем и непосредственном участии народных масс, за-
крепощенных в царской России, томившихся под игом капитала в Западной
Европе, но уже и тогда Белинский видел в натиске народных масс, противив-
шихся капиталистическому закабалению, важный фактор формирования
и развития крупнейших современных художников Запада — представителей
критического реализма.
Во взглядах Белинского на развитие мировой литературы первой половины
XIX в. особое место занимала проблема славянских литератур. И сильные сто-
роны русского критика, и некоторые его заблуждения сказались с большой
остротой именно в этом вопросе.
Как было сказано выше, Белинский смело ввел в мировой литературный
процесс русскую литературу, широко и разносторонне показав и ее значение
в развитии европейской литературы и ее лучшие традиции в прошлом. Настой-
чиво говорил Белинский и о международном значении творчества А. Мицкеви-
ча —«одного из величайших мировых поэтов». Подчеркнем, что во взглядах
Белинского и Мицкевича на литературу есть очень много общего (например,
оценка Байрона и Пушкина).
Есть много данных, свидетельствующих о том, что Белинский с интересом
следил за развитием и других славянских литератур. Об этом говорят его ре-
цензии на такие издания, как «О характере народных песен у славян задунай-
ских» Ю. И. Венелина (1835), «Повести и предания народов славянского пле-
мени» Н. Боричевского (1840), «Сказания русского народа» П. Сахарова
164
(1841; Белинский особо отметил обильный материал сравнительно-славяно-
ведческого характера, использованный автором), «Денница ново-болгарского
образования» В. Априлова (1842) и даже резко полемический отзыв о «Сла-
вянском сборнике» Н. В. Савельева-Ростиславича (1845). Замечания Белин-
ского о славистах первой половины XIX в.— Караджиче, Ганке, Копитаре,
Шафарике, особенно о Бодянском, товарище Белинского по университету,—
тоже свидетельствуют о внимании великого критика к этому разделу фило-
логии.
Но нередко Белинский воспринимал работу славистов начала XIX в. в связи
с русским славянофильством, видел в результатах научных исследований ма-
териалы, укрепляющие позиции славянофилов и потому ими популяризуемые.
Статьи Белинского, связанные с проблемами славистики, нередко с начала до
конца были полемикой со славянофилами, как это случилось, например, с ре-
цензией на книгу Априлова, и в пылу полемики объективное значение самой
книги отходило порой на задний план. По верному наблюдению С. А. Венгеро-
ва, именно в отношении Белинского к литературам южных и западных славян
(за исключением польской, которую Белинский ценил высоко) особенно долго
сохранялись непреодоленные последствия «примирения с действительностью».
Это выразилось, например, в том, что Белинский не смог понять драматического
смысла и прогрессивного характера борьбы южных славян против турецкого
ига, борьбы чехов и словаков против германизаторской политики Габс-
бургов '.
Нельзя не заметить известную недооценку некоторых славянских литератур
у Белинского, связанную еще и с тем, что в них он видел литературы отсталые,
еще не вышедшие на самостоятельный путь развития. Эта точка зрения была
связана, кроме того, с недооценкой значения традиций устной словесности для
развития письменной литературы в этих странах.
При всем том общее отношение Белинского к молодым славянским литера-
турам характеризовалось теплым и заинтересованным вниманием, когда речь
шла о собственно художественных произведениях, а не о том, как их трактуют
в славянофильской печати. «Намерение прекрасное и благородное! — писал
Белинский в 1835 г. о стремлении Венелина популяризовать некоторые произ-
ведения южнославянской поэзии.— Мы так мало знакомы в этом отношении
с нашими соплеменниками, что должны радоваться всякому добросовестному
труду, который может обогатить нас хотя несколькими фактами. Книжка
Г. Венелина содержит в себе много богатых и, что всего важнее, освещенных
идеею фактов» [2, 397—398].
Впоследствии Белинский изменил свое отношение к Венелину и отзывался
о нем скептически. Но недаром он упоминал о славистике, «освещенной идеею»;
это замечание помогает понять и враждебное отношение критика к целому ряду
славистов, руководствовавшихся идеями, враждебными Белинскому («славя-
нофильской доктриной», как писал Белинский), и его глубоко положительное
отношение к славистическим работам Грановского, к трудам Бодянского, ко-
торые, видимо, были «освещены идеями» гораздо более приемлемыми для Бе-
линского, чем идеи С. М. Соловьева или Савельева-Ростиславича.
Наконец—и это самое важное — Белинский, отзываясь на развитие сла-
вистики и на появление новых книг, свидетельствовавших о ходе литературного
развития в славянских странах, констатировал выдвижение новых националь-
ных литератур, отводил им место в общем литературном процессе. Его дру-
жеские слова —«Учитесь, учитесь, добрые, почтенные Болгары!», обращенные
к Априлову, прозвучали как приветствие новой молодой литературе, вступав-
шей в период своего бурного развития.
1 Во всех этих случаях речь идет о политической ситуации XIX в. Белинский с глубоким ува-
жением относился к героическому прошлому южных и западных славян.
165
Суждения Белинского о различных литературах Запада, как уже говори-
лось, всегда обнаруживают стремление критика дать конкретное представление
об исторической и национальной специфике историко-литературного процесса
в условиях данной страны. В его высказываниях о немецкой, французской, ан-
глийской и американской литературах имеются плодотворные наблюдения над
проявлявшимися в них чертами национального характера. Замечательно, что
великий русский критик неизменно приходит к выводу о борьбе различных со-
циальных элементов внутри одной нации, о различных чертах национального
характера, по-разному выражавшегося в людях одной нации.
Однако, изучая проблемы национальной традиции и национальной специ-
фики в зарубежных литературах, Белинский интересовался ими не оторванно,
не абстрактно, а в теснейшей связи с вопросом о русском национальном харак-
тере, о перспективах исторического развития русского народа.
Белинский закономерно пришел к выводу о том, что в изучении различных
национальных традиций, свойственных различным литературам, к определен-
ным итогам можно приблизиться, только ставя вопрос о взаимосвязях культур
и народов, а следовательно, и литератур.
Выше уже говорилось о попытке Белинского создать целостную концепцию
европейского историко-литературного процесса, в которой взаимодействие ли-
тератур играет определенную роль. Эта концепция европейского историко-ли-
тературного процесса намечена в «Объяснении на объяснение по поводу поэмы
Гоголя «Мертвые души» (1842).
Выступая в ней против К. Аксакова, вырывавшего историю русской культу-
ры из общеевропейского историко-культурного процесса, Белинский противо-
поставил концепции Аксакова свою точку зрения на историю литературы. «Как,
кроме частных историй отдельных народов, есть еще история человечества —
точно так, кроме частных историй отдельных литератур (греческой, латинской,
французской и пр.), есть еще история всемирной литературы, предмет кото-
рой — развитие человечества в сфере искусства и литературы» [7, 435].
Говоря об истории всемирной литературы, Белинский отнюдь не снимает
вопроса о различии историко-литературных процессов в разных странах мира,
но подчеркивает необходимость широкого научного взгляда, который улавли-
вал бы прежде всего ход «развития человечества», определенную закономерную
традицию.
Развивая свою идею «истории всемирной литературы», Белинский сначала
упоминает и поэмы Гомера, и древнеиндийский эпос — для него они есть этапы
в развитии эпоса. Однако, наметив такие огромные масштабы исследования,
Белинский в дальнейшем сознательно сокращает их: на первый план выступают
имена Ариосто, Сервантеса, Свифта, Стерна, Вольтера \ Руссо 2, подводящие
читателя к В. Скотту, как этапы в развитии европейского романа, предшеству-
ющие появлению Гоголя и других мастеров европейского романа XIX в.
Намечая свою концепцию истории всемирной литературы, Белинский писал:
«Само собою разумеется, что в этой истории должна быть живая, внутренняя
связь, что она должна предыдущим объяснять последующее, ибо иначе, она
будет летописью или перечнем фактов, а не историею» [7, 435].
Далее в статье «Объяснение на объяснение...» вопрос об этой «внутренней
связи» и раскрытии «последующего» через «предыдущее» поставлен несколько
узко — в пределах эпического жанра. Значительно подробнее высказана идея
этой «внутренней связи»— основной принцип концепции — в статье о стихо-
творениях Е. Баратынского, которая появилась в том же 1842 г. В ней принцип,
1 С важной оговоркой в скобках: «...Вольтер (философские романы и повести)»—т. 7, с. 435.
2 Также с оговоркой: «...Руссо («Новая Элоиза»)»— там же.
166
на котором строится у Белинского концепция европейского историко-литера-
турного процесса, изложен в связи с глубокой критикой мировоззрения талан-
тливого русского поэта. Белинский высоко оценил замечательное дарование
Баратынского, но с чрезвычайной наглядностью показал в этой статье, как
консервативное мировоззрение мешало развитию поэта, как поэзия, «...сде-
лавшись органом ложного направления... лишается той силы, которую мог бы
сообщить ей талант поэта» [7, 484].
В связи с анализом этого «ложного направления» и возникает вопрос
о принципе, который лежал в основе концепции европейского историко-литера-
турного процесса, видимо, уже сложившейся к тому времени у Белинского.
«Величайший недостаток» Баратынского Белинский увидел в его страхе пе-
ред жизнью, перед человеческим разумом; перед действительностью и законами
ее развития, ломающими старый дворянский уклад русской жизни, старый фе-
одальный уклад Европы. «Жизнь как добыча смерти, разум как враг чувства,
истина как губитель счастья,— вот откуда проистекает элегический тон поэзии
г. Баратынского, и вот в чем ее величайший недостаток». И, противопоставляя
пессимизму Баратынского жизнеутверждающую, революционную точку зрения
на действительность, Белинский вспоминает о пушкинском «Демоне». Развивая
свою мысль, он отождествляет пушкинского демона с критическим началом,
помогающим понять ход исторического развития человечества. Этот демон —
пишет Белинский,—«служит и людям и человечеству, как вечно движущая сила
духа человеческого и исторического. (...) Он внушал Сократу откровения его
нравственной философии и помогал ему дурачить софистов их же обоюдоост-
рым оружием. Он внушал Аристофану его комедии; он нашептывал ритору
Лукиану его «Диалоги богов»; он помог Коломбу открыть Америку; он изобрел
порох и книгопечатание; он продиктовал Ульриху Гуттену его злую сатиру
«Epistolae obscurorum virorum» \ Бомарше — его «Фигаро», и много философ-
ских сказок и сатирических поэм продиктовал он Вольтеру; он уничтожил
ошейники вассалов и рыцарские разбои феодальных баронов, священную ин-
квизицию и благочестивое ауто-да-фе. Гёте схватил его только за хвост в своем
Мефистофеле, а в лицо только слегка заглянул ему. Зато колоссальный Байрон
не трепеща смотрел ему в очи и гордо мерялся с ним силою духа и, как равный
равному, подал ему руку на вечную дружбу» [7, 485—486].
Таким образом, здесь «внутренней связью», принципом, на котором зиж-
дется концепция европейского историко-литературного процесса, становится
развитие «критического направления» в литературах Европы. И так же зако-
номерно, как в очерке развития эпического жанра в статье «Объяснение на
объяснение...» появляется Гоголь, здесь—как представители нового этапа
в развитии критического направления — появляются Пушкин и Лермонтов.
Как видим, эта концепция полностью совпадает со взглядом Белинского на
исторический процесс развития европейского общества, приведенным нами вы-
ше: Белинский выделяет в европейских литературах именно тех писателей, чьи
произведения особенно глубоко отражают противоречия гибнущего феодаль-
ного и возникающего буржуазного строя.
Принцип развития «критического направления», избранный как основа для
всей концепции европейского историко-литературного процесса, никак не проти-
воречил намеченной в «Объяснении на объяснение...» истории эпического жан-
ра, а, скорее, дополнял ее, наполнял ее живым историческим содержанием; за
именами писателей и названиями художественных произведений чувствуется
историческая основа, борьба общественных сил.
Но в наиболее полной форме концепция европейского историко-литератур-
ного процесса XIX в. изложена в одной из самых замечательных поздних работ
1 «Письма темных людей».— Ред.
2 Описка: в данном случае под «вассалами» Белинский подразумевает «несвободных» крестьян
феодальной Европы. Образ, видимо, подсказан чтением «Айвенго».
167
Белинского — в статье 1847 г. «Тереза Дюнойе». Очерк истории европейского
романа, данный на ее страницах, есть вместе с тем очерк борьбы лучших писа-
телей Европы XVIII — XIX вв. за правдивое изображение действительности.
Новейшим и важнейшим этапом в этой борьбе Белинский считал историю воз-
никновения социального романа, нарождавшегося на его глазах в современной
литературе и отражавшего бурные события современности — конфликт «демо-
кратии» и «среднего сословия», борьбу рабочего класса против господства
буржуазии, о чем прямо писал Белинский в статье 1844 г. «Парижские тайны»
Э. Сю».
Крупнейшим мастером этого современного романа —«общественного, или
социального», в его определении Белинский по-прежнему считал Жорж Санд.
Жорж Санд в статье «Тереза Дюнойе» противопоставлена западноевропей-
ской буржуазно-апологетической литературе, служившей «принципу собствен-
ности», шедшей на сознательное искажение действительности.
Но Белинский уже видел несбыточность и фантастичность идеалов Жорж
Санд и утопических социалистов. С тем большим вниманием он обращался
к русской литературе, к русскому народу: от него он ждал великих дел, которые
изменят не только судьбу России. Белинский верил, что его родине «в буду-
щем... представляется гораздо больше, чем в прошедшем». В статье «Взгляд на
русскую литературу 1846 года» он писал: «Да, в нас есть национальная жизнь,
мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль» [10, 401].
Его последний годовой обзор русской литературы «Взгляд на русскую ли-
тературу 1847 года» прямо подчеркивал уже намечавшееся превосходство рус-
ской революционно-демократической литературы перед зарубежным «социаль-
ным» романом: критикуя романы Жорж Санд «Грех господина Антуана»
и «Мельник из Анжибо», он отмечал как глубоко положительное явление роман
Герцена «Кто виноват?», свидетельствовавший о начале нового этапа в раз-
витии социального романа, в развитии реалистического искусства.
В 30-х годах, полемизируя с Шевыревым и Надеждиным, Белинский не раз
вводил в обиход материал западноевропейских литератур, затрагивал вопрос
о фальсификации того или иного западного писателя в статьях этих русских
критиков. Зарубежная проблематика сохранила свое полемическое значение и
в 40-х годах, в спорах Белинского с Григорьевым, Полевым, Губером, В. Май-
ковым, Плетневым и др.
Уча русского читателя правильному взгляду на Байрона и Скотта, истори-
ческому подходу к писателю, анализу общественных условий, зародивших
данное литературное явление, Белинский выступил против методологии Поле-
вого, подменявшего научный анализ компиляцией, подхваченными по иност-
ранным журналам случайными суждениями. Осуждая недостаточность и неса-
мостоятельность методологии Полевого, Белинский показывал русскому чита-
телю на примере ошибочных суждений Полевого о зарубежных литературах
несостоятельность критического метода своего противника.
Борясь за правильное понимание Гете как замечательного писателя-реа-
листа, Белинский выступал не только против переводчиков, искажавших твор-
чество Гете, но и против русских критиков, навязывавших читателю ложное
представление о Гете как о писателе-романтике; к этому сводится в принципи-
альных своих моментах полемика Белинского с Губером.
В 40-х годах Белинский боролся против реакционной русской критики,
стремившейся опорочить революционных писателей Запада или принизить
значение школы западноевропейского критического реализма. Он резко высту-
пал против Булгарина, Сенковского и Греча, пытавшихся опошлить Бальзака,
и полемизировал с Гротом по поводу романов Жорж Санд.
Белинский стремился развернуть перед русским читателем правдивую кар-
тину историко-литературного процесса современной зарубежной литературы.
Основой этого процесса были факты из истории борьбы народных масс Запада
168
против правящих классов, мастерски вводимые Белинским в его замечания
и статьи о западных писателях, как это было сделано им в статье. «Парижские
тайны» Э. Сю». Содержанием историко-литературного процесса была борьба
направлений в зарубежных литературах, борьба, в которой Белинский умело
выделял самое главное, а именно формирование прогрессивного романтизма
и критического реализма, деятельность писателей, связанных с освободитель-
ными движениями подобно Мицкевичу, Байрону, Беранже и Гейне, реалисти-
чески отразивших противоречия современности подобно Бальзаку и Диккенсу.
Белинский с глубоким, вниманием относился к прогрессивным явлениям в
области зарубежной науки о литературе. Он отдавал должное критическим
работам Гете, хотя и оспаривал их в том случае, когда Гете оказывался под
властью слабых сторон своего мировоззрения. Примером такой полемики Бе-
линского с Гете является место из статьи «Гамлет. Драма Шекспира», посвя-
щенное критике некоторых взглядов немецкого писателя на Шекспира.
Высоко ценя материалистическую французскую мысль XVIII в., Белинский
если и не выступал прямо защитником эстетики французских просветителей, то
приветствовал в целом ее воздействие на мировую литературу и резко отрица-
тельно отзывался о борьбе немецкого реакционного романтизма против фран-
цузской просветительской мысли. Насколько ценил Белинский Лессинга как
критика, видно из того, что с его именем он связывал «переворот» (по выраже-
нию Белинского), происшедший в немецкой литературе XVIII в.
Великий русский критик сочувственно отметил критические выступления
Байрона против реакционного романтизма (видимо, имея в виду его поэму
«Английские барды и шотландские обозреватели») и с особым интересом
отнесся к критическим работам Гейне. Интерес Белинского к литературной
борьбе Гейне вполне понятен и объясним: русского революционера-демократа
привлекла та страстность, с которой выступал немецкий поэт-революционер
против прусской реакции и служившей ей литературы.
Среди многих современных ему критиков Белинский отметил Варнгагена
фон Энзе — передового немецкого критика, деятельно и основательно зани-
мавшегося современной русской литературой.
Вместе с тем Белинский выступил как противник эстетики немецкого реак-
ционного романтизма. Белинский осуждал не только литературную критику
немецкого романтизма, но и его философскую основу: он выступил против
эстетики Шеллинга и Фихте, а затем против эстетических взглядов Гегеля
и особенно немецких критиков-правогегельянцев.
Немало выступлений и замечаний Белинского направлено против буржуаз-
но-либеральной литературной критики, особенно французской. Язвительные
выпады Белинского против Ж. Жанена, против Ф. Шаля и других представи-
телей французского эссеизма обнаружили многие характерные пороки фран-
цузской литературной критики 30—40-х годов. Белинский показал русскому чи-
тателю субъективность, отсутствие серьезных знаний, поверхностную глад-
кость и суесловие некоторых корифеев французской журнальной критики, от-
метив попутно более основательный характер работ Сент-Бева.
Весьма отрицательно относился Белинский к буржуазной английской лите-
ратурной критике. Он знал, как исказили некоторые английские критики исто-
рию жизни и творчества Байрона. Кроме того, Белинский постоянно сталкивался
с работами английских критиков, охотно переводимых в русских журналах
30—40-х годов.
Широкая осведомленность Белинского в истории зарубежных литератур и
знакомство с их состоянием в 30—40-х годах говорит об огромной системати-
ческой работе, проделанной им, о регулярном изучении западноевропейской
периодики, о постоянном внимании к литературоведческим дисциплинам.
Критически усваивая достижения зарубежной науки о литературе, как
и достижения науки русской, Белинский создал свою революционно-демокра-
169
тическую концепцию истории всемирной литературы и особо — концепцию за-
падноевропейского литературного процесса, замечательную глубоким проник-
новением в динамику и диалектику литературного развития.
С уверенностью можно сказать, что концепция европейской литературы
XIX в., созданная Белинским,— первая литературоведческая концепция, вклю-
чавшая русскую литературу и другие славянские литературы в мировую орбиту
и сложившаяся под знаком нахождения общих закономерностей, определя-
ющих развитие литературного процесса.
Зрелый Белинский, поднявшийся до понимания классовой борьбы, полагал,
что эти закономерности определяются прежде всего факторами общественного
развития, воздействие которых на литературу он, опираясь на опыт русской
и зарубежной литературы своего времени, разъяснил как процесс сложный
и многогранный. Замечательной особенностью деятельности Белинского — ис-
торика литературы и критика — было стремление раскрыть перспективы об-
щественного и культурного развития человечества, различить путь, по кото-
рому пойдет вперед мировая литература.
Опираясь на свой общественный и научный опыт, великий русский револю-
ционер-демократ предрекал великое будущее тем направлениям мировой лите-
ратуры, которые вдохновляются передовыми социальными идеями, отражают
поступательное историческое движение народных масс. Присущая Белинскому
разносторонняя глубокая оценка литературного процесса первой половины
XIX в., умение увидеть перспективы его развития делают его высказывания и ра-
боты о зарубежных писателях ценнейшим вкладом в историю передовой науки
о литературе.
1958
ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ
Генрих фон Клейст (1777—1811) родился в старинной прусской юнкерской
семье. Рано лишившись родителей, Клейст в 1792 г., подростком, начал тради-
ционную для его рода службу в прусской гвардии. В 1794 г. он проделал Рейн-
ский поход и принимал участие в осаде Майнца. Затем, будучи произведен
в офицеры, Клейст попал в Потсдам. Он тяготился военной службой, и в 1799 г.
ему удалось, несмотря на сопротивление родственников и начальства, рас-
статься с армией.
Некоторое время Клейст провел во Франкфурте-на-Одере, где, желая на-
верстать упущенное, он жадно учился, особенно стремясь расширить свое фи-
лософское образование. Наиболее сильное впечатление произвел на него Кант,
помогший ему по-новому—критически — взглянуть на немецкую современ-
ность.
Во Франкфурте, в доме своей сестры Ульрики, Клейст познакомился
с Шарлоттой фон Цейге — образованной провинциальной барышней, внима-
тельно слушавшей импровизированные лекции Клейста, которые он читал
сестре и ее подругам. Сложное и большое чувство соединило Клейста и Шар-
лотту фон Цейге, хотя их предполагаемый брак и расстроился. Письма Клейста
к Шарлотте — ценный документ, раскрывающий духовные искания Клейста,
широко мыслившего, болезненно отзывавшегося на общественную несправед-
ливость. Уже на этих письмах лежит тень трагизма: молодые люди, особенно
Клейст, много пишут о смерти.
Клейст с большим интересом относился к философии французского Про-
свещения, в частности к Руссо. Он видит в ней разрушительную силу, сказав-
шуюся во Французской революции, которая внушала Клейсту враждебные
чувства, но не может не признать убедительность мыслей Руссо, направленных
против социальной несправедливости.
170
Внезапно покинув Франкфурт, Клейст отправляется в первое длительное
путешествие (1801). Он хочет воочию увидеть, что творится во Франции.
В Париже периода консульства, полном противоречий, Клейста многое оттолк-
нуло. Одобряя подавление революции, он, однако понял, что эпоха героев сме-
нилась во Франции эпохой «тирании», как говорилось на политическом языке
начала XIX в. Вскоре Клейст оказался в Швейцарии, будто желая проверить
утверждение Руссо, что трудовая жизнь крестьянина чище и человечнее праз-
дного и развращенного быта правящих классов.
В Швейцарии Клейст сблизился с писателем Генрихом Цшокке, поклонни-
ком Канта и свободолюбцем, автором ряда повестей из народной жизни, и
с сыном известного писателя Людвигом Виландом, который затем ввел Клейста
в дом своего отца в Веймаре.
Впоследствии мировоззрение Клейста изменилось, но он сохранил сло-
жившееся под воздействием Цшокке и самой швейцарской действительности
сочувственное отношение к простому человеку и к его достоинствам.
В Швейцарии Клейст начал писать трагедию «Роберт Гискар», к которой
затем возвращался неоднократно, и сделал набросок комедии «Разбитый кув-
шин», законченной только в 1806—1808 гг., а затем написал трагедию «Семей-
ство Шроффенштейн» (напечатана в 1803 г.).
Вскоре Клейст оказался в Веймаре. Здесь он познакомился с Гете и Шил-
лером. С особым вниманием отнесся к нему старый Виланд. Ненадолго задер-
жавшись в Веймаре, Клейст отправился дальше—в Женеву, Милан, Лион,
Париж. В это время сказалась начавшаяся душевная болезнь: в нервном при-
падке поэт уничтожил рукописть трагедии «Роберт Гискар».
1805—1806 гг. Клейст провел в Кенигсберге, на службе в одном из прусских
ведомств. Он пишет комедию «Амфитрион» (1805—1807), переработку извест-
ной комедии Мольера, и завершает «Разбитый кувшин». Размеренная жизнь
в Кенигсберге была нарушена большими политическими событиями. Наполеон
вторгся в пределы Пруссии. Поражение при Иене и крах прусской монархии
потрясли Клейста. С двумя друзьями он пешком отправился в Берлин. Фран-
цузские военные власти заподозрили Клейста и его товарищей в том, что они —
члены антифранцузской тайной организации, и Клейсту угрожал расстрел или
каторга. С большим трудом Клейста удалось вырвать из рук французской во-
енной администрации.
Ближайшие годы после освобождения из французской тюрьмы (1808—
1811) заполнены литературной деятельностью и борьбой против иностранных
оккупантов. Клейст сблизился с одной из крайних правых группировок анти-
французского движения, возглавленной публицистом и законоведом Ада-
мом Мюллером, резко и пристрастно выступавшим не только против фран-
цузов, но и особенно против реформ министра Штейна, добивавшегося ликви-
дации крепостного права в Пруссии. Вместе с Мюллером Клейст издает журнал
«Феб», в котором печатает отрывки из своих новых произведений, а затем «Бер-
линскую вечернюю газету», отличающуюся националистической тенденцией.
В 1809 г. вспыхнула новая австро-французская война, завершившаяся
в июле разгромом австрийских армий в битве при Ваграме. Поражение при
Ваграме Клейст воспринял как новое тяжкое горе. Все более углублялось его
душевное расстройство, обостренное и личными обстоятельствами. В ноябре
1811 г. на берегу озера Ваннзее, близ Берлина, Клейст покончил с собой, пред-
варительно застрелив — по ее просьбе — свою возлюбленную, Генриетту
Фогель.
Последние три года жизни Клейста были наполнены лихорадочной де-
ятельностью, тревогами, разочарованиями. Но за это же время он закончил
трагедию «Пентесилея», написал драмы «Кетхен из Гейльбронна»
(1808), «Битва Германа» (1808), «Принц Гомбургский» (1810), повесть «Ми-
хаэль Кольхаас» (1808—1810), рассказы и большинство стихов.
171
Лишь немногие из произведений Клейста были изданы при его жизни. Из-
вестность пришла к нему после смерти: первым издателем собрания сочинений
Клейста был Л. Тик: он обратился к наследию Клейста, собирая материалы по
истории немецкого романтизма '.
Творческий путь Клейста делится на два периода: первый — до 1807 г.,
второй — 1808—1811 г.
В первый период творческого развития на Клейста оказывает сильнейшее
влияние реакционная романтическая мысль — политика, философия, истори-
ография, рьяно атаковавшая Французскую революцию и просветительские
традиции. Вместе с тем Клейст, отрицавший демократическую утопию Руссо,
принимал многое в его критике общественных отношений.
Реакционные стороны мировоззрения Клейста приводили к трагическому
взгляду на действительность. Катастрофа, в которой разрушался старый фео-
дальный мир, воспринималась Клейстом и другими реакционными романтиками
как выражение неумолимой силы рока, несущего обществу и отдельным инди-
видуумам муки и гибель. В идею рока вкладывали идею возмездия — ис-
каженное представление о закономерностях, сказывающихся в истории обще-
ства и в жизни отдельного человека. Клейст и себя считал жертвой рока. Не-
даром он всю жизнь работал над трагедией «Роберт Гискар»— одним из самых
полных воплощений идеи рока.
В основу замысла положена полулегендарная история Роберта Гискара —
короля сицилийских норманнов, ведшего упорную и неудачную борьбу с Ви-
зантией. В ткань истории вплетены мотивы, придуманные самим Клейстом.
Гискар — могучий и отважный воин, отмеченный печатью рока. Он значителен
в своем титаническом одиночестве и бессилен перед судьбой, которая путает все
его замыслы. В пьесе чувствуется попытка создать романтическую трагедию на
основе опыта античных трагиков (прежде всего Эсхила) и традиции Шекспира.
Однако обе традиции были восприняты Клейстом односторонне, узко. Для него
Шекспир — создатель одиноких трагических образов, возвышающихся над ре-
альностью, далеких от обычных человеческих чувств. Такое истолкование
Шекспира противостояло творческому использованию шекспировской тради-
ции, которая проявилась в драматургии молодого Гете. Образ рокового героя
далек и от драматургии Шиллера с ее героями, борющимися за высокие гума-
нистические идеалы.
Стремление создать романтическую драму на основе античных мотивов
видно и в более поздней трагедии «Пентесилея». Нельзя отказать этой драме
в героическом пафосе, в дикой силе образов. Ахилл и другие герои, сражаю-
щиеся против амазонок,— образы титанические, как и царица амазонок Пен-
тесилея, неукротимая воительница, прекрасная и отталкивающая в своей бес-
пощадной свирепости. Однако в трагедии в изображении отношений Пентеси-
леи к Ахиллу чувствуется привкус патологического, неестественного. Пентеси-
лея и любит и ненавидит Ахилла, в чувстве ее проступают черты садизма. Убив
Ахилла, Пентесилея терзает его тело вместе с охотничьими псами, которых она
натравила на героя, а затем в порыве темного исступления убивает себя.
Глубоко своеобразно было в «Пентесилее» новое понимание античности.
В противоположность «веймарскому классицизму» с его высокогуманисти-
ческим, несколько идеализированным представлением о «прекрасной» древ-
ности, об античной гармонии, Клейст изобразил мир эллинской архаики как
варварскую эпоху, как царство бурных демонических характеров, не умеющих
и не считающих нужным смирять буйные порывы своих страстей, нередко
жестоких и бесчеловечных.
1 В 1826 г. Тик издал собрание сочинений Клейста в трех томах — Gesammelte Schriften. Одно
из лучших последних изданий — двухтомник, выпущенный в ГДР в серии «Bibliothek deutscher
Klassiker», 1961.
172
Гете, с интересом следивший за развитием Клейста, но чуждый его эстети-
ческим устремлениям, в целом занимал в отношении Клейста критическую по-
зицию. В письме ему по поводу «Пентесилеи» (Клейст хотел видеть свою пьесу
на сцене Веймарского театра) Гете заметил, что и странный, с его точки зрения,
характер Пентесилеи, и «чужая» для Гете обстановка, в которой действует
Пентесилея (т. е. трактовка античности, данная Клейстом), потребуют от него
«много времени» для того, чтобы разобраться в них и понять их.
К 1803 г. Клейст закончил работу над драмой «Семейство Шроффенштейн».
Эта пьеса воссоздает мрачную картину немецкого средневековья, выразительно
обрисовывающую эпоху и характеры, порожденные ею. Несмотря на специфику
драмы, построенной на истории вековой вражды двух ветвей дома Шроффен-
штейн, оспаривающих друг у друга наследство, несмотря на явную страсть по-
эта к кровавым и отталкивающим подробностям, нельзя пройти мимо образов
Оттокара и Агнессы — влюбленных, мечтающих, чтобы вражда, разделившая
их семьи, наконец закончилась и позволила бы им соединиться. Жертвы рока,
обрушившегося на них со слепой силой, они противопоставлены суровой толпе
других персонажей драмы. Над их телами происходит угрюмое примирение.
Глубокая противоречивость Клейста сказалась в том, что на тот же период,
в который он создал обе свои трагедии, приходится и его работа над комедиями
«Амфитрион» и «Разбитый кувшин».
В «Амфитрионе» Клейст, по существу, создал немецкий вариант старого
античного и мольеровского сюжета, придав ему немецкий колорит. Клейст сме-
ло смешал в комедии высокое с низким, смешное с трагическим. Любящая Ал-
кмена, чья страсть изображена с подкупающей силой, относится к числу луч-
ших образов, созданных Клейстом; вместе с тем холопство Амфитриона дает
повод для веселого смеха, для сатиры на самодовольство мещанина, пресмы-
кающегося перед господами. В сложном комизме «Амфитриона» отразилась
жалкая немецкая действительность, оскорблявшая и отталкивавшая Клейста,
выразились его скептические раздумья о человеке, о его готовности приспосо-
биться к любому положению, если оно ему выгодно. Но за комическим строем
пьесы чувствуется мечта о свободной личности, мечта о таких условиях
общественной жизни, которые не уродовали бы и не уничтожали человека.
И эта пьеса Клейста не понравилась Гете. Ее многосторонность, переплете-
ние трагического и комического начала Гете расценил как «раздвоенность»;
сложность эмоций, раскрытую в сценах комедии, посчитал «путаницей чувств».
«Разбитый кувшин» — одно из выдающихся произведений немецкой драма-
тургии XIX в., до сих пор сохраняющееся в репертуаре немецких театров.
Хотя Клейст перенес действие своей комедии в Голландию, по существу пе-
ред читателем — Германия конца XVIII в. Неверно было бы в этой комедии
видеть только консервативную критику голландских бюргерских порядков, не
менее продажных, чем порядки юнкерские, или насмешку над жалким выскоч-
кой, пресмыкающимся перед своими знатными господами. Клейст показал себя
в этой комедии знатоком народного быта. Жизнь, интересы, кругозор немецкого
крестьянства, характеры немецкой деревни и провинциального немецкого су-
дейского сословия переданы в комедии с юмором, с явной сатирической тен-
денцией в изображении суда. Советник Вальтер, лицемер Адам — деревенский
судья, пройдоха писец Лихт — типы, замечательные своей живостью, новизной:
до Клейста никто так не изображал провинциальную немецкую юстицию, бе-
зобразное порождение отживающего общественного строя.
Примечательны и образы крестьян — особенно фигуры Вейта Тюмпеля и его
сына Рупрехта. В них нет идеализации патриархальной немецкой деревни, что
было свойственно многим другим немецким романтикам.
В комедии «Разбитый кувшин» господствует атмосфера непринужденного,
смелого смеха, роднящая ее и с комедиями Гольдони, и с традицией Лессинга.
Смешон, но и отвратителен деревенский судья Адам. Жалкий старый волокита
173
с разбитой физиономией и без парика — таким предстает он перед зрителем
после неудачного покушения на честь деревенской красавицы Евы, за которую
вступился ее суженый Рупрехт, сметливый парень, не чуждый чувства досто-
инства.
Новыми для немецкой драматургии средствами были обрисованы и сама
Ева, и ее мать — фрау Рулль, жалующаяся судье на Рупрехта, разбившего до-
рогой кувшин, и пока что не подозревающая, что кувшин-то и есть причина си-
няков, украсивших Адама.
Постепенно, деталь за деталью, вскрывается продажный и бесчеловечный
характер той «законности», которую представляет Адам. Он выглядит жалким
и подлым рядом с прямыми крестьянскими характерами, изображенными не без
юмора, которому больше не суждено было появиться в произведениях Клейста.
«Разбитый кувшин» резко отличается от драм Клейста по стилю. Действу-
ющие лица комедии говорят на образном живом языке, который чужд декла-
мационных интонаций, мрачных изысков и крайностей «Роберта Гискара»
и «Семейства Шроффенштейн».
Реалистическая тенденция, побеждающая в «Разбитом кувшине», связывает
эту комедию с лучшими традициями немецкой национальной драматургии,
сказывается в типах Адама, Вейта, Рупрехта. Это типы немецкой действитель-
ности, порожденные новыми отношениями, исподволь развивающимися в фео-
дальной Германии, типы Германии бюргерской и крестьянской.
В «Разбитом кувшине» и отчасти в «Амфитрионе» сказались сильные сто-
роны дарования Клейста-писателя, который, несмотря на свои политические
заблуждения, пристально вглядывался в жизнь народа. В обеих комедиях есть
народное начало, выражающееся в здоровом смехе Клейста над пороками
и уродствами, которые существуют и при господстве юнкеров и при хозяйни-
чанье бюргеров. Реализм «Разбитого кувшина», стихия здорового юмора, из-
вестная симпатия, с которой намечены в комедии образы людей из народа,—
все это вместе взятое говорит о сложности процессов, происходивших в созна-
нии художника.
Гете проявил большой интерес к «Разбитому кувшину» и поставил комедию
на сцене Веймарского театра. Это был единственный случай, когда при жизни
Клейста его пьеса увидела свет рампы.
Но постановка «Разбитого кувшина» считается неудачей на блестящем пути
Гете-режиссера и литературного руководителя Веймарского театра. Следуя
своему вкусу, Гете многое изменил в пьесе Клейста, приспособил ее к своему
режиссерскому плану. Однако, осуществляя спектакль в духе требований Гете,
нельзя было воспроизвести многое из того, что составляет специфику Клейста-
комедиографа. Приспособленная ко вкусам Гете, комедия очень теряла из того
нового и смелого, что внес в нее своеобразный талант Клейста.
Эти сложные отношения двух художников выражали, конечно, нечто боль-
шее, чем несходство взглядов на трактовку античных сюжетов или на характер
комедийного спектакля. Гете и ощущал значительность дарования Клейста,
и слишком многое не принимал в нем как просветитель и как поборник «вей-
марского классицизма» с его представлениями о правдивости искусства.
В критическом отношении великого писателя к Клейсту был элемент недооцен-
ки того нового, что нес с собой талант Клейста — особенно в области поисков
реалистических художественных средств, что сказалось так ярко в «Разбитом
кувшине». Эта комедия действительно начинала собой новую страницу в раз-
витии немецкой реалистической драматургии, и нескоро немецкие драматурги
XIX в. поднялись до того понимания задач комедии, которые уже наметились
в «Разбитом кувшине».
Новый период в развитии писателя наступил после иенского разгрома.
После 1807 г., как уже было сказано, творчество Клейста приобрело гораздо
более узкую политическую направленность. Теперь в нем боролся художник,
174
которого тянуло к более глубокому осмыслению современности и прошлого
Германии, и фанатический публицист, мечтавший о кровавой расправе с фран-
цузами. Это особенно резко сказалось в «Принце Гомбургском», в «Битве Гер-
мана», в публицистике и поэзии Клейста. Ненависть к французам сочеталась
у писателя со все более сильными мистическими настроениями, с верой в чу-
десное, сверхобычное, что выразилось в драме «Кетхен из Гейльбронна». Все
теснее становились его связи с так называемыми берлинскими романтиками \
возглавленными в 1809 г. Арнимом и Брентано, переехавшими в Берлин из
Гейдельберга. Клейст входил в основанное Арнимом «христианско-немецкое
застольное товарищество»— аристократическое общество с явно выраженным
реакционным направлением. Участником товарищества был и уже упомянутый
А. Мюллер, один из наиболее националистически настроенных романтиков.
Самое замечательное произведение второго периода — это повесть Клейста
«Михаэль Кольхаас», отмеченная несомненными чертами реализма. В «Миха-
эле Кольхаасе» Клейст обращается к XVI в.
В повести чувствуется эпическая традиция немецкого языка, стиль поздних
немецких хроник, с которыми писатель знакомился, обдумывая свое произве-
дение. Клейст рассказывает историю простого человека, лошадиного барыш-
ника Кольхааса, обиженного надменным самодуром, юнкером Венцелем фон
Тронка, и решившего восстановить справедливость своей рукой, так как законы
феодальной Германии служат знати, а не народу. Кольхаас становится народ-
ным мстителем, наводящим страх на притеснителей. Суровая, но глубоко чело-
вечная мораль Кольхааса основана на чувстве справедливости, и хотя Клейст
заставляет героя смириться, образ Кольхааса — мужественного немца XVI
столетия — отчасти напоминает характеры современников Крестьянской войны
1525 г., сродни им. В повести иногда гневно обличается феодальный строй,
прославляется нравственное величие Кольхааса. Монолитны образы простых
людей в повести Клейста — и сам Кольхаас, внушающий страх рыцарскому
сброду, и его преданный помощник батрак Херзе, и его верная жена Лисбет.
Запоминаются сцены битв, выигранных Кольхаасом, сцена народного возму-
щения, свидетельствующая о любви народа к Кольхаасу и ненависти к поме-
щикам-юнкерам. Кольхаасу присуще прежде всего чувство справедливости,
которое, однако, по мнению Клейста, противника Французской революции,
сделало его «разбойником и убийцей». Кольхаас зовет к себе тех, кто хочет
«лучшего порядка вещей», он преследует огнем и мечом «угнетателей народа»,
«коварных рыцарей». Мелки и незначительны юнкеры, принцы, графы рядом
с Кольхаасом и его друзьями. Даже когда, сдавшись в плен, Кольхаас на жал-
кой соломе кормит больного ребенка, а дамы и рыцари не без страха смотрят на
это зрелище, он сильнее и выше их, омерзительных в своем боязливом любо-
пытстве. Хотел этого Клейст или нет, но Кольхаас героичнее книжника Марти-
на Лютера, «доктора Лютера», в справедливость и разум которого верил
Кольхаас.
В повести сказались и реакционные стороны мировоззрения Клейста. Коль-
хаас добровольно идет на казнь, считая ее возмездием за свою смелую попытку
восстановить на свой плебейский манер справедливость, попранную немецкими
помещиками. В финальных сценах этого произведения звучат ноты траги-
ческого фатализма, знакомые по ранним трагедиям Клейста. Борьба Кольхааса
героична, естественна в своих побуждениях, человечна, но она неприемлема для
автора и осуждена на поражение якобы по воле рока.
Черты реализма, господствующие в комедии «Разбитый кувшин», прояви-
лись в этой повести в новом, эпическом качестве и с большой полнотой и силой.
Скупой и точный стиль повести богат замечательными реалистическими дета-
лями, рисующими и облик действующих лиц, и характер их поведения. Клейст
1 Об этом см.: Reimann Р. Hauptströmungen der deutschen Literatur 1790—1848. Berlin, 1956.
175
подмечает, как живодер, причесываясь свинцовым гребнем, пересчитывает в то
же время деньги. Он показывает Лютера в поздний час за его пультом, среди
книг и рукописей. Образ Кольхааса, как и образ пьяного и наглого юнкера
Тронка, виновника бед героя, складывается из множества черт, умело разме-
щенных в повествовании.
Совершенно по-новому ведет Клейст свой рассказ. Наряду со стилем хро-
ники и с эпизодами, в которых сжато и скупо рассказано о душевных состоя-
ниях его героев, он вводит и такие бытовые сценки, которых не было до него
в прозе немецких романтиков. Клейст пишет свободно, пренебрегая обычным
построением литературной фразы: «Юнкер, лицо которого при этом известии
залила заметная бледность, спрыгнул с лошади и сказал: «Если эта сволочь
собачья не желает брать коней обратно, то пусть так и будет. Пошли, Гюн-
тер!»— крикнул он, стряхивая рукой пыль с рейтуз. «Ганс! Пошли! И подайте
вина!»— крикнул он, когда был с рыцарями в дверях, и вошел в дом».
Реалистическая точность письма, доходящая до мелких деталей, изобра-
жающих жесты и поведение юнкера, весь динамизм сцены были новыми для
немецкой прозы. Однако не надо забывать и о традиционных романтических
сторонах повести. Они проявились и в образе таинственной цыганки, тайну ко-
торой Кольхаас унес с собой в могилу, и в похвале патриархальной верности
Кольхааса, соблюдающего почтение к немецким князьям, и даже в стиле этого
замечательного произведения.
В языке повести много характерных романтических оборотов; так, напри-
мер, говорится, что Кольхаас «брошен в ад неудовлетворенной жажды мести».
Романтический характер поэтики Клейста сильнее проявляется в его
новеллах 1. Среди них есть вполне романтическая история о призраке—«Ни-
щая из Локарно», романтическая новелла «Найденыш», романтическая легенда
«Святая Цецилия».
Более сложным и противоречивым характером отличаются новеллы Клейста
«Землетрясение-в Чили», «Маркиза д'О...», «Обручение в Сан-Доминго».
В центре этих новелл — неожиданное событие, резко меняющее всю жизнь че-
ловека, невероятное стечение обстоятельств, служащее выражением той же
идеи рока, которая так характерна для Клейста в целом.
Землетрясение в Чили спасает приговоренных к смертной казни влюбленных
Херонимо и Хосефу. Среди людей, оглушенных катастрофой и забывших
о «правосудии», они чувствуют себя возвращенными к жизни, к обычным чело-
веческим отношениям — они не преступники, они просто люди, страдающие
вместе с другими. Но уже через день они становятся жертвами фанатизма,
вновь пробудившегося в толпе, как только прошел первый пароксизм ужаса,
вызванного землетрясением.
В других новеллах слепой случай, безумный и нелепый рок врывается в че-
ловеческую жизнь, чтобы изменить ее или разрушить. Идея рока, представлен-
ная в трагедиях Клейста, сохраняется и в новеллах. Клейст настойчиво под-
тверждает свой взгляд на жизнь как на цепь случайностей, в которых сказы-
вается непобедимый рок.
Замечателен напряженный психологизм его новелл. Кульминация достига-
ется в них не только стремительным развитием действия, но и нарастанием все
более драматических переживаний, все более мучительных и сложных настро-
ений героев. Психологический кризис в новелле Клейста играет не меньшую
роль, чем перелом в развитии сюжета. Это особенно сильно чувствуется в таких
новеллах, как «Маркиза д'О...» и «Обручение в Сан-Доминго». Люди Клейста
живут в мире, полном опасностей и тревог. Это накладывает свой отпечаток на
их беспокойное, тревожное сознание, мастерски изображенное автором. Дыха-
1 Новеллы Клейста были опубликованы в двух томах, вышедших в 1810—1811 гг. под общим
названием «Erzählungen».
176
ние социальных катастроф — войны, революции — чувствуется в лучших но-
веллах Клейста. Оно обостряет эмоции персонажей его новелл, делает их
участниками больших событий, в ураган которых вовлечены их судьбы. Траги-
ческое начало, очень ощутимое в новеллах Клейста, связывает их воедино с его
драматургией.
Клейст — один из создателей немецкой новеллы. В развитии немецкой про-
зы XIX — XX вв. его новелла сыграла исключительно большую роль. На-
сыщенность действием, глубокое психологическое содержание, мастерское
раскрытие сложнейших переживаний, лаконичность и стремительность стиля
новелл Клейста делают их примечательным явлением в развитии европейской
прозы XIX в.
В 1808—1810 гг. писатель опубликовал — большей частью анонимно — не-
сколько антифранцузских памфлетов, интересных обличением грабительской
политики Наполеона. В памфлетах чувствуется рост шовинистических настро-
ений Клейста. Он выступает с огульным обвинением всех французов в бесчин-
ствах, творимых оккупантами. Ответственность за политику «злодея»— Напо-
леона — Клейст нередко перелагает на плечи французского народа.
В 1809 г. Клейст написал «Катехизис немцев» по образцу испанских изда-
ний, призывавших народ к сопротивлению французам 1. Составленный в виде
вопросов и ответов, полных то едкой иронии, то глубокой горечи, то подлинного
пафоса, «Катехизис» Клейста относится к числу выдающихся образов немецкой
патриотической публицистики 1807—1813 гг.
Клейст порицал в «Катехизисе» немецких монархов, «забывших свой долг
перед отчизной», и поучал немцев не повиноваться им, пока монархи не вер-
нутся к исполнению этого долга — войне против Франции. Призывая к беспо-
щадной борьбе с империей, Клейст уже отделял французов от императора:
французы — враги немцев лишь до тех пор, пока Наполеон — их император.
Но в «Катехизисе» сказались и реакционные черты мировоззрения Клейста.
Критика «князей» у него лишена социальных мотивов. В Наполеоне Клейст,
подобно другим немецким литераторам из дворянского лагеря, видел «исчадие
ада», воплощение некоего мистического злого начала. «Восстановленная» Гер-
мания представлялась ему в виде германской империи, в которой были бы объ-
единены немецкие государи под верховной властью австрийского императора,
которого Клейст называет императором немцев.
Тесно связаны с событиями 1808—1809 гг. и две драмы Клейста —«Битва
Германа» и «Принц Гомбургский».
В одном из памфлетов Клейст сравнивал положение народов Европы, заво-
еванных Наполеоном, с положением народов, покоренных Римской империей.
Это сравнение развернуто в драме «Битва Германа».
Заботливо относясь к историческим подробностям, воссоздающим картину
жизни древних германцев и римского войска, Клейст проводит прямую парал-
лель между французской империей и империей Августа, между состоянием
германских племен, враждующих друг с другом, втянутых в орбиту римской
политики, и политическим положением Германии в 1800-х гг. Пафос драмы —
в мечте об общенемецком восстании, которое свергнет чужеземное иго, освобо-
дит и сплотит Германию. Эти идеи высказывает герой драмы — вождь херусков
Герман (Арминий). В нем воплощен идеал Клейста, но это не просто абстрак-
тное выражение политической программы писателя, а художественный образ.
Не раз Герман показан живым человеком, поступающим как вождь германских
1 Попытки Наполеона завоевать Испанию закончились поражением французов. Уже в 1809 г.
в стране развернулось мощное партизанское движение, помогавшее вооруженным силам Испании
и ее союзникам в борьбе против Наполеона. Среди патриотических изданий, призывавших к борьбе
против французской оккупации, были и «катехизисы»— брошюры в форме вопросов и ответов,
учившие испанцев приемам народной войны. Эти «катехизисы» привлекли внимание всех народов
Европы, боровшихся против Наполеона.
177
варваров, приобщившийся к римской цивилизации, стоящий по опыту и обра-
зованию выше собратьев — грубых, себялюбивых.
С подлинным драматизмом раскрыты перипетии битвы в Тевтобургском ле-
су. Новым для немецкой литературы был обобщенный образ римских легио-
нов — испытанного войска колонизаторов и обобщенный образ восставших
германских племен как народной рати, мстящей за вековое унижение.
Наряду с этим в «Битве Германа» резко сказались реакционные черты
творчества Клейста. Восхищаясь германскими богатырями, он порой превра-
щается в восторженного певца их жестокости. Их варварство становится
у Клейста выражением их силы, непосредственности, противопоставляется
упадочной утонченности римлян. Тщательно выписывая подробности истори-
ческих и вымышленных эпизодов, романтик Клейст впадает в натурализм, чер-
ты которого были заметны еще в его ранних драмах. Картины тевтобургского
побоища превращаются в упоенное изображение массового истребления рим-
лян. Недаром именно эту пьесу Клейста особенно эффектно ставили режиссеры
немецкого натуралистического театра в годы, предшествовавшие первой миро-
вой войне. Некоторых деятелей буржуазного театра привлекала возможность
истолковывать всю драму в пангерманском духе.
Талантлива, но глубоко противоречива и другая драма Клейста —«Принц
Гомбургский», в центре которой — изображение битвы при Фербеллине (1678).
В этой битве войска курфюрста Бранденбургского Фридриха Вильгельма,
основателя прусского королевства, нанесли серьезное поражение шведам.
Если официальные историки Пруссии — Бранденбурга утверждали, что
битва была выиграна самим курфюрстом, то в изображении Клейста победа
завоевана молодым полководцем — принцем Гомбургским и его солдатами —
вопреки распоряжению курфюрста. Гомбург разбил шведов потому, что ослу-
шался приказа курфюрста, посмел пойти против его воли. Если бы приказ был
выполнен пунктуально, без учета изменившейся обстановки, не было бы
и победы.
Но так как принц Гомбургский нарушил приказ, он должен, по решению
курфюрста, предстать перед военным судом. Только случайность спасает прин-
ца от казни, но случайность, характерная для Клейста и снижающая мужест-
венное звучание драмы. Оказывается, когда оглашался приказ, принц нахо-
дился в состоянии сильного аффекта и в минуту подвига не знал, что нарушает
волю курфюрста. Тем не менее вместо того, чтобы возмутиться несправедливым
приговором, принц Гомбургский готов идти на смерть, своей покорностью по-
казывая, что военная дисциплина, символизирующая идею Пруссии, важнее
жизни. Пьеса постепенно превращается в апофеоз пруссачества: принц победил
врагов, осмелившись нарушить мертвую букву дисциплины, но он становится
покорным верноподданным, осуждающим свой смелый поступок, а двор кур-
фюрста, в изображении которого сначала явственно проглядывала казарма,
чуть ли не оказывается резиденцией мудрого и просвещенного правителя.
Драма «Принц Гомбургский», заканчивавшаяся прямым призывом к ору-
жию, была пропагандой действенного сопротивления. Однако берлинский двор
неблагожелательно отнесся к пьесе. При всем том, что в ней было возвеличено
прусское государство и военная традиция, пьеса звучала упреком всей политике
прусского двора, рабски следовавшего диктату Наполеона. Клейст оправдывал
действие, совершенное вопреки приказу сюзерена. В накаленной атмосфере
1809 г., когда среди патриотически настроенного прусского офицерства зрело
прямое осуждение политики двора, покорного Наполеону, это воспринималось
как поощрение патриотической оппозиции. Да и при всей верноподданнической
концепции пьесы образ принца Гомбургского, ослушника, спасшего родину,
вызывал слишком глубокую симпатию.
Молодой офицер — один из самых трогательных и тонких образов, создан-
ных Клейстом. Его мужественность поэтична. Его болезнь выглядит как черта
178
особой одухотворенности. Он резко выделяется на фоне толпы прусских офи-
церов, показанных — в отличие от принца — в реалистических тонах. Сам же
курфюрст рядом с героем пьесы выглядел совершенным ничтожеством, хотя
это, несомненно, не входило в замысел Клейста. Но в том-то и сказалась реа-
листическая тенденция, пробивавшаяся в творчестве писателя: убожество
прусского двора делалось очевидным, хотел этого Клейст или нет.
В драме «Принц Гомбургский», наряду с реалистическими центральными
эпизодами (сцена битвы) и глубоким разносторонним изображением психоло-
гии действующих лиц, есть явная мистическая тенденция. Она сказывается
в самом образе принца, подверженного таинственным припадкам. Болезненная,
иррациональная сторона души берет верх, и принц проникается жертвенной
готовностью умереть, жаждет смерти, отказываясь от помилования.
Мистические мотивы проступают с еще большей ясностью в драме «Кетхен
из Гейльбронна», рассказывающей о судьбе городской девушки, чудесным об-
разом сумевшей привязать к себе знатного рыцаря графа фон Штраль. Нелегка
любовь «низкорожденной» Кетхен к блестящему рыцарю. Ей приходится пере-
жить много тяжких испытаний, включая жестокую «пробу огнем»— свирепый
средневековый обряд, долженствовавший выяснить искренность ее чувств. Сам
император, пораженный чистотой Кетхен, нарекает ее своей приемной дочерью,
Катариной Швабской, после чего и аристократ фон Штраль посчитал возмож-
ным взять ее в жены.
Но даже и эта пьеса Клейста, растянутая и надуманная, примечательна не-
которыми правдивыми сценами феодальной жизни и привлекательными обра-
зами простонародья: Кетхен, ее отца — гейльброннского оружейника, смелого,
прямого человека, не скрывающего своего недоверия к господам.
Неуспех «Принца Гомбургского» при дворе еще раз убедил писателя в том,
что в своей среде он не найдет понимания. Клейст чувствовал себя одиноким:
отчуждаясь от своего дворянского круга, он вместе с тем не смог приблизиться
к демократическим кругам немецкого общества.
Мысли и тревоги, мучившие Клейста в последний период его жизни, нашли
отражение в стихах 1810—1811 гг. С особой силой поэтическое дарование
Клейста сказалось в стихотворении «Последняя песнь». Оно насыщено ощу-
щением приближающихся гигантских столкновений. Над миром нависла чудо-
вищная тень войны, подобная грозовой туче, уже озаряемой молниями. В «По-
следней песни» идет речь о крушении старого мира. Могучий поток смывает все,
что ему противостоит. С грохотом рушатся «старинных царств угрюмые хоро-
мы». Гибнет и культура, и старые прекрасные песни. Они уже никому не нужны
в этот железный век. «Последняя песнь» завершается трагическим описанием
участи последнего поэта — одинокого, тщетно зовущего на битву во имя оте-
чества — и никому не нужного. Таково было самоощущение Клейста — талан-
тливого художника, трагически ограниченного реакционными юнкерскими
взглядами, страдавшего от этой ограниченности, но преодолевавшего ее в луч-
ших произведениях — в «Разбитом кувшине» и «Михаэле Кольхаасе».
Сложное творчество Клейста, полное резких противоречий, и его траги-
ческая жизнь привлекали интерес многих исследователей. Ф. Меринг в статьях
«Генрих фон Клейст», «Разбитый кувшин» выступал против фальсификации
биографии писателя и отмечал борьбу, шедшую в немецком литературоведении
вокруг истолкования наследия Клейста. Признавая талант и одаренность
Клейста и выделяя «Разбитый кувшин», Меринг указывал и на реакционные
стороны его мировоззрения, так и не изжитые им.
Тонкие наблюдения Меринга над диалектикой творчества Клейста выгодно
отличают его статьи от более позднего суждения о Клейсте как об «ограничен-
ном прусском юнкере», которое высказано Г. Лукачем в его статье «Трагедия
179
Генриха Клейста» '. В этой же статье содержится весьма спорная мысль о том,
что Клейст был «предшественником» большинства декадентских течений не-
мецкой литературы позднейшего времени, хотя Г. Лукач и не отрицает наличия
сильных реалистических тенденций в его творчестве.
В годы нацистской диктатуры реакционные немецкие литературоведы стре-
мились использовать противоречия творчества Клейста для того, чтобы объ-
явить его предтечей нацистской «литературы», провозвестником воинствующего
национализма.
Борясь против подобной фальсификации наследия Клейста, литературоведы
Германской Демократической Республики с полным основанием указывают на
ценность лучших произведений писателя, на его патриотизм, на роль Клейста
в развитии реалистических тенденций в немецкой литературе. Однако было бы,
конечно, неверным считать все творчество Клейста реалистическим. Несомнен-
но, в комедии «Разбитый кувшин» и в повести «Михаэль Кольхаас» реалисти-
ческое начало достаточно определенно. Но в целом для сложного творческого
развития Клейста характерны борьба и взаимопроникновение романтического
и реалистического начала.
В эстетике Клейст примыкал к романтикам гейдельбергского и берлинского
кружков, к которым он был близок и в политическом плане. Противоречивое по
своим идеям творчество Клейста глубоко противоречиво и в своих художест-
венных средствах.
В ранних драмах Клейста романтический метод, тесно связанный с консер-
вативными течениями в немецкой литературе той эпохи, явно преобладает, как
свидетельствует о том трагедия «Семейство Штроффенштейн». Эта романти-
ческая линия сохраняется во всей своей силе и в сравнительно поздней пьесе
«Кетхен из Гейльбронна». Меринг с полным основанием пишет о «нездоровом
прикрашивании средневековья» в этой пьесе и тонко отмечает присущее пьесе,
как и Клейсту в целом, противоречие, когда говорит о «неуверенности драма-
тического стиля, который ставит рядом с сказочно-трогательным образом ге-
роини, отталкивающе реалистическую карикатуру ее партнерши Кунигун-
ды» 2. Сложное соотношение реализма и романтизма в творчестве Клейста
свидетельствует о том, что Клейст — явление переходное, связывающее в не-
мецкой литературе опыт романтиков и реалистические искания, которым со всей
силой суждено было сказаться в будущем. В генезисе немецкого критического
реализма противоречивое творчество Клейста, проникнутое и критической тен-
денцией, и поисками героики, играет исключительно большую, хотя и весьма
сложную роль.
1969
БАЙРОН И ЕГО ПОЭМА
«ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА»
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...
(Байрон. Из дневника в Кефалонии)
Великий английский поэт Джордж Гордон Байрон (1788—1824) —одно из
самых ярких имен в истории мировой литературы. Потомок старинного дво-
рянского рода, лорд Байрон выступил против правящих классов Англии, воз-
высив голос в защиту народа. Свое место в палате лордов он использовал для
1 Lukdcs G. Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1956. S. 47.
2 Меринг Ф. Литературно-критические статьи: В 2 т. M.; Л., 1934. Т. 1. С. 720.
180
того, чтобы бросить в лицо английским землевладельцам и капиталистам об-
винение в том, что они — угнетатели и палачи, живущие трудом английских
трудящихся.
Творческий путь Байрона — история развития мощного таланта, который
еще при жизни поэта принес ему мировую известность. Это вместе с тем исто-
рия духовного роста писателя, который в своих произведениях все полнее
и шире выражал протест народных масс Европы против реакции, пытавшейся
утопить в крови и задушить освободительное движение народов, поднявшихся
против гнилого феодального строя.
Детство и ранняя юность поэта прошли в условиях, обычных для молодого
англичанина знатного происхождения. Байрон жил сначала в старой родовой
усадьбе, поэтично описанной им в стихотворении «При отъезде из Ньюстедско-
го аббатства» (1803), затем учился в одном из английских колледжей. Однако
уже в первом сборнике стихотворений — «Часы досуга» (1807),— выпущенном
девятнадцатилетним поэтом, прозвучали ноты осуждения светской жизни,
проявились черты сатирического дарования Байрона, его мечты о жизни зна-
чительной, вольной, свободной от аристократических предрассудков.
Смелая, талантливая книга молодого поэта встревожила некоторых кон-
сервативных литераторов. Журнал «Эдинбургское обозрение» откликнулся на
«Часы досуга» грубой придирчивой рецензией. Молодой поэт принял бой.
В 1809 г. появилась его поэма «Английские барды и шотландские обозревате-
ли»— сатирический обзор современной английской литературы и критики.
Байрон зло высмеял поэтов и критиков, задерживавших, по его мнению, раз-
витие английской литературы. Объективно в сатире Байрона была дана унич-
тожающая характеристика тех литературных кругов, которые служили анг-
лийской реакции. Утверждая, что в английской литературе наметился длитель-
ный застой, кризис, Байрон звал английских поэтов к созданию новых произ-
ведений, которые были бы посвящены темам современности, отразили бы ее
бурные и героические события. Молодой поэт стал участником общественной
борьбы, обострявшейся в Англии с каждым годом.
В 1809 г. Байрон отправился в свое первое путешествие. В течение почти
двух лет он был в отлучке. За эти годы он увидел пиренейский театр войны,
стал свидетелем того, как испанский народ мужественно сопротивлялся фран-
цузскому нашествию, познакомился с жизнью Малой Азии, Греции и Албании,
вынужденных переносить гнет турецких завоевателей. Свои впечатления от
стран, увиденных им, и от событий, подготовлявших близившийся крах Напо-
леона, Байрон изложил в первых двух песнях поэмы «Паломничество Чайльд
Гарольда», появившихся в 1812 г.
Недовольство английской действительностью, в которой господствуют чи-
стоган и фальшь, мечта о подвигах, которые способствовали бы освобождению
народов Европы от ига иноземных оккупантов и от притеснения правящих
классов,— придают уже первым песням поэмы революционно-романтический
характер.
Вместе с тем для революционно-романтической поэзии Байрона начала
1810-х гг. характерна сатирическая направленность, разоблачительная острота.
Этими чертами отличается замечательная политическая поэма «Проклятие
Минервы» (1812), всем своим духом близкая к «Чайльд Гарольду». В ней поэт
обвинял английских политиков в том, что под предлогом защиты интересов
греческого народа они грабят сокровища культуры, созданные этим народом,
разрушают святыни греческого искусства.
Байрон вернулся в Англию, умудренный опытом своей поездки. Он убедился
в беспринципности и коварстве английских политиков, увидел, что торийская
олигархия стремится извлечь как можно больше выгод из затяжной войны
против Наполеона. Всюду, где бы ни был Байрон, он видел военные приготов-
181
ления Англии, ее флот и гарнизоны, ее агентов, раздувавших пламя
войны.
Вскоре после возвращения в Англию Байрон выступил в парламенте с раз-
вернутым обвинением английских правящих классов, с требованием работы
и хлеба для луддитов. Его речь в защиту ткачей — так называемая «Речь
в палате лордов по поводу билля о станках» (1812) — один из лучших образ-
цов английской публицистики, замечательный памятник ораторского таланта
Байрона. В прямой связи с этой речью находится одно из лучших его стихо-
творений — сатирическая «Ода авторам билля против разрушителей станков»
(1812). В ней Байрон писал:
Не странно ль, что если является в гости
К нам голод и слышится вопль бедняка,—
За ломку машины ломаются кости
И ценятся жизни дешевле чулка?
А если так было, то многие спросят:
Сперва не безумцам ли шею свернуть,
Которые людям, что помощи просят,
Лишь петлю на шее спешат затянуть?
(Пер. О. Чюминой)
К 1813—1814 гг. относится цикл поэм Байрона, известных под названием
«восточных поэм»—«Гяур» (1813), «Абидосская невеста» (1813), «Корсар»
(1814). Действие поэм развертывается вдали от Англии, но по существу острые
конфликты, лежащие в их основе, отражают условия английской жизни. Самое
замечательное в этих поэмах — страстный протест против угнетения, страстная
любовь к свободе, которой угрожали торжествовавшие в Европе силы реакции.
Эти бунтарские черты присущи героям поэм Гяуру и Конраду. Красочен и тра-
гичен мир восточных поэм Байрона. Следя за душевной драмой их героев —
людей свободолюбивых, энергичных, деятельных, обиженных несправедливым
общественным строем,— читатель не может не увлечься и замечательными
описаниями моря, картинами необычной, яркой природы, экзотического быта,
в котором сохранились еще черты глубокого своеобразия и патриархальной
простоты, уже чуждые Англии с ее буржуазным укладом, пошлым и серым, но
изобиловавшим еще более мрачными трагедиями, чем те, о которых рассказы-
вает Байрон в своих поэмах.
В восточных поэмах сказались и обострявшиеся противоречия творчества
поэта. В годину временного поражения освободительного движения в Европе
Байрон пришел к ошибочной мысли о том, что борьба за свободу — прежде
всего дело сильной личности, диктующей свою волю толпе, ведущей толпу за
собой. Таким одиноким вожаком, внушающим безропотное повиновение воль-
ной ватаге пиратов, выглядит Конрад в поэме «Корсар».
Однако самодовлеющий индивидуализм, свойственный героям ряда поэм
Байрона, не мог надолго увлечь поэта. Уже драматическая поэма «Манфред»
(1817) дает основания говорить о том, что Байрон критически относится
к своему увлечению одинокой сильной личностью, стоящей якобы выше всех
обычных людей. «Манфред» был написан за пределами Англии. В 1816 г. Бай-
рон, затравленный своими политическими врагами и светской чернью, не оста-
навливавшейся перед самыми гнусными интригами и самой грязной клеветой,
навсегда покидает Англию.
В Швейцарии он берется за продолжение поэмы о Чайльд Гарольде и рабо-
тает над уже упоминавшейся драматической поэмой «Манфред». Там же завя-
зывается его дружба с П. Б. Шелли — другим великим английским поэтом на-
чала XIX в. Шелли поддержал Байрона в эти тяжкие для него дни, помог ему
преодолеть мрачные настроения, овладевшие поэтом в последние годы пребы-
вания в Англии.
182
В 1817 г. Байрон переезжает в Италию. Начинается новый значительный
период его деятельности, связанный с подъемом общественного движения
в Европе.
«Священный союз» не мог остановить развития освободительного движения
народов Европы. В 20-х годах начинается новый этап антифеодальной борьбы
в Испании. В 1810—1826 гг. развернулась освободительная борьба народов
в американских колониях королевской Испании, закончившаяся созданием не-
зависимых латиноамериканских государств. В 1821 г. вспыхнуло восстание
карбонариев в Италии, с подготовкой которого Байрон был связан самым тес-
ным образом. В том же году началось восстание в Греции, превратившееся за-
тем в войну против турецкого ига. Волна крестьянских восстаний прокатилась
в начале 20-х годов по крепостной России.
В Англии развертывалась общедемократическая борьба против торийской
олигархии, шедшая под знаком борьбы за реформу избирательного права. По-
беда сторонников реформы должна была положить конец господству тори.
В этом были заинтересованы не только широкие народные массы, но и опреде-
ленные круги английской буржуазии, которых тори не пускали к власти —
прежде всего промышленники. Промышленники — противники тори — усилен-
но заигрывали с рабочими, стремясь использовать их в борьбе против тори.
Действительно, победа над торийской олигархией была одержана только в
1822 г. и именно в силу того, что народные массы и прежде всего английский
рабочий класс оказали мощное воздействие на весь ход борьбы за реформу,
поддержали ее сторонников.
Все эти политические события и особенно обострение борьбы в Англии
вдохновили Байрона, открыли перед ним новые пути творческого развития. Он
вступает в тесную связь с борцами за свободу Италии — карбонариями, вместе
с ними готовится к восстанию. Дом Байрона превращен в склад оружия; Бай-
рон подобрал надежных слуг, которые вместе с ним должны были примкнуть
к повстанцам. Нельзя без волнения читать строки его дневника, написанные
в ночь на 7-е января 1821 г., когда он ждал условного сигнала к выступлению:
«Если надо будет драться, сделаю все, что смогу, хотя я несколько поотвык от
этого занятия! Дело это — справедливое дело» 1. Но часы шли. «Жду с минуты
на минуту,— пишет Байрон,— что загремит барабан и начнется мушкетная
пальба... но пока что ничего не слышно, кроме плеска дождя, а в промежут-
ках — завывания ветра. Не хочется ложиться спать, потому что я терпеть не
могу, когда меня будят, пожалуй, лучше посижу и дождусь перестрелки, раз уж
она должна быть. Прибавил огня в камине, достал оружие и две-три книжки,
пока что их можно будет полистать» 2.
Ожидаемое выступление карбонариев так и не состоялось. А затем пришли
вести о разгроме заговора по всей Италии.
Восстание карбонариев было плохо подготовлено. Его руководители не су-
мели повести за собой народ, применили тактику заговора и потерпели пора-
жение. «Вы не представляете себе, до какой степени я разочарован и обманут
в своих надеждах — писал Байрон по поводу неудачи карбонариев своему
другу, поэту Т. Муру.— И все это я пережил, подвергаясь еще и личному риску,
который, кстати сказать, не совсем миновал» 3. Действительно, за Байроном
следила австрийская полиция. Его лучшие друзья — карбонарии — были либо
брошены в тюрьму, либо оказались в изгнании.
Пережив разочарование в движении карбонариев и многое поняв в причи-
нах его поражения, Байрон отнюдь не отказался от борьбы против реакции, не
1 Байрон. Избранные произведения. М., 1953. С. 447.
2 Там же.
3 Там же. С. 456.
183
пал духом, не сложил оружия. Его политический опыт обогатился. Он еще
больше возненавидел душителей свободы —«Священный союз» и английскую
реакцию.
Много было написано им в годы с 1817 по 1823, проведенные в Италии. За-
кончена поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» (третья песнь— 1816; чет-
вертая— 1818), создан ряд новых произведений и среди них замечательная
сатирическая поэма «Беппо» (1817).
В эти годы Байрон пишет свои трагедии «Марино Фальеро» (1820) и «Двое
Фоскари» (1820). Обе они, несмотря на исторический сюжет, полны отголосков
современности, ставят острые политические проблемы восстания, роли народа
в общественной борьбе. В 1821 г. создана мистерия «Каин», проникнутая бого-
борческим пафосом, духом воинствующего гуманизма. В блестящей полити-
ческой сатире «Бронзовый век» (1823) поэт заклеймил государей Европы, съе-
хавшихся на конгресс в Вероне, где было достигнуто преступное соглашение
о совместных действиях реакции против передовых сил европейского общества.
В сатирической поэме «Видение суда» (1822) Байрон беспощадно высмеял ан-
глийского короля Георга IV и придворного поэта Саути.
Творчество Байрона в эти годы отмечено заметным усилением реалисти-
ческой тенденции. Это особенно чувствуется в незаконченном романе «Дон
Жуан» (1818—1824), в котором поэт дал целостную картину европейского
общества накануне французской буржуазной революции. Вынужденный оста-
вить Испанию, где он томился под гнетом суровых феодальных порядков, Дон
Жуан побывал в султанской Турции, царской России, монархической Англии:
он видит, что различны формы, в которых господствует в мире тирания, но по
существу она одинаково гнусна и отвратительна и в Константинополе, и
в Лондоне, хотя английские аристократы и чванятся своим парламентом, при-
крывающим господство чистогана.
Особенно резким и насмешливым становится Байрон в тех песнях, которые
посвящены именно Англии. Здесь поэт выступает как достойный продолжатель
великих английских сатириков Свифта, Смоллета и Филдинга, как прямой
предшественник английских сатириков-реалистов XIX века — Диккенса и Тек-
керея.
От тирании мир будет спасен только революцией,— утверждает Байрон
в своем романе. Только она смоет кровью грязь, накопившуюся за время гос-
подства феодалов и торгашей, предававших интересы своих народов, опозо-
ривших их доброе имя. Ведя своих читателей к преддверию французской бур-
жуазной революции — по замыслу Байрона Дон Жуан должен был попасть
в революционный Париж — поэт как бы доказывал закономерность новых ре-
волюционных бурь, в которых погибнет временно победившая в Европе фео-
дальная реакция.
Нет сомнения, что от грядущей революции Байрон ждал наказания и для
толстосумов-капиталистов, которых он сравнивает в «Дон Жуане» с пауками.
Однако в ближайших классовых битвах, которые разразились в Европе 30—
40-х годов XIX в., еще решались задачи, стоявшие перед буржуазными рево-
люциями; народные массы — решающая сила этих битв — оказались обману-
тыми в своих надеждах.
Но даже в иллюзиях Байрона сказалась народность великого английского
поэта. Он надеялся и заблуждался вместе с народом, вновь и вновь бравшимся
за оружие, чтобы окончательно добить феодальную реакцию и свергнуть вос-
становленные ею режимы.
В Италии была написана и замечательная «Песня для луддитов»
(1816), созданная Байроном, когда он убедился, что английское рабочее дви-
жение не побеждено, что оно дает о себе знать. В этой песне, написанной в духе
народной баллады, Байрон звал английских рабочих к оружию, напоминал, что
путь к свободе ведет через революцию:
184
Как за морем кровью свободу свою
Ребята купили дешевой ценой,
Так будем и мы: или сгинем в бою,
Иль к вольному все перейдем мы житью,
А всех королей, кроме Лудда,— долой!
(Пер. Н. Холодковского)
Существенно изменился герой произведений Байрона. В 20-х годах это уже
не одинокий бунтарь Конрад и не разрываемый противоречиями индивидуалист
Манфред, в конце концов понимающий гибельность своего отчуждения от
общества. Новые герои Байрона — свободолюбивый венецианец Бертуччо,
вождь народного восстания («Марино Фальеро»), мужественный богоборец
Каин, поднимающийся против бога во имя счастья человечества.
В «Стансах» (1820) полно выразилась готовность Байрона — борца за
свободу английского народа — принять участие в битве за свободу в любой
стране, где бы эта битва не началась:
Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.
За греков и римлян в далеком краю
Он буйную голову сложит.
(Пер. С. Маршака)
«За общее благо борись до конца»,— призывал Байрон в этом стихотворе-
нии, выступая с благородным девизом международной солидарности револю-
ционных сил своего времени.
Сторонники свободы в Италии, «римляне», как называет их Байрон, потер-
пели временное поражение. Но все более напряженной становилась борьба
греческого народа против султанской Турции. В 1823 г. Байрон отплыл
в Грецию.
Последние месяцы жизни Байрона стали сами по себе героической и суровой
поэмой. Он не искал в Греции эффектных приключений, парадной романтики,
экзотической живописности, о которой повествовали европейские поэты — ав-
торы стихотворений, исполненных симпатий к восставшей Греции, но далеких
от реальной борьбы греческого народа против сильного и свирепого врага.
В Греции Байрона встретили нужда, болезни, нехватка во всем — начиная от
военных инструкторов для греческих дружин и кончая медикаментами. Немно-
гочисленные, плохо вооруженные и плохо организованные силы повстанцев ге-
роически сражались против большой турецкой армии, обладавшей хорошо
обученными кадрами и опытным командным составом, среди которого было
много европейских офицеров, прошедших школу наполеоновских войн и теперь
продавших свою шпагу султану.
В лагере повстанцев не было единства. Тяжкие условия войны, интриги ве-
ликих держав, противоречия между народом и высшими кругами в самой Гре-
ции вели к постоянным конфликтам, ослабляли лагерь борцов за свободу, ста-
вили под вопрос весь исход войны, потребовавшей от Греции неисчислимых
жертв.
Байрон не обольщал себя. Еще до своей поездки в Грецикэ он писал: «Греки
преуспевают в своих общественных делах, но ссорятся между собой».
Поэт не испугался суровой действительности, тяжелых условий борьбы. Он
отдал все свои духовные силы, все свои материальные средства делу освобож-
дения. На его деньги покупалось оружие и продовольствие для греческих пар-
тизан, чье доверие он сумел завоевать. Байрон стремился объединить греческих
патриотов и добровольцев-иностранцев, приехавших в Грецию для помощи
восстанию. «Дела по горло,— писал он Т. Муру,— кругом война, внутри сму-
та... между туземцами и чужеземцами произошла стычка и был убит один швед,
а один сулиот ранен, артиллеристы Перри панически бежали...» '
1 Байрон. Избранные произведения. С. 469.
185
«Дела по горло...» Надо оценить по достоинству эту фразу. Сколько в ней
глубокого удовлетворения, вызванного тем, что наконец-то у революционера-
романтика нашлось подлинное живое дело, в котором он проявил недюжинные
способности организатора, смелость и прозорливость полководца, оптимизм
настоящего борца за интересы народа, не боящегося черновой, грубой работы,
навалившейся на него, «...говорят, что мое присутствие... способствует, хотя бы
по крайней мере временно, успеху дела»,— писал Байрон в том же письме. Это
и было исполнением его заветных мечтаний: он был полезен реальному делу
борьбы за свободу, он участвовал — и не без пользы — в справедливой войне
греческого народа против турецкого деспотизма.
Байрон был так полон чувством сбывшейся мечты, ему так свободно и хо-
рошо дышалось среди опасностей и забот военной жизни, что, несмотря на
крайнюю занятость, он вновь и вновь обращался к стихам, брался за перо.
В последних стихотворениях с необыкновенной силой вылилось все то новое, что
он пережил теперь, чувство активного участника освободительной борьбы.
Немного было написано Байроном в последние месяцы его жизни. Но это
немногое относится к лучшим образцам мировой поэзии XIX в. До недосягае-
мого в английской поэзии уровня поднялся Байрон в своих строках, написан-
ных на острове Кефалония в дни, когда он выжидал удобной минуты, чтобы
обмануть бдительность турецких крейсеров и высадиться в Греции:
Встревожен мертвых сон,— могу ли спать?
Тираны давят мир,— я ль уступлю?
Созрела жатва,— мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю:
В моих ушах, что день, поет труба.
Ей вторит сердце...
(Пер. А. Блока)
Байрон умер в апреле 1824 г.: в приготовлениях к новым боям с турками,
подтягивавшими силы для очередного наступления на опорные пункты гре-
ческих повстанцев. Русская муза отозвалась на смерть поэта, уже тогда завое-
вавшего широкую популярность в России. Рылеев, Кюхельбекер, Пушкин по-
мянули Байрона, в котором они видели много близкого и дорогого для себя.
Декабристы и Пушкин учили русского читателя ценить Байрона, осуждая
вместе с тем черты индивидуализма, проявлявшиеся в некоторых его произве-
дениях. Опираясь на опыт декабристской критики и учитывая замечания Пуш-
кина о Байроне, В. Г. Белинский в своих суждениях о Байроне показал и миро-
вое значение его поэзии, и противоречия, свойственные мировоззрению и твор-
честву поэта. Великий русский критик указал на необходимость рассматривать
творчество Байрона как отражение общественной борьбы, кипевшей в англий-
ском обществе; он первый сказал о народности Байрона. Вместе с тем Белин-
ский высказал замечательную по глубине мысль о том, что могучий в критике,
в выражении протеста, Байрон еще не мог противопоставить дворянской
и буржуазной Европе новый общественный идеал, брезживший в учениях уто-
пистов-социалистов 20-х годов и открывшийся великому другу Байрона — П. Б.
Шелли.
Многочисленные высказывания Белинского о Байроне насыщены чувством
глубокого восхищения. Английский поэт был дорог Белинскому как романтик,
обращенный, по его выражению, «вперед», звавший к борьбе против сил реак-
ции, ненавистных русскому революционеру-демократу.
Не так писали в те годы о Байроне в Англии. Его политические враги не
скрывали своего облегчения при вести о смерти поэта: смолк голос, беспощадно
и гневно обличавший их преступления, звавший народ не повиноваться королю,
фабриканту и церкви. Умершего Байрона посмертно позорили и чернили; ли-
берал Ли Гент, навязчиво добивавшийся близости с Байроном и отвергнутый
им, отомстил ему «воспоминаниями», похожими больше на пасквиль. Даже
186
друг Байрона Т. Мур в своем издании «Письма и дневники Байрона и заметки
о его жизни» (1830) утаил правду о великом поэте, создал искаженный и да-
лекий от истины образ Байрона.
Буржуазная Англия хотела бы забыть о Байроне, вычеркнуть его из истории
английской литературы. Так как это было невозможно, буржуазные издатели
и критики уродовали произведения великого поэта, искажали его биографию,
внушали английскому читателю ложное представление о его творчестве и о его
жизни.
Но помнила и любила Байрона другая Англия — Англия рабочих масс,
поднимавшихся под знаменами чартизма на борьбу против власти капитала.
Следя за развитием чартистской литературы, изучая литературные вкусы чар-
тистов, Энгельс писал: «...гениальный пророк Шелли, и Байрон со своей страст-
ностью и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего чита-
телей среди рабочих; буржуа держит у себя только так называемые «семейные
издания», выхолощенные и приспособленные к современной лицемерной мо-
рали» '.
Высказывание Энгельса проливает свет на все дальнейшее развитие изуче-
ния Байрона в Англии. Многие английские буржуазные литературоведы беспо-
щадно и бесцеремонно искажают Байрона, клевеща на него и пороча его свет-
лую память. Зато подлинной защитницей Байрона и созданных им поэтических
ценностей выступает прогрессивная английская критика наших дней, видящая
в Байроне одного из великих писателей английского народа.
* * *
Среди произведений Байрона, заслуженно привлекших к нему широчайшее
внимание европейских читательских кругов еще при жизни поэта, прежде всего
надо назвать «Паломничество Чайльд Гарольда». С издания первых двух его
песней началась европейская слава молодого поэта. Первая половина поэмы
(песни первая и вторая) была написана вдали от Англии и в довольно короткий
срок — с октября 1809 г. по март 1810 г. Обе первые песни сложились и выли-
лись как впечатление от всего того, что увидел Байрон во время своего путе-
шествия.
Отплыв из Англии в июне 1809 г., Байрон посетил сначала Португалию
и Испанию. Вслед за ошеломляющими впечатлениями от этих стран, охвачен-
ных войной против Наполеона, пришли впечатления от плавания по Средизем-
ному морю, от стоянки на Мальте, уже тогда превращенной в оперативную базу
британского флота.
Осень 1809 г. застала Байрона и его спутников в Албании. Здесь, в Янине,
31 октября 1809 г. была начата первая песнь поэмы.
Особое внимание Байрона уже тогда привлекала Греция, в которую он на-
правился из Албании. Весной 1810 г. в Смирне — древнем портовом городе на
малоазиатском побережье Средиземного моря — была закончена вторая песнь
поэмы. Обе они вышли отдельным изданием в марте 1812 г.
В иных условиях рождалась третья песнь. Она написана в мае — июне
1816 г. на берегу Женевского озера. Это первое большое произведение, создан-
ное Байроном после отъезда из Англии, полно отзвуков путешествия по Гол-
ландии и Швейцарии. Четвертая песнь, вчерне написанная в июне — июле
1817 г., уже в Италии, была завершена в декабре того же года.
Разумеется, нельзя забывать о том, что между первыми песнями поэмы и ее
окончанием лежат годы, полные интенсивной творческой работы. Третья и чет-
вертая песни отличаются во многом от начала поэмы: изменился сам образ
1 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2.
С. 462—463.
187
Чайльд Гарольда, глубже стало отношение поэта к действительности, совер-
шеннее поэтическое мастерство. И все же целесообразно рассматривать «Па-
ломничество» как произведение цельное, имеющее свои жанровые особенности,
неповторимое в своеобразном богатстве картин и тем, воплощенных в гибкой
стихотворной форме.
Общим моментом, объединяющим все четыре песни поэмы, является то об-
стоятельство, что они действительно складывались как впечатления от путе-
шествий самого Байрона, как своеобразный поэтический дневник-роман,
«a romaunt», как называл его сам поэт.
Байрон настойчиво подчеркивал эту особенность поэмы тем, что снабдил ее
содержательными примечаниями, которые многое дополняют и раскрывают
в замысле «Паломничества». Примечания связывают строфы поэмы с отдель-
ными эпизодами страннической жизни Байрона, а иногда дают читателю впол-
не точный отчет о поездках поэта. Написанные великолепной байроновской
прозой примечания, как и предисловия к отдельным песням поэмы, неразрывны
с текстом поэмы, входят в него, занимают определенное место в композиции
«Паломничества».
Почти восемь лет жизни Байрона, почти восемь лет европейской истории
отражены в четырех песнях «Паломничества». Вникая в строфы поэмы, чита-
тель убеждается в неразрывной связи изображенных в ней общественных со-
бытий с духовным развитием поэта.
Да, «Паломничество» — поэтический дневник. Его вел пылкий борец за
свободу народов Европы, поэт, мужавший в тех исторических бурях начала
века, которые пугали многих его современников — консервативных романтиков,
искавших подчас тихой заводи, сожалевших о крушении привычных условий.
Байрону в этом грозовом воздухе дышалось легко.
Первая глава этого удивительного дневника начинается традиционным об-
ращением к Музе. Так полагалось начинать эпические поэмы по всем правилам
книжных поэтик XVIII в.; Байрон к ним относился скептически, считая высшей
школой поэтического мастерства — изучение жизни. Вот почему это начало
носит несколько иронический характер: все, что следует за чинным обращением
к Музе, совершенно непохоже на те напыщенные, по учебникам написанные
поэмы, вызвавшие столько насмешек в «Английских бардах и шотландских
обозревателях».
Расставшись с Музой, Байрон переходит прямо к делу: он знакомит читате-
ля с героем своей поэмы, юным аристократом Гарольдом (Childe — английское
слово, обозначающее молодого человека из знатной семьи) и бегло рассказы-
вает о том, как надоело Гарольду светское английское общество с его надмен-
ной и пустой жизнью. Гарольд, пресытившись светскими развлечениями и на-
скучив жизнью в усадьбе, задумал отправиться в путешествие, чтобы хоть чем-
нибудь заполнить свой досуг, удовлетворить жажду глубоких впечатлений,
сильных переживаний.
Как только Гарольд попадает в Португалию, весь тон поэмы меняется. Га-
рольд скучал и повесничал в Лондоне; душа его опустошалась и скудела от
светской жизни, от общения со светской чернью, которую Гарольд презирал, но
уже первые впечатления от Португалии разбудили дух юноши, заставили его
зорко и взволнованно присматриваться к новому миру, открывшемуся перед
ним.
Португалия в то время переживала трудную пору своей истории. В 1807 г.—
за два года до приезда Байрона — армии Бонапарта оккупировали страну.
Королевская семья постыдно бежала, ограбив народ и уведя военные корабли,
которые еще могли бы оказать отпор захватчикам. В 1808 г. португальский на-
род вместе с народом Испании восстал против оккупантов. Этим воспользова-
лась Англия, ждавшая возможности высадить свои войска в Португалии и за-
крепиться в ней. Торийские политики уже давно оказывали покровительство
188
португальскому королевскому дому, надеясь затем при его помощи прибрать
всю страну к рукам.
В августе 1808 г. английский полководец Веллингтон при помощи повстан-
цев очистил Португалию от французов. Однако Веллингтон вел военные опе-
рации умышленно нерешительно, затягивал их, мешал действиям народной
хунты — правительства, созданного повстанцами. Английские политики и ге-
нералы хотели прежде всего обеспечить свои позиции в стране и восстановить
монархическое правительство.
Байрон с возмущением упоминает в поэме о переговорах в португальском
городе Синтра; в результате этих переговоров англичане дали французам спо-
койно уйти с территории Португалии. Гневно звучит голос поэта, когда он го-
ворит о деятельности английских политиков, торгующих интересами народов.
С отвращением убеждается Гарольд, что властью в стране пользуется католи-
ческая церковь, эта опора реакции; когда ей выгодно, она выступает в контакте
с англичанами и те поддерживают ее.
Перед путешественником проходят картины нищеты и упадка, разрухи, по-
рожденной вековой отсталостью страны, а теперь усугубленной войной. Га-
рольд видит, как тяжело живется португальскому народу, ограбленному пре-
ступным правительством, обманутому духовенством, разоренному нашествием
французов и пребыванием английских экспедиционных войск. Байрон в своих
комментариях к этому месту поэмы приводит факты, недвусмысленно освеща-
ющие подлинное отношение португальского народа к английским союзникам;
оказывается, португальцы, недавно с таким мужеством участвовавшие в боях
против французов, теперь нередко нападают на англичан, видя в них тоже за-
хватчиков.
Но Португалия — только предвестье того, что видит Гарольд в Испании,
в «lovely Spain», как говорит Байрон.
Грозным было для Испании лето 1809 г.— время, о котором рассказывается
в испанских строфах первой песни. Весной после многомесячной обороны пала
крепость Сарагоса, разрушенная французскими пушками и саперами, из-
мученная голодом и тифом, косившими ряды ее защитников. Наполеоновские
маршалы — Сульт, Ней, Виктор, Себастьяни — с новыми силами, подтянутыми
из Франции, рвались вперед, нанося тяжелые удары испанцам и англичанам.
Однако силы испанцев не убавлялись. Народ все успешнее вел революци-
онную войну против французов, испанское партизанское движение шло вглубь
и вширь, угрожая коммуникациям и гарнизонам французов.
Гарольд восхищается мужеством испанцев, сопротивляющихся отборным
войскам Наполеона. В строфах первой песни, посвященных испанской эпопее,
Байрон создает величественный образ испанского народа, вставшего на смерт-
ный бой за свободу и честь своей страны. Этот образ замечателен и своей
обобщающей силой и своими отдельными чертами: Байрон вспоминает о геро-
изме крестьян, об отваге девушек и женщин Испании, о храбрости испанских
солдат.
Воспевая подвиг защитниц Сарагосы, Байрон не знал, что другой гениаль-
ный художник его времени — великий испанец Франсиско Гойя — в своих
офортах «Бедствия войны» тоже создаст образ девушки из Сарагосы, в реша-
ющую минуту бросившейся к пушке, чтобы заменить убитых пушкарей и раз-
рядить орудие прямо в наступающую колонну французов.
Байрон видел людей, о которых он так ярко и восхищенно рассказывает
в этих строфах своей поэмы. Он беседовал с крестьянами — участниками пар-
тизанского движения, встречал на улицах испанских городов, еще недавно
обагренных кровью отчаянных схваток, девушек с медалями на солдатских
куртках — смелых защитниц испанской свободы.
От Байрона не скрылась самая существенная черта народной войны испан-
ских патриотов. Это была война революционная, ее участники хотели не только
189
изгнания французов, но и ликвидации гнилого феодального режима. Героями
революционной войны были прежде всего простые люди, представители широ-
ких слоев испанского народа.
Королевский двор, как это было и в Португалии, бежал из страны. Доволь-
но значительная часть испанского дворянства признала власть марионеточного
«испанского короля» Жозефа Бонапарта — брата Наполеона.
Байрон знал об этом. Насколько презрителен его отзыв об испанской знати,
настолько же восторженно говорит он о подвигах испанского народа:
Вассал, он в бой пошел, хоть сюзерены
Бежали, став лакеями Измены;
Он, нищий, предан родине своей;
Он путь к Свободе в гордости нетленной
Обрел; разбитый, бьется он сильней.
(1. 86; пер. Г. Шенгели)
Байрон показал неукротимую любовь испанцев к свободе, их железную
стойкость, их веру в победу. Строфы поэмы, восторженно описывающие на-
родную войну в Испании 1809 г., звучат как иллюстрация к известным словам
К. Маркса: «...если испанское государство мертво, то испанское общество полно
жизни, и в каждой его части бьют через край силы сопротивления» 1.
Вот эту бьющую через край силу сопротивления и сумел показать Байрон,
искренне восхищенный подвигами испанского народа. «Испанское общество
полно жизни»— эти слова К. Маркса могут быть отнесены к описаниям испан-
ских городов, к сценам народной жизни, картинам испанской природы, кото-
рыми так богаты испанские строфы первой песни. Разве в поразительном по
живости описании восторгов и эмоций испанской толпы не отражена одна из
сторон этой бьющей через край силы жизни, которая кипела в испанском
обществе? Война пробудила народ от вековой спячки, показала его силы
и возможности. Строфы, описывающие жизнь испанского народа, свидетельст-
вуют о характерной особенности всей поэмы Байрона — о ее живописности,
о богатстве красок и зрительных образов.
В Испании Гарольд уже не тот разочарованный светский денди, каким он
показан в начале поэмы. Великая драма испанского народа разбудила его ду-
шу, заставила его полюбить героев народной войны, помогла ему увидеть бес-
человечность и преступность военных авантюр Наполеона, в новом свете пока-
зала ему политику тех самых английских лордов, которые раньше были для не-
го просто персонажами комедии лондонской салонной жизни. Здесь, в Порту-
галии и Испании, лорд Веллингтон, любимец лондонских дам и щеголей, пред-
стал перед Гарольдом как циничный политикан, хладнокровно жертвующий
тысячами человеческих жизней в угоду своим покровителям — лидерам торий-
ской олигархии. Зловещая роль английской политики начинает обрисовываться
в поэме во всем ее отталкивающем двуличии и лицемерии.
Первая песнь, наполненная отдаленными раскатами артиллерийской пальбы
и залитая солнцем Испании, пленяющая образами героев испанской револю-
ционной войны, заканчивается тревожно. Новые тучи сгущаются над Испанией:
ее поля, по которым летом проезжал Гарольд, скоро вновь станут местами
ожесточенных боев. Наполеон, разгромив в битве под Ваграмом (1809) авст-
рийскую армию, собирал войска для нового похода против непокоренной Ис-
пании. Сотни тысяч солдат, могучие артиллерийские парки уже тянулись от
Дуная, где еще дымилось ваграмское побоище, к границам Испании.
Первая песнь поэмы была закончена зимой 1809—1810 гг. Поэт путешест-
вовал по Албании, когда армии Наполеона, перевалив с жестокими боями через
Сьерра-Морену, захватили почти всю Испанию и вновь оккупировали Порту-
галию. Но пламенные стихи Байрона призывали верить в силы сопротивления
1 Маркс К. Революционная Испания//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 10. С. 433.
190
испанского народа, звучали паролем ненависти к военному деспотизму Бона-
парта, гимном в честь национально-освободительной войны народов Европы
против его полчищ.
Сила поэтического предвидения, присущая подлинно великим произведени-
ям искусства, живет и поныне в этих строфах первой песни, зовет верить
в счастливое будущее испанского народа.
Вторая песнь, начатая обращением к богине Мудрости, свободно переходит
к характерному для Байрона описанию моря, по которому скользит корабль
Гарольда. Певец моря, Байрон обладал замечательным богатством эпитетов
и сравнений для изображения его в разную погоду, в разное время дня и ночи.
Картина моря, залитого солнцем, описание щеголеватого корабля, на кото-
ром идет своя размеренная морская жизнь, успокаивают читателя, на время
заставляют его забыть о трагических и тревожных нотах, на которых оборва-
лась первая песнь поэмы. Читатель вместе с Гарольдом обдумывает на корабле
испанские впечатления: они не стираются, наоборот, они только закрепятся
в эти дни вынужденного отдыха.
С опытом, приобретенным в Испании,— с опытом человека, научившегося
видеть нужду, горе и героизм народа,— Гарольд высаживается на берегах Ал-
бании. Поэт постоянно напоминает о суровой судьбе Албании. Она томится под
турецким игом, насильно отуречена. В ее далеком прошлом еще горит имя
Скандербега — о нем вспоминает Байрон, как о славном отзвуке независимости
Албании. Поэту горько видеть, что эта прекрасная страна, эти гордые, благо-
родные, смелые люди вынуждены терпеть деспотический режим Османской им-
перии, подчиняться наместнику султана — албанскому феодалу Али-Паше,
который фактически правил страной как самовластный средневековый деспот.
Как и в первой песни, поэт посылает своего героя в гущу народа, заставляет
с живым любопытством изучать быт и нравы, прислушиваться к народным
песням. В сильных и простых чувствах албанцев, в их прямоте и мужестве Га-
рольд видит залог славного и свободного будущего, которое еще настанет для
этой страны — Байрон верил, что тирании Али-Паши придет конец.
В первой песни на фоне испанской природы выступал простой испанец-
крестьянин, погонщик мулов, партизан; во второй песни на фоне горных пейза-
жей Албании, в описании которых со всей силой сказывается романтический
колорит поэмы Байрона, показан албанский горец.
Гарольд спускается с гор Албании. Конь несет его по полям бессмертной
эллинской славы, мимо руин некогда великих городов, мимо развалин храмов.
Однако тема былой славы Греции, образы античности, входящие здесь в поэму
взамен живых образов испанских крестьян и албанских горцев, отнюдь не яв-
ляются отступлением от современной темы. Байрон апеллирует к древности
только для того, чтобы оттенить жалкое положение Греции, порабощенной
Турцией, чтобы высмеять политику тех кругов греческого общества, которые
пытаются задобрить турецких оккупантов и попирают славные традиции гре-
ческого народа.
Великое прошлое греческого народа обязывает его завоевать себе достой-
ную и свободную жизнь в новом обществе — таков вывод. Об этом думает Га-
рольд, обогащенный новыми впечатлениями от поездок по Албании и Греции.
Испания разбудила лучшие стороны его души, научила его уважать народ, бо-
рющийся за свою свободу. Албанские и греческие впечатления еще больше
расширяют его кругозор, помогают ему создать представление о накапливаю-
щейся силе народного гнева, о еще неразрешенных, но настойчиво поднимаю-
щихся задачах национально-освободительного движения в Европе.
Гарольд, как и сам Байрон, догадывался, что одна из славных битв за сво-
боду обязательно должна грянуть здесь — среди священных камней Греции,
оскверненных турецкими наместниками и непрошенными заступниками из чис-
ла английских политиков вроде лорда Эльджина.
191
В Португалии и Испании — Веллингтон, в Греции — Эльджин; всюду на-
тыкается Гарольд на подобных соотечественников, которые внушают другим
народам подозрение и ненависть, роняют и дискредитируют имя англичанина.
Это возмущает Гарольда: ведь он тоже англичанин, но в отличие от Вел-
лингтона и Эльджина он — друг народов, чьим гостем он оказывается, он
с любовью и интересом следит за их жизнью, восхищается их героизмом.
Так, постепенно в поэме намечается тема двух Англии: той официальной
торийской Англии, которая внушает все большую нелюбовь и Байрону, и его
герою, и другой Англии, народ которой томится если не в рабстве у иноземцев,
то в кабале у английских фабрикантов и землевладельцев. «Я посетил места
военных действий в Испании и Португалии, побывал в самых угнетенных про-
винциях Турции,— сказал об этом позже Байрон, выступая в палате лордов,—
но нигде, даже под игом самой деспотичной, некрещенной державы, я не видел
столь безысходной, столь отчаянной нужды, какую я обнаружил, вернувшись
к себе на родину» '. Опыт, почерпнутый в путешествиях 1809—1811 гг. и от-
раженный в поэме, вплотную подводил Байрона к обобщениям, убийственным
для английского буржуазно-аристократического строя.
В заключительных строфах второй песни вновь возникает тема тоски и ра-
зочарования: дома Гарольда ждет все та же постылая и чуждая ему жизнь
светского общества; он уходил от нее все дальше, но порвать с ней не мог.
«К чему возврат, коль вновь скитаться — сиротой?»— спрашивает Байрон и не
находит ответа. Гарольд вернется в ненавистную ему «толпу».
Это входит в замысел автора. В «Дополнении к предисловию» к первой
и второй песням «Паломничества Чайльд Гарольда», появившемся в 1813 г.,
Байрон так охарактеризовал своего героя: «...он был задуман не как образец,
а как пример, показывающий только то, что раннее развращение ума и нравст-
венности ведет к пресыщению старыми наслаждениями и к разочарованию
в новых и что даже красоты природы и влияние путешествий, все побуждения
(за исключением самого могущественного — честолюбия) потеряны для души,
так устроенной, вернее — ложно направленной. Если бы я продолжил поэму,
этот образ углубился бы по мере приближения к концу, потому что контур, ко-
торый я был намерен заполнить, был, с некоторыми изменениями, портретом
современного Тимона...» 2 Тимон — афинский богач, который, убедившись
в корыстолюбии своих друзей, проникся глубоким презрением к роду челове-
ческому,— в галерее литературных образов воспринимается прежде всего как
образ человеконенавистника. Правда, Шекспир в своем «Тимоне Афинском»
наделил этого героя привлекательными, глубоко человечными чертами. Трудно
сказать точно, что предполагал сделать из Гарольда Байрон, но, видимо, скеп-
тическое отношение к роду человеческому должно было стать одной из харак-
терных черт Гарольда.
Однако это противоречит во многом всему тому, что рассказал Байрон
о своем герое в первой и второй песнях поэмы. Читатель вместе с Гарольдом
привык внимательно присматриваться к жизни народов, чьим гостем оказыва-
ется Гарольд, привык возмущаться проявлением деспотизма, корыстных инте-
ресов правящих классов и восхищаться самоотверженностью и героизмом
простых людей.
Отзывчивость, душевное благородство Гарольда не вяжутся с той ролью
мизантропа, которую намечал ему Байрон. «Ложно направленная», по выра-
жению Байрона, душа Гарольда начинала заметно выздоравливать и осве-
жаться под воздействием всего того, что он увидел и пережил в своих скитани-
ях. В этом противоречии, характерном для Байрона, сказалась, с одной сторо-
ны, объективная правда, отраженная Байроном-художником: она заключается
1 Байрон. Избранные произведения. С. 429.
2 Там же. С. 76.
192
именно в изображении благотворного изменения, происходящего в Гарольде
под влиянием исторических событий, свидетелем которых он стал; и с другой
стороны, предвзятая точка зрения поэта, ошибочно полагавшего, что уже никто
не может изменить характер его героя, освободить его от «развращения ума
и нравственности».
В дальнейшем объективная, сильная сторона противоречий Байрона взяла
верх: он не сделал своего Гарольда Тимоном. В третьей и четвертой песнях Га-
рольд еще человечнее и живее отзывается на новые великие исторические со-
бытия, прогремевшие над Европой, и если он по-прежнему томится в аристок-
ратической среде, все более чуждой ему, то и к прежним своим грубым забавам,
к оргиям и разгулу, он уже не вернется.
При всем том, слова Байрона о Гарольде очень важны для того, чтобы под-
черкнуть принципиальное положение: Гарольд даже в первых песнях поэмы,
где ему уделено больше внимания, не должен считаться положительным героем
Байрона. Поэт смотрит на него критически: жизнь Гарольда до его путешест-
вия — дурной пример; излечился ли Гарольд от своих пороков — поэт не знает,
но предполагает, что если и излечился, то только для того, чтобы стать мизант-
ропом. Вразрез с мнением самого Байрона многие литературные критики его
эпохи и более позднего времени видели в Гарольде именно положительного ге-
роя Байрона.
Как выше было сказано, вторая половина поэмы, написанная через пять лет
после первых двух песней, отмечена многими новыми чертами, свидетельству-
ющими об идейном и эстетическом развитии поэта. Резче и прямее намечен
основной конфликт обеих песней: это — непримиримое противоречие между
порабощенными народами и временно торжествующей реакцией. В центре тре-
тьей песни — битва при Ватерлоо, крах империи Наполеона, а значит, и победа
феодальных монархий; они ловко использовали подъем национально-освобо-
дительной войны народов Европы против Наполеона, чтобы свалить и добить
его до конца, а затем наброситься на те передовые общественные силы, которые
нанесли смертельный удар военному деспотизму Бонапарта.
Но победа реакции не может задержать на долгий срок движение истории.
Пережив трудную полосу разочарований и сомнений, Байрон убедился в этом,
и четвертая песнь поэмы стала гимном итальянскому освободительному дви-
жению: создавая эту песнь, Байрон верил в близкое освобождение Италии.
В третьей и четвертой песнях Байрон больше и непосредственнее говорит
о себе. Правда, в начале третьей песни он возвращается к своему герою и упо-
минает об изменениях, происшедших в нем. Гарольд чувствует себя «плененным
соколом» среди светского общества, его отчужденность усилилась, он одинок;
глухо упоминает поэт о неких «новых целях», высоких идеалах — к ним стре-
мился Гарольд по возвращении из первой поездки, но цели эти не достигнуты,
и Гарольд охладевает к ним. Однако постепенно Гарольд все в большей степени
заслоняется самим Байроном. В четвертой песни Гарольд уходит окончательно
на задний план. Байрон вытесняет своего героя, обращаясь прямо к читателю.
Поэт отбрасывает литературные условности, по которым, собственно, следовало
бы придумать какой-то конец и для Гарольда.
Но читатель понимает поэта: если в первых эпизодах третьей песни Гарольд
и автор еще существуют раздельно, то постепенно они как бы сливаются. Га-
рольд поднимается до Байрона, разделяет с ним его думы об Италии, о судьбах
Европы и всего мира. Возможности, открывающиеся в свободной, гибкой форме
поэмы-дневника, использованы полностью, и это придает еще больше прелести
«Паломничеству».
Третья песнь начинается уже непосредственным лирическим предисловием,
в котором много горечи и трагизма. Поэт вынужден покинуть родину; он ни-
когда не увидит свою дочь; перед ним вновь бесконечные водные просторы,
в них он постарается забыть о своем горе; но перед ним и царство поэтической
7 Р. М. Самарин
193
мечты, неограниченные возможности творчества, особенно манящие его сейчас,
в минуту, когда ему так трудно и одиноко. Тут-то и обращается он к своему
Гарольду, и рассказ о том, как томился Гарольд в унылой суете лондонского
света, звучит особенно горько.
Но лирические мотивы, зазвучавшие в начале третьей песни, скоро засло-
няются потрясающим по силе эпизодом, посвященным битве при Ватерлоо.
Гарольд, как и многие другие путешественники десятых годов XIX в., совершает
паломничество к местам, где так недавно отгремела последняя битва Напо-
леона.
Битва при Ватерлоо показана в поэме как поворотный момент истории.
И закономерно и трагично было падение Наполеона, говорит Байрон. Именно
обе стороны исторического события, его закономерность и трагизм, подчеркну-
ты в поэме. Байрон давно и с напряженным вниманием следил за Наполеоном.
У него было написано несколько стихотворений, посвященных Бонапарту; по-
степенно, пережив пору увлечения им, Байрон выработал трезвое, глубокое
суждение о Наполеоне. Отдавая ему должное, как силе, державшей в страхе
феодальные правительства Европы, Байрон не раз писал о нем с восхищением.
Напомним его эпиграмму «На бегство Наполеона с острова Эльбы» (On Napo-
leon's escape from Elba, 1815), прямо относящуюся к событиям 1815 г. и на-
писанную примерно за год до третьей песни «Паломничества»:
Прямо с Эльбы в Лион! Города забирая,
Подошел он, гуляя, к Парижским стенам —
Перед дамами вежливо шляпу снимая
И давая по шапке врагам!
(Пер. Арго)
Однако еще в Португалии и Испании Байрон на деле увидел результаты
беспощадной завоевательной политики Наполеона. Этого он не забыл и не
простил французскому императору: в его падении он видел закономерный конец
некогда славного полководца революции, ставшего душителем свободы Фран-
ции, притеснителем народов Европы. Байрон говорит об этом в третьей песни
«Паломничества» и специально посвящает этому же одну из частей своей «Оды
с французского» (Ode from the French, 1815):
Кто из тиранов этих мог
Поработить наш вольный стан,
Пока французов не завлек
В силки свой собственный тиран?
Пока, тщеславием томим,
Герой не стал царем простым?
Тогда он пал — как все падут,
Кто сети для людей плетут!
(Пер. В. Луговского)
Вот с этой точки зрения и рассматривает Байрон последний акт истори-
ческой драмы, разыгравшейся на кровавых полях Ватерлоо. Поэт именно здесь
находит место для смелого осуждения войн захватнических, в которых Франция
расточила свои силы и пришла к катастрофе, и противопоставляет им битвы
справедливые, которые велись во имя свободы и чести родины: Марафон,
Моргартен '.
Строфы, посвященные описанию Ватерлоо, свидетельствуют о развитии ре-
алистической тенденции в творческом методе Байрона. Достаточно сравнить
описание исторических событий в первой и второй песнях с этим местом третьей
песни, чтобы увидеть, как романтические эскизы и отвлеченные аллегории,
1 Битва близ горы Моргартен в Швейцарии в ноябре 1315 г., в которой крестьянское ополчение
трех швейцарских кантонов одержало победу над дворянскими войсками австрийского герцога
Леопольда I, что обеспечило независимость союза швейцарских кантонов.— Ред.
194
близкие к классицизму, сменяются теперь разносторонне и живо изображенной
исторической сценой. Она начинается описанием ночного бала в Брюсселе, где
собралась блестящая военная знать союзников — англичан, пруссаков, гол-
ландцев— совместно выступивших против Наполеона летом 1815 г. Но свет-
ское веселье прервано гулом далекой канонады. Ею разбужен и спящий город:
грохот барабанов, лязганье проходящей артиллерии, вой шотландских волынок
перекликаются с голосами орудий. Наступает рассвет и с ним — день битвы, из
которой не вернутся многие, только что веселившиеся на балу или спавшие на
походном бивуаке.
С огромной силой здесь же возникает тема скорби по тем, кто пал в битве
при Ватерлоо, кто стал жертвой последней авантюры Наполеона:
Вчерашний день их видел жизнью пьяных;
В кругу красавиц их застал закат;
Ночь принесла им звук сигналов бранных;
Рассвет на марше встретил их отряд,
И днем — в бою шеренги их стоят.
Дым их застлал; но глянь сквозь дым и пламя;
Там прах людской заполнил каждый скат,
И прах земной сомкнётся над телами:
Конь, всадник, друг и враг — в одной кровавой яме!
(III, 28; пер. Г. Шенгели)
Гарольд едет дальше — прочь от места недавнего побоища; но мирные бе-
рега Рейна не успокаивают его: и здесь кипела отчаянная вековая борьба,
и здесь Гарольд видит следы упорных битв против феодального угнетения.
Только в Швейцарии Гарольд отрывается от мрачных мыслей о прошлом
и будущем Европы: третья песнь завершается строфами, посвященными Руссо
и Вольтеру. В них Байрон видит выдающихся мыслителей, немало способство-
вавших крушению феодальной тирании в Европе, смелых борцов, разивших
своим острым беспощадным словом защитников обветшалой старины.
К концу третьей песни, в 113 строфе, Байрон возвращается к одной из по-
стоянных тем своей лирики: он подчеркивает свое враждебное отношение к ан-
глийскому высшему свету, к тому буржуазно-аристократическому обществу,
которое он столько раз колол своими эпиграммами, осуждал в своих речах
и поэмах. Эта строфа очень близка к первым строфам песни (8—15), характе-
ризующим Гарольда. Композиция песни кольцевая: завершая ее, поэт обра-
щается вновь к дочери, именем которой он открыл главу; теперь это трогатель-
ное прощание, полное глубокого чувства печали и любви, подчеркивающее, ка-
кими низкими средствами воспользовались враги Байрона, мстя ему за его
смелое выступление против лицемерия и своекорыстия английской знати.
Четвертая песнь, в отличие от всех других песней поэмы, начинается непо-
средственно описанием Венеции. Отказавшись от всяких вступлений, Байрон
сразу вводит читателя в мир своих впечатлений от Италии. Древние города с их
памятниками архитектуры и искусства, великие люди прошлого проходят
в строфах поэмы, сливаясь в некое цельное, общее представление об Италии —
этой «матери искусства», как называет ее Байрон. Замечательно то мастерство,
с которым поэт говорит в этой части своего произведения о поэтах — о Данте
и Боккаччо, о Петрарке, Ариосто и Тассо. Италия томится в неволе: все мысли,
все темы четвертой песни подводят читателя к выводу о том, что так больше не
может продолжаться, что народы Европы должны освободить Италию, храни-
тельницу европейской культуры, от позорного рабства, в котором держат ее
австрийцы, папская церковь, мелкие итальянские князьки:
Италия! Пора всем странам встать,
Чтоб кончились навек твои мученья.
Да не снесет Европа преступленья
7* 195
И, орды варваров погнав назад,
Свободу даст тебе...
(IV, 47; пер. Г. Шенгели)
Свободолюбивый пафос четвертой песни поднимается до наивысшего на-
пряжения в описании Рима: это город великого прошлого Италии, это город,
особенно резко свидетельствующий всем своим видом о тяжелом положении
страны в эпоху Байрона, но это и город будущего. Торжествующей верой в дело
свободы звучат стихи поэмы, вселяющие мужество и бодрость в сердца борцов
за свободу Италии:
Но стяг твой, Вольность, все же вьется, рваный,
Грозой летя ветрам наперекор;
Твой рог надтреснут, но, сквозь ураганы,
Его призыв нам слышен до сих пор.
(IV, 98; пер. Г. Шенгели)
Широко и привольно заканчивается последняя песнь «Паломничества»: по-
эт обращается к своему излюбленному морю, создает величавый образ всегда
свободной стихии, неподвластной самым суровым и жестоким деспотам, самым
могучим мировым империям.
«Паломничество Чайльд Гарольда», поэма о человеке, который все-таки
излечился от душевной пустоты и меланхолии, став другом народов, борющихся
против феодальной реакции и бездушной, беспощадной власти золотого меш-
ка — произведение глубоко новаторское. Никто до Байрона не пытался дать
такую широкую картину начала нового века, соединить в ней рассказ о судьбах
народов Европы и повесть о молодом человеке, очень недовольном собой
и своей средой, ищущем новых идеалов, новых исторических перспектив.
Новаторство Байрона сказалось и в самом стихе поэмы. Свою поэму Байрон
писал спенсеровой строфой — девятистрочной строфой, впервые широко при-
мененной поэтом Эдмундом Спенсером. Выбор этой сложной на первый взгляд
формы был не случаен: как писал сам Байрон в «Предисловии» к первой и вто-
рой песням, «спенсерова строфа... допускает выражение самых разнообразных
чувств и мыслей». Байрону надо было найти такую стихотворную форму, кото-
рая была бы удобна для повествовательного, эпического полотна и в то же
время давала бы возможность вводить различные лирические отступления,
вставные эпизоды, целые отдельные лирические стихотворения, лишь внешне
связанные с развитием поэмы. Эти вводные лирические стихотворения и сами
по себе прекрасны и украшают поэму Байрона, охраняя ее от монотонности
и однообразия (см. песнь первую—«К Инее», песнь третью — стихи о Рейне;
Обращение к Аде Байрон в песни третьей и т.д.).
В рамках спенсеровой строфы Байрон с огромным мастерством использовал
самые различные разговорные обороты, вводил в нее беседы с читателем, от-
рывочные лирические комментарии, внешне на первый взгляд затрудняющие
чтение, но придающие поэме замечательную живость, непосредственность. Не-
редко, читая поэму, как бы слышишь голос поэта, обращающегося к читателю,
делящегося с ним самыми сокровенными, подчас еще неоформившимися
мыслями.
Вот пример подобной строфы, богатой живыми, разговорными интонациями,
совершенно новыми в английской поэзии XIX в.:
'Tis to create, and in creating live
A being more intense, that we endow
With form our fancy, gaining as we give
The life we image, even as I do now —
What am I? Nothing; but not so art thou,
Soul of my thought! With whom I traverse earth,
Invisible but gazing, as I glow
Mix'd with thy spirit, blended with thy birth,
196
And feeling still with thee in my crush'd, feeling's dearth.
(Ill, VI)
Замечательно разнообразна и богата ритмомелодика стиха Байрона в «Па-
ломничестве». Он то звучит плавно и традиционно — Whilome in Albion's isle
there dwelt a youth (1,2), то в течение целой строфы строится как повторение
однообразных строк-описаний, то звучит как боевой призыв — Awake, ye Sons
of Spain! awake! advance! (1, 37).
Стих «Паломничества» нередко поражает динамикой, стремительно пере-
данным действием, сложным рисунком, в котором соединены движение, звук,
образ. Такова, например, строфа, описывающая ночную тревогу в Брюсселе:
And there was mounting in hot haste: the steed,
The mustering squadron, and the clattering car,
Went pouring forward with impetuous speed,
And swiftly forming in the ranks of war —
And the deep thunder peel on peal afair;
And near, the beat of the alarming drum
Roused up the soldier ere the morning star (...)
(Ill, XXV)
Наряду с этим, сколько встретится задушевных, лирически звучащих строф,
вносящих оттенок мягкости и нежности в поэму Байрона.
Таковы заключительные строфы третьей песни:
My daughter! with thy name this song begun!
My daughter! with thy name thus much shell end!
I see thee not! — I hear thee not,— but none
Can be so wrapt in thee <...)
(Ill, CXV)
В целом, характеризуя неисчерпаемую изобретательность Байрона-поэта,
надо подчеркнуть, что богатство средств стиха зависит прежде всего от глубо-
кой жизненности его поэмы, от ее трепещущего, глубоко человечного содержа-
ния. Эмоциональность «Паломничества», завоевавшая читателей XIX в. и ув-
лекающая нас, живет не только в образах и содержании поэмы, но и в ее звуке,
в нервном, непосредственно звучащем стихе, таком искусном и вместе с тем бе-
зыскусственном.
«Паломничество» было великим событием не только в истории английской
поэзии в целом, но и в истории английского поэтического языка. Поэма Байро-
на появилась в те годы, когда «лейкисты» Вордсворт, Колридж и Саути — ан-
глийские романтики — стремились осуществить реформу английского поэти-
ческого языка, основы которой были намечены в предисловии Вордсворта
и Колриджа к «Лирическим балладам» (1798).
Реформа языка, затеянная этими поэтами, принесла некоторые частные по-
ложительные результаты. Но в целом она направляла английскую поэзию
в сторону от развития английского языка, ориентировала поэтов на искус-
ственность поэтической речи, придавала слишком большое значение диалек-
тальным формам, архаизмам. Удобный для стихотворений, посвященных сред-
невековой тематике, для стилизаций вроде «Старого моряка» Колриджа, по-
этический язык «лейкистов» был непригоден для развития поэзии, обращав-
шейся к современным событиям, к современной общественной жизни с ее мас-
сой новых политических, научных, философских понятий, порожденных бурными
десятилетиями конца XVIII — начала XIX в. Невозможно было языком «лей-
кистов» точно и глубоко передать сложные переживания и мысли англичанина
начала XIX столетия — современника луддитского движения, наполеоновских
войн.
Реформе «лейкистов» объективно противостояли те огромные достижения
в области английского поэтического языка, которыми обогатили английскую
197
поэзию Байрон и Шелли, опиравшиеся на завоевания передовой английской
и европейской мысли своего времени, обратившиеся к подлинно народному
языку, звучащему в «Песне для луддитов», «Песне к британцам» и в других
произведениях Шелли и Байрона.
Поразительно богатый язык «Паломничества» в этом отношении — один из
ярких примеров новаторства Байрона в сфере поэтической речи XIX в.
Байрон отнюдь не нигилистически относился к опыту английских поэтов
XVIII в. да и к опыту «лейкистов» (Байрон высоко ценил Колриджа). Отбра-
сывая и иронически используя в пародийном духе многие характерные языко-
вые средства английской классицистской поэзии XVIII в., Байрон нередко при-
бегал к тем ее средствам, которые ему казались еще допустимыми: это отно-
сится, например, к аллегорическим образам в первой и второй песнях «Па-
ломничества» '.
Но, выбирая из великой сокровищницы английского стиха все лучшее, что
он мог взять у Спенсера, Шекспира, Мильтона, Попа, Байрон с поразительной
смелостью внедрял новые слова и выражения, новые образы, беря их из газеты,
из научной литературы, из повседневного разговорного языка, из профессио-
нальной терминологии.
«Паломничество» в известной мере — энциклопедия английской жизни
эпохи Байрона. Политика, философия, история, быт, нравы, состояние наук
нашли свое отражение в этой многосторонней поэме. Соответственно ее широ-
кому содержанию лексика ее очень богата: она отражает состояние развиваю-
щегося английского языка начала XIX в. шире, чем любое другое произведение
английской литературы, появившееся между 1810 и 1820 гг. В этом смысле
Байрон был великим продолжателем Уильяма Шекспира и предшественником
замечательных английских реалистов XIX столетия.
sfc sf: sjc
В заключительной строфе «Паломничества» поэт, прощаясь с читателями,
обращает их внимание на смысл своего произведения, «the Moral of his Strain»,
как он выражается. Высокое моральное значение поэмы Байрона заключается
в том, что она устремлена в будущее, полна веры в победу передовых сил мо-
лодой Европы над силами реакции.
«Что такое поэзия? Ощущение прошлого мира и будущего»,— записал
Байрон в дневнике от 28 января 1821 г. Это определение в полной мере отно-
сится и к поэзии «Паломничества»; поэма Байрона глубоко исторична, в ней
сделана попытка осмыслить «прошлый мир»— недавние исторические события,
свидетелем и участником которых был Байрон — и заглянуть в «мир будущий»,
в пору близящихся новых боев. В остроте ощущения времени, в стремлении
уловить, куда же движется история современного общества, заключается бес-
смертная прелесть образов и картин «Паломничества».
Строфы «Паломничества» пахнут морем и порохом, дымом путевых костров,
лавровыми рощами Италии. Но говорит ли поэт о морском урагане или о гор-
ной вьюге, он славит прежде всего вольный ветер, развевающий то славное
знамя Свободы, о котором упомянуто в бессмертной 98-й строфе четвертой
песни его поэмы.
Этот ветер свободы, веявший со страниц поэмы Байрона, и стал силой,
властно завладевшей сердцами читателей, когда они познакомились с «Па-
ломничеством». Итальянские карбонарии, видевшие в Байроне верного друга,
французские республиканцы, ненавидевшие режим Реставрации, испанские
революционеры, греческие патриоты, немецкие студенты — участники освобо-
дительной войны 1813—1815 гг., обманутые в своих надеждах на свободу, рус-
1 Например, описания войны в песне первой, строфы 38, 39, 40.
198
ские вольнодумцы — члены тайных обществ — находили в поэме Байрона до-
рогие им мысли и образы, чувствовали знакомые настроения и сомнения, вместе
с Байроном хотели верить и надеяться на то, что стяг Свободы —«banner of
Freedom»— еще взовьется над землей, освобожденной от оков деспотизма
и угнетения.
«Паломничество Чайльд Гарольда»— поэма, дышащая революционной ро-
мантикой освободительных войн начала XIX в., вобрала в себя опыт народов
Европы, завоеванный ими в жестокой борьбе против феодальной реакции.
Тематика и образы замечательной поэмы Байрона тесно связаны с разви-
тием передовой европейской литературы XIX столетия. Передовые европейские
писатели первой половины века — Пушкин, Гете, Стендаль, Мериме — с глу-
боким сочувствием следили за освободительной борьбой народов Греции, Ис-
пании и Италии.
В течение долгих десятилетий героика этих событий, о которых впервые за-
говорил Байрон, питала творчество новых и новых выдающихся прозаиков
и поэтов.
Образ искреннего, глубокого, хотя и очень противоречивого человека, кото-
рый разочаровался в себе, в своей аристократической среде и страстно ищет
новых идеалов, жаждет духовного обновления, прошел через многие класси-
ческие произведения мировой литературы XIX в. Этот общественный тип
(впервые намеченный в образе Гарольда) был подсказан и Байрону и другим
писателям сходными общественными явлениями в жизни их стран, истори-
ческими условиями. В эпохи, когда старый строй, старый класс разрушается
и гибнет, а в его защитниках отталкивающе обнажаются черты их обречен-
ности, лучшие люди старых, гибнущих классов находят в себе силы для того,
чтобы искать новых путей — путей к народу — и нередко приходят к нему,
становятся участниками или певцами его исторических подвигов. К числу таких
людей относился и сам Байрон. В «Паломничестве Чайльд Гарольда» вопло-
щены с особой силой многие черты Байрона, которые дороги и понятны нам.
1956
ВАЛЬТЕР СКОТТ И ЕГО РОМАН «РОБ РОЙ»
1
Вальтер Скотт (1771 —1832) —один из замечательных английских писате-
лей XIX в., создатель жанра исторического романа в западноевропейской ли-
тературе. Его исторические романы принесли ему мировую известность.
Творчество Вальтера Скотта складывалось и развивалось в эпоху, богатую
бурными историческими событиями. Современник французской буржуазной
революции и наполеоновских войн, В. Скотт стал затем свидетелем значитель-
ного общественного подъема в Англии — борьбы за реформу. В этой борьбе
английская буржуазия, используя недовольство широких народных масс, ра-
зоренных промышленным переворотом и войной, стремилась свергнуть торий-
скую олигархию — реакционный блок, державшийся у власти более полусто-
летия.
Обострялись и национальные противоречия. В конце XVIII и начале XIX в.
не раз поднимался против ига английских поработителей ирландский народ.
Борцы за свободу Ирландии видели ободряющий пример в других освободи-
тельных движениях начала XIX в.— в борьбе испанского народа против фран-
цузских оккупантов, в борьбе итальянских патриотов против феодального гнета
и австрийской интервенции, в освободительной войне греческого народа. Валь-
199
тер Скотт следил за этими событиями и о некоторых упоминал в своих произ-
ведениях и письмах.
Рушилась феодальная Европа, складывалась Европа буржуазная, в строе
которой не замедлили проявиться еще более острые классовые противоречия;
их предвестьем было мощное, хотя и неорганизованное движение рабочих масс
в Англии, известное под названием луддитского движения. Современник зна-
чительных исторических событий, В. Скотт старался понять их смысл для того,
чтобы проследить истоки явлений, развивающихся в его эпоху; он внимательно
изучал историю Англии и Шотландии — двух стран, которые были ему одина-
ково близки: потомок старинного шотландского дворянского рода, он стал анг-
лийским писателем, был тесно связан с английской культурой своего времени.
В начале своего творческого пути Вальтер Скотт выступал как собиратель
памятников народного творчества («Песни шотландской границы», 1802) и как
автор исторических баллад и поэм, посвященных прошлому Шотландии и Анг-
лии («Песнь последнего менестреля», 1805; «Мармион», 1808 и др.).
Изучение прошлого и ход современных ему исторических событий убедили
В. Скотта в существовании определенных закономерностей исторического раз-
вития. Он сделал важный вывод о неизбежной победе новых экономических
и социальных отношений над старыми, новых взглядов над отжившими.
Эта точка зрения писателя на историю отразилась в ряде его романов, по-
явившихся после 1814 г., когда был напечатан первый из них —«Веверлей».
Романы Вальтера Скотта по справедливости считаются замечательными про-
изведениями мировой литературы. Они были высоко оценены К. Марксом, Ф.
Энгельсом и русской революционно-демократической критикой.
Однако мысль о неизбежности победы нового над старым, высказанная
в лучших романах Скотта, находится в противоречии с консервативными поли-
тическими взглядами писателя, которые во многом ослабляли правдивость
и художественность его произведений. Скотт был защитником монархии,
осуждал французскую буржуазную революцию и ее сторонников в Англии.
В консервативных взглядах Скотта отражалось его критическое отношение
к бурному развитию капитализма в Англии и Шотландии, который жестоко ло-
мал устоявшиеся социальные отношения, разорял и грабил народные массы,
превращал крестьянина — мелкого собственника, кое-как жившего своим тру-
дом на клочке арендованной земли,— в неимущего бродягу, в затворника ра-
ботных домов, называвшихся в Англии «бастилиями для бедных». Но писатель
не смог увидеть в народе силу, которая сама освободит себя от угнетения
и эксплуатации. Вальтер Скотт разделял распространенные в его время иллю-
зии относительно «справедливой» монархии, которая якобы способна защитить
интересы народных масс от хозяйничанья буржуазных хищников, искусственно
придать экономическому развитию страны более медленные темпы, не столь
разрушительно сказывающиеся на жизненном уровне народа.
Хотя Белинский и отмечал ограничивающее влияние консервативных поли-
тических взглядов Скотта на его творчество, но прежде всего великий русский
критик подчеркивал положительное значение романов Скотта в развитии ми-
ровой литературы; Белинский сравнивал Скотта с Шекспиром, подчеркивая
этим сравнением реалистическую тенденцию в творчестве английского рома-
ниста.
Белинский высоко ценил стремление Вальтера Скотта показать в своих ро-
манах «пружины истории» и отмечал тесную связь исторической науки и худо-
жественного вымысла, свойственную произведениям писателя. В этих особен-
ностях его романов великий русский критик видел важные творческие дости-
жения, обогатившие роман как жанр в целом, поднявшие его на новую и выс-
шую ступень по сравнению с романом XVIII в. Белинский видел в произведе-
ниях Скотта особый этап в развитии не только исторического романа, но и ро-
мана социального, о чем он специально писал в статье «Тереза Дюнойе».
200
В лучших своих произведениях Вальтер Скотт приблизился к изображению
истории как борьбы классов, что в его время было уже великим достижением,
значительным шагом вперед. Это действительно придавало его романам ха-
рактер открытий, как писал о них Белинский, сказавший, что Вальтер Скотт
«открыл» жанр исторического романа.
Особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что в исторических романах
Скотта большую роль играет народ, выступающий и в отдельных образах, и
в массовых сценах, которые писатель изображал с таким мастерством. В изоб-
ражении народных сцен, народных персонажей романов Скотта отразился ис-
торический опыт самого писателя — современника великих народных дви-
жений.
В. Скотт не смог показать в своем творчестве освободительную традицию
своего народа так ярко и правдиво, как сделали это великие русские реалисты
Пушкин и Лермонтов, создавшие бессмертные образы Пугачева и Разина, по-
святившие немало своих произведений теме борьбы русского народа против
царизма. Вместе с тем образы героев из народа, созданные Вальтером Скот-
том,— это образы благородных, сильных, протестующих людей, способных на
борьбу и на подвиги. Они нередко противостоят в его романах представителям
высших классов, изображенным во всей их низости и бесчеловечности («Пури-
тане», 1816; «Айвенго», 1819). Главным образом в народе Скотт видел те вы-
сокие человеческие качества, которых не было у представителей высших клас-
сов; в этом писатель был прав, он отражал действительное положение вещей
в современной ему буржуазной Англии — именно народные массы и были со-
здателями подлинной культуры и ее ценителями, носителями национальных
традиций и подлинного патриотизма.
2
Роман «Роб Рой» появился в 1817 г. Он относится к тем романам Скотта,
которые условно называются «шотландскими»— по месту их действия,—
и принадлежит к числу его лучших произведений. Написанные между
1814 и 1819 гг. они являются вершиной творчества Вальтера Скотта. Немало
романов создал писатель позже — в 20-х годах XIX в., но ни один из них, даже
самые удачные, вроде «Квентина Дорварда» (1823) и «Айвенго», не обладал
достоинствами «шотландских романов» в самом главном — в глубине раскры-
тия совершающихся общественных процессов, в изображении народа.
Как уже было сказано, «шотландские романы» начинают путь Скотта-ро-
маниста. К ним относятся «Веверлей» (1814), «Гай Маннеринг» (1815), «Ан-
тикварий» (1816), «Роб Рой» (1817) и вышедший в 1816—1819 гг. цикл «Рас-
сказы моего хозяина», среди которых следует особо отметить романы «Пури-
тане» (1816), «Эдинбургская темница» (1818) и «Легенда о Монтрозе» (1819).
Действие этих романов происходит примерно на протяжении столетия, от
середины XVII до середины XVIII в. Но все они объединены одной большой те-
мой: историей той ломки, в ходе которой погибла старая патриархальная Шот-
ландия и сложилась Шотландия буржуазная.
Это был сложный и медленно шедший процесс, изобиловавший кровавыми
столкновениями и ожесточенной борьбой, в которой правящие классы Англии
и Шотландии и борющиеся политические клики стремились использовать силы
народа, обманывая и предавая его. Почти в каждом из «шотландских романов»
Вальтера Скотта упоминается или прямо говорится об эпизодах ожесточенной
борьбы: в «Легенде о Монтрозе» писатель рассказывает о событиях буржуаз-
ной революции XVII в., в «Пуританах»—о восстании 1679 г. против восста-
новленной династии Стюартов, в «Роб Рое»— о восстании 1715 г., в «Вевер-
201
лее»— о восстании 1745 г., о котором Энгельс писал: «В Шотландии гибель ро-
дового строя совпадает с подавлением восстания 1745 года» '.
В то время как в Англии уже развертывался промышленный переворот, уже
навсегда были снесены твердыни феодализма и шло бурное развитие буржуаз-
ных отношений, в горных областях Шотландии еще доживал свой век древний
родовой строй.
Ломка старых, докапиталистических отношений в Шотландии тем и харак-
теризовалась, что в некоторых областях страны народ попадал под иго буржу-
азии непосредственно из обстановки родового строя: молодежь шотландских
кланов становилась к станкам мануфактур, возникавших в шотландских горо-
дах,— и прежде всего в Глазго, политическое и экономическое значение кото-
рого в эпоху Вальтера Скотта быстро росло.
Промышленный переворот XVIII в., способствовавший преобразованию
старой аграрной Англии в капиталистическую, проходил в Шотландии с неко-
торым запозданием. Молодой Вальтер Скотт, сын разорившегося шотландского
дворянина, застал еще многие пережитки старины, не только феодального
строя, но и строя родового, сохранившегося даже в окрестностях Эдинбурга —
старой столицы Шотландии, университетского города, с которым была связана
вся жизнь Скотта.
Начав свой самостоятельный жизненный путь в качестве юриста, Вальтер
Скотт постоянно слышал о бесконечных тяжбах и судебных процессах; при
этом особенно явно выступала всемогущая власть денег. Он видел, как дроби-
лись и распадались крестьянские наделы и старые дворянские усадьбы, как
мошеннически отчуждалась исконная земля шотландских кланов, как шли
с молотка памятники шотландской старины и жалкие пожитки разоренных ре-
месленников. Так укреплялась власть английской и шотландской буржуазии —
новых хозяев Шотландии, прочно утвердившихся в стране, сгонявших шотлан-
дское крестьянство с его земли, насаждавших в Шотландии отношения и нравы
победившей буржуазии.
В «шотландских романах» Вальтера Скотта процесс ограбления народных
масс и его последствия раскрыты с особой силой. Народные образы «шотланд-
ских романов» Скотта разнообразны, содержательны и богаты. Среди них
и старая Мег Меррилиз, и добрый нищий Охилтри, и обаятельная Дженни
Дине. Рядом с этими обездоленными людьми из народа стоят мужественные
горцы, олицетворяющие в романах Скотта образ народа вооруженного, вну-
шающего ужас и ненависть своим противникам, представителям правящих
классов Англии и Шотландии: роялистам XVII в. в «Пуританах», родовой знати
и богатым землевладельцам — в «Роб Рое». Среди активных народных героев,
проходящих перед читателем в «шотландских романах» Скотта, Роб Рой —
самый выразительный и замечательный.
Вальтер Скотт отдавал себе отчет в том, что восстания, о которых он по-
вествует в своих «шотландских романах», далеко не всегда были направлены на
защиту народного дела и нередко инспирировались все той же родовой знатью
и крупными феодалами. Он показывает, что Монтроз поднял горцев на борьбу
за престол Стюартов, что в 1715 («Роб Рой») и в 1745 гг. («Веверлей») горцы
были использованы как ударная сила якобитами, сторонниками восстановления
династии Стюартов и феодальных привилегий, уничтоженных английской бур-
жуазной революцией.
Сила Скотта-художника в том и заключалась, что он в своих произведениях
сказал правду о том, как обманывали шотландских горцев их вожаки и руко-
водители — английские и шотландские феодалы XVII в. вроде Монтроза, анг-
лийские и шотландские авантюристы-аристократы XVIII в., такие, как граф
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства//Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 133.
202
Мар-Вернон, продажные лэрды — родовая шотландская знать — вроде майора
Галбрейта.
В романе «Роб Рой» дается широкая и сложная картина шотландских и ан-
глийских общественных отношений начала XVIII в. Скотту удалось охватить
в пределах одного произведения — и это характерная черта его исторического
романа — жизнь всех основных классов шотландского, а отчасти и английского
общества. Перед читателем проходят и крупные землевладельцы-тори —
Осбальдистоны, живущие мечтой о восстановлении былых феодальных прав,
и быстро растущая, укрепляющая свои позиции английская и шотландская
буржуазия — дельцы и торгаши из Лондона и Глазго, и люди из горных кланов
Шотландии, столь непохожие на простой народ долинной Шотландии, к кото-
рому принадлежит садовник Эндрю.
Представители разных классов английского и шотландского общества на-
чала XVIII столетия показаны в их сложных реальных отношениях, в борьбе;
история Англии и Шотландии раскрывается как процесс, как картина развития
общества, в котором разрушаются и гибнут старые отношения и целые классы
и формируются новые. Динамика истории в «Роб Рое» передана с большой ху-
дожественной силой.
Скотт уже в начале романа излагает обстоятельства напряженной полити-
ческой борьбы, идущей и в Англии, и в Шотландии в начале XVIII в. Со-
единенные унией 1707 г., навязанной шотландскому народу правящими клас-
сами, обе страны живут общей политической жизнью. Хотя давно достигнут
компромисс 1688 г. между землевладельческой знатью и буржуазией, хотя на
престоле Англии прочно сидит иноземная ганноверская династия, обязавшаяся,
что ее представители не будут помехой ни английским купцам, ни новому, ка-
питализированному дворянству,— но старая феодальная знать еще лелеет
мечты о реставрации Стюартов, о возврате к прошлому, о восстановлении этой
династии, уже дважды изгнанной из Англии.
По Франции и Испании кочуют «претенденты»— представители дома Стю-
артов, ссорящиеся между собой, обивающие пороги у министров и королей,
поддерживаемые папским Римом и континентальной феодальной реакцией,
обеспокоенной растущей экономической и военной силой Англии, ее агрессив-
ной политикой. В самой Англии этих претендентов готова поддержать старая
усадебная крупная знать; обескровленная революцией, разоруженная прави-
тельством, она доживает свой век среди политических интриг и диких поме-
щичьих забав. Так как надежных союзников для новой попытки реставрации
в самой Англии не найти, эта знать охотно использует шотландскую горную
вольницу — необузданную, косную, темную, не понимающую, за кого и против
чего она воюет, идущую за вождем своего клана или за вельможей, чье имя
в течение веков ассоциировалось у горцев с представлением о патриархальных
вассальных обязательствах. В такой обстановке оказывается молодой Фрэнк
Осбальдистон, образованный юноша-горожанин, сын лондонского купца; когда
он попадает в замок своей дворянской родни — Осбальдистон-Холл, старую
феодальную твердыню, высящуюся над лесами и скалами Нортумберленда —
пограничной области, за которой начинается неведомая для Фрэнка романти-
ческая Шотландия.
Действие развивается быстрее, живее, чем в других романах В. Скотта.
Одна картина сменяет другую: из старого замка Фрэнк попадает в живой,
шумный город Глазго, оттуда — в дикую глушь горных районов Шотландии.
Писатель с замечательной конкретностью и большим художественным мастер-
ством рисует захолустный помещичий быт, тюрьму в Глазго, дикую и живопис-
ную шотландскую природу. Вальтер Скотт выступает в этих описаниях и как
историк, и как этнограф, и как поэт родной страны, показывая все многообра-
зие своего дарования, всю разносторонность своего знания прошлого Шотлан-
дии, ее экономического и социального уклада.
203
Фрэнк влюблен; он наживает себе непримиримого врага и приобретает вер-
ных друзей; он узнает, что ему грозит разорение; вокруг него затягивается узел
интриги, смысла которой он не понимает, но силится раскрыть. Искусно соеди-
няет Вальтер Скотт в своем рассказе и необычайные происшествия в жизни
Фрэнка, и картины обычной шотландской жизни XVIII в., с которой знакомится
юноша.
Но личная судьба Фрэнка уже накрепко связывается с назревающими по-
литическими событиями, в самую гущу которых вводит его писатель. Тем самым
«судьба человеческая» связана с «судьбой народной»— с одним из эпизодов
политической борьбы, обостряющейся в 1715 г. в Англии и Шотландии.
Вводя Фрэнка в атмосферу заговора, тайно плетущего свои сети в Осбаль-
дистон-Холле, писатель обостряет всю сюжетную ситуацию, сталкивает пред-
ставителей враждебных политических лагерей, еще не вступивших в открытую
борьбу, но уже догадывающихся о том, что в ближайшее время им доведется
скрестить оружие.
Хотя юный Фрэнк и не очень интересуется политикой, но он разделяет
взгляды своего отца — лондонского купца, сторонника ганноверской династии,
противника якобитов и реставраторов феодализма. Фрэнк вскоре догадывается,
что его родня — дядюшка Осбальдистон и его потомство — приверженцы
Стюартов. Особую неприязнь Фрэнка вызывает коварный и надменный Рашлей,
самый деятельный и образованный из его кузенов, честолюбец и авантюрист,
накладывающий руку на все состояние отца Фрэнка, чтобы использовать день-
ги прежде всего для себя, а уж потом для нужд восстания.
Рашлей — во многом правдивый портрет молодого тори, примыкающего
к заговору только из жажды власти и денег. Он не брезгует никакими средст-
вами; при случае становится грабителем, в других обстоятельствах — донос-
чиком, ренегатом. Когда деньги вырваны из его рук, когда затронута его гор-
дыня, он, не задумываясь, предает то самое дело, которому служил вместе
с братьями и отцом. Честолюбие, цинизм и беспринципность — не только лич-
ные черты Рашлея, но и общий симптом разложения, гнилости всей феодальной
реакции.
Иными красками обрисован старый аристократ, эмигрант граф Map, фана-
тик дела Стюартов. Образ старого роялиста с его манерами рыцаря, с его чув-
ством чести, не позволяющей ему воспользоваться даже для восстания деньга-
ми, которые мошеннически выманил Рашлей у дядюшки-купца, написан с явной
симпатией. Вальтер Скотт выделяет Мара из числа остальных заговорщиков,
поэтизирует его,— но при этом показывает и его обреченность. Старый граф
обречен на неудачу, на провал: к власти рвутся хищные дельцы вроде Рашлея,
жаждущие славы и богатства, не считающиеся ни с какими правилами чести
и морали. Вынужденный довериться Рашлею, граф Map затем становится
жертвой его предательства.
Постепенно перед Фрэнком вырисовываются подробности подготовляюще-
гося заговора. Развитие этой политической интриги и есть основная сюжетная
линия романа, ведущая его героев к решительному столкновению, к якобит-
скому восстанию 1715 г.
Писатель сообщает, что в дни подавления восстания Фрэнк сражался в ря-
дах правительственных войск против повстанцев. Сообщает Вальтер Скотт и
о том, что в ходе военных действий гибнет почти вся семья старого помещика
Осбальдистона, участвующего в восстании. Этим подчеркивается обреченность
всего дела, за которое подняли оружие якобиты, обреченность феодальной ре-
акции и ее реставраторских планов. Наконец получает воздаяние за все свои
преступления и Рашлей — дважды предатель, сперва приспешник якобитов,
затем ренегат, выдавший их тайны. Так вершится суд истории над лагерем фе-
одальной реакции в романе «Роб Рой».
204
Много правдивого и в том, как обрисовал Скотт защитников буржуазной
монархии. Здесь и крупные дельцы, вроде министра Осбальдистона — купца из
Лондона, и мистера Джарви — купца из Глазго, здесь и феодалы, вроде Мон-
троза и его лэрдов, почитающие за благо поддерживать существующий режим.
Примечательно, что в самой обрисовке своих врагов-якобитов Фрэнк, от
лица которого ведет свой рассказ Вальтер Скотт, не проявляет особой нена-
висти. О судьбе своих кузенов, погибших во время восстания, он пишет не без
сочувствия. Старого графа Мара — одного из опаснейших главарей восста-
ния — он пытается спасти. Быстрая готовность примириться с недавним врагом
и даже помочь ему объясняется, конечно, не только тем, что Фрэнк лично обя-
зан графу и любит его дочь, хотя и эта романтическая ситуация должна быть
учтена. Отношение Фрэнка к его побежденным противникам объясняется тем,
что и якобиты Осбальдистоны, и Фрэнк Осбальдистон — сын лондонского
дельца, в общем могут быстро договориться и понять друг друга. В этом ска-
зывается правдивость Вальтера Скотта в изображении правящих классов Анг-
лии, которые еще оспаривают друг у друга власть, но ведут этот спор уже после
компромисса 1688 г., когда в стране их объединенными стараниями созданы
условия для общего нажима на интересы народных масс, осуществляемого
и помещиками и капиталистами.
Правящие классы Англии XVIII в.— тори и виги, сторонники монархии
дворянской и монархии буржуазной, помещики и купцы — изображены в ро-
мане Скотта хотя и с соблюдением тех дистанций, которые исторически су-
ществовали между просто дворянином и графом, между купцом и дворянином,
но именно как нечто целое. Связи, объединяющие их, сложны: они отражают
историю формирования английского общества XVII —XVIII столетий. Но эти
связи достаточно прочны: сын купца Осбальдистона оказывается и наследни-
ком старой усадьбы Осбальдистон-Холл, и зятем старого якобита графа Ма-
ра,— но остается он и наследником торгового дома своего отца, и добрым при-
ятелем купца мистера Джарви. В эту все прочнее сплетающуюся среду крупных
собственников-землевладельцев и купцов нет доступа только народу: тем са-
мым они, эти представители правящих классов Англии начала XVIII в., проти-
вопоставлены народным массам.
Конечно, в романе немало мест, показывающих и старые патриархальные
связи — Роб Роя и графа Мара, и новые экономические связи, возникающие
между тем же мистером Джарви и Роб Роем, и человеческое взаимопонимание,
устанавливающееся между Фрэнком и Роб Роем. Но если окинуть общим
взглядом все события романа, изображаемый в нем процесс, то станет ясно, что
народ нужен представителям правящих классов Англии либо для выколачива-
ния из него податей и долгов, либо для политических авантюр. Вальтер Скотт
отразил в своем романе это действительное положение вещей.
Народ — толпа горцев и волнующийся городской люд — пугает и господ из
замка, и дельцов из Глазго, когда он поднимается для борьбы против насилий,
чинимых над ним. Народ для них прежде всего — непокорная масса, которую
хотят обуздать и обмануть якобит Рашлей и лояльный сторонник ганноверской
династии Монтроз. И мистеру Джарви, и Фрэнку —«доброму малому», как
•изображает его Вальтер Скотт,— народ внушает одновременно и сочувствие,
и сострадание,— но и страх. Они далеки от него, от его трагедии, от его бед
и стремлений.
Мятеж подавлен, роман завершается благополучно — Фрэнк женится на
мисс Верной, Рашлей покаран за все свои подлости и предательства, и даже
Роб Рой не попал в руки солдат и своих кровных врагов — лэрдов из других
кланов; автор счастлив, что может сообщить в конце романа о его вполне
«пристойной» смерти — не в тюрьме и не на виселице, где не раз кончали свою
жизнь смелые люди, братья Роб Роя, народные защитники. Но несмотря на этот
205
внешне благополучный конец, читатель понимает, как трагична судьба Роб Роя
и его товарищей.
В отличие от других романов Скотта, в центре этого произведения стоит
образ простого человека, гуртовщика, обманутого и ограбленного знатью и по-
своему мстящего за себя, за других простых людей Шотландии, разоренных
и обездоленных правящими классами.
Роб Рой — образ подлинно существовавшего вожака группы шотландских
горцев, упорно и долго боровшегося против произвола и гнета шотландских
дворян и английских поработителей. Народ поддерживал и скрывал Роб Роя,
помогал ему отбивать налеты карательных экспедиций и обнаруживать преда-
телей, которых засылали к Роб Рою его враги. Успешно избегая наемных убийц
и ловушек, Роб Рой прожил долгую трудную жизнь, жизнь среди опасностей
и борьбы,— и умер, так и не попав в лапы своих врагов.
Народ горных областей Шотландии не забыл Роб Роя. Долго хранились
предания и песни о его подвигах, о его храбрости и благородстве. Он стал од-
ним из народных героев Шотландии XVIII в.— страны, насильно присоединен-
ной к Англии и не раз пытавшейся вернуть себе былую независимость.
3
Образ Роб Роя привлекал Вальтера Скотта давно. Во время своих этногра-
фических экскурсий по Шотландии он уже и раньше слышал о Роб Рое, в ста-
рых юридических документах находил важные сведения о его жизни. Выпуская
свой роман, Скотт снабдил его введением, в котором подробно рассказывал
о Роб Рое. Это введение — очерк жизни и подвигов Роб Роя, неразрывно свя-
занный с историей его рода — клана Мак-Грегор. К биографии храброго горца
Вальтер Скотт прибавил документы, показывающие, как настойчиво преследо-
вала Роб Роя шотландская юстиция — друзья и помощники мистера Джобсо-
на, отвратительного крючкотвора, обрисованного в романе с такой ненавистью
и иронией.
При сравнении этого исторического очерка о Роб Рое с самим романом мы
понимаем, что Вальтер Скотт, дополняя роман очерком, хотел не только помочь
читателю разобраться в сложной истории Роб Роя, его друзей и врагов: В.
Скотт представил на суд читателю два варианта характеристики Роб Роя, два
портрета — историческую правду, заключенную, как казалось, в очерке, и по-
этическую обработку истории — свой роман. В романе характер Роб Роя во
многом не тот, что в очерке: писатель разрешил себе некоторые отклонения от
тех фактов, которые он сам сообщил как историк. Зато как художник он создал
обобщенный образ, в котором воплотил не только индивидуальные черты Роб
Роя, но и типические особенности горца, пытающегося отстоять свою свободу
и самостоятельность.
Не входя в историю клана Роб Роя, о которой писатель подробно говорит
в предисловии к роману, не пересказывая биографию Роб Роя, Вальтер Скотт
подчеркивает, что его герой возненавидел существующие в Шотландии бесче-
ловечные законы после того, как был несправедливо и жестоко оскорблен, ра-
зорен и унижен людьми, действовавшими от имени крупного помещика — гер-
цога Монтроз. Не рассказывая в романе о том, что клан Мак-Грегоров, к кото-
рому принадлежал Роб Рой, с давних пор преследовался шотландским прави-
тельством, Вальтер Скотт объединяет вокруг Роб Роя не просто родичей из его
клана, но таких же, как он, людей, ограбленных и оскорбленных шотландской
знатью и не желающих больше влачить рабское существование. Уверенными
штрихами набрасывает писатель образы помощников и друзей Роб Роя, образ
его жены — упорно и беспощадно мстящей за свой позор, создает массовые
сцены, показывающие, как народ любит Роб Роя. Роб Рой в руках у врагов, но
206
простой человек, рядовой солдат, пожертвовав жизнью, дает ему возможность
спастись, уйти от виселицы.
Вместе с тем писатель не идеализирует Роб Роя, показывает реальные ус-
ловия существования его клана и его семьи. Читая роман, мы постоянно вспо-
минаем замечание Энгельса, писавшего в одном из своих писем, что шотланд-
ские горцы, «воспетые Вальтером Скоттом»—«злейшие грабители скота» '. Тут
же, однако, Энгельс упоминает и о достоинствах любимых героев Скотта, не
раскрывая своего мнения более полно, но и отдавая преимущество этим досто-
инствам перед приведенным недостатком: налеты шотландской вольницы на
скотоводческие области долинной Шотландии нередко были формой борьбы
оттесняемых в горы кланов против упорного, сильного и лучше вооруженного
противника. Конечно, эта форма протеста носила анархический, стихийный ха-
рактер, не раз вела к злоупотреблениям, но романы Вальтера Скотта показали
достаточно ярко картину тех систематических злоупотреблений, при помощи
которых правящие классы Англии и Шотландии разоряли и доводили до отча-
яния бедневшие и приходившие в упадок кланы горных областей страны.
Наделив Роб Роя смелостью и решительностью, Скотт показывает его муд-
рым, благородным, великодушным сыном народа. Роб Рой отпускает на волю
пленных солдат, захваченных его воинами; отнимая имущество богатых, он
раздает его бедным. Иногда Роб Рой поднимается до сознания того, что он
мстит не только за себя, но и за беды многих других своих соотечественников,
изведавших всю несправедливость строя, укреплявшегося в Шотландии. В уста
Роб Роя Вальтер Скотт вкладывает очень важные слова, которые звучат как
выражение народной ненависти к правящим классам:
«Жалкий шотландский торговец скотом, разоренный, босой и голый, ли-
шенный всего благодаря ненавистной алчности кредиторов, обесчещенный, по-
кажет им себя! — восклицает Роб Рой.— Они топтали его, как червя, ползаю-
щего по земле, но они ужаснутся, когда ничтожный червь обратится в крыла-
того дракона, изрыгающего пламя...»
«Будь что будет,— отвечает он в другом месте на увещания Фрэнка, пыта-
ющегося вернуть его к «мирной жизни» и пугающего неизбежным поражением
близящегося якобитского восстания, в котором Роб готовится принять
участие.— Чтобы небо прояснилось, туча должна разразиться дождем. Если
свет перевернется вверх дном, то честным людям будет легче достать себе кусок
хлеба».
Эти слова помогают понять взгляд Вальтера Скотта на самый факт широ-
кого участия шотландских горцев в восстаниях якобитов. В противоположность
распространенным в буржуазной историографии россказням о том, что горцы
шли под знамена мятежников, привлекаемые прежде всего жаждой грабежа,
писатель выдвигает еще одно важное соображение: ограбленные, нищие, угне-
таемые горцы, плохо разбиравшиеся в ходе политических событий, восставали
с надеждой, что им удастся отвоевать хоть что-нибудь из прав, которые систе-
матически отнимали у них господствующие классы Англии и Шотландии.
Вальтер Скотт поясняет, что Роб Рой, ошибочно считающий якобитское
восстание «честным делом», ждет от него облегчения для простых людей, то-
мящихся под наложенным на них двойным ярмом помещичьей и буржуазной
эксплуатации. Здесь писатель, не приукрашивая воззрений шотландского гор-
ца, показал распространенный и долго существовавший в народной массе
предрассудок — монархические иллюзии, которые в Шотландии связаны были
с планами восстановления Стюартов. В Стюартах горцы видели наследников
«своей», шотландской династии — в противовес династии ганноверской.
Энгельс Ф. [Письмо] Эдуарду Бернштейну. 22, 25 февраля. 1882 г.//Маркс К.. Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 35. С. 232.
207
На заключительных страницах романа Роб Рой вырастает в фигуру, творя-
щую жестокий, но справедливый суд не только над своими обидчиками, но
и над ренегатом Рашлеем. Рашлей предал дело, за которое пролилось столько
крови; Рашлей обманул доверие простых людей, которые должны были под-
няться по его слову,— и один из них, горец Роб Рой, казнит Рашлея, как бы
приводя в исполнение приговор, который давно вынесен предателю не только
его бывшими товарищами, но и писателем.
Чувство собственного достоинства, уверенность в себе, проницательность,
здравый смысл характеризуют Роб Роя. В нем воплощены силы народа, его
воля к сопротивлению, его мечта о свободе — к сожалению, служащая аван-
тюристам, которые ловко используют отсталость и косность горцев в своих ин-
тересах.
Насколько велика воля горцев к сопротивлению, насколько умело и упорно
ведут они борьбу за свою свободу — об этом рассказывает весь эпизод с кара-
тельной экспедицией, разгромленной людьми Роб Роя, действующими под на-
чалом его жены. Поражение британских карателей, расправа с английским
шпионом, попавшим в руки горцев, составляют один из самых сильных эпизо-
дов романа. В нем горцы показаны как защитники своих домов и семей от гру-
бого вмешательства иноземцев. С явным сочувствием изображает Скотт и не-
нависть, с которой относятся в шотландской деревне к английским карателям,
и то мужество, с каким горцы отбивают натиск регулярных войск, сами пере-
ходят в атаку и, наконец, побеждают.
Если учесть, что роман появился в 1817 г., когда у английских читателей
еще были живы в памяти сообщения передовой английской печати о расправах
английских карателей во время подавления ирландского восстания, а затем —
во время экзекуций, связанных с подавлением движения луддитов 1811 —
1812 гг., то значение этих правдивых страниц романа предстанет во всем своем
остром политическом смысле.
Роб Рой всесилен в стране, где власть будто бы принадлежит джентльменам
из помещичьих фамилий и торговых домов, их полиции и войску. Власти ничего
не могут поделать с неуловимым, непобедимым Робом. Это потому, что за него
стоит народ — ив горах, и в Глазго, и в окрестностях старого помещичьего
замка.
В образе Роб Роя Скотт ярко выразил бунтарскую, непокорную душу гор-
ных кланов Шотландии, дух народного сопротивления — те черты, которые за-
ставляют советского человека со вниманием отнестись к Роб Рою. Писатель
сумел множеством подробностей охарактеризовать и внутренний, и внешний
облик своего героя, рожденного дикой шотландской природой, к ней привык-
шего, с ней слитого. Вальтер Скотт описал и коренастую фигуру Роб Роя, и его
«широкое кельтское лицо», и его проницательный, в душу западающий взгляд,
и его мускулистые ноги, покрытые рыжими волосами, напоминающими шерсть
шотландского горного быка.
Читатель не только представляет себе духовный облик Роб Роя; он видит его
движения, слышит его голос, понимает, чем речь Роб Роя отличается от речи
горожанина Джарви, ученого юноши Фрэнка. Вальтер Скотт с большим
мастерством сумел показать в Роб Рое и весьма замечательного, и очень обыч-
ного человека: это простой горец, который смог стать вожаком своих товари-
щей, но во многом остался таким же, как и они.
В заключение необходимо напомнить, что образ «разбойника», образ воль-
ного человека, мстящего несправедливому обществу за нанесенные ему обиды,
особо интересовал в эти годы Скотта. Он проходит сквозь многие произведения
писателя, встречаясь не только в его романах, но и в его поэтических произве-
дениях.
Одну из «разбойничьих» песен Скотта не раз переводили русские поэты. Эту
песню в переводе Козлова отметил Чернышевский: он включил ее в одну из за-
208
ключительных глав романа «Что делать?», имея в виду то веяние социального
протеста, которое живет в строфах баллады Скотта.
Великий русский революционер-демократ Чернышевский уловил одно из
самых важных качеств некоторых его героев — стихийный протест масс против
капиталистического закабаления народов Шотландии и Англии, сказавшийся
в лучших произведениях писателя,— и в том числе в романе «Роб Рой». Валь-
тер Скотт знал, что попытки отстоять разрушавшийся старый уклад будут
сломлены, преодолены силой развивающихся буржуазных отношений. Но он
правдиво повествовал об этих попытках, о честных и сильных людях, которые
в них участвовали. Этим писатель помог английскому народу создать историю
его многовековой борьбы за лучшее будущее — борьбы, которая стала перс-
пективной только в свете идей социализма.
Образы народа, как было сказано выше, в романах Вальтера Скотта — яв-
ление постоянное; для доказательства можно сослаться не только на «шотлан-
дские романы», но и на другие его произведения. Через два года после «Роб
Роя» писатель создал в «Айвенго» целую галерею народных образов англий-
ской средневековой деревни, возглавленных Робином Гудом — этим «героем
английского простонародья», по определению А. М. Горького. В романе «Квен-
тин Дорвард» (1823) выведен смелый, свободолюбивый бродяга-цыган, вызы-
вающе ведущий себя перед лицом смертельной опасности, грозящей ему. В ро-
мане «Карл Смелый» (1829) рассказано о страшном поражении, которое на-
несла швейцарская крестьянская рать блестящему рыцарскому войску Карла
Бургундского. Но ни в одном из произведений Вальтера Скотта образ вожака
непокорных, протестующих простых людей не был показан так полно, во весь
рост, как в «Роб Рое». Чем это можно объяснить?
Видимо, так отразился в творчестве Скотта начинавшийся подъем
общественного движения в Англии. К 1817 г., вслед за недавними событиями
движения луддитов, поднималась новая волна общественного недовольства,
отмеченная и новыми стачками, и новыми волнениями среди демократических
масс города, и новыми попытками освободительной борьбы в колониях Англии.
Важно отметить, что Энгельс в своей работе «Положение рабочего класса
в Англии», говоря о растущем протесте рабочих масс против эксплуатации,
указывает на особую политическую активность ткачей Глазго и приводит фак-
ты, относящиеся как раз к 1815—1816 гг. Так, на новом и более высоком этапе
развивалась освободительная традиция шотландского народа, который вместе
с английскими рабочими поднимался на борьбу против капитализма.
Живо откликаясь на этот подъем, передовые поэты Англии — Байрон
и Шелли — именно в том же 1817 г. создали ряд произведений, в которых со-
циальная тема, осуждение торийской олигархии, прозвучала с новой силой.
В 1817 г. Байрон написал «Песню для луддитов»— один из лучших образцов
его политической лирики, а Шелли — ряд стихотворений с острым обществен-
ным содержанием. К тому же времени относится начало работы Шелли над
поэмой «Возмущение Ислама», в которой тема вооруженного восстания на-
родных масс прозвучала сильнее и резче, чем в его предыдущих произведениях.
Эти произведения великих революционных поэтов Англии нельзя, конечно,
ставить в один ряд с романом «Роб Рой». Но и в «Роб Рое» отразился подъем
общественной борьбы — он сказался прежде всего в самом образе главного
героя, в острой постановке темы, в истории горского вожака, наводящего страх
на местную знать и неуловимого для нее. Тема активности народных масс зву-
чит в этом романе Вальтера Скотта со всей противоречивостью, специфической
для этого писателя, но и со значительной силой.
Энгельс, характеризуя шотландский клан и вспоминая историю его гибели,
отметил достоинства «шотландских романов» Скотта — их правдивость.
209
«В романах Вальтера Скотта,— писал он,— перед нами, как живой, встает этот
клан горной Шотландии» 1.
Эти слова Энгельса целиком могут быть отнесены к правдивому, подробно-
му, точному изображению жизни клана в «Роб Рое». Скотт дает читателю
и статистические данные о клане, и его экономическое положение, и характе-
ристику социальных отношений, господствующих в нем.
Обычаи, одежда, нравы клана — все это зафиксировано в «Роб Рое»
с тщательностью историка и этнографа, с живописностью художника. При
чтении «шотландских романов» Скотта вспоминаются высказывания Маркса
и Энгельса об английских реалистах и Бальзаке — о том, что в их произведе-
ниях находится больше ценных познавательных материалов, чем в работах
буржуазных историков, экономистов и социологов.
Русская революционно-демократическая критика — Белинский, Герцен —
настойчиво указывала на значительные реалистические элементы в творчестве
Вальтера Скотта.
Но все же нельзя говорить о целостном реалистическом методе Скотта —
даже в применении к лучшим его романам. Черты консервативного романтизма
Скотта явственно обнаруживаются в «Роб Рое». Писатель, показывая, как
развитие капитализма разрушает вековой уклад экономических, социальных
и культурных отношений, пишет об уходящей старине с глубоким сожалением,
нередко оплакивает ее, хотя далеко не все в ней идеализирует.
Герои многих его романов — в том числе и Роб Рой — безуспешно защи-
щают патриархальные устои, разрушаемые ходом исторического развития.
Скотт не видел, что противоречия побеждавшего буржуазного строя ведут
к новому этапу освободительной борьбы народных масс, на котором выдвинутся
новые, подлинные герои, борцы за лучшее будущее человечества.
Вальтер Скотт поэтизирует старого заговорщика графа Мара. И он, и его
дочь окружены той романтической атмосферой тайны, которая мешает писате-
лю рассказать о графе так же резко и насмешливо, как говорит он о собачниках
и пьяницах — молодых Осбальдистонах. Романтически демоничен вездесущий,
неуловимый Рашлей; романтические преувеличения в его трактовке мешают
тому, чтобы этот интересно задуманный образ, служащий разоблачению фео-
дальной реакции, был до конца правдоподобен.
Условно поэтичен и не разработан тот набросок, которым ограничился пи-
сатель, намечая образ Дианы Верной. Достаточно сравнить этот романтический
эскиз с запоминающейся фигурой Елены Мак-Грегор, чтобы ощутить, как про-
тиворечив Скотт-художник, как в одном случае он остается в плену литератур-
ных условностей, а в другом ярко отображает суровые и резкие черты действи-
тельности.
Даже сам Роб Рой, по существу правдоподобный и естественный, иногда
становится подчеркнуто необычным, экзотическим. Это особенно относится
к тем сценам романа, где он показан в кругу своей семьи, на фоне старинной
шотландской обстановки, старательно переданной Вальтером Скоттом, роман-
тически дисгармонируя с обыденными личностями современности — с купцом
Джарви и Фрэнком.
Черты романтической условности особенно настойчиво дают себя знать в тех
искусственных ситуациях, которые попадаются чуть ли не в каждой главе ро-
мана. Случай, стечение обстоятельств, удивительно счастливое для героев раз-
решение самых сложных положений производят впечатление неестественности,
разрушают цельность изображения жизни в романе, звучат диссонансом по
отношению к наиболее правдивым моментам романа.
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 133.
210
Немало романтических подробностей связано с замком Осбальдистонов:
таинственно светящиеся в неурочный час окна, оживающие старые портреты,
загадочные происшествия — все это получает свое объяснение, вполне прозаи-
ческое и далекое от какого бы то ни было мистицизма, но все это и вводит
в роман тот элемент романтического литературного штампа, от которого сво-
бодны лучшие его страницы.
Неверно было бы видеть в романтических особенностях творчества Вальтера
Скотта только слабые его стороны. Надо помнить, что в романтической форме
выразились не только консервативные черты мировоззрения писателя, но и его
критика возникавших буржуазных отношений,— а без нее не было бы и ценных
сторон романа, не было бы и изображения шотландской вольницы.
«Роб Рой» относится к числу наиболее значительных произведений Вальтера
Скотта. Свободолюбие, мужество и благородство народных масс Англии
и Шотландии ни в каком другом его романе не нашли себе такого полного
и сочувственного выражения, как в «Роб Рое».
1952
ВИКТОР ГЮГО
Когда речь идет о характеристике творческого пути такого писателя, как
Гюго, столь много трудившегося и оставившего такое огромное литературное
наследство, то закономерно выделить из всего, что было им создано, произве-
дения, которыми этот писатель навсегда и прочно вошел в историю мировой
культуры.
Ранние опыты Гюго не могут быть отнесены к основному фонду его произ-
ведений хотя бы потому, что на них лежит печать известного ученичества
у консервативных романтиков. Но уже в раннем романе Гюго —«Бюг-Жар-
галь»— была остро поставлена тема социального конфликта между неграми-
рабами, восстающими во французских колониях, и французскими плантатора-
ми-рабовладельцами. Уже в этом юношеском романе Гюго светится отблеск
революции. Действие происходит в эпоху французской буржуазной революции,
ураган которой доносится и до заатлантических колоний Франции, сбивая цепи
рабства, зовя рабов к борьбе за свободу.
Следует особо отметить, что «Бюг-Жаргаль»— произведение, свидетельст-
вующее о противоречивости творчества Гюго, существующей уже в этом ран-
нем периоде его писательского пути. Уже здесь демократическая тенденция,
которая так заметно усиливается в творчестве писателя в дальнейшем, ощу-
щается в самом образе Бюг-Жаргаля — вождя восставших рабов.
Противоречия молодого Гюго — писателя-роялиста, способного, однако,
почувствовать пафос освободительного порыва,— обостряются во второй по-
ловине 20-х годов. В связи с растущим антимонархическим движением этой
поры, на исходе 20-х годов отражая приближение революционных событий, во
Франции выдвигается целая группа крупнейших писателей и поэтов, которые
затем составят славу французской литературы XIX в. Не связанные одной ли-
тературной школой, во многом не похожие друг на друга, писатели эти объ-
единены чувством протеста против восстановленной дворянской монархии,
чувством приближающихся изменений в истории Франции. Им было ясно, что
без участия народа эти изменения произойти не смогут, что народ сыграет в них
решающую роль. «Главная движущая сила» французских революций XIX в.
уже оказывала свое воздействие на этих писателей, далеких от нее, но все же
отражающих растущий протест народных масс.
На исходе 20-х годов, в пятилетие с 1825 по 1830 г. одно за другим появля-
ются крупнейшие произведения французской литературы XIX в. «Красное
211
и черное» Стендаля, «Жакерия» Проспера Мериме, «Шуаны» Бальзака, песни
Беранже, оказывающие сильнейшее революционизирующее влияние на народ-
ные массы, драмы Гюго. Стремление создать новое правдивое искусство отме-
чает эти произведения, как бы ни были они различны: это стремление есть и
в статье Стендаля «Расин и Шекспир», есть оно и в предисловии к драме Гюго
«Кромвель», хотя взгляды молодого Гюго на самое понятие правдивости
искусства далеко уступают взглядам Стендаля, прямо ставящего вопрос не
о некоей абстрактной правдивости, а о правдивости в изображении совре-
менной жизни.
Начавшееся общественное движение, направленное против реставрирован-
ной монархии Бурбонов и приведшее к ее свержению, не закончилось в 1830 г.
Обманутые буржуазией народные массы и рабочий класс продолжают борьбу
теперь уже против буржуазной монархии: первое пятилетие 30-х годов отмечено
многочисленными выступлениями народных масс, в которых все большую роль
играет французский рабочий класс, и это бурное пятилетие — великое пятиле-
тие в истории французской литературы. Это время появления «Отца Горио»,
«Шагреневой кожи» и «Гобсека», это время работы Стендаля над романом
«Люсьен Левен», это годы, в которые становятся популярными драмы Гюго —
«Марион Делорм», запрещенная до того цензурой Бурбонов, «Эрнани», «Ко-
роль забавляется». Гюго создает свою повесть «Последний день приговоренно-
го к смерти», высоко оцененную Белинским.
Вводя зрителя то в обстановку Франции XVII в., то двора Франциска I, то
в условия испанского абсолютизма, Гюго в драматических коллизиях своих
пьес, в пламенных тирадах своих героев, в гротескных образах своей сатиры
отразил конфликты современной французской истории, закрепил опыт еще од-
ной революции, создал образы людей, протестующих против феодального уг-
нетения, против монархического произвола. Несомненно, эти драмы Гюго, со-
зданные в 30-х годах были не только отражением революции 1830 г.— этапа,
уже пройденного французским народом, но и выражением критического отно-
шения автора к буржуазной монархии Луи-Филиппа, к позорному царству
банкиров и финансистов, против которого восставал французский народ.
Как это бывает в истории большой литературы, развивающейся в условиях
сложно переплетающихся классовых противоречий, у каждого талантливого
французского писателя в это первое пятилетие 30-х годов есть своя тема:
Бальзак разоблачал самую основу буржуазной монархии — царство чистогана,
Гюго выступал против ее внешней формы — против монархического строя,
свергнутого французским народом в 1830 г. и вновь навязанного ему правящи-
ми классами.
Крупнейшим произведением Виктора Гюго, относящимся к этому периоду
его деятельности, является «Собор Парижской богоматери».
Резкая контрастная композиция этого романа отражала идущий процесс
углубления противоречий во французском обществе, осмысленный в истори-
ческой перспективе, но от этого не менее поучительный. И Людовику XI, и его
«добрым буржуа», и его дворянству, и его церкви противопоставлен в романе
люд, ютящийся во «Дворе Чудес», в этом квартале бедноты, где уже не дей-
ствуют законы короля, а есть свои законы — гораздо более человечные, чем
законы правящих классов. Контрасты социальные подчеркнуты в романе конт-
растами психологическими, противопоставлением собора — этого воплощения
феодальной системы, даже не сохранившего имени своего создателя,—
и «Двора Чудес», который приходит к собору, чтобы вырвать у него Эсмераль-
ду, свою дочь, гонимую и обреченную на казнь.
Страстная контрастность всего романа, резкие столкновения положитель-
ные и отрицательных характеров, резкие несоответствия внешности и содер-
жания человеческой натуры говорят о стремлении писателя понять растущие
противоречия действительности, указать на них читателю, поделиться с ним
212
своими наблюдениями, если нельзя их объяснить,— этого Гюго еще не мог
сделать в «Соборе Парижской богоматери».
Нередко пишут о том, что народ в этом романе Гюго — забубённая голь,
даже и не народ, а деклассированные элементы средневекового общества, сила
только разрушительная. Утверждая это, обыкновенно забывают о самой важ-
ной особенности характеристики народа в «Соборе Парижской богоматери»—
о том, что он выведен как грозная сила, обладающая вместе с тем огромным
чувством справедливости, человечностью, благородством, которого нет ни
у Феба де Шатопер, ни у священника Фролло, ни тем более у Людовика XI,
остервенело бросающего на подавление поднявшегося «Двора Чудес» своих
стрелков, рыцарей, жандармов. Нельзя сказать, что эпоха Людовика XI — со-
здателя единой французской монархии — отражена в этом романе с достаточ-
ной полнотой. Но что Гюго правильно показал многие из бесчеловечных
средств, которыми осуществлялось сколачивание единой французской монар-
хии,— это не подлежит сомнению.
Период с середины 20-х и до середины 30-х годов может считаться первым
значительным периодом творческого развития Гюго, в течение которого уже
созданы глубоко своеобразные художественные произведения, по праву при-
влекшие к Гюго внимание всей передовой Европы.
Особенно сложными в развитии творчества Гюго были ближайшие затем
годы — от середины 30-х годов до революции 1848 г. Этот период иногда при-
нято считать периодом кризиса Гюго, что доказывается ссылкой на отсутствие
значительных новых произведений, которые были бы равны по силе предыду-
щим или обозначали бы какой-то сдвиг писателя, переход к новым темам. Дей-
ствительно, в эти годы написано немало слабых произведений, среди которых
особенно показательна драма «Бургграфы», заслуженно резко оцененная Бе-
линским в специальной рецензии, посвященной постановке этой драмы в одном
из петербургских театров. Многочисленные образцы поэтического творчества
Гюго в эти годы также не представляют особого интереса и далеки от тех вы-
соких достижений Гюго-поэта, которые еще будут впереди.
Но одним из фактов, свидетельствующих о том, что развитие писателя не
остановилось, что в нем медленно, но верно укреплялось критическое отношение
к господству буржуазии уже не к его монархической форме, а к его сущности,
рос протест против угнетения и эксплуатации, против власти чистогана,— од-
ним из таких фактов является работа над первым вариантом романа «От-
верженные».
Этот первый вариант существенно отличается от романа «Отверженные»,
написанного в 60-х годах и пользующегося таким заслуженным успехом у чи-
тателя. Но и в нем налицо критика буржуазного строя, резкое противопостав-
ление положения имущих классов и угнетаемых, эксплуатируемых народных
масс, прямое отражение противоречий между трудом и капиталом, к уяснению
которых двигался Гюго. Поскольку творчество писателя закономерно рассмат-
ривать не как некое нагромождение материалов, а как процесс, в котором раз-
виваются определенные тенденции, постольку мы вправе считать, что работа
над первым вариантом «Отверженных»— наиболее ценный момент этого вто-
рого периода развития Гюго, подготавливающий искусство Гюго-романиста
60-х годов.
Важно решить вопрос о начале третьего этапа в творчестве художника.
Датировать ли его 1851-м годом, годом изгнания Гюго, годом начала его борь-
бы против Второй империи, или, изучив его деятельность в годы республики,
фиксировать переход к этому этапу уже в обстановке событий 1848 г.?
Хотя Гюго и был склонен идеализировать Вторую республику, но задолго до
декабрьских событий он вступил в борьбу с буржуазной реакцией, осуществ-
лявшей планомерное наступление на общедемократические свободы, завоеван-
ные в 1848 г. Герцен в «Былом и думах» первый подметил начало роста его де-
213
мократических настроений, приходящееся именно на годы Второй республики,
когда Гюго все глубже изучает положение народных масс Франции и со все
большей страстностью стремится противостоять напору реакции — на сей раз
реакции буржуазной, выросшей после расправы с рабочими в наглую и агрес-
сивную политическую силу. Переход Гюго на позиции активной демократи-
ческой деятельности, направленной в защиту интересов широких масс Франции,
в том числе интересов рабочего класса, хотя бы в рамках буржуазной респуб-
лики, намечается именно в эти годы.
В эти годы начинается и борьба Гюго за мир: он выступает в 1849 г. с про-
тестом против войны, убеждая народы Европы в возможности успешного исхо-
да борьбы против милитаризма.
- К декабрьским событиям Гюго пришел уже с некоторым опытом полити-
ческой борьбы против буржуазной реакции, с некоторой закалкой, которую он
получил в событиях 1850 г.; особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что
1849—1850 гг. в жизни Гюго были периодом, когда началось и его непосредст-
венное, широкое общение с народными массами.
Только этим и можно объяснить мужественное поведение Гюго в дни пере-
ворота и после него: писатель уже вступил на путь активного противодей-
ствия бонапартизму и пошел по нему все дальше, несомненно чувствуя за
собой поддержку и любовь тех народных масс Франции, которые оценили по
достоинству его отношение к перевороту 2 декабря. «Гюго под пулями встал во
весь свой рост»,— писал об этом Герцен. Поэтому начало третьего этапа твор-
ческого развития Гюго уместно отнести к 1849—1850 гг., а не к годам, после-
довавшим за декабрьским переворотом.
В своих выступлениях 1849—1850 гг. против буржуазной реакции Гюго на-
кануне переворота уже отражал демократический протест против диктатуры
буржуазии, нараставший в широких народных массах Франции и прежде все-
го — в рядах рабочего класса.
Третий период творческого развития Виктора Гюго явился периодом его
неустанно росшей международной известности, основанной на деятельности
публициста-обличителя реакции, которым стал в то время писатель. Широко
известно мужественное поведение Гюго в эти годы, его неподкупность, его отказ
принять амнистию Наполеона III. Это годы творческой зрелости Гюго, от-
меченные созданием целого ряда лучших его произведений.
События 1850—1851 гг. и период Второй империи научили Гюго многому:
обдумывая политический опыт французского народа, он проникся глубокой не-
навистью к угнетению и насилию правящих классов в любой его форме. Благо-
родное стремление Гюго помочь любому борцу за свободу, любому освободи-
тельному движению, воспрепятствовать любому политическому преступлению
правящих классов отражает дальнейший рост общественного кругозора писа-
теля. Гюго борется и за Францию, и за свободу других народов, потому что
приходит к выводу, что свобода — мечта всех народов мира, осуществить ко-
торую возможно лишь общими усилиями. Гюго, пылкий французский патриот,
находит в эти годы путь к интернационализму.
Однако Гюго не смог показать силы, выдвинувшие Наполеона III, не разо-
блачил всей ничтожности Наполеона — наемника крупной французской бур-
жуазии. Этот недостаток — неумение вскрыть корни агрессивной политики
буржуазных государств — характерен и для других выступлений Гюго-публи-
циста. Но каковы бы ни были слабые стороны публициста Гюго, ее достоин-
ства — огромная искренность, сила обличения, демократический пафос, боевой
дух — настолько существенны, что дают основания видеть в Гюго одного из
замечательных французских публицистов XIX в. Именно в публицистике
50—60-х годов содержатся те призывы к борьбе за мир, которые так часто
приводились в нашей прессе.
214
Так политическая деятельность Гюго открыла в нем огромный талант пуб-
лициста. Это очень важное качество Гюго-художника, имеющее и самостоя-
тельное значение, должно быть особо выделено как характерная черта третьего
периода в развитии его творчества.
С этих пор благородная публицистичность проникает и в стихи, и в романы
Гюго. Особо следует отметить в этом отношении сборник стихотворений Гюго
«Кары», свидетельствующий о важных сдвигах, происходящих в мировоззрении
писателя в эти годы.
«Кары» тесно связаны с публицистикой Гюго. По существу в этой книге
стихов выражено то, что Гюго-публицист писал в своих протестах и обращени-
ях. «Кары» особенно ясно раскрывают замечательное качество, которое прису-
ще и Гюго-поэту, и Гюго-публицисту: не только яростную ненависть к тирании
в любой ее форме, но и веру в силу народов, в развитие освободительных дви-
жений, которым художник так сочувствовал.
Коронованным разбойникам и деспотам, силам угнетения в «Карах» проти-
вопоставлены народы мира, монументальные образы сил лагеря свободы. Особо
следует отметить оптимизм, звучащий в стихах этого сборника: Гюго убеждал
своих читателей в неизбежности суровой расплаты, которую заслужили за-
клейменные им враги народов — поджигатели войн, душители освободительных
движений, слуги светской и церковной реакции, южно-американские рабовла-
дельцы и их сторонники из северных штатов.
Народ — герой произведений Гюго-публициста, Гюго-поэта в 50—60-х го-
дах. Это сказалось и в его романах, которые свидетельствовали о том, как су-
щественно подвинулся Гюго на пути своего художественного развития.
60-е годы — период создания новых замечательных романов Гюго. Они по-
являются один за другим —«Отверженные» (новый вариант), «Труженики мо-
ря», «Человек, который смеется». Социальная тема звучит в них все сильнее,
все настойчивее.
Критика буржуазного общества развернута в этих романах с такой силой,
на которую ранее Гюго не был способен. В «Отверженных» Гюго поставил воп-
рос о самой сущности буржуазного строя, зиждящегося на несчастьях и стра-
даниях миллионов обездоленных масс. В «Тружениках моря» Гюго в своеоб-
разной форме отразил противоречие труда и капитала, показав гнусные черты
буржуа-дельца, эксплуататора и космополита и противопоставив ему образ
труженика Жильята.
При всех особенностях романа «Человек, который смеется» как романа ис-
торического, ему присуща большая социальная острота и подлинная актуаль-
ность. Целая глава романа посвящена разоблачению правящих классов Анг-
лии, цинизм и отталкивающее моральное уродство которых открывается Гуин-
плену — простому человеку, воспитанному на высоких принципах гуманности.
Следует подчеркнуть критику английской государственной машины, которая
дана в этом романе Гюго. В нем писатель заставляет сборище пышно одетых
паразитов — палату лордов — выслушать обвинение, которое им в лицо бро-
сает Гуинплен. Гуинплен выступает здесь от лица народных масс, эксплуати-
руемых и попираемых буржуазно-помещичьим английским государством.
Особенно интересен в романе образ Урсуса, незаслуженно забытый нашей
критикой. Плебей Урсус воспитал Гуинплена в демократическом духе, сделал
его высокоморальным, цельным человеком.
Новые романы Гюго заключали в себе не только критику буржуазных отно-
шений, какой бы разящей разоблачительной силы она ни достигала. В этих ро-
манах было и великое утверждающее начало: образы народа, действенные,
жизнерадостные, героические. За это ценил книги Гюго вождь Французской
коммунистической партии М. Торез: «Я восхищался добротой Жана Вальжана,
жертвы безжалостной судьбы...— вспоминает Торез.— Описания жизни на
215
море и борьбы Жильята в «Тружениках моря» наполняли меня восторгом. Со
страниц этой книги Гюго доносился до меня бешеный рев морских волн...» '
Специально выделял М. Торез значение образа Гавроша: «...в «Отвержен-
ных» меня особенно восхищал изумительный Гаврош, насмехавшийся над сол-
датами правительства с высоты баррикад, Гаврош, чьей песенки не могли за-
глушить ружейные залпы» 2.
Взятое в целом творчество В. Гюго 50—60-х годов на общем фоне француз-
ской литературы являет собой пример почти единственный. Кто в эти годы из
писателей, уже известных, уже завоевавших себе положение, осмелился вы-
ступить против позорного кровавого фарса Второй империи? В массе своей
буржуазные французские литераторы приняли империю, с какой бы брезгли-
востью они об этом ни писали.
Вторая «империя развращала французского обывателя порнографией и кро-
вавым дурманом детективной и эротической литературы, которая в изобилии
появилась во Франции в эту эпоху; издавались и переиздавались самые позор-
ные и грязные книги, порожденные в свое время распадом и гниением дворян-
ского строя, вроде романов маркиза де Сада, стяжавшего себе широкую из-
вестность именно в годы Второй империи. Уже вышли «Цветы Зла» Бодлера,
этот предвестник декаданса. Мелкотравчатый «реализм» Шанфлери и Дюран-
ти, натуралистические романы Гонкуров и молодого Золя, еще далекого от той
социальной критики, которая характерна для его более поздних произведений,
поздние новеллы Мериме, проникнутые пессимизмом, несущие в себе черты
распада реализма,— вот характерные приметы французской литературы
50—60-х годов. Исключение составлял одиноко высившийся над нею Флобер,
медленно и трудно работавший в своем уединении. Но и романы Флобера не
были прямо выраженным выступлением против Второй империи, хотя и запе-
чатлели отвращение писателя к ней.
Как не оценить на этом фоне труд изгнанника Гюго, не устающего разобла-
чать империю, предрекающего ее позорный крах, отказывающегося прими-
риться с нею, от имени народной Франции выражающего сочувствие всем на-
родам, которые страдали от гнета императорской Франции и ее союзников.
Уйдя в изгнание, Гюго стремился говорить от имени всей французской ли-
тературы, доказать миру, что она не мертва, не распродана оптом и в розницу
французским буржуа, ведущим страну к неминуемой катастрофе.
Только после падения наполеоновского режима, осенью 1870 г. Гюго вер-
нулся на родину. То была трудная для Франции пора: германские полчища ка-
тились к Парижу, занимали департамент за департаментом и, казалось, уже не
было сил, чтобы предотвратить их дальнейшее продвижение, полную оккупацию
Франции. Ее армии, преданные и погубленные Наполеоном III и его генерала-
ми, были уничтожены или захвачены в плен.
Но французский народ проявил пламенный патриотизм, чтобы отстоять ро-
дину от опасности германского завоевания. Героически оборонявшийся Париж
принял на себя основной удар ядра германских корпусов, сковал его не только
своей упорной защитой, но и смелыми атаками, направленными на прорыв гер-
манского окружения. Это была грозная для немцев попытка осуществить план
активной обороны, сорванный, однако, реакционными генералами, мешавшими
народной инициативе. На севере Франции наспех созданные новые французские
армии, неопытные, плохо вооруженные, плохо снабжаемые, отчаянно пытались
задержать напор захватчиков — и смогли это сделать. Развертывалась парти-
занская война.
Героизм французского народа сорвал замыслы германского командования,
мечтавшего о полном разгроме Франции, о превращении Франции во второсте-
1 Торез М. Сын народа. М., 1950. С. 29.
2 Там же.
216
пенное государство, о подчинении ее своему диктату. Если этого не произошло,
если Франция, понеся тяжкое поражение, оправилась от него сравнительно
быстро, если германское правительство вынуждено было ограничиться контри-
буцией и захватом только нескольких рейнских провинций Франции,— в этом
была заслуга народа Франции, а не правящих классов. Они давно готовы были
заключить какой угодно позорный мир с Германией, только бы спасти себя и не
дать разгореться тому революционному пожару, который уже занимался
в стране весной 1871 г. Народ, столько сделавший для спасения родины, не хо-
тел вновь надевать на себя кандалы буржуазного строя. Народ заявлял о своем
праве управлять страной, честь которой он отстоял. Крупнейшим проявлением
общенародного революционного подъема во Франции весной 1871 г. стала Па-
рижская Коммуна.
В месяцы войны Гюго был со своим народом. Он с ним вместе защищал
Париж так, как это мог сделать старый поэт, уже не способный носить оружие,
но мастерски владеющий оружием слова. Гюго гордился тем, что он разделяет
с парижанами их тяжкие осадные будни, их лишения, их надежды и тревоги, их
гордость. И как было не гордиться: огромная хорошо обученная армия, руко-
водимая штабом, четверть века готовившимся к этой войне, оснащенная
сверхмощной по тому времени осадной артиллерией, топталась перед укрепле-
ниями Парижа, которые не представляли собой особо грозной преграды сами
по себе, не были готовы к обороне, но защищались народом, действительно
грудью своей заслонившим доступ в Париж. Среди орудий, бивших по немцам
с фортов осажденного Парижа, была и пушка «Виктор Гюго», и старый поэт
гордился, что его именем названо французское орудие, защищавшее от натиска
прусской военщины столицу Франции, город стольких революций.
Гюго покинул Париж из-за личных обстоятельств — смерти сына — и уже
только со стороны следил за тем, что происходило в Париже в те недели, когда
развернулась историческая деятельность коммунаров, а затем их героическая
борьба против соединенных сил французской и германской реакции, задушив-
ших общими стараниями Коммуну.
Общеизвестны факты, свидетельствующие о том, что великий французский
писатель не смог подняться до правильного понимания всего исторического
значения Коммуны. Но общеизвестны и другие факты, свидетельствующие
о том, что он был первым французским писателем, выступившим в защиту
Коммуны, смело объявившим себя ее другом, предоставившим свой дом в рас-
поряжение тех коммунаров, которым удалось уйти от расправы версальских
палачей. Не надо забывать: подлое возмущение буржуазии во Франции
и Бельгии по поводу этого благородного поступка Гюго было таково, что жизнь
его фактически оказалась в опасности. Не было тех оскорблений, которых не
излила бы в те дни буржуазная печать по адресу Гюго. Это еще раз показало
всему миру, с кем идет Гюго.
В дни поражения Коммуны, в дни кровавой расправы с нею и затем в тече-
ние ряда лет Гюго, как умел, отстаивал дело защитников Коммуны, добивался
облегчения участи коммунаров, клеймил варварство французской буржуазии,
превзошедшей летом 1871 г. жестокости лета 1848 г.
Выступления Гюго в защиту коммунаров еще выше подняли его мировую
известность, его авторитет среди демократических масс во Франции и за ее
пределами.
Так начинался последний период в развитии художника; Гюго поднялся
в нем до создания новых великих произведений — сборника стихотворений
«Грозный год» и романа «93-й год». В сборнике «Грозный год» Гюго попытался
осмыслить, что же произошло в его стране ох летних дней 1870 г., когда грянула
война, и до лета 1871 г., когда в Париже чинили расправу военные трибуналы,
тысячами осуждавшие людей на смерть — скорую, от руки палачей, или мед-
ленную, на каторге в колониях. Война и Коммуна — вот основные темы сбор-
217
ника. И если в нем немало стихотворений, в которых особенно резко выступают
противоречия великого поэта, то ясно одно — это книга о героизме француз-
ского народа. Его воспевает Гюго, создавая картины обороны Парижа, о нем
же рассказывает писатель, когда говорит о гибели коммунаров, об их мужестве
перед лицом взбесившихся буржуа, с ликованием вступавших в Париж вслед
за бандами Галифе.
В книге «Грозный год» создан обобщенный образ французского народа —
труженика, борца, беззаветно смелого и благородного, еще раз побежденного
правящими классами, но не сломленного и полного сил.
Еще ярче образы французского народа представлены в последнем замеча-
тельном романе Гюго—«93-й год».
Надо оценить всю атмосферу французской общественной жизни середины
70-х годов, чтобы понять, какое значение для французской литературы имело
появление этого романа. Буржуазная реакция, напуганная Коммуной, органи-
зовала в эти годы такую вакханалию мракобесия и человеконенавистничества,
с которой невозможно сравнить ни один из предыдущих периодов истории
французской литературы. Историки, литераторы, публицисты буржуазной
Франции состязались в оплевывании народа, в восхвалении всего самого реак-
ционного из прошлого Франции, в издевательстве над святынями национальной
истории страны — и прежде всего над революционными традициями француз-
ского народа. В гнусной атмосфере торжества реакции, так беспощадно изоб-
раженного в книге замечательного сатирика Салтыкова-Щедрина «За рубе-
жом», плодились школы и школки буржуазного декаданса, вместе с буржуаз-
ной прессой чернившие лучшие традиции французского искусства, французской
мысли.
Одним из специальных объектов погрома, учиненного французской реакцией
над французской культурой в середине 70-х годов, была французская револю-
ция 1789 г., точнее — ее якобинские традиции, якобинская диктатура. Напоми-
нание о 1793—1794 гг. вновь вызвало у французской буржуазии приступ бе-
шенства, так как подобно передовым деятелям 1848 г. коммунары в своей
прессе и выступлениях говорили французскому народу о политике якобинцев
и ее успехах.
И в ответ на эту кампанию клеветы и лжи, предпринятую против француз-
ского народа, против французской культуры, раздался голос Гюго — вышел
в свет роман, названный так просто и сурово —«93-й год».
Самое важное в этом романе — это прежде всего признание исторической
закономерности революционного насилия, разрушающего старый обреченный
исторический строй, истребляющего тех, кто пытается защитить этот отживший
строй и задержать развитие своего народа, развитие истории. Никогда раньше,
до 70-х годов, не говорил Гюго о революционном насилии так, как говорит он
в романе «93-й год». Немало противоречий заключено и в этом романе, но ключ
к пониманию изменяющегося отношения Гюго к революционному насилию ле-
жит даже не в сцене последней беседы Говена и Симурдена, а в поведении ни-
щего Тельмарша, столь напоминающего философа Урсуса. Тельмарш, простое
любящее и кровоточащее сердце, человек, удалившийся от людей, ибо он не
может помочь их страданиям — и не хочет видеть людей, чтобы не чувствовать
своего бессилия,— спасает жизнь старому вандейскому волку, аристократу
Лантенаку. Но, узнав, кому он спас жизнь, Тельмарш в первый раз раскаива-
ется в своем великодушии; он понимает, что, думая совершить доброе дело, он
совершил преступление против тех, кого так любит и жалеет,— против простых
угнетенных людей своей родины. Гюго шел к признанию того, что иногда выс-
ший гуманизм заключается в том, чтобы уничтожить, а не даровать жизнь,—
уничтожить тех, кто отнимает жизнь у народа.
Правомерность революционного насилия доказывается всей картиной войны
в Вандее. Это война передовых сил человечества против реакции, использую-
218
щей обманутые ею отсталые, темные слои французского крестьянства. Гюго
различает виновников вандейского мятежа — французскую реакцию, которая
при помощи английских денег пытается погубить родину,— и несознательных
его участников, фанатиков, контрабандистов, людей, жестоко обманутых цер-
ковью, восстановленных против республики английскими агентами.
Лагерю реакции, поражение которого запечатлено в героических сценах
штурма старого феодального гнезда — Турги — противопоставлен лагерь ре-
волюции, карающий мятежников во имя Франции и будущего, лагерь беспо-
щадный и человечный одновременно, беспощадный во имя человечности.
Гренадеры из батальона «Красной шапки», грозные «синие», внушающие
страх и ненависть врагам, нежны и внимательны с детьми жены мятежника —
малышами Мишелины Флешар, которая сама под их влиянием распрямляется,
теряет черты забитости.
Никогда до «93-го года» писатель не поднимался до такого вдохновенного
изображения народа, строящего новую жизнь, героически борющегося за бу-
дущее своей страны, побеждающего силы старого мира. Картина крушения
феодальной Франции, картина торжества народных масс, сносящих под корень
устои феодализма, нарисованная в романе, проникнута огромным оптимизмом,
огромной верой в силы народа, в движущие силы французской истории. Без
того драгоценного опыта, которым обогатился писатель в месяцы обороны Па-
рижа, в годы его борьбы против реакции, травившей коммунаров, Гюго никогда
не смог бы подняться до создания образов народа в «93-м годе». Мы имеем
право утверждать, что за этими образами французских бойцов якобинской
республики стоят образы людей 1870—1871 гг., образы героев обороны Пари-
жа, которая подготовила, закалила и воспитала рабочие легионы Коммуны —
«главную движущую силу» освободительной борьбы французского народа.
Творческий метод Гюго очень своеобразен и сложен, и нельзя охарактери-
зовать его, не поняв направления, в котором шло развитие Гюго-художника.
В 20-х годах XIX в. он изложил свой взгляд на искусство в предисловии к драме
«Кромвель», уже невозможном, например, в 30-х годах. Широкая, во многом
очень неясно сформулированная романтическая эстетическая платформа
«Предисловия», как и последовавшие непосредственно за ним художественные
произведения Гюго, отражали тот общедемократический подъем антифеодаль-
ной борьбы, которым отмечен во Франции конец 20-х годов. Отсюда известная
абстрактность тираноборческих обвинений, звучащих в трагедиях и в «Соборе
Парижской богоматери», отсюда некоторая туманность и расплывчатость
в образах положительных героев, отсюда и неясность, противоречивость общей
постановки вопроса о правдивости искусства в предисловии к драме «Кром-
вель».
Но ясно, что романтическая эстетика Гюго, и тогда зажигавшая читателей
и зрительный зал дуновением социального протеста, развивалась вместе
с идейным ростом художника. От исторических параллелей к действительности
Гюго поднялся до создания картин современности, в которых он показал уже не
люд «Двора Чудес», а борцов парижских баррикад 1832 г. На страницах его ро-
манов появились волнующие, на всю жизнь запоминающиеся читателям тита-
нические сцены борьбы, заканчивающиеся если не всегда физической победой
героев, то их моральной победой. Это — эпопея баррикады в «Отверженных»,
сцена единоборства Жильята со спрутом, речь Гуинплена в палате лордов.
Романтичность, приподнятость этих центральных сцен романов 60-х годов
особенно ясна в изображении борьбы Жильята со спрутом, которая вызывала
неоднократные скептические замечания критиков. Действительно, художест-
венные средства, при помощи которых Гюго рисовал эту сцену, далеки от
обычных средств реалистического письма; но не ясно ли, что Гюго стремился
создать в своих романах того времени своеобразную романтическую легенду
о героизме простого человека, легенду, основанную на множестве достоверных
219
фактов и отражающую, в конечном итоге, реальную действительность — но
только в гиперболизированном виде?
Каков же характер гиперболы Гюго? Почему она вырастает именно на этом
этапе его творчества, совпадая по времени с его публицистикой, с его внима-
тельным изучением освободительной борьбы, идущей во всем мире? Этот ги-
перболизм — не субъективное качество эстетики Гюго, а попытка отразить ти-
танические силы народа, разбуженные к борьбе событиями 40-х годов, попытка
выразить веру в колоссальную мощь этих сил, необычную для буржуазного
представления о действительности. Перед такими подвигами людей из народа
в недоумении и страхе останавливались буржуазные писатели — и либо мол-
чали об этих подвигах, либо клеветали на героев.
В большом цикле стихотворений «Легенды веков» Гюго стремился опоэти-
зировать великие события прошлого, навсегда запомнившиеся человечеству.
В своих романах 60-х годов он запечатлел творимую легенду XIX в.— героизм
народных масс, поднимающихся против классов эксплуататоров.
В героике романтических гипербол иногда терялись драгоценные реальные
черты современности, нарушалось правдоподобие типических обстоятельств. Но
у романтических образов Гюго была и своя большая сила плаката, обращенная
к читателю, который улавливал в этих гиперболах резко намеченные контуры
идей справедливости, демократизма, противопоставленных отвратительным
порокам буржуазного общества.
Дальнейший рост художника сказался и в романе «93-й год». Знаменатель-
но, что, приступив к созданию романа, Гюго выбрал среди событий французской
буржуазной революции как раз тот период, который был отмечен наибольшим
подъемом революционного движения, наиболее резким выражением борьбы
старого с новым и который обогатил французский народ широким историческим
опытом: период якобинской диктатуры.
Если за сорок лет перед тем, в первом своем романе «Собор Парижской бо-
гоматери», Гюго для исторического полотна взял из времени Людовика XI си-
туацию, типичную не только для этого периода, но и для других периодов
французского феодализма, то теперь, в 70-х годах, Гюго безошибочно выбрал
именно ту ситуацию, которая была наиболее типичной для событий эпохи
французской буржуазной революции.
В «93-м годе» писатель, сохранив всю романтическую титаничность своих
образов, смог сочетать с ней живую теплоту, простоту, реальность. Это осо-
бенно характерно для образов солдат из батальона «Красной шапки» и,
в частности, для образа Радуба, сержанта, воплотившего в себе лучшие черты
солдата революции. Радуб прост и обычен, но при штурме Турги и в сцене спа-
сения детей он вырастает именно в титаническую фигуру; и при повествовании
об этом изменяется язык писателя, всеми средствами стремящегося показать
величие и драматизм подвига, совершаемого сержантом Радубом.
Гюго не прошел мимо великого опыта французского реализма XIX в. В его
творчестве реалистическая тенденция неуклонно росла. Это она привела его
к созданию правдивых образов французского народа, к правильному выбору
темы в романе «93-й год». Но глубокое своеобразие творческого метода Гюго
заключалось в том, что в нем реалистическая тенденция теснейшим образом
переплеталась с романтической, подкрепляя и обогащая ее, не давая роман-
тизму Гюго оторваться от земли.Героический гуманизм Гюго питал собой луч-
шие стороны творчества писателя, звал его к созданию произведений, близких
и дорогих народу. «93-й год» стал своего рода завещанием Гюго французскому
народу, французской литературе.
Живые — борются. Так борется сегодня Гюго в рядах сторонников лагеря
мира, борется против поджигателей войны и против власти капитала, борется
220
за лучшее будущее человечества. И в этой нынешней жизни борца Гюго — то-
же право замечательного писателя на бессмертие.
1952
БАЛЬЗАК И ФРАНЦУЗСКОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
30—40-х годов XIX ВЕКА
В предлагаемой вниманию читателя статье дана предварительная поста-
новка вопроса о значении борьбы французского рабочего класса в развитии
и формировании Бальзака-реалиста. Статья не претендует на сколько-нибудь
полное освещение этой проблемы.
Концентрируя свое внимание на главной теме статьи, автор сознательно
решил не касаться ряда острых вопросов бальзаковедения, которые при всей их
значительности все же увели бы его от основной темы.
* * *
Классики марксизма-ленинизма в своих высказываниях и работах, осве-
щающих вопросы истории реалистического искусства XIX—XX вв., подчеркива-
ли разоблачительную ценность произведений критического реализма, показы-
вающих антигуманистическую, антинародную сущность буржуазного строя,
борьбу народных масс, закабаленных капитализмом.
Об этом писал Энгельс в статье «Движение на континенте», отмечая появ-
ление «нового направления среди писателей», которые изображают нищету
и деморализацию, выпадающие на долю «низших сословий» в больших городах.
Энгельс указывал на то обстоятельство, что «место королей и принцев» в этих
романах «начинает занимать бедняк, презираемый класс, чья жизнь и судьба,
радости и страдания составляют содержание романов» !.
Среди представителей этого нового направления Энгельс называл молодого
Диккенса, автора сборника «Очерки Боза», и Ж. Санд, имея в виду, очевидно,
ее социальные романы начала 40-х годов.
Маркс в своем высказывании о «блестящей плеяде современных английских
романистов» подчеркнул обличительное значение лучших романов Диккенса,
Теккерея, Бронте и Гаскелл. Эти писатели «в ярких и красноречивых книгах
раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем все профессио-
нальные политики, публицисты и моралисты вместе взятые...» 2.
Ту же обличительную силу видел Маркс в творчестве Бальзака, специально
указывая на роман «Крестьяне» с его разоблачительным анализом развития
капитализма во французской деревне 3 и на повесть «Гобсек» 4.
Энгельс в письме к Маргарет Гаркнесс, поставив Бальзака выше других
реалистов западноевропейской литературы XIX в., указал на разоблачительный
характер всей «Человеческой комедии» и подчеркнул, что ее центральной кар-
тиной является правдивое изображение правящих классов Франции,— разло-
жение высшего общества, совершающееся под натиском «вульгарного богача-
выскочки» 5.
В. И. Ленин в работах, посвященных творчеству великого русского реалиста
Л. Н. Толстого, показал, как Толстой-художник, несмотря на кричащие проти-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 542.
2 Маркс К. Английская буржуазия// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 10. С. 648.
3 См.: Маркс К. Капитал. Т. 3//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 1. С. 46—47.
4 См.: Маркс К. Капитал. Т. 1//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 602.— Прим.
5 Письма Ф. Энгельса к разным лицам: Маргарет Гаркнесс [Лондон, начало апреля
1888 г.] //Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 36.
221
воречия, свойственные ему, срывал все и всяческие маски с правящих классов,
обнажал язвы капиталистического строя и бичевал его защитников '.
Огромная художественная правдивость Толстого дала основание В. И.
Ленину для того, чтобы поставить его выше всех представителей критического
реализма в мировой литературе эпохи Толстого, раскрыв этим мировое значе-
ние русского реализма. Ленин указывал, что колоссальная разоблачительная
сила метода Толстого объяснялась прежде всего способностью художника стать
«зеркалом русской революции».
Русская революционно-демократическая наука о литературе от Белинского
до Салтыкова-Щедрина в своих положительных оценках западных писателей-
реалистов тоже постоянно говорила о значении их разоблачительной тенден-
ции. За нее ценил В. Г. Белинский Диккенса и Бальзака; на эту тенденцию
лучших представителей критического реализма в зарубежных литературах об-
ращал внимание русских читателей Н. Г. Чернышевский. Его резко отрица-
тельный отзыв о романе Теккерея «Ньюкомы» обусловлен был именно тем, что
в этом романе Чернышевский справедливо увидел признаки упадка крити-
ческого реализма Теккерея, явное желание перейти от сатирического изобра-
жения английского буржуазного общества к нарочито объективистскому опи-
сательству.
М. Горький тоже указывает в первую очередь на обличительную силу рома-
нов Стендаля и Бальзака, подчеркивает, что эти романы учат ненавидеть об-
реченный буржуазный строй.
Сила правдивого разоблачения капиталистического общества, живущая
в лучших произведениях критических реалистов Запада, придает их книгам
особую ценность и в наши дни.
Этим и объясняются как актуальность произведений Диккенса, рисующих
отталкивающую картину английского капитализма и американской буржуазной
лжедемократии, так и широкая популярность в советских читательских кругах
романов Бальзака. Преступления, совершаемые в наши дни обреченным, но
бешено сопротивляющимся капитализмом, еще гнуснее и бесчеловечнее, чем
были они в эпоху Диккенса и Бальзака. Бескультурье и стяжательство буржу-
азии проявляются теперь в формах более цинических и чудовищных. Но вели-
кие писатели-реалисты XIX в. в лучших своих произведениях с такой силой за-
клеймили типичные черты и тенденции буржуазного строя, что и в наши дни эти
произведения становятся оружием в руках защитников мира, помогают борьбе
человечества против поджигателей новой войны — против последышей Гобсе-
ков и Нусингенов, Домби и Баундерби.
Этим объясняется и тот поход против классиков критического реализма
XIX в., который предприняли буржуазные реакционные литературоведы Запада,
клевещущие на Диккенса и Бальзака, стремящиеся замолчать мощные разо-
блачительные тенденции их творчества.
Советские писатели и литературоведы, анализируя особенности крити-
ческого реализма XIX в., не раз подчеркивали в своих работах и выступлениях
то, что разящая сила критического реализма у лучших писателей XIX в. разви-
лась как естественное следствие обнажения противоречий буржуазного строя,
открывавшихся с каждым новым десятилетием все сильнее и глубже. 30-е годы
XIX в. были эпохой упрочения победы буржуазного строя над феодализмом
в ряде стран Западной Европы. Особенно выразительно это закрепление бур-
жуазного строя проявилось в создании буржуазной монархии во Франции пос-
ле революции 1830 г. и в результатах реформы 1832 г. в Англии, сосредоточив-
шей власть в руках британской буржуазии.
1 См.: Ленин В. И. Лев Толстой, как зеркало русской революции//Полн. собр. соч. Т. 17.
С. 209.
222
Победа буржуазии как в Англии, так и во Франции обозначала вместе с тем
обострение противоречий между трудом и капиталом, которые были временно
отодвинуты на задний план в эпоху борьбы народных масс, руководимых бур-
жуазией, против «Священного союза» и феодальных правительств, объединив-
шихся вокруг него. В развитии этих противоречий уже в 30-х годах со всей си-
лой стала обнаруживаться реакционность победившей буржуазии, бесчеловеч-
ный цинизм голого чистогана.
В странах Западной Европы противоречия между трудом и капиталом уже
в эти годы привели к ожесточенным классовым боям, в ходе которых неуклонно
закалялось и крепло рабочее движение Англии и Франции, переходя от форм
неразвитых к развитым, медленно освобождаясь, в лице своих лучших пред-
ставителей, от мелкобуржуазных иллюзий и предрассудков.
В 30—40-х годах XIX в. рабочий класс выступил в этих странах как важ-
нейшая общественная сила. На него обрушивались самые жестокие формы
эксплуатации и самые бесчеловечные репрессии — от повседневного преследо-
вания посредством различных антирабочих законов до мер террора. Рабочий
класс проявлял огромную политическую энергию, героизм и организованность,
благородство и человечность, чуждые правящим классам и присущие только
ему — могильщику капитализма.
Непримиримые противоречия между трудом и капиталом показывали все
очевиднее порочность победившего буржуазного строя, вели к кризису и кру-
шению буржуазно-демократических иллюзий не только у писателей трудящихся
масс, воспитывавшихся и росших в этой борьбе, но и у лучших, наиболее чест-
ных представителей европейской буржуазной интеллигенции, наивно веривших
в абсолютную прогрессивность исторической миссии буржуазии. Борьба рабо-
чего класса против господствующих классов Европы стала важнейшим факто-
ром, мощно влиявшим на выдвижение и развитие блестящей плеяды писателей-
реалистов XIX в. на Западе.
Реализм Стендаля становится особенно разящим под влиянием обострения
классовой борьбы во Франции в 1830—1835 гг. Свой обобщающий разоблачи-
тельный творческий метод Бальзак вырабатывает именно в 30—40-х годах.
Усиление реалистических тенденций в творчестве Диккенса и Теккерея нахо-
дится в прямой связи с подъемом борьбы английского рабочего класса в
30—40-х годах. Не становясь в этой борьбе на сторону рабочего класса, иногда
даже стремясь склонить его к примирению с правящими классами, эти писатели
получали в выступлениях рабочего класса огромный обвинительный материал
против буржуазии, заставлявший их неотступно думать о перспективах разви-
тия народов. Некоторые из них, как Бальзак и Диккенс, приходили к мысли
о необходимости изменения существующего строя.
Программа, цели, методы изменения данного строя составляют самую сла-
бую сторону творчества этих писателей, с очевидной ясностью указывают на
буржуазную ограниченность, присущую им в разной степени. Они были чужды
идей революционной борьбы рабочего класса, идей научного социализма, к ко-
торым приближались в своих лучших призведениях их современники — поэт-
коммунист Г. Веерт, поэт-чартист Э. Джонс, молодой Э. Потье, будущий автор
«Интернационала».
Идейная насыщенность творчества писателей, связанных с рабочим движе-
нием 30—40-х годов XIX в., вносит в эстетику их реалистического творчества
особое новое качество, ярко сказывающееся в жизненном положительном иде-
але, в образе борца-революционера — сына рабочего класса. Хотя этот образ
был еще недостаточно разработан вследствие того, что социалистическая ре-
волюционность пролетариата на Западе только созревала в годы развития этих
поэтов (до 1848 г.), он представляет огромную ценность.
Такого положительного образа не было у писателей-реалистов, связанных
с умирающей революционностью буржуазной демократии Западной Европы,
223
и это отличает их эстетику от эстетики и творчества писателей-реалистов, шед-
ших вместе с рабочим классом Европы, росших вместе с созревавшей револю-
ционностью пролетариата.
Но та убедительность обвинения капиталистического строя, за которую це-
нили классики марксизма Бальзака и плеяду английских романистов, то мощ-
ное сочетание публицистичности и художественности, которое живет в твор-
честве лучших буржуазных писателей-реалистов XIX в., были подсказаны им
грандиозной битвой классов, в которой рождалась революционность пролета-
риата, выдвигались его вожди — Маркс и Энгельс.
Творчество Бальзака дает убедительный материал для постановки вопроса
о решающем значении борьбы французского рабочего класса в становлении
критического реализма во французской литературе XIX в. Данные для обосно-
вания и развития подобного взгляда на особенности критического реализма
Бальзака имеются в письме Ф. Энгельса к М. Гаркнесс.
«Одной из величайших побед реализма», «одной из величайших черт старо-
го Бальзака» Энгельс считал то, что Бальзак «видел неизбежность падения
своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих
лучшей участи, и в том, что он видел настоящих людей будущего там, где их
в то время единственно и можно было найти» '. Под настоящими людьми буду-
щего Энгельс подразумевает республиканцев — героев монастыря Сен-
Мерри2, это были, пишет Энгельс, «люди, которые в то время (1830—
1836) действительно были представителями народных масс» 3.
Это важнейшее замечание Энгельса дает нам право сделать два вывода: во-
первых, по мнению Энгельса, Бальзак считал закономерным оконча-
тельное историческое падение дворянского строя
и дворянства как класса («видел неизбежность падения своих из-
любленных аристократов»); во-вторых, «настоящих людей будущего» Бальзак
видел не в победившей буржуазии; он не принадлежал к числу писателей, пря-
мо или косвенно восхвалявших победу буржуазного строя во Франции, его
«нескрываемое восхищение», как пишет Энгельс, вызывали «республиканцы —
герои монастыря Сен-Мерри», которые «действительно были представителями
народных масс».
Энгельс подчеркивает, что политические симпатии Бальзака были на сторо-
не легитимистов, а не героев Сен-Мерри — ярых противников правящих клас-
сов. Нет поэтому основания говорить о том, что герои Сен-Мерри — подлинно
положительные для Бальзака герои, сознательно противопоставленные им «ге-
роям» Июльской монархии. Но в концепции французской жизни, данной Баль-
заком в «Утраченных иллюзиях», именно они оказываются носителями под-
линной человечности и героизма и объективно противостоят «вульгарному бо-
гачу-выскочке», а не французская аристократия, о которой Бальзак, несмотря
на свои симпатии к ней, пишет с горькой иронией и в духе острой сатиры.
Таким образом, перед нами картина современного французского общества,
данная Бальзаком в историческом движении, в его противоречивом развитии:
«вульгарный богач-выскочка», представитель той «финансовой аристократии»,
которая господствовала при Луи-Филиппе, стал хозяином Франции, оттеснив
дворянство и купив себе из его среды короля. Но против диктатуры «вульгар-
ного богача-выскочки» уже поднимаются подлинные «представители народных
масс»—«республиканцы — герои монастыря Сен-Мерри», и именно в них
Бальзак видит «настоящих людей будущего».
Опираясь на выражение Энгельса «республиканцы — герои монастыря Сен-
Мерри», наши литературоведы часто ограничивают политическое содержание
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 37.
2 См. там же. С. 466. Прим. 52.
3 Там же. С. 37.
224
этих «настоящих людей будущего» у Бальзака понятием буржуазного
республиканизма, противопоставленного буржуазной монархии. Тем самым
и антипатия Бальзака к буржуазному выскочке и его «нескрываемое восхище-
ние» республиканскими героями 1832 г. ограничиваются пределами буржу-
азных кругов французского общества.
Между тем Маркс указывает на то, что восстание 5 июня 1832 г., закончив-
шееся истреблением героически оборонявшейся группы повстанцев в районе
монастыря Сен-Мерри, носило характер классового столкновения между бур-
жуазией и пролетариатом: промышленная буржуазия, пишет Маркс, «вообра-
жала, что после подавленных в крови восстаний 1832, 1834 и 1839 гг. ее гос-
подство над рабочим классом упрочено» 1.
Конечно, восстание 5 июня шло под революционно-демократическими, а не
пролетарскими лозунгами, участвовали в нем не только рабочие; но В. И. Ле-
нин указывал, что «пролетариат неизменно играл роль главной движущей си-
лы» во французских революциях после 1793 г., которые он «довел до завоева-
ния республики» 2. Несомненно, и в июньские дни 1832 г. «главной движущей
силой» восстания был парижский рабочий класс, выступавший еще под лозун-
гами революционно-демократического характера.
Энгельс писал, что Бальзак увидел будущее Франции в «представителях
народных масс»; но среди них (чего Бальзак не мог не знать) основную удар-
ную силу составляли французские рабочие.
Добавим к этому, что прежде чем указать М. Гаркнесс на пример реа-
листического мастерства Бальзака, Энгельс укорял свою корреспондентку
в том, что в ее повести «Городская девушка» «рабочий класс фигурирует как
пассивная масса, не способная помочь себе...» . Энгельс указывал, что «мя-
тежный отпор рабочего класса угнетающей среде, которая его окружает, его
судорожные попытки, полусознательные или сознательные, восстановить свое
человеческое достоинство вписаны в историю и должны поэтому занять свое
место в области реализма» 4.
В свете этих указаний Энгельса и следует понимать выражение «республи-
канцы — герои монастыря Сен-Мерри», которыми восхищался Бальзак. Таким
образом, Бальзак вырастает перед нами как художник, показавший в «Утра-
ченных иллюзиях» одну из таких «полусознательных» попыток французского
рабочего класса восстановить свое человеческое достоинство,
независимо от чаяний и настроений других — нерабочих — участников событий
5 июня.
Дело здесь, конечно, не в том, что Бальзак показал один из моментов клас-
совой борьбы во Франции, в котором значительнейшую роль играли люди
французского рабочего класса; в романе Стендаля «Люсьен Левен» есть целая
глава, в которой гораздо прямее и подробнее говорится об одной из рабочих
забастовок 30-х годов, но к Стендалю неприменима характеристика, данная
Бальзаку Энгельсом. Самым важным для нас является то, что Бальзак говорит
о героях Сен-Мерри «с нескрываемым восхищением», что самый факт их вы-
ступления есть для него знак движения истории вперед. Их героизм помогает
писателю понять с особой силой продажность и гнусность буржуазии, а в самом
романе «Утраченные иллюзии», как известно, дает возможность противопоста-
вить буржуазному выскочке с его прихлебателями, а также морально павшему,
гниющему дворянству образ Мишеля Кретьена, гибнущего вместе с другими
защитниками сен-меррийской баррикады от рук разъяренных наемников бур-
жуазии.
1 Маркс К. Классовая борьба во Франции//Мар/сс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 8.
2 Ленин В. И. Об оценке текущего момента//Полн. собр. соч. Т. 17. С. 281.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 35.
4 Там же. С. 36.
* Р. М. Самарин
225
Мишель Кретьен, один из героев Сен-Мерри, играет в этом романе совер-
шенно исключительную роль. Бальзак как бы полемизирует с ним, подчеркивая
в образе Кретьена черты мечтателя и утописта и не соглашаясь с его воззрени-
ями. Вместе с тем образ Кретьена проходит через весь роман как критерий
честности и человечности, как подлинный образец в моральном отношении, не
имеющий себе равных в этом смысле среди многочисленных персонажей рома-
на. Это обстоятельство подчеркивает огромную важность и образа Мишеля
Кретьена, и всего упоминания о восстании 5 июня 1832 г. в романе «Утраченные
иллюзии».
Однако «Утраченные иллюзии»— один из поздних романов Бальзака; пря-
мого изображения рабочих масс в этом романе нет; в других своих художест-
венных произведениях Бальзак не возвращается к событиям 5 июня 1832 г. и не
останавливается сколько-нибудь подробно на рабочих восстаниях эпохи бур-
жуазной монархии. Можно ли только на основании «Утраченных иллюзий»
ставить вопрос о решающем влиянии французского рабочего движения на
развитие критического реализма Бальзака?
Анализ творческого пути Бальзака, прослеженного не только по его худо-
жественным произведениям, но и по его публицистике, дает нам право ответить
на этот вопрос утвердительно. Бальзак внимательно следил за развитием
и ростом французского рабочего класса, изучал его положение, писал о нем
в своих романах, посвящал ему специальные работы. Взятые в сумме, эти вы-
сказывания Бальзака о рабочем классе подтверждают наше основное поло-
жение.
Период подъема классовой борьбы во Франции в конце 20-х годов XIX в.,
приведший к революционному взрыву летом 1830 г.., был периодом быстрого
роста реалистической тенденции в творчестве Бальзака. Накануне революции
были закончены «Шуаны»— первый роман, в котором сказалась растущая
мощь художника-реалиста, показавшего обреченность дворянской контррево-
люции и отсталых, косных слоев французской деревни, поддерживавших ее.
Вместе с тем уже в этом романе в образе Корантена нашли выражение глубо-
кие сомнения молодого писателя в сущности буржуазного государства, которое
должно было сменить прогнивший старый режим. Бальзак видел, что честные
республиканцы, герои вроде Гюло, прокладывали дорогу диктатуре Фуше,
власти стяжателей-проходимцев.
Летние события 1830 г.— поражение Бурбонов, дни революционных боев,
утверждение буржуазно-монархического строя, прикрывшего царство финан-
совой аристократии,— были для Бальзака огромной общественной школой.
Приводя слова Лаффита, сказанные им королю,—«отныне господствовать
будут банкиры»,— Маркс в «Классовой борьбе во Франции» писал: «Лаффит
выдал тайну революции» [. Бальзак разоблачил эту тайну как художник, с не-
обычайной силой показавший растлевающую власть золота, господства бан-
киров. Однако именно после событий 1830—1831 гг., в которых определилась
победа финансовой буржуазии, Бальзак, как известно, перешел на позиции ле-
гитимизма.
Мы не можем здесь сколько-нибудь подробно остановиться на проблеме ле-
гитимизма Бальзака. Отметим только, что легитимизм Бальзака нельзя рас-
сматривать как идеологию какого-нибудь обычного представителя дворянского
легитимизма 30—40-х годов,— хотя бы Ларошжаклена. Легитимизм Бальзака
был своеобразной формой оппозиции по отношению к буржуазной монархии, но
отличительную черту его составляла реакционная утопия писателя, наивно по-
лагавшего, что возможно создание мощного монархического режима, не только
не зависимого от финансовой буржуазии, но даже являющегося инструментом
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 8
226
обуздания стяжательской вакханалии банкиров, опозорившей и разорившей
Францию при Луи-Филиппе.
Известно, что в реакционной утопии Бальзака монархический режим вы-
полнял функцию силы, сдерживавшей возможные народные движения и поощ-
рявшей имущие средние классы, а особенно промышленную буржуазию, кото-
рую Бальзак противопоставлял буржуазии финансовой, объективно отражая
известные и временные противоречия этих двух фракций французской буржу-
азии в 30—40-х годах XIX в. Но следует подчеркнуть, что утопическая монар-
хия Бальзака должна была предупреждать революционные движения не про-
вокациями вроде 5 июня 1832 г. и не истреблением рабочих, как это было в
1831 и 1839 гг. ', а системой особой реорганизации французской экономики,
в силу которой будто бы могло быть достигнуто общее повышение жизненного
уровня трудящихся масс, их обеспечение заработком и образованием. В поли-
тических размышлениях Бальзака вопрос о благосостоянии народных масс
Франции занимал огромное место, и при всей реакционности его легитимист-
ской утопии она именно этим существенно отличается от всех других легити-
мистских теорий 30—40-х годов. Добавим, что легитимизм Бальзака не был ни
последовательным, ни ортодоксальным и приводил его к столкновениям с по-
литическими дельцами, которые хотели воспользоваться его известностью,
громким именем. Легитимизм Бальзака был не столько выражением его сим-
патий к дворянству, сколько проявлением антипатии к царству буржуазного
выскочки, выражением глубочайшего разочарования в результатах революции
1830 г.
Доказательством этому может служить публицистика Бальзака начала
30-х годов. Среди его набросков и заметок за 1831 г. обращают на себя внима-
ние три небольших очерка, последовательно относящиеся к июню, июлю и ав-
густу этого года — к месяцам, когда в Париже уже чувствовалось обострение
противоречий, назревавших по всей Франции и выразившихся затем в револю-
ционных столкновениях 1831, 1832, 1834 гг.
Первый из этих очерков—«Способ вызвать смуту» (июнь 1831 г.). Полная
убийственной иронии по адресу правительства Луи-Филиппа, эта зарисовка
парижской общественной борьбы первого года буржуазной монархии разобла-
чает провокационную политику победившей буржуазии, замышлявшей пустить
в ход оружие против народа. Характеризуя стихийно возникающий митинг
в одном из парижских предместий, Бальзак пишет:
«Наверное, из пятисот человек, которые Вас слушают, четыреста девяносто
восемь согласны с Вами. Вот дискуссия закончена, народ расходится по своим
делам.
Но тут появляется муниципальный гвардеец. Лошадь, появляющаяся
в Париже в одиночку, всегда привлекает к себе внимание публики, тем более,
что на ней восседает представитель общественной власти. За лошадью следует
народ, за народом войско... И вот кабачки закрываются, лошади танцуют,
женщины кричат, мужчины ругаются, дети плачут, барабан бьет, толпа угро-
жающе рычит...» 2
В июле особый очерк «Нынешний заговорщик» Бальзак посвятил револю-
ционной молодежи — членам тайных политических обществ, в изобилии воз-
никавших в знак протеста против политики Луи-Филиппа. Этот очерк начат
насмешливо. Бальзак и здесь издевается над буржуазной монархией, расправ-
ляющейся слишком жестоко с противником, который уже и не так опасен. Вот
облик этого «заговорщика»:
1 Имеется в виду жестокое подавление властями Лионского (1831) и Парижского (1839) вос-
станий.— Ред.
2 Balzac. Œuvres: En 24 v. Paris, 1925—1926. V. 23. P. 287. Далее в статье ссылки на это из-
дание с указанием тома и страницы.
8*
227
«Ему восемнадцать лет; у него мужество, усы, какой-то странный жилет,
хорошо сшитое платье...» [23, 289]. Постепенно писатель уточняет направление
тайного общества, к которому принадлежит «заговорщик», улавливает общую
тенденцию революционно настроенной молодежи: «он — друг народа, он охотно
поступился бы для него частью своего состояния, если бы таковое имелось...
Марат — для него система, Робеспьер — организация» [23, 290].
В этих кратких словах схвачены характерные противоречия развивавшегося
французского революционного движения 30-х годов: обращение к революци-
онно-демократической традиции прошлого и попытка выйти за ее пределы, по-
пытка смелее поставить вопрос о неимущих народных массах, чьи жизненные
интересы никак не укладывались прежде в программу буржуазных революци-
онных движений.
Юный заговорщик в очерке Бальзака — патриот, благородный, горячий
юноша, готовый к вооруженной борьбе во имя своих неясных, но глубоко чело-
вечных идеалов: «он сможет честно служить своей родине,— пишет Бальзак,—
если его нынче не выпотрошит какой-нибудь муниципальный штык».
Так вторгается в очерк весьма трагическая и реальная перспектива, ждущая
молодого романтика парижских баррикад: штык муниципального гвардейца,
расправа наемников финансовой аристократии, о которых Бальзак говорил
с презрением в очерке «Способ вызвать смуту». Теперь этот «муниципальный
штык» упомянут с ненавистью; ее причину надо искать не столько в «легити-
мистском» презрении Бальзака к вооруженным торгашам Луи-Филиппа,
сколько в горячем сочувствии к участникам тех парижских тайных обществ,
которые становились жертвами «муниципальных штыков» наравне с рабочим
людом Парижа.
Само собой понятно, что это сочувствие не было для Бальзака принятием
политической программы тайных обществ 30-х годов. Но в очерках легитимиста
Бальзака находят отражение настроения народных масс Парижа — презрение
и ненависть к полицейскому государству Луи-Филиппа, любовное отношение
к смелым противникам правительства банкиров.
Третий и самый значительный очерк этого летнего цикла 1831 г.—«Две
встречи в один год». Он начинается поэтической картиной революции 1830 г.:
«Это было в день пробуждения после пятнадцати лет сна. Париж почуял запах
пороха, воздух изрыгал свинец, народ кричал «Свобода!» [23, 299].
Далее Бальзак рассказывает об участниках боев 27—30 июля 1830 г., по-
знакомившихся в госпитале, куда они, раненые, попали с улиц Парижа. «Они,
страдая, подбадривали друг друга, строили планы будущей свободы, мечтали
о славе для Франции, о счастье для своих детей. Наконец раненые уснули —
спокойные, убаюканные прекрасными мечтами о будущем».
По прошествии года многое изменилось, пишет Бальзак: «после резни —
победа, после победы — дележ; и тут победителей оказалось куда больше, чем
сражавшихся. Уж таков закон войны». Но герои 27 июля не согласились с этим
«законом». И вот они встречаются вновь — уже как узники победившего
строя —«под сводами темницы, на дворе Сент-Пелажи». Они обмениваются
выразительным взглядом, и в этом мрачном и молчаливом согласии можно бы-
ло прочесть историю целой эпохи, выраженную в одном слове: «Предатель-
ство!»
Так определилась точка зрения Бальзака на буржуазную монархию, на от-
ношение французской буржуазии к интересам французского народа: писатель
назвал это отношение предательством интересов народа, интересов Франции.
Эту точку зрения он доказывал как художник, изображая в своих романах
результаты хозяйничанья буржуазного выскочки, эту же точку зрения он со
страстью отстаивал в своих политических статьях, которые нередко вызывали
недовольство в официальных легитимистских кругах.
228
Насколько далек был Бальзак от жалкой кучки политиканов, составлявших
руководство и актив легитимистов, насколько утопична была его мечта о со-
здании монархической партии, видно по его статье 1832 г. «О положении партии
роялистов». Бальзак писал в ней: «Партия есть соединение людей, которые
считают, что их интересы страдают от данного государственного строя. Если их
интересы соответствуют большим социальным потребностям, если они согласу-
ются с идеями, в которые массы вложили свое представление о лучшем прави-
тельстве, тогда партия становится достаточно сильной, чтобы требовать изме-
нений в государстве или охраны своих интересов» [23, 360].
Интересы партии легитимистов, разумеется, не отвечали ни «большим со-
циальным потребностям», ни представлениям масс о «лучшем правительстве».
Но для нас здесь важно это указание Бальзака на поддержку масс, на н а-
родность, как на первое условие существования сколько-нибудь значи-
тельной партии. Это еще раз свидетельствует о том, какую огромную роль
в политических теориях Бальзака играли массы, народ — тот самый народ, чей
революционный порыв и глубокое разочарование Бальзак столь живо отразил
за год до этой статьи в очерке «Две встречи в один год».
Но для нас особенно важно выяснить вопрос — различал ли Бальзак в на-
роде представителей французского рабочего класса, видел ли он французского
рабочего как особое явление в жизни французского народа, в его революцион-
ном движении?
На этот вопрос надо ответить положительно. Один из персонажей очерка
«Две встречи в один год»— парижский рабочий. Бальзак рисует героический
образ парижского рабочего — труженика, с оружием в руках вставшего на за-
щиту своих прав: «второй из них был рабочий, печатник. 27 июля, на заре, как
и всегда, его разбудили ручонки детей, просивших хлеба.
— Вы его получите, когда отечество будет спасено,— ответил им смельчак.
И вместо завтрака он взялся за свое старое ружье» [23, 300].
Так, в одной лаконичной сцене, запечатлев и бедственное положение рабо-
чего, и его готовность к борьбе, Бальзак далее подчеркивает его храбрость: он
показывает читателям своего печатника вечером того же дня, «с пулей в голо-
ве», страдающего от раны — и все-таки мечтающего о прекрасном будущем,
о славе Франции, о счастье нового поколения французов.
«То было дело народа,— пишет Бальзак,— народ, как ты был прекрасен,
как ты был велик тогда!»
Образ рабочего-печатника выдвигается на первый план в этом очерке
Бальзака. Он ярче, живее, чем другие два персонажа. Это и понятно — оче-
видцы подчеркивали, что в июльские дни 1830 г. именно парижские рабочие
проявляли особый героизм и решительность. Один из участников революцион-
ных событий писал: «Уверенный больше, чем когда-либо, что надо было пола-
гаться только на одних рабочих, я возвратился в свою мэрию. Здесь человек
50 рабочих, вооруженных и безоружных, ни о чем другом не думали, как только
о том, чтобы выступить». Наблюдательность Бальзака-художника не изменила
ему при создании картины, изображающей Июльскую революцию: вместе с ее
участником он подметил в парижанине-рабочем особую революционную энер-
гию и готовность к борьбе.
Вполне понятно, поэтому, что Бальзак-художник уделяет в своих произве-
дениях внимание растущему рабочему классу Франции. В повести «Златоокая
девушка» Бальзак создал замечательный обобщенный образ французского ра-
бочего. Он писал: «Рабочий, пролетарий, человек, шевелящий ногами, кулака-
ми, языком, спиной, только своею рукой и пятью своими пальцами, чтобы
жить,— так вот этот человек, который больше всех других должен бы береж-
ливо расходовать основу своей жизни, перенапрягает свои силы, запрягает
жену в какую-нибудь машину, заставляет работать своего ребенка, пригвождая
и его к одному из колес механизма». Рабочие руки, подчеркивает Бальзак, со-
229
здают всю современную материальную культуру. Писатель слагает восторжен-
ный гимн рабочему труду и противопоставляет рабочим, «людям пота и воли,
труда и терпения», отталкивающую и внушающую презрение фигуру капита-
листа, фабриканта, который обманывает трудящийся люд.
Этот мощный собирательный образ французского рабочего люда особенно
обогащает критическую силу реализма Бальзака: противопоставленный рабо-
чей массе карикатурный портрет капиталиста-фабриканта тем более отврати-
телен, чем величественнее и сильнее изображен рабочий класс.
Развивая свою мысль дальше, Бальзак показывает, как капиталист, обма-
нув и закабалив рабочего, заставляет его вести нечеловеческое существование,
физически и морально разрушает его. «Люди эти,— пишет Бальзак с негодо-
ванием,— рожденные, несомненно, для того, чтобы быть прекрасными ...с са-
мого детства приписаны в подданные молота, ножниц, прядильной машины...
Народ этот обладает своими проявлениями доблести, своими совершенными
личностями, своими неведомыми Наполеонами, которые представляют собой
типический образ его сил в высшем их выражении».
Так, в 1834 г. Бальзак уже называет рабочих особым народом, гениально
отражая обостряющийся процесс борьбы двух наций — нации труда и нации
капитала — в одной нации. Бальзак говорит о рабочих как о сильной нации,
«которая... ужасна один раз в век, воспламеняемая, как порох...».
Буржуазная ограниченность Бальзака наложила свой отпечаток на харак-
теристику рабочего класса в повести «Златоокая девушка». Бальзак приписы-
вает парижскому рабочему чрезмерную страсть к водке, которая «подготовляет
его к революционному пожару», грубую ненасытную жажду золота и наслаж-
дений; эти характерные суждения, ярко говорящие о противоречивости миро-
воззрения Бальзака, резко дисгармонируют с приподнятым и восхищенным то-
ном, каким повествует писатель о талантах и энергии рабочего класса. Но, не-
смотря на резкость таких противоречий, они не могут заслонить от читателя
главного открытия, сделанного Бальзаком,— художник увидел в рабочем
классе огромную творческую силу, созидательную, деятельную и страшную для
мира собственников.
В повести «Златоокая девушка» немало противоречий, немало черт, свиде-
тельствующих о силе и устойчивости буржуазных тенденций в мировоззрении
писателя. Но в небольшом отступлении в повести «Фачино Кане» Бальзак пи-
сал о рабочем люде Парижа с глубокой любовью и уважением. Он хотел
вжиться в его быт, полно представить себе не только все тревоги и горести ра-
бочей жизни, но и те высокие чувства, которые были доступны только рабочему
и о которых Бальзак писал как о доблестях французского рабочего класса.
«Нередко между одиннадцатью часами вечера и полуночью я, повстречав ра-
бочего с женой, возвращавшихся из театр-à Амгибю-Комик, развлекался тем,
что шел следом за ними по бульвару Понтшу до бульвара Бомарше. Вначале
они обычно толковали о пьесе, которую только что смотрели, потом, мало-по-
малу начинали толковать о своих делах... Слушая этих людей, я постигал их
жизнь, я чувствовал на своем теле их лохмотья, ноги мои шагали в их дырявых
башмаках. Их желания, их потребности овладевали моей душой или, лучше
сказать, моя душа проникала в их душу. Вместе с ними я негодовал на хозяев
мастерских, которые притесняли рабочих, и на дурных заказчиков, у которых по
нескольку раз приходилось безуспешно выпрашивать плату... Уже в то время
сложное целое, именуемое народом, я расчленил на составные части и подверг
его анализу, чтобы определить и хорошие его качества, и дурные. Я уже знал,
сколько возможностей заложено в этом предместье, в этом питомнике револю-
ций, где взращиваются герои, изобретатели-самоучки, плуты, злодеи, доброде-
тели, пороки — и все они подавлены нищетой, принижены нехватками, одур-
манены пьянством, изнурены спиртными напитками».
230
Трудно сомневаться в том, что на формирование этих взглядов Бальзака
повлияла борьба французских рабочих, активизировавшаяся в эти годы и осо-
бенно остро проявившаяся в лионских событиях 1831 и 1834 гг. Как увидим,
Бальзак был о них хорошо осведомлен, хотя до поры и не упоминал о них
прямо.
Все пристальнее присматривался писатель и к тем социальным теориям, ко-
торые распространялись среди парижских рабочих. Он отрицательно относился
к утопическому социализму Сен-Симона. Нередко, полемизируя с его сторон-
никами в своих романах, он высмеивал сен-симонистов и в своей публицистике
(см. специальную статью Бальзака «Сен-симонянин и сен-симонист», 1831). Но
в течение 30-х годов его отношение к распространению социалистических тео-
рий делалось все более и более серьезным; в этом смысле особенно показа-
тельна трактовка утопического социализма в романе «Утраченные иллюзии».
В 1831 г. сен-симонисты представлялись Бальзаку безобидной и смешной
сектой, но на рубеже 30—40-х годов, когда шла окончательная обработка «Ут-
раченных иллюзий», Мишель Кретьен, изображаемый как человек, близкий
к идеям утопического социализма, показан смелым и мудрым политиком-меч-
тателем, который мог бы стать одним из вождей колоссального общественного
переворота, заменяющего буржуазный строй строем без эксплуатируемых
и эксплуататоров. Смелым идеям Кретьена придан революционный характер,
чуждый сен-симонизму. В этом примечательном факте есть некоторый анахро-
низм: изображая в Кретьене члена тайного общества эпохи Реставрации,
Бальзак приписывал ему и его программе черты, намечавшиеся во французском
рабочем движении второй половины 30-х годов, свидетельствовавшие о мед-
ленном, но неуклонном росте элементов пролетарской сознательности, вызре-
вавшей в классовых боях 1834—1839 гг. В этом отношении образ Кретьена
в большей степени представляет эпоху кануна 1848 г., т. е. ранние коммунисти-
ческие устремления французского рабочего класса, чем эпоху утопического со-
циализма и борцов Сен-Мерри. Кретьен противостоит не столько обществу
эпохи Реставрации, сколько буржуазному строю после 1830 г., в борьбе с кото-
рым он и гибнет.
Вся чрезвычайно важная линия Кретьена в романе была подсказана Баль-
заку фактами из истории французского рабочего движения второй половины
30-х годов.
Бальзак чутко улавливает ход исторического развития Франции, дальней-
шее развитие противоречий между трудом и капиталом. Если в его очерках на-
чала 30-х годов рабочий появляется только как один из представителей рево-
люционного народа и сами очерки не посвящены собственно рабочему движе-
нию, то в 40-х годах Бальзак печатает две специальные статьи о положении
рабочего класса во Франции, правильно увидев и оценив рост этой великой
общественной силы.
Весьма значительным свидетельством отражения борьбы французского ра-
бочего класса в творчестве Бальзака была его статья «О рабочих», помещенная
в третьем (сентябрьском) номере журнала «Revue Parisienne» за 1840 г.
Статья начиналась насмешливым противопоставлением «хора друзей по-
рядка»— защитников буржуазной монархии —«хору друзей свободы»— по-
борников буржуазной республики. Иронически относясь к обоим «хорам», из
которых один клевещет на рабочих, а другой слащаво их захваливает, Бальзак
делает вывод о том, что поборники буржуазной республики спекулируют на
рабочем вопросе в своей борьбе за власть против орлеанистов '.
Переходя непосредственно к вопросу о положении рабочего класса во
Франции, Бальзак бросал в лицо правящим классам обвинение в том, что они
сами толкают французских рабочих на вооруженное выступление. Показывая
1 Сторонники Луи-Филиппа Орлеанского.— Ред.
231
растущую нищету рабочих, Бальзак утверждал, что буржуазные отношения,
развивающиеся во Франции, ведут к росту рабочего класса и вместе с тем об-
рекают его на полуголодное существование, отдают его в кабалу капиталисту.
«Правительство не имеет права становиться между хозяином и рабочим,— на-
смешливо писал Бальзак,— да у него есть только право пускать в ход пушки
против рабочих масс...» [23, 759]. Он подтверждал это обвинение указаниями
на «мятеж в Лионе» и «мятеж в Париже», которые, с его точки зрения, были
логическим следствием тяжелейших условий, созданных для рабочего класса
предпринимателями и правительством.
«Нажива! вот отныне лозунг Франции»,— восклицал Бальзак, и на вопрос
о том, чем же держится это государство торгашей, отвечал: жаждой денег.
С уверенностью утверждал писатель, что это царство мошенников закон-
чится крахом: новая аристократия, состоящая из спекулянтов, писал Бальзак,
будет прогнана разъяренными массами. Репетицию этого будущего восстания
масс против преступной французской буржуазии Бальзак видел в лионских
и парижских событиях 1834—1839 гг.
В близившемся столкновении народных масс с правящими классами Фран-
ции Бальзак уделял особую роль французскому пролетариату. Ограбленный,
закабаленный, терроризируемый буржуазией, рабочий класс станет ударной
силой революции: «Рабочие, запоминайте это хорошенько, это самые настоя-
щие унтер-офицеры армии нищеты, генералы которой сидят в республиканской
партии»,— писал Бальзак.
В 1834 г. в повести «Златоокая девушка» Бальзак еще утверждал, что
подъем рабочего движения —«революционный пожар»— может зависеть от
«заманчивого слова» опытного агитатора, от «водки», воспламеняющей вос-
приимчивый дух рабочего. Теперь, всего через шесть лет, умудренный изучени-
ем французской действительности, он с замечательной точностью указывал на
социально-экономические причины роста рабочего движения во Франции.
Картина жизни современного французского общества все определеннее выри-
совывалась перед Бальзаком как картина борьбы классов, в которой перед от-
вратительной и жалкой фигурой буржуа все отчетливее и грознее вставала мо-
гучая фигура рабочего.
Революционный взрыв, в неизбежности которого Бальзак был уверен, гря-
нул весной 1848 г. И тогда же, в весенние месяцы, между февралем и июнем,
Бальзак написал свою вторую статью о французском рабочем классе —«Пись-
мо о труде».
Эта примечательнейшая из публицистических статей Бальзака не была на-
печатана при его жизни. Этот последний — и самый меткий — удар писателя по
буржуазному обществу дошел до читателей через полстолетия, в знаменатель-
ную эпоху революционной борьбы в России. Ее опубликование в «Revue des
deux Mondes» l было, несомненно, связано с обострением классовой борьбы во
Франции, с тем острым интересом, который вызывал к себе рабочий вопрос
у буржуазного читателя. Видимо, редакция журнала, публикуя эту работу
Бальзака, придавала особый смысл той ее части, которую можно рассматри-
вать как положительную часть программы Бальзака,— конечно, глубоко оши-
бочную.
Эта положительная часть заключается в призыве к искусственной индуст-
риализации Франции и к борьбе за рынки сбыта. Бальзак полагал, что эти две
меры дадут хлеб рабочим и удержат их от новой революции.
Буржуазная французская пресса не постыдилась использовать в 1906 г. по-
следнюю статью великого французского писателя для циничной империалисти-
ческой демагогии.
1 Revue des deux Mondes. 1906. T. 26. P. 35.
232
Но нелепый рецепт спасения, вкратце и наспех изложенный Бальзаком
в конце статьи, составляет незначительную часть всей работы. Ее основная
и прекрасно развернутая тема — критика политики Временного правительства
в рабочем вопросе.
Бальзак вспоминает здесь свою статью 1840 г. — «О рабочих». «В течение
семнадцати лет,— пишет он,— Луи-Филипп постоянно попирал и приносил
в жертву моральные и политические интересы Франции... В 1840 году я пре-
дупреждал: тот, кто опирается на коммерческий интерес, ни на что не опирает-
ся, так как коммерция, продажная буржуазия была самой обманчивой из всех
сил — и действительно, национальная гвардия сбросила Луи-Филиппа, ибо во
Франции честь дороже денег, и если вы слишком явно предаете честь нации,
она восстанет».
Напомнив о том, что его предположение оправдалось и что Февральская
революция положила конец бесславной буржуазной монархии, Бальзак грозил
теперь — весной 1848 г.— новой революцией, которая обрушится на победив-
ших буржуазных республиканцев.
Это будет революция коммунистов, утверждал Бальзак и, анализируя
состав Законодательного собрания, писал: «Оно фатальным образом уже раз-
делилось на правых и левых, и левые — это фурьеристы, коммунисты и ради-
кальные республиканцы». Угрозу новой близящейся революции, в которой ле-
вая группировка Законодательного собрания станет руководящей силой,
Бальзак видел теперь уже только в рабочих и доказывал, как в статье «О ра-
бочих», что и на этот раз правящие классы толкают рабочий люд на револю-
ционное выступление.
Особый повод к возмущению рабочих Бальзак видел в создании «нацио-
нальных мастерских», о которых Маркс писал: «Под этим громким именем
скрывалось не что иное, как использование рабочих на скучных, однообразных,
непроизводительных земляных работах с заработной платой в 23 су. Англий-
ские работные дома под открытым небом — вот чем были эти национальные
мастерские. Временное правительство думало, что нашло в них вторую проле-
тарскую армию против самих же рабочих. На этот раз буржуазия ошиблась
в национальных мастерских точно так же, как рабочие ошиблись в мобильной
гвардии. Она создала армию мятежа» '.
Организацию этих мастерских Бальзак назвал «дезорганизацией труда».
Анализируя условия труда в этих «работных домах под открытым небом»,
Бальзак указывал, что буржуазия с помощью «национальных мастерских»
вводит форму еще худшего закабаления рабочих, деквалифицирует их, грабит,
разрушает семью рабочего человека. Стараясь определить место рабочего
в буржуазной экономике, Бальзак доходил до замечательного открытия: «ра-
бочий — торговец,— писал он в цитируемой статье,— его капитал — это фи-
зическая сила, и он ее продает за оспариваемую им цену».
Однако продажа единственного «капитала» рабочего — его труда — была
поставлена в новой, республиканской Франции в столь невыгодные и тяжкие
условия, что рабочим, с точки зрения Бальзака, остается либо умереть, либо
взяться за оружие. «Государство, где хорошие и умные рабочие, трудясь
столько, сколько они хотят и сколько могут, не находят средств существования
для своих семей,— это плохо организованное государство»,— писал Бальзак.—
Ему возмездием будет черный флаг рабочих Лиона, на котором написаны
страшные священные слова... Работа или смерть!»
Напоминая о Лионе французской буржуазии 1848 г., Бальзак тут же под-
черкивал, что теперь —«после Лионской катастрофы»— рабочие имеют опыт
борьбы, который не преминут использовать при создавшемся положении.
1 Маркс К. Классовая борьба во Франции//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 24.
233
В «Письме о труде» звучит страх Бальзака перед новой гигантской волной
рабочего движения, перед «гражданской войной в ее самом страшном обли-
чий — войной труда и капитала», к которой шла Франция.
Каковы бы ни были противоречия этого документа, он замечателен тем, что
в нем французские рабочие —«производители всей материальной продукции»—
показаны и как активнейшая историческая сила, оказывающая решающее
влияние на всю жизнь Франции. Как бы ни были утопичны и реакционны наме-
чаемые Бальзаком пути дальнейшей политики страны, эти пути прежде всего
диктуются необходимостью решать самый важный, с точки зрения Бальзака,
вопрос современной ему французской жизни — рабочий вопрос.
К июньской расправе с рабочими Бальзак отнесся резко отрицательно. Его
письма содержат материал, чрезвычайно показательный в этом отношении.
В августе 1848 г. Бальзак иронически писал в Париж по поводу постановки
одной из своих комедий, высмеивавших французское мещанство: «Можно ли
ставить ее теперь, на другой день после битвы, в которой буржуазия столь
благородно лила свою кровь во имя спасения цивилизации?» [24, 512]. Как
видно из этих негодующих слов, Бальзак в 1848 г. не изменил своего отношения
к «муниципальным штыкам», о которых он с презрением писал еще в начале
30-х годов.
В письме к матери от 6 ноября 1848 г. Бальзак назвал переживаемый год
«ужасным годом» («une terrible année»); он написал знаменательную фразу:
«У Франции более нет ни славы, ни достоинства...» Таково было его суждение
о возникавшей Второй республике, утопившей в крови восстание героического
парижского простолюдина.
Собранные нами факты свидетельствуют о значительном и постоянном вни-
мании Бальзака к французскому рабочему движению, целям которого он не
сочувствовал, но растущее историческое значение которого видел лучше других
буржуазных писателей Франции. Каждое новое значительное событие в исто-
рии французского рабочего движения 30—40-х годов показывало Бальзаку со
все большей полнотой бесчеловечность и антинародность возникавшего бур-
жуазного общества, давало все новые и новые материалы для обвинения пра-
вящих кругов Франции, учило его живой диалектике истории, углубляло кри-
тический реализм писателя.
В этом нас убеждают не только приведенные выше наблюдения, но и весь
ход творческого развития Бальзака, замечательный тем, что это развитие шло
по восходящей линии, отмечено произведениями все большей обличительной
силы.
Указывая, как огромно было влияние борьбы рабочего класса на выработку
научного понимания истории общественного развития, Энгельс писал в «Анти-
Дюринге»: «Но в то время как указанный переворот в воззрениях на природу
мог совершаться лишь по мере того, как исследования доставляли соответст-
вующий положительный материал для познания,— уже значительно раньше
совершились исторические события, вызвавшие решительный поворот в пони-
мании истории. В 1831 г. в Лионе произошло первое рабочее восстание; в пе-
риод с 1838 по 1842 г. первое национальное рабочее движение, движение анг-
лийских чартистов, достигло своей высшей точки. Классовая борьба между
пролетариатом и буржуазией выступала на первый план в истории наиболее
развитых стран Европы...» '
Бальзак в известной мере приблизился к этому «решительному повороту
в понимании истории», когда писал в предисловии к «Истории величия и паде-
ния Цезаря Биротто»: «Единственный роман, возможный в прошлом, исчерпан
Скоттом. Это борьба крепостного и буржуа против дворянства, дворянства —
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 25.
234
против церкви, дворянства и церкви — против монархии. Сегодня равенство
порождает во Франции бесконечные оттенки».
«Равенство», о котором писал Бальзак, было буржуазным строем, в котором
с каждым годом все острее обнаруживались «бесконечные оттенки» его основ-
ного противоречия — противоречия между трудом и капиталом. И чем полнее
проявлялось это противоречие в течение периода с 1830 до 1848 г., тем глубже
и правдивее становился критический реализм Бальзака.
В процессе становления реалистического творческого метода Бальзак отка-
зывался от элементов романтизма, выступал все более правдивым изобразите-
лем подлинных типических явлений современности.
На предательство интересов народа—создание буржуазной монархии во
Франции — он отозвался не только критикой ее в цитированных выше очерках
и статьях, но и разоблачением власти денег в художественных произведени-
ях — в повестях «Гобсек» и «Шагреневая кожа».
Жестокость и подлость буржуазии, проявившиеся в классовых боях
1831 —1834 гг., дали Бальзаку материал для обличения ее представителей
в «Евгении Гранде» (1833) и «Отце Горио» (1831 —1834). Едва ли случайным
совпадением можно объяснить тот факт, что наиболее полный анализ волчьего
закона буржуазных отношений сделан Бальзаком именно в этом романе, за-
конченном в год Лионского восстания: как помним, Бальзака потрясли и му-
жество его участников, и особенно жестокость его усмирителей.
Усиленный натиск реакции в середине 30-х годов не смог сломить великого
французского писателя. Бальзак приступает к работе над «Утраченными ил-
люзиями» и создает роман «Цезарь Биротто» (1837), в котором показывает
дальнейший ход ограбления Франции дельцами финансовой аристократии,
а также роман «Банкирский дом Нусингена»— эту блестящую сатиру на кос-
мополитическую верхушку новой буржуазной знати.
События 1839 г. дали новый толчок развитию критического реализма Баль-
зака, проявившегося как в статье «О рабочих», так и в новелле «Пьер Грассу».
Бальзак уничтожающе отзывается о «подвигах» национальной гвардии, ис-
треблявшей инсургентов, а в новелле «3. Маркас» разоблачает подлую и бе-
шеную борьбу за власть между разными кликами финансовой аристократии.
В отличие от более ранних произведений, «3. Маркас» следует рассматривать
как прямой памфлет на буржуазные правительственные круги 30—40-х годов,
тесно связанный с публицистикой Бальзака.
Этот новый толчок, полученный Бальзаком в 1839 г., особенно сказался на
дальнейшей работе над «Утраченными иллюзиями». Недаром именно об этом
романе, как о «величайшей победе реализма», писал Энгельс; только в нем ху-
дожник увидел «настоящих людей будущего там, где их в то время единственно
и можно было найти». Эту «победу реализма» невозможно отрывать от идей,
изложенных в статье «О рабочих», которая была отголоском событий 1839 г.
и последующего подъема рабочего движения во Франции.
Наконец, уже на подступах к новой революционной эпохе, отражая ее при-
ближение, Бальзак пишет сатирическую повесть «Выборы» и создает роман
«Крестьяне», замечательный по прямому и смелому изображению классовой
борьбы. Хотя внимание автора и сосредоточено на картине борьбы между
крестьянским и дворянским землевладением, но французская деревня показана,
как это подчеркнул Маркс, в процессе капиталистического развития. Остроту
изображения классовой борьбы в романе, как и анализ развития капитализма
во французской деревне, нельзя не поставить в связь с замечательной глубиной
анализа развития современной Франции в «Письме о труде», которое целиком
построено на наблюдениях над борьбой рабочего класса страны.
К величайшей победе реализма — к умению найти типические обсто-
ятельства эпохи, увидеть ее характерные противоречия — Бальзак пришел
235
именно под воздействием борьбы рабочего класса Франции, объективно отра-
жая условия и результаты этой борьбы.
Плодотворное воздействие, оказанное борьбой французского рабочего
класса на Бальзака, привело еще к одному очень важному результату в романе
«Утраченные иллюзии». В отличие от других западноевропейских реалистов
XIX в. в этом романе Бальзак смог противопоставить правящим классам —
и вырождающемуся дворянству, и вульгарному денежному выскочке — глубоко
привлекательный образ революционера, созданный как прямое отражение впе-
чатлений художника от борьбы народных масс Франции против режима
Орлеанов.
Развить дальше и углубить проблему положительного героя — представи-
теля народных масс Франции — Бальзаку помешали противоречия его миро-
воззрения. Но советскому читателю Бальзак особенно дорог именно потому, что
в его произведениях галерее убийственных сатирических и разоблачающих об-
разов, в которых писатель заклеймил правящие классы Франции, противо-
поставлены образы ее тружеников, образы носителей ее революционных тра-
диций.
1952
IV
ЛИТЕРАТУРА
XX ВЕКА
ф
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
1
Значение Великой Октябрьской социалистической революции и процессов,
связанных с нею, для развития мировой литературы исключительно велико. Мы
имеем все основания к тому, чтобы утверждать, что ни одно общественное дви-
жение за всю мировую историю человечества, ни одна революция не оказывали
такого могучего, разностороннего, углубляющегося вместе с поступательным
ходом истории воздействия на мировой культурный процесс, и в том числе на
мировую литературу, как Октябрьская революция. В свое время и английская
буржуазная революция 1640-х годов и тем более французская буржуазная ре-
волюция 1789 г. способствовали развитию новых процессов в литературе их
времени, были событиями, изменившими многое в эстетике XVII, XVIII и XIX
вв. Но степень и характер их воздействия на мировую литературу не могут быть
сравнимы с той революцией в мире искусства, которая началась в 1917—
1918 гг. и длится, углубляясь и захватывая все новые области, вплоть до наших
дней. Сегодня мы можем констатировать, что процесс этого обновления миро-
вой литературы развертывается все шире.
За эти полвека ] сложился не только новый читатель, представитель милли-
онных народных масс, втянутых в освободительную борьбу, но и новый тип пи-
сателя, для которого изображение жизни с партийной точки зрения стало
единственно возможным, так как именно партийность, верность идеям Маркса
и Ленина позволяют художнику объективно и полно отразить сложнейшие
процессы, происходящие в обществе и в сознании человека.
Велико было непосредственное воздействие самих революционных событий
на мировую литературу на рубеже 1910—1920 гг. Но со временем воздействие
Октябрьской революции делается все глубже и многообразнее, все органичнее
и плодотворнее. Если сначала оно сказывалось, кроме русской литературы,
в первую очередь на литературах юго-восточного европейского региона, то за-
тем оно способствовало появлению и оформлению революционных течений
и групп в литературах Западной Европы и Америки, обнаружилось в литерату-
рах Азии. В наше время наряду с мировым признанием советской литературы,
1 Статья написана в 1967 г.— Ред.
237
рожденной Октябрем и несущей его идеи, прямое или косвенное влияние
Октября сказывается не только в развитии литератур в странах социализма, но
и в мировой литературе в целом, включая молодые литературы народов, борю-
щихся против колониального ига или против происков неоколониализма.
Идеи Октября воздействуют на развитие мировой литературы и в своем
прямом политическом виде, и через многочисленные произведения литературы,
рожденные или вдохновляемые ими. Определилась закономерность сосредото-
чения передовых сил всемирной литературы на стороне социалистической ре-
волюции. «Открытие и изучение этой закономерности позволяет представить
себе весь процесс всемирной литературы... в подлинном свете и понять всю
сложность этого процесса и направление его развития» '.
В советской науке и в науке братских социалистических стран кое-что сде-
лано для изучения путей, по которым шло и идет воздействие Октября на ми-
ровую литературу, и для того, чтобы выяснить, в каких формах оно сказы-
вается.
Но эта огромная и многосторонняя проблема, с каждым годом все более
усложняющаяся в силу возникновения новых исторических факторов, требует
пристального и целенаправленного изучения в целом. В этом отношении из-
вестной ценностью обладают доклады, представленные на IV съезде славистов,
состоявшемся в Москве в 1958 г. Более систематически этот процесс воздейст-
вия Октябрьской революции на мировое литературное развитие освещен в спе-
циальных разделах трехтомной истории советской литературы, выпущенной
ИМЛИ; наконец, специально эта проблема рассматривается в коллективном
труде О. Егорова, А. Николюкина и Т. Балашовой «Советская литература за
рубежом» (1962). Много работ, вышедших и в СССР, и за рубежом, посвящено
отдельным аспектам этой проблемы — воздействию творчества ряда советских
писателей на различные литературы мира. Среди этих работ немало трудов,
освещающих международное значение Горького и Маяковского.
Уже из той общей характеристики, которая дана выше, понятно, что про-
блема Октябрьской революции в мировой литературе требует строго истори-
ческого подхода. Это особенно видно при сопоставлении выводов, сделанных
в данной области советской наукой и зарубежной филологией. Если в СССР и
в странах социалистического лагеря Октябрь 1917 г. вполне обоснованно рас-
сматривается как начало новой эры в эстетическом развитии человечества, как
важнейшая дата, которой начинается новый период не только в истории чело-
вечества, но и в современном литературном процессе, то буржуазные литера-
туроведы, иной раз даже признавая значение Октября для развития литерату-
ры в России, выдвигают другие факторы в качестве решающих для мирового
литературного процесса. В этом смысле употреблялся еще до 1939 г. термин
«послевоенная литература», с 1939 г.—«литература между двух войн», «лите-
ратура эпохи войн и революций», наконец, просто «современная литература»
(modern literature) без указания дат, но с молчаливым приятием того факта,
что начало «современной литературы» датируется все равно концом
1910-х годов.
Так, даже за этими неясными и субъективными формулами открывается
факт, с которым не могут спорить и наиболее реакционные зарубежные фило-
логи: поворотным моментом в развитии мировой литературы оказывается конец
10-х годов, обстановка нараставшего общего кризиса капитализма, гигантской
революционной ситуации, ярче всего выразившейся в победе Октябрьской ре-
волюции. Мистификации и недомолвки буржуазных филологов не могут скрыть
этого факта, как не могут они скрыть и последовательно нарастающего воз-
действия мирового революционного движения на дальнейшее развитие мировой
литературы. Только конкретно-исторический подход к этим сложным и новым
1 Анисимов И. И. Новая литературная эпоха//Знамя. 1959. № 8. С. 202.
238
процессам развития мировой литературы поможет найти верное научное реше-
ние для множества вопросов, возникающих перед теми, кто изучает литературу
современности.
2
В ходе острой борьбы культура эксплуататорских классов, еще недавно
господствовавшая, перестала быть национальной, пришла к гибели и разруше-
нию как в самой России, так и за ее пределами — в различных литературных
кругах эмиграции; в то же время элементы социалистической и демократи-
ческой культуры перестали быть элементами и стали новой национальной
культурой, уверенно прокладывающей дорогу новой эстетике, новой литерату-
ре, увлекая за собой и тех, кто с самого начала чувствовал себя художником
социализма, и тех, кто под влиянием великих исторических событий рвал путы,
связывавшие его со старым миром и его искусством, кто хотел быть художни-
ком советской современности. Затем в различных национальных вариантах этот
процесс развернулся в других странах мира, по-своему проложивших себе путь
к социалистическому строю.
Классический пример — книга Дж. Рида «Десять дней, которые потрясли
мир». В ней запечатлены не только события революции, но и стремление та-
лантливого писателя разобраться в сущности происходящих процессов, раз-
вертывающихся перед его глазами, отразить их неповторимую красоту. Образ
молодой Советской Республики возникает как поэтическое обобщение и у И.
Бехера в его известном стихотворении, посвященном РСФСР. Как бы ни были
далеки от понимания процессов, происходивших на территории бывшей России,
А. Франс, Б. Шоу, Г. Уэллс и другие зарубежные писатели, их выступления,
требовавшие прекращения интервенции и блокады, и их книги возникали под
воздействием самого духа Октябрьской революции.
Влияние Октября на зарубежные литературы уже в те годы было различ-
ным. В странах, близких по социальной структуре к старой России, в странах
отсталых, но с острыми классовыми противоречиями — в слабых звеньях ка-
питализма,— это влияние сказалось особенно органично. Это касается прежде
всего западных и южных славянских стран, в которых авторитет русской лите-
ратуры как литературы, проповедовавшей передовые социальные и эстети-
ческие идеи, был всегда высок, а теперь еще более укрепился. Такими органи-
ческими откликами на Великую Октябрьскую социалистическую революцию
было появление ряда произведений, славивших ее, и формирование литератур-
ных групп, связавших себя с рабочим движением.
Закономерно было внимание к Октябрьской революции и порожденной ею
новой культуре в революционной Германии, широко отозвавшейся своей лите-
ратурой на октябрьские события в России. Некоторые немецкие писатели были
свидетелями и участниками этих событий в нашей стране. Если в те годы не
нашлось немецкого Джона Рида — создателя книги, подобной «Десяти
дням...», то и свидетельства других писателей говорят об огромном влиянии
того, что видели они в России, на их творческий мир. Это было влияние, которое
в ряде случаев определило дальнейший путь писателя. Так было, например,
с ветераном немецкой революционной литературы XX в. А. Куреллой, который
сохранил восторженные воспоминания о присутствии на параде на Красной
площади в 1919 г. Заключая свои воспоминания об этом дне, Курелла пишет:
«Я повернулся и пошел, навсегда унося с собой только что увиденную карти-
ну — зримое воплощение великого мирового события, свидетелем которого бы-
ло все мое поколение. Еще раз, как уже бывало в мировой истории, ось истори-
ческих свершений со скрежетом, грохотом, бесповоротно переместилась —
в этом городе, в этой стране... И все, что происходило потом на земле, можно
239
было хорошо рассмотреть только отсюда, правильно понять только с точки
зрения социализма».
Закономерно было и то, что в других капиталистических странах — во
Франции, Англии, США и т. д.— влияние революции сказалось на позициях
старых «мастеров культуры», признавших значение русской революции и объ-
явивших себя ее друзьями.
Горький еще в 1909 г. в статье «Разрушение личности» писал о том, что
многие выдающиеся писатели уже «приходят к социализму», «громко зовут че-
ловека к слиянию с человечеством». Среди этих выдающихся представителей
мировой культуры великий русский писатель назвал Г. Уэллса, А. Франса, Э.
Верхарна. Но дело здесь не в том или ином имени, а в том, что Горький верно
уловил общую тенденцию перехода «мастеров культуры» в лагерь друзей со-
циализма: в течение последующих лет ее можно проследить на творческом пути
Р. Роллана и Т. Драйзера, Г. Манна и Б. Шоу и многих других замечательных
художников XX в.— подлинных «мастеров культуры».
В этом отношении, как важный отзвук событий Октябрьской революции,
глубоко закономерно основание «Кларте», которое приветствовал В. И. Ленин.
Это было первое действительно интернациональное объединение писателей
разных стран и народов, захваченных в той или иной мере новыми перспекти-
вами, которые открыла миру русская революция. Так Октябрьская революция,
интернационалистическая по своему существу, вызвала к жизни первое боль-
шое объединение писателей, ставившее себе большие международные задачи.
Закономерна и тяга так называемых авангардистов в начале 20-х годов
к идеям Октября, сказавшаяся у различных писателей по-разному. Даже оши-
баясь в своих поисках нового искусства, «авангардистские» течения в лице
лучших своих представителей все же во многих случаях противостояли лите-
ратуре империалистической реакции и искали сближения с революционными
силами. Это помогло в дальнейшем лучшим и наиболее талантливым писателям
из их среды найти путь к социалистическому реализму. Общим эстетическим
итогом первых лет послеоктябрьского литературного процесса является рас-
пространение в масштабе старых литератур Европы и Америки мысли о необ-
ходимости создания нового революционного искусства, которое запечатлело бы
черты новой эпохи.
И это закономерно, как закономерна борьба, завязавшаяся вокруг вопроса
о путях и о характере этого нового искусства.
В ходе этого процесса в ряде литератур капиталистического мира возникли
качественно новые явления революционной литературы, связанные с борьбой
рабочего класса, а затем сложилась исторически совершенно новая и небыва-
лая в истории литературы прошлого организация международной революци-
онно-пролетарской литературы, находившая поддержку у советской литературы
и активно развернувшая свою деятельность на рубеже 20—30-х годов, в обста-
новке нарастающего кризиса буржуазного мира. В творчестве этих писателей
русская революция и победы социалистического строительства в СССР стали
одной из основных тем.
В 20—30-х годах серьезнейшей новой закономерностью мировой литерату-
ры, порожденной Октябрьской революцией, было наметившееся впервые в ис-
тории резкое разграничение на две зоны культурного и литературного развития,
разделение на два мира. В одном из них — уже видоизмененном — развивались
бурные процессы рождения и становления новой литературы, возникали про-
изведения социалистического реализма. В другом продолжались процессы,
свойственные буржуазной литературе эпохи общего кризиса капитализма. Но
как бы ни были разделены эти два мира, возникновение и развитие социа-
листического реализма не только в СССР, но и в капиталистических странах
было тоже одной из закономерностей, порожденных Октябрем.
240
Сближение «мастеров культуры» с миром социализма, о чем речь шла выше,
запечатлено не только в ряде программных произведений, вроде «Прощания
с прошлым» Р. Роллана, но и в углублении, обогащении, усилении демократи-
ческих традиций критического реализма 20—30-х годов. Критический реализм
этого времени отличается от критического реализма предыдущих лет новыми
чертами — более последовательной критикой капиталистического общества
(как это было у Т. Манна), большим историзмом, обращением к героическим
характерам, складывающимся в социальной борьбе (Р. Мартен дю Гар, Г.
Манн), более отчетливой и глубокой народностью. Эти и многие другие черты
объясняются в конечном итоге прямым и косвенным воздействием Октября.
Осуществление социалистической революции в СССР и отражение этого в ли-
тературе вызвали и сложный процесс в «авангардистских» течениях. Некоторые
из них саморазоблачались как течения буржуазные (так было с французским
сюрреализмом и дадаизмом). Другие раскалывались, причем лучшие из поэтов
и писателей «авангарда» переходили на сторону рабочего класса, воспринима-
ли рождавшуюся эстетику социалистического реализма. Особенно наглядный
пример этого процесса дает немецкий экспрессионизм.
Закономерна была и активизация различных течений модернизма как
искусства, куда «уходили» многие писатели, испуганные ходом истории и уси-
лением чуждой им борьбы за народную гуманистическую культуру, начатой в те
годы «мастерами культуры» и писателями социалистического реализма.
На общем фоне литературной борьбы 20—30-х годов все ярче вырисовыва-
лась роль передовых зарубежных писателей, роль мировой революционной ли-
тературы, этого детища Октябрьской революции, форумом которой оказался
Первый съезд советских писателей в 1934 г. Закономерности литературного
мирового развития на этом съезде были раскрыты в докладе Горького и в вы-
ступлениях ряда зарубежных писателей. Одним из важных теоретических вы-
водов съезда было убеждение в том, что социалистический реализм — законо-
мерное явление, складывающееся не только в советской литературе, но и в лю-
бой литературе. Именно в 30-х годах появились книги, рассматривавшие зако-
номерность возникновения социалистического реализма в ряде литератур мира;
среди них — «Роман и народ» Р. Фокса и статьи о французском социалисти-
ческом реализме Л. Арагона, работы немецких критиков о социалистическом
реализме. Уже тогда, в 20-х и 30-х годах, в связи с этой закономерностью ли-
тературоведы-марксисты обратились к изучению предшественников социа-
листического реализма в различных литературах мира (работа Ю. И. Данилина
об искусстве Парижской Коммуны, работы Ф. П. Шиллера о революционной
немецкой поэзии XIX в. и о чартистской поэзии).
Вторая половина 30-х годов, отмеченная упорной борьбой передовых сил
человечества против фашизма и против угрозы новой войны, была эпохой по-
явления многих великих книг XX в., родившихся в горниле антифашистской
борьбы. Для писателей и поэтов, выступавших против фашизма и нацизма,
было вполне закономерным ощущение СССР как самого надежного оплота
в битве за будущее, представление о его литературе как детище передового от-
ряда писателей мира. Борьба за республиканскую Испанию и деятельность пи-
сателей-антифашистов в эти годы утвердили международную роль СССР как
ведущей силы, влияющей не только на события мировой политики, но и на раз-
витие мировой культуры. Исторические события выдвинули перед писателями-
антифашистами проблему национального и интернационального начала в под-
линном искусстве, что привело к появлению многих прекрасных произведе-
ний,— к романам Т. и Г. Маннов, к новым произведениям Л. Арагона и Л.
Фейхтвангера, В. Бределя и Э. Хемингуэя.
Методологически очень важно изучить литературу, посвященную войне
против фашизма в Испании, для того чтобы понять сущность и достижения того
единства передовых писателей мира, какое окрепло в 1936—1939 гг. Широкая,
241
благородная волна интернационализма, охватившая в те годы многочисленные
круги писателей, была закономерным проявлением воздействия Октябрьской
революции на мировую литературу. Никогда в истории мировой литературы не
возникало подобной ситуации, какая сложилась в те годы — годы действия ве-
ликой коалиции писателей-антифашистов, находивших в СССР подлинную
опору в битве против фашизма, а в советской классике видевших пример рево-
люционного искусства.
Вдохновляемая и поддержанная борьбой народов СССР против нацизма,
богатая литература антифашистского Сопротивления в 1939—1945 гг. в лучших
своих проявлениях ориентировалась на боевой союз с СССР. Ее участники ши-
роко использовали все, что было достигнуто и завоевано общественным
и культурным опытом СССР. Слова Арагона: «Пусть примером нам русское
мужество служит» были, конечно, не только хвалой подвигам Советской Армии,
но и оценкой морали советского человека, в воспитании которого такую роль
играла литература, рожденная Октябрем и жившая его заветами.
Вникая внимательно в эволюцию литературы Сопротивления, в ее различ-
ные национальные аспекты, видишь, что это была во многих случаях борьба не
только против нацизма, но и за социалистическое будущее данной страны, что
ярко отразилось на разных уровнях эстетики этой литературы, имеющей общие
черты и самобытной в каждом отдельном случае.
3
Вскоре после окончания второй мировой войны сложилась мировая социа-
листическая система. В литературах социалистического лагеря происходят
сложные процессы, характерные как для литературы каждой отдельной страны,
так и общие для литературы этих стран в целом. Для того чтобы верно понять
закономерности этих процессов, преемственно связанных с процессами истории
советской литературы, надо как можно шире развернуть комплексные исследо-
вания по группе этих литератур в целом и по взаимосвязям их с советской ли-
тературой. Здесь действуют два типа взаимосвязанных закономерностей: общие
для всего лагеря социализма и особые внутри каждой из стран. Общая зако-
номерность — рождение новой литературы в новом обществе. Но в каждом от-
дельном случае этот общий процесс усложнен особенностями развития литера-
туры отдельных стран.
Важной целью изучения в этом смысле нам кажется именно выяснение
своеобразия закономерностей внутри этих литератур и закономерностей, общих
с советской литературой. Немаловажно и то, что в силу определенных причин,
пока еще не выясненных, в одних литературах наблюдается особенно активное
развитие лирики, в других — драматургии, в третьих — повествовательных
жанров. Разумеется, особая активность этих жанров не предполагает отсутст-
вия жанров других, но речь идет именно о преобладании.
Мир социалистических литератур не отгорожен непроходимой стеной от ли-
тературы капиталистических стран. Взаимовлияния здесь есть, они неизбежны.
Но надо специально осветить проблему отношения между двумя литературны-
ми зонами современности.
Превосходство социалистического реализма сказалось не только в выдви-
жении ряда крупных его представителей (Маяковский, Шолохов, Брехт, Арагон
в 50-х годах) в число явлений международного ряда, но и в тех моральных по-
бедах, которые были одержаны искусством социалистического реализма
(включая кино) на различных форумах и конгрессах последних лет. Так было,
в частности, на форуме КОМЭС в Ленинграде в 1963 г. ', на котором принци-
1 Имеется в виду международная писательская встреча, посвященная проблемам романа.
Устроителем ее было Европейское сообщество писателей.— Ред.
242
пиальная позиция ряда делегаций социалистических стран, и в первую очередь
делегации СССР (речи Л. Леонова и К. Симонова), вынудили защитников мо-
дернизма, абстракционизма, экзистенциализма отказаться от атаки на реа-
листическое искусство, и в частности на традиции реалистического романа.
Характерной при этом была позиция английской делегации (Голдинг, Э. Уил-
сон), заявившей о своей поддержке тех выступлений делегатов социалисти-
ческих стран, которые защищали традиции реалистической литературы и гу-
манистическую концепцию современного искусства. Проблемы социалисти-
ческого реализма были в центре дискуссий на IV и V конгрессах славистов
в 1958 и 1963 гг.
4
Одной из закономерностей, порожденных Октябрем и малоизученных, яв-
ляется существование в литературе каждой современной буржуазной страны
двух литератур внутри одной национальной литературы. Речь идет уже не
о двух культурах, объективно существующих в каждой национальной культуре,
а об осознанном бытии, организации и специфике передовой литературы, слу-
жащей социалистическим идеям, противостоящей в странах капитализма раз-
личным типам литературы буржуазной. Вся история прогрессивных течений
в литературах капиталистических стран связана с перипетиями общественных
битв нашего времени, начиная от этапа, возвещенного 1917 г., и кончая сегод-
няшним днем. В этом процессе для нас особенно интересны типология усвоения
советской литературы в этих странах, формы восприятия творческого опыта
наших писателей. Применительно к этим странам особенно важно, отказавшись
от остатков догматизма, верно понять и объяснить соотношения литературы
критического реализма и творчества некоторых писателей-модернистов с лите-
ратурой социалистического реализма.
Одной из важнейших закономерностей, порожденных Октябрьской револю-
цией и усиленных общественным движением последних десятилетий, является
сближение критического и социалистического реализма, при том, однако, что
в принципе между ними сохраняется различие. На примере многих писателей
современности можно увидеть, как на них сказывается воздействие отдельных
произведений социалистического реализма. Этот процесс, совершающийся
в современных, иных исторических условиях, тем не менее напоминает процесс
перехода старших «мастеров культуры» на сторону нового мира в 30-х годах.
Примеров перехода в прошлом от реализма критического к социалисти-
ческому можно найти немало. В советской литературе одним из особенно зна-
чительных писателей, проделавших этот путь, был А. Толстой. Сходна твор-
ческая дорога замечательного реалиста-романиста А. Цвейга, который от кри-
тического реализма, воплощенного в его первом романе из серии «Большая
война белых людей» — «Дело унтера Гриши»,— ценой длительного и слож-
ного развития пришел к эстетике социалистического реализма, присущей его
последним романам из этой серии, и особенно роману «Затишье». Своей доро-
гой пришел к эстетике социалистического реализма М. Садовяну в романе
«Митря Кокор», создав первое реалистическое произведение об изменениях,
происходивших в румынской деревне в первые годы народной власти в этой
стране.
Конечно, не случайно все названные писатели — а число их можно было бы
увеличить — осуществляли этот переход в работе над произведениями, отра-
жающими исторический процесс на переломе, в революционную или предрево-
люционную эпоху жизни своих стран: А. Толстой — в романе о революции или
в романе о бурной реформаторской эпохе Петра I; А. Цвейг — в романе о ми-
ровой войне, которая закончилась гигантским революционным взрывом; М.
Садовяну — тоже в романе о мировой войне (второй) и о революционных пре-
243
образованиях, изменивших общественный облик его родины. Вероятно— и это
тоже закономерность— сложный процесс овладения новым методом особенно
интенсивно протекал в работе над художественными произведениями, по-
священными так или иначе эпохам великих перемен.
Особая научная задача встает перед историками литературы, когда они об-
ращаются к молодым литературам Азии и Африки, переживающим стадию
своего становления. Толчком к их развитию были в конечном итоге события
Октябрьской революции, хотя их самостоятельная история началась в ходе
второй мировой войны, переросшей впоследствии в антифашистскую войну, или
вскоре после нее. Чаще всего в этих литературах нет значительных примеров
прямого воздействия Октября и советской литературы. Но при более внима-
тельном их изучении оказывается, что вся атмосфера, в которой они развива-
ются, да и характер их эволюции пропитаны той сложной диалектикой литера-
турного развития XX в., которая определена последствиями Октября, дальней-
шим развитием принципов Октябрьской революции в СССР и в других странах.
5
Неисчерпаемое богатство художественных средств социалистического реа-
лизма, обусловленное отношением его представителей к действительности
и использованием всего лучшего, что есть в мировой литературной традиции,
сложность и глубина творческой индивидуальности писателя социалистическо-
го реализма еще недостаточно освещены и осознаны нашей наукой о литерату-
ре. Серьезными недостатками ее являются некоторая примитивность анализа
художественных средств изучаемого писателя или произведения, известная
описательность или декларативность наших работ. Между тем и в мире худо-
жественных средств действуют закономерности, определяемые общими зако-
номерностями мирового литературного процесса. При изучении литературы
современности надо преодолеть отставание в этой области и обратиться к тем
закономерностям, которые присущи форме современных художественных про-
изведений.
Что означают, например, умирание рифмованного стиха в поэзии некоторых
капиталистических стран и все более частая его замена так называемым сво-
бодным стихом, который у современных поэтов зачастую и стихом не является,
в отличие от таких его мастеров, как Уитмен или Сен-Жон Перс {? Что означает
битва за современный роман, идущая под разными названиями во Франции?
И почему вместе с тем так широко и плодотворно развивается эпический жанр
в литературе стран социализма? Мы остро нуждаемся в целой серии работ, ко-
торая была бы посвящена научному и последовательному анализу специфики
стиля и других художественных средств современных больших писателей. Без
этого нам трудно говорить об индивидуальной творческой личности писателя
социалистического реализма и о многих художественных особенностях социа-
листического реализма. Шире надо анализировать другие искусства, в первую
очередь изобразительные, для объяснения художественных особенностей лите-
ратурного произведения. Опыты, блестяще удавшиеся члену-корреспонденту
Д. С. Лихачеву 2, на материале древнерусского искусства и литературы, должны
быть освоены для изучения современной литературы. Только изучив эти про-
блемы, мы сможем нанести поражение неоформализму, оживающему в по-
следние годы не только в США, но и в странах социалистического лагеря,
и даже в самом Советском Союзе.
Борьба за реализм, идущая в наши дни под разными лозунгами в разных
литературах мира,— это тоже закономерность, порожденная Октябрем. По-
1 Псевдоним французского поэта А л е к с и с а Леже (1887—1976).— Ред.
2 С 1970 г.—действительный член АН СССР.— Ред.
244
ставив вопрос о служении искусства народу, Октябрьская революция тем са-
мым обрекла на гибель искусство, от народа далекое, порожденное кризисом
капитализма. В свою очередь, сторонники такого искусства делают все, чтобы
скомпрометировать реалистическое искусство во всех его видах и традициях.
Вполне понятно, что споры о реализме так или иначе используются для нападок
на социалистический реализм. Именно в этих спорах был уже доказан тот факт,
что социалистический реализм — не измышление советских теоретиков,
а органически возникающий в той или иной литературе метод со своими наци-
ональными особенностями. Для того чтобы защитить социалистический реа-
лизм от его противников справа и слева, передовая литературно-критическая
мысль сделала пока немного, а это важнейшая задача, стоящая перед нашей
наукой.
Осознавая мировой литературный опыт в его общем масштабе, опираясь на
опыт советской многонациональной литературы, советские литературоведы идут
к созданию новых трудов, в которых будет показано зарождение, становление
и современное бытие искусства социалистического реализма во всем его богат-
стве и многообразии. Существование социалистического реализма в масштабах
мировой литературы и успехи, завоеванные под его знаменем,— одно из глав-
ных следствий Октябрьской революции в мировой литературе.
Но социалистический реализм развивается в сложных взаимоотношениях
с реализмом критическим, а в определенных условиях —если говорить о стра-
нах капитализма — с модернизмом. Поэтому только в связи со всем комплек-
сом явлений современного литературного процесса можно в полной мере опре-
делить сущность современного социалистического реализма и его значение для
культурного развития человечества. В решении этой сложной задачи особенно
важно дальнейшее изучение взаимосвязи и взаимовлияния социалистического
реализма и реализма критического.
В силу воздействия литературы социалистического реализма и близких
к нему других форм на искусство наших дней, за последнее десятилетие заметно
активизировалась борьба против него, которую ведут защитники антиреа-
листических направлений в литературе и профессиональные представители
буржуазной литературной критики и литературоведения. Их атака на социа-
листический реализм и на современное прогрессивное искусство, на традиции
критического реализма XIX — XX вв. является частью антикоммунистической
кампании, ведущейся в мировых масштабах. Один из важнейших видов этой
атаки — попытка дискредитировать советское искусство и искусство стран со-
циализма, а также передовое искусство в странах капиталистического мира.
Поэтому особое политическое значение приобретает необходимость всесторон-
него изучения этой кампании, необходимость повседневной борьбы против ее
инициаторов.
Литература, идущая вперед под знаменем Октября, литература стран со-
циализма и передовая литература, борющаяся за свои права в капиталисти-
ческих странах,— подлинно новая литература, современная в самом полном
смысле этого слова, пронизанная чувством исторической перспективы, ибо она
служит мировому освободительному движению; представители этой мировой
литературы социализма, связанные со своими читателями теснее, чем когда бы
то ни было раньше, добивались и добиваются значительных успехов в силу
верного решения проблемы новаторства. В борьбе с формалистическим реше-
нием этой проблемы, особенно характерным для эпигонов так называемого
авангардизма и для писателей-модернистов, художники социалистического ре-
ализма видят в своем новаторстве не только искусство, которое правдиво,
в духе конкретного историзма изображает действительность. Они опираются на
245
все лучшее, что есть в национальных и международных традициях мировой ли-
тературы.
Великолепный образец этого новаторства дает не только советская литера-
тура, но и литературы других народов. Так, например, теория и практика нова-
торства социалистического реализма раскрыты в стихах И. Бехера и в его тео-
ретических работах, в поэмах и теоретических высказываниях П. Неруды, Ж.
Амаду, в произведениях Л. Арагона 40—50-х годов. Будучи активными борца-
ми в живой действительности нашего времени и ей посвящая свои произведе-
ния, писатели социалистического реализма — наследники всего лучшего, что
создано человечеством в его многовековом художественном развитии. Их про-
изведения, вдохновляющиеся идеями интернационализма, вместе с тем глубоко
национальны, противостоят как безнациональной, космополитической литера-
туре империалистической реакции, так и тем ее произведениям, которые на-
правлены на разжигание национальной и расовой розни.
Верность прогрессивным национальным традициям, подлинная народность
в освещении общественных процессов современности и глубина проникновения
в психику современника обеспечивают искусству социалистического реализма
подлинно национальное значение. Роман Арагона «Страстная неделя» стал
произведением национальной французской литературы,— он, а не образцы
«нового романа». С полным основанием литература ГДР, в которой успешно
развивается социалистический реализм, определяется учеными этой страны как
социалистическая национальная литература. Общепризнанным классиком
драматургии XX в. является Б. Брехт — один из классиков социалистического
реализма, а не кто-нибудь из представителей зарубежной драматургии наших
дней.
7
Подводя итог, следует подчеркнуть, что ярче всего воздействие Октябрьской
революции на мировую литературу сказалось в самой важной ее проблеме —
в изображении человека.
Передовые писатели XX столетия, и среди них прежде всего писатели соци-
алистического реализма, смогли показать во весь рост своего современника,
человека, борющегося с оружием в руках за свою свободу и свободу других
народов, человека, увлеченного созидательным трудом, человека, воздвигаю-
щего светлое здание нового общества. Этот подлинный герой передовой совре-
менной литературы стал носителем лучших традиций боевого, активного гума-
низма, во многих случаях—воплощением того коммунистического идеала,
о котором говорил Карл Маркс.
От «Человека» А. М. Горького до «Человека» Э. Межелайтиса и дальше,
к будущим новым поэтическим образам человека, лежит путь социалисти-
ческого реализма, единственного метода, который способен дать исчерпывающе
полное, объективное и подлинно художественное изображение человека, живу-
щего в наше суровое и прекрасное время. Героические характеры, созданные
искусством социалистического реализма, противостоят в литературе современ-
ности не только неполноценным и патологическим персонажам модернизма
и глубоко эгоистическому человеку экзистенциалистической литературы, но
и роботам, гангстерам, шпионам и суперменам литературы империалистической
реакции.
Образы подлинных героев нашего времени, созданные искусством социа-
листического реализма, цельнее, глубже, человечнее, чем образы героев крити-
ческого реализма,— людей, измученных поисками правды, мятущихся, углуб-
ленных в свои противоречия. Человек, выпрямленный Октябрем, уверенно гля-
дящий вперед и готовый нести ответственность за будущее,— вот важнейшее
246
эстетическое достижение литературы, вдохновленной идеями Великой Октябрь
ской социалистической революции.
1967
ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВА
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1920—1930-х гг.
1
Подлинное новаторство литературы за рубежом в 20—30-х годах так или
иначе связано с формированием нового этапа в развитии критического реализ-
ма и с возникновением и развитием социалистического реализма. Однако, го-
воря об этой важной проблеме, надо внести ясность в понимание одного весьма
распространенного термина, трактуемого у нас по-разному, а именно термина
«модернизм».
Согласно давно установившейся точке зрения советского литературоведе-
ния, отраженной в ряде работ А. В. Луначарского, В. В. Воровского, М. Горь-
кого и в ряде трудов, появившихся за последнюю четверть века, модернизм —
понятие, охватывающее в целом все безусловно сложное и внешне разнообраз-
ное искусство, порожденное кризисом буржуазной культуры. Напомним, что
в понятие «модернизм» входили и входят также крайние явления реакционной
буржуазной философии и эстетики, как, например, ницшеанство — эта харак-
тернейшая черта многих писателей-модернистов на рубеже XIX — XX вв. Ме-
няются формы модернизма, появляются новые его течения, но он остается по
существу все тем же руслом, по которому движется искусство, отражающее
в наши дни весь аспект кризиса современной буржуазной цивилизации. В него
входят и те различные явления всевозможных искусств, которые у нас называ-
ются абстрактным искусством. В них современный этап кризиса буржуазной
культуры выражен с особой силой, хотя современное буржуазное искусство и не
сводится только к абстракционизму в его различных формах.
Другое понимание термина «модернизм» появилось у некоторых наших
критиков недавно: оно равнозначно пресловутому термину «современное
искусство». Именно современное искусство вообще, включая и Камю, и Хемин-
гуэя, и Ремарка, и Т. С. Элиота, и «битников», и «новый роман», но вместе с тем
и Пруста, и Джойса, и других писателей, деятельность которых начиналась еще
в первые десятилетия XX в. В таком понимании термина «модернизм» стира-
ются грани между писателями критического реализма и их противниками. Это,
на наш взгляд, совершенно ошибочное и одностороннее понимание термина
«модернизм» отчасти идет от механического использования польского и чеш-
ского термина «модерность» и производных от него в польском и чешском язы-
ках, где этот термин означает именно и только «современную литературу»
в самом широком смысле слова. Некоторые польские критики-ревизионисты
тоже придавали этому термину то универсальное значение, которое подводило
под понятие «модернизм» всю современную литературу, за исключением лите-
ратуры социалистического реализма и тех произведений критического реализ-
ма, которые объявлялись устарелыми и консервативными. Такое использование
слова «модернизм» весьма на руку критикам, которые говорят о литературе как
о едином потоке. Согласно такой точке зрения движение вперед в литературе
XX в., ее развитие в целом и в частности, в 20—30-х годах, совершалось
в основном в рамках модернизма. Если же большой художник, нужный сто-
ронникам этой теории для поддержания их концепций, оказывается художни-
247
ком социалистического реализма (как Маяковский), то на свет появляются
различные хитроумные домыслы относительно разлада между чувством и мыс-
лью, фальсификаторские маневры, предназначенные для того, чтобы так или
иначе вписать нужное имя в святцы «модернизма» или «авангардизма», кото-
рые в подобных построениях фигурируют как наиболее острые проявления
«современного», «модерного» искусства.
На самом же деле путь перспективного развития литературы в странах За-
падной Европы после 1917 г.— это творчество плеяды выдающихся художников
критического реализма и реализма социалистического. Их сложная эволюция
совершалась в условиях борьбы с модернистским искусством. Эта борьба была
подчас трудной, особенно для художников критического реализма, так как
многим из них приходилось бороться не только с заведомо известным литера-
турным противником — с мыслителями и писателями, чье творчество было
подчинено реакционным идеям, но и с самими собой. Остановимся в качестве
примера на творчестве Т. Манна.
В конце своего пути этот великий художник создал роман «Доктор Фа-
устус», произведение, в котором с поразительной остротой и глубиной дана
обобщенная картина краха буржуазного мира и его культуры. Ученый педант
Цейтблом оплакивает среди пожарищ и руин разгромленной нацистской импе-
рии судьбу своего друга, гениального композитора Леверкюна, талант которого
погиб, отравленный ядом, наполнявшим буржуазную немецкую цивилизацию,
ядом, который так убийственно действовал и в годы третьего рейха. Особен-
ность романа заключается не только в том, что в нем показана закономерность
гибели таланта Леверкюна и третьего рейха, а еще и в том, что процесс гибели
буржуазной культуры для Манна в начале 40-х годов, когда писался этот ро-
ман, уже не означал гибели культуры вообще. Крах нацистского рейха, кризис
буржуазной культуры Т. Манн увидел в определенной исторической перспек-
тиве. Он уже понимал закономерность существования социалистического
общества в СССР, он уже видел, хотя и не сочувствовал этому, неизбежность
дальнейших успехов социализма в XX столетии.
А ведь это был тот самый Томас Манн, который еще в 20-х годах и опро-
вергал Шпенглера с его псевдофилософией истории (реакционность концепции
Шпенглера была уже ясна Т. Манну), и восхищался Ницше, и увлекался
Фрейдом. В учениях последних он еще не замечал той реакционности, которая
уже отталкивала его от Шпенглера. Понадобилось много лет, чтобы Т. Манн
изменил свое отношение к Ницше. Известно, что многое в Леверкюне взято
буквально из биографии Ницше. И вполне понятно, что Леверкюн — класси-
ческий образ художника-модерниста — сторонник пресловутого Шенберга, со-
здателя как раз той додекафонической атональной системы в музыке, которая
прошумела в буржуазной критике как самая «авангардистская», как начало
абстрактной музыки. Так называли музыку Шенберга за десятилетие до того,
как начались наши споры об абстракционизме.
Да, роман «Доктор Фаустус» — одна из вершин критического реализма
XX в. Но и в нем заметны сложные переплетения реалистических и модернист-
ских тенденций, от которых Т. Манн так и не смог освободиться окончательно.
И скажем, то обстоятельство, что даже в его последних выступлениях, по-
священных Шиллеру и Гете, мелькают наивные фрейдистские, модернистские
по существу суждения о природе художественного творчества, только доказы-
вает, как сложен и труден был путь этого писателя, всегда защищавшего разум
от иррационализма и все же иной раз сдававшего свои позиции. Т. Манн велик
там, где видна его победа над модернистскими концепциями: по существу весь
его роман является опровержением этих концепций. Там, где он не смог с ними
справиться, обнаруживается уязвимость и неубедительность его рассуждений
и соображений.
248
Пример романа «Доктор Фаустус» учит нас и другому. Он свидетельствует
о колоссальном, нередко определяющем значении и воздействии социалисти-
ческих идей на современную литературу даже в том случае, если тот или иной
художник оказывается весьма далек от сочувствия идеям социализма, как это
было с Т. Манном. Поклонник и рыцарь немецкой классической культуры, ко-
торую он отождествлял с «бюргерской культурой», приписывая бюргерству то,
что создавалось под сложным и опосредованным воздействием народа, Т. Манн
говорил в своих статьях и беседах о социалистическом будущем человечества
как о перспективе для него непривлекательной, но несомненной. Он высказывал
верное предположение относительно того, что культура социализма включит
в себя и те культурные ценности, которые были созданы старым миром и им же
на глазах у Т. Манна попранные. Т. Манн покинул США после того, как убе-
дился, что американские империалисты готовят новую войну — войну против
мира социалистического. Каковы бы ни были его представления о социализме,
только ими обусловливается то обстоятельство, что его роман о крахе третьего
рейха и о смерти немецкой буржуазной культуры полон мужественного опти-
мизма и надежды на будущее немецкого народа. Именно представления о за-
кономерности победы социализма помогли художнику понять, что изображае-
мый им крах немецкой бюргерской культуры был не концом всей человеческой
культуры, а одним из эпизодов гибели культуры буржуазной.
Приведенный пример может быть без труда обогащен различными анало-
гиями. Самое существование социалистического мира, а с ним, конечно,
и огромная творческая работа большой армии писателей, строивших и защи-
щавших его, оказывали и оказывают сильнейшее воздействие на развитие кри-
тического реализма в XX в. В наши дни это воздействие во много раз усилилось
по сравнению с серединой столетия, когда все в большей мере его испытывал на
себе Т. Манн. Выше говорилось, что Т. Манн не был сторонником социалисти-
ческого общества и до последних дней своей жизни охотно верил иллюзиям
прочности и жизнеустойчивости мира капиталистического, что сказалось, на-
пример, в его почтительнейшем отношении к «новому курсу» Рузвельта, да
и вообще в культе Рузвельта. И тем не менее этот художник был способен уви-
деть и по-своему отобразить великую историческую правду жизни, хотя бы
в тех масштабах, которые он выбрал для своего романа.
В 20—40-х годах XX в. еще появлялись великие творения литературы кри-
тического реализма. В его русле развивались такие художники, как Т. Манн, Г.
Манн, Хемингуэй, Стейнбек, Мартен дю Гар, А. Цвейг, Садовяну. tHo уже в
50-х годах положение изменилось. Старшее поколение мастеров критического
реализма, созревшее после первой мировой войны, исчерпывается. А реализм Г.
Грина, Ч. Сноу, Г. Бёлля, В. Кёппена или школы французских и американских
социальных романистов наших дней пока не достиг такого уровня, на котором
стояло искусство писателей старшего поколения. В послевоенной западноевро-
пейской и американской литературах модернистские концепции сильнейшим
образом влияют на писателей критического реализма, переплетаются с реа-
листической основой их творчества еще сложнее, чем это было раньше.
2
Но вернемся к значению социалистического движения и социалистической
идеологии для развития магистральных явлений европейской литературы XX в.
Воздействие указанных выше факторов сказалось особенно на творчестве
Т. Манна, Э. Хемингуэя, Р. Мартен дю Гара. Тем яснее видно значение социа-
листического движения в творчестве художников, связавших свою судьбу
с рабочим классом — художников, сознательно борющихся за торжество того
гуманизма, который, по словам Горького, является «подлинно общечелове-
ческим», так как его цель —«полное освобождение трудового народа всех рас
и наций из железных лап капитала».
Горький уже в начале 30-х годов говорил, что принятие этого подлинно
общечеловеческого гуманизма необыкновенно обогащает эстетику художника,
вставшего под его знамена, раскрывает перед писателем поистине новые гори-
зонты. Примером плодотворного новаторства, выражающего переход от кри-
тического реализма к реализму социалистическому, уже тогда, в 30-х годах,
было творчество Р. Роллана.
Социалистический реализм стал ведущим творческим методом молодой со-
ветской литературы 20-х годов. Именно тогда советские писатели создали ряд
книг, оказавших глубочайшее воздействие и на читательские массы, и на писа-
тельские круги за рубежом. Рубеж 10—20-х годов был эпохой зарождения со-
циалистического реализма в литературах буржуазного мира. Генезис социа-
листического реализма в различных странах был неодинаков, но в целом это
новое направление литературы XX в. именно в 20-х годах приобретает огромное
значение для всего литературного процесса. Такие произведения, как «Огонь»
Барбюса, романы Нексе, «Десять дней, которые потрясли мир» Дж. Рида,
и имели новаторское значение в пределах данной национальной литературы,
и были событиями международного масштаба. Ярким выражением мирового
значения искусства социалистического реализма и доказательством его под-
линного новаторства было влияние поэзии Маяковского на мировую поэзию
20-х годов в целом — на поэтов славянских стран, на революционных поэтов
Германии, Франции, стран Латинской Америки. Чем глубже мы изучаем лите-
ратурный процесс 20-х годов, тем больше выявляется международное воздей-
ствие поэзии Маяковского. Очевидно, в ней убедительно выразилось то новое,
что рождалось в нашей стране и что придавало новаторству Маяковского
такую силу.
В 30-е годы, в годы борьбы против фашизма, литература социалистического
реализма стала явлением мирового порядка.
В эти же годы наметилось и укрепилось сотрудничество писателей социа-
листического реализма и реализма критического, которое было возможно не
только в силу их общей ненависти к нацизму, но и в силу их общего неприятия
литературы, враждебной реализму. И разумеется, не может быть случайным
тот факт, что лидеры модернизма 20—30-х годов — Поль Валери, Т. С. Элиот,
А. Жид — не оказались в рядах борцов против фашизма. И в эти годы они
проповедовали принципы искусства, стоящего над жизнью, или готовили свой
переход к фашизму, как это было с Э. Паундом, соратником Т. С. Элиота по
имажинизму (одной из авангардистских групп 10—20-х годов).
Социалистический реализм развивался в прямой борьбе против модернизма,
борьбе острой, принципиальной. Достаточно вникнуть в труды выдающихся
теоретиков социалистического реализма на Западе, вышедшие в 30-х годах или
написанные в это время (книги Грамши, Фокса, Барбюса, статьи Бехера), что-
бы убедиться воочию, насколько эта борьба против модернизма во всех его об-
личьях была необходима для успешного развития литературы социалисти-
ческого реализма. Освобождая от напластований академизма, эстетского ди-
летантства и буржуазной фальсификации наследие своих литератур, зачинате-
ли социалистического реализма в литературах буржуазного мира указывали на
теснейшую связь новаторства социалистического реализма с лучшими нацио-
нальными традициями классического искусства. Р. Фокс свою теорию романа
социалистического реализма («Роман и народ») строил на основе анализа
развития романа во всей английской литературе XIX и XX вв. Он указывал на
беспочвенность и бесплодность псевдоноваторства модернистов. Вооруженные
марксистским методом, обогащенные опытом советской литературы, вдохнов-
ляемые статьями Горького и Луначарского, которые в те годы много и остро
писали о литературном движении в буржуазных странах, писатели социа-
250
листического реализма на Западе и своим творчеством, и своей критической
деятельностью прокладывали новые пути для литературного развития своих
народов.
Итак, магистральные пути развития литературы в зарубежных странах
20-х годов XX в., пути плодотворного новаторства были путями, отчетливо свя-
занными с развитием и взаимовлиянием реалистических направлений.
Модернистская литература, как и аналогичные явления в буржуазной ли-
тературной критике того времени в целом, мешала развитию реалистических
направлений в мировой литературе, хотя и находилась в различном соотноше-
нии с литературой критического реализма и литературой социалистического
реализма. Литература социалистического реализма решительно противостояла
литературе модернизма. Критики-марксисты уже в 20-х годах, продолжая тра-
дицию более ранней марксистской мысли, вели принципиальную борьбу против
литературы упадка. Творчество писателей критического реализма, как было
показано на примере Т. Манна, находилось в гораздо более сложном соотно-
шении с литературой модернизма. Многие модернистские тенденции и комп-
лексы переплетались с определенными сторонами эстетики критического реа-
лизма XX в., влияли на нее, как влияют и сейчас. Уже это сложное соотношение
критического реализма и модернизма говорит о том, что и сам модернизм —
явление противоречивое, сложное, не терпящее поверхностного и догмати-
ческого подхода, нуждающееся в конкретно-историческом изучении.
Наряду с крайне реакционными, антигуманистическими и антихудожест-
венными течениями в литературе, порождаемыми буржуазным обществом
в эпоху империализма, есть в ней и явления остропротиворечивые. У писателей-
модернистов есть произведения, которые в силу большого таланта их авторов
оказывают значительное и длительное воздействие на читателя, приковывают
к себе внимание исследователей своим содержанием и мастерством выполнения.
К числу подобных явлений относится творчество писателей, художников
и поэтов, ощущающих и отражающих кризис буржуазного общества в самом
широком смысле этого слова, начиная от обесчеловеченной буржуазной циви-
лизации в целом и кончая трагедией художника в буржуазном обществе, тра-
гедией искусства. Наличие этой трагической стороны в искусстве было отмечено
еще Горьким в статье «Поль Верлен и декаденты». С тех пор трагическая ли-
ния, тесно связанная с острым критическим изображением буржуазной дей-
ствительности, много раз проступала в искусстве некоторых модернистов с си-
лой даже большей, чем в годы, когда писал свою статью молодой Горький.
Мы не можем и не собираемся пренебрегать тем критическим содержанием,
теми свидетельствами о характере катастрофы буржуазной культуры, которые
есть в творчестве М. Пруста, Д. Джойса, Ф. Кафки. Нужно отметить и то об-
стоятельство, что творчество этих трех писателей различно соотносится с кри-
тическим реализмом. Сила Пруста в развернутом, тончайшем психологическом
анализе, в необыкновенно детальном изображении общества, находящегося
в состоянии распада и застоя. Сила Джойса и Кафки — в гротескных, остро-
субъективных карикатурах на это общество, карикатурах нелепых, ирреальных,
но впечатляющих. И хотя время широкой известности Кафки настало только
в 40-х годах, он, как и Джойс, и Пруст, был порождением того этапа кризиса
буржуазной культуры, который начался в ходе первой мировой войны.
Однако, признавая талант этих писателей и ценность некоторых их произ-
ведений, мы не должны замалчивать все то, в чем они глубоко чужды нам —
идеалистическую сущность их эстетики, болезненность и общую бесперспек-
тивность их творчества. Между тем не только в определенных кругах зарубеж-
ной, но и в советской критике с некоторых пор наметилась такая точка зрения,
согласно которой острая критика талантливого художника, чуждого нам по
духу своего творчества, рассматривается как нигилистическое посягательство
на его достоинство, как выражение догматизма и узости взглядов. Нет ничего
251
более неправильного и вредного. В целом за таким подходом к творчеству пи-
сателей, так или иначе открывающих путь воздействию модернистской эстети-
ки, просматривается определенная позиция некоторых критиков, позиция бла-
годушного либерализма и объективизма.
Нельзя оставаться на этой позиции при оценке талантливых, но чуждых нам
художников. Признавая их достоинства, надо раскрывать и объяснять общую
трагическую противоречивость творчества, подчиненность их произведений
идейно-эстетическим комплексам модернизма. Я хочу напомнить, как тонко
и вместе с тем бескомпромиссно писал о Прусте и Джойсе безвременно погиб-
ший Ральф Фокс: «...ни хорошие описания, ни острый анализ не могут сделать
эти персонажи объемными характерами, типами. Да и сам Блум — разве это
портрет человека?» По словам Фокса, Блум «скорее сфотографирован, нежели
воссоздан творчески. Блум — не обобщение, не тип» . Убедительно критикуя
Джойса, Фокс далее указывает на прямую связь между навязчивой натура-
листической манерой изображения человека у Джойса (в понимании Фокса
неполноценной, нехудожественной) и учением Фрейда. «Мне кажется,— про-
должал Фокс,— Пруст вряд ли может похвастать большим успехом, чем
Джойс. Правда, людей он понимал лучше, но эти его уставшие от жизни при-
зраки, слоняющиеся по салонам Парижа,— опять-таки только тени». Прусту,
утверждает Фокс, «недостает глубины и силы проникновения в жизнь, необхо-
димых для того, чтобы заставить своих персонажей жить совершенно самосто-
ятельной жизнью» 2. Конечно, под «самостоятельной жизнью» Фокс подразу-
мевает то поразительное объективное качество персонажей литературы крити-
ческого реализма, персонажей Пушкина и Толстого, которое заключалось
в саморазвитии образа, в том, что свойства его были обобщены настолько
правдиво, что они «подсказывали» писателю единственно верную возможность
их развития (вспомним известное шутливое замечание Пушкина о том, как
«неожиданно» вышла замуж его Татьяна).
И творчеству Кафки свойственны те же (а к этому прибавились еще и ин-
дивидуальные качества, вызванные субъективными причинами, душевной бо-
лезнью писателя), так сказать, видовые особенности изображения человека.
И его персонажи —«тени», действующие в страшном и уродливом сне, каким
Кафке представлялась жизнь. Кафка, как и Джойс, и Пруст, но на свой манер,
охотно заменяет правду искусства натуралистичностью описаний. Чего стоит,
например, такая деталь из его рассказа «Превращение»: жалкий, загнанный
коммивояжер Замза, превратившийся в гигантское насекомое, ощущает особое
удовольствие, когда он, ползая по стенам своей комнаты, может добраться до
портрета своей невесты, висящего на стене; стекло портрета приятно холодит
его брюшко, незащищенное чешуей. Как вчувствовался Кафка в своего Замзу,
ставшего исполинским тараканом! — воскликнут поклонники Кафки. Но не
рождает ли эта деталь чувство гадливости и не символично ли вообще превра-
щение человека в насекомое для эстетики модернизма и для Кафки в частности,
о «гуманизме» которого любят рассуждать некоторые советские и зарубежные
критики?
Глубокую и принципиальную критику Кафки мы находим в появившихся
в ГДР исследованиях Г. Рихтера 3 и К. Хермсдорфа 4, достойно противостоя-
щих различным апологетическим и восхищенным отзывам о нем. Следует со-
гласиться с выводом Хермсдорфа, заключающим его объективную и острую
книгу: «Роман Кафки — это роман декадентский; один из его самых смелых,
радикальных, честных и один из самых пессимистических его образцов». Очень
верно подметил Хермсдорф и органическую близость кафкианства к экзистен-
1 Фокс Р. Роман и народ. М., 1960. С. 157.
2 Там же. С. 158.
3 См.: Richter H. Franz Kafka. Rütten a Loening. Berlin, 1961.
4 См.: Hermsdorf K. Kafka Rütten a Loening. Berlin, 1961.
252
циализму. Он показал, что культ Кафки, созданный во Франции после второй
мировой войны, был в значительной степени делом экзистенциалистов, нашед-
ших в мире Кафки нечто глубоко родственное себе. Так от модернистского пи-
сателя 20-х годов протянулась линия, ведущая непосредственно к модернизму
середины столетия наших дней. Впрочем, следует добавить, что вообще эк-
зистенциализм в своем наиболее реакционном, религиозном варианте начал
свою историю не во Франции. Его основоположник — немецкий реакционный
философ Ясперс, сочетавший свой экзистенциализм с подчинением нацизму.
Хермсдорфу принадлежит верное замечание о причинах популярности Кафки
в кругах авангардизма. «Хотел того Кафка или нет, но он стал участником ли-
тературного движения, характер которого виден уже по издательствам, которые
заинтересовались творчеством Кафки: это именно те издательства, вокруг ко-
торых в эпоху первой мировой войны группировалась экспериментальная
авангардистская литература».
Да, в творчестве и Пруста, и Джойса, и Кафки можно найти немало худо-
жественных средств, присущих только им и до них в этой форме неизвестных.
Но эти специфические особенности их творчества не объединились в цельную
новую систему. Они не имели единой эстетической и мировоззренческой основы,
без которой нет и подлинного новаторства. Не все поиски нового, как бы они ни
были иногда эффектны, увенчиваются нахождением этого нового, открытием
подлинной эстетической истины.
Конечная бесплодность, общая неполноценность искусства даже талантли-
вых модернистов сказалась в наше время и в том, что никто из них не стал ро-
доначальником нового направления в развивающемся искусстве современности,
хотя каждый из них оказал то или иное воздействие на литературу середины
XX в. Так, например, во Франции представители «нового романа» прямо заявля-
ли о том, что они — ученики Пруста и Джойса. Но характерным образом «новый
роман», едва утвердившись как некое ведущее направление во французском
буржуазном искусстве наших дней, сам оказался вчерашним днем, и его закат
признан теми же критиками, которые год назад заявляли о его расцвете. Что же
касается Кафки, то в русле его темного и болезненного письма идут наиболее
болезненные явления в прозе ФРГ, где наряду с наглой литературой реван-
шизма процветает и роман в духе Кафки. Его авторы предпочитают изнывать
в сложнейших патологических комплексах, чем бороться против наступающего
неонацизма. В этом западногерманском узле, в который намертво связаны
и поджигатели третьей мировой войны, и хныкающие, но покорные им кафки-
анские сомнамбулы и фаталисты, обнажаются с необыкновенной выразитель-
ностью сложные связи весьма различных течений современной буржуазной ли-
тературы. В ней прихотливо соединяется варварская грубость и фрейдистская
претензия на утонченный психологизм. И можно ли при этом пройти мимо тех
случаев, когда западногерманские писатели — представители критического
реализма,— выступая против неофашизма в ФРГ, выступают одновременно
и против кафкианских сомнамбул? Эта двусторонняя тенденция обнаружива-
ется в романе К. Гейслера «Запрос». Его герой, втягиваясь в борьбу против
нацистских преступников, освобождается от томительных кафкианских пере-
живаний, становится подлинным человеком. В романе почти с пародийной
остротой передан словарь современных западногерманских кафкианцев. Герой,
так сказать, учится по-человечески чувствовать и по-человечески говорить.
Конечно, опыт Джойса не прошел даром для Хемингуэя, для Фолкнера, для
такого талантливого художника-реалиста из ФРГ, как Вольфганг Кёппен. Но
в Джойсе этих художников, как и многих других, привлекала не общая модер-
нистская концепция «Улисса», а только такая характерная именно в этом ро-
мане частность, как «поток сознания»— манера изображать мысли действую-
щего лица не в виде самого главного их содержания в данный момент, а в виде
потока ассоциаций. У Хемингуэя и Кёппена, например, ассоциативность не иг-
253
рает той особой стилистической роли, какую она выполняет у Джойса, а текст
не напоминает магнитофонную запись мыслительного процесса (именно так
выглядят целые главы в романе «Улисс»). Даже считаясь с теми или иными
достоинствами писателя-модерниста, художники-реалисты брали у него только
частности, пусть и важные, и видоизменяли их принципиально, подчиняя зада-
чам своей реалистической, хотя и противоречивой эстетики. Разумеется, это
бывает чаще результатом неосознанного творческого процесса, а не сознатель-
ной позицией, занятой в отношении Джойса или Пруста.
У Фолкнера зависимость от Джойса чувствуется гораздо сильнее, чем
в творчестве многих других писателей. Но в этой зависимости выражается одна
из тех сторон творчества Фолкнера, которая свидетельствует о его связи с мо-
дернистской концепцией человека, действительности, искусства.
Нет, не Пруст, Джойс или Кафка (эти, безусловно, талантливые и сложные
художники, достойные внимания и принципиальной, глубокой аналитической
критики) составляли новаторскую линию западного искусства 20—30-х годов,
хотя их творчество и связано очень противоречивым образом с развитием кри-
тического реализма в эти годы. Связь эта, однако, более важна для Кафки,
Джойса и Пруста, чем для судеб критического реализма. Об этих писателях
стоит прежде всего говорить в той степени, в какой их творчество откликнулось
на процессы, получившие более глубокое и полное изображение в литературе
критического реализма, а тем более реализма социалистического. Эти писате-
ли — не передовой'отряд новаторов, за который хочет их выдать ревизионист-
ская критика. Их путь — это тупик, который особенно ясно виден в последнем
произведении Джойса «Поминки по Финнегану» (1939). Этот роман настолько
субъективен и так трудно поддается объяснению, что и сам Джойс считал его
произведением, понятным только одному автору. Это была не кокетливая поза
мэтра, а жест отчаяния, острейшее выражение беспросветного одиночества
и пессимизма позднего Джойса.
3
Говоря о новаторстве литературы 20—30-х годов, нередко связывают его
с так называемыми авангардистскими течениями. Под очень условным терми-
ном «авангардизм» объединялись такие различные течения, как футуризм, ку-
бофутуризм, кубизм, дадаизм, имажизм, экспрессионизм, сюрреализм и неко-
торые сходные явления. Очевидно, общим для всех этих весьма различных яв-
лений была их претензия на то, чтобы называться искусством будущего, искус-
ством бунтарским, резко заявлять о своем конфликте с буржуазной действи-
тельностью. Это случалось в практике тех авангардистов, которые говорили
о своей политической «левизне». В 20—30-х годах футуризм и кубофутуризм
уже ушли в прошлое. Но литературное влияние экспрессионизма было еще
очень велико, фактически продолжалась история первого поколения экспрес-
сионистов, а сюрреализм переживал эпоху своего наибольшего расцвета, бу-
дучи представлен не только во французской литературе, где он возник, но и
в других литературах, в частности в литературе Чехословакии.
За последние годы в критике не раз делались попытки изобразить немецкий
экспрессионизм и французский сюрреализм как явления в целом новаторские
и оказавшиеся якобы необходимым этапом в развитии революционной литера-
туры. В свете этих концепций и экспрессионизм, в его так называемом левом
течении, и сюрреализм выглядели как эстетические системы, закономерно
предшествовавшие социалистическому реализму, как стадии в развитии наци-
ональной литературы, якобы подготовлявшие рождение социалистического ре-
ализма. Эта концепция сложилась под воздействием того факта, что некоторые
французские и немецкие писатели, ставшие затем выдающимися мастерами
социалистического реализма (Бехер в Германии, Арагон и Элюар во Франции),
254
прошли на определенных стадиях своего развития через экспрессионистские
и сюрреалистские литературные кружки. Надо добавить, что и Бехер, и Арагон
оценивали свой отход от авангардизма как движение вперед, как признак
творческого возмужания. Особенно ярко сказал об этом Арагон, который на-
звал свое расставание с сюрреализмом «уходом с пиратского корабля сюрреа-
листов». Подобные самооценки дают больше оснований говорить о том, что
и Бехер, и Арагон преодолели увлечение авангардистской эстетикой и не нахо-
дились в некоей благотворной школе авангардизма. Подлинными поэтами-нова-
торами и Бехер, и Арагон были не тогда, когда разрушали — каждый на свой
лад — традиционное французское и немецкое стихосложение и не тогда, когда
Бехер взамен литературного немецкого языка выдумывал новый язык, а в годы,
когда они создали благородную, общепонятную вечную поэзию периода не-
мецкого и французского Сопротивления. Творческая зрелость Арагона нача-
лась именно с середины 30-х годов, когда он отошел от сюрреализма, и просту-
пала тем явственнее, чем принципиальнее и глубже становилась народность его
искусства.
Однако вопреки всем этим фактам даже у некоторых советских критиков
есть тенденция к идеализации авангардистских движений в 20-х годах. Для
того чтобы найти ключ к решению этого сложного узла проблем, к нему надо
подойти с конкретно-историческими критериями.
В работах А. В. Луначарского мы найдем суждения о всех названных выше
течениях, начиная от футуризма, подвергнутого острой критике в статьях, от-
носящихся еще к 1912 г., и кончая сюрреализмом. С присущей ему широтой
литературного кругозора А. В. Луначарский анализировал авангардистские
явления в западноевропейской литературе в целом и указывал как на их зако-
номерность, так и на их существенные различия, различную сущность и раз-
личную роль. Именно А. В. Луначарский указал на течения в немецком
экспрессионизме — правое, реакционное и левое, дышавшее бурным остросо-
циальным протестом, в рядах которого был и молодой Бехер, и некоторые дру-
гие революционные писатели Германии. И тот же Луначарский обращал вни-
мание читателей на то, что французскому сюрреализму первой половины
20-х годов был чужд пафос социальной критики, присущий левым экспрессио-
нистам, чуждо стремление стать искусством взбунтовавшихся масс.
Искусству писателей левого экспрессионизма и в слове, и в живописи было
присуще новаторство. Рисунки выдающегося художника-экспрессиониста Ге-
орга Гросса, живописующего чудовищный облик капиталистической Германии,
запечатлевшего расправу правящих классов с революционным народом, оста-
ются выдающимся явлением искусства XX в. Гросс создал незабываемую серию
карикатур под общим названием «Облик правящего класса». Она и сейчас вы-
зывает волнение, столько в ней подлинной жизненной правды, столько гнева
и омерзения. Кажется, что эти рисунки сделаны не в Германии 1918—1920 гг.,
а в нацистской Германии. Проявляя поразительную изобретательность
и огромное знание жизни в изображении бюргерства, военщины, буржуазной
интеллигенции, социал-демократических бонз, Гросс противопоставил этому
кошмарному миру уродов, достойному сравнения с офортами Гойи, мужест-
венные и трагические образы народа, борющегося за будущее Германии. Гра-
фика Гросса — ярчайшее проявление того нового, сильного и своеобразного,
что было в изобразительном искусстве левого экспрессионизма. Но характерно,
что именно Гросс был далек от тех разрушительных, подчеркнуто «авангар-
дистских» устремлений экспрессионистского искусства, которые выражены
в творчестве некоторых экспрессионистов, например В. Кандинского, где ре-
альный мир рассыпается в субъективных конструкциях, или в портретах
О. Кокошки. Следуя одному из принципов экспрессионистского рисунка, Ко-
кошка прежде всего искал форму черепа своей натуры — и вот сквозь лес не-
уверенных штрихов, в которых надо угадывать щеки, брови, в его портретах
255
властно и безобразно проступает прежде всего «конструкция»— очертание че-
репа, а не живое лицо.
Подобно гневной и сатирической графике Гросса, лирика левых экспресси-
онистов создала немало значительных произведений, осуждавших империа-
листическую войну, призывавших к восстанию против германского милитариз-
ма. Хотя лирике левых экспрессионистов была свойственна условность, она —
яркое выражение и силы, и слабостей тех кругов немецкой интеллигенции, ко-
торая искренне ненавидела милитаризм и империалистическую реакцию во всех
ее проявлениях. Конечно, плеяда поэтов социалистического реализма, которая
выросла с тех пор в немецкой литературе — Вайнерт, Бехер, Куба и многие
другие,— давно увела немецкую лирику на другие и более плодотворные пути,
чем те, которыми шли левые экспрессионисты. Но и левый экспрессионизм
в Германии сыграл свою роль в истории революционной немецкой поэзии XX
столетия.
При всем том левый экспрессионизм был далеко не единственным путем
развития революционной немецкой литературы 20-х годов. Вне его влияния
развивались могучие таланты Эриха Вайнерта, замечательного народного поэ-
та XX в., Бертольта Брехта, выдающегося немецкого драматурга. Оценивая
роль левого экспрессионизма по заслугам, нельзя закрывать глаза на его абст-
рактность, на односторонность и условность его образов, на искусственность
поэтического языка. Ведь и Бехер стал великим немецким поэтом не в те годы,
когда он увлекался экспрессионистскими экспериментами, а позже, когда при-
шел к зрелому и действительно неисчерпаемо богатому в новаторстве искусству
социалистического реализма.
Сказали «свое слово» и правые экспрессионисты. Из их рядов вышли поэты
воинствующего индивидуализма, со временем превратившиеся в официальных
бардов третьего рейха: таков закономерный путь восхвалителей «личной сво-
боды» и певцов «сильной личности» в XX в.
Был и другой аспект экспрессионизма, далекий от передовых эстетических
исканий левого экспрессионизма. Выше упоминалось о верном наблюдении не-
мецкого литературоведа Хермсдорфа, отнесшего Кафку к авангардистам. Да,
именно Кафка и был одним из выразителей упадочной, болезненной сущности
тех течений экспрессионизма, которые были далеки от бунтарского искусства
левого экспрессионизма, хотя и в них звучало бессильное жалобное осуждение
буржуазного общества. Герой Кафки — жертва этого общества, но жертва
покорная, принимающая свою жалкую участь как должное.
После второй мировой войны тенденции правого экспрессионизма с необы-
чайной силой проникли в поэзию Западной Германии, породили целое поколе-
ние поэтов, занятых бесплодными и антипоэтичными экспериментами, объеди-
ненных глубочайшим пессимизмом и трагической резиньяцией. Такой, напри-
мер, выглядит молодая лирика в антологии, изданной известным критиком В.
Вейраухом '. Приведем некоторые образцы современной западногерманской
лирической поэзии, почерпнутые из антологии В. Вейрауха. Вот, например,
стихотворение Хельмута Хайсенбюттеля «Тавтологизмы»:
Та тень, что я бросаю, есть тень, что я бросаю,
и то место, что я занял, есть место, что я занял
то место, что я занял — это и да, и нет,
ситуация моя — ситуация моя, это частная ситуация.
Группы групп движутся по пустым плоскостям
группы групп движутся сквозь чистые краски
группы групп движутся сквозь некое нечто
тень, что я бросаю — это тень там и сям.
Группы групп движутся сквозь тень,
что я бросаю, чтоб исчезнуть.
1 См.: Weyrauch W. Expeditionen. Deutsche Lyrik Zeit 1945. Paul List Verlag.
256
А вот стихотворение Эриха Фрида «Сон и Смерть» ':
Сон.
Сон в ночь.
Сон в ночь, где смерть.
Сон в ночь, где мира смерть,
мира страшащихся сна.
Страх,
страх, перед сном,
мира страх пред сном,
мира страх пред сном, где смерть.
Пред сном о смерти ночной.
Наличие таких активных экспрессионистских тенденций в поэзии свиде-
тельствует о том, что корни экспрессионизма до сих пор очень глубоки.
Уже упомянутое выше кафкианское течение в послевоенном западногер-
манском романе — тоже выражение рецидива экспрессионистских тенденций
в литературе Западной Германии — говорит об устойчивости определенных те-
чений правого экспрессионизма.
Если в искусстве экспрессионизма выделилась и развилась линия так назы-
ваемого левого экспрессионизма, очень скоро оказавшаяся в остром конфликте
с экспрессионизмом правым, то иначе обстояло дело с сюрреализмом.
Сюрреализм как течение стал оформляться в конце первой мировой войны,
после того как литературная критика подхватила эпитет «сюрреалистский»,
пущенный в ход известным французским поэтом Г. Аполлинером применитель-
но к своей пьесе «Груди Тирезия». Это было одно из последних и особенно
спорных произведений талантливого поэта. Через год (в 1918 г.) Аполлинер
умер. Имя его связано более с кубистами, чем с сюрреалистами, которые про-
извольно унаследовали его славу и изобразили себя его адептами и истолкова-
телями без особого к тому основания. Это был большой поэт, неустанно экспе-
риментировавший в области стиха и близкий по своим экспериментам к опытам
молодого Пикассо. Аполлинер, как и Пикассо, блестяще владел традиционными
средствами своего искусства, в данном случае, традиционным французским
стихом, и вместе с тем искал новых его форм, новых словесных средств. Не все
в наследии Аполлинера полноценно. Оно окружено той дымкой благоговения
и той дозой рекламы, которые еще мешают найти меру для его верного пони-
мания. Смерть застала Аполлинера на некоей переходной стадии развития —
он искал новые драматические формы и эти поиски не были плодотворными
(что видно, в частности, в пьесе «Груди Тирезия»). Но срывы и неудачи по-
зднего Аполлинера, уводившие поэта все дальше по пути формализма, не могут
заслонить того, что было им сделано для обогащения французской поэзии XX в.
Аполлинер — одна из самых противоречивых личностей французской поэзии
нашего столетия, хотя и связанный с кубизмом и сюрреализмом, но и выходя-
щий за пределы этих камерных течений французского искусства. Грозные кон-
фликты XX в. волновали и тревожили Аполлинера. Участник войны, он создал
ряд стихотворений о ней. Но в то же время Аполлинер увлекался эксперимен-
тами, аналогичными самой бесплодной зауми русских кубофутуристов. Напри-
мер, стихотворение «К Линде» 2 состоит из трех колонок слов. В первой из них
читаем:
«Линда — Ильнда, Нильда — Индла, Индаль — Льнида — Льндиа —
Льндаи — Линда — Лидан». Во второй и третьей колонках содержатся даль-
нейшие возможные варианты сочетания тех же пяти звуков имени «Линда».
Наличие ряда таких опытов, а также целого цикла рисунков-стихов, т. е.
рисунков, штрихи которых состоят из различно расположенных стихотворных
1 Характерно почти буквальное совпадение с названием стихотворения известного немецкого
модерниста Ст. Георге «Traum und Tod».
2 См.: Apollinaire G. Oeuvres poétiques. Paris, 1956. P. 665.
9 P. M. Самарин
257
строк, конечно, обнаруживают органическую связь этого талантливого поэта
с проявлениями формализма во французской поэзии 10-х годов. Мы останав-
ливаемся на этих сторонах поэзии Аполлинера для того, чтобы напомнить, что
сюрреализм, объявляя себя душеприказчиком и наследником Аполлинера,
опирался как раз на эти самые слабые, самые преходящие стороны его твор-
чества. Заметим, между прочим, что так же поступал сюрреализм и с поэзией
Рембо, используя преимущественно декадентский комплекс творчества Рембо,
а не сильные его стороны.
Итак, сюрреализм в глазах его представителей был наследником Рембо
и Аполлинера, а вернее, наследником наиболее уязвимых, наиболее антипоэти-
ческих сторон их творчества. В отличие от экспрессионизма, во французском
сюрреализме, который, конечно, тоже не был монолитен, в первой половине
20-х годов не было ясно выраженного левого течения. «Манифест сюрреализ-
ма», появившийся в 1924 г., заявлял об определенном единстве этой группы. Но
во второй половине 20-х годов наиболее талантливые художники слова,
и прежде всего Элюар и Арагон, все дальше отходят от эстетики сюрреализма,
сначала провозгласив лозунг «сюрреализма, служащего революции», «сюрре-
алистской революции». Намечался выход из сюрреализма тех, кому стало
душно и тесно в его рамках. Но это уже история не сюрреализма, а творческого
развития Элюара и Арагона. Эти две плоскости истории французской литера-
туры не только не совпадают, но все дальше расходятся с того момента, когда
Арагон и Элюар начинают искать выход из сюрреалистских тупиков и находят
его. Сюрреализм фактически задержал развитие таланта обоих художников.
Изучая лучшие произведения Арагона, ставшие ныне классикой, чаще видишь
связи, соединяющие поэта и прозаика Арагона с классической традицией
французской литературы, чем с сюрреализмом. Новаторство Арагона коренится
во всем богатстве национальной французской литературы, освоенном и разви-
том в аспекте мировоззрения художника-коммуниста.
В 1934 г. сюрреалист Ж. Юнье, поэт и критик, издавая «Малую антологию
сюрреализма» ', в предисловии к этому изданию подвел некоторые итоги более
чем десятилетней истории этого движения. Воспринимая и в середине 30-х го-
дов сюрреализм как движение единое, Юнье все чаще пытался сохранить за
ним имена Арагона и Элюара, не оговаривая всей серьезности их отхода от не-
го. В изложении Юнье поэтика сюрреализма стремится в словесности к «пере-
даче слуховых образов, формирующихся в подсознании», в изобразительном
искусстве —«зрительных представлений, возникающих вне контроля сознания».
Сфера подсознательного, понимаемая во фрейдистском аспекте,— вот та
«сверхреальность», которая была содержанием новаторства сюрреалистов. Это
было не искусство «максимального реализма», как иной раз у нас понимают
термин «сюрреализм» некоторые его доморощенные почитатели, а искусство,
призванное изобразить те переживания и представления, которые стоят в под-
сознании человека за или над реальностью его бытия. Поэтому, конечно, сюр-
реализм в известной мере — псевдоним ирреализма. Кстати, Аполлинер вкла-
дывал в понятие «сюрреализм» иное понимание, и характерно, что его мнимые
наследники столь вольно перетолковали термин, взятый у этого большого
поэта.
Излагая эстетику сюрреализма, во многом основанную на психоанализе
Фрейда, Юнье делает особый упор на автоматизм письма как на важное ка-
чество поэзии и изобразительных средств сюрреализма. «Рассказ о снах», как
называл свое творчество лидер сюрреализма Андре Бретон, требовал «автома-
тического письма». Ниже приводится образец «автоматического письма», при-
надлежащий самому Ж. Юнье:
Дорога кончилась...
1 См.: Hugnet G. Petite anthologie poétique du surréalisme. Paris, 1934.
258
Дорога кончилась жирным пейзажем
и твоей ревностью в шляпе без полей,
и мой голос — это лист,
соответствующий твоему будущему,
я сплю, записывая слова, я расту в твоей тени,
так как не познал искуса твоей любви
я сжимаю в своих объятиях эпитет к тебе.
Нельзя сказать, что эти строки — просто набор слов. В них, конечно, есть
попытка передать определенное ощущение, состояние. Но автоматизм письма,
очень близкий к манере Джойса, стремление передать поток слов, отвечающих
смутным образам подсознания, придает замыслу поэта такую степень субъек-
тивизма, что возможность общения с читателем обрывается. Поэзия умирает,
и умирает именно потому, что она пытается стать вне действительности, пре-
небрегает действительностью и своей спецификой — речью.
«Автоматическая» манера сюрреалистов запечатлена в их полотнах
и скульптуре. В сюрреалистическом опусе Виктора Браунера «Сила концент-
рации мсье К.» (вкладка к «Антологии»), близком к уродливым образцам раз-
личных новейших школ, нарочито примитивно написанное маслом изображение
усатого мужчины усеяно приклеенными к полотну маленькими куклами из цел-
лулоида — теми, которые у нас называются «голышами». Целая гроздь таких
голышей укрепилась на левой челюсти мсье К., один голыш укреплен вдоль его
носа, три — над бровью и т. д. Очевидно, распределение голышей по голове
и корпусу г-на К. и должно изображать «силу концентрации», свойственную
ему. Картина другого сюрреалиста X. Миро «Материнство» вообще сводится
к набору трудно определимых символов, не имеющих реальной формы. Это уже
явный переход от сюрреализма к абстрактному искусству, в котором автома-
тизм, прославляемый сюрреалистами, играет решающую роль.
Конечно, сюрреализм в этих его формах (если забыть, что он дорог Арагону
и Элюару как воспоминание юности) не есть путь развития французского
искусства ни в поэзии, ни в живописи. И только преодолев его наследие, Элюар
и Арагон смогли создать те произведения, которые обеспечили им прочное
место в истории французской литературы. При этом нельзя не заметить, что их
творчество и в 20-х годах отличалось от общего уровня сюрреализма, несло
в себе зерна будущего. Вероятно, это их отличие от общего направления сюр-
реалистского искусства и облегчило переход из искусства «автоматического»
и «подсознательного» на большую дорогу современного передового искусства.
Подлинными поэтами-новаторами Арагон и Элюар стали не тогда, когда они
подписывали крикливые сюрреалистские манифесты, а в годы, когда, став
участниками Сопротивления, создавали стихи о мужестве и героизме француз-
ских партизан и советских людей. Жизнь указала им подлинный путь поэтов-
новаторов, и, желая быть понятными своим читателям, поэты заговорили тем
подлинно новым языком, который стал языком национальной французской по-
эзии XX в. Они познали во всем значении понятие «народность», смысл обра-
щения к национальной традиции, вдохновляемой идеями антифашистской
борьбы, подвигами коммунистов.
Десятилетием раньше, в середине 30-х годов вступил в пору зрелости и
Бехер, в те годы создавший первые циклы сонетов и бессмертный цикл антифа-
шистских баллад. На эту новую ступень своего развития он поднялся не пото-
му, что был одним из поэтов левого экспрессионизма, а потому, что школа на-
пряженной политической борьбы 1929—1933 гг. и периода антифашистской
эмиграции открыла перед ним новые перспективы. И если Арагон и Элюар
в начале 40-х годов обращались не только к лучшему в наследии Рембо, но и
к традиции В. Гюго, и к традиции французского героического эпоса, то и Бехер
в своих стихах 30-х годов плодотворно и отнюдь не подражательно использует
богатейшую поэтическую традицию как поэтов Тридцатилетней войны, так и то
сильное и резкое, что было у поэтов левого экспрессионизма. Во всех случа-
9*
259
ях — и у Арагона, и у Элюара, и у Бехера — подлинным импульсом для нова-
торского поворота в творческом пути были не их связи с сюрреализмом и левым
экспрессионизмом, а большая, напряженная, полная риска и опасностей жизнь,
жизнь поэтов, взявшихся за оружие, поэтов-борцов. Идейная зрелость, при-
шедшая в эти годы, привела к подлинному новаторству — новаторству в духе
социалистического реализма. Развивая и углубляя свои поэтические открытия
30-х — начала 40-х годов, Арагон создал в дальнейшем свою эпопею «Комму-
нисты» и роман «Страстная неделя», которые оказались крупнейшим событием
в истории всей французской литературы 50-х годов К С этим согласны даже
противники социалистического реализма, представители буржуазной критики.
Бехером в 50-х годах были созданы крупнейшие произведения немецкой поэзии
XX в. и четыре книги о труде поэта («В защиту поэзии», «Поэтическое вероис-
поведание», «Власть поэзии» и «Поэтический принцип») — образцы творческой
разработки самых сложных, самых тонких проблем словесного искусства, ко-
торые явились подлинным вкладом в эстетику социалистического реализма и
в целом — в эстетическое развитие человечества. В них есть содержательная
критика модернизма и великолепно изложенное поэтическое понимание ком-
мунистической партийности. В последней Бехер и видит основу подлинно сов-
ременного принципа поэтического творчества.
В книге Бехера вырисовывается образ поэта современности — партийного
поэта. Партийный поэт Бехера — это общественный деятель, мыслитель, меч-
татель, зодчий, воин нового мира и потому создатель подлинно новых эстети-
ческих ценностей.
1962
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА БЕХЕРА
Классика социалистического реализма, прочно вошедшая в историю миро-
вой литературы и составляющая самое передовое и значительное ее проявле-
ние,— это не только великие произведения искусства, но и эстетика социа-
листического реализма, возникшая в тесном взаимодействии с его художест-
венной практикой.
К произведениям передовой эстетической мысли нашей эпохи относятся,
наряду с книгами и статьями Горького, Барбюса, Ральфа Фокса, Юлиуса Фу-
чика, и вдохновенные книги Иоганнеса Бехера, посвященные проблемам соци-
алистической эстетики.
Поэтическое творчество Бехера, конечно, само по себе дает обильный мате-
риал для выяснения характерных особенностей его эстетики. Но Бехер издавна
тяготел и к прямому, теоретическому изложению своих эстетических концепций.
В 20-х годах это были отдельные статьи и заметки о собственной поэзии, да-
лее — многочисленные выступления, посвященные путям развития немецкой
передовой литературы в условиях Веймарской республики, затем, в годы эмиг-
рации,— высказывания и заметки, связанные с задачами, стоявшими перед
антифашистской немецкой литературой. После 1945 г. широко развернулась
деятельность Бехера — организатора культурной жизни на территории Вос-
точной Германии. Это отразилось в серии докладов и речей Бехера — предсе-
дателя Культурбунда. Наконец, уже в ГДР начиная с 1952 г. появляются одна
за другой четыре книги, имеющие общее название «Опыты»: «В защиту поэ-
1 О новаторстве Арагона в связи с проблемой «нового и новаторского» см. в кн.: Затонский Д.
Век XX. Киев, 1961; Иващенко А. Заметки о современном реализме. М., 1961.
260
зии», «Поэтическое вероисповедание», «Власть поэзии» и «Поэтический
принцип» '.
Так сложилась тетралогия работ Бехера по вопросам эстетики социалисти-
ческого реализма, вобравшая в себя и личный опыт писателя, и опыт развития
передовой немецкой литературы, и опыт литературы советской: не забудем, что
Бехер был не только другом нашей литературы, но и участником советской ли-
тературной жизни в то десятилетие, которое он провел в СССР. Взятые в целом
и рассмотренные в соотнесении с тем, что было создано Бехером-поэтом преж-
де, эти книги представляют неумирающий интерес как живой и чистый источник
творческой мысли, как важное звено в развитии эстетики социалистического
реализма, как оружие, завещанное нам.
Книги Бехера глубоко оригинальны по форме. В них сравнительно мало от-
дельных статей, крупных исследований. Зато они изобилуют ценнейшими за-
метками, размышлениями, комментариями. Нередко Бехер переходит к заду-
шевному разговору с читателем, делится с ним своими тревогами и надеждами,
мыслями об общем деле. Ничего подобного, пожалуй, не знала литература
старого мира, как бы ни были богаты ее формы. Печать социалистического но-
ваторства лежит и на этих книгах Бехера, как лежит она на его «романах
в стихах», на его балладах, сонетах и на всем, что вышло из-под его неутоми-
мого пера.
Бехер сам пробовал охарактеризовать жанр, в котором он изложил свои
мысли об эстетике социалистического реализма: «Поэзия мысли, поэзия мыш-
ления в прозе — так можно было бы назвать мою «В защиту поэзии» и мое
«Поэтическое вероисповедание»...»,— писал он [Р. К., S. III].
Но это определение не удовлетворило его. «Я хотел написать исповедь в по-
этической форме, а в процессе работы все это стало превращаться в «Аре по-
этика»,— замечает он [M. d. P., S. 260]. И быть может, ближе всего к опреде-
лению жанра своей четырехтомной поэтики Бехер подошел, когда писал: «По-
немногу мои замечания о поэзии превращаются — во что, собственно гово-
ря? — в примечания к событиям нашего времени...» Да, время, XX век, было
главным героем Бехера и основной проблемой его эстетики — эстетики под-
линно современного искусства, рожденного великой эпохой.
В центре социалистической эстетики Бехера, как и в центре его поэтического
творчества — новый человек. Поэт, жадно ловивший черты нового в сознании
людей, участвовавших в немецком рабочем движении 20-х годов, боровшихся
против фашизма в подполье, сражавшихся на земле Испании, прозревавших
в горниле второй мировой войны и возвращавшихся в освобожденную Герма-
нию, чтобы на развалинах старого мира строить новое общество, поэт интер-
национального братства трудящихся — такой поэт и не может не уделить осо-
бое внимание проблеме нового человека в своих мыслях о развитии современ-
ного искусства.
Выдающийся мыслитель XX в., Бехер видит действительность в движении.
Поэтому для него прежде всего интересен развивающийся человек, несущий
в себе идею мира и ее осуществляющий. Бехер улавливал динамику и своего
собственного развития — общественного и художественного. «Я сам себя ме-
няю то и дело»,— писал он в своем программном сонете о людях XX в. Только
помня о тех переменах, через которые прошло сознание Бехера, можно понять
и сложнейший творческий путь, который привел юного экспрессиониста, ру-
шившего каноны классической поэзии и «реформировавшего» поэтический
язык, к созданию великолепных, то строгих, то потрясающе душевных стихов
1 Bemühungen: Verteidigung der Poesie. 1952; Poetische Konfession. 1954; Macht der Poesie.
1955; Das poetische Prinzip. 1957. Далее в тексте употребляются сокращенные обозначения: V. d. Р.,
Р. К., M. d. Р., Р. Р. и даны ссылки на страницы. В советской критике эти работы освещены в пре-
дисловии Т. Л. Мотылевой к кн.: Бехер Иоганнес Роберт. В защиту поэзии. М., 1959, и в статье
С. В. Тураева «Навстречу будущему» (в сб.: Современная литература за рубежом. М., 1962).
261
о нашем времени, к разработке классических форм, которым Бехер придал но-
вый блеск, наполнив их новой жизнью — жизнью XX века — и тем преобразив
их как форму.
Процесс сложнейшего духовного развития нашего современника Бехер за-
печатлел в своем творчестве. Он с поразительной честностью и прямотой писал
о своем сложном творческом пути, умея решительно порвать с тем, что считал
устарелым и ложным. Вникая в его творческое развитие, видишь, как умел от-
казываться Бехер от того, что некогда было для него дорогим и значительным;
но всякий раз этот отказ осуществлялся во имя новых и высших эстетических
ценностей, во имя достижения новых перспектив и горизонтов. Динамика че-
ловеческого развития понималась Бехером как разностороннее усовершенст-
вование, духовное обогащение. Изменяя мир, человек изменяет и самого себя;
об этом Бехер — поэт и мыслитель — не уставал напоминать, искренне восхи-
щаясь способностями к развитию, заложенными в человеке.
Представление о динамике человеческого развития связывалось для Бехера
с коммунистическим идеалом человека.
«Образ нового человека»— так назвал Бехер целый раздел своей книги
«Власть поэзии». «Об этом должны мы говорить прежде всего,— начинает Бе-
хер эту часть книги,— всегда и во всем надо говорить прежде всего о новом
человеке. И все в целом хочу я назвать так, и дело моей жизни так озагла-
вить— образ нового человека...» [M. d. P., S. 257]. Упоминая, что труды
Ленина «воспитывают в его учениках самостоятельное, творческое мышление»,
Бехер указывал на ленинские традиции, на мораль и этику Ленина как на мо-
гучие воспитательные средства, благотворно воздействующие на формирование
нового человека. Напоминая о горьковских словах: «Человек — это звучит
гордо!», с какой гордостью говорит он в «Опытах» о человеке, строящем новое
общество, участвующем в великих битвах XX в., идущем вперед и ведущим за
собою других!
И как новый человек Бехера — не идеал, а живой человек, преображаю-
щийся и преобразующий,— непохож на то представление о людях социалисти-
ческого общества, которое создается в некоторых работах 50-х годов, где сов-
ременному читателю навязывается ошибочное представление о творчестве
Кафки как о некоем эталоне человечности! В этих работах проводится весьма
странный тезис о том, что и в социалистическом обществе действует обесчело-
вечивающий закон отчуждения индивидуума, закон, обрекающий на одино-
чество и пессимизм, который сложился в обществе капиталистическом.
И творчество Бехера, и его эстетика, созданная поэтом-борцом, опроверга-
ют эти заблуждения: в центре эстетики Бехера — полноценное, живое отраже-
ние человека, раскрепощенного в борьбе за новое общество, не только вырвав-
шегося из-под ига капитализма, но и обретшего свою индивидуальность
в борьбе против угнетения, среди себе подобных, среди соратников и братьев по
труду.
Новый человек, о котором говорит Бехер, это и неповторимая индивидуаль-
ность, только при социализме получающая возможность полного развития,
и обобщенная историческая категория, противопоставленная образам людей
досоциалистической эпохи. Однако противопоставляя эти различные истори-
ческие типы людей, Бехер всегда проявляет конкретно-историческое понимание
самого процесса, в котором рождается новый человек. Поэт видит сложные
связи старого и нового, живущие и в новом человеке, представляет себе всю
сложность борьбы, происходящей в душе нового человека или в душе человека,
рожденного старым миром, но проходящего через сложные психологические
процессы духовного обновления.
Кто, как не Бехер — тончайший поэт-лирик, в прошлом тесно связанный
с миром немецкой модернистской литературы начала XX в., знал, как труден
и порою мучителен отход от привычных и установившихся воззрений! Именно
262
поэтому в его думах о новом человеке возникает вопрос о сложности духовного
развития, о диалектике души XX в.
По мысли Бехера, напряженная духовная жизнь, борьба противоречий
в сознании и в эмоциях современника бесконечно далеки от того спектра лож-
ных идей, в свете которых изображают духовную жизнь писатели буржуазного
лагеря. Материалистическое, мужественное, подлинно гуманистическое пред-
ставление о человеке в книгах Бехера, противостоит экзистенциалистскому
и фрейдистскому унижению, которому подвергается наш современник в твор-
ческой лаборатории многих писателей капиталистического Запада. Постановка
психологических проблем нового человека в книгах Бехера наглядно раскры-
вает гуманистическую суть марксистско-ленинской концепции отношений че-
ловека и общества, призывает нашего современника быть мужественным и по-
следовательным борцом за изменение общества.
Бехер говорит о социалистическом обществе как о важнейшем факторе
воспитания нового человека. Это перекликается с теми его стихотворениями,
в которых поэт поведал, как в тяжелой восстановительной работе на первых
социалистических стройках ГДР и в первых сельских объединениях рождаются
новые социальные отношения, новые люди. Замечательное определение дей-
ствительности находит Бехер. Действительность —«общественно преобразую-
щий процесс, творящий нового человека». Так в борьбе против нацизма, а за-
тем в борьбе за создание основ нового мира, новой действительности, рожда-
ется и новый человек, певцом которого был Бехер.
Взятые в целом, книги Бехера действительно обогащают наше мировоззре-
ние опытом поэта, общественного деятеля и мыслителя. В разработке эстети-
ческих и этических идей Бехер опирался на практику социалистического обще-
ства, на жизненный опыт миллионов людей, строящих социализм, прошедших
через множество трудностей нашего времени.
В учении Маркса, Энгельса и Ленина Бехер видел силу, умножаемую опы-
том партий, возглавляющих в наши дни борьбу за мир и демократию. Мир идей
научного социализма был для Бехера источником творческого вдохновения.
В своих раздумьях о современной эстетике Бехер ни в коей мере не упро-
щает процесс, формирующий черты нового человека. Вот почему в его эстетике
такое внимание уделяется воспитательной роли искусства. Поэт и здесь верен
своей прочной, кровной связи с жизнью: социалистическое искусство, помога-
ющее рождению новой жизни, учит своих современников не только понимать
этическую и эстетическую ценность созидательного труда, но и вносить поэти-
ческое начало в жизнь: поэтическое начало в жизни, по мысли Бехера,— под-
линно творческое начало. Творческий, социалистический человек Бехера —
полноправный наследник сокровищ мировой культуры, которую поэт рассмат-
ривает в свете учения Ленина об усвоении всего лучшего, что создано челове-
чеством.
Смысл освоения богатства человеческой культуры для выработки нового
мировоззрения, для активного участия в создании коммунистического общества
раскрыт в книгах Бехера с поразительной широтой и поэтичностью. Эти книги
могут быть названы и подлинным марксистским введением в изучение мировой
культуры. Бехер учит не просто любоваться ее сокровищами, а усваивать их
активно, применять в повседневной работе. Бехер выдвигает важную мысль
о том, что в восприятии сокровищ культуры, которые стали достоянием масс,
новый человек чувствует такую же связь с коллективом, какую ощущает он и
в труде, и в борьбе. Новый человек Бехера силен своим сознанием общности
с коллективом, он складывается в единстве с коллективом, чьи беды и радости,
победы и заботы неотделимы от его личных переживаний.
Частица социалистического коллектива, человек Бехера обладает неогра-
ниченными возможностями развития своих способностей и талантов. Опираясь
на опыт советского общества и на тот процесс рождения новых общественных
263
отношений, который он наблюдал в ГДР, Бехер вдохновенно говорит о рожде-
нии новых чувств, новых переживаний, новых духовных богатств. Пожалуй, ни
в одной книге зарубежного автора это рождение нового человека не осмыслено
так глубоко и так перспективно, так пророчески, как это сделано в книгах
Бехера.
Новый человек Бехера — созидатель нового мира; его жизнь полна труда,
пролагающего путь новому обществу, новым формам жизни во всех ее прояв-
лениях. И кому, как не Бехеру, дано знать, что новое общество рождается
в нелегкой борьбе, требующей жертв, полной трудностей, нередко столь же но-
вых и неизведанных, как новы и возникающие общественные отношения. Но тем
более действенна любовь нового человека — героя книг Бехера — к обществу,
зодчим и защитником которого он стал. Вполне понятно, что новый человек,
воспетый Бехером и родившийся в жестокой общественной борьбе, разделяет
идеи боевого социалистического гуманизма. «Человеческое милосердие требует
быть беспощадным с беспощадными»,— утверждает Бехер. Эта формула зву-
чит особенно убедительно в устах немецкого поэта-антифашиста, который вос-
пел подвиги подпольщиков, погибших в камерах пыток гестапо, который создал
великолепный цикл стихотворений в память немецких патриотов, замученных
в нацистском концлагере.
Победоносно борясь с различными антигуманистическими концепциями
современности, рисует Бехер великолепный образ цельного человека (der ganze
Mensch). Это образ «цельный» в том смысле, что новый человек не только про-
являет свои таланты в той или иной области созидательного труда, но и может
защитить свой труд политической деятельностью, тем, что именно как цельный
человек «всеми своими силами служит делу мира» [V. d. P., S. 95].
Боевой, горьковский гуманизм Бехера направлен против гуманизма абст-
рактного, растворяющегося в мутной либеральной фразе. «Человек живой —
это всегда человек конкретный, личность, особа. Кто начинает стремиться
к тому, чтобы быть человеком «вообще», тот перестает быть человеком...» [V. d.
P., S. 212],— утверждает Бехер наперекор любителям отвлеченного гуманизма
«вообще». Это замечание поэта весьма важно для его глубоко конкретной ма-
неры изображения человека в зрелых произведениях.
Вступая в дискуссию с буржуазными социологами, Бехер считает XX век
прежде всего эрой новой человечности, возвещенной социалистической рево-
люцией. «Век техники»,— говорит поэт,— это определение, которое игнорирует
существенную особенность нашего века: он должен называться «человечным
веком». Великая Октябрьская социалистическая революция и ее результаты
дают нам право на такое определение, так как предыстория человечества была
завершена 1917 г., и началось «царство человека». Бехер увидел, как это
«царство человека», увлекая своими идеалами миллионы, привело к созданию
мировой социалистической системы.
Книги Бехера, зовущие продолжать борьбу за превращение капиталисти-
ческого «царства техники» в социалистический мир нового человека, обращены
не только к тем, кто читает их в странах социализма, но и к читателю в странах
капиталистического мира. Бехер верил в то, что и там есть немало борцов за
торжество «царства человека». Оптимизм общей исторической концепции
Бехера, его стремление вдохнуть мужество в души соратников по борьбе, веду-
щих ее в условиях капиталистического мира, тем значительнее, что он противо-
стоит некоторым паническим утверждениям об опустошенности молодого поко-
ления на Западе, об исчерпанности великих лозунгов рабочего дела.
Так, например, в книге Э. Фишера «Проблемы молодого поколения» милли-
оны молодых людей, подросших после войны, рассматриваются (без уточнения
классовых различий) как поколение изверившихся цинических деляг или не-
врастеников и психопатов, гибнущих морально в якобы всевластном царстве
техники и бизнеса. Изверившемуся, опустошенному, взвинченному человеку
264
противостоит новый человек Бехера, утверждающий себя в борьбе против
обесчеловечивающего воздействия капиталистической техники, находящий себя
в этой битве за будущее человечества. Бехер подчеркивает, насколько для но-
вого человека нашего столетия важна сознательная, научно обоснованная по-
зиция в обществе, сознательно укрепленное на философской основе представ-
ление о своих задачах и целях.
Бехер видит в передовом современнике творческое и героическое начало,—
видит его в том современнике, который участвует в великой битве за «царство
человека».
Образ современника в форме исторической реминисценции намечен Бехером
в его интерпретации Леонардо да Винчи. «Леонардо да Винчи для меня при-
надлежит к самым современным людям,— писал Бехер,— к самым современ-
ным художникам... В чем заключается его современность, его близость к нашей
эпохе? Наверное, в том, что он в своих мыслях и творениях опередил века, и
в том, что он оказался не позади нас, а впереди — в своих грандиозных пред-
видениях. Всемогущество человека выражается в Леонардо да Винчи в удиви-
тельно универсальном виде. Его личность — это вселенная; что может быть
более современным, близким к нашей эпохе, что может быть лучшим примером?
Человек в его возможностях, в бесконечности его возможностей, освободив-
шийся благодаря работе над самим собой от всякой индивидуалистической
узости и ограниченности,— человек в одно и то же время и связанный с землей,
и парящий над нею, поэт и мыслитель, инженер, художник, ученый, изобрета-
тель — и все это неразрывно воплощено в его цельности! Какое призвание, ка-
кая человеческая деятельность были бы для него недоступными, выключенными
из его интересов, из него самого? В нем собрался воедино весь человек, в нем,
в великом, в цельном. Это человеческий дух в его универсальном развитии:
свободный человек» [V. d. P., S. 367].
Бехер был замечательным знатоком и ценителем эпохи Возрождения, он
отлично чувствовал ее людей и воплотил их образы в большом цикле сонетов.
Но, конечно, в данном случае речь идет не просто о Леонардо да Винчи. Это не
просто еще одно выражение любви Бехера к Ренессансу. Нет, в образе Лео-
нардо — с известной долей поэтической свободы — мы вправе видеть обоб-
щенный образ гармонически развитого человека, каким хотел видеть Бехер
своего современника: не только в честь Леонардо сложен этот гимн человеку,
но прежде всего в честь современника, человека XX столетия.
И прямым выводом из этого представления о гармонически развитом чело-
веке социализма звучит утверждение Бехера о том, что в каждом человеке есть
поэтическое начало. Это не просто подтверждение истины, на которую с давних
пор обратили внимание мыслители-гуманисты. Эта мысль очень важна для
концепции Бехера, согласно которой поэтическое творчество есть одна из важ-
нейших функций жизни в целом, и общественной жизни в частности. На обо-
сновании жизненной необходимости искусства, и в частности поэзии, построена
вся книга Бехера «В защиту поэзии». В ней развита система эстетических идей
Бехера, согласно которым поэтическое творчество — в тех случаях, когда речь
идет о подлинной поэзии,— это вид деятельности, соединяющий в себе худо-
жественное, философское и общественное начала, вне которых Бехер вообще не
мыслил себе поэзии. «Литература — это вопрос жизни и смерти для народа...
Это самый развитый орган самопознания и самосознания народа»,— утверж-
дал Бехер. В этих словах выражено и глубокое убеждение Бехера в том, что
философские идеи играют огромную роль в развитии поэтического искусства.
В книге «Поэтический принцип» особенно подробно и широко развита мысль
о философских основах социалистической эстетики, которые повседневно обо-
гащаются действительностью. Писатель неоднократно говорит о том, чем обя-
зан он как художник изучению марксистско-ленинской философии, осмыслению
современности в свете работ Маркса, Энгельса и Ленина. Эти страницы трудов
265
Бехера дышат творческой марксистской мыслью. Они углубляют наше пред-
ставление о значении философской науки для формирования и развития таких
больших художников современности, как Бехер.
Бехер был подлинным наследником передовой мысли человечества во всем
ее сложном развитии. Он любовно вникал в концепции Канта и Гегеля, восхи-
щался ясностью и пылом французских просветителей, высоко ценил философию
Белинского и Чернышевского. Постоянный интерес поэта к философии придает
его работам по эстетике не только боевой теоретический характер, но и завид-
ную широту мысли.
Проблемы философии в работах Бехера имеют такое существенное значение
в первую очередь в силу того, что они связаны с проблемой творческого метода.
Бехер выступает в своих книгах как талантливый и яркий последователь
ленинской теории отражения. Книги Бехера особенно значительны еще и тем,
что поэт на основе собственного творчества и на основе внимательного анализа
произведений, созданных другими художниками, показывает всю сложность
опосредованных связей между действительностью и ее отражением в сознании
художника, в произведении искусства. Бехер вводит нас в лабораторию ху-
дожника социалистического реализма, показывает творческий процесс, путь от
жизненного явления к образу, в который оно воплощается в поэзии. Бехер учит
современных поэтов высокой гносеологической культуре социалистического
реализма.
Бехер прямо и убежденно говорит о партийности своей поэзии. Борьба Бехе-
ра за подлинно новое искусство была тем эффективнее, что он вносил в нее
всю ненависть настоящего большого поэта к невежественному нигилизму
авангардистов, к догматикам, вольно или невольно несшим смерть новому
искусству,— их Бехер называл «теологами от искусства и философии», к кос-
мополитическим снобам, к проповедникам «беспартийного» искусства. Опро-
вергая и высмеивая их, Бехер славил принцип партийности искусства, подчер-
кивая, что подлинное искусство всегда служило высоким идеалам своего вре-
мени. «Разве не служили соборы? — спрашивает Бехер своих противников.—
Разве не служил Гете (и кому! человечеству!)? Разве не служили Грюневальд,
Греко, Кранах и Рембрандт?» [P. P., S. 315]. Бехер был горд своей партий-
ностью художника и мыслителя, горд тем, что служит великим идеям социа-
лизма, первому социалистическому немецкому государству и его культуре и тем
самым — делу мира и социализма во всем мире.
Принцип партийности для Бехера неотделим от народности литературы. Он
требовал, чтобы литература была доступна народу. «Это принцип демократиз-
ма, примененный к литературе»,— заявил он. Понятие народности литературы
Бехер видел прежде всего в ее жизненности, в том, насколько поэзия отражает
движение времени и помогает народу понять сущность совершающихся собы-
тий. При этом для Бехера не существовало проблемы формы и содержания как
педантически разделенных категорий. Великую истину материалистической
диалектики о единстве формы и содержания он понимал как подлинный поэт
и учил своих читателей воспринимать произведение искусства как сложную
цельность мысли и художественных средств, вызванную к жизни тем или иным
явлением современности.
Бехер неразрывно связывал представление о подлинно народной литературе
социалистического реализма с мыслью о новаторстве, которое, проявившись
в жизни, прорывается и в искусство. «Творческое новаторство литературы,—
утверждал Бехер,— в том, что она, во-первых, открывает подлинно новое в на-
шей жизни и что она, во-вторых, способна выразить полностью это подлинно
новое в образах художественного произведения...» [P. P., S. 98].
Бехер славил «могучий шум жизни» как мелодию своего времени — бодрую
и героическую, зовущую на создание произведений, способных отразить дей-
ствительность во всей ее сложности.
266
Да, именно во всей ее сложности. Враг любого упрощенчества и примити-
визма, Бехер потому и ценил философскую оснащенность подлинного искусст-
ва. Он требовал глубокого и честного проникновения в самую сущность жиз-
ненных процессов, в самую сущность социальных и психологических проблем
современности. Его лирика 50-х годов тем и замечательна, что в ней отражена
вся сложность послевоенного немецкого общества, послевоенной немецкой
жизни, ее острые и для многих мучительные противоречия, борьба нового со
старым, упорно оборонявшим свои безнадежно потерянные рубежи. В том, что
поэт Бехер не упростил и не приукрасил жизнь с ее лишениями и тревогами,
была немалая доля его народности, его заслуженной популярности в немецком
народе, поднимавшемся на строительство своего социалистического госу-
дарства.
Проблема новаторства в литературе социалистического реализма была
предметом постоянных размышлений Бехера. Сам поэт-новатор, проложивший
новые пути для развития немецкой поэзии наших дней, Бехер на опыте своей
литературной молодости знал и увлечения новаторством внешним, уводившим
в сторону от решения насущных творческих задач. Поэтому он не раз противо-
поставлял новаторство подлинное, коренящееся в знании и понимании дей-
ствительности и в верном взгляде на ее перспективы, крикливому новаторству
литературных снобов, лидеров модернистской поэзии.
«Известно,— иронически замечает Бехер,— что те, кто не может сказать
ничего нового, судорожно стремятся скрыть свою вражду к новому, выдавая
нечто незначительное за интересное и новое. При этом пытаются заменить от-
сутствие содержания совершенством формы или сенсационными формальными
экспериментами... Мы уже говорили о том, как старается старое выдавать себя
за революционное, принимать обличье самых новых явлений, чтобы воспрепят-
ствовать действительно новому, чтобы сбить с толку и запутать тех, кто честно
стремится к новому...» [P. P., S. 109]. Но бывает и так, что «подлинно новое
выражает себя в обычных формах, не поражает формой, выступает в уже при-
вычном виде и потому добывает себе возможность быть легко понятым, стано-
вится доступным для тех, кто не имеет специальной литературной подготовки...»
[V. d. P., S. 40]. Высказав это наблюдение, особенно важное для немецких чи-
тателей, уровень восприятия которых тогда (слова Бехера относятся к 1949 г.)
был еще ограничен тяжким прошлым нацистских лет, Бехер тут же дополняет
свои размышления еще одним существенным соображением: а бывает и так, что
подлинное новое обретает и экстравагантную новую форму, «не сразу воспри-
нимаемую, вызывающую известное сопротивление...». Заметим, что так обсто-
яло дело с новаторством Маяковского, которое иногда воспринималось не сра-
зу, лишь постепенно становилось бесспорным и традиционным для советской
литературы. Но Бехер знает цену и этому подлинному новаторству формы.
«Встреча с подлинно новым искусством,— утверждает он,— может состояться
и таким образом, и тогда читатель сам постигает сущность нового, овладевая
его новой формой» [V. d. P., S. 40].
Страстный новатор в самом глубоком смысле этого слова, Бехер вел борьбу
против сторонников формального, поверхностного эксперимента. «Новое в ли-
тературе заключается не в технических новшествах, не в новых приемах, не
в искусственных изменениях, не в замене рифмы ассонансами, не в свободном
стихе»,— утверждал Бехер [U. d. P., S. 97]. «Новое в литературе заключается
в том, что она открывает нам новое в жизни и дает нам новый ответ, когда мы
спрашиваем о смысле нашей жизни...» [V. d. P., S. 98].
Весьма характерно, что эти слова сказаны в связи с мыслью о значении
опыта классической литературы, в связи с проблемой традиции, без которой
Бехер не представлял себе плодотворного новаторства в литературе социа-
листического реализма.
267
В своих эстетических построениях Бехер опирался на ленинское учение
о двух культурах. Он был знатоком и ценителем демократической культуры
прошлого, как немецкой, так и мировой. Он внимательно следил за развитием
советской литературы и постоянно указывал на ее опыт своим немецким това-
рищам. Как мыслитель-марксист, Бехер высоко ценил и всю мировую культур-
ную традицию — те богатства мировой культуры, к овладению которыми при-
зывал Ленин.
Поборник сознательного и всестороннего использования лучших нацио-
нальных традиций, один из самых ярких представителей немецкой литературы
наших дней, Бехер смог решить проблему национальной традиции и в теории,
и на практике так верно именно потому, что его работы — как и его творчест-
во — насыщены духом социалистического интернационализма. Поэт подчер-
кивал, что полноценное развитие любой национальной литературы зиждется на
активных взаимосвязях с другими литературами. Он указывал на процесс вза-
имного обогащения литератур как на одну из важнейших сторон мирового ли-
тературного процесса. Среди литератур мира, чье воздействие было особенно
существенно для развития немецкой литературы, Бехер называл прежде всего
русскую литературу.
Пример развития многонациональной советской литературы был для Бехера
убедительным доказательством неисчерпаемых новых возможностей литера-
турного развития, открывающихся перед социалистической мировой системой.
Вместе с тем в общей сокровищнице мировой культуры Бехер как немецкий
поэт выделял для себя тот великий вклад, который был сделан немецким наро-
дом. Обращение Бехера к традициям немецкой литературы, его упорная работа,
направленная на популяризацию и новое освещение ее сокровищ, были для не-
го борьбой за социалистическую культуру Германской Демократической Рес-
публики, за национальную форму ее поэзии. Традиция в эстетике Бехера и в его
творчестве не стала просто обращением к великому наследию прошлого: нет,
истинный поэт XX в., Бехер и здесь был остросовременным.
И если Леонардо да Винчи вдохновил Бехера на создание поэтического об-
раза современника, то и традиции немецкой литературы были для него живым
богатством современности. Традиции — это и тема, и многовековой опыт не-
мецкого стиха, и лаборатория — помогали Бехеру создавать и нечто необык-
новенно новое. Примером такого использования традиций в произведениях со-
циалистического реализма может быть созданный Бехером гимн ГДР, напоми-
нающий о торжественной философско-политической лирике Гете и Шиллера, но
полный острого чувства современности, полный звуков той самой «новой жиз-
ни», которой он посвящен. Широчайшим образом используя традиции лириков
XVII в., традиции Гете, Шиллера и Гельдерлина, Бехер нигде не выступает как
стилизатор, как эпигон, как подражатель. Он действительно продолжает луч-
шие традиции немецкой поэзии на новом этапе истории немецкого общества
и немецкой культуры, на этапе, обогащенном идеями научного социализма.
Опираясь на традицию, Бехер особенно плодотворно осуществлял задачи но-
ватора, и это можно доказать на примере развития жанра сонета в его твор-
честве.
Проблема сонета как формы предельно точной, содержательной и сжатой,
издавна увлекала Бехера. Какое принципиальное значение он придает ей, видно
не только из сотен сонетов, написанных им, но и из специального трактата
«Малое учение о сонете». Эта статья Бехера — пример марксистского исследо-
вания поэтической формы от ее возникновения и до наших дней. Статья, види-
мо, была итогом многолетней работы над этим жанром. Сравнивая различные
системы сонета, используя вековые традиции его развития и многое в них от-
брасывая, Бехер выковал в конце концов замечательную форму немецкого со-
нета XX в., новый жанр поэзии социалистического реализма, остросовремен-
ный, поразительно гибкий в своих возможностях, полно вобравший и поэти-
268
ческий пафос, и философскую значительность таланта художника. Так, на
основе весьма критического использования традиции, насчитывающей шесть
веков существования, родился сонет Бехера, явление, которым вправе гор-
диться культура мировой социалистической системы.
Это тем более примечательно, что, независимо от Бехера, сонет занимает все
большее место в поэзии социалистического реализма 40—50-х годов. Сошлемся
на сонеты Арагона, Маурера, Тауфера 1 и на возрождение этого жанра в со-
ветской поэзии 2. Труды Бехера дают отличный образец того, как надо пони-
мать и использовать литературную традицию, будучи подлинным новатором,
образец того, как традиция иноязычной литературы — в данном случае тради-
ция сонета, ранее никогда не относившегося к сильным сторонам развития
классической немецкой поэзии,— была использована для расширения и обога-
щения поэзии социалистического реализма.
Можно утверждать с полным основанием, что Бехер стал наиболее значи-
тельным мастером сонета в немецкой поэзии, поднял эту стихотворную форму
на уровень особого поэтического жанра, придал ей вес международного дости-
жения.
Еще один пример новаторства Бехера, опирающегося на традицию,— его
«романы в стихах», новый жанр социалистического эпоса.
Бехер не разделял мнения тех скептиков, которые полагают, что возмож-
ности романа исчерпаны. Напротив, он полагал, что в литературе социалисти-
ческого реализма перед этим жанром открываются новые и небывало широкие
возможности. К ним относил он и «эпос в стихах» (Versepos) — жанр социа-
листической эпической поэзии, который давно увлекал его. Еще в поэме «Ве-
ликий план» он пробовал решить задачу создания социалистического эпоса.
Этот опыт не удовлетворил поэта. Позже, уже найдя дорогу к своей зрелой
стихотворной манере, основанной на широком использовании национальной
традиции, Бехер вновь взялся за поиски решения эпической задачи.
Он решил ее. Этому доказательство — его «романы в стихах», небольшие
поэмы, составляющие особую главу в поэтическом развитии Бехера. Не касаясь
ее в целом, отметим, что, новаторские по существу, эти поэмы, вводившие
в обиход новый повествовательный жанр социалистического реализма, обна-
руживали разнообразие творческих связей их автора с традицией. Один из ро-
манов —«Сельские Ромео и Юлия»— был вольной обработкой одноименной
новеллы швейцарского писателя Г. Келлера, выдающегося мастера крити-
ческого реализма. Под пером Бехера старый сюжет ожил, заиграл новыми
красками, получил глубоко оптимистическое звучание, освободился от налета
поучительной сентиментальности, все же присутствовавшего в замечательной
новелле.
Роман в стихах «Поездка в Теруэль» посвящен войне за свободу Испании.
Казалось бы, где искать здесь традиции? Но вот она: Бехер избрал для этого
произведения терцину, и вся поэма зазвучала в тональности Данте. В поэзии
Бехера нередко встречается образ Данте тоже поэта, тоже политического бор-
ца, тоже изгнанника, тоскующего по отчизне. Не раз писал Бехер и терцинами.
Но именно в данном случае они зазвучали особенно полновесно, наполнились
особенно жгучим, современным содержанием — войной, ненавистью, пылкой
любовью к свободе, чувством поэта-бойца, на чужой земле сражавшегося за
свободу своей отчизны.
Третий аспект использования традиции виден в «романе в стихах», озаг-
лавленном «Гриммельсгаузен».
Бехер особенно много сделал для того, чтобы великая немецкая литература
1 Ma у pep Г. (род. 1907) — немецкий поэт (ГДР). Та уф ер И. (род. 1911) — чешский
поэт.— Ред.
2 См., например, «Звездные сонеты» Л. Вышеславцева, сочувственно отмеченные М. Рыльским
(Правда. 1963. 13 янв.).
269
XVII в., в течение долгого времени остававшаяся в тени и недооцененная в са-
мой Германии, вышла в большой свет мировой литературы, была понята во
всем своем потрясающем трагизме. Среди многочисленных обращений к лите-
ратуре XVII в., пронизанной скорбью по Германии, растерзанной войной, нашел
свое место и роман о великом немецком писателе XVII в.— Гриммельсгаузене.
Он был прозаик; но в строфах романа Бехера широко использована не только
жизнь Гриммельсгаузена, а и его творческая манера, неповторимое смешение
трагизма и юмора, могучая реалистическая живопись, полная любви к родине
и гнева против тех, кто довел Германию до катастрофы.
Решенная на практике, проблема «эпоса в стихах» нашла отражение в тео-
ретических работах Бехера. У этого жанра большое будущее — не только
в литературе ГДР. Тем более важны строки, посвященные ему Бехером.
Среди эпох, к которым обращается Бехер в поисках традиций, особое место
занимают XVII и XVIII вв. и эпоха Возрождения. Обращение к родной литера-
туре XVII и XVIII столетий вполне понятно: в обоих случаях речь идет о могу-
чей национальной традиции, обильно пронизанной политическими проблемами.
Особенно понятно обращение к Гете и Шиллеру; Гете был для Бехера вопло-
щением великой немецкой поэтической судьбы, создателем основ немецкого
гуманизма, гармоническим человеком, близким к образу Леонардо.
Именно Леонардо, человека Возрождения, избрал Бехер для создания
своего вдохновенного эссе о гармоническом человеке. Именно эпоха Возрож-
дения запечатлена в его сонетах особенно крупной группой портретов. Именно
к ней обратился Бехер, изучая вековую традицию сонета.
Видимо, эпоха Возрождения увлекала Бехера как великая революционная
эпоха, как всеобъемлющий переворот в истории и культуре человечества. Там,
в ее великих общественных бурях созрели характеры, особенно близкие и по-
нятные революционеру Бехеру, сыну другой революционной эпохи, неизмеримо
более важной в истории человечества, нежели Ренессанс. Наши современники
часто всматриваются в эпоху Возрождения. Интерес Иоганнеса Бехера совпа-
дал с интересом к ней Горького, зорко подметившего еще до 1917 г. особую ак-
тивность народных масс в культуре Ренессанса, связь ее с народными корнями.
Народность эстетики социалистического реализма у Бехера связана с народ-
ностью великого искусства эпохи Возрождения; Бехер сознательно обращается
к этому опыту мирового реалистического искусства, осваивает его для совре-
менного искусства социалистического реализма.
Требуя от современного художника социалистического реализма зрелых
и совершенных произведений и сам их создавая, Бехер проявлял особую заботу
о языке. Среди многочисленных соображений о природе художественной формы
проблема языка занимает в книгах Бехера особенно заметное место. Бехер-те-
оретик вводит в свои книги образцы тщательного разбора целых стихотворений,
чтобы показать вес и вкус слова, его специфику в поэтическом речении. Осо-
бенно впечатляюще и значительно то, что говорится о языке поэзии в «Малом
учении о сонете»: это уже своеобразная высшая математика исследования
языка поэтического произведения, осуществленная, в отличие от формалисти-
ческих потуг, без формул и уравнений. В проникновенных и суровых заметках
Бехера о языке, разбросанных по всем его четырем книгам, есть мудрость
опытного и взыскательного художника, настойчиво зовущего своих учеников
к упорному черновому труду, к постижению живой тайны поэтического
языка.
Проблема языка в работах Бехера занимает столь значительное место
прежде всего потому, что для него — это важнейшая сторона проблемы стиля.
Бехер не отождествляет представление о стиле писателя только с представле-
нием о его языке. Но совершенно ясно, что, являясь определенным ингредиен-
том творческого метода, стиль для Бехера выражается с особой ясностью
и полнотой именно в речи художественного произведения.
270
Применительно к общим проблемам стиля Бехер особо выделял значение
точного, конкретного стиля. Понятие точности (Genauigkeit) и конкретности
стиля для Бехера имело определенное философское значение. Оно было связано
с его общей эстетической позицией художника-реалиста. Так, например, Бехер
высоко ценил стиль сонетов Шекспира именно за конкретность образного вы-
ражения идей поэта. Критикуя переводы сонетов Шекспира, сделанные из-
вестным поэтом-модернистом Ст. Георге и не менее известным эссеистом К.
Краусом, Бехер отвергал методы обоих переводчиков именно за отход от конк-
ретности образной системы Шекспира. Бехер считал, что Георге заменял ее
чрезмерной пышностью и абстрактностью найденных им эквивалентов, которые
действительно были далеки от шекспировской образной стихии. Краус, по мне-
нию Бехера, придавал ренессансной образной системе несколько интимизиро-
ванный, камерный характер. В обоих случаях — ив этом нельзя не согласиться
с Бехером — переводчики действительно отходили от жизненной конкретности
образов великого Шекспира, рожденной его ренессансной реалистической
эстетикой.
Понятие точного стиля у Бехера отвечало, видимо, полноте выражения
мысли художника, стремящегося особенно эффективно передать реальность
жизни или реальность поэтического замысла, отразить действительность имен-
но теми словами, которые с наибольшей приближенностью к ней воплотили бы
ее сущность — сущность объекта или процесса. Так, например, Бехер расска-
зывает об умирающем писателе, правящем корректуру своей книги. Последнее
замечание, внесенное им, сводилось к тому, что во фразе «усыпанная белой
галькой, дорога убегала в воспоминания» он переправил «убегала» на «теря-
лась» (в воспоминаниях). «Вместо «убегала»—«терялась»,— фиксирует Бехер
и добавляет, что умирающему казалось, будто этой внешне незначительной
поправкой он внес существенное улучшение. «Быть может, он хотел дать понять
этим, что до смертного часа надо быть готовым править свой стиль, править
свою жизнь. Он заменил оборот, на его взгляд неудовлетворительный, более
точным, он и в последнюю минуту своей жизни что-то вычеркнул и вместо этого
написал нечто иное... Он вычеркнул некую ошибку своей жизни и заменил
ложное— истинным» [V. d. P., S. 86]. Заканчивая эту поразительную краткую
новеллу о художнике, верном себе до последнего вздоха, Бехер заключает: поэт
сам стал в этот час расставания с жизнью собственным стихотворением, луч-
шим и последним.
Проблема стиля для Бехера применительно к современной литературе —
проблема выявления творческой индивидуальности нового человека. По-своему
развивая старинное изречение Бюффона «стиль — это человек», Бехер вкла-
дывает в эту общую фразу глубокое конкретно-историческое содержание. Ху-
дожник социалистического реализма в его книгах — это мастер, который отно-
сится к своему стилю с неумолимой требовательностью, диктуемой самой ролью
искусства в новом обществе. Очень важно различать в трудах Бехера мысли,
касающиеся проблем стиля в историко-литературном плане и в плане глубоко
актуальном, в плане разработки эстетики социалистического реализма. Све-
денный к общему выводу, этот ряд мыслей Бехера заключается прежде всего
в призыве создать подлинно современный стиль, способный выразить пережи-
ваемую нами эпоху во всей ее полноте. Этот подлинно современный стиль,
в понимании Бехера, вбирая в себя лучшие традиции искусства прошлых веков,
призван прежде всего с наибольшей полнотой выразить содержание современ-
ности, специфику мысли и чувства нового человека — борца и зиждителя.
Подлинно современный стиль, за который борется Бехер,— это стиль, рож-
даемый и активным художественным восприятием действительности, и глубокой
творческой философской мыслью, и точным знанием законов искусства. Это
стиль большого искусства нашего времени — искусства социалистического ре-
ализма.
271
Концепция стиля у Бехера широка. Видя в стиле сильнейшее выражение
творческой индивидуальности автора, Бехер считает возможным говорить
о совокупности индивидуальных стилей в пределах определенного творческого
метода, понимаемого как гибкая, но принципиальная система художественных
средств, служащих отражению действительности. Враг любой стилизации,
Бехер полагает, что индивидуальный стиль автора отражает его жизненный
опыт, развивается вместе с активным участием художника в жизни.
Конечно, велика роль высоких литературных образцов в выработке стиля.
Но единственно верная дорога к своему художественному стилю —«конкрет-
ному», как говорит Бехер,— вмешательство в жизнь, участие в ее битвах, про-
цесс осознания ее динамики и противоречий, процесс выработки своего миро-
воззрения, основанного на прочном философском фундаменте. Глубокая и ди-
алектическая постановка проблемы стиля в работах Бехера противостоит раз-
личным современным формалистическим концепциям стиля, по существу явля-
ющимся попыткой выдать за новинки давно опровергнутые построения русских
формалистов.
Свой взгляд на индивидуальность поэта социалистического реализма Бехер
развивает в книге «Поэтический принцип». Опираясь на собственный поэти-
ческий опыт, он заявляет, что только в условиях социалистического общества
поэтическая личность, «я» поэта становится представительным характером,
органом, посредством которого эпоха находит свой поэтический образ, вопло-
щаясь в его творчестве. «Изображая себя, поэт изображает время»,— утверж-
дает Бехер.
Немецкий поэт никому не навязывает свой опыт и свой взгляд на твор-
ческую индивидуальность. Но мы видим выражение этой индивидуальности и
в огромном масштабе творчества Бехера, и в его философской глубине, и в не-
иссякаемой поэтичности творений Бехера, которая отражает его цельное геро-
ическое восприятие мира. Это не урок и не наставление: это великий пример,
поддержанный всем жизненным и творческим путем поэта, отдавшего весь свой
талант, все свои силы делу коммунизма.
Сопоставим с героическим, сияющим миром поэзии Бехера другие миры,
созданные некоторыми поэтами нашего столетия: печальный, математически
жесткий и овеянный дыханием смерти мир Поля Валери, с которым любил по-
лемизировать Бехер, или угрюмый, искусственный, трагически напряженный
мир Т. С. Элиота. В этом сопоставлении откроется все огромное человеческое
преимущество поэзии Бехера, станет видно, что он не одинок, что созданная им
система образов сродни другим великолепным поэтическим системам — миру
Маяковского, Неруды, Арагона, миру поэзии социалистического реализма в тех
ее международных масштабах, в которых она развивается в наши дни.
Эстетика Бехера — боевая эстетика поэта, привыкшего прямо и принципи-
ально выражать свое мнение, ведущего последовательную и непримиримую
борьбу с противником — с буржуазным обществом и его пережитками, с его
идеологией и искусством. Позитивные стороны эстетики Бехера неотделимы от
обильного критического материала, рассыпанного в его работах. Бехер утвер-
ждает свои идеи, дискутируя с литературой империалистической реакции и
с литературой модернизма. Тесная связь убедительной острой критики с утвер-
ждением основ социалистической эстетики является важнейшей стороной
«Опытов» Бехера. Он учит критике воинствующей.
В книге «В защиту поэзии» он защищает современную литературу и от тех,
кто хочет превратить ее в оружие империалистической реакции, вроде
Д. Оруэлла с его антикоммунистическими памфлетами, и от тех, кто насыщает ее
кошмарами атомного психоза, вроде О. Хаксли, и от тех, кто видит в поэзии
272
кабинетную забаву. «Полуправда» натуралистического романа Н. Мейлера
«Нагие и мертвые» кажется ему столь же неприемлемой, как и «салонный
мистицизм» Т. С. Элиота. Бехер защищает поэзию наших дней и от тех запад-
ногерманских литераторов, которые способствуют своими писаниями «холодной
войне», и от Э. Юнгера, прикидывающегося их врагом. Напоминая о том, как
хладнокровно описывает Юнгер в своей книге «Озарения» казнь дезертира,
повешенного нацистским патрулем, Бехер спрашивает читателя: «не выдает ли
чрезмерная подробность в изображении этого ужаса глубокого наслаждения
им?» «У Юнгера,— заключает Бехер,—манерное, субтильное наслаждение
злом» [V. d. P., S. 138]. Развивая эстетику лирической поэзии социалисти-
ческого реализма, Бехер остро критикует книгу «Проблема лирики», написан-
ную Г. Бенном — талантливым поэтом-модернистом, автором произведений,
насыщенных отчаянием и цинизмом.
В книге «Поэтическое вероисповедание» Бехер спорит с выдающимся
французским поэтом П. Валери, с С. Малларме и его эстетикой суверенного
слова как самоцели поэтического творчества, с Элиотом и снова с Г. Бенном.
Бехер гневно обличает «литературу идеологических наркотиков», изготовляе-
мую в США; он называет «абсурдным модернизмом» теории абстрактного
искусства, распространившиеся в капиталистическом мире после второй миро-
вой войны.
В книге «Власть поэзии» он выступает против Пруста и Джойса, которых
уже тогда — в середине 50-х годов — модернисты считали корифеями романа
XX в.
«Это ошибка,— пишет Бехер,— предполагать, что, например, Пруст или
Джойс обогатили роман новым психологическим моментом. Как раз наоборот.
Они потерялись в случайных психологических деталях, разбежались по мно-
жеству линий и, по существу, ничего не могут сказать о психологии человека.
Посредством такого психологизма тоже можно обесчеловечить человека и до-
вести его до состояния вульгарного клубка рефлексов» [M. d. P., S. 224]. Та-
кому «психологизму» модернистов Бехер противопоставлял подлинно новый
психологизм социалистического реализма, изображающий «человека в целом».
В книге «Поэтический принцип» дан развернутый анализ стихотворений
Бенна и Т. С. Элиота. Ведя читателя от строки к строке, Бехер показывает пре-
делы модернистской поэтики, ее скованность, искусственность, неполноцен-
ность.
Анализируя высказывания Бехера о литературе, порождаемой упадком
буржуазного общества, можно заметить, что Бехер обладал определенной
системой взглядов на этот комплекс историко-литературных проблем. Под
«модернизмом», возможно, не без воздействия русского словоупотребления
этого термина, Бехер понимал именно проявления упадочного искусства во всей
его сложности. Он избегал немецкого термина «moderne literatur» в смысле
«современная литература», что так характерно для старой немецкой буржуаз-
ной критики и современной критики в ФРГ.
Литература модернизма — различные течения европейской литературы
между двумя войнами и после второй мировой войны, включая такие фигуры,
как П. Валери, Т. С. Элиот, Г. Бенн,— была для Бехера одним из проявлений
литературы декаданса. Нередко он употребляет оба термина на равных осно-
ваниях и никогда не делает между ними принципиального различия. Если Бехер
и отличает понятие «декаданс» от понятия «модернизм», то видит в них разви-
тие комплекса явлений, в целом обозначаемого им как упадочное искусство
буржуазного общества, втягивающегося во все более глубокий кризис.
Со всей страстью поэта-мыслителя Бехер критиковал гносеологические
основы декаданса и модернизма. Он видел коренную связь упадочного искус-
ства с воинствующим идеализмом, с философией мракобесия, с отказом от
примата разума. Он беспощадно высмеял Готфрида Бенна за его фразу
273
«мозг—это заблуждение». Да, констатирует Бехер, мозг может быть и за-
блуждением, как это обстоит с Бенном. Но еще хуже, когда приходится гово-
рить о «безмозглости» поэта, о растворении его сознания и таланта в попытках
ниспровергнуть разум.
Бехер был резок в отзывах об искусстве модернизма. «Человеку в здравом
уме и твердой памяти,— писал он,— не доставит ничего, кроме мучений, про-
гулка по галерее абстрактных картин, и если даже при этом забыть о насмеш-
ках и остротах, то все равно остается чувство глубокого сожаления о том,
сколько загублено времени, а то и таланта» 1. Эти гневные слова прекрасно
выражают страстность Бехера-критика. Но вместе с тем он предостерегал от
бездумно-легкого, безответственного наклеивания ярлыков на сложных писа-
телей, идущих вперед непростым и зачастую мучительным путем. Он напоми-
нал: «Мы должны бороться против декаданса, но мы не должны допускать
ошибки, считать декадентами художников, в творчестве которых только есть
черты декадентства. У многих художников нашего времени эти черты — выра-
жение переходного периода» [115].
Бехер допускал возможность появления остропротиворечивых, декадентски
окрашенных комплексов у больших художников XX в., находящихся под по-
стоянным воздействием буржуазной культуры. К таким художникам он и сам
относился бережно, не уставал напоминать своим товарищам о необходимости
особой заботы о тех, кто, неуверенно и оступаясь, все же искал выхода на
большую дорогу подлинного современного искусства, кто был способен создать
произведения, правдиво запечатлевшие действительность.
Видя в модернизме сложное проявление упадка буржуазной культуры, Бехер
задумывался над самим определением упадочного искусства. Для него важ-
нейшей проблемой и здесь было изображение человека. Реализм в его раз-
личных проявлениях Бехер ценил прежде всего за разностороннее, полноцен-
ное изображение человека в живой диалектике его существа, в процессе раз-
вития. Бехер полагал, что решить в полной мере сложнейшую задачу изобра-
жения человека в его связях с действительностью может в наши дни именно
искусство социалистического реализма. К этому не способно искусство, которое
деформирует и искажает образ человека. Эту деформацию человека Бехер
и считал выражением упадка, характерной чертой декаданса, модернизма.
«В декадентском искусстве,— писал он,— человек представляется одино-
ким, отчужденным, искалеченным. Человек, как это явствует из мнений Хай-
деггера, в своей «покинутости» выдан безоружным некоему Ничто, и ему ничего
не остается, кроме отчаяния и сомнений. При этом дело обстоит не так, чтобы
апостолы декаданса сами были столь отчаявшимися и сомневающимися, нет,
они чаще всего чувствуют себя отлично, свински отлично в своей декадентской
шкуре, и несомненно, что одна из характернейших черт декаданса заключается
в том, что он — только игра и сам себя не принимает всерьез. Им кокетничают»
[114—115].
«Декадентство,— пишет Бехер об упадочном буржуазном искусстве,— это
не что иное, как метод духовного и морального разложения; людей, которые
всерьез воспринимают его как новое направление, оно делает неспособными
к объективному и связному мышлению, к выводам, которые никак не жела-
тельны для империализма» [115].
Особенно существенна мысль Бехера о том, что в декадентском искусстве
неразрывно слиты темы упадка, обреченности, чувство смерти и агрессивные
тенденции, хорошо знакомые нам по любой литературе, в которой существовали
1 Becher J. R. über Literatur und Kunst. Berlin, 1962. S. 24. Далее ссылки на это издание при-
водятся в тексте с указанием страницы.
274
и существуют декадентские течения. «Шовинизм никак не противник декадент-
ства, как и декадентство не враждебно шовинизму. В прошлом мы достаточно
часто убеждались, что оба направления взаимодолллняют друглруга, так же
как Шопенгауэр не был противником Ницше, ибо его пессимистическая фило-
софия предшествовала появлению «Воли и власти» Ницше и его учению
о сверхчеловеке» [115]. Острой критике Ницше посвящено немало страниц
в работах Бехера, глубокую реакционность идей которого он называл «варвар-
скими и первобытно-бесчеловечными».
Вполне понятно, что среди различных модернистских течений XX в. особое
внимание Бехера привлекал немецкий экспрессионизм. Он нередко возвраща-
ется к его судьбам. Упоминая о бунтарском порыве экспрессионистов, указывая
на их попытки найти новые художественные средства, Бехер считает их далеким
прошлым немецкой литературы, подвергает их эстетику принципиальной кри-
тике. Во многих случаях критика экспрессионизма звучит и как честная само-
критика маститого поэта, знакомящего своих молодых современников с труд-
ностями пройденного им пути. Такая критическая позиция Бехера тем более
понятна, что в годы, когда создавались «Опыты», и в ФРГ, и в ГДР было не-
мало сторонников возрождения экспрессионизма. Среди поэтов ФРГ традиции
экспрессионизма нередко понимались как вызов буржуазному обществу и его
культуре, как проявление «левизны» в искусстве. Обращаясь к немецкой лите-
ратурной молодежи, Бехер звал ее учиться у великих мастеров прошлых веков
и у классиков XX столетия, а не у авангардистских школ.
Остроактуальная, полная «шума жизни» и чутко откликающаяся на него,
эстетика Бехера безукоризненно исторична. Бехер строит ее на представлении
о закономерностях литературного развития, на стремлении осознать их специ-
фику и их связь с закономерностями развития общества. В книге «Власть поэ-
зии», завершая большой ее раздел «Литературная действительность»,— а под
этим термином Бехер подразумевал современный литературный процесс во всей
его сложности,— он писал: «Как нам необходим ясный, научно обоснованный
взгляд на историческое движение столетия, в которое мы живем, и переключе-
ние этого взгляда на литературную действительность!» [M. d. P., S. 232].
Этот «взгляд на литературную действительность» был разработан Бехером,
действовавшим во всеоружии своих философских и исторических знаний, по-
множенных на поэтический талант и опыт. И одна из самых важных особен-
ностей этого «взгляда», этой концепции современной литературы в работах
Бехера заключается в том, что Бехер видел в современном литературном про-
цессе сложную, разнообразнейшую по своим формам борьбу литератур социа-
листического мира и мира буржуазного; он видел — и сумел об этом сказать
необычайно убедительно — закономерность возникновения и победоносного
развития социалистического реализма.
Бехер был далек от плоского схематического представления о той ситуации
в мировой литературе, которая сложилась в ходе общего кризиса капиталисти-
ческой системы. Он не ожидал близкой или легкой победы социалистического
реализма в мировом масштабе. Он указывал на старые и новые препятствия, на
особую затрудненность процессов развития внутреннего мира художников, на
особую сложность и ответственность писателя, живущего в наши дни. Но он
твердо верил в историческую обусловленность победы социалистического реа-
лизма и умел говорить об этом с впечатляющей убежденностью.
* * *
Эстетика Иоганнеса Бехера в том ее виде, в каком она запечатлена в четы-
рех книгах «Опытов», складывалась в течение многих лет и уже отделена от
переживаемого нами момента многими событиями, которые в то время еще не
могли быть учтены поэтом. С тех пор эстетический опыт стран социализма
275
и развитие мирового искусства обогатились и продвинулись вперед. В свете
этого непрекращающегося процесса, быть может, некоторые страницы книг
Бехера вызывают желание поспорить с их автором или стали достоянием ис-
тории, ушли в наше недавнее прошлое.
Но это относится лишь к отдельным абзацам его книг; да и по сравнению
с тем, что представляют собой книги Бехера в целом, эти отрывки так мало-
численны, что, читая их, еще живее ощущаешь непреходящую ценность «Опы-
тов», как и всего наследия Бехера. Именно в наши дни, в пору все шире разви-
вающихся споров о самой сущности искусства и о путях социалистического ре-
ализма, в пору особенно сложной и напряженной борьбы против буржуазной
идеологии и ее искусства, проявляются новые и новые качества эстетики Бехе-
ра — грозного и гибкого оружия, служащего делу борьбы за современное пе-
редовое искусство. (...)
Страстный и смелый мыслитель, вооруженный отличным знанием филосо-
фии, Бехер воплощает в себе вековую культуру мысли, воспитанной прежде
всего на трудах классиков марксизма-ленинизма. Смелая диалектика мысли
Бехера обнажает нередко корни его поэтической смелости, великолепное жиз-
неутверждающее начало его искусства. Жизнерадостность Бехера выражается
в самых различных оттенках — от непосредственного лирического восторга,
с которым он пишет о красоте природы или о любимой женщине, до того высо-
кого гражданственного пафоса, который так прекрасен в его гимне Германской
Демократической Республики. Благодаря этому могучему жизнерадостному
философскому отношению к жизни, к искусству Бехер был беспощадным про-
тивником догматизма в любых его проявлениях. Это Бехер еще в начале
30-х годов создал замечательный карикатурный образ догматика —«товарища
Фелерфрая» («товарища Безошибского»), у которого в оправдание каждого
его шага сыщутся в запасе цитатка и ссылка на авторитетный документ. Дог-
матизм был сродни сектантским настроениям, так помешавшим делу объеди-
нения антифашистских сил в Германии и кое в чем проявлявшимся в жизни
молодого общества Германской Демократической Республики.
Поэтому Бехер беспощаден к схемам и догмам. Критика сектантства, ана-
лиз догматических ошибок и преодоление их, призыв бороться против шаблона
и рутины в ежедневной работе по созиданию нового общества, в работе писа-
теля над самим собой — одна из больших тем тетралогии Бехера. Борьба про-
тив догматизма была одной из задач Бехера-поэта. В догматизме он верно
чувствовал нечто глубоко враждебное поэзии, нечто антипоэтическое и мертвое
по существу. А живую поэзию видел в ее непрестанном движении, в рождении,
в благородной сложности ее живого организма, отражающей сложность жиз-
ненного процесса.
Наследие Бехера — ив его острокритических характеристиках догматизма,
и в его позитивных построениях — помогает нам отражать нападки догматиков
на сущность социалистического реализма, разоблачать их клеветнические по-
пытки подорвать общепризнанное значение советской литературы в мировом
литературном процессе. В свете работ Бехера становится особенно ясной бес-
помощность потуг догматической программы такого «искусства», в котором
многообразие жизни подменяется убогими схемами из бюрократических цир-
куляров, правда жизни — приукрашенным изображением действительности,
подгоняемым под газетные отчеты, партийность и непримиримость — полити-
канством и конъюнктурщиной.
Широкие историко-литературные концепции Бехера, органически входящие
в систему его эстетических воззрений, противостоят надуманным концепциям
догматиков, пытающихся истолковать гуманизм великих мастеров прошлого
как выражение «буржуазной ограниченности» их сознания. Схоластическим
придиркам вульгарных социологов Бехер противопоставляет свой конкретно
276
исторический взгляд на развитие литературы и на использование ее сокровищ
для построения фундамента новой культуры.
Неприятие вульгарных схем, постоянная готовность бороться против догм
и умение чувствовать их тлетворное воздействие немало помогали Бехеру в его
борьбе против модернистского искусства. Бехер учил своих читателей распоз-
навать в крикливом показном «новаторстве» модернистов старые и новые шаб-
лоны писателей, подменявших изучение жизни и поиски ее точного, одухотво-
ренного изображения литературными штампами, формалистическим трюка-
чеством и идеалистической схемой. Догматике модернистов, отрицавших до-
стоинства классического литературного наследия и значение реалистического
искусства, которое, с их точки зрения, «не может» быть современным, Бехер
противопоставил свое конкретно-историческое понимание литературной тради-
ции и свой взгляд на новые горизонты, которые открываются перед искусством
социалистического реализма.
Бехер немало писал о нетерпимости, узости, ограниченности художников
и философов модернизма. Ему принадлежит заслуга последовательного рас-
крытия философской несостоятельности модернизма, закономерной окостене-
лости его идеалистических систем. Бехер указывал на их непригодность
в искусстве в той же мере, в какой непригоден догматизм вульгарно-социоло-
гического характера.
Сложный и полный борьбы путь Иоганнеса Бехера показывает, как в диа-
лектике творческого развития, в битвах современности сложился великолепный
новый тип художника XX в., воплощенный в Бехере, как и во многих других
писателях, шедших тем же славным путем.
Да, в Бехере можно видеть нечто прямо и во всем противоположное худож-
никам модернизма. У них — сомнение в самой сущности человека или эк-
зистенциалистский эрзац человечности, унижающий человеческое достоинство;
у Бехера — воинствующий мудрый гуманизм поэта-борца, знающего цену
и громким словам, и подвигу; кто, как не Бехер, понимал в полной мере вес
требовательного и мужественного изречения Гете: «В начале было дело»?
Художники-модернисты, даже самые талантливые, самые честные (и, по-
жалуй, они прежде всего) —люди с разорванным сознанием, с болезненными
комплексами, нередко страдающие буквальным раздвоением личности, о чем
мучительно и горько писал Г. Бенн, ценимый и резко критикуемый Бехером.
А сам Бехер стал со временем художником цельным и потому неисчерпаемо
богатым, воспринимающим действительность во всем ее многообразии именно
потому, что цельное мировоззрение, цельная эстетика — эстетика социалисти-
ческого реализма — дали ему возможность для постижения и отражения сов-
ременности во всей ее полноте, со всеми ее противоречиями. Они не пугали
Бехера, и тоже именно потому, что он поднялся до этой прекрасной цельности
писателя, сознательно отдающего свой огромный талант великому делу.
Теоретики современного модернизма, да и многие его художники твердят
о том, что период больших тем и характеров в искусстве нашего времени про-
шел, что современный художник не может угнаться за бесконечной сложностью
современного общественного процесса и не может охватить его полностью
в произведении искусства. Усталые дети умирающего общества, они ратуют за
изображение маленького мира, за измельченное изображение человека и его
чувств, ведущее к распаду образа. Макрокосм и микрокосм литературы пре-
жних лет превращается у современных модернистов в рассматривание жизни
под микроскопом «нового романа». К сожалению, нечто близкое к таким идеям
высказывают и некоторые зарубежные критики-марксисты, полагающие, что
современным писателям, в том числе и писателям социалистического реализма,
277
уже не дано создать верную картину современных общественных процессов во
всей их полноте; они для этого якобы слишком сложны.
То, что было создано Бехером и многими другими художниками социа-
листического реализма, является живым опровержением подобных теорий.
В творчестве Бехера наше время выражено в его цельности, в живом многооб-
разии характеров, настроений, картин, событий, психологических коллизий.
Будучи взяты все вместе,— а только так и можно судить о творчестве поэта —
произведения Бехера передают удивительно полное и достоверное ощущение
действительности, являются искусством большого и смелого стиля, вмещающим
наш век от новейших глобальных проблем, выдвинутых 50-ми годами, до чувств
и переживаний отдельного человека, который никогда не становится у Бехера
«маленьким человеком», беспомощной козявкой, объявляющей чувство собст-
венной неполноценности новым общечеловеческим мироощущением.
Современные модернисты, как и их предшественники, назойливо настаивают
на своей исключительности, неповторимости, отказываются от традиций наци-
ональной и мировой литературы, иногда выдавая это за бунт против отжившего
старого искусства. Абстрактное искусство наших дней последовательно космо-
политично и потому античеловечно, мертво, безродно. Искусство Бехера осно-
вывается на многовековой традиции немецкой литературы и столь же уверенно
связывает себя с опытом мировой литературы. Новаторство Бехера-поэта от-
четливо видно именно в сравнении с великими завоеваниями прошлого, хозяи-
ном которых стал человек XX столетия — поэт и преобразователь мира Бехер.
Для художника-модерниста действительность заключена в нем самом и
с ним перестает существовать. Бехер, страстный и пытливый исследователь
жизни, раскрывший для себя и своих читателей немало ее загадок и тайн, зовет
к дальнейшему поэтическому открытию современности, преображающейся на
наших глазах, к воплощению ее меняющихся форм, к достижению целей, вста-
ющих перед нами в этой действительности. И поэтому Бехер будет жить как
один из великих поэтов нашего века, завещавший нам песни и мысли, служа-
щие оружием борьбы за будущее человечества. «Власть поэзии не может огра-
ничиться только поэзией, она распространяется на все. Интересы поэзии без-
граничны. Именно потому она и есть власть...» [M. d. P., S. 218]. Бехер доказал
всем своим творчеством правоту этих слов, полных веры в великое будущее
искусства социалистического реализма.
1965
ФИЛОСОФСКАЯ ПОЭЗИЯ ИОГАННЕСА БЕХЕРА
Проблему о соотношениях художественного метода и творческой индивиду-
альности хочется рассмотреть на примере литературной деятельности замеча-
тельного немецкого поэта Иоганнеса Бехера.
Обращение к Бехеру — мыслителю и художнику оправдано: Бехер — и один
из крупнейших лириков XX в., и автор выдающихся по богатству мысли книг
о поэтическом мастерстве.
Положение об «эстетическом освоении мира» как о вмешательстве в жизнь,
при котором поэт руководствуется определенным идейным комплексом, выдви-
гается Бехером на первый план в его поэтике. Из этого положения и разверты-
вается затем представление Бехера о поэзии как о таком отражении действи-
тельности, при котором поэт активно вмешивается в сущность происходящего,
участвует в борьбе за изменение мира. Через сравнение с эстетикой Гете Бехер
указывает на известную преемственную связь социалистического искусства
наших дней с великим искусством прошлого, но подчеркивает историческое
278
своеобразие социалистической эстетики, понимаемой им как новый великий
этап в развитии человечества.
Бехер-теоретик и Бехер-поэт — блистательное явление современной социа-
листической культуры. Значение Бехера для развития социалистического реа-
лизма в немецкой литературе и в литературе мировой трудно переоценить. Его
творчество, начиная с 30-х годов, обнаруживает глубоко национальный харак-
тер немецкого социалистического реализма, дает пример для доказательства
неисчерпаемого многообразия различных национальных форм социалисти-
ческого искусства.
Вместе с тем теоретические высказывания Бехера и его творчество убеди-
тельно говорят и о том, что именно социалистическое искусство дает неогра-
ниченные возможности для развития творческой индивидуальности поэта. Как
страстно борется Бехер против тех, кто мешает этому, кто затемняет великие
творческие перспективы развития искусства при социализме безграмотными
сектантскими рассуждениями, мещанской клеветой, охотно рядящейся в ризы
ревизионизма!
Именно потому Бехер пишет, что его замечания о современном искусстве —
это устремления, усилия (Meine Bemerkungen und Bemühungen). Бехер гово-
рит в своих четырех книгах \ что он стремился пополнить нашу общую эстети-
ческую теорию о закономерностях искусства тем, что высказал некоторые мыс-
ли о специфическом характере отдельных родов словесности — прежде всего
лирики — и тем хотел «побудить литературоведов к разработке этой конкрет-
ной стороны эстетической теории».
Так сам Бехер заявляет об индивидуальной специфике своего поэтического
принципа: для него во всем процессе развития словесного искусства социа-
листического реализма важна прежде всего проблема лирики.
Развивая далее свой взгляд на специфику лирики как жанра, Бехер утвер-
ждает, что эта специфика прежде всего связана с личностью самого поэта, так
как поэт-лирик — герой своего стихотворения; он, по словам Бехера, «изобра-
жает самого себя». Выдвигая это утверждение, которое звучит спорно, Бехер
далее существенно уточняет свою формулировку: «Изображая себя, он изоб-
ражает свое время,— пишет Бехер о поэте-лирике.— Нельзя заменить «я» по-
нятием «мы» и думать, что «мы»—это не «я». Это было бы вполне схемати-
чески-бюрократическим истолкованием. «Мы» в таких случаях все равно оста-
ется: «я»...» И далее, ставя вопрос о том, насколько время может отразиться
в лирическом творчестве, насколько «изображение себя» в лирической поэзии
становится изображением эпохи, каковы при этом индивидуальные возмож-
ности поэта-лирика, Бехер ссылается на собственный опыт. «Моя концепция
поэтического творчества или мой поэтический принцип отличается от воззрений
других поэтов прежде всего в двух пунктах...»— утверждал Бехер и так фор-
мулировал эти два пункта:
«1) Лирический поэт, создавая свой образ, тем самым воплощает в образ-
ную форму определенную проблему современности, причем это «я», поэти-
ческая личность, должно стать представительным характером, органом, по-
средством которого эпоха находит вновь свой поэтический образ.
2) Поэтический принцип надо отстаивать не только в художественном
творчестве, но и за его пределами. Моя общественная деятельность, как я ее
осуществляю, есть не что иное, как подобная «защита поэзии» [P. P., S. 227—
228]. Следуя за поэтом, мы можем сказать вместе с Бехером, что его лири-
ческая поэзия — действительно грандиозная картина целого полустолетия, «от
начала XX века», как говорит Бехер, до «середины века»: начало столетия,
первая мировая война, послевоенные годы с 1919 по 1933, изгнание, вторая
1 См. предыдущую статью.— Ред.
2 Becher Johannes R. Das poetische Prinzip. S. 232. Далее ссылки на это издание.
279
мировая война, возвращение домой, «возрождение Германии из руин, новое
в нашей жизни»,— перебирает Бехер события, которыми жила его поэзия,—
и думая о них, мы читаем эти даты почти как названия книг лирики Бехера. Тут
же Бехер дистанцируется от мысли о том, что лирический поэт всю жизнь пи-
шет одно стихотворение — т. е. от теории неизменности таланта лирического
поэта. Нет, талант поэта меняется вместе с его эпохой и откликается на нее,
утверждает Бехер.
Так, четко ставя вопрос о тесной связи поэта-лирика с современностью,
Бехер много внимания уделяет проблеме познания современности. Живая фило-
софская мысль всегда обогащает и его теоретические построения, и его поэзию:
индивидуальной особенностью лирики Бехера оказывается не только острое
чувство времени, но и философская содержательность, плодотворное соедине-
ние «мысли и духа», о котором поэт говорит постоянно. В теоретических рабо-
тах Бехера и в его стихах положения научного социализма, идеи классиков
марксизма-ленинизма раскрываются во всей их поэтической человечности, в их
коммунистическом гуманизме. Органическое единение философской мысли
и поэтического таланта отличает стихи Бехера от творчества многих поэтов
современности, в чьих произведениях еще не преодолено несколько механисти-
ческое восприятие философской мысли, вследствие чего возникают случаи на-
рочитого, искусственного соединения лирики и философии, лирики и политики.
Выражаясь словами Белинского, сказанными о Беранже, у Бехера «полити-
ка — это поэзия, а поэзия — политика»— в том новом смысле слова, который,
естественно, мы вкладываем в это определение, если прилагаем его к поэту-
современнику.
Философское понимание и ощущение действительности (мы умышленно
в данном случае ставим эти два различных понятия рядом, так как для Бехера
они тесно связаны и взаимопроницаемы) придают поэзии Бехера ту величавую
историческую перспективу, которая специфична для всего его зрелого твор-
чества. Отсюда сложный поэтический образ Германии в его стихах: единство
ландшафтов и эпох, насыщенных драматическим историческим содержанием,
которое воплощается в фигурах великих немцев — Рименшнейдера ', Мюнцера,
Гриммельсгаузена, Гельдерлина, Гете и других, кому посвящены сонеты Бехе-
ра, гармонически выражающие и личность поэта, создавшего их (сонет Бехера
неповторимо индивидуален по форме), и личность того, о ком говорится в его
строках. Острое чувство времени заставляет Бехера с особой страстью вникать
в историю своего народа, искать в ней ответа на острые вопросы современности.
Тридцатилетняя война как огромный и сложный образ лирики Бехера — совсем
не просто беспросветная юдоль скорби, как в писаниях буржуазных авторов.
Это страшное испытание, постигшее немецкий народ, но доказавшее его жиз-
ненность и выдержку. И если тогда народ не погиб — таков вывод поэта,— то
тем более теперь, опираясь на братскую поддержку других народов, освобо-
дивших его от нацистского кошмара, поднимется он для новой жизни. И долг
писателя XX в.— не только восхищаться стоическим мужеством летописцев той
эпохи, Гриммельсгаузена и Грифиуса, о которых Бехер вспоминает с таким
глубоким уважением, но и самому активно участвовать в этом подъеме «к но-
вой жизни», выражаясь словами Бехера.
В обобщенных лирических образах выступает в поэзии Бехера и вековая
революционная традиция немецкого народа, воспетая им от дней «Бедного
Конрада» до классовых битв 1918—1923 гг., в которых Бехер получил свое бо-
евое крещение. Можно указать и на другие подобные обобщенные лирические
образы, проникнутые острым ощущением истории, в которую столь быстро
превращается событие современности. Это образы подпольщиков-антифа-
1 Рименшнейдер Т. (ок. 1460—1531) — немецкий скульптор. Во время Крестьянской
войны стал на сторону восставших крестьян.— Ред.
280
шистов, образы советских солдат, защищающих на полях сражений Отечест-
венной войны будущее человечества. В стихах 50-х годов о ГДР — это образы
немецких трудящихся, ищущих пути вперед, поднимающих страну из руин,
строящих новую жизнь, добывающих то самое «счастье далей», которое свег
тится все ближе, которому посвятил Бехер сборник своих стихов («Счастье да-
лей близко»).
Обобщенные образы событий, стран, народов, классов у Бехера — глубоко
индивидуальная особенность его поэзии, тем более ценная, что личность в этих
обобщенных лирических образах не стирается. Намеченная особым лирическим
почерком, она и в обобщенном виде остается личностью, как личностями оста-
ются фигуры борцов-антифашистов на гениальном памятнике Крамера в Бу-
хенвальде. Между манерой Крамера и лирическим обобщением Бехера есть
много общего. Эта манера лирического обобщения событий, людей, картин при-
роды прямо связана с лирическим историзмом Бехера, с его глубоким чувством
времени как вечно изменяющегося, движущегося фактора развития действи-
тельности и личности поэта.
«Вот в чем новое,— писал Бехер в статье «О новом в литературе»,—
вжиться в могучий шум, с которым несется поток нашего времени — слышите
этот могучий шум? То шумит новая жизнь!» По-своему этот лирический —
в полном смысле слова музыкальный и ритмический образ шумящего време-
ни — соизмерим со словами Александра Блока о «музыке сфер», которую дол-
жен слышать и понимать каждый настоящий поэт. Но это поэтическое ощуще-
ние времени у поэта социалистического реализма Бехера оказалось новым, от-
личающимся от ощущения Блока, и он нашел для него новое образное вопло-
щение, отказавшись от платоновского образа, к которому обращался русский
поэт.
Так анализ образа времени и историзма лирики Бехера привел нас — впол-
не закономерно — к понятию и образу нового, которое имеет огромное и слож-
ное значение в поэзии Бехера. Новое для Бехера не сводится к описанию трак-
торов и рабочих собраний, как это еще бывает у некоторых поэтов. Оно отнюдь
не сводится и к злободневной агитационной политической поэзии, хотя Бехер не
раз показывал себя мастером и этой нужной формы.
Новое, утверждает Бехер, нельзя показать вне борьбы со старым, в которой
старое нередко пытается прикинуться новым и удушить подлинно новое. Пора-
зительное по сконцентрированной презрительной ненависти разоблачение на-
цизма в поэзии Бехера, как и его неустанная борьба против всего, что мешало
развитию молодой демократической Германии, тесно связаны с этим умением
срывать маски с исторических мертвецов, пытающихся выдать себя за провоз-
вестников будущего. Образ нового в лирике Бехера — необыкновенно много-
стороннее художественное явление, охватывающее и гигантские общественные
процессы, и судьбы отдельных людей, и природу, подчиненную людям, которые
умеют и калечить и улучшать ее. С большой силой лирический образ нового
у Иоганнеса Бехера выступает в стихотворении «Мертвые деревья»: весной
среди мрачных руин города, испепеленного громами войны, вдруг зазеленели
ветки, уцелевшие на уродливых обгорелых стволах старых деревьев: и опять
вешний цвет лег на опаленную землю, и над могилами звучит пение птиц. Новое
возникает не на пустом месте. У нового есть корни в старом. Изображать но-
вое — это значит судить и о старом: и о поразительной жизненной силе старых
стволов, все же давших новые побеги, и о смертоносной силе зла, грозящего
всякой жизни. Такова поэтическая диалектика образа нового у Бехера.
Черты нового надо уметь открывать в повседневной жизни, как бы ни была
она трудна — учит лирика Бехера. И недаром в его работах по вопросам эсте-
тики так часто встречается слово «entdecken»—«открывать». «Я всю жизнь от-
крывал для себя новых поэтов и новые книги, и меня всегда тянуло рвануться
вперед и увидеть новое»,— писал Бехер. О своих четырех книгах по вопросам
281
эстетики он сказал, что они «написаны под знаком этой страсти к открытиям,
б^ которую входит и чувство того, как бесконечны возможности открытий также
и в литературе!» [P. P., S. 108].
Вполне понятно, что творческое постижение нового тоже было для Бехера
радостью поэтических открытий. Он писал об этом в цитируемой выше статье.
«Новое в своей специфике состоит для нас прежде всего в том, что мы заново
открываем страну, в которой нам надо проявить себя, в ее истории, в ее людях,
в ее величии и ее слабости, во всем многообразии ее красоты и во всем богат-
стве ее природы. В этом новооткрытии,— писал Бехер, уже прямо переходя
к немецким писателям, обращаясь к ним,— таится и новая страстная любовь,
такая, какой до сих пор не знала наша литература. В той мере, в какой были мы
лишены родины, росла в нас любовь к родине,— но с тем, что мы создадим ро-
дину новую...»
Пафос открытия нового в том, что кипело вокруг Бехера в 50-х годах в мо-
лодом государстве немецких трудящихся, стал живым источником его поэзии.
В праздничный день среди развалин Берлина он находил это новое в играх
и веселье детворы, которая была еще краше и трогательнее, еще жизнерадост-
нее на фоне руин («В развалинах»); в заботливом женском труде, который со-
хранил в невзгодах войны дом для того, кто вернулся из плена («Трапеза вер-
нувшегося домой»); в электростанции, восстановленной из руин — и принад-
лежащей теперь народу; в крестьянке, которая сама тащит тяжкий плуг по
пашне — чтобы был хлеб. Со временем эти образы народа, поднимающего из
разрухи страну, делались все радостнее, все лучезарнее — лирик Бехер откры-
вал новые и новые чудеса жизни, возникавшие вокруг него. Среди поздних
стихотворений Бехера, которые стали подлинными художественными открыти-
ями, бессмертным вкладом в изображение свободного народа, строящего со-
циализм, отметим стихотворение с полемическим названием «Хвала творцу»,
славящее человека, переделывающего мир — или, как поэтически сказал об
этом Бехер, создающего мир заново. Высоко ценя ясность и полноту выражения
идеи, Бехер, естественно, как хороший философ, придает огромное значение
поэтической форме — как собственно языку поэтического произведения, так
и стиху. Совершенство формы, плодотворное новаторство, учитывающее и за-
дачи современной поэзии, и значение поэтической традиции, отличают поэзию
Бехера. В связи с этим нельзя не отметить как глубоко индивидуальное выра-
жение таланта Бехера его любовь к сонету. В революционной поэзии XX в. не
раз делались попытки оживить этот емкий и открывающий огромные возмож-
ности жанр (Бехер прав, когда считает сонет именно жанром лирики). Укажем
на попытки такого рода в русской советской поэзии — венки сонетов Сельвин-
ского, Тарловского. Но только Бехеру удалось вдохнуть подлинную новую
жизнь в сонет, сделать его полноправным современным поэтическим жанром,
значение которого он разъяснил как теоретик в работе «Малое учение о соне-
те». Некоторые поэты Германской Демократической Республики тоже обраща-
лись к старинным и редким поэтическим жанрам. Так, например, С. Хермлин
создал вполне своеобразный вариант французской баллады на немецкой почве.
Но, сами по себе превосходные, баллады Хермлина в известной мере стилиза-
ция, чего не скажешь о сонетах Бехера, и это объясняется гораздо большим
единством формы и содержания, достигнутым в сонетах поэта. А это качество,
в свою очередь, зависит, как я думаю, от глубокого и поэтически разработан-
ного философского содержания сонетов Бехера.
Кстати, отметим и коренное различие между сонетами поэта социалисти-
ческого реализма Бехера и сонетами такого признанного поэта XX столе-
тия, как Р. М. Рильке. Рильке деформировал жанр сонета, вводил в него не
присущие ему метры, преобразил его в великолепную импрессию,— но лишил
законченности, четкости («Сонеты к Орфею»):
282
Литература Германской Демократической Республики богата значитель-
ными поэтическими дарованиями, притом очень различными. Поэтическая ма-
нера С. Хермлина резко отличается от стиля Курта Бартеля, лирика покойного
Л. Фюрнберга так же неповторимо своеобразна, как поэзия Маурера или Фю-
мана. Но если вспомнить, что каждый из этих поэтов, как и многие другие,
брался за сложную задачу изображения современника, пытался создать образы
людей, строящих в ГДР новый мир, то в общем их сравнении с опытом И. Бехера
откроются и глубоко индивидуальные художественные средства, которыми
пользовались для этого названные поэты, и огромный успех в достижении этой
цели, выпавший на долю Бехера — мастера глубоких лирических обобщений,
поэта, умеющего создать и поэтический образ массы, и показать в обобщенном
виде черты и настроения индивидуальности,— а среди них — запечатлеть
с особой полнотой и выразительностью свои собственные черты, черты поэта
эпохи социалистических революций.
Мне кажется, приведенные соображения позволяют сделать вывод о том,
что поэтическая индивидуальность лирического поэта Бехера сложилась
и развилась со всей полнотой именно в условиях построения социалистического
общества, одним из зодчих которого был и Бехер, в процессе осознания им за-
дач, стоящих перед ним как поэтом этого общества. Стремясь осознать задачи
и сущность социалистического искусства и определить свое место в современ-
ной поэзии стран социализма, Бехер пришел и к глубоко индивидуальным, но
представляющим значительную общую ценность взглядам на современную ли-
рику, создал произведения, в которых с наибольшей полнотой выразилась со-
циалистическая сущность его искусства.
В свое время у нас много спорили о соотношении метода и мировоззрения.
Были сторонники их полного противопоставления; среди тех, кто оспаривал
этот неверный тезис, встречались и сторонники прямого и наивного отождеств-
ления метода и мировоззрения. Пример Бехера дает основания тому, чтобы го-
ворить о неразрывной диалектической связи и взаимообогащении метода и ми-
ровоззрения, направления и творческой индивидуальности, о плодотворном
воздействии передовых философских и эстетических идей на развитие писателя.
Однако при этом необходимо, чтобы идеи были восприняты, осмыслены и усво-
ены поэтом творчески, с осознанием их специфики в данной области искусства
и пониманием того, что искусство, отражающее действительность и ею порож-
даемое,— изменяется и развивается вместе с действительностью и не терпит ни
скупых схем, ни субъективных абстракций.
1964
ВИЛЛИ БРЕДЕЛЬ
Вилли Бредель — известный немецкий писатель нашего столетия, один из
зачинателей литературы Германской Демократической Республики — являет
редкостный пример единства жизненного и творческого пути. Он родился
в Гамбурге, в первый год нового века. Слесарь гамбургских верфей, он уже
в 1917 г. становится членом «Союза „Спартака"», славной боевой организации
немецкого рабочего класса, сыгравшей большую роль в грозные революцион-
ные месяцы 1918 г. В дальнейшем Бредель вступает в ряды Коммунистической
партии Германии и в 1923 г. участвует в гамбургском восстании, с оружием
в руках выступая против немецкого буржуазного государства. За это молодой
революционер поплатился двумя годами тюрьмы.
Когда Бредель вышел на волю, для него снова началась трудовая жизнь. То
слесарь, то моряк, он все активнее участвует в революционной борьбе. На-
283
копленный им жизненный и политический опыт просится под перо: Бредель
пробует силы в гамбургской прессе. Начав с театральных рецензий и газетных
заметок, он переходит к работе над произведениями больших масштабов. При-
говоренный в 1930 г. к двум годам заключения в крепости, Бредель именно там,
как он сам вспоминал, окончательно утверждается в своем выборе — стать пи-
сателем немецкого рабочего класса.
Жертвой усилившихся нацистских преследований оказывается и коммунист
Бредель. Уже в 1933 г. его бросают в Фульсбюттельский концентрационный
лагерь. Через тринадцать месяцев ему удается бежать в Чехословакию, откуда
он вскоре попадает в Москву.
Начинается новый этап его жизни, борьбы и писательского труда. В Москве
Бредель вместе с другими немецкими писателями редактирует антифашистский
журнал «Das Wort» («Слово») и принимает деятельное участие в жизни нашей
страны. С 1937 по 1939 г. Бредель — в Испании в качестве комиссара батальо-
на имени Тельмана.
Когда нацистские полчища обрушиваются на СССР, Бредель с первых же
дней Отечественной войны активно помогает борьбе советского народа за свою
свободу и независимость, обращаясь к солдатам гитлеровских армий с призы-
вом повернуть оружие против их подлинных врагов. Как военнослужащий Со-
ветской Армии он участвует в боях под Сталинградом. Затем он входит в На-
циональный комитет «Свободная Германия», учрежденный зимой 1943 г. для
того, чтобы объединить для задачи борьбы с гитлеризмом, борьбы за демокра-
тическую Германию наиболее сознательных солдат и офицеров из числа воен-
нопленных германского вермахта.
Бредель был среди тех представителей немецкой интеллигенции, которые
с первых же дней после победы над нацизмом приступили к заложению основ
демократической Германии. Он всемерно помогал восстановлению одного из
старейших провинциальных университетов страны, был активнейшим участни-
ком «Культурбунда»— союза передовой немецкой интеллигенции, сыгравшего
видную роль в консолидации ее сил для огромной созидательной работы, кото-
рая развернулась в советской зоне оккупации. Он стал одним из основополож-
ников и авторитетнейших представителей рождающейся новой немецкой лите-
ратуры XX в.— социалистической литературы Германской Демократической
Республики. Последние годы его кипучей жизни были до краев заполнены
творческой работой писателя, жадно улавливавшего черты нового вокруг себя,
создающего ценности для народа и во имя народа. Бредель принимает большое
участие и в развитии передовой науки о литературе: он становится президентом
Академии художеств ГДР, где руководит секцией по изучению современной
немецкой литературы, в частности литературы демократической Германии.
В 1964 г. безвременная смерть скосила Бределя. Он умер в расцвете сил,
оставив много незавершенных работ и творческих замыслов.
Конечно, сама жизнь Бределя, жизнь страстного пролетарского революци-
онера, уже была выражением яркого творческого таланта, кипевшего в этом
невысоком крепыше с копной рано поседевших волос, с молодо блестевшими
темными глазами, освещавшими живым и добрым светом его энергичное, во-
левое лицо. Это была жизнь, наполненная трудом писателя, проявившего себя
во всех жанрах прозы: творческое наследие Бределя составляют романы, по-
вести, новеллы, очерки, рассказы, эссе, сценарии. Это был труженик, делив-
шийся с читателями своим богатейшим опытом, своими раздумьями, на-
деждами.
Путь Бределя-художника, если не считать его ранних выступлений, начался
большим рабочим романом «Машиностроительный завод Н. и К.» (1930). То
284
были годы, когда немецкая революционно-пролетарская литература заметно
набирала силы. Ее ряды пополнялись за счет левой интеллигенции, под воз-
действием кризиса и натиска справа переходившей под знамена передового
искусства, и особенно за счет молодых писателей из рабочих, принесших в не-
мецкую революционную литературу свой оптимизм, уверенность в правоте
и победе дела, за которое они боролись, жизненный и политический опыт чело-
века труда, четкость социальной позиции, народный юмор. Конечно, им пред-
стояло освоить тайны художественного мастерства. Но их участие в укрепляв-
шейся и расширявшей свои ряды немецкой антиимпериалистической литературе
20-х годов заметно оживляло ее, свидетельствовало о крепнущей связи ее
с жизнью. Литература факта, литература жизненного документа нередко еще
казалась начинающим писателям — и не без оглядки на опыт молодой совет-
ской литературы — средством постижения жизненной правды и новаторством.
К числу таких писателей принадлежал и Бредель. Их установки сказались в его
первом произведении.
«Машиностроительный завод Н. и К., роман пролетарской повседнев-
ности» — так звучало полное название этой книги, в которой в соответствии
с общей концепцией автора будни большого капиталистического предприятия
в Гамбурге действительно были и материалом, и объектом изображения. Стре-
мясь раскрыть развитие характеров действующих лиц в динамике жизни, Бре-
дель повествует о конкретных социальных конфликтах, фактах классовой
борьбы, в которой сталкиваются предприниматель и его прихвостни, с одной
стороны, и пробуждающаяся масса рабочих — с другой. На этом фоне выри-
совывается роль сознательных и наиболее решительных пролетарских вожаков,
борцов за интересы рабочего класса, расплачивающихся тюрьмой за верность
своим идеалам. В первой же книге Бределя сказалась характерная особенность
его творчества: он создал произведение с совершенно конкретной целью — по-
казать, за что и как надо бороться рабочим, как им следует защищать свои ин-
тересы против растущего наступления капиталистов. Уже эта книга была
своеобразным учебником классовой борьбы в условиях временной стабилиза-
ции немецкого буржуазного общества, чреватого тем не менее усиливающимся
кризисом.
Произведение это еще во многом публицистическое, но, безусловно, новое по
жизненному материалу и по стилю, напоминающему стиль рабочей прессы
20-х годов, полное метких наблюдений, изобилующее свежей лексикой. Когда
мы читали эту книгу в начале 30-х годов, уже будучи знакомы с лирикой Бехера
и Вайнерта, с драматургией Вольфа, нам казалось, что немецкий рабочий, го-
воривший в стихах этих поэтов слогом высоким и торжественным, обрел какой-
то иной язык, в котором полнее выражен богатый мир его переживаний и на-
дежд. Примечательна и концовка романа: его герои возвращаются из тюрьмы
несломленные, готовые к новым классовым битвам. Не тогдашние господа
Гамбурга оказываются победителями в финале книги, а изнуренные заключе-
нием рабочие, только что вырвавшиеся на свободу. Они уверены, что в конеч-
ном счете их ждет победа. Замечательна тональность этого первого произведе-
ния молодого Бределя, которое послужило как бы эпиграфом к целой серии его
пролетарских романов.
Следующие два —«Улица Розенгоф» (1931) и «Параграф в защиту собст-
венности» (1932) — впервые столь серьезно и глубоко вводили в немецкую ли-
тературу антифашистскую тему: в обоих романах речь шла о повседневном от-
поре растущему натиску нацизма. И эти романы замечательны своей конкрет-
ностью, своей четкой направленностью. Однако общим недостатком ранних
произведений Бределя было отсутствие яркой фигуры главного действующего
лица. Возможно, это явилось следствием ошибочного представления о том, что
литературный герой как «яркая индивидуальность» не нужен пролетарской ли-
тературе, что он должен быть заменен героем-коллективом, к чему и стремился
285
Бредель в своих первых трех романах. Таким коллективным героем в них была
Коммунистическая партия Германии.
Но вот в 1934 г. в Лондоне вышла в свет новая книга писателя — роман
«Испытание», и это было поистине замечательное произведение, прочно во-
шедшее в классический фонд мировой антифашистской литературы, переве-
денное на многие языки, завоевавшее широкое международное признание.
Конечно, «Испытание» Бределя было великолепным учебником классовой
борьбы в конкретных условиях, сложившихся в Германии после прихода
к власти нацизма. Эта книга учила, как перенести испытание, выпавшее на до-
лю узников нацистских концлагерей, и остаться верным знамени коммунизма,
как выдержать страшный экзамен и, вернувшись в подполье, вновь найти свое
место в строю. Не каждому это под силу: один гнется и становится на колени,
другой предпочитает добровольную смерть и тем самым в конечном счете ка-
питулирует перед врагом. Но самые стойкие, самые дисциплинированные вы-
держивают испытание ценой невероятного напряжения всех духовных и физи-
ческих сил. Им помогают в этом и твердое сознание своего долга перед партией
и народом, и жгучая ненависть к палачам, терзающим родину, и глубокое
убеждение в исторической правоте дела, которому они посвятили свою жизнь.
Бредель выражает уверенность в том, что сильных духом, способных высто-
ять — большинство, что среди узников в полосатой одежде, подвергающихся
пыткам и издевательствам, гораздо больше стойких и смелых людей, чем может
показаться на первый взгляд. И в этой вере в человека, которой дышит книга,
ее огромная сила. Но конечно, особое достоинство романа состоит в том, что из
числа непокоренных страдальцев автор выделил отдельные наиболее харак-
терные фигуры и среди них подлинного героя — опытного подпольщика Тор-
стена, морально побеждающего своих палачей, остающегося самим собой, не-
смотря на все муки и пытки.
Бредель, изведавший ад Фульсбюттеля, сумел сконцентрировать в своем
романе страшные впечатления от нацистского концлагеря, не впадая вместе
с тем в натурализм. В середине 30-х годов книга его была первым правдивым
рассказом о том, что творилось за проволочными заграждениями концлагерей,
которые рекламировались нацистской пропагандой как место «воспитания
в национальном духе», где каждый «получал по заслугам», «освобождался че-
рез работу», «учился любить нацистское отечество». Карцер, пытки, издева-
тельства палачей, их посулы — через все прошел, все превозмог Торстен, за-
служив право именоваться Человеком в самом высоком смысле слова.
Откуда же Торстен черпал силы для такого подвига, что поддерживало его
в самые страшные минуты? В романе он изображен как обыкновенный человек;
автор отнюдь не стремится идеализировать его или поднять над другими людь-
ми посредством какого-либо эффектного литературного хода. Но Торстен —
представитель той тельмановской гвардии немецкого рабочего класса, которая,
подобно самому Бределю, из года в год закалялась на партийной работе в под-
полье, на судебных процессах, в тюрьмах и концлагерях. Принадлежность
к партии, чувство неразрывной связи с нею, ответственность за свое поведе-
ние — все это давало ему силы для того подвига, который совершали тысячи
немецких коммунистов в нацистских застенках. Великое чувство партийности
в одних случаях помогало им встретить мученическую смерть героями, а в дру-
гих — выжить, вернуться в строй и стать строителями новой жизни в очищен-
ной от нацизма стране. Поэтому роман Бределя был не простым повествовани-
ем о пережитом, но и попыткой заглянуть в будущее, в котором и Торстен, и ему
подобные еще найдут применение своим силам.
Роман «Испытание» значителен не только образами антифашистов. В нем
содержится и глубокий художественный анализ тех типических носителей
нравственного вырождения, тупости, подлости, которые были широко пред-
ставлены среди палачей Фульсбюттеля. И хотя нацистский сброд в целом по-
286
казан как скопище преступников и негодяев, все же и тут Бредель различает
существа, находящиеся на различных ступенях морального падения, полагая,
что на отдельных из них еще можно оказать воспитующее воздействие. Эта но-
вая для антифашистской литературы тех лет идея, выражавшая уверенность
Бределя в конечной слабости противника, была весьма важна для тактики ан-
тифашистской борьбы внутри концлагерей.
Одной из великих идей книги была идея единства. Известно, как губительно
сказалось на развертывании антифашистской борьбы до и после 1933 г. отсут-
ствие единства в рядах немецкого рабочего класса, распри между коммуниста-
ми и социал-демократами. Но теперь за колючей проволокой сидели и комму-
нисты и социал-демократы, пожинавшие горькую жатву своей разобщенности
и вражды. Бредель призывал к совместным действиям во имя будущего Герма-
нии, и это был единственно верный путь, подтвержденный в дальнейшем всей
практикой антифашистской борьбы, в которой немецкие коммунисты и социал-
демократы не раз стояли плечом к плечу, пока наконец после разгрома нацизма
не была создана Социалистическая единая партия Германии.
Богатая множеством великолепно подмеченных жизненных деталей, ясная
в идейном отношении, показывавшая усложнение внутриполитической ситуации
в Германии, книга Бределя была крупным достижением в области литературы.
Она воспитывала пафосом борьбы, правдивостью, мужеством, психологической
достоверностью. Это произведение с полным основанием было причислено
к литературе социалистического реализма.
Не так удачен оказался последовавший за «Испытанием» роман «Твой не-
известный брат» (1937). Опираясь на личный опыт подпольной работы и на
опыт, накопленный партией с 1933 г., когда Бредель был уже в эмиграции, пи-
сатель пытался дать картину борьбы антифашистского подполья в первые годы
после прихода нацистов к власти. Им владело желание показать силу этого
движения, могучие возможности сопротивления, скрытые, как верил Бредель,
в различных слоях народа, особенно в рабочем классе, и обреченность нацизма.
Но получилось так, что Бредель, совершенно справедливо не желая преуве-
личивать силы врага, как то делали некоторые другие писатели-антифашисты,
впал в иную крайность. Он недооценил и коварную тактику нацистских дема-
гогов, и свинцовую силу гитлеровского террора, и настроения упадка и разоча-
рования, ширившиеся даже среди антифашистов по мере того, как все большая
полнота власти оказывалась в руках нацистов и все наглее становилась их
внешняя политика, а другие капиталистические страны открыто потворствовали
этому укреплению нацизма на европейском континенте. В романе «Твой неиз-
вестный брат» Бредель несколько упрощенно решает серьезнейшие проблемы
тактики и стратегии антифашистской борьбы, на деле гораздо более сложные,
а временами и трагичные. Недооценил он и страшную силу заблуждений, кото-
рым поддались в те годы миллионы немцев, впоследствии жестоко за это по-
платившиеся.
Но каковы бы ни были недостатки этого романа, и он страстно призывал
продолжать и усиливать сопротивление, и он выражал несгибаемую веру писа-
теля в обреченность нацизма, веру в победу над ним. И в этом смысле роман
Бределя стоит выше тех произведений антифашистской литературы, в которых
звучали усталость, неверие, готовность принять нацизм как омерзительную, но
неизбежную форму немецкой государственности.
Недостатки романа «Твой неизвестный брат» были искуплены новым про-
изведением Бределя —«Битва на Эбро» (1939). В нем Бредель сумел показать
боевые будни одного интербригадовского подразделения, раскрыл историю его
внутреннего развития. К тому времени, когда Бредель, как и многие немецкие
коммунисты, отправился в Испанию, где шла настоящая война с фашизмом, он
уже был знаком с произведениями советской литературы, и воздействие Фур-
манова, Серафимовича, Фадеева чувствуется в романе, что делает его особенно
287
близким и понятным нам. Собственно, «Битва на Эбрс^> и не роман, а как бы
художественный отчет о деятельности военного комиссара Бределя во вверен-
ной ему части. По существу, это произведение совершенно нового жанра, каких
немало появится в годы Отечественной войны в советской литературе. Конечно,
репортерское начало, к которому так склонен был молодой Бредель, присутст-
вует и здесь, но оно подчинено мастерству обобщения уже зрелого и опытного
художника.
Роман «Битва на Эбро» посвящен операциям в районе испанской реки, за
которой переформировывались войска республиканской Испании для дальней-
шей неравной битвы,— неравной потому, что против молодых, плохо во-
оруженных сил республики сражались, кроме армии Франко, большая экспе-
диционная армия Муссолини, оснащенная авиацией и танковыми частями,
и сильная группировка немецко-фашистских войск. Бои на Эбро велись долго
и были не очень успешными для республиканских войск. Но они тем не менее
показали в этом сражении возросшую дисциплину, стойкость, умение выпол-
нять сложные операции, требовавшие четкого взаимодействия. Испытание ар-
мии на Эбро, несмотря на неудачи, было выдержано. И потому эта операция
наполнила душу верного солдата революции Бределя самыми пылкими надеж-
дами. В своей книге он повествует, как бойцы разных национальностей, раз-
личных политических воззрений, несхожих характеров в конце концов слились
в единый человеческий сплав, способный выносить любые испытания. В этом
высокий смысл книги Бределя, занимающей особое место среди произведений
об испанской войне, созданных немецкими эмигрантами-антифашистами, а за-
тем уже и писателями ГДР.
В последние предвоенные годы, наряду с работой над циклом рассказов,
Бредель нашел в себе силы взяться за огромное полотно из истории Германии,
истории немецкого рабочего класса: он начал писать трилогию «Родные и зна-
комые», которую закончил спустя много лет, после краха нацистского рейха.
Произведение это по праву можно рассматривать, как один из замечательных
образцов социалистического реализма в жанре эпопеи.
Трилогия «Родные и знакомые» писалась с 1941 по 1953 г. Она состоит из
романов «Отцы» (напечатан в 1943 г.), «Сыновья» (1949) и «Внуки» (1953).
Эти три книги охватывают многие десятилетия жизни Германии — от франко-
прусской войны 1870—1871 гг. и провозглашения империи до конца третьего
рейха и победы над нацистским государством. Трилогия Бределя глубоко свое-
образна по композиции: это и история рабочей семьи, трех ее поколений; это
и история немецкого рабочего класса, его политического пробуждения и раз-
вития.
Надо отметить особую автобиографическую основу трилогии. В известной
мере она строится на хронике семьи самого Бределя. Об этом свидетельствует
малотиражное «домашнее» издание, подготовленное писателем для друзей,—
небольшой альбом, посвященный жизни матери Бределя и ее многочисленной
семьи. Здесь мы находим снимки старого Гамбурга, фотографии конца про-
шлого века, на которых мелькают старые гамбургские социал-демократические
ферейны, заседающие в своих локалях за кружкой доброго пива, крепкие муж-
чины в котелках, с сигарками — папаша Бредель и его друзья со своими жена-
ми, и среди них миловидная женщина со смелым и прямым взглядом черных
глаз, столь схожая с самим писателем: это «родные и знакомые» в молодости.
А вот и драматический Гамбург 1918 г., где Вилли — представитель поколения
«сыновей»— начнет самостоятельный путь. Самый интересный снимок Бределя
тех далеких лет запечатлел писателя в берете Интербригады в Испании. Там
отстаивал он честь немецкого народа и немецкой коммунистической партии,
а мать все ждала его дома, уже годами ничего о нем не зная. Наконец, бабушка
Бредель, в окружении сыновей и дочек на фоне поколения «внуков», строящих
288
новую Германию. И подле нее ее любимец, совсем седой Вилли, сверкающий
темными глазами и улыбающийся своей обаятельной улыбкой.
Конечно, трилогия не во всем следует семейной хронике, но ее сцены и об-
разы оживают, когда листаешь эту книжечку, любовно воссозданную по се-
мейным архивам, и, право, она лучшая иллюстрация к трилогии, лучший к ней
комментарий. Три поколения — три огромных полотна: немецкое общество на
заре эпохи империализма, его коллизии, вызревание немецкого рабочего дви-
жения и его мучительные противоречия; эпоха борьбы за будущее Германии
в годы Веймарской республики и первые годы рейха; вторая мировая война,
в результате которой были созданы предпосылки для рождения новой Герма-
нии, первого государства немецких трудящихся.
Своеобразно искусство Бределя, умеющего передать дух эпохи, содержание
ее конфликтов через изменения в характерах действующих лиц. Противо-
поставление людей, преданных делу пролетариата, нерешительным обывателям,
людям половинчатым, над которыми тяготеет нацистская демагогия, отщепен-
цам и выродкам в нацистской форме и их пособникам, возникает само собой из
фактов и событий, поступков и характеров, запоминающихся читателю благо-
даря мастерству, с которым эти факты и характеры изображены.
Идейное богатство эпопеи Бределя подчинено четко проводимой им мысли
о том, что будущее Германии принадлежит немецким трудящимся и их аван-
гарду, что именно они при поддержке верных и надежных друзей, трудящихся
всего мира и в первую очередь Советского Союза, смогут заново начать исто-
рию своей родины.
Не все удалось в этой эпопее. Писатель сознавал это и настойчиво переде-
лывал многие ее главы. Но несмотря на те или иные недостатки трилогии, в це-
лом она — выдающееся произведение литературы социалистического реализма,
написанное в традиции больших горьковских полотен или полотен Нексе.
К трилогии Бределя о немецком рабочем классе примыкает его сценарий
двухсерийной кинопоэмы «Эрнст Тельман — сын своего класса» (1953)
и «Эрнст Тельман — вождь своего класса» (1955). Каковы бы ни были упреки,
высказанные автору по поводу этого сценария, упреки частично справедливые,
ничего более возвышенного и яркого о Тельмане в немецкой художественной
литературе написано не было.
Бредель любил рассказывать о том, как он помогал строить новую жизнь на
родной земле, о том, как в старом университете города Ростока студенты
и профессора встретили ректора-коммуниста Бределя, о том, как содействовало
ему советское командование в трудах по восстановлению нормальной жизни
университета. Пришло время, и Бредель поделился своими воспоминаниями тех
лет в романе «Новая глава» (1959), положившем начало новой эпопее —
«Хроника одного превращения», в которой повествуется уже о налаживании
мирной жизни и о возведении фундамента Германской Демократической Рес-
публики. Увлеченный своей деятельностью — прежде всего строительством ос-
нов социалистического общества в ГДР, — Бредель сумел собрать колоссаль-
ный жизненный материал, изобразить десятки людей, немцев и русских, оду-
шевленных общей целью, узнающих друг друга и самих себя по-новому в усло-
виях мирной, созидательной работы. Следует подчеркнуть боевой интернацио-
налистский дух этой книги, стремление ее автора привить немецкому читателю
любовь и уважение к советским людям.
Бредель был неутомимым искателем нового и в области тематики, и в об-
ласти жанра. Его наследие составляет весьма заметный вклад в историю не-
мецкого романа нашего столетия и особенно в историю романа ГДР. Вместе
с тем велик его вклад и в развитие малых повествовательных жанров — по-
вести, новеллы, рассказа, очерка.
Еще до войны Бредель создал ряд рассказов на исторические темы, связан-
ные главным образом с эпохой французской буржуазной революции 1789 г.
10 Р. М. Самарин
289
и освободительными войнами 1810-х гг. Сам Бредель объяснил появление этой
серии рассказов своей давней и прочной симпатией к эпохе французской рево-
люции и особым интересом к войнам Наполеона I, к плеяде его современников.
Серия рассказов и очерков Бределя, посвященных бурным событиям конца
XVIII — начала XIX в., и возникла из его интереса к остроконфликтной, полной
противоречий переломной поре мировой истории, к развитию освободительной
борьбы в Европе. Из анализа романов Бределя явствует, что он и как романист
сохранил это чувство истории, жадный интерес участника великих битв совре-
менности к их общему смыслу, некий прирожденный историзм, отличающий
в целом его наследие. Бредель был глубоко сознательным наблюдателем
и участником истории XX в.
Это глубокое ощущение исторического процесса, ощущение социальных
и психологических перемен, стремление постичь их природу очевидно в его
рассказах, многие из которых появились уже после того, как была создана
ГДР. Таков, например, цикл рассказов, посвященных второй мировой войне.
Бредель осмысляет в них страшный опыт солдата вермахта именно как пример
исторической судьбы простого немца, ставшего жертвой ложных представле-
ний, всей историей Германии подведенного к чувству неодолимого страха,
к ощущению неизбежности катастрофы. Страшный рассказ «Молчащая дерев-
ня»— повесть об одичании и обесчеловечении как типических чертах третьего
рейха. Наряду с этим в наследии Бределя есть немало юмористических, светлых
и забавных страниц, раскрывающих и другую сторону его многогранной лич-
ности. Такова книга гамбургских преданий и анекдотов —«Под башнями
и мачтами», которую сам Бредель называл «историей нашего города в рас-
сказах».
Бредель — продолжатель традиций немецкого рассказа с его обстоятельной
изобразительностью и известным элементом дидактики, в данном случае от-
четливо политической, напоминающей, что рассказы написаны журналистом,
сочетавшим в себе мастера репортажа и опытного агитатора. Своеобразна по-
вествовательная манера Бределя: в любом его рассказе чувствуется личная
интонация автора, так или иначе настраивающего читателя, как бы стремяще-
гося вступить с ним в непосредственный разговор.
Неисчерпаемый боевой и политический опыт Бределя отражен в книге
очерков «От Эбро до Сталинграда». В ней в полную меру сказался его талант
военного журналиста, вооруженного не только наблюдательностью, но и со-
лидными военно-историческими знаниями, которые помогают ему широко
осмыслять события войны. Разностороннее участие Бределя в жизни ГДР
нашло отражение и в его острых, боевых выступлениях на литературные темы.
Такова его книга статей «Семь поэтов». Среди них особое впечатление произ-
водит статья о Шолохове, в которой чувствуется подлинная любовь к советской
литературе, и статья о Гете и Пушкине — дань мировому значению великого
русского поэта. В речи «О задачах литературы и литературной критики» Бре-
дель, опираясь на опыт мировой прогрессивной литературной мысли, выступил
как подлинный представитель и поборник социалистического реализма, всем
своим творчеством свидетельствующий об исторической закономерности и зна-
чении этого метода в литературе нашего столетия.
1972
ДИТЕР НОЛЛЬ И ЕГО РОМАН
[«Приключения Вернера Хольта»]
За последние годы в литературе Германской Демократической Республики
появилось немало новых имен. Наряду с писателями и поэтами старшего поко-
290
ления, на чью долю выпали тяжелые годы эмиграции и антифашистского под-
полья и кто в позорную пору третьего рейха представлял подлинную немецкую
литературу, поднялось и окрепло новое поколение, дружно и успешно двигаю-
щее вперед развитие молодой литературы в ГДР — литературы социалисти-
ческого реализма.
К этим новым писателям принадлежит Герберт Нахбар, автор романов
о жизни рыбачьих поселков и кооперативов на балтийском побережье, значи-
тельная группа молодых поэтов, сатирик Л. Куше, талантливый прозаик
и очеркист Хельмут Гаунтман. Вместе с ними выдвинулись за последнее деся-
тилетие и писатели с большим жизненным и политическим опытом — Франц
Фюман, Бруно Апиц, Герберт Иобст, имена которых стали широко известны
в ГДР и за ее пределами в 50-х годах. К этим сравнительно новым именам
в современной литературе относится и Дитер Нолль.
Третий рейх и война, разожженная нацистами, искалечили детство и юные
годы писателя. Еще ребенком (Нолль родился в 1927 г.) он уже знал, что живет
в царстве насилия и жестокости: его мать подвергалась преследованию за «не-
арийское происхождение». Однако это не помешало ревнителям «чистоты»
германской расы погнать Нолля на военную службу, когда третьему рейху ста-
ло не хватать пушечного мяса. В конце войны Нолль оказался в плену у аме-
риканцев. Жизнь учила юношу сурово, но он верно понимал ее уроки: вернув-
шись из плена, Нолль стал членом Коммунистической партии Германии
(1946) и нашел свое место в рядах послевоенной немецкой молодежи, дружно
взявшейся за создание новой демократической Германии. Нолль учился, за-
кончил старинный Иенский университет, где занимался германистикой, исто-
рией искусства, философией. В 1950 г. он переехал в Берлин и начал работать
в журнале «Ауфбау», ведущем печатном органе возрождавшейся немецкой
литературы.
Нолль пробовал свои силы в различных жанрах. Он одаренный журналист,
мастер содержательного репортажа, оживленного блестками юмора,— это
видно по его книгам «Новое в старом» (так я перевел бы название его книги
о новой жизни предприятия Цейсса в Иене, 1952), «Мадам Перлон»
(1953), «Солнце над водами» (1954). Нолль любовно подмечает новое в жизни
родины, находит резкое и точное слово, чтобы показать, как в сложной борьбе
рождается это новое, сметая на своем пути тех, кто пытается ему препятство-
вать. В круг его интересов все в большей степени входит проблема развития
нового человека в ГДР, вопросы этики и морали, мысли о той молодежи, кото-
рая уже пришла на смену его поколению и подрастает в таких благоприятных
условиях, о каких и думать не могли Нолль и его друзья. Удачен был и сцена-
рий, написанный Ноллем совместно с Ф. Фогелем,—«Старый челн и молодая
любовь» (1955). Во второй половине 50-х годов Нолль приступил к созданию
своего первого большого романа — «Приключения Вернера Хольта».
В конце второй мировой войны войска союзников, взламывавшие узлы обо-
роны гитлеровцев в Германии и продвигавшиеся в ее пределы, стали все чаще
встречать среди сдающихся в плен немецких солдат целые подразделения под-
ростков-школяров, оглушенных и напуганных войной, особенно нелепых в во-
енной форме не по росту, давно отслужившей все сроки и доставшейся им как
печальное наследие тех, кому она больше не была нужна.
Это были так называемые флакхельферы — вспомогательный персонал на-
цистской противовоздушной обороны. О его существовании знали и раньше; но
только в дни падения третьего рейха стало ясно, как много было этих солдат-
подростков, оторванных от семей и школ, как сурово их муштровали и на-
таскивали на кровь, чтобы перевести со временем в вермахт, как безжалостно
жертвовали ими нацистские генералы, уводя из-под удара полноценные об-
стрелянные части и оставляя в качестве «заслонов» этих мальчишек с их зе-
нитками.
10*
291
Для большинства этих подростков дни гибели рейха оказались днями осво-
бождения, началом новой жизни. Союзники не задерживали их в плену: тех,
кому повезло, кто остался жив и не лежал в госпиталях, распускали по домам.
Толпами брели они по дорогам войны, унося страшные и поучительные воспо-
минания о ее последних днях. Было среди них, конечно, немало и таких, кто и
в те дни таил в душе ненависть к победителям и жадно прислушивался к раз-
говорам о том, что война еще не окончена и что немецкая армия еще пригодит-
ся своим недавним противникам — американцам и англичанам для борьбы
против их недавнего союзника — СССР.
Да, возвращались уцелевшие. А сколько их погибло во время гигантских
налетов, обрушивавших на города Германии тысячи бомб и пылающие моря
фосфорной смеси! Сколько еще валялось по лазаретам, залечивая раны, кото-
рые не хотели заживать, так как молодые тела были истощены голодовкой! Уже
в романе Б. Келлермана «Танец смерти», который писался тайком в годы на-
цизма и появился вскоре после окончания войны, мелькнули тени «флакхель-
феров»— груда мальчишеских тел, участь зенитного расчета, гибнущего под
обломками дома, снесенного воздушной торпедой. Архитектор Фабиан, главное
действующее лицо этого романа, всматривается в страшные останки, пытается
среди клочьев обожженного мяса, сломанных и обгорелых рук и ног, обезобра-
женных лиц найти своего сына, которого сам сделал верным последователем
нацистского режима.
Шли годы. Бывшие юные зенитчики находили свои жизненные дороги.
В ФРГ эти дороги нередко вели в тайные вербовочные пункты Иностранного
легиона, в полувоенные организации неофашистского типа, которые ждали ча-
са, когда они станут вполне легальными; но вели эти дороги и в ряды той мир-
ной армии трудящихся, которая пыталась изменить гибельный курс ФРГ,
обуздать выпущенных из тюрем гитлеровских генералов и эсэсовских палачей,
жаждущих послать в горнило новой войны миллионы немцев.
В Германской Демократической Республике путь этого поколения, жизнь
которого в самом начале была опалена войной, сложился иначе. Его предста-
вители — рабочие и интеллигенты социалистического немецкого государства —
не позволят, чтобы кровавая драма, участниками которой им пришлось быть
помимо воли, повторилась. Это поколение уже представлено многими писате-
лями и поэтами, из их биографий узнаешь, что и они служили во вспомога-
тельном составе зенитных частей. Эти люди выросли в годы построения социа-
лизма в ГДР, они сами участвовали в разборке руин Германии старой, чуть не
похоронившей их под своими развалинами, и в строительстве Германии новой,
о которой они говорят с гордостью и нежностью.
О страшной школе смерти, в которую он попал пятнадцатилетним парниш-
кой, с ненавистью к тем, кто этой школой заправлял и сейчас лелеет мечту
о тотальной мобилизации молодежи в ФРГ, говорят стихи Уве Бергера — быв-
шего «флакхельфера». Это один из одаренных молодых поэтов ГДР. Он хорошо
знает вес и цену верно выбранного слова; его стихи чаще всего кратки, но это
подлинная лирика середины нашего века — она зовет людей быть бдительными,
она полна тревоги и мужественной готовности к борьбе против тех, кто не прочь
ввергнуть человечество в новую войну. Вольфганг Нейхауз в романе «Укра-
денная юность» рассказывает о судьбе школьника, наивно верившего в на-
цистскую пропаганду и успевшего еще получить железный крест в боях за
Берлин — но там же и прозревшего. Слишком омерзительны и саморазоблача-
ющи были последние дни третьего рейха, свидетелем которых стал юный сол-
дат. Он находит путь к новой жизни, но невозвратно, непоправимо испорчены
и омрачены его ранние лучшие годы, ведь он их провел в рядах гитлерюгенда,
где калечили и уродовали его душу.
292
К числу книг о поколении немецкой молодежи, которое прямо со школьной
скамьи было брошено в пекло последних побоищ второй мировой войны, отно-
сится и роман «Приключения Вернера Хольта».
Это повесть о том, как одичалый подросток, уже во многом отравленный
гитлеровской пропагандой, уже почти превращенный в нацистского волчонка,
становится человеком, побеждает зло, впрыснутое ему в душу, находит в себе
силы не только расправиться с теми, кто искалечил и обманул его, но и шагнуть
навстречу новой жизни — той, которая начинается в разрушенных городах
Восточной Германии.
История Вернера Хольта и обычна — даже типична — и необычна. Она
обычна, так как, подобно ему, десятки тысяч солдат — мальчишек вермахта —
прошли сквозь страшную полосу одичания — в этом духе их воспитывали
в гитлерюгенде, в этом духе их воспитывали в вермахте — и познали затем
благостное освобождение от нацистской отравы, превращение в людей.
Но положение Вернера тем тяжелее — ив этом необычность его истории,—
что его семья разрушена условиями жизни в третьем рейхе: его отец — человек
передовых убеждений, не пошедший на компромисс с нацизмом, жертва пре-
следований; Вернера отбирают у него, так как доктор Хольт, с точки зрения
гестапо, не может воспитать своего сына в духе преданности фюреру. Вернер
даже не совсем понимает, в чем обвиняли его отца, но что-то от всего этого еще
живет в его памяти к тому времени, когда читатель знакомится с ним. Не хочет
и не может воспитывать сына и мать, женщина слабая и легкомысленная. Вер-
нер несчастен не только потому, что учится в нацистской школе и воспитывает-
ся в духе нацизма, но еще и потому, что он страшно одинок: он живет в Жалком
пансионе, под опекой смешных старых дев, над которыми грубо глумится,
и учится в школе, где царят самые варварские нравы и процветает самое отъ-
явленное безделье. Тень войны, которая длится уже четвертый год, тяжко легла
на городок, где томится мальчик Вернер. Почти все мужское население —
в армии: уроки ведут жалкие учителя-инвалиды, вырванные по случаю военного
времени из своего пенсионного прозябания; они боятся учеников и ненавидят
их, а буйная орава мальчишек относится к ним с нескрываемым презрением.
Вернеру противно это, в нем есть хорошее, доброе начало, но даже тяготясь
грубостью и бессмысленностью школьных проделок, он становится их постоян-
ным участником. Незаметно для себя, под влиянием всей атмосферы, царящей
в этой жалкой и жестокой школе, Вернер и сам приобщается к культу насилия,
к атмосфере безнаказанного хулиганства. И здесь начало большой темы рома-
на Нолля: художник раскрывает сложный механизм «воспитания», в результате
которого миллионы немецких юношей стали послушными убийцами — жгли,
убивали, насиловали, участвовали в самых гнусных надругательствах над
людьми, а если им приходилось держать ответ за свои преступления, они твер-
дили пустые слова о выполнении приказа, о долге солдата, о фюрере. Таким же
становится и Вернер.
Были ли эти миллионы молодых немцев преступниками от рождения? Нет,
говорит Нолль, в своем большинстве это обычные подростки, но все хорошее,
все человеческое в них вытоптано и убито, заменено теми свойствами, которые
сделали немецкого ландсера — солдата нацистского вермахта — ненавистным
для народов всей земли.
Молодчики из гитлерюгенда позаботились о том, чтобы сломать душу под-
ростка, довести его до общего уровня одичания и жестокости, господствующего
в школе. Но этим не ограничивается воспитание в нацистском духе; со школь-
ной скамьи Вернер и его товарищи чувствуют себя обреченными войне: война
для них — привычная, постоянная форма жизни; пока что война обогащает
Германию, подчиняет ей новые и новые территории Европы, новые и новые
миллионы рабов. Война продлится долго; кончится эта — начнется другая;
в любом случае война — единственная перспектива для Вернера и его сверст-
293
ников. Они знают, что все равно им скоро уходить на войну; пропаганда, филь-
мы, книжонки, славящие войну, заставляют их нетерпеливо дожидаться этого.
Они убеждены, что самое важное в их жизни начнется в день, когда они наде-
нут мундиры вермахта. Они готовят себя именно к этому и в школе. Уже
в школе война развращает их, прививает им инстинкты хищников — даже в тех
случаях, когда они наивно пытаются отстоять свою мальчишескую свободу на-
перекор нацистскому «воспитанию», инстинктивно протестуя против условий,
в которых они прозябают. Однако и в этом слепом протесте сказывается их на-
цистская дрессировка: убежав в горы, где они живут как герои «индейских ро-
манов», жадно дыша воздухом свободы, они ведут себя как заправские банди-
ты — так же, как вели себя в те же годы в Греции, на Украине, в Белоруссии и
в других местах юнцы чуть постарше из оккупационных частей вермахта. Банда
юных грабителей обрушивается на хутор немца-крестьянина — и эта проделка
одичавших мальчишек, которым все равно, кого грабить, как бы предвосхищает
те страшные последние сцены романа, где друзья Вернера, одержимые бредо-
вой идеей «войны до последнего человека», навлекают гибель на мирный не-
мецкий городок, уже занятый без боя американцами.
У Вернера не было семьи. Ее разрушил третий рейх. Но он обретает това-
рищество, в которое входит ценой дальнейшего одичания. Школу жестокости он
проходит не только в гитлерюгенде, а прежде всего у Гильберта Вольцова —
самого грубого и дерзкого из школьников. Вольцов отличается от своих одно-
классников точным знанием того, что он хочет от жизни, целеустремленностью:
сын полковника, гордящийся тем, что в его семье было несколько поколений
офицеров, Вольцов и сам хочет быть только офицером, профессиональным во-
енным. Его жестокость и грубость — такая же характерная сторона прусского
солдатского духа, который хочет воспитать в себе Вольцов, как и его жадный
интерес к военным наукам. Впрочем, вся история войн для Вольцова только
материал для доказательства непогрешимости немецкой военной доктрины. Как
и Вернер, Вольцов одинок, его отец на фронте, мать — душевнобольная. Пре-
доставленный себе, Вольцов с нетерпением ждет часа, когда он станет солда-
том, и все свое время отдает чтению книг по военному делу да грубым прока-
зам. Одиночество сводит его с Вернером. Стремясь не поддаться тирании
Вольцова, перед которой безгласно склоняется весь класс, Вернер мужественно
начинает борьбу против Вольцова и неожиданно находит в нем для себя друга,
близкого человека, по которому он так тоскует. Под воздействием Вольцова
и его милитаристской мании Вернер дичает и ожесточается все больше и боль-
ше, все в большей степени становится именно тем волчонком, каким хочет сде-
лать его третий рейх. Так Нолль показывает, что воспитание молодежи осу-
ществлялось в третьем рейхе не только официальными средствами, но и всем
укладом жизни, средой, которая либо сама была носительницей идеологии гер-
манского фашизма, либо подчинилась тому, кто эту идеологию представлял —
как в данном случае Вольцов, нераздельно царящий над несколькими десятка-
ми мальчишек и пугающий своей спокойной наглостью и самоуверенностью
жалких школьных наставников.
И тут же Нолль намечает большую и важную тему, связанную со старой
Германией, но ведущую и к современности; военная каста, которая не раз пы-
талась надменно отмежеваться от нацизма после его поражения, эта военная
каста была и остается в ФРГ, где все еще продолжается ее мрачная история,
вернейшей опорой реакции, вернейшим союзником подлинных господ боннской
республики. Военная каста школила и школит, «шлифует», по ее собственному
выражению, более надежно и прочно, чем разные орденские школы нацизма
натаскивали и муштровали будущих «фюреров».
К Вольцову, правящему в классе, вскоре присоединяется сын владельца
писчебумажной лавки Феттер — великолепное воплощение бюргерской по-
шлости и чванства, взлелеянных на дрожжах нацизма. Феттер бормочет что-то
294
о «чести своего рода»! Но это импонирует Вольцову, как и нелепая, но кровавая
мальчишеская дуэль, во время которой Феттер показывает себя, во всяком
случае, храбрым парнем. Так Вольцов составляет себе свиту, как то и подобает
потомку рыцарского рода.
Теперь они уже не только брутальная сила, но и сила моральная; на чем бы
ни была основана их дружба, она — дружба, и это влечет к ним других маль-
чиков. К ним приходит замкнутый и умный Зепп Гомулка, затаенно присмат-
ривающийся к своим новым друзьям. К ним тянется несчастный, больной Ви-
зе — талантливый музыкант, который в другое время был бы гордостью клас-
са,— но что значат Бетховен, Гайдн и Шуман в «век железа и крови»? Визе сам
стесняется своего немужественного таланта, хоть и знает, как любят мальчики
послушать его игру, сами боясь в том себе признаться. Что же тянет к Вольцову
и Хольту Гомулку, Визе? Да прежде всего то, что Вольцов и Хольт противосто-
ят ненавистным учителям: они воплощают силу товарищества, о которую раз-
биваются попытки немощных наставников вернуть безвозвратно исчезнувшую
школьную дисциплину, не понимающих, каким безжизненным анахронизмом
выглядит и школа и дисциплина в стране, где пятнадцатилетний школьник уже
чувствует себя солдатом и готов повиноваться дисциплине военной, а не
школьной. Наконец, товарищество оказывается настолько сильным и надеж-
ным, что при его помощи можно и уклониться от ненавистных мероприятий на-
цистской государственной машины, втягивающей в свое колесо всю жизнь
подростка; можно поймать и отколотить мерзавца эсэсовца, внушающего не-
нависть Вольцову и его друзьям. Шайка Вольцова бежит из городка, издеваясь
над партийными бонзами и школьным начальством. Но эта кажущаяся свобо-
да, к тому же надежно прикрытая благоволением крупного нациста — дядюшки
Вольцова,— на самом деле еще больше подчиняет Вернера и его друзей
Вольцову.
Конечно, есть и другая жизнь. Есть Визе, его музыка и его книги. Вернер
зачитывается, как и подобает бравому члену «гитлеровской молодежи», Карлом
Маем, Ницше, нацистской военно-приключенческой макулатурой; Визе реко-
мендует ему Теодора Шторма, тонкого лирика, вдумчивого психолога. Есть
умная и серьезная девушка, Ута Барним, которую Вернер полюбил романти-
чески и преданно и с которой он был счастлив по-настоящему. В поведении
семьи Барнимов, в сердечности, которая царит в семье Зеппа Гомулки, Вернер
смутно чует что-то манящее, хорошее, беспокойно непохожее на гнусную ат-
мосферу школы или собраний «гитлеровской молодежи». Но что это, о чем
свидетельствуют эти еле уловимые признаки иной, человеческой жизни,— Вер-
нер еще не может понять, как не понимает он и того, что Уту привлекла к нему
его способность вырваться хотя бы на миг из общих рядов униформированной
и нивелированной нацистской молодежи, те задатки, которых Вернер еще и сам
в себе не замечает.
Так тонкими штрихами намечает Нолль подспудные течения в жизни тре-
тьего рейха, тайные ручейки тепла и человечности, струящиеся под толстой
коркой грязи, крови, мусора. Очень нескоро сможет Вернер воспринять это
тайное дуновение добра, понять значение иной дружбы — подлинно человеч-
ной, а не той «солдатской», в которой он поклялся Вольцову и которая больше
похожа на круговую поруку соучастников преступления. И вот наступает день,
которого томительно ждали Вернер и его товарищи: они призваны в армию. Это
уже настоящее большое «приключение» Вернера Хольта.
Первый большой военный эпизод романа — служба Вернера на зенитной
батарее в Рурской области — это рассказ о том, как медленно, но неукосни-
тельно менялось представление Вернера о стране, в которой он живет, о собы-
тиях, в которых он принимает участие, об армии, попасть в которую он так
стремился.
295
Военная служба горько разочаровывает Вернера. В ней нет ничего похожего
на героические видения, которые проплывали перед ним на экранах кинотеат-
ров или описывались в книжонках бардов третьей империи. Тяжелая и часто
бессмысленная муштра, драки с другими мальчишками, запихнутыми наспех
в солдатскую униформу, скука и подлость казарменной жизни — все это сильно
способствует отрезвлению Вернера. Зато Вольцов переносит все это как нечто
само собой разумеющееся при «прохождении службы». Настоящая «военная
косточка», Вольцов относится с презрением к старым запасным, пытающимся
обучить его военному уму-разуму; очень быстро доказывает им, что он лучше
разбирается во всем, что полагается знать «вспомогательному составу» зенит-
ных частей,— даже материальную часть, насчет которой старики зенитчики
особенно слабы. Вольцов здесь в своей сфере; ему только не терпится выскочить
в офицеры. Так начинают расходиться дороги Вернера и Вольцова.
О многом узнает Вернер за время службы на батарее. Одиночество, чувство
обреченности толкает его на связь с женой нацистского бонзы Цише; от нее он
получает подтверждение тех страшных слухов, которым не хотел верить рань-
ше,— слухов о массовом истреблении миллионов людей, о «лагерях уничтоже-
ния», где гибнут старики, женщины, дети. Фрау Цише знает об этом из перво-
источника: ее муж занят в польском «генерал-губернаторстве» именно этими
делами. Первые большие воздушные бомбардировки обрушиваются на мест-
ность, где стоит батарея Вернера. Исчезает Ута Барним, скрываясь от ареста,—
ее отец полковник Барним, кадровый военный и не чуждый интересам нации
интеллигент собирался сдаться в плен русским. Познакомившись во время от-
пуска с девочкой Гундель, родителей которой казнили фашисты, Вернер еще
острее чувствует, что где-то за фасадом третьей империи разыгрывается кро-
вавая трагедия миллионов людей, истребляемых теми, кому он привык беспре-
кословно повиноваться. Наконец Вернер сам видит, как конвоир-эсэсовец рас-
правляется с русским пленным. Он и Вольцов вступаются за русского— Воль-
цов только потому, что надо помочь Вернеру: им движет его понимание долга
дружбы, для него русский — существо низшего порядка. Эта история чуть не
кончается для Вернера уже прямым и открытым конфликтом с нацистским
строем. Но и на этот раз конфликт предотвращен вмешательством Вольцова
и его дядюшки из высших кругов нацистской военной бюрократии. Дружба
с Вольцовом становится для Вернера звеном, прочно приковывающим его
к нацизму.
Да, о многом узнает Вернер, о многом думает; он догадывается, что поку-
шение на фюрера в июле 1944 г.— свидетельство серьезных противоречий
внутри нацистского режима. Он видит, как самоубийственная стратегия Гит-
лера, холодно высмеиваемая Вольцовом, ведет страну к гибели. Он на себе
чувствует мертвую хватку гестапо. И все же он с чувством враждебности и не-
доверия глядит на своего отца, когда доктор Хольт пытается подвести его
к мысли о близящейся и закономерной катастрофе рейха. Горечь, недоумение,
разочарование, страх бродят в душе юноши. И здесь начинается второе военное
«приключение» Вернера — служба в карательных частях, брошенных на по-
давление словацкого восстания 1944 г.
Именно тут, в тихих словацких городках и деревушках, Хольт полностью
уясняет себе позорную роль вермахта. Эсэсовские зверства, массовые убийства,
разгул солдатского произвола вызывают в Вернере еще безотчетное, еще не
осознанное желание воспротивиться всему этому, взбунтоваться против беспо-
щадной и подлой силы, которая делает его соучастником своих бесчисленных
преступлений. Впервые чувствует Вернер и ненависть порабощенных народов
к немцу; эта ненависть обжигает его в Словакии всюду, где он сталкивается
с мирным населением. Нет, Вернер не желает, чтобы его смешивали с други-
ми — с теми, кто распилил пленного русского циркульной пилой, с теми, кто
насилует словацких девушек. Наступает кульминационный пункт в развитии
296
Вернера: он нарушает верность нацистским волчьим законам, которым его так
настойчиво и небезрезультатно обучали, и отпускает пленных словаков, кото-
рым грозит расстрел. Рискуя своей жизнью, он спасает тех, кто ненавидит рейх
и вермахт. Правда, этот поступок Вернера — его тайна; но отныне трещина,
пробежавшая по дружбе Вернера и Вольцова, будет углубляться и расти
с каждым днем. Таков острый смысл второго военного эпизода «приключений»
Вернера Хольта.
Острота конфликта между Вернером и нацизмом, Вернером и вермахтом
достигает кульминации в последних главах книги — в последнем, самом
страшном, решающем для Вернера «приключении» его солдатской жизни.
В современной немецкой литературе, которая нередко обращается к событиям
зимней и весенней кампании 1944—1945 гг.х:не много найдется страниц, кото-
рые с такой силой показывают агонию гитлеровской армии, последние отчаян-
ные попытки остановить русское наступление, как сделано это в романе Нолля.
Он поистине великолепно передал ощущение гигантской необоримой силы,
вложенной в удары Советской Армии, настигающие вермахт уже на его терри-
тории. Лихорадочное бегство, исчезновение целых дивизий и бригад, плавя-
щихся, как оловянные солдатики, в огне великих битв, бушующих между Вис-
лой и Одером, безнадежные попытки зацепиться за каждую переправу, за
каждый фольварк и следующие одно за другим поражения, неудачи, просчеты
показаны с поразительным динамизмом, в темпе, который передает порыв
мощного советского наступления. Где-то в этой предвесенней буре, несущейся
над полями Восточной Пруссии, мелькает и малая частица погибающего вер-
махта — Вернер Хольт, но событий столько и они так ошеломляюще действуют
на Вернера, что он оказывается на грани безумия. Он уже и сам не знает, что
творит — ищет ли он смерти или спасает свою жизнь, наступает или отступает;
в сумятице окружений и котлов невозможно определить общую картину того,
что творится. Ноллю удалось убедительно изобразить трагическое состояние
юноши-солдата, для которого гибель вермахта и рейха (нечто закономерное,
как он уже догадывается) — это не только гибель ненавистных ему форм су-
ществования, против которых он готов восстать, но и крах того мира, в котором
он жил и от которого он не может оторваться сразу, в несколько дней.
Однако для Вернера очень важно, что он наконец видит, как другие люди —
и к тому же дорогие для него — принимают решение, не дают себя унести вих-
рю катастрофы. Дружбе с Вольцовом приходит конец, когда Вернер с автома-
том в руке прикрывает от Вольцова уход Зеппа Гомулки навстречу Советской
Армии. Так гибнет сумрачное товарищество нацистских волчат: один из них
стал подлинным человеком и вернется на родину вместе с теми, кто несет ей
свободу. Другой все еще колеблется, выбирает путь. И только третий остается
нацистским волком, и он достаточно хитер, чтобы украсить свою вынужденную
капитуляцию перед Вернером и Гомулкой громкими словами о старой дружбе.
Но ее уже нет; и вот приходит день, когда Вернер поднимает оружие против тех,
кто превратил его в обезумевшего ландсера, ненавистного не только для врагов
Германии, но и для самого немецкого народа.
Незабываемая сцена последнего боя Вернера в пылающем городке — боя
против эсэсовцев — напоминает о книге западногерманского писателя М. Гре-
гора «Мост» (по роману был сделан одноименный фильм). Однако как заметно
и существенно отличаются эти книги друг от друга! И у Грегора рассказано
о горсти мальчишек, которые преступно преданы нацистским командованием,
и у Грегора эти мальчишки очень разные, и среди них тоже есть свой Вольцов.
И в этой книге есть описание боя, в который ввязались-таки молодые солдаты;
и конечно, они терпят поражение, и американские пехотинцы и танки прокла-
дывают себе путь по трупам последних защитников третьего рейха — безусых
юнцов.
297
Но в романе Грегора нет другого пути, кроме пути в смерть, нет другого вы-
бора, кроме подчинения бесчеловечным законам нацизма. Нет — и это самое
главное — и такого осознания преступности нацистского строя, которое за-
ставляет Вернера схватиться за автомат и направить его на толпу эсэсовцев,
беснующихся возле повешенного Вольцова. Да и вожак солдат-мальчишек
в романе Грегора не раскрыт во всей своей опасной и закономерной сущности,
не разоблачен как убийца, достойный пасть от руки палачей, прячущихся за его
спину, как это показано в романе Нолля. Нолль видит перспективы, лежащие
перед немецким народом, размышляет вместе со своими героями и со своим
читателем. Для Грегора и его юных смертников нет никакой перспективы, кроме
смерти и поражения.
Так в конце романа Нолля начинается повесть о выздоровлении Вернера
Хольта, о его возвращении к новой жизни рядом с отцом, которого он только
теперь понял, рядом с Гундель, которую он снова нашел. Началась жизнь Вер-
нера — и окончились его «приключения». А для Вольцова окончились и при-
ключения и жизнь. Сцена смерти Вольцова — серьезная удача Д. Нолля. Ведь
в Вольцове были — пусть в извращенной форме — какие-то черты, которые
отличали его от обычных нацистских .солдафонов, от партийных бонз, от эсэ-
совцев и гестаповцев. Это не жалкий доносчик Цише, не болтливый мерзавец
и трус Венерт, не тупой ландскнехт Бургкерт. Вольцов верил, что нацистский
рейх поможет Германии стать «превыше всего в мире», но к нацистам он отно-
сился с нескрываемым презрением потомственного офицера, прусского юнкера,
для которого весь национал-социализм с его знаменами и свастиками, с его
расистскими бреднями и демагогией — только средство, способствующее три-
умфальному маршу немецких полчищ по земному шару, способствующее гло-
бальному торжеству того «солдатского принципа» жизни, которому он верен,—
этот по-своему незаурядный, хотя и отвратительный мальчишка, хладнокровно
убивающий людей, но и хладнокровно рискующий собственной жизнью. Воль-
цов не лишен некоего негативного обаяния, которое привлекает к нему и его
школьных товарищей и солдат, безошибочно угадывающих в нем прусского
офицера, гипнотизирующей власти которого они привыкли повиноваться.
Тем важнее, что в последних словах романа Вольцов показан во всей своей
сущности маньяка-разрушителя: мораль его класса раскрывается во всей ее
антинародности и антипатриотичности, что бы ни заявляли вольцовы о том, что
они немецкие патриоты и охранители очагов Германии. Это Вольцов наводит
американскую авиацию на мирный немецкий городок, который за несколько
минут превращается в пылающий ад. Это Вольцов сам попадает в силки, рас-
ставленные им для других, и гибнет от руки эсэсовцев, сводящих с ним старые
личные счеты. Вольцов, действительно бесстрашный Вольцов, повешен как
трус, как дезертир! Можно ли придумать конец, более страшный для Вольцова,
более полно раскрывающий тот строй, которому он служил? И потрясенный его
предсмертным воплем (неужели Вольцов мог так кричать? Оказывается, мог,
когда смерть, которую он нес другим, обрушилась на него), Вернер думает,
глядя на тело Вольцова, болтавшееся в петле: «Убийцы убивают друг друга».
Так вот кто такой Вольцов: он просто убийца, а не нибелунг, не паладин «ве-
ликой Германии», каким мнил себя. Да, Вольцов просто убийца, и особенно
опасный, ибо он чем-то отличается — на первый взгляд — от других убийц.
Мальчику Вернеру, как и другим товарищам, он казался настоящим другом,
рыцарем; а это зверь в облике человека, «вервольф»— оборотень, которым
когда-то пугали в деревнях детей.
Книга Нолля рассказывает правду о второй мировой войне, правду о том,
как нацизм уродовал и калечил целые поколения немецкой молодежи, чтобы
затем бросить ее, обманутую и отравленную, под танки и бомбы исторического
возмездия. Ее особое достоинство в том, что писатель не смягчает вины своих
героев, не упрощает их пути к новой жизни, он показывает, что в каждом от-
298
дельном случае эти пути были различны, как различны сами люди, их выбрав-
шие. Для Зеппа Гомулки, воспитанного в тайном отрицании нацизма, новый
путь открылся на примере честного немецкого рабочего, который и в мундире
вермахта оставался верен делу своего класса. Для одинокого Вернера Хольта
этот путь был неизмеримо более трудным — ведь, даже подняв оружие против
нацизма, Вернер был так подавлен катастрофой третьего рейха, что искал
смерти. А Гундель, дочь антифашистов, погибших в застенках Гитлера, никогда
и не сходила с того верного пути, идти по которому она поможет Вернеру. Пи-
сатель не рассказывает нам, каким путем шла Ута; но и она не хотела подчи-
ниться третьему рейху, и она таила в своем сердце зерно возмущения.
В этом живом многообразии человеческих судеб — мастерство Нолля, по-
нимающего, как велика ответственность писателя, взявшегося за книгу о вто-
рой мировой войне, чтобы научить своих современников бороться за мир се-
годня.
О второй мировой войне писали Ледиг и Рихтер, Ремарк и Грегор, и каждый
из них по-своему, как мог, осуждал третью империю и показывал закономер-
ность гнева народов, обрушившегося на рейх, и каждый говорил, что были
среди немцев, носивших мундир вермахта, люди, которые стыдились этого
мундира и пытались искупить свою вину перед жертвами нацистской Германии.
Но ни в одном из этих романов военная катастрофа рейха не изображена столь
убедительно и сильно, как раскрывается она в романе Нолля. Ни в одном из
этих романов не рассказано, какими средствами, как беспощадно и подло от-
равляли сознание миллионов немецких подростков, для того чтобы сделать их
послушным пушечным мясом. И — что, может быть, самое главное — нив од-
ном из этих романов не рассказано о том, как лучшие из этих подростков наш-
ли в себе силы освободиться от груза бесчеловечия, повернуть оружие против
тех, кто был врагом немецкого народа и врагом всего человечества,— против
фашизма. Герои книги Нолля способны на эти поступки, хотя они стоят им
тяжкой борьбы и мучительных душевных переживаний. В активной, мужест-
венной ноте, в призыве к беспощадной борьбе против нацизма и милитариз-
ма — высокое, подлинно национальное достоинство книги Нолля.
1962
ПРОТИВ ТЕХ, КТО СЕЕТ СМЕРТЬ
[Роман В. Кёппена «Смерть в Риме»]
Среди писателей ФРГ, в творчестве которых отражена нарастающая трево-
га за судьбу мира, находится Вольфганг Кёппен. В этом плане особое внимание
привлекает его роман «Смерть в Риме».
Когда читаешь эту книгу, кажется, что некоторые строки в ней написаны
кровью, желчью, а не прозаическими синими чернилами для автоматической
ручки. Правда, нередко книга Кёппена вызывает и чувство досады: зачем ода-
ренный и своеобразный художник забавляется устарелыми литературными
трюками, увязает в грубом многословном натурализме, умышленно сужает свой
кругозор?
Но самое главное в книге — не эти ее недостатки, в которых отразились
тяжкие условия развития литературы в ФРГ, а то сильное и незатихающее
чувство ненависти к нацизму и к немецкому милитаризму, которым насыщена
книга. «Смерть в Риме» осуждает нацизм и его прислужников бесповоротно
и убедительнейшим образом, клеймит тех, кто пытается реставрировать нацизм.
И что бы ни писал Кёппен после этой книги — она существует и свидетельст-
299
вует о том, что в середине 50-х годов в Федеративной Республике был писатель,
во весь голос предупреждавший немцев об опасности неофашизма.
В. Кёппен начал печататься четверть века назад, в первые годы нацистской
диктатуры. Уже в ранних его произведениях («Несчастная любовь»,
1934; «Стена колеблется», 1935) наметилось критическое отношение писателя
к условиям жизни в нацистском рейхе. Кёппен вынужден был говорить обиня-
ками и намеками. Но читатель 30-х годов, уже привыкший к языку иносказаний,
не мог не заметить, с каким осуждением писал Кёппен в романе «Стена колеб-
лется» о кровавом деспотическом режиме в некоем экзотическом ближне-
восточном государстве: черты этого режима весьма напоминали ужас и нищету
нацистского рейха. Однако герой романа — инженер Зюде,— не без сочувствия
относясь к революционерам-эмигрантам, готовящим восстание на своей зака-
баленной родине, сам остается от них в стороне. Так же относится Зюде и к не-
мецким революционным боям 1918—1919 гг.
В середине 30-х годов В. Кёппен уехал из Германии. Война застала его
в Голландии. Несколько лет жил он на полулегальном положении. Это был удел
многих немецких интеллигентов, не желавших служить третьему рейху, но и не
находивших в себе сил или веры для того, чтобы примкнуть к движению Со-
противления.
Талант Кёппена развернулся в полную силу только в 50-х годах, когда он
создал три романа—«Голуби в траве» ( 1951 ), «Оранжерея» 1 (1953) и «Смерть
в Риме» (1954). Эти романы по существу составляют трилогию о послевоенной
Западной Германии. Не будучи связаны ни действующими лицами, ни сюжета-
ми, эти книги едины в большом социально-этическом плане и в плане худо-
жественном, хотя между ними и есть определенные различия.
«Голуби в траве» — яркое изображение западногерманской действитель-
ности в годы становления только что созданного боннского государства.
Лейтмотивом этой книги Кёппена была мысль о том, что в Западной Герма-
нии корни нацизма не обрублены, что вместе с начинающимся экономическим
подъемом, вместе с переходом к хотя бы видимой самостоятельности оживают
и активизируются самые черные силы недавнего нацистского прошлого.
И нельзя не заметить, что перед этой угрозой беспомощными выглядят «голуби
в траве»— символ обычной мирной жизни, символ простого малого челове-
ческого счастья. Хищными тенями проносятся над ними эскадрильи военных
самолетов, бороздящих небо ФРГ.
Роман «Оранжерея» в своих важнейших событиях посвящен тем годам,
когда ФРГ, поставленная на ноги своими заокеанскими хозяевами, уже выхо-
дит на мировую политическую арену. Начинается эра пресловутого «виртшаф-
тсвундера»—«экономического чуда», экономического бума, в горячке которого
увеличиваются миллиардные состояния старых монополий, рождаются новые
миллионеры, развивается бешеная борьба за новые рынки, где ФРГ успешно
теснит своих недавних победителей — английских и французских капиталистов.
Воплощением «экономического чуда» и является «оранжерея» — в самой рез-
кой и убийственной сатирической манере изображенное Кёппеном здание бон-
нского парламента, уродливое и сверхмодное порождение конструктивизма из
стали и стекла. За его гигантскими окнами пульсирует таинственная и безоб-
разная жизнь зловредного политического организма — правящих кругов
Бонна.
Туда, в оранжерею, где выращиваются ядовитые и смертоносные семена
политики немецких монополий, приходит деятельный и по-своему честный че-
ловек Кетенхейве, в прошлом — участник антифашистского Сопротивления,
1 В русском переводе «Теплица».— Ред.
300
теперь — политический деятель, полагающий, что он сможет добиться своего:
проведения мирной политики.
Так, «Оранжерея» приобретает черты серьезного политического романа,
заставляющего вспомнить о великих традициях немецкого критического реа-
лизма XX в., о проблематике романов Г. Манна.
Второй роман Кёппена о послевоенной Германии завершается безнадежным
финалом. Зловещий стеклянный дом — некий инкубатор, в котором рождается
новое агрессивное государство западногерманских монополий, торжествует над
теми, кто мечтал о Германии иной— миролюбивой и демократической.
Наряду с большой обличительной силой «Оранжереи» обнаруживается
и коренная слабость романа — односторонность восприятия действительности,
нежелание или неумение заглянуть в жизнь народных масс ФРГ, недооценка
тех сил, которые ведут борьбу против реваншистов и милитаристов и иногда —
при помощи международной общественности — добиваются известных успехов,
как добились они, например, весной 1960 г. в деле Оберлендера. Читатель не
поверит Кёппену в том, что люди, искренне борющиеся за мир, одиноки.
У славных борцов за мир в ФРГ уже есть своя история, богатая подвигами
и трагедиями, свидетельствующая о силе этого общественного движения. Кёп-
пен отмахнулся от него. А так как «Оранжерея» роман политический, это не
могло не привести к искажению политической действительности, о которой по-
вествовал Кёппен.
«Смерть в Риме» как бы заключает общую линию романов Кёппена, на-
писанных в прошлом десятилетии. Читая роман, убеждаешься, что старый на-
цистский бонза Фридрих-Вильгельм Пфаффрат, в образе которого Кёппену
удалось с убийственной остротой запечатлеть черты крупного немецкого дель-
ца — представителя немецких монополий,— опять у власти. Старик Пфаффрат
уверенно готовит из своего сына Дитриха (как не вспомнить о Дидерихе Гес-
линге из «Верноподданного» Г. Манна!) наследника, которому передает и ка-
питал, и свой гнусный опыт, и связи, и место в жизни. Теперь Пфаффрату уже
нечего стесняться своей нацистской родни, которая так помогла ему в годы
гитлеровской диктатуры: Пфаффрат может разрешить и себе, и своему родст-
веннику, генералу войск СС Юдеяну, встретиться в Риме — пока в Риме, как
подчеркивается неоднократно. Недалек тот час, когда Юдеян, военный пре-
ступник, скрывающийся от приговора под чужой фамилией за тридевять зе-
мель, вернется на родину с почетом, чтобы занять пост, отвечающий его рангу
и «заслугам». Близок срок, о котором только мечтали некоторые герои «Оран-
жереи», он наступает, этот срок. Юдеян останавливается в том же отеле, где
размещены штабы войск НАТО. Он вновь в Риме, где по его приказу было
пролито столько крови. Он ходит по городу, вспоминая о том, как распоряжал-
ся здесь вместе с Муссолини. Визит Юдеяна в Рим — только прелюдия к его
возвращению в ФРГ. Старые хозяева — те самые, которые призвали к власти
Юдеяна и ему подобных в 1933 г.,— уже опять зовут его.
В романе старый палач умирает, так и не дождавшись возвращения на ро-
дину. Но смерть вступает в Вечный город не только в виде старого коренастого
убийцы. Умирает не один Юдеян. Он успевает перед смертью убить Ильзу Кю-
ренберг, жену прославленного дирижера, в которой его больное воображение,
распаленное жаждой убийства и насилия, увидело воплощение самой жизни,
вечно ненавистной ему. Юдеян сеет смерть и разложение всюду, где он появ-
ляется. Даже умирая, он убивает.
В образе Юдеяна со всей силой подлинной и взвешенной ненависти выра-
жена варварская, античеловеческая сущность нацизма, как понимает ее Кёп-
пен. Юдеян уже не человек, и таким сделала его та среда, в которой он вырос
и был воспитан: сначала немецкая военщина, а затем административная ма-
шина нацистских бандитов. Но не только эти стороны немецкой жизни форми-
ровали Юдеяна: он — воплощение варварской сущности немецкого мещанства
301
XX в., из недр которого он вышел, чьи пороки и идеалы он несет в себе. В Юде-
яне есть черты безумия, маньячества; их еще больше в его жене, «нацистской
норне», искренне верящей — в отличие от своего мужа — в кровавые бредни
«Мифа XX века» и «Майн кампф». Еще никто до Кёппена в литературе ФРГ не
писал так точно и беспощадно о том, что нацистский рейх действительно пре-
вращал людей в социально опасных безумцев.
В романе Кёппена генерал войск СС Юдеян умирает, так и не добравшись
до фатерланда. И в этом есть своя правда: Кёппен, ненавидя юдеянов и зная,
какую опасность они представляют, хочет сказать, что не всем мечтам юдеянов
суждено сбыться, что их время прошло. Но прав Кёппен и в другом: юдеяны
смертельно опасны, пока они не мертвы.
Разоблачительная сила изображения Юдеяна заключается не только в том,
что в этом живом трупе, бродящем по Риму, показана историческая обречен-
ность нацизма. Юдеян не только ядовитая гадина, но и ничтожество: в нем
вечно живет жалкий выкормыш мещанской немецкой семьи, трясущийся от
страха перед всем, что его окружает, настолько он убежден в собственном нич-
тожестве. И как показывает Кёппен, этот страх перерастает в ненависть ко
всему живому, ко всему, что еще не растоптано и не сломано Юдеяном. Трус-
ливое ничтожество, живущее в нем, только тогда спокойно за себя, когда оно
приобретает власть над жизнью и смертью окружающих.
Роман Кёппена примечателен не только гневной антифашистской сатирой,
воплощенной в образе Юдеяна. Заявляя о том, что юдеяны живут и могут вер-
нуться в страну вместе со своим режимом, Кёппен раскрывает и условия, дела-
ющие возможной реставрацию фашизма в ФРГ. Эти условия существуют, пока
в стране правят те же силы, которые в свое время отдали власть гитлеровским
головорезам: пфаффраты и им подобные, немецкие «деловые круги», заигры-
вающие с Юдеяном.
С холодной брезгливостью описывает Кёппен послевоенную буржуазию
в ФРГ: старшего Пфаффрата, разбогатевшего на послевоенной конъюнктуре,
его окружение — сытых и наглых бюргеров. Вместе с ним совершают они па-
ломничество в Кассино — к местам, где в течение многих месяцев 1943 г. армии
союзников топтались, пока Кессельринг расправлялся с восставшей Италией
и наскоро реорганизовывал немецкие тылы. Недаром теперешним туристам из
ФРГ — вчерашним оккупантам — этот эпизод второй мировой войны вспоми-
нается как настоящая «fair war»— война-спорт, война-игра. Кёппен с горькой
иронией упоминает об этой задержке союзников, отсрочившей окончательное
освобождение Италии, а значит, и окончание войны. Нагло и вызывающе ведут
себя боннские туристы в Риме. Если Юдеян, прогуливаясь по мирному Риму,
с тоской вспоминает о тех временах, когда Вечный город жил по его приказам
и трепетал в ожидании расправы и казней, то земляки Юдеяна бесцеремонным
поведением показывают, что им ничего не стоит появиться в Риме вновь уже
не в качестве туристов, а в стальных шлемах и сапогах на железном ходу.
Особое внимание уделяет Кёппен в своем романе жизненным путям после-
военной буржуазной молодежи боннской республики.
Чаще всего она — как Дитрих Пфаффрат — верна духу отцов и помышляет
о выгодной карьере, ведущей к власти и богатству. В молодчиках вроде Дит-
риха легко увидеть будущих участников новых фашистских авантюр: Кёппен
прямо говорит о том, как тянет Дитриха к Юдеяну, как близок он к тем, кто уже
шагал под знаменем Юдеяна. Дитрих — плоть от плоти Пфаффрата-старшего,
типичное и достаточно мерзкое порождение ФРГ с ее «виртшафтсвундером», на
выгоды которого так уповают он и ему подобные.
Но есть и другая молодежь — задыхающаяся в боннском государстве,
смутно ощущающая или уже понимающая опасность реставрации фашистского
строя. Молодежь, находящаяся в состоянии длительного духовного кризиса
и ищущая выхода из него. Таков монах Адольф, сын старого Юдеяна, обра-
302
тившийся к религии в годину катастрофы рейха — мальчишка Адольф был
тогда воспитанником нацистского Орденсбурга. Таков и Зигфрид, старший сын
Пфаффрата, молодой талантливый композитор. Он ищет в музыке выхода тем
страшным и горьким чувствам, которые бушуют в нем, человеке, навсегда ис-
калеченном нацистской школой и нацистской военщиной. Он ненавидел нацизм,
ненавидел Юдеяна, ненавидел свою семью, он покорялся им, и они наложили
несмываемый отпечаток на его душу.
Двоюродные братья Адольф и Зигфрид сходны в своих судьбах. Они оба —
жертвы нацизма, уцелевшие физически, но отравленные морально, пытающиеся
излечиться от своей болезни. Ненавидя нацизм, они все же не могут избавиться
от тяжких последствий этой отравы, от извращений и патологических привычек,
привитых нацистским прошлым. Впрочем, есть между ними и разница: Зигфрид
нашел в себе силы порвать с родней, уйти из семьи и прежней своей среды —
Адольф не решается на это; Адольф находит утешение в религии — Зигфрид
спорит с ним, пытаясь подвести его к мысли, что религия санкционирует и ут-
верждает, хотя и в иных формах, отвратительный мир насилия, закон Юдеяна,
против которого восстал Зигфрид и пытается восстать Адольф.
Никак не запятнаны общением с Юдеяном и с варварским царством нациз-
ма Кюренберги, нормально живущие и радующиеся жизни люди. Но они тако-
вы только потому, что уже давно и навсегда ушли из Германии, отрясли ее прах
с ног своих. Стоило им приблизиться к ней хотя бы в Риме — и вот уже нет
в живых Ильзы Кюренберг. Зигфрид смотрит на них как на существа из друго-
го мира: он слишком несчастен и нечист рядом с ними, он виноват перед ними.
Однако с сочувствием раскрывая душевный мир Адольфа и Зигфрида, подроб-
но останавливаясь на различных сложных и болезненных комплексах, которы-
ми живут молодые люди, вызывая в нас жалость к ним, Кёппен далек от какой-
либо идеализации Зигфрида и Адольфа. Это люди больные, глубоко несчаст-
ные, беспомощные. Если они даже и враги Юдеяну — во всяком случае, Зигф-
рид ненавидит его честно и до конца,— то они не могут идти в счет как серьез-
ные противники тех, кто в наши дни возвращает юдеянов к власти. Кёппен не
заблуждается на этот счет относительно возможностей буржуазной молодежи
ФРГ, даже когда рисует тех ее представителей, которых пугает перспектива
возврата юдеянов. Нет, религия не даст ни спокойствия раненой душе Адольфа,
ни тем более средства для того, чтобы закрыть дорогу нацизму, возвращающе-
муся в ФРГ. Да и искусство — во всяком случае такое, как музыка Зигфрида,—
не исцелит его, не вернет к простому и естественному восприятию жизни.
Искусство Пфаффрата — это «диссонанс, враждебные друг другу и негармо-
ничные звуки, поиски без цели, безнадежный эксперимент, где многие пути бы-
ли начаты, а потом покинуты, ни одной мысли не дано развиться, и все было
с самого начала ломко, полно сомнения, подвластно разочарованию». «Музыка
Зигфрида,— говорит Кёппен,— казалось, была написана тем, кто не знал, чего
он хочет. Был ли он в отчаянии от того, что не видел пути, или не было для него
пути, так как он сам каждую тропу затемнял ночью своего сомнения и делал ее
недоступной?» Таково искусство молодого Пфаффрата, «образ его судьбы», как
добавляет Кёппен.
Конечно, в этих сильных обобщениях писатель захотел рассказать о глубо-
ком кризисе искусства в ФРГ, о тех его явлениях, в которых отразились болез-
ненные настроения послевоенной западногерманской молодежи. Зигфрид выше
своего искусства. Он пока не может услышать мир иначе, он еще не освобо-
дился от того мучительного восприятия действительности, которое наполняет
его опусы трагической дисгармонией и диссонансами. Но Зигфрид уже не до-
волен своей музыкой. Когда он слушает ее один, сбежав от родни и друзей, он
испытывает глубокую неудовлетворенность: он скорее на стороне студентов
и рабочих, освистывающих его'концерт, чем невежественных буржуа, востор-
женно аплодирующих музыке, которую они не понимают, но считают модной.
303
Это чувство враждебности к своей музыке, к себе самому и своему классу
так же знаменательно, как и глубокое внимание, с которым Зигфрид — человек,
враждебно настроенный по отношению к коммунизму,— присматривается
к молодой итальянской коммунистке: «Я узнал ее по ярко-красному галстуку на
синей блузе. Что за гордое лицо! Я думал: почему ты такая надменная?..»
Жалкому раздавленному нацизмом Зигфриду кажется гордыней выражение
человеческого достоинства, которым светится лицо молодой коммунистки. Есть
в этом осуждении и чувство глубокой зависти, и стремление понять сущность
силы, живущей в молодой итальянке. И этим Зигфрид резко отличается от всех
других людей своего класса — как и тем чувством братства, с которым он сле-
дит за трапезой римского бедняка, случайно подсевшего к его столику в ночном
кафе. Но лишь на миг потянулся Зигфрид к мелькнувшему мимо образу побед-
ной и прекрасной юности мира: все дело в том, что автор, как и Зигфрид, «не
знает, чего хочет», находится в цепких лапах того же «сомнения», которое вла-
дычествует над его героем.
В самом деле, «Смерть в Риме» дышит глубокой тревогой за будущее чело-
вечества, ощущением драматизма эпохи, в которую мы живем. Чувство исто-
ризма, чувство значительности переживаемого исторического момента, при-
метное и в более ранних произведениях Кёппена, в этом романе обострено, вы-
двинуто на первый план. Дни, когда съезжаются в Риме Пфаффраты, оказы-
ваются — а они и не знают этого — очередным решающим моментом в истории
50-х годов. «В эти дни речь шла о том, быть ли войне или сохраниться миру,—
пишет Кёппен.— Мы узнали об уничтожении, которое нам угрожало, только
много позже, и из газет, которые еще не были в те дни напечатаны». Тень войны
уже опять скользит над миром, в котором копошатся жалкие людишки,— и вот
в этот-то миг появляется Юдеян в Риме, смерть вновь вступает в прекрасный
древний город, угрожая ему гибелью. Но почему война была и на этот раз пре-
дупреждена, почему тень смерти, нависшая над миром, была еще раз отогнана?
Кто победил войну? На этот вопрос Кёппен не может и не хочет ответить. Слу-
чайна смерть Юдеяна в Риме, случайно разрешение кризиса во Вьетнаме, слу-
чайна победа жизни над смертью. Если даже, с точки зрения Кёппена, при всей
своей частной случайности эта победа закономерна, она не зависела от влияния
человеческой воли.
Миром в романе Кёппена правят неведомые и темные силы. Коммунисты,
которые думают иначе, внушают ему, как и Зигфриду, уважение — но и недо-
верие: с точки зрения Кёппена, они слишком самонадеянны.
Сильный там, где он подмечает отталкивающие и зловещие явления жизни,
талантливый художник-сатирик, в совершенстве владеющий средствами гро-
теска, Кёппен, к сожалению, слишком узок в своем восприятии действитель-
ности, слишком предвзят в своем недоверии к действенному и целеустремлен-
ному человеческому разуму, воплощенному в наши дни в сознательном движе-
нии народов к коммунистическому будущему, в великом международном дви-
жении борьбы за мир — этом поразительном мировом явлении середины XX в.
Односторонняя и досадно узкая концепция Кёппена сводится к убеждению
в том, что и миром в целом, и человеком в частности правят только инстинкты,
притом самые грубые и низменные. Она отражает его собственный трагический
опыт одинокого писателя, создававшего свои произведения сначала в страшном
климате нацистской диктатуры, а потом — в стране, где отравляющее воздей-
ствие нацистской идеологии продолжало уродовать людей, соединяясь теперь
уже с послевоенными космополитическими теориями, с моралью экзистенциа-
лизма, столь распространенного в Западной Германии'после войны. Враг на-
цистского варварства и бесчеловечия, Кёппен еще не нашел путей к подлинно
гуманистическому мировоззрению. К тому же писатель, видимо, находится под
значительным воздействием фрейдизма.
304
Кёппен фетишизирует инстинкты: он высказывает предположение о слабо-
сти и немощности разума перед напором миллионных человеческих масс, одер-
жимых разнузданными инстинктами, которые разжигают в них демагоги.
Фрейдистская концепция Кёппена постоянно вступает в противоречия с ху-
дожественным дарованием писателя, с его опытом внимательного наблюдателя
и знатока окружающей его жизни. Вот почему великолепный по точности ри-
сунок Кёппена, изображающий Юдеяна, вдруг начинает ослабляться домыс-
лами о том, что в звериной жестокости Юдеяна главную роль играет «комплекс
неполноценности», во многом объясняющийся тем, что Юдеян — человек ма-
ленького роста, запуганный в детстве жалким и глупым отцом «коротышка
Готлиб». Почему так бессильны перед Юдеяном и Адольф и Зигфрид, от души
его ненавидящие, но подавляемые его присутствием? И этот узел отношений
изображен Кёппеном в аспекте учения Фрейда об «инстинкте смерти», который
якобы связывает воедино и того, кто эту смерть несет — палача Юдеяна,—
и его жертву. К сожалению, именно этот фрейдистский комплекс, особенно из-
любленный экзистенциалистами, выдвигается в романе Кёппена очень часто.
Юдеян искусно играет на этом комплексе со всем мерзким опытом умелого пала-
ча, заставляя других подчиниться себе даже тогда, когда они полны внутреннего
противодействия. «Власть — это смерть. Смерть — это единственный Всемо-
гущий. Юдеян понял это, он не боялся этого, так как коротышка Готлиб пред-
чувствовал, что существует только одна власть — власть смерти и только одно
проявление этой власти, сразу вносящее ясность,— предание смерти. Воскре-
сения не бывает. Юдеян служил смерти. Он принес ей богатые дары». Так
Юдеян превращается в некоего жреца всемогущего божества смерти, приоб-
ретает очертания мифологического персонажа, против которого затевают бунт
его подавленные, но трусливые потомки — жалкий и бессильный монах Адольф,
беспочвенный мечтатель Зигфрид. Так, придавая социальной и вполне реальной
теме спора отцов и детей в ФРГ 50-х годов очертания извечного конфликта по-
колений, Кёппен вновь соскальзывает в трясину фрейдистской мифологии с ее
якобы врожденным «эдиповым комплексом» вражды отцов и детей. Реальная
картина, столь четко намеченная им, расплывается, теряет свою конкретность.
Наконец, привычки развратника, садиста и убийцы Юдеяна изображаются
в последних сценах романа тоже в фрейдистском плане— как сочетание эро-
тического и разрушительного инстинктов, в последний раз вспыхивающих
в старом палаче. К сожалению Кёппен не замечает, что подгоняя психологию
Юдеяна под общие фрейдистские категории, он ослабляет свои же позиции:
в плане фрейдистских концепций Юдеян — обыкновенный человек, одержимый
«комплексом», а не то мерзкое отклонение от человеческих норм, каким он по-
казан на лучших страницах книги, где он — именно зверь, а не человек.
Правда, фрейдистское истолкование событий немецкой истории XX в. дове-
дено Кёппеном до оптимистического финала: кончается век кровавого варвар-
ства, воплощенный в Юдеяне, он гибнет, наступает минута духовного осво-
бождения для Адольфа и Зигфрида. Но здесь снова фрейдистские заблуждения
вступают в спор с талантом художника — ведь Кёппен сам рассказал нам, что
юдеяны были вызваны на арену мировой истори пфаффратами, а пфаффраты
и ныне властвуют в ФРГ: «Федеративная Республика имела свои слабые сто-
роны, это было известно. От них было нелегко отделаться,— пишет Кёппен, пе-
редавая ход мыслей Пфаффрата,— но в целом в оккупированной стране гос-
подствовал порядок, и все было приготовлено для того, чтобы подтянуть удила,
а там можно будет заглянуть и подальше вперед, будущее выглядело неплохо,
а прошлое Пфаффрата было как раз такое, как надо, оно его рекомендовало
достаточно...»
В тесной связи с фрейдистскими заблуждениями писателя находятся и те
натуралистические черты его эстетики, которые не могут не вызвать протест.
Говоря об этих чертах, я имею в виду отнюдь не то обстоятельство, что роман
11 Р. М. Самарин
305
Кёппена состоит из нескольких искусно переплетенных монологов, в которых
через поток мыслей и чувств, присущих персонажам романа, дано восприятие
действительности, а следовательно, и охарактеризованы сами персонажи. Это
прием довольно старый, очень модный еще в 20-х и 30-х годах, и Кёппен владеет
им в совершенстве. Нельзя сказать, что в этом приеме — слабость романа. Нет,
Кёппен использует его отнюдь не натуралистически. У Кёппена он действи-
тельно служит глубокому и всестороннему раскрытию того или иного персона-
жа — Зигфрида с его сложнейшими оттенками чувств и мыслей, для которых он
находит свои особые и тоже сложные способы выражения, Юдеяна, монологи
которого пошлы и грубы, как и он сам. Нет, натурализм Кёппена сказывается
в заметно упрощенном изображении человека как существа, прежде всего на-
ходящегося во власти инстинктов. К ним сводит писатель все проявления ду-
ховной деятельности человека, и в них Кёппен, незаметно для себя, уравнивает
людей — Кюренбергов, Зигфрида и Адольфа — с чудовищем Юдеяном. Неда-
ром в разных местах романа он сравнивает с животными и Юдеяна и Кюрен-
бергов. Восприятие действительности только как суммы явлений, на которые
так или иначе реагируют прежде всего инстинкты человека, ведет к обедненно-
му изображению мира, окружающего героев Кёппена.
Над великим древним городом стелются запахи дурной пищи, отбросов
и нечистот, улицы его напоминают больной кишечник. Стремясь дать почувст-
вовать читателю, как бездушен и грязен мир, в котором живут и страдают его
герои, Кёппен особенно подробно описывает самые грубые отправления чело-
веческого организма, в их оскорбительности пытаясь передать мучающее его
ощущение антигуманности и безобразия буржуазной действительности сере-
дины 50-х годов нашего века. Во всех этих случаях писатель перестает владеть
материалом, подчиняется ему. Кучи словесного мусора громоздятся вдоль
стройных стен его замысла, иногда загораживая от нас весьма существенные
особенности книги. Нечистоты затопляют роман, выйдя из сточных канав
и подвалов Рима.
Но чего больше в романе Кёппена — жизненной правды, порою отталкива-
ющей и страшной, или предрассудков? Искусства или словесного мусора и не-
чистот? Искренней тревоги или претенциозности? Любви или цинизма? Взве-
шивая и сравнивая, нельзя не прийти к выводу о том, что роман Кёппена — во
многом правдивое и гневное изображение буржуазной действительности. Об
этом свидетельствует глубокая типичность явлений, охваченных в нем, и общий
характер их изображения — верность жизни. Но, как и в некоторых других
произведениях критического реализма в современной литературе ФРГ, в романе
Кёппена особенно сильно сказывается многолетнее увлечение философией
и поэтикой декаданса, ложное понимание новаторства в искусстве, порою тол-
кающее писателя к подражательству и наивному копированию некоторых анг-
лийских и американских образцов.
Нельзя, однако, не заметить и то, что нередко роман Кёппена звучит как
пародия на ту самую англо-американскую повествовательную традицию, опыт
которой Кёппен использует. А это значит, что, еще пользуясь ею, писатель уже
понимает ее несостоятельность, внутренне готовится порвать с нею. К тому же
видны и подлинно национальные традиции мастерства Кёппена. Они заключа-
ются и в следовании великому примеру братьев Маннов (чей опыт — несмотря
на острое различие, существующее между ними,— сумел учесть Кёппен), и
в близости гротеска Кёппена к лучшим образцам экспрессионистского искус-
ства (так и представляешь себе иллюстрации Георга Гросса к «Смерти в Ри-
ме»!). Прочная национальная традиция ощущается особенно четко в общей
сатирической направленности книги: разоблачение типичных проявлений не-
мецкого национализма от песни о «дикой охоте Люцова», через мещански ис-
толкованного Вагнера к нацистской идеологии свидетельствует, что Кёппен не
прошел мимо сатирического наследия К. Тухольского, Г. Манна и многих дру-
306
гих остроумных противников и разоблачителей пангерманизма. В общем ба-
лансе художественных средств Кёппена эта национальная основа очень весома,
что видно даже из названия романа, перекликающегося с названием новеллы
Томаса Манна —«Смерть в Венеции». Концепция обреченного старого обще-
ства, ироническое изображение погрязшей в нацистском варварстве немецкой
буржуазии XX в. сближает Кёппена с Т. Манном.
Однако самое интересное в книге Кёппена,— это не традиции, на которые ее
автор опирается, и не влияния, которые в ней чувствуются, а ее своеобразие,
заключающееся в остром чувстве времени, в ощущении драматизма истории,
в том, что Кёппен видит зависимость судеб Зигфрида Пфаффрата, Адольфа
Юдеяна, Кюренбергов от судеб немецкого общества. Кёппен обладает само-
бытными сильными средствами художественного обобщения, в которых он
удачно соединяет глубокое раскрытие психологии действующих лиц и резкую
экспрессивность, нередко переходящую в гротеск, в угрюмую, но запоминаю-
щуюся карикатуру, в правдивости которой трудно сомневаться. Своеобразен
и язык Кёппена: подлинный мастер слова, Кёппен любит играть им, создает
многозначные образы, построенные на звуковых ассоциациях и на сложной иг-
ре слов. Так, например, заставляя старого убийцу Юдеяна встретиться в глухом
римском кабаке-подвале с его старыми подчиненными, Кёппен на игре слов
«Kameraden» (товарищи — в смысле, характерном для нацистского жаргона)
и «Ratten» (крысы) строит характеристику эсэсовских бандитов, выползающих
из своих крысиных нор.
Кёппен — художник остропротиворечивый, нередко срывающийся в искус-
ственность и фальшь, нередко сворачивающий с верного пути, по которому он
уже сделал немало шагов.
И при всем том Вольфганг Кёппен увидел и показал правду, не побоялся
сказать о гноящихся язвах, разъедающих организм боннской республики.
1960
ПРОБЛЕМА НАТУРАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ США
И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО РОМАНА НА РУБЕЖЕ
XIX — XX ВЕКОВ
1
В начале XX в. в литературе США появляются романы, свидетельствующие
о том, что в этом жанре вызревают и сказываются новые художественные ка-
чества американского реализма. Продолжая на новом историческом этапе ве-
ликие традиции, заложенные еще в 80-х годах Марком Твеном, эти романы от-
личались широким охватом общественной жизни, острым и глубоким изобра-
жением социальных противоречий и столкновений своего времени и сложных
психологических коллизий, возникающих под их воздействием. Проблема на-
рода, его страданий и надежд, приобретает в этих новых романах особенно
значительный смысл, выдвигается на первый план, ровно как и критическое
сознание тех общественных и духовных процессов, которые происходят в США.
В связи с новой проблематикой, в связи с новым пониманием самой задачи ху-
дожественного изображения действительности изменяется и весь характер ро-
мана в целом — композиция, структура образа, стиль. Об этих важных сдвигах
в развитии американского реалистического романа свидетельствуют такие
произведения, как «Сестра Керри» Т. Драйзера, «Спрут» Ф. Норриса, романы
Э. Синклера «Манассас» и «Джунгли», наконец, романы Дж. Лондона «Мор-
ской волк», «Железная пята» и «Мартин Идеи» и произведения других, менее
известных авторов.
11*
307
Как бы ни были различны таланты и взгляды этих писателей, их романам
в целом были свойственны некоторые общие качества, сказавшиеся как в об-
щности проблематики, в критической оценке американского общества и в по-
исках положительного социального идеала, так и в определенных эстетических
аспектах.
Новые этические и эстетические качества американского реалистического
романа первых лет XX в. не могли появиться внезапно. Они не были ни резуль-
татом перенесения на почву США опыта других, более развитых литератур
(хотя этот опыт и был широко использован молодыми романистами), ни след-
ствием воздействия какого-нибудь одного из американских романистов. Уже
в ту пору, когда эти романы только появлялись, их критики и сами авторы не
раз признавали, что в процессе длительного развития, которое привело в начале
XX в. к качественному скачку в американском критическом реализме, большую
роль сыграли прежде всего новые общественные условия и вместе с тем твор-
чество выдающихся прозаиков 80-х и 90-х годов — Хемлина Гарленда (Hamlin
Garland, 1860—1940), Стивена Крейна (Stephen Crane, 1871 — 1900), Херолда
Фредерика (Harold Frederic, 1856—1898), Роберта Херрика (Robert Herrick,
1868—1938) и некоторых других. Критика того времени и многие литературо-
веды в более поздние годы видели в этих писателях представителей натурализ-
ма в литературе США. К числу натуралистов, например, относили полностью —
и нередко относят в наше время — Ф. Норриса, Т. Драйзера, Э. Синклера.
Проблема натурализма и проблема развития реалистического романа в ли-
тературе США на рубеже XIX и XX вв. находится в тесной и сложной связи.
Выяснить и осмыслить характер этой связи можно не только для уточнения са-
мого понятия натурализма применительно к литературе США, но и для опре-
деления специфики американского критического реализма XX в. и закономер-
ностей развития американского романа вообще.
Формирование новых черт американского критического реализма- начина-
ется, очевидно, уже со второй половины 80-х годов. Уже тогда наметился зна-
чительный подъем литературного движения в США, ознаменованный «Гекль-
берри Финном» Марка Твена, углублением реализма в романах У. Д. Хоуэлса,
ранними выступлениями X. Гарленда. Собственно 90-е годы в литературном
процессе США выделяются заметной интенсивностью, отражающей динамику
социального процесса в США в период их вступления в эпоху империализма.
Еще появляются новые и новые романы Г. Джеймса с их сложной поэтикой,
в которой все настойчивее преобладают эстетские тенденции, отгораживающие
художника от значительных проблем американской действительности. Еще
в расцвете деятельность У. Д. Хоуэлса — в те годы как бы официального авто-
ритета американской литературы. В 90-е годы в статьях Хоуэлс продолжает
развивать свой взгляд на опыт европейского критического реализма и на его
ценность для американской литературы, о чем он настойчиво писал еще в
80-е годы.
В творчестве Хоуэлса 90-х годов и в творчестве Твена растет тревога по по-
воду общего направления социального развития в США, ведущего к дальней-
шему обострению классовых противоречий. У Хоуэлса этот комплекс тревож-
ных настроений ярче всего выразился в «Путешественнике из Альтрурии»
(1894), у Твена — в сатирической повести «Человек, который совратил Гедли-
берг» (1899). Конечно, видя эволюцию Хоуэлса и Твена в общих чертах, нельзя
забывать и о противоречиях обоих писателей. Но и обострения социальной те-
матики в их произведениях 90—900-х годов при всем различии их творческого
метода нельзя не заметить.
Тогда же, в 90-х годах выдвигается несколько молодых писателей, созна-
тельно ставящих перед собою новаторские цели, стремящихся к широкому от-
ражению социальной жизни в США, в новой художественной форме, жажду-
щих рассказать о таких сторонах американского общества, о таких его конт-
308
растах, о которых до той поры в американской литературе говорить было не
принято. Таково было творчество X. Гарленда, X. Фредерика, Р. Херрика,
С. Крейна, несколько позже— Ф. Норриса, Дж. Лондона, Э. Синклера. Надо
иметь в виду, что они не составляли единого литературного течения или группы
в строгом смысле этого слова, не были организационно объединены и входили
в различные литературные круги своего времени. С. Крейн, например, был
в известной мере близок с Хоуэлсом, Гарлендом и даже с Г. Джеймсом, имел
прочные литературные связи с Англией, где подолгу жил. Различны были и по-
литические взгляды этих писателей. На X. Гарленда, позже на Ф. Норриса
определенное воздействие оказало популистское движение. Очевидно, на
С. Крейна влияла Антиимпериалистическая лига. Лондон и Синклер испыты-
вали непосредственное воздействие рабочего движения.
При всем том в их литературной деятельности было много общего. Обо-
стрение общественной борьбы в США оказало большое влияние на их твор-
ческое развитие, определив их критическое отношение к американскому обще-
ству, а соответственно и направление их новаторских исканий. Некоторые из
этих писателей — особенно С. Крейн и Ф. Норрис — проявляли особый интерес
к творческому опыту французских писателей-натуралистов и, в частности,
к Золя, что отражало и общий интерес американской литературной среды,
американских читателей к этому художнику — интерес, наметившийся еще
в 80-х годах и с тех пор, как показали исследователи ', нараставший.
Американская литературная критика уже в 90-х и 900-х годах охотно назы-
вала Норриса, Крейна — а за ними и Драйзера — натуралистами. Следует
помнить, что среди тех писателей, которых считали натуралистами в конце
прошлого века, можно найти и Флобера, Л. Толстого и Г. Ибсена, и Б. Шоу.
Они рассматривались в одном ряду с Э. Золя, братьями Гонкур, Г. Гауптманом,
Дж. Муром, т. е. писателями, которые и сами считали себя «натуралистами»
или выступали с такими программными работами, как «Экспериментальный
роман» Золя.
Из этих оценок явствует, что под названием «натурализм» критика на ру-
беже XIX — XX вв. подразумевала нередко вообще новые явления в литерату-
ре, примечательные своей тенденцией к открытому изображению тех сторон
жизни, которые полагалось скрывать или смягчать.
Однако не следует впадать и в другую крайность и считать, что натура-
лизм — и как творческий метод в целом, и индивидуальные его проявления —
был просто шагом к новому этапу в развитии критического реализма. Созна-
тельное обращение к позитивизму, провозглашенное Гонкурами, а в дальней-
шем Эмилем Золя и его меданским кружком (до его раскола), примеру которых
последовали затем немецкие и бельгийские натуралисты, а позже — некоторые
писатели в США, обрекало гносеологическую и эстетическую теорию натура-
листов на тяжкую односторонность. Переоценка физиологического и — шире —
биологического начала в человеке и недооценка начала социального, забвение
великой аристотелевской формулировки о том, что человек —«животное
общественное», известное пренебрежение к освободительным политическим те-
ориям создавали предпосылки для проникновения в творчество натуралистов
различных реакционных политических концепций. Они вели в ряде случаев
к появлению расистских или резко индивидуалистических тем и образов, к по-
рочной идее биологического детерминизма, в духе которой иные писатели-на-
туралисты пытались решать большие социальные и психологические проблемы.
Антигуманистические тенденции, наличествовавшие уже в ранних проявлениях
натурализма, чудовищно увеличились и разрослись в литературе империа-
листической реакции XX в.
1 Biencourt M. Une influence du Naturalisme français en Amérique. Paris, 1933; Jones M. French
Literature and American Criticism, 1870—1900. Cambridge, Harvard University Press, 1935.
309
Связанная с мировоззренческими моментами художественная практика на-
турализма нередко уводила художников прочь от реалистического искусства.
Стремление к протокольно точному изображению обобщений и художествен-
ного вымысла как от условности, недостойной эпохи положительных знаний,
попытка свести художественное творчество лишь к фиксированию круга на-
блюдений, который не мог не быть объективно ограниченным, подгонка беско-
нечного разнообразия характеров и ситуаций под схемы физиологии и психи-
атрии на том ее уровне, на каком эти науки были в середине прошлого века —
все это не могло не мешать развитию реалистических тенденций у многих та-
лантливых художников-натуралистов.
Но, уходя в сторону от больших реалистических обобщений XIX в. и от под-
линно гуманистического понимания задачи изображения общества и человека,
писатели-натуралисты, с другой стороны, объективно помогали обогащению
и углублению реализма иными сторонами своей программы — призывом
к тщательному изучению действительности и точной фиксации ее новых явле-
ний, порождаемых развитием капитализма, смелым выбором новых и особенно
жгучих актуальных тем, изучением болезней общества, поисками новых худо-
жественных форм и средств. Эти плодотворные стороны натурализма наиболее
ярко сказались в «Экспериментальном романе» Э. Золя — книге, выразившей
и противоречия натурализма как метода, и индивидуальные противоречия са-
мого Золя. (О последних нельзя забывать, так как с ними исследователь лите-
ратуры встречается почти в каждом случае, когда речь идет о талантливом ху-
дожнике, объявлявшем себя сторонником натурализма.) Торжество реалисти-
ческих начал, заложенных в подлинно большом таланте, и использование но-
ваторских сторон натуралистической теории нередко парализовали действие ее
порочных сторон. Если особенно сильно эти индивидуальные противоречия
сказались у того же Золя, что было предметом изучения в ряде советских
работ \ то можно указать и на другие примеры: итальянский прозаик Д. Верга,
поднявшийся над им же самим провозглашенными принципами «веризма», на
Г. Гауптмана, вырвавшегося в «Ткачах» и других своих лучших произведениях
за пределы берлинского кружка натуралистов, на Джорджа Мура и Дж. Гис-
синга в английской литературе, в творчестве которых были значительно про-
двинуты средства реалистической характеристики, на бельгийского романиста
К. Лемонье и на многих других. В названных случаях речь идет не просто о пи-
сателях-реалистах, которые «по ошибке» были внесены в список натуралистов.
Нет, это именно писатели, активно участвовавшие в истории натурализма как
литературного движения, но поднявшиеся над его ограниченностью и предвзя-
тостью и при этом плодотворно использовавшие поиски натурализма.
Надо иметь в виду и другие случаи, когда натурализм в развитии того или
иного писателя был только этапом, только периодом его развития. Ведь и Ибсен
прошел полосу активного интереса к натурализму — но именно прошел через
нее. Она была только отрезком его блистательного и тяжкого творческого пути.
Натуралистические веяния сильно ощущаются в творчестве молодого Г. Манна.
Были ли эти художники просто натуралистами, укладывается ли их длительный
и сложный путь в историю натурализма? — Едва ли.
Были заметные противоречия и внутри натурализма как литературного на-
правления. Они видны в расколе меданской группы 2, и характерно, что раскол
прошел по такому важному рубежу, как социальная проблематика. В то время
как Золя пошел по линии ее углубления и эта линия вывела его к созданию
лучших его романов, Гюисманс свернул решительно в сторону от социального
искусства, а Эдмон Гонкур выступил с теорией натуралистического изображе-
1 См.: Пузиков А. И. Эмиль Золя. Очерк творчества. М., 1961.
2 Меданская группа — натуралистическая школа, полная, несмотря на свое относительное
единство, глубоких внутренних противоречий и скрытой литературной борьбы. В ее состав входили
Г. де Мопассан, Ж. К. Гюисманс, А. Сера, Л. Энник, П. Алексис— Ред.
310
ния «прекрасного» в современности, подразумевая под этим эстетизацию
французской буржуазной действительности эпохи Третьей республики. Видны
существенные различия между мюнхенской школой натурализма с ограничен-
ным отбором тем и многословным, утомительным описательством — и школой
берлинской, выразительно тяготевшей к постановке острых социальных проб-
лем, к созданию произведений, критически фиксировавших типичные явления
немецкой действительности.
Наконец — и это, пожалуй, самое важное историко-литературное обстоя-
тельство—литературоведением установлено, что в различных литературах
история и значение натурализма были тоже весьма различны '. В литературах
с могучей реалистической традицией, созданной еще в первой половине XIX в.,
натурализм зачастую резко или во всяком случае сознательно обособлялся от
реалистического искусства 20—50-х годов: молодым писателям-натуралистам
оно казалось устарелым искусством вчерашнего дня, хотя и воспринималось
ими в целом положительно. Так, Золя, которому принадлежат многие замеча-
тельные мысли о творчестве Бальзака, все же мог воскликнуть: «Мы шагнем
дальше Бальзака!»— искренне веря, что он, вместе с тем, продолжает дело
Бальзака. Особенно сложно было в польской литературе, где явления так на-
зываемого литературного позитивизма, очень близкие к натурализму, рассмат-
риваются как одна из линий развития реализма после 1863 г.
При всех различиях, которые обнаруживаются в анализе проблемы натура-
лизма, видно и то общее, что лежит в основе натурализма в национальных ли-
тературах. Комплекс идей и эстетических представлений, охватываемый поня-
тием «натурализм», возникает в ту эпоху, когда постепенно все в большей сте-
пени дает себя знать исчерпанность прогрессивной исторической роли буржуа-
зии, все определеннее проступает ее реакционная роль, все яснее определяются
черты приближающегося упадка правящих классов — и, с другой стороны, все
настойчивее и шире становится активность народных масс, а их воздействие на
литературу делается все более значительным, хотя проявляется чаще всего не
прямо, а в сложных косвенных формах.
Только в свете этих соображений можно пытаться решить проблему нату-
рализма в литературе США и рассмотреть роль писателей-натуралистов, при-
давших новое качество американскому критическому реализму, которое обна-
ружилось в бурном расцвете реалистического романа на пороге нового века.
В литературной критике конца XIX в., а затем в многочисленных трудах,
посвященных литературе США, натуралистами прежде всего именуются X.
Гарленд, С. Крейн и Ф. Норрис.
Французский исследователь литературы США Р. Мишо в своей «Панораме
американской литературы» 2 причисляет Норриса и Крейна к натурализму.
Немецкий исследователь В. Фишер в книге «Литература США» 3 относит твор-
чество С. Крейна и Ф. Норриса к «программному натурализму». «К американ-
ским лидерам натуралистического движения,— пишет Дж. Харт в своем
«Справочнике по американской литературе», выдержавшем несколько изда-
ний,— относятся Крейн, Норрис, Херрик, Лондон и Фредерик» 4.
В работах зарубежных литературоведов творчество американских писате-
лей-натуралистов выводится в непосредственно из иностранных, прежде всего
французских влияний. Так поступает Дж. Сальван в книге «Золя в Соединен-
ных Штатах» 5, где творчеству Крейна, Норриса и Драйзера посвящены специ-
альные разделы, рассматривающие их зависимость от Золя. Шведский амери-
1 См. об этом: История английской литературы. М., 1958. Т. 3; История французской литера-
туры. 1959. Т. 3.
2 Panorama de literature américaine contemporaine. Paris, 1930.
3 Fischer W. Literature der Vereinigten Staaten. Berlin, 1930.
1 Hart J. The Oxford Companion to American Literature. N. Y., I94l. P. 517.
5 Salvan A. J. Zola aux États-Unis. Providence, 1943.
3ll
канист Ларе Онебринк в книге «Влияние Э. Золя на Фрэнка Норриса» \ со-
поставляя романы этих двух писателей, пытался доказать не только общую за-
висимость эстетики американского романиста от Золя (о своем глубоком инте-
ресе и почтении к Золя писал немало и сам Норрис), но и установить случаи
прямого ученического заимствования в отдельных романах Норриса. При этом
в ход идут даже такие соображения, что если свадьба четы Купо в «Западне»
Золя стоила 200 франков, то свадьба Мак-Тига из одноименного романа Нор-
риса стоит 200 долларов... Таких доводов немало в наивной книге Онебринка.
Да и в ряде советских работ2 проблема натурализма в литературе США рас-
сматривается прежде всего на творчестве Крейна и Норриса.
Эта устоявшаяся точка зрения, конечно, имеет серьезные объективные
основания. Да, писатели, обобщенно упоминаемые в наиболее полном перечне
Дж. Харта — Крейн, Норрис, Херрик, Лондон, Фредерик (сохраняю последо-
вательность, в которой они названы у Харта),— были близки к тем литератур-
ным явлениям, которые принято называть применительно к литературам За-
падной Европы «натурализмом». Близость эта во многом объясняется рас-
пространенным среди них (хотя и не без исключений) стремлением усвоить
многие творческие и эстетические принципы Золя.
Споры о Золя начались в американской критике задолго до того, как в ли-
тературе США появились «собственные» натуралисты. Уже в 80-х годах,
в связи с опубликованием переводов романов Золя в Америке и растущим ин-
тересом публики к ним, в американской прессе шли жаркие дебаты о француз-
ском писателе и о направлении, которое связывали с его именем. И уже тогда
не было недостатка в самых крайних мнениях о Золя и его творческой манере.
Г. Джеймс отдавал должное таланту Золя, а некоторые критики срамили его
как могли, высказывая мнение американского мещанина, напуганного сме-
лостью французского романиста. Под предлогом «безнравственности» романов
Золя они ополчались на правдивое изображение скандальных нравов буржу-
азного общества, широко представленного в серии романов о семействе Ру-
гон — Маккаров.
Несмотря на определенную линию, которую вели против Золя блюстители
американской нравственности, его популярность в читательских кругах (разу-
меется, наиболее развитых) росла. Нельзя отрицать и растущего интереса
к нему как к художнику современности у многих молодых американских писа-
телей, в частности у Крейна и Норриса.
Но в «золяизме» американских писателей надо видеть фактор уже вторич-
ного значения, не определяющий главного в натурализме этих художников.
Вместе с тем, нельзя к творчеству этих писателей подходить с некоей отвлечен-
ной меркой натурализма, равняя по ней все, что было ими создано. У амери-
канского натурализма были свои важные особенности, определяемые специфи-
ческой ситуацией в литературе США, отличавшейся от состояния литературы
большинства стран Европы. Русла литературного развития различных областей
США — Востока, Запада, Юга — сравнительно недавно были объединены
взаимосвязанным национальным литературным движением, конечно, с самого
начала остро противоречивым. Разумеется, национальная литература США как
диалектическое единство направлений начала складываться еще в первые де-
сятилетия XIX в. Но на процесс ее развития оказали свое задерживающее вли-
яние глубокие общественные и идеологические противоречия между Югом
1 Âhnebrink L. The Influence of Emile Zola on Frank Norris. Upsala — Cambridge, Harvard
Univ. Press, 1947.
2 Шиллер Ф. П. История западноевропейской литературы нового времени, 1936; Гальперина
Е., Запровская А., Эйшискина Н. Западноевропейская литература XX века, 1935; Курс лекций по
истории зарубежных литератур XX века. МГУ, 1956.
312
и другими штатами. После разгрома сецессионистов ' процесс складывания
национальной литературы в США заметнейшим образом усилился, активизи-
ровался.
Английская и французская литературы, натуралистические течения в кото-
рых были особенно хорошо известны в США, отличались по своему типу ста-
новления и развития от литературы США.
В американской литературе, как и в немецкой или бельгийской, развитие
критического реализма и сравнительно поздняя национальная консолидация
разрозненных до определенного момента литературных сил, шло замедленными
темпами, осложнялось многими обстоятельствами, в частности слабо развиты-
ми национальными реалистическими традициями. Во второй половине века
в этих странах сложились условия для быстрого развития национальной лите-
ратуры — национальное объединение, возникновение общенациональной про-
блематики, углубление общественных противоречий. В этих условиях убыст-
ренного развития натурализм, оставаясь явлением весьма противоречивым,
содержал в себе также и реалистические тенденции — особенно в тех случаях,
когда перед литературой возникали задачи изображения новых общественных
явлений, требовавших для своего воплощения в художественных образах и но-
вых средств. Конечно, определенные стороны натуралистической эстетики были
использованы критическими реалистами и в литературах других стран. Но
в литературе США, как и в немецкой, эта роль писателей-натуралистов в фор-
мировании нового этапа критического реализма на рубеже XIX и XX столетий
была особенно значительна.
Говоря о натурализме названной группы американских писателей, надо
помнить и о различии их творческих индивидуальностей, их путей. В одних
случаях черты натуралистической поэтики оказались общим пределом для все-
го творческого развития того или иного художника, как это было, например,
с Херриком и особенно Фредериком. И в первом романе Херрика —«Человек,
который побеждает» (The Man Who Wins, 1897), и в последующих его романах
конца 90-х и начала 900-х годов преобладает натуралистическое описательство,
иногда очень яркое и новое по жизненному материалу, но в своих обобщающих
тенденциях — ограниченное, и, видимо, не в силу таланта автора, а в силу не-
верно понятого им принципа объективности искусства. У Херрика оно превра-
тилось в нечто близкое к объективизму, к отказу от аналитического изображе-
ния действительности. Преобладание натуралистического начала обеднило
и творчество Херолда Фредерика, очень интересного художника, показавшего
немалое мастерство в изображении жизни фермеров, в картинах городской
жизни, весьма близких по художественным средствам к нью-йоркским расска-
зам Крейна.
В других случаях художественные средства и философские воззрения,
определяемые термином «натурализм», противоречиво переплетались
в мастерстве того или иного художника со многими другими тенденциями. Так
это было в искусстве рассказчика Гарленда или в новеллах молодого Лондона.
Наконец, некоторые молодые художники, первоначально поверив в возмож-
ности натурализма как искусства, предельно точного и чуждого идеализации
изображаемого, в дальнейшем отходили от него. Натуралистическая линия ли-
бо ослабевала в их творчестве, как у Крейна, либо отодвигалась на задний план
реалистическими исканиями, как это раскрывается в особенно сложной эволю-
ции Норриса. Конечно, нигде натурализм не существовал в некоем химически
чистом виде. За исключением произведений явно программных, подобных пер-
вым романам братьев Гонкур или «Терезе Ракен», драмам юного Гауптмана,
Гольца и Шлафа, он всюду выступал в сложных формах, в которых играли
1 С е ц е с с и о н и с т ы — представители новых течений в искусстве конца XIX — начала
XX в., возникших на почве оппозиции официально признанному академизму.— Ред.
313
главенствующую роль то реалистические стороны, как в романах Золя, то черты
декаданса, как в произведениях Гюисманса. Изучая в целом творческий опыт
писателей конца XIX в., объединяемых и логикой их развития, и суждением
критики под общим понятием «натурализм», легко обнаружить в этом опыте
спектр всех оттенков того времени — от великолепных реалистических обоб-
щений в духе большинства романов о Ругонах и Маккарах до субъективных
импрессионистических конструкций с распадающимся синтаксисом, прото-
кольно ловящим сбивчивую, неясную речь персонажа, до наивной и уже не ху-
дожественной символики, воплощающей натуралистически понятые «силы
природы», примером чему может служить роман того же Золя «Проступок аб-
бата Мурэ». Но в условиях американской литературной действительности
сущность этих сложных явлений, называемых натурализмом, была особенно
противоречива, особенно динамична. Поэтому, видя в группе молодых прозаи-
ков, выдвинувшихся в конце прошлого века в литературе США, американский
вариант натуралистического литературного движения, надо не забывать о спе-
цифике национальных, американских черт их творчества, об их национально-
эстетическом своеобразии. Оно дает основания к тому, чтобы поставить вопрос
о значении их творчества в развитии американского реализма.
2
Большинство работ о литературе США 90—900-х годов, определяя твор-
ческий метод писателей-натуралистов, прежде всего основывается на традици-
онном противопоставлении их творческой манеры манере Хоуэлса и даже Г.
Джеймса. В противоположность им те, кого именуют натуралистами, обраща-
ются с точки зрения многих зарубежных литературоведов, к «низким», «гру-
бым», «непоэтичным» сторонам американской действительности. Человеческая
природа в их творчестве выступает якобы в грубо физиологическом аспекте.
Общественная жизнь изображается якобы предвзято, с чрезмерным вниманием
к тем ее сторонам, которые свидетельствуют об отсутствии социальной спра-
ведливости, об углублении нищеты (что, по мнению многих американских ав-
торов, было явлением временным, еще не побежденным поступательным дви-
жением американской цивилизации). Нередко к этому комплексу отличитель-
ных черт «натурализма» многие критики прибавляли еще и ссылку на зависи-
мость этих писателей — особенно Крейна и Норриса — от Золя и Толстого
(в творчестве великого русского писателя буржуазная критика конца XIX в.,
охотно усматривала поворот к «натурализму»).
Как свидетельствуют об этом серьезные исследования, вроде упомянутой
книги Сальвана, такое понимание натурализма нередко вело к травле писате-
лей, смело искавших новых путей развития американской литературы. Буржу-
азная пресса, скандализованная их творчеством, их протестом против обвет-
шалых устоев буржуазной морали, трактовала молодых писателей как раз-
вратников, людей с больным воображением, «дурных» американцев, подража-
ющих «дурным» заграничным образцам.
Но далеко не все американские критики и писатели старшего поколения от-
носились к молодым писателям-натуралистам как к явлению опасному или не-
значительному. Известно, что тот же Хоуэлс с большим интересом отнесся
к творчеству Крейна. Дж. Лондон в яркой статье о романе Норриса «Спрут»
(1901) говорил о могучем таланте молодого писателя. Уже тогда — на рубеже
столетий — и отчасти под влиянием самих натуралистов критики писали о «ро-
мантизме» и «реализме» в их творчестве, этим указывая на сложность натура-
лизма. Норрис дал к этому особенно широкие возможности, так как он сам
употреблял понятие «романтизм» для определения важных сторон своей эсте-
тики, о чем еще будет речь ниже.
314
Наиболее прозорливые американские литературоведы, обдумывавшие об-
щий ход американского литературного процесса конца XIX в. и начала XX в.—
В. Л. Паррингтон, Ван Вик Брукс, в наши дни—Гейсмар, склонны видеть
в творчестве натуралистов новые черты реалистического искусства, приближе-
ние к новому этапу его развития в литературе США. Этот новый этап сущест-
венно отличался от реализма XIX в., в том его виде, как он сложился от Бичер-
Стоу до романов Марка Твена, хотя ясно, что и этот ранний период развития
реализма в литературе США должно понимать в динамике, в его движении
вперед, а не в качестве застывшей схемы.
;з
Изучение творчества и теоретических высказываний писателей-новаторов
90—900-х годов убеждает в том, что перед нами глубоко своеобразное течение
в американском искусстве, вызванное бурной общественной жизнью страны
конца XIX в., трагическим разрушением иллюзий о некоем абсолютно прогрес-
сивном характере американского общества, нарастающей оппозицией самых
различных социальных слоев натиску монополий уже в 90-х годах.
В борьбе против монополий ведущая роль принадлежала рабочему классу
США, который в конце 80-х и в начале 90-х годов выдержал немало ожесто-
ченных классовых битв и заставил своих противников считаться с грозной си-
лой рабочих забастовок и организованных выступлений. С 1892 г. большую ак-
тивность развила популистская партия, очень разнородная, но прежде всего
опиравшаяся на фермерские массы. К 1896 г. из-за отсутствия руководства со
стороны рабочего класса и внутренних противоречий популисты растворились
в одной из правящих буржуазных партий — демократической. Но и выступле-
ния рабочего класса, и подъем популистского движения, несмотря на его даль-
нейший кризис, оказали сильнейшее воздействие на развитие общественной
мысли в США, на деятельность американских писателей-новаторов, выдвигав-
шихся в 90-х годах как представители молодой, новой литературы США, от-
меченной острым социальным смыслом, смелым стремлением показать новые
черты американской жизни.
Общественный потенциал этого новаторского литературного движения
проявляется в самых различных формах и лишь иногда принимает такой оче-
видный характер, как протест против монополий в рассказах Гарленда и рома-
нах Норриса, как прямая критика капитализма в публицистике Лондона и т. д.
Но все они жадно искали новых этических и эстетических ценностей, новых ху-
дожественных средств, отталкиваясь прежде всего от вольной и невольной
фальши, от полуправды, от приукрашивания действительности. Это видно из
сборника Гарленда «Разрушение кумиров» '.
Призывая к обновлению американскую литературу последних десятилетий,
Гарленд выдвигал теорию «веритизма»— искусства достоверного, поверяемого
действительностью. Хотя в «веритизме» есть черты, сближающие его с мани-
фестами итальянского «веризма» Верги и французских натуралистов 80-х го-
дов, еще сильнее в эстетических идеях Гарленда говорит стремление учиться
у жизни, а не у традиционных литературных и научных авторитетов. Жизнен-
ную правду Гарленд понимал широко — и как достоверность изображения со-
циальных отношений, и как правдивое, лишенное ханжества и условностей,
изображение человека. Книга Гарленда содержала в себе двенадцать эссе «об
искусстве, главным образом о литературе, живописи и драме», как он сам писал
в подзаголовке. Очерки, собранные в ней, печатались в течение ряда лет в раз-
личных американских журналах и уже были известны публике. Но объединен-
ные в пределах одной книги, они производили особенно сильное впечатление.
1 Так мне кажется возможным перевести название сборника статей Гарленда «Crumbling
Idols» (1894).
315
Натуралистическая линия в эстетике писателя сказалась в его теории
«местного колорита», которой посвящено эссе «Локальный роман». Гарленд
считал, что в верной передаче «местного колорита», под которым он подразу-
мевал точное описание условий жизни в данной области, избранной как место
действия романа или повести,— залог той правды, в которой он видел вопло-
щение своего «веритизма». «Локальный колорит в повествовании — это выра-
жение жизни»,— восклицает Гарленд К Конечно, точное и глубокое изображе-
ние (но именно изображение, а не просто описание!) условий, в которых живут
и действуют герои литературного произведения — это одна из примет, свойст-
венных реалистическому искусству. Известно, что и в эстетике романтизма
«couleur locale» играл большую и положительную роль. Но возведенный
в систему, поставленный в связь с мечтой о некоей поэтической географии
и этнографии США, как иной раз выглядит у Гарленда его видение будущей
литературы страны, «местный колорит» уже мешал обобщающему, подлинно
реалистическому началу в искусстве, становился американским атрибутом на-
турализма. Система взглядов Гарленда на развитие региональной тематики
с «местным колоритом» была понятна и соблазнительна для молодой страны,
только начинавшей узнавать свое многообразие и богатство. Но здесь таилась
опасность ухода в регионализм, который оказался губительным, например, для
немецкой литературы тех же десятилетий2.
При всех тех старых положениях натурализма, которые действительно есть
в книге Гарленда, «Разрушение идолов» говорит о широком стремлении к об-
новлению литературы США, о демократических особенностях его эстетики, ко-
торым было как бы тесно в пределах натуралистически-поэтического истолко-
вания самого понятия «народ», отождествляемого с понятием «среды» в био-
логическом плане. Плодотворна и основная идея Гарленда — искусство, изме-
няясь, изображает изменяющуюся жизнь, которая и является для него на-
ивысшим критерием. Понятие «нового искусства», выдвинутое Гарлендом с та-
кой решимостью и с таким пафосом, предполагало, как уже говорилось выше,
связь художника с развивающейся действительностью, а не ориентацию на
модные научные социальные и физиологические теории, которые так гипноти-
зировали иной раз европейских натуралистов.
В «Разрушении идолов» постоянно возникает мысль о роли романа и ши-
ре — повествовательного жанра. Задачей современного романа Гарленд считал
«изображение действительности с наивысшей искренностью, с самой непри-
нужденной правдивостью». Повторяя свое общее суждение об искусстве и дей-
ствительности, Гарленд заявлял: «когда меняется время, меняется и способ
повествования».
В неотступных настойчивых мыслях писателя о судьбах повествовательной
формы в американской литературе говорила ощущаемая им закономерность,
выдвигающая в литературе США проблему романа как основную большую
творческую проблему данного этапа литературного развития. В более широкой
и сознательной форме эта проблема разработана в статьях другого писателя-
натуралиста — Фрэнка Норриса, объединенных в его книге «Ответственность
романиста» (The Responsibilities of the Novelist. 1903) 3.
За десять лет, протекшие между появлением книги очерков Гарленда
и «Ответственности романиста», опыт литературы в США, и, в частности, опыт
1 Garland H. Crumbling Idols. Harvard University Press. 1960. P. 86.
2 Именно среди немецких натуралистов уже тогда складывалась группа «почвенников», сто-
ронников откровенной «локальной» региональной литературы. От группы немецких натуралистов-
регионалистов вроде Г. Френссена с его романом «Йорн Ууль» (Frenssen G. Jörn Uhl, 1901), этой
своеобразной кулацкой эпопеей, тянется линия к грубому натурализму литературы «почвы и крови»
30-х годов XX в. Конечно, это извращение «местного колорита» и региональных мотивов весьма
далеко от принципов «местного колорита» у Гарленда.
3 В книге собраны статьи, печатавшиеся в различных журналах на рубеже 1890—1900-х годов.
316
писателей-натуралистов весьма обогатился. Выяснилось, что выступления та-
лантливой молодежи, дерзавшей открыто и гневно говорить об американской
действительности или подвергать ее серьезному анализу, вызывают бешеный
отпор и травлю хорошо организованной машины американской продажной
прессы, с нравами которой Норрис отлично был знаком как журналист. Появи-
лись предпосылки для нового типа реалистического романа — романа, по-
священного острым социальным противоречиям американской жизни и их пси-
хологическим аспектам. Литература 90-х годов была непохожа на тот идеал,
который рисовался Гарленду. Но и действительность была совсем непохожа на
ту радужную перспективу «Будущего», которую видел Гарленд. США вступили
в империалистический период своего развития. Прогремела испано-американ-
ская война 1898 года. Разразилась кровавая война на Филиппинах, где амери-
канские генералы навязали народу, освободившемуся от испанского ига, ярмо
американской оккупации. США присоединили Гавайи, участвовали в походе
империалистических держав против китайского народа. Сложилась Антиимпе-
риалистическая лига — широкая демократическая организация, объединившая
в своих рядах людей разных политических убеждений. Усложнялась и обо-
стрялась война между трудом и капиталом, шедшая в США в формах стачек,
прямых вооруженных столкновений за профсоюзы и внутри союзов —за руко-
водство ими. В новую фазу своего развития вступило американское рабочее
движение. Еще не потеряли своего обаяния идеалы утопического социализма,
распространенные в интеллигентских кружках и в среде разорявшейся мелкой
буржуазии. А в наиболее сознательной части рабочего класса уже укоренялся
научный социализм Маркса и Энгельса, последователи которого вели упорную
борьбу за распространение марксизма в рабочей среде, все еще находившейся
под сильным влиянием различных буржуазных и мелкобуржуазных теорий
и предрассудков. Лучшие его деятели стремились к созданию боевой партии
рабочего класса.
Эти политические события должны быть упомянуты, так как безвременно
погибший писатель жил деятельно, бурно отзывался на ход общественной
борьбы в США и на международные конфликты. Норрис испытал увлечение
агрессивными политическими идеями, имевшими хождение в английской
и американской буржуазной среде конца века, даже участвовал в разбойничьем
набеге английского авантюриста Джемсона на Трансвааль и попал в плен
к бурам. Он с чувством неловкости вспоминал об этой бесславной странице
своей биографии — напомним, что это был тот самый «рейд Джемсона», о ко-
тором с негодованием писал Марк Твен в замечательной книге «По экватору».
Вернувшись в США, Норрис был захвачен ходом классовой борьбы. Его
сочувствие делу популистов было выражением наступившей нравственной зре-
лости молодого писателя. Он сумел победить в себе влияние расистских англо-
саксонских идей и пошел по другому пути. Об этом свидетельствуют его кор-
респонденции с театра испано-американской войны 1898 г. Хотя Норрис и не
понял империалистической сущности этой войны, можно согласиться с совет-
ским исследователем И. Бабушкиной, указавшей на их гуманистическое содер-
жание, отличающее позицию Норриса от официальных писаний о кубинской
кампании 1898 г 1. К очень богатому общественному опыту Норриса, гораздо
более широкому, чем у Гарленда, надо прибавить и его активную творческую
работу, его поразительную энергию. Писатель неутомимо пробовал свои силы
в разных жанрах романа, и, наконец, нашел себя в незаконченной трилогии,
состоявшей, по замыслу, из трех социальных романов —«Спрут», «Омут»,
«Волк» (The Octopus, 1901; The Pit, 1903; The Wolf остался в набросках).
В планах была еще одна трилогия — о Гражданской войне в США. К ней Нор-
1 Бабушкина И. Е. Критический реализм Фрэнка Норриса (Некоторые проблемы творчества
писателя)//Уч. зап./1 МГПИИЯ. 1958. Т. 21.
317
рис не успел приступить. Без этих беглых замечаний о жизни Норриса — писа-
теля, боевого газетчика, человека могучего общественного темперамента —
нельзя полностью понять ни содержания его книги «Ответственность рома-
ниста», ни причин, которые сделали эту книгу столь непохожей и на талантли-
вую книгу очерков Гарленда, и на книги других американских литераторов,
посвященные проблемам литературного творчества К
Критика американской литературы у Норриса гораздо резче и прямее, чем
у Гарленда. Прошло десять лет с тех пор, как Гарленд высказал свою уверен-
ность в обновлении литературы в США. Но Норрис не только не увидел этого
обновления, а заметил признаки ее морального падения — и гораздо более
тревожные, чем те, о которых когда-то писал Гарленд, сетовавший, собственно,
только на несамостоятельность американской литературы. Презрительный от-
зыв Норриса об американских писателях, служащих денежному мешку, собст-
венной выгоде,— писателях «безответственных», в его представлении,— вы-
растает из общего понимания Норрисом американской действительности:
«Американцы эксплуатируются и обманываются лживыми представлениями
о жизни, лживыми образами, лживым сочувствием, лживой моралью, лживой
историей, лживой философией, лживыми эмоциями, лживым героизмом, лжи-
вым изображением самопожертвования, лживыми взглядами на религию, долг,
поведение и нравы» 2.
В страстном обличении американского общества и его культуры чувствуется
почти твеновская сила. Вспомним, что в те же годы Марк Твен раскрылся как
гениальный публицист, обличавший «Соединенные линчующие штаты» с такой
убежденностью, с такой яростью, равных которым не знает литература США
того времени.
Как и Гарленд, Норрис видит в жизни главную тему и учителя искусства.
Но, в отличие от Гарленда, он прямо говорит о великих социальных конфлик-
тах, как о материале современного искусства. Норрис полагает, что ответ-
ственность писателя — в верном служении народу, а оно выражается в «прав-
дивости». В статьях Норриса складывается,— естественно, в не развернутом
пока виде — идея народности того нового романа, о появлении которого в США
мечтал писатель.
Норрис был достаточно искушенным художником, чтобы знать о существо-
вании ложной правды, во имя которой иные мэтры буржуазной литературы уже
тогда ловко обманывали своих поклонников и жонглировали великими цен-
ностями искусства. Поэтому Норрис призывал избегать «ложной правды»,
предостерегал равно от реализма, слишком удаленного от жизни, и от «реа-
лизма мелочей» или «тривиализма». Очень вероятно, что под «реализмом ме-
лочей» Норрис подразумевал некоторые стороны натурализма. Высоко ценя
Золя, Норрис подверг существенной и справедливой критике его роман «Пло-
довитость» в статье «Роман с „тенденцией"» (The Novel with a «Purpose»).
Решительнее и последовательнее, чем Гарленд, Норрис заявил, что литера-
тура выдвигает жанр романа как ведущий вид словесного искусства — прежде
всего потому, что средствами романа можно создать эпос современности, кото-
рого властно требует действительность. Следует отметить четкую и верную
мысль Норриса о закономерном выдвижении в литературе XX в. романа как
жанра необычайно гибкого, синтетического. Этот момент, с точки зрения Нор-
риса, был особенно важен. Писатель предвидел необходимость и неизбежность
появления многотомных эпопей, вне которых нельзя охватить гигантский жиз-
ненный материал современности.
Развивая свою мысль о романе — эпосе современности, Норрис охотно
опирается на опыт Золя и в проблеме композиции отдельного романа, и в про-
1 См. об этом также в статье В. Н. Богословского «Литературные взгляды Норриса»//Уч. зап./
Московск. обл. пед. ин-та. 1953. Т. 26.
2 Norris F. The Responsibilities of the Novelist and Other Literary Essays. N. Y., 1903. P. 11.
318
блеме эпопеи, имея в виду серию Ругон — Маккаров. Большое значение для
Норриса имел и «Экспериментальный роман». Поскольку и как художник Нор-
рис многим обязан творческому опыту французского романиста, постольку
вопрос об отношении Норриса к Золя-натуралисту возникает в полной мере
и перед исследователем книги «Ответственность романиста». Могучие реа-
листические силы, развивавшиеся в творческой деятельности Норриса, в его
мыслях о современной эстетике, тесно переплетены с натуралистической кон-
цепцией общества, раздираемого социальной борьбой —«естественной», в по-
нимании Норриса, хотя и отталкивающей, бесчеловечной. Да, конечно, теоре-
тические суждения Норриса о романе — во многом суждения натуралиста,
требующего введения широчайшего и тончайшего описательного материала, из
которого якобы сам собою возникает сюжет и выходят герои произведения. Но
нельзя забывать, что для современного романиста Норрис считает обязатель-
ным не только то, о чем писал Золя в «Экспериментальном романе», но еще
и такую категорию, как «симпатия», во имя которой и пишется роман. Эта
«симпатия», определяющая наличие благородной демократической тенденции
в его лучших произведениях, была самым сильным признаком отхода Норриса
от натурализма. «Симпатии» боялись и братья Гонкуры и Золя. Сколько раз
сравнивали они себя с химиками, с физиологами, с бесстрастными наблюдате-
лями реакций и процессов, кипящих в человеческой плоти! Правда, и им не
удавалось уйти от того или иного выражения «симпатии»— особенно Золя.
Наряду с этим нельзя не видеть и противоречий в книге Норриса. Излагая
принципы обобщающего искусства, он иногда близко подходит к объективизму,
сводит задачи художника к регистрации событий, беспощадной, но и бесприст-
растной. Таким образом, и сама ответственность художника, о которой говорит
Норрис, иногда выступает как достоинство наблюдателя, а не мастера, созда-
ющего смелые художественные обобщения. Эти и подобные противоречия от-
ражали сложность развития эстетической мысли Норриса. Их не надо сни-
мать — их надо понять в ходе всей творческой эволюции Норриса, которая
часто нарушала его теоретические построения. Свою мысль об ответственности
художника Норрис лучше и глубже всего развил в романе «Спрут».
Весьма важной стороной эстетических соображений Норриса оказывается
его понимание романтизма 1. С точки зрения Норриса, современный художник,
создавая современный роман, обязательно должен быть романтиком. Но в ка-
ком смысле? Писатель должен быть глубоко взволнован своей эпохой, должен
быть влюблен в нее, должен жадно ловить ее приметы. Его влюбленность в свое
время — залог подлинности его искусства, выражение патетики исторических
событий, участником и певцом которых должен быть создатель современного
романа, если он хочет нести ответственность писателя со всей ее тяжестью
и славой. Вот почему, с точки зрения Норриса, и Золя — романтик, но не ро-
мантик прошлого, как Гюго или Скотт, а романтик современности. Таким истым
романтиком современности был и сам Норрис.
«Ответственность писателя» показывает путь, пройденный Норрисом от ув-
лечения эстетикой и практикой натурализма, к осмыслению задач, возникаю-
щих перед романистом, который в начале XX в. хотел писать правдиво, быть на
высоте своего драматического времени. Значение книги Норриса в общем ходе
развития мысли о романе в международных масштабах литературной жизни
XX в. трудно переоценить. Это была отличная программа действия в области
жанра романа. С другой стороны, видно, в какой мере стимулом и объектом
плодотворного отталкивания при разработке концепции Норриса были мысли
«Экспериментального романа» и весь творческий подвиг Золя.
Норрис чутьем талантливого художника уловил, насколько значительны
конфликты между трудовым людом США и монополиями, и создал свой ше-
1 Особенно в статье «A Plea for Romantic Fiction».
319
девр, роман «Спрут»,— художественное воплощение того, о чем он писал
в «Ответственности романиста». Это первый американский роман, в центре ко-
торого оказались великолепно изображенный эпизод классовой борьбы, новые
характеры и общественные типы, развивающиеся в империалистической Аме-
рике. И первый, кто выразил свое восхищение романом Норриса, был Джек
Лондон, в те годы особенно тесно связанный с социалистическим движением.
К тому времени Дж. Лондон уже прошел школу натурализма. Вслед за
Спенсером молодой Лондон подчас склонен был считать рабочий класс «дном»
человечества, куда «сильные», путем «естественного отбора» пробравшиеся
к богатству и власти, сталкивают всех «неудачников» и «слабых». Вчитываясь
в зловещие разглагольствования Ницше насчет «расы господ» и «расы рабов»,
поддаваясь его красноречивым демагогическим выпадам против буржуазной
демократии, Лондон в еще большей степени подчинялся воздействию идей
Спенсера. Этому способствовало и увлечение Киплингом. В конце 90-х годов
Киплинг видел в литературе США наследницу британских традиций, так же как
в американском государстве—наследника британской мировой державы —
и вообще заметно влиял на многих молодых американских писателей. Для них
он был непревзойденным мастером короткого рассказа, художником остро сов-
ременным, связанным, в их понимании, с натуралистическим движением.
Противоречия социальных и эстетических взглядов молодого Лондона об-
наруживаются в его ранних рассказах, воссоздающих «местный колорит»
Аляски, труды и лишения золотоискателей. В них отчетливо пробивается нату-
ралистический детерминизм, концепция обреченности «слабых»— в данном
случае это чаще всего индейцы (хотя Лондон отнюдь не отказывает им ни
в благородстве, ни в храбрости) и предопределенности победы белого человека,
несущего и за Полярный круг свою жестокость, свои непререкаемые законы.
Такова вся атмосфера рассказа «Сын Волка». Его герой — бесстрашный аме-
риканец, уводящий индейскую девушку из вигвама ее отца. Он побеждает ин-
дейцев, потому что он якобы существо высшего порядка. Это он — сын волка,
могучего хищника, индейцы же —«племя воронов». Конечно, и ворон — смелый
хищник, но куда же ему до Волка! Так предрассудки молодого Лондона рас-
крывались и в символике названий, имитирующих индейские имена и понятия.
Этот прием — стилизация в духе индейского сказа — тоже характерное стиле-
вое выражение натурализма молодого Лондона: он умышленно обращается
к нарочито примитивным понятиям, к аллегорически звучащим именам. Он хо-
чет сказать, что речь идет о «вечных», старых как мир законах. Конечно, рядом
с такими и подобными рассказами у Лондона в том же сборнике «Сын Волка»
(1900) есть и другие произведения, то увлекающие своей благородной чело-
вечностью, то поражающие силой обобщенного изображения страшной борьбы
за золото, за богатство, кипящей в ледяных пространствах Аляски. В этих
противоречиях — весь Лондон, и он от них не избавился до конца своей жизни.
В 1900—1901 гг. Лондон становится участником социалистического движе-
ния. Он стал сторонником Юджина Дебса — замечательного лидера амери-
канских рабочих, о котором тепло писал В. И. Ленин. Это было время дружбы
с социалисткой Анной Струнской, которая познакомила Лондона с русской ли-
тературой, обратила его внимание на ее освободительные идеи.
Лондон с огромным интересом вникал в эти годы в идеи научного социа-
лизма. Он не смог разобраться в них полностью, но многое в учении Маркса
поразило его и навсегда вошло в его сознание — прежде всего непоколебимая
уверенность в великом будущем рабочего класса. Под воздействием марксист-
ских идей мировоззрение Лондона в 1900—1901 гг. значительно изменилось.
В отличие от ранних выступлений по вопросам литературы, посвященных осо-
бенностям литературного развития на рубеже XIX — XX вв. (статьи «О фило-
софии писателя», 1899; «Черты литературной эволюции», 1900), статьи Лондо-
320
на, появляющиеся в 1901 г., глубоки, говорят о решительном выборе пути, сде-
ланном им в то время*
В статье о Киплинге Лондон как бы прощается со своим увлечением этим
писателем. Отдав должное незаурядному мастерству Киплинга, Лондон ука-
зывает на бесперспективность его общественных и этических воззрений, так
ограничивающих возможности яркого таланта Киплинга.
С тем большим вниманием отнесся Лондон к роману Норриса. В статье
«Спрут» (1901) он отметил: «И вот Фрэнк Норрис осуществил невозможное,
сделал в наш машинный век то, на что, как полагали, был способен только че-
ловек, живший в героическую эпоху,— он стал сказителем Эпоса о пшени-
це» '. Конечно не случайно завел Лондон разговор об эпосе: ему хотелось обо-
дрить собрата, высказать ему от своего лица и от лица своих товарищей по со-
циалистической партии уверенность в том, что мечта Норриса удалась, что он
создал подлинно эпическое произведение американской литературы.
Приветствуя Норриса, Лондон не забывал о том, что в «Спруте» есть немало
страниц, свидетельствующих о близости этого произведения к эстетике нату-
рализма. «У некоторых может появиться желание оспорить необычный харак-
тер реализма Норриса,— пишет Лондон.— В чем же он, этот «необычный ха-
рактер реализма Норриса»? Кому какое дело до того, квадратный или продол-
говатый у Гувена «мясной сейф»— ящик для хранения мяса, закрыт ли он
проволочным щитком или сеткой от москитов, висит ли он на дубовом суку или
в конюшне на жерди, и вообще есть ли у Гувена «мясной сейф» или нет? Я не
случайно сказал «может появиться желание». На самом же деле мы не спорим,
мы соглашаемся и капитулируем. Против нас восстают факты. Он добился ре-
зультата. Гигантского результата. Его реализм не принижают отдельные не-
значительные детали, подробные описания, «мясной сейф» Гувена и тому по-
добное...» Так Лондон, талантливо воспроизведя некую пародию на много-
словные описания, которые действительно есть в романе Норриса, все же гово-
рит о главном — о значении этого произведения в развитии реалистического
искусства в США.
Вместе с тем, в третьей статье того же 1901 г.—«Фома Гордеев»— Лондон,
говоря об искусстве Горького, конечно, имеет в виду не тот уровень, не то ка-
чество реализма, которые он отметил в романе Норриса. «Его реализм,— пишет
Лондон о Горьком — более действен, чем реализм Толстого или Тургенева. Его
реализм живет и дышит в таком страстном порыве, которого они редко дости-
гают. Мантия с их плеч упала на его молодые плечи, и он обещает носить ее
с истинным величием». «Он знает жизнь и знает, для чего и как следует
жить»,— заключает свою статью Лондон.
Отмечая, что Норрис в своем романе дал «экономическую интерпретацию
истории» (что было большой похвалой в устах социалиста Лондона), он верно
подмечает черты эмпирики и непоследовательности у Норриса, высказывает
соображение, что тот идет ощупью в своем изображении жизни. Каков будет
его дальнейший путь? — задается вопросом Лондон. Относительно Горького
такой вопрос и не мог возникнуть. Для Лондона Горький — провозвестник но-
вого направления в реализме.
Лондон высказал верное и глубокое суждение о возможностях дальнейшего
творческого развития великого русского писателя, увидел и показал его пре-
имущество по сравнению с Норрисом. Это доказывает, что Лондон, один из за-
чинателей социалистической литературы в США, к 1901 г. смог подняться над
уровнем эстетики натурализма.
Вместе с тем, в романе «Дочь Снегов» (A Daughter of the Snows, 1902), над
которым он работал примерно в то же время, когда печатал свои примечатель-
1 Цит. по кн.: Foner Ph. S. Jack London. American Rebel. Berlin, 1958. P. 479.
321
ные статьи о Норрисе и Горьком, снова возникает спектр натуралистической
эстетики с могучими сверхлюдьми англосаксонского происхождения, с про-
славлением деятельности лавочника Уэлза, державшего в своих «демократи-
ческих» лапах весь Юкон. Это свидетельствует об относительной устойчивости
натуралистических тенденций в творчестве Лондона.
4
«Спрут» начал в литературе США новую традицию реалистического соци-
ального романа-эпопеи, в просторных пределах которого размещались эпи-
ческие картины жизни больших социальных групп, острые классовые конфлик-
ты, потрясающие американское общество, повести о личных судьбах, о людях,
закаляющихся или гибнущих в жестокой борьбе, которая обычно стоит в центре
романа-эпопеи. Линию романа-эпопеи в той или иной мере продолжали уже
в первом десятилетии XX в. другие значительные писатели США — среди них
Эптон Синклер в романе «Джунгли» (1906) и почти в одно время с ним Джек
Лондон в «Железной пяте» (1908).
«Джунгли» почти логически примыкают к общей проблематике «Спрута»—
и как раз там, где она обрывается на мыслях Пресли о силах, которые смогут
же когда-нибудь повести за собой американский народ на победоносную борьбу
против социального «зла» XX в.— против царства монополий. «Социалист
чувства, без теоретического образования», по определению В. И. Ленина ',
Синклер в те годы переживал подлинный творческий расцвет. С присущей ему
эмоциональностью он разрабатывал тему рабочего класса, которой были по-
священы его лучшие романы —«Джунгли», «Король Уголь» (1915) и «Джимми
Хиггинс» (1919).
0 тяжелой жизни рабочих писали в литературе США и до Синклера. Но
именно он был первым американским романистом, который создал произведе-
ние, показывающее путь темного, забитого, обманутого рабочего-эмигранта
к социализму. Эта тяжелая дорога ведет Юргиса через джунгли капиталисти-
ческого мира в ряды организованного американского рабочего движения. Да
и только ли американского? Синклер затрагивал большую международную те-
му — она звучала в те годы во многих литературах мира. По существу путь
Юргиса в определенной мере типологически соизмерим с тем процессом про-
зрения, революционного возмужания, который изображался в созданных в те
годы романах из жизни рабочего класса. Так, в датской литературе сходную
проблематику развивал в те годы М. А. Нексе.
Роман «Джунгли» близок к жанру реалистической социальной эпопеи и по
своей поэтике, и по жизненному материалу, собранному Синклером в наблюде-
ниях за повседневной борьбой американского рабочего класса, за могучим ду-
ховным ростом передовых его отрядов. И хотя в обличении джунглей капита-
лизма у Синклера есть много страшных и безнадежных страниц, рисующих ка-
бальный труд рабочего в США и его бесправие, есть в этом романе и преодоле-
ние джунглей. Как ни стараются их хозяева превратить Юргиса в одно из мил-
лионов покорных животных, идущих в ярме и подставляющих шею под нож,
Юргис побеждает закон джунглей Чикаго, находит путь к тем силам, которые
объявили войну джунглям и победят их во всем мире.
Многое связывает роман с традицией, заложенной Норрисом. Это — эпи-
ческое восприятие народа, сказывающееся в любовном изображении его тру-
довой мощи, уменье радоваться его радостями, как это чувствуется в описаниях
сельского бала у Норриса или праздника эмигрантов в «Джунглях». Близко
к Норрису понимание Синклером героизма народа, выражающегося в его вы-
держке, в уменье вынести тяготы капиталистического рабства и в могучих по-
1 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 270.
322
пытках сбросить уже надламывающиеся цепи, сковывающие народную мощь.
Напоминает о Норрисе манера вводить подробные и яркие, полные красок, за-
пахов, звуков описания. У Норриса были степи Запада, у Синклера — чикаг-
ские бойни. Есть в поэтике романа и близкие к Норрису обобщающие символы,
вроде того же образа джунглей.
Обращение к теме рабочего класса обогатило эпические возможности ро-
мана. Ведь Норрису пришлось писать о трагическом поражении своих героев;
а роману Синклера присущ оптимизм не только умозрительный, сводящийся
к утверждению исторической неизбежности победы добра над злом. Синклер
видел в те годы в своих героях, американских рабочих, людей будущего. Прес-
ли, презрительно наблюдая гостей в безвкусной резиденции бизнесмена, вдруг
обожжен мыслью о том, что здесь пожирают силы народа, его труд, его жиз-
ненную энергию. Отчасти жертвенному аспекту изображения народа у Норри-
са, который в общем даже и противоречит страницам «Спрута», воспевающим
героизм народа, у Синклера противостоит иное представление о трудовом на-
роде. Синклер выделяет в своем романе тему интернациональной солидарности
рабочего класса. Эта огромная этическая ценность пришла в творчество рома-
ниста вместе с темой рабочего класса. Вот почему так уверенно звучат фи-
нальные строки книги, конкретизирующие те высокие истины, которые в романе
Норриса очерчены лишь в отвлеченном виде: «Мы сломим наших противни-
ков — заявляет в финале романа Синклера оратор на рабочем собрании,— мы
сметем их с нашего пути — и Чикаго будет наш».
Трижды, как клятву, повторяет эти слова Синклер в конце своей книги.
«Железная пята»— роман-утопия. Но, в отличие от обычной утопической
традиции в литературе США, представленной романами Хоуэлса и Беллами,
эта утопия имеет черты эпопеи, так как ее основа — борьба, вековая война
трудящихся против олигархии «Железной пяты». Эпичен стиль всего романа —
этого повествования о бурных временах революции, сложенного теми, кто жи-
вет уже после поражения «Железной пяты» во всем мире. Эпичны сцены, свя-
занные с трагической судьбой «Чикагской коммуны», поражающие великолепно
выписанными эпизодами уличных боев, в которых сказывается самоотвержен-
ный героизм подлинных защитников рабочего класса (как их понимал Лон-
дон) — членов подпольной боевой организации, ведущей борьбу против Пяты.
Эпичен и Эвергард — романтический революционный вождь рабочего класса.
Линия преемственности ведет от «Спрута» к фантастической эпопее Лондона,
в которой содержалось глубокое художественное предвидение позднейшей
эволюции монополистического государства США в сторону империализма.
Романы Синклера и Лондона — это уже явления американской социа-
листической литературы начала века, как бы ни были в дальнейшем сложны
пути их авторов. Вполне закономерно то обстоятельство, что социалистические
идеи так обогатили мастерство обоих художников. В наши дни рождения новой
монументальной эпической формы становление новых эпопей шло и идет осо-
бенно успешно именно в литературе социалистического реализма, как это
предвидел в 30-х годах Ральф Фокс — писатель и критик с острым чувством
эпического, величественного содержания нашего времени.
Традиция социального романа-эпопеи продолжала развиваться в литера-
туре США и в более позднее время. Ее черты запечатлены в особой форме,
в виде летописи революционных событий, в мексиканских очерках Джона Рида
и особенно в его великой книге «Десять дней, которые потрясли мир»— этом
высшем выражении социалистической эпики в литературе США. В других
эстетических аспектах эпическая традиция, завоеванная в начале века, рас-
крылась в романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева» (1939) —значительном
произведении американского критического реализма, где явственно чувствует-
ся — хотел или не хотел того автор — воздействие идей социализма.
323
Сложный процесс развития реалистических тенденций в литературе амери-
канского натурализма нельзя представлять себе как подмену понятия натура-
лизма — реализмом, как снятие псевдонима «натурализм» с литературного
движения, которое по существу надо считать реалистическим. Такое понимание
сложного эстетического развития ряда талантливых американских писателей
было бы упрощением. Нет, существовала эстетика натурализма, выраженная
и в статьях Норриса и Гарленда, и в творчестве ряда писателей. И в самой
эстетике американского натурализма заключались существенные тенденции
значительного социального искусства, которые звали к широкому охвату ти-
пичных явлений действительности, к точному изображению сложнейшего
общественного процесса, к мотивированному психологизму и помогли амери-
канскому искусству на рубеже двух веков выйти на новые рубежи.
Но нельзя забывать и о сильнейшем воздействии на талантливых амери-
канских писателей и тех черт натурализма, которые тормозили и сбивали
с верного пути развитие искусства как в США, так и в других странах. У многих
писателей США эти черты выразились прежде всего в том, что их социальные
концепции были сильно искажены спенсерианскими идеями. Перенесение зако-
нов животного мира на человеческое общество свойственное Спенсеру и его
американским последователям, сказывается и у Гарленда, и у Крейна, и
у Норриса, и у Лондона. Из этой специфически американской приверженности
к Спенсеру вырастает характерное для многих писателей представление о не-
равноценности рас, о закономерности подчинения индейских народов европей-
ским колонизаторам, что с такой силой сказалось, например, в рассказах се-
верного цикла у молодого Лондона. Эта спенсерианская линия вела к шови-
низму, к представлению об особой миссии англосаксов и даже шире — народов
«германского происхождения». Наивный идеал белокурой красавицы, норди-
ческой женщины, призванной править миром и рожать героев, как и столь же
сомнительный идеал «сильного» белого мужчины легко обнаружить во многих
произведениях Лондона и у Норриса. Характерное натуралистическое пред-
ставление о «естественном отборе» в определенной степени сказалось даже на
первых стадиях работы Драйзера над образом Купервуда. Постепенно, по мере
углубления всей трилогии, эти черты биологической избранности «сильного»
Купервуда раскрылись как черты значительной личности, которая в условиях
буржуазного общества развилась односторонне, уродливо. Культ брутальной
силы, очень близкой к ницшеанскому бестиализму, уже существовал в амери-
канской литературе, когда произведения Ницше проникли в нее и стали оказы-
вать заметное и вполне отрицательное воздействие,— спенсерианская «социо-
логия» подготовила для него почву.
Спенсерианство и прагматизм подготовили почву и для культа «сильного»
героя американской литературы, который в разных вариантах появляется в ней
на рубеже XIX и XX вв. и с тех пор, продолжая повторяться, существует вплоть
до наших дней, вырождаясь в образы гангстеров, сверхлюдей XX в., непобеди-
мых роботов.
Другой стороны натурализма, тесно связанной с общей спенсерианской
концепцией, был фатум наследственности, фетишизация различных аспектов
физиологической сущности человека в ущерб социальным факторам. И эта ли-
ния сильно проявлялась в литературе США. Она видна в романе Крейна «Мег-
ги — девушка с улицы» и в его рассказах, посвященных власти алкоголя. Дань
ей отдал Норрис в «Вандовере». Тема наследственных инстинктов становится
основной линией романа позднего Лондона «Звездный скиталец» (1912). Об-
ращение Лондона к этой проблеме после того, как им были написаны «Мартин
Идеи» и «Железная пята», говорит о стойкости предрассудков, впитанных им
в пору его увлечения идеями натурализма. В данном случае особую роль сыг-
рали доверчивый интерес Лондона к полушарлатанской литературе американ-
ских антропософов, пропагандировавших учение о переселении душ. В общий
324
комплекс реакционных идей натурализма входило и представление о рабочем
классе как о миллионах «слабых» натур, не выдержавших жестокого экзамена
«естественного отбора» и сброшенных к основанию социальной пирамиды бур-
жуазного общества «сильными», расой господ.
Эта точка зрения тоже проглядывает у Лондона, который был так отзывчив
к проявлению душевной силы и одаренности трудящихся масс. Даже в его
«Людях бездны» (1902), в этом правдивом, резко антиимпериалистическом
репортаже, звучит эта мысль. Проскальзывает она и у Крейна, и у Драйзера
в изображении трудового люда, пополняющего полчища бездомных бедняков.
Названные выше характерные реакционные идеи натуралистической
общественной концепции не оставались достоянием только чисто идеологи-
ческих сторон творчества натуралистов. Они сильно влияли на их практическую
эстетику, сказываясь на их романах, и продолжали воздействовать на даль-
нейшее развитие американской литературы. В частности, увлечение физиоло-
гическими факторами человеческого бытия подготовило в дальнейшем необык-
новенное распространение фрейдизма в США, нанесшее тяжкий урон амери-
канской литературе.
Некоторые американские писатели начала века чувствовали отрицательное
воздействие комплекса этих идей натурализма и связанного с ними успеха
ницшеанства в американском обществе. Об этом свидетельствует, например,
роман Дж. Лондона «Морской волк» (1904).
Роман «Морской волк» в общем строе романов начала века занимает особое
место именно в силу того, что он насыщен полемикой с рядом таких явлений
американской литературы, которые связаны с проблемой натурализма в целом
и проблемой романа как жанра в частности. В этом произведении Лондон сде-
лал попытку соединить распространенный в американской литературе жанр
«морского романа» с задачами романа философского, причудливо оправлен-
ными в композицию приключенческого повествования. Впрочем, нечто от-
даленно предшествующее такому смешению жанров можно найти уже у Г. Мел-
вилла в его прославленном романе «Моби Дик»,— при том, что, конечно, произ-
ведение Мелвилла имеет большую художественную ценность.
Сам Лондон писал об антиницшеанской направленности этой книги. Но
критике в ней подвергнута не только ницшеанская концепция «сильного чело-
века», развенчанного в образе капитана Ларсена. По существу Лондон высту-
пил в «Морском волке» и против определенных сторон своего раннего твор-
чества, так как герои «Дочери Снегов» и рассказов северного цикла, вроде
«Сына Волка», весьма близки Ларсену. Вероятно, к культу силы, к восхищению
перед «миссией» белого человека Лондон пришел не через Ницше, а через
Спенсера. Тем самым попытка разделаться с ницшеанством в «Морском волке»
была и ударом по Спенсеру, о разочаровании в котором писатель прямо скажет
позже — в «Мартине Идене».
Интеллигент и гуманист Хамфри Ван-Вейден побеждает ницшеанца Ларсе-
на, и — в знак своего душевного превосходства, в знак отказа от волчьей ниц-
шеанской морали — щадит его. В романе возникает важная тема человека,
способного на упорную борьбу во имя высоких идеалов, а не во имя утвержде-
ния своей власти и удовлетворения своих инстинктов. Это интересная, плодот-
ворная мысль: Лондон отправился на поиски героя сильного, но человечного,
сильного во имя человечества. Но на том этапе — в начале 900-х годов, когда
он писал «Морского волка»,— поиски эти не привели еще писателя к значи-
тельному результату. Ван-Вейден намечен в самых общих чертах, он тускнеет
рядом с колоритным Ларсеном. Кроме того, конфликт между Ларсеном и Вей-
деном носит типично натуралистический характер: это битва из-за женщины.
В финале романа фальшиво звучит идиллия — робинзонада Ван-Вейдена
и Мод Брюстер на необитаемом острове, откуда они благополучно возвраща-
ются к привычным условиям современной жизни. Черты натурализма видны и
325
в других эпизодах романа — в частности, в изображении команды корабля
Ларсена. Сокрушив идеал ницшеанского героя, Лондон еще не смог противо-
поставить ему ничего реального. Это удалось ему только в образе революцио-
нера Эвергарда из «Железной Пяты» и в еще большей степени — в «Мартине
Идене». Но для победы над старым буржуазным миром, которая действительно
была одержана в этом замечательном романе, Лондону надо было глубоко
продумать и творчески осмыслить пути развития общества, проблему борьбы
двух культур и особенно — проблему культуры рабочего класса, рождающейся
в острых социальных и идеологических конфликтах. Разрабатывая тему «пи-
сатель и народ», намеченную и у Норриса, Лондон решил ее по-своему — он
сделал Идена сыном народа, художником, сознательно ищущим таких худо-
жественных средств, которые освободили бы его от воздействия буржуазной
культуры и в том числе от спенсерианства и ницшеанства. Уже в этом была но-
вая постановка вопроса о путях развития литературы, служащей народу. Лич-
ная трагедия Идена — это прежде всего трагедия писателя, потерявшего связи
с народом и потому гибнущего, она остается именно личной трагедией, не вы-
дается за некую закономерность.
Но «Мартин Идеи»— как и раннее творчество Джона Рида, как и многие
другие произведения литературы США, появившиеся на рубеже 10-х годов,
связаны уже с другой эпохой в развитии американской литературы — с той
эпохой, когда произведения, вдохновлявшиеся идеями социализма, приобрета-
ют все большее значение в развитии реализма, складываются в особое направ-
ление. Писателям, участвовавшим в процессе подготовки социалистического
реализма в литературе США, пришлось продолжить борьбу против натурализ-
ма в новых условиях, когда с этим понятием прочно связывается представление
об определенном аспекте упадочного буржуазного искусства.
1964
О КНИГЕ В. Л. ПАРРИНГТОНА
«ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ МЫСЛИ»
Книга Вернона Луиса Паррингтона «Основные течения американской мыс-
ли» была издана за время с 1927 по 1930 г. Заключительный, третий, том под-
готовлялся уже после смерти ученого по его материалам, но с существенными
дополнениями его учеников и единомышленников. В 1958 г. вышло второе из-
дание книги.
Тридцать лет отделяют нас от выхода в свет этой книги '. Почему же из до-
вольно значительного числа трудов, содержащих более или менее полный очерк
американского литературного процесса, выбрана именно работа Паррингтона?
Верной Луис Паррингтон (1871 —1929) —известный американский лите-
ратуровед, характерный представитель социологического буржуазно-либе-
рального направления в американской науке о литературе. Вместе с тем он
многим обязан методологии европейского позитивистского литературоведения
XIX — XX вв. 2 и позитивизму в целом как течению в буржуазной идеологии.
Нам чужда мировоззренческая основа, на которой построено исследование
Паррингтона. Ему присуще характерное вульгарно-механистическое представ-
1 Статья написана в 1962 г. в связи с выходом книги на русском языке (т. 1—3. М., 1962—
1963). Далее ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы.
Проф. Э. X. Эби в своей заметке о Паррингтоне пишет о впечатлении Паррингтона от книги
И. Тэна «История английской литературы»: «Поистине вдохновляющим открытием был для него
метод, представлявший национальную литературу в качестве порождения национального характе-
ра, среды и эпохи...»
326
ление о «прогрессе» как о прямом результате экономического развития,— уче-
ники Паррингтона называли эту точку зрения «экономическим детерминиз-
мом». Присуща ему и характерная для буржуазного либерала недооценка роли
народных масс в истории человечества и в создании его культуры.
Советский читатель со многим не согласится, вчитываясь в книгу Парринг-
тона. Сущность явлений, о которых идет речь в книге, мы истолковываем не так,
как делает это Паррингтон. Однако Паррингтон не просто излагает множество
собранных им и его предшественниками фактов, а пытается осмыслить их
и объяснить, основываясь на своем убеждении в том, что духовное развитие
общества в конечном счете зависит от определенных экономических предпосы-
лок, отражает борьбу определенных общественных интересов. Паррингтон не
раз говорит в своей книге и о классовой борьбе, хотя его понимание этого про-
цесса далеко от марксистского понимания классовой борьбы и ее роли
в общественном развитии. Но Паррингтон убежден, что идеологические явле-
ния находятся в определенной взаимосвязи, что их развитие происходит
в борьбе мнений, за которой стоит борьба определенных общественных сил. Это
обстоятельство придает многим его суждениям глубину и обоснованность.
Книга Паррингтона и сегодня противостоит тем трудам по истории литературы
или общественной мысли, в которых вопросы идеологии рассматриваются
в нарочитом отрыве от общественного и экономического развития США или
используются авторами для различных антикоммунистических маневров, ниче-
го общего не имеющих с наукой.
Далека позиция Паррингтона и от субъективизма таких современных аме-
риканских критиков, как А. Кейзин. В своей книге «На родной почве» (On Na-
tive Ground), пытаясь дать обзор развития литературы США (что, кстати, он
делает с меньшим успехом, чем Паррингтон), Кейзин совершенно не случайно
весьма пренебрежительно отзывается о нем.
Появление труда Паррингтона было событием в науке о литературе в США.
В книге Паррингтона увидели своего рода «переоценку ценностей», произве-
денную с социологических позиций.
Нельзя не заметить фундаментальность, основательность работы Парринг-
тона. В ней привлечен огромный материал из самых различных областей и эпох
американской жизни — от создания первых английских колоний в Америке и до
первой мировой войны. Все это придает труду Паррингтона определенную цен-
ность— как источнику, богатому фактами, как попытке осознать развитие
идеологического процесса в США в тесной связи с экономическими и истори-
ческими явлениями.
Солидность честного исследователя сочеталась у Паррингтона с талантом
эссеиста. Многие страницы его книги написаны увлекательно, живо. Парринг-
тон умеет ярко показать жизнь и быт старой Америки, умеет набросать выра-
зительный портрет, колоритную сцену. Живое ощущение той или иной куль-
турной эпохи присуще многим главам труда Паррингтона.
Очень характерно, что за этот свой наиболее значительный труд Паррингтон
взялся именно в 20-х годах, в эпоху, когда общий интерес к проблемам социо-
логии был очень заметен в США в любой области культурной жизни '. Он осо-
бенно сказывался в литературе: быстро развивался социальный роман, от-
меченный именами Т. Драйзера, С. Льюиса и Э. Синклера. Заметную роль иг-
рал журнал «Нью мэссез». В этой атмосфере растущего интереса к социальной
проблематике в литературе появление труда Паррингтона было закономерной
реакцией либеральной американской интеллигенции на требование дня, в ко-
торое входило и новое осознание истории американской литературы, противо-
стоящее как старым представлениям о ней, оторванным от жизни общества, так
1 О социологическом направлении в литературной критике США см. кн.: Gliksberg Charles.
American Literary Criticism, 1900—1950. N. Y., 1950.
327
и новым, марксистским, первые попытки которых возникали в выступлениях
передовой американской критики тех лет.
Труд Паррингтона построен весьма своеобразно. На первый взгляд кажется,
что исследователь необыкновенно разбрасывается. Один том его книги назы-
вается «Система взглядов колониального периода», другой —«Революция ро-
мантизма в Америке»; есть часть «Виргинский ренессанс», глава «Династия
Мезеров»; рядом с большими этюдами, посвященными частным проблемам,
найдем обширное исследование «Система взглядов американских тори». Затем
увидим главу «Борьба в художественной литературе». Разделы, носящие обоб-
щающий характер, вдруг перемежаются отдельными портретами, и их очень
много, начиная от «Джона Коттона. Проповедника» или «Джона Уинтроиа.
Магистрата»— самые названия этих портретов заставляют вспомнить о манере
писать, присущей Р. У. Эмерсону, известному американскому эссеисту про-
шлого века,— и кончая портретом Линкольна.
Что же, книга Паррингтона — сборник очерков, весьма различных по форме
и содержанию? В известной мере это, конечно, так. За общей конструкцией ра-
боты Паррингтона проглядывает известная раздробленность, эссеистская мо-
заичность, и это объясняется методологией ученого. Однако пестрая мозаика
очерков, литературных портретов, статей, этюдов объединяется все же общим
замыслом: этот общий замысел изложен самим Паррингтоном. «В настоящем
исследовании,— говорит он во Введении,— я попытался проследить возникно-
вение и развитие в американской литературе определенных исходных идей»
[/, 33]. От этих «исходных идей», по замыслу Паррингтона, зависело и разви-
тие собственно художественной литературы. Эту задачу Паррингтон решал не
на «узкой стезе изысканий в области беллетристики, а на широком пути осве-
щения политического, экономического и общественного развития нашей стра-
ны» [1, 33]. В этом развитии видит Паррингтон почву, на которой расцветала
литература.
Во введении ко второму тому, очевидно, отвечая на уже появившиеся тогда
критические замечания относительно всего характера его книги, ученый опре-
делил свою задачу и взгляд на ее решение еще резче: «Эстетические критерии
интересовали меня мало. Я не стремился давать оценки тому или иному автору
или углубляться в литературные достоинства его творчества, а хотел лишь со-
ставить себе представление об образе мыслей наших предков, показать, почему
они писали именно так, а не иначе» [2, 5]. Будто можно, изучая писателя, ис-
следовать отдельно его «образ мыслей» и отдельно —«эстетический критерий»!
Но Паррингтон считал, что с художественной литературой не только можно, но
и должно поступать так. Кстати, отметим, что он стоял на той старой академи-
ческой точке зрения, весьма распространенной уже в начале XX в., согласно
которой в понятие «литература» входит все, что написано на данном языке:
труды по философии, истории, экономике, юриспруденции и т. п., в том числе —
литература художественная.
Итак, перед нами книга, которая является, собственно говоря, исследова-
нием общественной мысли в США, включая художественную литературу. Так
надо понимать работу Паррингтона в целом; она важна не только для литера-
туроведа, но и для историка экономической мысли и для тех, кого интересуют
юриспруденция и философия в США. Однако в этом очерке развития
общественной мысли литературе художественной уделяется все же преиму-
щественное место, что отмечено самим Паррингтоном. В книге нет специальных
разделов, посвященных американской истории как науке или развитию фило-
софии и юридических наук. А литературе отведен ряд глав, которые в целом
прослеживают ее развитие от основания первых колоний на американском
континенте до Теодора Драйзера и Джека Лондона, до литературы XX в. Све-
денные в единое целое, взятые вне прочих разделов книги, но в связи с ними,
328
эти главы свидетельствуют, что у Паррингтона была определенная концепция
истории литературы США.
В основном она сводится к тому, что литература США — как и всякая дру-
гая литература — вырастает на почве экономической жизни страны и под вли-
янием общественных идей, которые складываются в процессе развития эконо-
мических отношений. Поскольку, с точки зрения Паррингтона, для английских
колоний в Америке, а затем для США характерны стремление к «экономи-
ческому индивидуализму» и возникновение теорий, защищающих права «эко-
номического индивидуализма», постольку и литература США в понимании
Паррингтона является литературой, прежде всего отражающей становление
идей американской буржуазной демократии. Все, что выходит за пределы этой
проблемы, не интересует Паррингтона, а иногда и произвольно выводится им из
«русла» литературы США, как поступил он с Э. По.
Какова же общая точка зрения Паррингтона на идеологический процесс
в США? Каковы позиции Паррингтона — историка общественной мысли? Сам
Паррингтон прямо и неоднократно заявляет о том, что он — сторонник амери-
канского «либерализма». В этот термин Паррингтон вкладывал свое понима-
ние, далеко не совпадающее с тем смыслом, в котором этот термин употребля-
ется в современном политическом языке.
С точки зрения Паррингтона, американский либерализм — сумма передовых
идей, сложившаяся в колониях накануне освободительной войны 1775—1783 гг.
и существующая в течение всей истории США вплоть до XX в.
В наиболее полной форме, с точки зрения Паррингтона, система американ-
ского либерализма, этого американского свободомыслия, как понимает его
Паррингтон, была изложена известным американским политическим деятелем
Томасом Джефферсоном в его Декларации независимости, а затем дополнена
и обогащена применительно к новым историческим обстоятельствам рядом
других политических деятелей США. Либерализм по Паррингтону — это живое
начало, которое вдохновляло и литературу США.
Впрочем, как бы ни развивалась программа либерализма впоследствии, для
Паррингтона наиболее яркое и ценное ее выражение — мировоззрение и поли-
тические взгляды Джефферсона: в дальнейшем либерализм, как пишет Пар-
рингтон, то приходит в упадок, то «возрождается». Паррингтон, конечно, по-
нимает, что при «возрождении» американский либерализм в чем-то изменялся
соответственно новым историческим условиям, но в книге нет последователь-
ного представления о развитии идей либерализма. Их жизнь в США для Пар-
рингтона — это периоды более или менее полного понимания великих, с его
точки зрения, заветов Джефферсона. Даже прямое нарушение либеральных
идей Джефферсона и борьбу против них Паррингтон склонен иногда рассмат-
ривать как трагические случаи непонимания, неверного истолкования идей
Джефферсона. Так, например, истолковывает Паррингтон некоторые реакци-
онные течения в идеологии плантаторов — рабовладельцев Юга. Развивается
в понимании Паррингтона не сама сущность либерализма как определенной
классовой идеологии, а только истолкование идей либерализма; по существу
американский либерализм Паррингтона — некая внеисторическая категория.
Джефферсон для Паррингтона — самое блистательное явление в истории
США, а его Декларация — некая вечная скрижаль свободы, о святости которой
ученый постоянно и благоговейно напоминает своим современникам.
«В Джефферсоне,— пишет Паррингтон,— идеалы великой революции — вера
в человека, экономический индивидуализм, убеждение, что именно здесь,
в Америке, политической демократии суждено изменить к лучшему долю про-
стого человека,— воплотились полнее, чем во всех других представителях его
поколения» [1, 422]. «Джефферсон служит вечным источником вдохновения
для всех, кто проповедует веру в демократические идеалы» [1, 436],— вот что
можно прочитать в главе о Джефферсоне, написанной с особым подъемом.
329
Ценит Паррингтон и Линкольна. Но об этом великом демократическом де-
ятеле XIX в., вызывавшем симпатии Маркса, Энгельса, русских революционных
демократов, Паррингтон говорит гораздо меньше и холоднее, чем о Джеффер-
соне. Линкольн для него — только одно из живых воплощений идей Джеффер-
сона. Впрочем, Паррингтон согласен поставить их имена рядом, но только для
того, чтобы еще раз утвердить некую незыблемую вечность принципов Джеф-
ферсона. «Подлинный Линкольн,— пишет Паррингтон,— как и Джефферсон,
не мо>кет устареть. Подобно тому как Линкольн в дни грязных экспансионист-
ских устремлений обращался к либеральным идеалам великого виргинца (т. е.
Джефферсона.— Р. С.), стремясь спасти принципы Декларации независимости
от осквернения на торжище, где над ними открыто насмехались, мы, но уже во
времена более активной империалистической экспансии и более сложной об-
становки, можем черпать вдохновение в его гуманизме, непредубежденности,
вере в терпимость и добрую волю, демократических убеждениях, которые не
могли поколебать никакие разочарования» [2, 189].
В этой фразе Паррингтона во втором томе его труда раскрываются харак-
терные черты его позиции: в конце 20-х годов нашего столетия, в пору «актив-
ной империалистической экспансии», как пишет он сам, Паррингтон взывает
к идеалам американской буржуазной демократии XVIII в.
В своей книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» В. И. Ленин
говорит о последних могиканах буржуазной демократии, которые уже во время
империалистической войны США против Испании 1898 г. «называли войну эту
«преступной», считали нарушением конституции аннексию чужих земель, объ-
являли «обманом шовинистов» поступок по отношению к вождю туземцев на
Филиппинах, Агвинальдо (ему обещали свободу его страны, а потом высадили
американские войска и аннектировали Филиппины),— цитировали слова Лин-
кольна: «когда белый человек сам управляет собой, это — самоуправление;
когда он управляет сам собой и вместе с тем управляет другими, это уже не
самоуправление, это — деспотизм». Но пока вся эта критика боялась признать
неразрывную связь империализма с трестами и, следовательно, основами ка-
питализма, боялась присоединиться к силам, порождаемым крупным капита-
лизмом и его развитием, она оставалась «невинным пожеланием» 1.
Эти слова Ленина, сказанные об американских буржуазных демократах,
которые на рубеже XIX и XX вв. действительно критиковали политику амери-
канского империализма, помогают понять и позицию Паррингтона. Он сло-
жился как раз в те годы, когда «могикане буржуазной демократии», вроде
Марка Твена, бурно обличали преступления американского империализма. Как
видно из слов самого Паррингтона, и он осуждает определенные проявления
империализма, в частности и прежде всего, экспансию, военную политику им-
периализма. Но и он, защищая джефферсоновский принцип «экономического
индивидуализма» и сохраняя джефферсоновское убеждение в том, что именно
в США «политическая демократия» сумеет изменить к лучшему долю простого
человека, не понимал неразрывной связи империалистической политики «с тре-
стами и, следовательно, основами капитализма» и тем более был весьма далек
от «сил, порождаемых крупным капитализмом и его развитием», т. е. от рабо-
чего движения США. Джефферсон примыкал к левому революционному крылу
просветительства, выражая интересы фермерства и демократического крыла
буржуазии. В конце XVIII в. эти силы составляли левое крыло национально-
освободительного движения в колониях.
Для Паррингтона Джефферсон —«аграрный демократ», «признанный
вождь фермерской Америки». Видя в нем прежде всего это качество, Парринг-
тон и сам в «фермерской Америке» видит извечное и здравое начало американ-
ской жизни, творца и опору американской демократии. Некое абстрактное де-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 27. С. 409.
330
мократическое «джефферсоновское начало» Паррингтон противопоставлял
всему тому, что стало реальностью американского буржуазного общества
в эпоху империализма и в чем Паррингтон все еще видел результаты происков
плутократии, спекулянтов, недобросовестных политиканов. Оценивая историю
американской культуры с этой точки зрения, Паррингтон постоянно подчерки-
вал в ней роль фермерства, роль «экономического индивидуализма», привле-
кательную для Паррингтона в мелком земледельце, но пугавшую его в политике
американских монополий. В третьем томе труда с большим сочувствием гово-
рится о судьбах популизма — фермерского движения эпохи империализма.
С другой стороны, через всю книгу проходит недооценка рабочего движения
в США как великой новой социальной силы; до понимания ее роли в борьбе
против империализма, до понимания ее идеалов Паррингтон так и не смог под-
няться. Поэтому и критика американского буржуазного строя, американской
буржуазии — а о своих современниках, американских дельцах Паррингтон не-
редко отзывается очень резко — носит все же односторонний характер, не за-
девает самых основ буржуазного общества.
Надо сказать, что и на общем фоне «последних могикан буржуазной демо-
кратии» в США Паррингтон оказывается не в числе наиболее последователь-
ных защитников этой концепции. Его антиисторическое представление о том,
что джефферсоновские идеи, заложенные в основе американской конституции,
являются неким общеамериканским богатством, приводит к тому, что Паррин-
гтон недостаточно полно вскрывает реакционный характер деятельности Д.
Кэлхуна, одного из защитников плантаторского Юга. Реакционный миф отно-
сительно якобы идеальных условий общественного развития в рабовладель-
ческих южных штатах Паррингтон вслед за южанами выспренне называет
«мечтой о греческой демократии». Ей Паррингтон посвящает целую главу.
Конечно, Паррингтон не может быть сторонником рабства и понимает исто-
рически-прогрессивный смысл его ликвидации. Его отношение к южным штатам
40—50-х годов объясняется все той же симпатией к «экономической инициати-
ве» землевладельцев: Паррингтон склонен не замечать, что именно на Юге в те
годы рабовладельческие латифундии решительно оттесняли и разоряли мелкое
«свободное» землевладение. Критикуя последствия развития капитализма
в США, говоря о страшных условиях жизни в рабочих кварталах и о нечелове-
чески тяжких условиях труда на капиталистических предприятиях Севера,
Паррингтон не раз сочувственно упоминает о тех защитниках рабовладель-
ческого Юга, которые противопоставляли якобы патриархальные и потому че-
ловечные отношения между плантатором и рабами условиям труда и жизни
белых рабочих в северных штатах. Временами элегический тон Паррингтона
в разделах, повествующих о рабовладельческом Юге, напоминает общее на-
строение известного исторического романа М. Митчелл «Унесенные ветром»
(1937). В нем крушение плантаторского Юга показано именно как бедствие,
обратившееся и на обитателей помещичьих усадеб, и на миллионы негритян-
ского населения, которое было выдано алчным капиталистам-янки и лишено
отеческих забот своих старых хозяев.
Разумеется, было бы неверно истолковывать позицию Паррингтона в этом
вопросе как позицию безоговорочного защитника южных штатов. Но опасная
двусмысленность этой позиции как нельзя более ярко раскрывает характерную
для ученого «объективность» исследователя-либерала — именно либерала, ко-
торый «непредубежденность» Джефферсона превращает уже в принцип объ-
ективизма, мешающий подлинно объективному исследованию идеологического
процесса.
С каким объективизмом пишет Паррингтон о бреднях Кэлхуна и других за-
щитников рабства, проповедников той самой американской экспансии, против
которой Паррингтон восстает в других местах своей книги! Даже говоря
о неприятных ему и уж очень нелиберальных политических деятелях Массачу-
331
сетса XVII столетия — угрюмых попах и чиновниках теократической Новой
Англии,— Паррингтон с полной «непредвзятостью» выписывает их портреты
и порой слишком подробно останавливается на их деятельности, которую сам
же он называет тиранической и ханжеской. Зато в его книге среди десятков
портретов американских юристов, священников, политических деятелей не на-
шлось места для портрета замечательного американского революционера
Шейса, поднявшего восстание против правящих кругов молодой буржуазной
республики в 1786 г., или для портрета подлинного национального героя США
Джона Брауна, чей подвиг был отмечен Марксом и Чернышевским как выдаю-
щееся и знаменательное событие в истории 50-х годов прошлого века. Не Джон
Браун, а Т. Паркер, буржуазный политический деятель, оказывается для Пар-
рингтона наиболее полным выразителем «революционных тенденций своего
времени» в области мысли.
Конечно, это объясняется прежде всего тем, что ни Шейс, ни Браун не были
авторами трактатов общественного содержания; поэтому они и не вошли
в книгу об «основных течениях американской мысли»— хотя несомненно, что
оба они всей своей деятельностью оказали (особенно Джон Браун) значитель-
ное воздействие на ее развитие. Очевидно, в силу тех же причин не нашлось
у Паррингтона места и для портретов негритянских общественных деятелей
США XIX в. Да и вообще в книге о развитии общественных идей в США зна-
чение борьбы за освобождение негров — в действительности колоссальное для
роста передовой американской мысли — показано очень скупо. Подвиги самих
негров, вековая кровавая борьба против рабовладельцев, отмеченная вехами
больших восстаний и именами их смелых вожаков, просто опущены или упоми-
наются вскользь. Еще хуже обстоит дело с историей отношений между амери-
канцами и индейскими народностями на территориях, принадлежавших США:
как будто и не было трех столетий объявленных и необъявленных войн между
индейцами и белыми, как будто не было трагической индейской проблемы
в жизни американского общества — так мало сказано обо всем этом в книге
либерала Паррингтона, ратующего за «лучшую долю простого человека».
Поэтому вполне закономерно, что либерал Паррингтон не смог понять ис-
торический смысл ранних этапов американского рабочего движения, о которых
идет речь в его книге, не увидел тесной, неразрывной связи между ним и борь-
бой аболиционистов в 50-х годах, не отметил роль американского рабочего
класса в войне 1861 —1865 гг. Вполне логично, что в третьем томе его труда,
вышедшем уже после смерти ученого, революционное американское рабочее
движение эпохи империализма не получило последовательного рассмотрения,
а хеймаркетская трагедия изображена не столько как трагедия рабочих, за-
губленных провокацией американской охранки, сколько как драма «честного
либерала» Альтгельда. Нельзя не заметить, что Паррингтон объективнее мно-
гих других буржуазных исследователей ставит вопрос о роли рабочего движе-
ния в американской общественной жизни, видит причины выступлений амери-
канского пролетариата в жестокой эксплуатации, в преступлениях «плутокра-
тии», как иногда называет он американские монополии. Но все же на первый
план в третьем томе выдвинуто популистское фермерское движение, которое
трактуется как движение наследников Джефферсона. Впрочем, и оно изобра-
жено в сугубо объективистских тонах, а Теодор Рузвельт, известный своей
кровавой экспансионистской политикой и воинствующим национализмом, даже
назван «либералом средних классов».
Выше говорилось, что Паррингтон не раз упоминает о «классовых интере-
сах» как о важном факторе общественного развития. Но он понимает их именно
как буржуазный либерал, т. е. по существу понять не может. Это шире всего
раскрывается в его истолковании буржуазной демократии. Паррингтон и в
20-х годах, когда он писал свою книгу, всерьез полагал, что американский го-
сударственный строй эпохи империализма является в принципе строем демо-
332
кратическим, способным защитить интересы народных масс, если только будут
соблюдаться положения, зафиксированные в конституции США. Паррингтон не
понимал, в чем общность и в чем различие классовых интересов любезных его
сердцу фермера и рабочего, с одной стороны, и фермера и капиталиста —
с Другой, и почему классовые интересы рабочего и капиталиста не могут быть
примирены никакими параграфами конституции.
Хотя Паррингтон критикует некоторые стороны американского обществен-
ного строя эпохи империализма, осуждает экспансию, плутократию, корруп-
цию, узкое себялюбие и беспринципность американских политических деятелей,
в целом он убежденный сторонник буржуазного строя. При всей критичности
некоторых его замечаний Паррингтон идеализирует американское буржуазное
общество и в прошлом, и в настоящем. Исследователь далек от грубого нацио-
нализма, но он подвластен мифу об «исключительности» американской
общественной системы, он верит в то, что она сумеет изменить к лучшему «долю
простого человека», хотя приведенные им многочисленные факты нередко об-
ращаются против него же и говорят о том, что деятели американской буржуа-
зии менее всего думали и думают об этом пресловутом «простом человеке», под
которым следует понимать прежде всего американского фермера и мелкую
буржуазию — родную стихию либерализма, столь высоко оцененную в книге
Паррингтона.
Как либерал Паррингтон боится революционной борьбы. Подлинной рево-
люцией он считает тоько освободительную войну 1775—1783 гг. Очень харак-
терно, что Паррингтон считает «самым революционным движением за всю ис-
торию Америки» в области идей перфекционизм — религиозное движение се-
редины XIX в., весьма высоко поднятое ученым, а на деле не сыгравшее сколь-
ко-нибудь заметной роли в истории освободительной борьбы американского
народа.
В борьбе за «лучшую долю простого человека» Паррингтон отвергает рево-
люционный путь. С этой либеральной позицией связаны и его оценка восстания
Шейса, и его сдержанная позиция относительно Джона Брауна. Позиция ли-
берала не позволила ему понять огромное значение борьбы негров и индейцев
для развития передовых идей в США. Но самое главное — либеральная огра-
ниченность не позволила ему понять историческую миссию рабочего движения
и его воздействие на историю американской литературы.
Книга Паррингтона называется «Основные течения американской мысли»,
и в заголовке указано, что Паррингтон рассчитывал довести ее до 20-х годов
нашего столетия. Но можно ли сказать, что ее содержание в полной мере отве-
чает названию? Нет, потому что Паррингтон среди этих «основных течений» не
показал в должной мере развитие идей американского рабочего класса, кото-
рые стали складываться еще с середины XIX в. и затем получили свое оформ-
ление в борьбе американского пролетариата против капиталистического строя.
Первые проявления активности рабочего класса в США относятся еще к
30-м годам XIX в. Таким образом, в книге, которая по плану автора должна
была закончиться 20-ми годами нашего столетия, этим идеям следовало уде-
лить больше внимания, чем, скажем, анализу различных политических течений
среди защитников рабства.
Но можно ли сказать, что достаточно глубоко рассмотрены и верно освеще-
ны идеи американских аболиционистов — особенно их левого крыла? Можно ли
сказать, что Паррингтон сумел рассмотреть и конкретно-исторически подойти
к анализу борьбы идей в годы освободительной войны 1775—1783 гг.? И в дол-
жной ли степени учтены в книге те крамольные «течения американской мысли»,
которые так беспощадно подавлялись пастырями массачусетских поселений?
На эти и многие сходные вопросы придется ответить отрицательно. Методоло-
гия историка-либерала помешала Паррингтону выполнить поставленную перед
собой задачу в полной мере.
ззз
Существовала ли некая единая система взглядов «колониального периода»,
как назван первый том его труда? Нет, сам Паррингтон пишет о том, что в этом
мировоззрении боролись настолько различные тенденции, что нельзя говорить
о нем как об общеколониальном единстве. Можно ли охарактеризовать на-
растающую в американской литературе волну критического отношения к бур-
жуазному строю XVIII — начала XIX в. как «революцию романтизма» (так
называется другой том его труда)? Нет, здесь дело не в романтизме, который
был только одной из сторон идеологического развития первой половины XIX в.
Существует ли некое общее «американское мировоззрение» как ступень, до-
стигнутая вслед за колониальной эпохой? Нет, единого американского миро-
воззрения нет, как не было и единой системы взглядов «колониального пе-
риода».
Есть ли в книге анализ и критика такого характерного «течения американ-
ской мысли», как империалистическая идеология США, которая начиная с
90-х годов была уже весьма активной и вызвала отпор передовой мысли
в США? Нет — за исключением нескольких общих фраз, которые, впрочем,
свидетельствуют о враждебном отношении Паррингтона к экспансионистским
устремлениям американских империалистов.
Картина развития общественной мысли США в книге Паррингтона оказа-
лась весьма неполной. Паррингтон говорит об экономических причинах как
о стимулах развития общественной мысли, но он сводит самое понятие «эконо-
мических причин» только к некоторым характерным явлениям экономики США;
не замечает всей сложности и противоречий ее развития, упрощает самый про-
цесс влияния «экономических причин» на общественную мысль. Паррингтон не
видит, какое значение в развитии общественной мысли имеет классовая борьба.
Ее сложные перипетии выступают в книге в виде борьбы различных экономи-
ческих групп, политических клик и буржуазных партий в США. История раз-
вития общественной мысли в США, в действительности отражающая полный
противоречий ход исторической жизни американского народа, тесно связанного
с жизнью других народов Америки — да и Европы,— у Паррингтона предстает
как эволюция буржуазного представления о свободе. Развитие этого понятия,
с точки зрения Паррингтона, было столбовой дорогой развития американской
общественной мысли, начиная от первых диспутов о «предопределении»
и «первородном грехе» в бревенчатых молельнях Новой Англии и кончая
гражданской войной 1861 —1865 гг.
Как уже было сказано выше, литературоведческая методология Парринг-
тона сильно зависит от методологии позитивизма, в первую очередь от методо-
логии французского литературоведа И. Тэна. В таких его работах, как «Исто-
рия английской литературы» (1863) или «Основы современной Франции»
(1875), читатель найдет немало сходного с принципами, на которых построена
книга В. Л. Паррингтона, правда, с той существенной разницей, что Тэн не от-
казывался от анализа художественной литературы как таковой.
В духе позитивистской методологии Паррингтон придает первичное и ре-
шающее значение в формировании идеологии и искусства «среде». Под ней он
понимает прежде всего национальное и социальное окружение, в котором ро-
дился и складывался писатель или мыслитель. Отсюда берет свое начало та
сторона концепции Паррингтона, следуя которой он понимает историю куль-
турной жизни США как результат сосуществования отдельных областей-очагов
пуританской Новой Англии, аристократической Виргинии, делового «Северо-
Востока» и т. д.
Большую роль в построениях Паррингтона играет и фактор чисто геогра-
фический: он виден не только в дроблении американской литературы на от-
дельные замкнутые географические и этнические парцеллы, но и в том, что, на-
пример, «широкие просторы», по мнению Паррингтона, способствуют созданию
«новой психологии». Таким образом и конструируется общая композиция кни-
334
ги — не в хронологическом порядке, а по отдельным культурно-историческим
гнездам, что дробит цельную картину истории американской литературы.
Читатель, конечно, заметит, что материал в книге изложен не в общей для
всех штатов последовательности или хотя бы синхронности, а по отдельным
группам штатов. То Паррингтон задерживается на Новой Англии, доводя свое
изложение до начала XIX в., то вновь обращается к более далекому прошлому,
переходя к южным штатам, то ведет самостоятельную линию исследования
общественных событий и общественной мысли применительно к «Северо-
Востоку» США. Конечно, в этой концепции есть доля истины. Королевские ко-
лонии в Виргинии и поселения пуритан на Севере и закладывались людьми
различных убеждений и развивались по-разному. Различия между ними в об-
ласти культуры остро чувствовались в прошлом, чувствуются они и в наше
время. Можно высказать предположение, что между этими очагами американ-
ской культуры то существовали близкие связи, например накануне и во время
освободительной войны 1775—1783 гг. или после гражданской войны
1861 —1865 гг., то обострялись противоречия, как в 30-х и 50-х годах XIX в.,
когда особенно резко сказались различия в экономической и общественной
жизни Юга и Севера. Но даже и признавая эту сложность внутриамериканских
культурных отношений, нельзя доводить ее до той степени обособления, которая
присуща концепции Паррингтона. Каковы бы ни были различия в культурном
развитии штатов Севера и Юга, было и нечто целое в их общей эволюции, и эту
общность культурного процесса нельзя дробить в такой степени, как делает это
Паррингтон.
Особенности методологии Паррингтона ярко сказались и в тех частях его
книги, которые посвящены собственно художественной литературе США.
Ценность этих разделов книги заключается в стремлении показать
общественное значение литературы, в стремлении видеть в литературе отраже-
ние общественной жизни. Хотя методология Паррингтона весьма далека от
конкретно-исторического подхода к изучению литературных явлений, но и
в такой форме попытка истолкования литературы в связи с историей дает хотя
бы общее представление о жизненных истоках литературного творчества.
Важно и то, что Паррингтон стремится рассмотреть литературу в связи со
всем идеологическим развитием страны. Исследователь собрал богатый и ин-
тересный материал, освещающий воздействие политических и экономических
идей на литературу, хотя самый ход этого воздействия показан чаще всего уп-
рощенно. Хорошо, что Паррингтон так ценит и умеет показать активный
общественный характер деятельности многих американских писателей — это
видно из его глав об Уиттьере, о Бичер-Стоу. Многими своими данными труд
Паррингтона свидетельствует против буржуазных ученых, стремящихся ото-
рвать деятельность американских писателей от живых политических условий,
в которых она протекала и на которые она так живо отзывалась. Паррингтон
установил наличие несомненного живого гражданского начала в классической
художественной литературе США. Конечно, об этом активном общественном
начале можно и должно написать и больше, и глубже, но важно и то, что сде-
лано Паррингтоном. Его внимание к писателям, не желающим стоять в стороне
от общественных битв своей эпохи и своим творчеством отзывающихся на ост-
рые вопросы современности, чувствуется не только в этой книге, но и в его ин-
тересном этюде о писателе-реалисте С. Льюисе—«Синклер Льюис, наш собст-
венный Диоген» (1927). Можно сказать, что и первые два тома труда Паррин-
гтона и третий том, вышедший после его смерти, говорят о явных симпатиях
исследователя к реалистическому искусству. Отдавая должное Хоуэллсу, Пар-
рингтон все же видит преимущества правдивого и сурового искусства Норриса
и Гарленда, остро критического, вводящего в литературу народные массы,
большие эпические темы XX в. В третьем томе Джек Лондон, охарактеризо-
ванный как «писатель-революционер», занял определенное место в концепции
335
национальной американской литературы. Третий том труда Паррингтона инте-
ресен и тем, что в нем шире, чем в любом очерке о литературе США, показано
значение больших народных движений эпохи империализма для развития ли-
тературы США. Можно было бы сказать даже, что в третьем томе эта проблема
поставлена глубже, чем в первых двух — в значительной мере в силу того, что
именно в третьем томе автор пытается отойти от рассмотрения литературного
процесса США по группам штатов.
Заслуживает внимания и критическое отношение Паррингтона к литературе
эстетской, уходящей от жизни, замыкающейся в узком кругу утонченных ин-
теллигентов. В этом смысле очень показательна его резкая характеристика так
называемых браминов — литературного кружка, сложившегося в середине
XIX в. в Бостоне и отличавшегося аристократизмом своих эстетических воззре-
ний. Паррингтон прав, когда считает, что работы историков-«браминов» —
прежде всего талантливого Прескотта — значительнее, чем литературное твор-
чество их кружка.
У Паррингтона есть вкус к писателям, которые были забыты или обойдены
традиционной американской наукой о литературе. Все это делает литературные
разделы труда Паррингтона интересными и полезными для советского чи-
тателя.
Но при этом общие принципы его подхода к произведениям художественной
литературы остаются для нас неприемлемыми. Это касается прежде всего чисто
механистического разделения литературного творчества на «идейные» сторо-
ны — те, которые интересуют Паррингтона в первую очередь,— и на стороны
«эстетические», к которым он относится с наивной недооценкой, во многом, ве-
роятно, объясняющейся и тем, что уже в те годы обычная буржуазная методо-
логия исследования эстетического значения литературы в США казалась Пар-
рингтону весьма несостоятельной, и в этом он был прав.
Разумеется, идейность произведения, его общественное содержание —
важнейшая сторона любого художественного произведения. Но эта сторона
познается нами только через восприятие художественных средств, в которых
она воплощена, и вместе с ними. Вне их она не существует. Механическое рас-
сечение романа или поэмы на «мысль» и «беллетристику», как делает это Пар-
рингтон, может привести — и приводит его— к самым тяжким заблуждениям
и ошибкам. Чего стоит, например, суждение Паррингтона об Э. По, этом весьма
сложном американском писателе, чьи противоречия так же бросаются в глаза,
как и его блестящий поэтический талант. Можно спорить о том, как назвать
творческий метод Э. По и к какому литературному направлению был он ближе,
но несомненно, что он — одно из самых ярких, хотя и особенно сложных явле-
ний американской литературы. А Паррингтон, отметив талант Э. По, одним
росчерком пера просто убирает его из своей книги: По не входит в круг его ин-
тересов, он, с точки зрения Паррингтона, слишком мало связан с развитием
американской мысли, он «не в русле» литературы США, он чужак среди по-
чтенных джентльменов, чьи споры о тарифах и законах божеских и челове-
ческих Паррингтон изучает с таким увлечением. Замечания исследователя
о По — один из ярких примеров порочности, схематизма его методологии.
Один из ярких, но не единственный. Вот Паррингтон доходит в своем изло-
жении до великого американского поэта-демократа Уолта Уитмена. Кому не
известно, что Уитмен — один из самых смелых новаторов мировой поэзии, ху-
дожник, проторивший дорогу так называемому свободному стиху, явлению в то
время революционному и по существу своему и по форме? Но так как Паррин-
гтон рассматривает Уитмена в плане своей концепции «развития мысли»
в США, Уитмен оказывается «отблеском просветительства», что совершенно
спорно даже и в плане истории общественной мысли в стране; иллюзии Уитмена
были далеки от иллюзий просветительства.
336
А вот характеристика Г. Topo, поразительного художника слова, влюблен-
ного наблюдателя американской природы, под пером которого каждый миг
жизни в лесу или у заброшенного пруда превращается в подлинную поэму
и который вместе с тем сумел стать грозным и пламенным оратором, когда речь
зашла о судьбе Джона Брауна: для Паррингтона Торо —«экономист транс-
цендентализма». Бедный Торо! Думал ли он, что ему присвоят такое почетное
звание? Конечно, очень интересна и гуманна своеобразная трудовая утопия
Торо, верившего, что община свободных тружеников, сообща владеющих тем,
что они производят,— реальный выход из того экономического порабощения,
которым грозило развитие капитализма. Но ведь самое важное в Торо — не его
экономические взгляды, разбитые действительностью, а его бессмертный дар
художника. С таким же основанием замечательный писатель Герман Мелвилл
объявляется «пессимистом»— только потому, что он скептически относился
к американской конституции и не был сторонником либеральных идей Джеф-
ферсона. Не без раздражения пишет Паррингтон о Ф. Купере. С другой сторо-
ны, в погоне за различными проявлениями американской общественной мыс-
ли — особенно в тех случаях, когда она связана с любезными его сердцу
«джефферсоновскими» идеями,— Паррингтон вводит в свою книгу необычайно
подробные сведения о писателях, в художественном плане второстепенных, не-
значительных. Но они важны Паррингтону, так как в борьбе между различны-
ми политическими кругами и кружками в своих штатах они играли определен-
ную роль. Так, например, очерк литературы южных штатов в книге Паррингто-
на — глава единственная в своем роде по полноте материала. Но в ней непо-
мерно преувеличены литературные достоинства таких писателей, как У. Симмс
или Д. Кеннеди. Достаточно напомнить, что Симмса Паррингтон ставит кое
в чем выше Купера, хотя Симмс-романист не стал даже явлением общеамери-
канским, а Купер — явление литературы мировой. При этом сам Паррингтон
говорит о бесполезности сравнения Купера и Симмса. Говорит, но все-таки
проводит это сравнение. Поразительно малое место в концепции второго и тре-
тьего тома занимает творчество У. Уитмена и великого Марка Твена: они не
укладываются в рамки методологии Паррингтона.
Сильно повредило историко-литературным главам книги и вышеупомянутое
рассмотрение американской литературы по группам штатов. История нацио-
нальной литературы США в его книге распадается на истории литератур
в разных штатах. Нарушается хронология, искажается общая картина литера-
турного развития. В результате писатели-южане 30—40-х годов выступают
раньше Купера; Вашингтон Ирвинг, которого по праву можно было бы считать
одним из первых представителей новой американской литературы XIX в., ока-
зывается помещенным после Купера, хотя творческая деятельность Ирвинга
началась значительно раньше. Трансценденталисты, чья деятельность развер-
тывается уже в 30-х годах, рассмотрены после Бичер-Стоу. При этом оказыва-
ется, что Купер и Ирвинг — всего лишь представители литературы «Северо-
Востока» США, а не зачинатели новой американской литературы в целом,
Симмс — просто «чарлстонский романист», а Крафтс, весьма находчиво защи-
щавший рабство в южных штатах (о чем много сказано в книге) —«чарлстон-
ский остроумец».
Выше говорилось, что Паррингтон недооценил значение национально-осво-
бодительной борьбы негров и индейцев во всем развитии американской
общественной мысли. Это остро сказывается и в литературных оценках. Это
чувствуется и в необыкновенно восторженной оценке романов Симмса, которым
в целом присуще варварски жестокое отношение к индейцам; неожиданно вы-
соко оценивает Паррингтон и книгу P. iV\. Бэрда «Ник-лесовик» (1837), резко
противостоящую в решении индейской темы романам Купера, воспитывающую
в американском читателе ненависть к индейцам, прославляющую беспощадную
расправу с ними. Неприятный привкус есть и в комически-позитивистских по-
12 Р. М. Самарин
337
пытках Паррингтона судить о своеобразии писателя по... его родословной. Так,
например, Гаррисон для него «наполовину англичанин, наполовину ирландец
по национальности, отягченный неблагоприятной наследственностью». По по-
воду Мелвилла Паррингтон говорит, что, «памятуя о пестрой родословной
Мелвилла, литературовед испытывает искушение связать его трансцендента-
листские мечтания с тем фактом, что в его жилах текла новоанглийская кровь».
Впрочем, тут же Паррингтон преодолевает это «искушение», ссылаясь на то,
что Мелвилл все же «наполовину голландец, наполовину янки» [2, 302]. Далее
Паррингтон считает возможным объяснить «горячий характер» писателя его
голландскими предками, среди которых он особо выделяет «деда по материн-
ской линии генерал-майора Питера Гэнсвурта», замечая, что этот сановный дед
«был человеком могучего сложения». К сожалению, таких соображений, кото-
рые никак не могут удовлетворить советского читателя, в книге Паррингтона
немало. Эти попытки разобраться в индивидуальности писателя, исходя из
данных о национальности и физических особенностях его родителей, восходят
непосредственно к позитивистской литературоведческой методологии, учиты-
вавшей не только данные «среды», в которой родился и жил писатель, но
и обычно сомнительные данные биологического характера. Уже в те годы, когда
писалась книга Паррингтона, подобные домыслы нередко вели к псевдонауч-
ным «теориям» расистского порядка. Паррингтон, конечно, далек от них. Но и
в его книге отголоски этой стороны позитивистского понимания литературы
производят дурное впечатление.
Многое в специфически одностороннем рассмотрении литературного про-
цесса в книге Паррингтона зависит и от его нежелания подойти вплотную
к вопросу об эстетической природе литературных направлений, о которых он
говорит. Напрасно искать в его книге попытки определить романтизм или реа-
лизм как категории эстетические. Если он и говорит о реализме, то в примене-
нии к политическим взглядам тех или иных общественных деятелей США, ко-
торые, как кажется ему, обладали трезвым умом.
При всем том, что книга Паррингтона богата фактами и говорит о годах
тщательного труда, затраченного на нее, она постоянно вызывает в советском
читателе желание поспорить с автором. Это уже относится к первым разделам
книги, посвященным возникновению и развитию американской литературы
в английских колониях, из которых со временем сложатся Соединенные Штаты
Америки. Надо сказать, что именно первый том написан особенно любовно
и временами талантливо, богат меткими наблюдениями и яркими портретами,
изобилует фактами, к которым до Паррингтона никто не присматривался столь
критично и тщательно.
Многое в первом томе книги удачно: Паррингтон содержательно и в полную
силу своих возможностей критикует антилиберальный, угрюмый, кастовый дух
теократического строя в Массачусетсе. С полным основанием говорит он о гу-
бительной и бесплодной атмосфере ханжества, созданного кальвинистскими
«патронами» этой колонии. Паррингтон повествует о том, как цитатами из
библии прикрывали они свое беспощадное хозяйничанье в колонии, как безжа-
лостно эксплуатировали переселенцев-тружеников, попавших в кабалу к «свя-
тым отцам». Тирания церковников в Массачусетсе XVII и начала XVIII в. вы-
ступает в этих главах так же ярко, как и тирания помещиков-джентльменов
в Виргинии, где всегда сильны были симпатии к Стюартам.
«Новоанглийское пуританство было чахлым порождением серенькой сре-
ды»,— пишет Паррингтон, и это достаточно точное определение пуританской
теологической мысли в колониях второй половины XVII в. С прискорбием гово-
рит ученый о том, что «волна иудаизма», «исторический маскарад», в ходе ко-
торого святоши Новой Англии пытались обрядиться в ризы библейских патри-
архов и говорить их языком, захлестнула живое движение мысли и чувства
в развитии этой части страны.
338
Но вот Паррингтон переходит к попыткам борьбы против теократического
засилья в Новой Англии, к поискам новой, мирской, гуманной идеологии. Кто
же борется за нее? На кого опираются люди, которые поднимают свой голос
против массачусетских мытарей и фарисеев? Кто стоит за спиной смельчаков,
пытающихся просветить закоснелые в фанатизме общины поселенцев? По
Паррингтону, это — отдельные светлые личности, особенно пылкие борцы за
индивидуальную свободу, стесняемую проповедниками и попами Новой Англии.
Паррингтон не видит глубоких социальных корней оппозиционного движения,
которое зрело в низах колониального общества, принимая нередко — по старой
традиции — формы религиозных исканий, но и побуждая передовые круги ко-
лоний к просветительской деятельности.
Затхлая, душная атмосфера Новой Англии XVII столетия противопостав-
лена в книге бурной эпохе английской революции XVII в. и ее отголоскам в ду-
ховной жизни страны. Паррингтон с любовью упоминает о Мильтоне, Беньяне,
Лильберне, Харрингтоне, считая их сынами революционной эпохи. Ничего по-
добного по яркости и значительности не было в Новой Англии. Ее теократи-
ческие споры — только жалкий отголосок той борьбы, которая кипела в Европе
во второй половине XVII в.: мизерность условий жизни пуританских общин
в колониях отразилась в узости и бесперспективности их догматических
распрей.
Но в английской революции XVII в. Паррингтон видит «главным образом
восстание талантливой буржуазии», спорящей из-за своих коммерческих инте-
ресов с абсолютизмом и земельной аристократией. В этом аспекте, не замечая
огромной роли народных масс в английской революции и их трагедии, не пони-
мая их воздействия на лучших мыслителей революционной эпохи, показывает
Паррингтон и культуру английской революции XVII в. Для него Мильтон —
весьма ограниченный своими буржуазными интересами сторонник аристокра-
тической республики. Джон Лильберн — что-то вроде преуспевающего буржу-
азного публициста.
Паррингтон, естественно, недооценивает роль народных масс в борьбе
общественных взглядов в колониях. Поэтому его анализ общественных взгля-
дов в США чаще всего оказывается анализом господствующих взглядов ново-
английской теократии, что придает и этим — наиболее сильным — разделам
книги известную односторонность.
Она усиливается, когда Паррингтон подходит к генезису американской ху-
дожественной литературы, к анализу литературного развития Америки в
XVIII в. К сожалению, здесь Паррингтон не видит рождения литературы как оп-
ределенного процесса, заметно активизировавшегося на подступах к событиям
1775—1783 гг. В одном месте своей книги он говорит о Б. Франклине (не заме-
чая его литературной одаренности), в другом — о Т. Пейне, который для Пар-
рингтона прежде всего политический деятель, в третьем — и далеко от первых
двух — о Френо, в четвертом — о Брекенридже.
Есть и отдельная глава о том, как отразилась общественная борьба нака-
нуне и во время освободительной войны в сатирической поэзии. Но весь этот
материал, сам по себе богатый, раздерган, не обобщен, не осмыслен в аспекте
историко-литературном. Читателю надо самому понять, что во второй половине
XVIII в. в колониях уже были свои литературные таланты, свое литературное
движение, что складывалась литература американского Просвещения, сущест-
венно отличавшаяся от просветительства в любой европейской литературе, хотя
и многим обязанная французскому и английскому Просвещению.
Вникая в книгу Паррингтона, читатель поймет, что в американском просве-
тительском движении существовали различные течения, враждебные феодаль-
ной идеологии; одно из них, видимо, было представлено умеренной линией
Франклина, другое — революционной линией Пейна. Паррингтон говорит
12*
339
о различии в идеологии Франклина и Пейна, но, констатируя это различие, он
не делает историко-литературных выводов из этого факта.
Читая главу о Френо, можно высказать на основе ее материалов предполо-
жение о том, что уже в 80-х годах XVIII столетия в американской просвети-
тельской литературе вызревало и нечто новое, настойчиво рвущееся вперед, за
рамки просветительских иллюзий,— американский предромантизм. Но пробле-
ма возникновения и развития романтизма, особенно своеобразная для литера-
туры США, в книге Паррингтона не поставлена.
О романтизме вообще говорится немало. Нередко Паррингтон оперирует,
например, термином «французские романтики», подразумевая под ними прежде
всего утопистов-социалистов и их критику капиталистических отношений. Они
оказали заметное воздействие на критику капиталистического развития, путями
которого шло молодое американское государство в начале XIX в. Но в целом
романтизм в американской культуре для Паррингтона — явление импортное.
Он пишет о «корабле романтики», который «пересек океан», чтобы очутиться
в Америке. Ученый не учитывает весьма примечательной роли, которую именно
американская проблематика сыграла в зарождении и развитии романтизма,—
и как течения в экономической и политической жизни, лелеявшего несбыточные
мечты о фаланстерах на свободных землях Нового Света и в нем ошибочно ви-
девшего страну идеальных свобод, и как явления чисто литературного, широко
использовавшего материал американской действительности для дискуссии
о «естественном» человеке и человеке, испорченном «цивилизацией». С другой
стороны, Паррингтон не видит, что именно специфические противоречия аме-
риканской жизни стали основной почвой и материалом американского роман-
тизма, который в лице Ф. Купера (и в меньшей степени В. Ирвинга) сыграл
столь примечательную роль в истории мировой литературы первой половины
XIX в. Можно сказать, что именно в лице романтиков литература США зани-
мает заметное и самостоятельное место в развитии мировой литературы, и это
не в последнюю очередь объясняется ролью индейской тематики в романах Ку-
пера, отражением трагедии индейских народов, столь типично воплощающей
гибель старого патриархального мира под натиском буржуазных отношений.
Но Паррингтон не раскрывает перед читателем процесс возникновения роман-
тизма в литературе США, не вникает в этапы его развития, в которых откры-
ваются многие специфические черты литературного процесса в стране.
Ведь и в США романтизм был реакцией на развитие капитализма, иногда
особенно болезненной, потому что и развитие капитализма протекало особенно
бурно: это видно, например, на творчестве Э. По, одного из крупнейших ро-
мантических писателей. Вместе с тем романтизм в литературе США выступал
в неповторимо своеобразной форме, так как он развивался в стране, в которой
патриархальным идеалом, противопоставленным капиталистической ломке,
оказывалась не феодальная старина, как в странах Западной Европы, а старая
фермерская Америка. От этого патриархального «крестьянского» идеала аме-
риканских романтиков следует отделять романтизацию рабовладельческого
Юга с характерными для нее чертами искусственно возрождаемой феодальной
идеологии.
Не выяснены в книге Паррингтона вопросы о романтическом характере
творчества писателеи-трансценденталистов, участников романтической попытки
осуществления старых планов утопической коммуны тружеников в годы быст-
рого развития капитализма. Не выяснена проблема революционного романтиз-
ма в литературе США, тесно связанная с аболиционистским движением и во-
площенная в творчестве таких его писателей, как Хилдрет — автор романа
«Белый негр», или Уиттьер.
И в данном случае книга Паррингтона дает много материалов для размыш-
лений, много фактов. Есть в ней разделы и о Купере, и о В. Ирвинге, и о Торо,
и о Мелвилле, и об Эмерсоне. Но нет историко-литературного обобщения. Из
340
этих глав видно, что в творчестве американских романтиков (впрочем, за ис-
ключением Э. По, о котором Паррингтон так и не нашел, что сказать), были
подняты значительные жизненные проблемы; но в целом вся сложность амери-
канского романтизма растворилась в отдельных портретах, иногда более по-
дробных — как в случае с Купером,— иногда очень беглых, как в главе о Мел-
вилле. А ведь Мелвилл на самом деле заслуживает пристального внимания:
в произведениях этого большого и самобытного художника открывается
огромная ценность романтических форм обобщения действительности, живет
осуждение бесчеловечности американского буржуазного общества, вера в воз-
можность борьбы за гуманистические идеалы. К сожалению, Паррингтон не
заметил многообразия и богатства творческого наследия Мелвилла. Для выяс-
нения природы романтизма в США необходима большая подготовительная ра-
бота над первоисточниками, над периодикой, и она не проделана в книге Пар-
рингтона.
Как известно, американский аболиционизм —довольно широкое движение,
развивавшееся в борьбе различных групп, споривших о целях аболиционизма
и о методах, которыми следует добиваться освобождения негров,— создал
очень большую и разнообразную литературу, яркую публицистику, оказал су-
щественное воздействие на все развитие литературы США. Казалось бы, что
именно в книге Паррингтона литература аболиционизма должна была найти
полную и глубокую оценку.
К сожалению, в книге нет общей постановки вопроса о литературе аболи-
ционизма. Есть общая характеристика этого движения, вызывающая возра-
жение тем, что Паррингтон рассматривает борьбу за освобождение негров не-
сколько обособленно, вне связей с общедемократическим движением в США;
есть главы об отдельных его представителях — прежде всего о Гаррисоне; го-
ворится о деятельности Бичер-Стоу, Уиттьера. Но общий взгляд на всю про-
блему аболиционизма в литературе неглубок уже потому, что Паррингтон видит
в аболиционизме выступления отдельных честных американцев, стремящихся
к «исправлению» недостатков американской общественной жизни, к утвержде-
нию «справедливости», попираемой рабовладельцами.
Роль негритянской темы в аболиционистской литературе недооценена. Да
и общее звучание проблемы аболиционизма в американской литературе сильно
приглушено: не защищая рабства, Паррингтон постоянно указывал на то, что
негры, освободившись от плантаторского ига, попали под иго капиталисти-
ческой эксплуатации, оказались в условиях, которые, по мнению ученого, были
более тяжелыми, чем до победы Севера над Югом. В книге не получила пра-
вильного освещения литература южных штатов, защищавшая существование
рабства. Чаще всего она выглядит в изложении Паррингтона как наивная эле-
гия по поводу обреченного на гибель эксперимента с созданием пресловутой
«греческой демократии» в южных штатах. Увлекаясь республиканскими меч-
тами джентльменов, призывавших в своих книгах к защите рабства во имя де-
мократии, Паррингтон забывает о необходимости дать полную оценку этого
вопиющего анахронизма — пламенной обороны рабства в «демократической»
стране середины XIX в., кичившейся своими «свободами».
Попытка некоторых писателей Юга создать «свой» вальтерскоттовский ро-
ман, так остроумно высмеянная Марком Твеном, чутко улавливавшим реакци-
онный характер увлечения Вальтером Скоттом на Юге, выглядит у Паррингто-
на как безобидное обращение к наследию «шотландского чародея».
Явно недооценена роль гражданской войны 1861 —1865 гг. в развитии аме-
риканской общественной мысли и особенно в развитии литературы. Речь идет не
только о произведениях художественной литературы, посвященных событиям
войны,— и о них надо было бы сказать гораздо больше, хотя бы о том же Де-
форесте, примечательном писателе-реалисте,— но и о разных формах литера-
турной борьбы в годы самой войны, о бурном расцвете американской сатиры
341
в эти годы, отразившей не только общий ход войны, но и сложные противоречия
внутри лагеря северян и нараставшие разногласия в вопросе о политике, кото-
рую следует проводить по отношению к миллионам бывших рабов, освобож-
денных в ходе военных действий.
Особо следует остановиться на том, как в книге ставится проблема реализ-
ма. Выше уже было сказано, что в целом Паррингтон — сторонник литературы
больших идей, стремящейся к правдивому отражению действительности.
Однако он непоследователен и в этих своих симпатиях. Так, например, весьма
далекие от реализма книги некоторых писателей-южан, например Симмса
и Кеннеди, не раз выдаются им за произведения, ценные именно жизненным
материалом.
Не уяснив для себя, что же понимает он под романтизмом как литературным
движением, Паррингтон и в проблеме реализма занимает ту же позицию. В его
книге нет общего определения специфики американского реализма. Только раз
мелькает попытка сопоставить «романтизм» и «реализм» в связи с «романтиз-
мом» и «реализмом» «границы». Но это сопоставление, данное на периферий-
ном материале американской литературы, довольно случайно: оно трактует, по
существу, соотношение двух взглядов на жизнь «фронтира». Изображение
жизни «фронтира» в приукрашенном виде понимается Паррингтоном как «ро-
мантизм», а описание жизни «фронтира», говорящее о ее тяготах,— как «реа-
лизм». К этому сопоставлению и сведено соотношение «романтизма» и «реа-
лизма», чего, конечно, недостаточно. Отказ от выработки определенного взгля-
да на проблему реализма ведет к большим недоразумениям, когда Паррингтон
подходит к реализму как к проблеме американского литературного развития.
Уже говорилось, что Паррингтон не смог оценить основополагающее значе-
ние Марка Твена в формировании американского реализма. Не заметил он
и того, как реалистическое начало прокладывало себе путь в литературе або-
лиционистов — у Уиттьера, Бичер-Стоу. И наконец, не понял Паррингтон, ув-
леченный своими соображениями о развитии общественной мысли, роль Уолта
Уитмена в том сложном процессе формирования критического реализма, кото-
рый шел в литературе США накануне и в годы гражданской войны.
В третьем томе его труда процесс развития реализма в американской лите-
ратуре в конце XIX и начале XX в. намечен довольно широко. В отличие от
первых двух томов, бурное развитие американской литературы, представленной
в этом томе, охвачено в большей степени, в больших связях между отдельными
ее представителями. Паррингтон оценил значение Э. Беллами как писателя,
находившегося под воздействием теорий утопического социализма. Ученый
отнесся с большим вниманием к писателям-реалистам конца XIX в.— Генри Б.
Фуллеру, Роберту Гранту, мимо которых проходило большинство буржуазных
литературоведов. Примечателен интерес Паррингтона к Т. Драйзеру, которого
он высоко ценил, к Э. Синклеру, автору острых социальных романов. Но тут же
сказалась неразработанность общей эстетической концепции Паррингтона: на
первый план выдвинута проблема натурализма в американской литературе.
В аспекте развития натурализма рассмотрены Норрис, Крейн, Гарленд. По ма-
териалам третьего тома читатель не оценит своеобразия развития американской
литературы на рубеже XIX — XX вв.— того обстоятельства, что под лозунгами
натурализма у этих писателей иногда выступали эстетические требования реа-
листического характера, что в их творчестве большое реалистическое начало
боролось против собственно натурализма — фактографии, описательства, био-
логизма. Где-то на фланге оставлен Марк Твен. Лондон охарактеризован как
«революционер», агитатор-социалист, продавшийся Херсту. Да ведь и С. Лью-
ис, которого так ценил Паррингтон, для него прежде всего не художник,
а строгий судья нравов современной Америки, носитель определенных
общественных взглядов, которые иногда, впрочем, почти пугают Паррингтона
своей резкостью. Ее он готов считать цинизмом. Общая картина развития кри-
342
тического реализма оказывается у Паррингтона неточной и невыгодной для
литературы США. Как раз в конце XIX и в начале XX в. она богата большими
реалистическими дарованиями.
Существенным пробелом книги Паррингтона является полное отсутствие
в ней данных об американском народном творчестве — не только творчестве
индейских племен, в сложной форме вошедшем в развитие литературы США
(напомним, например, «Гайавату» Лонгфелло), но и творчестве американских
фермеров, лесорубов, охотников, которое давно интересует науку о литературе
в США. Устное народное творчество в США с его героями, его юмором, его
идеалами наложило сильный отпечаток на развитие литературы — это призна-
ют многие буржуазные ученые. Для Паррингтона оно, видимо, было недоста-
точно важным источником, по которому можно изучать «основные идеи» аме-
риканской общественной мысли.
% 5fc %
В 20-х годах у Паррингтона было еще столько учеников и последователей,
что третий том его труда вышел после его смерти под их редакцией и с их
дополнениями '. Однако в последующие десятилетия идеи Паррингтона в лите-
ратуроведении США стали явно «устарелыми». Острый общественный угол
зрения, присущий Паррингтону, критика американского империализма, содер-
жавшаяся в его суждениях о современности, не устраивали официальную аме-
риканскую филологию. Чужды были позиции Паррингтона и марксистской
мысли в США.
Б. Смит в своей книге «Направления в американской критике» (Forces in
American Criticism. N. Y., 1939), отдавая должное огромному труду Парринг-
тона, все же говорит о нем, как о далеком прошлом американского литерату-
роведения. Б. Смит делает курьезные попытки доказать, что Паррингтон — не
марксист (будто это требует доказательств) и не так опасен в своих крити-
ческих высказываниях о США, как это принято было думать уже тогда —
в конце 30-х годов. Сама защитительная интонация раздела о Паррингтоне
в данном случае весьма показательна: Б. Смит с полным основанием доказы-
вает читателям, что Паррингтон —«свой», что он хороший американский де-
мократ, хотя и с «радикальной», на взгляд Смита, окраской.
Вместе с тем в разделе, посвященном Паррингтону, Б. Смит уверенно и до-
казательно говорит о новаторстве Паррингтона-литературоведа, впервые
в американской науке о литературе так широко и последовательно проанали-
зировавшего экономические основы общественных и идеологических процессов.
И в этом Б. Смит прав.
В книге Р. Спиллера, В. Торпа, Т. Джонсона и Г. Кэнби «История литера-
туры в США» (Literary History of the United States, 1948) труд Паррингтона
упоминается как один из факторов, стимулировавших изучение литературы
США в социологическом аспекте. Однако авторы книги подчеркивали, что труд
Паррингтона не имеет никакой ценности для изучения эстетической проблема-
тики американской литературы. Характерно, что среди библиографических
справок о литературоведах и критиках в «Истории литературы США» нет
справки о Паррингтоне, хотя там же представлены имена авторов гораздо ме-
нее значительных, чем Паррингтон.
В отличие от этих авторов и от представителей школы «новой критики», ко-
торые видели в Паррингтоне только «социолога», Ф. Стоуолл в своей содержа-
тельной работе «Развитие американской литературной критики» (The Develop-
ment of American Literary Criticism, 1955) дал высокую оценку трудам Пар-
рингтона, поставив его рядом с Брандесом и Кроче, которые для Стоуолла яв-
1 В подготовке третьего тома руководящая роль принадлежала проф. Э. X. Эби.
343
ляются образцами фундаментального литературоведения, опирающегося на
определенную и выдержанную концепцию. Стоуолл подчеркивает стремление
Паррингтона дать картину развития национальной литературы в США в связи
с развитием американского общества.
В 1958 г. труд Паррингтона был переиздан. Это убедительно доказывает, что
книги по истории литературы США, вышедшие после 1930 г., не заслонили со-
бой капитальную работу Паррингтона и не могут заменить ее.
«Основные течения американской мысли»— одно из наиболее серьезных,
компетентных американских литературоведческих изданий. Советскому чита-
телю будет интересно и полезно познакомиться с большим фактическим мате-
риалом, который собран в этой книге.
1962
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ И ЕГО «СТАРИК И МОРЕ»
Когда мы узнали о трагической смерти Эрнеста Хемингуэя, многим каза-
лось, что погиб не просто замечательный современный писатель, а близкий че-
ловек, чьи победы и поражения, успехи и неудачи мы принимали близко к сер-
дцу. Что-то большое и честное ушло вместе с Хемингуэем из того угрюмого
и несправедливого мира, в котором он жил. Замолчал художник, чутко откли-
кавшийся на бурные события нашего века, остро чувствовавший трагедию
трудового люда в странах капитализма, неустанно искавший новых художест-
венных средств для создания правдивой и полной картины нашего времени.
Эрнест Хемингуэй (1898—1961) вырос в семье доктора, в провинциальном
американском городке Ок-Парк. Тот, кто читал рассказы писателя о Нике
Адамсе, его отце и друзьях-индейцах, может, даже и не в полной мере ото-
ждествляя Ника с художником, представить себе мир отрочества Хемингуэя.
В этих рассказах настойчиво звучит тема связанности Ника с судьбами других
людей — белых, индейцев, негров, с которыми сталкивает его жизнь. Чужое
горе задевает сердце мальчика, близость к природе успокаивает, врачует
и воспитывает.
Домашняя опека угнетала подростка. Он несколько раз убегал из отчего
дома и странствовал, добывая себе пропитание мелкой поденной работой. Это
помогло ему уже в ранние годы узнать цену труда, тяжесть борьбы за сущест-
вование, ощутить горечь жизни в Штатах. Когда, закончив колледж в родном
городе, он уехал в Канзас-Сити и стал там репортером местной небольшой га-
зеты, у него уже было некоторое знание действительности и горячее желание
понять ее глубже. Так девятнадцатилетний Хемингуэй очутился на итальянском
фронте первой мировой войны — еще до того, как США официально стали
воюющей стороной. Служащий вспомогательного санитарного отряда, Хемин-
гуэй был тяжело ранен. После длительного пребывания в госпиталях, из-
мученный контузией, ранениями, тяжелыми операциями, Хемингуэй вернулся
в Штаты — но ненадолго: в качестве корреспондента одной канадской газеты
он вновь уехал в Европу и опять попал на войну. То была греко-турецкая война
1919—1922 гг., закончившаяся катастрофическим разгромом греческой армии.
Впечатления от того, что Хемингуэй увидел во время этой войны, были, видимо,
не менее сильными, чем впечатления от итальянского фронта. Остается только
пожалеть, что рукопись романа о греко-турецкой войне, написанного им по
свежей памяти,— первого романа Хемингуэя! — погибла. Военные корреспон-
денции Хемингуэя с греческого фронта, отдельные эпизоды, вошедшие в его
позднейшие сборники, поражают не только мастерством изображения, но и тем
народным аспектом, в котором показаны и кровавая трагедия греческого наро-
344
да, и вина его правительства, бросившего Грецию в преступную авантюру. Ви-
димо, именно в это время и на этой большой военной теме — теме страданий
народа— в корреспонденте Хемингуэе пробудился будущий великий писатель.
В начале 20-х годов Хемингуэй прочно обосновался в Париже. Отсюда он
выезжал в другие страны Европы, сотрясаемой толчками жестоких полити-
ческих кризисов,— в Италию, где к власти пришел фашизм, в Рур, разбойни-
чески оккупированный Антантой. Его репортажи тех лет говорят о мужающем
таланте подлинного художника XX в., чувствующего драматизм событий своего
времени, умеющего различить в трагедиях целых народов и личные трагедии,
судьбы простых людей, которые волнуют Хемингуэя все в большей мере.
В середине 20-х годов Хемингуэй отходит от работы в газетах. Он стано-
вится профессиональным литератором и быстро завоевывает признание
в кружке американских писателей, живших в те годы в Париже и группиро-
вавшихся вокруг Гертруды Стайн. Американские литературоведы охотно пре-
увеличивают роль этой писательницы и критика и в общем развитии литерату-
ры США, и, в частности, в развитии Хемингуэя. В кружке Стайн господствова-
ли ярко выраженные эстетские тенденции; именно Гертруда Стайн и ее едино-
мышленники незадолго перед тем «открыли» английского писателя Джеймса
Джойса и объявили его роман «Улисс» наивысшим достижением современной
литературы. Кружок Г. Стайн поддерживал и культивировал литературный
авторитет Эзры Паунда и Т. С. Элиота — двух поэтов, переселившихся из США
в Европу и ставших здесь общепризнанными мэтрами послевоенного модер-
низма. Г. Стайн и ее соратники увлеклись и «большим Хэмом», вообразив, что
он — их ученик, благодарный объект для воспитания в духе литературных са-
лонов Парижа.
Вслед за участниками кружка Г. Стайн многие американские литературо-
веды изображают Хемингуэя чуть ли не последователем этой писательницы,
кстати, ничем не замечательной в области художественного творчества, так как
ее основные интересы были сосредоточены на обсуждении и популяризации
очередных модернистских новинок.
Гораздо глубже судит о ранних произведениях Хемингуэя советский иссле-
дователь и переводчик И. А. Кашкин. «Хемингуэя тянуло в другую сторону,—
утверждает он с полным основанием,— сказывалась здоровая реалистическая
основа его дарования, и он вырвался из-под опеки модернистов» '.
Верно, сближение с салоном Г. Стайн кончилось решительным отходом от
него. Уже в самых ранних стихах Хемингуэя, написанных в те годы, когда он
только ищет себя и свой стиль, видно, как больно ранили молодого писателя
зловещие контрасты мира, в котором он жил.
В большую литературу Хемингуэй вошел во второй половине 20-х годов,
когда вслед за книгой рассказов «В наше время» (1924) появляются его первые
романы—«И восходит солнце» (1926; у нас он более известен под названием
«Фиеста») и «Прощай, оружие!» (1929). Эти романы дали повод к тому, что
Хемингуэя стали считать одним из наиболее выдающихся художников «по-
терянного поколения».
«Lost Generation»! С этим понятием связана деятельность многих писателей
20-х годов—«Три солдата» Джона Дос-Пассоса (1921), впоследствии разме-
нявшего свой талант на мелкую ренегатскую стряпню; «На Западном фронте
без перемен» Э. М. Ремарка (1929); «Смерть героя» Р. Олдингтона (1929)
и немало других книг повторяли на разные лады одну и ту же грозную и пе-
чальную песню — повествование о молодежи, расстрелянной в побоищах пер-
вой мировой войны, изувеченной, изверившейся и ожесточенной. Те ее пред-
ставители, которые добрели после окончания войны домой, ожесточились еще
больше, так как убедились, что страшные жертвы, понесенные человечеством
1 Хемингуэй Э. Избранные произведения: В 2 т. M.f 1959. T. 1. С. 7.
345
в годы войны, были бесцельными; на них разбогатели те, кто теперь, в послево-
енные годы справляли свое торжество. «Потерянное поколение» твердило
страшную правду об империалистической войне и требовало, чтобы ее не скры-
вали от народа; оно обвиняло и осуждало и тех, кто послал миллионы людей на
смерть, и тех, кто на этой смерти нажил миллионы в валюте любой империа-
листической державы. Но «потерянное поколение» не верило в действенность
борьбы против нее, заявляло о трагической безысходности своего положения,
а иногда бравировало своей горестной философией — в лучшем случае сто-
ической,— признававшей неизбежность новых мировых катаклизмов и новых
«потерянных поколений».
Действительно, судьба людей, обожженных войной, выбитых ею из колеи,
неизлечимо отравленных ее дыханием, стоит в центре обоих романов Хемин-
гуэя. В «Фиесте» много прекрасных, бурных сцен, изображающих испанский
народный праздник во всем его архаическом великолепии, на фоне которого так
жалки американские и европейские туристы. С этими эпизодами романа конт-
растируют иронические зарисовки Парижа с его кабаками, проститутками,
космополитическим смешением отбросов и бездельников всех стран мира. Ка-
залось бы, уже этого достаточно для того, чтобы сделать «Фиесту» книгой
страстной и грустной, полной терпкого ощущения послевоенной жизни.
Но самое важное в книге не эти живописные контрасты, а более глубокое
сопоставление жизни, которая течет, как ни в чем не бывало, и судьбы Джейка
Барнса, воплощающего в себе миллионы погибших и искалеченных жертв вой-
ны. Война изуродовала его, вычеркнула из числа нормальных людей, навсегда
заклеймила его печатью неполноценности. За уродством физическим приходит
уродство душевное: Джейк Барнс нравственно разрушается, опускается все
ниже. Он один из самых трагических героев «потерянного поколения». Он жи-
вет, пьет, курит, смеется — но он мертв, он разлагается; жизнь причиняет ему
одни страдания. Он томится по ее обычным, естественным радостям, которыми
живут все вокруг и которые запретны для него. Пожалуй, ни в одном из произ-
ведений «потерянного поколения» не была выражена с такой силой необрати-
мость потерь, нанесенных войной, неизлечимость ран, причиненных ею. Глубо-
кое неблагополучие послевоенной Европы, зыбкость мира, которым торопятся
насладиться выжившие, чувствуется в «Фиесте». А солнце все-таки восходит
над этим печальным и жалким миром!
Исповедь Барнса была изложена в той новой манере письма, какую принято
называть «потоком сознания». Хемингуэй сделал ее средством реалистического
раскрытия душевной жизни своего героя, его сложных болезненных состояний
и конфликта с жизнью, в котором находится Барнс. Вместе с тем именно
в «Фиесте» Хемингуэй развил свое искусство подтекста — умение заставить
догадаться, о чем думают его герои, скрывая свои подлинные и часто страшные
или подлые мысли под тканью обычной речи, под дымкой обычных умолчаний
и вымученных оборотов. Глубокое психологическое мастерство было соединено
в «Фиесте» с великолепным изобилием зрительных образов, поражающей све-
жестью и смелостью в описании фиесты. Уже здесь народ, пьющий, танцующий,
показывающий неизбывную силу своей жизненности, выглядит веселящимся
титаном, подле которого так жалки и бесцветны Барнс, Бретт, Кон и другие
янки и англичане, глазеющие на праздник.
Тема «потерянного поколения» проходит и через роман «Прощай, оружие!».
Это роман о рождении и смерти большого человеческого чувства, роман о том,
как веселый лейтенант Генри стал одиноким и печальным вдовцом, коротаю-
щим свои дни на опустевшем швейцарском курорте. Но в романе заметно уг-
лубляется и другая тема, которая в «Фиесте» была только намечена в общих
чертах. Хемингуэй не просто показывает результаты войны, а осуждает импе-
риалистическую войну во всей ее повседневной гнусности, осуждает ее в окопах
и в госпитале, на передовой и в тылу. В романе нарастает тема протеста против
346
империалистической войны. Хемингуэй поднялся до правдивого изображения
стихийного антивоенного движения, зреющего в итальянской армии, жаждущей
мира. Отступающие толпы итальянских солдат — это не просто остатки раз-
громленных дивизий, это масса, в которой живут бунтарские настроения. Не-
даром кто-то из итальянских солдат, бредущих по дороге отступления, на воп-
рос о том, из какой он части, отвечает вызывающе — из бригады мира! С тем
большей ненавистью говорит Хемингуэй об итальянских офицерах и жандар-
мах, расстреливающих безоружную толпу беглецов, стихийно уходящих от
войны. Когда Генри, спасаясь от пуль карателей, дезертирует из армии, это
означает не просто его желание спастись; Генри выходит из империалисти-
ческой войны, осудив ее в душе своей. И этим он делает решительный шаг
в сторону от тех героев «потерянного поколения», которые позволяли убить себя
или искалечить, но еще не помышляли о бунте — даже таком индивидуальном
бунте, каким было бегство Генри.
Бунт Генри наивен и бесполезен. Он не спас своего счастья: его возлюблен-
ная Кэтрин умирает, сам он непоправимо ранен этой смертью и чувствует себя
опустошенным, никому не нужным, смертельно одиноким. Но и в этом финале
была своя художественная правда — она вела писателя уже за пределы осоз-
нанного трагического одиночества, в котором томится Генри.
Тема народа, явственно звучавшая в праздничных сценах «Фиесты», в от-
рывках из греко-турецкой эпопеи, разбросанных среди рассказов Хемингуэя,
выросла в романе «Прощай, оружие!» в широкую картину народа на войне,
воплотилась во множество солдатских образов — усталых, страдающих, но
и гневных, полных нарастающей силы протеста. В толпе солдат Генри не чув-
ствует себя одиноким.
Переломное значение романа «Прощай, оружие!» в творческом развитии
писателя очевидно. Именно после него Хемингуэй выбирает тот новый и не-
обычный для признанного писателя образ жизни, который отдалил его от бур-
жуазной литературной среды с ее мелкими дрязгами и страстишками, от ба-
нальной дороги преуспевающего литератора. Хемингуэй поселился в Ки-
Уэсте — курортном городке на юге Флориды, лежащем на берегу океана. От-
сюда он совершал свои длительные поездки по Европе и Африке — поездки
охотника, рыболова, спортсмена и всегда талантливого наблюдателя жизни,
познающего все полнее, как тяжка она для простого человека, вынужденного
трудиться на других, чтобы заработать себе кусок хлеба. Простого человека мы
встречаем во множестве образов в новых книгах Хемингуэя — это испанцы-
тореро и их сподвижники в книге «Смерть после полудня» (1932), в которой
с таким блеском изображены все опасности, кроющиеся в бое быков для тех,
кто принимает в нем участие. Это суровые и обездоленные люди из сборника
рассказов «Победитель не получает ничего» (1933), чье угрюмое название —
как и весь рассказ, по которому названа книга,— напоминает читателю о глу-
бинах отчаяния, спокойного и холодного, в которые опускался Хемингуэй, не-
редко размышляя об участи стойких и смелых людей, все же вынужденных
пасть в непосильной борьбе с обстоятельствами, с беспощадными силами. Так
персонифицировалась несправедливость общественного строя, рабами которого
были герои Хемингуэя и он сам. Наконец, это африканские охотники, егери,
рискующие жизнью на потеху богатым бездельникам, полагающим, что про-
вести охотничий сезон в Найроби — верх шика, полуголодные и голодные хо-
зяева черного континента, где хозяйничают белые, пестрая толпа персонажей
«Зеленых холмов Африки» (1935). В этом обширном дневнике Хемингуэй как
бы подчеркнуто отдаляется от буржуазной действительности с ее цивилизацией,
комфортом, пошлостью, вежливой бесчеловечностью. В написанном несколько
позже замечательном рассказе Хемингуэя «Снега Килиманджаро»
(1936) американский писатель Гарри, умирая, вспоминает, как он надеялся, что
в Африке, куда он поехал с богатой и неприятной ему женщиной, «ему удастся
347
согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и трениру-
ется там, чтобы согнать жир с тела». «Зеленые холмы Африки» рассказывают
о том, как «сгонял с души жир» сам Хемингуэй: не только рискуя жизнью на
охоте, всматриваясь, как живут люди и звери среди «зеленых холмов Африки»,
но и размышляя о путях развития современной литературы, об ответственности
писателя перед своим временем. Недаром именно в этой книге Хемингуэй,
обычно очень скупой на литературные реминисценции, так много и так инте-
ресно говорит о своих литературных вкусах, о своем взгляде на развитие лите-
ратуры в США, о своей любви к русским писателям-классикам XIX в. За-
брошенный в этот заповедник, населенный львами, жирафами, буйволами, Хе-
мингуэй зачитывался «Севастопольскими рассказами» Толстого, и это было не
обращение к эпопее прошлых дней, гениально изображенной великим русским
художником, а поиски ответа на вопрос — как писать о грядущих великих боях
XX в., в которых, он чувствовал это, ему придется участвовать. В «Зеленых
холмах Африки» отразился большой и сложный этап развития Хемингуэя —
тот этап, на котором он окончательно осознал себя художником-реалистом, за-
нимающим определенное место в современном реалистическом искусстве.
Многие отрывки из этой книги звучат как своеобразная присяга на верность
жизненной правде. И нам отрадно знать, что среди свидетелей этой присяги мы
встречаем прежде всего имя Толстого, перед которым Хемингуэй преклонялся.
Вторая половина 30-х годов — примечательный период творческого разви-
тия писателя.
В новых произведениях Хемингуэя — в романе «Иметь и не иметь»
(1937), рассказах об Испании, в пьесе «Пятая колонна» (1938) —отразился
подъем критического реализма, который характерен в целом для литературы
США в 30-х годах и который отмечен появлением ряда выдающихся произве-
дений Джона Стейнбека, Синклера Льюиса, Эрскина Колдуэлла. Американский
реалистический роман 30-х годов — великое явление, выходящее за пределы
литературы США. Творчество Хемингуэя — одна из самых существенных сто-
рон этого явления.
Теперь Хемингуэй заговорил с поражающей прямотой и резкостью об аме-
риканской действительности и — шире — о буржуазном мире в целом. В рома-
не «Иметь и не иметь» тема его неразрешимых и непримиримых противоречий
была поставлена в обнаженной форме — весь мир разделился для писателя на
имущих и неимущих. В центре романа оказался конфликт богатства и нищеты.
Действующие лица его как бы разделены невидимой чертой своей принадлеж-
ностью к лагерю богатых или бедных. По ту сторону черты — бизнесмены, хо-
зяйничающие или прохлаждающиеся на Кубе, их развратные и пустые женщи-
ны, служащие им продажные душонки, вроде писателя Гордона. По эту сторо-
ну — Гарри Морган, его жена, его друзья, бедняки-кубинцы и американские
ветераны войны, фактически оказавшиеся на положении ссыльных, загнанных
подальше от больших городов, где они мозолили бы глаза своим присутствием
и своими демонстрациями. Умирающий Гарри Морган, участник изображаемой
в романе непрерывной войны имущих против неимущих, делает поздний, но
крайне важный вывод из всего своего горестного жизненного опыта: «Человек
один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один...» Вдумаемся в этот важный
оттенок предсмертного шепота Гарри Моргана: «Нельзя теперь, чтобы человек
один...» Когда «теперь»? Когда на человека особенно беспощадно давят те, кто
хочет закабалить его, лишить его последних человеческих прав? И когда чело-
век сознает, что в единении неимущих — сила? А это он осознал именно «те-
перь», в середине XX в. Ведь Гарри что-то слышал про социализм, про Совет-
скую Россию. Смутно, недоверчиво, но он воспринял эти вести о борьбе других
неимущих, таких же, как он, но посмевших взять в руки свои судьбы.
Гуманистическая линия в творчестве Хемингуэя наметилась еще в 20-х го-
дах. Глубоким состраданием к человеку были полны его первые романы, рас-
348
сказы и стихи. Гуманистично и понимание искусства в «Зеленых холмах Афри-
ки». Но в романе «Иметь и не иметь» гуманизм Хемингуэя явственно опреде-
лился, уточнился. Теперь это был гуманизм писателя, звавшего неимущих
к единству во имя их будущего, осуждавшего имущих. О том, какую силу при-
обрело это осуждение имущих и тех. кто им служит, говорят лучшие рассказы
30-х годов —«Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» (1936) и «Снега Кили-
манджаро», в которых американские туристы — персонажи, знакомые нам по
стольким другим рассказам Хемингуэя,— показаны в новом, яростно крити-
ческом освещении, беспощадном и в том случае, когда речь идет об избалован-
ной развратной представительнице американского «света», и в том, когда го-
ворится о горькой судьбе талантливого художника, торговавшего своим искус-
ством.
Активный демократический гуманизм, к которому повернул Хемингуэй
в середине 30-х годов, привел его в лагерь писателей-антифашистов. В герои-
ческую эпопею о борьбе испанского народа против фашизма, которую сложили
в середине нашего века десятки писателей и поэтов на разных языках мира,
Хемингуэй вписал едва ли не самые прекрасные страницы. Его небольшие рас-
сказы и очерки об испанской войне — подлинные образцы краткости и поэтич-
ности, шедевры малой эпической формы, проникнутые самыми благородными
и высокими чувствами нашего времени. Среди них выделяются высоким пафо-
сом и насыщенностью «Американский боец» (1937) и «Американцам, павшим
за Испанию» (1939) — произведения, проникнутые духом интернационализма,
замечательные доказательства того, как был высок творческий подъем, пере-
житый Хемингуэем под воздействием освободительной борьбы испанского
народа.
Многое в очаровании стиля Хемингуэя зависит от того, что его проза — это
проза поэта, знающего вес слова в полную меру. Талант Хемингуэя-поэта рас-
крылся с наибольшей остротой в его реквиеме по американцам, лежащим в ис-
панской земле. Когда повторяешь строки этого великолепного произведения,
невольно на память приходит лучшее из того, что было написано Гомером
Америки — Уолтом Уитменом — этим подлинным создателем национального
американского поэтического стиля. Хемингуэй со славой продолжил его тра-
диции.
Значительность подъема, пережитого Хемингуэем в Испании, видна и в его
пьесе «Пятая колонна». В ней писателю удалось показать битву за Мадрид в ее
живой сложности, в противоречиях, которые так затрудняли дело тех, кто ру-
ководил обороной Мадрида. Образы бойцов-антифашистов, созданные в этой
пьесе, особенно образ разведчика Макса, навсегда останутся выдающимся до-
стижением мировой литературы, как и та правда о людях вроде Ролингса, ко-
торая сказана в «Пятой колонне». Это была тяжелая правда о талантливых
людях, искренне увлеченных великим делом испанского народа и честно слу-
живших ему в те месяцы, но не выдержавших тяжелых испытаний, которые
выпали на долю испанского народа и его друзей позже, в пору, когда стало
определяться поражение республиканцев. Хемингуэй не говорит об этой эво-
люции Ролингса прямо. Наоборот, на словах Ролингс верен делу республики:
ведь он подписал контракт на пятьдесят лет необъявленных войн, которые
предстоит вести против старого мира. Но возможность перелома в Ролингсе все
время чувствуется в том, с какой неуверенностью, скрывая ее от других и от
себя, прислушивается он к самому себе и к своим словам. К сожалению, острая
противоречивость, угадывающаяся в Ролингсе, была свойственна и Хемингуэю.
С трагической силой сказалась она в романе «По ком звонит колокол» (1940).
Это волнующий рассказ о том, как американец Джордан помогает испан-
ским партизанам взорвать мост, имеющий стратегическое значение. От взрыва
моста зависит успех крупной наступательной операции республиканских войск.
349
Задача выполнена, мост взорван. Но наступление все равно не удается —
оно сорвано из-за плохой организации республиканской армии, как уверяет
Хемингуэй. Разброд царит и в партизанском отряде, куда пришел Джордан.
Призрак анархии, губящей великое дело революции, пятнающей его своими
эксцессами, встает перед Хемингуэем: такой представилась ему суровая ре-
альность войны в Испании. Бесчеловечны фашисты, но и восставший народ не
менее жесток. Над Испанией, над героями Хемингуэя нависает зловещая тень
поражения. Пугаясь ее, Джордан предпочитает умереть; когда отступающий
партизанский отряд попадает под огонь франкистов, раненый Джордан берется
прикрыть его отход, зная, что его ждет неминуемая смерть.
Да, конечно, в романе «По ком звонит колокол» сказались самые болезнен-
ные стороны противоречий писателя. Они все же сбили Хемингуэя с пути, на
который он вступил с середины 30-х годов и который вел художника к созданию
самых значительных его произведений. И при всем том неоспоримо гуманисти-
ческое значение образов борющегося народа, которые созданы в этом романе,
прежде всего образов партизанки Пилар, Ансельмо и Эль Сордо. В них Хемин-
гуэй вложил все то лучшее, что было у него как у художника, захваченного ге-
роической борьбой испанского народа. Ценность этих образов не только в гу-
манистическом содержании каждого из них, но и в богатстве чувств и мыслей,
которое обнаруживают Пилар, Ансельмо, Эль Сордо. Разве в переживаниях
мягкого и мудрого Ансельмо, беспощадно сражающегося с франкистами, не
выражен высокий гуманизм трудового человека, берущегося за оружие не для
личной мести и не для корыстной войны, а во имя высоких идеалов? Незабыва-
ема и сцена гибели отряда Эль Сордо, принимающего на себя удар франкист-
ских карателей, чтобы помочь отряду Джордана выполнить поставленную пе-
ред ним задачу.
Однако эти значительные образы воспринимаются в соотнесении с образом
главного героя книги — Джордана. От него никуда не денешься. Ведь Джордан
признается себе в том, что не верит в дело, во имя которого жертвует своей
жизнью и жизнями других. Он способен умереть за партизан и с партизанами.
Смерть Джордана показана как некое искупление невольной вины его; но в чем
же она состояла? Вероятно, в том, что он принял участие в схватке не на жизнь,
а на смерть, заранее не веря ни в победу, ни в самую необходимость этой
схватки. Черта, которая отделяет Джордана от партизан, заключается именно
в том, что Джордан все-таки пришелец в их среде, так и не сумевший слиться с
нею.
Конечно, Джордан не двойник писателя. Но он нередко выразитель взглядов
и суждений самого Хемингуэя. Поэтому подвиги партизан, их подлинный гу-
манизм, который так радостно пробивается сквозь густую и кровавую живопись
романа,— все это в значительной мере обесценено, снижено, дискредитировано
общим тоном повествования, навязчивыми сомнениями относительно того, не
будет ли новый общественный строй просто новым вариантом старых неспра-
ведливостей и жестокостей, трусливой мыслью о том, что жертвы, понесенные
народом, героичны, но напрасны.
Глубокая противоречивость романа открыто признана самим автором
в эпиграфе из Джона Донна — замечательного английского поэта XVII в. Хе-
мингуэй взял строки, в которых Донн высказывает мысль о том, что смерть
каждого человека — кем бы он ни был — есть смерть человека, и колокол зво-
нит всякий раз не только по «ушедшим», но и по тому миру, который погиб
вместе с ним. «Ушедших» в романе много: это и партизаны, павшие в битве за
мост и за лагерь Эль Сордо, это и франкисты, это и помещики, убитые кресть-
янами, это и родители испанской девушки Марии — возлюбленной Джордана,
расстрелянные франкистами, это и сам Джордан. Они все уравнены смертью,
которая в известной мере их и примиряет. Не случайна красноречивая де-
таль— франкистский офицер, пристреливая раненого партизана, крестится —
35П
и это не просто реальная черта, что-то дорисовывающая в облике фанатика-
наваррца, а и нечто большее, перекликающееся с эпиграфом, с жертвенностью
Джордана, которая порой близка к желанию покончить с собой, к поискам
смерти.
Иногда в спорах о романе «По ком звонит колокол» выдвигается такой те-
зис: но ведь героическая борьба испанского народа закончилась на тот раз —
в 1939 г.— поражением; чего же требовать от Хемингуэя и от его героя?
Джордан просто знает больше, чем партизаны, и видит, что война проиграна.
Это просто суровая правда, как она ни страшна.
Нет, этот довод фальшив. Ведь говорил Ролингс из «Пятой колонны» о том,
что впереди еще пятьдесят лет необъявленных войн и что он готов участвовать
в них. А Джордан сник, надломился: уже не о будущей борьбе думает он, а
о смерти, как почетном выходе из этой войны, будто он не знает, что эта вой-
на — только часть войны всемирной, то вспыхивающей, то временно затухаю-
щей, чтобы идти в иных формах. Конечно, изменилось отношение самого Хе-
мингуэя к испанской войне, о которой он так сильно и мужественно писал
в 1937—1938 гг., тоже, в общем, понимая всю серьезность положения в Ис-
пании.
Духовный кризис, который так чувствуется в сильном романе Хемингуэя,
оказался и длительным и роковым для писателя. Уйдя на время от прямой
поддержки антифашистского фронта, Хемингуэй уже не смог вернуться
к большим темам, характерным для его творчества в годы, когда оно вдохнов-
лялось борьбой народа против фашистской угрозы.
Во время второй мировой войны Хемингуэй выпустил антологию «Люди на
войне» (1942), тщательно составленную из отрывков произведений мировой
литературы — от Цезаря до наших дней,— посвященных войне. Было также
несколько вялых заметок в военной периодике. Летом 1944 г., сбежав из боль-
ницы, где он отлеживался после последствий автомобильной катастрофы, Хе-
мингуэй высадился с войсками союзников в Нормандии и затем участвовал
в освобождении Парижа в составе свободного французско-американского от-
ряда. Но что родилось из этого нового боевого опыта писателя — участника
войны против фашистской Германии? Из того, что издано с тех пор, пожалуй,
только наиболее горькие страницы его последнего законченного романа «Через
реку и к тем деревьям» ' (1950).
Сильная сторона этого романа — в той тени поражения, которая лежит на
всех аспектах американской послевоенной политики, изображенной Хемингуэ-
ем. Кантуэлл, старый боевой офицер, разжалованный из бригадных генералов
в полковники за операцию, которую проиграл не он, а бестолковое высшее на-
чальство, чувствует себя на «освобожденной» им земле — в Италии — незван-
ным и нежелательным чужаком. Земля горит у него под ногами. Он живет
в атмосфере враждебности и ненависти. Бредовые планы американского гене-
ралитета вызывают в Кантуэлле самое скептическое отношение. Деградируя,
становясь циником, считая, что вторая мировая война была недоразумением,
Кантуэлл говорит о «русских» с уважением, хотя и прибавляет, что воевать
с «русскими» придется. Однако не случайно повторяет он фразу, которая по-
ставлена в заголовок книги —«Через реку и к тем деревьям». Эти слова —
предсмертный бред знаменитого участника гражданской войны в США генера-
ла Джексона Каменная Стена, любимого героя южан. Умирая на столе поле-
вого госпиталя от раны, генерал Джексон твердил этот последний приказ своей
коннице. Но она уже не успела выполнить его. Бормотание обреченного на
смерть генерала, погибшего в борьбе за неправое дело,— вот лейтмотив разду-
мий и мыслей Кантуэлла. Зловещий лейтмотив! Но сколько в этом романе са-
моповторений, длиннот, лишних сцен, затянутых описаний! Порою кажется, что
1 В русском переводе «За рекой, в тени деревьев». М., 1961.
351
Хемингуэю изменило его чувство меры, его постоянное стремление к сжатости
и точности, его великолепная требовательность к себе. Ни действительно боль-
ших проблем, ни действительно крупных характеров, ни новых художественных
открытий не принес с собой последний роман Хемингуэя, как и большинство тех
мелких его рассказов, которые иногда появлялись в печати в 50-х годах, как
и отрывок из его новой книги об Испании «Опасное лето» (1960), в которой
опять быки, опять тореро, опять зеваки-американцы — все то, что мы знаем по
«Фиесте» и что в «Фиесте» играло живыми красками первого впечатления, за-
владевшего душой молодого талантливого художника.
Нельзя без острого волнения читать книгу «Праздник, который всегда с то-
бой» (1964) — по существу исповедь о ранних годах творчества писателя, про-
низанную сдержанным, типичным для него лиризмом, но и эта замечательная
книга только объясняет и комментирует, уже не принося ничего нового в мир,
созданный Хемингуэем. Возможно, в сейфах жены писателя еще лежат руко-
писи, которые, будучи опубликованы, опять поразят и увлекут тем новым, что
дорого нам в лучших книгах нашего покойного друга. Будем ждать и не терять
надежды. Но тем ярче на печальном фоне позднего творчества Хемингуэя вы-
деляется повесть «Старик и море» (1952).
В ней еще раз — и как сильно, как своеобразно — сказалась верность пи-
сателя народу, его глубокое, любовное уважение к простому человеку, к тру-
женику, ведущему тяжкую, полную лишений и опасностей жизнь. Образ ста-
рого рыбака Сант-Яго достойно продолжает лучшие традиции демократи-
ческого искусства Хемингуэя, сказавшиеся в образах партизанки Пилар, глу-
хого Эль Сордо, крестьянина Ансельмо. Вот где в полную меру обнаруживалась
важность тех достижений, которые все же были в романе «По ком звонит ко-
локол». Завершая вереницу народных образов, созданных Хемингуэем, старый
Сант-Яго — это и самый значительный, самый героический, самый цельный
народный образ его творчества. Он велик в своей простоте, в своей жизненной
мудрости, в своей скромности, в своей гордой бедности. Сант-Яго способен на
подлинный подвиг: писатель хочет сказать, что вся жизнь его — такая же, как
жизнь тысяч других рыбаков Кубы — была подвигом. Один из дней этой жизни,
одна из битв, в которой сказалось все мужество Сант-Яго, показаны в повести.
Полуголодный, ослабевший, одинокий,— ведь от общества мальчика Ма-
нолина он отказался, потому что стал «невезучим» стариком,— Сант-Яго «так
никогда и не терял ни надежды, ни веры в будущее». Заброшенный в необоз-
римых водных просторах, втянутый в единоборство с могучей гигантской рыбой,
а потом — в кровавую драку со стаей акул, старик проявляет всю свою энер-
гию, все неистощимые силы своей души. Сколько высокой гордости в его сло-
вах —«человек не для того создан, чтобы терпеть поражение, человека можно
уничтожить, но его нельзя победить». Сант-Яго твердит эти гордые слова, но
в родной порт он приходит только с остовом гигантской рыбы — свидетельством
своего поражения. Казалось бы, он положен на обе лопатки, уничтожен. Но
нет: он полон веры в себя, убежден, что просто в чем-то просчитался: «Кто же
тебя победил, старик?»— спрашивает себя Сант-Яго — и отвечает с велико-
лепным презрением к своим многочисленным и могучим противникам: —«Ник-
то... Просто я слишком далеко ушел в море». Таков Сант-Яго даже в минуту
поражения.
Любуясь этим поистине эпическим образом, невольно вспоминаешь неболь-
шой газетный очерк Хемингуэя, в котором еще в 1936 г. мелькнул набросок по-
вести «Старик и море». Рассказ о старом рыбаке в этом наброске, который на-
зывался «На голубой струе», заканчивался образом человека, раздавленного
и убитого своим несчастьем. «Когда его подобрали рыбаки, старик рыдал, по-
луобезумев от своей потери, а тем временем акулы все еще ходили вокруг его
лодки». Нельзя не заметить огромную, принципиальную разницу между кон-
цовкой заметки и финалом повести «Старик и море». В этом различии отра-
352
зился весь путь художника, поднявшегося в одном из своих последних произ-
ведений до такого совершенного обобщения, каков образ Сант-Яго,— образ
непобежденного, непобедимого народа.
Вместе с тем это просто старик, доверчивый, трогательный, обманывающий
своего маленького друга: Манолин отлично понимает, что Сант-Яго лжет, когда
хвастается обедом, которого у него не было, и отказывается от его помощи
якобы потому, что не нуждается в ней. Сант-Яго смотрит на своего друга-
мальчика «воспаленными от солнца, доверчивыми, любящими глазами...».
Сколько в этой детали подлинной любви к самому старику — любви, жившей
в сердце Хемингуэя. И тем больнее отзываются в душе читателя слова, с кото-
рыми Сант-Яго обращается к себе самому в тяжелую минуту: «Ты устал, ста-
рик. Душа у тебя устала». Нет — говорит Хемингуэй — не устала эта душа, все
еще помнящая Африку «своей юности», все еще грезящая о львах и чужих
прекрасных берегах, куда водил он когда-то свои корабли. Это душа народа,
она не может устать.
Конечно, величественный и человечный образ Сант-Яго, как и образ его
маленького друга,— замечательные художественные обобщения, в которых от-
разились многолетние думы и наблюдения Хемингуэя, сказалась завоеванная
им близость к простым людям, которые ценили его дружбу, открывали ему свое
сердце, дарили его своим доверием. Но нет сомнения и в том, что кубинская
основа повести «Старик и море»— это не только кубинский пейзаж, кубинский
колорит, кубинские реалии. Это и нечто большее — в повести в целом и прежде
всего в образах Сант-Яго и Манолина живет неповторимая атмосфера народ-
ной Кубы. В героях запечатлены черты кубинского народа, с которым так
сжился писатель.
Долгие годы, проведенные Хемингуэем на Кубе, где он поселился еще во
время войны, сделали этот остров второй родиной писателя, о чем не раз не-
доброжелательно писали в американской прессе. Начиная с романа «Иметь
и не иметь», судьба народа Кубы, судьба американцев, связанных с нею, были
заметной темой творчества Хемингуэя. Несколько рассказов о кубинских рево-
люционерах, появлявшихся время от времени в 50-х годах, повесть «Старик
и море», высказывания писателя о Кубе и его отношении к революции 1959 г.—
все это, взятое в целом, составляет своеобразную кубинскую эпопею в твор-
честве Хемингуэя или, может быть, является фрагментами какого-то большого
произведения, о котором мы когда-нибудь все же узнаем.
Один из мастеров критического реализма XX в., Хемингуэй открыл немало
новых творческих перспектив, углубил и разработал средства психологического
письма, обогатил возможности новеллы и романа, нашел новые пути в совре-
менной драме. Но его достижения были завоеваны ценой постоянного упорного
взыскательного труда. Он шел вперед, не довольствуясь достигнутым, разве-
дывал новые творческие дороги, отказывался от того, что казалось ему уже
устаревшим или незрелым в собственном художественном опыте. «Старик
и море»— замечательное выражение неустанных творческих поисков писателя.
Хотя повесть и тесно связана со многими лучшими произведениями Хемингуэя
и с наиболее ценными сторонами его мастерства, сказавшимися в изображении
народа в более ранних его произведениях, но есть в ней и многое, что отличает
ее от обычной манеры писателя. Недаром некоторые исследователи называют
эту повесть «притчей». Действительно, вполне реалистическое повествование
о старом рыбаке имеет, очевидно, и некий более широкий, более обобщенный
смысл. Разве это просто рассказ о неудачном рейсе старого рыбака, о его уди-
вительном поединке с гигантской рыбой? Ведь именно таким обычным расска-
зом о случае, хотя и удивительном, но все же и не сверхъестественным для ры-
бачьего поселка, был очерк «На голубой струе». Разница между очерком и по-
вестью «Старик и море» не только в том, что во втором случае перед нами —
художественное обобщение, а не просто отчет об интересном происшествии, но
353
еще и в том, что самое происшествие изображено и истолковано особым обра-
зом. Конечно, поединок Сант-Яго с морем и рыбой — это не только повесть
о смелом старом рыбаке, а и иносказательное изображение гигантских конф-
ликтов нашего времени, полное сочувствия к тем силам, которые воплощает
в себе Сант-Яго,— к силам народа, растрачиваемым, гибнущим, но непобеди-
мым в конечном счете. Не раз и не два терпел и будет терпеть поражения народ
в борьбе за свою правду, за свою участь. Но недаром Сант-Яго твердит о том,
что человек рождается не для того, чтобы быть побежденным. Не повторяет ли
эти слова вместе с ним и Хемингуэй? Да и нет ли собственных его черт в облике
Сант-Яго? На одной из фотографий Хемингуэй снялся рядом с рыбой, которую
он поймал в океане. Это чудовище, поставленное на нос, оказалось в полтора
раза выше самого писателя, который, щурясь из-под своей рыбачьей шапчонки,
гордо смотрит на зрителя. Наверное, и сам Хемингуэй находил новые силы для
творчества и для жизни, веря в силу и человечность людей, подобный Сант-Яго.
Из этой веры и родился титанический образ старого рыбака, напоминающий
добрых и грозных библейских старцев Микеланджело. Для Хемингуэя и этот
образ и вся манера повествования были каким-то новым этапом творческого
развития, важным шагом вперед, обогащением его реалистического искусства.
И как изменился стиль Хемингуэя: родилась медленно текущая, напряженная,
плавная эпическая фраза, с четко ощущающимся ритмом, короткая, резко от-
теняющая повествовательные разделы от диалога, в котором многое сказано.
Впрочем, диалог обычен там, где старик разговаривает с мальчиком, с другими
рыбаками или там, где говорят остальные персонажи повести. Когда же Сант-
Яго беседует сам с собой или ведет долгие разговоры с рыбой, он произносит
великолепные монологи, полные трагического содержания; весь характер стиля
меняется, появляются торжественные и поэтически звучащие фразы, отвечаю-
щие тому эпическому тону, который задан первыми абзацами повести и кото-
рый служит стилистическим лейтмотивом всего произведения, обрамляет его.
«Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят
четыре дня он ходил в море и не поймал ни одной рыбы». Так начинается
«Старик и море», начинается и очень просто, и довольно таинственно. Гольф-
стрим — великое теплое течение; соответственно представлению о его жизне-
творной силе и образ старика, одиноко заброшенного в Гольфстриме, вырастает
в некий сказочный образ смелого рыбака, чьи силы достойны великого теплого
течения. Затем появляется неожиданная цифра «восемьдесят четыре дня», за-
гадочная и особо убедительная в силу своей точности. Атмосфера необычай-
ности усиливается и тем, что за все эти дни не поймал он ни одной рыбы. Дей-
ствительно, начало для притчи, а не для рассказа в духе критического реализма
XX в. И столь же торжественно, столь же удивительно заканчивается этот рас-
сказ: вслед за прерванной болтовней туристов и официанта, которая сразу же
вводит нас в знакомый тон обычного диалога, специфического для Хемингуэя,
звучит фраза, в которой все слова взвешены и расставлены так, что она властно
напоминает нам первую фразу повести: «Наверху, в своей хижине, старик опять
спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились
львы». Вот этими львиными снами — снами великого охотника, мужественного
борца с жизнью — заканчивается суровая и мужественная притча Хемингуэя,
внешне обычная, по существу — полная иносказаний и смелых реалистических
обобщений. Контуры этих обобщений смелее и огромнее, чем все, что когда-
либо сделано этим замечательным писателем.
Смелый новатор, Хемингуэй в своей притче следует доброй национальной
традиции литературы США. Столетие тому назад гениальный Герман Мелвилл
в своей странной эпопее «Моби Дик» создал тоже грандиозное иносказательное
повествование о борьбе человека с могучими силами зла, в существе которых не
могут разобраться герои Мелвилла,— как и Сант-Яго. В конце прошлого века
талантливый юноша Стивен Крейн, которого высоко ценил Хемингуэй, написал
354
потрясающий по сдержанной силе рассказ «В шлюпке» о том, как несколько
моряков в течение долгих часов вели отчаянную борьбу за свою жизнь с раз-
бушевавшимся океаном. Хемингуэй особо отметил именно этот рассказ Крейна,
в котором тоже явственно проступали черты притчи о несгибаемости человека,
о его победе над силами смерти и разрушения, грозящими гибелью.
Конечно, притчи Мелвилла и Крейна написаны в присущем им духе. Они
далеки от повести Хемингуэя в плане буквального сопоставления. Здесь важно
не оно, а те общие черты жанра, которые намечаются у Мелвилла и, развива-
ясь, идут от Крейна к Хемингуэю, изменяясь сообразно индивидуальной твор-
ческой манере каждого из них.
«Старик и море»— свидетельство неисчерпаемого богатства новых тем
и новых художественных средств, которые таит в себе реалистическое искусство
нашего века. Вместе с тем это свидетельство тесной связи могучего таланта
Хемингуэя с народом... (...) «Старик и море» навсегда останется выражением
его любви к народу, его знания самых ценных тайников народной души.
Есть глубокий смысл в том, что народ свободной Кубы бережно хранит дом
Хемингуэя — последнее жилище Большого Человека, отважного воина, неуто-
мимого путешественника, ненасытного жизнелюбца, создавшего книги, которые
надолго запомнятся людям.
1963
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПЕЧАТНЫХ РАБОТ Р. М. САМАРИНА
1. Учебники
Виппер Ю. Б., Самарин Р. М. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVIII века. М.,
1954. Основные черты историко-литературного процесса XVII века в странах Западной Европы,
с. 5—68. Английская литература, с. 71—218. Испанская литература, с. 641—734. Немецкая лите-
ратура, с. 737—813.
Курс лекций по истории зарубежных литератур XX века. М., 1965. Т. 1 Немецкая литература
1871 — 1917, с. 277—289. Английская литература 1871-1917, с. 311—338. Мария Конопницкая,
с. 597—608.
Артамонов С. Д., Самарин Р. М. История зарубежной литературы XVII века. М., 1958. Анг-
лийская литература, с. 266—319.
История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века (1871 —1917). М., 1968. Не-
мецкая литература, с. 310—355. Джек Лондон, с. 499—511.
История зарубежной литературы XIX века. М., 1970. Кн. 1. Ч. 2. Французская литература
30—40-х годов, с. 25—33.
2. Монографии
Реализм Шекспира. М., 1964.
Творчество Джона Мильтона. М., 1964.
«...Этот честный метод...» (К истории реализма в западноевропейских литературах). М., 1974.
3. Статьи в академических изданиях историй
английской, немецкой, французской литератур
Китс//История английской литературы. М., 1953. Т. 2. Вып. 1. С. 130—152.
Озерная школа//История английской литературы. М., 1953. Т. 2. Вып. 1. С. 64—102.
Томас Мур, Вильям Хэзлитт, В. С. Лэндор и Ли Гент//История английской литературы. М.,
1953. Т. 2. Вып. 1. С. 103—129.
Бальзак//История французской литературы. М., 1956. Т. 2. 1789—1870. С. 504—510 (ч. 5, гл.
10).
Пумпянский Л. В., Самарин Р. М. Введение (к разделу: Литература XVII века)//История не-
мецкой литературы; В 5 т. М., 1962. Т. 1. С. 355—363.
И. X. Гюнтер//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1962. Т. 1. С. 443—449.
Самарин Р. М.. Тураев С. В. Творчество Гёте веймарского периода//История немецкой литера-
туры: В 5 т. М., 1963. Т. 2. С. 399—434.
Самарин Р. М., Тураев С. В. «Фауст» Гёте//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1963. Т. 2.
С. 435—443.
Алексис//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 491—494.
Самарин Р. М., Тураев С. В. Великая французская революция и немецкая литература. История
немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 5—26.
Неустроев В. П., Самарин Р. М. В. П. Гауф//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966.
Т. 3. С. 256—265.
Клейст//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 178—190.
«Трагедия рока»//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 279—281.
Уланд и «швабская школа»//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 248—256.
Шамиссо//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 231—243.
Эйхендорф//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 244—247.
Рейтер//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1968. Т. 4. С. 118—129.
Литература 50— 60-х годов//История немецкой литературы: В 5 т. М., 1968. Т. 4. С. 15—32.
Литература после воссоединения Германии (70—80-е годы) //История немецкой литературы:
В 5 т. М., 1968. Т. 4. С. 152—161.
Конрад Фердинанд Мейер//Литература Швейцарии. Очерки. М., 1969. С. 177—204.
4. Статьи по романо-германской филологии
и сравнительному литературоведению
Творчество Дж. Мильтона в оценке Пушкина//Доклады и сообщения филол. ф-та (Московский
ун-т). 1948. С. 62—70.
Вальтер Скотт и его роман «Айвенго»//Скотт В. Айвенго. М.; Л., 1953. С. 3—20.
356
M. M. Морозов. 1897—1952//Морозов M. M. Избранные статьи и переводы. M., 1954. С. 3—18.
Предисловие/ZDeutsche Novellen des 19 Jahrhunderts. M., 1955. С. 3—29.
Капитан Майн Рид.//Рид Т. М. Соч.: В 6 т. М., 1956. Т. 1. С. 3—31.
Южноафриканская трилогия Майн Рида//Рид Т. М. Соч.: В 6 т. М., 1957. Т. 4. С. 754—760.
К вопросу о Бальзаке — литературном критике//Вестник Московского ун-та. 1957. Ист.-филол.
сер. № 1. С. 141 — 159.
К проблеме реализма в западноевропейских литературах эпохи Возрождения//Вопр. литерату-
ры. 1957. № 5. С. 40—62.
Письма Шиллера//Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1957. Т. 7. С. 613—636.
Самарин Р. М., Тураев С. В. Современная немецкая литература//Литература Германской Де-
мократической республики: Сб. статей. М., 1958. С. 3—85.
К проблеме реализма в западноевропейских литературах эпохи Возрождения//Проблемы реа-
лизма в мировой литературе. М., 1959. С. 369—399.
Правда о Меринге и легенда о Меринге//Вопр. литературы. 1959. № 12. С. 207—210.
Изучение литературы Германской Демократической Республики в СССР//Изв. АН СССР. Отд.
лит. и яз. 1959. Т. 18. Вып. 1. С. 508—515.
Настоящее и фальшивое (Заметки о творчестве Э. М. Ремарка и его романе «Триумфальная
арка»)//Молодой коммунист. 1960. № 5. С. 112—117.
Против тех, кто сеет смерть//Иностр. литература. 1960. № 8. С. 200—209.
Джек Лоняон//Лондон Д. Собр. соч.: В 14 т. М., 1961. Т. 1. С. 3—36.
О современном состоянии сравнительного изучения литератур в зарубежной науке//Взаимо-
связи и взаимодействие национальных литератур. Материалы дискуссии. 11 —15 января 1960 г. М.,
1961. С. 80—110.
Десятая шекспироведческая конференция в Стратфорде//Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1962.
Т. 21. Вып. 1. С. 83—87.
Выступление на заседании подсекции «История славянских литератур XVIII—XIX вв. и их
связей»//1У Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962. Т. 1: Проблемы ли-
тературоведения, фольклористики и стилистики. С. 597—600.
Проблемы гуманизма в современной литературе капиталистических стран//Гуманизм и совре-
менная литература. М., 1963. С. 168—215.
Бехер в борьбе против модернизма//Вопр. литературы. 1964. № 9. С. 147—169.
Пример Луначарского//Иностр. литература. 1964. № 2. С. 198—207.
Проблема натурализма в литературе США и развитие американского романа на рубеже XIX—
XX веков//Проблемы истории литературы США. М.т 1964. С. 287—346.
Ганс Вернер Рихтер и его роман «Линус Флек»//Рихтер Г. В. Линус Флек, или утраченное до-
стоинство. М., 1965. С. 5—15.
Советская критика о социалистическом реализме в зарубежных странах//Советское литерату-
роведение за пятьдесят лет. М., 1967. С. 483—512.
Шекспир и проблема синтеза в литературах Возрождения//Литература эпохи Возрождения
и проблемы всемирной литературы. М.? 1967. С. 438—459.
Шота Руставели и всемирный литературный процесс XII века//Мнатоби. 1967. № 2. С. 158—
164 (на груз. яз.).
Артур Шницлер/ / Шницлер А. Жена мудреца: Новеллы и повести. М., 1967. С. 3—16.
Данте в трудах А. И. Белецкого//Дантовские чтения. М., 1968. С. 130—133.
О МОРПе и задачах его изучения//Литературное наследство. М., 1969. Т. 31: Из истории меж-
дународного объединения революционных писателей (МОРП). С. 7—10.
Самарин Р. М., Юрьева Л. M. М. Горький и мировой литературный процесс//Зарубежные ли-
тературы и современность. М., 1970. Вып. 1. С. 57—87.
Современный милитаристский роман в США//Проблемы литературы США XX века. М., 1970.
С. 5-19.
Т. С. Элиот//Иностр. литература. 1970. № 12. С. 221—223.
Вольфганг Кёппен и его романы//Кёппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме. М., 1972.
С. 5—15.
Предисловие//Бредель В. Избранное. М., 1972. С. 5—17.
Эпопея в литературах социалистического реализма: Научная конференция «Советская лите-
ратура и мировой литературный процесс». М., 1972.
Наследие Энгельса и некоторые проблемы исследования литературы эпохи Возрождения//
Фридрих Энгельс и вопросы литературы. М., 1973. С. 5—26.
РОМАН МИХАЙЛОВИЧ САМАРИН
Р. М. Самарин (1911 —1974) родился в Харькове в семье учителя-словесни-
ка. В 1933 г. он окончил литературно-лингвистический факультет Харьковского
пединститута. Его педагогическая деятельность началась еще в студенческие
годы: он преподавал русский, немецкий и украинский языки в высших и средних
учебных заведениях Харькова. По окончании института Р. М. Самарин читал
лекции по зарубежной литературе.
В 1940 г. Р. М. Самарин защитил кандидатскую диссертацию «Трагические
поэмы» Агриппы д'Обинье», в которой по-новому, свежо было рассмотрено
творчество крупнейшего поэта Франции эпохи религиозных войн второй поло-
вины XVI в.
В 1941 —1943 гг. Р. М. Самарин преподавал в Томском университете, а
с 1944 г.— в МГУ. Он читал лекции также в Московском педагогическом ин-
ституте имени В. И. Ленина, в Военном институте иностранных языков, в Ин-
ституте международных отношений.
С 1948 г. Р. М. Самарин — заведующий кафедрой истории зарубежной ли-
тературы МГУ. В этом же году он защитил докторскую диссертацию о твор-
честве Мильтона, переработанную затем в книгу. Р. М. Самарин читал студен-
там все основные курсы — от Возрождения до новейшей литературы XX столе-
тия и курс истории зарубежной критики. Прирожденный педагог, великолепный
оратор, он не мыслил себе работу вне общения с аудиторией, со студентами.
При этом с 1956 по 1961 г. он был деканом филологического факультета МГУ,
а позже возглавлял отдел истории зарубежных литератур Института мировой
литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР.
Необычайно широк круг научных интересов Р. М. Самарина. Ему принад-
лежит более 200 печатных работ на русском и иностранных языках. Это работы
о Шекспире, Мильтоне и д'Обинье, Гете и Шиллере, Бальзаке, Гюго и Золя,
Донне и Киплинге, Т. Манне, Бехере и Ремарке, Лондоне и Хемингуэе, Горьком
и Луначарском, работы о взаимосвязях литератур. Именно широта научных
взглядов, интерес к различным национальным литературам позволили воз-
главляемой Р. М. Самариным кафедре истории зарубежной литературы МГУ
расширить свои «географические границы», включить в орбиту исследований
славянские и балканские литературы. Внимание к организации изучения этих
литератур привело также к созданию в составе сектора истории зарубежных
литератур ИМЛИ специальной группы, преобразованной позже в отдельный
сектор.
Р. М. Самарин — прекрасный организатор научной работы. Его энергия
и опыт помогли созданию и успешному завершению многих научных начинаний.
Он — один из руководителей и ведущих авторов «Истории немецкой литерату-
ры», «Истории зарубежной литературы XX века», «Истории всемирной литера-
358
туры». Ему принадлежат многие главы в различных учебниках и учебных по-
собиях. Р. М. Самарин являлся членом редколлегии «Литературной газеты»,
журналов «Известия Академии наук СССР (серия литературы и языка)»;
«Вестник Московского университета», «Филологические науки», «Литератур-
ного наследства», а также других периодических изданий.
Не только советские, но и зарубежные ученые ряда стран высоко ценили
энциклопедические знания Р. М. Самарина, его огромную эрудицию. Он был
избран членом-корреспондентом Академии искусств ГДР и почетным доктором
Лейпцигского университета имени К. Маркса. Р. М. Самарин был награжден
орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом ГДР «Знамя труда»
и Золотым знаком Общества германо-советской дружбы. Это — свидетельство
признания неоспоримых заслуг ученого в деле изучения немецкой литературы.
Р. М. Самарин был постоянным сотрудником бальзаковского ежегодника
L'année Balzacienne (Париж) и обзоров по шекспироведению Shakespeare
Survey (Стратфорд-на-Эйвоне).
359
О НАУЧНЫХ ТРУДАХ
ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА
РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА САМАРИНА1
Доктор филологических наук, профессор Р. М. Самарин — ученый большого
творческого диапазона. Его перу принадлежит свыше двухсот печатных работ,
которые посвящены в основном четырем национальным литературам: англий-
ской, немецкой, французской, американской. Труды профессора Р. М. Самарина
отличаются не только многообразием проблематики и многогранностью по-
ставленных в них исследовательских задач, но и широтой с точки зрения хроно-
логического охвата материала. Ученый обращается к изучению литературных
явлений, порожденных весьма различными историческими эпохами, начиная от
раннего средневековья и кончая животрепещущими проблемами идеологической
борьбы и художественной жизни наших дней. Вместе с тем научная деятельность
Р. М. Самарина, при всей своей поистине энциклопедической многосторонности,
обладает отчетливо выраженным внутренним единством и целенаправленностью.
На протяжении более чем 30-летней исследовательской деятельности ученый
оставался верным нескольким основным научным темам, которые неизменно
привлекали к себе его внимание и последовательно, углубленно им разрабатыва-
лись. Так, например, одной из таких сквозных линий, пронизывающих творче-
ский путь Р. М. Самарина-исследователя, является живой интерес к истории
становления и развития больших, монументальных эпических форм в литерату-
ре. Эта линия берет свое начало с напечатанной в 1940 г. статьи «Проблема
анализа «Песни о Роланде», а также с группы работ, посвященных «Трагиче-
ским поэмам» Агриппы д'Обинье. Она ведет затем к циклу исследований,
сосредоточенных вокруг поэзии Джона Мильтона и его «Потерянного рая» (этот
цикл увенчивает опубликованная в 1961 г. книга «Творчество Джона Мильто-
на») , тянется дальше к научным этюдам, объектом которых является романисти-
ка Бальзака, и находит свое завершение в серии статей о современном немецком
романе («Проблемы реализма в современной немецкой литературе» и другие
работы).
Для Р. М. Самарина как исследователя характерно глубокое и органическое
сочетание в освещении литературного процесса прошлого аспекта исторического
и аспекта теоретического. Эта особенность научного мышления ученого чрезвы-
чайно плодотворно сказалась, например, в той группе его работ, которые
посвящены осмыслению закономерностей развития реализма в западноевропей-
ских литературах. Внимание ученого в данной связи привлекали следующие
этапы этого развития: реализм эпохи Возрождения (книга «Реализм Шекс-
пира», статьи «Реализм эпохи Возрождения», «Реализм и другие течения
в западноевропейской литературе эпохи Возрождения», «Шекспир и проблема
синтеза в литературах Возрождения» и т. д.), реалистические аспекты литерату-
ры XVII столетия («Проблемы реализма в западноевропейских литературах
1 Написано в 1970 г. Печатается с разрешения комиссии по литературному наследию Б. Л. Суч-
кова.
360
XVII века»), критический реализм. Из целого ряда исследований здесь следует
выделить имеющую теоретическое значение работу «О. Бальзак и французское
рабочее движение 1830—1840-х годов»: она не только вошла в классический
фонд наших лучших литературоведческих исследований творчества великого
французского романиста, но и приобрела широкую известность на родине писа-
теля. Примечательны также и некоторые работы, посвященные ученым в по-
следнее время существенным аспектам развития немецкого критического реа-
лизма XIX—XX вв.: главы о таких крупных, но недостаточно изученных у нас
писателях, как Рейтер и Шторм в IV томе «Истории немецкой литературы»,
разделы, характеризующие творческий путь Томаса и Генриха Маннов и других
писателей в вузовском учебнике истории зарубежных литератур конца XIX—
XX в.; и, наконец, социалистический реализм. Немаловажное принципиальное
значение имеют также в этой связи такие доклады и статьи Р. М. Самарина, как
«Октябрьская революция и мировой литературный процесс», «Наследие Горько-
го и мировой литературный процесс» и др.
В своей научной работе Р. М. Самарин уделял много внимания проблеме
национальной специфики литературного развития. В то же самое время для него
характерно стремление искать решение этой проблемы на путях широкого по
охвату материала, сравнительно-исторического изучения литературного про-
цесса в отдельных странах Запада.
Следует выделить еще одну тему, систематическая и плодотворная разра-
ботка которой имеет немаловажное значение в творческой биографии Р. М. Са-
марина. Это — значительный цикл работ, посвященных истории литературной
критики и литературоведческой мысли. В этом плане обращают на себя внима-
ние такие примечательные и яркие работы, как книга «Концепция мировой
литературы Горького», как статья «Западноевропейская литература пер-
вой половины XIX века в оценке В. Г. Белинского», «Пример Луначарско-
го» и т. д.
Характеризуя деятельность Р. М. Самарина как ученого, нельзя не отметить
исключительное, если так можно сказать, жанровое многообразие его печатных
работ. Талант Р. М. Самарина — крупного ученого-марксиста, одинаково ярко
проявляется и в фундаментальном, вобравшем в себя обширнейший научный
материал исследований вроде монографии «Творчество Джона Мильтона»,
которая обогатила наши представления об идейно-художественном содержании
XVII в. в английской литературе, и в небольших по объему, но насыщенных
острым, боевым, научно-публицистическим содержанием, темпераментно напи-
санных статьях-очерках.
Р. М. Самарин не только блестящий ученый-исследователь, но и велико-
лепный, обладающий большим размахом и неутомимой энергией организатор
научной работы. Творческая инициатива и опыт Р. М. Самарина способствовали
успешному завершению многих научных начинаний. В качестве организатора
и редактора он принимал самое деятельное участие в целом ряде коллективных
трудов, осуществленных в Институте мировой литературы имени А. М. Горького
АН CCCR
Р. М. Самарин содействовал организационному укреплению некоторых
относительно новых отраслей марксистского литературоведения, оказав,
в частности, значительную помощь в создании группы по изучению литератур
социалистических стран, литературы США. Многое сделано Р. М. Самариным
и для упрочения научных контактов с зарубежными учеными.
В лице Р. М. Самарина гармонически соединяются ученый-исследователь
и педагог — воспитатель молодых научных кадров. Много сил и энергии вло-
жил Р. М. Самарин в педагогическую работу, которой он начал заниматься еще
в 1931 г., а также в важное и трудоемкое дело по созданию предназначенных для
высшей школы учебных пособий по истории зарубежных литератур. Основным
полем его педагогической деятельности являлся филологический факультет
361
Московского университета. Он был в течение ряда лет деканом этого факульте-
та. На этом же факультете он многие годы заведовал кафедрой истории зару-
бежных литератур. Р. М. Самарин — один из наиболее популярных и любимых
студентами лекторов филологического факультета МГУ. Многие сотни студен-
тов-филологов приобщались к литературоведческой науке, слушая его содержа-
тельные и блестящие по форме курсы, читая принадлежащие его перу главы
в различных учебных пособиях по истории зарубежных литератур XVII—XX вв.,
занимаясь под его руководством в научных семинарах, получая его щедрые
консультации по своим дипломным сочинениям. Свыше 30 аспирантов, научным
руководителем которых являлся Р. М. Самарин, успешно защитили свои канди-
датские диссертации.
Б. Л. Сучков
член-корреспондент АН СССР,
доктор филологических наук
362
Указатель имен
Аввакум 72
Аддисон Дж. 99, 120
Аксаков К- С. 129, 166
Алеман-и-де-Энеро М. 75
Альберт Ахенский 19
Амаду Ж. 246
Андерсен-Нексе М. 250, 289
Андреев Л. Г. 4
Апиц Б. 291
Аполлинер Г. 7, 257, 258
Априлов В. 165
Арагон Л. 241, 242, 246, 254, 255, 258, 259, 260,
269, 272
Арго 194
Ариосто Л. 119, 166, 195
Аристотель 74, 113
Аристофан 167
Арндт Э. 151
Арним Л. 175
Артюс 42
Базиле Дж. 84
Байрон Дж. Г. 7, 105, 117, 122, 127, 135, 138,
139, 140, 142, 143, 155, 156, 157, 159, 160, 161,
164, 167, 168, 169, 180—199, 195, 209
Балашова Т. В. 238
Бальзак О. де 5, 135, 136, 141, 144, 147,
148, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 210,
212, 221—236, 311, 358, 360
Баратынский Е. А. 127, 166, 167
Барбье О. 35, 69, 136
Барбюс А. 250, 260
Барклай Д. 89, 90
Бартель см. Куба
Батлер С. 84
Бедье Ж. 31
Без Т. де 35, 41, 42, 44, 114
Белецкий А. И. 74, 356
Белинский В. Г. 5, 6, 15, 66, 73, 103, 107, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127,
128, 129, 130, 132, 133—170, 186, 200, 201, 210,
212, 222, 266, 280, 361
Беллами Э. 323, 342
Белло Р. 49
Бен А. 73
Бенедиктов В. Г. 129
Бенн Г. 273, 277
Беньян Дж. 72, 76, 81, 83, 339
Беранже П. 135, 136, 147, 155, 156, 164, 169,
212, 280
Бергер У. 292
Бернар Ш. 162
Бертон Р. 84
Бестужев-Марлинский А. А. 126
Бехер Й. 6, 17, 239, 246, 250, 254, 255, 256, 259,
260—283, 285, 258
Бёлль Г. 249
Берне Л. 151
Бичер-Стоу Г. 315, 335, 337, 341, 342
Благой Д. Д. 81
Блейк У. 102
Блер Э. см. Оруэлл Джордж
Блок А. А. 186, 281
Боден Ж. 36
Бодлер Ш. 216
Бодмер И. 120
Бодянский О. М. 165
Боккаччо Д. 195
Бомарше П. 167
Бомонт Ф. 63
Боричевский Н. 164
Боткин В. П. 159, 160, 162
Бо Цзюй И. 16
Брандес Г. 343
Бредель В. 7, 241, 283—290
Брекенридж X. X. 339
Бремер Ф. 155
Брентано К- 175
Бретон А. 258
Брехт Б. 17, 242, 246
Бронте Ш. 221
Буало Н. 70, 85
Булгарин Ф. В. 138, 144, 149, 152, 168
Буркхардт Я. 12, 13, 14
Буслаев Ф. И. 20, 21
Буш Д. 101
Бьюкенен Р. 36
Бэкон Ф. 6, 54
Бэнкс Т. Г. 101, 102
Бэрд Р. М. 337
Бюргер Г. 125
Вайнерт Э. 256
Валери П. 250, 272, 273
Варнгаген фон Энзе К- 169
Васе 18, 34
Вега Карпьо Л. Ф. де 70, 71, 84
Веерт Г. 157, 223
Вейзе X. 76, 81
Вейраух В. 256
Велес де Гевара Л. 75, 82, 83
Венгеров С. А. 130, 135, 165
Венелин Ю. И. (Г. И.) 164, 165
Верг Д. 310, 315
Вергилий М. П. 30, 118
Верлен П. 251
Верхарн Э. 240
Веселовский А. Н. 34
Виланд X. 171
Вильям-Вильмонт H. Н. 127, 132
Виньи А. де 117, 145, 146, 147, 148
Вольтер Ф. 69, 105, 119, 120, 140, 159, 166, 167,
195
Вольф Ф. 285
Вондел Й. ван ден 85
Вордсворт У. 100
Боровский В. В. 247
363
Галлам Г. 10
Ганка В. 165
Гаркнесс М. 221, 224, 225
Гарленд X. 308, 309, 311, 313, 315—318, 324,
335, 342
Гаррисон У. 338, 341
Гаскелл Э. 221
Гаунтман X. 291
Гауптман Г. 309, 310, 313
Гевара Л. см. Белее де Гевара Л.
Гегель Г. 151, 169, 266
Гейгер Л. 13
Гейне Г. 66, 135, 137, 138, 152, 155, 156, 157,
164, 169
Гейслер К. 253
Гейдерлин И. 268, 280
Гент Ли 186, 356
Георге С. 257, 271
Герцен А. И. 126, 127, 128, 133, 149, 150, 151,
168, 210, 213, 214
Гёте И. 65, 66, 67, 87, 117, 124, 126, 130, 134,
135, 136, 137, 142, 149, 150, 151, 152, 153, 157,
167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 199, 248, 266,
268, 270, 277, 278, 280, 290, 358
Гиссинг Дж. 310
Гнедич Н. И. 116, 117
Гоббс Т. 73, 81
Гоголь Н. В. 118, 119, 126, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 152, 154, 166
Голдинг У. 243
Гольдони К. 172
Гомер 30, 117, 166
Гонгора-и-Арготе Л. де 71, 74
Гонкур Ж. 216, 309, 310, 313, 319
Гонкур Э. 216, 309, 310, 313, 319
Гораций Ф. 74
Горький А. М. 16, 66, 115, 130, 209, 222, 240,
241, 246, 247, 249, 250, 251, 260, 270, 321,
358, 361
Гофман Э. 135, 136, 138
Грамши А. 250
Грановский Т. Н. 165
Грант Р. 342
Грасиан-и-Моралес Б. 71, 85
Грегор М. 297, 298, 299
Греч Н. И. 138, 144, 149, 152, 167
Григорьев А. А. 168
Гриммельсгаузен Г. 72, 73, 76, 78, 80, 81, 83, 84,
270, 280
Грин Г. 249
Грирсон Г. 100, 101, 115
Грифиус А. 97, 280
Гроот де (Гроциус) 113
Грот Я. К. 168
Груффуд ан Артур (Готфрид из Монмаута) 34
Грюн К- 151, 152
Губер Э. И. 149, 168
Гуттен У. фон 51, 167
Гэд Р. 76
Гюго В. 7, 35, 69, 117, 135, 136, 140, 148,
211—221, 259, 319, 358
Гюисманс Ж. К. 310, 314
Давенант У. 113
Данилин Ю. И. 241
Данте А. 195, 269
Дауден Д. 122
Дембовский Э. 133
Депорт Ф. 69
Державин Г. Р. 127
Дефо Д. 70, 79
Дефорест Дж. 341
Джеймс Г. 308, 309, 312, 314
Джефферсон Т. 329, 330, 331, 332, 337
Джойс Дж. 251, 252, 253, 254, 273
Джонс Э. 223
Джонсон Б. 101, ПО
Джонсон С. 115
Джонсон Т. 122, 343
Дизраэли Б. 120
Диккенс Ч. 80, 117, 122, 134, 135, 136, 141, 155,
156, 160, 161, 162, 164, 169, 184, 221, 222, 223
Д. M 94 95 96 97
Добролюбова. А. 103, 128, 129, 133
Донн Д. 71, 122, 358
Донской М. 64
Дорлеан Л. 46
Дос-Пассос Дж. 345
Достоевский Ф. М. 129, 130
Драйден Дж. 110, 122
Драйзер Т. 240, 307, 308, 309, 311, 324, 325, 327,
328, 342
Дюкре-Дюмениль Г. 146
Дюма А. (Дюма-отец) 135, 136, 155
Дюплесси-Морней Ф. де 39, 40
Дюранти Л. 216
Егоров О. В. 238
Жан Поль 135, 136
Жанен Ж. 144, 145, 169
Жанлис М. 146
Жид А. 250
Жуковский В. А. 124, 125, 126, 129, 139, 149
Золя Э. 216, 309—312, 314, 318, 319, 358
Ибсен Г. 309, 310
Иващенко А. Ф. 84, 134, 163, 260
Иобст Г. 291
Ирвинг В. 337, 340
Кальвин Ж. 36, 44, 46, 96
Камю А. 247
Кант И. 266
Кантемир А. Д. 105
Караджич В. С. 133, 165
Карамзин H. М. 116
Катон Старший 98
Катулл Г. В. 98
Каутская М. 131
Кафка Ф. 7, 251, 252, 253, 255, 256, 262
Кашкин И. А. 345
Кеведо-и-Вильегас Ф. 71, 74, 75, 78, 79, 80,
81, 83
Кейзин А. 327
Келлер Г. 269
Келлерман Б. 292
Кеннеди Д. 337, 342
Кернер X. 151
Кёппен В. 7, 249, 253, 299—307
Киплинг Р. 320, 321, 358
Ките Д. 105
Кларендон Э. X. 84
Клейст Г. фон 5, 138, 170-180
Клингер Ф. 130
364
Клоп шток Ф. 120
Козлов И. И. 208
Кок П. де 135
Колдуэлл Э. 348
Коллар Я. 133
Колридж С. 116, 120, 122, 197, 198
Конгрив У. ПО
Копитар В. 165
Коттен М. 146
Коттон Дж. 328
Краус К. 271
Крейн С. 308, 309, 311, 312, 314, 324, 325,
342, 355
Кроче Б. 343
Куба 256, 283
Кукольник Н. В. 154
Купер Ф. 155, 156, 162, 337, 340, 341
Курелла А. 239
Куше Л. 291
Кэнби Г. 343
Кюхельбекер В. К. 117, 126, 187
Ла-Боэси Э. 36, 42
Лабрюйер Ж. де 84
Лаланн Л. 37
Ламартин А. 146
Ланге Ю. 36, 43
Ла Планш Р. 42
Ларошфуко Ф. де 84
Лассаль Ф. 11, 16, 51, 67
Лафайет М. де 73, 76, 84
Лафонтен Ж. 70
Ледиг Г. 299
Лемонье К. 310
Ленин В. И. 15, 104, 154, 221, 222, 225, 237, 240,
262, 263, 265, 268. 320, 322, 330, 358
Лени Я. 130
Леонов Л. М. 243
Лермонтов М. Ю. 153, 167, 201
Лессинг Г. 67, 126, 128. 168, 169, 173
Ливис Ф. 100, 101
Лильберн Дж. 339
Лихачев Д. С. 244
Логау Ф. фон 92, 94, 95, 96, 97, 98
Лонгфелло Г. 343
Лондон Дж. 307, 309, 311, 312, 320—326, 328,
335, 342, 358
Лопе де Вега см. Вега Карпьо Л. Ф. де
Лотайссен Ф. 122
Лоэнштейн Д. фон 73
Луговской В. А. 194
Лукач Г. (Д.) 179, 180
Лукиан 167
Луначарский А. В. 7, 103, 131, 247, 250, 255,
258, 360
Льюис К. 100, 101
Льюис С. 327, 335, 342, 348
Любке В. 13
Лютер М. 11, 44, 175
Люше О. 146, 147, 148
Майков В. Н. 168
Маколей Т. Б. 120, 122
Малерб Ф. 69, 70
Малларме С. 273
Мандзони А. 138. 139, 140, 143, 160
Манн Г. 241, 249, 301, 306, 310, 361
Манн Т. 7, 74, 75, 80, 240, 241, 248, 249, 251,
307, 358, 361
Маркс К. 9, 12, 13, 16, 40, 45, 51, 59, 66, 67, 103,
114, 120, 124, 129, 131, 137, 153, 154, 155, 157,
187, 190, 200, 202, 207, 210, 221, 224, 225, 226,
233, 234, 235, 237, 246, 263, 265, 317, 320, 330,
332 358
Марло К- 53, 57, 58, 65
Маро К- 44
Мартен дю Гар Р. 241, 249
Марциал М. 98
Маршак С. Я. 66, 185
Массой Л. 120, 122
Маурер Г. 269, 283
Маяковский В. В. 242, 248, 250, 272
Межелайтис Э. 246
Мезер И. 328
Мезер К- 328
Мезер Р. 328
Мейлер 273
Меланхтон Ф. 13
Мелвилл Г. 325, 337, 338, 340, 341, 354, 355
Менендес Пидаль Р. 71, 74
Манцель В. 149, 151, 152, 153, 156
Мериме П. 135, 199, 212, 216
Меринг Ф. 179, 180
Мерри М. 100, 101
Мессинджер Ф. 53
Мильтон Дж. 5, 6, 7, 73, 99, 100—123, 198, 358,
360, 361
Митчелл М. 331
Мицкевич А. 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
142, 143, 158, 160, 164, 169
Мишо Р. 311
Мольер Ж.-Б. 70, 84, 134, 171
Мопассан Г. де 310
Мор Т. 15
Морозов А. А. 72, 84
Мошерош И. 75, 78
Мур Дж. 309
Мур Т. 139, 183, 185, 187
Мьюир К. 101
Мюллер А. 171, 175
Мюнцер Т. И, 14, 281
Навои А. 16
Надеж дин Н. И. 139, 140, 146, 148, 168
Найт В. 101
Нахбар Г. 291
Нейхауз В. 292
Неруда П. 246, 272
Нигелл Э. 22, 31
Низами Г. 16
Николюкин А. Н. 238
Ницше Ф. 248, 275, 295, 320, 324, 325
Новалис 138
Нолль Д. 5, 290—299
Норрис Ф. 307, 308, 309, 311—326, 335, 342
Обинье Т. А. д' 5, 7, 34—53, 69, 70, 75, 83, 358,
360
Обрадович Д. 133
Овербери Т. 84
Огарев Н. П. 126
Олдингтон Р. 345
Ольмеда М. 75
Омар Хайям 16
Онебринк Л. 312
Опиц М. 5, 85—95, 97
365
Оруэлл Джордж 138, 272
Отман А. 47
Отман Ж. 47
Отман Ф. 35, 36, 41, 42, 47
Отфрид 45
Парнах В. 38
Паррингтон В. Л. 5, 315, 326—344
Паскье Э. 44, 45
Пассера Ж. 44, 45, 49
Паунд Э. 251, 345
Пейн Т. 339, 340
Пепис С. 84
Перрон Ж. дю 39
Петрарка Ф. 195
Петров П. Я. 118
Пинский Л. Е. 70
Пинус С. 34
Плетнев П. А. 168
Плутарх 60, 61
По Э. 329, 336, 340, 341
Пожанский Г. 30
Полевой Н. А. 138, 158, 168
Поп А. 137, 198
Потье Э. 156, 223
Прас М. 71
Прескотт У. 336
Пруст М. 7, 251, 252, 253, 254, 273
Пти-Дютайе Ш. 32, 33
Пуришев Б. И. 35, 72, 82
Пушкин А. С. 66, 81, 103, 108, 117, 123, 126, 127,
135, 137, 138, 141, 142, 144, 152, 153, 154, 158,
159, 160, 161, 164, 167, 186, 199, 201, 252, 290
Рабле Ф. 13, 44, 105
Радищев А. Н. 103, 105
Раммлер К. 98
Рапэн Н. 44
Расин Ж. 84, 212
Раупах Э. 139
Рейтер X. 76, 83, 361
Рейхлин И. 13
Ремарк Э. М. 247, 299, 345, 358
Рембо А. 258, 259
Ренье М. 42
Рид Дж. 239, 250, 323, 326
Рильке Р. М. 282
Рихтер Г. 252, 299
Рихтер И. П. см.. Жан Поль
Розанов M. Н. 130
Роллан Р. 7, 240, 250
Ронсар П. де 41, 47, 48, 49, 50, 51
Рудаки А. 16
Русакова А. В. 8
Румер О. 95, 96
Руссо Ж.-Ж. 159, 166, 170, 195
Рылеев К. Ф. 186
Савельев-Рости ел а вич Н. В. 165
Сад Д. маркиз де 216
Садовяну М. 243, 249
Салтыков-Щедрин H. Е. 129, 133, 218, 222
Санд Жорж 135, 136, 137, 148, 149, 154, 155,
156, 161, 162, 164, 168, 221
Саути Р. 136, 159, 184
Сахаров П. 164
Свендсен К. 101, 102
Свифт Дж. 119, 159, 166, 184
Се дул и й Скотт 31
Сельвинский И. Л. 282
Сенека Л. А. (младший) 58
Сенковский О. И. 139^ 144, 145, 149, 152, 168
Сент-Бев Ш. О. 169
Сен-Жон Перо 244
Сен-Симон А. 231
Серафимович А. С. 287
Сервантес Сааведра М. 13, 15, 16, 70, 73, 74,
84, 105, 119, 134, 141, 166
Серр Ж. де 41
Сидней Ф. 86
Симмс У. 337, 342
Симонов К- М. 243
Синклер Э. 307, 308, 309, 322, 323, 327, 342
Сисмонди Ж. 10
Скаррон П. 70, 75, 76, 79, 84
Скотт В. 7, 8, 135, 136, 137, 139, 142, 143, 144,
156, 157, 162, 166, 199—211, 234, 319, 341
Скюдери Ж. 76
Скюдери М. де 73, 76
Смирнов А. А. 57
Смит Б. 343
Смит Дж. 75, 78, 79
Смолетт Т. 184
Сноу Ч. 249
Сократ 167
Соловьев С. М. 165
Солорсано А. 84
Сора Д. 100, 101
Сорель Ш. 75, 76
Софокл 91, 92
Спенсер Э. 86, 196, 198, 320, 324, 325
Спиллер Р. 343
Стайн Г. 345
Стейнбек Дж. 249, 323, 348
Стендаль 68, 135, 141, 144, 199, 212, 222, 223,
225
Стерн Л. 119, 159, 166
Стивене Дж. 84
Стиль А. 99
Стоуолл Ф. 343, 344
Сучков Б. Л. 362
С хольте ^Л 7Q
СюЭ. 135, 136, 137, 153, 154, 155, 156, 157, 163,
168, 169
Тарловский М. 282
Тассо Т. 119, 195
Тауфер И. 269
Твен М. 307, 308, 315, 317, 330, 337, 341, 342
Тегнер Э. 135, 136, 138, 140
Теккерей У. 81, 184, 221, 222, 223
Тик Л. 138, 159, 172
Тильярд Э. 100
Толстой А. Н. 130, 131, 243
Толстой Л. Н. 141, 221, 222, 252, 309, 314, 321,
348
Торо Г. 337, 340
Тори В. 343
Тургенев И. С. 141, 321
Тухольский К. 306
Тэн И. 122
Тютчев Ф. И. 7
Узин В. С. 63
Уилсон Э. 243
Уинтроп Дж. 328
Уитмен У. 244, 336, 337, 342
Уиттьер Дж. 335, 340, 341, 342
366
Уичерли У. ПО
Ульрих Брауншвейгский 79
Уэллс Г. 239, 240
Фадеев А. А. 287
Ф. Г. 76
Федин К. А. 131
Фейхтвангер Л. 241
Филдинг Г. 80, 184
Фихте И. 168
Фишер В. 311
Фишер Э. 264
Фишман О. Л. 72
Флеминг П. 92, 93, 94, 95, 97
Флетчер Джон 63
Флетчер Джайлс 112
Флетчер Ф. 112
Флобер Г. 216, 309
Фогель Ф. 291
Фойгт Г. 13, 14
Фокс Р. 241, 250, 252, 260, 323
Фолкнер У. 253, 254
Франклин Б. 339, 340
Франс А. 239, 240
Фредерик X. 308, 309, 311, 312, 313
Фрейд 3. 248, 252, 258
Френо Ф. 339, 340
Френч Б. П. 101
Фрид Э. 257
Фуллер Г. Б. 342
Фурманов Д. А. 287
Фучик Ю. 260
Фюман Ф. 283, 291
Фюретьер А. 70, 76, 80, 82, 83
Фюрнберг Л. 283
Хайдеггер М. 274
Хайсенбюттель X. 256
Хаксли О. 272
Харрингтон Дж. 339
Харт Дж. 311, 312
Хемингуэй Э. 5, 7, 241, 247, 249, 253, 344—355,
358
Херасков M. М. 105
Хермлин С. 282, 283
Хермсдорф К. 253, 256
Херрик Р. 308, 309, 312, 313
Хилдрет Р. 340
Холиншед Р. 57
Холодковский Н. А. 108, 185
Хоуэлс У. Д. 308, 309, 314, 323, 335
Хэзлитт У. 116, 120
Хенфорд Д. X. 102, 103
Цвейг А. 243, 249
Цезарь Г. Ю. 351
Цезен У. фон 73
Циммерман В. 10
Цшокке Г. 171
Челаковский Ф. Л. 133
Чернышевский Н. Г. 103, 124, 128, 129, 132, 133,
208, 222, 266, 332
Чуминз О. 182
Шаль Ф. 169
Шандье л а Рош 42
Шанфлери 216
Шатобриан Ф. де 105, 116, 119, 120, 135, 146,
158, 159
Шафарик П. 165
Шахов А. А. 130
Шевырев С. П. 117, 138, 139, 142, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 168
Шекспир У. 6, 11, 13, 15, 16, 53—68, 73, 84, 105,
ПО, 122, 134, 141, 144, 150, 151, 155, 169, 172,
192, 198, 200, 212, 271, 358, 360
Шелли П. Б. 105, 115, 116, 120, 121, 122, 182,
186, 187, 198, 209
Шеллинг Ф. 169
Шенгели Г. А. 190, 195, 196
Шиллер Ф. 7, 87, 93, 124—139, 142, 152, 155,
171, 172, 248, 268, 270, 358
Шиллер Ф. П. 123, 131, 241, 312
Шлегель А. В. 150, 159
Шолохов М. А. 242, 290
Шопенгауэр А. 275
Шоу Б. 239, 240, 309
Шпенглер О. 248
Шторм Т. 361
Эленшлегер Э. 138. 140
Элиот Т. С. 54, 100, 101, 247, 250, 272, 273, 345
Элюар П. 7, 254, 258, 259, 260
Эмерсон Р. У. 328, 340
Энгельс Ф. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 45,
51, 59, 65, 66, 67, 77, 104, 108, 120, 124, 129, 131,
137, 151, 152, 154, 155, 157, 187, 190, 200, 202,
207, 209, 210, 221, 224, 225, 227, 233, 234, 235,
263, 265, 317, 330
Эразм Роттердамский 44, 91
Эрль Дж. 84
Эспинель В. 75
Эсхил 172
Этьен А. 35, 41, 44
Этьен Р. 44
Юнгер Э. 273
Юнье Ж. 258
Юрфе О д' 70
Ярхо Б. 21
Ясперс К. 253
СОДЕРЖАНИЕ
От издательства 3
Предисловие 4
Литература средних веков и эпохи Возрождения
Наследие Ф. Энгельса и некоторые задачи исследования литературы эпохи Возрождения . . 9
«Песнь о Роланде» и проблемы литературного анализа 17
«Трагические поэмы» Агриппы д'Обинье на фоне публицистики его эпохи 34
Шекспир 53
Литература XVII —XVIII веков
Судьбы реализма в западноевропейских литературах XVII века 69
Мартин Опиц и поэты его школы 85
Джон Мильтон и споры о нем (к 350-летию со дня рождения) 99
Творчество Мильтона в оценке В. Г. Белинского 115
Шиллер в оценке передовой русской критики 123
Литература XIX века
Зарубежная литература первой половины XIX века в оценке В. Г. Белинского 133
Генрих фон Клейст i 70
Байрон и его поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» 180
Вальтер Скотт и его роман «Роб Рой» 199
Виктор Гюго 211
Бальзаки французское рабочее движение 30—40-х годов XIX века 221
Литература XX века
Октябрьская революция и зарубежный литературный процесс 237
Проблема традиции и новаторства в западноевропейской литературе 1920—1930-х гг. . . . 247
Эстетическая программа Бехера 260
Философская поэзия Иоганнеса Бехера 278
Вилли Бредель 283
Дитер Нолль и его роман [«Приключения Вернера Хольта»] 290
Против тех, кто сеет смерть [Роман В. Кёппена «Смерть в Риме»] 299
Проблема натурализма в литературе США и развитие американского романа на рубеже
XIX-XX веков 307
О книге В. Л. Паррингтона «Основные течения американской мысли» 326
Эрнест Хемингуэй и его «Старик и море» 344
Краткая библиография печатных работ Р. М. Самарина 356
Роман Михайлович Самарин 358
О научных трудах доктора филологических наук, профессора Романа Михайловича Сама-
рина 360
Указатель имен 363
Учебное издание
Роман Михайлович Самарин
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Заведующий редакцией Г. Н. Усков. Редактор Н. А. Захарова. Младший редактор М. А. Журбенко.
Художник А. В. Алексеев. Художественный редактор М. Г. Мицкевич. Технический редактор
Э. М. Чижевский. Корректоры В. И. Власова и Г. А. Усенко.
И Б № 5580
Изд. № ЛЖ-32. Сдано в набор 24.07.86. Подп. в печать 21.01.87. А-03321. Формат 70Х lOO'/is- Бум. офс.
№ 1. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Объем 29,9 усл. печ. л. 59,8 усл. кр.-отт. 33,35 уч.-изд. л.
Тираж 50 000 экз. Зак. № 509. Цена 1 р. 50 к.
Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-тех-
ническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном ко-
митете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкалов-
ский пр., 15.
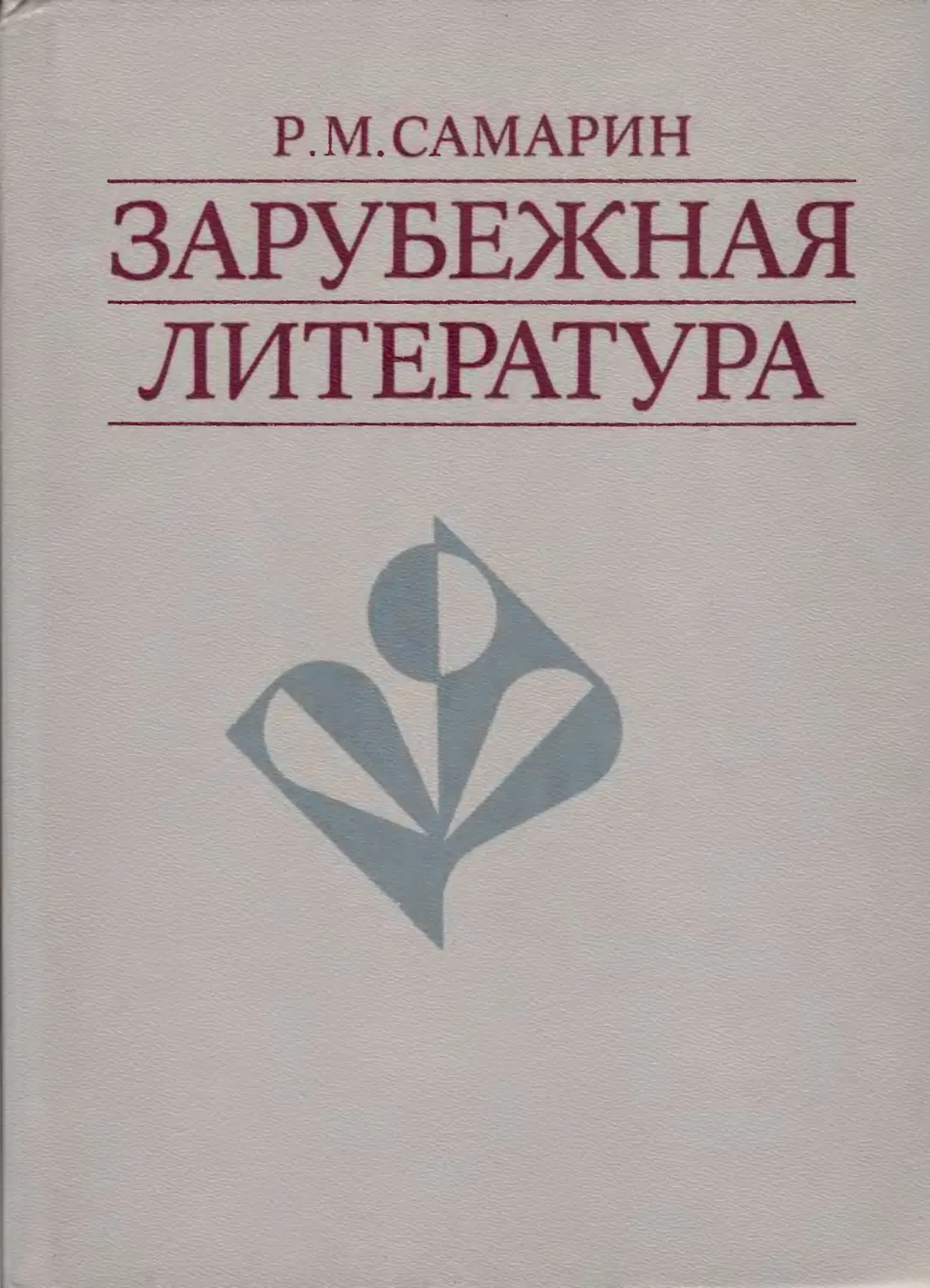


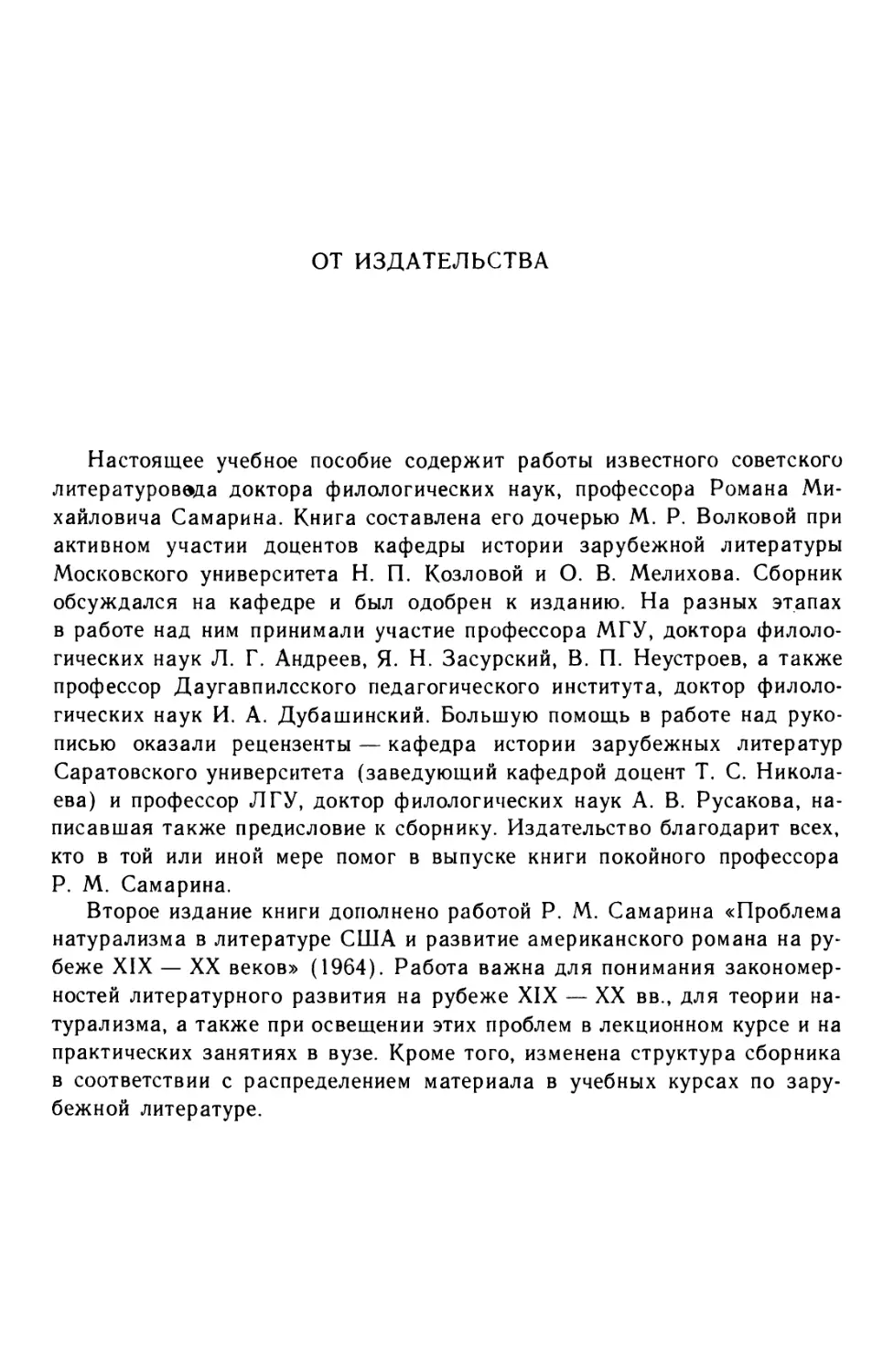
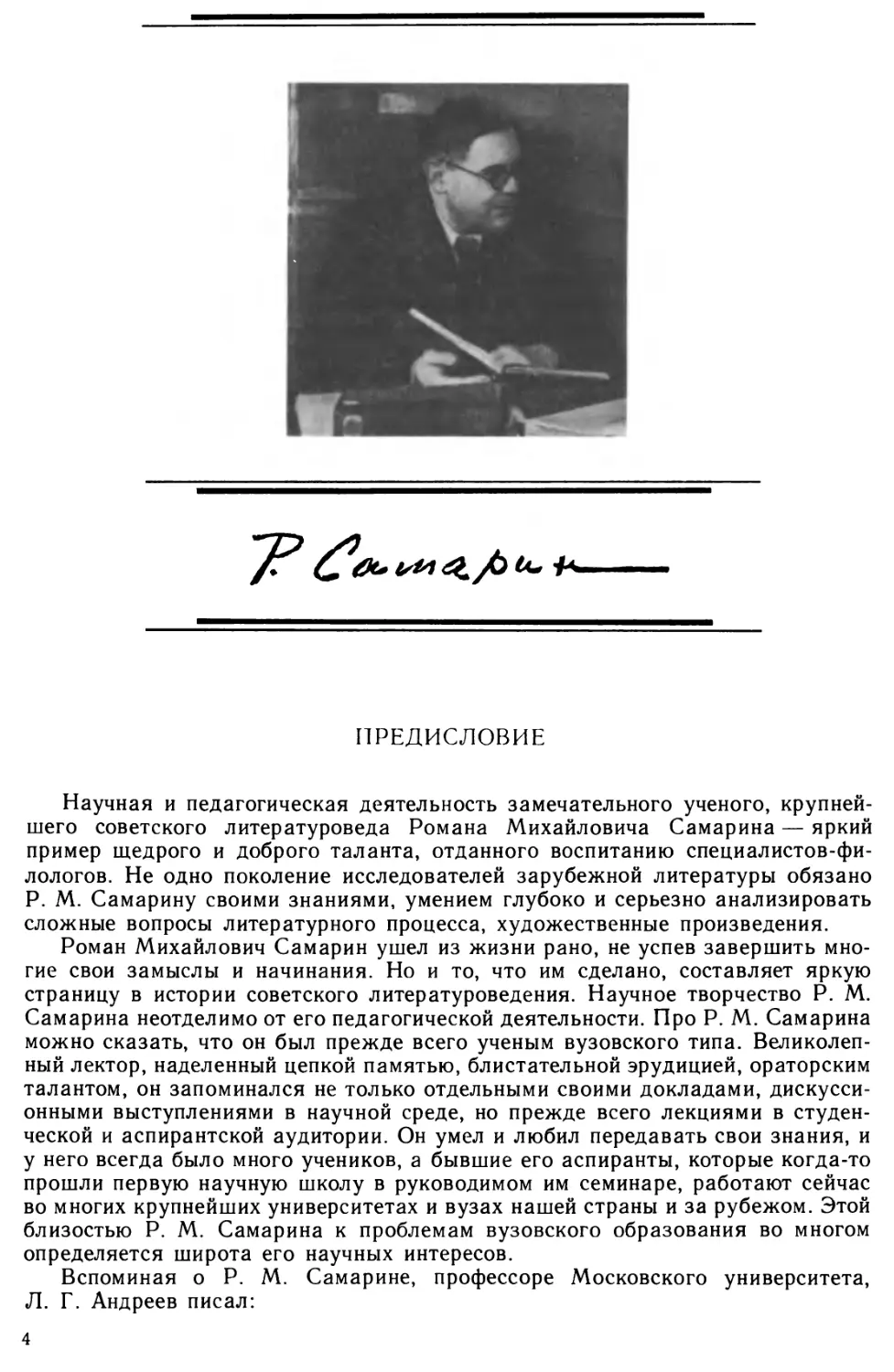




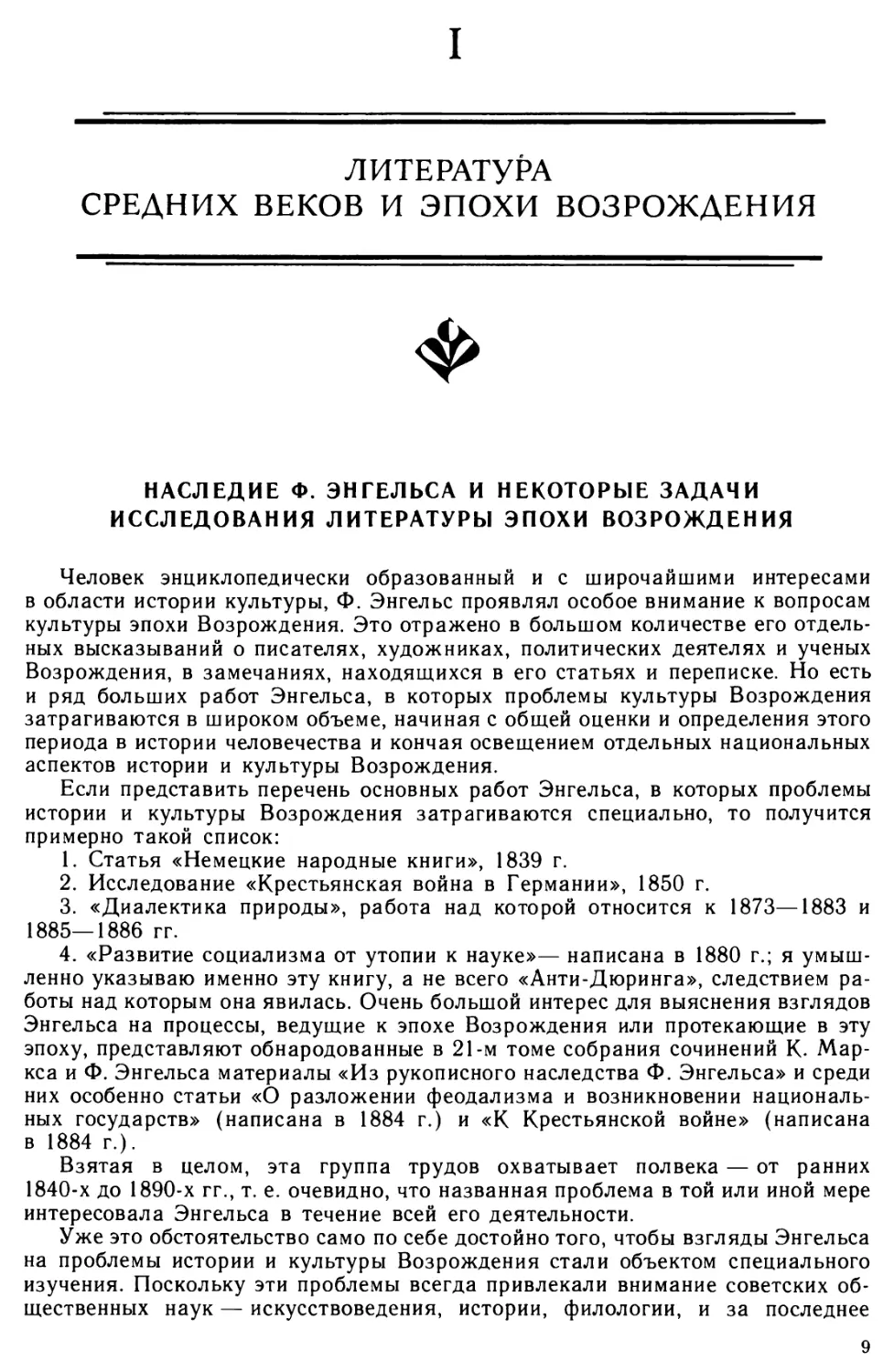







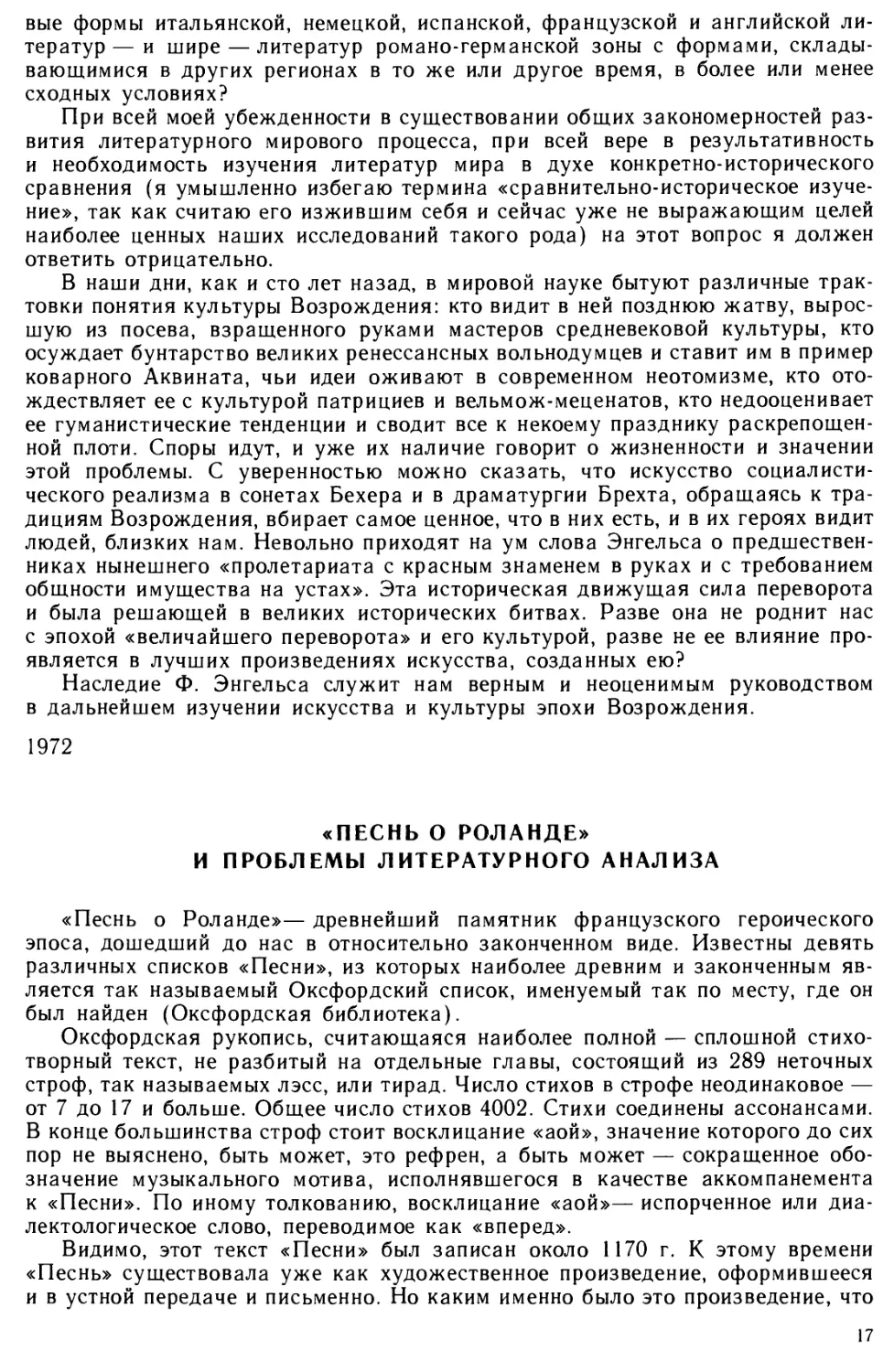
















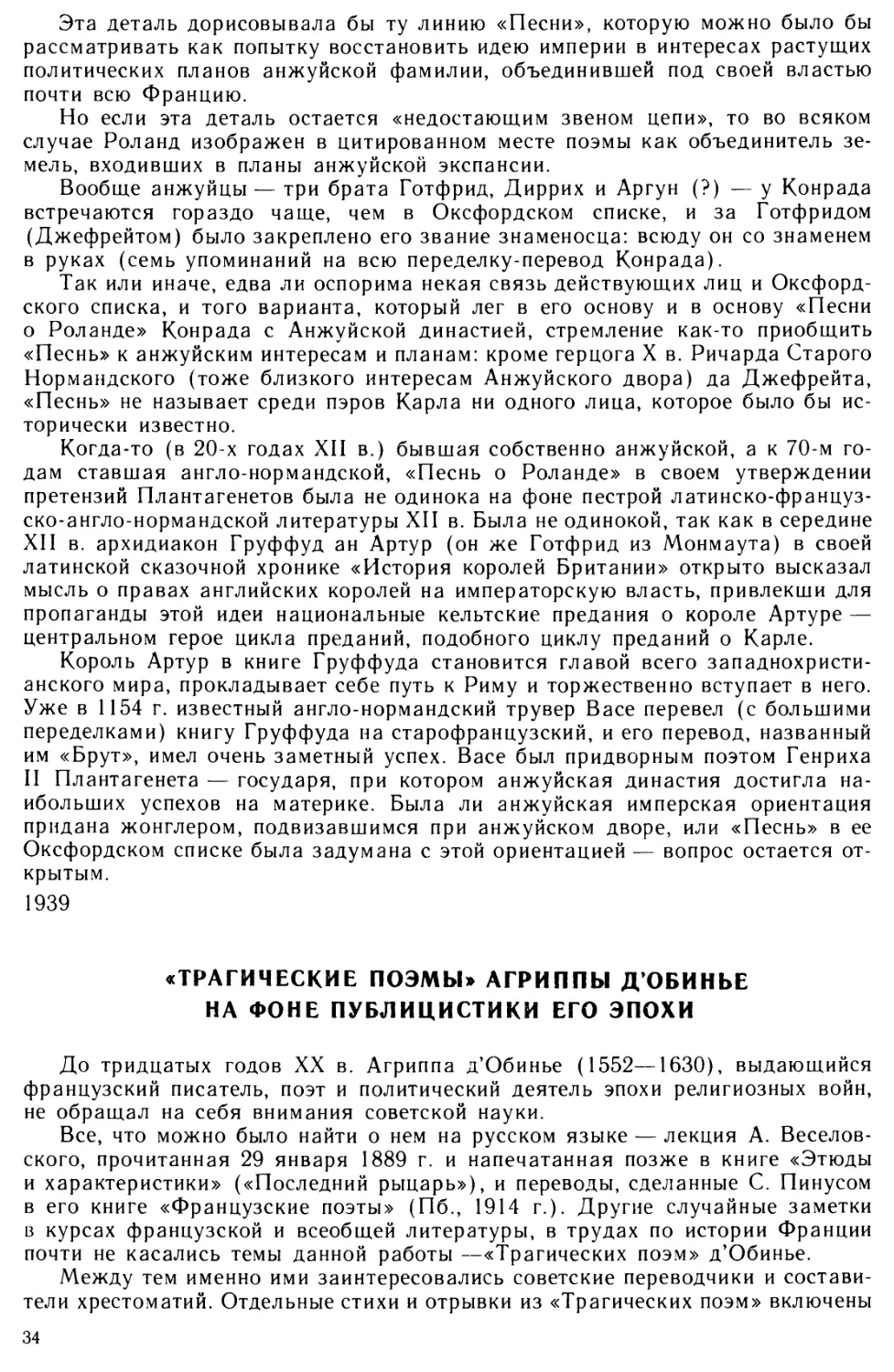


















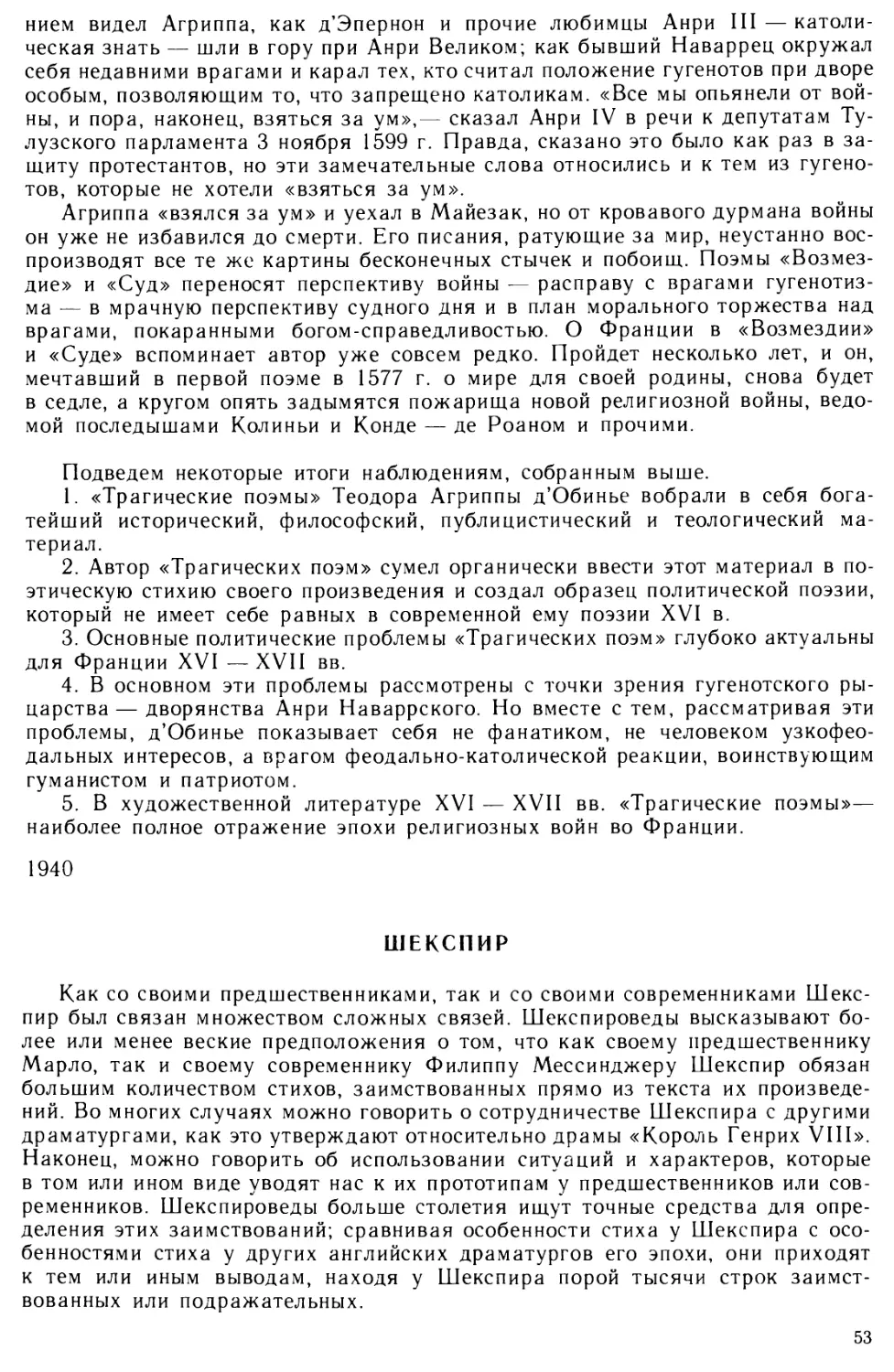















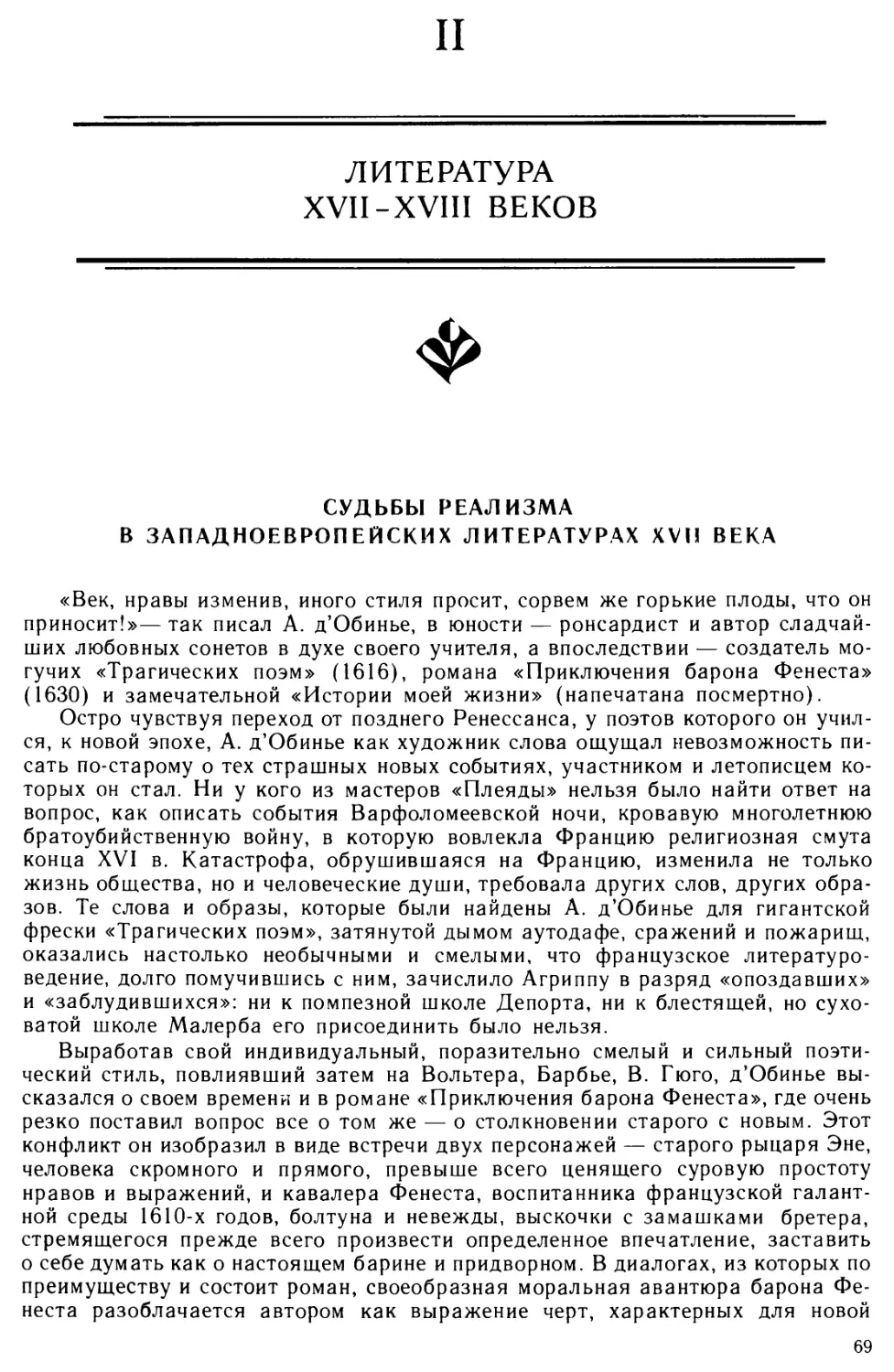















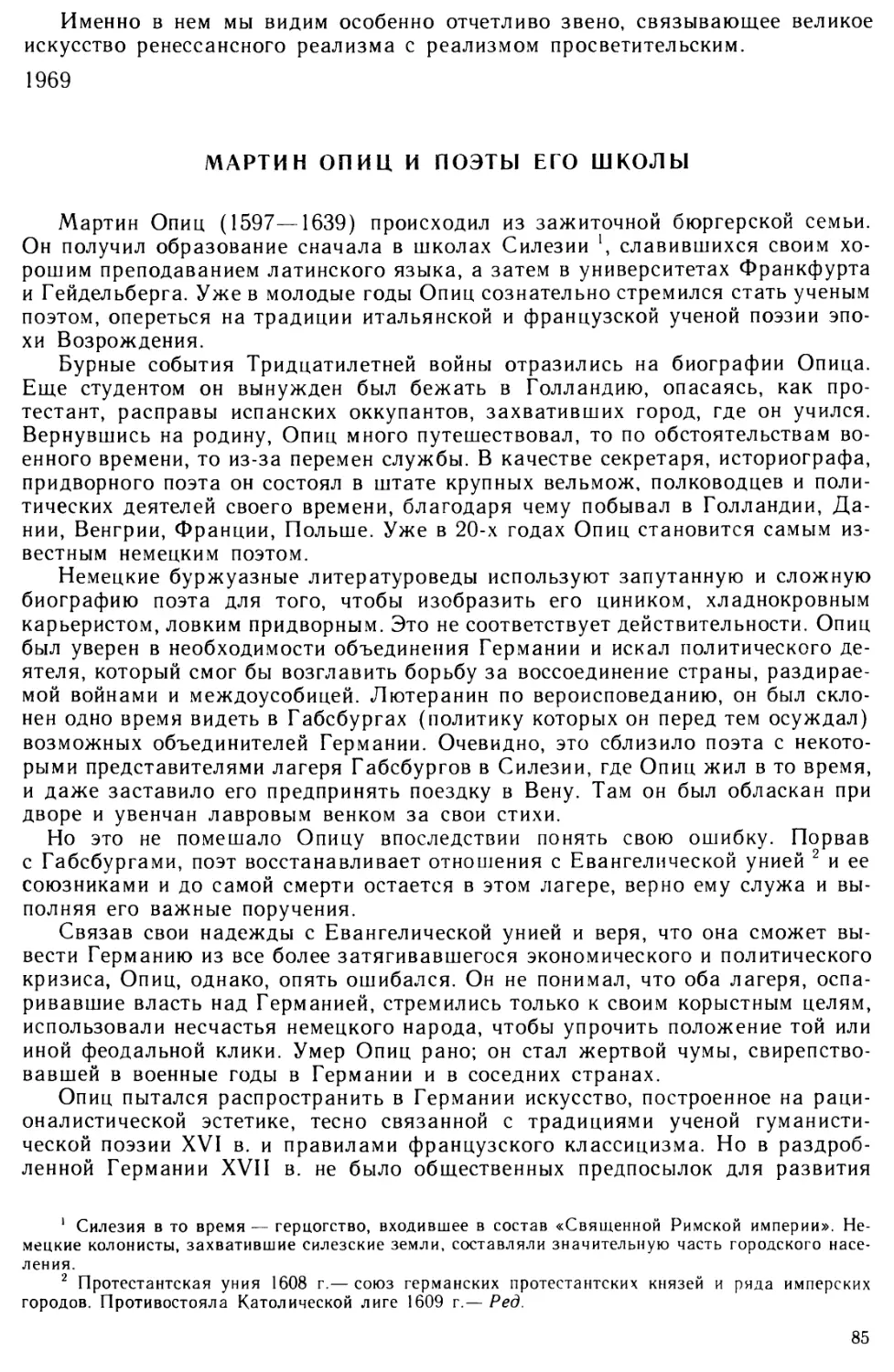





























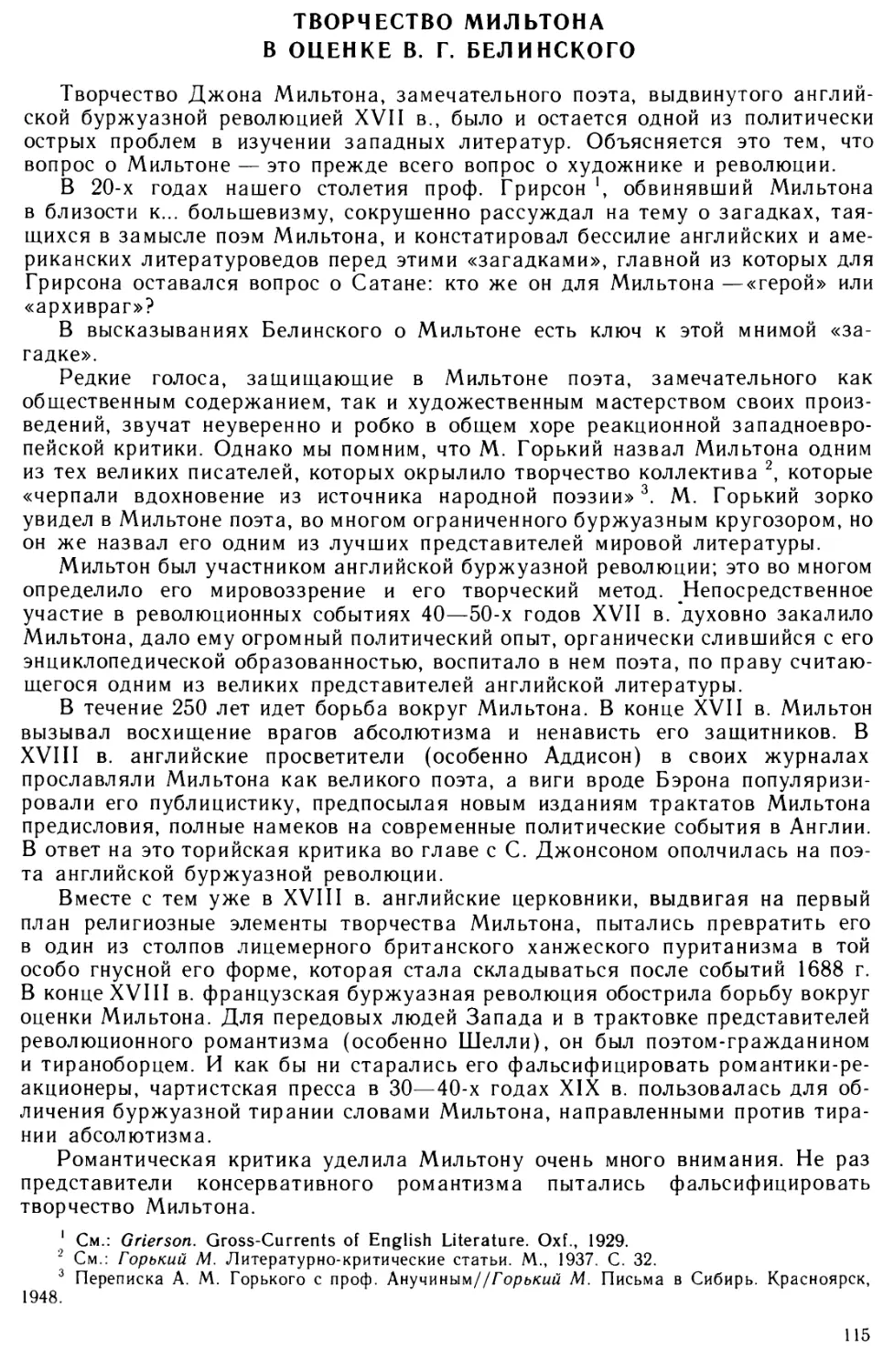







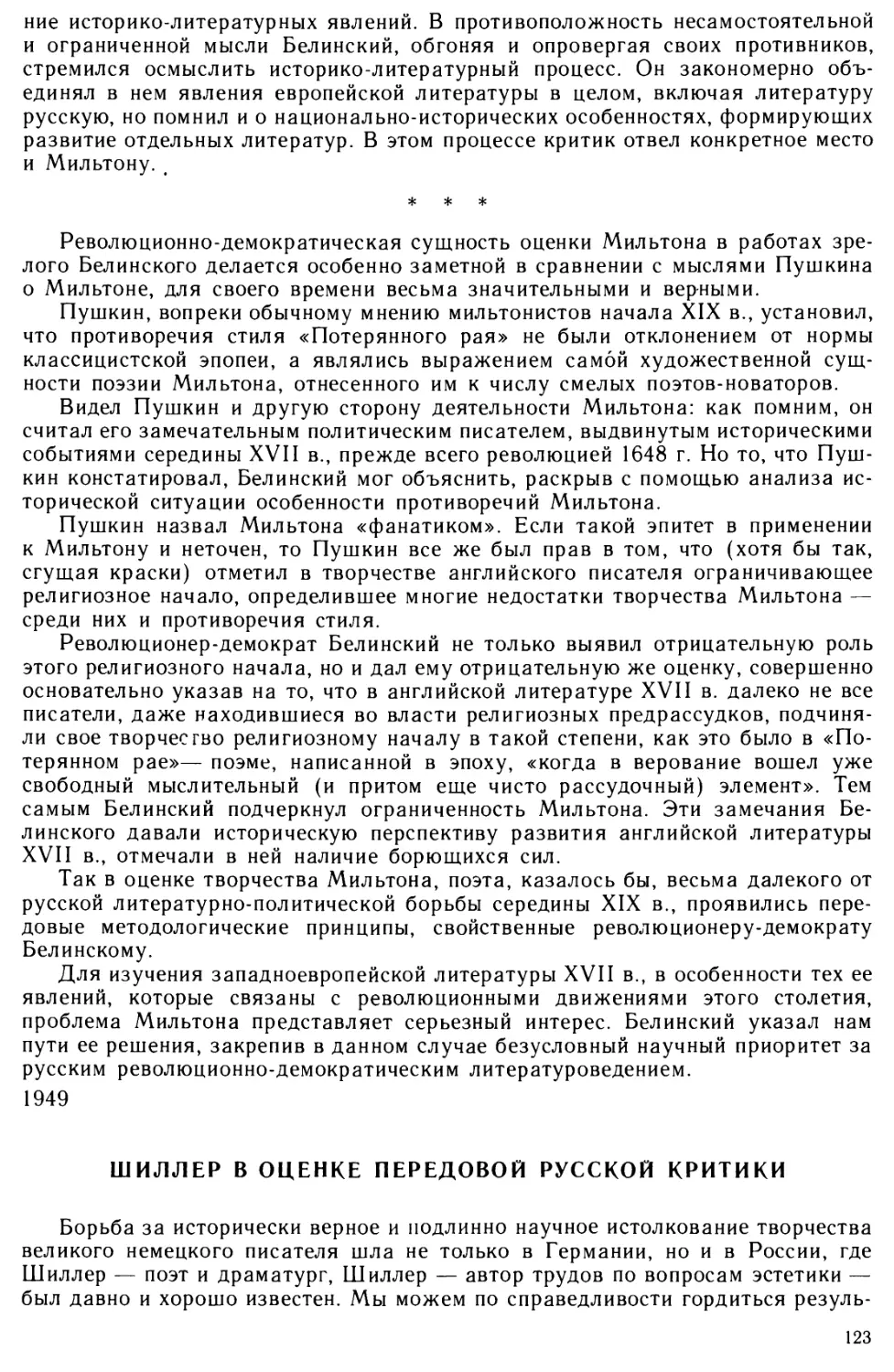









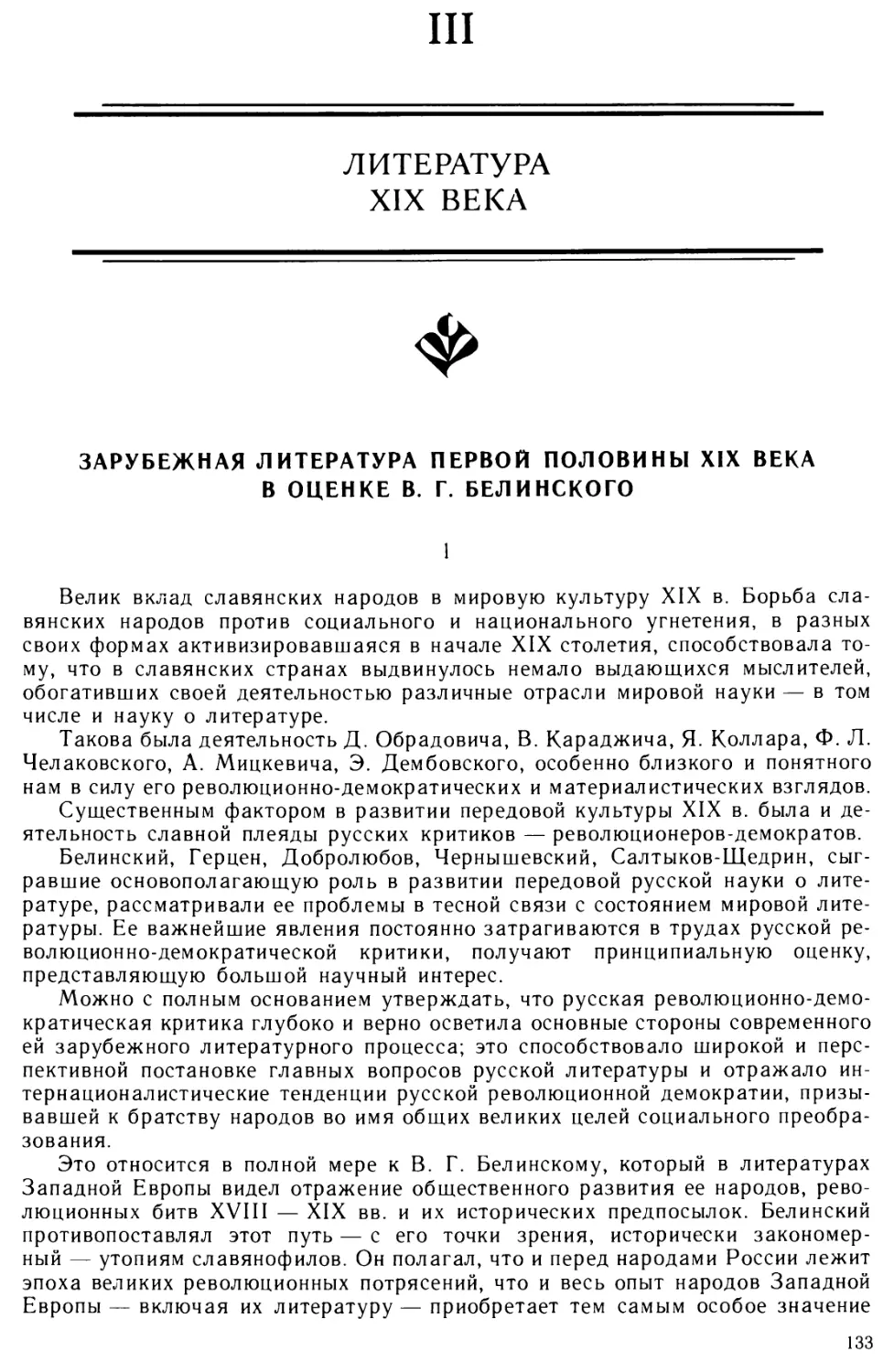























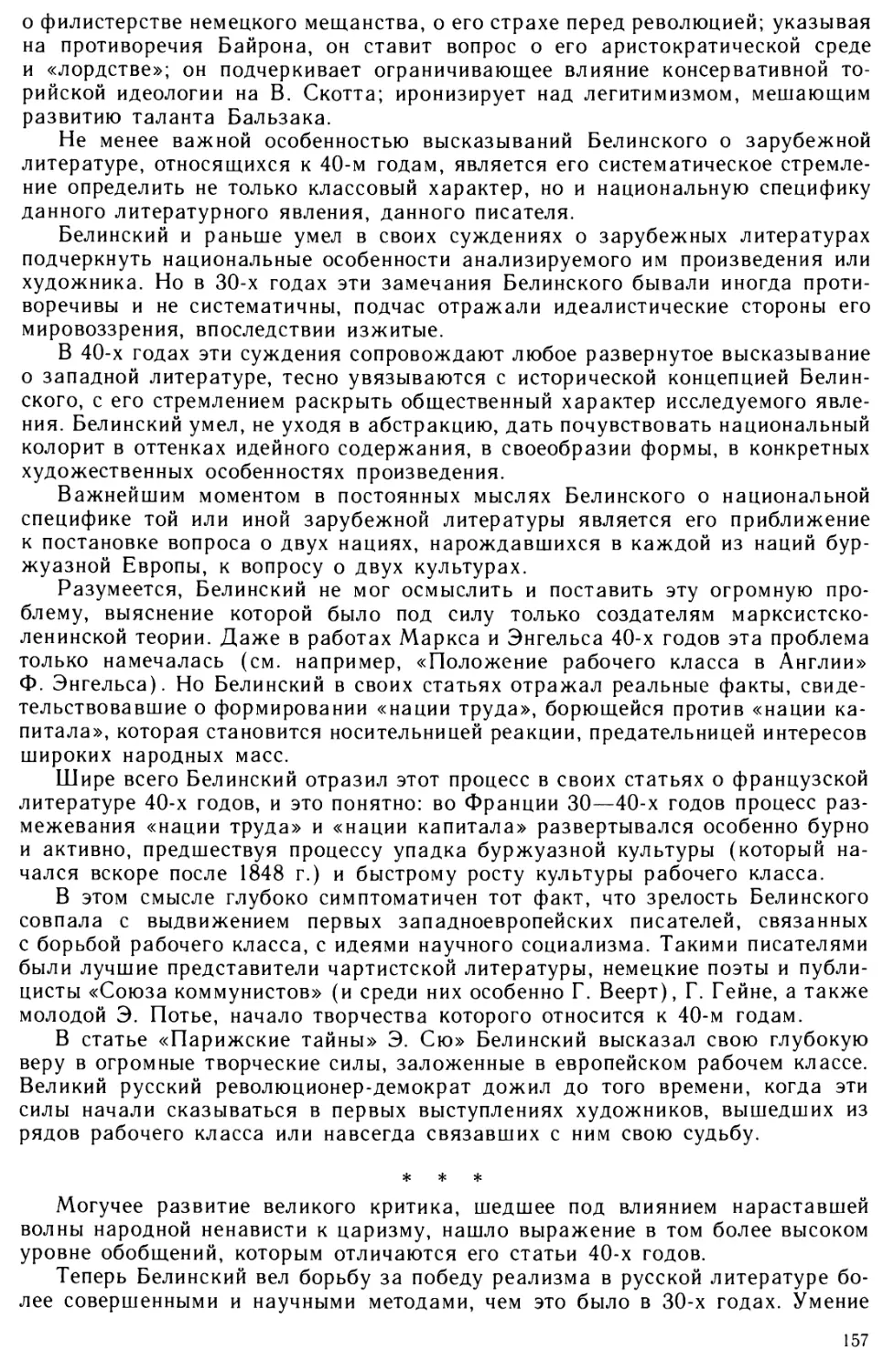












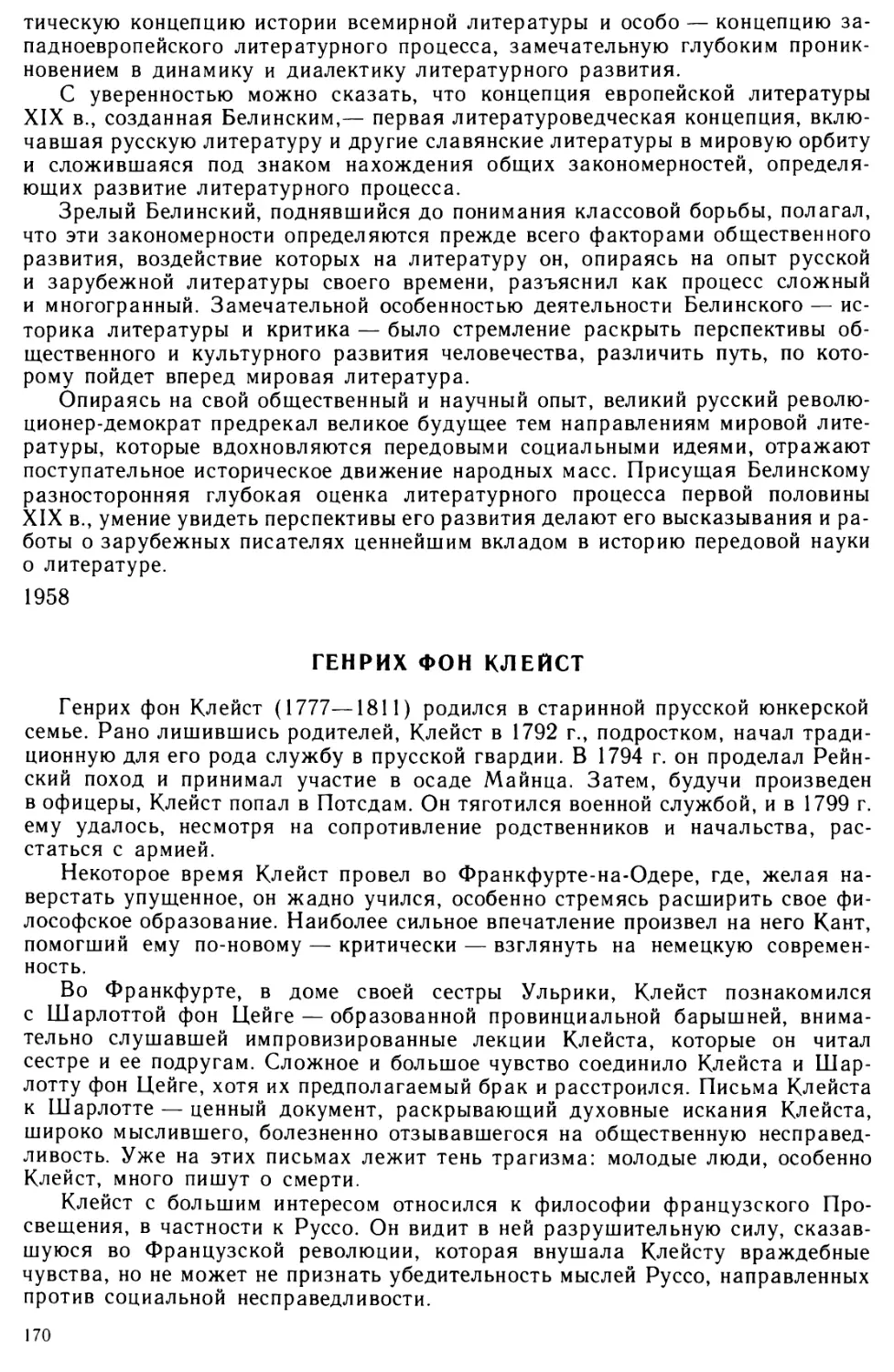









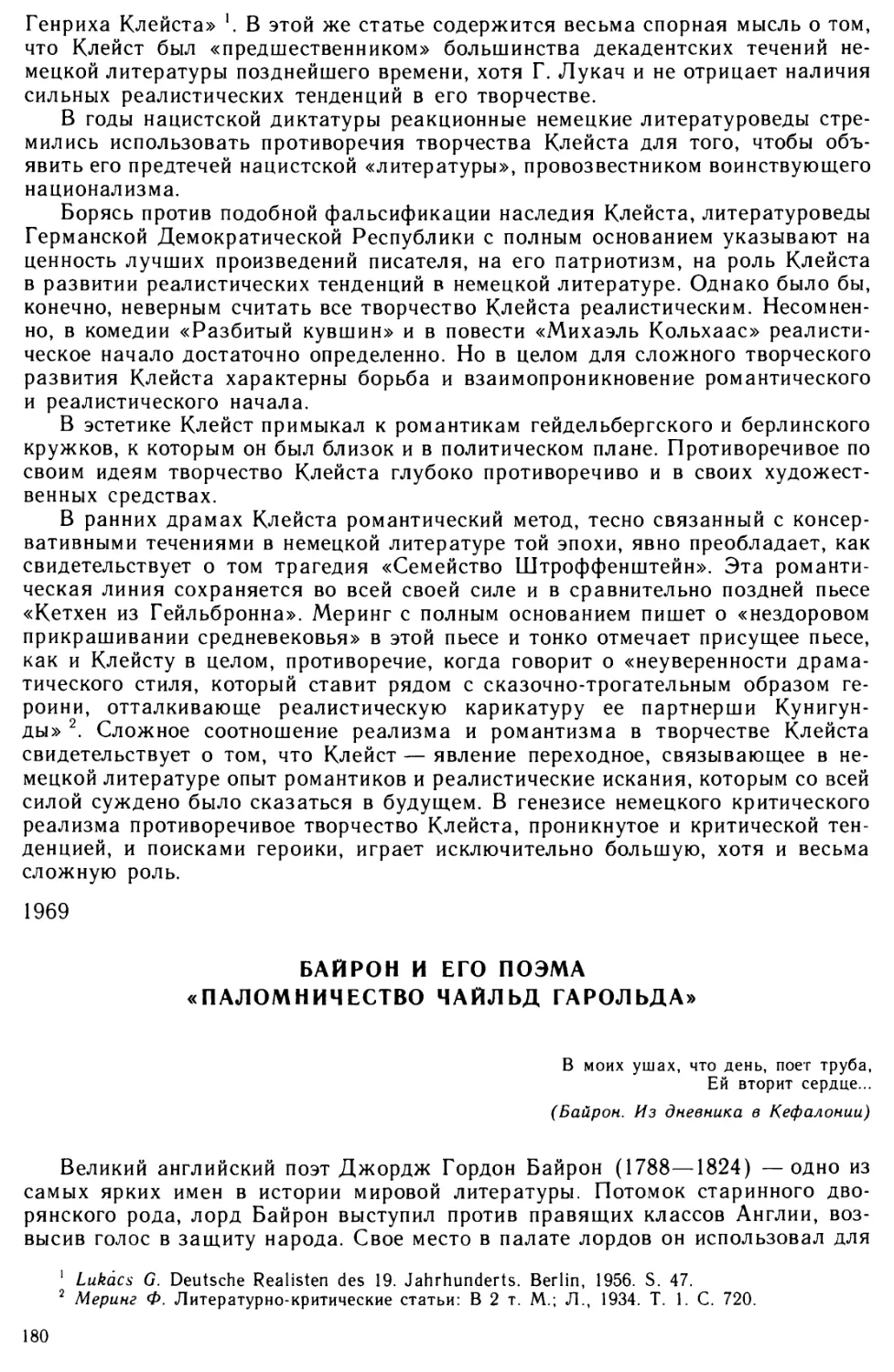


















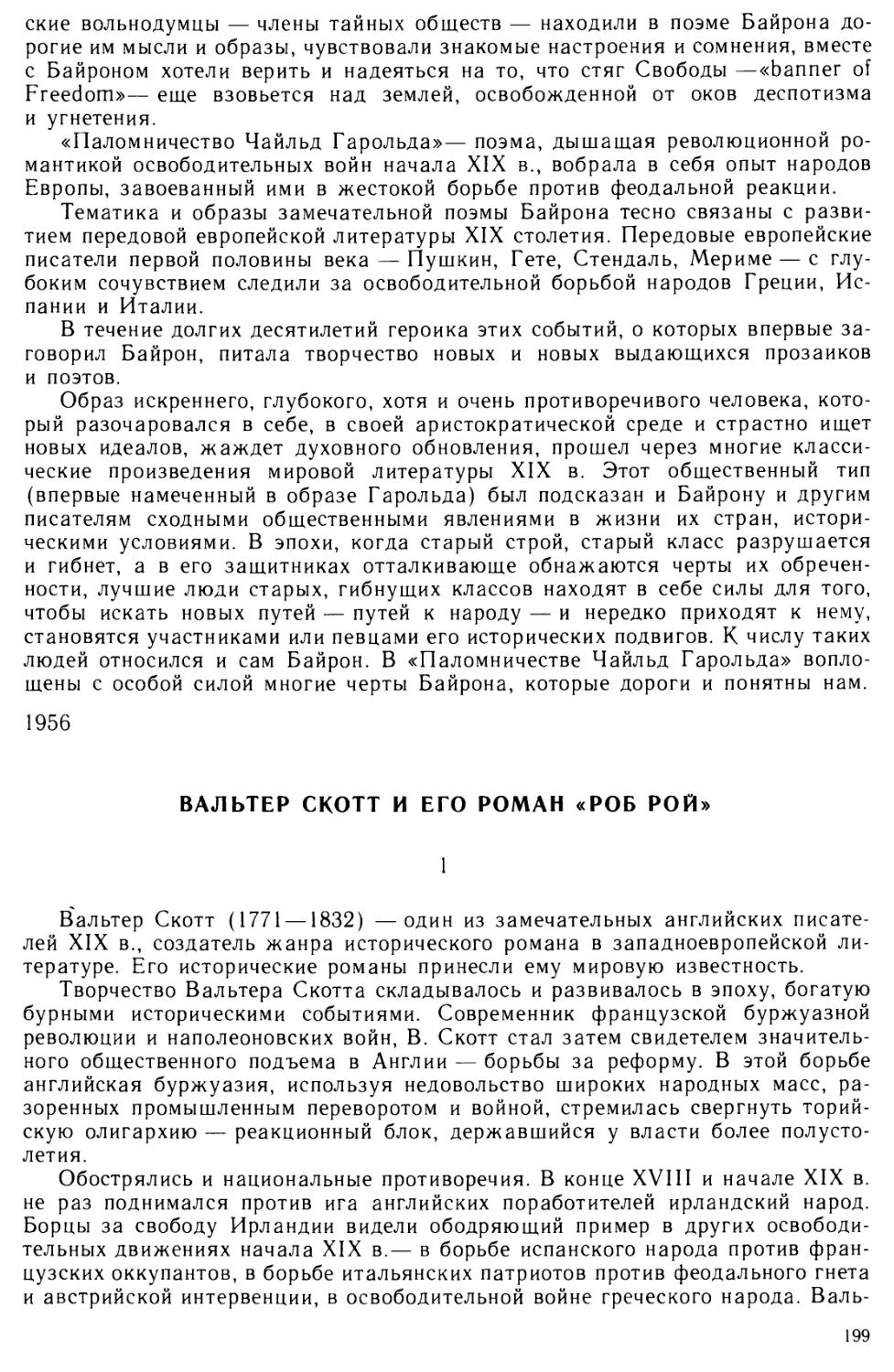











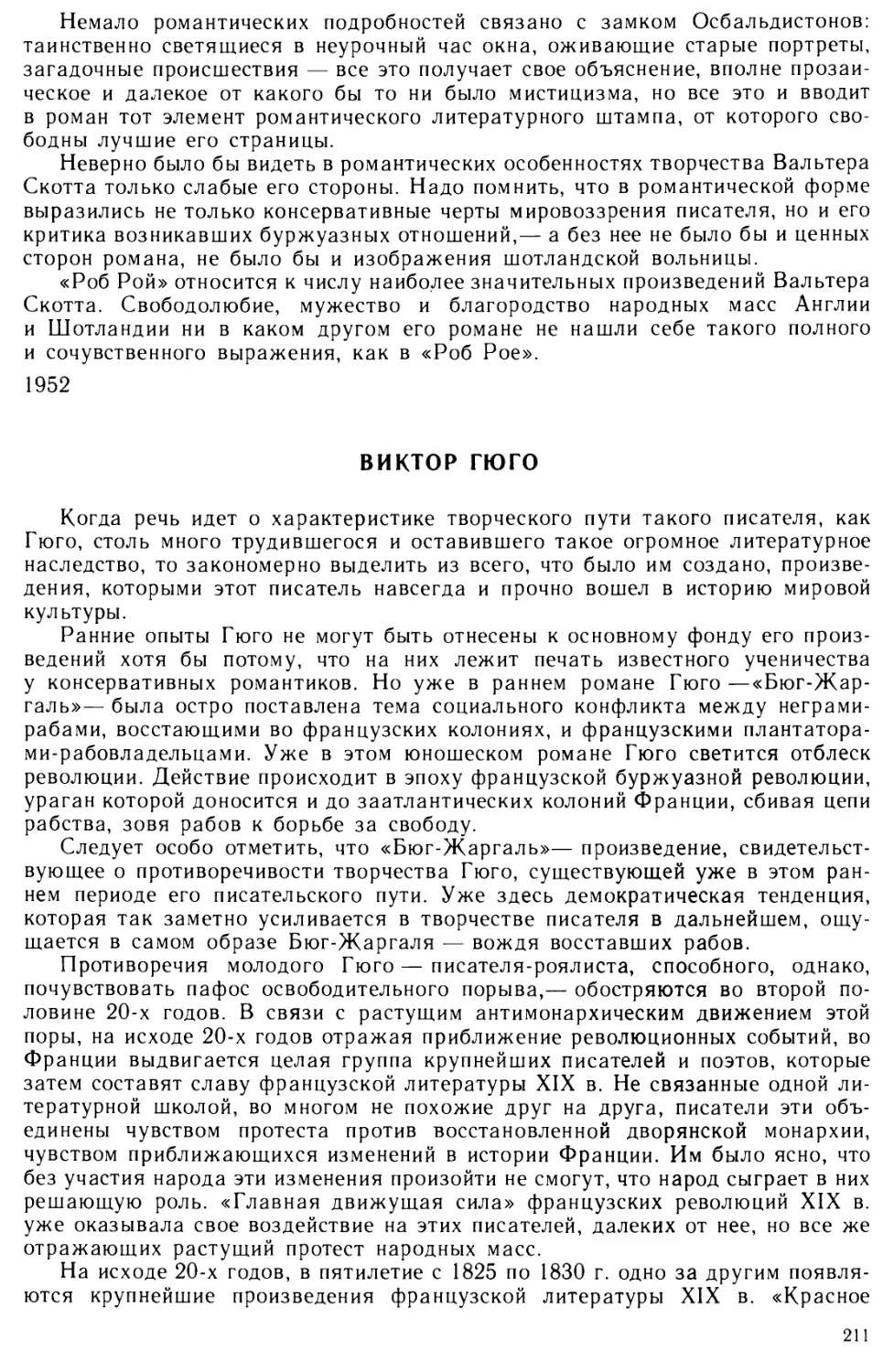









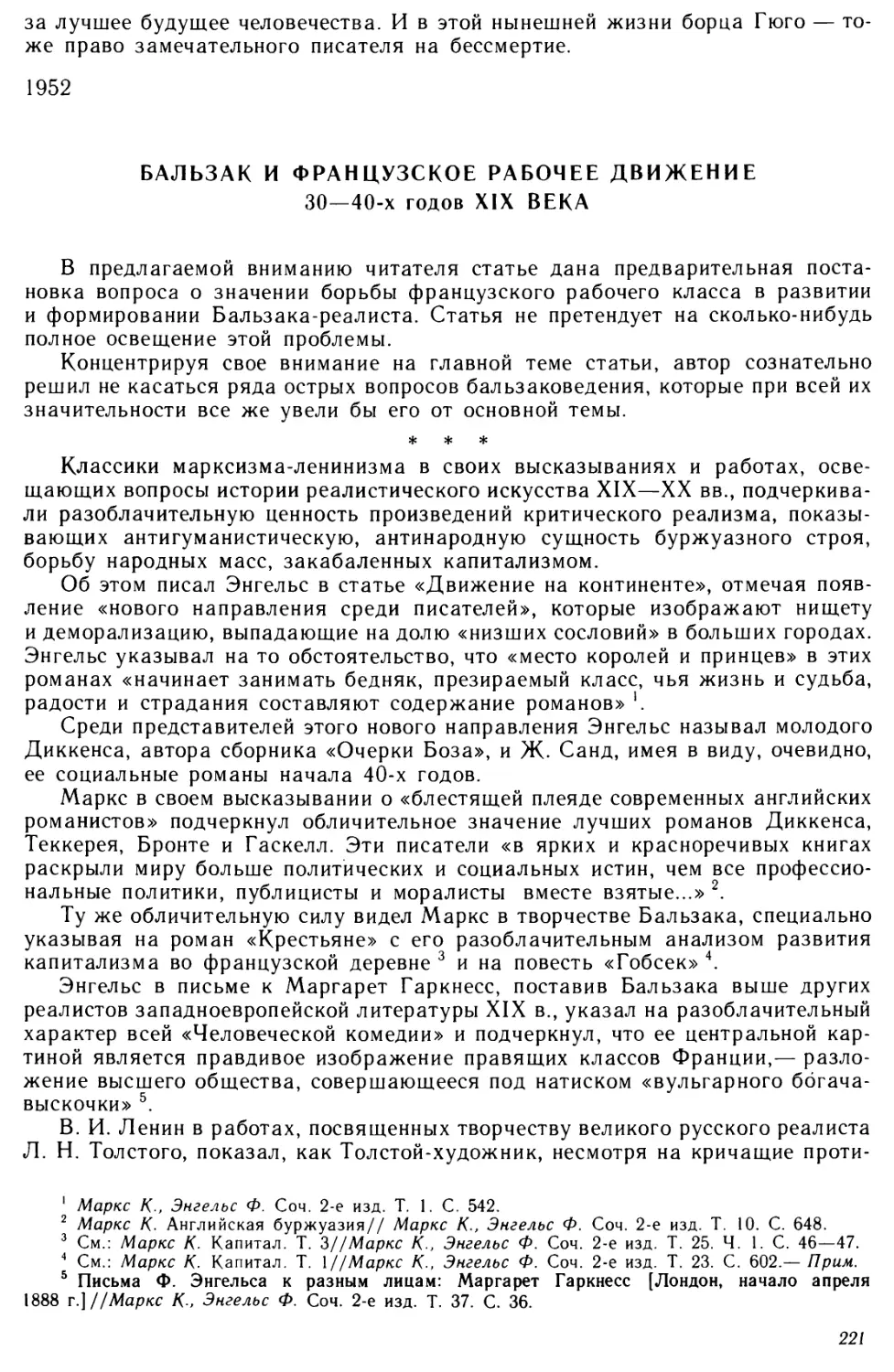















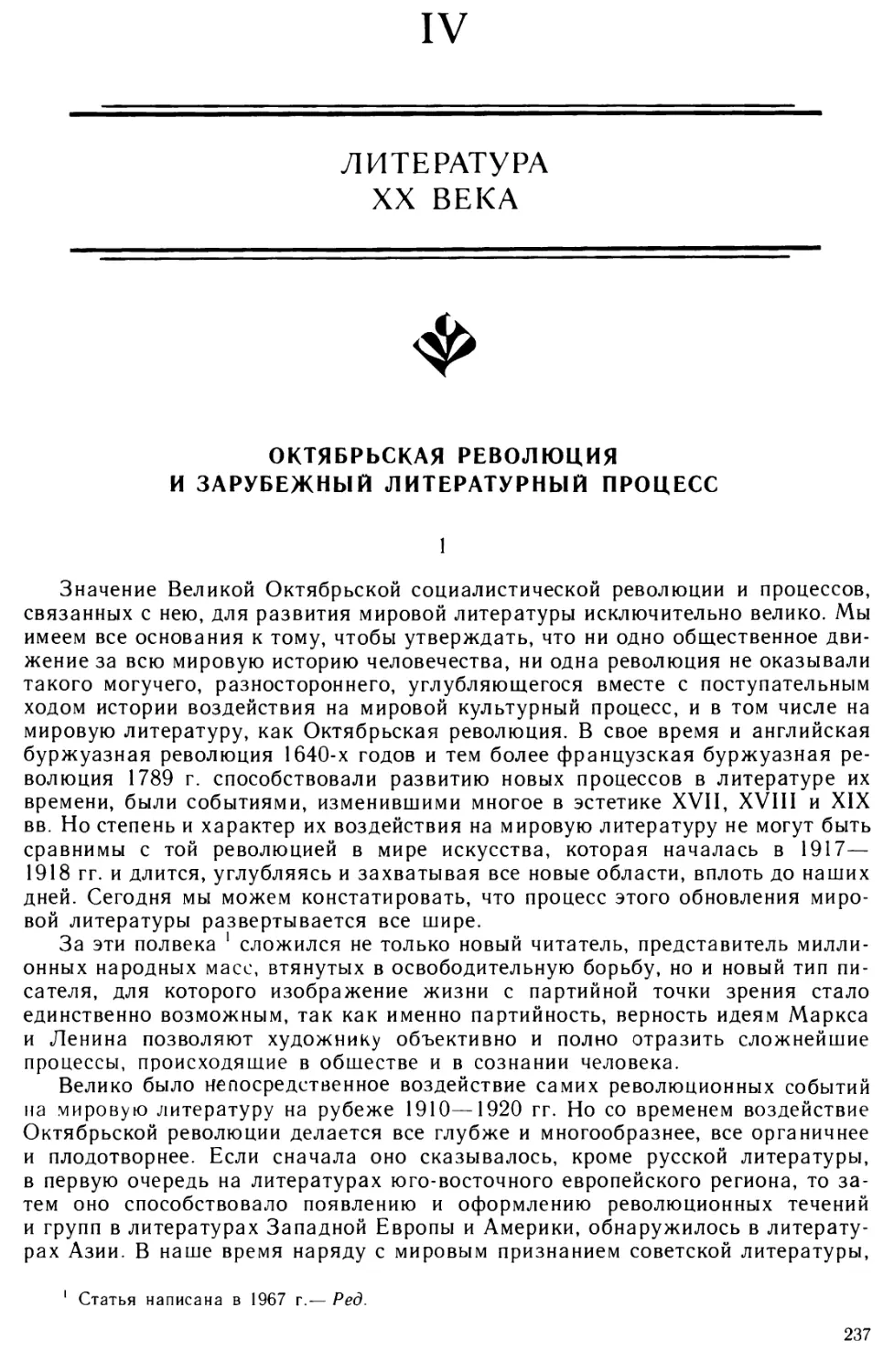









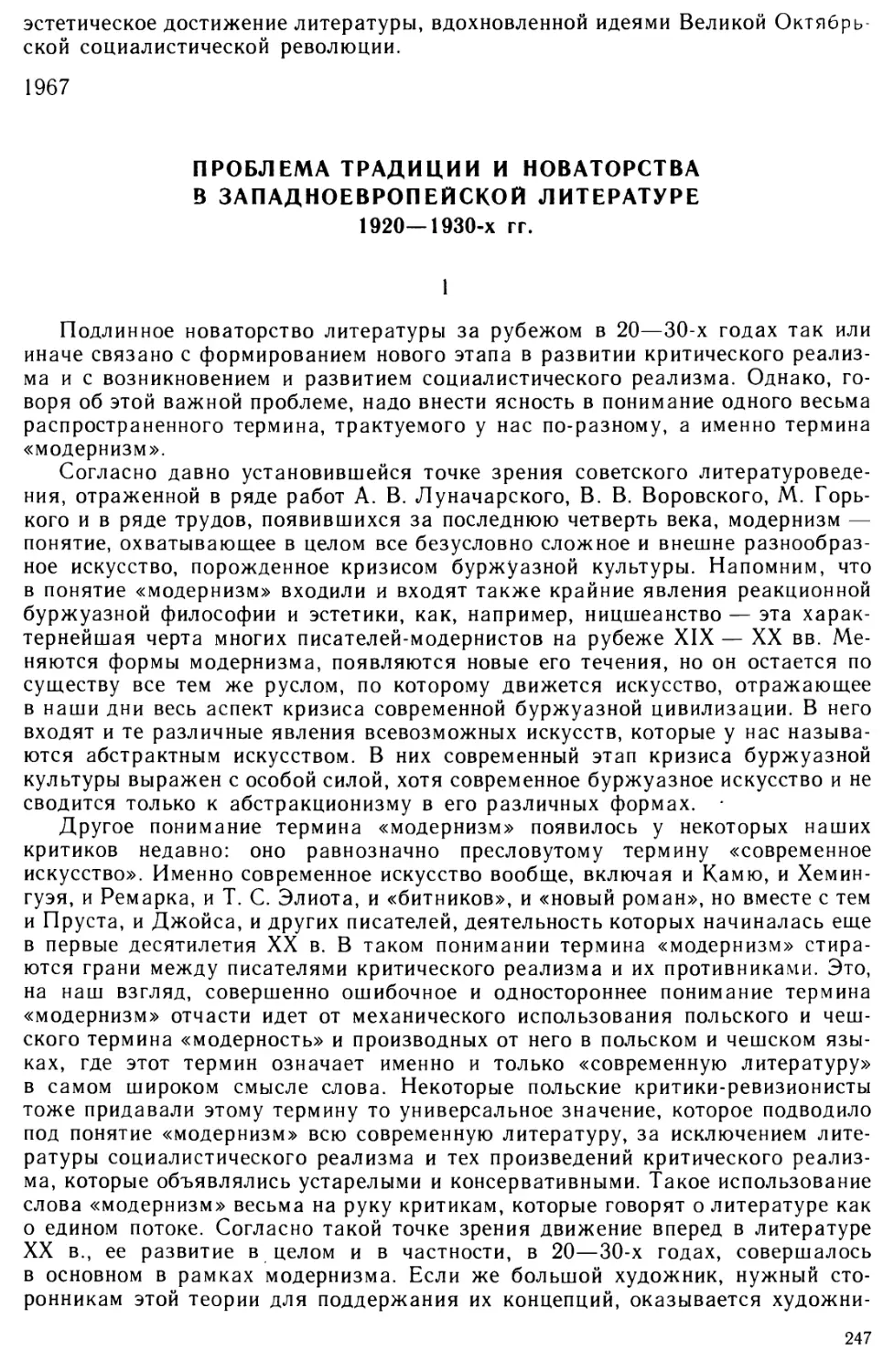












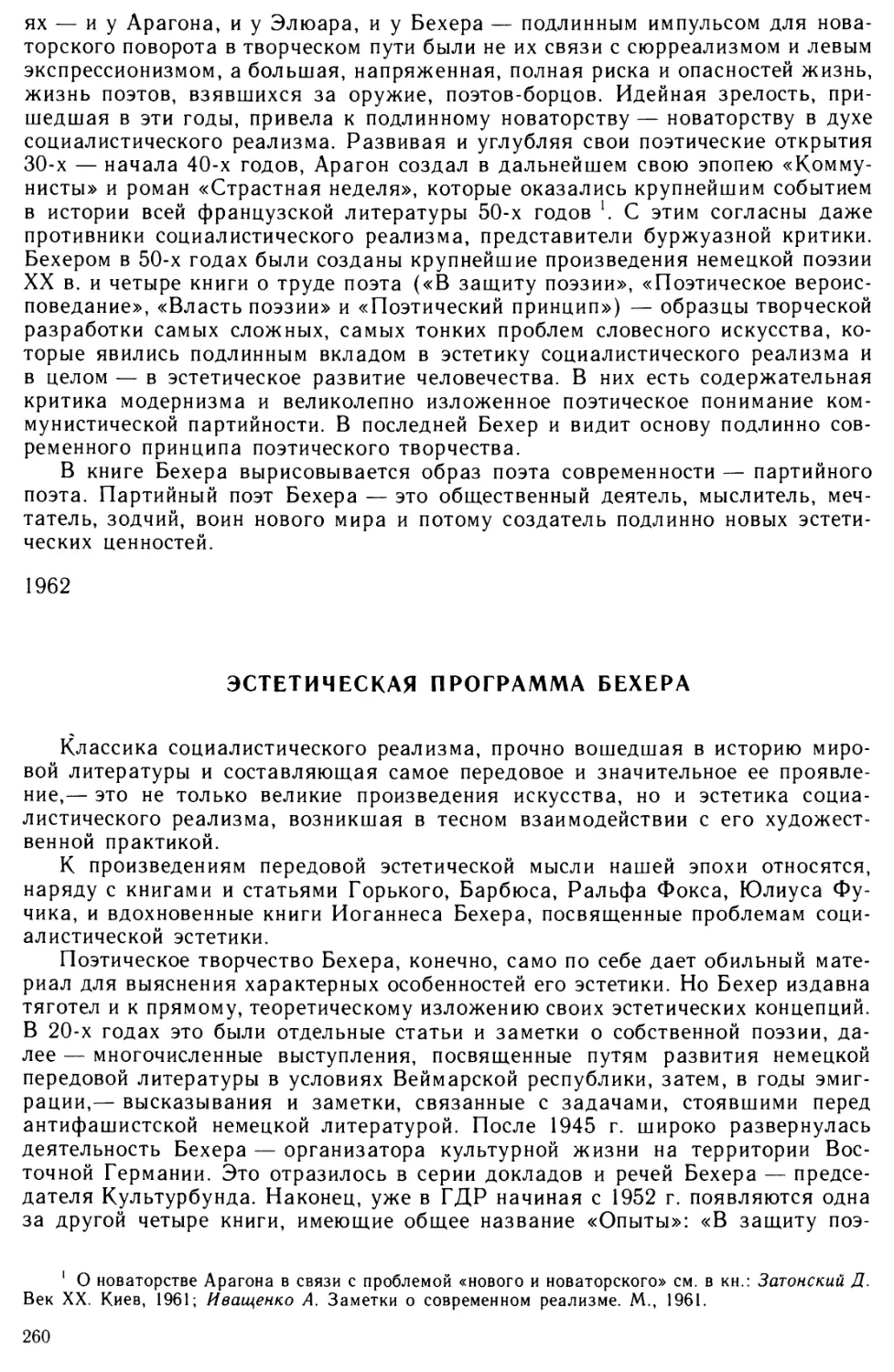

















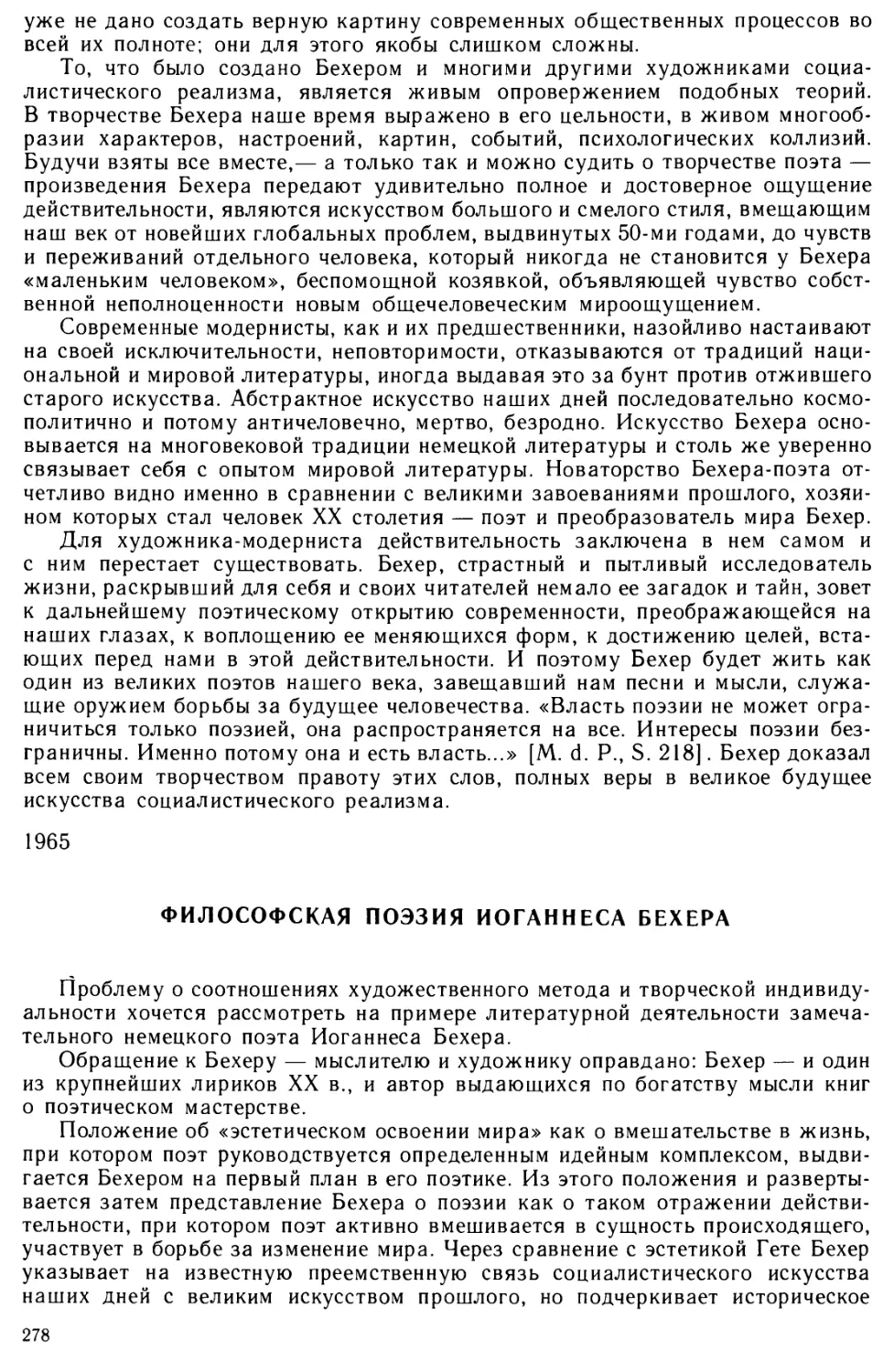




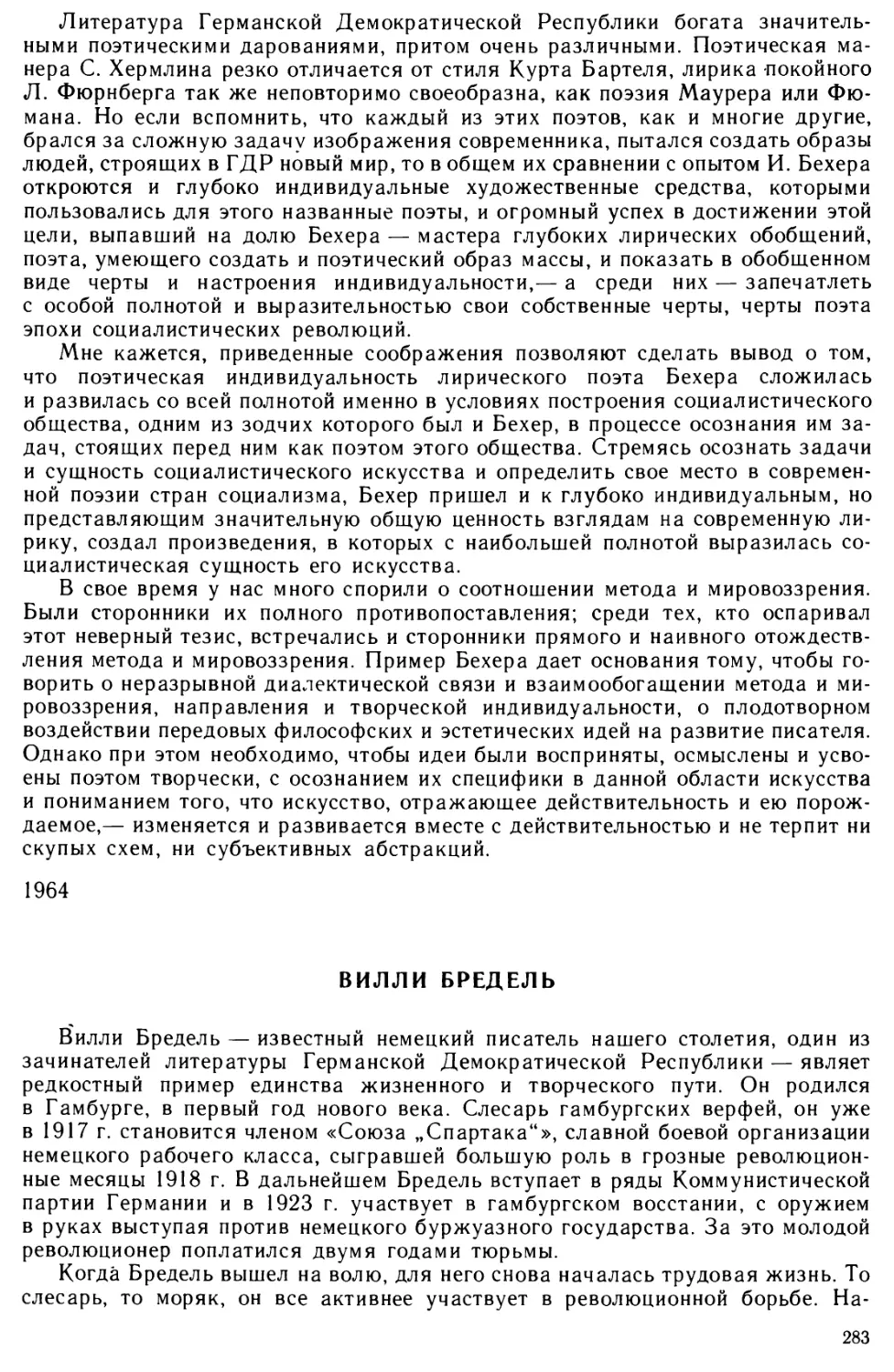






![Дитер Нолль и его роман [«Приключения Вернера Хольта»]](https://djvu.online/jpg/r/V/6/rV6Q52EPfjE1u/291.webp)








![Против тех, кто сеет смерть [Роман В. Кёппена «Смерть в Риме»]](https://djvu.online/jpg/r/V/6/rV6Q52EPfjE1u/300.webp)