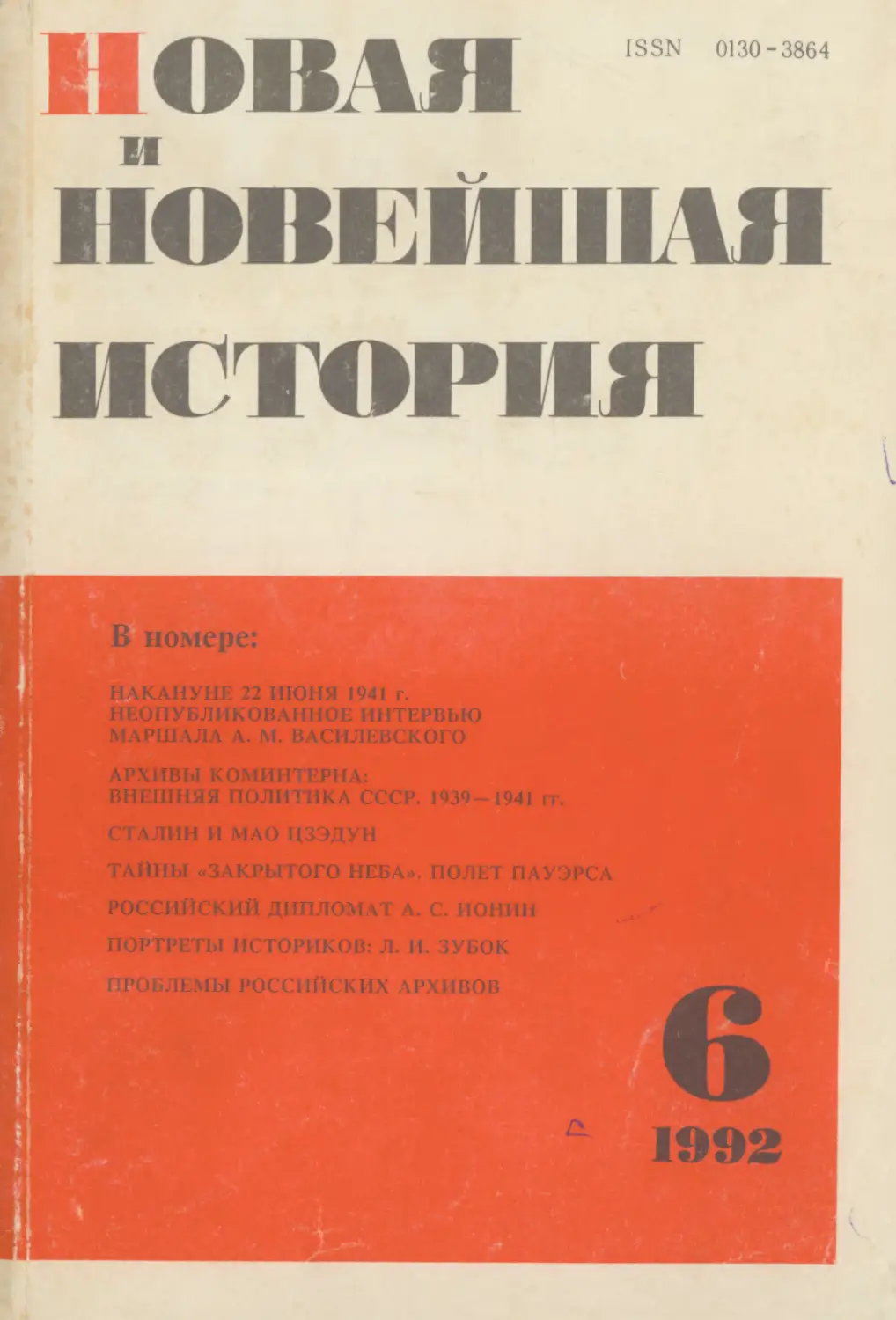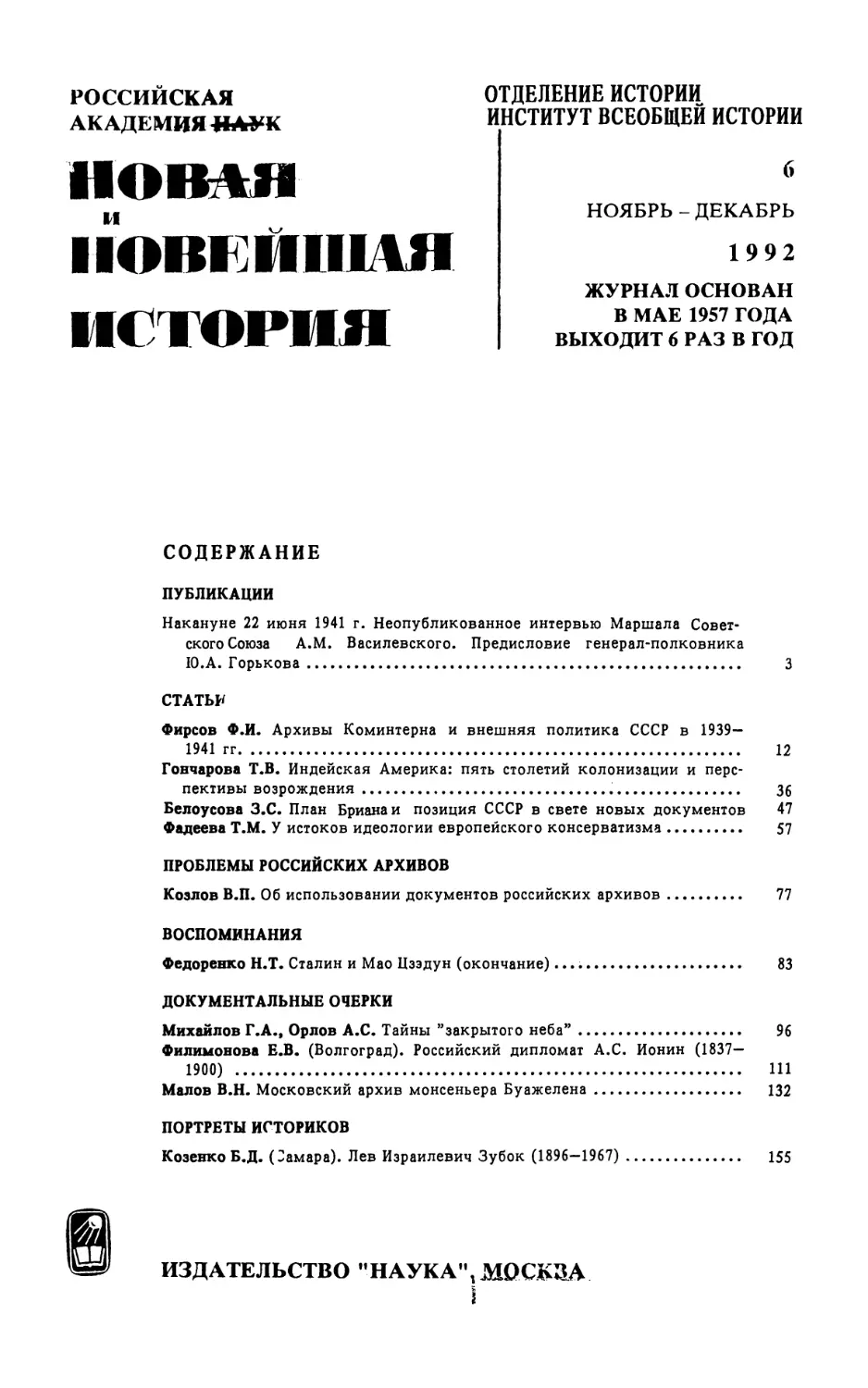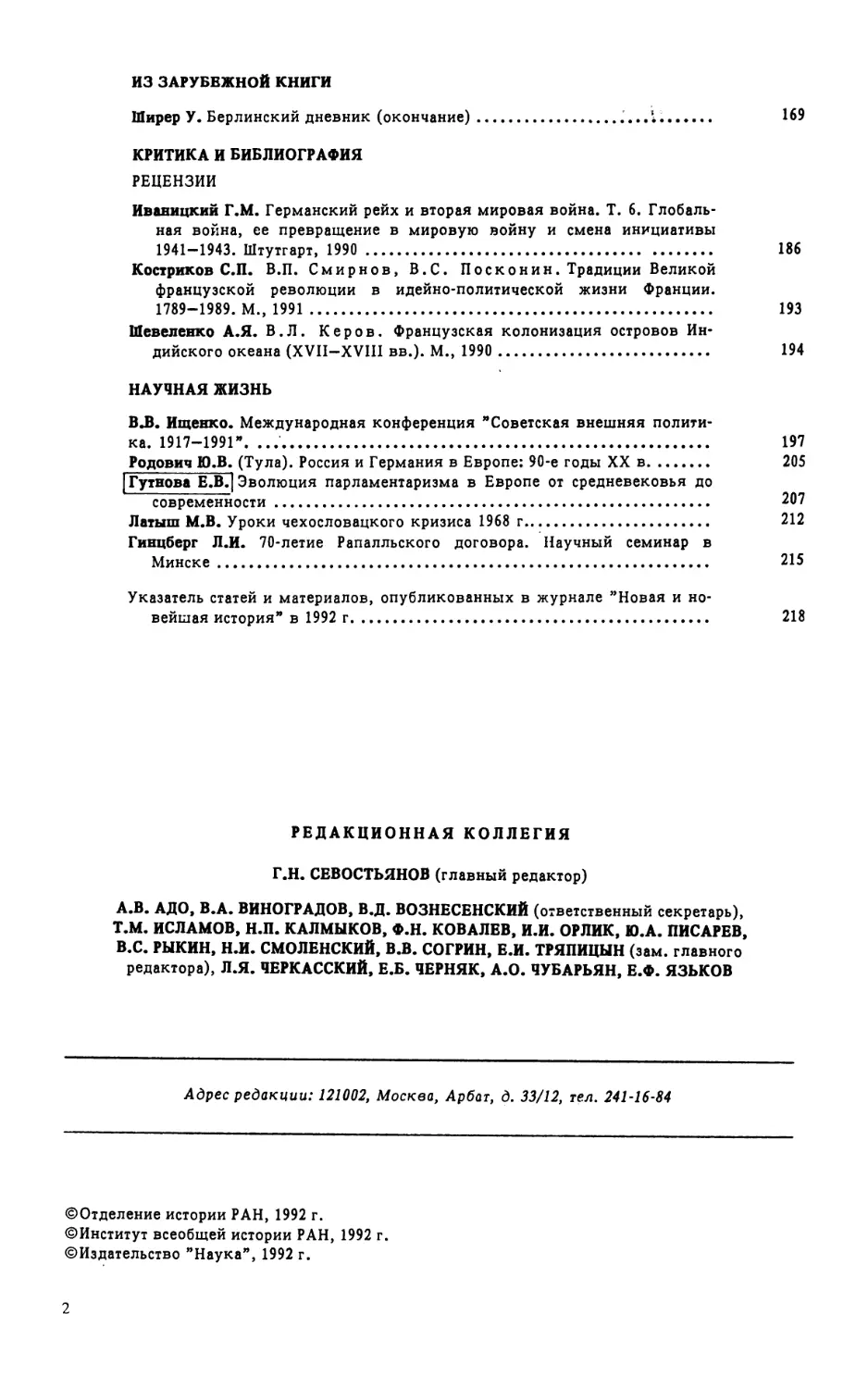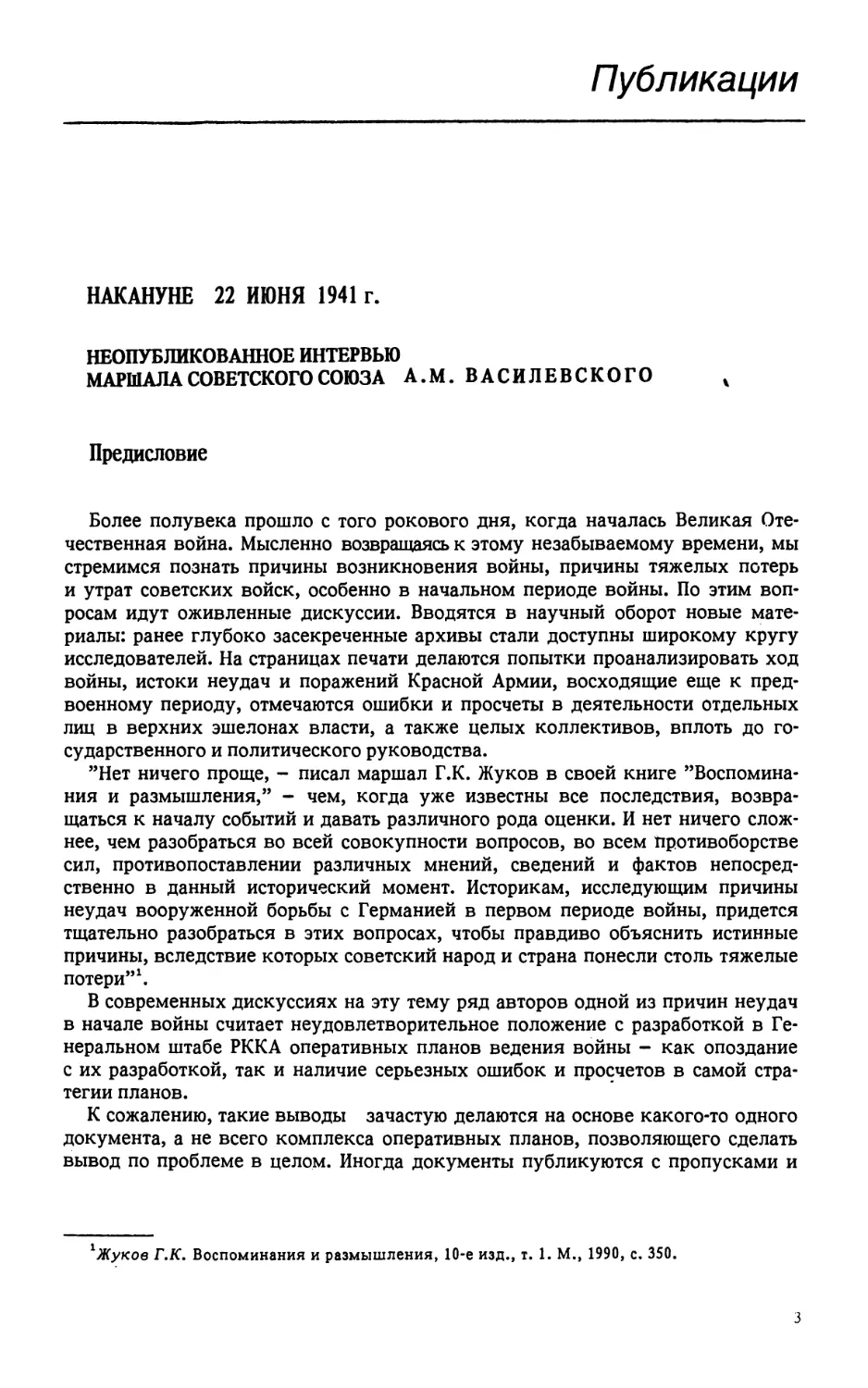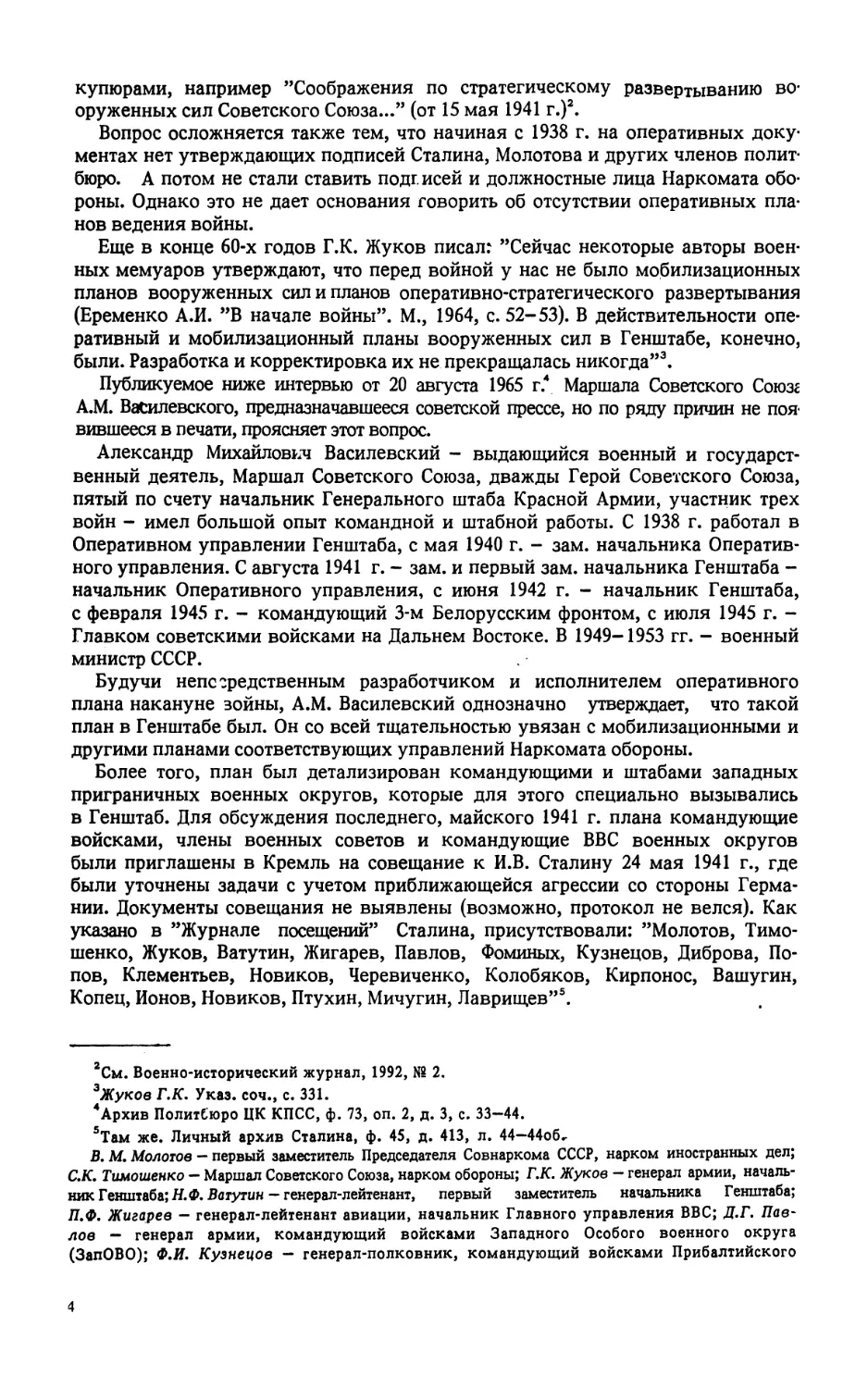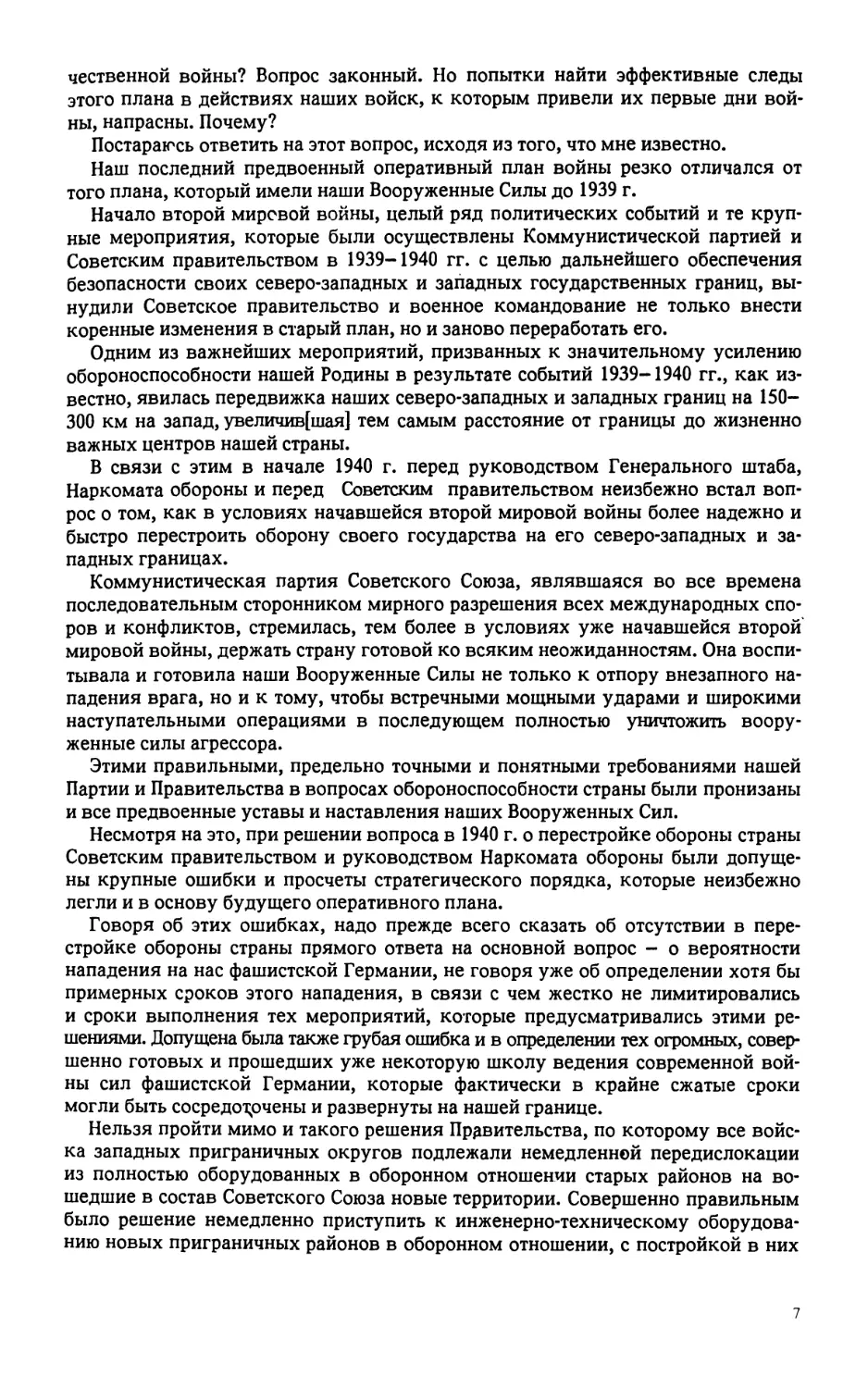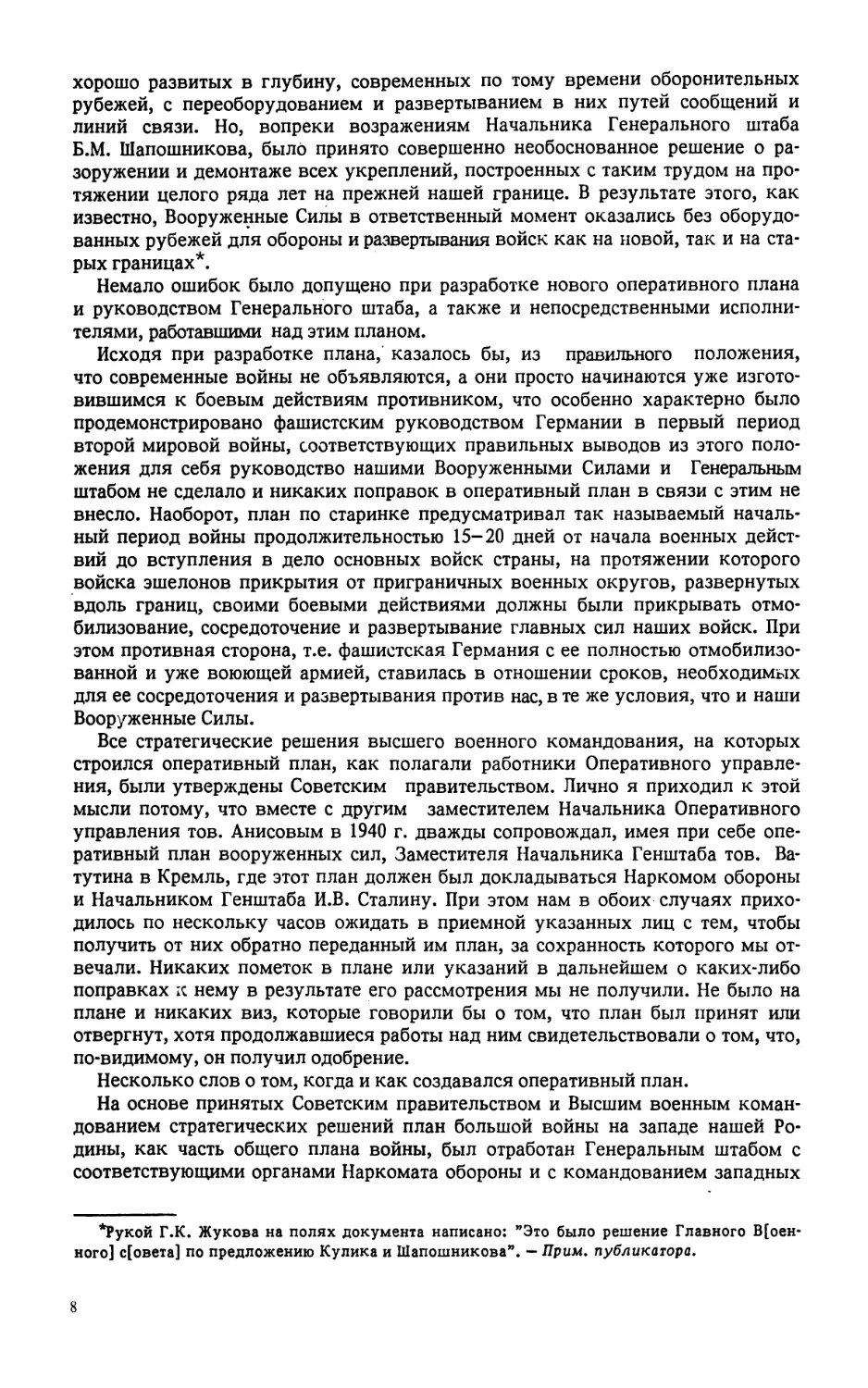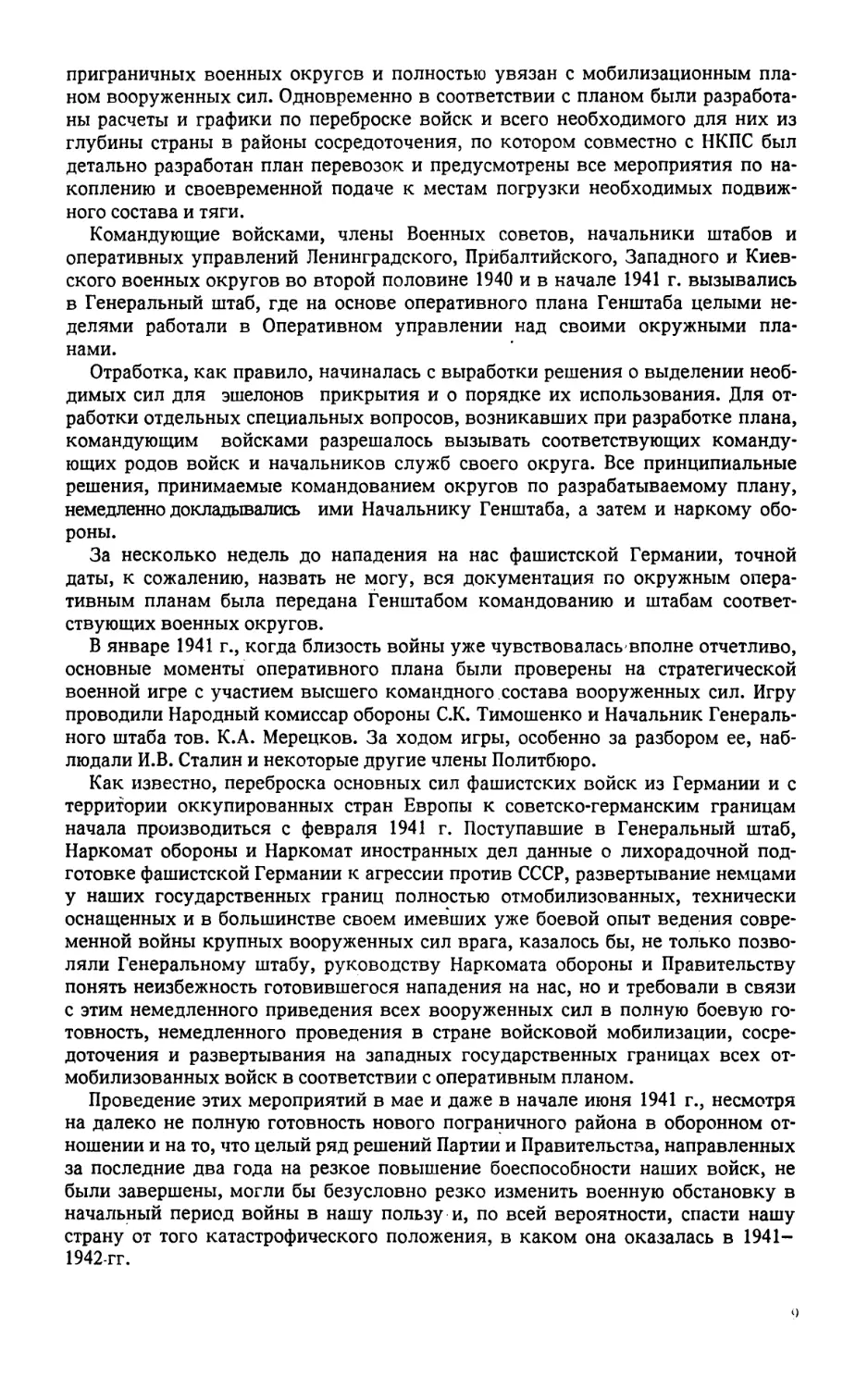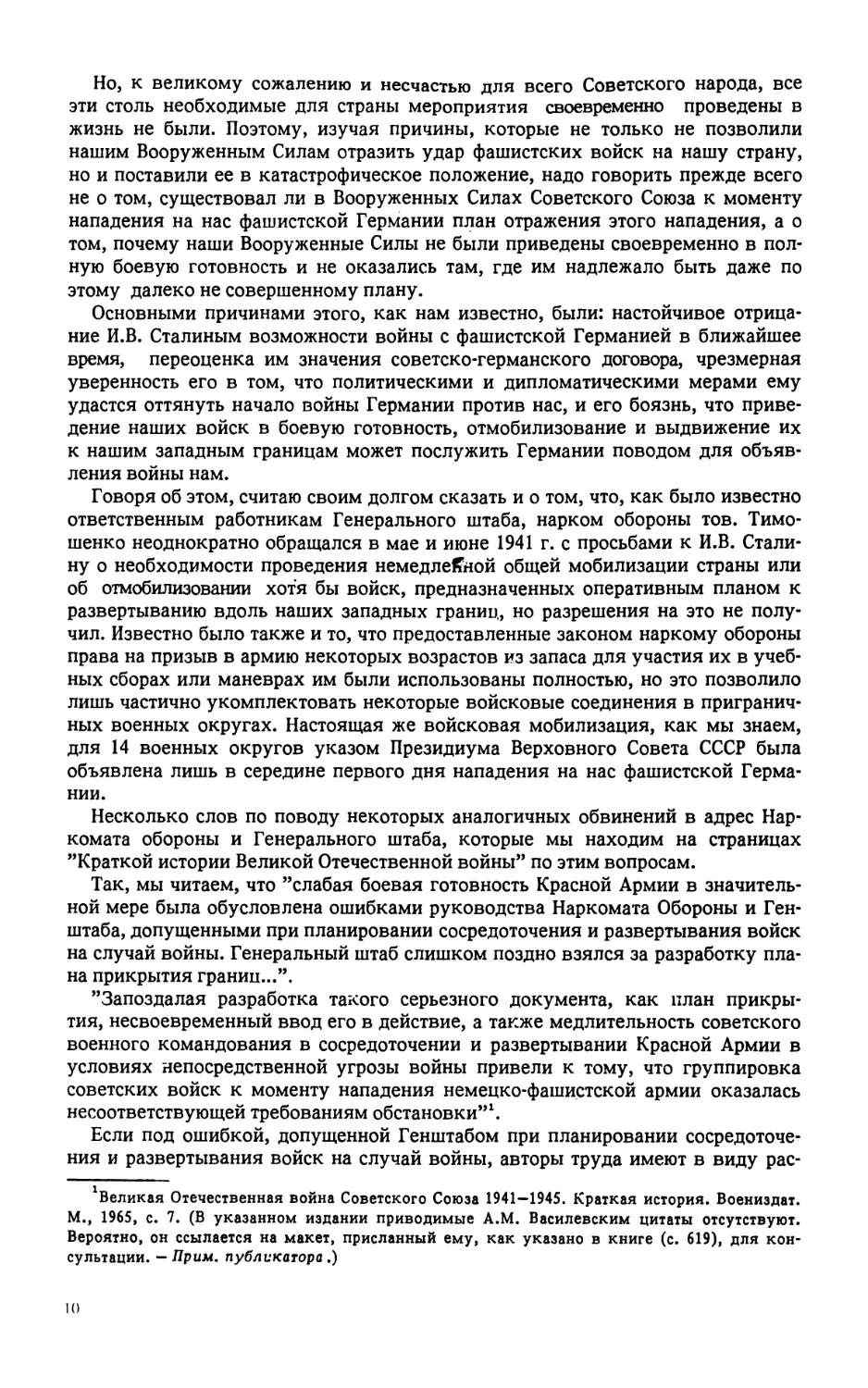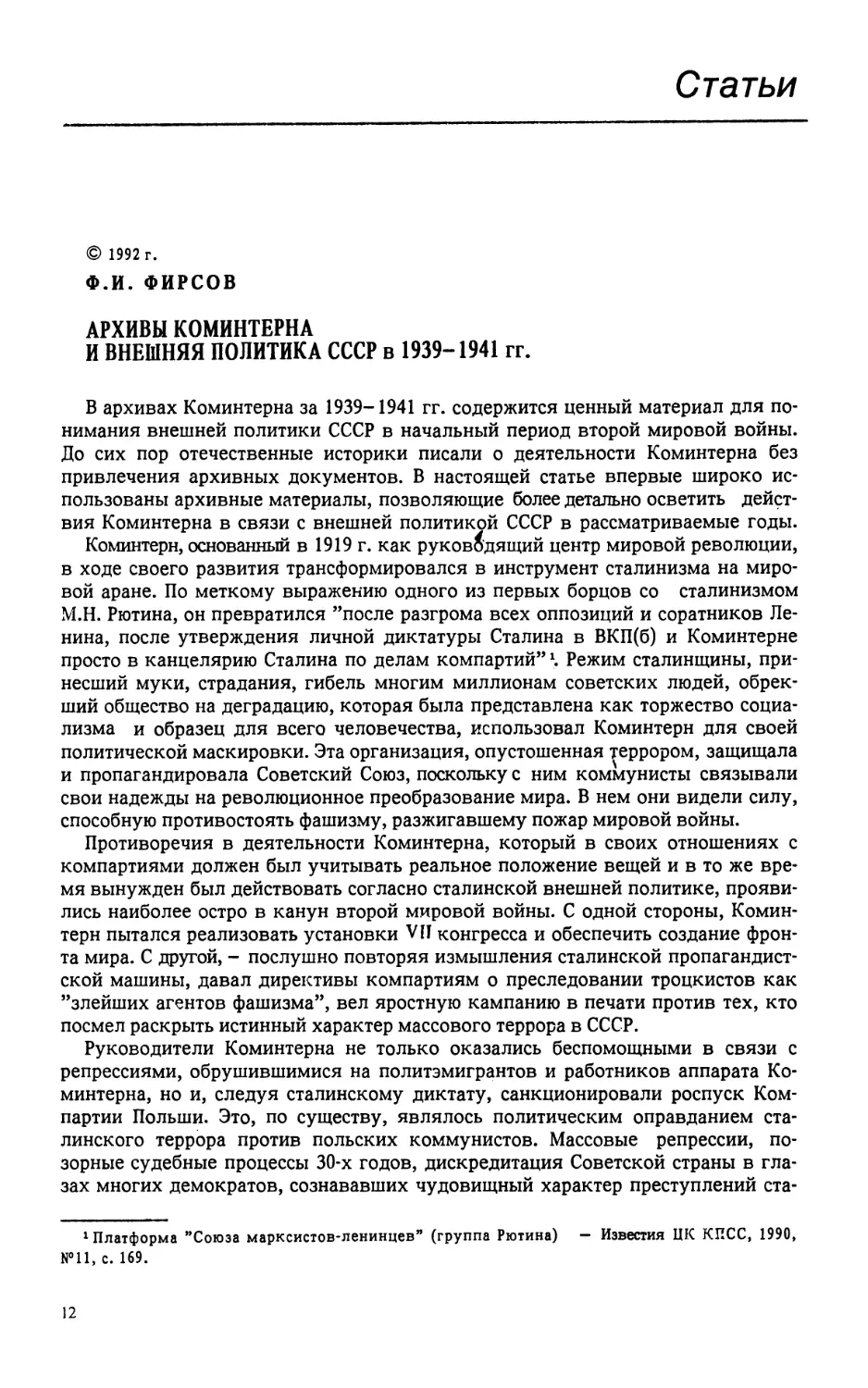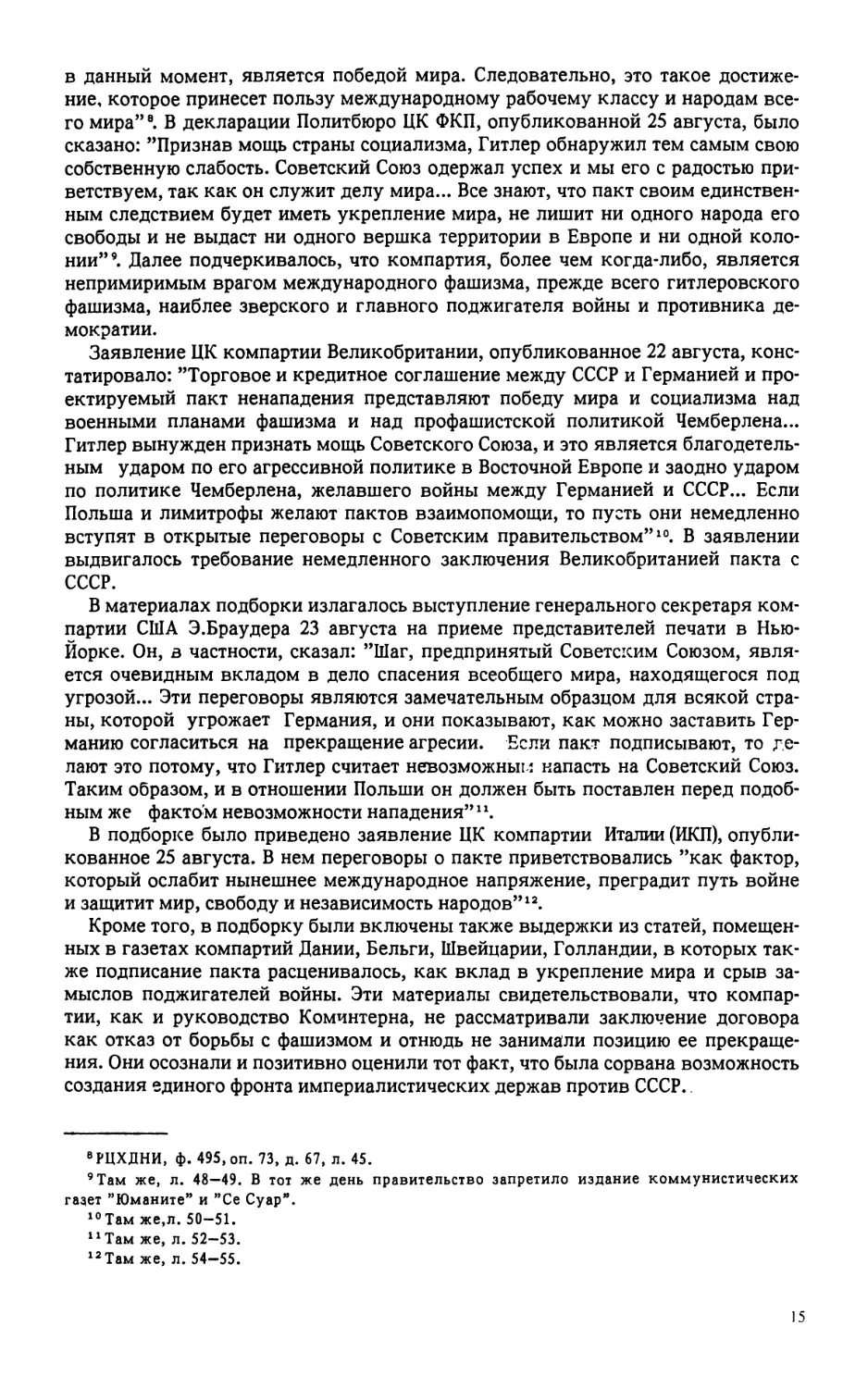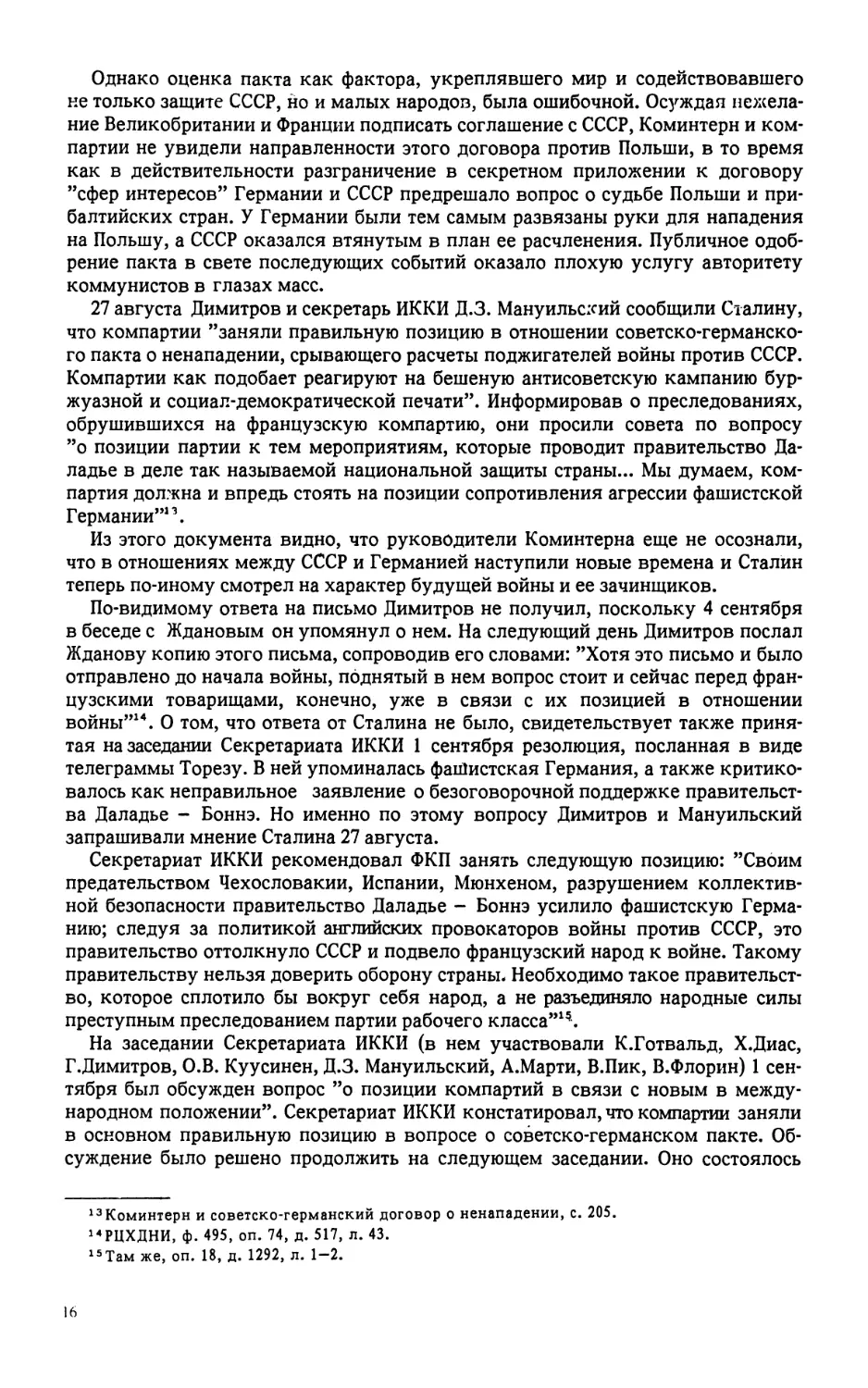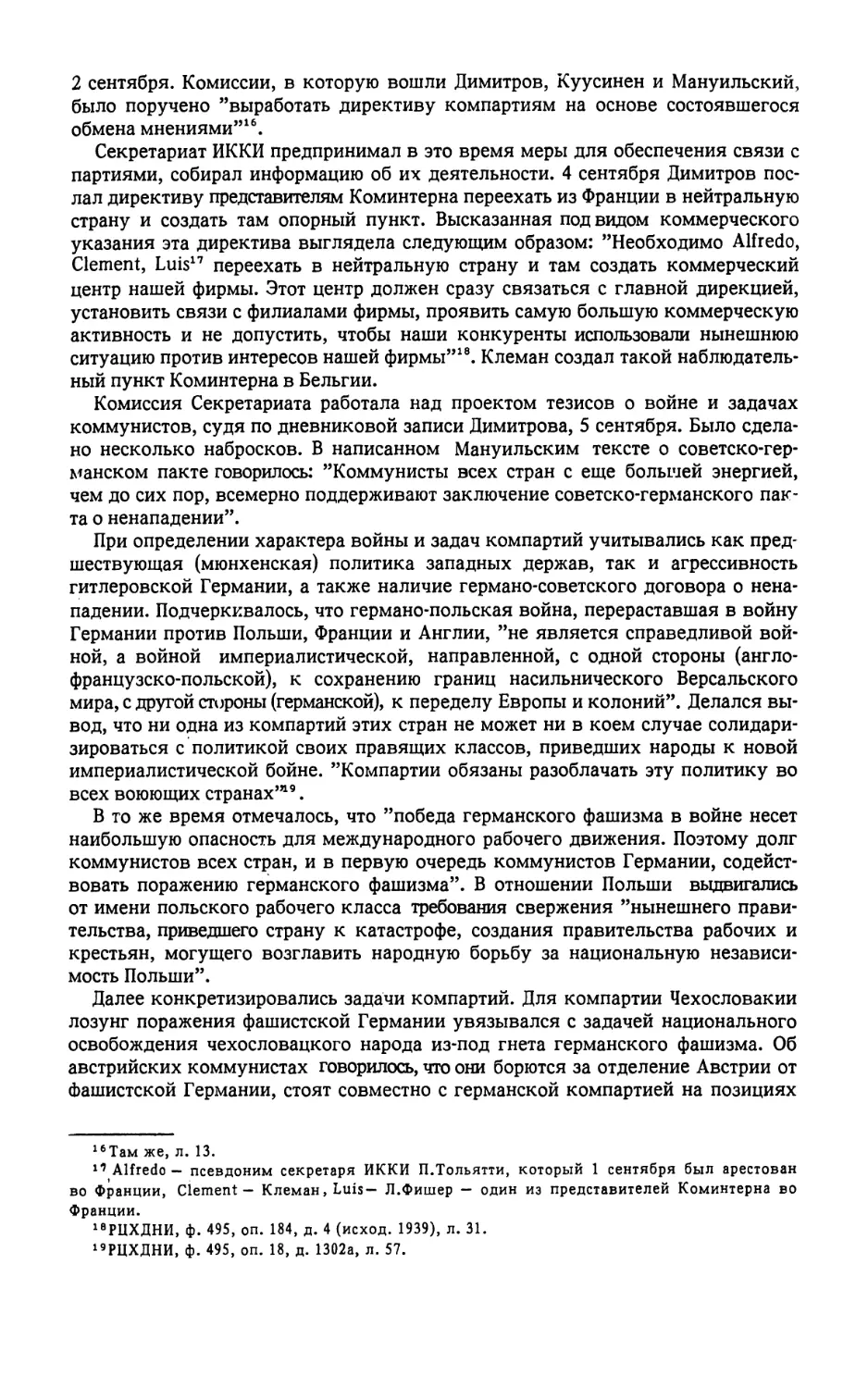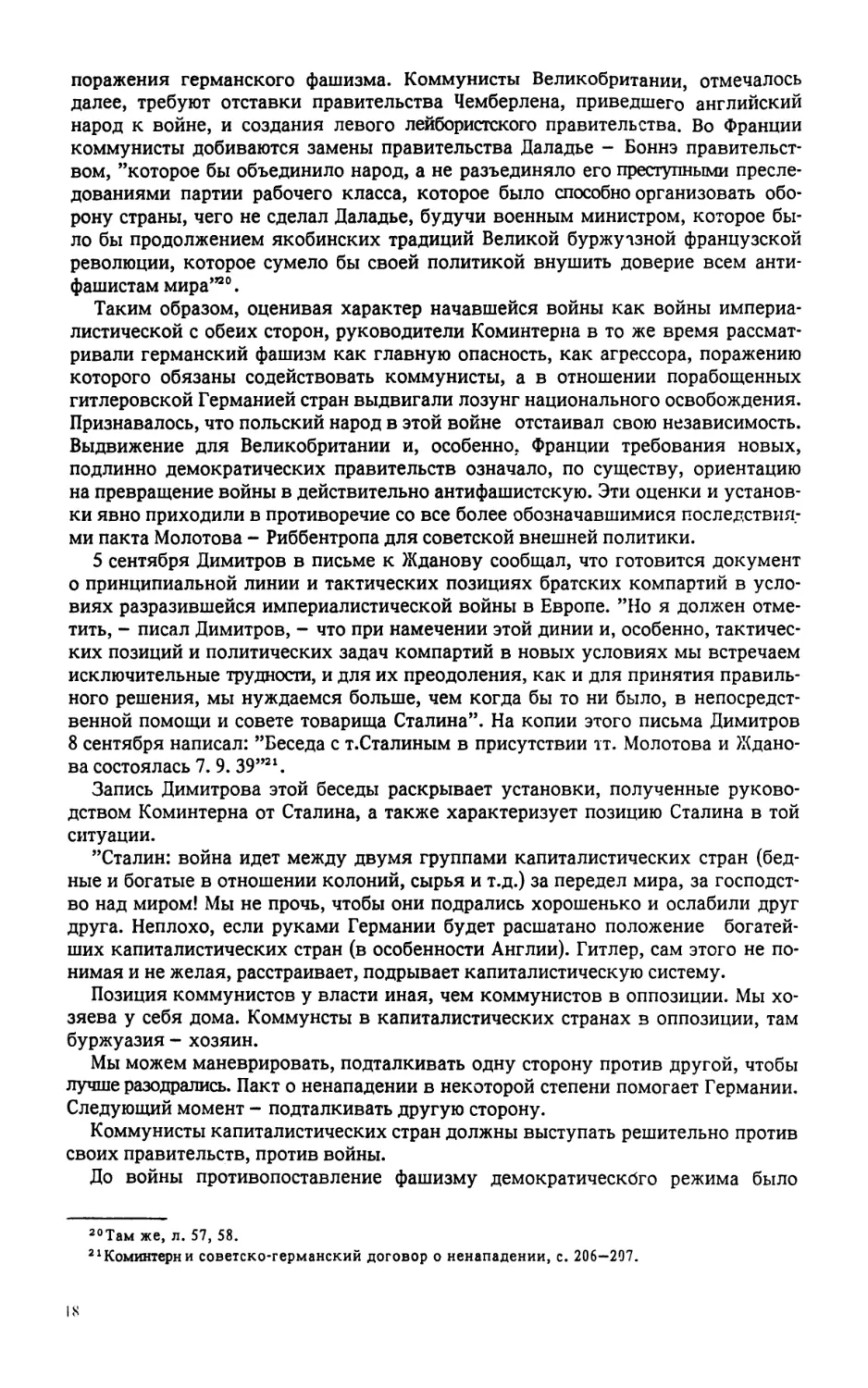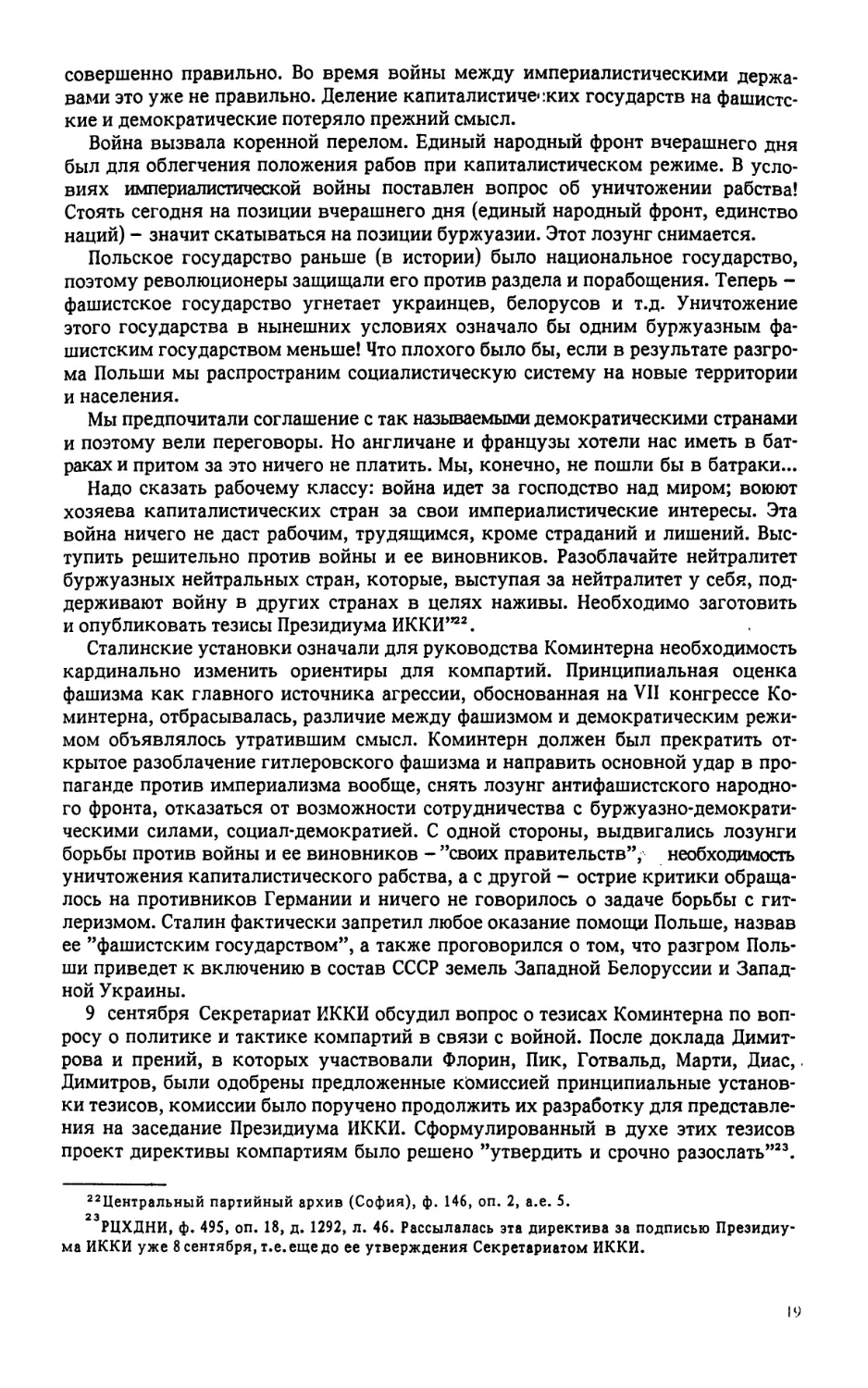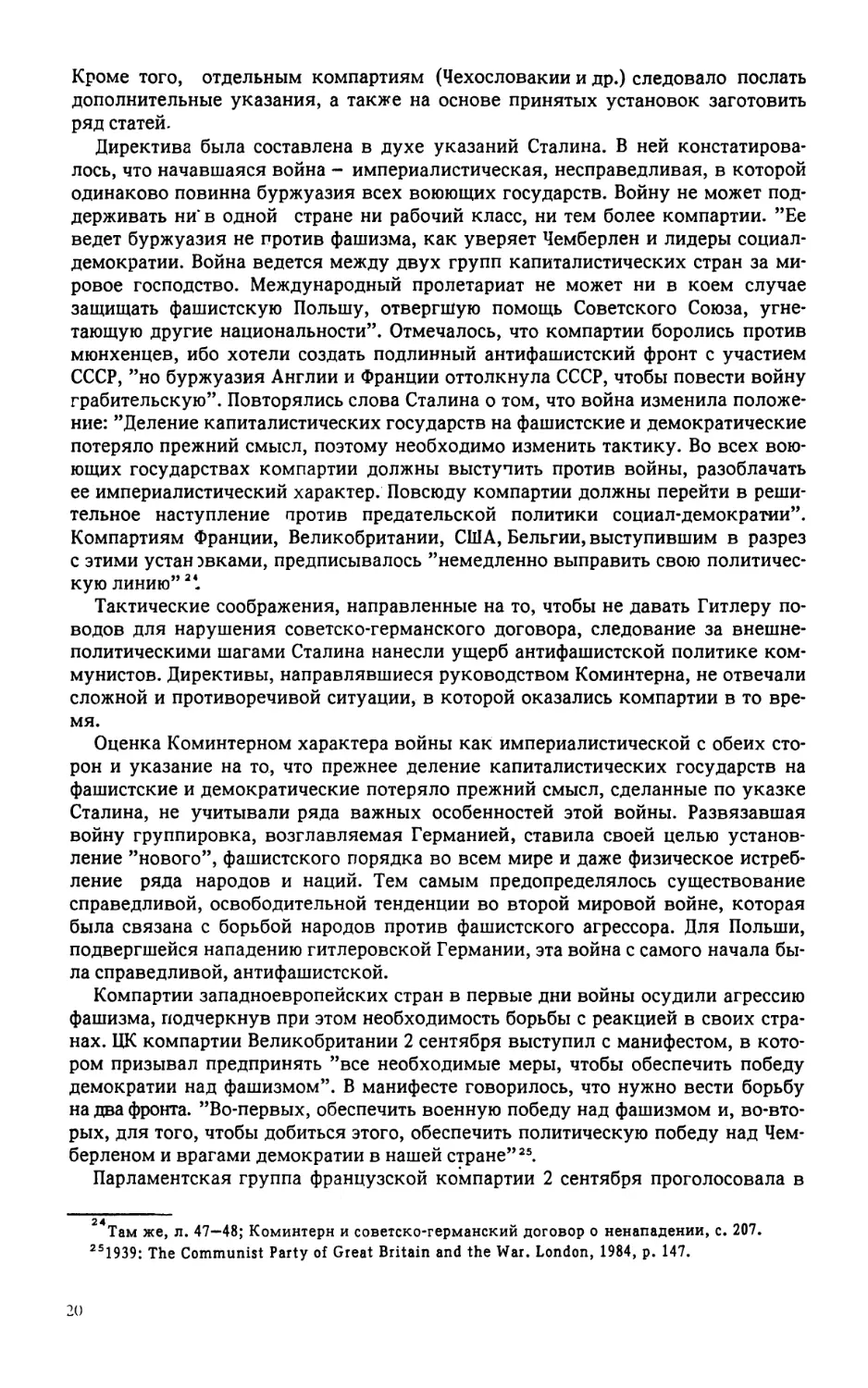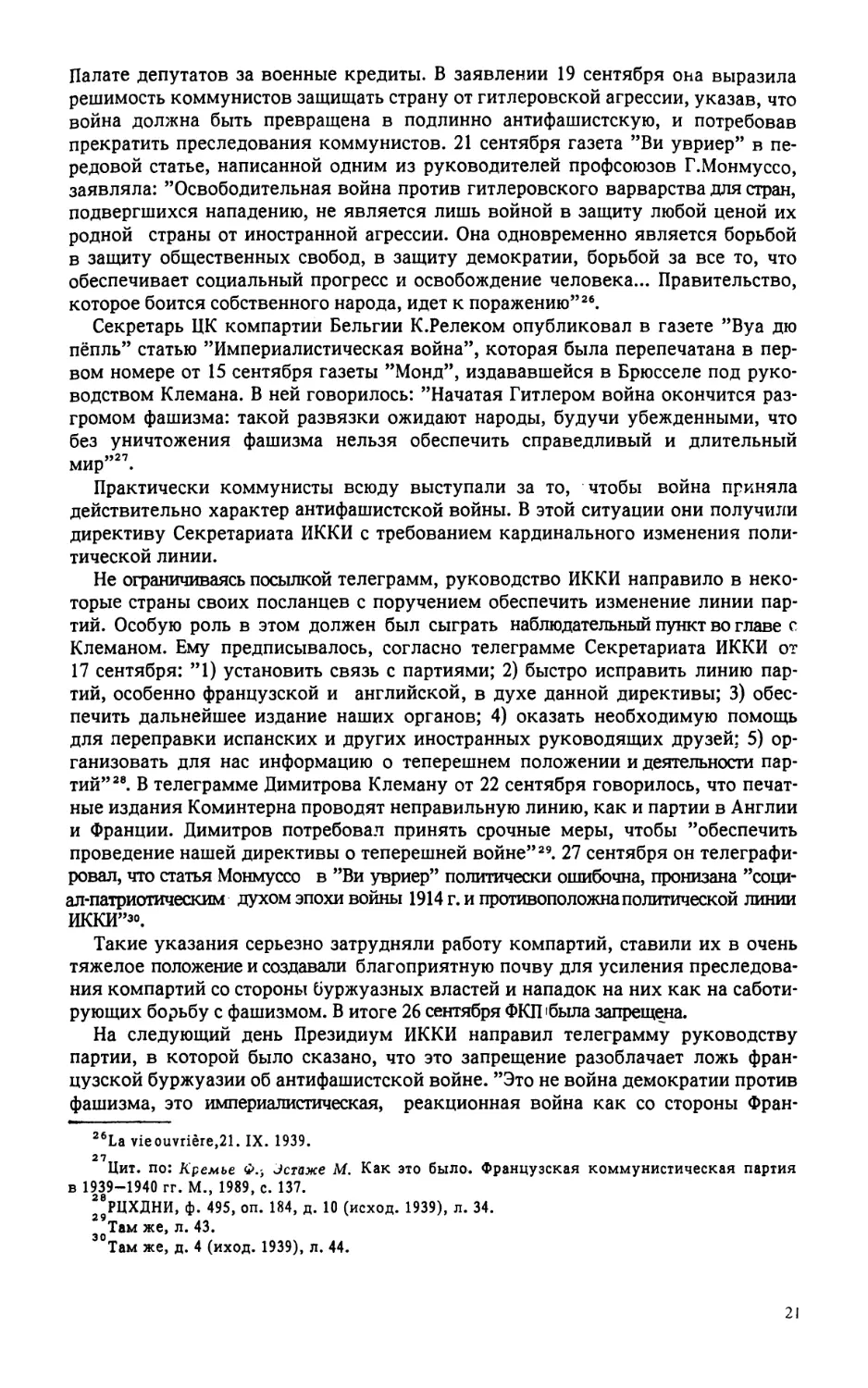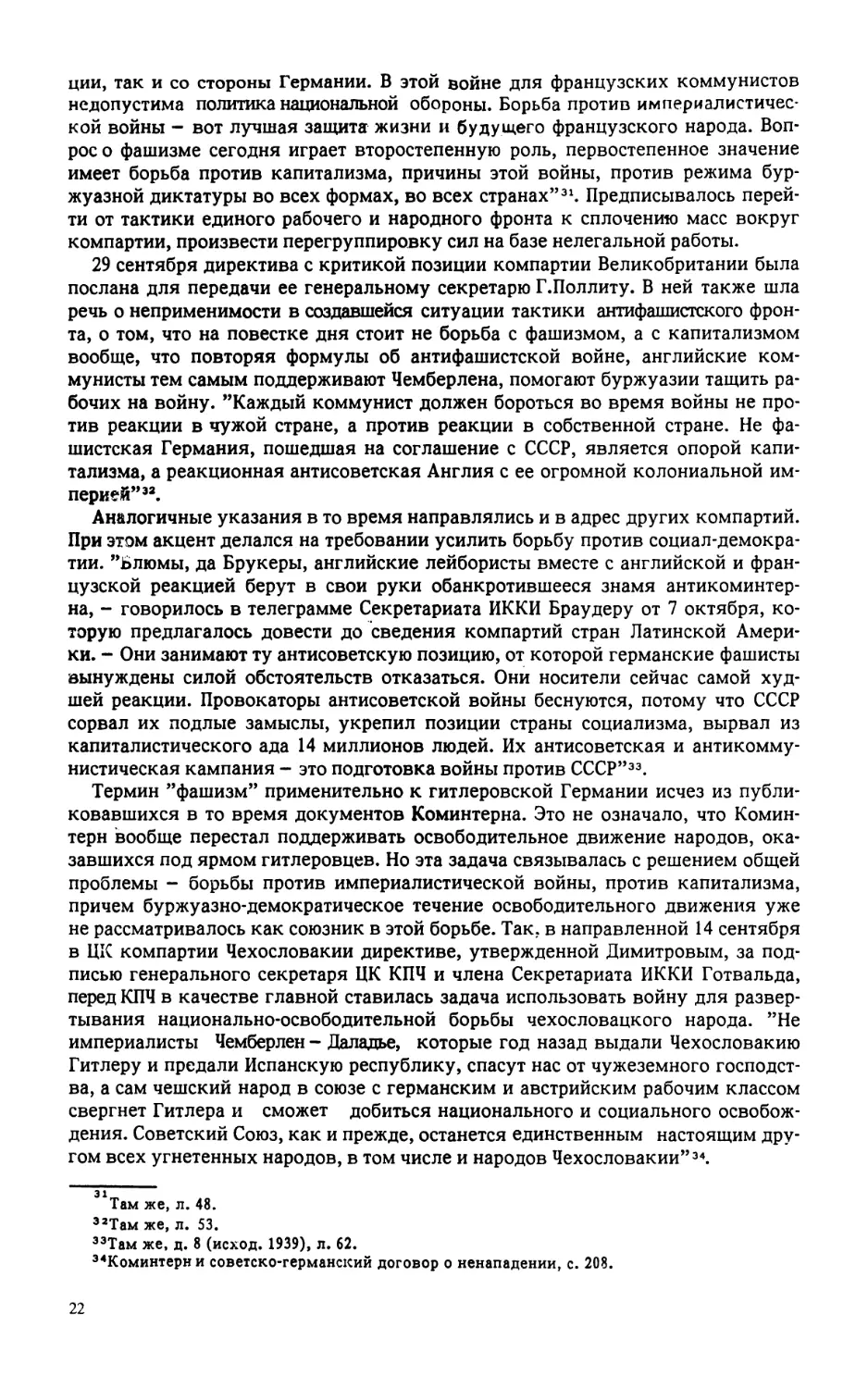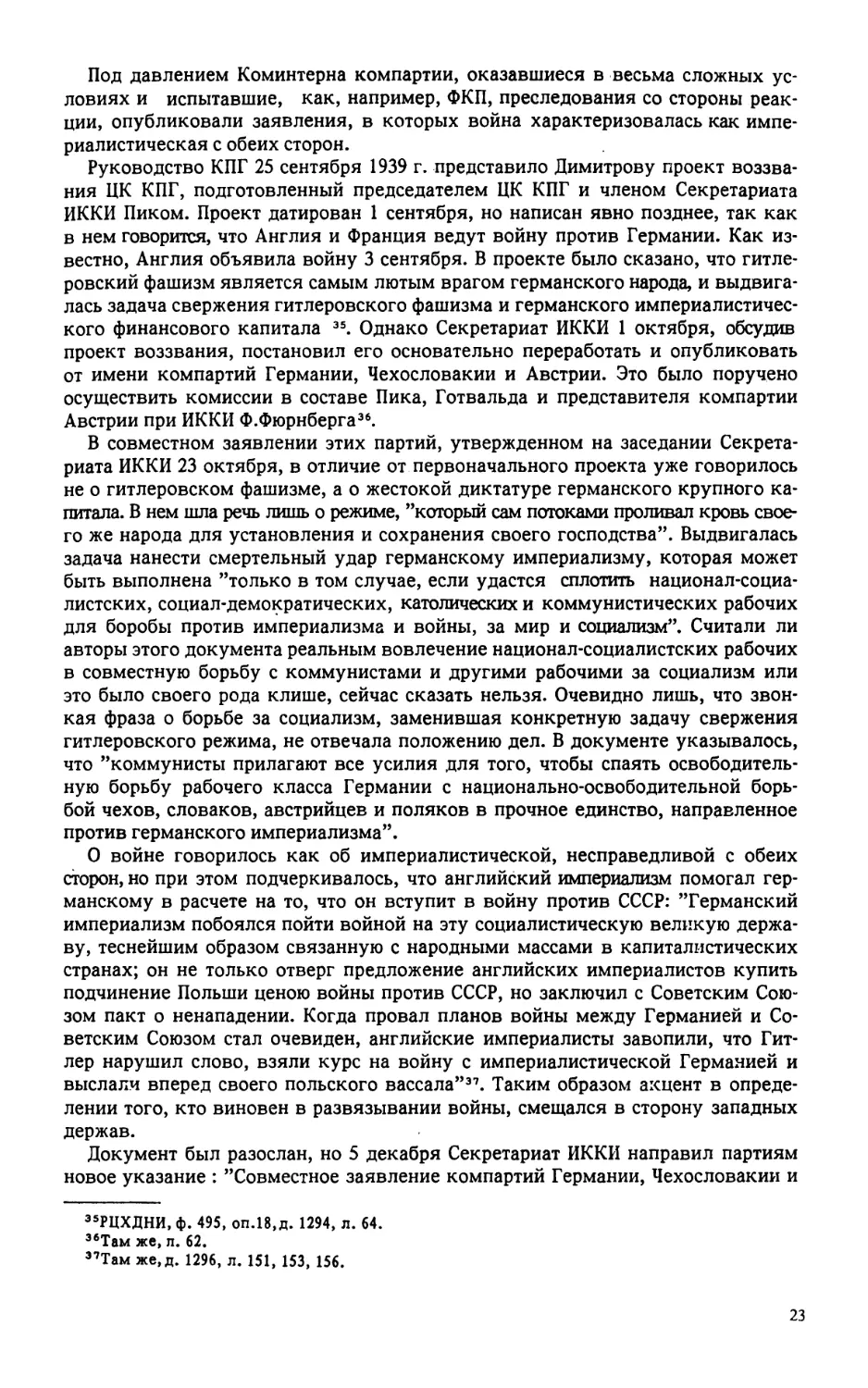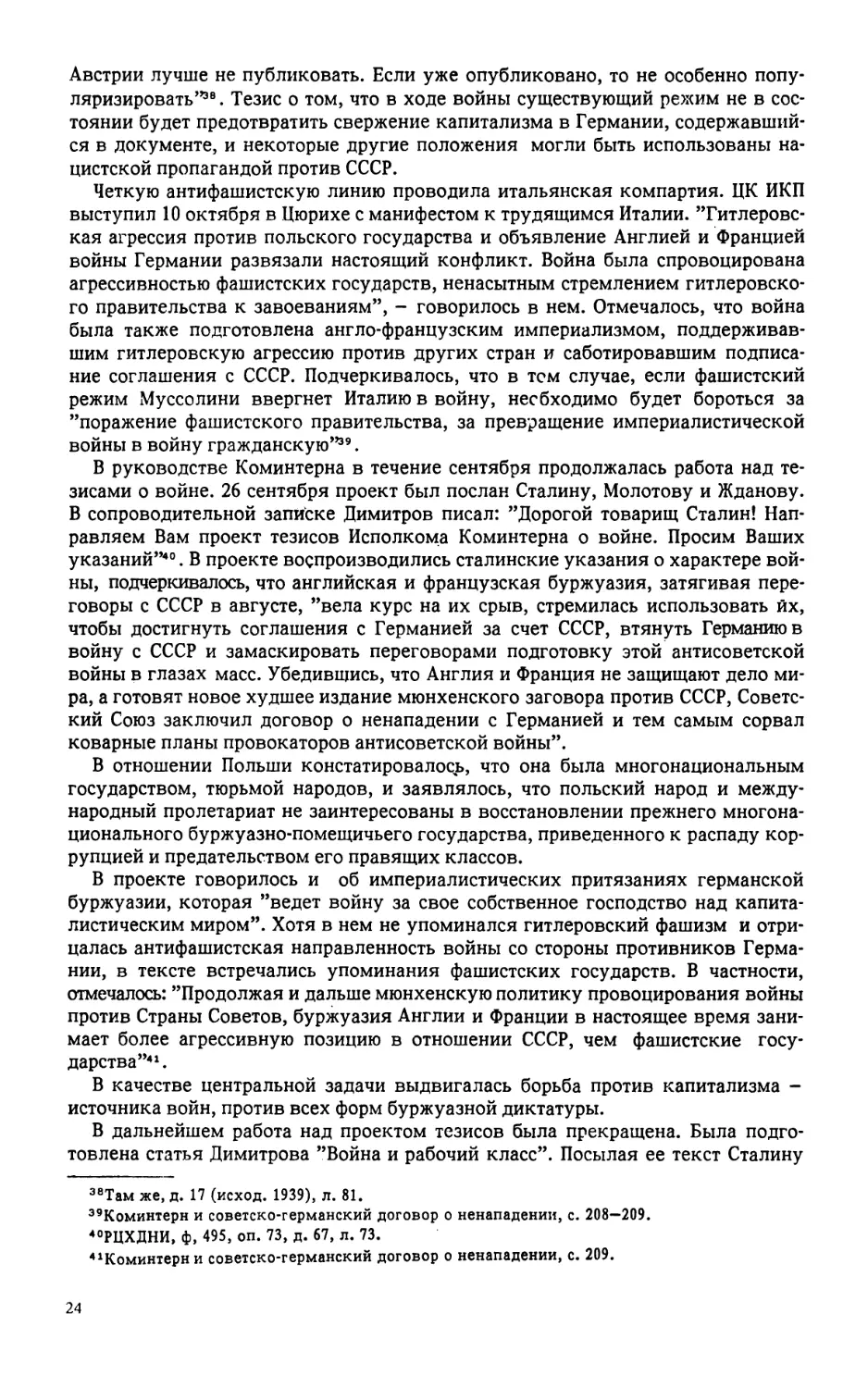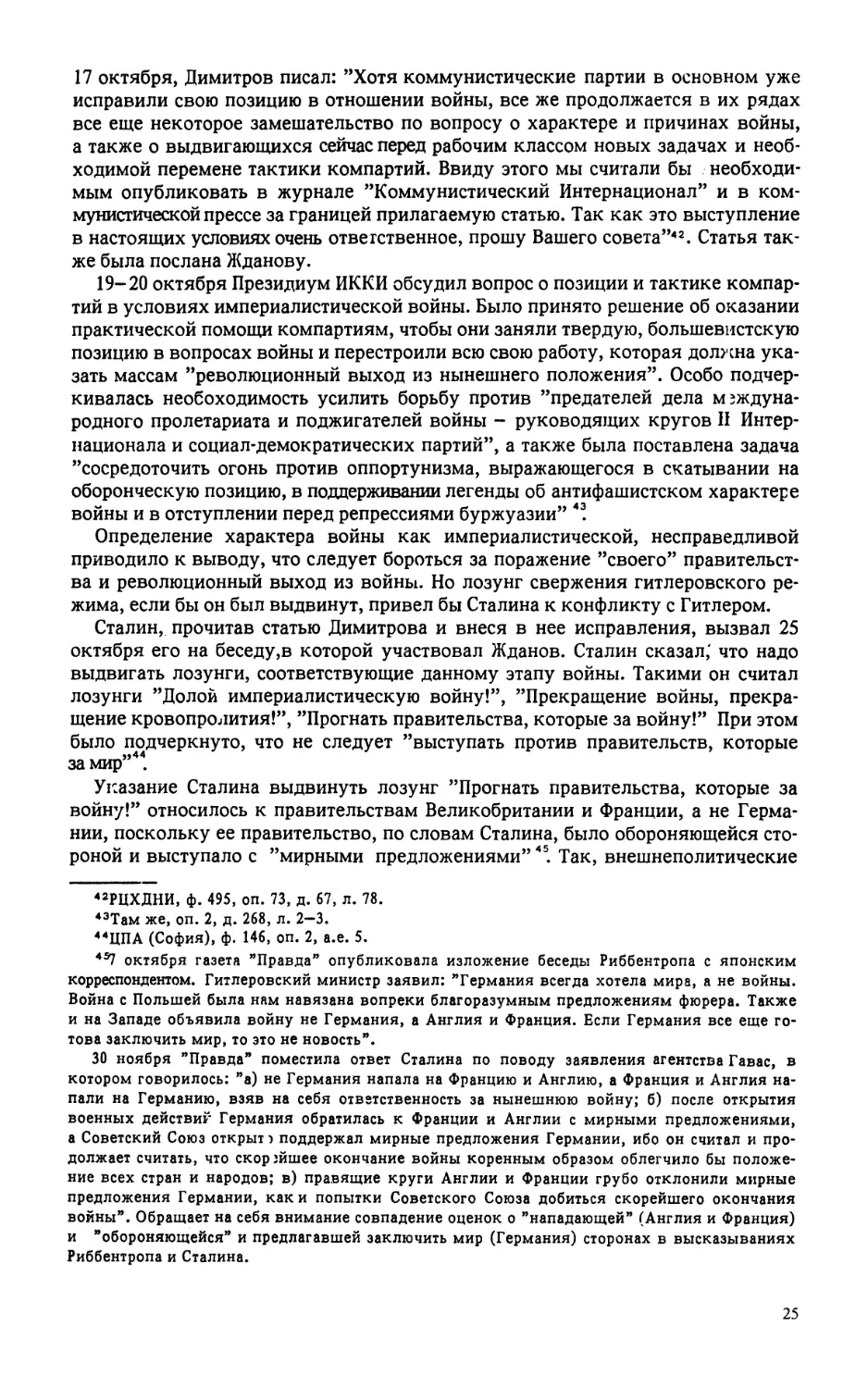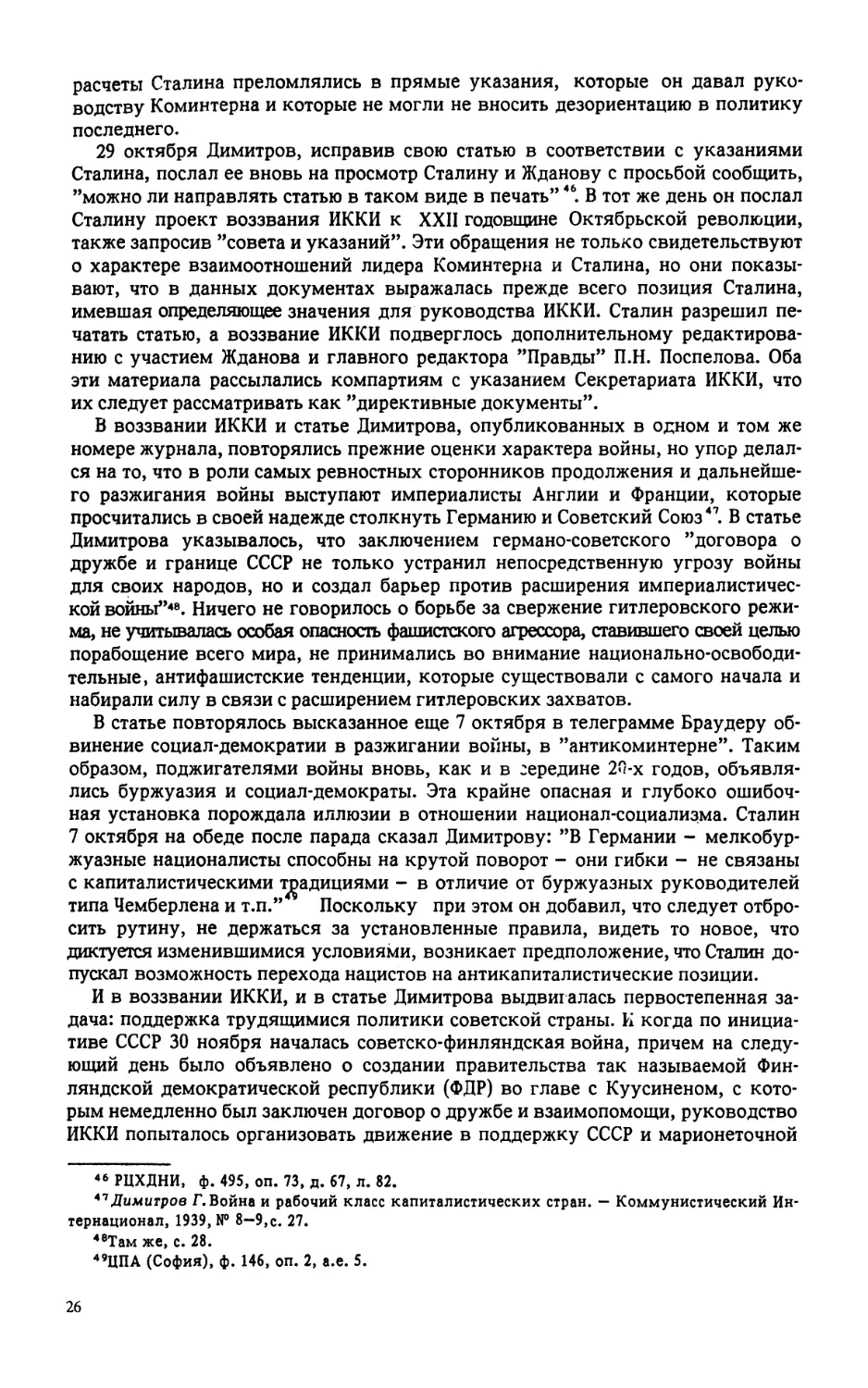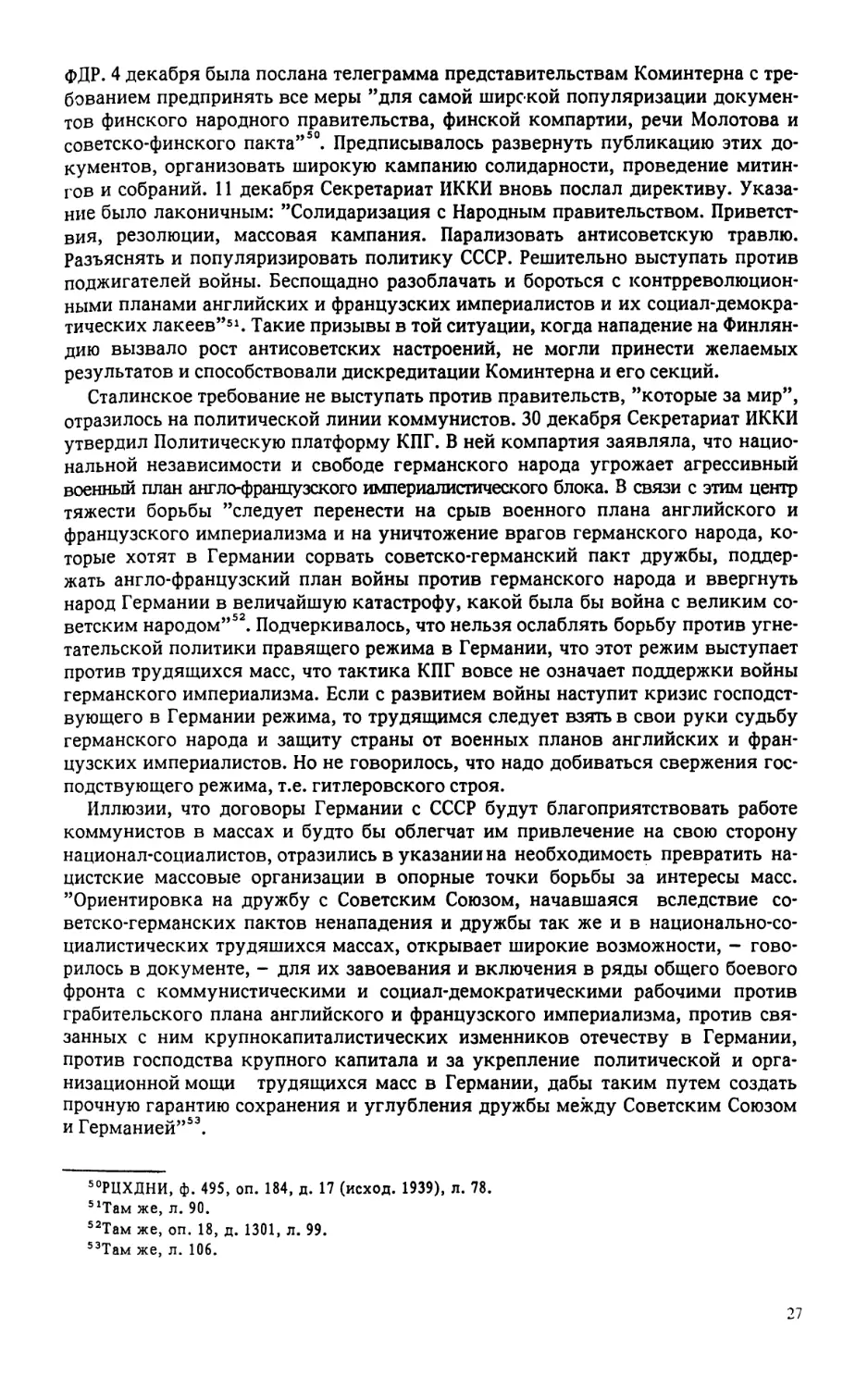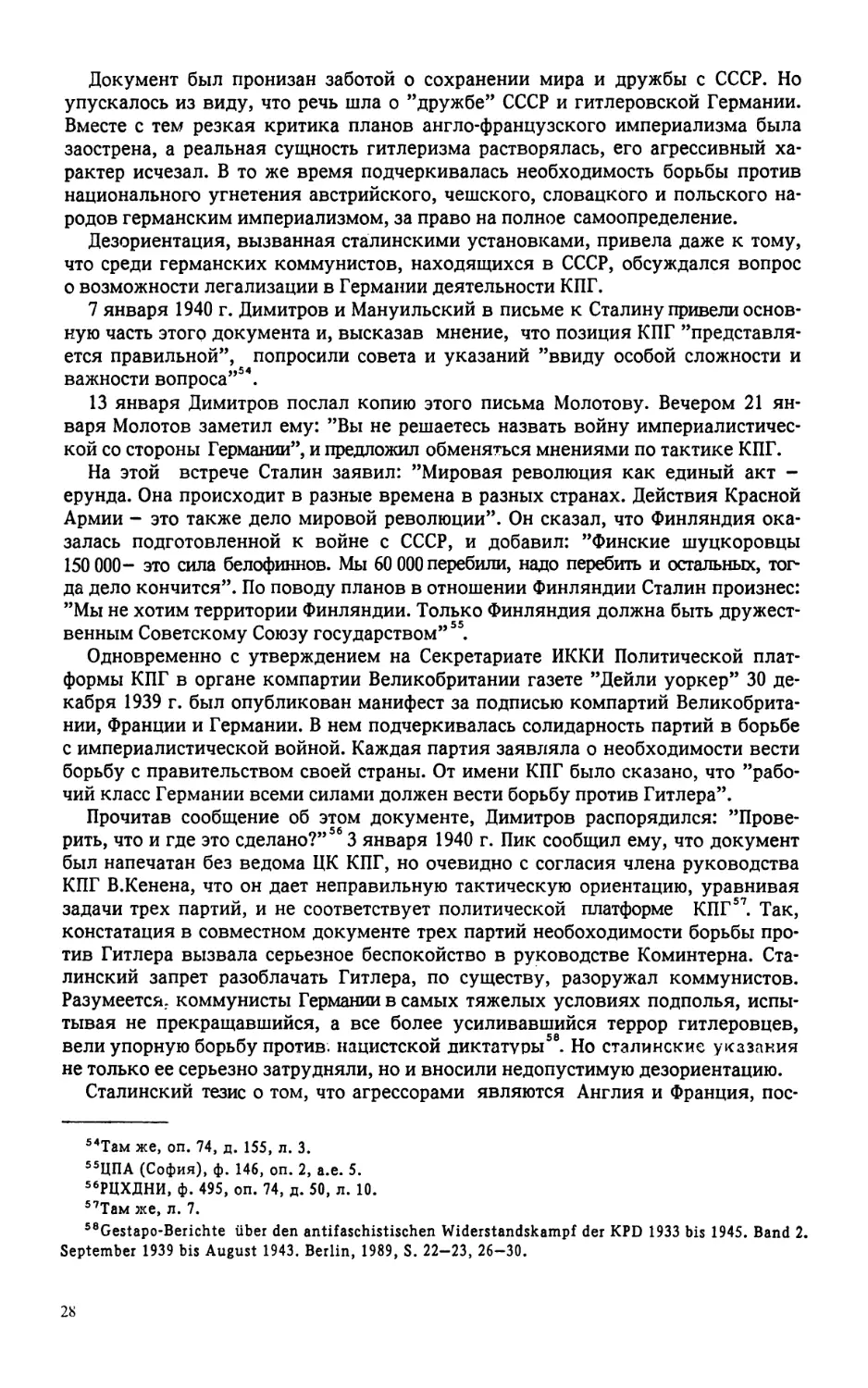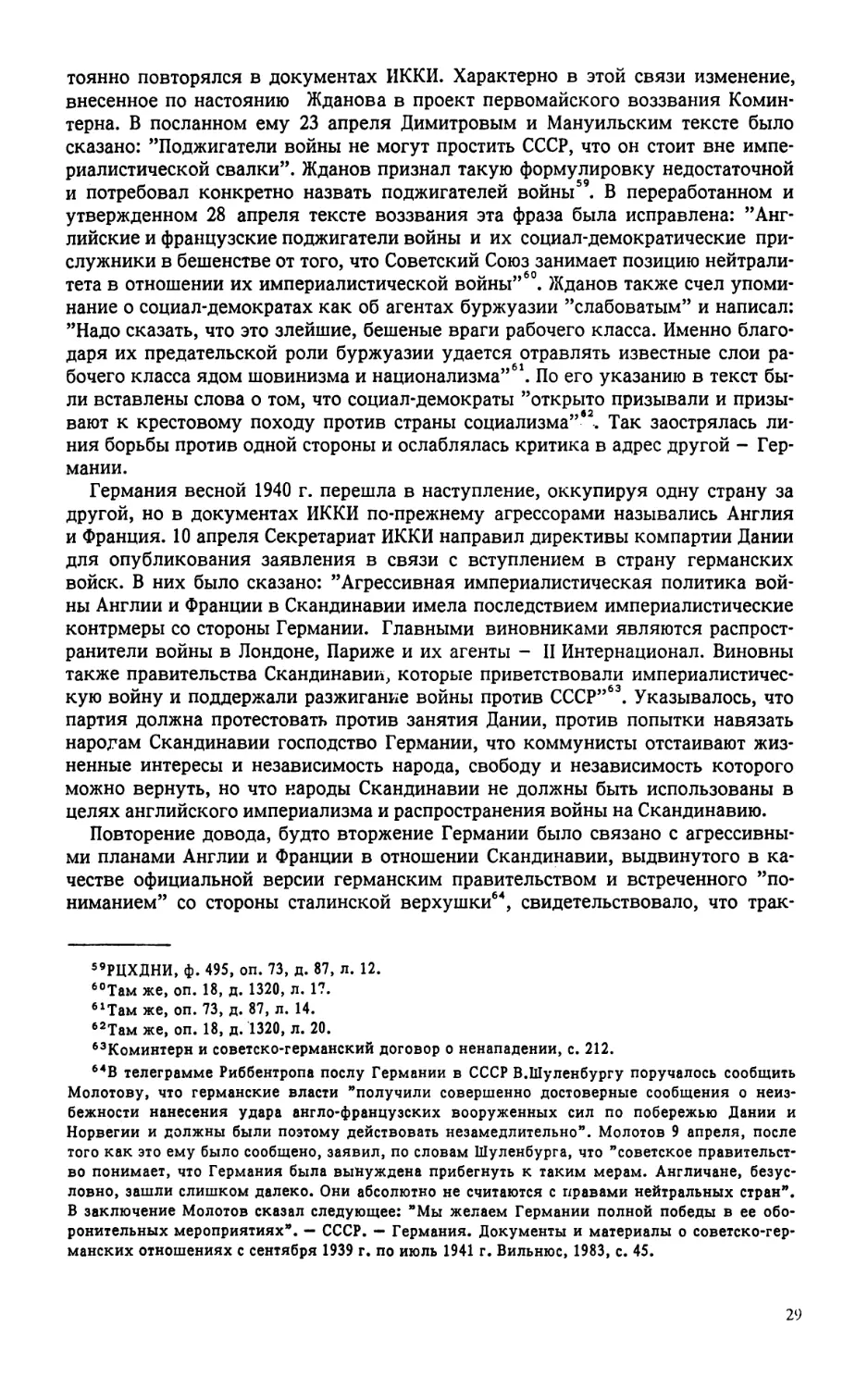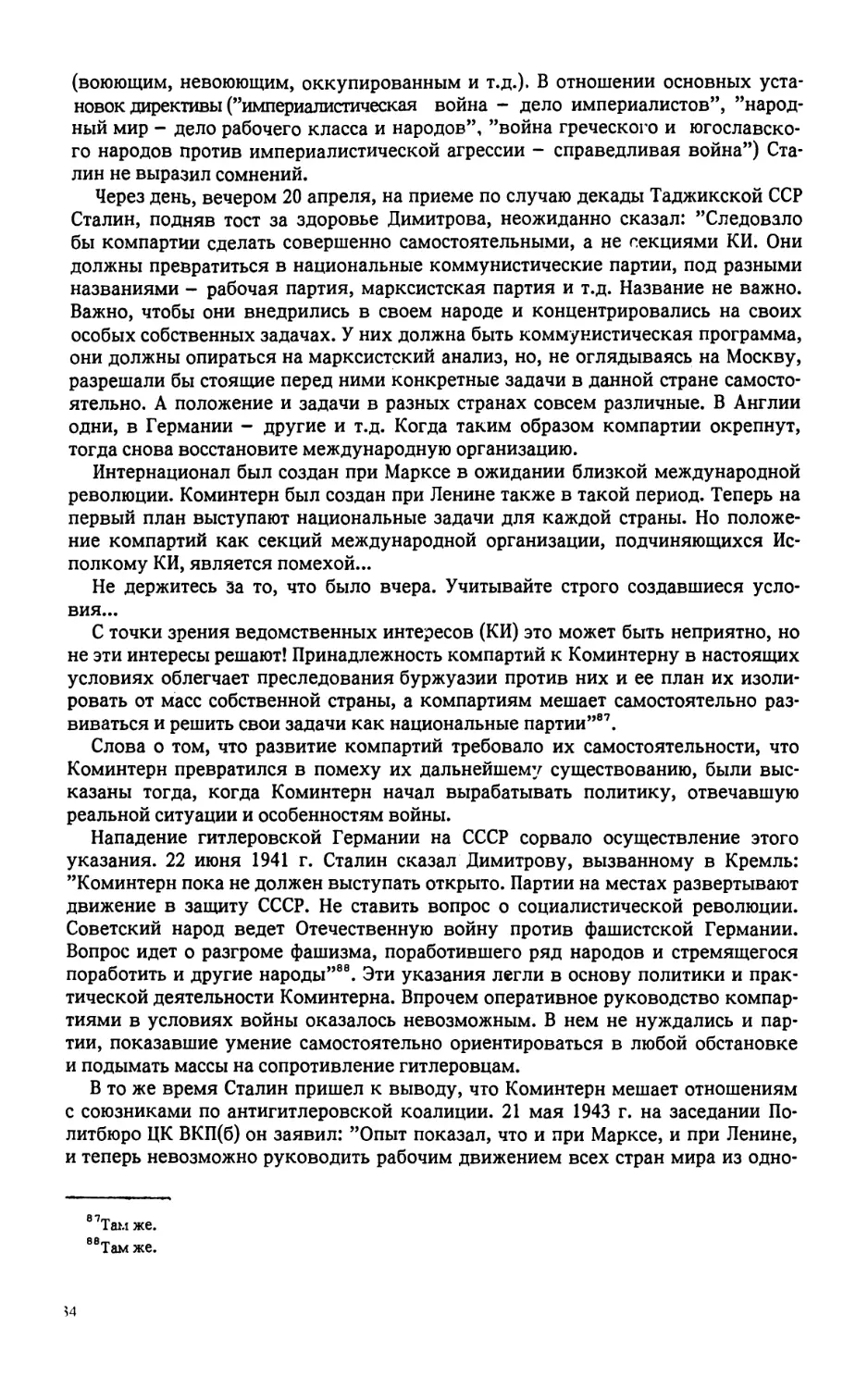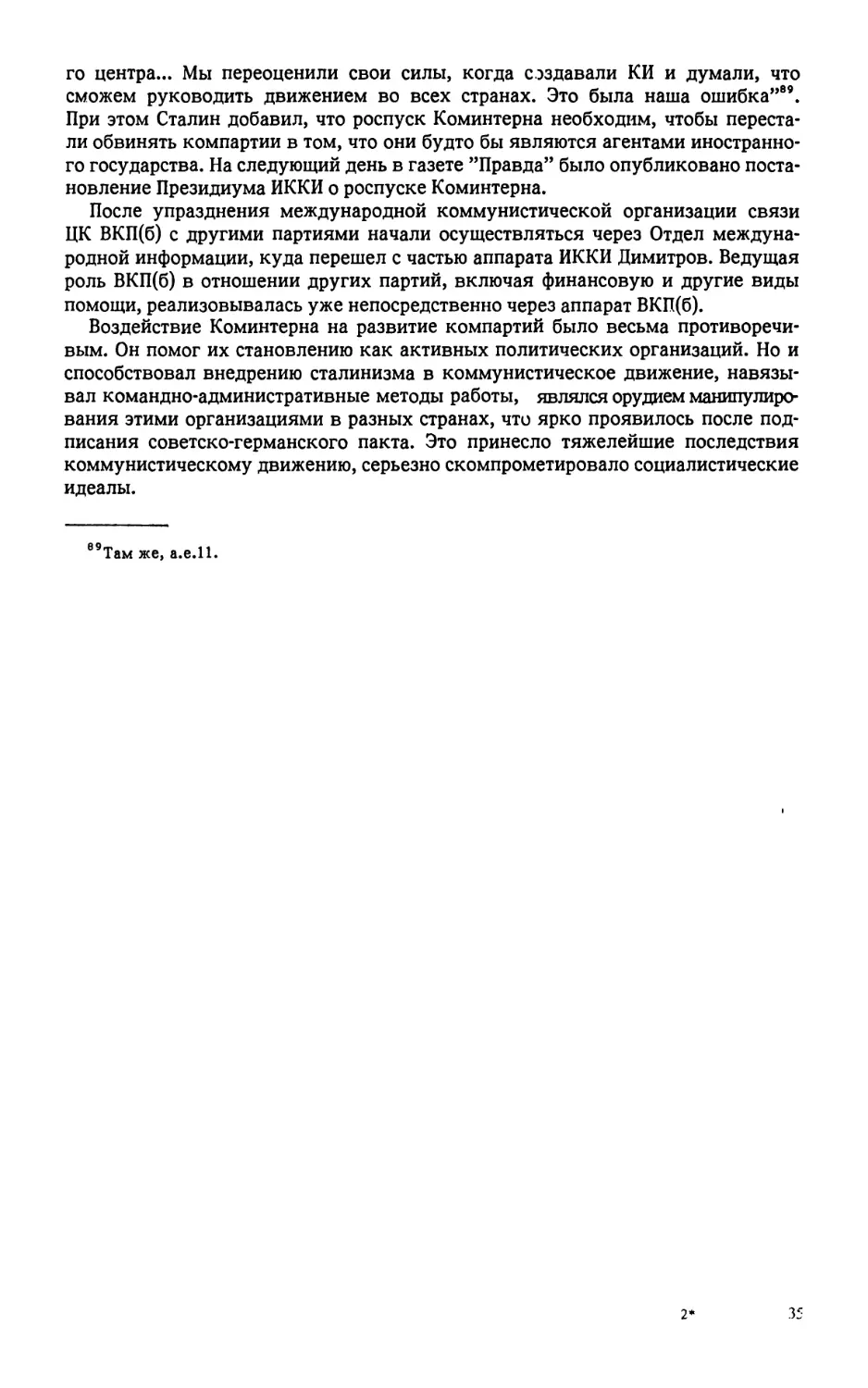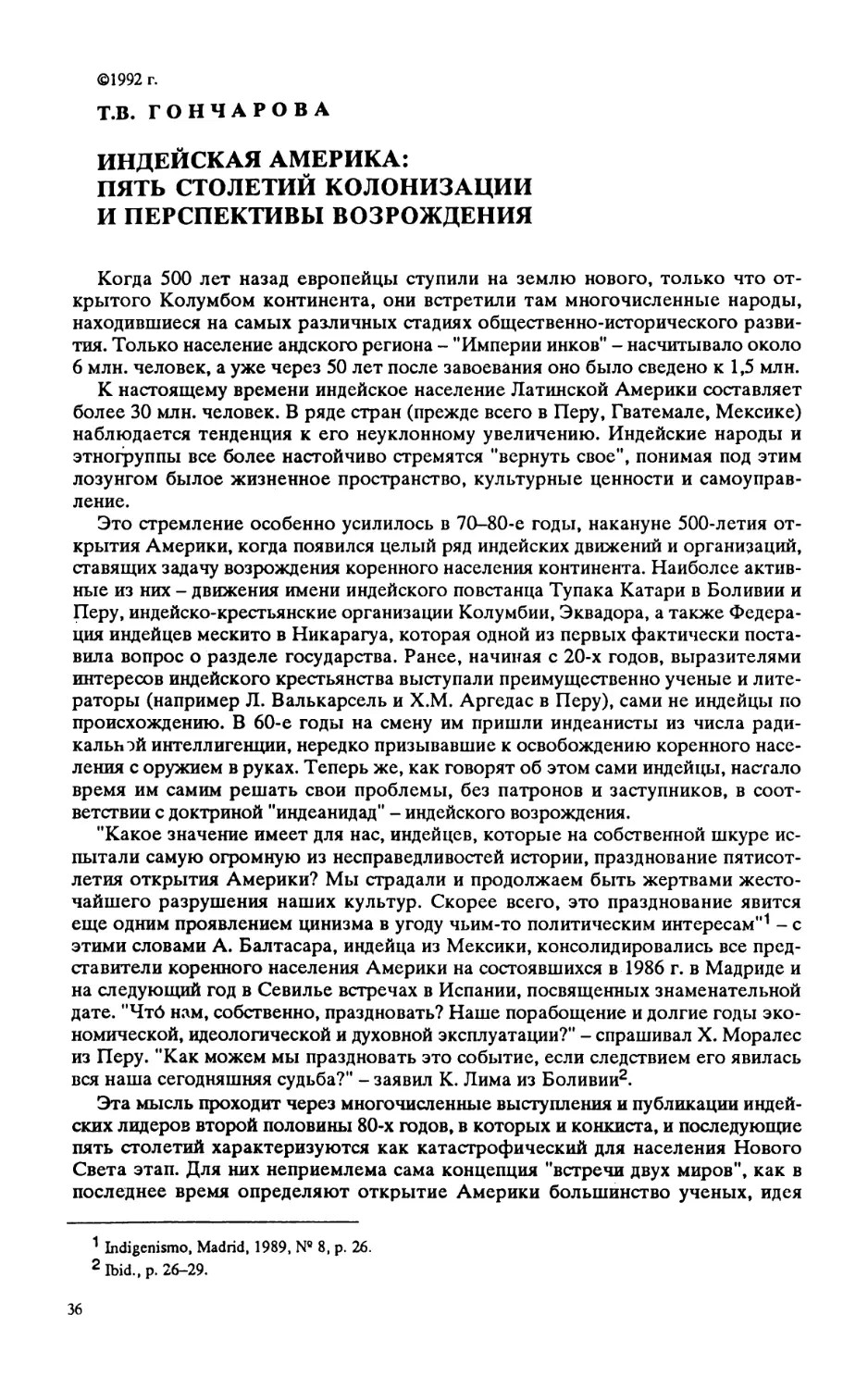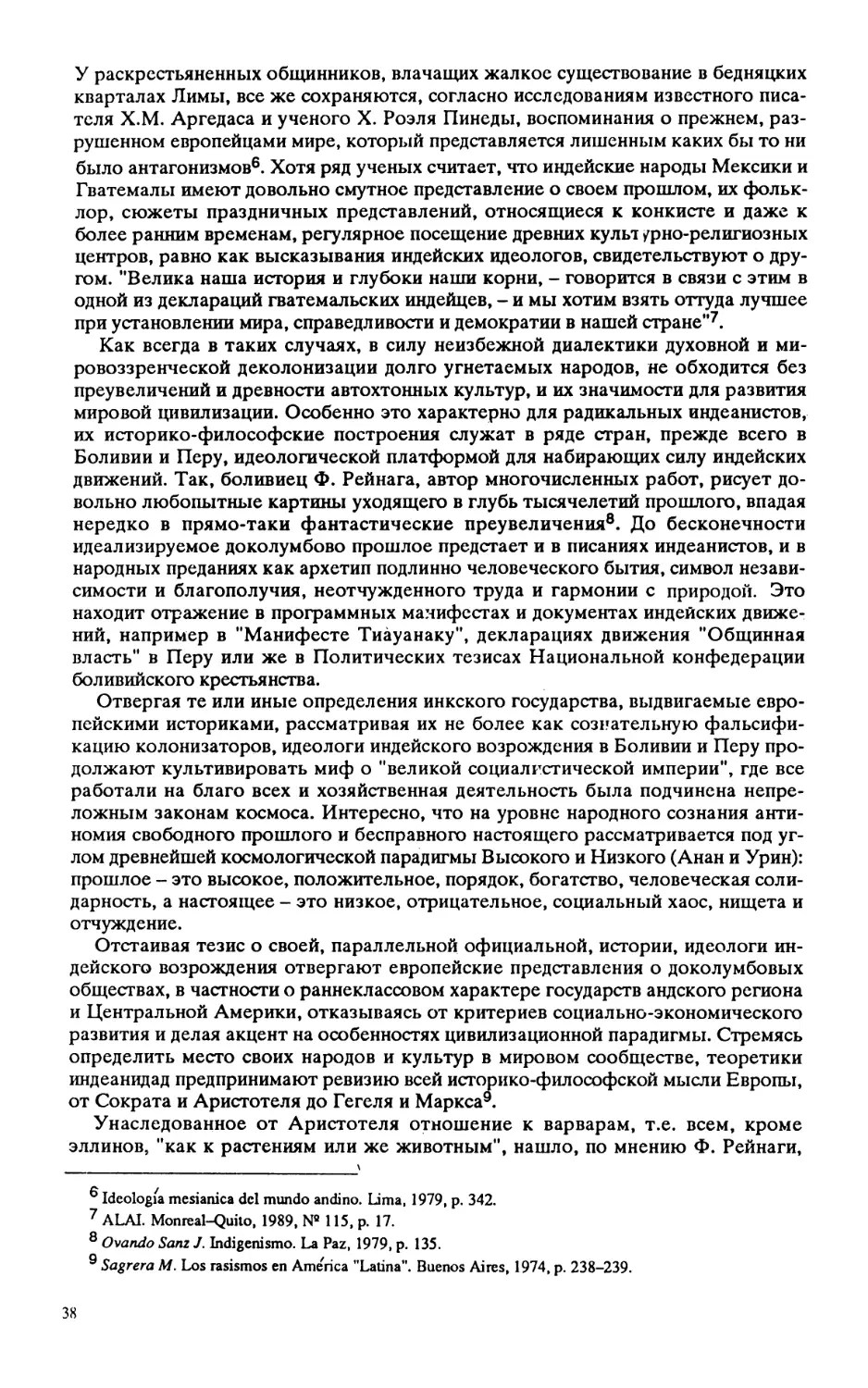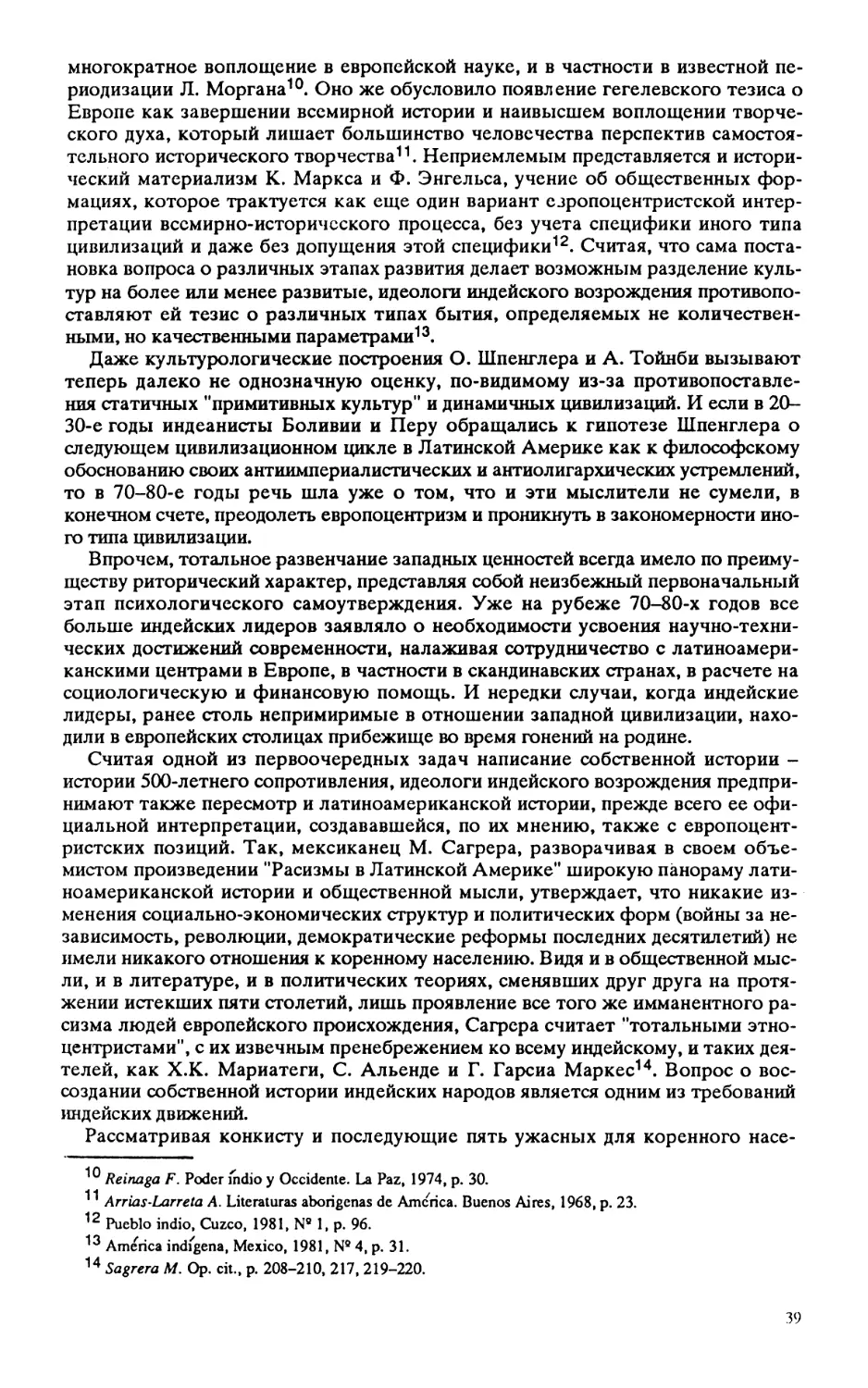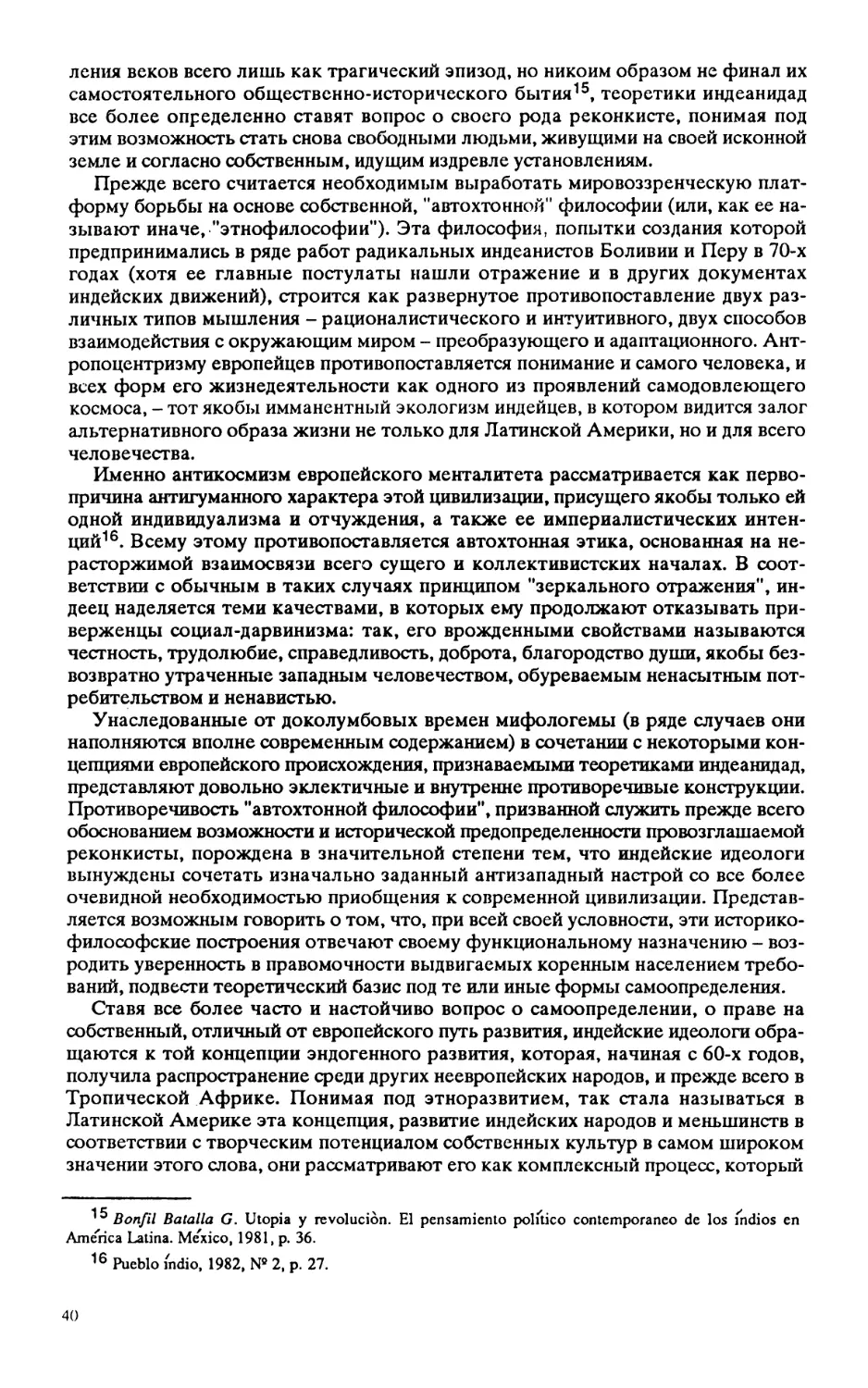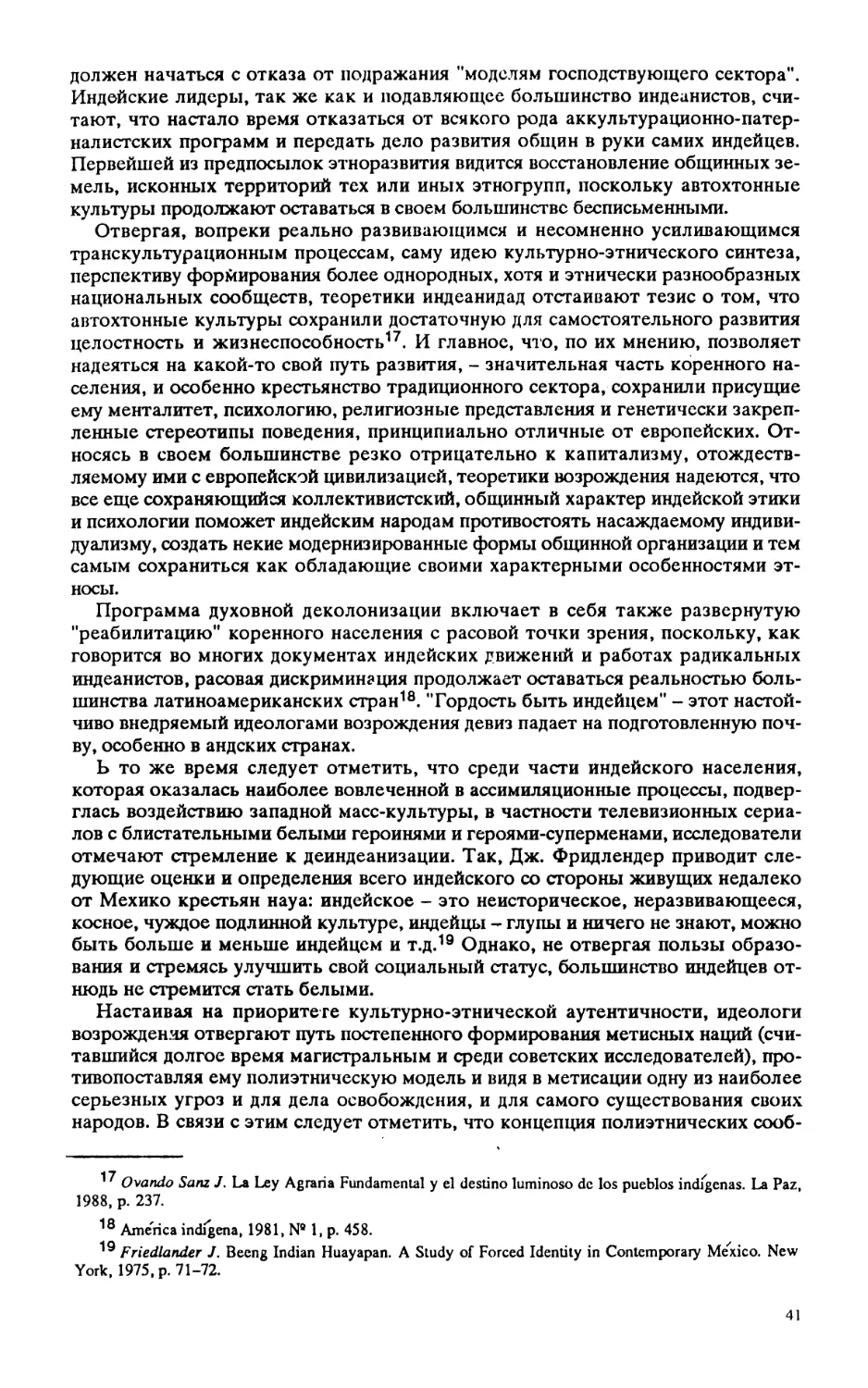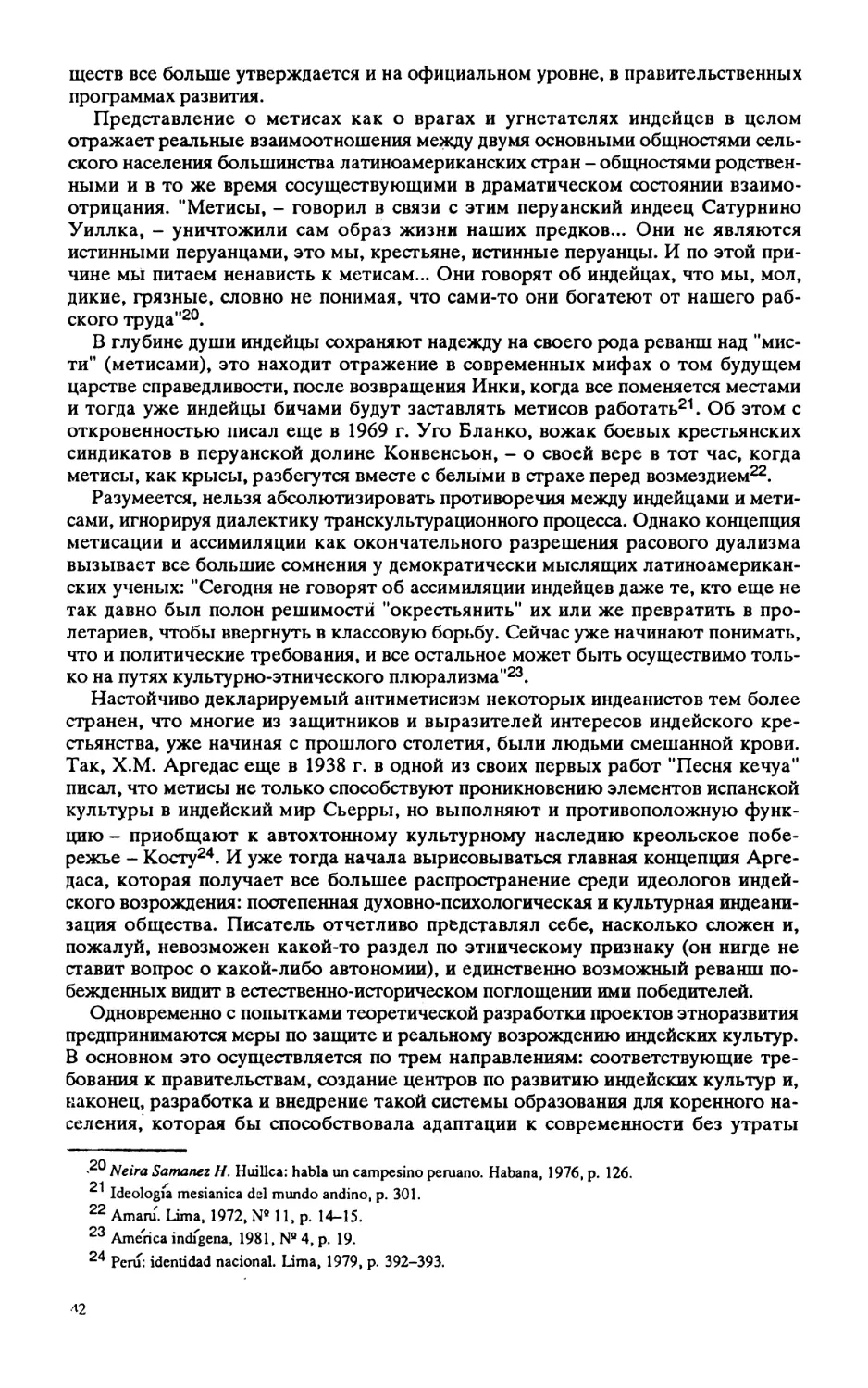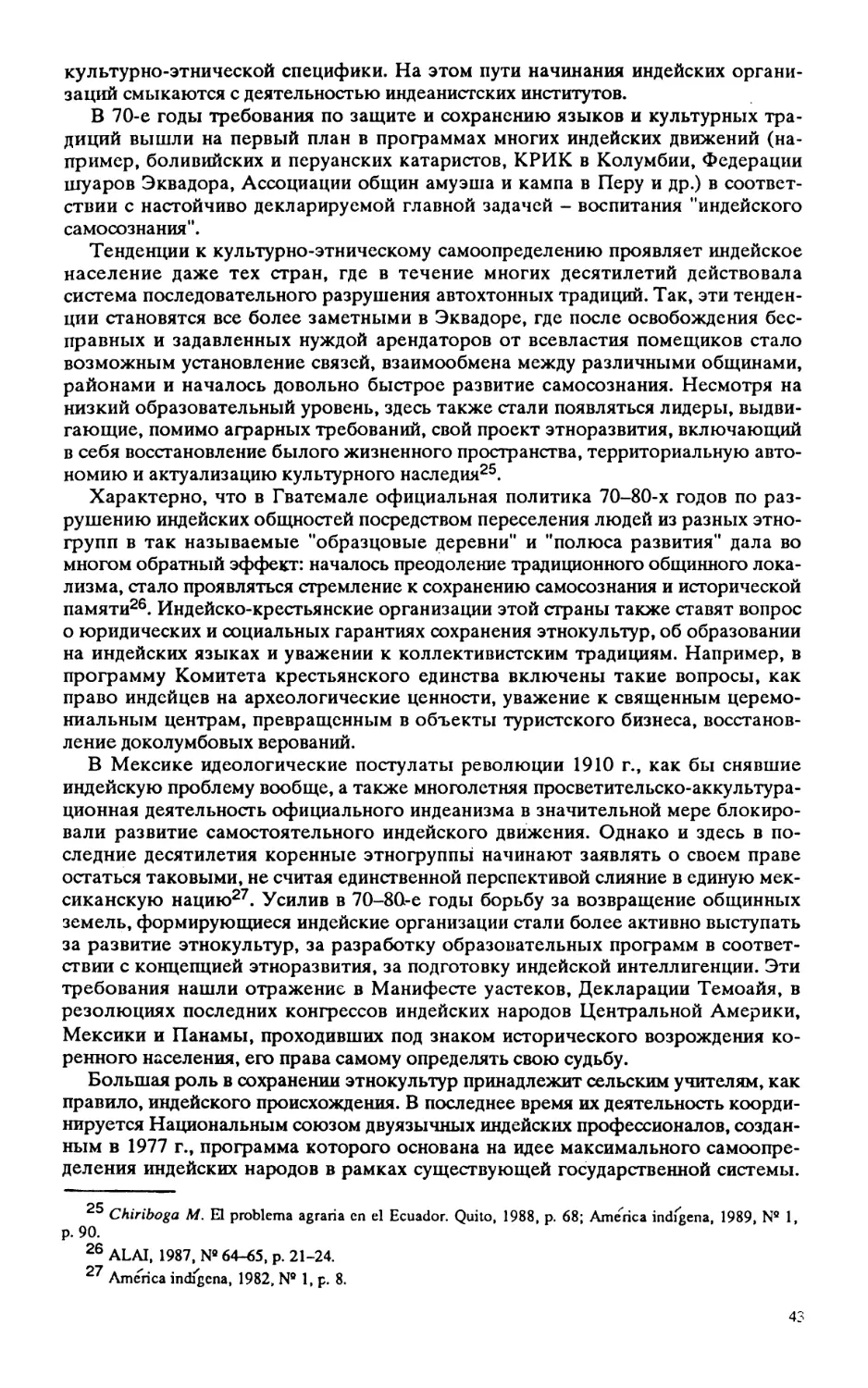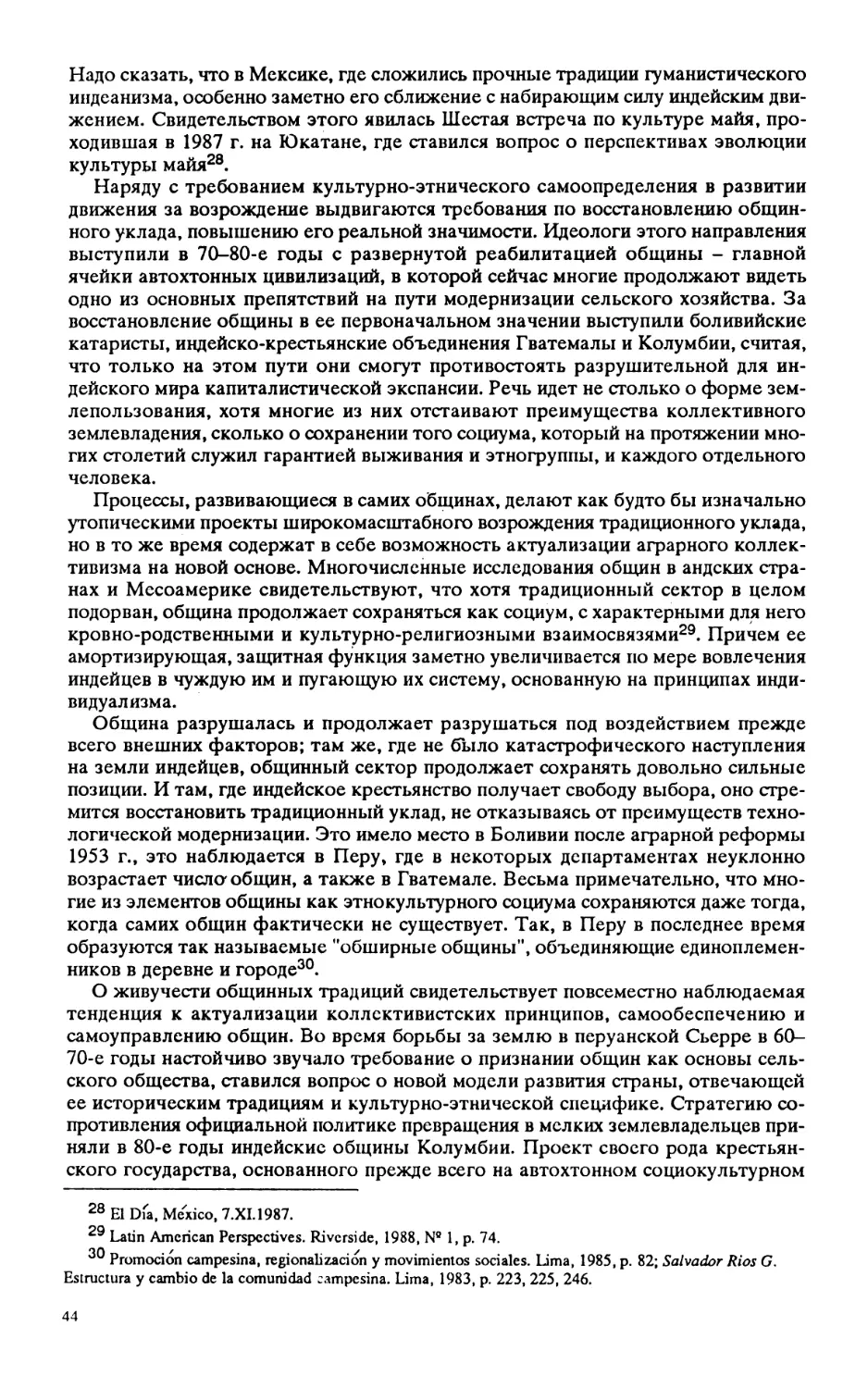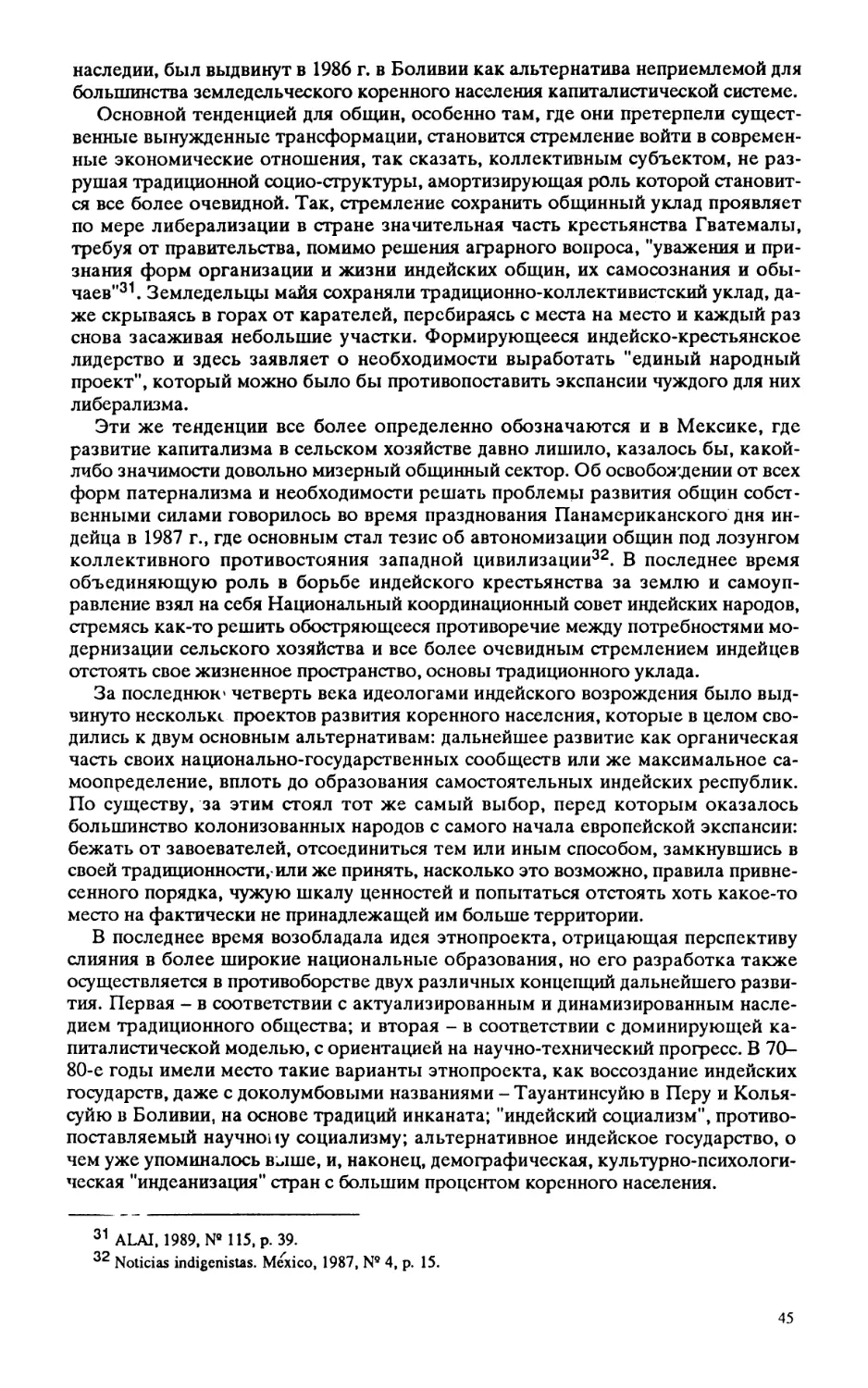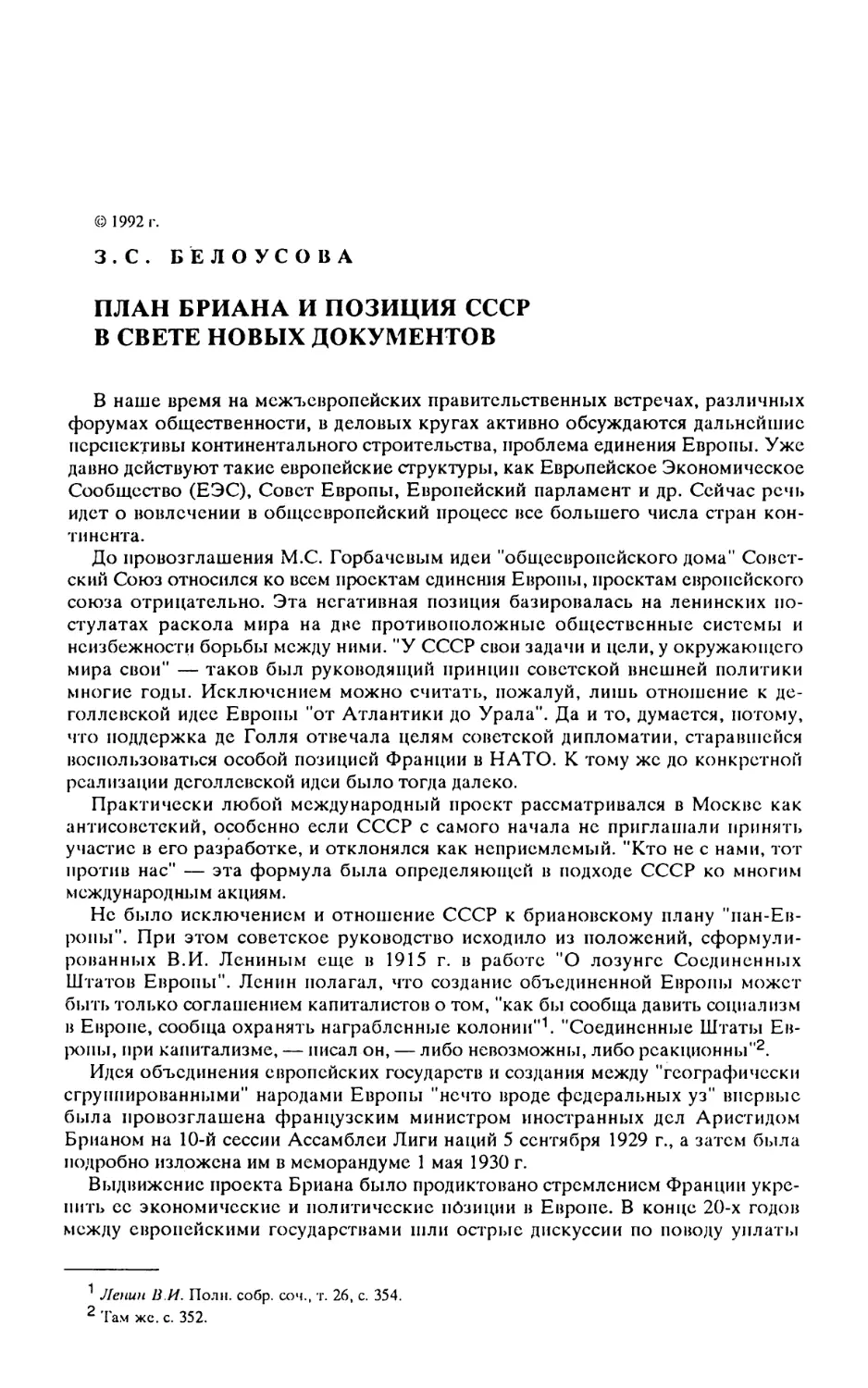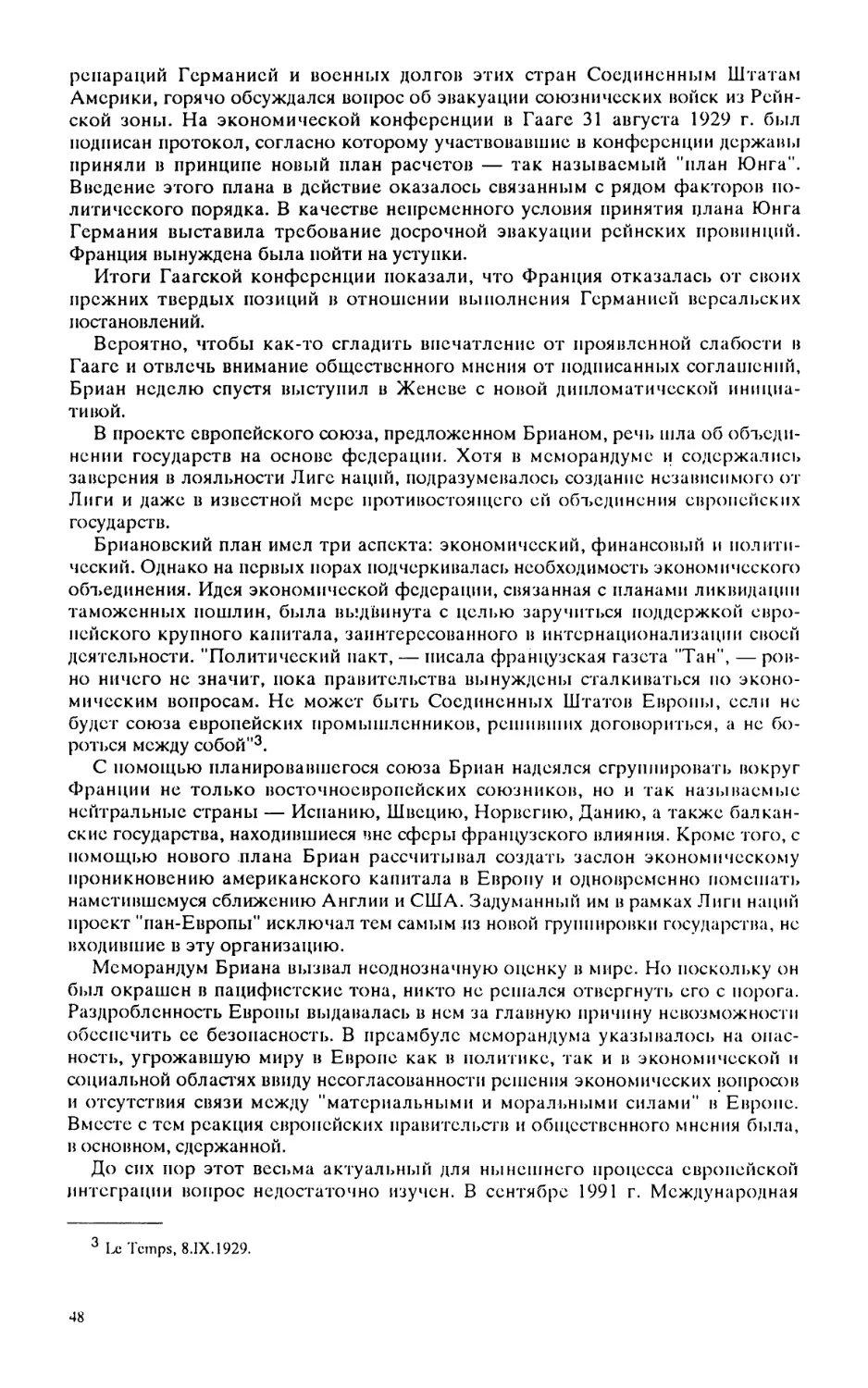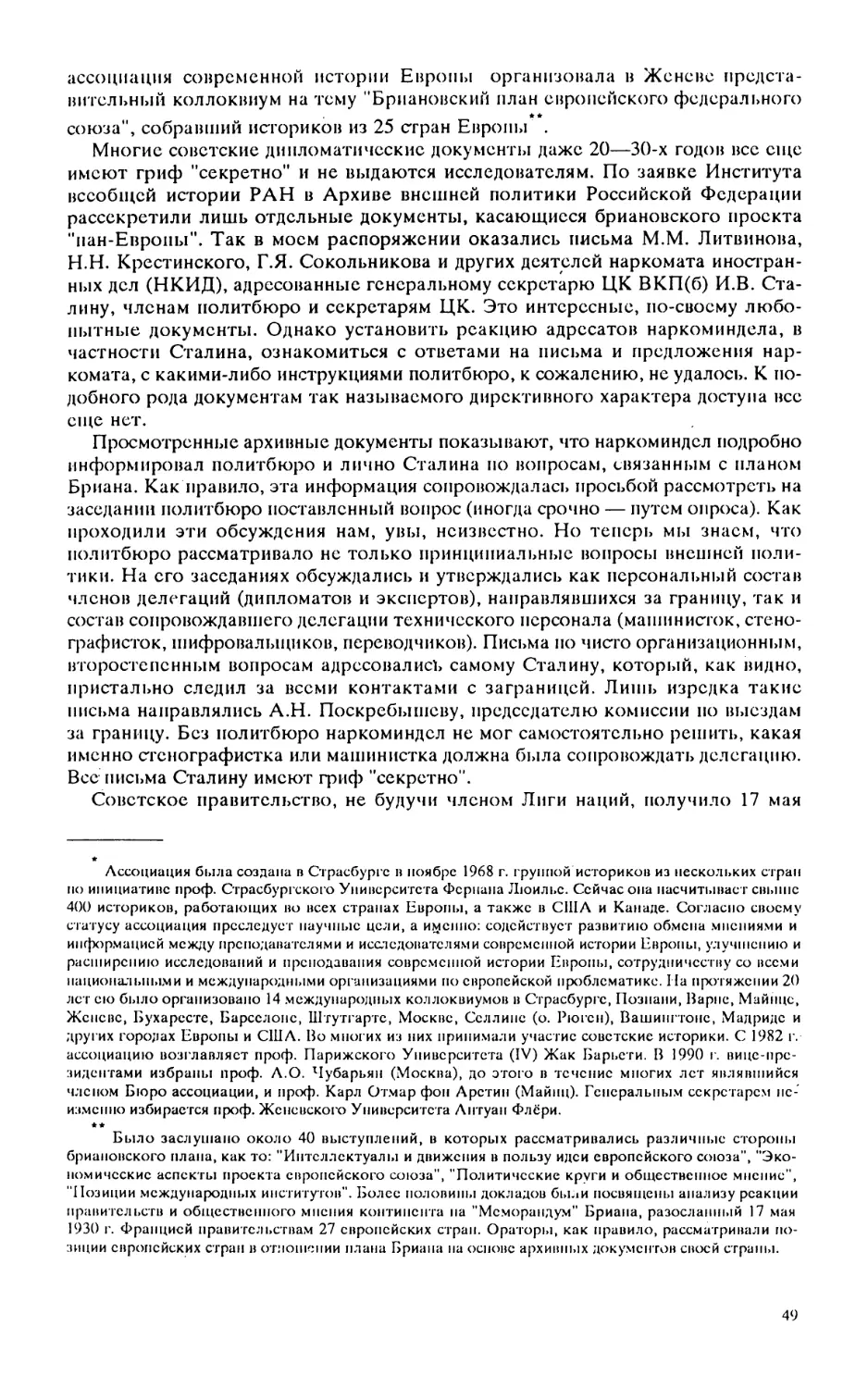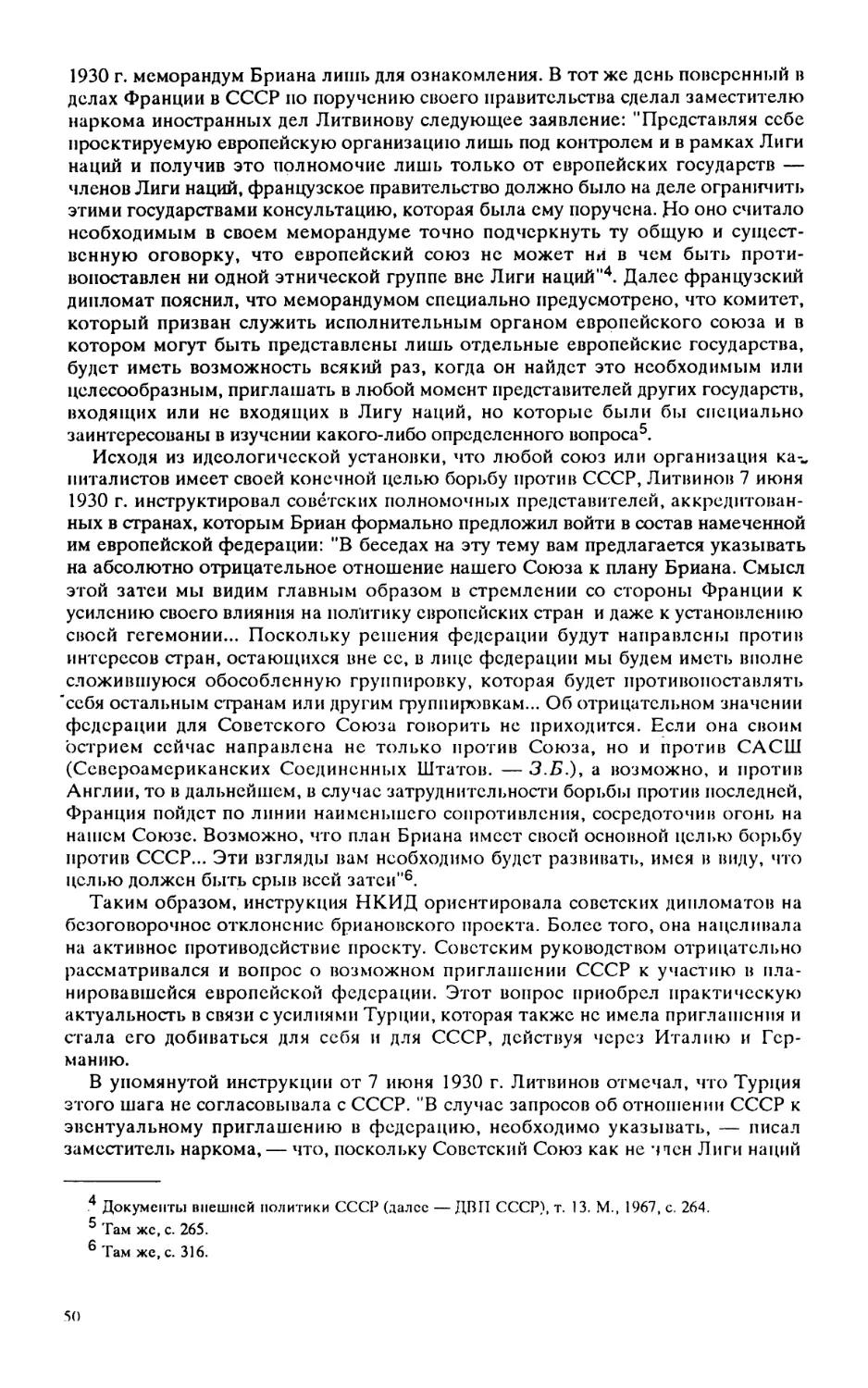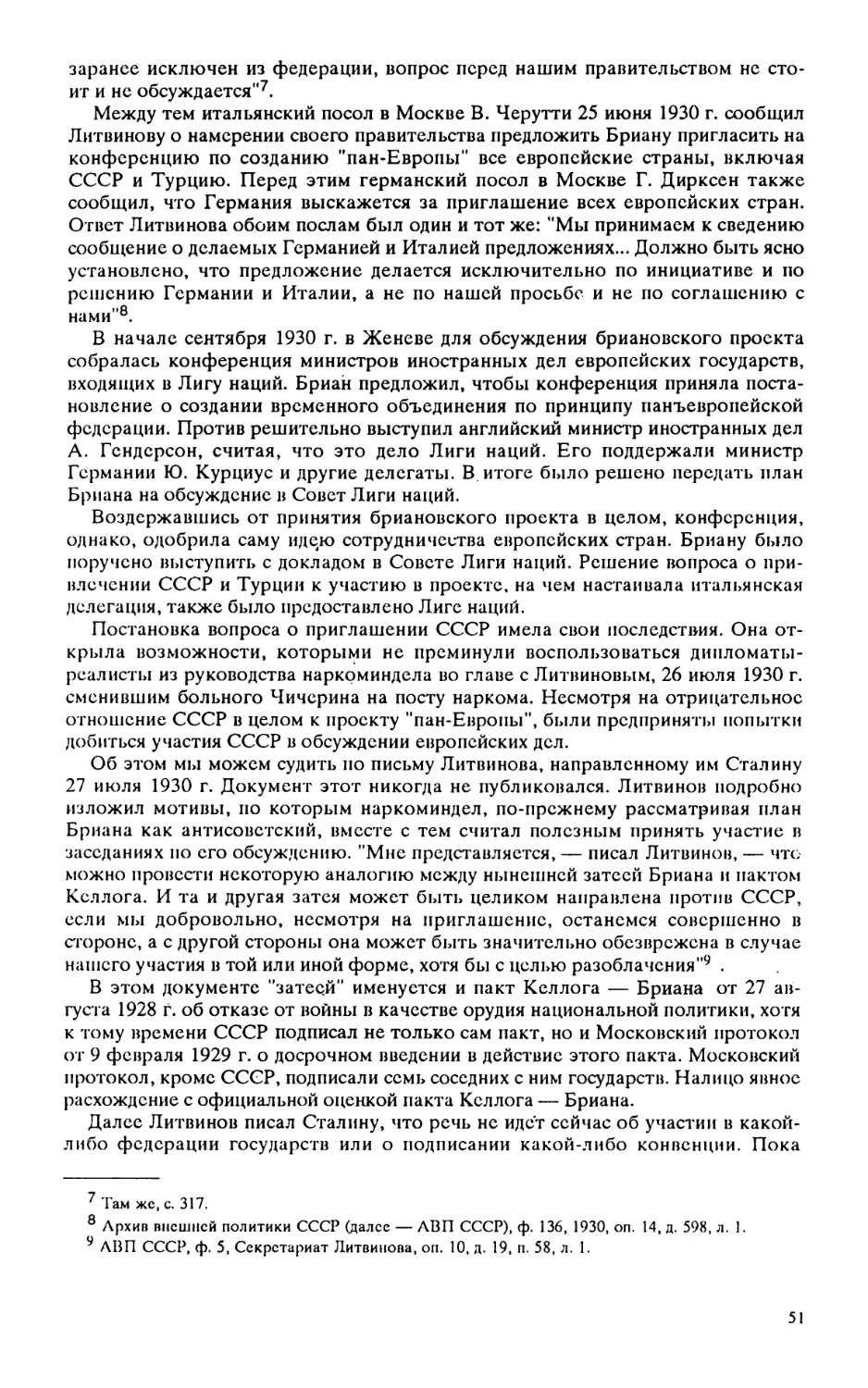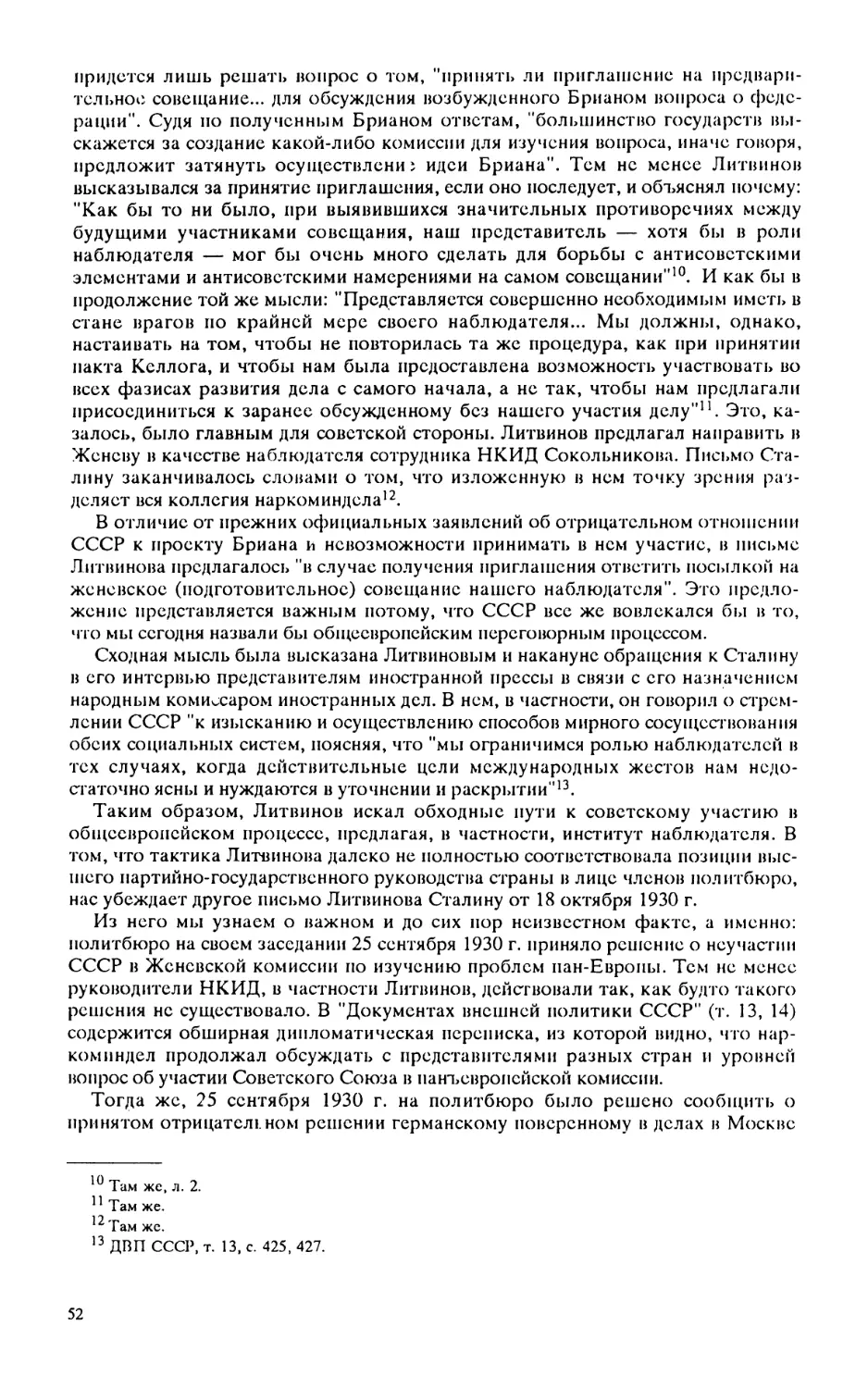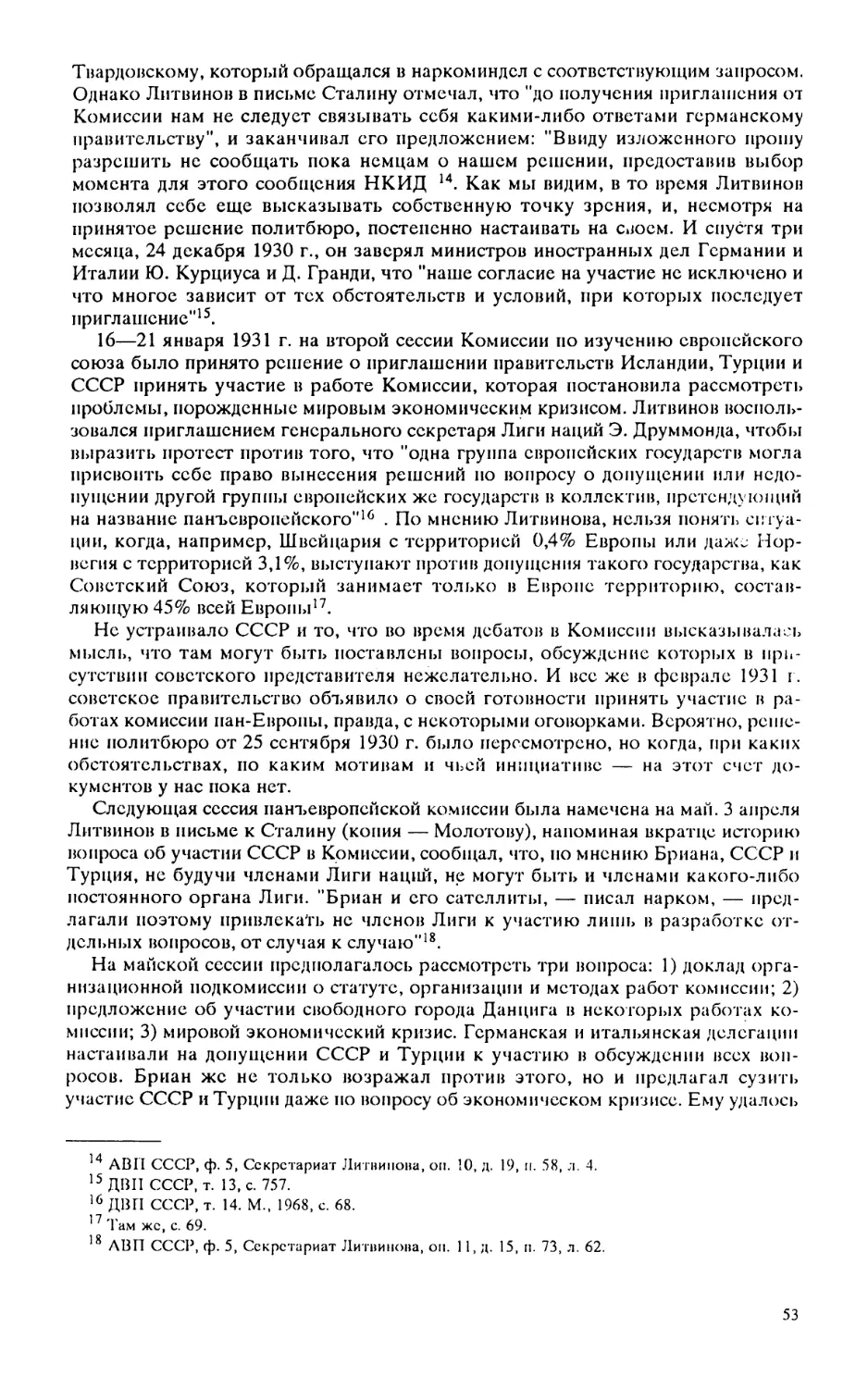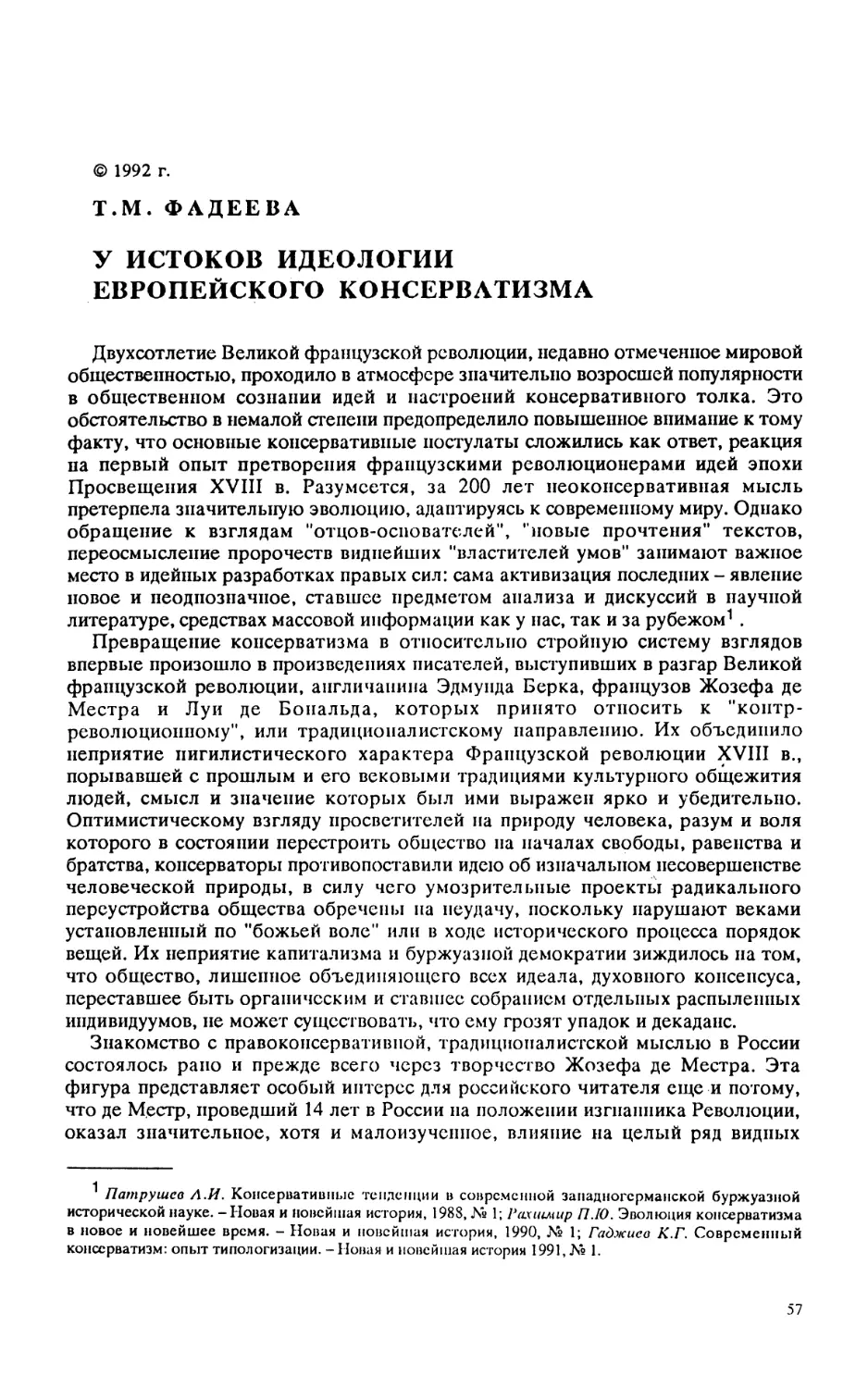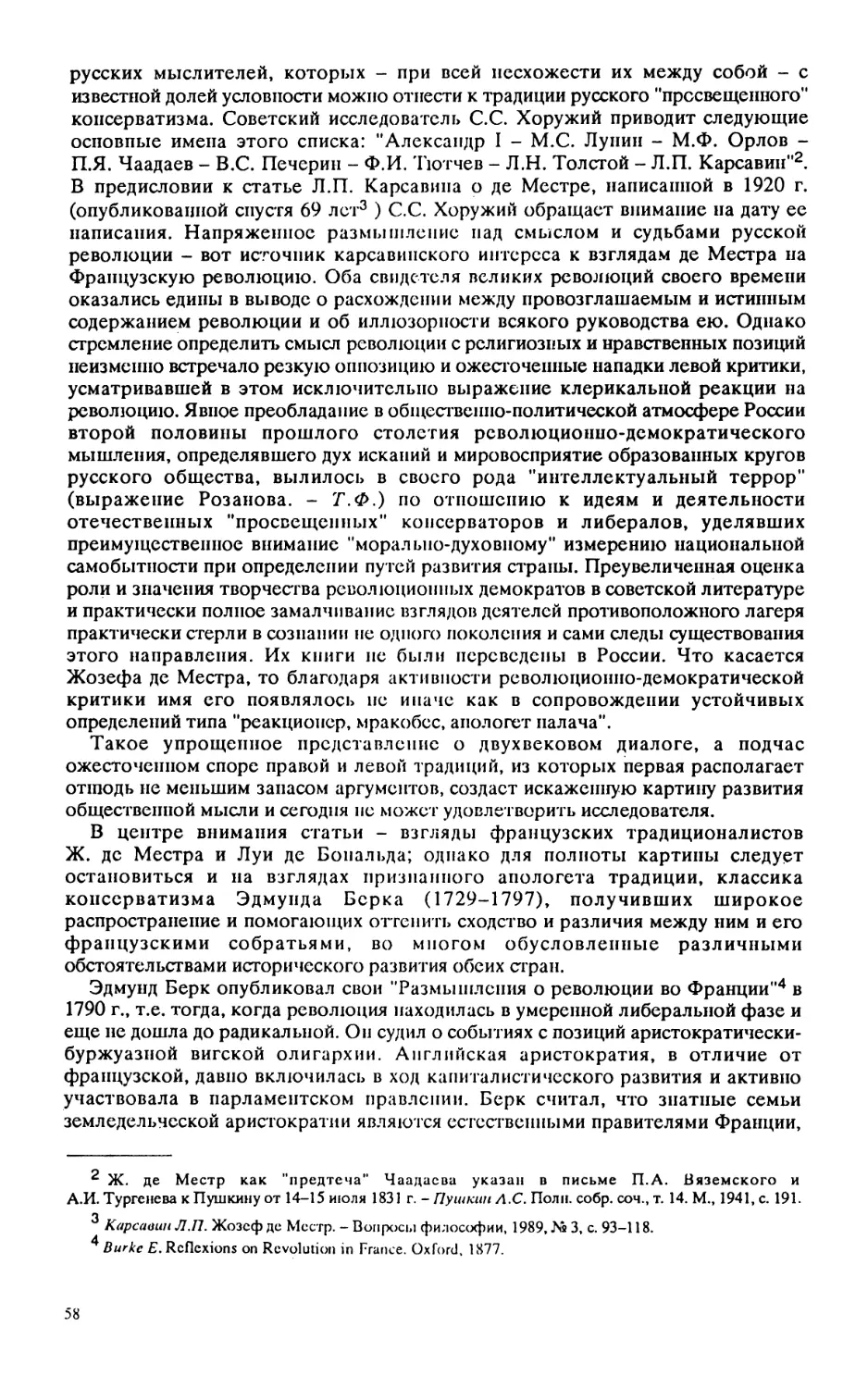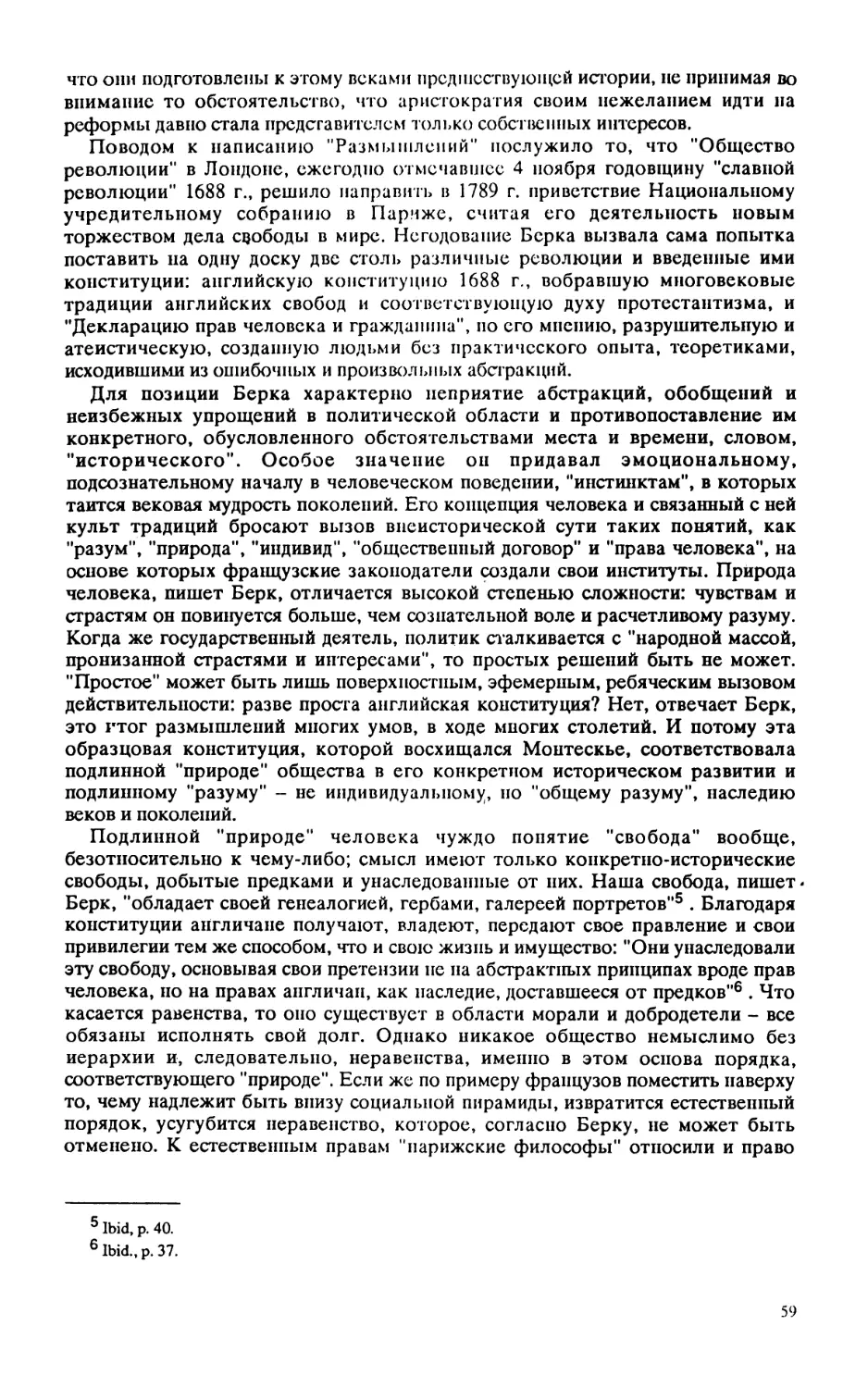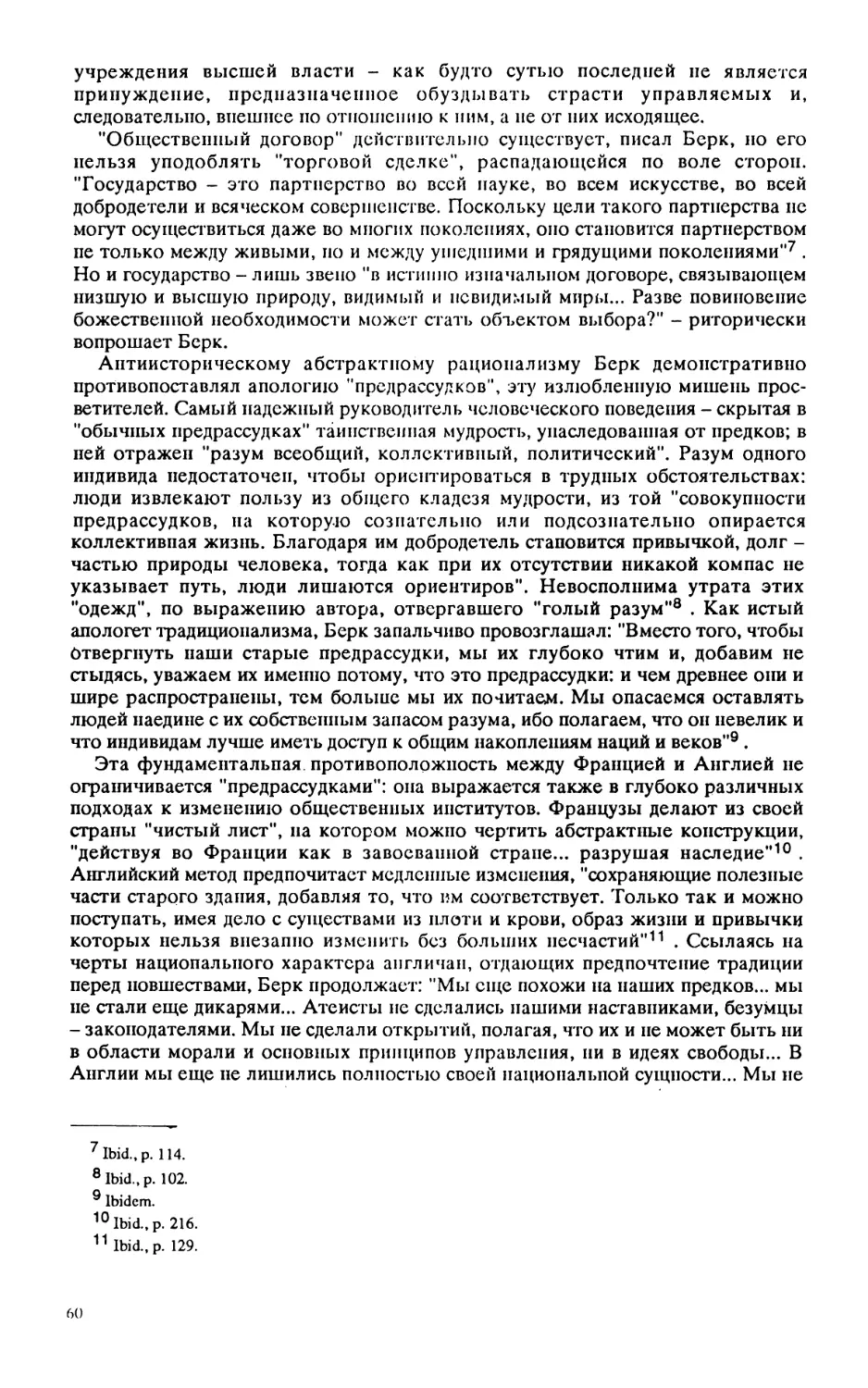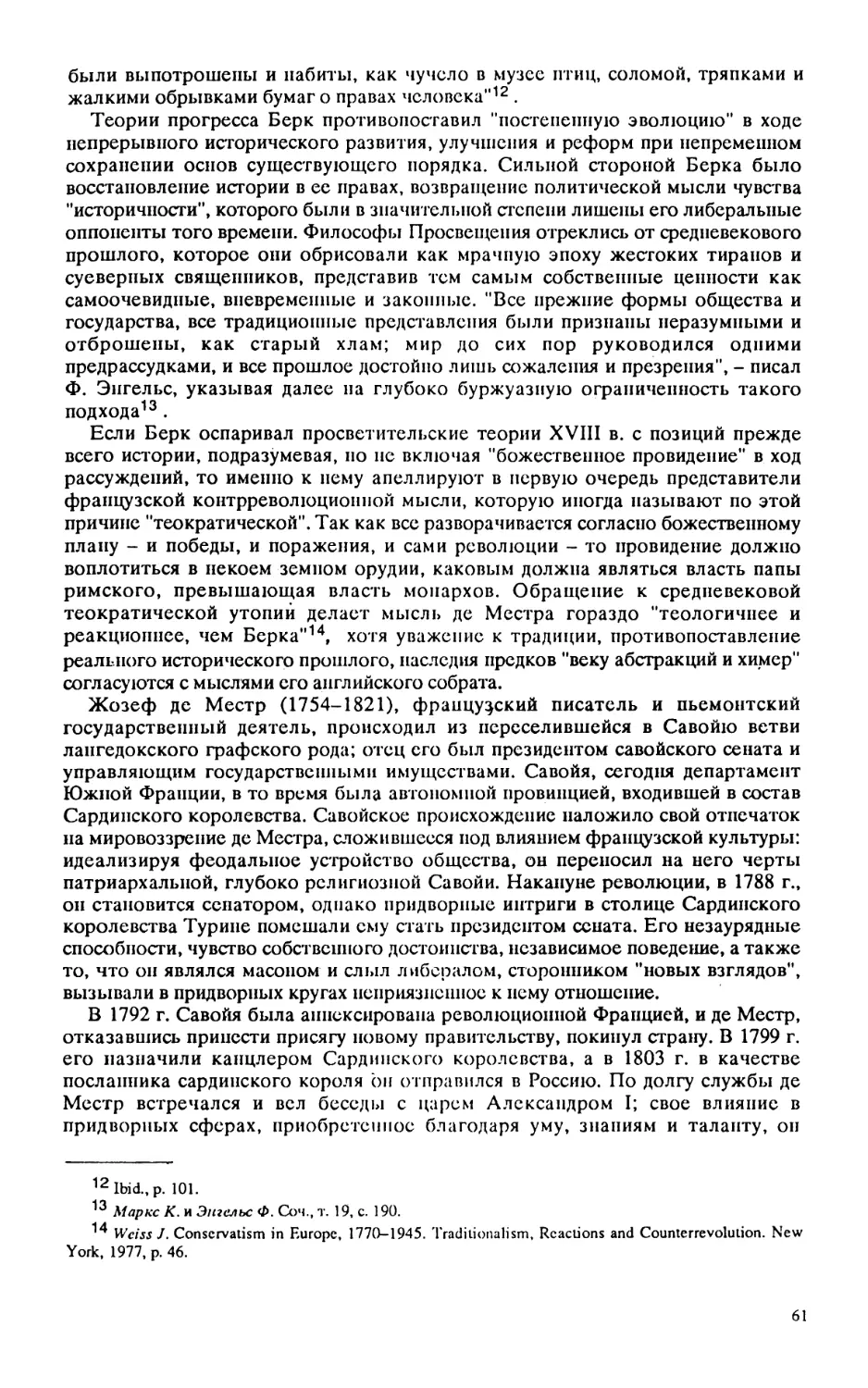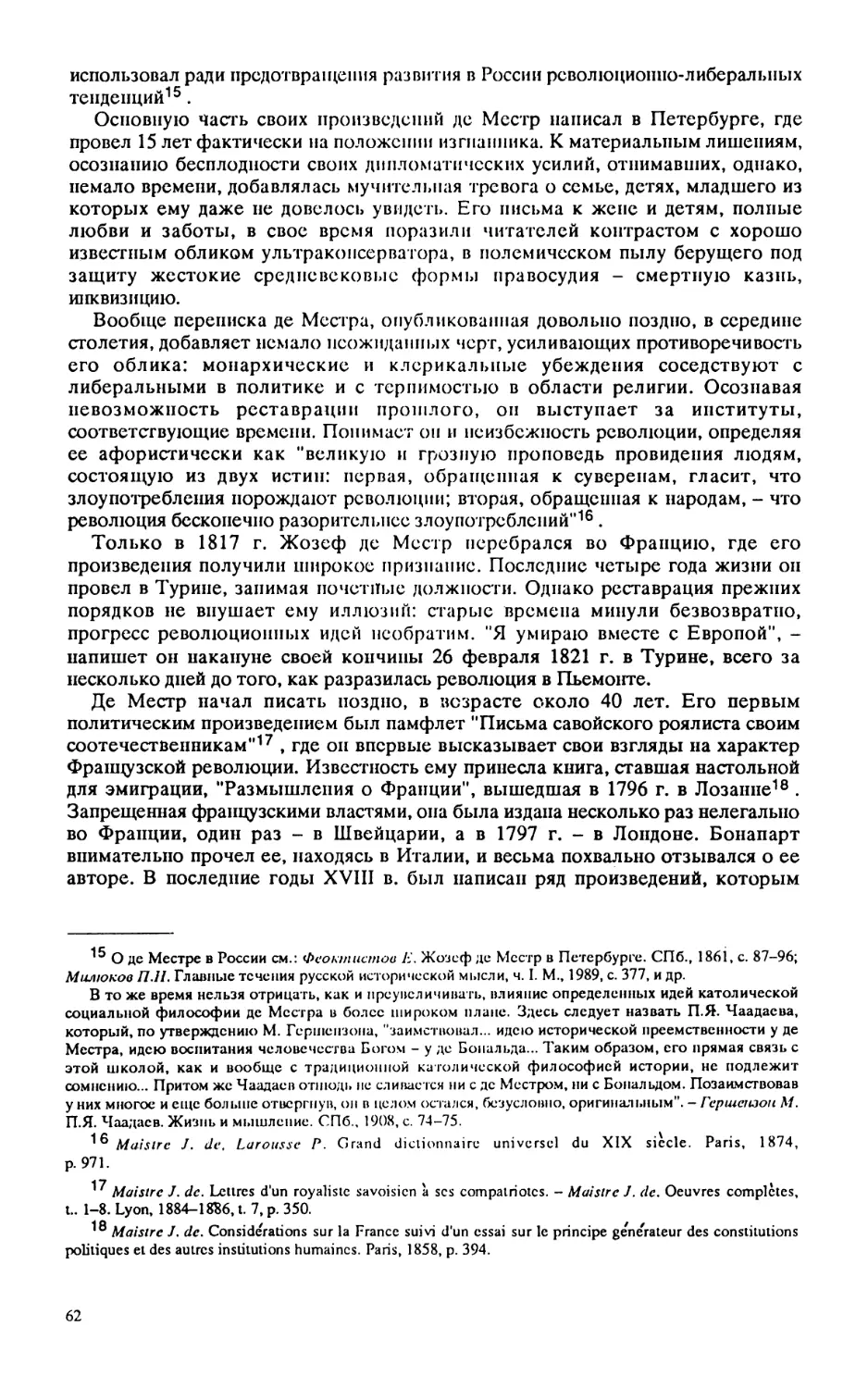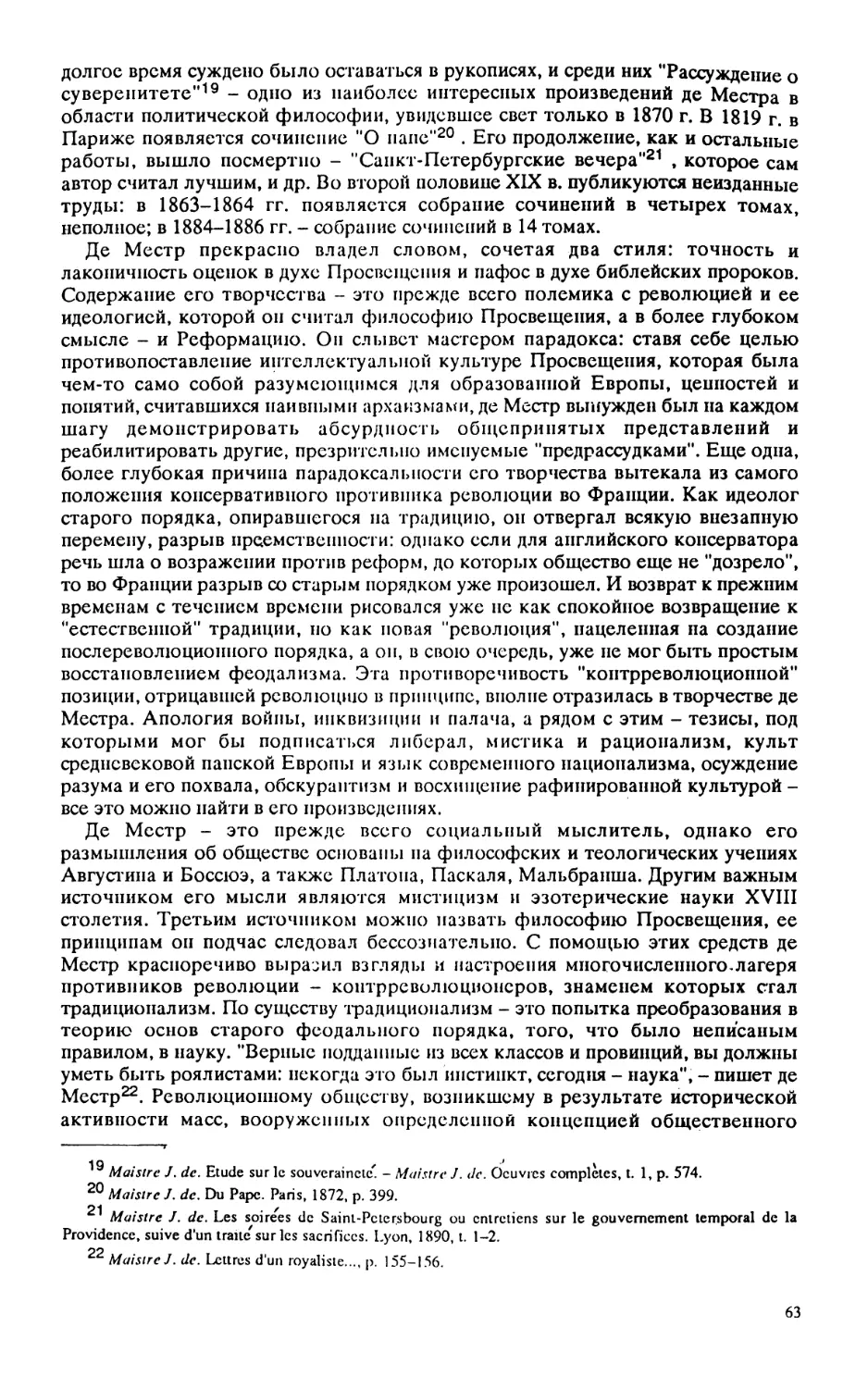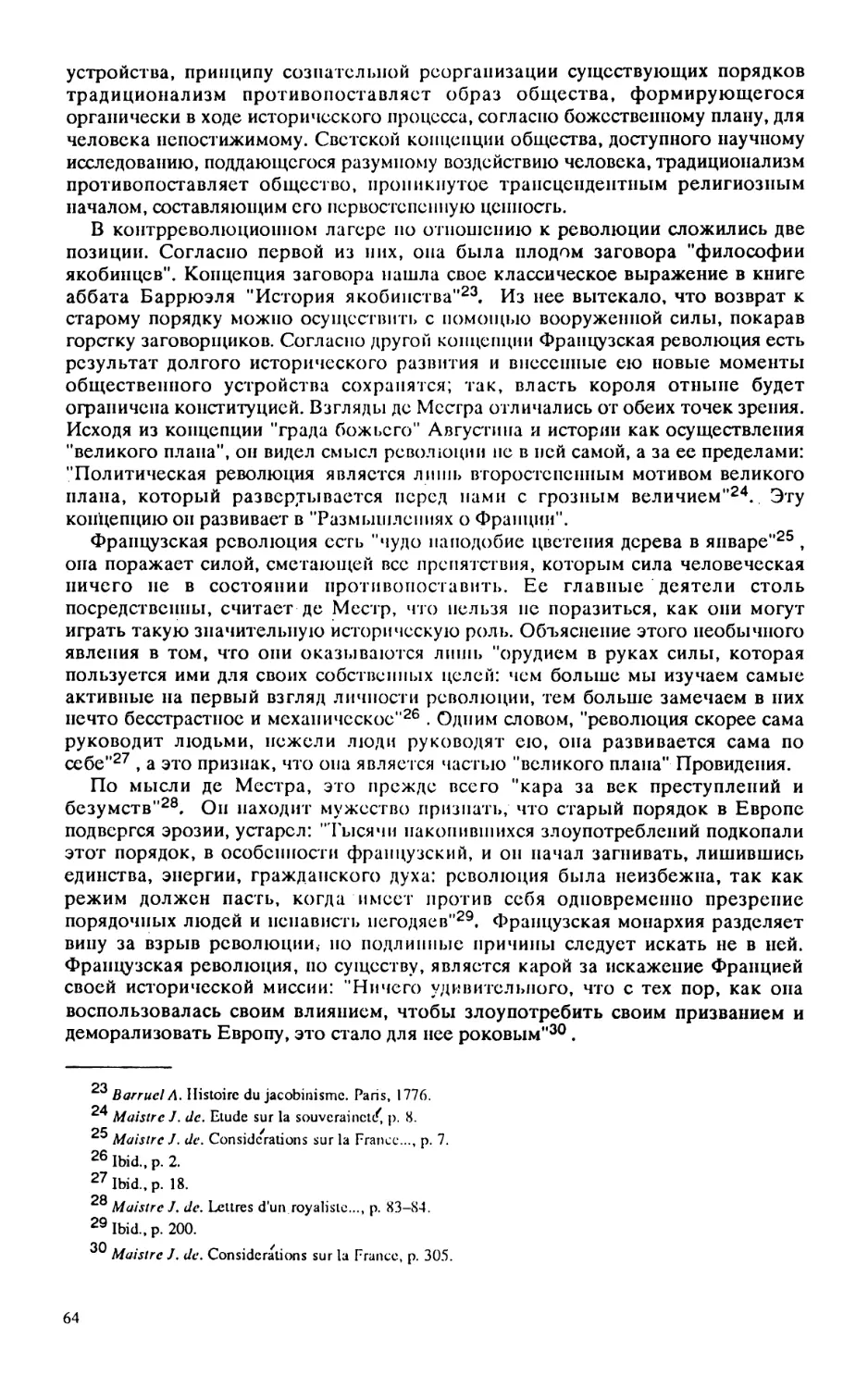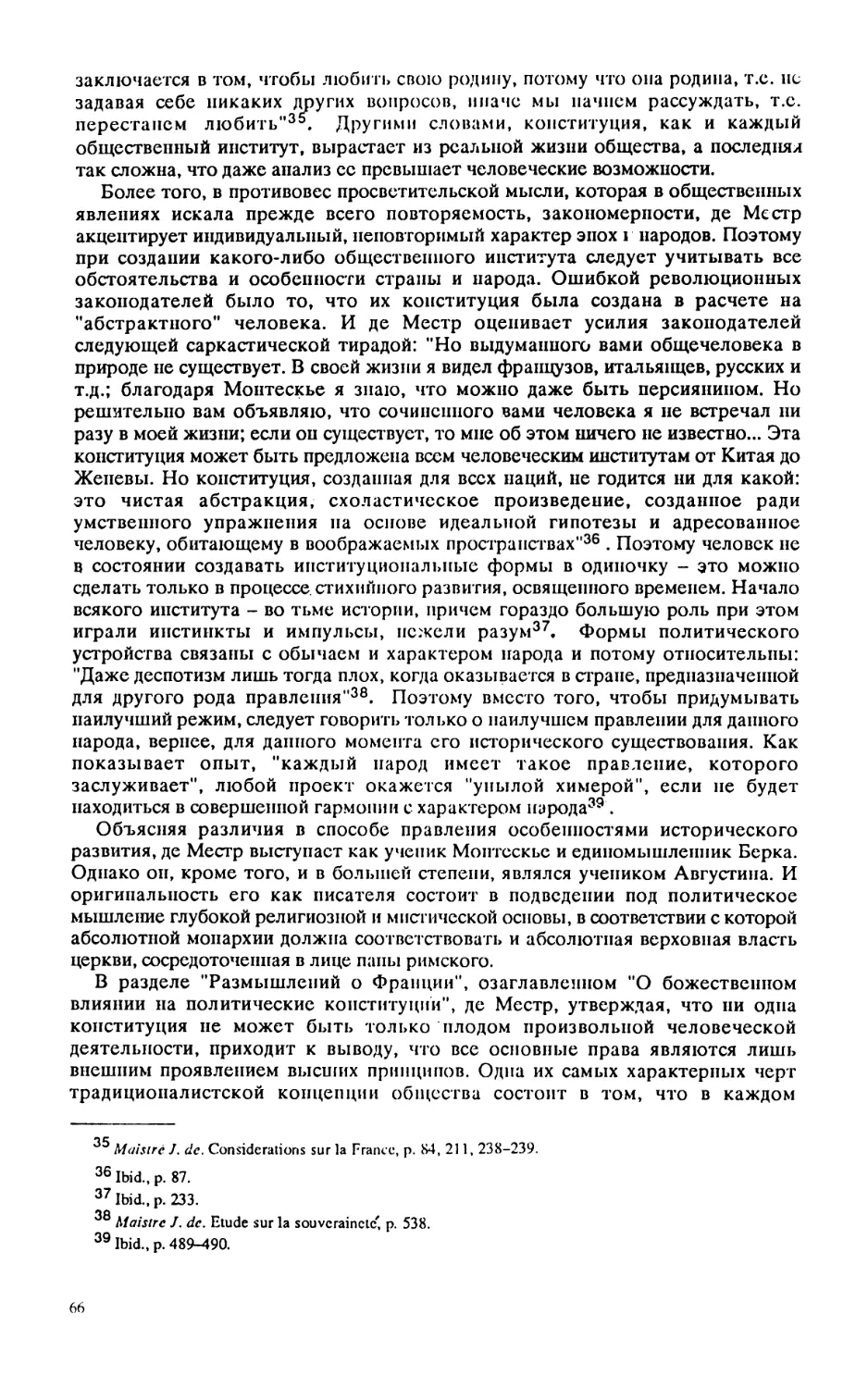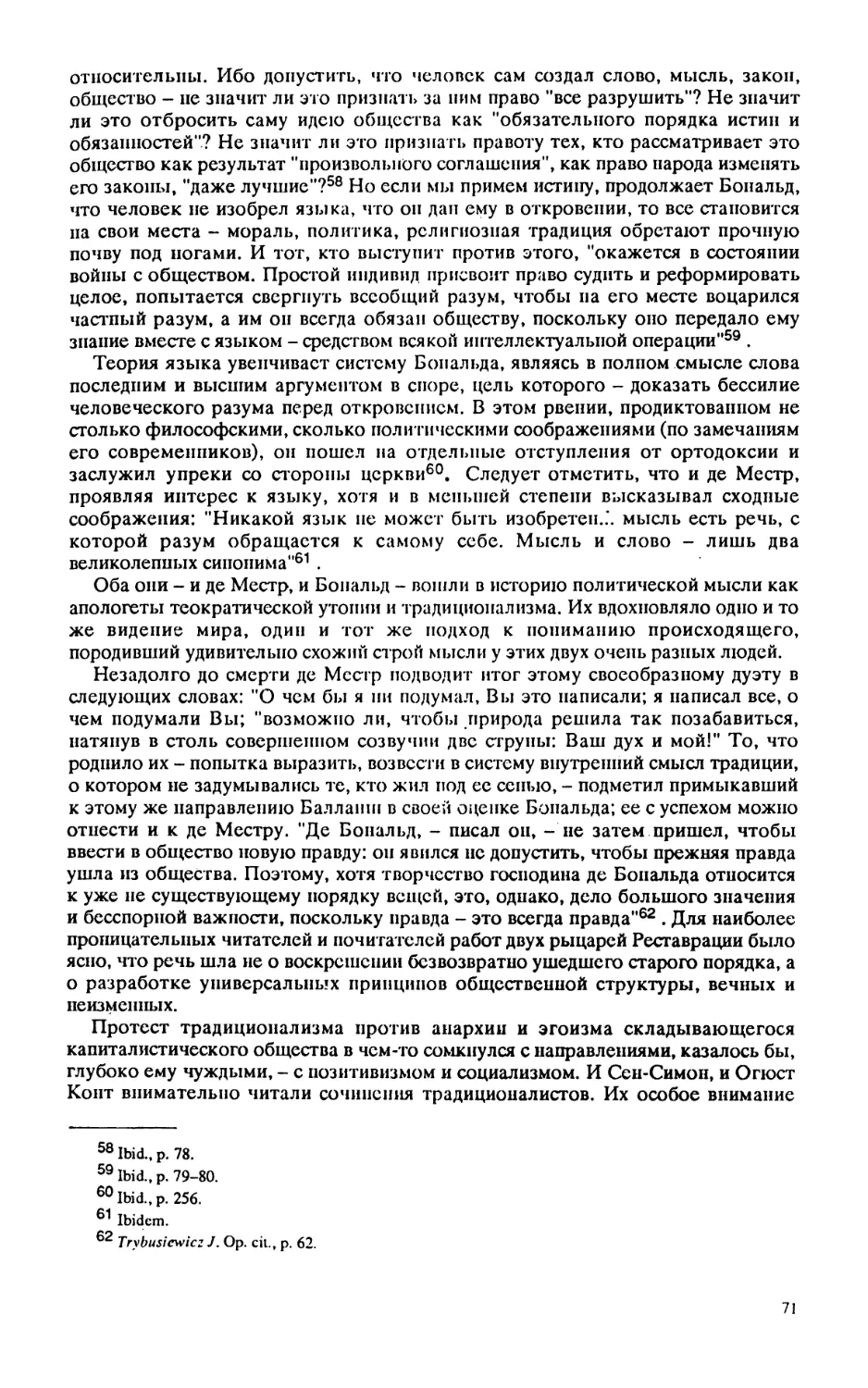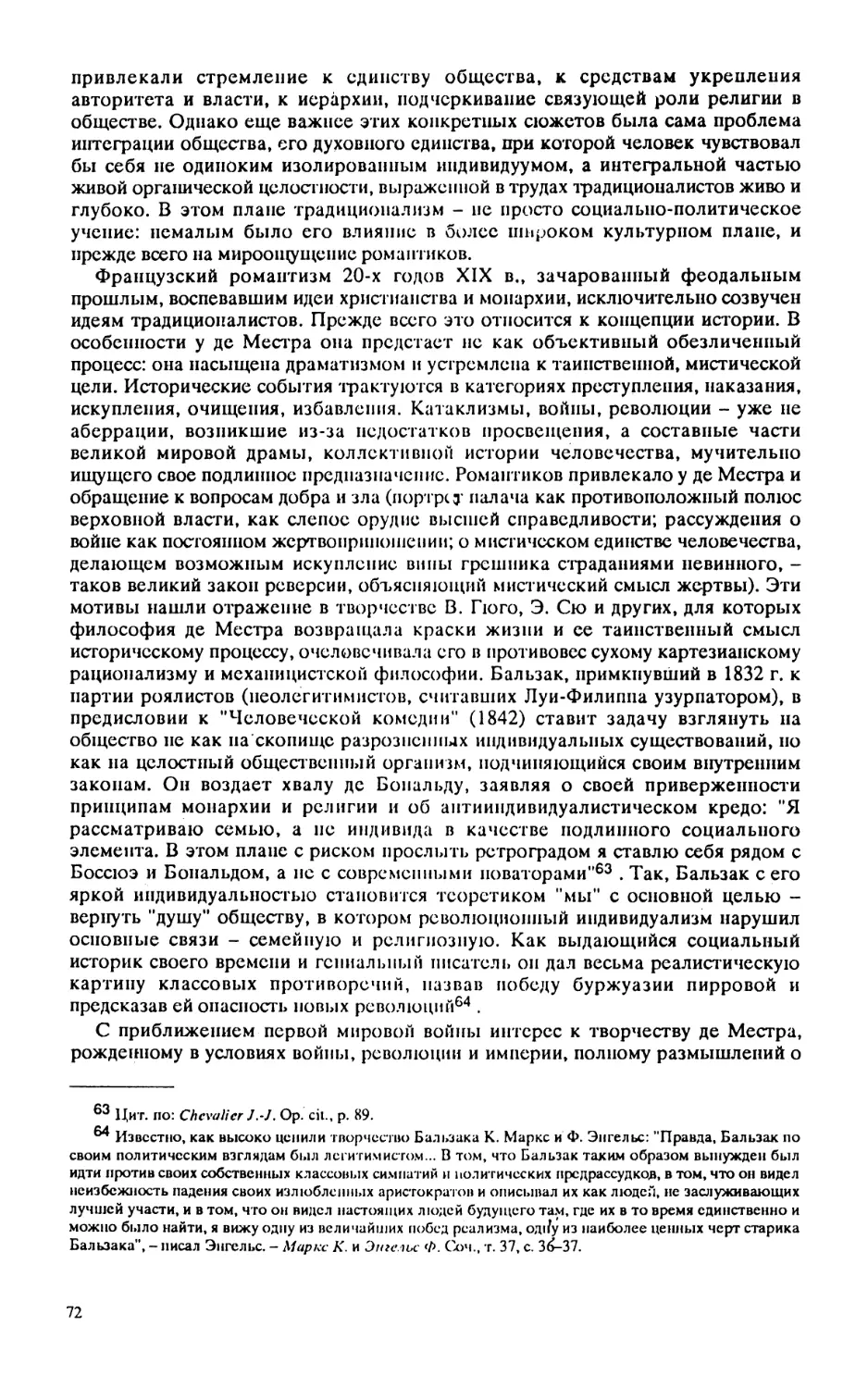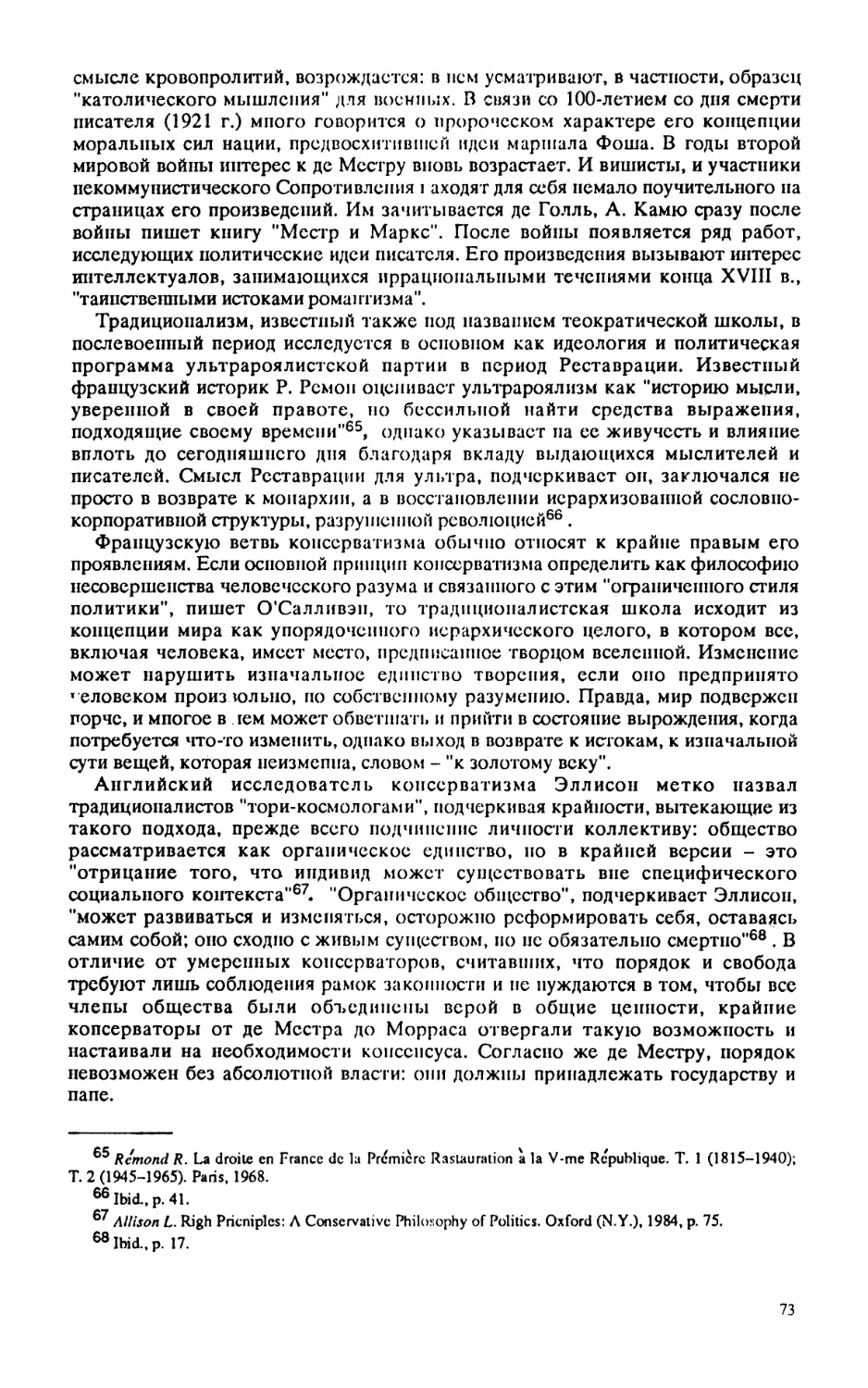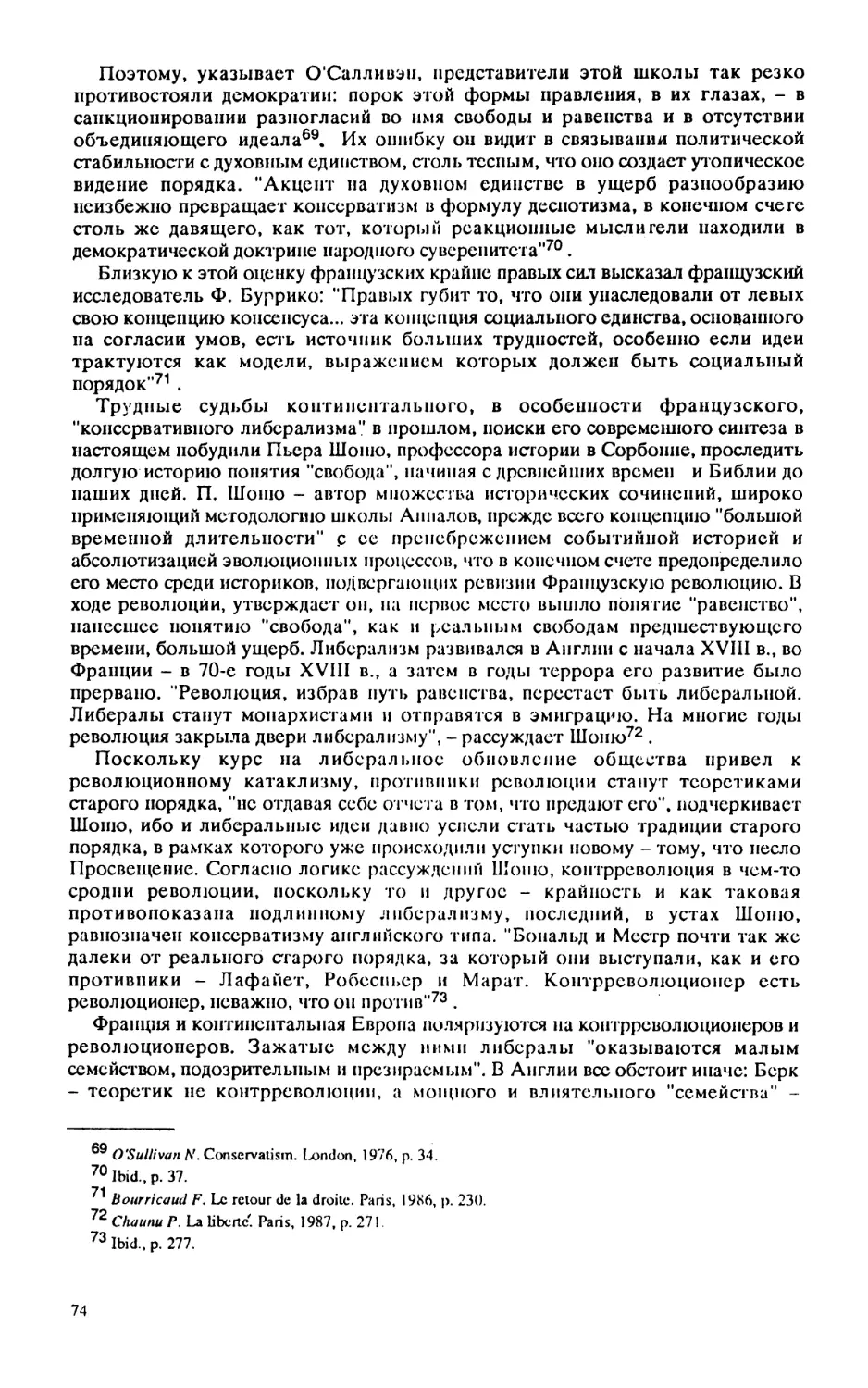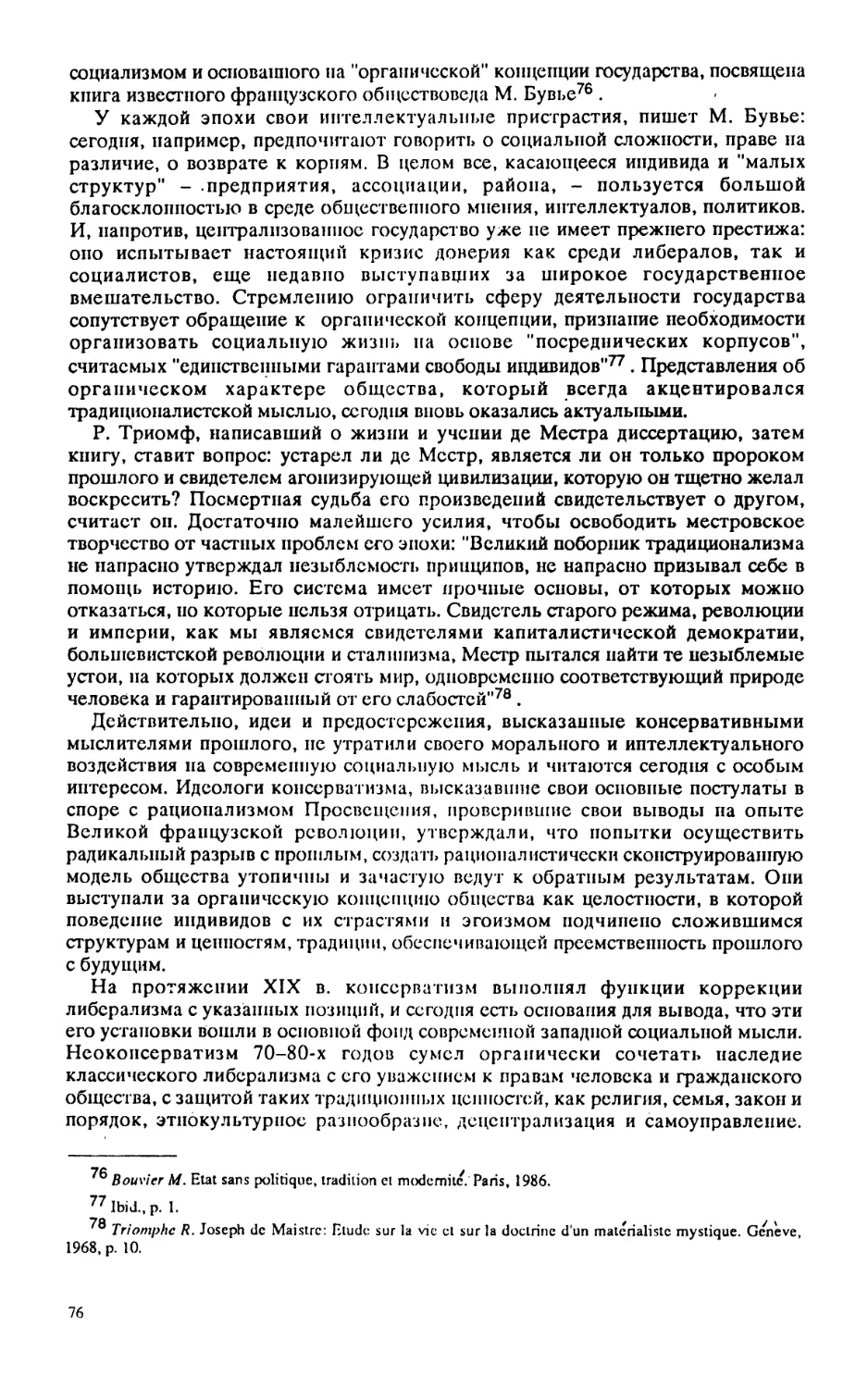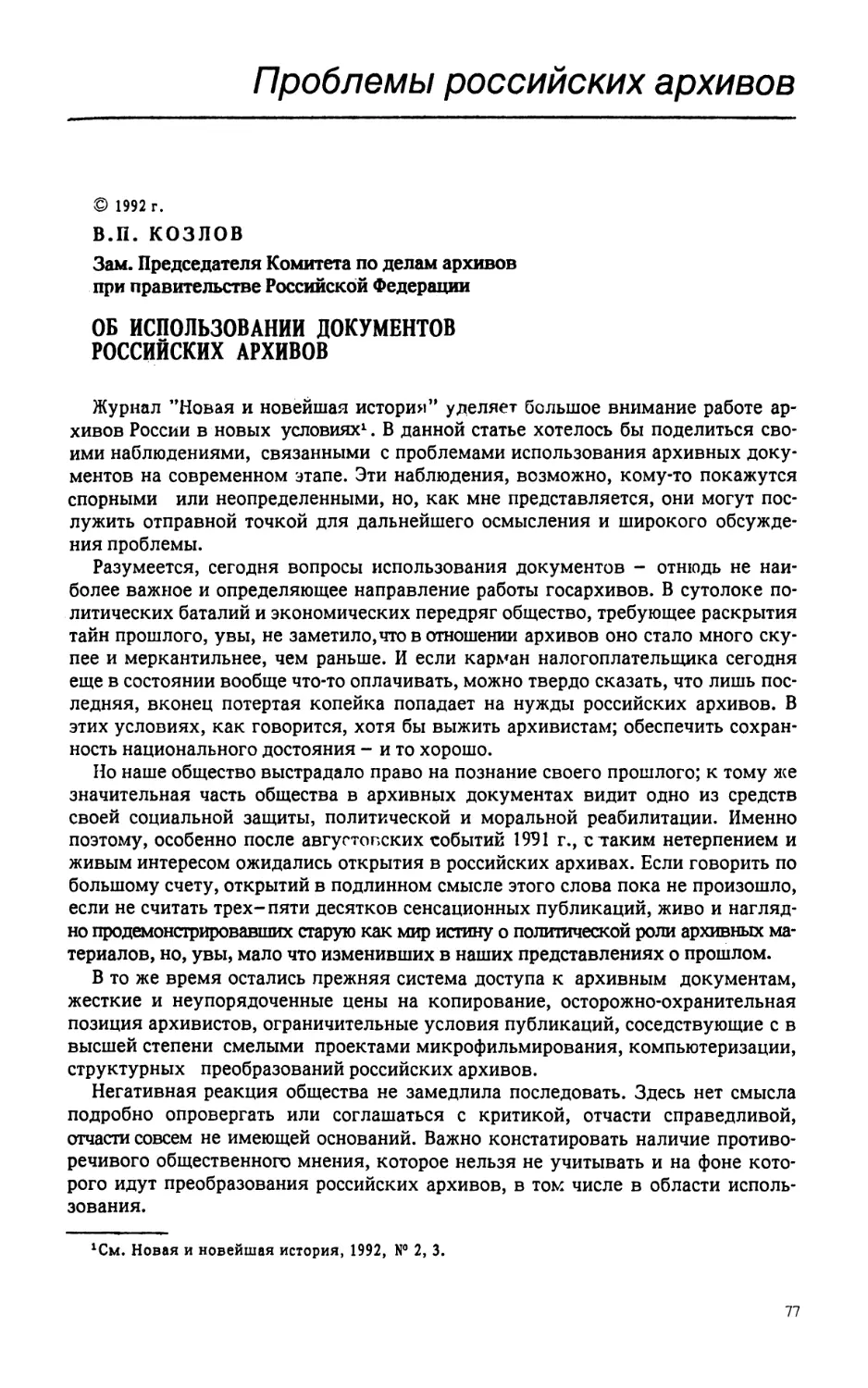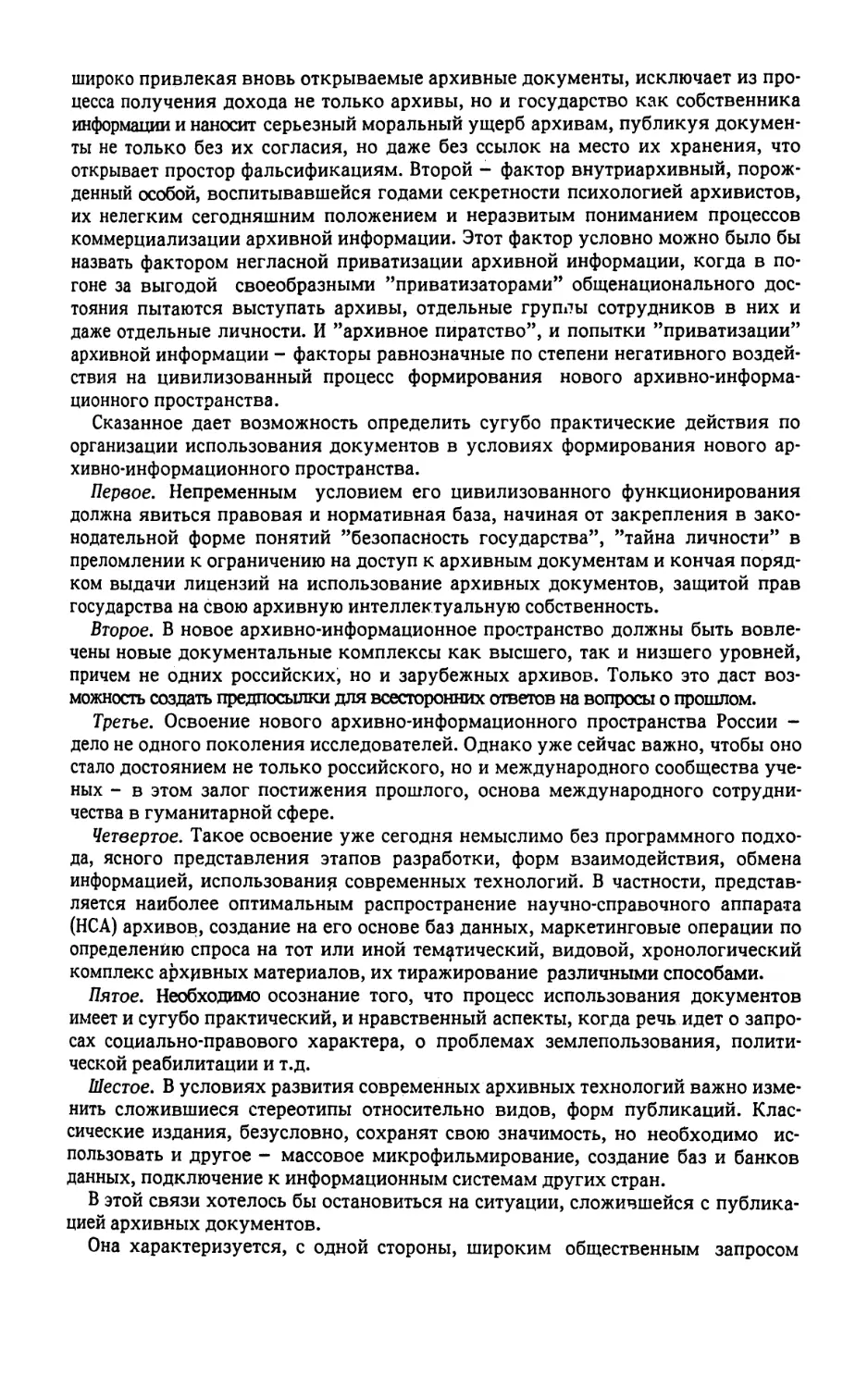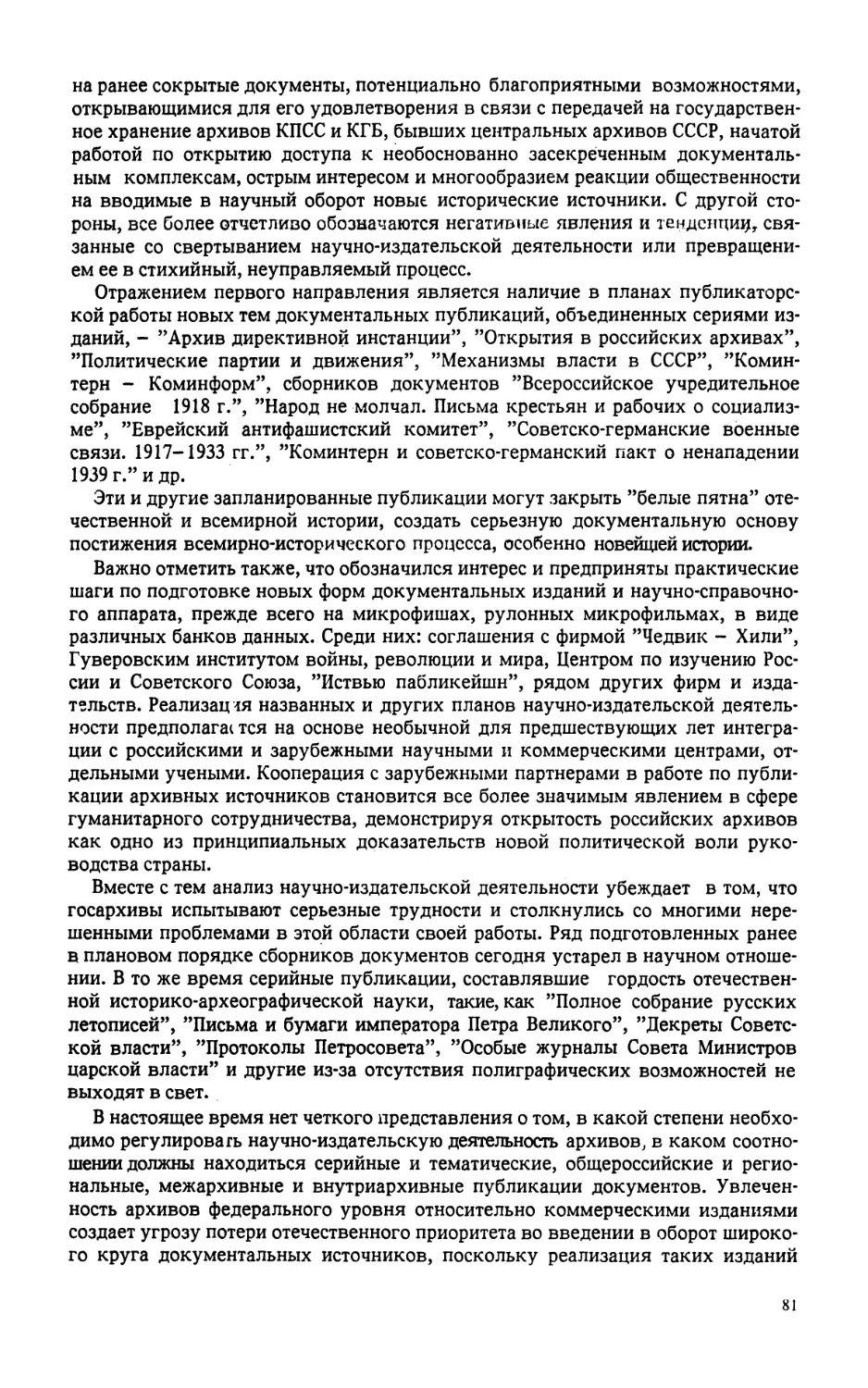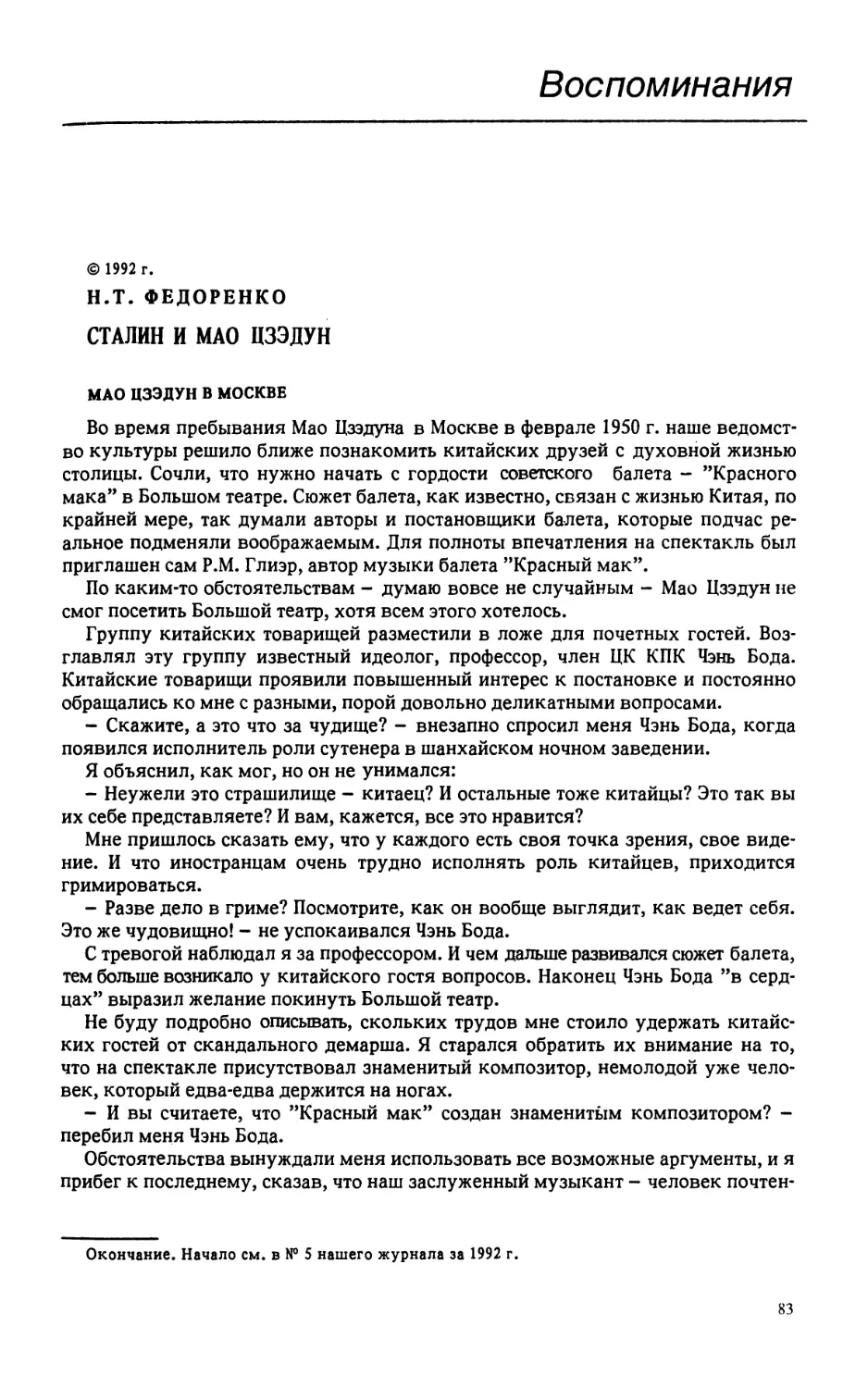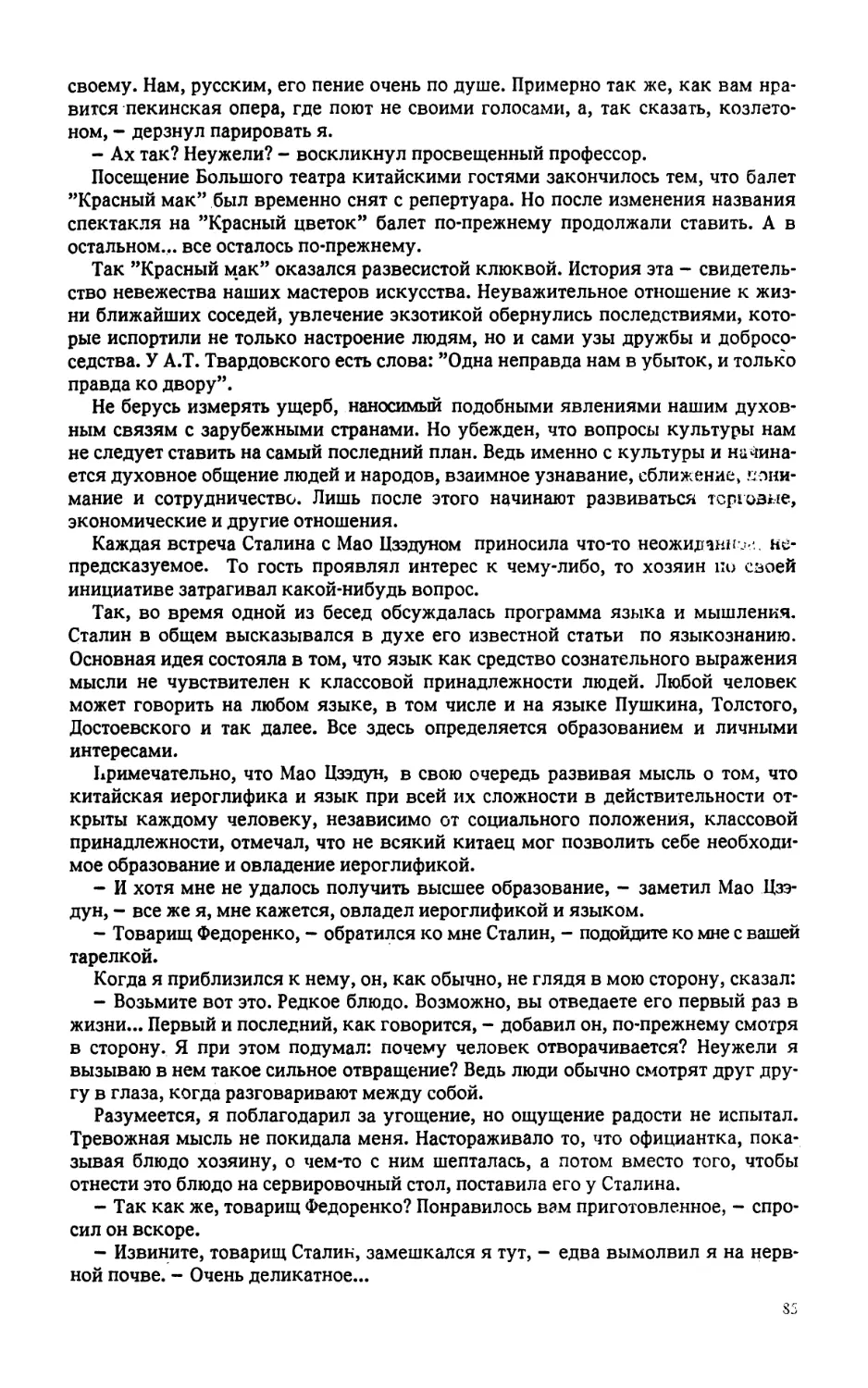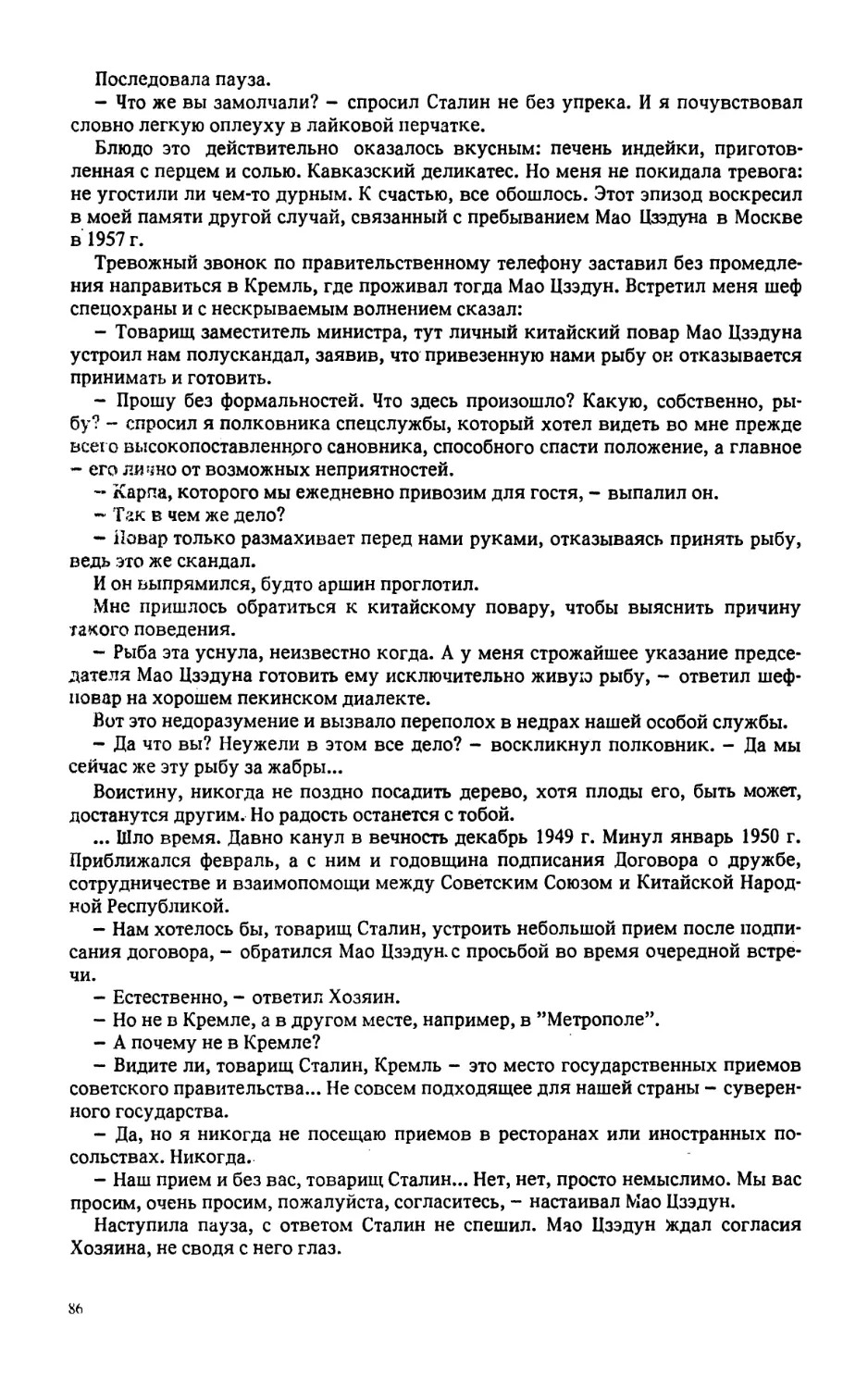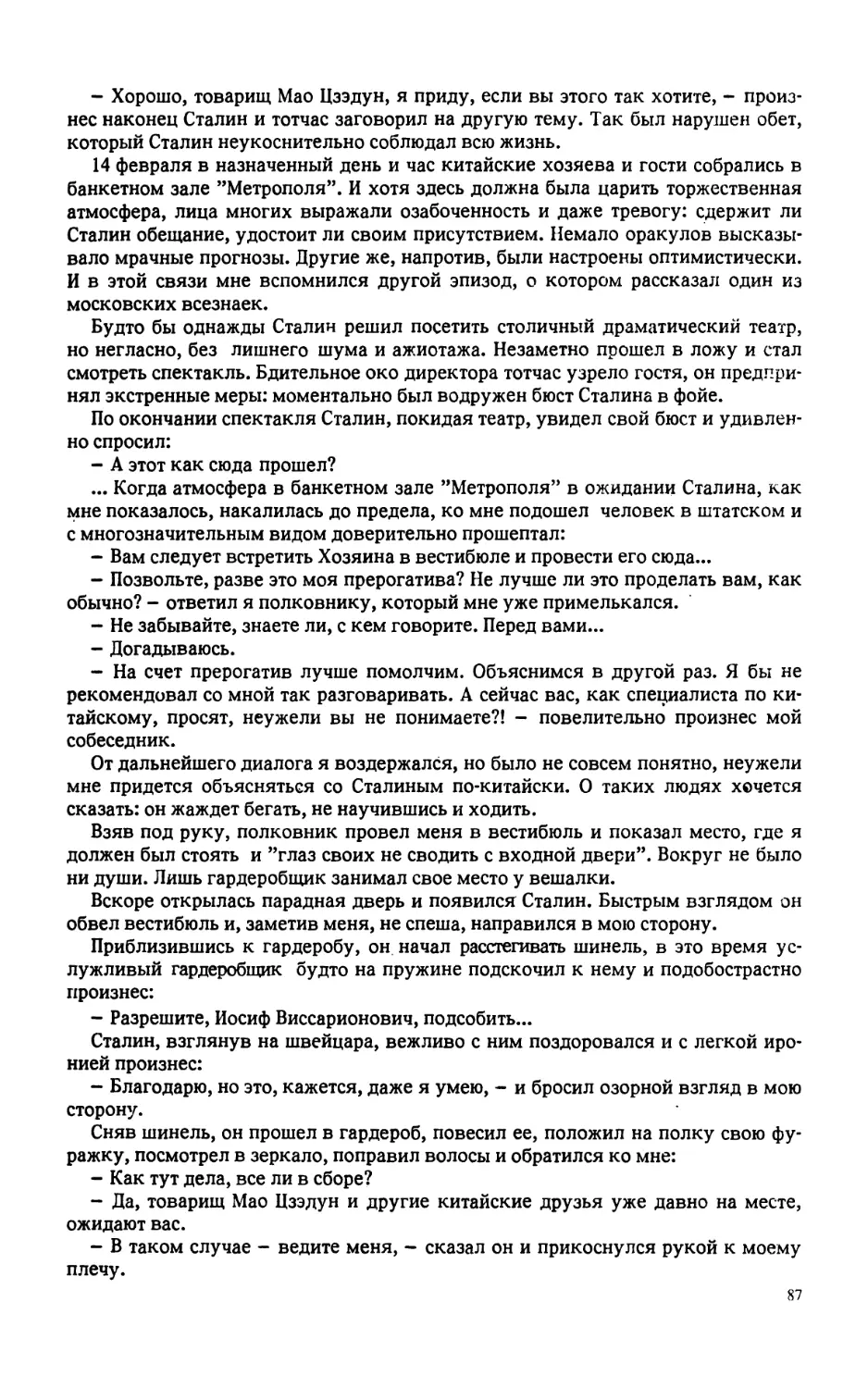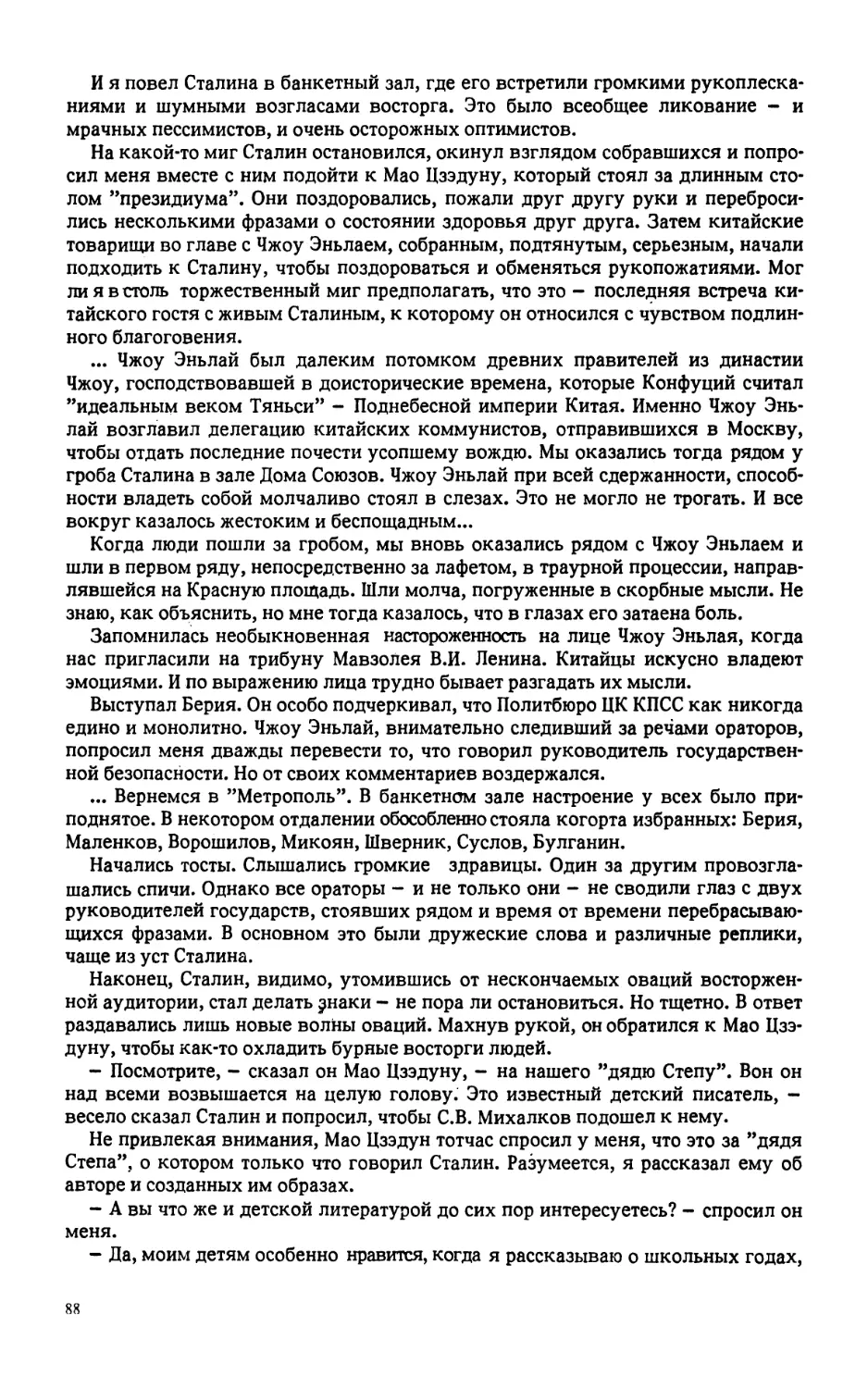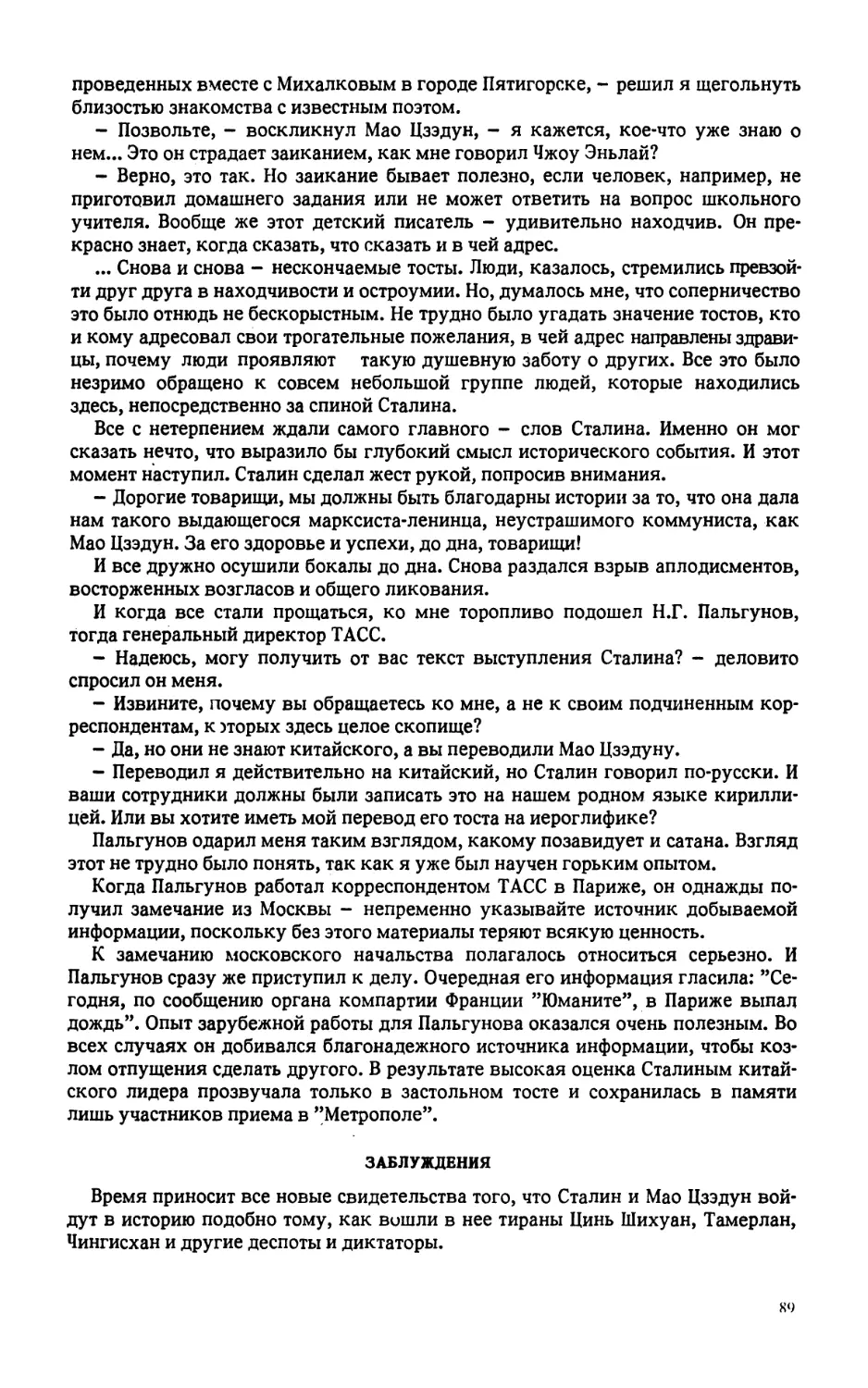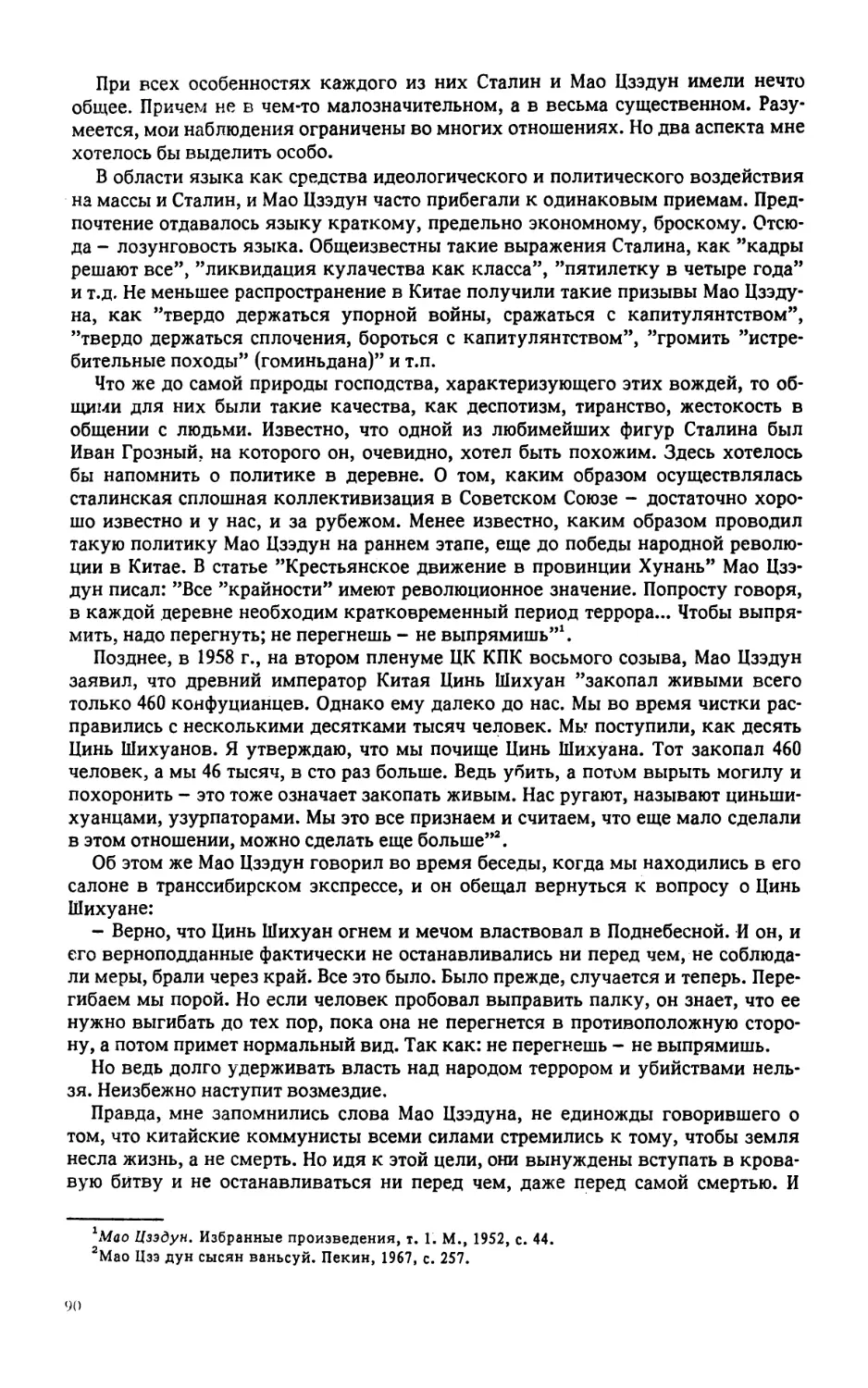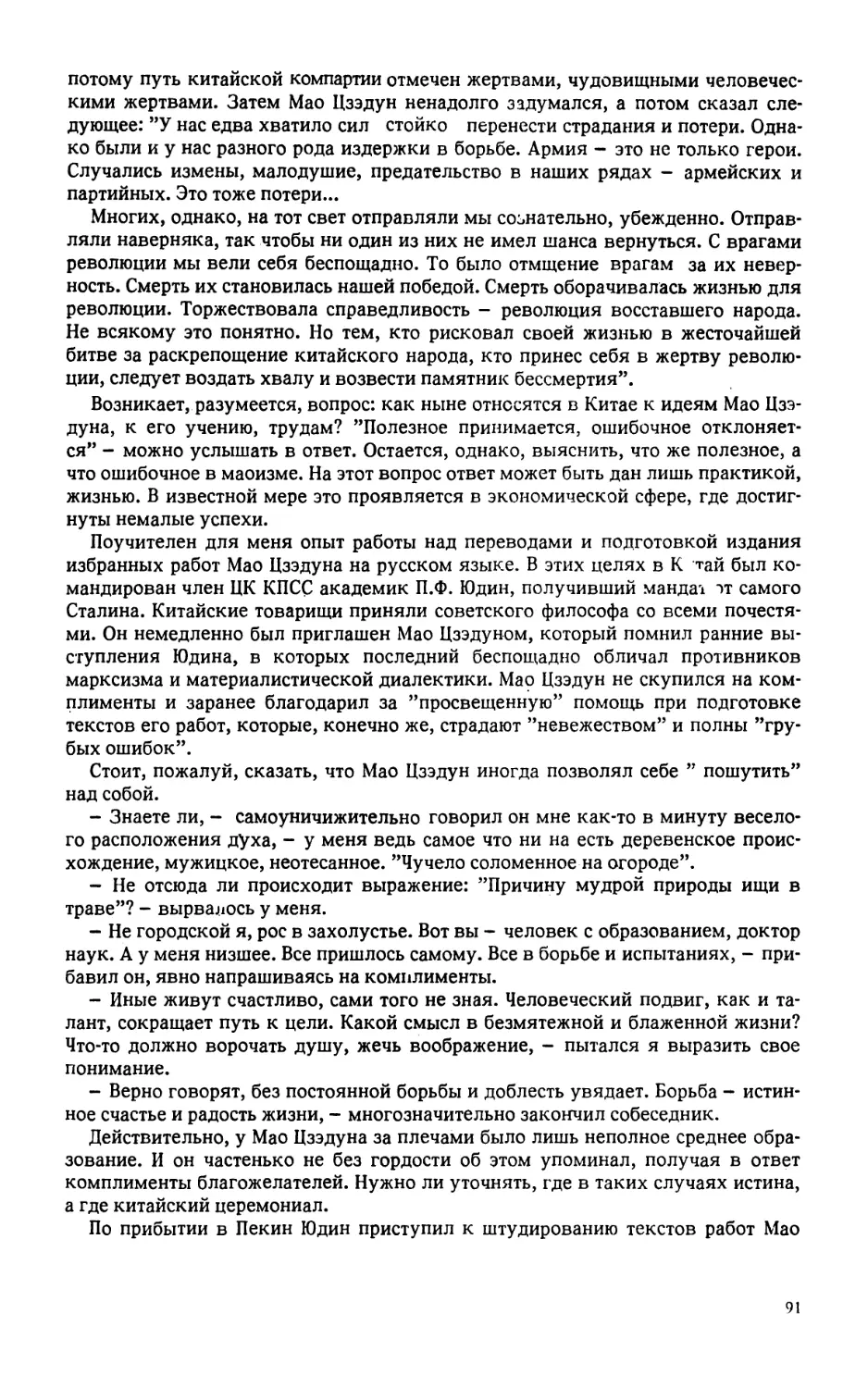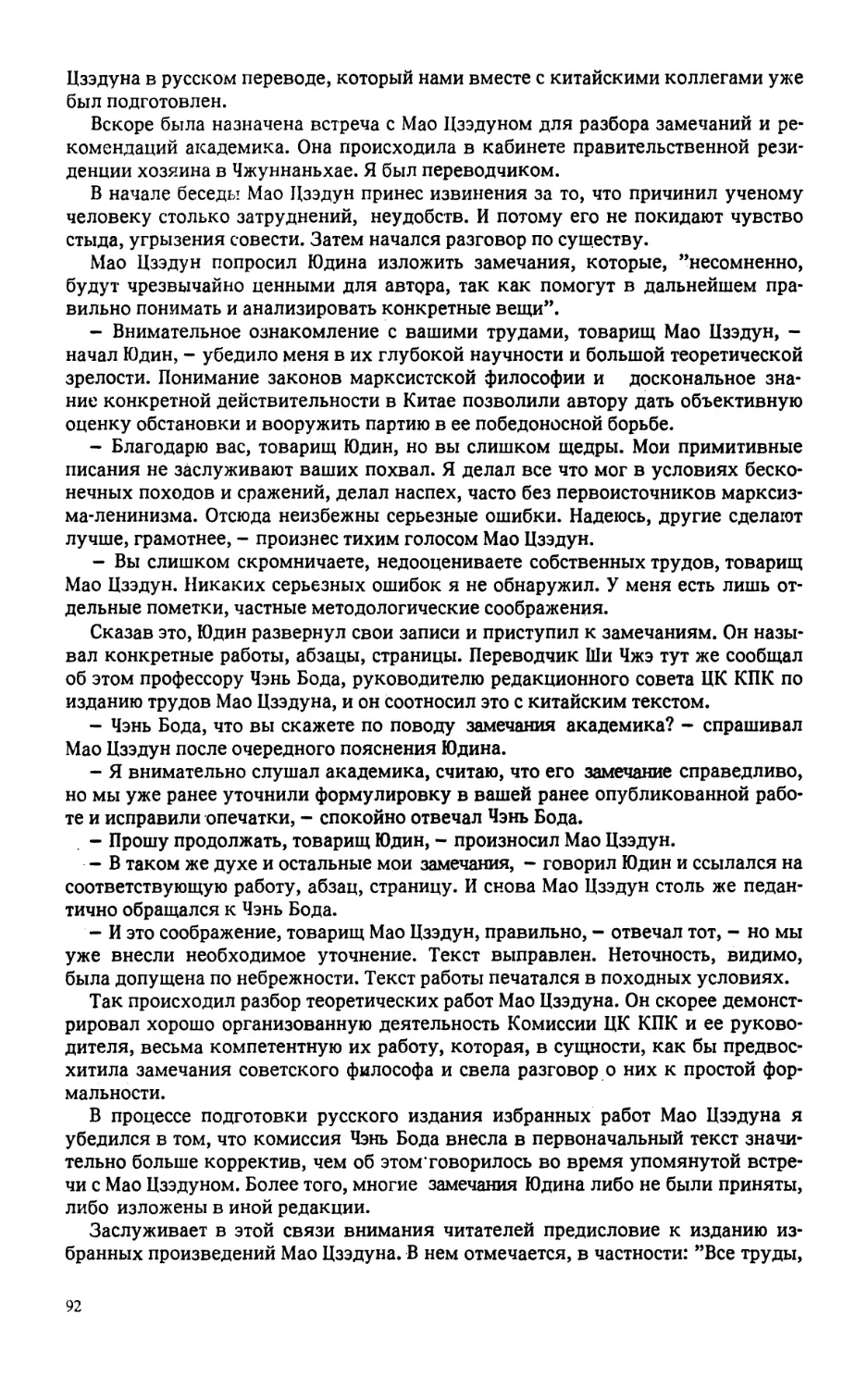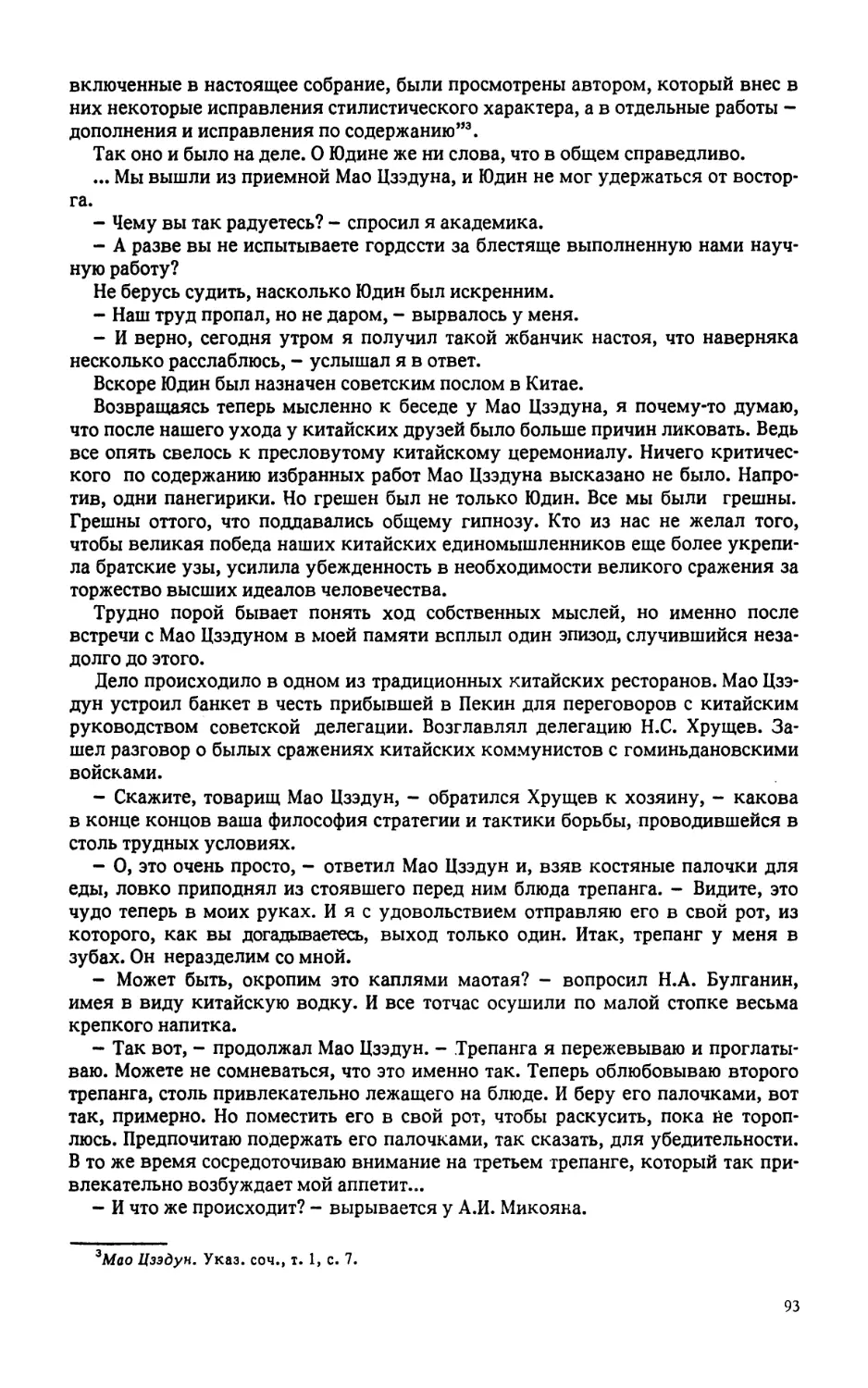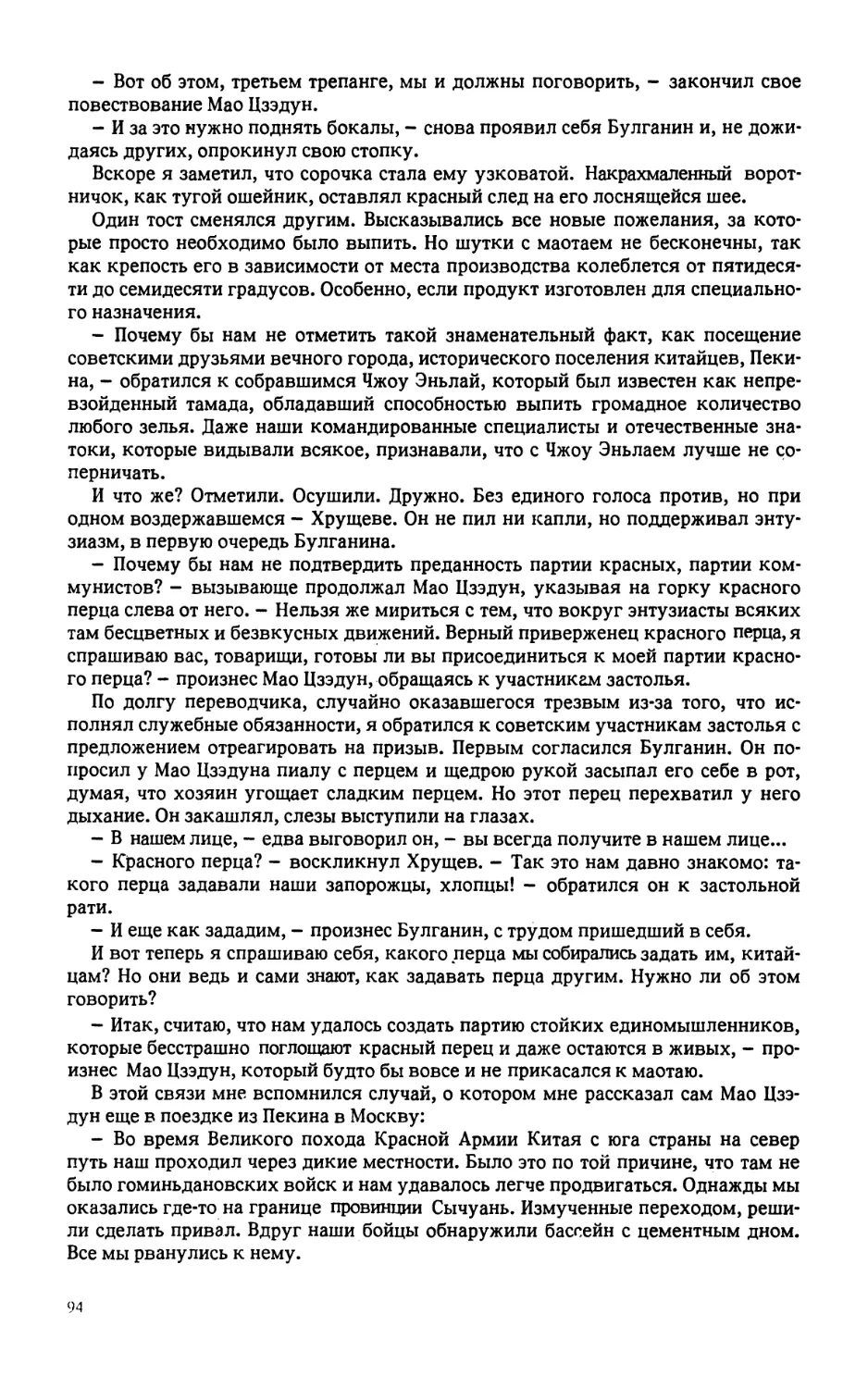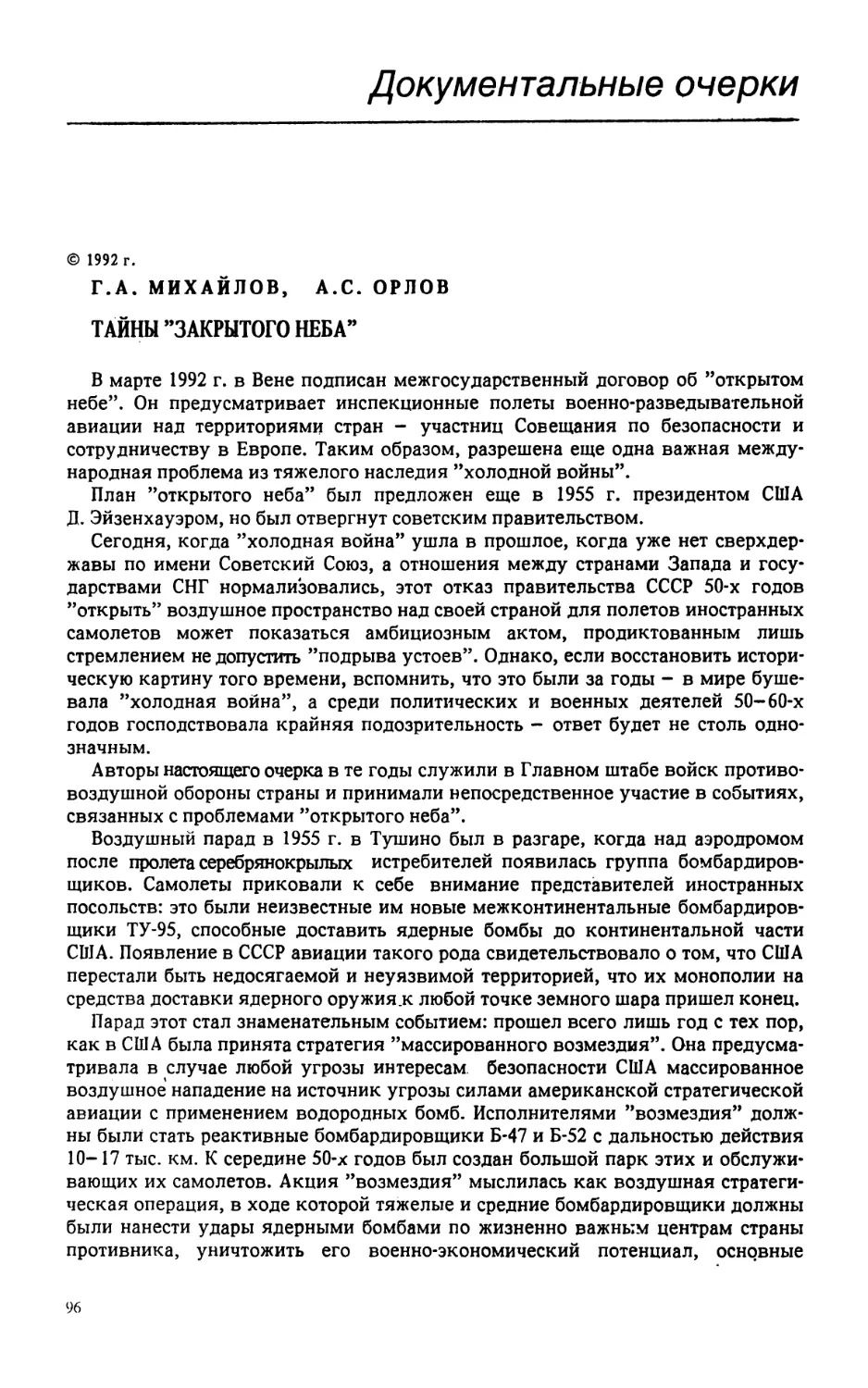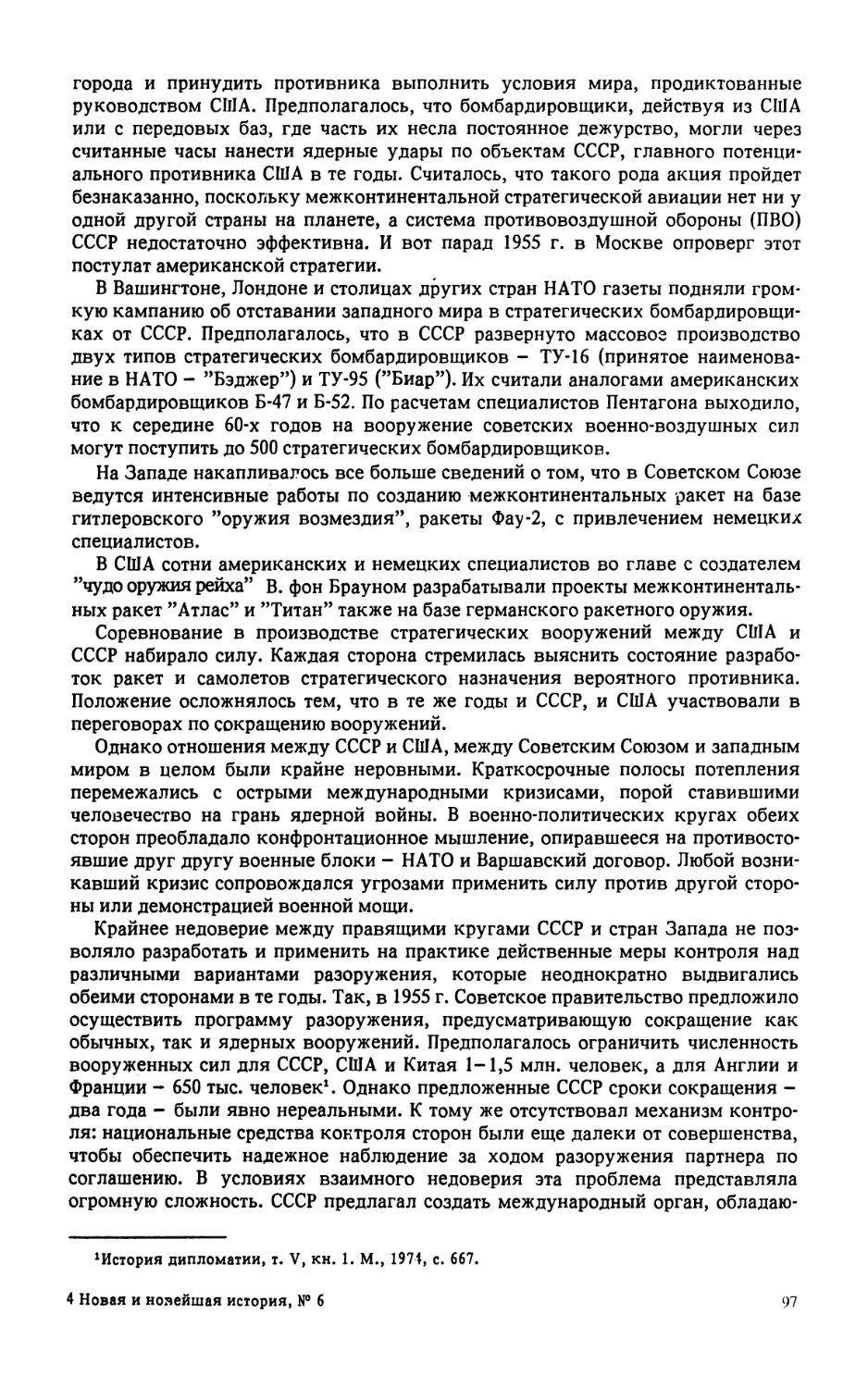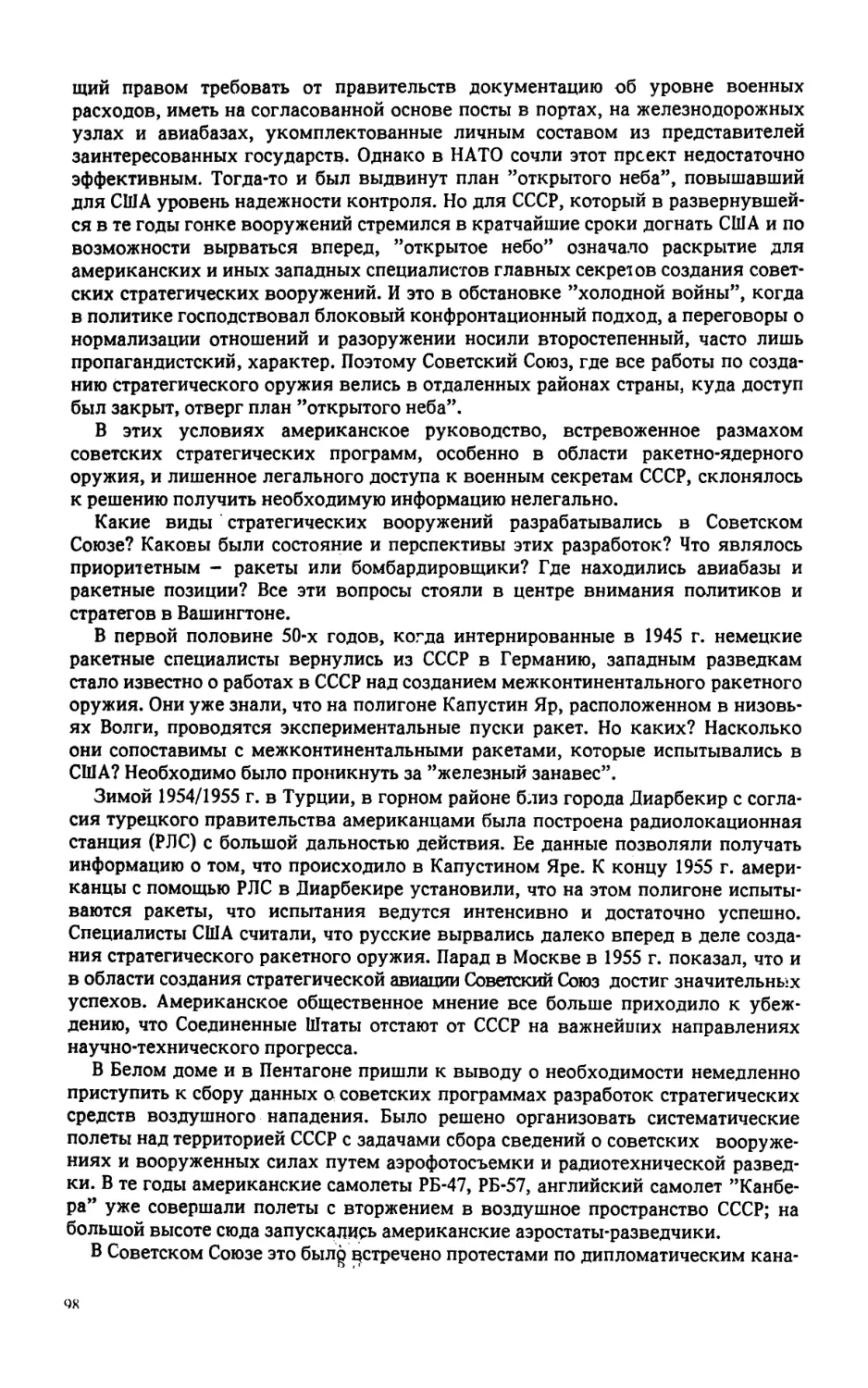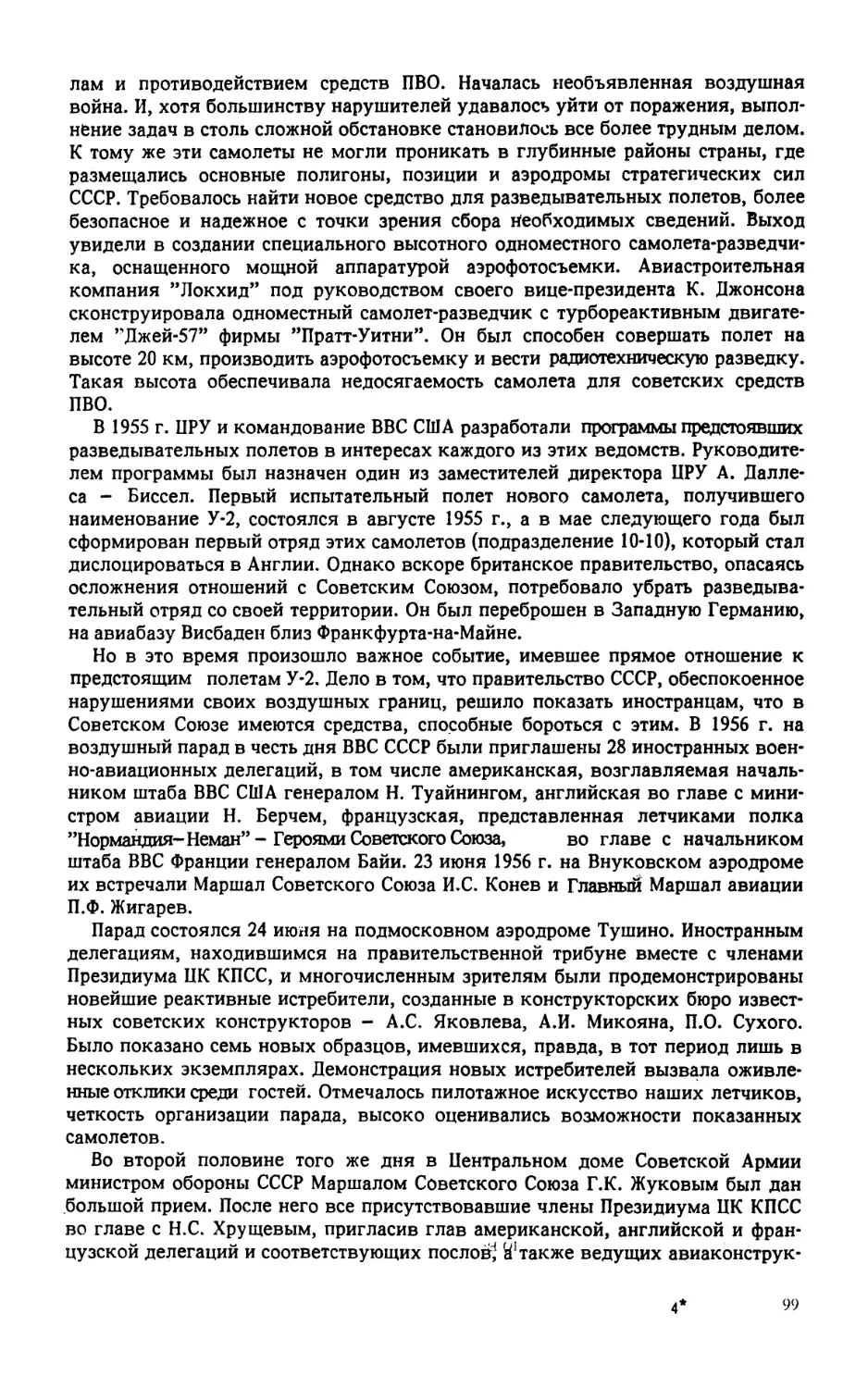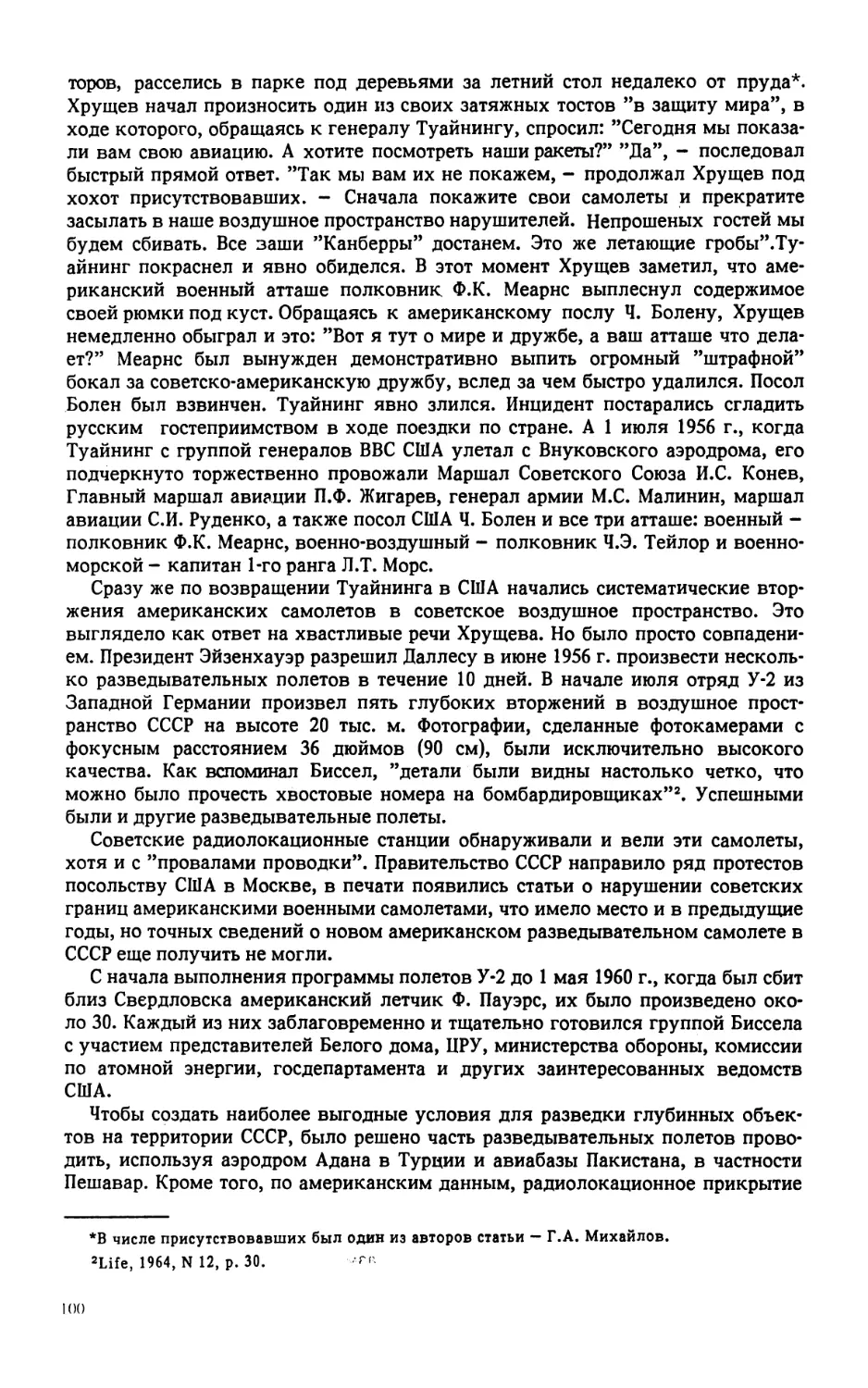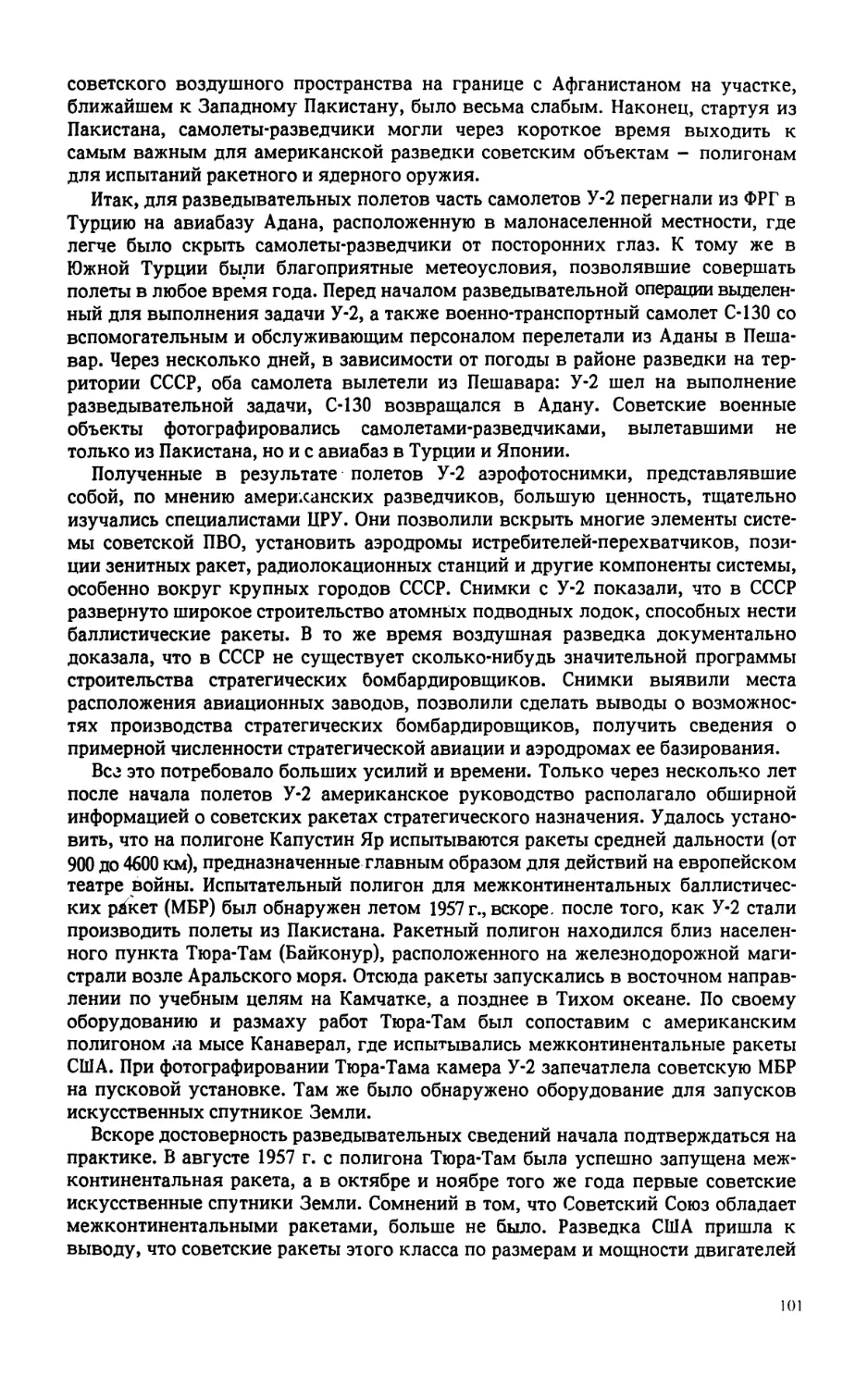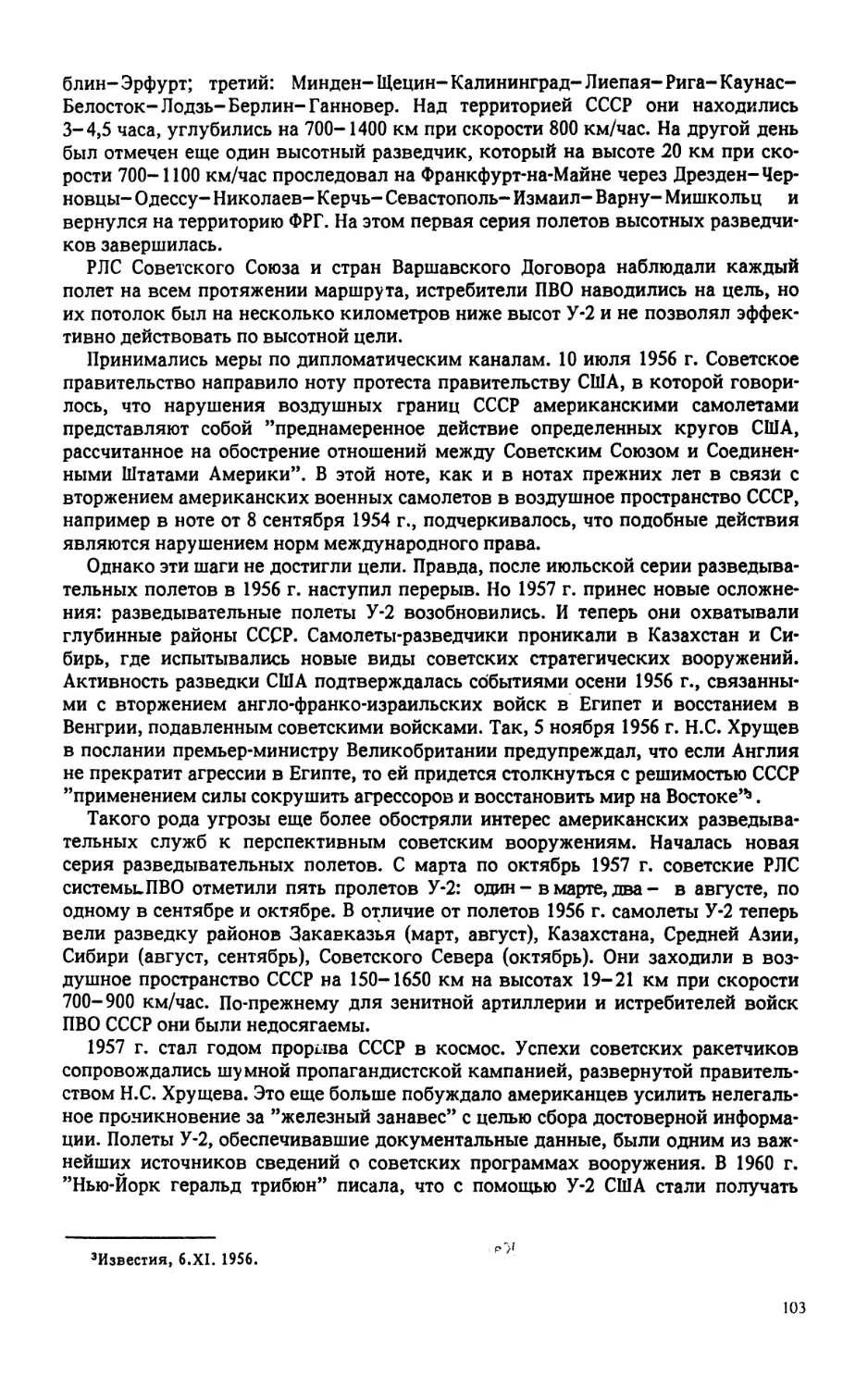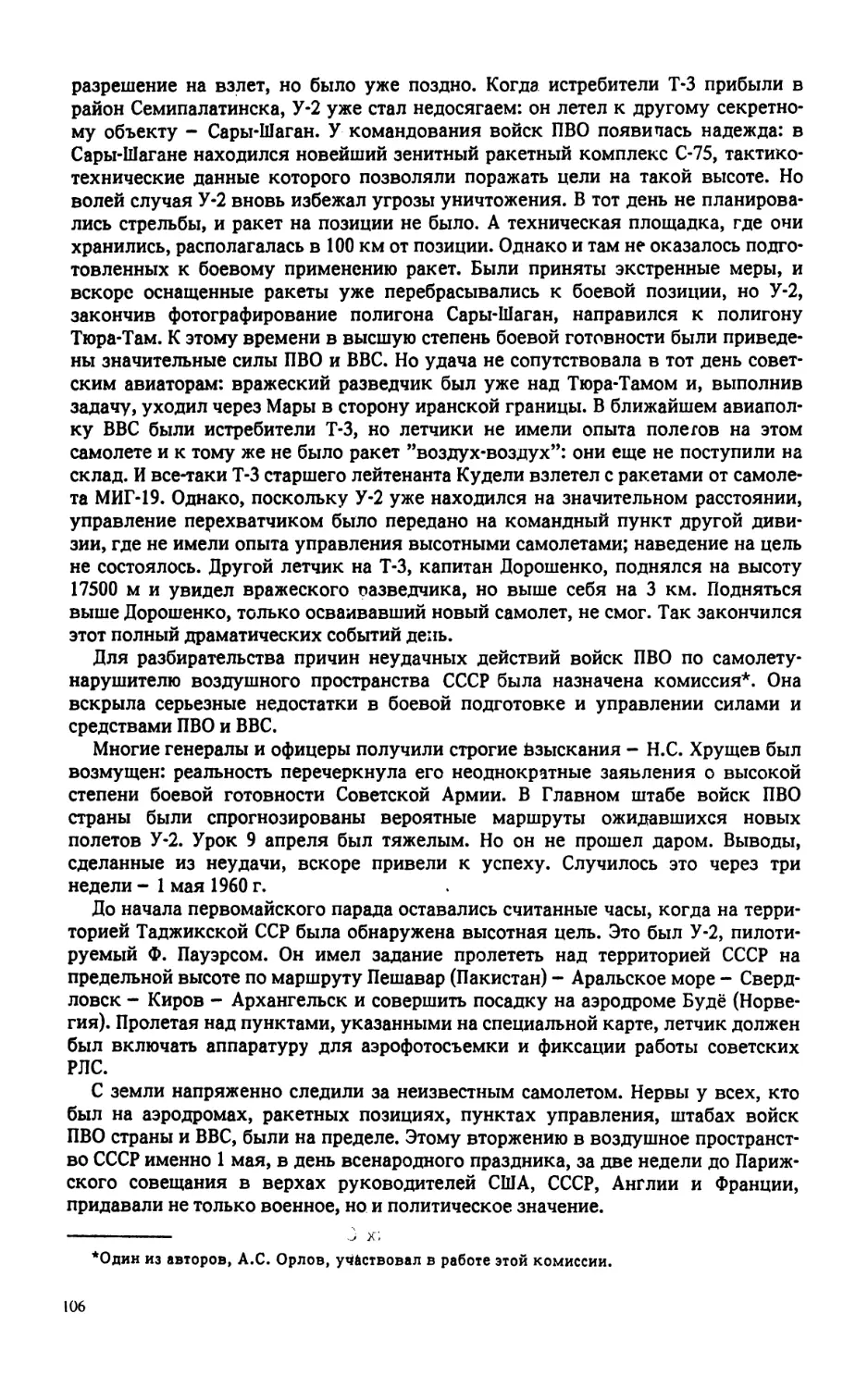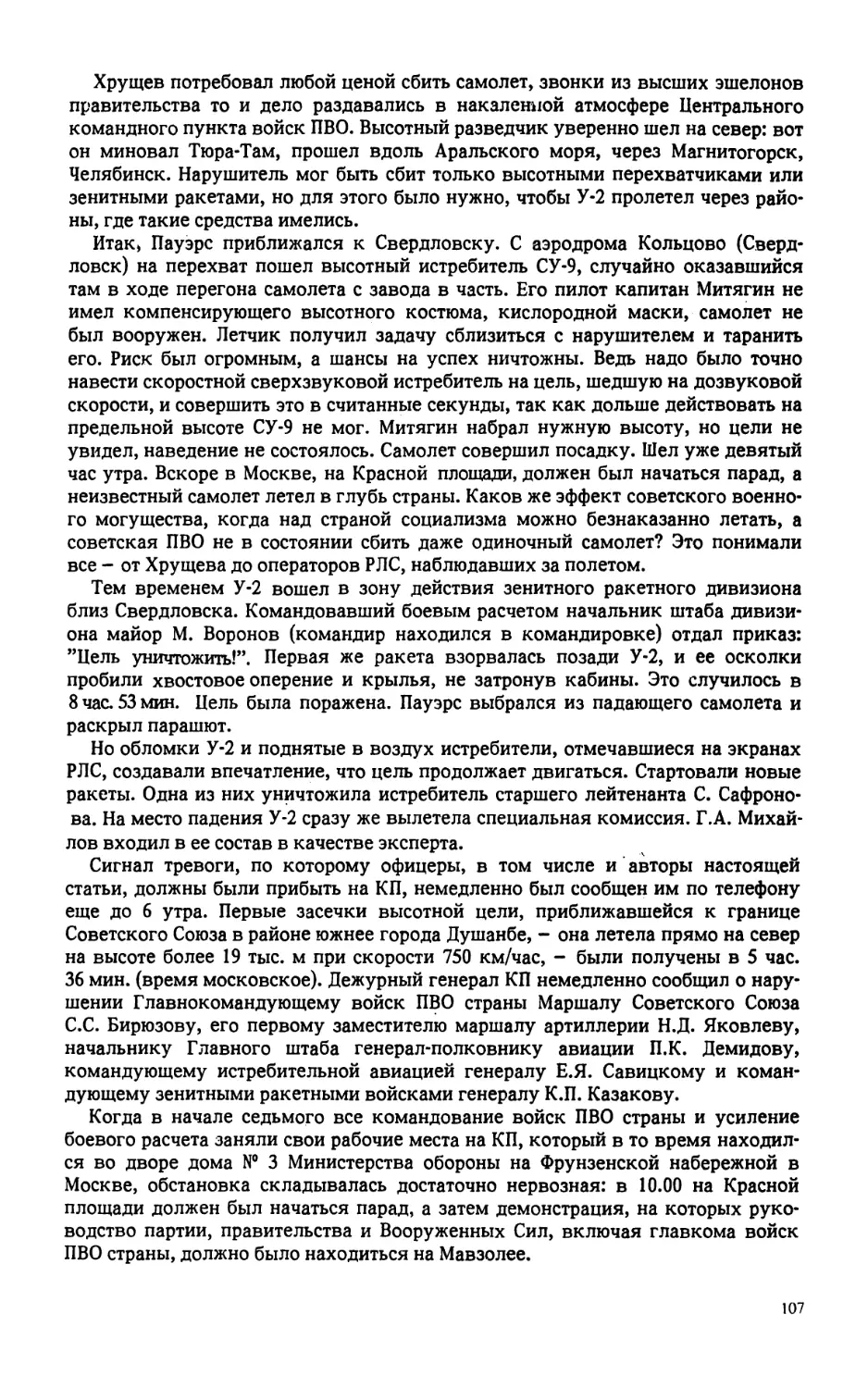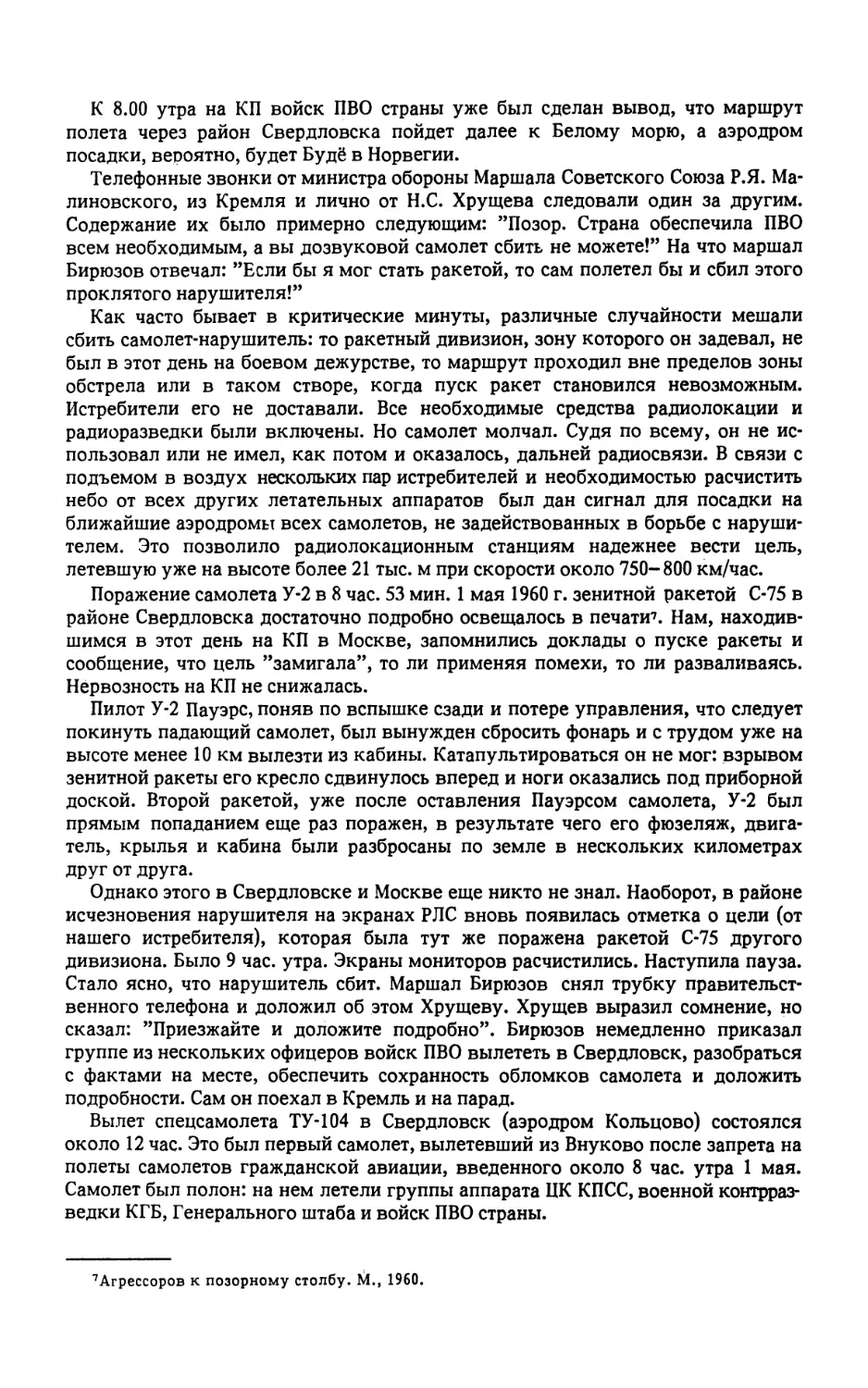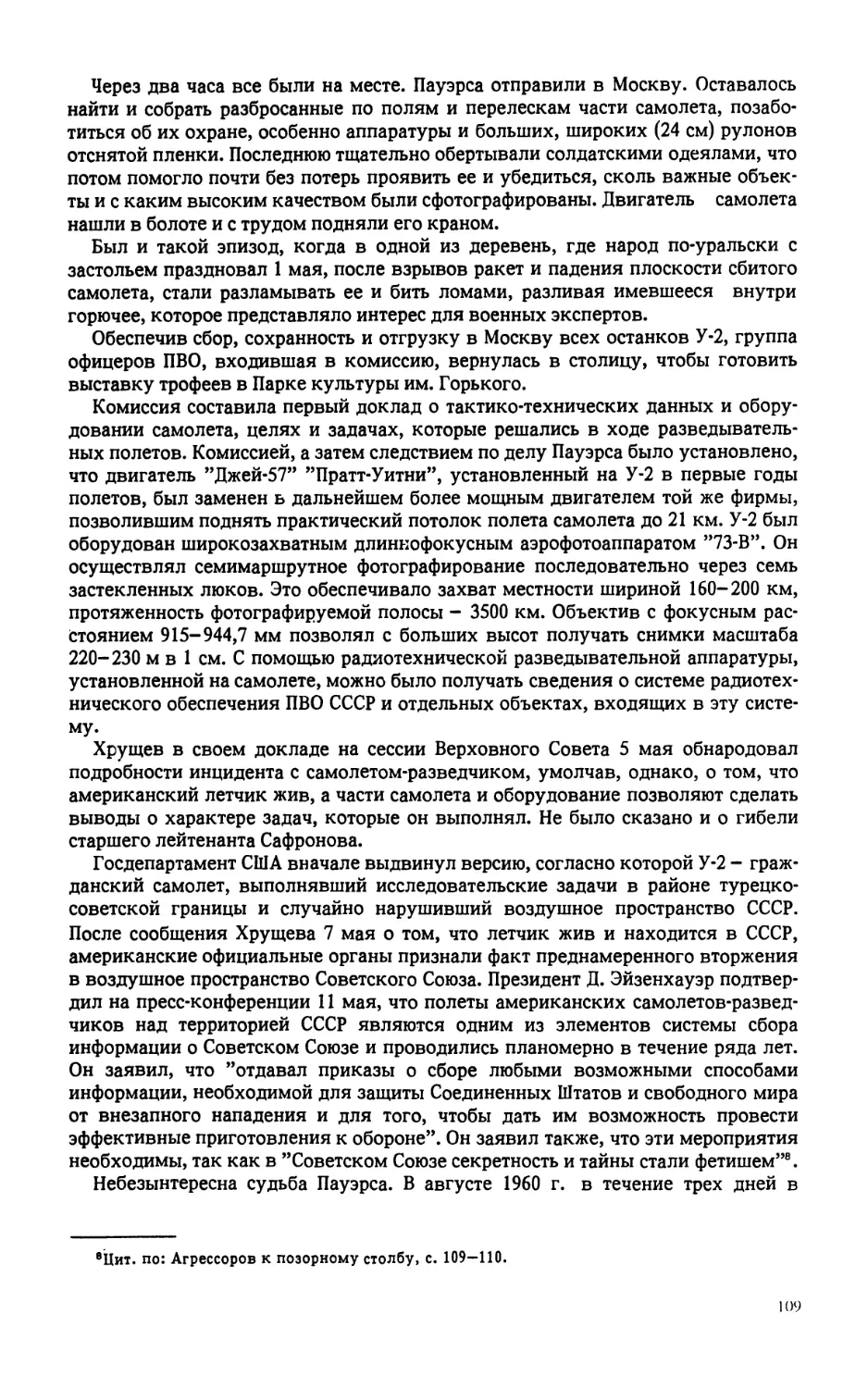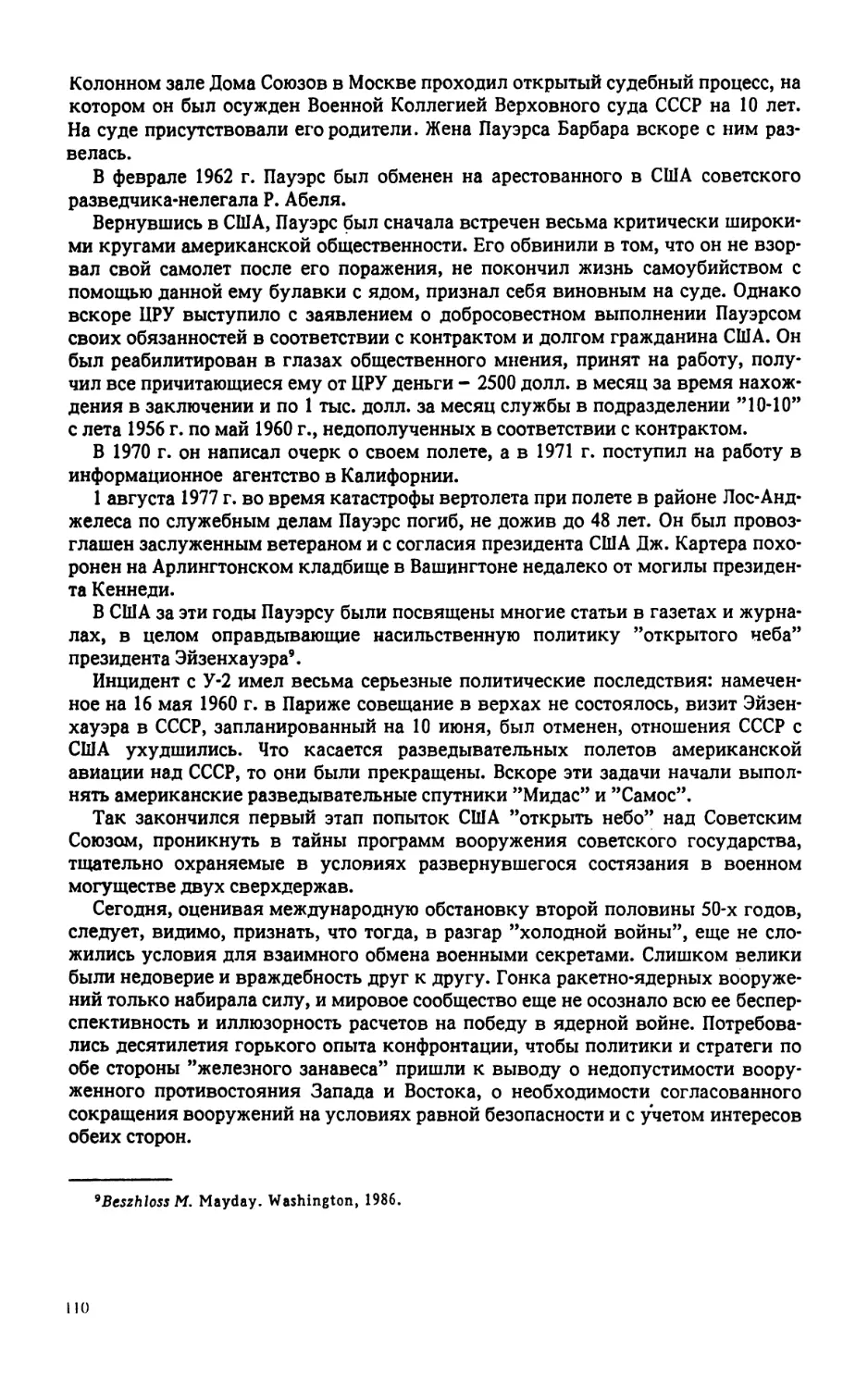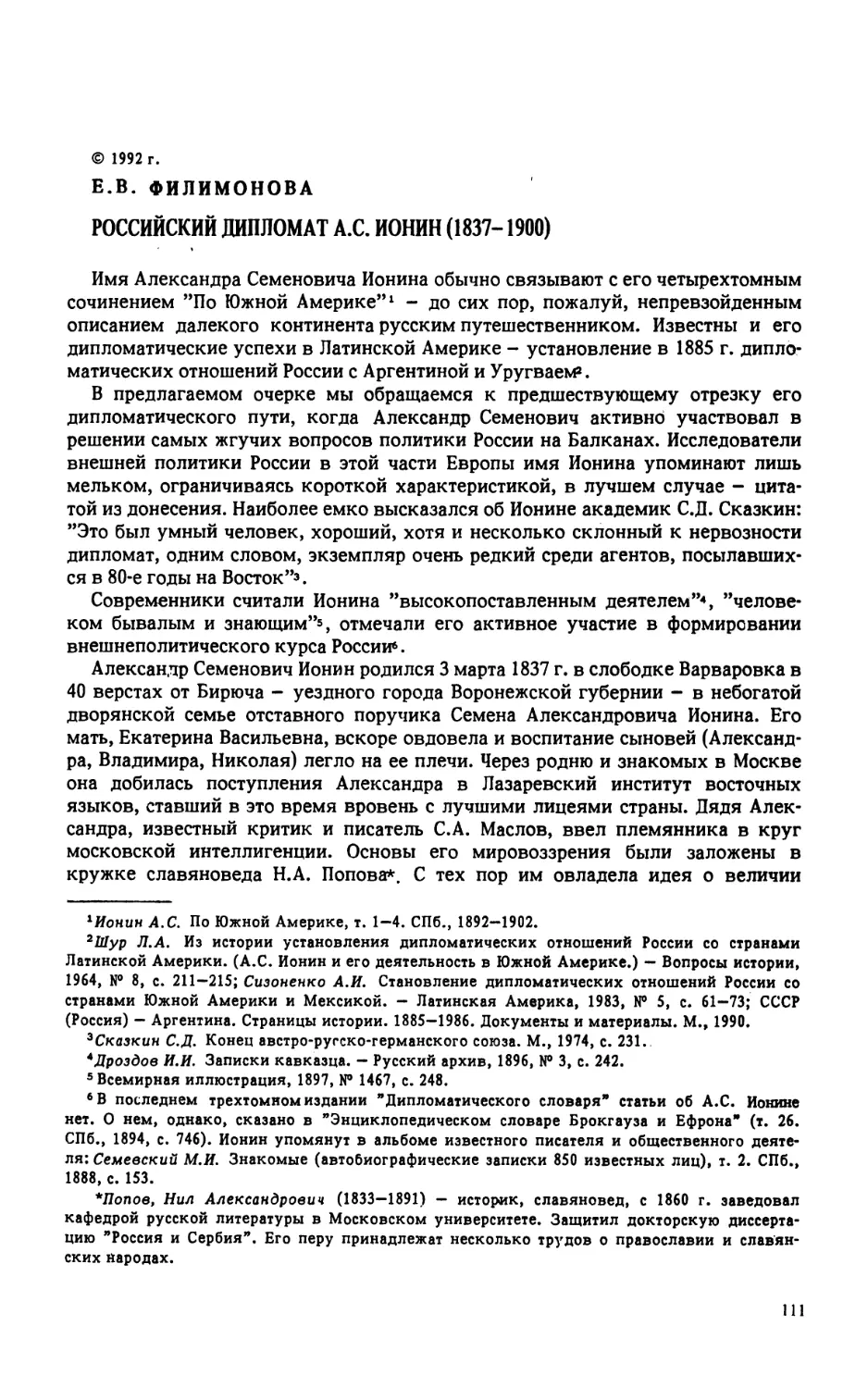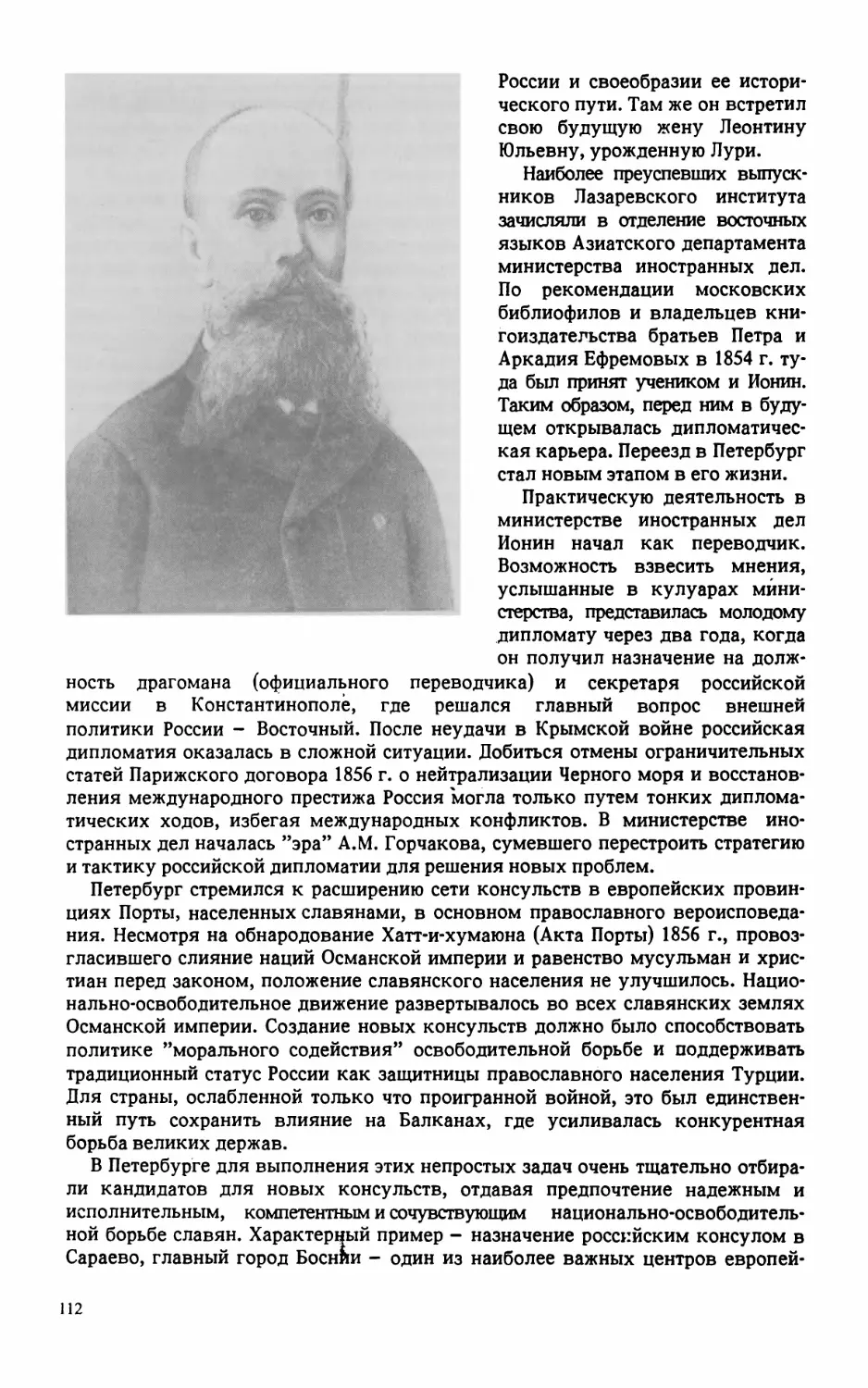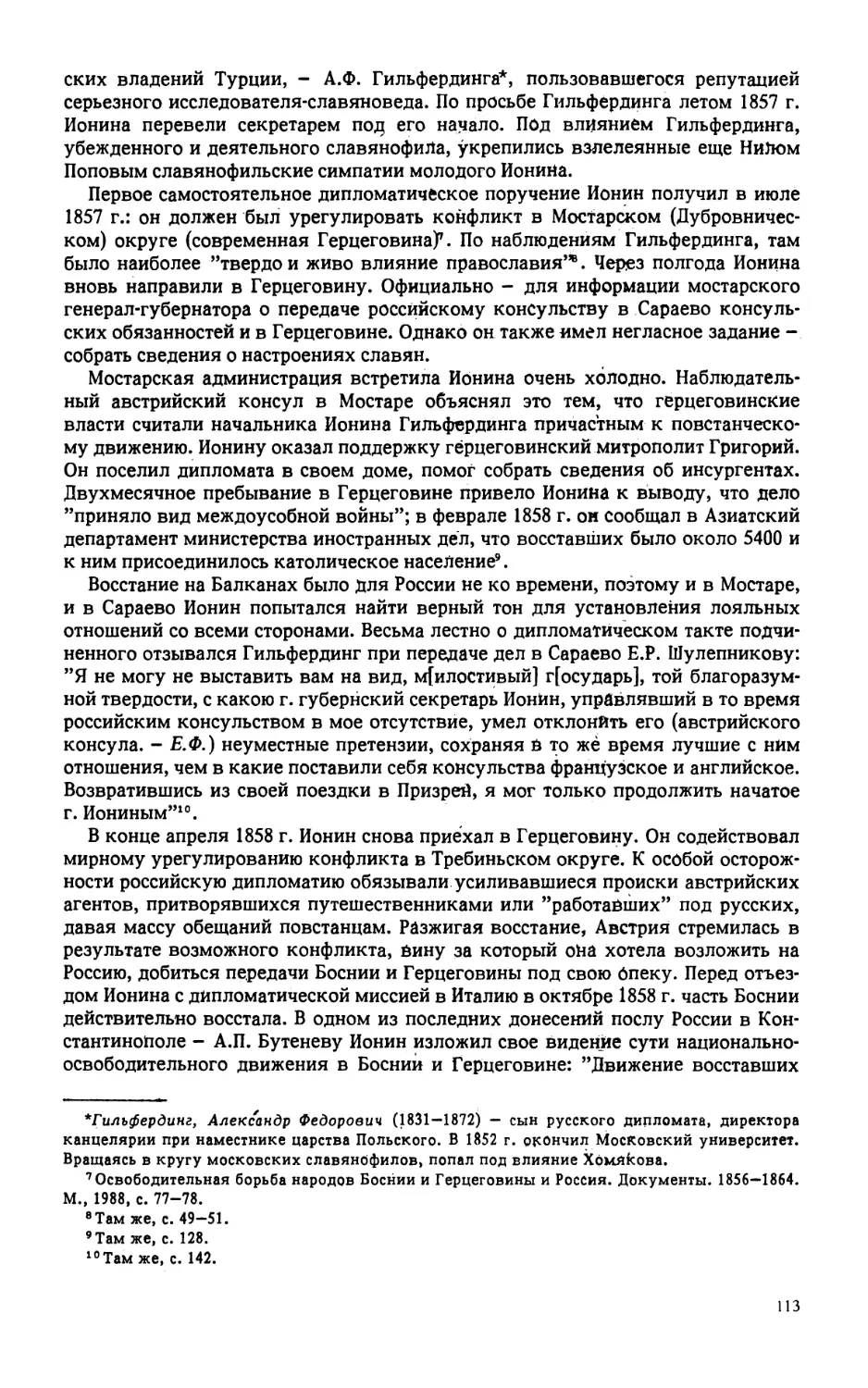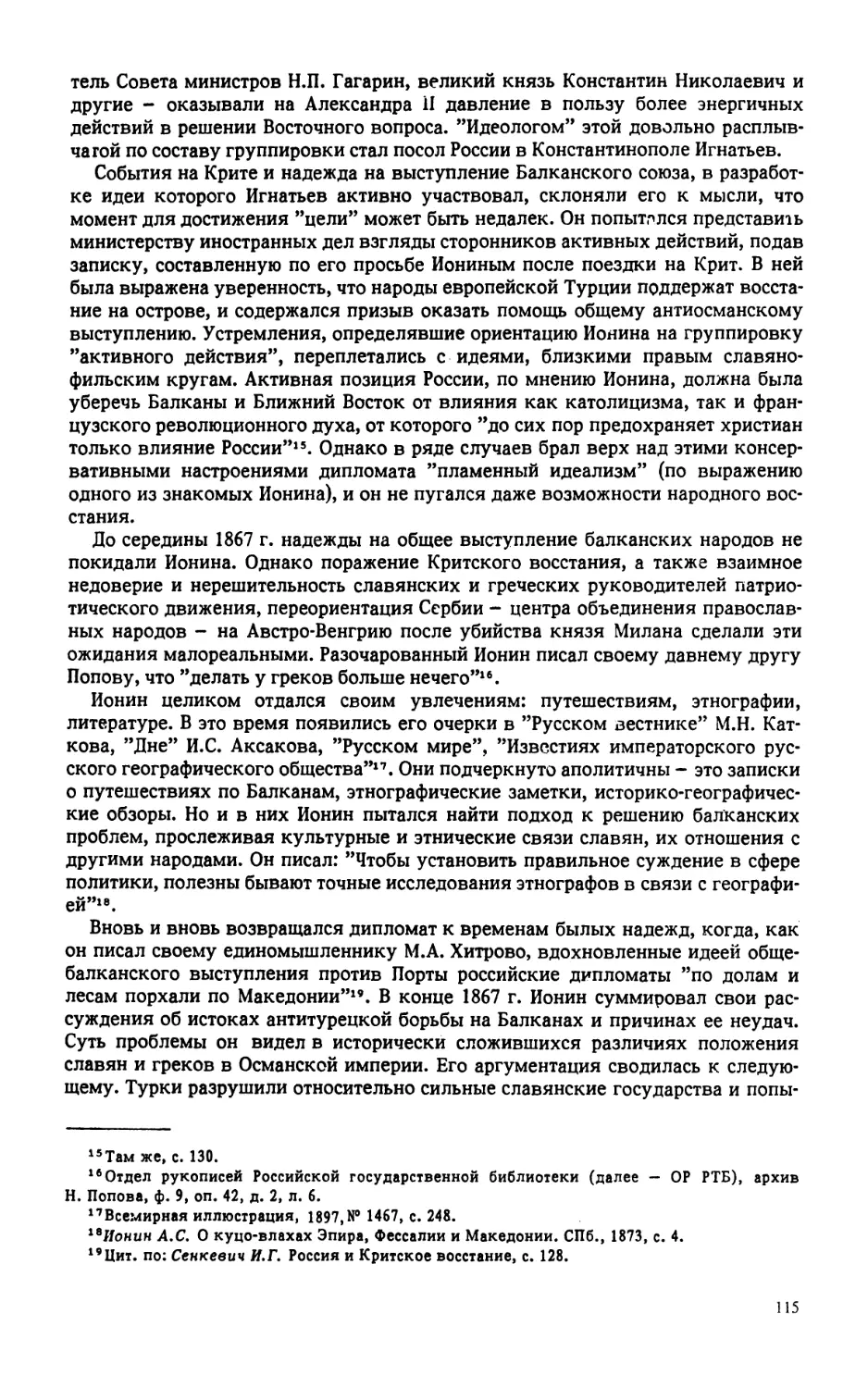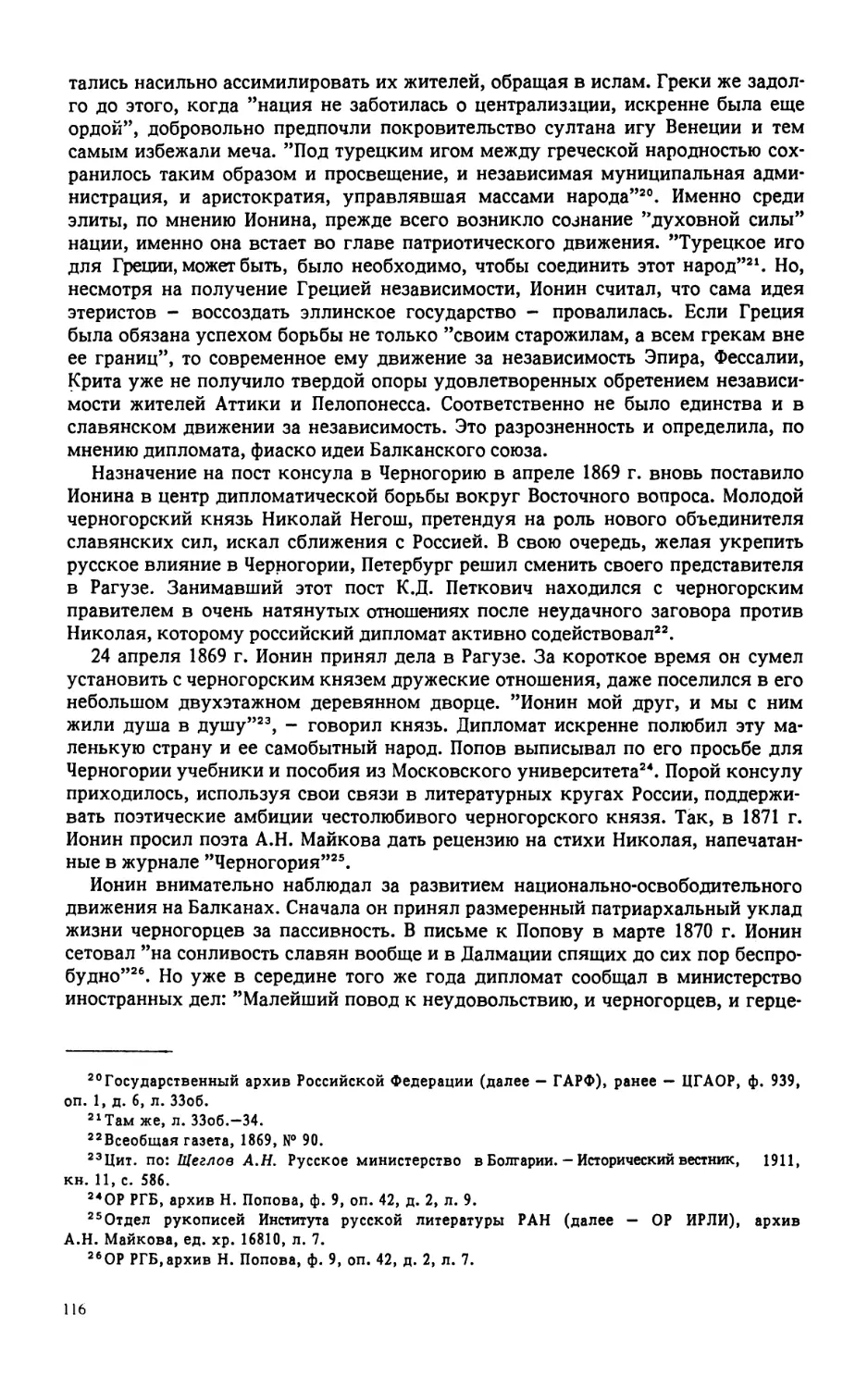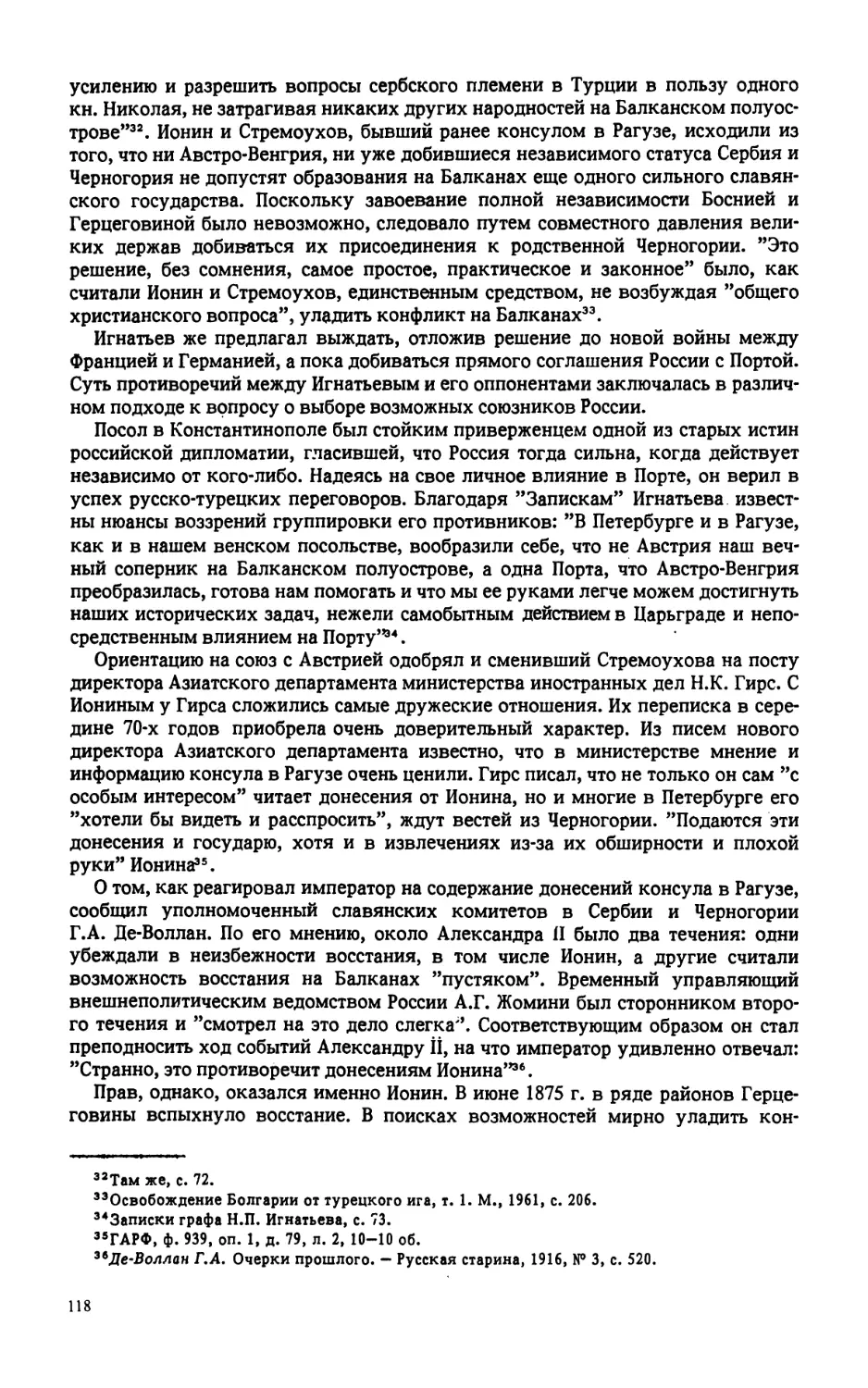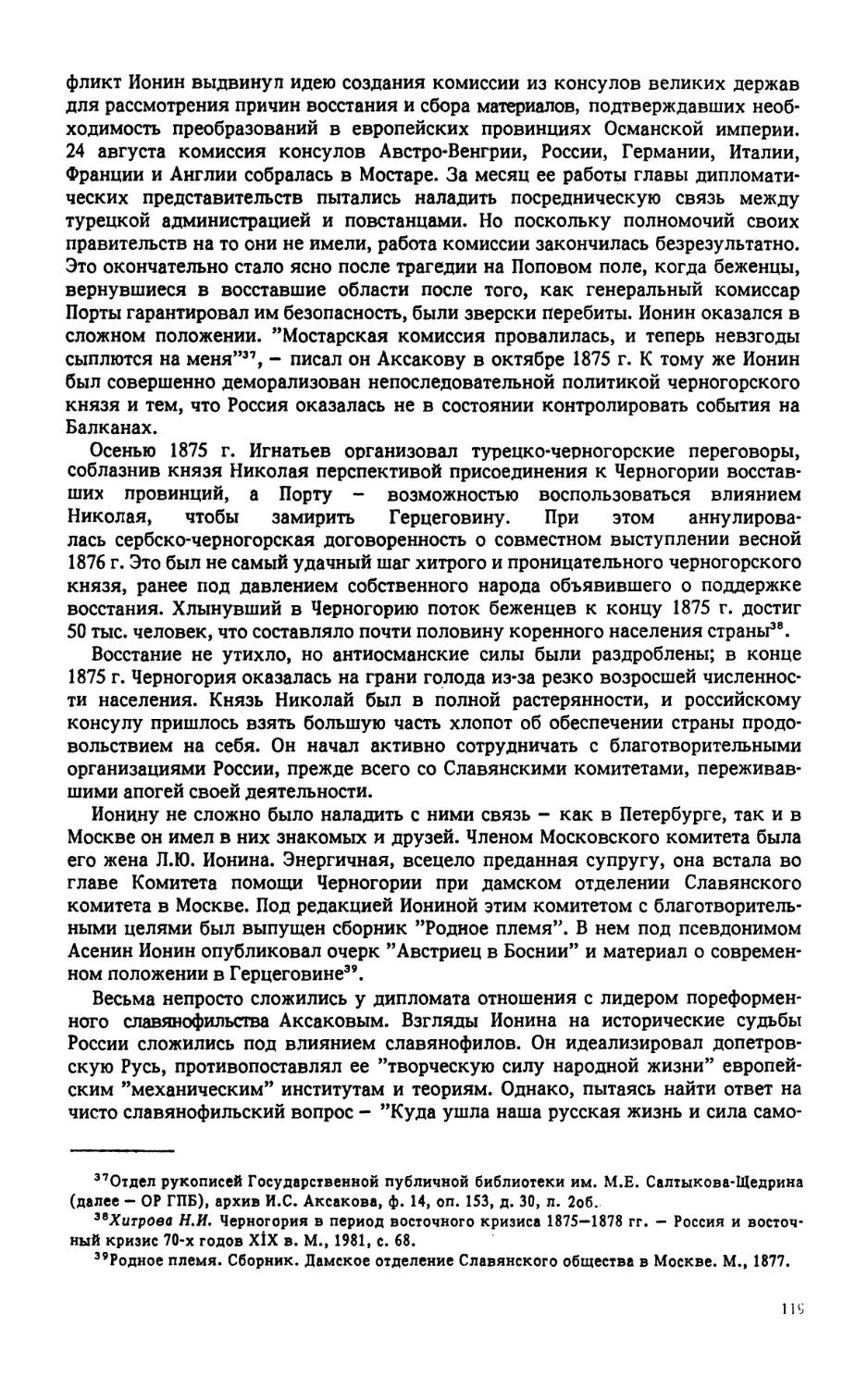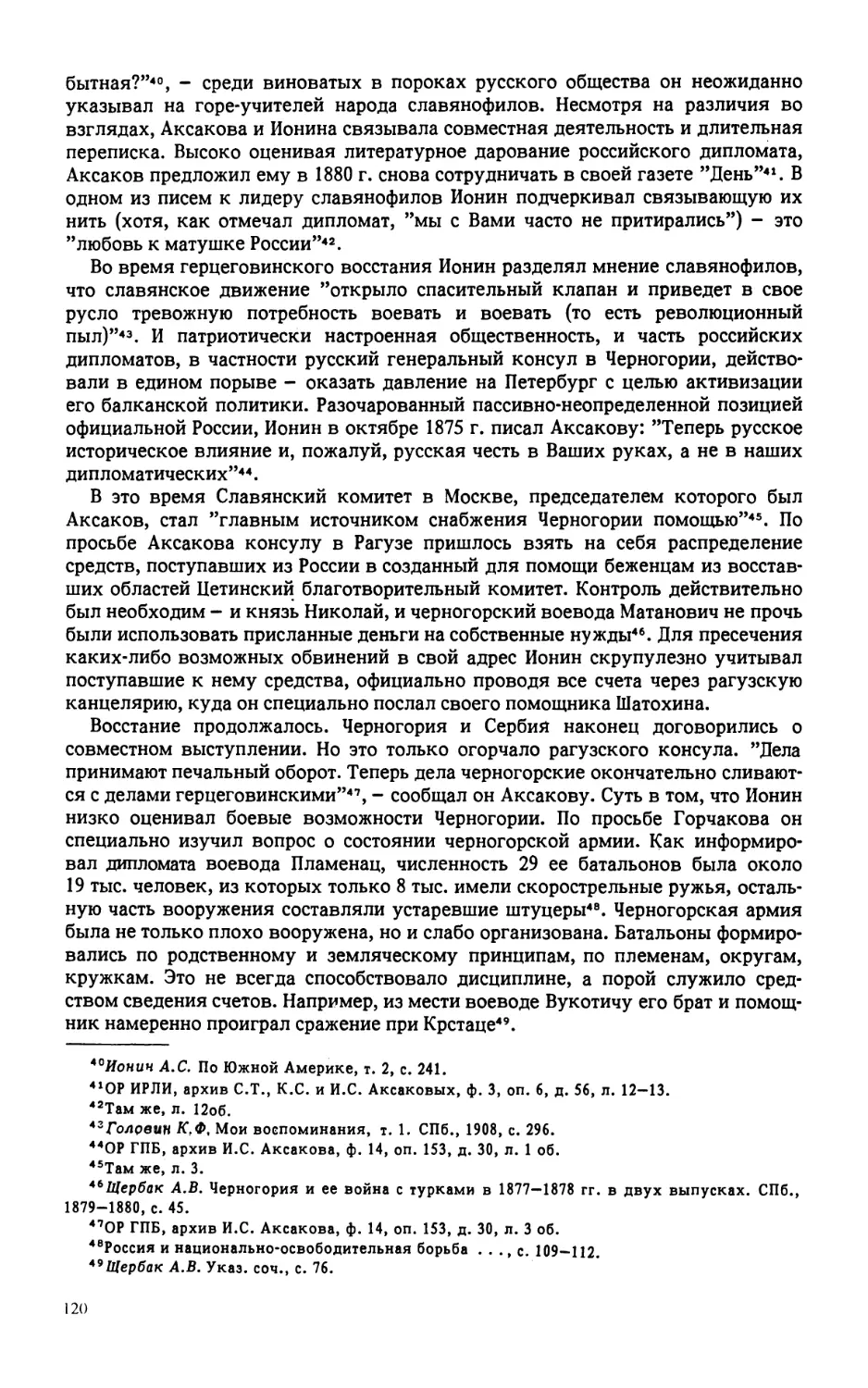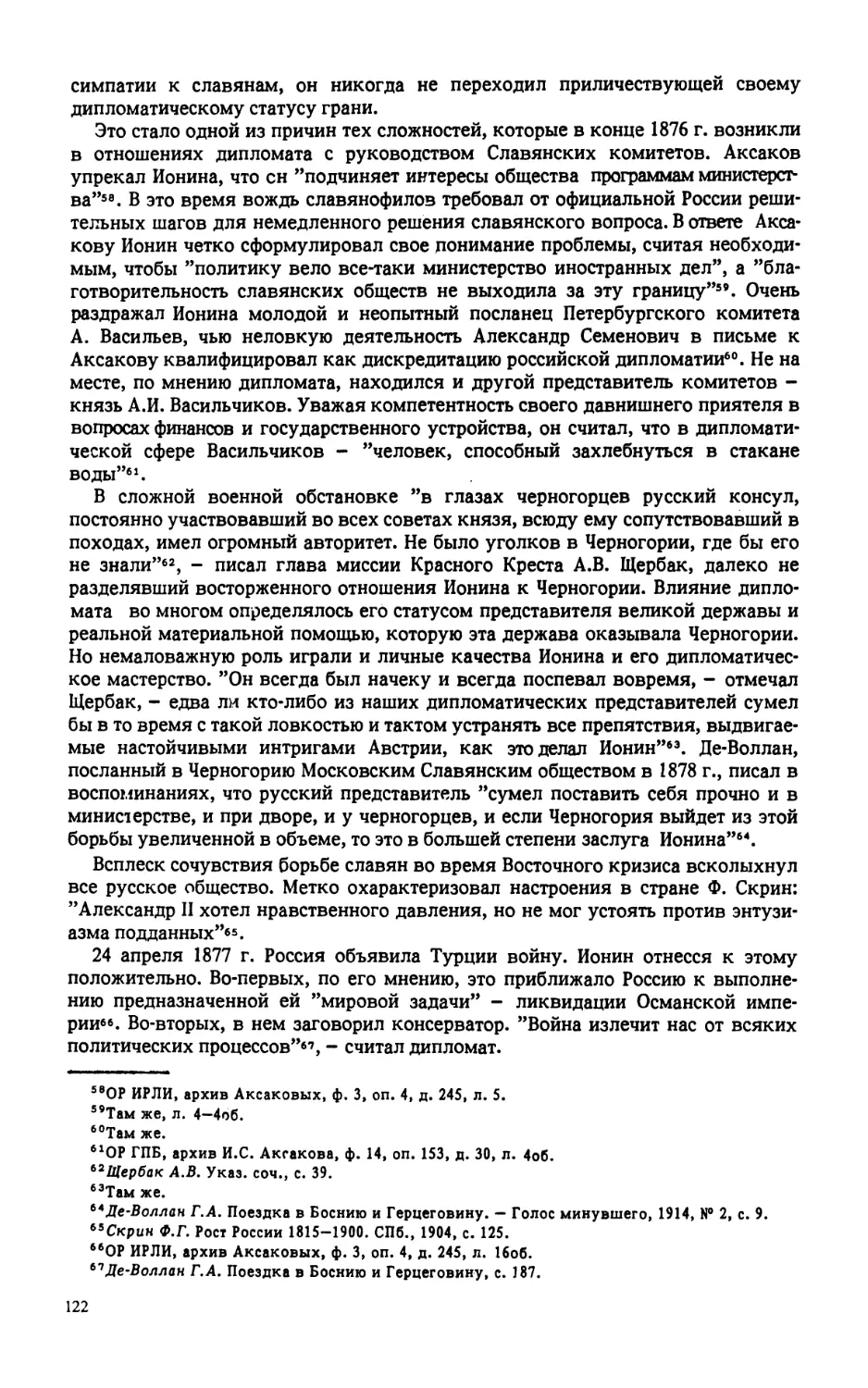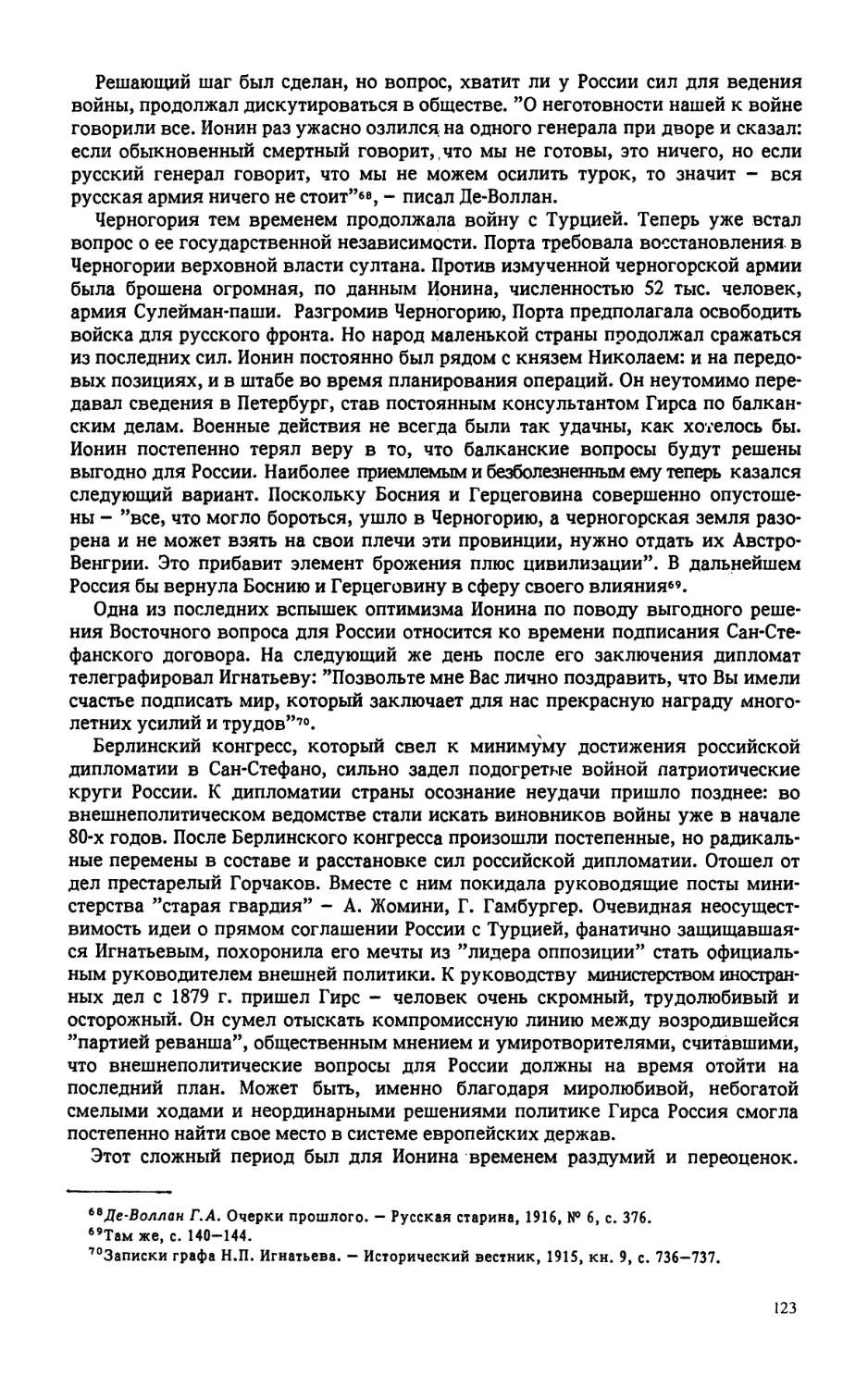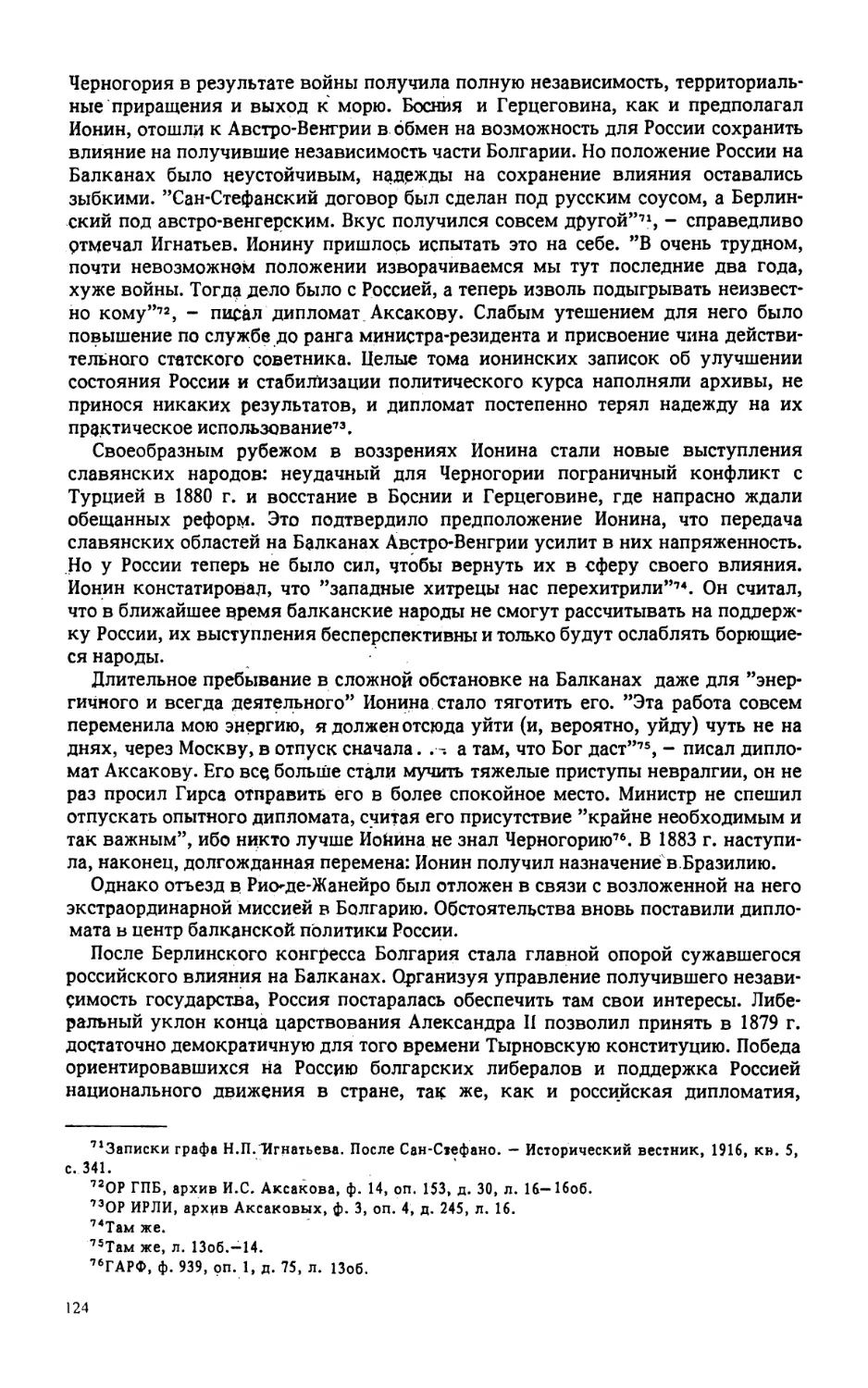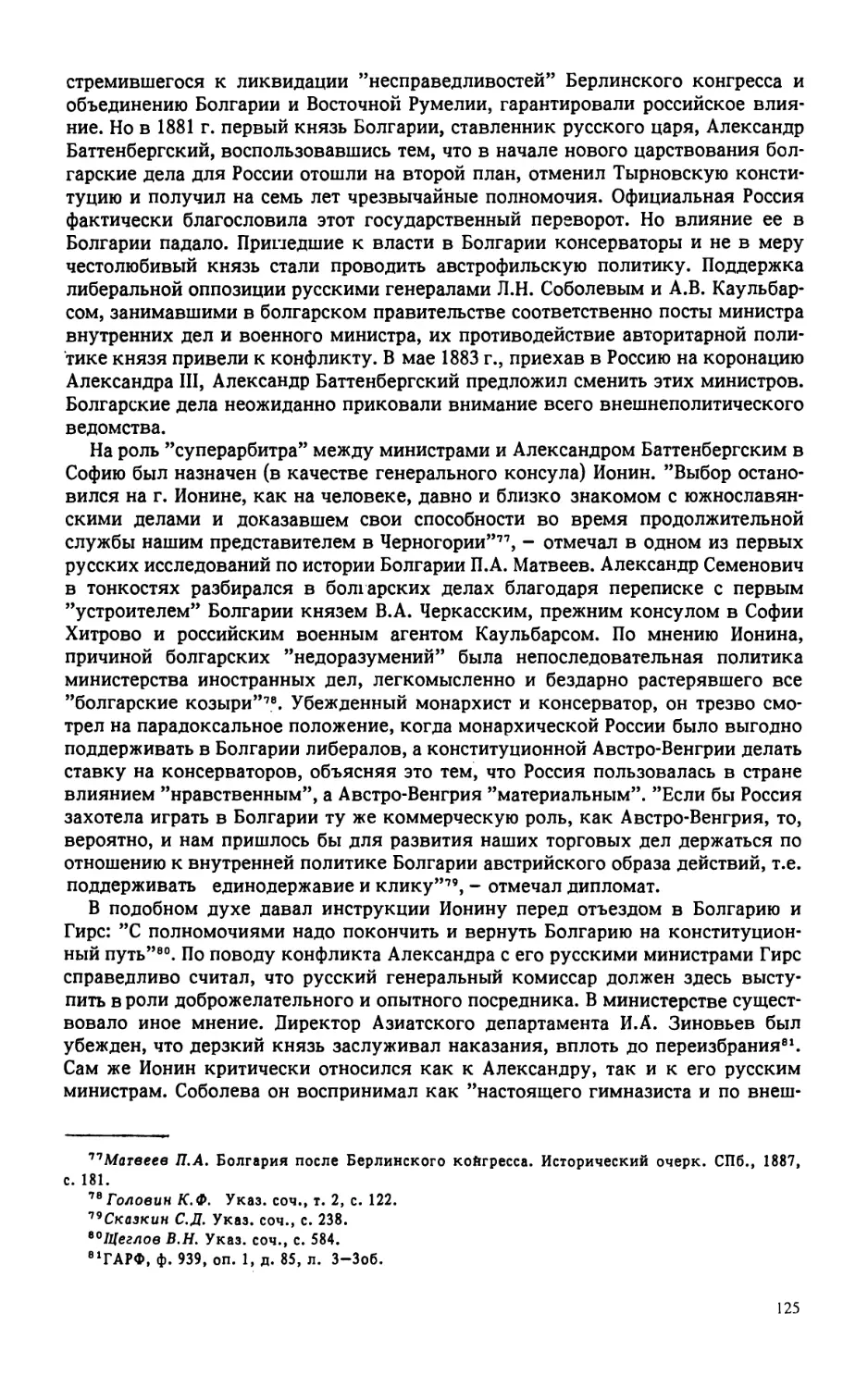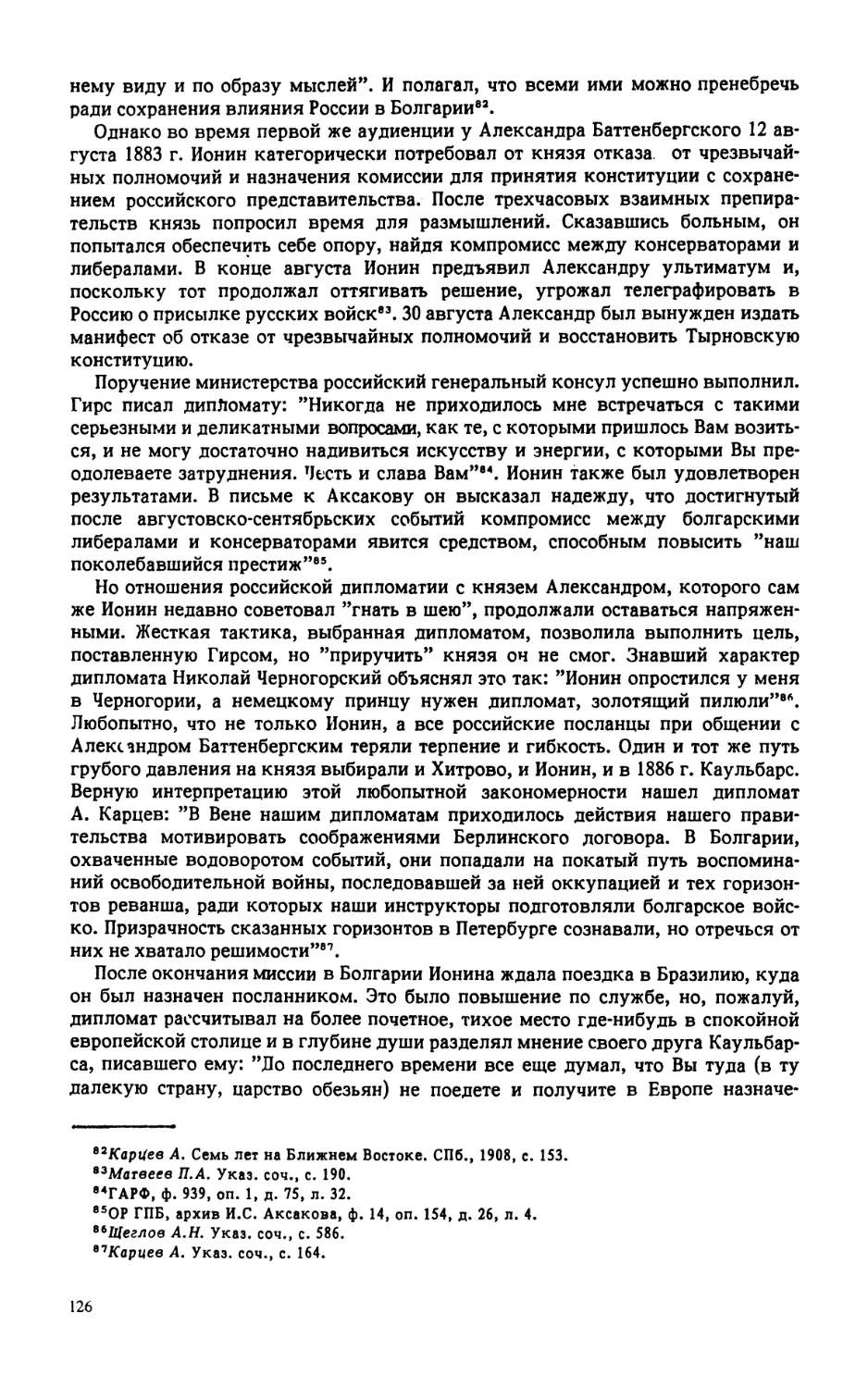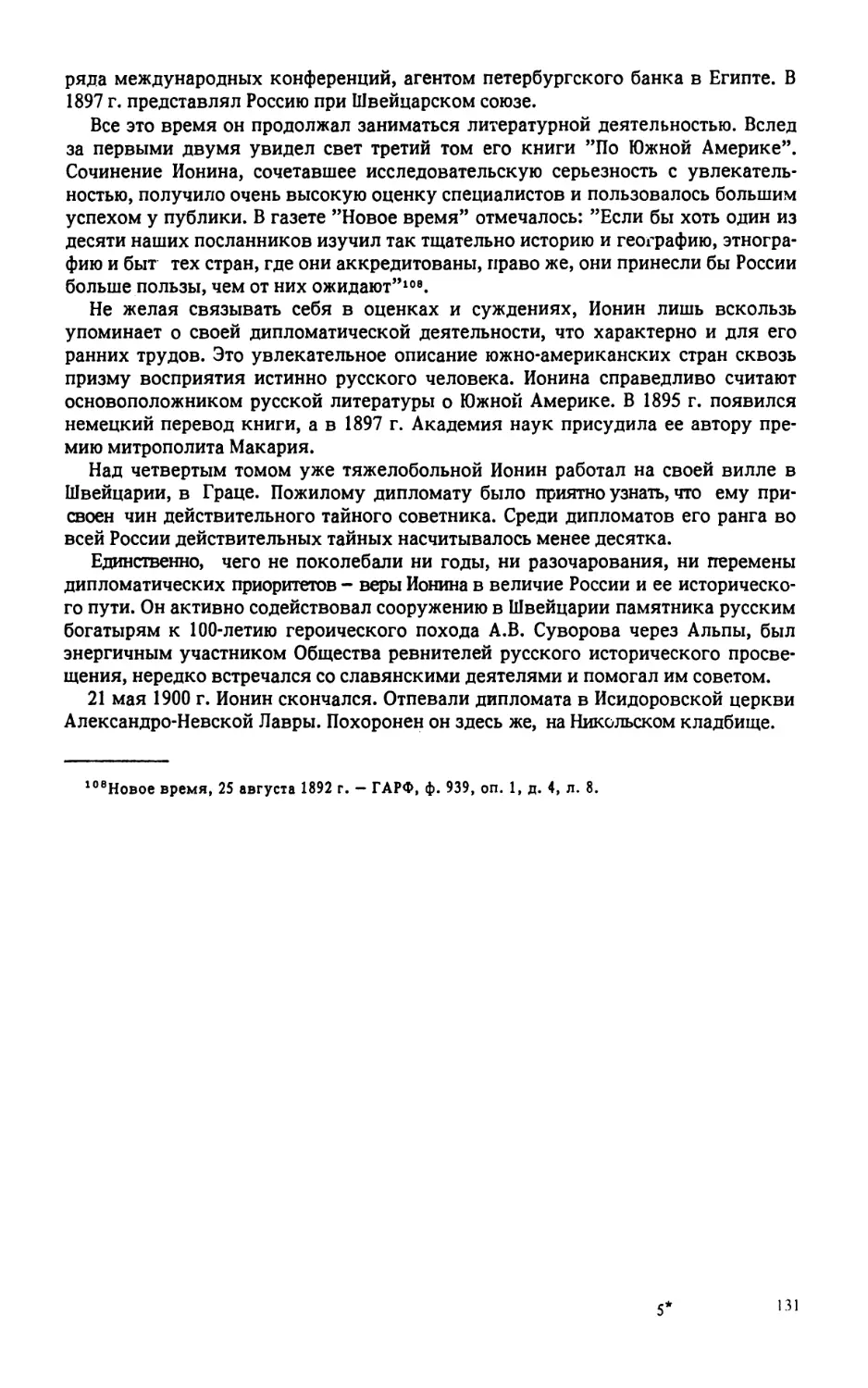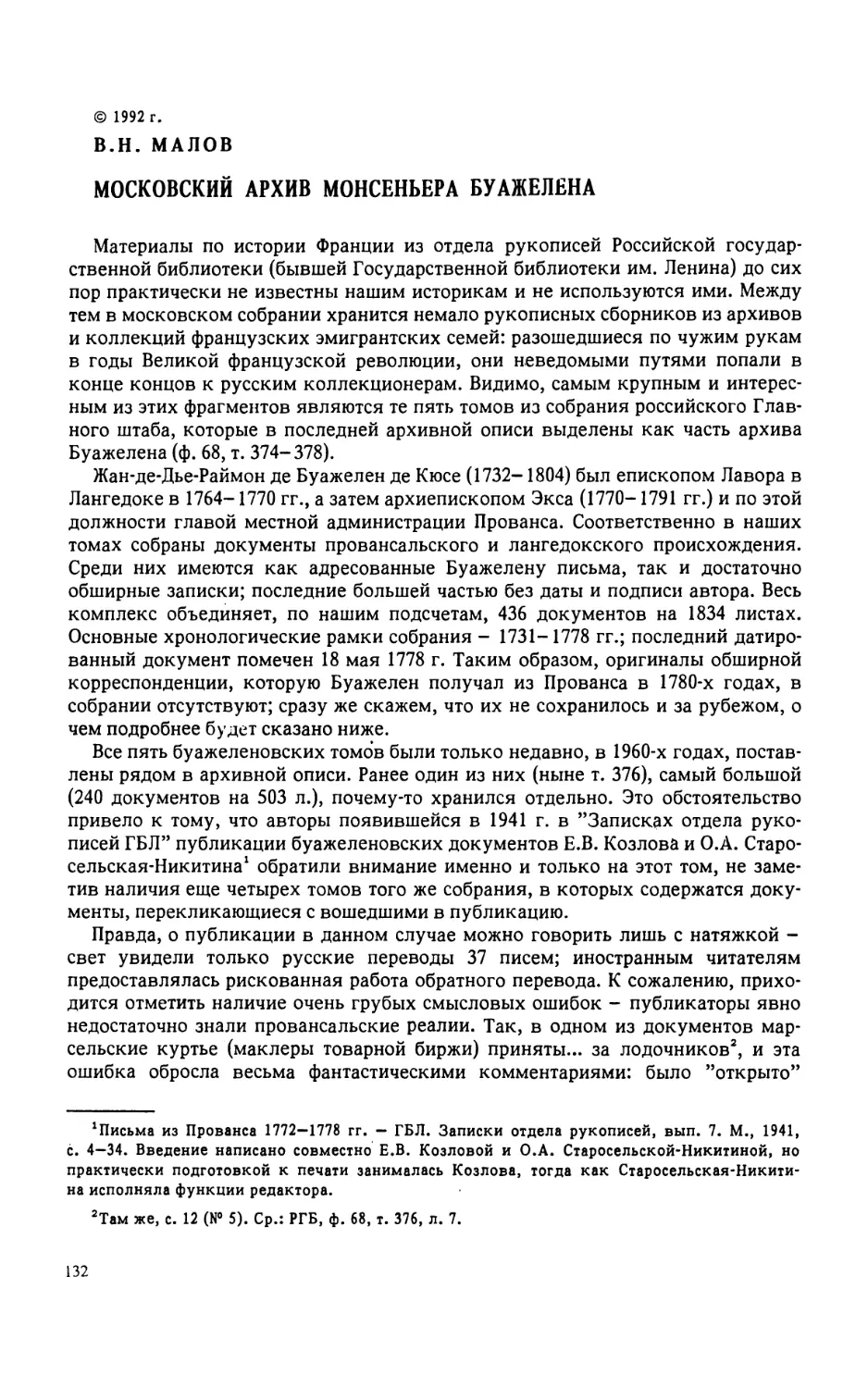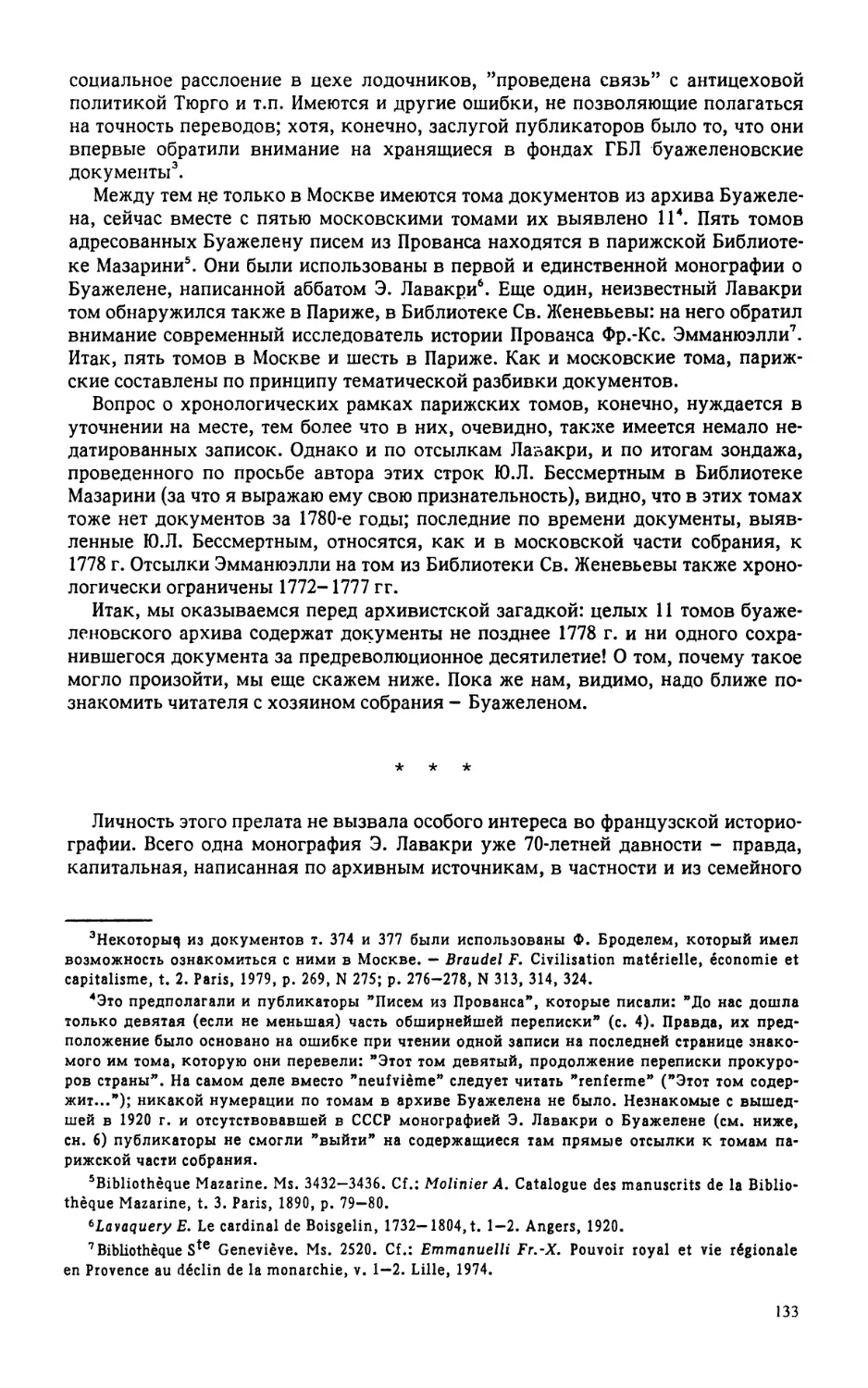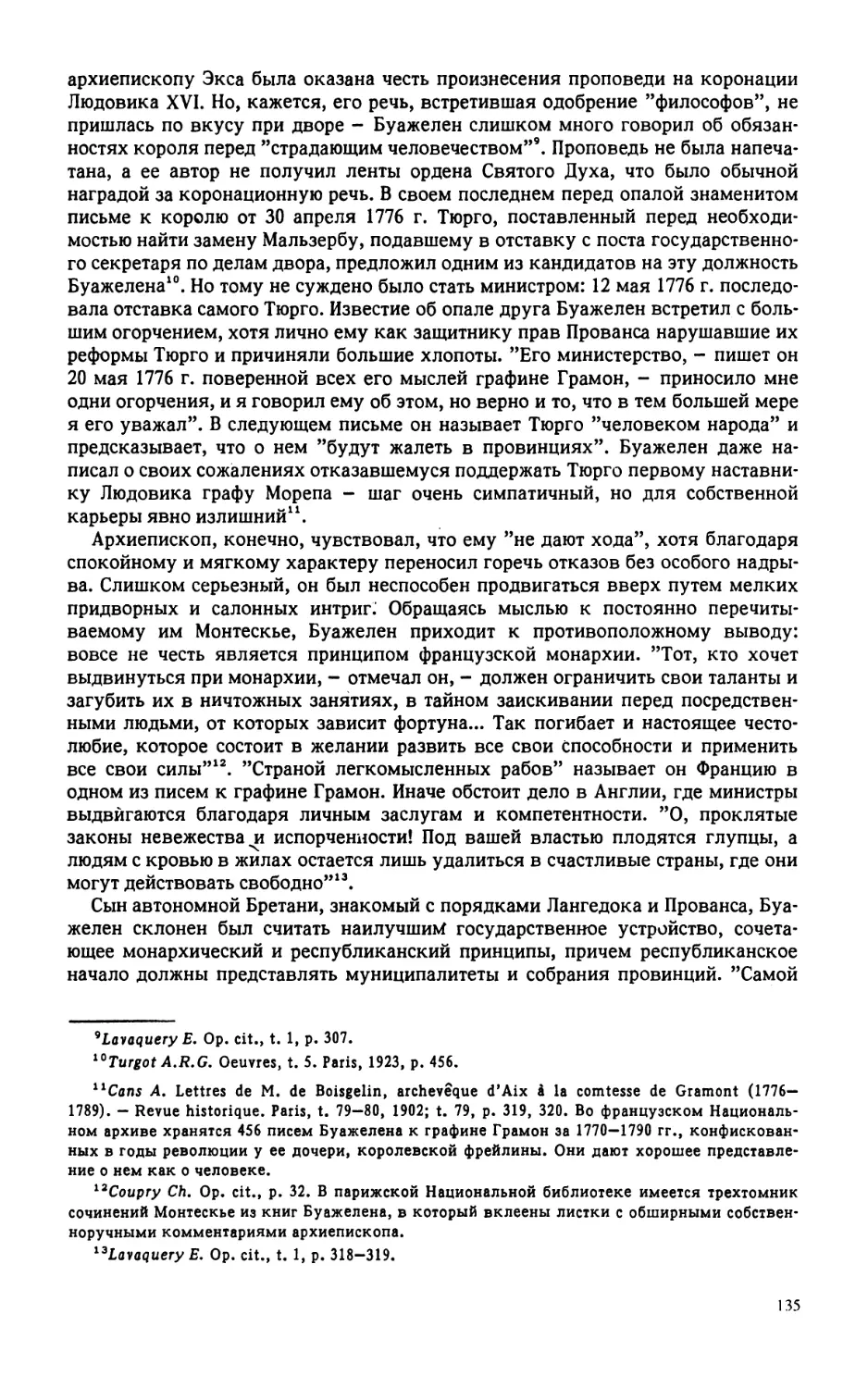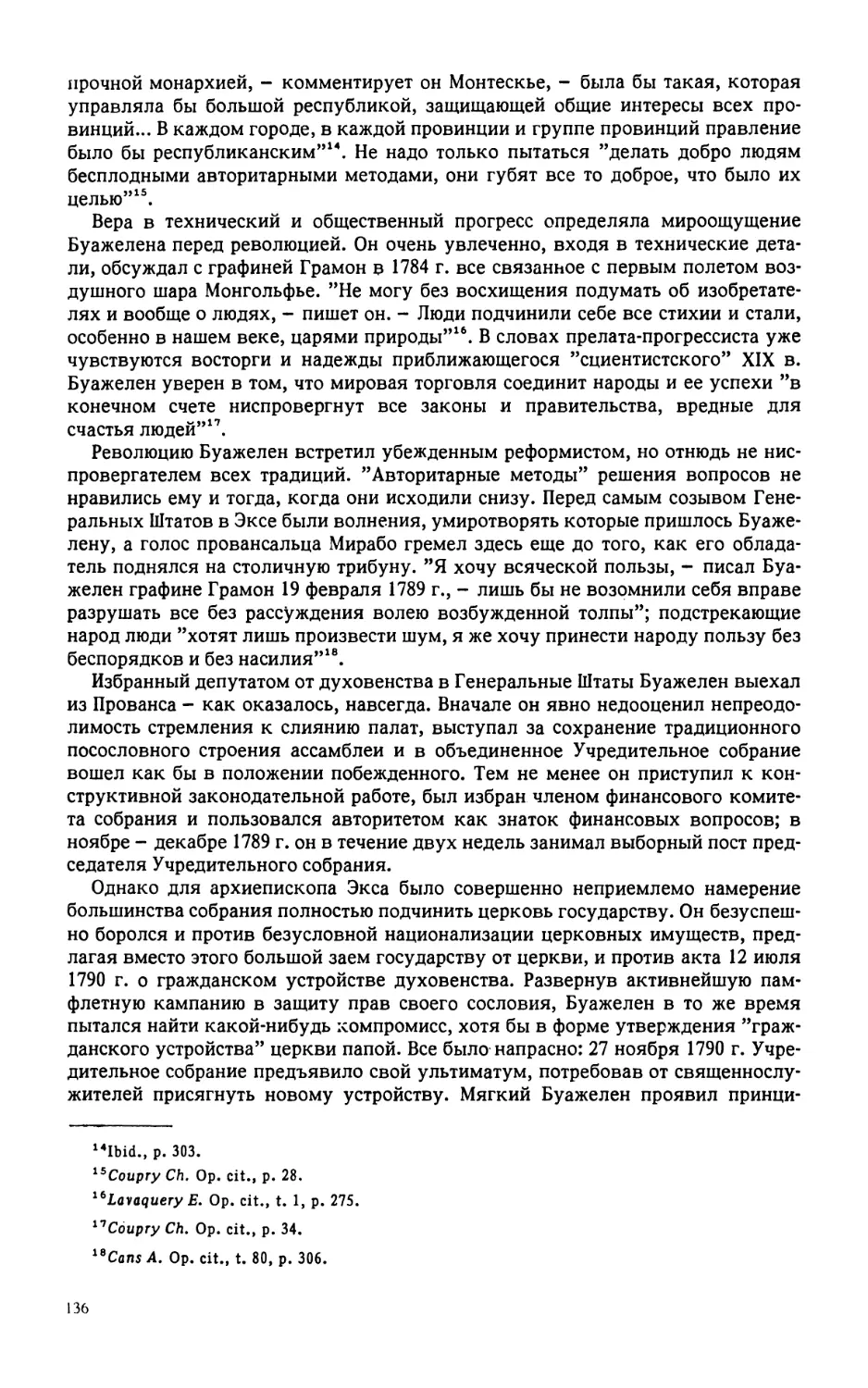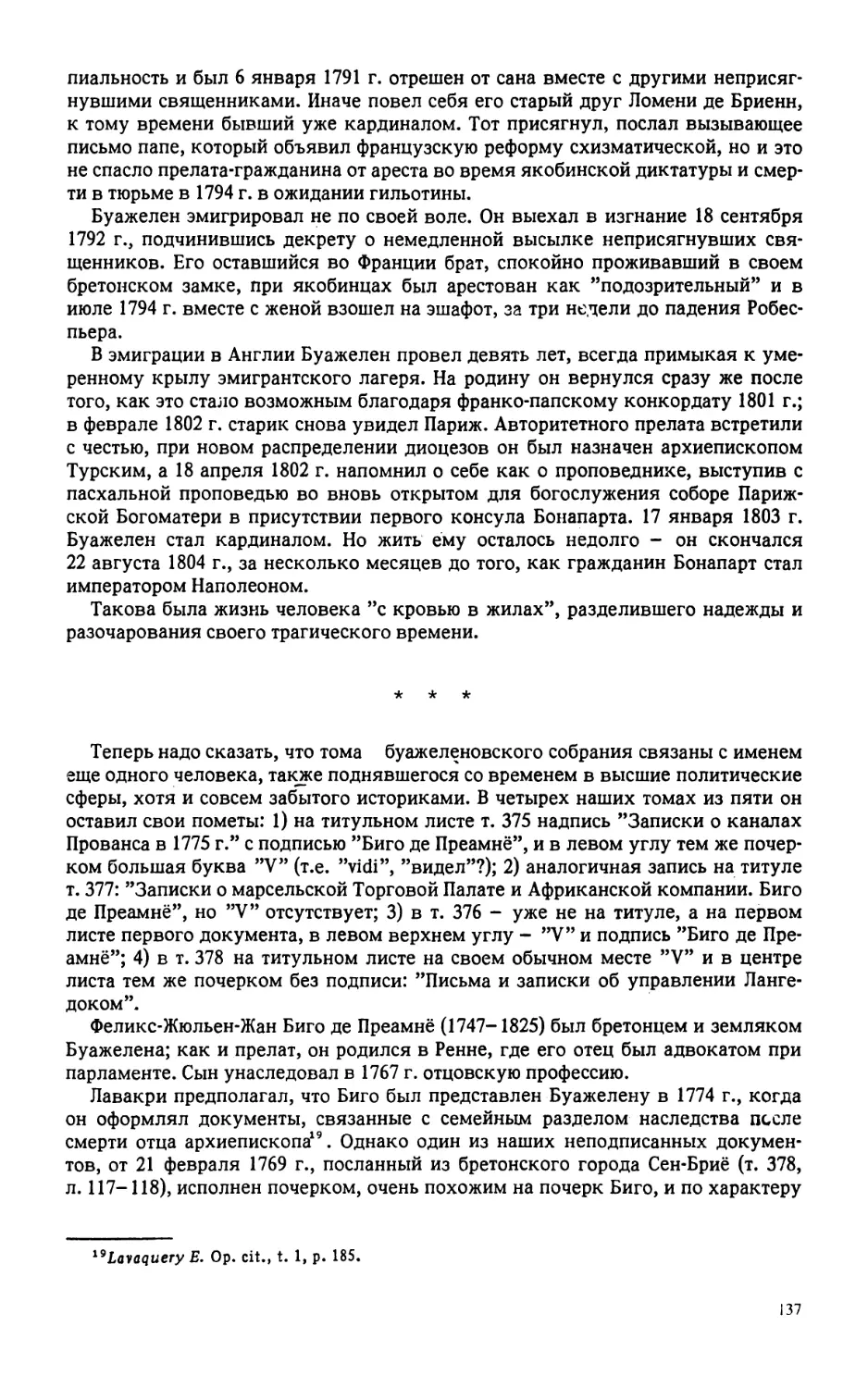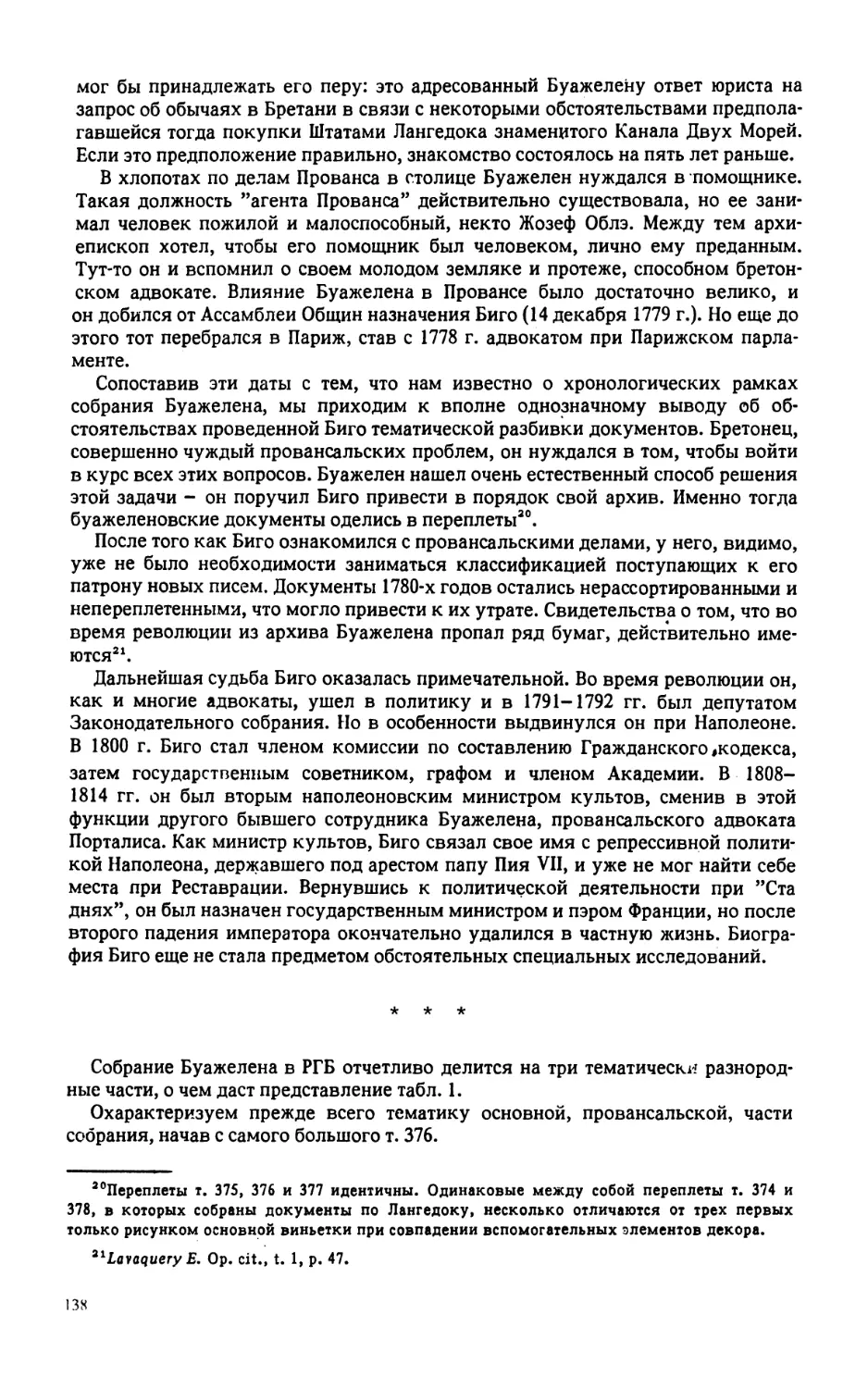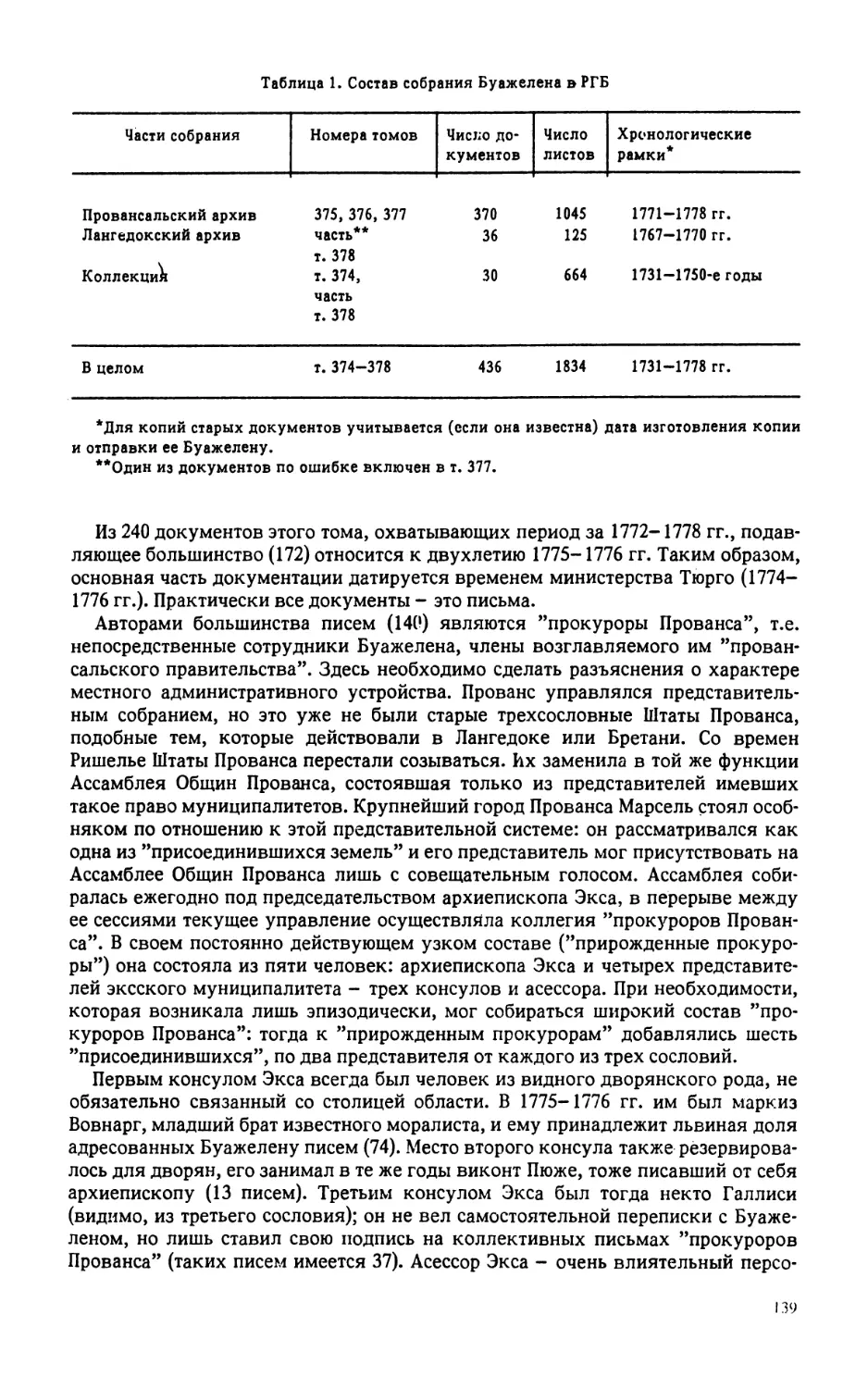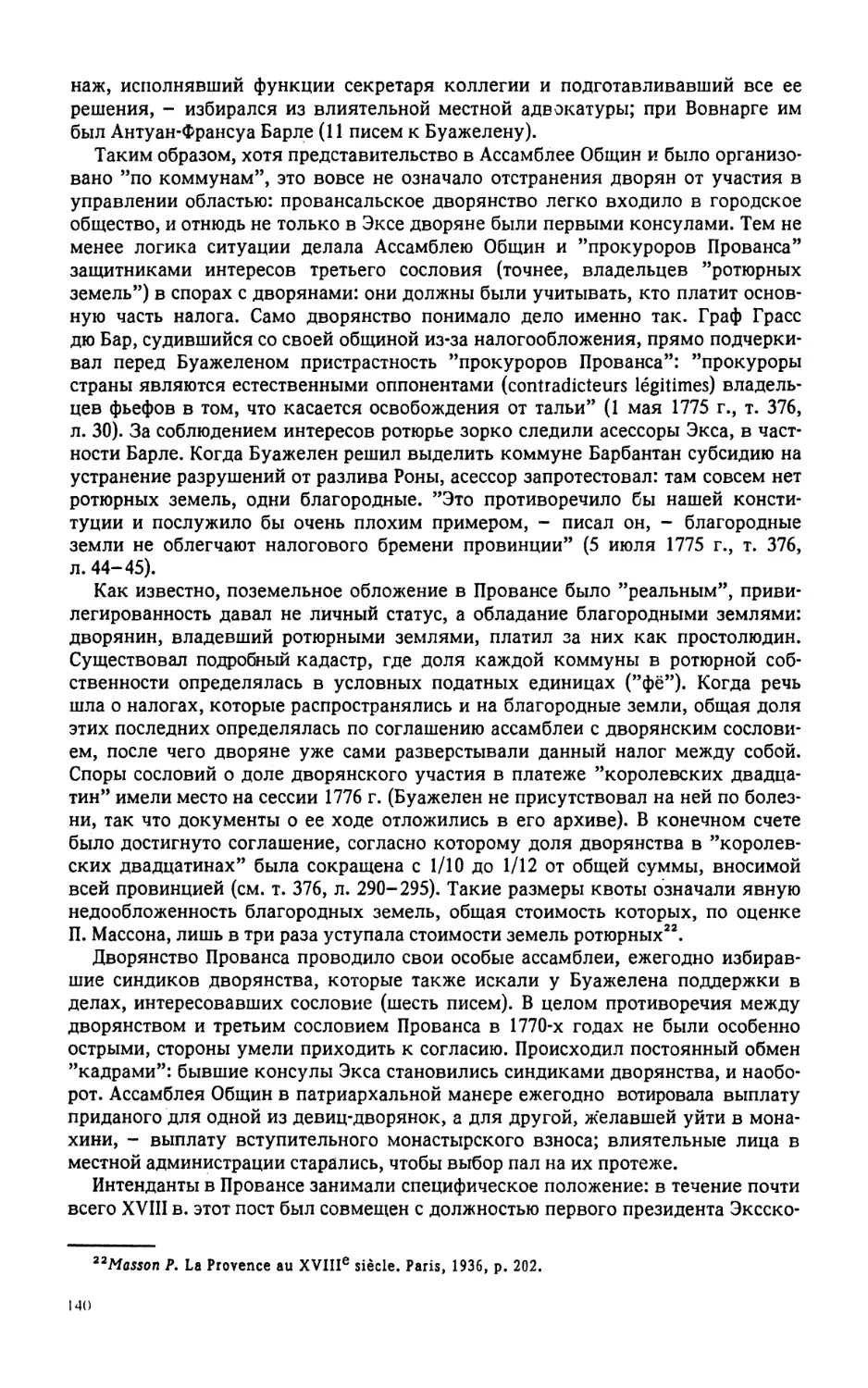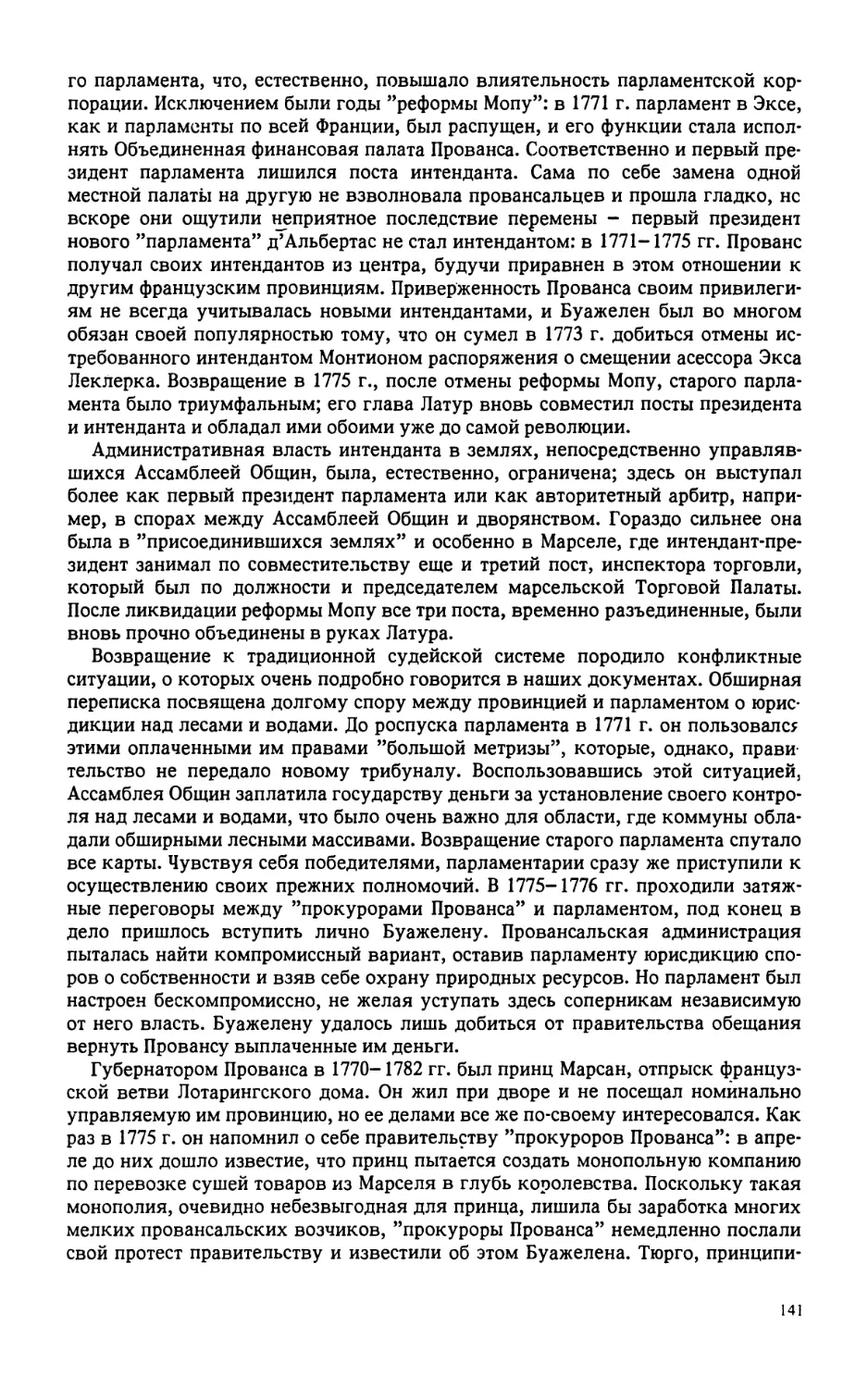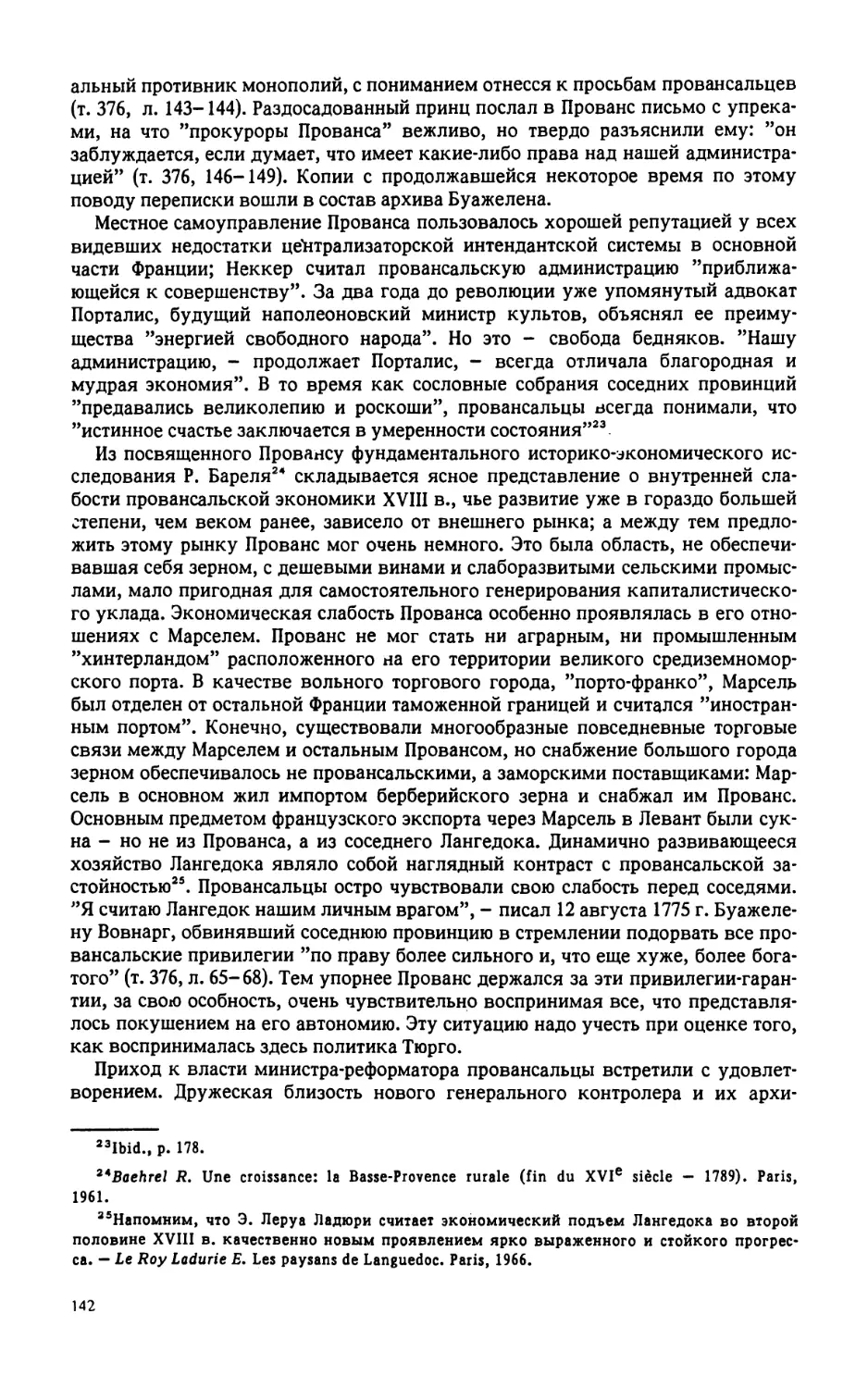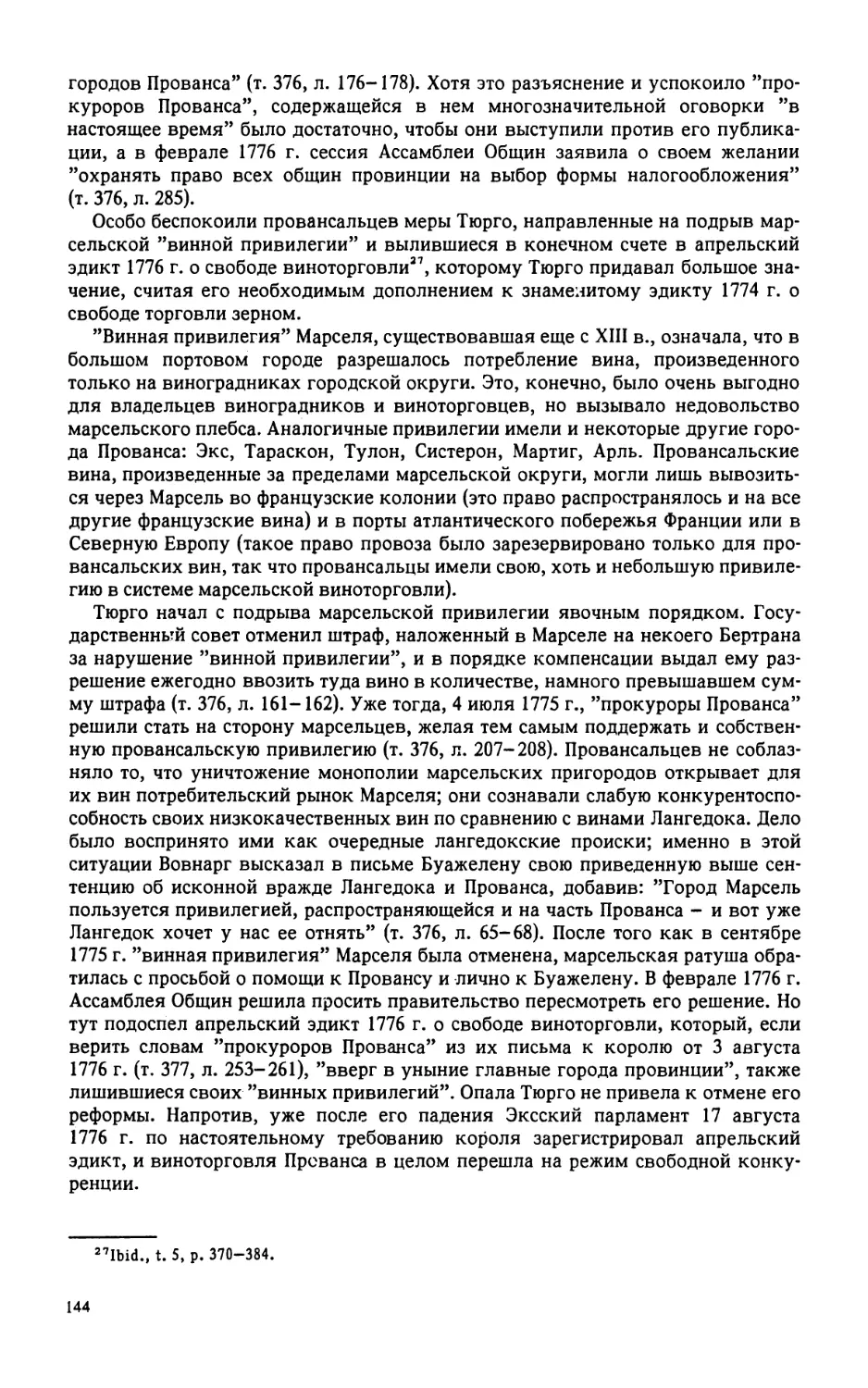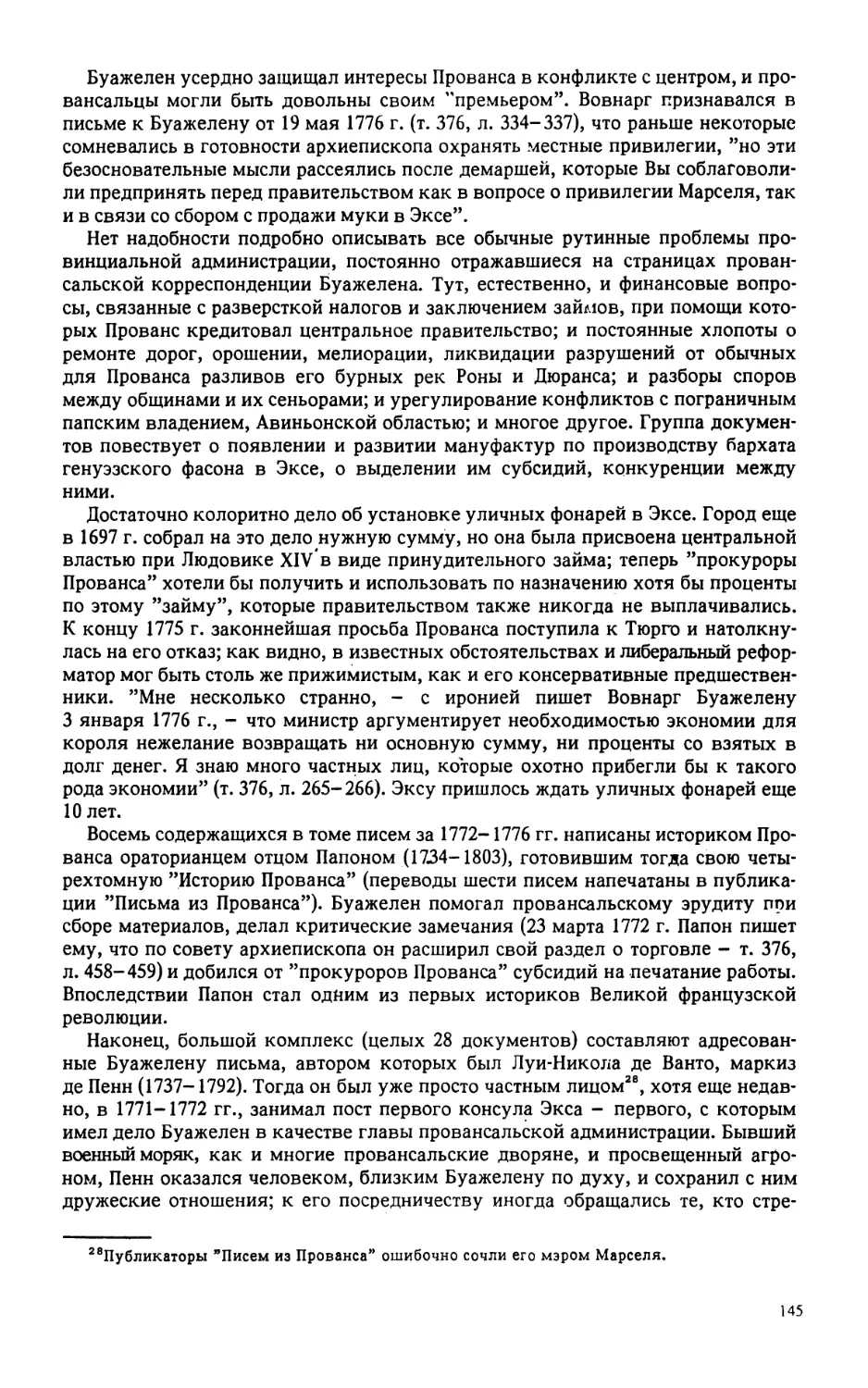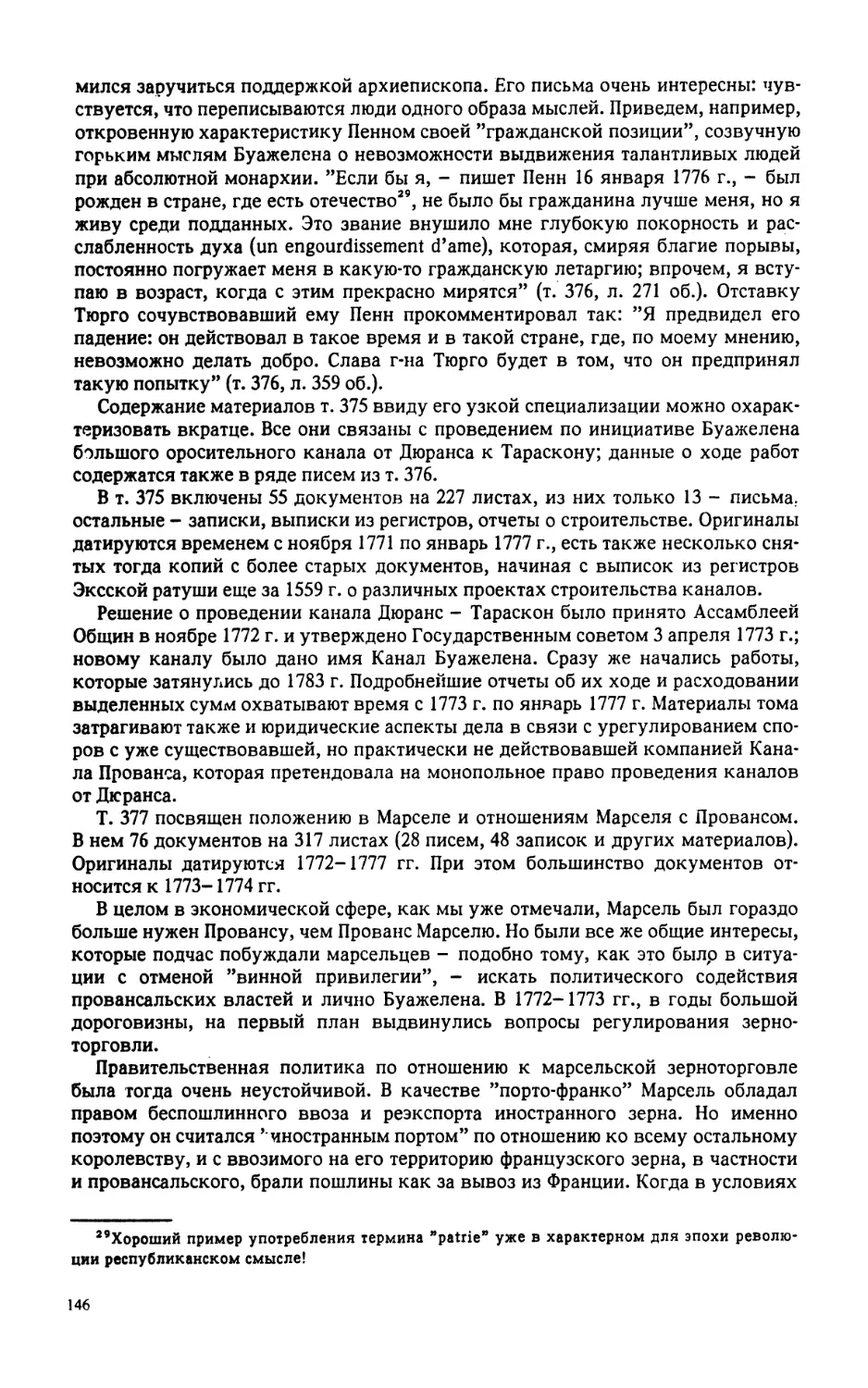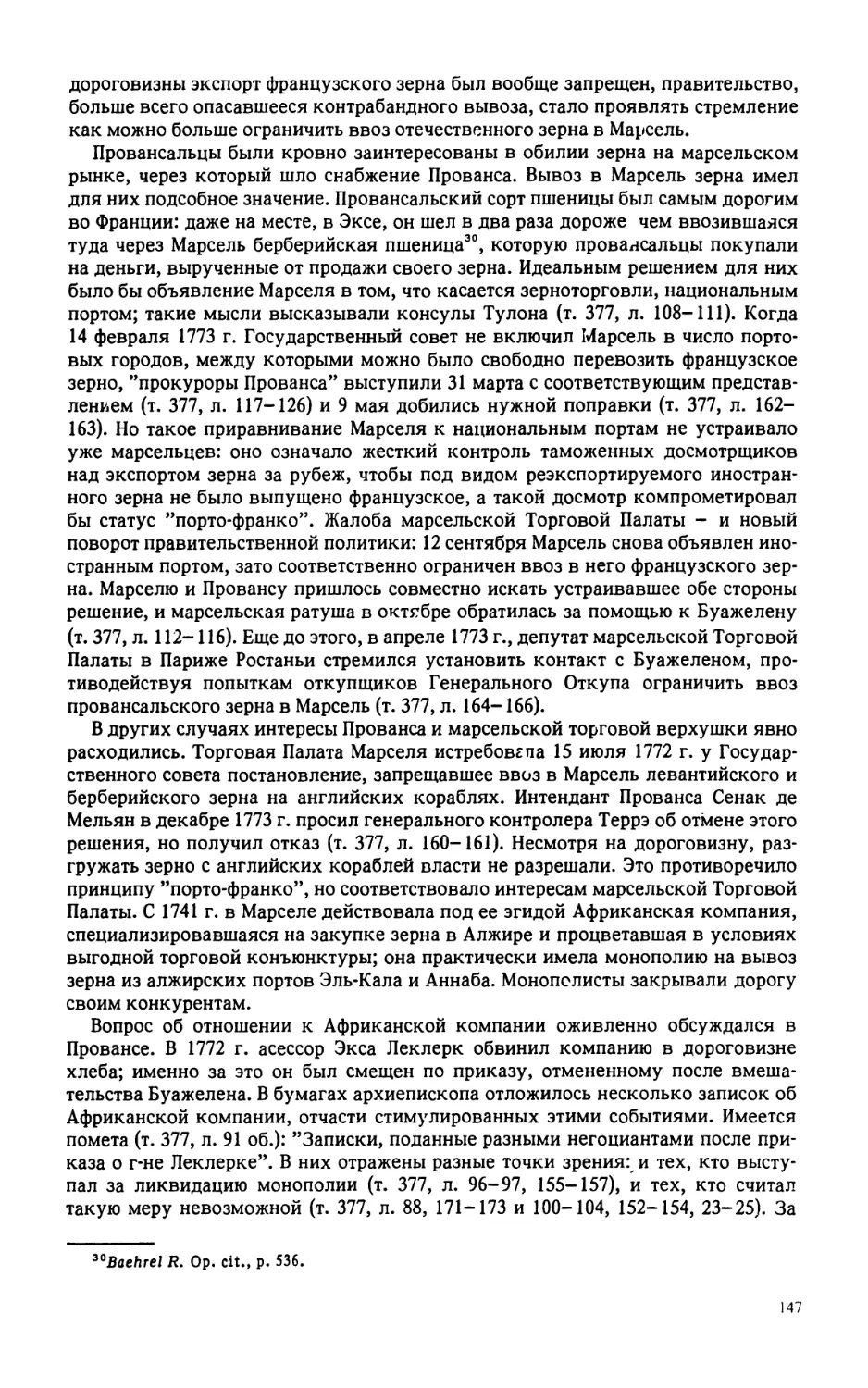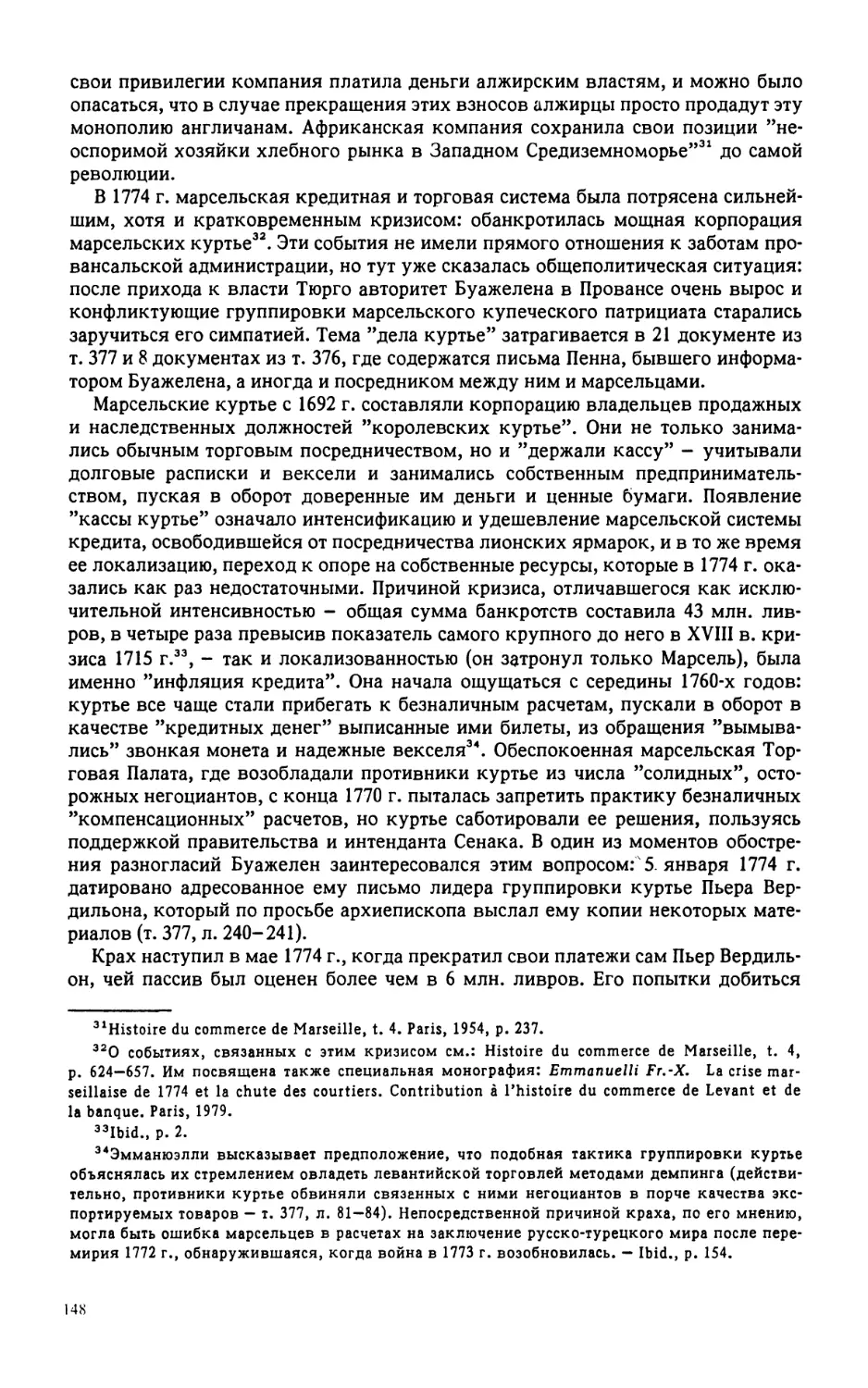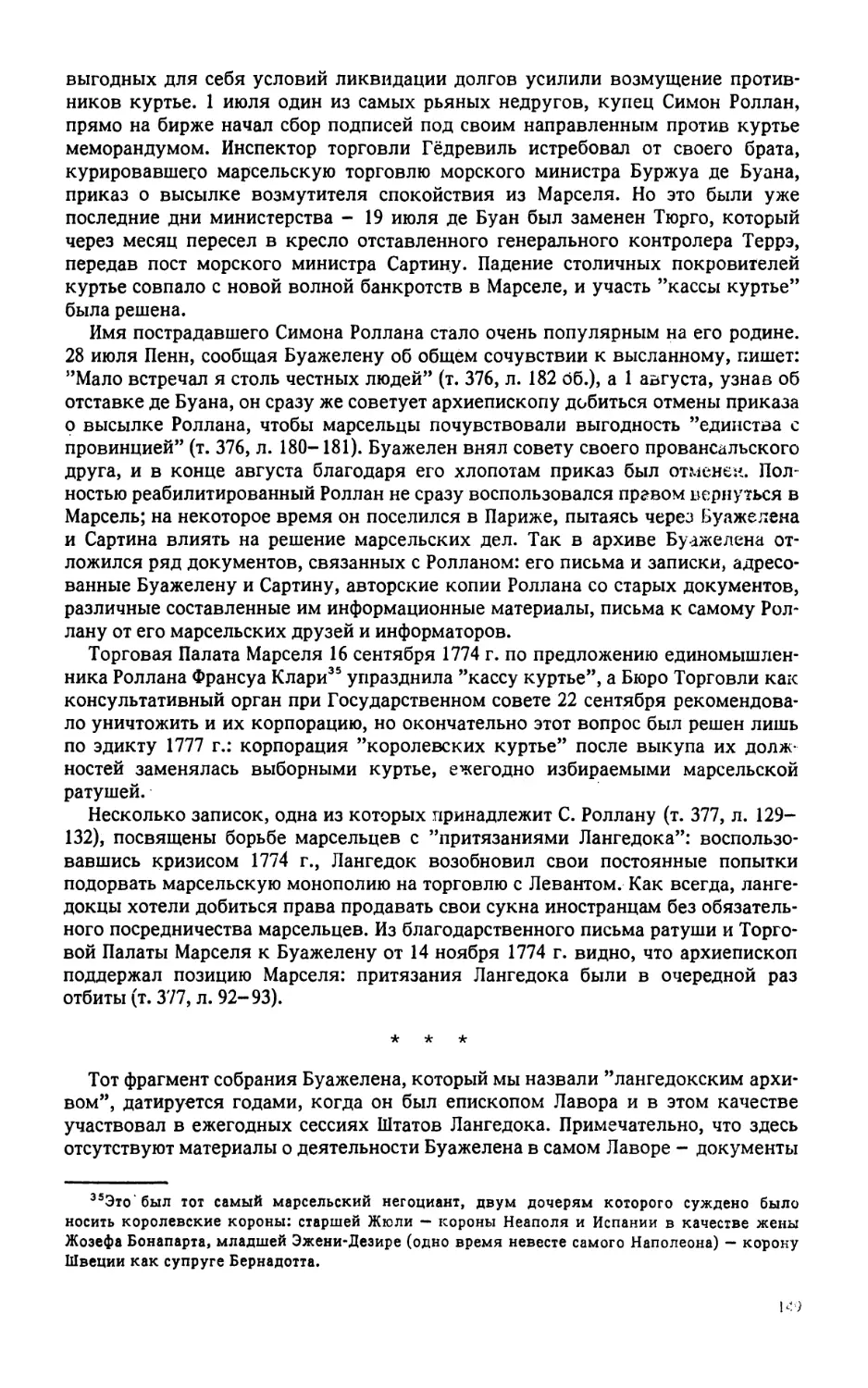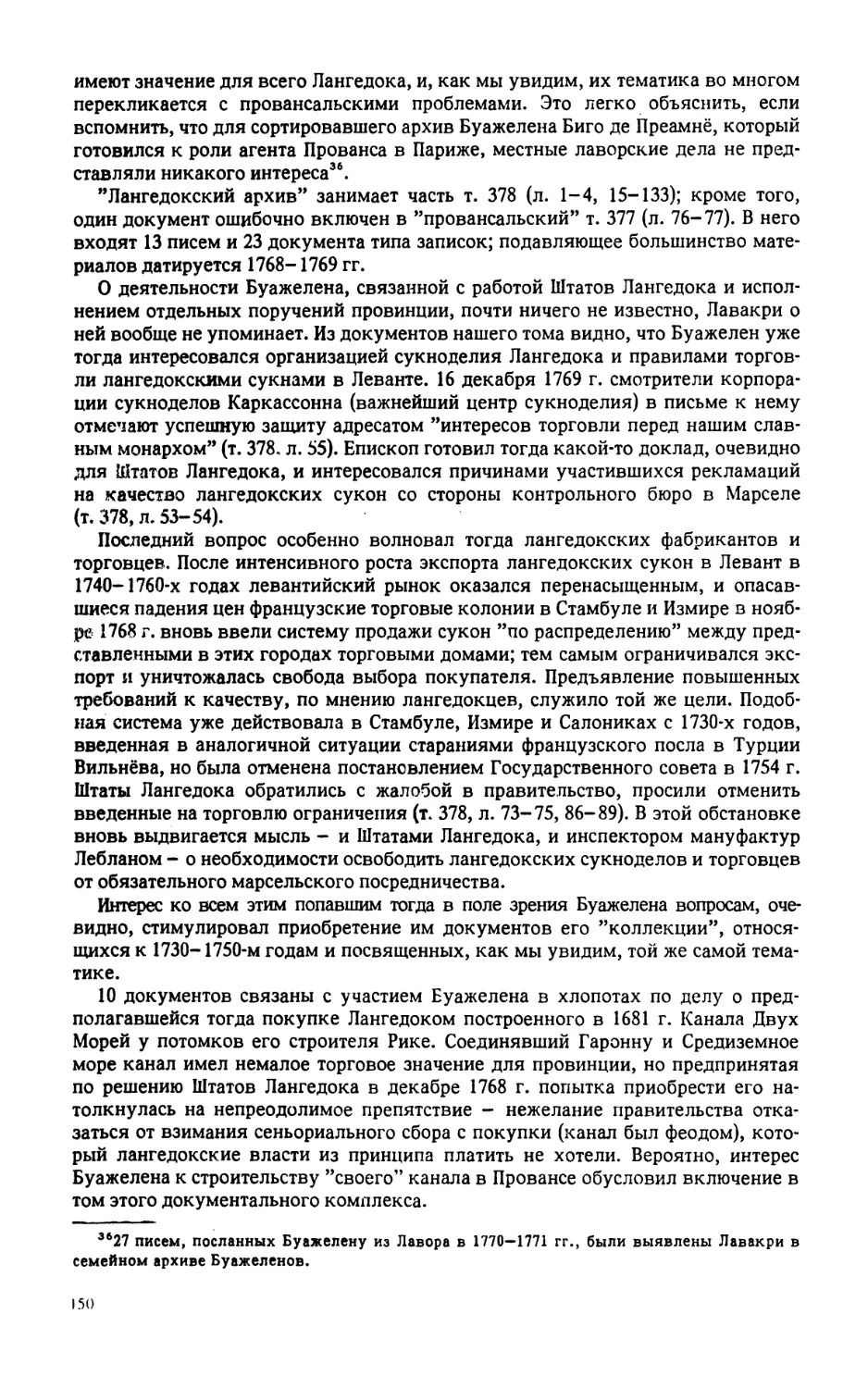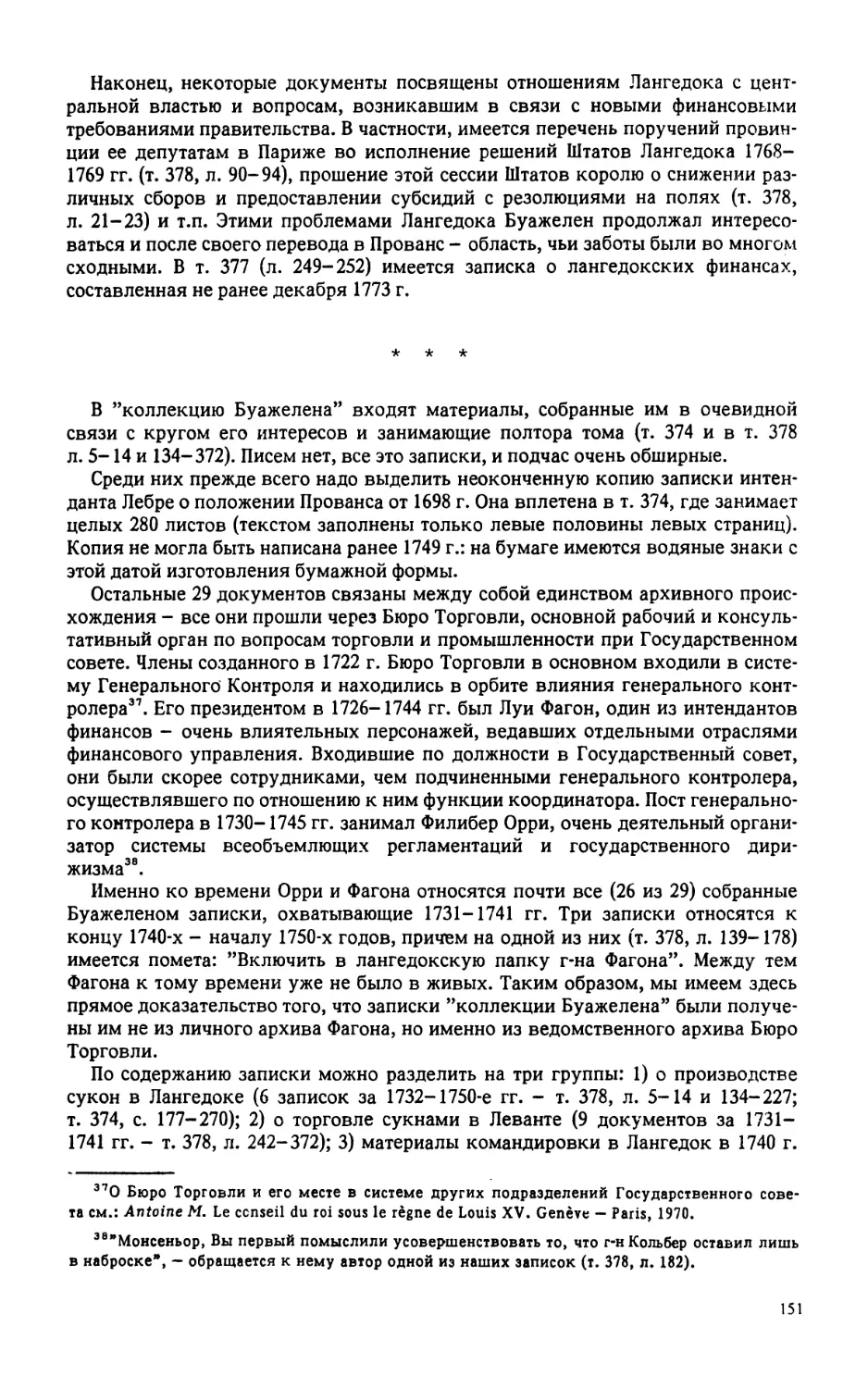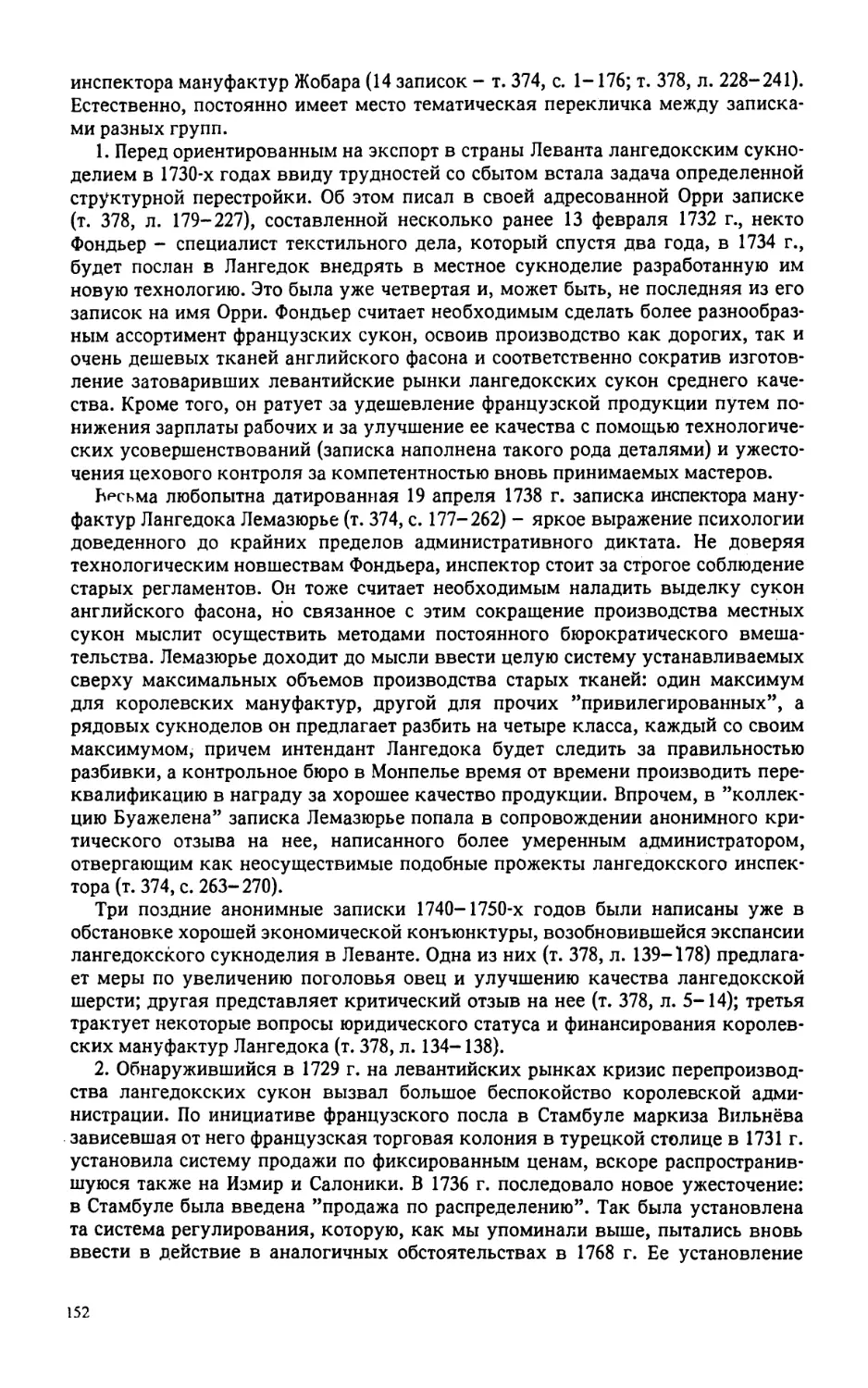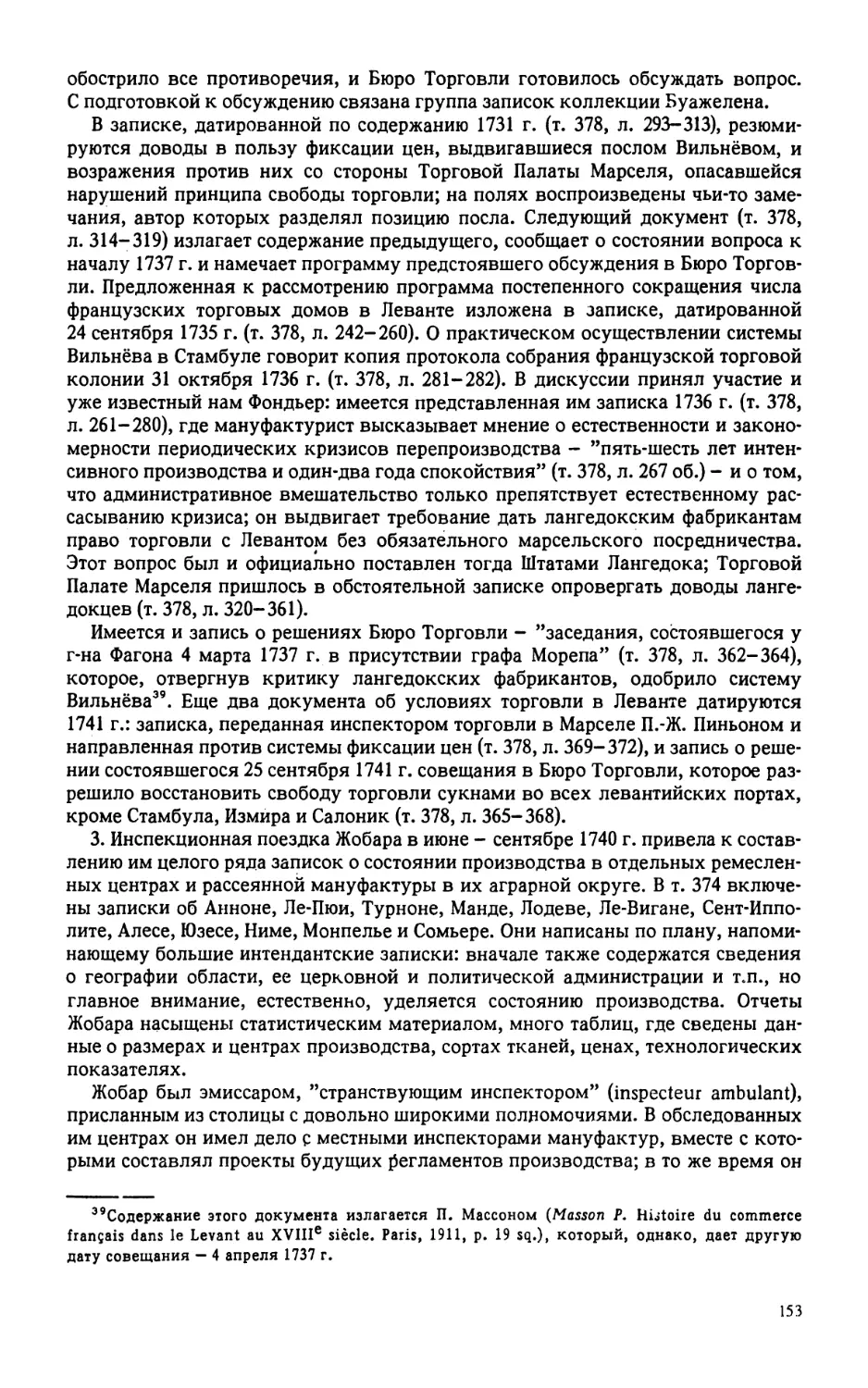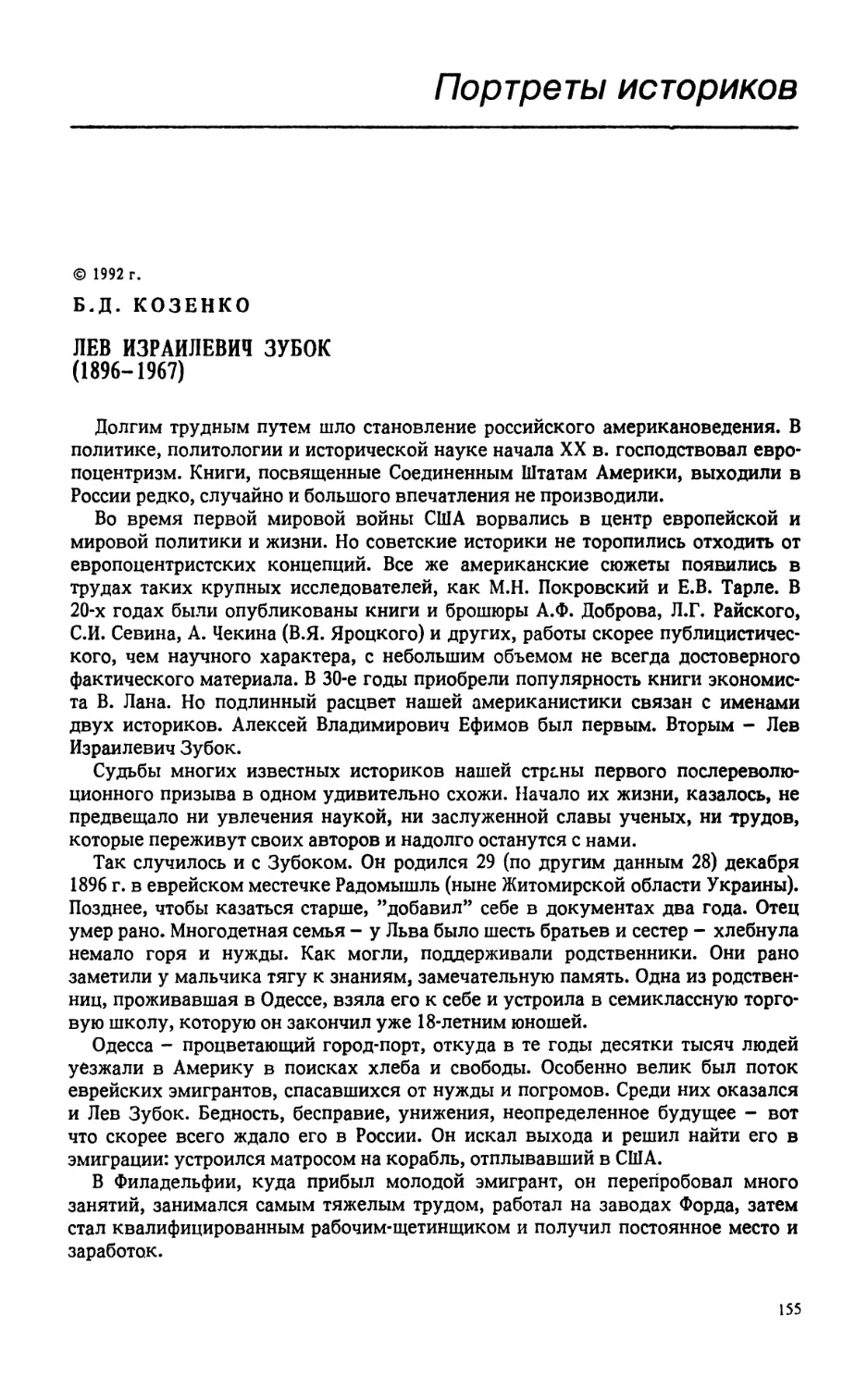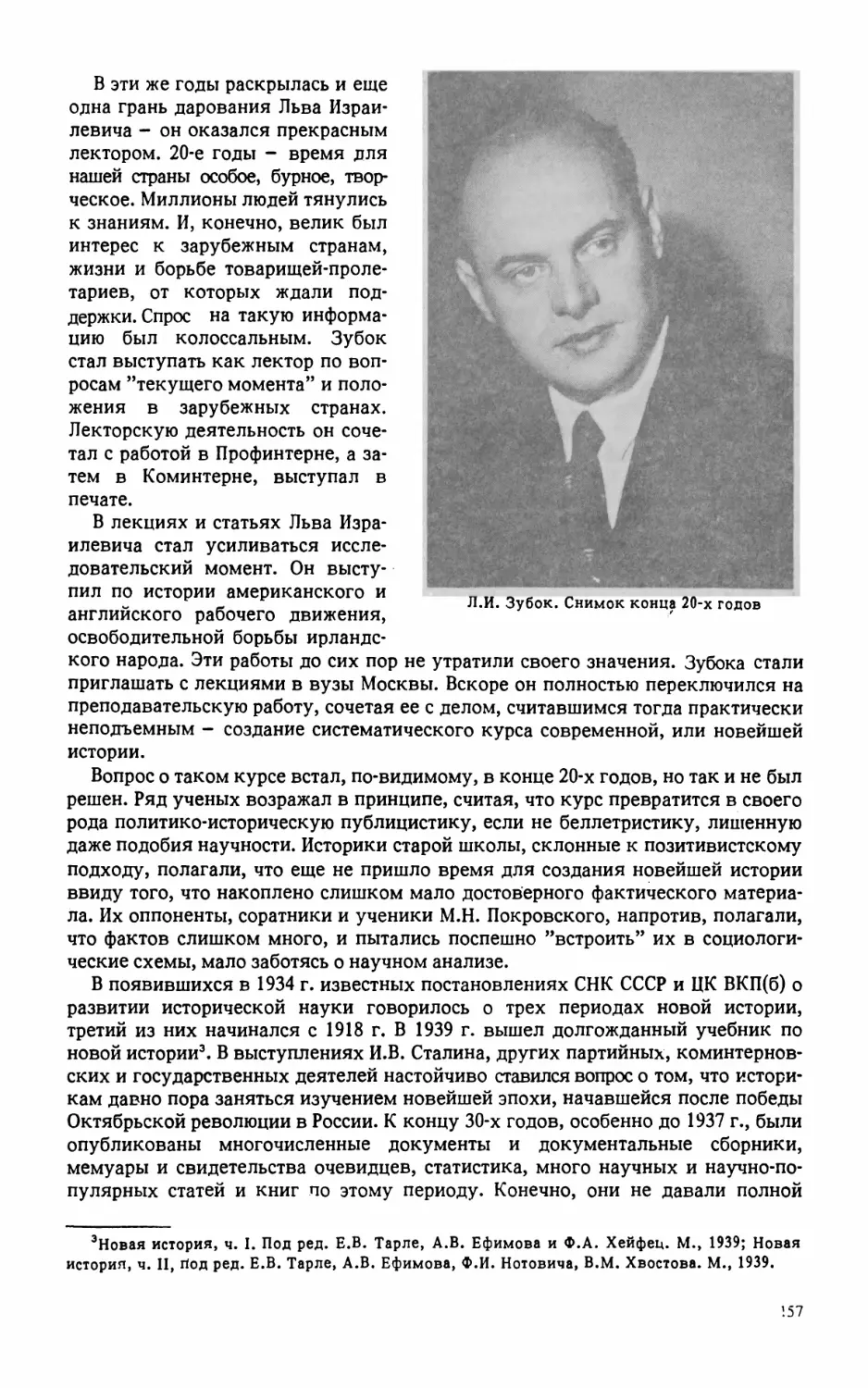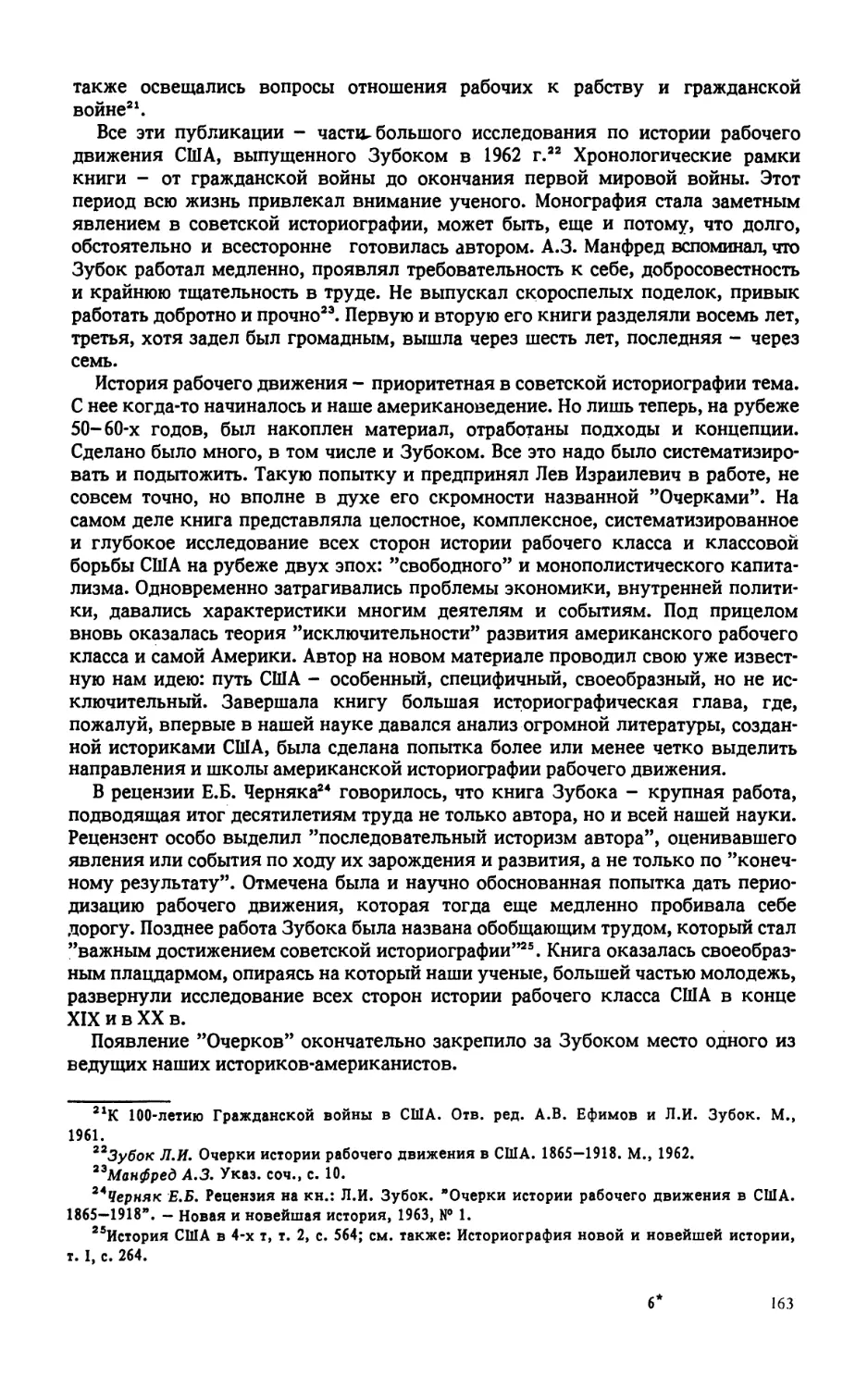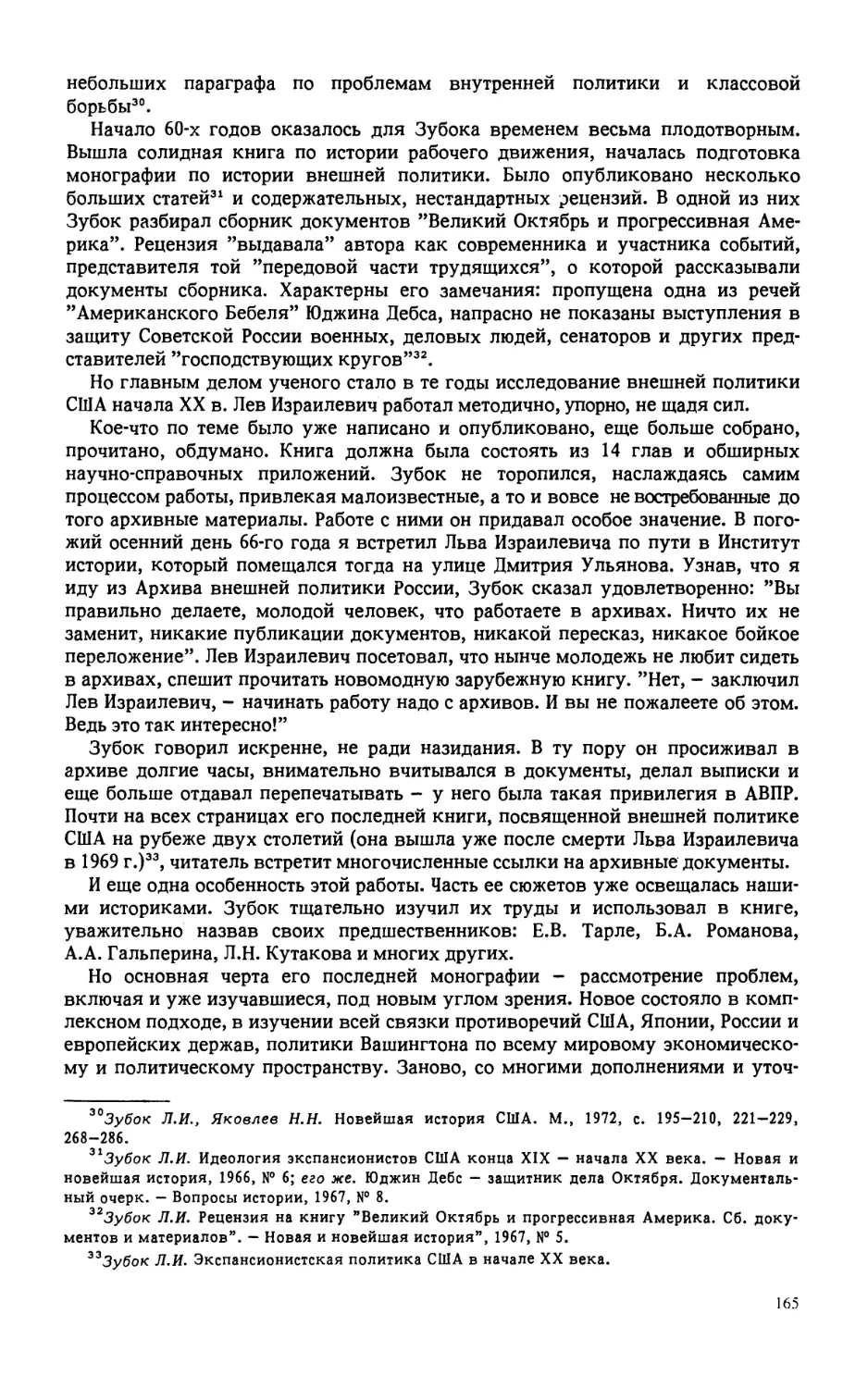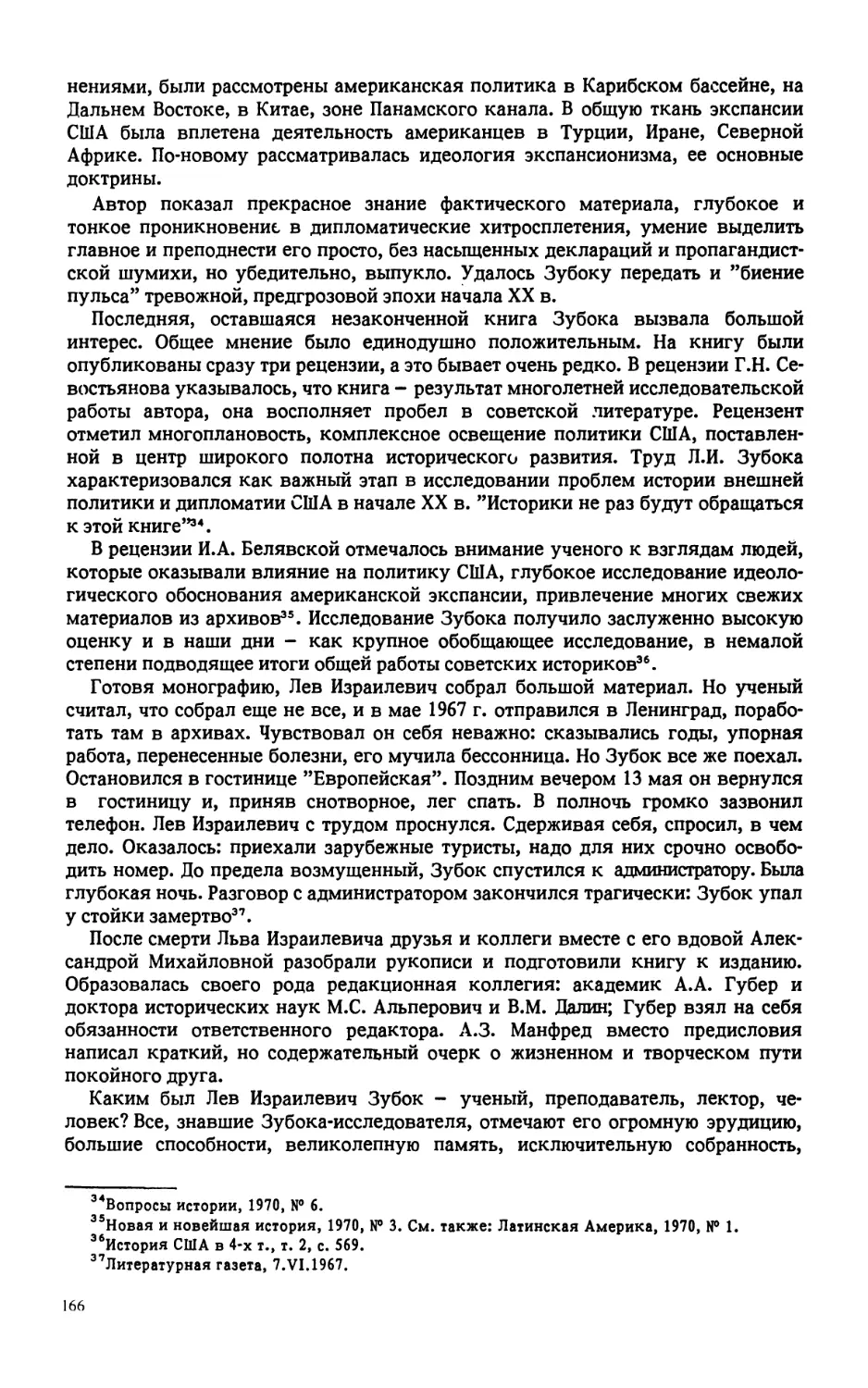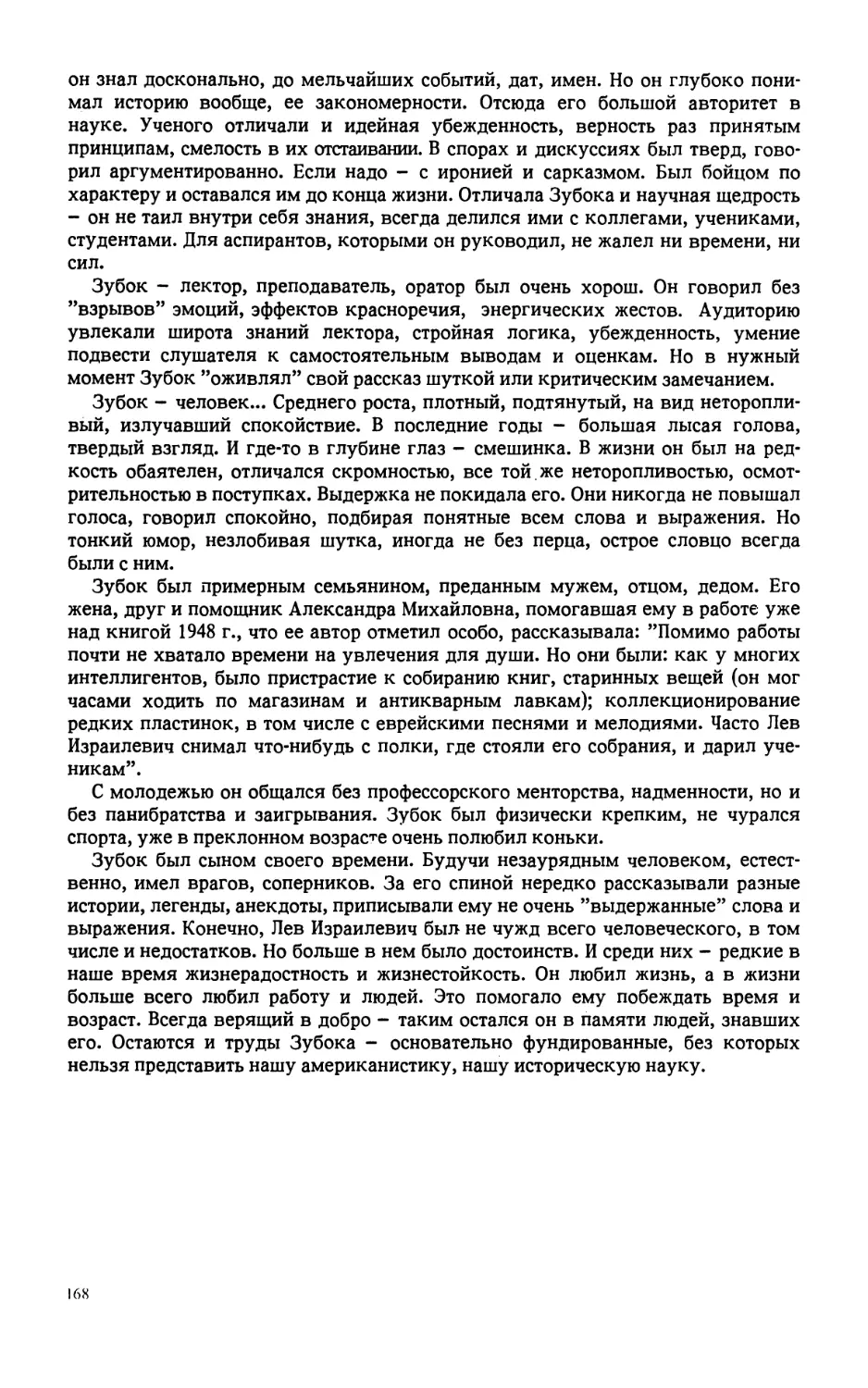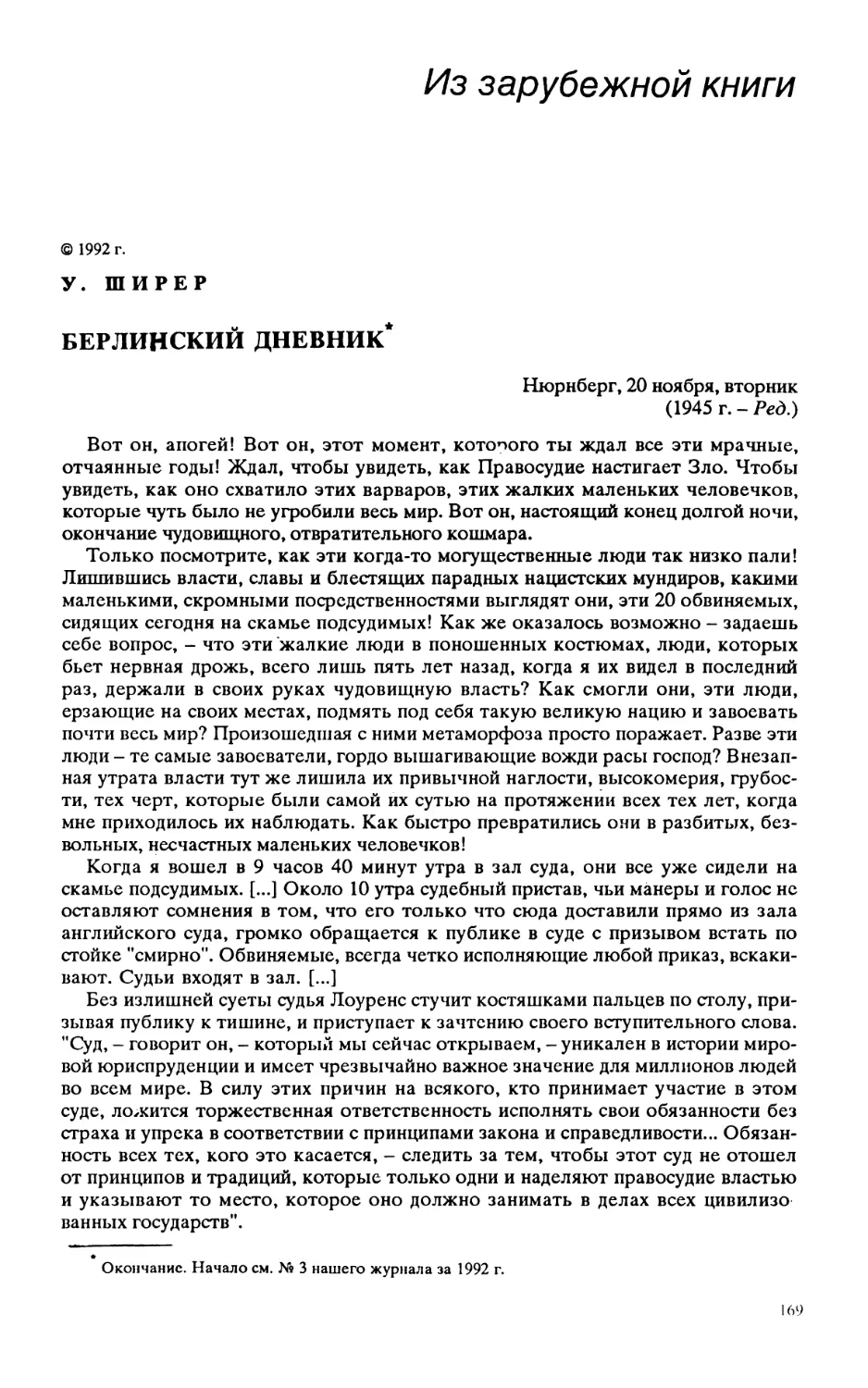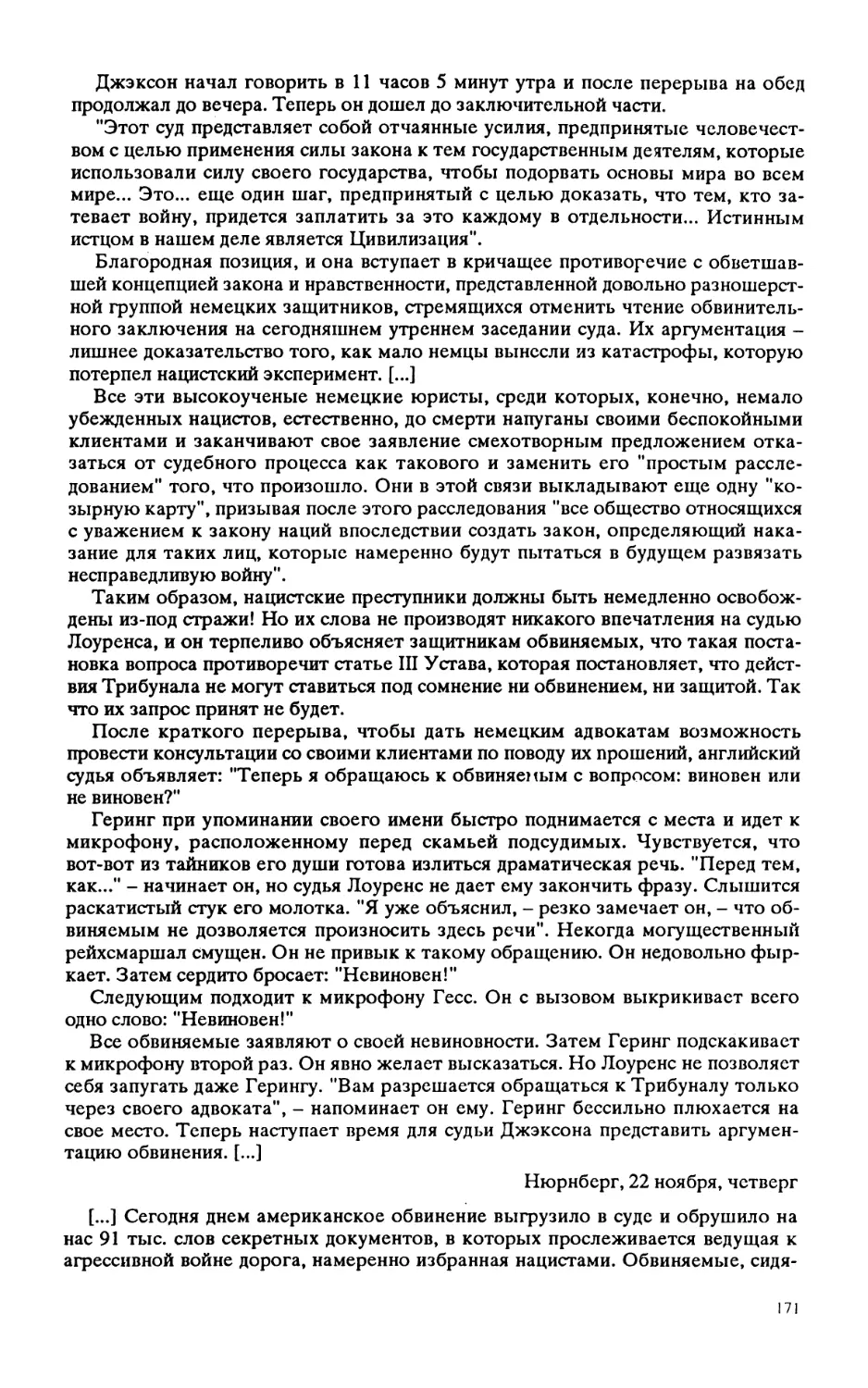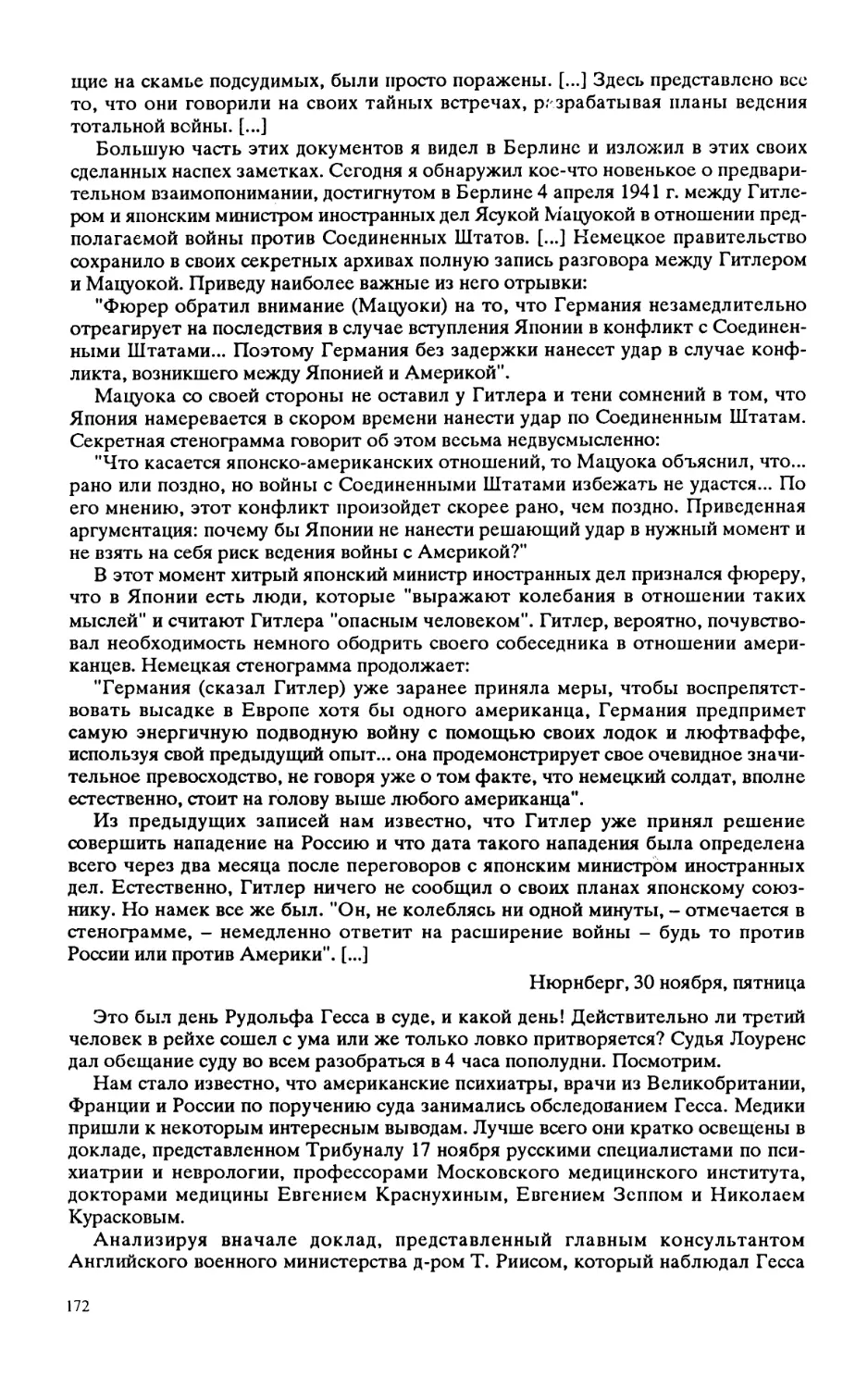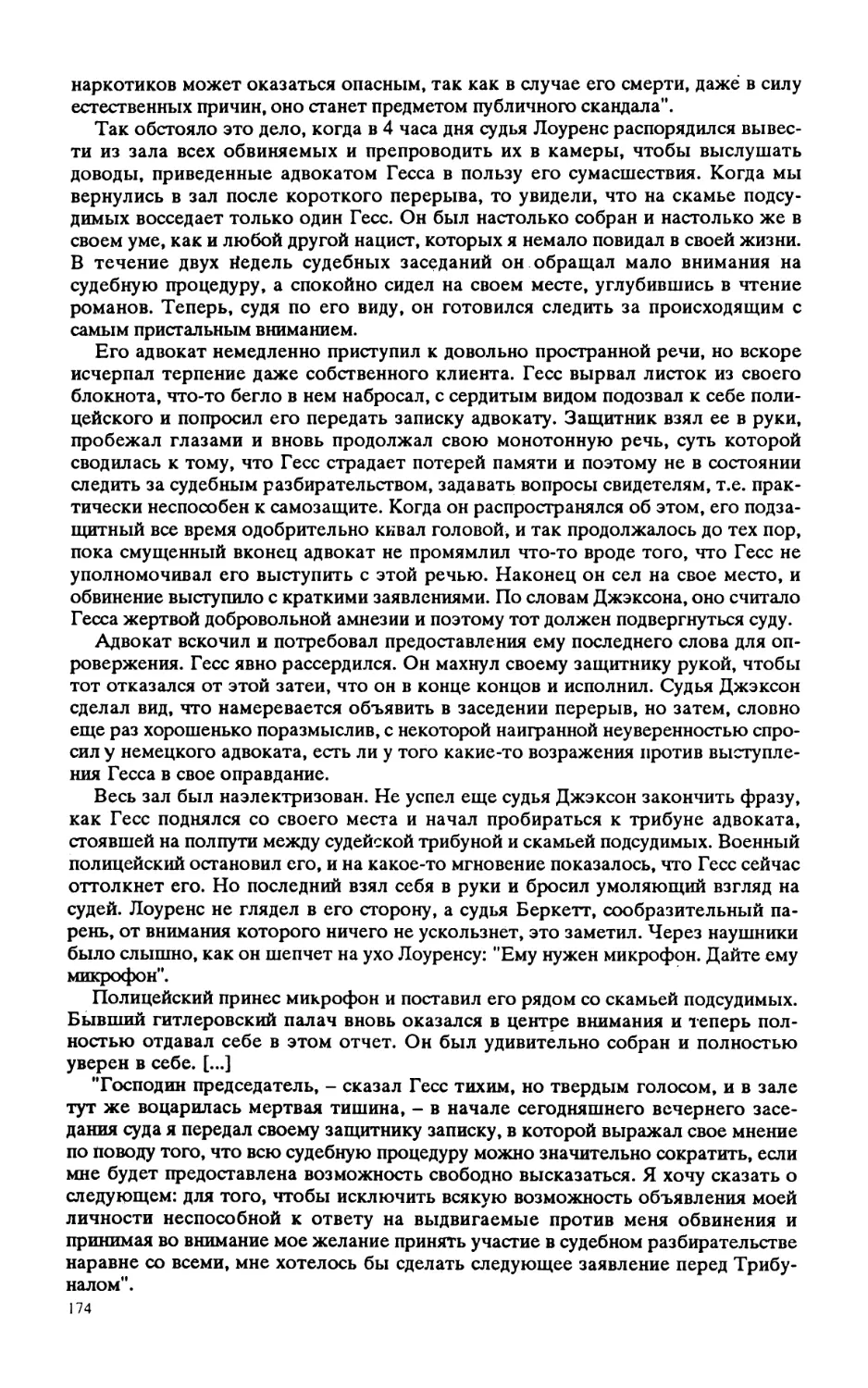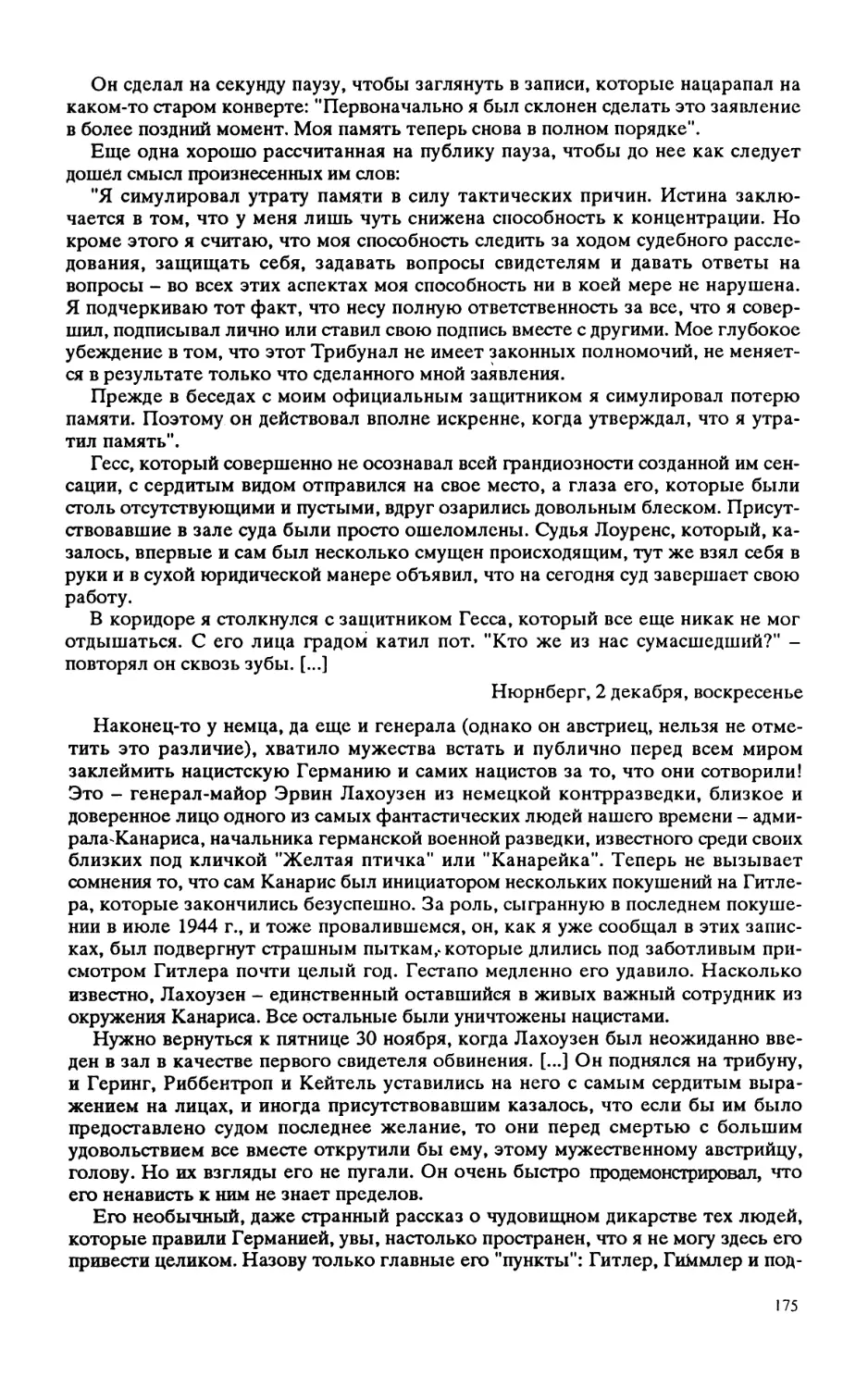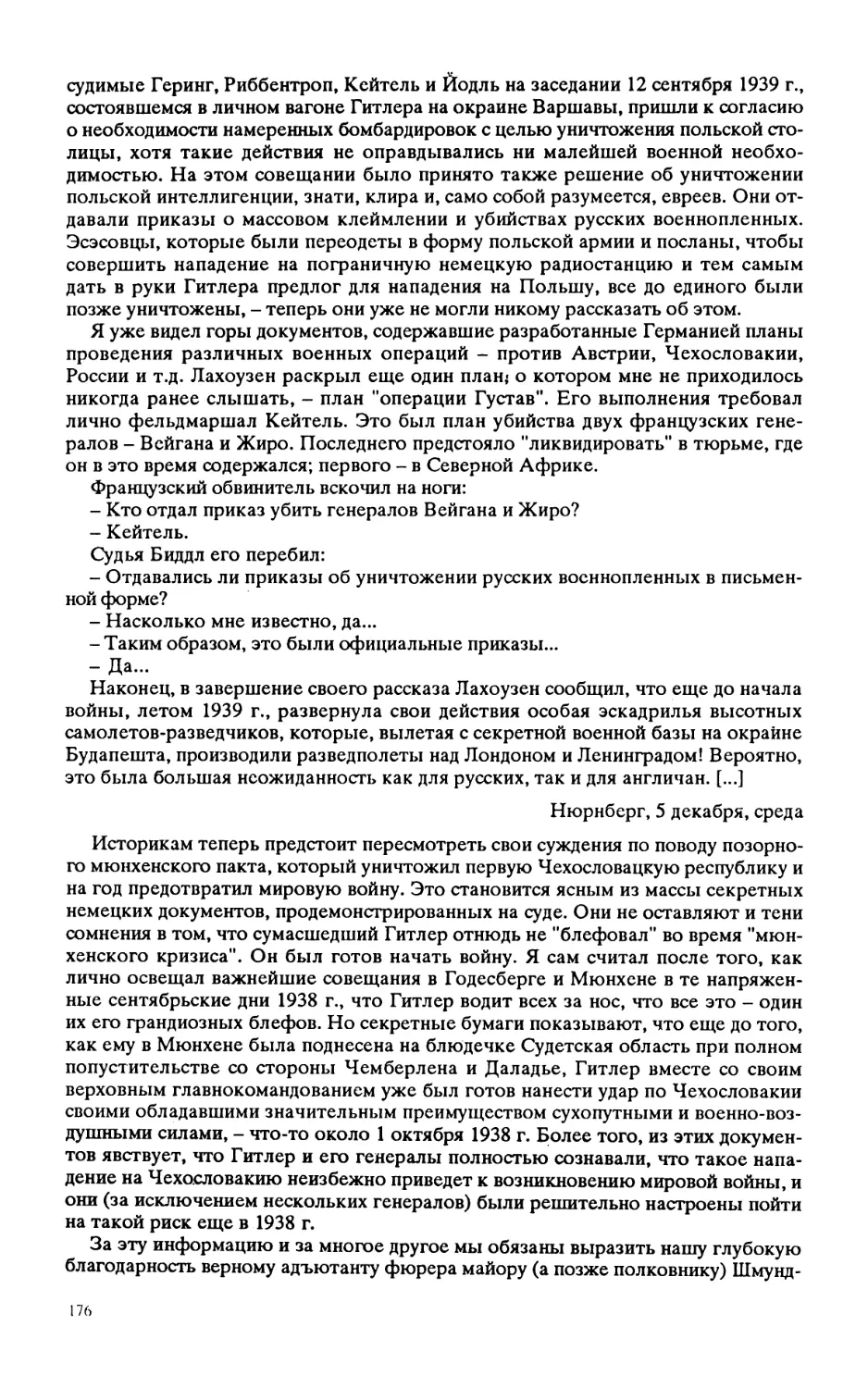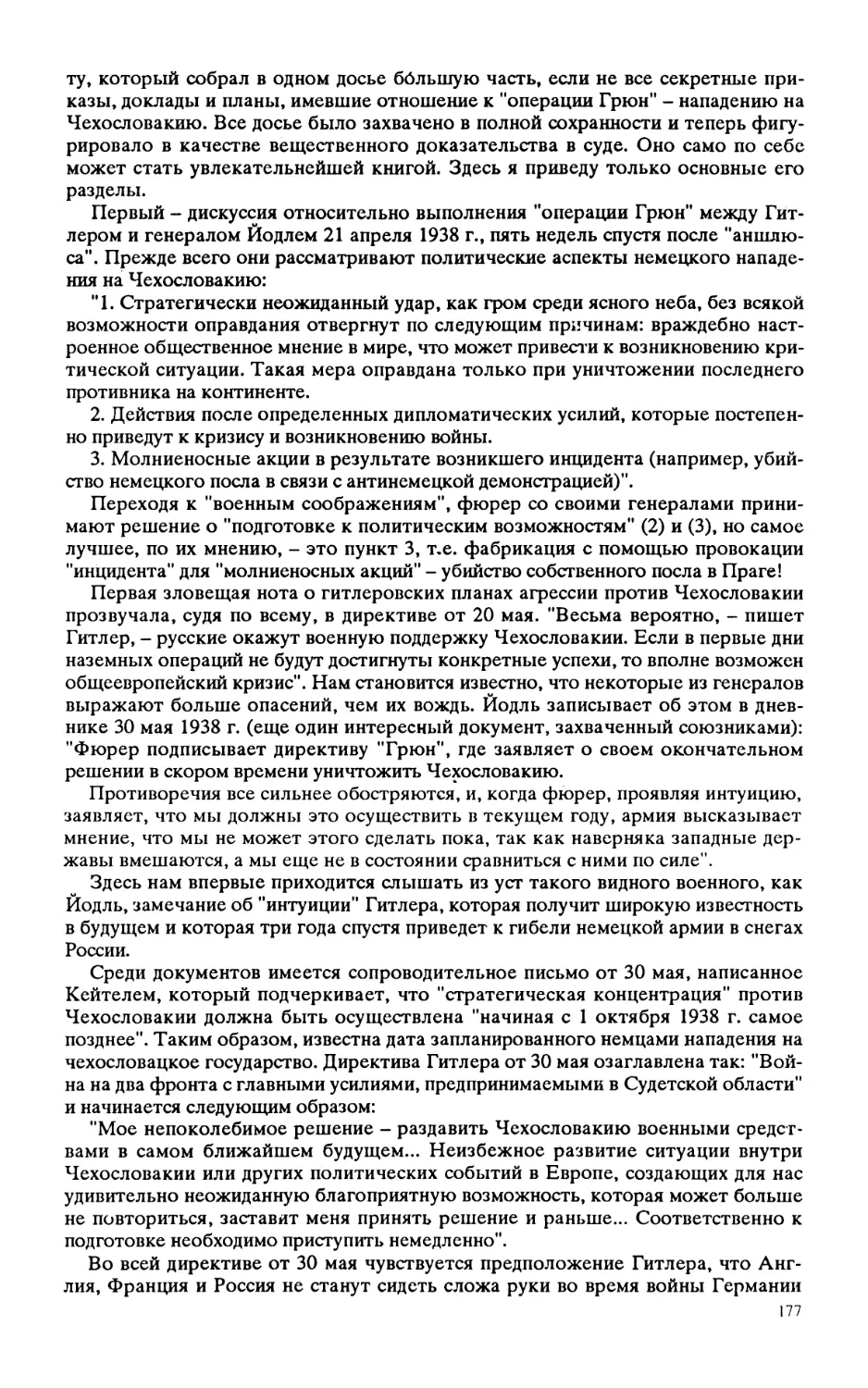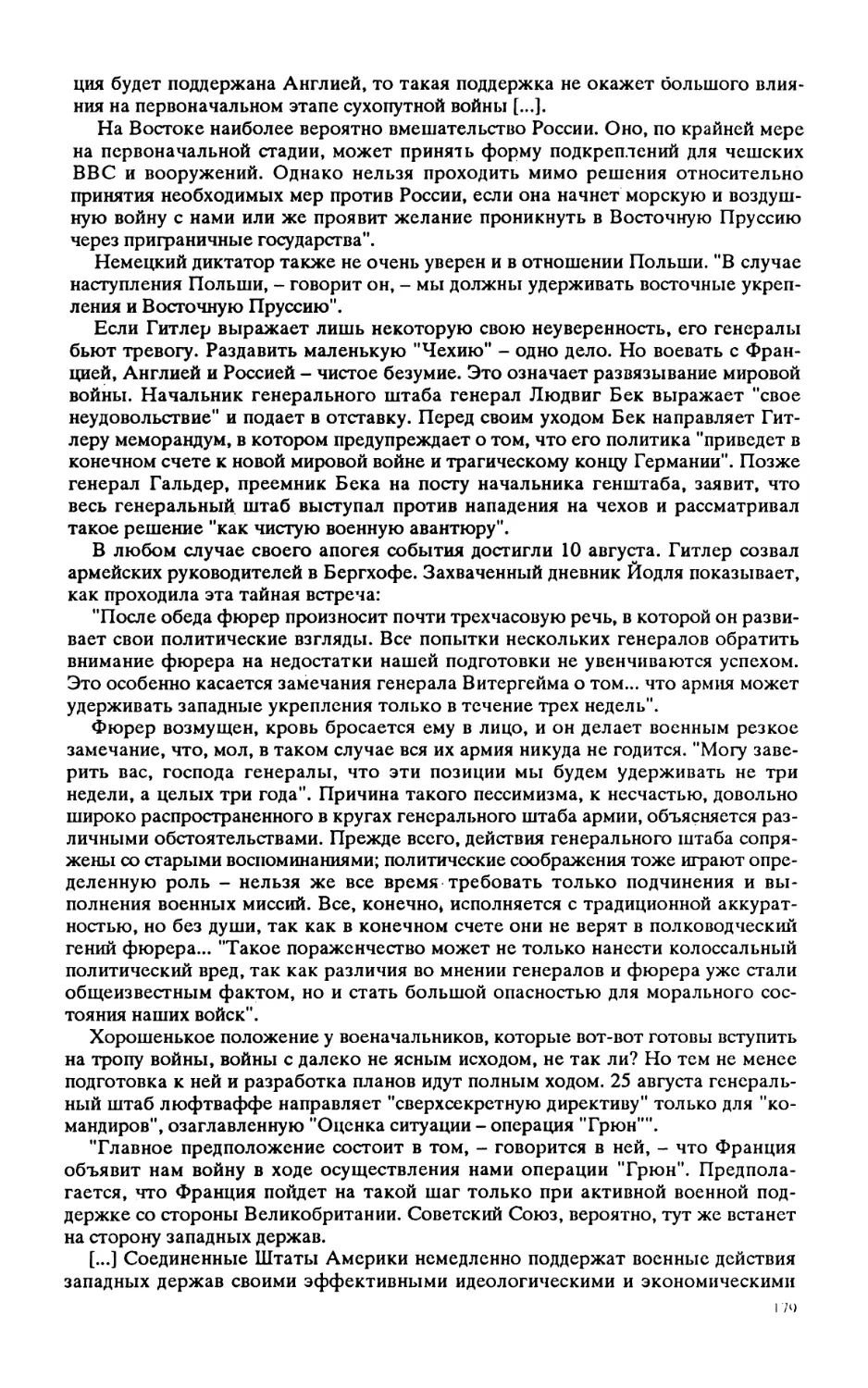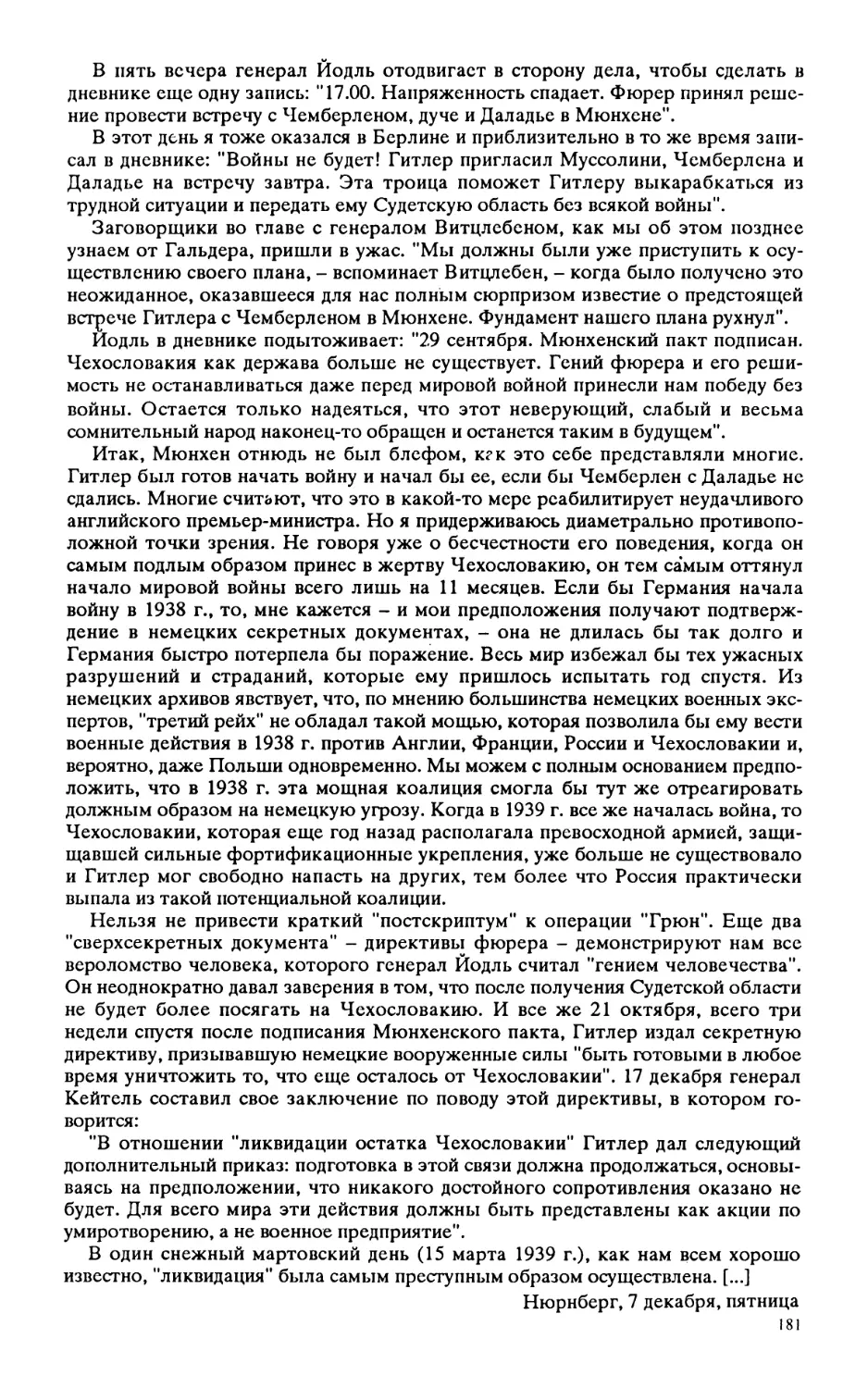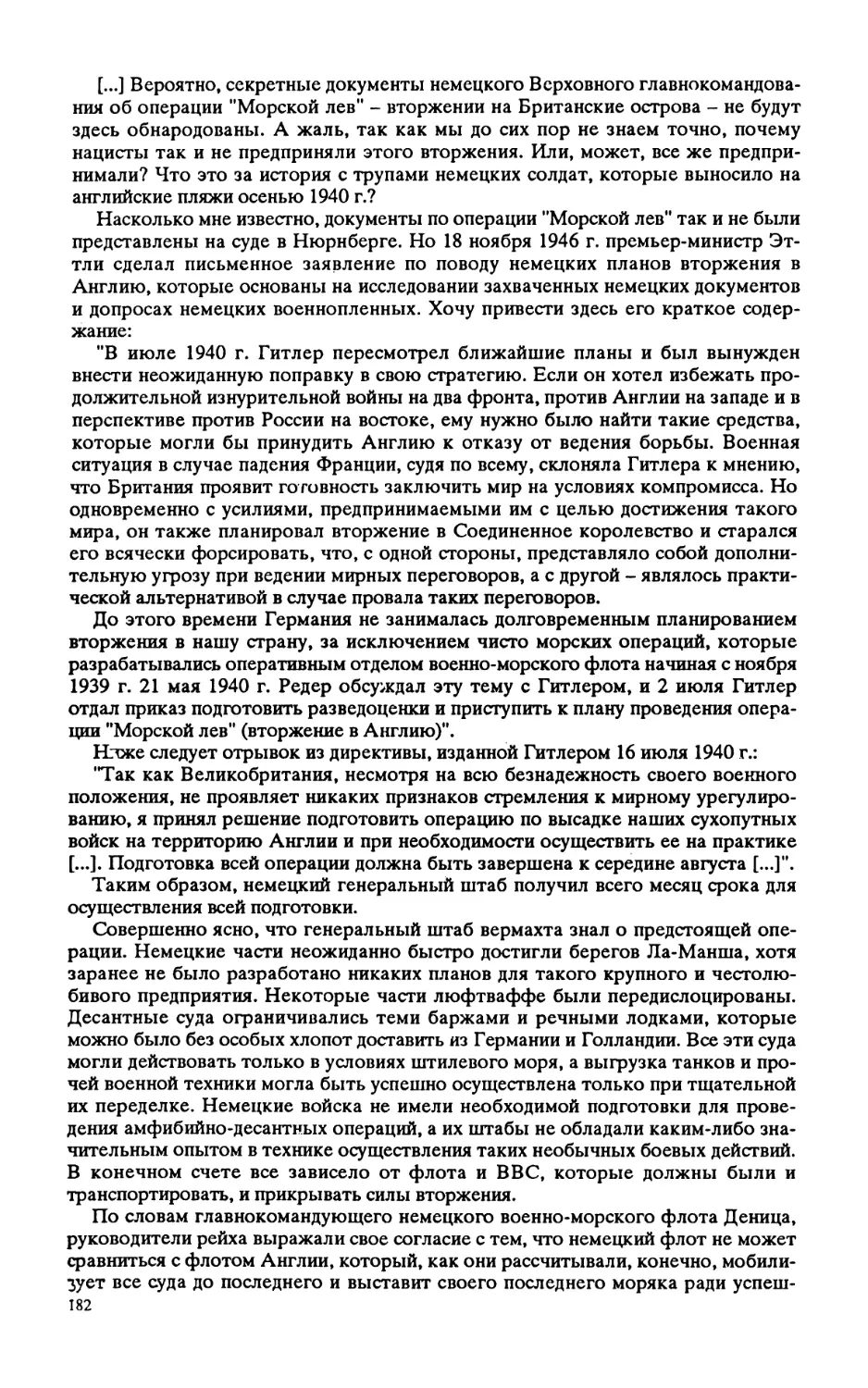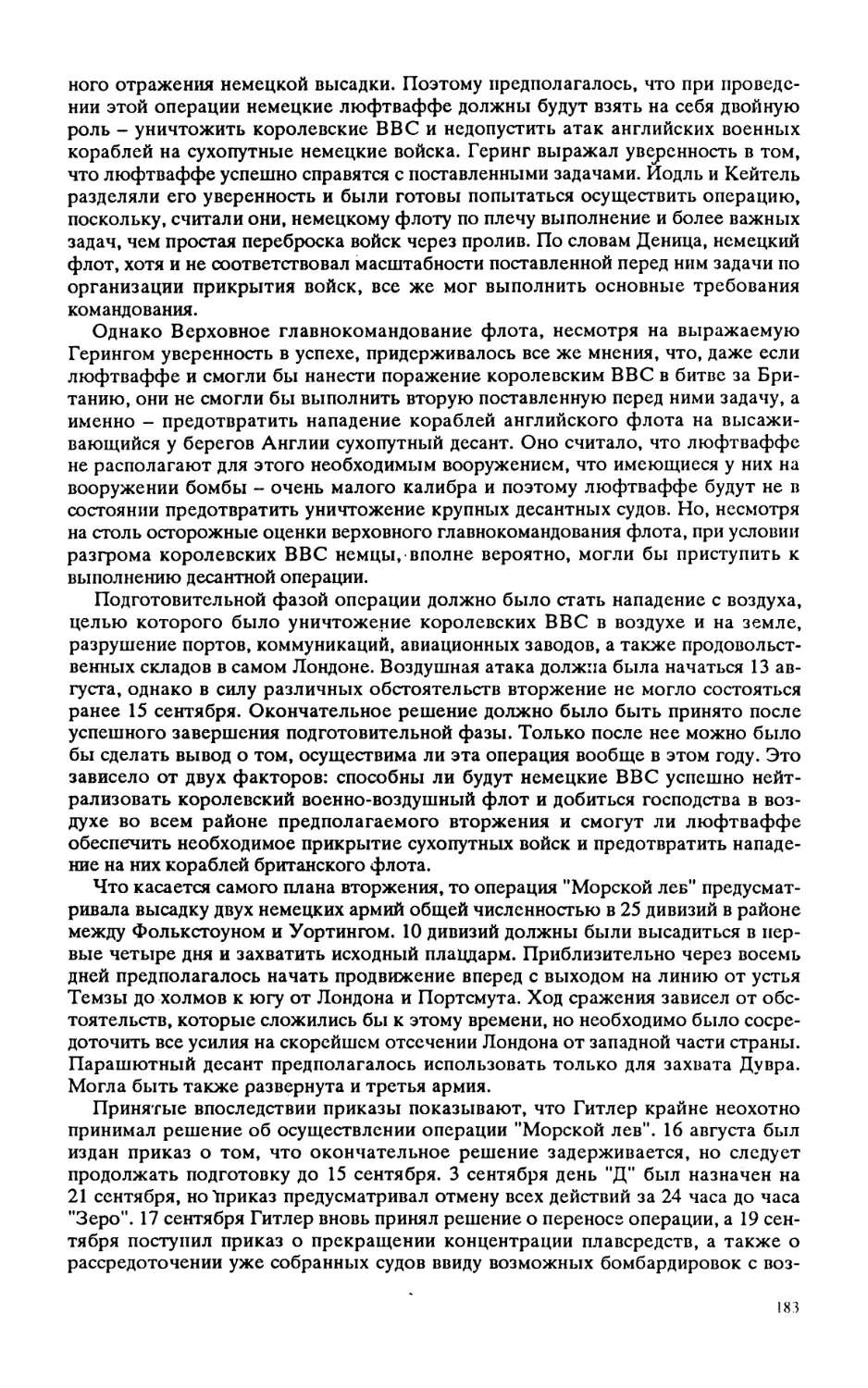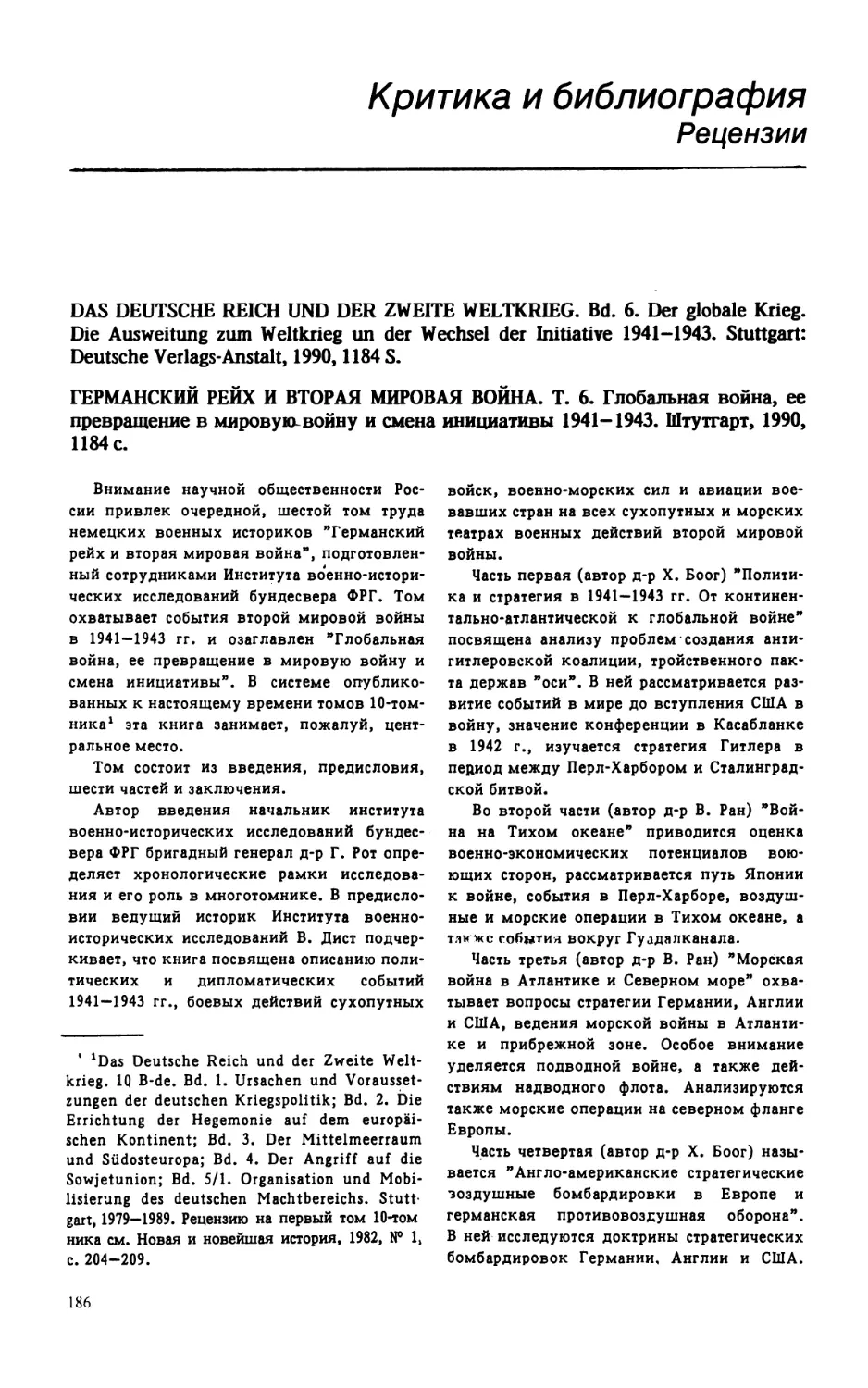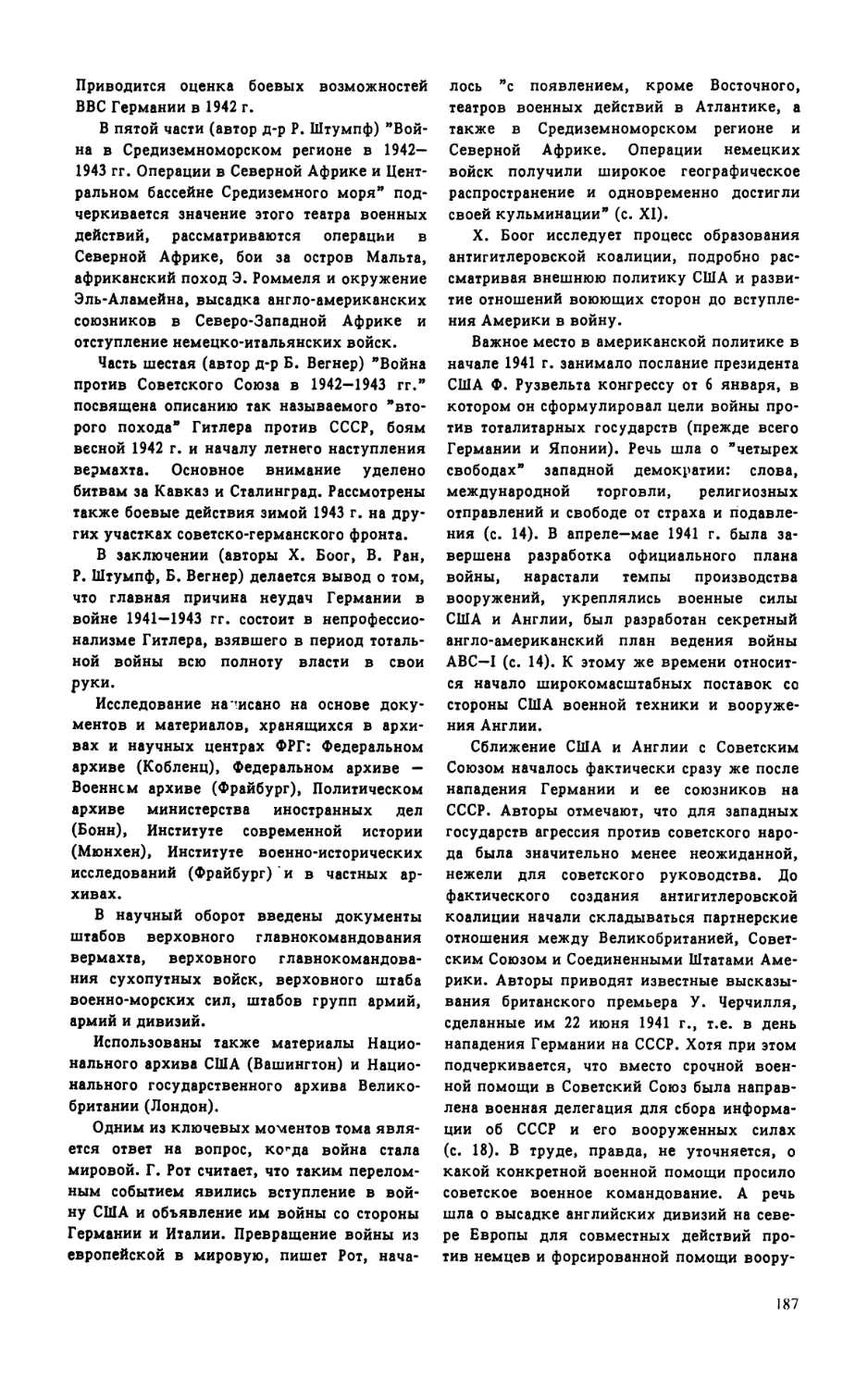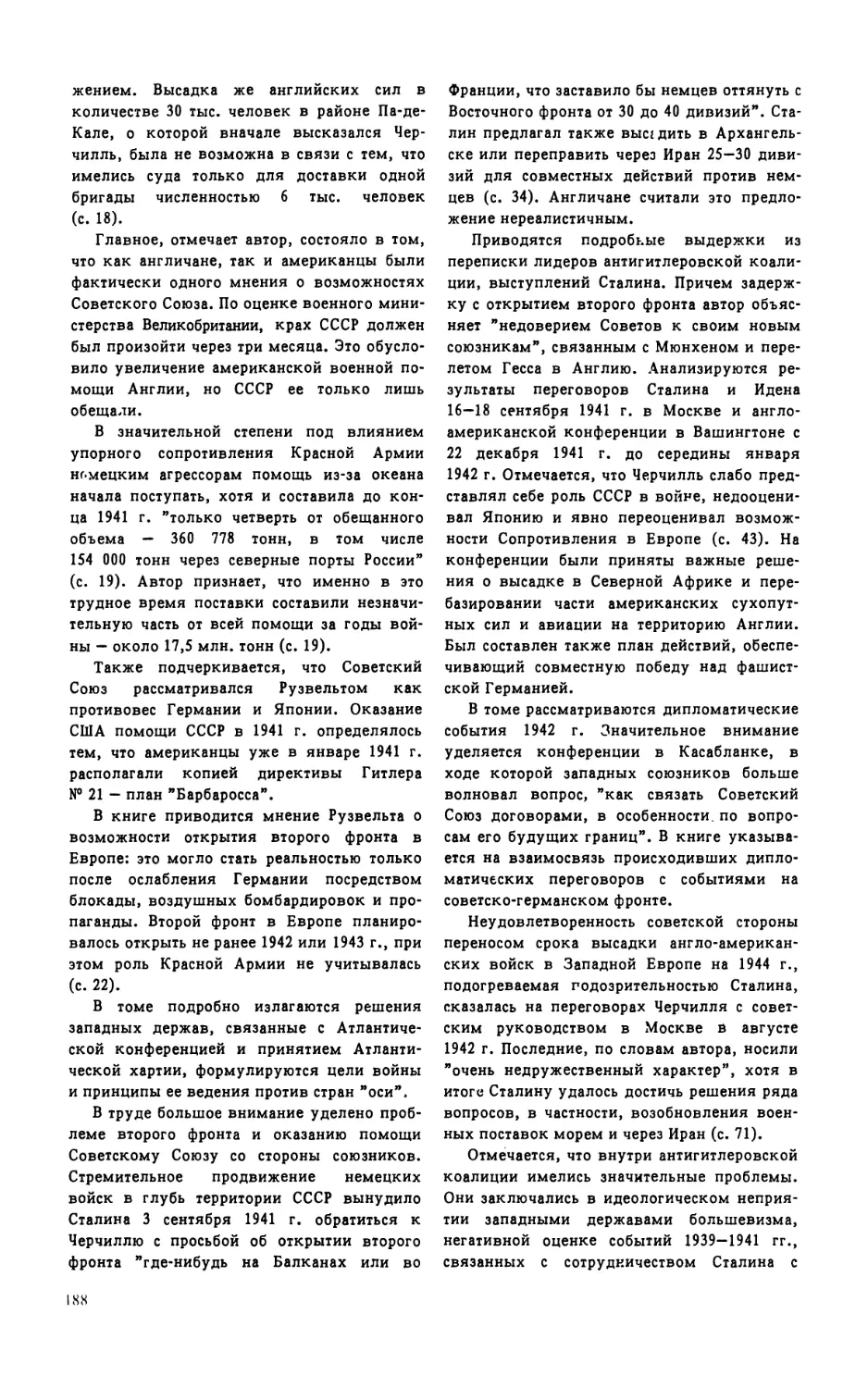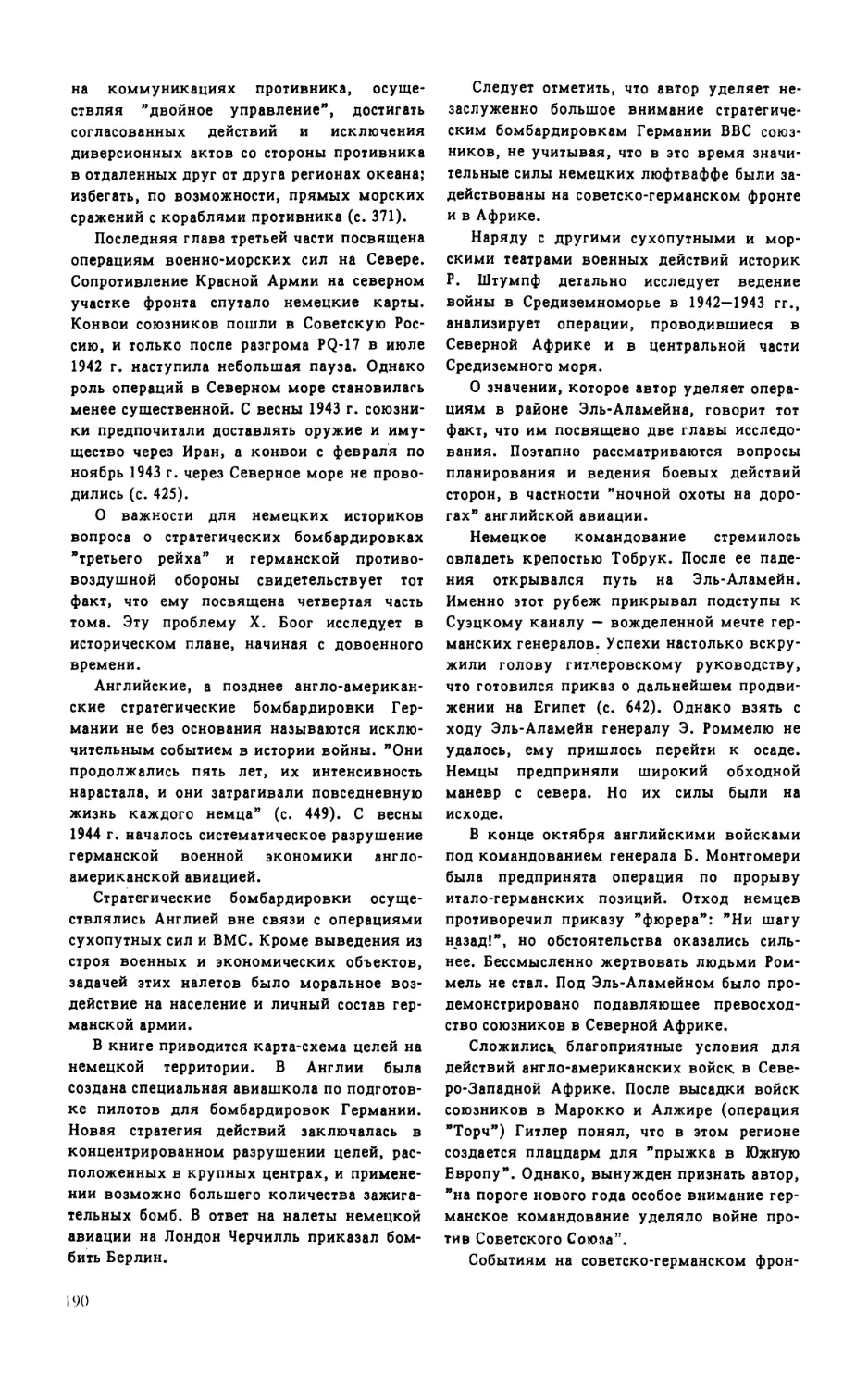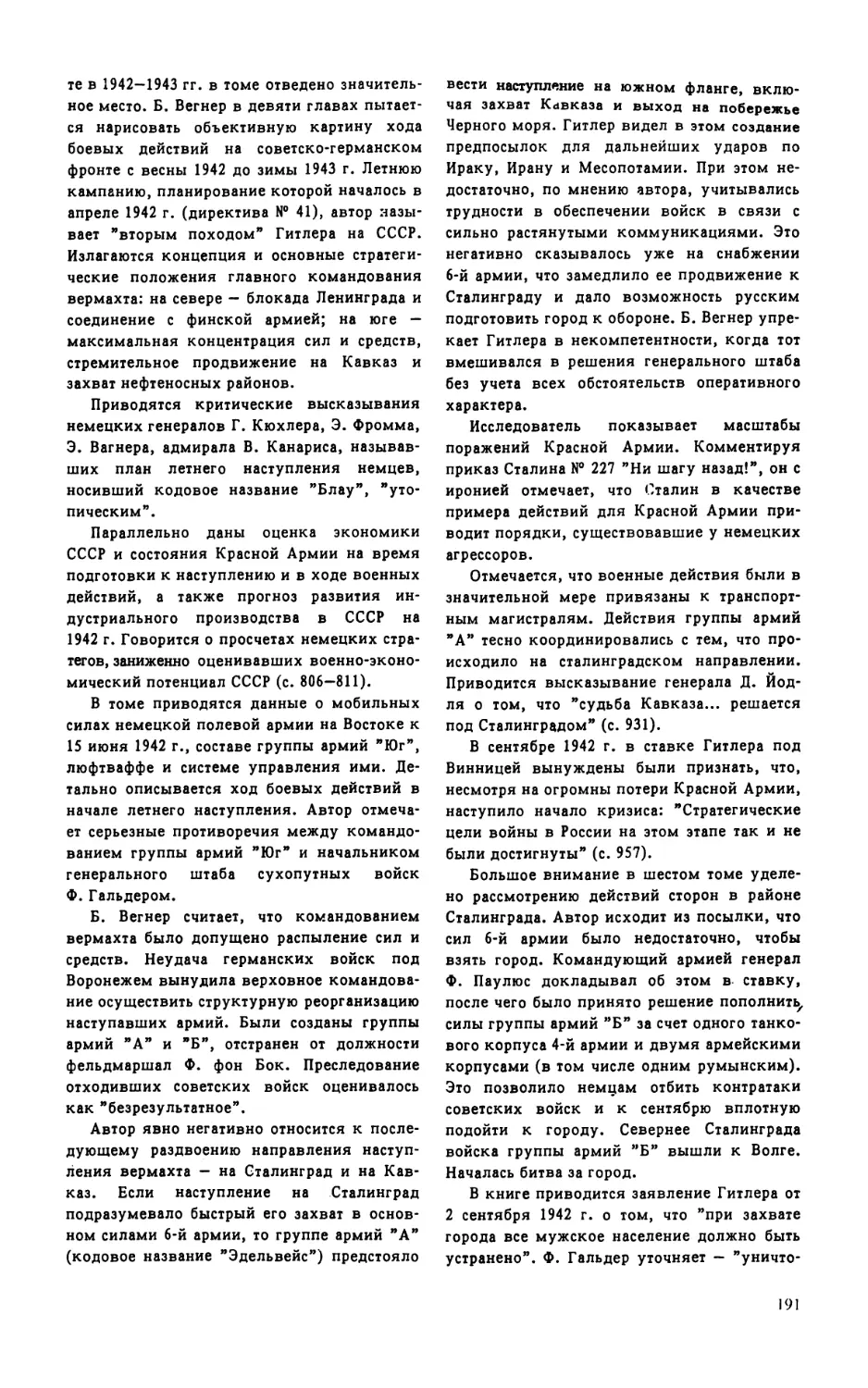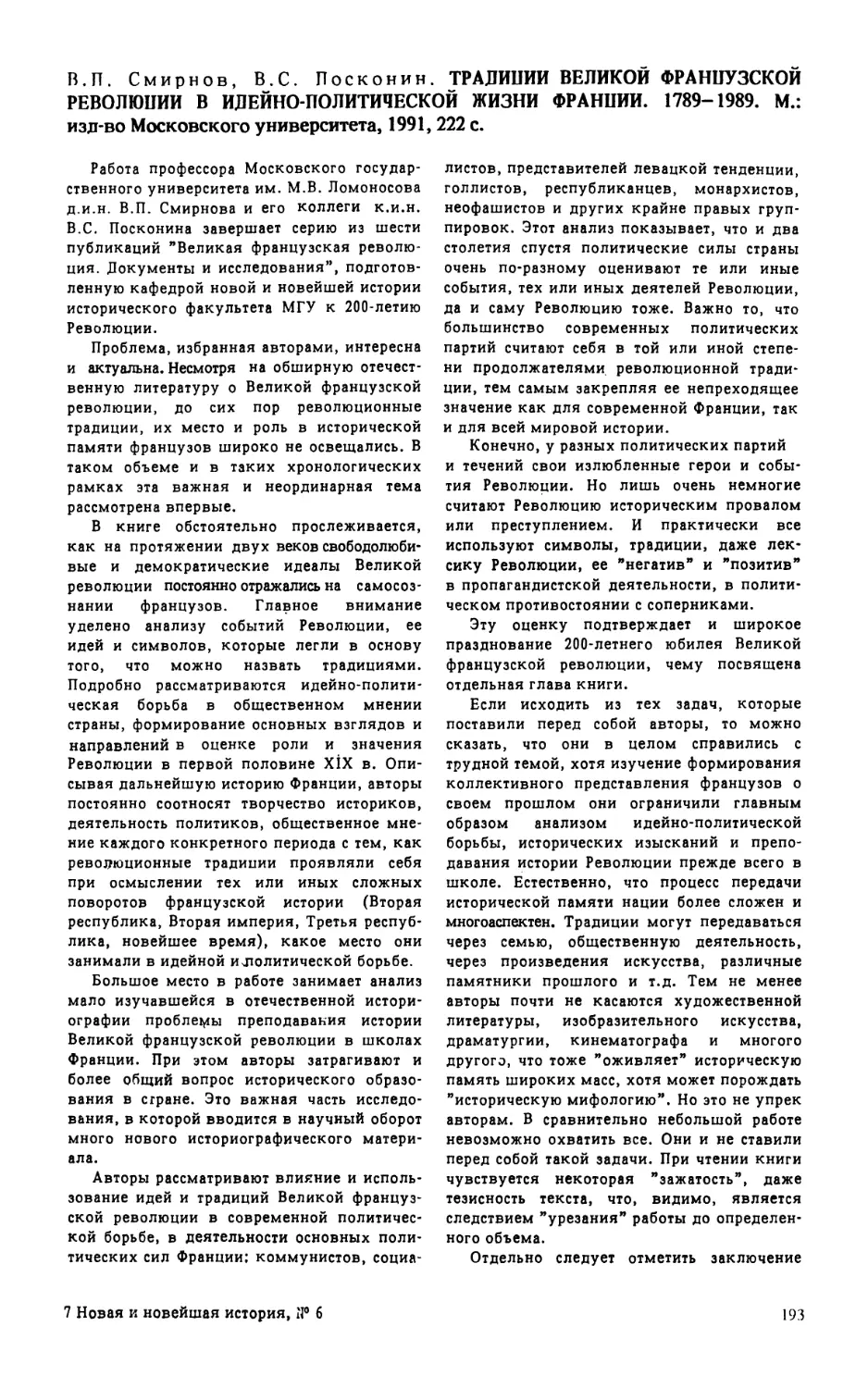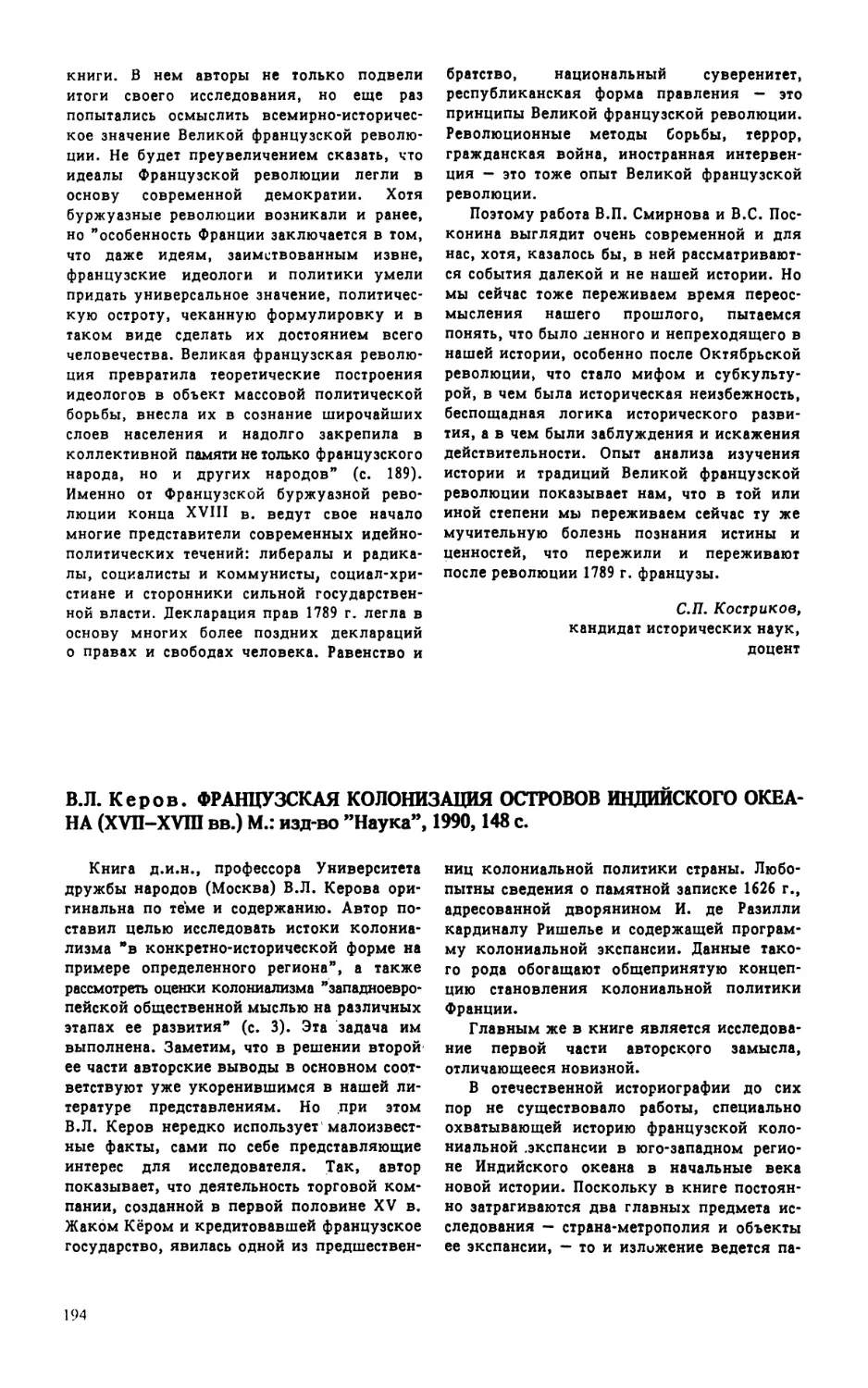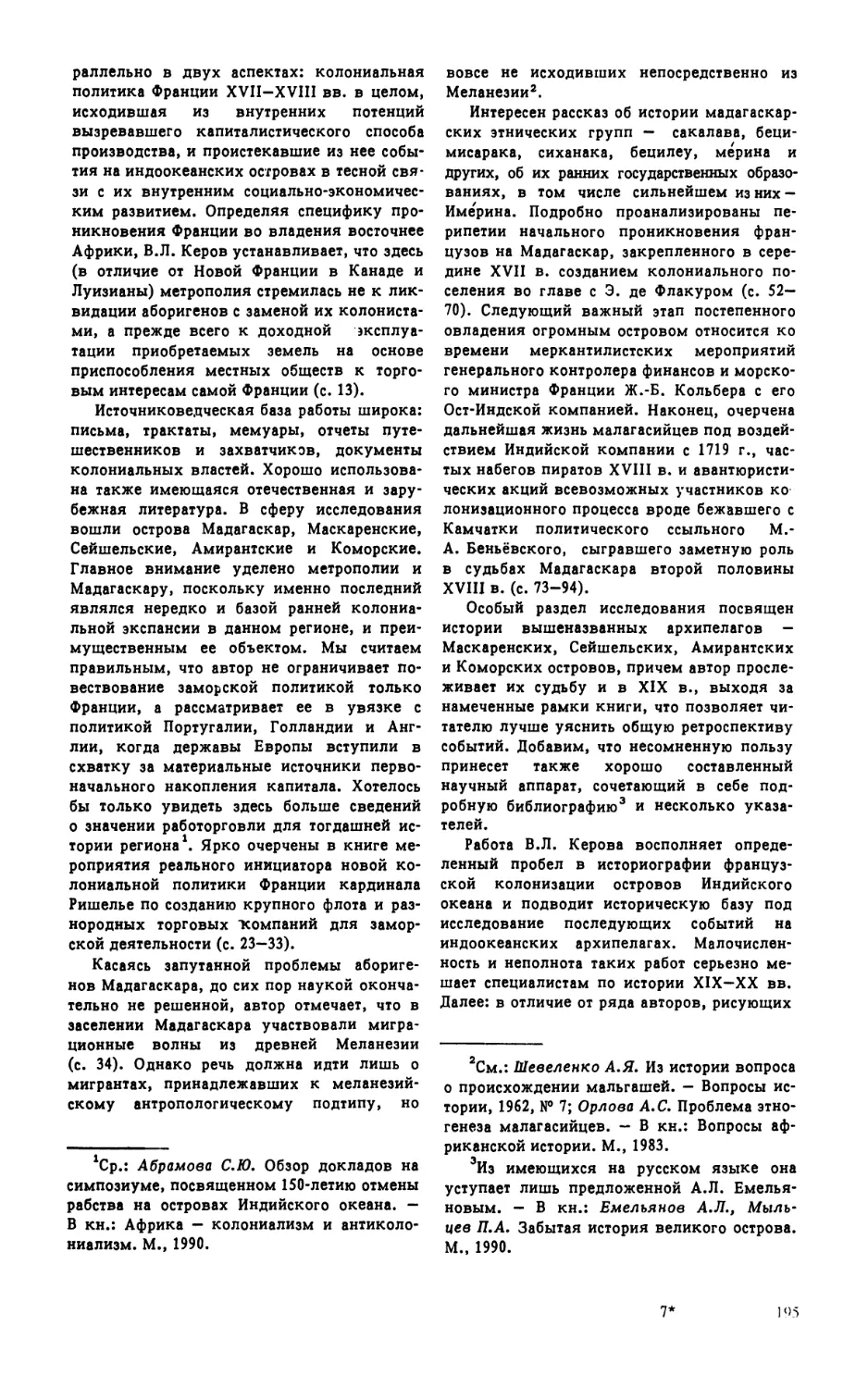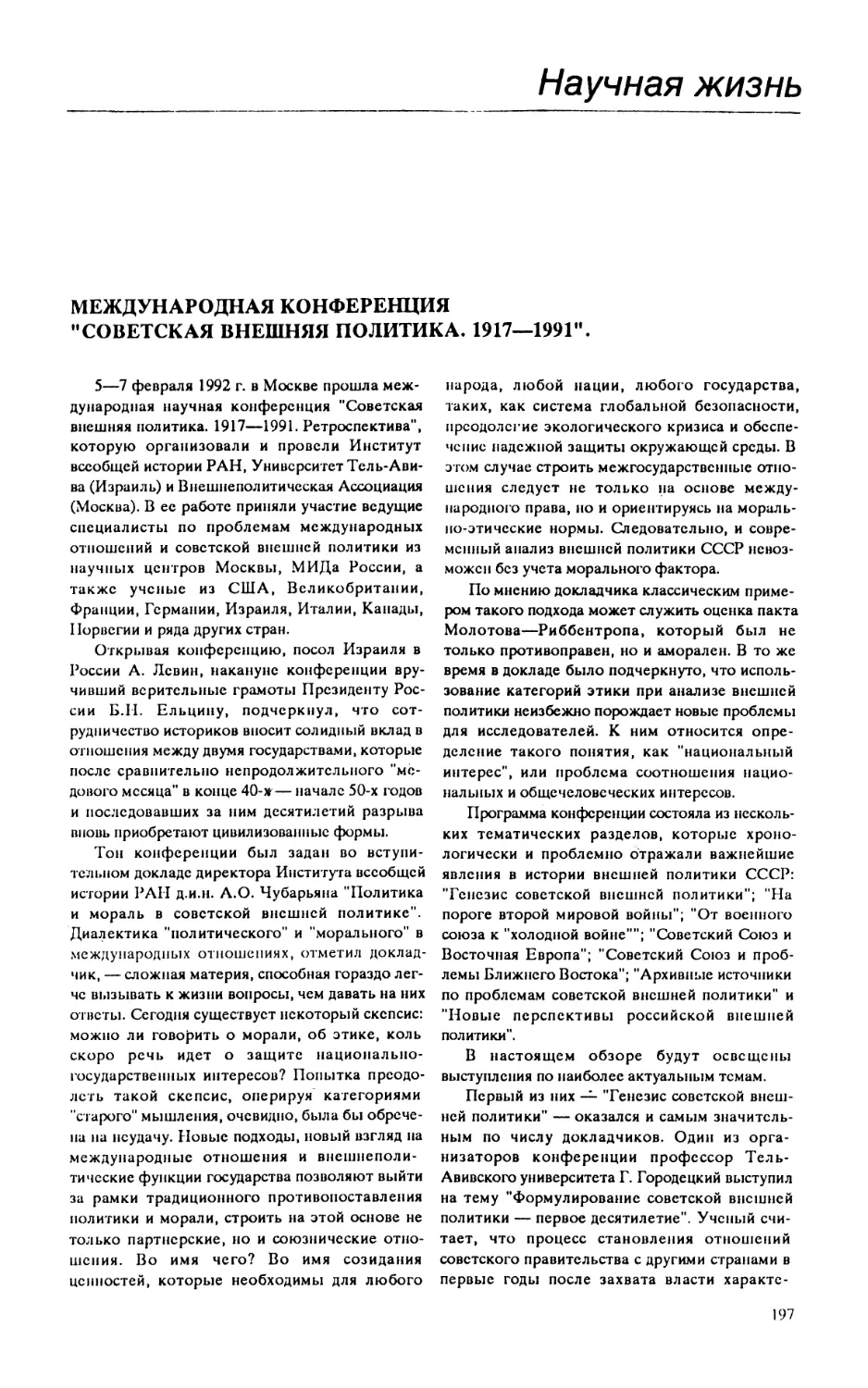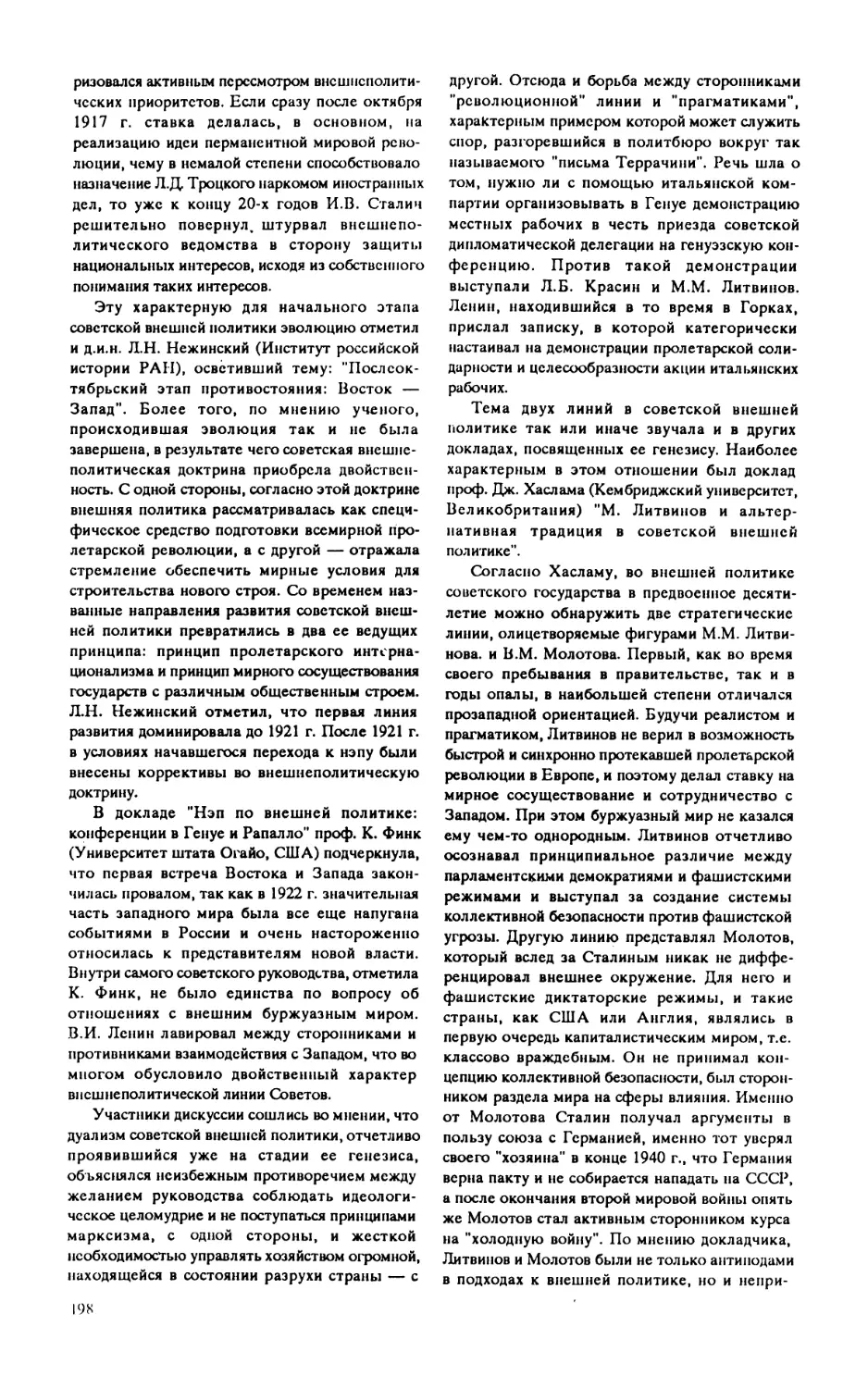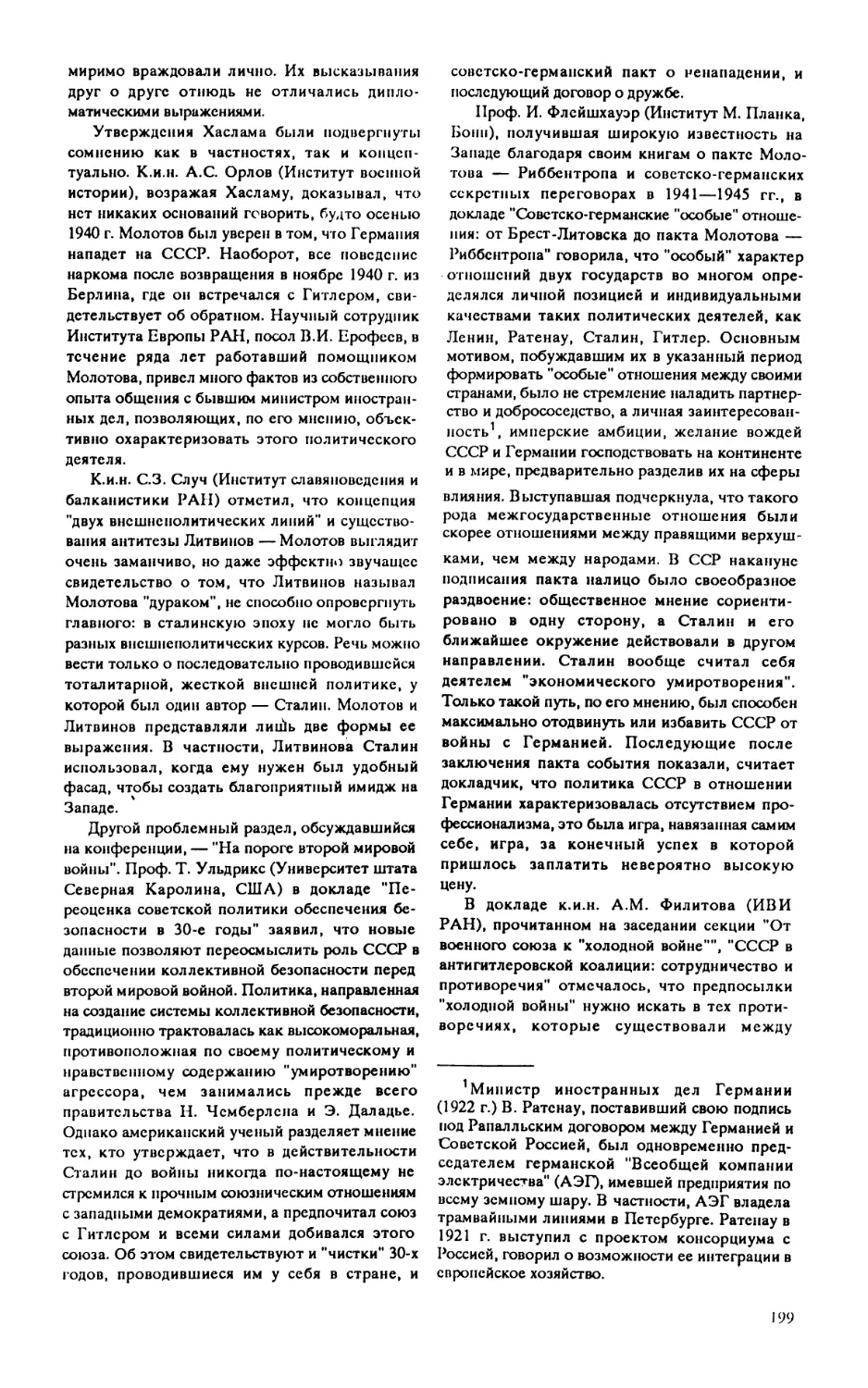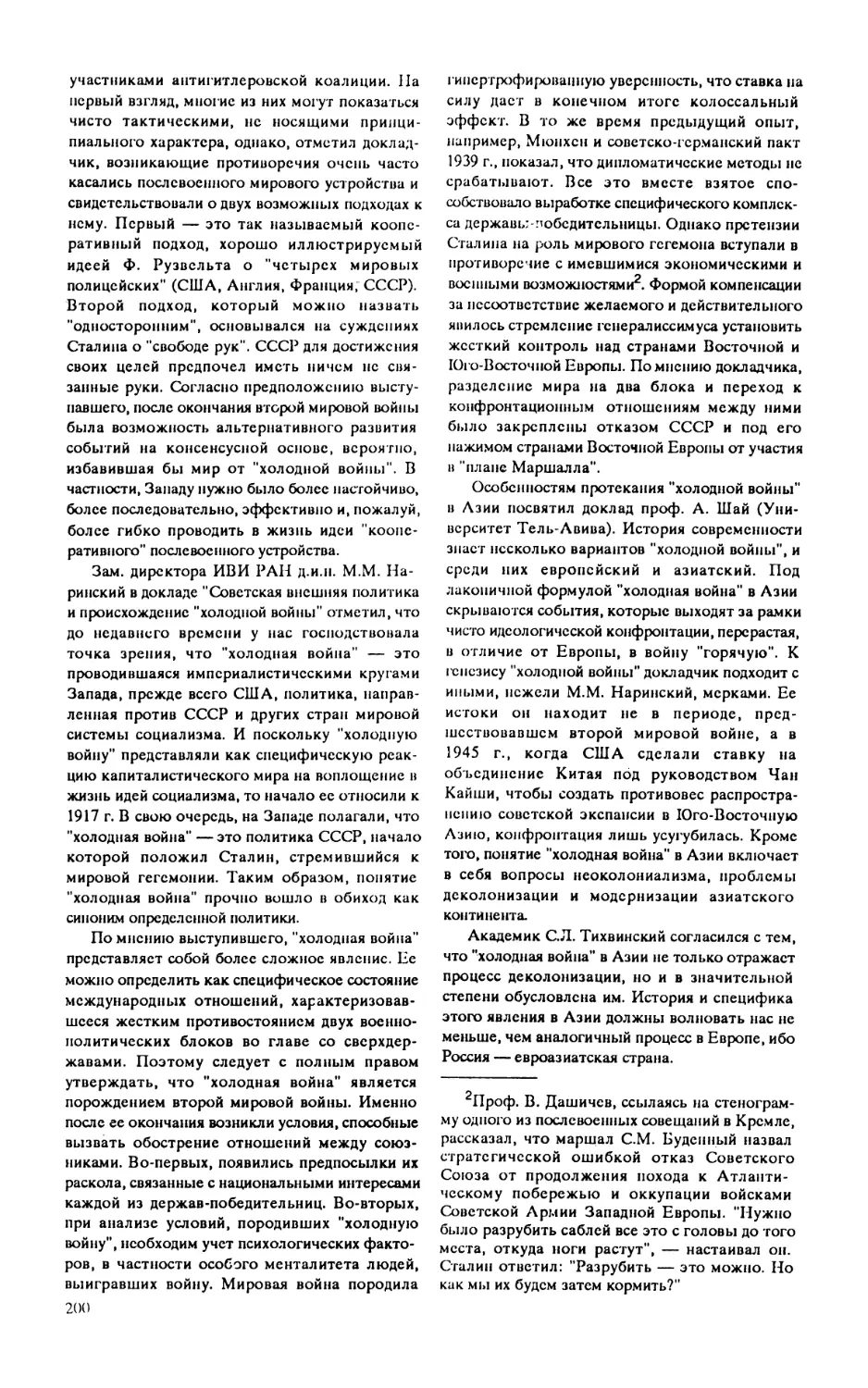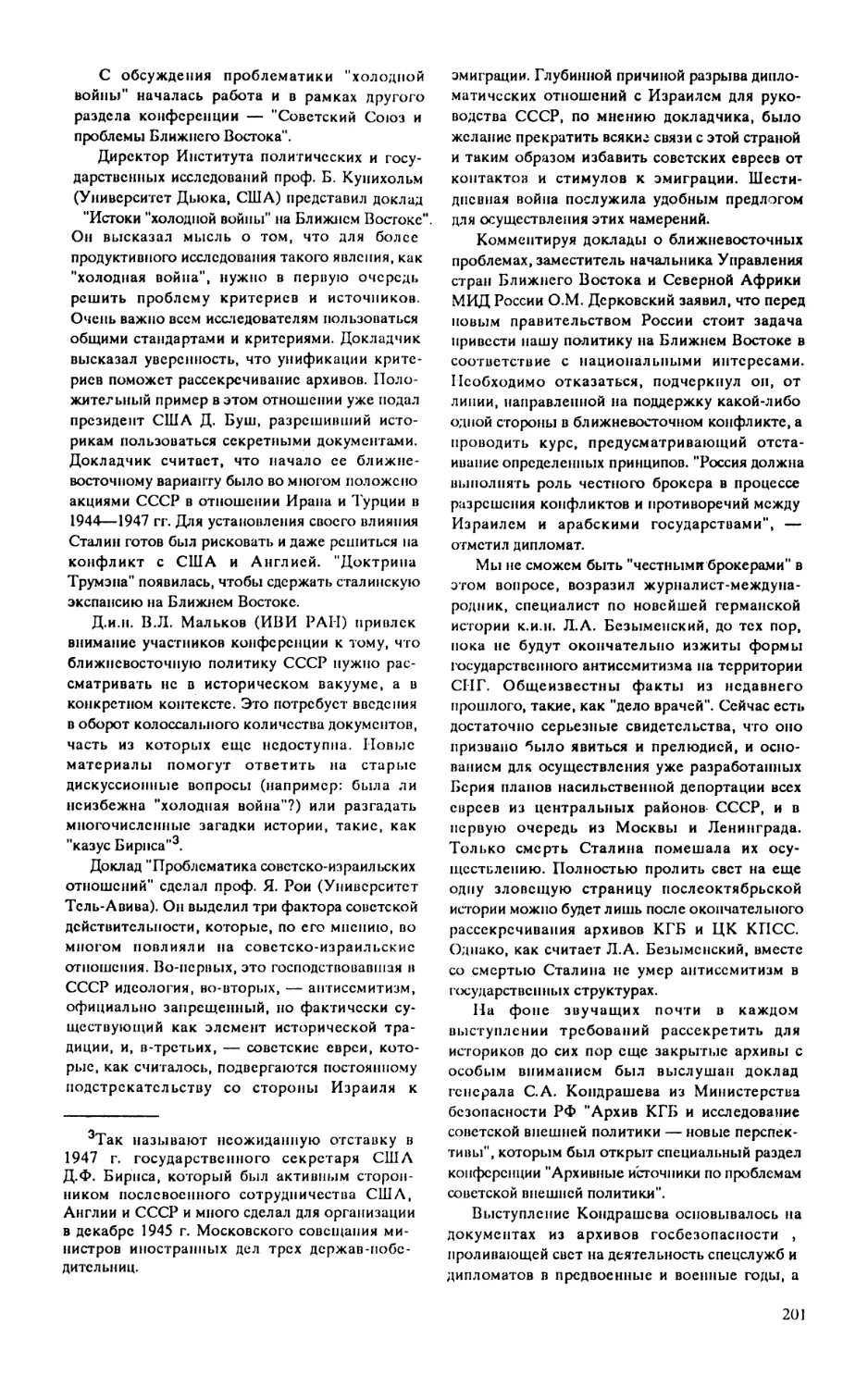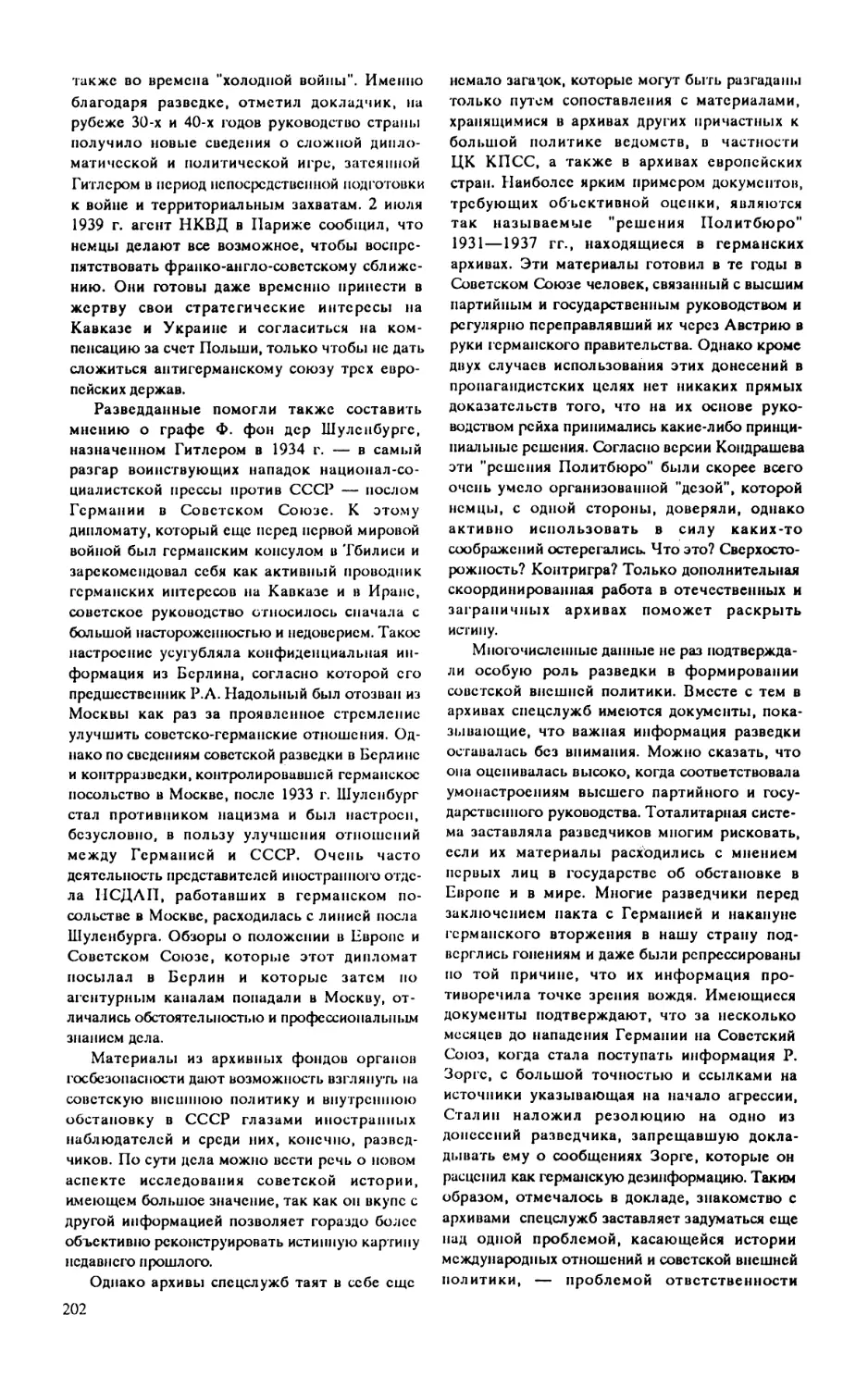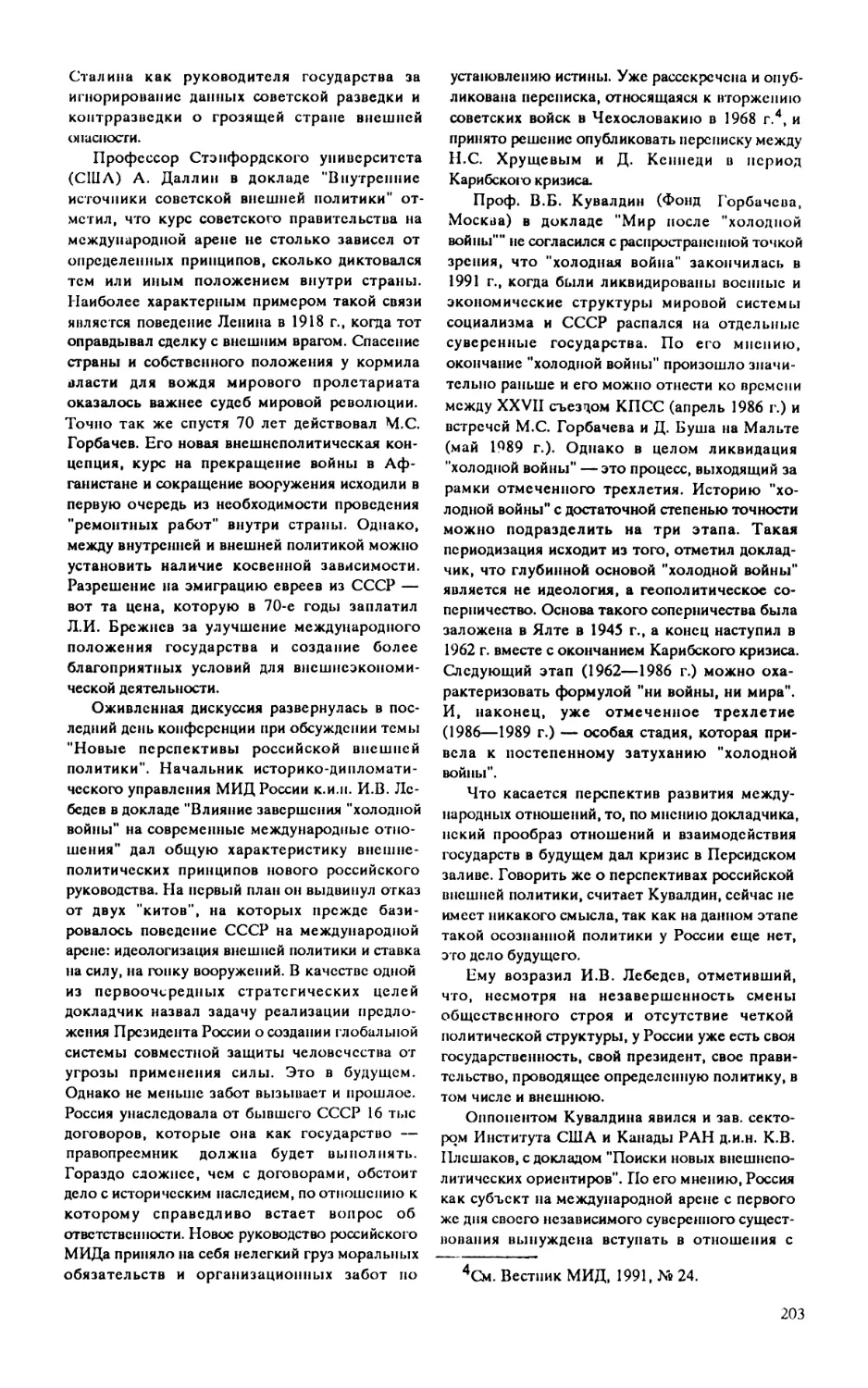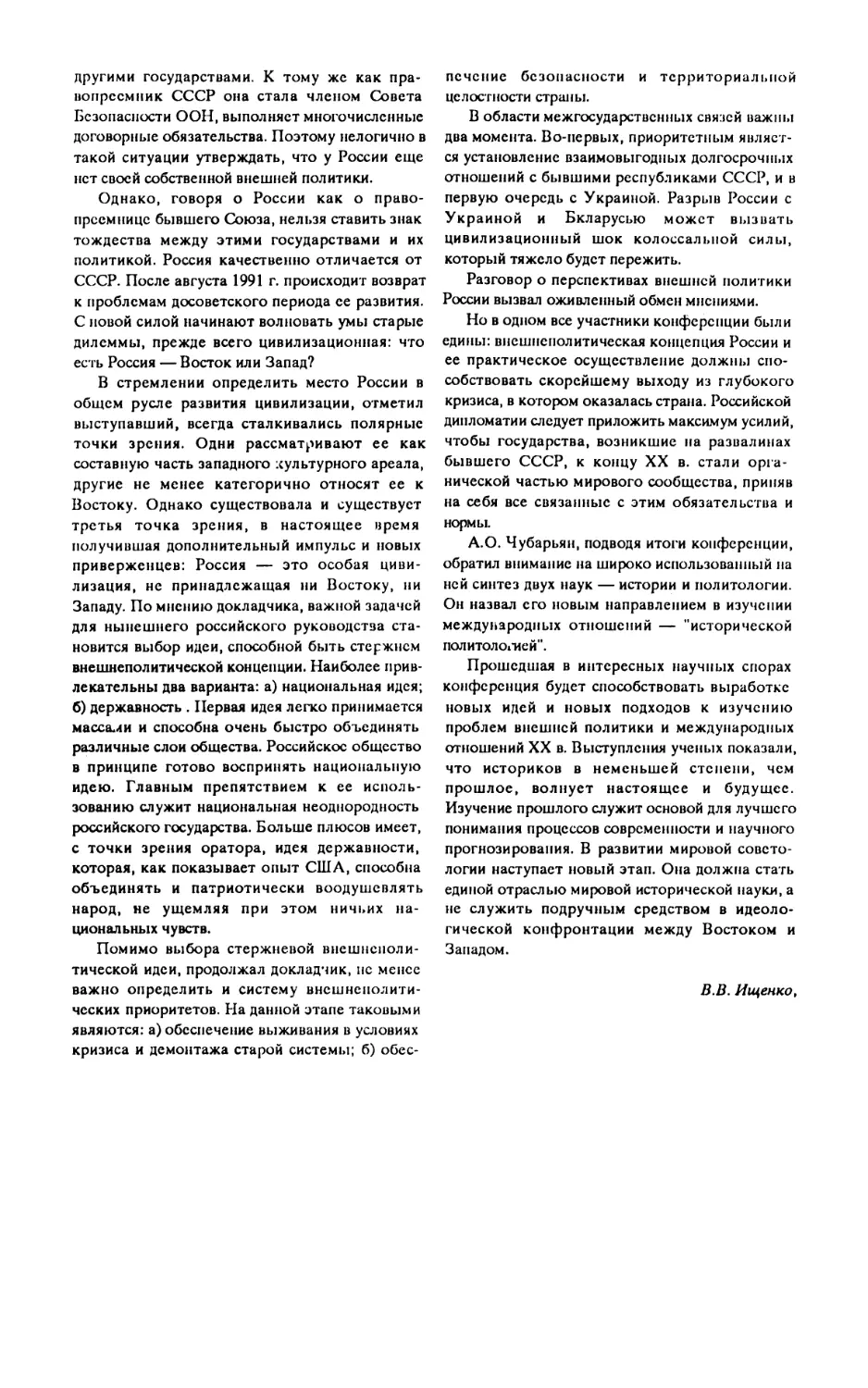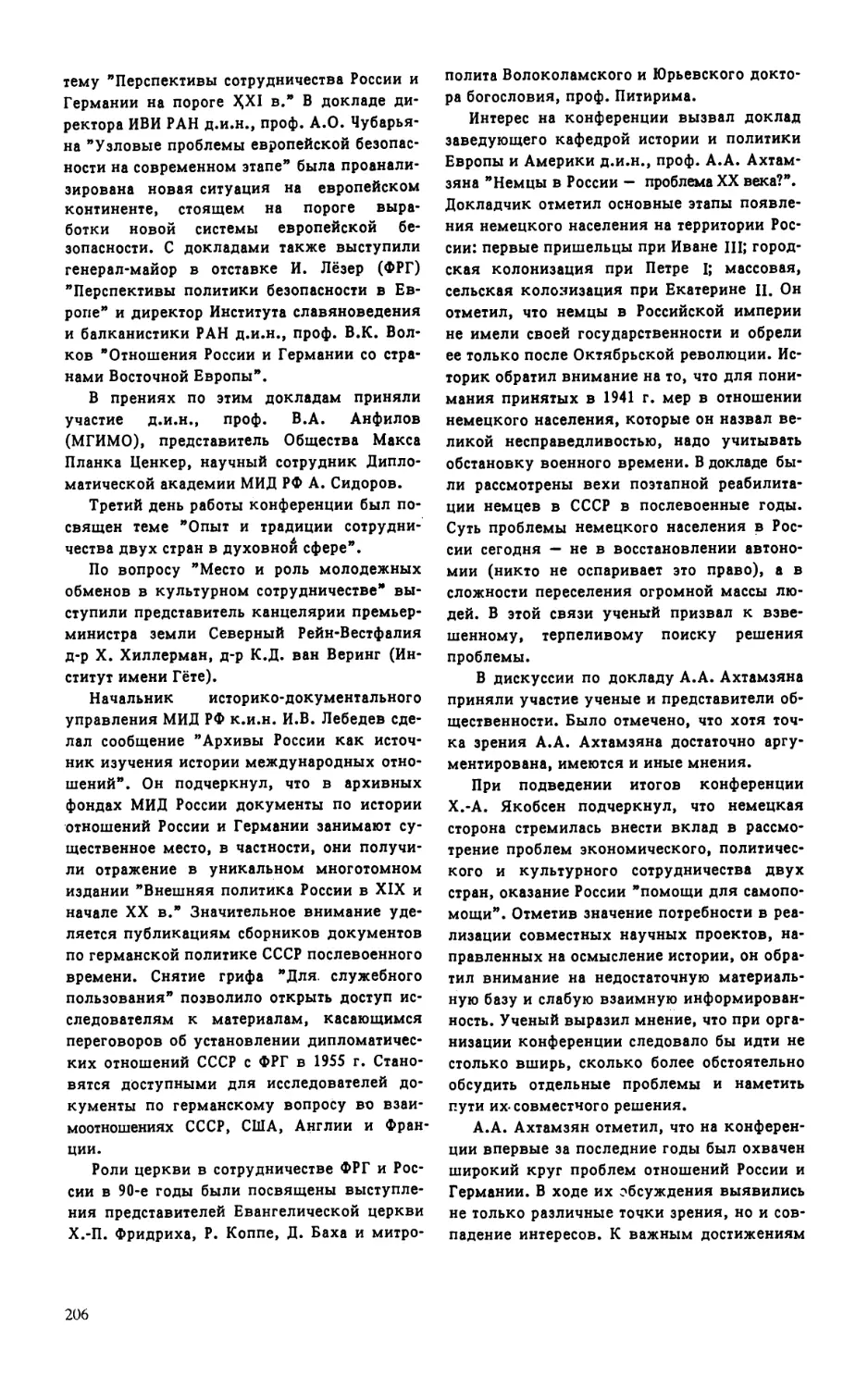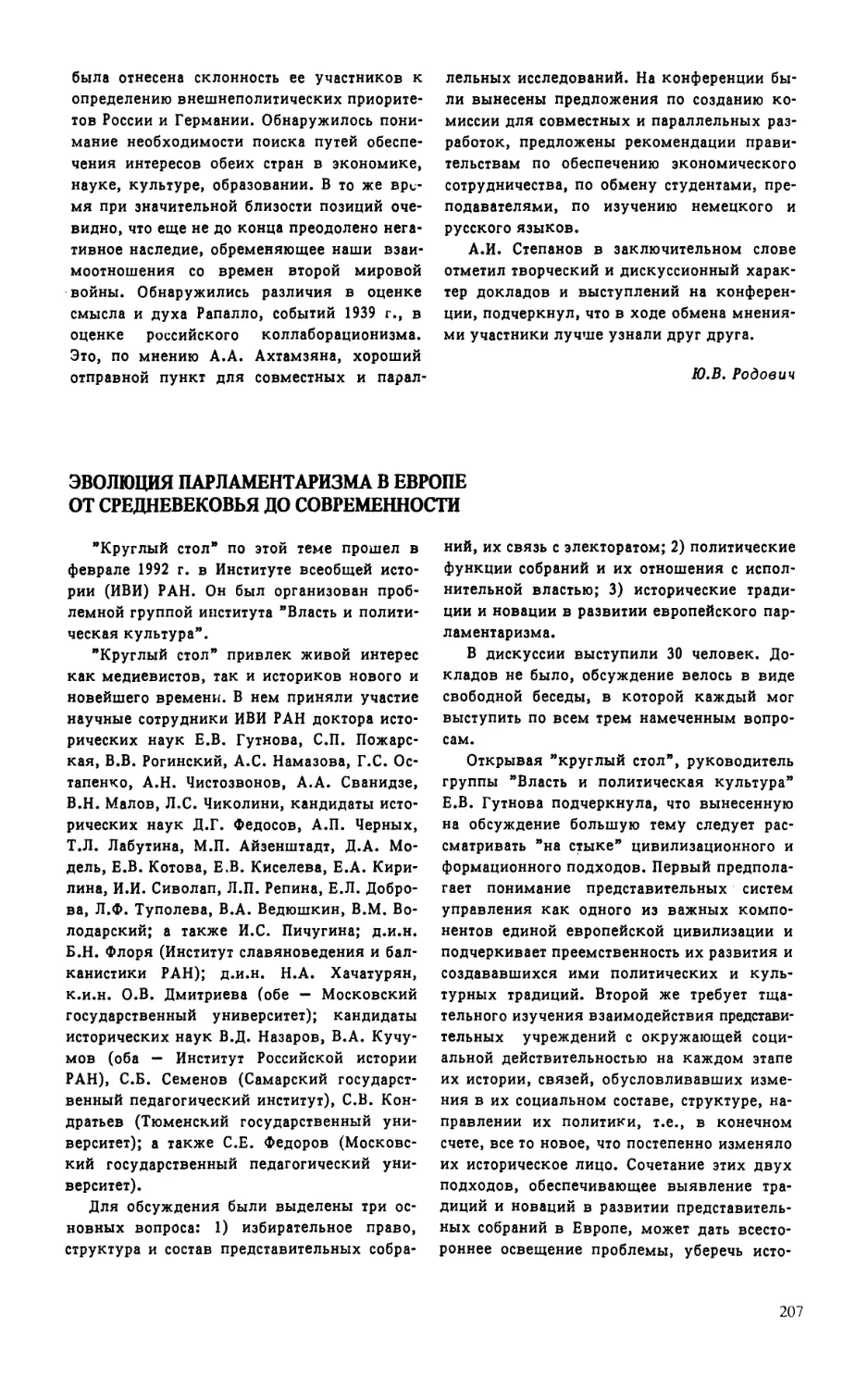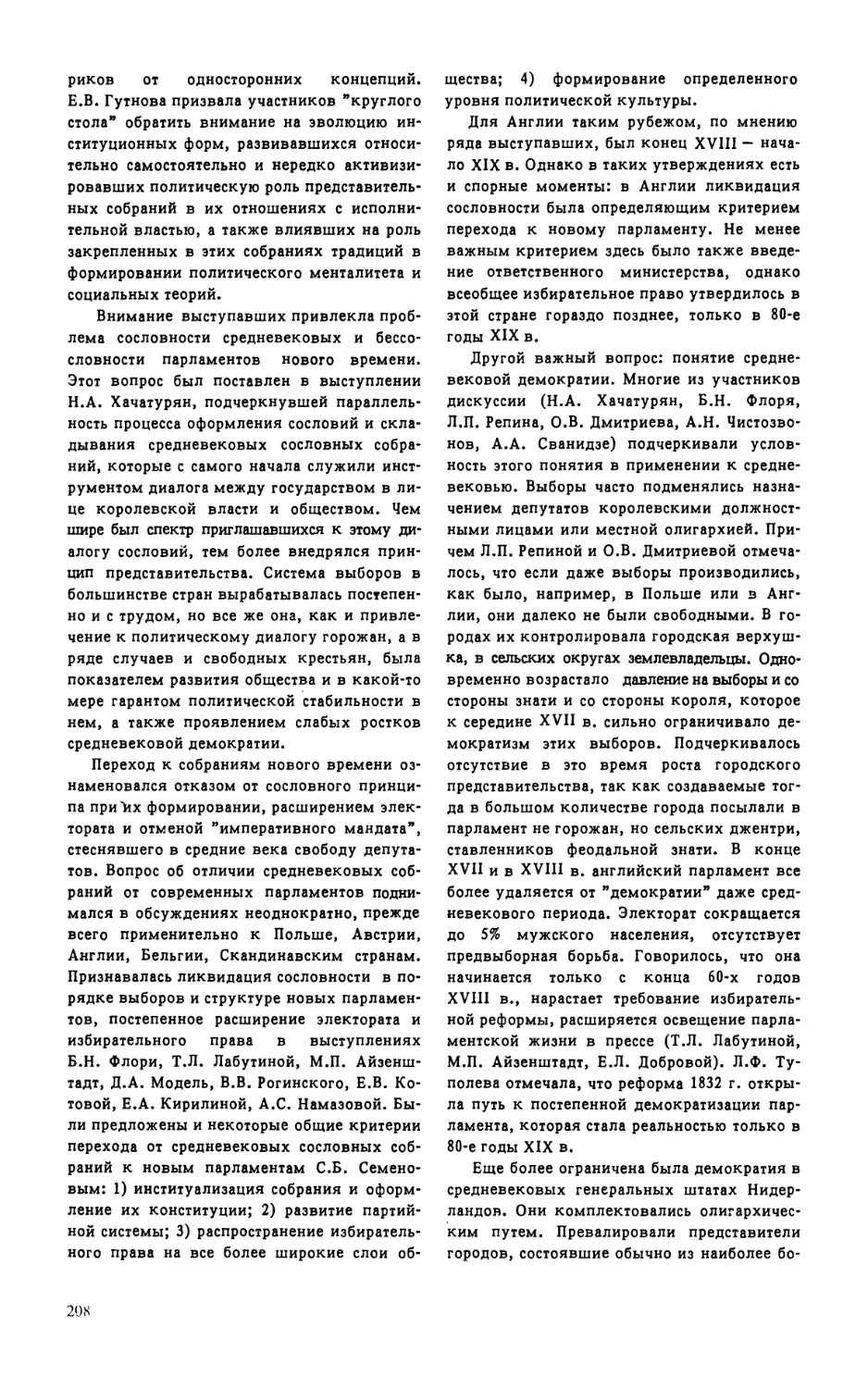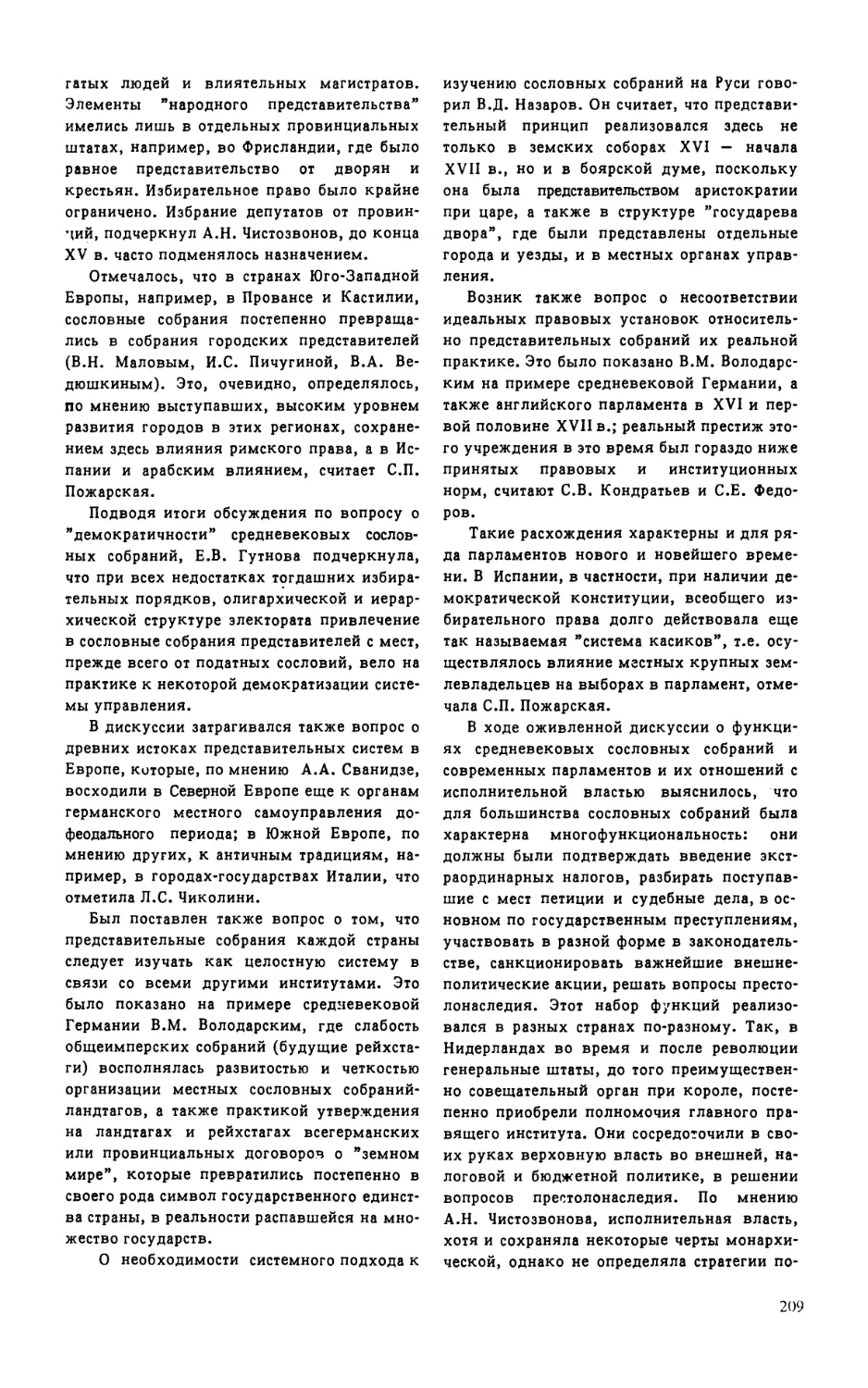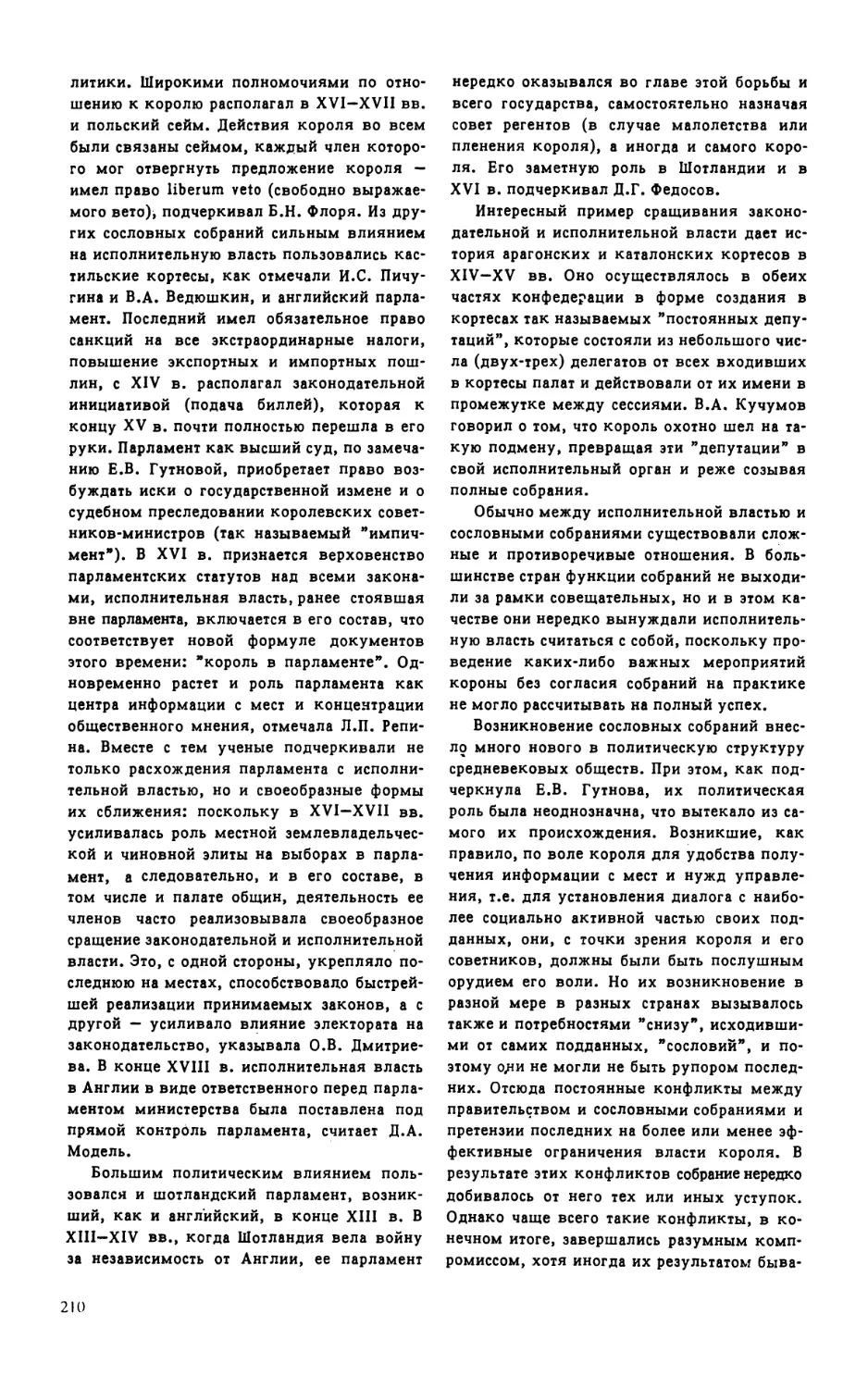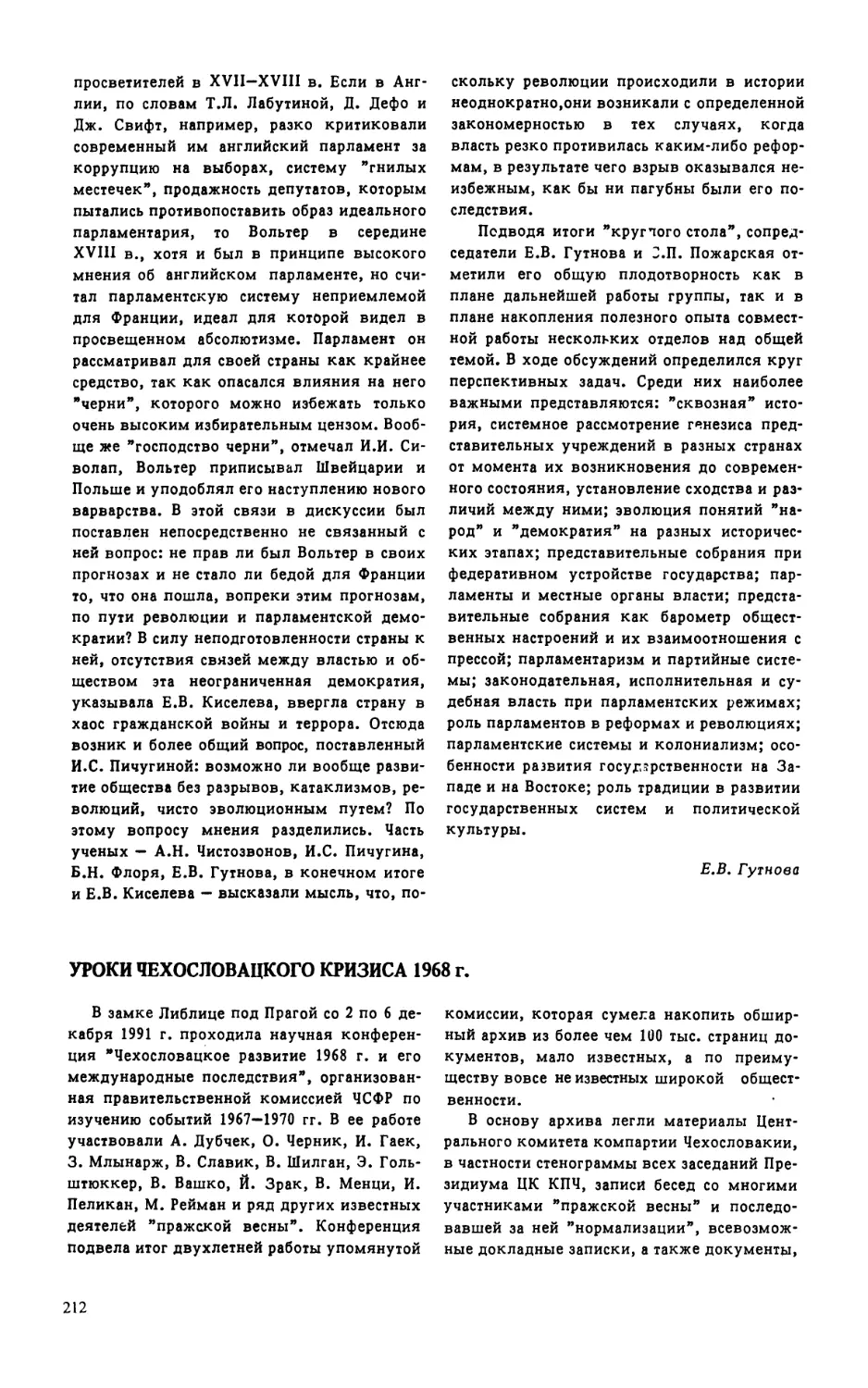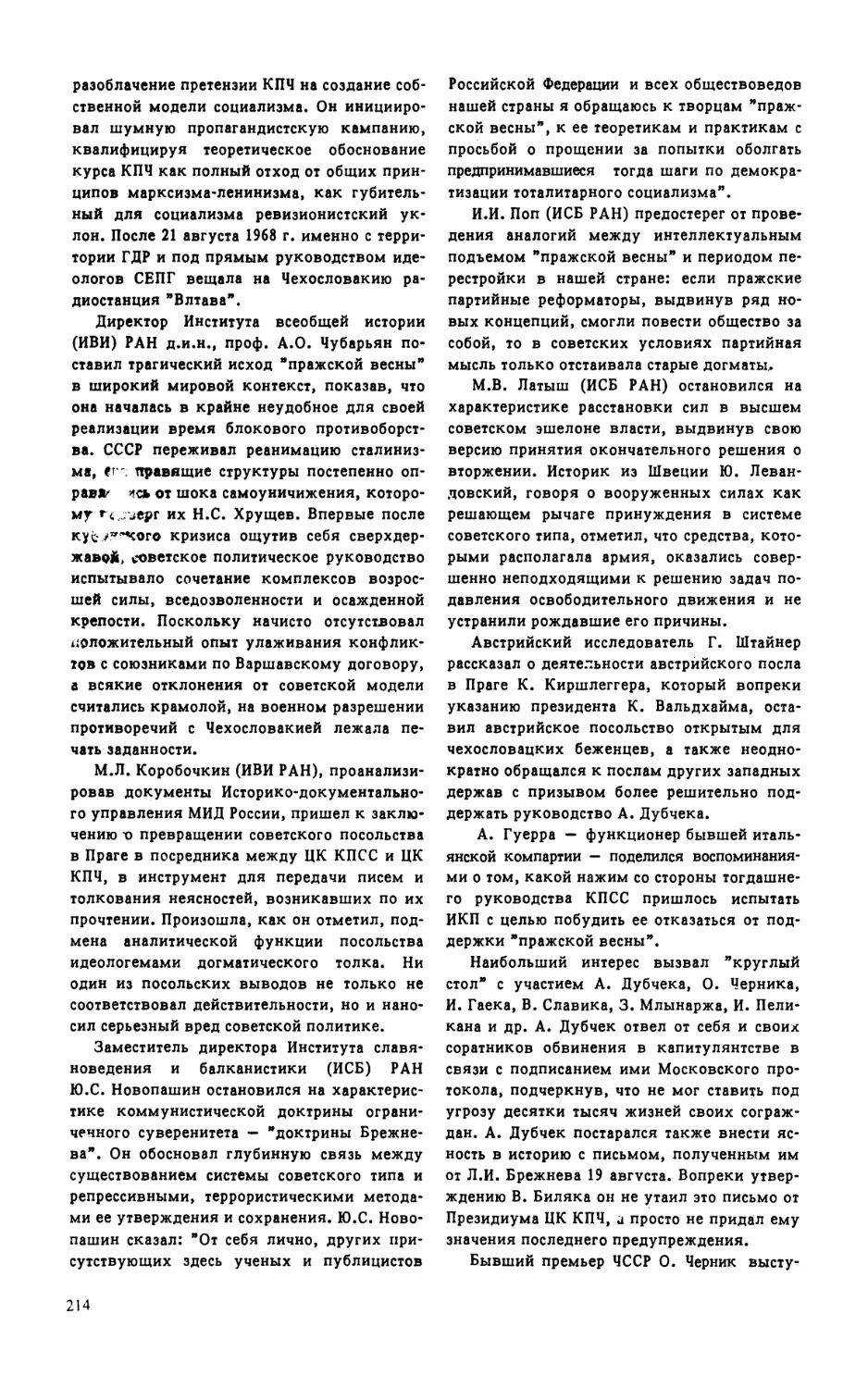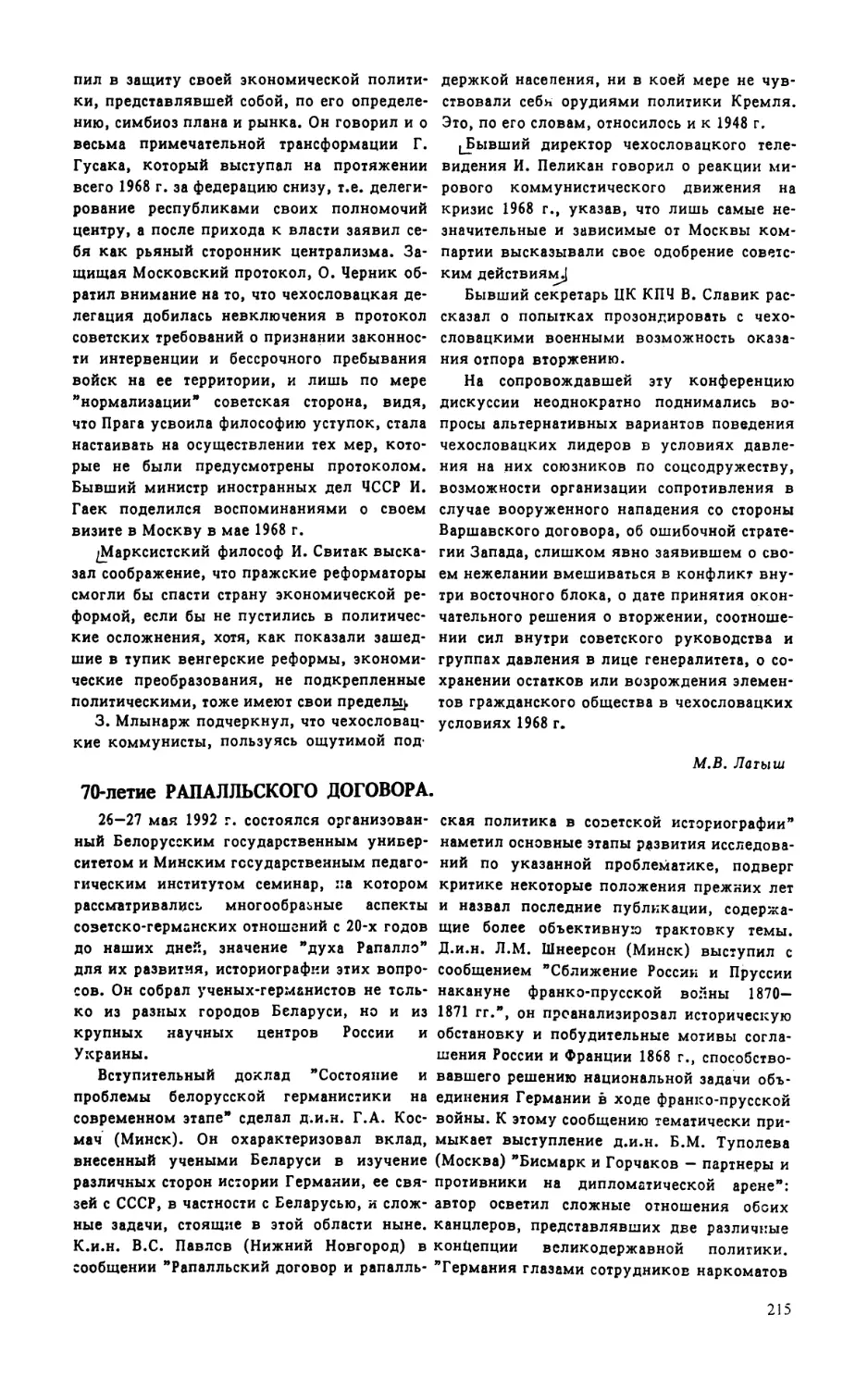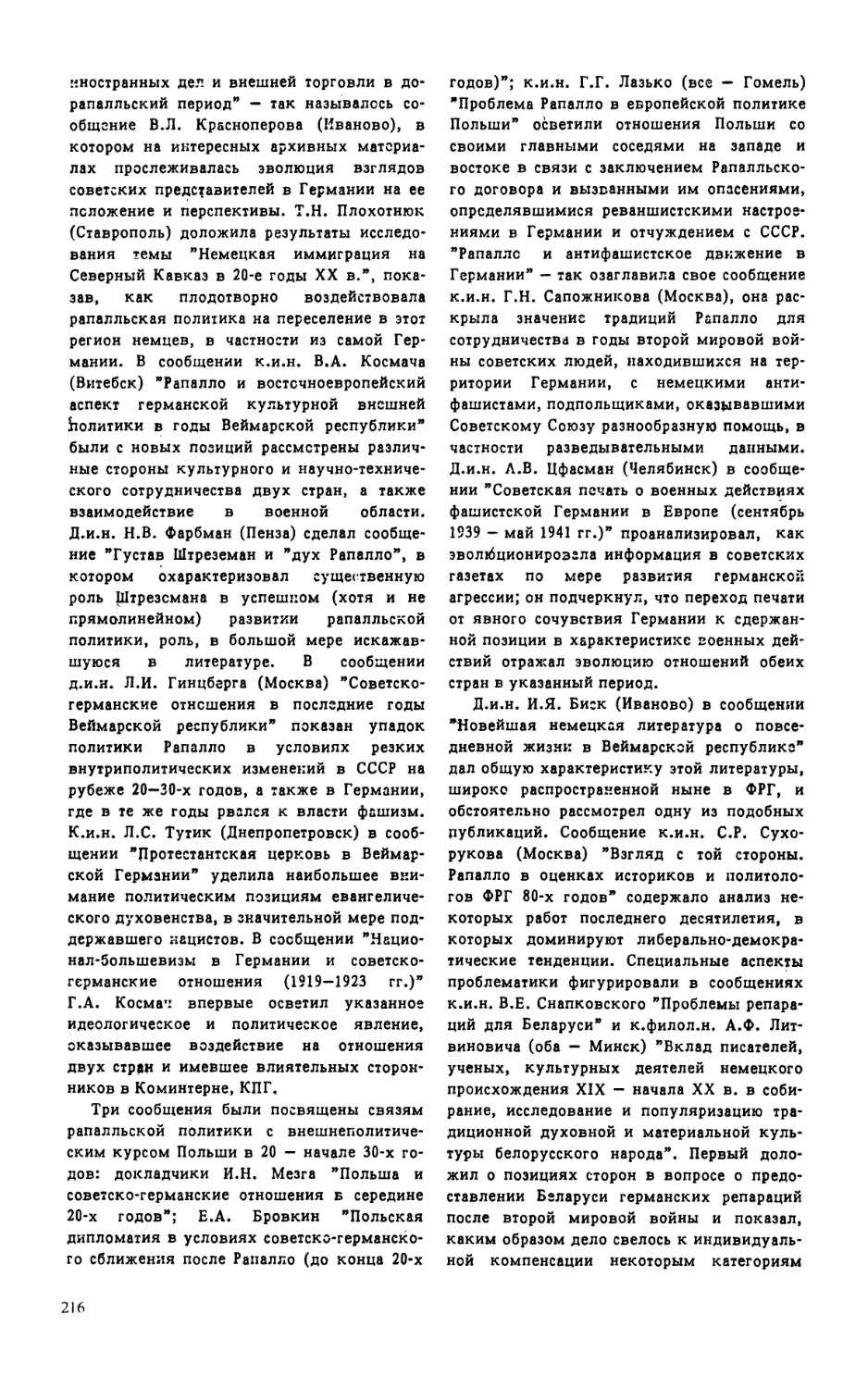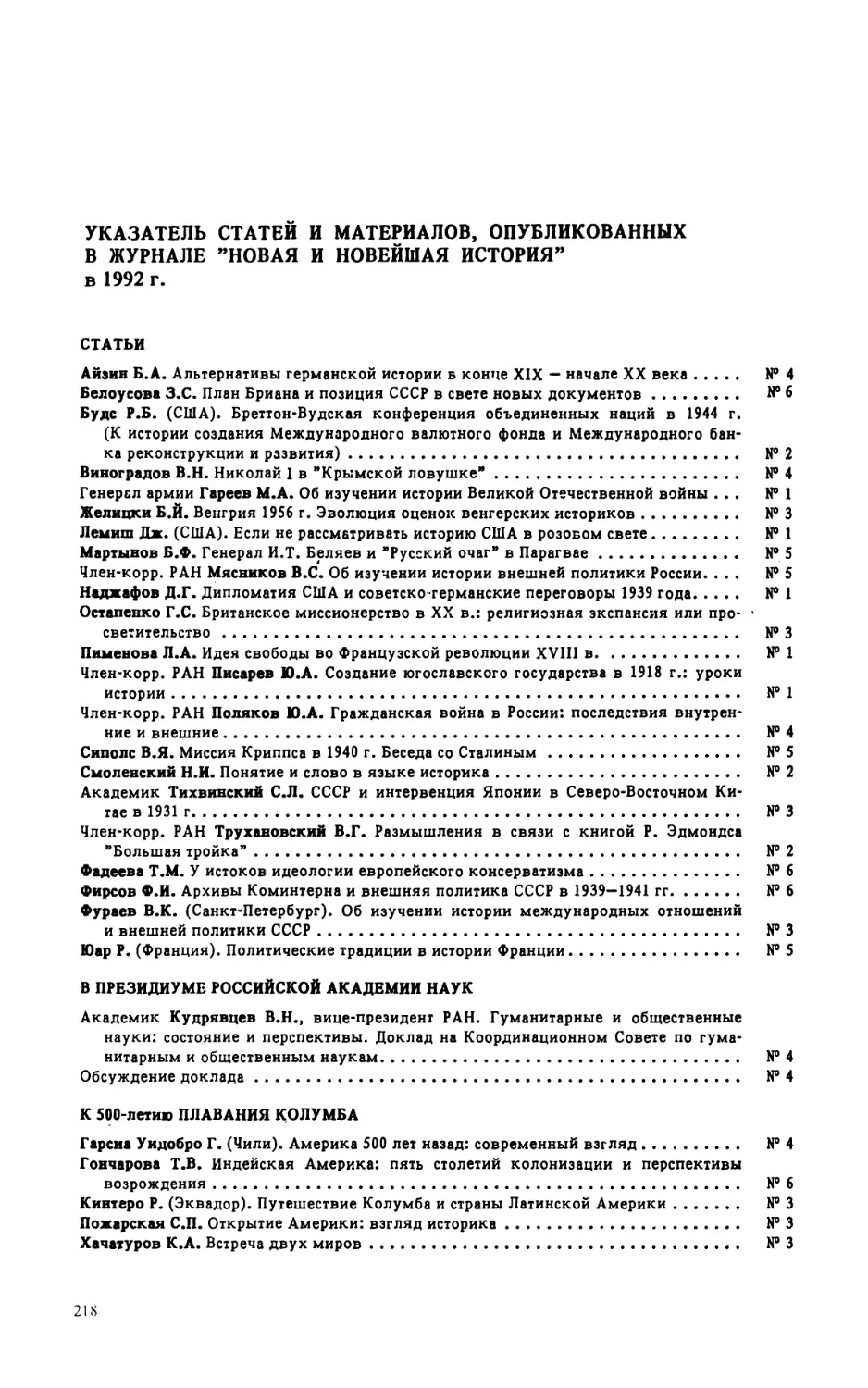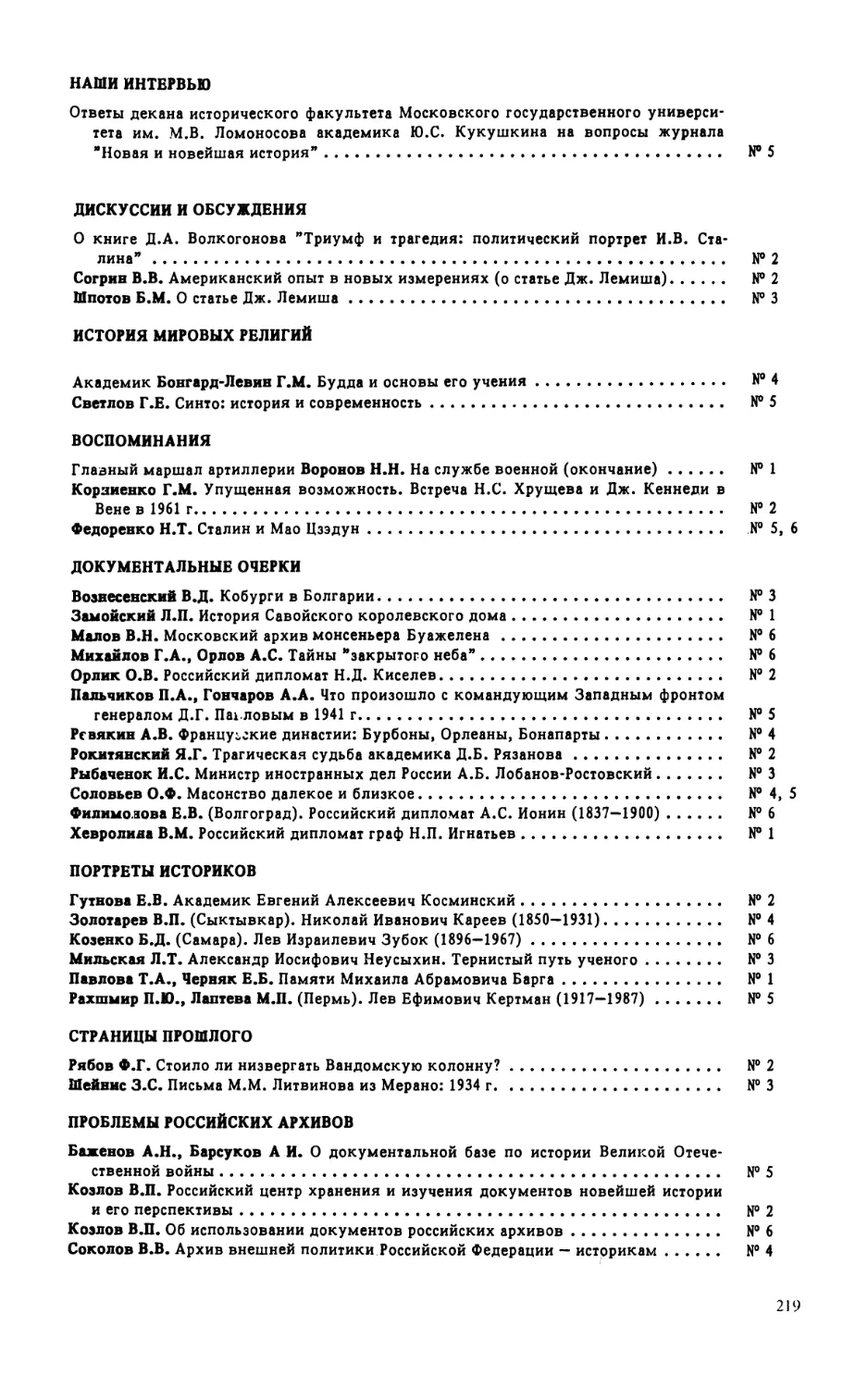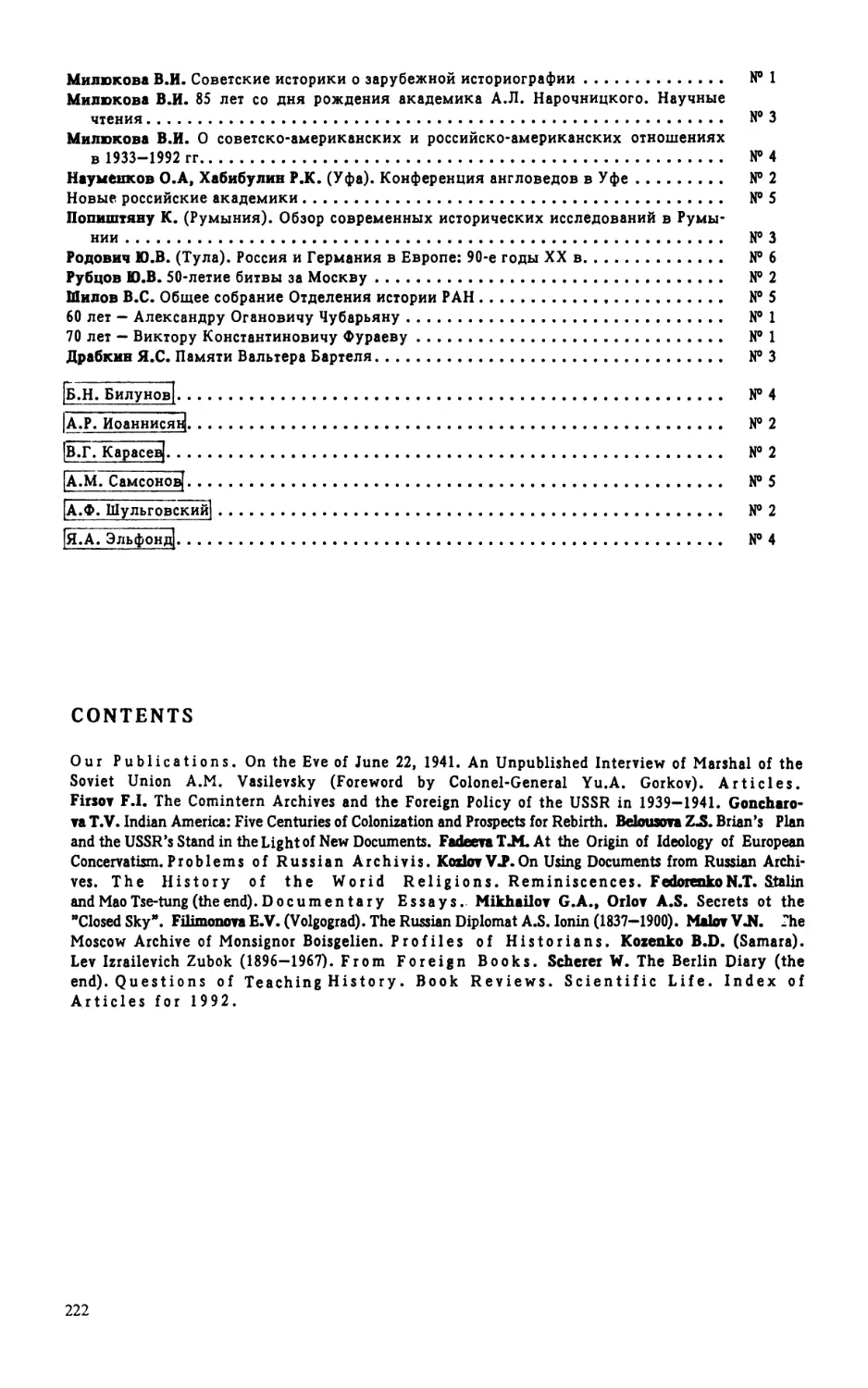Text
НОВАЯ
ISSN 0130-3864
НОВЕЙШАЯ
11(11)1*1111
В номере
НАКАНУНЕ 22 ИЮНЯ 1941 г.
ОПУБЛИКОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ
РШАЛА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО
ХИВЫ КОМИНТЕРНА:
НЯЯ ПОЛИТИКА СССР. 1939-1941 гг.
И МАО ЦЗЭДУН
«ЗАКРЫТОГО НЕБА». ПОЛЕТ ПАУЭРСА
РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ А. С. ИОНИН
ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ: Л. И. ЗУБОК
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ
1992
С
РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ -НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ilOIHH
НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ
6
НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
1992
ЖУРНАЛ ОСНОВАН
В МАЕ 1957 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
ПУБЛИКАЦИИ
Накануне 22 июня 1941 г. Неопубликованное интервью Маршала Совет¬
ского Союза А.М. Василевского. Предисловие генерал-полковника
10.А. Горькова 3
СТАТЬИ
Фирсов Ф.И. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР в 1939-
1941 гг 12
Гончарова Т.В. Индейская Америка: пять столетий колонизации и перс¬
пективы возрождения 36
Белоусова З.С. План Бриана и позиция СССР в свете новых документов 47
Фадеева Т.М. У истоков идеологии европейского консерватизма 57
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ
Козлов В.П. Об использовании документов российских архивов 77
ВОСПОМИНАНИЯ
Федоренко Н.Т. Сталин и Мао Цзэдун (окончание) 83
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Михаилов Г.А., Орлов А.С. Тайны ’’закрытого неба” 96
Филимонова Е.В. (Волгоград). Российский дипломат А.С. Ионин (1837—
1900) 111
Малов В.Н. Московский архив монсеньера Буажелена 132
ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ
Козенко Б.Д. (Замара). Лев Израилевич Зубок (1896—1967) 155
ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА", МОСКВА
i
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ
Ширер У. Берлинский дневник (окончание) ...Л. 169
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЦЕНЗИИ
Иваницкий Г.М. Германский рейх и вторая мировая война. Т. 6. Глобаль¬
ная война, ее превращение в мировую войну и смена инициативы
1941—1943. Штутгарт, 1990 186
Костриков С.П. В.П. Смирнов, В.С. Посконин. Традиции Великой
французской революции в идейно-политической жизни Франции.
1789-1989. М., 1991 193
Шевеленко А.Я. В.Л. Керов. Французская колонизация островов Ин¬
дийского океана (XVII—XVIII вв.). М., 1990 194
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
В.В. Ищенко. Международная конференция "Советская внешняя полити¬
ка. 1917-1991”. 197
Родович Ю.В. (Тула). Россия и Германия в Европе: 90-е годы XX в 205
Гутнова Е.В.| Эволюция парламентаризма в Европе от средневековья до
современности 207
Латыш М.В. Уроки чехословацкого кризиса 1968 г 212
Гинцберг Л.И. 70-летие Рапалльского договора. Научный семинар в
Минске 215
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Новая и но¬
вейшая история” в 1992 г 218
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)
А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, В.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь),
Т.М. ИСЛАМОВ, Н.П. КАЛМЫКОВ, Ф.Н. КОВАЛЕВ, И.И. ОРЛИК, Ю.А. ПИСАРЕВ,
В.С. РЫКИН, Н.И. СМОЛЕНСКИЙ, В.В. СОГРИН, Е.И. ТРЯПИЦЫН (зам. главного
редактора), Л.Я. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК, А.О. ЧУБАРЬЯН, Е.Ф. ЯЗЬКОВ
Адрес редакции: 121002, Москва, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84
©Отделение истории РАН, 1992 г.
©Институт всеобщей истории РАН, 1992 г.
©Издательство ’’Наука”, 1992 г.
2
Публикации
НАКАНУНЕ 22 ИЮНЯ 1941 г.
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО
Предисловие
Более полувека прошло с того рокового дня, когда началась Великая Оте¬
чественная война. Мысленно возвращаясь к этому незабываемому времени, мы
стремимся познать причины возникновения войны, причины тяжелых потерь
и утрат советских войск, особенно в начальном периоде войны. По этим воп¬
росам идут оживленные дискуссии. Вводятся в научный оборот новые мате¬
риалы: ранее глубоко засекреченные архивы стали доступны широкому кругу
исследователей. На страницах печати делаются попытки проанализировать ход
войны, истоки неудач и поражений Красной Армии, восходящие еще к пред¬
военному периоду, отмечаются ошибки и просчеты в деятельности отдельных
лиц в верхних эшелонах власти, а также целых коллективов, вплоть до го¬
сударственного и политического руководства.
’’Нет ничего проще, - писал маршал Г.К. Жуков в своей книге ’’Воспомина¬
ния и размышления,” - чем, когда уже известны все последствия, возвра¬
щаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего слож¬
нее, чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всем противоборстве
сил, противопоставлении различных мнений, сведений и фактов непосред¬
ственно в данный исторический момент. Историкам, исследующим причины
неудач вооруженной борьбы с Германией в первом периоде войны, придется
тщательно разобраться в этих вопросах, чтобы правдиво объяснить истинные
причины, вследствие которых советский народ и страна понесли столь тяжелые
потери”1.
В современных дискуссиях на эту тему ряд авторов одной из причин неудач
в начале войны считает неудовлетворительное положение с разработкой в Ге¬
неральном штабе РККА оперативных планов ведения войны - как опоздание
с их разработкой, так и наличие серьезных ошибок и просчетов в самой стра¬
тегии планов.
К сожалению, такие выводы зачастую делаются на основе какого-то одного
документа, а не всего комплекса оперативных планов, позволяющего сделать
вывод по проблеме в целом. Иногда документы публикуются с пропусками и 1
1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления, 10-е изд., т. 1. М., 1990, с. 350.
3
купюрами, например ’’Соображения по стратегическому развертыванию во¬
оруженных сил Советского Союза...” (от 15 мая 1941 г.)2.
Вопрос осложняется также тем, что начиная с 1938 г. на оперативных доку¬
ментах нет утверждающих подписей Сталина, Молотова и других членов полит¬
бюро. А потом не стали ставить подг.исей и должностные лица Наркомата обо¬
роны. Однако это не дает основания говорить об отсутствии оперативных пла¬
нов ведения войны.
Еще в конце 60-х годов Г.К. Жуков писал: ’’Сейчас некоторые авторы воен¬
ных мемуаров утверждают, что перед войной у нас не было мобилизационных
планов вооруженных сил и планов оперативно-стратегического развертывания
(Еременко А.И. ”В начале войны”. М., 1964, с. 52-53). В действительности опе¬
ративный и мобилизационный планы вооруженных сил в Генштабе, конечно,
были. Разработка и корректировка их не прекращалась никогда”3.
Публикуемое ниже интервью от 20 августа 1965 г.4 Маршала Советского Союзе
А.М. Василевского, предназначавшееся советской прессе, но по ряду причин не поя¬
вившееся в печати, проясняет этот вопрос.
Александр Михайлович Василевский - выдающийся военный и государст¬
венный деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза,
пятый по счету начальник Генерального штаба Красной Армии, участник трех
войн - имел большой опыт командной и штабной работы. С 1938 г. работал в
Оперативном управлении Генштаба, с мая 1940 г. - зам. начальника Оператив¬
ного управления. С августа 1941 г. - зам. и первый зам. начальника Генштаба -
начальник Оперативного управления, с июня 1942 г. - начальник Генштаба,
с февраля 1945 г. - командующий 3-м Белорусским фронтом, с июля 1945 г. -
Главком советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1949-1953 гг. - военный
министр СССР.
Будучи непосредственным разработчиком и исполнителем оперативного
плана накануне зойны, А.М. Василевский однозначно утверждает, что такой
план в Генштабе был. Он со всей тщательностью увязан с мобилизационными и
другими планами соответствующих управлений Наркомата обороны.
Более того, план был детализирован командующими и штабами западных
приграничных военных округов, которые для этого специально вызывались
в Генштаб. Для обсуждения последнего, майского 1941 г. плана командующие
войсками, члены военных советов и командующие ВВС военных округов
были приглашены в Кремль на совещание к И.В. Сталину 24 мая 1941 г., где
были уточнены задачи с учетом приближающейся агрессии со стороны Герма¬
нии. Документы совещания не выявлены (возможно, протокол не велся). Как
указано в ’’Журнале посещений” Сталина, присутствовали: ’’Молотов, Тимо¬
шенко, Жуков, Ватутин, Жигарев, Павлов, Фоминых, Кузнецов, Диброва, По¬
пов, Клементьев, Новиков, Черевиченко, Колобяков, Кирпонос, Вашугин,
Копец, Ионов, Новиков, Птухин, Мичугин, Лаврищев”5.
2См. Военно-исторический журнал, 1992, N? 2.
3Жуков Г.К» Указ, соч., с. 331.
4Архив Политбюро ЦК КПСС, ф. 73, оп. 2, д. 3, с. 33—44.
5Там же. Личный архив Сталина, ф. 45, д. 413, л. 44—44об^
В. М. Молотов — первый заместитель Председателя Совнаркома СССР, нарком иностранных дел;
С.К. Тимошенко — Маршал Советского Союза, нарком обороны; Г.К. Жуков — генерал армии, началь¬
ник Генштаба; Н. Ф. Ватутин — генерал-лейтенант, первый заместитель начальника Генштаба;
П.Ф. Жигарев — генерал-лейтенант авиации, начальник Главного управления ВВС; Д.Г. Пав¬
лов — генерал армии, командующий войсками Западного Особого военного округа
(ЗапОВО); Ф.И. Кузнецов — генерал-полковник, командующий войсками Прибалтийского
4
Кроме того, Василевский останавливается на методологии разработки плана
и его представлении Сталину и другим членам Политбюро, а также на его юри¬
дической стороне. Это важный момент потому, что никаких виз после рассмот¬
рения документов у Сталина на них не ставилось. И только продолжение работы
по плану, подготовка исполнительных документов позволяют делать вывод о
его одобрении. В настоящее время довоенные оперативные планы стратегичес¬
кого развертывания советских войск рассекречены6.
В интервью отмечены серьезные ошибки и просчеты политического и воен¬
ного руководства, отразившиеся в разработанном по состоянию на 15 мая 1941 г.
оперативном плане войны. К ним Василевский относит прежде всего следу¬
ющие:
- отсутствие ориентировки со стороны Советского правительства о вероят¬
ности и приблизительных сроках нападения Германии как отправной точки
во всех расчетах и делах;
- недооценку немецкой армии, ее возможностей как армии воюющей, про¬
шедшей школу современной войны, полностью изготовившейся к боевым дей¬
ствиям;
- недопонимание особенностей второй мировой войны, когда войны не
объявляются, а начинаются внезапно, для чего принимаются все меры сокры¬
тия подготовительных мероприятий;
- нерешительность политического руководства, лично Сталина и его окру¬
жения в приведении вооруженных сил в полную боевую готовность в условиях
явной угрозы и неизбежности нападения со стороны Германии.
В заключение А.М. Василевский отмечает, что причины, поставившие наши
вооруженные силы и в целом Советский Союз летом 1941 г. в катастрофическое
положение, кроются не в отсутствии оперативного плана, а в том, что войска
своевременно не были приведены в боевую готовность и не оказались там, где
им надлежало быть даже по этому несовершенному плану.
Интервью А.М. Василевского - ценный документ, существенно дополняющий
наши представления о начальном периоде Великой Отечественной войны.
Генерал-полковник Ю.А. Горьков
военного округа (ПрибВО); П.А. Диброва — корпусной комиссар, член Военного Совета
ПрибВО; М.М. Попов — генерал-лейтенант, командующий войсками Ленинградского воен¬
ного округа (ЛенВО); Н.Н. Клементьев - корпусной комиссар, член Военного Совета ЛенВО;
Я.Т. Черевиченко - генерал-лейтенант, командующий войсками Одесского военного округа
(ОдВО); А.Ф. Колобяков — корпусной комиссар, член Военного Совета ОдВО; М.П. Кир-
понос — генерал-полковник, командующий войсками Киевского Особого военного округа
(KOBO); Н.Н. Вашугин — член Военного Совета KOBO; И.И. Копец — генерал-майор авиа¬
ции, командующий ВВС ЗапОВО; А.П. Ионов — генерал-майор авиации, командующий ВВС
ПрибВО; А.А. Новиков — генерал-майор авиации, командующий ВВС ЛенВО; Е.С. Птухин —
генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС KOBO; Ф.Г. Мичугин — генерал-майор авиа¬
ции, командующий ВВС ОдВО; Лаврищев — инициалы и занимаемая должность не уста¬
новлены.
Находятся в Центральном архиве Министерства обороны России (ЦАМО), ф. 16А,
оп. 2951.
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ*
Вопрос. Авторы некоторых мемуаров высказывают мысль о том, что Совет¬
ский Союз вступил в Великую Отечественную войну не имея плана отражения
внезапного нападения врага. Что вы можете сказать об этом?
Ответ: Говорить что-либо об истории оперативного плана наших Вооружен¬
ных сил в целом я не имею возможности, так как до 1940 г. не имел к нему не¬
посредственного отношения.
В мае месяце 1940 г. приказом Наркома Обороны тов. С.К. Тимошенко я,
работавший с 1938 г., после Академии Генерального штаба, сначала начальни¬
ком отдела, а затем помощником начальника Оперативного управления Ген¬
штаба по оперативной подготовке, был назначен Заместителем Начальника Опе¬
ративного управления Генштаба, которое возглавлял в то время тов. Г.К. Ма-
ландин. С момента назначения основными моими обязанностями явилась рабо¬
та над оперативным планом по северному, северо-западному и западному нап¬
равлениям. По юго-западу и по ближнему востоку подобную работу вел другой
заместитель начальника Оперативного управления тов. А.Ф. Анисов. Помимо
руководства, которое мы ежедневно получали от тов. Маландина, этой работой
руководили Первый заместитель Начальника Генерального штаба Ватутин Н.Ф.
и сам Начальник Генерального штаба К.А. Мерецков, а затем и сменивший его
Г.К. Жуков. Правда, в период с ноября 1940 г. по февраль 1941 г. я не участ¬
вовал в этой работе: в ноябре - в связи с поездкой в Берлин в составе Государ¬
ственной делегации, в декабре - январе в связи с болезнью.
Непосредственное участие начиная с мая 1940 г. в работе над оперативным
планом, я думаю, позволяет мне ответить на поставленный вопрос: был ли у
нас, в Вооруженных Силах, к моменту вступления Советского Союза в Великую
Отечественную войну, оперативный план, а если и был, добавлю от себя, то
чего он стоил?
На примере печальных и крайне тяжелых для страны в целом и особенно
для ее Вооруженных Сил событий начального периода Великой Отечественной
войны авторы мемуаров отрицают наличие у нас предвоенных планов отраже¬
ния внезапного нападения фашистов, но архивные материалы, да и руководя¬
щий состав Вооруженных Сил предвоенного периода и все лица, имевшие не¬
посредственное отношение к этому вопросу, говорят о том, что оперативный
план войны против Германии в наших Вооруженных Силах существовал и что
он был отработан не только в Генеральном штабе, но и детализирован коман¬
дующими войсками и штабами западных приграничных военных округов Со¬
ветского Союза.
Невольно спрашивается, в чем же дело, где и как можно найти следы этого
плана на фоне катастрофических событий начального периода Великой Оте¬
*С текстом интервью 6 декабря 1965 г. ознакомился Г.К. Жуков и на первом листе до¬
кумента написал: "Объяснение А.М. Василевского не полностью соответствует действи¬
тельности. Думаю, что Сов. Союз был бы скорее разбит, если бы мы все свои силы накануне
войны развернули на границе, а немецкие войска имели в виду именно по своим планам
в начале войны уничтожить их в районе гос. границы.
Хорошо, что этого не случилось, а если бы главные наши силы были разбиты в районе
гос. границы, тогда бы гитлеровские войска получили возможность успешнее вести войну,
а Москва и Ленинград были бы заняты в 1941 г. Г. Жуков. 6.XII.65 г." — Прим, публи¬
катора.
6
чественной войны? Вопрос законный. Но попытки найти эффективные следы
этого плана в действиях наших войск, к которым привели их первые дни вой¬
ны, напрасны. Почему?
Постараюсь ответить на этот вопрос, исходя из того, что мне известно.
Наш последний предвоенный оперативный план войны резко отличался от
того плана, который имели наши Вооруженные Силы до 1939 г.
Начало второй мировой войны, целый ряд политических событий и те круп¬
ные мероприятия, которые были осуществлены Коммунистической партией и
Советским правительством в 1939-1940 гг. с целью дальнейшего обеспечения
безопасности своих северо-западных и западных государственных границ, вы¬
нудили Советское правительство и военное командование не только внести
коренные изменения в старый план, но и заново переработать его.
Одним из важнейших мероприятий, призванных к значительному усилению
обороноспособности нашей Родины в результате событий 1939-1940 гг., как из¬
вестно, явилась передвижка наших северо-западных и западных границ на 150—
300 км на запад, увеличившая] тем самым расстояние от границы до жизненно
важных центров нашей страны.
В связи с этим в начале 1940 г. перед руководством Генерального штаба,
Наркомата обороны и перед Советским правительством неизбежно встал воп¬
рос о том, как в условиях начавшейся второй мировой войны более надежно и
быстро перестроить оборону своего государства на его северо-западных и за¬
падных границах.
Коммунистическая партия Советского Союза, являвшаяся во все времена
последовательным сторонником мирного разрешения всех международных спо¬
ров и конфликтов, стремилась, тем более в условиях уже начавшейся второй
мировой войны, держать страну готовой ко всяким неожиданностям. Она воспи¬
тывала и готовила наши Вооруженные Силы не только к отпору внезапного на¬
падения врага, но и к тому, чтобы встречными мощными ударами и широкими
наступательными операциями в последующем полностью уничтожить воору¬
женные силы агрессора.
Этими правильными, предельно точными и понятными требованиями нашей
Партии и Правительства в вопросах обороноспособности страны были пронизаны
и все предвоенные уставы и наставления наших Вооруженных Сил.
Несмотря на это, при решении вопроса в 1940 г. о перестройке обороны страны
Советским правительством и руководством Наркомата обороны были допуще¬
ны крупные ошибки и просчеты стратегического порядка, которые неизбежно
легли и в основу будущего оперативного плана.
Говоря об этих ошибках, надо прежде всего сказать об отсутствии в пере¬
стройке обороны страны прямого ответа на основной вопрос - о вероятности
нападения на нас фашистской Германии, не говоря уже об определении хотя бы
примерных сроков этого нападения, в связи с чем жестко не лимитировались
и сроки выполнения тех мероприятий, которые предусматривались этими ре¬
шениями. Допущена была также грубая ошибка и в определении тех огромных, совер¬
шенно готовых и прошедших уже некоторую школу ведения современной вой¬
ны сил фашистской Германии, которые фактически в крайне сжатые сроки
могли быть сосредоточены и развернуты на нашей границе.
Нельзя пройти мимо и такого решения Правительства, по которому все войс¬
ка западных приграничных округов подлежали немедленной передислокации
из полностью оборудованных в оборонном отношении старых районов на во¬
шедшие в состав Советского Союза новые территории. Совершенно правильным
было решение немедленно приступить к инженерно-техническому оборудова¬
нию новых приграничных районов в оборонном отношении, с постройкой в них
7
хорошо развитых в глубину, современных по тому времени оборонительных
рубежей, с переоборудованием и развертыванием в них путей сообщений и
линий связи. Но, вопреки возражениям Начальника Генерального штаба
Б.М. Шапошникова, было принято совершенно необоснованное решение о ра¬
зоружении и демонтаже всех укреплений, построенных с таким трудом на про¬
тяжении целого ряда лет на прежней нашей границе. В результате этого, как
известно, Вооруженные Силы в ответственный момент оказались без оборудо¬
ванных рубежей для обороны и развертывания войск как на новой, так и на ста¬
рых границах*.
Немало ошибок было допущено при разработке нового оперативного плана
и руководством Генерального штаба, а также и непосредственными исполни¬
телями, работавшими над этим планом.
Исходя при разработке плана, казалось бы, из правильного положения,
что современные войны не объявляются, а они просто начинаются уже изгото¬
вившимся к боевым действиям противником, что особенно характерно было
продемонстрировано фашистским руководством Германии в первый период
второй мировой войны, соответствующих правильных выводов из этого поло¬
жения для себя руководство нашими Вооруженными Силами и Генеральным
штабом не сделало и никаких поправок в оперативный план в связи с этим не
внесло. Наоборот, план по старинке предусматривал так называемый началь¬
ный период войны продолжительностью 15-20 дней от начала военных дейст¬
вий до вступления в дело основных войск страны, на протяжении которого
войска эшелонов прикрытия от приграничных военных округов, развернутых
вдоль границ, своими боевыми действиями должны были прикрывать отмо¬
билизование, сосредоточение и развертывание главных сил наших войск. При
этом противная сторона, т.е. фашистская Германия с ее полностью отмобилизо¬
ванной и уже воюющей армией, ставилась в отношении сроков, необходимых
для ее сосредоточения и развертывания против нас, в те же условия, что и наши
Вооруженные Силы.
Все стратегические решения высшего военного командования, на которых
строился оперативный план, как полагали работники Оперативного управле¬
ния, были утверждены Советским правительством. Лично я приходил к этой
мысли потому, что вместе с другим заместителем Начальника Оперативного
управления тов. Анисовым в 1940 г. дважды сопровождал, имея при себе опе¬
ративный план вооруженных сил, Заместителя Начальника Генштаба тов. Ва¬
тутина в Кремль, где этот план должен был докладываться Наркомом обороны
и Начальником Генштаба И.В. Сталину. При этом нам в обоих случаях прихо¬
дилось по нескольку часов ожидать в приемной указанных лиц с тем, чтобы
получить от них обратно переданный им план, за сохранность которого мы от¬
вечали. Никаких пометок в плане или указаний в дальнейшем о каких-либо
поправках к нему в результате его рассмотрения мы не получили. Не было на
плане и никаких виз, которые говорили бы о том, что план был принят или
отвергнут, хотя продолжавшиеся работы над ним свидетельствовали о том, что,
по-видимому, он получил одобрение.
Несколько слов о том, когда и как создавался оперативный план.
На основе принятых Советским правительством и Высшим военным коман¬
дованием стратегических решений план большой войны на западе нашей Ро¬
дины, как часть общего плана войны, был отработан Генеральным штабом с
соответствующими органами Наркомата обороны и с командованием западных
*Рукой Г.К. Жукова на полях документа написано: ”Это было решение Главного Воен¬
ного] с[овета] по предложению Кулика и Шапошникова”. — Прим, публикатора.
8
приграничных военных округов и полностью увязан с мобилизационным пла¬
ном вооруженных сил. Одновременно в соответствии с планом были разработа¬
ны расчеты и графики по переброске войск и всего необходимого для них из
глубины страны в районы сосредоточения, по котором совместно с НКПС был
детально разработан план перевозок и предусмотрены все мероприятия по на¬
коплению и своевременной подаче к местам погрузки необходимых подвиж¬
ного состава и тяги.
Командующие войсками, члены Военных советов, начальники штабов и
оперативных управлений Ленинградского, Прибалтийского, Западного и Киев¬
ского военных округов во второй половине 1940 и в начале 1941 г. вызывались
в Генеральный штаб, где на основе оперативного плана Генштаба целыми не¬
делями работали в Оперативном управлении над своими окружными пла¬
нами.
Отработка, как правило, начиналась с выработки решения о выделении необ-
димых сил для эшелонов прикрытия и о порядке их использования. Для от¬
работки отдельных специальных вопросов, возникавших при разработке плана,
командующим войсками разрешалось вызывать соответствующих команду¬
ющих родов войск и начальников служб своего округа. Все принципиальные
решения, принимаемые командованием округов по разрабатываемому плану,
немедленно докладывались ими Начальнику Генштаба, а затем и наркому обо¬
роны.
За несколько недель до нападения на нас фашистской Германии, точной
даты, к сожалению, назвать не могу, вся документация по окружным опера¬
тивным планам была передана Генштабом командованию и штабам соответ¬
ствующих военных округов.
В январе 1941 г., когда близость войны уже чувствовалась вполне отчетливо,
основные моменты оперативного плана были проверены на стратегической
военной игре с участием высшего командного состава вооруженных сил. Игру
проводили Народный комиссар обороны С.К. Тимошенко и Начальник Генераль¬
ного штаба тов. К.А. Мерецков. За ходом игры, особенно за разбором ее, наб¬
людали И.В. Сталин и некоторые другие члены Политбюро.
Как известно, переброска основных сил фашистских войск из Германии и с
территории оккупированных стран Европы к советско-германским границам
начала производиться с февраля 1941 г. Поступавшие в Генеральный штаб,
Наркомат обороны и Наркомат иностранных дел данные о лихорадочной под¬
готовке фашистской Германии к агрессии против СССР, развертывание немцами
у наших государственных границ полностью отмобилизованных, технически
оснащенных и в большинстве своем имевших уже боевой опыт ведения совре¬
менной войны крупных вооруженных сил врага, казалось бы, не только позво¬
ляли Генеральному штабу, руководству Наркомата обороны и Правительству
понять неизбежность готовившегося нападения на нас, но и требовали в связи
с этим немедленного приведения всех вооруженных сил в полную боевую го¬
товность, немедленного проведения в стране войсковой мобилизации, сосре¬
доточения и развертывания на западных государственных границах всех от¬
мобилизованных войск в соответствии с оперативным планом.
Проведение этих мероприятий в мае и даже в начале июня 1941 г., несмотря
на далеко не полную готовность нового пограничного района в оборонном от¬
ношении и на то, что целый ряд решений Партии и Правительства, направленных
за последние два года на резкое повышение боеспособности наших войск, не
были завершены, могли бы безусловно резко изменить военную обстановку в
начальный период войны в нашу пользу и, по всей вероятности, спасти нашу
страну от того катастрофического положения, в каком она оказалась в 1941-
1942-гг.
о
Но, к великому сожалению и несчастью для всего Советского народа, все
эти столь необходимые для страны мероприятия своевременно проведены в
жизнь не были. Поэтому, изучая причины, которые не только не позволили
нашим Вооруженным Силам отразить удар фашистских войск на нашу страну,
но и поставили ее в катастрофическое положение, надо говорить прежде всего
не о том, существовал ли в Вооруженных Силах Советского Союза к моменту
нападения на нас фашистской Германии план отражения этого нападения, а о
том, почему наши Вооруженные Силы не были приведены своевременно в пол¬
ную боевую готовность и не оказались там, где им надлежало быть даже по
этому далеко не совершенному плану.
Основными причинами этого, как нам известно, были: настойчивое отрица¬
ние И.В. Сталиным возможности войны с фашистской Германией в ближайшее
время, переоценка им значения советско-германского договора, чрезмерная
уверенность его в том, что политическими и дипломатическими мерами ему
удастся оттянуть начало войны Германии против нас, и его боязнь, что приве¬
дение наших войск в боевую готовность, отмобилизование и выдвижение их
к нашим западным границам может послужить Германии поводом для объяв¬
ления войны нам.
Говоря об этом, считаю своим долгом сказать и о том, что, как было известно
ответственным работникам Генерального штаба, нарком обороны тов. Тимо¬
шенко неоднократно обращался в мае и июне 1941 г. с просьбами к И.В. Стали¬
ну о необходимости проведения немедлеййой общей мобилизации страны или
об отмобилизовании хотя бы войск, предназначенных оперативным планом к
развертыванию вдоль наших западных границ, но разрешения на это не полу¬
чил. Известно было также и то, что предоставленные законом наркому обороны
права на призыв в армию некоторых возрастов из запаса для участия их в учеб¬
ных сборах или маневрах им были использованы полностью, но это позволило
лишь частично укомплектовать некоторые войсковые соединения в пригранич¬
ных военных округах. Настоящая же войсковая мобилизация, как мы знаем,
для 14 военных округов указом Президиума Верховного Совета СССР была
объявлена лишь в середине первого дня нападения на нас фашистской Герма¬
нии.
Несколько слов по поводу некоторых аналогичных обвинений в адрес Нар¬
комата обороны и Генерального штаба, которые мы находим на страницах
’’Краткой истории Великой Отечественной войны” по этим вопросам.
Так, мы читаем, что ’’слабая боевая готовность Красной Армии в значитель¬
ной мере была обусловлена ошибками руководства Наркомата Обороны и Ген¬
штаба, допущенными при планировании сосредоточения и развертывания войск
на случай войны. Генеральный штаб слишком поздно взялся за разработку пла¬
на прикрытия границ...”.
’’Запоздалая разработка такого серьезного документа, как план прикры¬
тия, несвоевременный ввод его в действие, а также медлительность советского
военного командования в сосредоточении и развертывании Красной Армии в
условиях непосредственной угрозы войны привели к тому, что группировка
советских войск к моменту нападения немецко-фашистской армии оказалась
несоответствующей требованиям обстановки”1.
Если под ошибкой, допущенной Генштабом при планировании сосредоточе¬
ния и развертывания войск на случай войны, авторы труда имеют в виду рас- *
Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история. Воениздат.
М., 1965, с. 7. (В указанном издании приводимые А.М. Василевским цитаты отсутствуют.
Вероятно, он ссылается на макет, присланный ему, как указано в книге (с. 619), для кон¬
сультации. — Прим, публикатора.)
К)
тянутые сроки, предусмотренные для этой цели планом, то в этом случае я
должен сказать, что при планировании перевозок от транспорта и от войск
было взято буквально все для того, чтобы в предельно короткие сроки доста¬
вить войска и все необходимое для них в районы сосредоточения. Не в пла¬
нировании сосредоточения и развертывания надо искать причины столь позд¬
него прибытия и разрозненного вступления в бой главных сил нашей армии,
а в том, что, как уже и говорилось выше, отмобилизование, сосредоточение и
развертывание вооруженных сил не только не было произведено своевременно,
а началось и осуществлялось после того, как большинство из районов сосредо¬
точения в приграничных округах было уже занято противником и когда о
плановом развертывании войск или о создании намечавшихся планом груп¬
пировок уже не могло быть и речи. Сосредоточиваемые войска вынуждены
были в большинстве своем выгружаться в случайных для них районах, а раз¬
вертывание и ввод их в бой, иногда еще не в полном составе, происходили по
требованию боевой обстановки распорядительным порядком на местах.
Что можно сказать о запоздалой разработке Генеральным штабом ’’такого
серьезного документа”, каким являлся план прикрытия и о несвоевременном
вводе его в действие?
Как уже говорилось выше, не в запоздалой разработке планов прикрытия надо
обвинять Генеральный штаб, а в той серьезнейшей ошибке, которая была до¬
пущена в оперативном плане и своевременно практически не исправлена при
решении вопроса о порядке действительно надежного прикрытия наших за¬
падных границ от внезапного и мощного удара врага в условиях той военной
обстановки, которая сложилась для нас в первой половине 1941 г.
Как известно, ’’для осуществления плана нападения на Советский Союз гер¬
манское командование выделило 152 дивизии, в том числе 19 танковых и 14 мо¬
торизованных, что составляло 77 проц, общей численности действующих немец¬
ких войск. Страны - сателлиты Германии выставили против СССР 29 дивизий,
а всего на границах СССР были сосредоточены 181 дивизия и 18 бригад, 48 000
орудий и минометов, около 2800 танков и штурмовых орудий и 4950 само¬
летов. Общая численность фашистской Германии и ее сателлитов на востоке
составляла 5 500 000 человек, из них 4 600 000 немцев”2.
Какой силы, спрашивается, нужны были на границе с нашей стороны войско¬
вые эшелоны, которые в состоянии были бы отразить удары врага указанной
выше силы и прикрыть сосредоточение и развертывание основных вооружен¬
ных сил страны в приграничных районах? По-видимому, эта задача могла быть
посильной лишь только главным силам наших Вооруженных Сил при обязатель¬
ном условии своевременного приведения их в полную боевую готовность и с
законченным развертыванием их вдоль наших границ до начала вероломного
нападения на нас фашистской Германии.
Полную возможность к этому страна имела. Подлинные причины, не позво¬
лившие выполнить это советскому народу, теперь известны.
Архив Политбюро ЦК КПСС, ф. 73, оп. 2, д. 3,
л. 30-44. Машинописный экз.
Публикацию подготовил Ю.Г. Мурин
Текст печатается по оригиналу, без купюр и исправлений.
2 (Сноска А.М. Василевским не указана. Соответствующие цифровые данные име¬
ются в книге "Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история"
на с. 33. — Прим, публикатора .)
11
Статьи
© 1992 г.
Ф.И. ФИРСОВ
АРХИВЫ КОМИНТЕРНА
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 1939-1941 гг.
В архивах Коминтерна за 1939-1941 гг. содержится ценный материал для по¬
нимания внешней политики СССР в начальный период второй мировой войны.
До сих пор отечественные историки писали о деятельности Коминтерна без
привлечения архивных документов. В настоящей статье впервые широко ис¬
пользованы архивные материалы, позволяющие более детально осветить дейст¬
вия Коминтерна в связи с внешней политикой СССР в рассматриваемые годы.
Коминтерн, основанный в 1919 г. как руководящий центр мировой революции,
в ходе своего развития трансформировался в инструмент сталинизма на миро¬
вой аране. По меткому выражению одного из первых борцов со сталинизмом
хМ.Н. Рютина, он превратился ’’после разгрома всех оппозиций и соратников Ле¬
нина, после утверждения личной диктатуры Сталина в ВКП(б) и Коминтерне
просто в канцелярию Сталина по делам компартий” \ Режим сталинщины, при¬
несший муки, страдания, гибель многим миллионам советских людей, обрек¬
ший общество на деградацию, которая была представлена как торжество социа¬
лизма и образец для всего человечества, использовал Коминтерн для своей
политической маскировки. Эта организация, опустошенная террором, защищала
и пропагандировала Советский Союз, поскольку с ним коммунисты связывали
свои надежды на революционное преобразование мира. В нем они видели силу,
способную противостоять фашизму, разжигавшему пожар мировой войны.
Противоречия в деятельности Коминтерна, который в своих отношениях с
компартиями должен был учитывать реальное положение вещей и в то же вре¬
мя вынужден был действовать согласно сталинской внешней политике, прояви¬
лись наиболее остро в канун второй мировой войны. С одной стороны, Комин¬
терн пытался реализовать установки VII конгресса и обеспечить создание фрон¬
та мира. С другой, - послушно повторяя измышления сталинской пропагандист¬
ской машины, давал директивы компартиям о преследовании троцкистов как
’’злейших агентов фашизма”, вел яростную кампанию в печати против тех, кто
посмел раскрыть истинный характер массового террора в СССР.
Руководители Коминтерна не только оказались беспомощными в связи с
репрессиями, обрушившимися на политэмигрантов и работников аппарата Ко¬
минтерна, но и, следуя сталинскому диктату, санкционировали роспуск Ком¬
партии Польши. Это, по существу, являлось политическим оправданием ста¬
линского террора против польских коммунистов. Массовые репрессии, по¬
зорные судебные процессы 30-х годов, дискредитация Советской страны в гла¬
зах многих демократов, сознававших чудовищный характер преступлений ста¬
1 Платформа ’’Союза марксистов-ленинцев” (группа Рютина) - Известия ЦК КПСС, 1990,
№11, с. 169.
12
линщины, роковым образом препятствовали сплочению антифашистских, миро¬
любивых сил. Однако лидеры Коминтерна не хотели этого видеть и вновь стали
выдвигать против руководства Рабочего социалистического интернационала об¬
винение в том, что оно-де стремится к организации империалистической агрес¬
сии против СССР.
После оккупации Германией Чехословакии в марте 1939 г. ситуация стала
взрывоопасной. Руководители Коминтерна в указаниях компартиям призывали
их усилить борьбу-для достижения сотрудничества западных держав с СССР.
11 июля Секретариат ИККИ в телеграмме генеральному секретарю ЦК Фран¬
цузской компартии М. Торезу и представителю Коминтерна во Франции Клеману
(Э.Фриду) подчеркивал: ’’Затягивание переговоров английским и французским
правительствами с СССР подготавливает дальнейшую капитуляцию перед аг¬
рессорами. План реакции состоит в том, чтобы ответственность за капитуляцию
возложить на СССР. Вы должны в Европе мобилизовать массы, чтобы сорвать
этот план. Войдите в контакт со всеми компартиями, чтобы развернуть общую во
всех странах кампанию. Мобилизуйте все сочувствующие организации”2.
Секретариат ИККИ нацеливал компартии на то, чтобы организовать мощные
выступления в защиту мира. 15 июля Секретариат утвердил директиву компар¬
тиям. В ней говорилось: ’’Просим передать всем коммунистам следующие ука¬
зания: необходимо использовать первое августа, двадцатипятилетие первой
империалистической войны, для кампании против фашистских агрессо¬
ров, изобличения двуличной политики английских и французских прави¬
тельств, затягивающих переговоры с СССР в целях подготовки новых капитуля¬
ций, второго Мюнхена3. Необходимо развернуть беспощадную критику капи¬
тулянтов из II-го и Амстердамского интернационалов, помогавших фашизму уду¬
шить Испанскую республику, расчленить и занять Чехословакию, ведущих ан¬
тисоветскую кампанию и срывающих единый фронт рабочего класса и единство
антифашистского действия... Форма кампании: статьи в печати, митинги с учас¬
тием коммунистов других стран; желательно организовать интернациональные
митинги в Париже, Лондоне, Брюсселе, Стокгольме. В фашистских странах -
листовки, летучки и прочее. Секретариат”4. Однако массового движения орга¬
низовать не удалось.
Руководство ИККИ в советах и указаниях коммунистическим партиям при¬
зывало сочетать борьбу против нараставшей угрозы агрессии германского фа¬
шизма с критикой капитулянтства перед ним реакционных сил в собственных
странах.
В том же июле генеральный секретарь Коминтерна Г.Димитров и кандидат
в члены Секретариата ИККИ В.Флорин узнали из письма председателя ЦК ком¬
партии Дании (КПД) А.Ларсена о том, что некоторые члены руководства КПД
выступали за то, чтобы концентрировать деятельность партии на борьбе за улуч¬
шение условий жизни трудящихся, оставив в стороне вопросы внешней полити¬
ки. А именно в это время парламент страны ратифицировал пакт о ненападении
с Германией. 16 июля в ответном письме КПД Димитров разъяснял: ’’Все демок¬
ратические, экономические, социальные, культурные требования рабочих и
трудящихся Дании зависят от победы или поражения в борьбе против фашизма.
Поэтому успешно борьбу за эти требования можно вести только в теснейшей
2 Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее —
РЦХДНИ), ф. 495, оп. 184, д. 16 (исход. 1939), л. 59.
3 Слова ”второго Мюнхена” вписаны в машинописный текст директив Г.Димитровым.
4 РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1286, л. 267; Коминтерн и советско-германский договор о
ненападении. — Известия ЦК КПСС, 1989, № 12, с. 202. Часть подготовленного автором текста
была опубликована в журнале как аналитический материал.
13
связи с борьбой против внешней политики... Главный враг рабочего класса и
народа Дании - фашистский агрессор извне и фашисты внутри страны, которые
действуют сообща, причем часть датских фашистов является прямой агентурой
германского фашизма”5. Эту линию на акцентирование борьбы против германско¬
го фашизма руководители Коминтерна продолжали вплоть до подписания со¬
ветско-германского пакта.
22 августа, накануне приезда Риббентропа в Москву, Секретариат ИККИ при¬
нял постановление ”06 антисоветской кампании по поводу переговоров между
СССР и Германией”. В нем рекомендовалось компартиям перейти в наступление
против буржуазной и социалистической печати со следующей установкой:
эвентуальное заключение пакта о ненападении между СССР и Германией не иск¬
лючает возможности и необходимости соглашения между Англией, Францией
и СССР для совместного отпора агрессорам. Подчеркивалось: ’’Своей готов¬
ностью заключить с Германией пакт о ненападении СССР помогает соседним
малым прибалтийским странам и действует в защиту всеобщего мира... Этим
СССР срывает планы буржуазных, реакционных кругов и капитулянтов Второго
Интернационала, стремящихся направить агрессию против страны социализма...
СССР разъединяет агрессоров, освобождает себе руки против агрессии Японии
и в деле помощи китайскому народу... Наконец, переговоры с Германией могут
понудить правительства Англии и Франции перейти от пустых разговоров к
скорейшему заключению пакта с СССР”. Постановление заканчивалось указа¬
нием ”о необходимости продолжать с еще большей энергией борьбу против
агрессоров, в особенности против германского фашизма”6.
Руководству ИККИ ничего не было известно о секретных протоколах. Оно не
знало, что И.В. Сталин и В.М. Молотов пошли на сговор с Гитлером, признали
разграничение ’’сферы интересов обеих стран” и допустимость ’’территориально¬
политического переустройства”, что по сути дела означало имперский метод
раздела мира. Подчеркивание в постановлении Секретариата ИККИ необходи¬
мости активизации борьбы против германского фашизма и утверждение, что
после подписания этого договора сохранится возможность заключения пакта
между СССР, с одной стороны, Великобританией и Францией - с другой, сви¬
детельствуют, что руководство ИККИ не предвидело всех последствий договора
и дезориентировало партии, поскольку в действительности такой возможности
больше не существовало. Тем самым руководители Коминтерна оказались за¬
ложниками сталинской внешней политики, которая осуществила крутой, пово¬
рот в сторону сближения с гитлеровской Германией7.
Подписание пакта вызвало серьезное замешательство в коммунистическом
движении, резко ослабив в глазах демократически настроенных масс западно¬
европейских стран авторитет компартий' выступивших в духе рекомендаций
Секретариата ИККИ.
Димитров 27 августа послал Сталину, Молотову и А.А. Жданову подборку
материалов о позиции компартий в связи с заключением договора о ненападе¬
нии. В ней отсутствовали сведения о негативной реакции на подписание дого¬
вора. Из французских материалов цитировалась статья секретаря ЦК ФКП
М.Життона в газете ”Се Суар”. В ней, в частности, говорилось: ”То, что Советс¬
кий Союз вынуждает Германию к заключению пакта о ненападении именно
5 РЦХДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 181, л. 55-56.
6 Там же, оп. 18, д. 1291, л. 142—143.
7 Судя по дневниковым записям Г.Димитрова, помимо заседания ИККИ, состоявшегося
22 августа, 25 августа Секретариат ИККИ вновь обсудил вопрос о пакте. Была выработана
и послана директива партиям. Однако в архиве Коминтерна ее текст обнаружить не удалось.
14
в данный момент, является победой мира. Следовательно, это такое достиже¬
ние, которое принесет пользу международному рабочему классу и народам все¬
го мира”8. В декларации Политбюро ЦК ФКП, опубликованной 25 августа, было
сказано: ’’Признав мощь страны социализма, Гитлер обнаружил тем самым свою
собственную слабость. Советский Союз одержал успех и мы его с радостью при¬
ветствуем, так как он служит делу мира... Все знают, что пакт своим единствен¬
ным следствием будет иметь укрепление мира, не лишит ни одного народа его
свободы и не выдаст ни одного вершка территории в Европе и ни одной коло¬
нии”9. Далее подчеркивалось, что компартия, более чем когда-либо, является
непримиримым врагом международного фашизма, прежде всего гитлеровского
фашизма, наиблее зверского и главного поджигателя войны и противника де¬
мократии.
Заявление ЦК компартии Великобритании, опубликованное 22 августа, конс¬
татировало: ’’Торговое и кредитное соглашение между СССР и Германией и про¬
ектируемый пакт ненападения представляют победу мира и социализма над
военными планами фашизма и над профашистской политикой Чемберлена...
Гитлер вынужден признать мощь Советского Союза, и это является благодетель¬
ным ударом по его агрессивной политике в Восточной Европе и заодно ударом
по политике Чемберлена, желавшего войны между Германией и СССР... Если
Польша и лимитрофы желают пактов взаимопомощи, то пусть они немедленно
вступят в открытые переговоры с Советским правительством”10 11. В заявлении
выдвигалось требование немедленного заключения Великобританией пакта с
СССР.
В материалах подборки излагалось выступление генерального секретаря ком¬
партии США Э.Браудера 23 августа на приеме представителей печати в Нью-
Йорке. Он, в частности, сказал: ’’Шаг, предпринятый Советским Союзом, явля¬
ется очевидным вкладом в дело спасения всеобщего мира, находящегося под
угрозой... Эти переговоры являются замечательным образцом для всякой стра¬
ны, которой угрожает Германия, и они показывают, как можно заставить Гер¬
манию согласиться на прекращение агресии. Если пакт подписывают, то де¬
лают это потому, что Гитлер считает невозможным напасть на Советский Союз.
Таким образом, и в отношении Польши он должен быть поставлен перед подоб¬
ным же факто’м невозможности нападения”1 х.
В подборке было приведено заявление ЦК компартии Италии (ИКП), опубли¬
кованное 25 августа. В нем переговоры о пакте приветствовались ’’как фактор,
который ослабит нынешнее международное напряжение, преградит путь войне
и защитит мир, свободу и независимость народов”12.
Кроме того, в подборку были включены также выдержки из статей, помещен¬
ных в газетах компартий Дании, Белый, Швейцарии, Голландии, в которых так¬
же подписание пакта расценивалось, как вклад в укрепление мира и срыв за¬
мыслов поджигателей войны. Эти материалы свидетельствовали, что компар¬
тии, как и руководство Коминтерна, не рассматривали заключение договора
как отказ от борьбы с фашизмом и отнюдь не занимали позицию ее прекраще¬
ния. Они осознали и позитивно оценили тот факт, что была сорвана возможность
создания единого фронта империалистических держав против СССР..
8РЦХДНИ, ф. 495, ОП. 73, д. 67, л. 45.
9 Там же, л. 48-49. В тот же день правительство запретило издание коммунистических
газет ’’Юманите” и ”Се Суар”.
10 Там же,л. 50—51.
11 Там же, л. 52—53.
12Там же, л. 54—55.
15
Однако оценка пакта как фактора, укреплявшего мир и содействовавшего
не только защите СССР, но и малых народов, была ошибочной. Осуждая нежела¬
ние Великобритании и Франции подписать соглашение с СССР, Коминтерн и ком¬
партии не увидели направленности этого договора против Польши, в то время
как в действительности разграничение в секретном приложении к договору
’’сфер интересов” Германии и СССР предрешало вопрос о судьбе Польши и при¬
балтийских стран. У Германии были тем самым развязаны руки для нападения
на Польшу, а СССР оказался втянутым в план ее расчленения. Публичное одоб¬
рение пакта в свете последующих событий оказало плохую услугу авторитету
коммунистов в глазах масс.
27 августа Димитров и секретарь ИККИ Д.З. Мануильский сообщили Сталину,
что компартии ’’заняли правильную позицию в отношении советско-германско¬
го пакта о ненападении, срывающего расчеты поджигателей войны против СССР.
Компартии как подобает реагируют на бешеную антисоветскую кампанию бур¬
жуазной и социал-демократической печати”. Информировав о преследованиях,
обрушившихся на французскую компартию, они просили совета по вопросу
”о позиции партии к тем мероприятиям, которые проводит правительство Да¬
ладье в деле так называемой национальной защиты страны... Мы думаем, ком¬
партия дол.жна и впредь стоять на позиции сопротивления агрессии фашистской
Германии”13.
Из этого документа видно, что руководители Коминтерна еще не осознали,
что в отношениях между СССР и Германией наступили новые времена и Сталин
теперь по-иному смотрел на характер будущей войны и ее зачинщиков.
По-видимому ответа на письмо Димитров не получил, поскольку 4 сентября
в беседе с Ждановым он упомянул о нем. На следующий день Димитров послал
Жданову копию этого письма, сопроводив его словами: ’’Хотя это письмо и было
отправлено до начала войны, поднятый в нем вопрос стоит и сейчас перед фран¬
цузскими товарищами, конечно, уже в связи с их позицией в отношении
войны”14. О том, что ответа от Сталина не было, свидетельствует также приня¬
тая на заседании Секретариата ИККИ 1 сентября резолюция, посланная в виде
телеграммы Торезу. В ней упоминалась фашистская Германия, а также критико¬
валось как неправильное заявление о безоговорочной поддержке правительст¬
ва Даладье - Боннэ. Но именно по этому вопросу Димитров и Мануильский
запрашивали мнение Сталина 27 августа.
Секретариат ИККИ рекомендовал ФКП занять следующую позицию: ’’Своим
предательством Чехословакии, Испании, Мюнхеном, разрушением коллектив¬
ной безопасности правительство Даладье - Боннэ усилило фашистскую Герма¬
нию; следуя за политикой английских провокаторов войны против СССР, это
правительство оттолкнуло СССР и подвело французский народ к войне. Такому
правительству нельзя доверить оборону страны- Необходимо такое правительст¬
во, которое сплотило бы вокруг себя народ, а не разъединяло народные силы
преступным преследованием партии рабочего класса”15.
На заседании Секретариата ИККИ (в нем участвовали К.Готвальд, Х.Диас,
Г.Димитров, О.В. Куусинен, Д.З. Мануильский, А.Марти, В.Пик, В.Флорин) 1 сен¬
тября был обсужден вопрос ”о позиции компартий в связи с новым в между¬
народном положении”. Секретариат ИККИ констатировал, что компартии заняли
в основном правильную позицию в вопросе о советско-германском пакте. Об¬
суждение было решено продолжить на следующем заседании. Оно состоялось
13Коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 205.
14РЦХДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 517, л. 43.
15Там же, оп. 18, д. 1292, л. 1—2.
16
2 сентября. Комиссии, в которую вошли Димитров, Куусинен и Мануильский,
было поручено ’’выработать директиву компартиям на основе состоявшегося
обмена мнениями”16.
Секретариат ИККИ предпринимал в это время меры для обеспечения связи с
партиями, собирал информацию об их деятельности. 4 сентября Димитров пос¬
лал директиву представителям Коминтерна переехать из Франции в нейтральную
страну и создать там опорный пункт. Высказанная под видом коммерческого
указания эта директива выглядела следующим образом: ’’Необходимо Alfredo,
Clement, Luis17 переехать в нейтральную страну и там создать коммерческий
центр нашей фирмы. Этот центр должен сразу связаться с главной дирекцией,
установить связи с филиалами фирмы, проявить самую большую коммерческую
активность и не допустить, чтобы наши конкуренты использовали нынешнюю
ситуацию против интересов нашей фирмы”18. Клеман создал такой наблюдатель¬
ный пункт Коминтерна в Бельгии.
Комиссия Секретариата работала над проектом тезисов о войне и задачах
коммунистов, судя по дневниковой записи Димитрова, 5 сентября. Было сдела¬
но несколько набросков. В написанном Мануильским тексте о советско-гер¬
манском пакте говорилось: ’’Коммунисты всех стран с еще большей энергией,
чем до сих пор, всемерно поддерживают заключение советско-германского пак¬
та о ненападении”.
При определении характера войны и задач компартий учитывались как пред¬
шествующая (мюнхенская) политика западных держав, так и агрессивность
гитлеровской Германии, а также наличие германо-советского договора о нена¬
падении. Подчеркивалось, что германо-польская война, перераставшая в войну
Германии против Польши, Франции и Англии, ”не является справедливой вой¬
ной, а войной империалистической, направленной, с одной стороны (англо-
французско-польской), к сохранению границ насильнического Версальского
мира, с другой стироны (германской), к переделу Европы и колоний”. Делался вы¬
вод, что ни одна из компартий этих стран не может ни в коем случае солидари¬
зироваться с политикой своих правящих классов, приведших народы к новой
империалистической бойне. ’’Компартии обязаны разоблачать эту политику во
всех воюющих странах”19.
В то же время отмечалось, что ’’победа германского фашизма в войне несет
наибольшую опасность для международного рабочего движения. Поэтому долг
коммунистов всех стран, и в первую очередь коммунистов Германии, содейст¬
вовать поражению германского фашизма”. В отношении Польши выдвигались
от имени польского рабочего класса требования свержения ’’нынешнего прави¬
тельства, приведшего страну к катастрофе, создания правительства рабочих и
крестьян, могущего возглавить народную борьбу за национальную независи¬
мость Польши”.
Далее конкретизировались задачи компартий. Для компартии Чехословакии
лозунг поражения фашистской Германии увязывался с задачей национального
освобождения чехословацкого народа из-под гнета германского фашизма. Об
австрийских коммунистах говорилось, что они борются за отделение Австрии от
Фашистской Германии, стоят совместно с германской компартией на позициях
1бТам же, л. 13.
Alfredo — псевдоним секретаря ИККИ П.Тольятти, который 1 сентября был арестован
во Франции, Clement - Клеман, Luis- Л.Фишер - один из представителей Коминтерна во
Франции.
10РЦХДНИ, ф. 495, оп. 184, д. 4 (исход. 1939), л. 31.
19РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1302а, л. 57.
поражения германского фашизма. Коммунисты Великобритании, отмечалось
далее, требуют отставки правительства Чемберлена, приведшего английский
народ к войне, и создания левого лейбористского правительства. Во Франции
коммунисты добиваются замены правительства Даладье - Боннэ правительст¬
вом, ’’которое бы объединило народ, а не разъединяло его преступными пресле¬
дованиями партии рабочего класса, которое было способно организовать обо¬
рону страны, чего не сделал Даладье, будучи военным министром, которое бы¬
ло бы продолжением якобинских традиций Великой буржуазной французской
революции, которое сумело бы своей политикой внушить доверие всем анти¬
фашистам мира”20.
Таким образом, оценивая характер начавшейся войны как войны империа¬
листической с обеих сторон, руководители Коминтерна в то же время рассмат¬
ривали германский фашизм как главную опасность, как агрессора, поражению
которого обязаны содействовать коммунисты, а в отношении порабощенных
гитлеровской Германией стран выдвигали лозунг национального освобождения.
Признавалось, что польский народ в этой войне отстаивал свою независимость.
Выдвижение для Великобритании и, особенно. Франции требования новых,
подлинно демократических правительств означало, по существу, ориентацию
на превращение войны в действительно антифашистскую. Эти оценки и установ¬
ки явно приходили в противоречие со все более обозначавшимися последствия¬
ми пакта Молотова - Риббентропа для советской внешней политики.
5 сентября Димитров в письме к Жданову сообщал, что готовится документ
о принципиальной линии и тактических позициях братских компартий в усло¬
виях разразившейся империалистической войны в Европе. ”Но я должен отме¬
тить, - писал Димитров, - что при намечении этой динии и, особенно, тактичес¬
ких позиций и политических задач компартий в новых условиях мы встречаем
исключительные трудности, и для их преодоления, как и для принятия правиль¬
ного решения, мы нуждаемся больше, чем когда бы то ни было, в непосредст¬
венной помощи и совете товарища Сталина”. На копии этого письма Димитров
8 сентября написал: ’’Беседа с т.Сталиным в присутствии тт. Молотова и Ждано¬
ва состоялась 7. 9. 39”21.
Запись Димитрова этой беседы раскрывает установки, полученные руково¬
дством Коминтерна от Сталина, а также характеризует позицию Сталина в той
ситуации.
’’Сталин: война идет между двумя группами капиталистических стран (бед¬
ные и богатые в отношении колоний, сырья и т.д.) за передел мира, за господст¬
во над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг
друга. Неплохо, если руками Германии будет расшатано положение богатей¬
ших капиталистических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам этого не по¬
нимая и не желая, расстраивает, подрывает капиталистическую систему.
Позиция коммунистов у власти иная, чем коммунистов в оппозиции. Мы хо¬
зяева у себя дома. Коммунсты в капиталистических странах в оппозиции, там
буржуазия - хозяин.
Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы
лучше разодрались. Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии.
Следующий момент - подталкивать другую сторону.
Коммунисты капиталистических стран должны выступать решительно против
своих правительств, против войны.
До войны противопоставление фашизму демократического режима было
20Там же, л. 57, 58.
21Коминтерни советско-германский договор о ненападении, с. 206—207.
18
совершенно правильно. Во время войны между империалистическими держа¬
вами это уже не правильно. Деление капиталистических государств на фашистс¬
кие и демократические потеряло прежний смысл.
Война вызвала коренной перелом. Единый народный фронт вчерашнего дня
был для облегчения положения рабов при капиталистическом режиме. В усло¬
виях империалистической войны поставлен вопрос об уничтожении рабства!
Стоять сегодня на позиции вчерашнего дня (единый народный фронт, единство
наций) - значит скатываться на позиции буржуазии. Этот лозунг снимается.
Польское государство раньше (в истории) было национальное государство,
поэтому революционеры защищали его против раздела и порабощения. Теперь -
фашистское государство угнетает украинцев, белорусов и т.д. Уничтожение
этого государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фа¬
шистским государством меньше! Что плохого было бы, если в результате разгро¬
ма Польши мы распространим социалистическую систему на новые территории
и населения.
Мы предпочитали соглашение с так называемыми демократическими странами
и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в бат¬
раках и притом за это ничего не платить. Мы, конечно, не пошли бы в батраки...
Надо сказать рабочему классу: война идет за господство над миром; воюют
хозяева капиталистических стран за свои империалистические интересы. Эта
война ничего не даст рабочим, трудящимся, кроме страданий и лишений. Выс¬
тупить решительно против войны и ее виновников. Разоблачайте нейтралитет
буржуазных нейтральных стран, которые, выступая за нейтралитет у себя, под¬
держивают войну в других странах в целях наживы. Необходимо заготовить
и опубликовать тезисы Президиума ИККИ”22.
Сталинские установки означали для руководства Коминтерна необходимость
кардинально изменить ориентиры для компартий. Принципиальная оценка
фашизма как главного источника агрессии, обоснованная на VII конгрессе Ко¬
минтерна, отбрасывалась, различие между фашизмом и демократическим режи¬
мом объявлялось утратившим смысл. Коминтерн должен был прекратить от¬
крытое разоблачение гитлеровского фашизма и направить основной удар в про¬
паганде против империализма вообще, снять лозунг антифашистского народно¬
го фронта, отказаться от возможности сотрудничества с буржуазно-демократи¬
ческими силами, социал-демократией. С одной стороны, выдвигались лозунги
борьбы против войны и ее виновников - ’’своих правительств”, необходимость
уничтожения капиталистического рабства, а с другой - острие критики обраща¬
лось на противников Германии и ничего не говорилось о задаче борьбы с гит¬
леризмом. Сталин фактически запретил любое оказание помощи Польше, назвав
ее ’’фашистским государством”, а также проговорился о том, что разгром Поль¬
ши приведет к включению в состав СССР земель Западной Белоруссии и Запад¬
ной Украины.
9 сентября Секретариат ИККИ обсудил вопрос о тезисах Коминтерна по воп¬
росу о политике и тактике компартий в связи с войной. После доклада Димит¬
рова и прений, в которых участвовали Флорин, Пик, Готвальд, Марти, Диас,
Димитров, были одобрены предложенные комиссией принципиальные установ¬
ки тезисов, комиссии было поручено продолжить их разработку для представле¬
ния на заседание Президиума ИККИ. Сформулированный в духе этих тезисов
проект директивы компартиям было решено ’’утвердить и срочно разослать”23.
22Центральный партийный архив (София), ф. 146, оп. 2, а.е. 5.
23
РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1292, л. 46. Рассылалась эта директива за подписью Президиу¬
ма ИККИ уже 8 сентября, т.е. еще до ее утверждения Секретариатом ИККИ.
19
Кроме того, отдельным компартиям (Чехословакии и др.) следовало послать
дополнительные указания, а также на основе принятых установок заготовить
ряд статей.
Директива была составлена в духе указаний Сталина. В ней констатирова¬
лось, что начавшаяся война - империалистическая, несправедливая, в которой
одинаково повинна буржуазия всех воюющих государств. Войну не может под¬
держивать ни* в одной стране ни рабочий класс, ни тем более компартии. ”Ее
ведет буржуазия не против фашизма, как уверяет Чемберлен и лидеры социал-
демократии. Война ведется между двух групп капиталистических стран за ми¬
ровое господство. Международный пролетариат не может ни в коем случае
защищать фашистскую Польшу, отвергшую помощь Советского Союза, угне¬
тающую другие национальности”. Отмечалось, что компартии боролись против
мюнхенцев, ибо хотели создать подлинный антифашистский фронт с участием
СССР, ”но буржуазия Англии и Франции оттолкнула СССР, чтобы повести войну
грабительскую”. Повторялись слова Сталина о том, что война изменила положе¬
ние: ’’Деление капиталистических государств на фашистские и демократические
потеряло прежний смысл, поэтому необходимо изменить тактику. Во всех вою¬
ющих государствах компартии должны выступить против войны, разоблачать
ее империалистический характер. Повсюду компартии должны перейти в реши¬
тельное наступление против предательской политики социал-демократии”.
Компартиям Франции, Великобритании, США, Бельгии, выступившим в разрез
с этими устан эвками, предписывалось ’’немедленно выправить свою политичес¬
кую линию”24-
Тактические соображения, направленные на то, чтобы не давать Гитлеру по¬
водов для нарушения советско-германского договора, следование за внешне¬
политическими шагами Сталина нанесли ущерб антифашистской политике ком¬
мунистов. Директивы, направлявшиеся руководством Коминтерна, не отвечали
сложной и противоречивой ситуации, в которой оказались компартии в то вре¬
мя.
Оценка Коминтерном характера войны как империалистической с обеих сто¬
рон и указание на то, что прежнее деление капиталистических государств на
фашистские и демократические потеряло прежний смысл, сделанные по указке
Сталина, не учитывали ряда важных особенностей этой войны. Развязавшая
войну группировка, возглавляемая Германией, ставила своей целью установ¬
ление ’’нового”, фашистского порядка во всем мире и даже физическое истреб¬
ление ряда народов и наций. Тем самым предопределялось существование
справедливой, освободительной тенденции во второй мировой войне, которая
была связана с борьбой народов против фашистского агрессора. Для Польши,
подвергшейся нападению гитлеровской Германии, эта война с самого начала бы¬
ла справедливой, антифашистской.
Компартии западноевропейских стран в первые дни войны осудили агрессию
фашизма, подчеркнув при этом необходимость борьбы с реакцией в своих стра¬
нах. ЦК компартии Великобритании 2 сентября выступил с манифестом, в кото¬
ром призывал предпринять ’’все необходимые меры, чтобы обеспечить победу
демократии над фашизмом”. В манифесте говорилось, что нужно вести борьбу
на два фронта. ’’Во-первых, обеспечить военную победу над фашизмом и, во-вто¬
рых, для того, чтобы добиться этого, обеспечить политическую победу над Чем¬
берленом и врагами демократии в нашей стране”25.
Парламентская группа французской компартии 2 сентября проголосовала в
24Там же, л. 47—48; Коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 207.
251939: The Communist Party of Great Britain and the War. London, 1984, p. 147.
20
Палате депутатов за военные кредиты. В заявлении 19 сентября она выразила
решимость коммунистов защищать страну от гитлеровской агрессии, указав, что
война должна быть превращена в подлинно антифашистскую, и потребовав
прекратить преследования коммунистов. 21 сентября газета ”Ви увриер” в пе¬
редовой статье, написанной одним из руководителей профсоюзов Г.Монмуссо,
заявляла: ’’Освободительная война против гитлеровского варварства для стран,
подвергшихся нападению, не является лишь войной в защиту любой ценой их
родной страны от иностранной агрессии. Она одновременно является борьбой
в защиту общественных свобод, в защиту демократии, борьбой за все то, что
обеспечивает социальный прогресс и освобождение человека... Правительство,
которое боится собственного народа, идет к поражению”26.
Секретарь ЦК компартии Бельгии К.Релеком опубликовал в газете ”Вуа дю
пёпль” статью ’’Империалистическая война”, которая была перепечатана в пер¬
вом номере от 15 сентября газеты ’’Монд”, издававшейся в Брюсселе под руко¬
водством Клемана. В ней говорилось: ’’Начатая Гитлером война окончится раз¬
громом фашизма: такой развязки ожидают народы, будучи убежденными, что
без уничтожения фашизма нельзя обеспечить справедливый и длительный
мир”27.
Практически коммунисты всюду выступали за то, чтобы война приняла
действительно характер антифашистской войны. В этой ситуации они получили
директиву Секретариата ИККИ с требованием кардинального изменения поли¬
тической линии.
Не ограничиваясь посылкой телеграмм, руководство ИККИ направило в неко¬
торые страны своих посланцев с поручением обеспечить изменение линии пар¬
тий. Особую роль в этом должен был сыграть наблюдательный пункт во главе с
Клеманом. Ему предписывалось, согласно телеграмме Секретариата ИККИ от
17 сентября: ”1) установить связь с партиями; 2) быстро исправить линию пар¬
тий, особенно французской и английской, в духе данной директивы; 3) обес¬
печить дальнейшее издание наших органов; 4) оказать необходимую помощь
для переправки испанских и других иностранных руководящих друзей; 5) ор¬
ганизовать для нас информацию о теперешнем положении и деятельности пар¬
тий”28. В телеграмме Димитрова Клеману от 22 сентября говорилось, что печат¬
ные издания Коминтерна проводят неправильную линию, как и партии в Англии
и Франции. Димитров потребовал принять срочные меры, чтобы ’’обеспечить
проведение нашей директивы о теперешней войне”29 *. 27 сентября он телеграфи¬
ровал, что статья Монмуссо в ”Ви увриер” политически ошибочна, пронизана ’’соци¬
ал-патриотическим духом эпохи войны 1914 г. и противоположна политической линии
ИККИ”з°.
Такие указания серьезно затрудняли работу компартий, ставили их в очень
тяжелое положение и создавали благоприятную почву для усиления преследова¬
ния компартий со стороны буржуазных властей и нападок на них как на саботи¬
рующих борьбу с фашизмом. В итоге 26 сентября ФКП’была запрещена.
На следующий день Президиум ИККИ направил телеграмму руководству
партии, в которой было сказано, что это запрещение разоблачает ложь фран¬
цузской буржуазии об антифашистской войне. ’’Это не война демократии против
фашизма, это империалистическая, реакционная война как со стороны Фран¬
26La vieouvriere,21. IX. 1939.
27
Цит. по: Кремъе Ф.у Эстаже М. Как это было. Французская коммунистическая партия
в 1939-1940 гг. М., 1989, с. 137.
^РЦХДНИ, ф. 495, оп. 184, д. 10 (исход. 1939), л. 34.
Там же, л. 43.
Там же, д. 4 (иход. 1939), л. 44.
21
ции, так и со стороны Германии. В этой войне для французских коммунистов
недопустима политика национальной обороны. Борьба против империалистичес¬
кой войны - вот лучшая защита жизни и будущего французского народа. Воп¬
рос о фашизме сегодня играет второстепенную роль, первостепенное значение
имеет борьба против капитализма, причины этой войны, против режима бур¬
жуазной диктатуры во всех формах, во всех странах”31. Предписывалось перей¬
ти от тактики единого рабочего и народного фронта к сплочению масс вокруг
компартии, произвести перегруппировку сил на базе нелегальной работы.
29 сентября директива с критикой позиции компартии Великобритании была
послана для передачи ее генеральному секретарю Г.Поллиту. В ней также шла
речь о неприменимости в создавшейся ситуации тактики антифашистского фрон¬
та, о том, что на повестке дня стоит не борьба с фашизмом, а с капитализмом
вообще, что повторяя формулы об антифашистской войне, английские ком¬
мунисты тем самым поддерживают Чемберлена, помогают буржуазии тащить ра¬
бочих на войну. ’’Каждый коммунист должен бороться во время войны не про¬
тив реакции в чужой стране, а против реакции в собственной стране. Не фа¬
шистская Германия, пошедшая на соглашение с СССР, является опорой капи¬
тализма, а реакционная антисоветская Англия с ее огромной колониальной им¬
перией”32.
Аналогичные указания в то время направлялись и в адрес других компартий.
При этом акцент делался на требовании усилить борьбу против социал-демокра¬
тии. ’’Блюмы, да Брукеры, английские лейбористы вместе с английской и фран¬
цузской реакцией берут в свои руки обанкротившееся знамя антикоминтер¬
на, - говорилось в телеграмме Секретариата ИККИ Браудеру от 7 октября, ко¬
торую предлагалось довести до сведения компартий стран Латинской Амери¬
ки. - Они занимают ту антисоветскую позицию, от которой германские фашисты
вынуждены силой обстоятельств отказаться. Они носители сейчас самой худ¬
шей реакции. Провокаторы антисоветской войны беснуются, потому что СССР
сорвал их подлые замыслы, укрепил позиции страны социализма, вырвал из
капиталистического ада 14 миллионов людей. Их антисоветская и антикомму¬
нистическая кампания - это подготовка войны против СССР”33.
Термин ’’фашизм” применительно к гитлеровской Германии исчез из публи¬
ковавшихся в то время документов Коминтерна. Это не означало, что Комин¬
терн вообще перестал поддерживать освободительное движение народов, ока¬
завшихся под ярмом гитлеровцев. Но эта задача связывалась с решением общей
проблемы - борьбы против империалистической войны, против капитализма,
причем буржуазно-демократическое течение освободительного движения уже
не рассматривалось как союзник в этой борьбе. Так. в направленной 14 сентября
в ЦК компартии Чехословакии директиве, утвержденной Димитровым, за под¬
писью генерального секретаря ЦК КПЧ и члена Секретариата ИККИ Готвальда,
перед КПЧ в качестве главной ставилась задача использовать войну для развер¬
тывания национально-освободительной борьбы чехословацкого народа. ”Не
империалисты Чемберлен - Даладье, которые год назад выдали Чехословакию
Гитлеру и предали Испанскую республику, спасут нас от чужеземного господст¬
ва, а сам чешский народ в союзе с германским и австрийским рабочим классом
свергнет Гитлера и сможет добиться национального и социального освобож¬
дения. Советский Союз, как и прежде, останется единственным настоящим дру¬
гом всех угнетенных народов, в том числе и народов Чехословакии”34.
зТ“
Там же, л. 48.
32Там же, л. 53.
33Там же, д. 8 (исход. 1939), л. 62.
34Коминтерни советско-германский договор о ненападении, с. 208.
22
Под давлением Коминтерна компартии, оказавшиеся в весьма сложных ус¬
ловиях и испытавшие, как, например, ФКП, преследования со стороны реак¬
ции, опубликовали заявления, в которых война характеризовалась как импе¬
риалистическая с обеих сторон.
Руководство КПГ 25 сентября 1939 г. представило Димитрову проект воззва¬
ния ЦК КПГ, подготовленный председателем ЦК КПГ и членом Секретариата
ИККИ Пиком. Проект датирован 1 сентября, но написан явно позднее, так как
в нем говорится, что Англия и Франция ведут войну против Германии. Как из¬
вестно, Англия объявила войну 3 сентября. В проекте было сказано, что гитле¬
ровский фашизм является самым лютым врагом германского народа, и выдвига¬
лась задача свержения гитлеровского фашизма и германского империалистичес¬
кого финансового капитала 35. Однако Секретариат ИККИ 1 октября, обсудив
проект воззвания, постановил его основательно переработать и опубликовать
от имени компартий Германии, Чехословакии и Австрии. Это было поручено
осуществить комиссии в составе Пика, Готвальда и представителя компартии
Австрии при ИККИ Ф.Фюрнберга36.
В совместном заявлении этих партий, утвержденном на заседании Секрета¬
риата ИККИ 23 октября, в отличие от первоначального проекта уже говорилось
не о гитлеровском фашизме, а о жестокой диктатуре германского крупного ка¬
питала. В нем шла речь лишь о режиме, ’’который сам потоками проливал кровь свое¬
го же народа для установления и сохранения своего господства”. Выдвигалась
задача нанести смертельный удар германскому империализму, которая может
быть выполнена ’’только в том случае, если удастся сплотить национал-социа¬
листских, социал-демократических, католических и коммунистических рабочих
для боробы против империализма и войны, за мир и социализм”. Считали ли
авторы этого документа реальным вовлечение национал-социалистских рабочих
в совместную борьбу с коммунистами и другими рабочими за социализм или
это было своего рода клише, сейчас сказать нельзя. Очевидно лишь, что звон¬
кая фраза о борьбе за социализм, заменившая конкретную задачу свержения
гитлеровского режима, не отвечала положению дел. В документе указывалось,
что ’’коммунисты прилагают все усилия для того, чтобы спаять освободитель¬
ную борьбу рабочего класса Германии с национально-освободительной борь¬
бой чехов, словаков, австрийцев и поляков в прочное единство, направленное
против германского империализма”.
О войне говорилось как об империалистической, несправедливой с обеих
сторон, но при этом подчеркивалось, что английский империализм помогал гер¬
манскому в расчете на то, что он вступит в войну против СССР: ’’Германский
империализм побоялся пойти войной на эту социалистическую великую держа¬
ву, теснейшим образом связанную с народными массами в капиталистических
странах; он не только отверг предложение английских империалистов купить
подчинение Польши ценою войны против СССР, но заключил с Советским Сою¬
зом пакт о ненападении. Когда провал планов войны между Германией и Со¬
ветским Союзом стал очевиден, английские империалисты завопили, что Гит¬
лер нарушил слово, взяли курс на войну с империалистической Германией и
выслали вперед своего польского вассала”37. Таким образом акцент в опреде¬
лении того, кто виновен в развязывании войны, смещался в сторону западных
держав.
Документ был разослан, но 5 декабря Секретариат ИККИ направил партиям
новое указание : ’’Совместное заявление компартий Германии, Чехословакии и
35РЦХДНИ, ф. 495, оп.18,д. 1294, л. 64.
3бТам же, л. 62.
Э7Там же,д. 1296, л. 151, 153, 156.
23
Австрии лучше не публиковать. Если уже опубликовано, то не особенно попу¬
ляризировать”38 . Тезис о том, что в ходе войны существующий режим не в сос¬
тоянии будет предотвратить свержение капитализма в Германии, содержавший¬
ся в документе, и некоторые другие положения могли быть использованы на¬
цистской пропагандой против СССР.
Четкую антифашистскую линию проводила итальянская компартия. ЦК ИКП
выступил 10 октября в Цюрихе с манифестом к трудящимся Италии. ’’Гитлеровс¬
кая агрессия против польского государства и объявление Англией и Францией
войны Германии развязали настоящий конфликт. Война была спровоцирована
агрессивностью фашистских государств, ненасытным стремлением гитлеровско¬
го правительства к завоеваниям”, - говорилось в нем. Отмечалось, что война
была также подготовлена англо-французским империализмом, поддерживав¬
шим гитлеровскую агрессию против других стран и саботировавшим подписа¬
ние соглашения с СССР. Подчеркивалось, что в том случае, если фашистский
режим Муссолини ввергнет Италию в войну, необходимо будет бороться за
’’поражение фашистского правительства, за превращение империалистической
войны в войну гражданскую”39.
В руководстве Коминтерна в течение сентября продолжалась работа над те¬
зисами о войне. 26 сентября проект был послан Сталину, Молотову и Жданову.
В сопроводительной записке Димитров писал: ’’Дорогой товарищ Сталин! Нап¬
равляем Вам проект тезисов Исполкома Коминтерна о войне. Просим Ваших
указаний”40. В проекте воспроизводились сталинские указания о характере вой¬
ны, подчеркивалось, что английская и французская буржуазия, затягивая пере¬
говоры с СССР в августе, ’’вела курс на их срыв, стремилась использовать их,
чтобы достигнуть соглашения с Германией за счет СССР, втянуть Германию в
войну с СССР и замаскировать переговорами подготовку этой антисоветской
войны в глазах масс. Убедившись, что Англия и Франция не защищают дело ми¬
ра, а готовят новое худшее издание мюнхенского заговора против СССР, Советс¬
кий Союз заключил договор о ненападении с Германией и тем самым сорвал
коварные планы провокаторов антисоветской войны”.
В отношении Польши констатировалось, что она была многонациональным
государством, тюрьмой народов, и заявлялось, что польский народ и между¬
народный пролетариат не заинтересованы в восстановлении прежнего многона¬
ционального буржуазно-помещичьего государства, приведенного к распаду кор¬
рупцией и предательством его правящих классов.
В проекте говорилось и об империалистических притязаниях германской
буржуазии, которая ’’ведет войну за свое собственное господство над капита¬
листическим миром”. Хотя в нем не упоминался гитлеровский фашизм и отри¬
цалась антифашистская направленность войны со стороны противников Герма¬
нии, в тексте встречались упоминания фашистских государств. В частности,
отмечалось: ’’Продолжая и дальше мюнхенскую политику провоцирования войны
против Страны Советов, буржуазия Англии и Франции в настоящее время зани¬
мает более агрессивную позицию в отношении СССР, чем фашистские госу¬
дарства”41.
В качестве центральной задачи выдвигалась борьба против капитализма -
источника войн, против всех форм буржуазной диктатуры.
В дальнейшем работа над проектом тезисов была прекращена. Была подго¬
товлена статья Димитрова ’’Война и рабочий класс”. Посылая ее текст Сталину
38Там же, д. 17 (исход. 1939), л. 81.
39Коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 208—209.
40РЦХДНИ, ф, 495, оп. 73, д. 67, л. 73.
4 коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 209.
24
17 октября, Димитров писал: ’’Хотя коммунистические партии в основном уже
исправили свою позицию в отношении войны, все же продолжается в их рядах
все еще некоторое замешательство по вопросу о характере и причинах войны,
а также о выдвигающихся сейчас перед рабочим классом новых задачах и необ¬
ходимой перемене тактики компартий. Ввиду этого мы считали бы необходи¬
мым опубликовать в журнале ’’Коммунистический Интернационал” и в ком¬
мунистической прессе за границей прилагаемую статью. Так как это выступление
в настоящих условиях очень ответственное, прошу Вашего совета”42. Статья так¬
же была послана Жданову.
19-20 октября Президиум ИККИ обсудил вопрос о позиции и тактике компар¬
тий в условиях империалистической войны. Было принято решение об оказании
практической помощи компартиям, чтобы они заняли твердую, большевистскую
позицию в вопросах войны и перестроили всю свою работу, которая должна ука¬
зать массам ’’революционный выход из нынешнего положения”. Особо подчер¬
кивалась необоходимость усилить борьбу против ’’предателей дела междуна¬
родного пролетариата и поджигателей войны - руководящих кругов II Интер¬
национала и социал-демократических партий”, а также была поставлена задача
’’сосредоточить огонь против оппортунизма, выражающегося в скатывании на
оборонческую позицию, в поддерживании легенды об антифашистском характере
войны и в отступлении перед репрессиями буржуазии” 43 44.
Определение характера войны как империалистической, несправедливой
приводило к выводу, что следует бороться за поражение ’’своего” правительст¬
ва и революционный выход из войны. Но лозунг свержения гитлеровского ре¬
жима, если бы он был выдвинут, привел бы Сталина к конфликту с Гитлером.
Сталин, прочитав статью Димитрова и внеся в нее исправления, вызвал 25
октября его на беседу,в которой участвовал Жданов. Сталин сказал,' что надо
выдвигать лозунги, соответствующие данному этапу войны. Такими он считал
лозунги ’’Долой империалистическую войну!”, ’’Прекращение войны, прекра¬
щение кровопролития!”, ’’Прогнать правительства, которые за войну!” При этом
было подчеркнуто, что не следует ’’выступать против правительств, которые
j,44
замир .
Указание Сталина выдвинуть лозунг ’’Прогнать правительства, которые за
войну!” относилось к правительствам Великобритании и Франции, а не Герма¬
нии, поскольку ее правительство, по словам Сталина, было обороняющейся сто¬
роной и выступало с ’’мирными предложениями”45. Так, внешнеполитические
42РЦХДНИ, ф. 495, оп. 73, д. 67, л. 78.
4ЭТам же, оп. 2, д. 268, л. 2—3.
44ЦПА (София), ф. 146, оп. 2, а.е. 5.
457 октября газета ’’Правда” опубликовала изложение беседы Риббентропа с японским
корреспондентом. Гитлеровский министр заявил: "Германия всегда хотела мира, а не войны.
Война с Польшей была нам навязана вопреки благоразумным предложениям фюрера. Также
и на Западе объявила войну не Германия, а Англия и Франция. Если Германия все еще го¬
това заключить мир, то это не новость”.
30 ноября "Правда” поместила ответ Сталина по поводу заявления агентства Гавас, в
котором говорилось: ”а) не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия на¬
пали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну; б) после открытия
военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями,
а Советский Союз открыт) поддержал мирные предложения Германии, ибо он считал и про¬
должает считать, что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положе¬
ние всех стран и народов; в) правящие круги Англии и Франции грубо отклонили мирные
предложения Германии, каки попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания
войны”. Обращает на себя внимание совпадение оценок о "нападающей” (Англия и Франция)
и "обороняющейся” и предлагавшей заключить мир (Германия) сторонах в высказываниях
Риббентропа и Сталина.
25
расчеты Сталина преломлялись в прямые указания, которые он давал руко¬
водству Коминтерна и которые не могли не вносить дезориентацию в политику
последнего.
29 октября Димитров, исправив свою статью в соответствии с указаниями
Сталина, послал ее вновь на просмотр Сталину и Жданову с просьбой сообщить,
’’можно ли направлять статью в таком виде в печать”46. В тот же день он послал
Сталину проект воззвания ИККИ к XXII годовщине Октябрьской революции,
также запросив ’’совета и указаний”. Эти обращения не только свидетельствуют
о характере взаимоотношений лидера Коминтерна и Сталина, но они показы¬
вают, что в данных документах выражалась прежде всего позиция Сталина,
имевшая определяющее значения для руководства ИККИ. Сталин разрешил пе¬
чатать статью, а воззвание ИККИ подверглось дополнительному редактирова¬
нию с участием Жданова и главного редактора ’’Правды” П.Н. Поспелова. Оба
эти материала рассылались компартиям с указанием Секретариата ИККИ, что
их следует рассматривать как ’’директивные документы”.
В воззвании ИККИ и статье Димитрова, опубликованных в одном и том же
номере журнала, повторялись прежние оценки характера войны, но упор делал¬
ся на то, что в роли самых ревностных сторонников продолжения и дальнейше¬
го разжигания войны выступают империалисты Англии и Франции, которые
просчитались в своей надежде столкнуть Германию и Советский Союз47. В статье
Димитрова указывалось, что заключением германо-советского ’’договора о
дружбе и границе СССР не только устранил непосредственную угрозу войны
для своих народов, но и создал барьер против расширения империалистичес¬
кой войны”48 49. Ничего не говорилось о борьбе за свержение гитлеровского режи¬
ма, не учитывалась особая опасность фашистского агрессора, ставившего своей целью
порабощение всего мира, не принимались во внимание национально-освободи¬
тельные, антифашистские тенденции, которые существовали с самого начала и
набирали силу в связи с расширением гитлеровских захватов.
В статье повторялось высказанное еще 7 октября в телеграмме Браудеру об¬
винение социал-демократии в разжигании войны, в ’’антикоминтерне”. Таким
образом, поджигателями войны вновь, как и в середине 2Q-x годов, объявля¬
лись буржуазия и социал-демократы. Эта крайне опасная и глубоко ошибоч¬
ная установка порождала иллюзии в отношении национал-социализма. Сталин
7 октября на обеде после парада сказал Димитрову: ”В Германии - мелкобур¬
жуазные националисты способны на крутой поворот - они гибки - не связаны
с капиталистическими традициями - в отличие от буржуазных руководителей
типа Чемберлена и т.п.” Поскольку при этом он добавил, что следует отбро¬
сить рутину, не держаться за установленные правила, видеть то новое, что
диктуется изменившимися условиями, возникает предположение, что Сталин до¬
пускал возможность перехода нацистов на антикапиталистические позиции.
И в воззвании ИККИ, и в статье Димитрова выдвигалась первостепенная за¬
дача: поддержка трудящимися политики советской страны. К когда по инициа¬
тиве СССР 30 ноября началась советско-финляндская война, причем на следу¬
ющий день было объявлено о создании правительства так называемой Фин¬
ляндской демократической республики (ФДР) во главе с Куусиненом, с кото¬
рым немедленно был заключен договор о дружбе и взаимопомощи, руководство
ИККИ попыталось организовать движение в поддержку СССР и марионеточной
46 РЦХДНИ, ф. 495, оп. 73, д. 67, л. 82.
47 Димитров Г. Война и рабочий класс капиталистических стран. — Коммунистический Ин¬
тернационал, 1939, № 8-9,с. 27.
48Там же, с. 28.
49ЦПА (София), ф. 146, оп. 2, а.е. 5.
26
фДР. 4 декабря была послана телеграмма представительствам Коминтерна с тре¬
бованием предпринять все меры ’’для самой широкой популяризации докумен¬
тов финского народного правительства, финской компартии, речи Молотова и
советско-финского пакта”50. Предписывалось развернуть публикацию этих до¬
кументов, организовать широкую кампанию солидарности, проведение митин¬
гов и собраний. 11 декабря Секретариат ИККИ вновь послал директиву. Указа¬
ние было лаконичным: ’’Солидаризация с Народным правительством. Приветст¬
вия, резолюции, массовая кампания. Парализовать антисоветскую травлю.
Разъяснять и популяризировать политику СССР. Решительно выступать против
поджигателей войны. Беспощадно разоблачать и бороться с контрреволюцион¬
ными планами английских и французских империалистов и их социал-демокра¬
тических лакеев”51. Такие призывы в той ситуации, когда нападение на Финлян¬
дию вызвало рост антисоветских настроений, не могли принести желаемых
результатов и способствовали дискредитации Коминтерна и его секций.
Сталинское требование не выступать против правительств, ’’которые за мир”,
отразилось на политической линии коммунистов. 30 декабря Секретариат ИККИ
утвердил Политическую платформу КПГ. В ней компартия заявляла, что нацио¬
нальной независимости и свободе германского народа угрожает агрессивный
военный план англо-французского империалистического блока. В связи с этим центр
тяжести борьбы ’’следует перенести на срыв военного плана английского и
французского империализма и на уничтожение врагов германского народа, ко¬
торые хотят в Германии сорвать советско-германский пакт дружбы, поддер¬
жать англо-французский план войны против германского народа и ввергнуть
народ Германии в величайшую катастрофу, какой была бы война с великим со¬
ветским народом”52. Подчеркивалось, что нельзя ослаблять борьбу против угне¬
тательской политики правящего режима в Германии, что этот режим выступает
против трудящихся масс, что тактика КПГ вовсе не означает поддержки войны
германского империализма. Если с развитием войны наступит кризис господст¬
вующего в Германии режима, то трудящимся следует взять в свои руки судьбу
германского народа и защиту страны от военных планов английских и фран¬
цузских империалистов. Но не говорилось, что надо добиваться свержения гос¬
подствующего режима, т.е. гитлеровского строя.
Иллюзии, что договоры Германии с СССР будут благоприятствовать работе
коммунистов в массах и будто бы облегчат им привлечение на свою сторону
национал-социалистов, отразились в указании на необходимость превратить на¬
цистские массовые организации в опорные точки борьбы за интересы масс.
’’Ориентировка на дружбу с Советским Союзом, начавшаяся вследствие со¬
ветско-германских пактов ненападения и дружбы так же и в национально-со¬
циалистических трудящихся массах, открывает широкие возможности, - гово¬
рилось в документе, - для их завоевания и включения в ряды общего боевого
фронта с коммунистическими и социал-демократическими рабочими против
грабительского плана английского и французского империализма, против свя¬
занных с ним крупнокапиталистических изменников отечеству в Германии,
против господства крупного капитала и за укрепление политической и орга¬
низационной мощи трудящихся масс в Германии, дабы таким путем создать
прочную гарантию сохранения и углубления дружбы между Советским Союзом
и Германией”53.
50РЦХДНИ, ф. 495, оп. 184, д. 17 (исход. 1939), л. 78.
51Там же, л. 90.
52Там же, оп. 18, д. 1301, л. 99.
53Там же, л. 106.
27
Документ был пронизан заботой о сохранении мира и дружбы с СССР. Но
упускалось из виду, что речь шла о ”дружбе” СССР и гитлеровской Германии.
Вместе с тем резкая критика планов англо-французского империализма была
заострена, а реальная сущность гитлеризма растворялась, его агрессивный ха¬
рактер исчезал. В то же время подчеркивалась необходимость борьбы против
национального угнетения австрийского, чешского, словацкого и польского на¬
родов германским империализмом, за право на полное самоопределение.
Дезориентация, вызванная сталинскими установками, привела даже к тому,
что среди германских коммунистов, находящихся в СССР, обсуждался вопрос
о возможности легализации в Германии деятельности КПГ.
7 января 1940 г. Димитров и Мануильский в письме к Сталину привели основ¬
ную часть этогр документа и, высказав мнение, что позиция КПГ ’’представля-
ется правильной”, попросили совета и указаний ’’ввиду особой сложности и
важности вопроса”54.
13 января Димитров послал копию этого письма Молотову. Вечером 21 ян¬
варя Молотов заметил ему: ”Вы не решаетесь назвать войну империалистичес¬
кой со стороны Германии”, и предложил обменяться мнениями по тактике КПГ.
На этой встрече Сталин заявил: ’’Мировая революция как единый акт -
ерунда. Она происходит в разные времена в разных странах. Действия Красной
Армии - это также дело мировой революции”. Он сказал, что Финляндия ока¬
залась подготовленной к войне с СССР, и добавил: ’’Финские шуцкоровцы
150 000- это сила белофиннов. Мы 60 000 перебили, надо перебить и остальных, тог¬
да дело кончится”. По поводу планов в отношении Финляндии Сталин произнес:
”Мы не хотим территории Финляндии. Только Финляндия должна быть дружест¬
венным Советскому Союзу государством”55.
Одновременно с утверждением на Секретариате ИККИ Политической плат¬
формы КПГ в органе компартии Великобритании газете ’’Дейли уоркер” 30 де¬
кабря 1939 г. был опубликован манифест за подписью компартий Великобрита¬
нии, Франции и Германии. В нем подчеркивалась солидарность партий в борьбе
с империалистической войной. Каждая партия заявляла о необходимости вести
борьбу с правительством своей страны. От имени КПГ было сказано, что ’’рабо¬
чий класс Германии всеми силами должен вести борьбу против Гитлера”.
Прочитав сообщение об этом документе, Димитров распорядился: ’’Прове¬
рить, что и где это сделано?”56 3 января 1940 г. Пик сообщил ему, что документ
был напечатан без ведома ЦК КПГ, но очевидно с согласия члена руководства
КПГ В.Кенена, что он дает неправильную тактическую ориентацию, уравнивая
задачи трех партий, и не соответствует политической платформе КПГ57. Так,
констатация в совместном документе трех партий необоходимости борьбы про¬
тив Гитлера вызвала серьезное беспокойство в руководстве Коминтерна. Ста¬
линский запрет разоблачать Гитлера, по существу, разоружал коммунистов.
Разумеется, коммунисты Германии в самых тяжелых условиях подполья, испы¬
тывая не прекращавшийся, а все более усиливавшийся террор гитлеровцев,
вели упорную борьбу против, нацистской диктатуры58. Но сталинские указания
не только ее серьезно затрудняли, но и вносили недопустимую дезориентацию.
Сталинский тезис о том, что агрессорами являются Англия и Франция, пос¬
54Там же, оп. 74, д. 155, л. 3.
55ЦПА (София), ф. 146, оп. 2, а.е. 5.
5бРЦХДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 50, л. 10.
57Там же, л. 7.
50Gestapo-Berichte iiber den antifaschistischen Widerstandskampf der KPD 1933 bis 1945. Band 2.
September 1939 bis August 1943. Berlin, 1989, S. 22-23, 26-30.
28
тоянно повторялся в документах ИККИ. Характерно в этой связи изменение,
внесенное по настоянию Жданова в проект первомайского воззвания Комин¬
терна. В посланном ему 23 апреля Димитровым и Мануильским тексте было
сказано: ’’Поджигатели войны не могут простить СССР, что он стоит вне импе¬
риалистической свалки”. Жданов признал такую формулировку недостаточной
и потребовал конкретно назвать поджигателей войны59. В переработанном и
утвержденном 28 апреля тексте воззвания эта фраза была исправлена: ’’Анг¬
лийские и французские поджигатели войны и их социал-демократические при¬
служники в бешенстве от того, что Советский Союз занимает позицию нейтрали¬
тета в отношении их империалистической войны”60 1. Жданов также счел упоми¬
нание о социал-демократах как об агентах буржуазии ’’слабоватым” и написал:
’’Надо сказать, что это злейшие, бешеные враги рабочего класса. Именно благо¬
даря их предательской роли буржуазии удается отравлять известные слои ра¬
бочего класса ядом шовинизма и национализма” х. По его указанию в текст бы¬
ли вставлены слова о том, что социал-демократы ’’открыто призывали и призы¬
вают к крестовому походу против страны социализма”62. Так заострялась ли¬
ния борьбы против одной стороны и ослаблялась критика в адрес другой - Гер¬
мании.
Германия весной 1940 г. перешла в наступление, оккупируя одну страну за
другой, но в документах ИККИ по-прежнему агрессорами назывались Англия
и Франция. 10 апреля Секретариат ИККИ направил директивы компартии Дании
для опубликования заявления в связи с вступлением в страну германских
войск. В них было сказано: ’’Агрессивная империалистическая политика вой¬
ны Англии и Франции в Скандинавии имела последствием империалистические
контрмеры со стороны Германии. Главными виновниками являются распрост¬
ранители войны в Лондоне, Париже и их агенты - II Интернационал. Виновны
также правительства Скандинавии, которые приветствовали империалистичес¬
кую войну и поддержали разжигание войны против СССР”63. Указывалось, что
партия должна протестовать против занятия Дании, против попытки навязать
народам Скандинавии господство Германии, что коммунисты отстаивают жиз¬
ненные интересы и независимость народа, свободу и независимость которого
можно вернуть, но что народы Скандинавии не должны быть использованы в
целях английского империализма и распространения войны на Скандинавию.
Повторение довода, будто вторжение Германии было связано с агрессивны¬
ми планами Англии и Франции в отношении Скандинавии, выдвинутого в ка¬
честве официальной версии германским правительством и встреченного ’’по¬
ниманием” со стороны сталинской верхушки64, свидетельствовало, что трак¬
59РЦХДНИ, ф. 495, оп. 73, д. 87, л. 12.
б0Там же, оп. 18, д. 1320, л. 17.
б1Там же, оп. 73, д. 87, л. 14.
62Там же, оп. 18, д. 1320, л. 20.
б3Коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 212.
б4В телеграмме Риббентропа послу Германии в СССР В.Шуленбургу поручалось сообщить
Молотову, что германские власти "получили совершенно достоверные сообщения о неиз¬
бежности нанесения удара англо-французских вооруженных сил по побережью Дании и
Норвегии и должны были поэтому действовать незамедлительно”. Молотов 9 апреля, после
того как это ему было сообщено, заявил, по словам Шуленбурга, что "советское правительст¬
во понимает, что Германия была вынуждена прибегнуть к таким мерам. Англичане, безус¬
ловно, зашли слишком далеко. Они абсолютно не считаются с правами нейтральных стран”.
В заключение Молотов сказал следующее: "Мы желаем Германии полной победы в ее обо¬
ронительных мероприятиях". — СССР. — Германия. Документы и материалы о советско-гер¬
манских отношениях с сентября 1939 г. по июль 1941 г. Вильнюс, 1983, с. 45.
29
товка событий определялась конъюнктурными внешнеполитическими сооб¬
ражениями этой верхушки. Реальное значение событий переставало, по сущест¬
ву, играть определяющую роль. Это было непростительной ошибкой для руко¬
водства международной коммунистической организации. Поскольку острие борь¬
бы не направлялось против тех, кто вторгся в Данию, постановка вопроса об
освобождении страны и тех силах, которые необоходимо объединить для это¬
го, не могла быть конкретной и убедительной. Говорилось даже о необходи¬
мости защищать легальность компартии65, впрочем одновременно ИККИ наце¬
ливал ее на обеспечение условий для нелегальной деятельности, что сыграло
важную роль в развертывании движения Сопротивления. Позднее Секретариат
ИККИ был вынужден специально предостеречь ЦК КПД об опасности, чтобы
демагогические маневры оккупантов не создали у масс представлений, будто
она выступает на стороне оккупантов. ”Не выставляя теперь на передний план
борьбу против оккупации, - говорилось в директивах Секретариата ИККИ от 26 ию¬
ня, - компартия должна готовить массы к борьбе за нацио¬
нальное освобождение’*66. Противоречивость этого совета вполне очевидна, а
вызвана она тем, что руководство ИККИ оказалось скованно установками Ста¬
лина.
29 мая Секретариат ИККИ утвердил составленную руководителями КПГ Дек¬
ларацию. В ней говорилось, что война вступила в новый этап и распространилась
на новые страны, что германский империализм домогается господства над ев¬
ропейскими народами и колониями, и выражалось сочувствие ’’жертвам наси¬
лия и империалистической войны в Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии и
Люксембурге, порабощенным чешскому, польскому и австрийскому наро¬
дам”67 8. Подчеркивалось, что германские коммунисты борются против импери¬
алистической цели войны, против ’’собственных” капиталистов и эксплуатато¬
ров. Выдвигался лозунг мира без территориальных захватов и контрибуций,
без порабощения одних народов другими. Острие критики направлялось против
капиталистов и помещиков. Отмечалось, что правящий в стране режим - это
режим, ’’который держит за тюремными решетками много тысяч лучших бор¬
цов за мир, свободу и хлеб”60. Но документ ограничился общей констатацией,
что германский рабочий класс и рабочие всех других стран одинаково заинте¬
ресованы в том, чтобы возможно быстрее покончить с бойней народов и распра¬
виться х виновниками войны.
Гитлеровцы отнюдь не считали, что коммунисты и Коминтерн отказались от
борьбы с нацизмом, но понимали, что он был вынужден ее вести в иной форме.
В обзоре гестапо от 20 июня, посвященном Коминтерну, констатировалось: ’’Рус¬
ское правительство занимает в отношении Германии благосклонную позицию и
неоднократно показывало, что предпринятые Германией в войне меры - заня¬
тие Норвегии, Дании и вступление в Голландию и Бельгию - считает абсолютно
необходимым и достойным. И Коминтерн также избегает любых открытых напа¬
док на Германию. В своей печати Коминтерн приспосабливается к теперешней
внешней политике Советского Союза и признает справедливым ведение войны
Германией. Эта нынешняя позиция Коминтерна всего лишь декларация, его
противостояние рейху осталось прежним, он только изменил свой метод работы.
В своих органах он открыто не призывает своих сторонников к борьбе против
б5РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1319, л. 159.
ббКоминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 213.
б7РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1321, л. 68.
б8Там же, л. 71.
30
национал-социализма, но ведет ее главным образом в замаскированной фор-
ме
Из-за эскалации гитлеровской агрессии, в ходе которой все больше народов
и стран становилось ее жертвами, настоятельной была постановка вопроса о
развертывании борьбы за восстановление утраченной национальной независи¬
мости, в защиту интересов народов. Приехавший в конце мая 1940 г. в Москву
секретарь ЦК ФКП А. Раметт на встрече с Димитровым высказался за пересмотр
существовавших установок и выработку новых69 70. Торез, Марти, А. Раметт и
р. Гюйо подготовили проект декларации ФКП, в нем выдвигался ряд мер, кото¬
рые могли бы, по мнению авторов, ’’облегчить страдания нашего народа и его
борьбу за существование как нации”71 Димитров и Мануильский 10 июня 1940 г.
обратились к Сталину с просьбой дать совет и указание по поводу подготовлен¬
ной руководителями ФКП декларации партии. В частности, обращалось внима¬
ние на необходимость ’’создать более благоприятные условия французскому
народу в борьбе за его существование, против внутренних и иностранных импе¬
риалистических сил”72. Ставился также вопрос ”о линии поведения германских
коммунистов в отношении завоевательной политики германских правящих
классов”73. Упомянув о Декларации КПГ, руководители ИККИ писали: ’’Нам
кажется, что позиция как французских, так и немецких коммунистов не явля¬
ется ошибочной. Но нынешняя международная обстановка настолько сложна
и момент настолько ответственен, что каждая наша политическая ошибка мо¬
жет отрицательно отразиться на интересах СССР. Очень просим Вас, товарищ
Сталин, дать нам Ваш совет и указание”74. На следующий день Димитров пере¬
слал проект декларации ФКП и Декларацию КПГ Жданову с просьбой высказать¬
ся об этих документах и посодействовать, чтобы возможно скорее были бы
получены советы и указания Сталина.
13 июня Секретариат ИККИ утвердил текст декларации ФКП. На другой день
Димитров беседовал со Ждановым, затем получил представителям ФКП внести
в текст изменения и вновь послал его Сталину. Однако после получения извес¬
тий о поражении французской армии и оккупации Парижа германскими войска¬
ми стало ясно, что этот документ устарел. 15 июня Секретариат ИККИ постано¬
вил: ”1. В виду разгрома французской армии и капитуляции французского пра¬
вительства считать неуместным опубликование принятой Декларации КП Фран¬
ции. 2. Поручить французским товарищам на основе обмена мнений в Секрета¬
риате переработать декларацию в соответствии с новой обстановкой”75. 16 июня
Димитров вновь послал Сталину переработанный текст с просьбой высказать
’’мнение, с тем чтобы могли отправить за границу для опубликования”76.
19 июня Секретариат ИККИ утвердил Декларацию ФКП. В ней подчеркива¬
лось: ’’Рабочий класс, народ Франции никогда не примирится с иноземным пора¬
бощением”77.
69Bundesarchiv Koblenz. R. 58 732, 1.7. Документ любезно предоставлен авторупрофессором
Рихардом Назаревичем.
70См.: Кремье Ф., Эстаже Ж. Указ, соч., с. 238—240.
71РЦХДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 518, л. 19.
72Там же, л. 10.
73Там же, л. 11.
74Там же, л. 12.
75Там же, оп. 18, д. 1321, л. 147.
7бТам же, оп. 74, д. 518, л. 31.
77Коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 214.
31
28 июня на заседании Секретариата ИККИ была утверждена Декларация КП
Италии, в которой содержалась четкая программа борьбы против фашистской
диктатуры в Италии, против войны, за свободу народа. ”От имени благородного
итальянского народа, создавшего бессмертные шедевры и давшего человечест¬
ву Галилея, Джордано Бруно, Кампанеллу и Гарибальди, мы, коммунисты, заяв¬
ляем, - говорилось в декларации, - что наш народ не хочет быть ни рабом
своей фашистской буржуазии, ни вассалом чужого империализма, ни тюремщи¬
ком и угнетателем других народов. Он не хочет порабощать братский француз¬
ский народ. И мы, коммунисты, заявляем, что итальянский народ не признает
и никогда не признает позорных условий ’’перемирия”, навязанного герман¬
ским и итальянским империализмом французскому народу”78.
Необходимость активизации деятельности коммунистов в возникавшем дви¬
жении Сопротивления становилась все более жгучей. Это ощущало руководство
Коминтерна, которое ставило эти вопросы перед Сталиным. Действительность
настойчиво требовала отбросить навязанные Сталиным установки о том, что
англо-французский империализм в годы войны будто бы представлял наиболь¬
шую опасность, что война продолжает оставаться империалистической с обеих
сторон, установки, не учитывавшие характер фашистского блока.
Сталин тем временем использовал Коминтерн в своих внешнеполитических
целях. 25 ноября он вызвал Димитрова и сообщил ему, что правительству Бол¬
гарии сделано предложение о заключении пакта о взаимопомощи с СССР. Ста¬
лин сказал: ’’Нужно, чтобы это предложение знали в широких болгарских кру¬
гах”. Он при этом заметил: ”Мы поддерживаем территориальные претензии Бол¬
гарии. Мы готовы оказать болгарам помощь хлебом, хлопком и т.д. в форме
займа, а также флотом и другими способами. Если будет заключен пакт, конк¬
ретно договоримся о формах и размерах взаимной помощи. При заключении
пакта о взаимопомощи мы не только не возражаем, чтобы Болгария присоедини¬
лась к Тройственному пакту, но тогда и мы сами присоединимся к этому пакту.
Если болгары не примут это наше предложение, они попадут целиком в лапы
немцев и итальянцев и тогда погибнут”79. Таким образом, Сталин заявил о воз¬
можности присоединения СССР к Тройственному пакту, который был заключен
27 сентября 1940 г. между Германией, Италией и Японией и представлял собой
военный союз агрессоров, развязавших мировую войну. Вопрос о вхождении
СССР в Тройственный пакт поднимался во время поездки Молотова в Берлин
в середине ноября.
Димитров в тот же вечер передал в Софию руководству партии предложение
советского правительства и посоветовал развернуть оперативную кампанию в
парламенте, печати и в массах в его поддержку. Об этом он информировал на
следующий день Сталина. Однако неожиданно ему позвонил Молотов и осудил
распространение в Болгарии коммунистами листовок с советскими предложе¬
ниями. Пришлось отдать распоряжение немедленно это прекратить. 3 декабря
Димитров писал Сталину: ’’Сразу после того, как товарищ Молотов позвонил
мне 28 ноября вечером, я указал болгарским товарищам в Софии на их грубей¬
шую ошибку с распространением листовок по поводу предложения Советского
правительства и затребовал немедленного прекращения распространения этих
листовок. В ответ на что ЦК болгарской компартии сообщал: ’’Признаем свою
ошибку. Мы думали, что делаем хорошее дело. А оказалось это, к сожалению,
’’медвежьей услугой”. Приняли все меры для прекращения распространения
78РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1321, л. 198.
79ЦПА (София), ф. 146, оп. 2, а.е.6.
32
изданных листовок”80 *. В Софию была послана директива о том, что кампания
в поддержку пакта не должна носить партийный, антибуржуазный, антидина-
стический и антигерманский характер, ее следует вести не на классовой, а на
общенациональной и государственной почве01.
Болгарское правительство отклонило советское предложение о заключении
пакта взаимопомощи между СССР и Бс лгарией.
В это время в указаниях, которые ИККИ давал партиям, все больше подчер¬
кивалось, что коммунисты должны выступать как защитники не только инте¬
ресов рабочего класса, трудящихся, но и общенациональных интересов.
21 января 1941 г. в директиве Димитрова, посланной возглавлявшему в то
время руководство ФКП Ж. Дюкло за подписями ’’Штерн, Андрэ” (Торез, Марти),
были даны конкретные указания по объединению сил на базе развертывания
движения масс по защите их повседневных нужд и интересов. Предписывалось
’’направлять главный огонь против всех агентов оккупантов и всех политичес¬
ких защитников коллаборационизма, критикуя антидемократическую линию
движения де Голля, одновременно учитывать, что это движение на современ¬
ном этапе теряет объективно позитивную роль”82 83. Однако руководство ФКП в
тот момент не восприняло это указание в отношении голлистского движения.
В ответе Дюкло, посланном 15 марта, хотя и заявлялось о полном согласии с
полученными установками, было подчеркнуто: ’’Боремся против всех агентов
оккупантов, всех защитников сотрудничества, а также показали реакционный
характер движения Де Голля”03. В направленной руководству ФКП директиве
от 26 апреля говорилось: ’’Ваша платформа не должна быть платформой только
партии, но и всего народа... Главная актуальная задача состоит в борьбе за на¬
циональное освобождение. Борьба за мир подчинена борьбе за национальную
независимость”. Выдвигался курс на создание широкого фронта национального
освобождения, на поддержку ’’всякого французского правительства, всякой
организации и всех людей в стране, усилия которых направлены на ведение
подлинной борьб 4 против захватчиков и предателей”84.
После нападения Германии весной 1941 г. на Грецию и Югославию ИККИ выд¬
винул лозунг, что война этих стран85 против империалистической агрессии яв¬
ляется справедливой. Сталин одобрил этот лозунг. Однако тогда еще не было
сделано вывода о справедливом характере войны в целом в отношении тех ее
участников, которые воевали против Германии и ее союзников. Именно тогда
существование Коминтерна, по-видимому, начало мешать Сталину. Неожидан¬
но для Димитрова Жданов 9 апреля высказался против публикации воззвания
в связи с приближавшимся 1 Мая. Он заявил, что делать обстоятельный ана¬
лиз - значит в некоторой степени раскрывать свои карты, дать повод для не¬
благоприятного использования информации врагам86. 18 апреля Жданов пе¬
редал Димитрову замечания Сталина по проекту директивы ИККИ о проведении
1 Мая. Сталин считал необходимым дифференцировать указания по странам
80РЦХДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 75, л. 6.
01ЦПА (София), ф. 146, оп. 2, а.е.6.
82РЦХДНИ, ф. 495, оп. 184, кн. пост. 17 (1941), исход. № 87, л. 9.
83Там же, кн. пост. 14 (1941), вход. № 224, л. 66.
84Там же, ф. 495, оп. 74, д. 522, л. 6.
85В аналитическом материале, опубликованном в "Известиях ЦК КПСС” (1989, № 12,
с. 214), вместо слов "этих стран" ошибочно сказано "Англии и Франции".
86ЦПА (София), ф. 146, оп. 2, а.е.7.
2 Новая и новейшая история, № 6
(воюющим, невоюющим, оккупированным и т.д.). В отношении основных уста¬
новок директивы (’’империалистическая война - дело империалистов”, ’’народ¬
ный мир - дело рабочего класса и народов”, ’’война греческого и югославско¬
го народов против империалистической агрессии - справедливая война”) Ста¬
лин не выразил сомнений.
Через день, вечером 20 апреля, на приеме по случаю декады Таджикской ССР
Сталин, подняв тост за здоровье Димитрова, неожиданно сказал: ’’Следовало
бы компартии сделать совершенно самостоятельными, а не секциями КИ. Они
должны превратиться в национальные коммунистические партии, под разными
названиями - рабочая партия, марксистская партия и т.д. Название не важно.
Важно, чтобы они внедрились в своем народе и концентрировались на своих
особых собственных задачах. У них должна быть коммунистическая программа,
они должны опираться на марксистский анализ, но, не оглядываясь на Москву,
разрешали бы стоящие перед ними конкретные задачи в данной стране самосто¬
ятельно. А положение и задачи в разных странах совсем различные. В Англии
одни, в Германии - другие и т.д. Когда таким образом компартии окрепнут,
тогда снова восстановите международную организацию.
Интернационал был создан при Марксе в ожидании близкой международной
революции. Коминтерн был создан при Ленине также в такой период. Теперь на
первый план выступают национальные задачи для каждой страны. Но положе¬
ние компартий как секций международной организации, подчиняющихся Ис¬
полкому КИ, является помехой...
Не держитесь за то, что было вчера. Учитывайте строго создавшиеся усло¬
вия...
С точки зрения ведомственных интересов (КИ) это может быть неприятно, но
не эти интересы решают! Принадлежность компартий к Коминтерну в настоящих
условиях облегчает преследования буржуазии против них и ее план их изоли¬
ровать от масс собственной страны, а компартиям мешает самостоятельно раз¬
виваться и решить свои задачи как национальные партии”87.
Слова о том, что развитие компартий требовало их самостоятельности, что
Коминтерн превратился в помеху их дальнейшему существованию, были выс¬
казаны тогда, когда Коминтерн начал вырабатывать политику, отвечавшую
реальной ситуации и особенностям войны.
Нападение гитлеровской Германии на СССР сорвало осуществление этого
указания. 22 июня 1941 г. Сталин сказал Димитрову, вызванному в Кремль:
’’Коминтерн пока не должен выступать открыто. Партии на местах развертывают
движение в защиту СССР. Не ставить вопрос о социалистической революции.
Советский народ ведет Отечественную войну против фашистской Германии.
Вопрос идет о разгроме фашизма, поработившего ряд народов и стремящегося
поработить и другие народы”88. Эти указания легли в основу политики и прак¬
тической деятельности Коминтерна. Впрочем оперативное руководство компар¬
тиями в условиях войны оказалось невозможным. В нем не нуждались и пар¬
тии, показавшие умение самостоятельно ориентироваться в любой обстановке
и подымать массы на сопротивление гитлеровцам.
В то же время Сталин пришел к выводу, что Коминтерн мешает отношениям
с союзниками по антигитлеровской коалиции. 21 мая 1943 г. на заседании По¬
литбюро ЦК ВКП(б) он заявил: ’’Опыт показал, что и при Марксе, и при Ленине,
и теперь невозможно руководить рабочим движением всех стран мира из одно¬
87Там же.
88Там же.
54
го центра... Мы переоценили свои силы, когда создавали КИ и думали, что
сможем руководить движением во всех странах. Это была наша ошибка”89.
При этом Сталин добавил, что роспуск Коминтерна необходим, чтобы переста¬
ли обвинять компартии в том, что они будто бы являются агентами иностранно¬
го государства. На следующий день в газете ’’Правда” было опубликовано поста¬
новление Президиума ИККИ о роспуске Коминтерна.
После упразднения международной коммунистической организации связи
ЦК ВКП(б) с другими партиями начали осуществляться через Отдел междуна¬
родной информации, куда перешел с частью аппарата ИККИ Димитров. Ведущая
роль ВКП(б) в отношении других партий, включая финансовую и другие виды
помощи, реализовывалась уже непосредственно через аппарат ВКП(б).
Воздействие Коминтерна на развитие компартий было весьма противоречи¬
вым. Он помог их становлению как активных политических организаций. Но и
способствовал внедрению сталинизма в коммунистическое движение, навязы¬
вал командно-административные методы работы, являлся орудием манипулиро¬
вания этими организациями в разных странах, что ярко проявилось после под¬
писания советско-германского пакта. Это принесло тяжелейшие последствия
коммунистическому движению, серьезно скомпрометировало социалистические
идеалы.
09Там же, а.е.П.
2*
35
©1992 г.
Т.В. ГОНЧАРОВА
ИНДЕЙСКАЯ АМЕРИКА:
ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ КОЛОНИЗАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Когда 500 лет назад европейцы ступили на землю нового, только что от¬
крытого Колумбом континента, они встретили там многочисленные народы,
находившиеся на самых различных стадиях общественно-исторического разви¬
тия. Только население андского региона - "Империи инков" - насчитывало около
6 млн. человек, а уже через 50 лет после завоевания оно было сведено к 1,5 млн.
К настоящему времени индейское население Латинской Америки составляет
более 30 млн. человек. В ряде стран (прежде всего в Перу, Гватемале, Мексике)
наблюдается тенденция к его неуклонному увеличению. Индейские народы и
этногруппы все более настойчиво стремятся "вернуть свое", понимая под этим
лозунгом былое жизненное пространство, культурные ценности и самоуправ¬
ление.
Это стремление особенно усилилось в 70-80-е годы, накануне 500-летия от¬
крытия Америки, когда появился целый ряд индейских движений и организаций,
ставящих задачу возрождения коренного населения континента. Наиболее актив¬
ные из них - движения имени индейского повстанца Тупака Катари в Боливии и
Перу, индейско-крестьянские организации Колумбии, Эквадора, а также Федера¬
ция индейцев мескито в Никарагуа, которая одной из первых фактически поста¬
вила вопрос о разделе государства. Ранее, начиная с 20-х годов, выразителями
интересов индейского крестьянства выступали преимущественно ученые и лите¬
раторы (например Л. Валькарсель и Х.М. Аргедас в Перу), сами не индейцы по
происхождению. В 60-е годы на смену им пришли индеанисты из числа ради-
кальн эй интеллигенции, нередко призывавшие к освобождению коренного насе¬
ления с оружием в руках. Теперь же, как говорят об этом сами индейцы, настало
время им самим решать свои проблемы, без патронов и заступников, в соот¬
ветствии с доктриной "индеанидад" - индейского возрождения.
"Какое значение имеет для нас, индейцев, которые на собственной шкуре ис¬
пытали самую огромную из несправедливостей истории, празднование пятисот¬
летия открытия Америки? Мы страдали и продолжаем быть жертвами жесто¬
чайшего разрушения наших культур. Скорее всего, это празднование явится
еще одним проявлением цинизма в угоду чьим-то политическим интересам"1 - с
этими словами А. Валтасара, индейца из Мексики, консолидировались все пред¬
ставители коренного населения Америки на состоявшихся в 1986 г. в Мадриде и
на следующий год в Севилье встречах в Испании, посвященных знаменательной
дате. "Чтб нам, собственно, праздновать? Наше порабощение и долгие годы эко¬
номической, идеологической и духовной эксплуатации?" - спрашивал X. Моралес
из Перу. "Как можем мы праздновать это событие, если следствием его явилась
вся наша сегодняшняя судьба?" - заявил К. Лима из Боливии1 2.
Эта мысль проходит через многочисленные выступления и публикации индей¬
ских лидеров второй половины 80-х годов, в которых и конкиста, и последующие
пять столетий характеризуются как катастрофический для населения Нового
Света этап. Для них неприемлема сама концепция "встречи двух миров", как в
последнее время определяют открытие Америки большинство ученых, идея
1 Indigenismo, Madrid, 1989, № 8, р. 26.
2 Ibid., р. 26-29.
36
вступления их континента в общеисторическую жизнь, и прибытие европейцев
продолжают ими видеться прежде всего как крушение их собственного мира.
"Следует понять, - писал в связи с этим журнал "Пуэбло индио" в сентябре
1986 г., - что для нас, индейцев Америки, вообще не стоит вопрос о "встрече
двух культур", но лишь о вторжении, отчуждении наших территорий и коло¬
ниальном порабощении наших наций, народов и культур"3.
Такой взгляд на конкисту, судя по многочисленным свидетельствам, харак¬
терен для широких масс коренного населения континента, которое сохраняет не
только память о вторжении, но даже чувство ужаса, овладевшее в то страшное
время многочисленными обитателями государств инков и ацтеков и оставшееся
навеки запечатленным в преданиях, народных песнях и традиционных представ¬
лениях. По мере приближения 500-летия стали как будто свежее и болезненнее
воспоминания о том, как "грабили богатства Куско", как столетиями искореняли
"закон справедливости и равенства", саму "мудрость предков". "Не мы пришли в
земли испанцев, чтобы подчинить их, отнять у них то, что они имели" - вот та,
все более осознаваемая и настойчиво декларируемая причина, по которой корен¬
ное население Латинской Америки отказывается праздновать 500-летие4.
И хотя на той же встрече в Мадриде Д. Лопес из Гватемалы, так же как
некоторые другие индейские делегаты, говорил о том, что современные испанцы
не должны отвечать за историческое преступление своих предков, что коренное
население Америки с уважением относится к народу Испании и ее культуре, все
же антииспанские настроения еще далеко не изжиты.
Так, некоторые из индейских лидеров утверждают, что сама постановка воп¬
роса о праздновании зловещей даты свидетельствует о том, что расистские, ко¬
лониалистские стереотипы продолжают определять мышление европейцев, и
выступают за официальное аннулирование папской буллы, по которой их искон¬
ные земли были отданы Испании. Эти антииспанские настроения проявились
вполне отчетливо во время визита короля Хуана Карлоса в Боливию в 1987 г.,
когда активисты из движения Тупак Катари встретили его транспарантом "Мы
все еще страдае 1 от колониального бесправия", а также во время последней
поездки папы римского по латиноамериканским странам.
В то же время другие идеологи индейского возрождения не отвергают сотруд¬
ничества с Испанией, считая, что эта страна должна внести особый вклад в
улучшение положения коренного населения и искупить тем самым свою истори¬
ческую вину. Это было специально отмечено в заключительных документах вы¬
шеупомянутых встреч, которые, по мнению их участников, "должны стать нача¬
лом отсчета нового времени" - времени взаимопонимания, сотрудничества, свое¬
го рода реконкисты.
Эта идея реконкисты, под которой понимается прежде всего восстановление
былого жизненного пространства индейских народов, ликвидация всех форм дис¬
криминации и угнетения, является второй доминантой выступлений и публи¬
каций, относящихся к 500-летию открытия Америки, а также определяет саму
суть "философии возрождения" - "индеанидад", которая становится наиболее ха¬
рактерным направлением латиноамериканской общественной мысли, сменяя ин-
деанизм - теоретическое и общественное движение, ставившее целью поиск пу¬
тей решения индейской проблемы в странах Латинской Америки.
Вопреки имеющему место тезису об "амнезии американского индейца", о том,
что он якобы безразличен к своему прошлому и что "утраченная индейская ис¬
тория обязана своим восстановлением белому человеку"5, память о прошлом
передается из поколения в поколение даже у самых немногочисленных народов.
3 Ibid., р. 7.
4 Desarrollo indoamericano, Bogota, 1987, № 85, р. 65.
5 Galich М. Nuestros primeros padres. La Habana, 1979, p. 26.
37
У раскрестьяненных общинников, влачащих жалкое существование в бедняцких
кварталах Лимы, все же сохраняются, согласно исследованиям известного писа¬
теля Х.М. Аргедаса и ученого X. Роэля Пинеды, воспоминания о прежнем, раз¬
рушенном европейцами мире, который представляется лишенным каких бы то ни
было антагонизмов6. Хотя ряд ученых считает, что индейские народы Мексики и
Гватемалы имеют довольно смутное представление о своем прошлом, их фольк¬
лор, сюжеты праздничных представлений, относящиеся к конкисте и даже к
более ранним временам, регулярное посещение древних культ /рно-религиозных
центров, равно как высказывания индейских идеологов, свидетельствуют о дру¬
гом. ‘’Велика наша история и глубоки наши корни, - говорится в связи с этим в
одной из деклараций гватемальских индейцев, - и мы хотим взять оттуда лучшее
при установлении мира, справедливости и демократии в нашей стране”7.
Как всегда в таких случаях, в силу неизбежной диалектики духовной и ми¬
ровоззренческой деколонизации долго угнетаемых народов, не обходится без
преувеличений и древности автохтонных культур, и их значимости для развития
мировой цивилизации. Особенно это характерно для радикальных индеанистов,
их историко-философские построения служат в ряде стран, прежде всего в
Боливии и Перу, идеологической платформой для набирающих силу индейских
движений. Так, боливиец Ф. Рейнага, автор многочисленных работ, рисует до¬
вольно любопытные картины уходящего в глубь тысячелетий прошлого, впадая
нередко в прямо-таки фантастические преувеличения8. До бесконечности
идеализируемое доколумбово прошлое предстает и в писаниях индеанистов, и в
народных преданиях как архетип подлинно человеческого бытия, символ незави¬
симости и благополучия, неотчужденного труда и гармонии с природой. Это
находит отражение в программных манифестах и документах индейских движе¬
ний, например в “Манифесте Тиауанаку”, декларациях движения “Общинная
власть" в Перу или же в Политических тезисах Национальной конфедерации
боливийского крестьянства.
Отвергая те или иные определения инкского государства, выдвигаемые евро¬
пейскими историками, рассматривая их не более как сознательную фальсифи¬
кацию колонизаторов, идеологи индейского возрождения в Боливии и Перу про¬
должают культивировать миф о “великой социал готической империи", где все
работали на благо всех и хозяйственная деятельность была подчинена непре¬
ложным законам космоса. Интересно, что на уровне народного сознания анти¬
номия свободного прошлого и бесправного настоящего рассматривается под уг¬
лом древнейшей космологической парадигмы Высокого и Низкого (Анан и Урин):
прошлое - это высокое, положительное, порядок, богатство, человеческая соли¬
дарность, а настоящее - это низкое, отрицательное, социальный хаос, нищета и
отчуждение.
Отстаивая тезис о своей, параллельной официальной, истории, идеологи ин¬
дейского возрождения отвергают европейские представления о доколумбовых
обществах, в частности о раннеклассовом характере государств андского региона
и Центральной Америки, отказываясь от критериев социально-экономического
развития и делая акцент на особенностях цивилизационной парадигмы. Стремясь
определить место своих народов и культур в мировом сообществе, теоретики
индеанидад предпринимают ревизию всей историко-философской мысли Европы,
от Сократа и Аристотеля до Гегеля и Маркса9.
Унаследованное от Аристотеля отношение к варварам, т.е. всем, кроме
эллинов, “как к растениям или же животным”, нашло, по мнению Ф. Рейнаги,
° Ideologia mesianica del mundo andino. Lima, 1979, p. 342.
7 ALAI. Monreal-Quito, 1989, № 115, p. 17.
8 Ovando Sanz J. Indigenismo. La Paz, 1979, p. 135.
9 Sagrera M. Los rasismos en America "Latina”. Buenos Aires, 1974, p. 238-239.
38
многократное воплощение в европейской науке, и в частности в известной пе¬
риодизации Л. Моргана10 11. Оно же обусловило появление гегелевского тезиса о
Европе как завершении всемирной истории и наивысшем воплощении творче¬
ского духа, который лишает большинство человечества перспектив самостоя¬
тельного исторического творчества11. Неприемлемым представляется и истори¬
ческий материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, учение об общественных фор¬
мациях, которое трактуется как еще один вариант езропоцентристской интер¬
претации всемирно-исторического процесса, без учета специфики иного типа
цивилизаций и даже без допущения этой специфики12. Считая, что сама поста¬
новка вопроса о различных этапах развития делает возможным разделение куль¬
тур на более или менее развитые, идеологи индейского возрождения противопо¬
ставляют ей тезис о различных типах бытия, определяемых не количествен¬
ными, но качественными параметрами13.
Даже культурологические построения О. Шпенглера и А. Тойнби вызывают
теперь далеко не однозначную оценку, по-видимому из-за противопоставле¬
ния статичных "примитивных культур" и динамичных цивилизаций. И если в 20-
30-е годы индеанисты Боливии и Перу обращались к гипотезе Шпенглера о
следующем цивилизационном цикле в Латинской Америке как к философскому
обоснованию своих антиимпериалистических и антиолигархических устремлений,
то в 70-80-е годы речь шла уже о том, что и эти мыслители не сумели, в
конечном счете, преодолеть европоцентризм и проникнуть в закономерности ино¬
го типа цивилизации.
Впрочем, тотальное развенчание западных ценностей всегда имело по преиму¬
ществу риторический характер, представляя собой неизбежный первоначальный
этап психологического самоутверждения. Уже на рубеже 70-80-х годов все
больше индейских лидеров заявляло о необходимости усвоения научно-техни¬
ческих достижений современности, налаживая сотрудничество с латиноамери¬
канскими центрами в Европе, в частности в скандинавских странах, в расчете на
социологическую и финансовую помощь. И нередки случаи, когда индейские
лидеры, ранее столь непримиримые в отношении западной цивилизации, нахо¬
дили в европейских столицах прибежище во время гонений на родине.
Считая одной из первоочередных задач написание собственной истории -
истории 500-летнего сопротивления, идеологи индейского возрождения предпри¬
нимают также пересмотр и латиноамериканской истории, прежде всего ее офи¬
циальной интерпретации, создававшейся, по их мнению, также с европоцент¬
ристских позиций. Так, мексиканец М. Сагрера, разворачивая в своем объе¬
мистом произведении "Расизмы в Латинской Америке" широкую панораму лати¬
ноамериканской истории и общественной мысли, утверждает, что никакие из¬
менения социально-экономических структур и политических форм (войны за не¬
зависимость, революции, демократические реформы последних десятилетий) не
имели никакого отношения к коренному населению. Видя и в общественной мыс¬
ли, и в литературе, и в политических теориях, сменявших друг друга на протя¬
жении истекших пяти столетий, лишь проявление все того же имманентного ра¬
сизма людей европейского происхождения, Сагрера считает "тотальными этно¬
центристами", с их извечным пренебрежением ко всему индейскому, и таких дея¬
телей, как Х.К. Мариатеги, С. Альенде и Г. Гарсиа Маркес14. Вопрос о вос¬
создании собственной истории индейских народов является одним из требований
индейских движений.
Рассматривая конкисту и последующие пять ужасных для коренного насе¬
10 Reinaga F. Poder indio у Occidente. La Paz, 1974, p. 30.
11 Arrias-Larreta A. Literaturas aborigenas de America. Buenos Aires, 1968, p. 23.
12 Pueblo indio, Cuzco, 1981, № 1, p. 96.
13 America indigena, Mexico, 1981, № 4, p. 31.
14 Sagrera M. Op. cit., p. 208-210, 217, 219-220.
39
ления веков всего лишь как трагический эпизод, но никоим образом не финал их
самостоятельного общественно-исторического бытия15, теоретики индеанидад
все более определенно ставят вопрос о своего рода реконкисте, понимая под
этим возможность стать снова свободными людьми, живущими на своей исконной
земле и согласно собственным, идущим издревле установлениям.
Прежде всего считается необходимым выработать мировоззренческую плат¬
форму борьбы на основе собственной, "автохтонной" философии (или, как ее на¬
зывают иначе, "этнофилософии"). Эта философия, попытки создания которой
предпринимались в ряде работ радикальных индеанистов Боливии и Перу в 70-х
годах (хотя ее главные постулаты нашли отражение и в других документах
индейских движений), строится как развернутое противопоставление двух раз¬
личных типов мышления - рационалистического и интуитивного, двух способов
взаимодействия с окружающим миром - преобразующего и адаптационного. Ант¬
ропоцентризму европейцев противопоставляется понимание и самого человека, и
всех форм его жизнедеятельности как одного из проявлений самодовлеющего
космоса, - тот якобы имманентный экологизм индейцев, в котором видится залог
альтернативного образа жизни не только для Латинской Америки, но и для всего
человечества.
Именно антикосмизм европейского менталитета рассматривается как перво¬
причина антигуманного характера этой цивилизации, присущего якобы только ей
одной индивидуализма и отчуждения, а также ее империалистических интен¬
ций16. Всему этому противопоставляется автохтонная этика, основанная на не¬
расторжимой взаимосвязи всего сущего и коллективистских началах. В соот¬
ветствии с обычным в таких случаях принципом "зеркального отражения", ин¬
деец наделяется теми качествами, в которых ему продолжают отказывать при¬
верженцы социал-дарвинизма: так, его врожденными свойствами называются
честность, трудолюбие, справедливость, доброта, благородство души, якобы без¬
возвратно утраченные западным человечеством, обуреваемым ненасытным пот¬
ребительством и ненавистью.
Унаследованные от доколумбовых времен мифологемы (в ряде случаев они
наполняются вполне современным содержанием) в сочетании с некоторыми кон¬
цепциями европейского происхождения, признаваемыми теоретиками индеанидад,
представляют довольно эклектичные и внутренне противоречивые конструкции.
Противоречивость "автохтонной философии", призванной служить прежде всего
обоснованием возможности и исторической предопределенности провозглашаемой
реконкисты, порождена в значительной степени тем, что индейские идеологи
вынуждены сочетать изначально заданный антизападный настрой со все более
очевидной необходимостью приобщения к современной цивилизации. Представ¬
ляется возможным говорить о том, что, при всей своей условности, эти историко-
философские построения отвечают своему функциональному назначению - воз¬
родить уверенность в правомочности выдвигаемых коренным населением требо¬
ваний, подвести теоретический базис под те или иные формы самоопределения.
Ставя все более часто и настойчиво вопрос о самоопределении, о праве на
собственный, отличный от европейского путь развития, индейские идеологи обра¬
щаются к той концепции эндогенного развития, которая, начиная с 60-х годов,
получила распространение среди других неевропейских народов, и прежде всего в
Тропической Африке. Понимая под этноразвитием, так стала называться в
Латинской Америке эта концепция, развитие индейских народов и меньшинств в
соответствии с творческим потенциалом собственных культур в самом широком
значении этого слова, они рассматривают его как комплексный процесс, который
15 BonfИ Batalia G. Utopia у revolucidn. El pensamiento politico contemporaneo de los mdios en
America Latina. Mexico, 1981, p. 36.
16 Pueblo indio, 1982, № 2, p. 27.
40
должен начаться с отказа от подражания ’’моделям господствующего сектора”.
Индейские лидеры, так же как и подавляющее большинство индеанистов, счи¬
тают, что настало время отказаться от всякого рода аккультурационно-патер-
налистских программ и передать дело развития общин в руки самих индейцев.
Первейшей из предпосылок этноразвития видится восстановление общинных зе¬
мель, исконных территорий тех или иных этногрупп, поскольку автохтонные
культуры продолжают оставаться в своем большинстве бесписьменными.
Отвергая, вопреки реально развивающимся и несомненно усиливающимся
транскультурационным процессам, саму идею культурно-этнического синтеза,
перспективу формирования более однородных, хотя и этнически разнообразных
национальных сообществ, теоретики индеанидад отстаивают тезис о том, что
автохтонные культуры сохранили достаточную для самостоятельного развития
целостность и жизнеспособность17. И главное, что, по их мнению, позволяет
надеяться на какой-то свой путь развития, - значительная часть коренного на¬
селения, и особенно крестьянство традиционного сектора, сохранили присущие
ему менталитет, психологию, религиозные представления и генетически закреп¬
ленные стереотипы поведения, принципиально отличные от европейских. От¬
носясь в своем большинстве резко отрицательно к капитализму, отождеств¬
ляемому ими с европейской цивилизацией, теоретики возрождения надеются, что
все еще сохраняющийся коллективистский, общинный характер индейской этики
и психологии поможет индейским народам противостоять насаждаемому индиви¬
дуализму, создать некие модернизированные формы общинной организации и тем
самым сохраниться как обладающие своими характерными особенностями эт¬
носы.
Программа духовной деколонизации включает в себя также развернутую
"реабилитацию” коренного населения с расовой точки зрения, поскольку, как
говорится во многих документах индейских движений и работах радикальных
индеанистов, расовая дискриминация продолжает оставаться реальностью боль¬
шинства латиноамериканских стран18. "Гордость быть индейцем" - этот настой¬
чиво внедряемый идеологами возрождения девиз падает на подготовленную поч¬
ву, особенно в андских странах.
Ь то же время следует отметить, что среди части индейского населения,
которая оказалась наиболее вовлеченной в ассимиляционные процессы, подвер¬
глась воздействию западной масс-культуры, в частности телевизионных сериа¬
лов с блистательными белыми героинями и героями-суперменами, исследователи
отмечают стремление к деиндеанизации. Так, Дж. Фридлендер приводит сле¬
дующие оценки и определения всего индейского со стороны живущих недалеко
от Мехико крестьян науа: индейское - это неисторическое, неразвивающееся,
косное, чуждое подлинной культуре, индейцы - глупы и ничего не знают, можно
быть больше и меньше индейцем и т.д.19 Однако, не отвергая пользы образо¬
вания и стремясь улучшить свой социальный статус, большинство индейцев от¬
нюдь не стремится стать белыми.
Настаивая на приоритете культурно-этнической аутентичности, идеологи
возрождения отвергают путь постепенного формирования метисных наций (счи¬
тавшийся долгое время магистральным и среди советских исследователей), про¬
тивопоставляя ему полиэтническую модель и видя в метисации одну из наиболее
серьезных угроз и для дела освобождения, и для самого существования своих
народов. В связи с этим следует отметить, что концепция полиэтнических сооб¬
17 Ovando Sanz J. La Ley Agraria Fundamental у el destine luminoso dc los pueblos indigenas. La Paz,
1988, p. 237.
18 America indigena, 1981, № 1, p. 458.
19 Friedlander J. Beeng Indian Huayapan. A Study of Forced Identity in Contemporary Mexico. New
York, 1975, p. 71-72.
41
ществ все больше утверждается и на официальном уровне, в правительственных
программах развития.
Представление о метисах как о врагах и угнетателях индейцев в целом
отражает реальные взаимоотношения между двумя основными общностями сель¬
ского населения большинства латиноамериканских стран - общностями родствен¬
ными и в то же время сосуществующими в драматическом состоянии взаимо-
отрицания. "Метисы, - говорил в связи с этим перуанский индеец Сатурнино
Уиллка, - уничтожили сам образ жизни наших предков... Они не являются
истинными перуанцами, это мы, крестьяне, истинные перуанцы. И по этой при¬
чине мы питаем ненависть к метисам... Они говорят об индейцах, что мы, мол,
дикие, грязные, словно не понимая, что сами-то они богатеют от нашего раб¬
ского труда"20.
В глубине души индейцы сохраняют надежду на своего рода реванш над "мис-
ти" (метисами), это находит отражение в современных мифах о том будущем
царстве справедливости, после возвращения Инки, когда все поменяется местами
и тогда уже индейцы бичами будут заставлять метисов работать21. Об этом с
откровенностью писал еще в 1969 г. У го Бланко, вожак боевых крестьянских
синдикатов в перуанской долине Конвенсьон, - о своей вере в тот час, когда
метисы, как крысы, разбегутся вместе с белыми в страхе перед возмездием22.
Разумеется, нельзя абсолютизировать противоречия между индейцами и мети¬
сами, игнорируя диалектику транскультурационного процесса. Однако концепция
метисации и ассимиляции как окончательного разрешения расового дуализма
вызывает все большие сомнения у демократически мыслящих латиноамерикан¬
ских ученых: "Сегодня не говорят об ассимиляции индейцев даже те, кто еще не
так давно был полон решимости "окрестьянить" их или же превратить в про¬
летариев, чтобы ввергнуть в классовую борьбу. Сейчас уже начинают понимать,
что и политические требования, и все остальное может быть осуществимо толь¬
ко на путях культурно-этнического плюрализма"23.
Настойчиво декларируемый антиметисизм некоторых индеанистов тем более
странен, что многие из защитников и выразителей интересов индейского кре¬
стьянства, уже начиная с прошлого столетия, были людьми смешанной крови.
Так, Х.М. Аргедас еще в 1938 г. в одной из своих первых работ "Песня кечуа"
писал, что метисы не только способствуют проникновению элементов испанской
культуры в индейский мир Сьерры, но выполняют и противоположную функ¬
цию - приобщают к автохтонному культурному наследию креольское побе¬
режье - Косту24. И уже тогда начала вырисовываться главная концепция Арге-
даса, которая получает все большее распространение среди идеологов индей¬
ского возрождения: постепенная духовно-психологическая и культурная индеани-
зация общества. Писатель отчетливо представлял себе, насколько сложен и,
пожалуй, невозможен какой-то раздел по этническому признаку (он нигде не
ставит вопрос о какой-либо автономии), и единственно возможный реванш по¬
бежденных видит в естественно-историческом поглощении ими победителей.
Одновременно с попытками теоретической разработки проектов этноразвития
предпринимаются меры по защите и реальному возрождению индейских культур.
В основном это осуществляется по трем направлениям: соответствующие тре¬
бования к правительствам, создание центров по развитию индейских культур и,
наконец, разработка и внедрение такой системы образования для коренного на¬
селения, которая бы способствовала адаптации к современности без утраты
20 Neira Samanez Н. Huillca: habla un campesino peruano. Habana, 1976, p. 126.
21 Ideologia mesianica del mundo andino, p. 301.
22 Amaru. Lima, 1972, № 11, p. 14-15.
23 America indigena, 1981, № 4, p. 19.
24 Peru: identidad nacional. Lima, 1979, p. 392-393.
42
культурно-этнической специфики. На этом пути начинания индейских органи¬
заций смыкаются с деятельностью индеанистских институтов.
В 70-е годы требования по защите и сохранению языков и культурных тра¬
диций вышли на первый план в программах многих индейских движений (на¬
пример, боливийских и перуанских катаристов, КРИК в Колумбии, Федерации
шуаров Эквадора, Ассоциации общин амуэша и кампа в Перу и др.) в соответ¬
ствии с настойчиво декларируемой главной задачей - воспитания ’’индейского
самосознания”.
Тенденции к культурно-этническому самоопределению проявляет индейское
население даже тех стран, где в течение многих десятилетий действовала
система последовательного разрушения автохтонных традиций. Так, эти тенден¬
ции становятся все более заметными в Эквадоре, где после освобождения бес¬
правных и задавленных нуждой арендаторов от всевластия помещиков стало
возможным установление связей, взаимообмена между различными общинами,
районами и началось довольно быстрое развитие самосознания. Несмотря на
низкий образовательный уровень, здесь также стали появляться лидеры, выдви¬
гающие, помимо аграрных требований, свой проект этноразвития, включающий
в себя восстановление былого жизненного пространства, территориальную авто¬
номию и актуализацию культурного наследия25.
Характерно, что в Гватемале официальная политика 70-80-х годов по раз¬
рушению индейских общностей посредством переселения людей из разных этно¬
групп в так называемые ’’образцовые деревни” и ’’полюса развития” дала во
многом обратный эффект: началось преодоление традиционного общинного лока-
лизма, стало проявляться стремление к сохранению самосознания и исторической
памяти26. Индейско-крестьянские организации этой страны также ставят вопрос
о юридических и социальных гарантиях сохранения этнокультур, об образовании
на индейских языках и уважении к коллективистским традициям. Например, в
программу Комитета крестьянского единства включены такие вопросы, как
право индейцев на археологические ценности, уважение к священным церемо¬
ниальным центрам, превращенным в объекты туристского бизнеса, восстанов¬
ление доколумбовых верований.
В Мексике идеологические постулаты революции 1910 г., как бы снявшие
индейскую проблему вообще, а также многолетняя просветительско-аккультура-
ционная деятельность официального индеанизма в значительной мере блокиро¬
вали развитие самостоятельного индейского движения. Однако и здесь в по¬
следние десятилетия коренные этногруппы начинают заявлять о своем праве
остаться таковыми, не считая единственной перспективой слияние в единую мек¬
сиканскую нацию27. Усилив в 70-8Q-e годы борьбу за возвращение общинных
земель, формирующиеся индейские организации стали более активно выступать
за развитие этнокультур, за разработку образовательных программ в соответ¬
ствии с концепцией этноразвития, за подготовку индейской интеллигенции. Эти
требования нашли отражение в Манифесте уастеков, Декларации Темоайя, в
резолюциях последних конгрессов индейских народов Центральной Америки,
Мексики и Панамы, проходивших под знаком исторического возрождения ко¬
ренного населения, его права самому определять свою судьбу.
Большая роль в сохранении этнокультур принадлежит сельским учителям, как
правило, индейского происхождения. В последнее время их деятельность коорди¬
нируется Национальным союзом двуязычных индейских профессионалов, создан¬
ным в 1977 г., программа которого основана на идее максимального самоопре¬
деления индейских народов в рамках существующей государственной системы.
25 Chiriboga М. El problems agraria en el Ecuador. Quito, 1988, p. 68; America indigena, 1989, № 1,
p. 90.
26 ALAI, 1987, № 64-65, p. 21-24.
27 America indigena, 1982, № 1, p. 8.
43
Надо сказать, что в Мексике, где сложились прочные традиции гуманистического
индеанизма, особенно заметно его сближение с набирающим силу индейским дви¬
жением. Свидетельством этого явилась Шестая встреча по культуре майя, про¬
ходившая в 1987 г. на Юкатане, где ставился вопрос о перспективах эволюции
культуры майя28.
Наряду с требованием культурно-этнического самоопределения в развитии
движения за возрождение выдвигаются требования по восстановлению общин¬
ного уклада, повышению его реальной значимости. Идеологи этого направления
выступили в 70-80-е годы с развернутой реабилитацией общины - главной
ячейки автохтонных цивилизаций, в которой сейчас многие продолжают видеть
одно из основных препятствий на пути модернизации сельского хозяйства. За
восстановление общины в ее первоначальном значении выступили боливийские
катаристы, индейско-крестьянские объединения Гватемалы и Колумбии, считая,
что только на этом пути они смогут противостоять разрушительной для ин¬
дейского мира капиталистической экспансии. Речь идет не столько о форме зем¬
лепользования, хотя многие из них отстаивают преимущества коллективного
землевладения, сколько о сохранении того социума, который на протяжении мно¬
гих столетий служил гарантией выживания и этногруппы, и каждого отдельного
человека.
Процессы, развивающиеся в самих общинах, делают как будто бы изначально
утопическими проекты широкомасштабного возрождения традиционного уклада,
но в то же время содержат в себе возможность актуализации аграрного коллек¬
тивизма на новой основе. Многочисленные исследования общин в андских стра¬
нах и Месоамерике свидетельствуют, что хотя традиционный сектор в целом
подорван, община продолжает сохраняться как социум, с характерными для него
кровно-родственными и культурно-религиозными взаимосвязями29. Причем ее
амортизирующая, защитная функция заметно увеличивается по мере вовлечения
индейцев в чуждую им и пугающую их систему, основанную на принципах инди¬
видуализма.
Община разрушалась и продолжает разрушаться под воздействием прежде
всего внешних факторов; там же, где не было катастрофического наступления
на земли индейцев, общинный сектор продолжает сохранять довольно сильные
позиции. И там, где индейское крестьянство получает свободу выбора, оно стре¬
мится восстановить традиционный уклад, не отказываясь от преимуществ техно¬
логической модернизации. Это имело место в Боливии после аграрной реформы
1953 г., это наблюдается в Перу, где в некоторых департаментах неуклонно
возрастает числа общин, а также в Гватемале. Весьма примечательно, что мно¬
гие из элементов общины как этнокультурного социума сохраняются даже тогда,
когда самих общин фактически не существует. Так, в Перу в последнее время
образуются так называемые ’’обширные общины”, объединяющие единоплемен¬
ников в деревне и городе30.
О живучести общинных традиций свидетельствует повсеместно наблюдаемая
тенденция к актуализации коллективистских принципов, самообеспечению и
самоуправлению общин. Во время борьбы за землю в перуанской Сьерре в 60-
70-е годы настойчиво звучало требование о признании общин как основы сель¬
ского общества, ставился вопрос о новой модели развития страны, отвечающей
ее историческим традициям и культурно-этнической специфике. Стратегию со¬
противления официальной политике превращения в мелких землевладельцев при¬
няли в 80-е годы индейские общины Колумбии. Проект своего рода крестьян¬
ского государства, основанного прежде всего на автохтонном социокультурном
28 El Di'a, Mexico, 7.XI.1987.
29 Latin American Perspectives. Riverside, 1988, № 1, p. 74.
30 Promotion campesina, regionalization у movimientos sociales. Lima, 1985, p. 82; Salvador Rios G.
Estructura у cambio de la comunidad campesina. Lima, 1983, p. 223, 225, 246.
44
наследии, был выдвинут в 1986 г. в Боливии как альтернатива неприемлемой для
большинства земледельческого коренного населения капиталистической системе.
Основной тенденцией для общин, особенно там, где они претерпели сущест¬
венные вынужденные трансформации, становится стремление войти в современ¬
ные экономические отношения, так сказать, коллективным субъектом, не раз¬
рушая традиционной социо-структуры, амортизирующая роль которой становит¬
ся все более очевидной. Так, стремление сохранить общинный уклад проявляет
по мере либерализации в стране значительная часть крестьянства Гватемалы,
требуя от правительства, помимо решения аграрного вопроса, ’’уважения и при¬
знания форм организации и жизни индейских общин, их самосознания и обы¬
чаев"31. Земледельцы майя сохраняли традиционно-коллективистский уклад, да¬
же скрываясь в горах от карателей, перебираясь с места на место и каждый раз
снова засаживая небольшие участки. Формирующееся индейско-крестьянское
лидерство и здесь заявляет о необходимости выработать "единый народный
проект", который можно было бы противопоставить экспансии чуждого для них
либерализма.
Эти же тенденции все более определенно обозначаются и в Мексике, где
развитие капитализма в сельском хозяйстве давно лишило, казалось бы, какой-
либо значимости довольно мизерный общинный сектор. Об освобождении от всех
форм патернализма и необходимости решать проблемы развития общин собст¬
венными силами говорилось во время празднования Панамериканского дня ин¬
дейца в 1987 г., где основным стал тезис об автономизации общин под лозунгом
коллективного противостояния западной цивилизации32. В последнее время
объединяющую роль в борьбе индейского крестьянства за землю и самоуп¬
равление взял на себя Национальный координационный совет индейских народов,
стремясь как-то решить обостряющееся противоречие между потребностями мо¬
дернизации сельского хозяйства и все более очевидным стремлением индейцев
отстоять свое жизненное пространство, основы традиционного уклада.
За последнюю четверть века идеологами индейского возрождения было выд¬
винуто несколько проектов развития коренного населения, которые в целом сво¬
дились к двум основным альтернативам: дальнейшее развитие как органическая
часть своих национально-государственных сообществ или же максимальное са¬
моопределение, вплоть до образования самостоятельных индейских республик.
По существу, за этим стоял тот же самый выбор, перед которым оказалось
большинство колонизованных народов с самого начала европейской экспансии:
бежать от завоевателей, отсоединиться тем или иным способом, замкнувшись в
своей традиционности, или же принять, насколько это возможно, правила привне¬
сенного порядка, чужую шкалу ценностей и попытаться отстоять хоть какое-то
место на фактически не принадлежащей им больше территории.
В последнее время возобладала идея этнопроекта, отрицающая перспективу
слияния в более широкие национальные образования, но его разработка также
осуществляется в противоборстве двух различных концепций дальнейшего разви¬
тия. Первая - в соответствии с актуализированным и динамизированным насле¬
дием традиционного общества; и вторая - в соответствии с доминирующей ка¬
питалистической моделью, с ориентацией на научно-технический прогресс. В 70-
80-е годы имели место такие варианты этнопроекта, как воссоздание индейских
государств, даже с доколумбовыми названиями - Тауантинсуйю в Перу и Колья-
суйю в Боливии, на основе традиций инканата; "индейский социализм", противо¬
поставляемый научноиу социализму; альтернативное индейское государство, о
чем уже упоминалось выше, и, наконец, демографическая, культурно-психологи¬
ческая "индеанизация" стран с большим процентом коренного населения.
31 ALAI, 1989, № 115, р. 39.
32 Noticias indigenistas. Mexico, 1987, № 4, р. 15.
45
Хотя идея самоопределения в той или иной форме приобретает все большую
популярность, такого рода настроения не являются всеобъемлющими, и различ¬
ным вариантам этнопроекта противостоит также набирающий силу план нового
типа национальной интеграции. Характерно, что к нему обратились в 70-80-е го¬
ды некоторые из тех, кто десятилетием раньше призывал индейских крестьян к
вооруженной борьбе против государства. Так, У. Нейра Саманес (Перу), рас¬
сматривая перспективы индейского возрождения в контексте усиливающейся
глобальной взаимосвязи всех общественно-исторических явлений, видит теперь
преодоление индейско-креольского дуализма в формировании перуанской иден¬
тичности на основе автохтонного цивилизационного пласта. Отвергая опыт евро¬
пейского социализма, У. Нейра Саманес ставит вопрос о формировании какой-то
новой модели неэксплуататорского и коллективистского общества33. Считая
необходимым и неизбежным приобщение индейского кресгьянства к достижениям
прогресса, он в то же время признает далеко себя не исчерпавшее значение
общинного уклада и обращается в этом плане к опыту независимых государств
Тропической Африки.
Такого рода идеи встречают понимание и со стороны самих индейцев: для них
также становится все более очевидно, что повсеместно крепнущее стремление
"вернуть свое" может быть осуществлено не обязательно на путях насилия, воо¬
руженной борьбы, расовых войн, как это казалось многим еще два десятилетия
назад, но мирным, демократическим, естественно-демографическим способом.
Новый этап в борьбе коренного населения Латинской Америки, ожидание
нового "переворота времен" накануне знаменательной даты 500-летия - все это
развивается в русле усилившегося стремления к цивилизационному самоопреде¬
лению со стороны других неевропейских народов. Это определяет и точку зрения
многих ученых на перспективы решения индейского вопроса. Все чаще подлин¬
ное возрождение индейских народов связывается с перспективой нового типа ци¬
вилизации, которая в последних размышлениях А. Тойнби предстает как своего
рода "сельская цивилизация", войти в которую будет легче именно так называе¬
мому "отсталому большинству человечества"34, т.е. людям с пониженным уров¬
нем потребностей и экологически ориентированным мышлением.
Пробуждение "спящих народов" становится одной из главных особенностей
грядущего тысячелетия.
33 Peru: identidad nacional, р. 469-470.
34 Toynbee A. The Toynbee - Ikeda Dialogue. Man Himself Must Choose. Tokyo, 1976, p. 37-39.
46
CO 1992 г.
З.С. БЕЛОУСОВА
ПЛАН БРИАНА И ПОЗИЦИЯ СССР
В СВЕТЕ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
В наше время на межъевропейских правительственных встречах, различных
форумах общественности, в деловых кругах активно обсуждаются дальнейшие
перспективы континентального строительства, проблема единения Европы. Уже
давно действуют такие европейские структуры, как Европейское Экономическое
Сообщество (ЕЭС), Совет Европы, Европейский парламент и др. Сейчас речь
идет о вовлечении в общеевропейский процесс все большего числа стран кон¬
тинента.
До провозглашения М.С. Горбачевым идеи "общеевропейского дома" Совет¬
ский Союз относился ко всем проектам единения Европы, проектам европейского
союза отрицательно. Эта негативная позиция базировалась на ленинских по¬
стулатах раскола мира на две противоположные общественные системы и
неизбежности борьбы между ними. "У СССР свои задачи и цели, у окружающего
мира свои" — таков был руководящий принцип советской внешней политики
многие годы. Исключением можно считать, пожалуй, лишь отношение к де-
голлевской идее Европы "от Атлантики до Урала". Да и то, думается, потому,
что поддержка де Голля отвечала целям советской дипломатии, старавшейся
воспользоваться особой позицией Франции в НАТО. К тому же до конкретной
реализации дсголлсвской идеи было тогда далеко.
Практически любой международный проект рассматривался в Москве как
антисоветский, особенно если СССР с самого начала не приглашали принять
участие в его разработке, и отклонялся как неприемлемый. "Кто не с нами, тот
против нас" — эта формула была определяющей в подходе СССР ко многим
международным акциям.
Нс было исключением и отношение СССР к бриановскому плану "пан-Ев-
ропы". При этом советское руководство исходило из положений, сформули¬
рованных В.И. Лениным еще в 1915 г. в работе "О лозунге Соединенных
Штатов Европы". Ленин полагал, что создание объединенной Европы может
быть только соглашением капитал иегов о том, "как бы сообща давить социализм
в Европе, сообща охранять награбленные колонии"1. "Соединенные Штаты Ев¬
ропы, при капитализме, — писал он, — либо невозможны, либо реакционны"1 2.
Идея объединения европейских государств и создания между "географически
сгруппированными" народами Европы "нечто вроде федеральных уз" впервые
была провозглашена французским министром иностранных дел Аристидом
Брианом на 10-й сессии Ассамблеи Лиги наций 5 сентября 1929 г., а затем была
подробно изложена им в меморандуме 1 мая 1930 г.
Выдвижение проекта Бриана было продиктовано стремлением Франции укре¬
пить ее экономические и политические позиции в Европе. В конце 20-х годов
между европейскими государствами шли острые дискуссии по поводу уплаты
1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 354.
2 Там же. с. 352.
репараций Германией и военных долгов этих стран Соединенным Штатам
Америки, горячо обсуждался вопрос об эвакуации союзнических войск из Рейн¬
ской зоны. На экономической конференции в Гааге 31 августа 1929 г. был
подписан протокол, согласно которому участвовавшие в конференции державы
приняли в принципе новый план расчетов — так называемый "план Юнга".
Введение этого плана в действие оказалось связанным с рядом факторов по¬
литического порядка. В качестве непременного условия принятия плана Юнга
Германия выставила требование досрочной эвакуации рейнских провинций.
Франция вынуждена была пойти на уступки.
Итоги Гаагской конференции показали, что Франция отказалась от своих
прежних твердых позиций в отношении выполнения Германией версальских
постановлений.
Вероятно, чтобы как-то сгладить впечатление от проявленной слабости в
Гааге и отвлечь внимание общественного мнения от подписанных соглашений,
Бриан неделю спустя выступил в Женеве с новой дипломатической инициа¬
тивой.
В проекте европейского союза, предложенном Брианом, речь шла об объеди¬
нении государств на основе федерации. Хотя в меморандуме и содержались
заверения в лояльности Лиге наций, подразумевалось создание независимого от
Лиги и даже в известной мере противостоящего ей объединения европейских
государств.
Бриановский план имел три аспекта: экономический, финансовый и полити¬
ческий. Однако на первых порах подчеркивалась необходимость экономического
объединения. Идея экономической федерации, связанная с планами ликвидации
таможенных пошлин, была выдвинута с целью заручиться поддержкой евро¬
пейского крупного капитала, заинтересованного в интернационализации своей
деятельности. "Политический пакт, — писала французская газета "Тан", — ров¬
но ничего нс значит, пока правительства вынуждены сталкиваться по эконо¬
мическим вопросам. Не может быть Соединенных Штатов Европы, если не
будет союза европейских промышленников, решивших договориться, а не бо¬
роться между собой"3.
С помощью планировавшегося союза Бриан надеялся сгруппировать вокруг
Франции не только восточноевропейских союзников, но и так называемые
нейтральные страны — Испанию, Швецию, Норвегию, Данию, а также балкан¬
ские государства, находившиеся вне сферы французского влияния. Кроме того, с
помощью нового плана Бриан рассчитывал создать заслон экономическому
проникновению американского капитала в Европу и одновременно помешать
наметившемуся сближению Англии и США. Задуманный им в рамках Лиги наций
проект "пан-Европы" исключал тем самым из новой группировки государства, не
входившие в эту организацию.
Меморандум Бриана вызвал неоднозначную оценку в мире. Но поскольку он
был окрашен в пацифистские тона, никто не решался отвергнуть его с порога.
Раздробленность Европы выдавалась в нем за главную причину невозможности
обеспечить се безопасность. В преамбуле меморандума указывалось на опас¬
ность, угрожавшую миру в Европе как в политике, так и в экономической и
социальной областях ввиду несогласованности решения экономических вопросов
и отсутствия связи между "материальными и моральными силами" в Европе.
Вместе с тем реакция европейских правительств и общественного мнения была,
в основном, сдержанной.
До сих пор этот весьма актуальный для нынешнего процесса европейской
интеграции вопрос недостаточно изучен. В сентябре 1991 г. Международная
3 Le Temps, 8.IX.1929.
48
ассоциация современной истории Европы организовала в Женеве предста¬
вительный коллоквиум на тему "Бриановский план европейского федерального
союза”, собравший историков из 25 стран Европы .
Многие советские дипломатические документы даже 20—30-х годов все еще
имеют гриф "секретно” и не выдаются исследователям. По заявке Института
всеобщей истории РАН в Архиве внешней политики Российской Федерации
рассекретили лишь отдельные документы, касающиеся бриановского проекта
"пан-Европы”. Так в моем распоряжении оказались письма М.М. Литвинова,
Н.Н. Крестинского, Г.Я. Сокольникова и других деятелей наркомата иностран¬
ных дел (НКИД), адресованные генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Ста¬
лину, членам политбюро и секретарям ЦК. Это интересные, по-своему любо¬
пытные документы. Однако установить реакцию адресатов наркоминдела, в
частности Сталина, ознакомиться с ответами на письма и предложения нар¬
комата, с какими-либо инструкциями политбюро, к сожалению, не удалось. К по¬
добного рода документам так называемого директивного характера доступа все
еще нет.
Просмотренные архивные документы показывают, что наркоминдел подробно
информировал политбюро и лично Сталина по вопросам, связанным с планом
Бриана. Как правило, эта информация сопровождалась просьбой рассмотреть на
заседании политбюро поставленный вопрос (иногда срочно — путем опроса). Как
проходили эти обсуждения нам, увы, неизвестно. Но теперь мы знаем, что
политбюро рассматривало не только принципиальные вопросы внешней поли¬
тики. На его заседаниях обсуждались и утверждались как персональный состав
членов делегаций (дипломатов и экспертов), направлявшихся за границу, так и
состав сопровождавшего делегации технического персонала (машинисток, стено¬
графисток, шифровальщиков, переводчиков). Письма по чисто организационным,
второстепенным вопросам адресовались самому Сталину, который, как видно,
пристально следил за всеми контактами с заграницей. Лишь изредка такие
письма направлялись А.Н. Поскребышеву, председателю комиссии по выездам
за границу. Без политбюро наркоминдел не мог самостоятельно решить, какая
именно стенографистка или машинистка должна была сопровождать делегацию.
Все письма Сталину имеют гриф "секретно”.
Советское правительство, не будучи членом Лиги наций, получило 17 мая
Ассоциация была создана в Страсбурге в ноябре 1968 г. группой историков из нескольких стран
но инициативе проф. Страсбургского Университета Фернана Люильс. Сейчас она насчитывает свыше
400 историков, работающих во всех странах Европы, а также в CHIA и Канаде. Согласно своему
статусу ассоциация преследует научные цели, а именно: содействует развитию обмена мнениями и
информацией между преподавателями и исследователями современной истории Европы, улучшению и
расширению исследований и преподавания современной истории Европы, сотрудничеству со всеми
национальными и международными организациями по европейской проблематике. Па протяжении 20
лет ею было организовано 14 международных коллоквиумов в Страсбурге, Познани, Варне, Майнце,
Женеве, Бухаресте, Барселоне, Штутгарте, Москве, Селлине (о. Рюген), Вашингтоне, Мадриде и
других городах Европы и США. Во многих из них принимали участие советские историки. С 1982 г.
ассоциацию возглавляет проф. Парижского Университета (IV) Жак Барьсти. В 1990 г. вице-пре¬
зидентами избраны проф. А.О. Чубарьян (Москва), до этого в течение многих лет являвшийся
членом Бюро ассоциации, и проф. Карл Отмар фон Арстин (Майнц). Генеральным секретарем не-'
изменно избирается проф. Женевского Университета Антуан Флёри.
Было заслушано около 40 выступлений, в которых рассматривались различные стороны
бриановского плана, как то: "Интеллектуалы и движения в пользу идеи европейского союза", "Эко¬
номические аспекты проекта европейского союза", "Политические круги и общественное мнение",
"Позиции международных институтов". Болес половины докладов были посвящены анализу реакции
правительств и общественного мнения континента на "Меморандум" Бриана, разосланный 17 мая
1930 г. Францией правительствам 27 европейских стран. Ораторы, как правило, рассматривали по¬
зиции европейских стран в отношении плана Бриана на основе архивных документов своей страны.
49
1930 г. меморандум Бриана лишь для ознакомления. В тот же день поверенный в
делах Франции в СССР по поручению своего правительства сделал заместителю
наркома иностранных дел Литвинову следующее заявление: "Представляя себе
проектируемую европейскую организацию лишь под контролем и в рамках Лиги
наций и получив это полномочие лишь только от европейских государств —
членов Лиги наций, французское правительство должно было на деле ограничить
этими государствами консультацию, которая была ему поручена. Но оно считало
необходимым в своем меморандуме точно подчеркнуть ту общую и сущест¬
венную оговорку, что европейский союз не может ни в чем быть проти¬
вопоставлен ни одной этнической группе вне Лиги наций"4. Далее французский
дипломат пояснил, что меморандумом специально предусмотрено, что комитет,
который призван служить исполнительным органом европейского союза и в
котором могут быть представлены лишь отдельные европейские государства,
будет иметь возможность всякий раз, когда он найдет это необходимым или
целесообразным, приглашать в любой момент представителей других государств,
входящих или не входящих в Лигу наций, но которые были бы специально
заинтересованы в изучении какого-либо определенного вопроса5.
Исходя из идеологической установки, что любой союз или организация ка-„
питалистов имеет своей конечной целью борьбу против СССР, Литвинов 7 июня
1930 г. инструктировал советских полномочных представителей, аккредитован¬
ных в странах, которым Бриан формально предложил войти в состав намеченной
им европейской федерации: "В беседах на эту тему вам предлагается указывать
на абсолютно отрицательное отношение нашего Союза к плану Бриана. Смысл
этой затеи мы видим главным образом в стремлении со стороны Франции к
усилению своего влияния на политику европейских стран и даже к установлению
своей гегемонии... Поскольку решения федерации будут направлены против
интересов стран, остающихся вне се, в лице федерации мы будем иметь вполне
сложившуюся обособленную группировку, которая будет противопоставлять
'себя остальным странам или другим группировкам... Об отрицательном значении
федерации для Советского Союза говорить не приходится. Если она своим
острием сейчас направлена не только против Союза, но и против САСШ
(Североамериканских Соединенных Штатов. — З.Б.), а возможно, и против
Англии, то в дальнейшем, в случае затруднительности борьбы против последней,
Франция пойдет по линии наименьшего сопротивления, сосредоточив огонь на
нашем Союзе. Возможно, что план Бриана имеет своей основной целью борьбу
против СССР... Эти взгляды вам необходимо будет развивать, имея в виду, что
целью должен быть срыв всей затеи"6.
Таким образом, инструкция НКИД ориентировала советских дипломатов на
безоговорочное отклонение бриановского проекта. Болес того, она нацеливала
на активное противодействие проекту. Советским руководством отрицательно
рассматривался и вопрос о возможном приглашении СССР к участию в пла¬
нировавшейся европейской федерации. Этот вопрос приобрел практическую
актуальность в связи с усилиями Турции, которая также нс имела приглашения и
стала его добиваться для себя и для СССР, действуя через Италию и Гер¬
манию.
В упомянутой инструкции от 7 июня 1930 г. Литвинов отмечал, что Турция
этого шага не согласовывала с СССР. "В случае запросов об отношении СССР к
эвентуальному приглашению в федерацию, необходимо указывать, — писал
заместитель наркома, — что, поскольку Советский Союз как не чпен Лиги наций
4 Документы внешней политики СССР (далее — ДВП СССР), т. 13. М., 1967, с. 264.
5 Там же, с. 265.
6 Там же, с. 316.
50
заранее исключен из федерации, вопрос перед нашим правительством нс сто¬
ит и не обсуждается"7.
Между тем итальянский посол в Москве В. Черутти 25 июня 1930 г. сообщил
Литвинову о намерении своего правительства предложить Бриану пригласить на
конференцию по созданию "пан-Европы" все европейские страны, включая
СССР и Турцию. Перед этим германский посол в Москве Г. Дирксен также
сообщил, что Германия выскажется за приглашение всех европейских стран.
Ответ Литвинова обоим послам был один и тот же: "Мы принимаем к сведению
сообщение о делаемых Германией и Италией предложениях... Должно быть ясно
установлено, что предложение делается исключительно по инициативе и по
решению Германии и Италии, а не по нашей просьбе и не по соглашению с
нами"8.
В начале сентября 1930 г. в Женеве для обсуждения бриановского проекта
собралась конференция министров иностранных дел европейских государств,
входящих в Лигу наций. Бриан предложил, чтобы конференция приняла поста¬
новление о создании временного объединения по принципу панъевропейской
федерации. Против решительно выступил английский министр иностранных дел
А. Гендерсон, считая, что это дело Лиги наций. Его поддержали министр
Германии Ю. Курциус и другие делегаты. В. итоге было решено передать план
Бриана на обсуждение в Совет Лиги наций.
Воздержавшись от принятия бриановского проекта в целом, конференция,
однако, одобрила саму идею сотрудничества европейских стран. Бриану было
поручено выступить с докладом в Совете Лиги наций. Решение вопроса о при¬
влечении СССР и Турции к участию в проекте, на чем настаивала итальянская
делегация, также было предоставлено Лиге наций.
Постановка вопроса о приглашении СССР имела свои последствия. Она от¬
крыла возможности, которыми не преминули воспользоваться дипломаты-
реалисты из руководства наркоминдела во главе с Литвиновым, 26 июля 1930 г.
сменившим больного Чичерина на посту наркома. Несмотря на отрицательное
отношение СССР в целом к проекту "пан-Европы", были предприняты попытки
добиться участия СССР в обсуждении европейских дел.
Об этом мы можем судить по письму Литвинова, направленному им Сталину
27 июля 1930 г. Документ этот никогда не публиковался. Литвинов подробно
изложил мотивы, по которым наркоминдел, по-прежнему рассматривая план
Бриана как антисоветский, вместе с тем считал полезным принять участие в
заседаниях по его обсуждению. "Мне представляется, — писал Литвинов, — что
можно провести некоторую аналогию между нынешней затеей Бриана и пактом
Келлога. И та и другая затея может быть целиком направлена против СССР,
если мы добровольно, несмотря на приглашение, останемся совершенно в
стороне, а с другой стороны она может быть значительно обезврежена в случае
нашего участия в той или иной форме, хотя бы с целью разоблачения"9 .
В этом документе "затеей" именуется и пакт Келлога — Бриана от 27 ав¬
густа 1928 г. об отказе от войны в качестве орудия национальной политики, хотя
к тому времени СССР подписал не только сам пакт, но и Московский протокол
от 9 февраля 1929 г. о досрочном введении в действие этого пакта. Московский
протокол, кроме СССР, подписали семь соседних с ним государств. Налицо явное
расхождение с официальной оценкой пакта Келлога — Бриана.
Далее Литвинов писал Сталину, что речь не идет сейчас об участии в какой-
либо федерации государств или о подписании какой-либо конвенции. Пока
7 Там же, с. 317.
8 Архив внешней политики СССР (далее — АВП СССР), ф. 136, 1930, оп. 14, д. 598, л. 1.
9 АВП СССР, ф. 5, Секретариат Литвинова, оп. 10, д. 19, п. 58, л. 1.
51
придется лишь решать вопрос о том, "принять ли приглашение на предвари¬
тельное совещание... для обсуждения возбужденного Брианом вопроса о феде¬
рации". Судя по полученным Брианом ответам, "большинство государств вы¬
скажется за создание какой-либо комиссии для изучения вопроса, иначе говоря,
предложит затянуть осуществление идеи Бриана". Тем нс менее Литвинов
высказывался за принятие приглашения, если оно последует, и объяснял почему:
"Как бы то ни было, при выявившихся значительных противоречиях между
будущими участниками совещания, наш представитель — хотя бы в роли
наблюдателя — мог бы очень много сделать для борьбы с антисоветскими
элементами и антисоветскими намерениями на самом совещании"10 11. И как бы в
продолжение той же мысли: "Представляется совершенно необходимым иметь в
стане врагов по крайней мере своего наблюдателя... Мы должны, однако,
настаивать на том, чтобы не повторилась та же процедура, как при принятии
пакта Келлога, и чтобы нам была предоставлена возможность участвовать во
всех фазисах развития дела с самого начала, а не так, чтобы нам предлагали
присоединиться к заранее обсужденному без нашего участия делу"11. Это, ка¬
залось, было главным для советской стороны. Литвинов предлагал направить в
Женеву в качестве наблюдателя сотрудника НКИД Сокольникова. Письмо Ста¬
лину заканчивалось словами о том, что изложенную в нем точку зрения раз¬
деляет вся коллегия наркоминдела12.
В отличие от прежних официальных заявлений об отрицательном отношении
СССР к проекту Бриана и невозможности принимать в нем участие, в письме
Литвинова предлагалось "в случае получения приглашения ответить посылкой на
женевское (подготовительное) совещание нашего наблюдателя". Это предло¬
жение представляется важным потому, что СССР все же вовлекался бы в то,
что мы сегодня назвали бы общеевропейским переговорным процессом.
Сходная мысль была высказана Литвиновым и накануне обращения к Сталину
в его интервью представителям иностранной прессы в связи с его назначением
народным комиссаром иностранных дел. В нем, в частности, он говорил о стрем¬
лении СССР "к изысканию и осуществлению способов мирного сосуществования
обеих социальных систем, поясняя, что "мы ограничимся ролью наблюдателей в
тех случаях, когда действительные цели международных жестов нам недо¬
статочно ясны и нуждаются в уточнении и раскрытии"13.
Таким образом, Литвинов искал обходные пути к советскому участию в
общеевропейском процессе, предлагая, в частности, институт наблюдателя. В
том, что тактика Литвинова далеко не полностью соответствовала позиции выс¬
шего партийно-государственного руководства страны в лице членов политбюро,
нас убеждает другое письмо Литвинова Сталину от 18 октября 1930 г.
Из него мы узнаем о важном и до сих пор неизвестном факте, а именно:
политбюро на своем заседании 25 сентября 1930 г. приняло решение о неучастии
СССР в Женевской комиссии по изучению проблем пан-Европы. Тем не менее
руководители НКИД, в частности Литвинов, действовали так, как будто такого
решения нс существовало. В "Документах внешней политики СССР" (т. 13, 14)
содержится обширная дипломатическая переписка, из которой видно, что нар-
коминдел продолжал обсуждать с представителями разных стран и уровней
вопрос об участии Советского Союза в панъевропейской комиссии.
Тогда же, 25 сентября 1930 г. на политбюро было решено сообщить о
принятом отрицательном решении германскому поверенному в делах в Москве
10 Там же, л. 2.
11 Там же.
12 Там же.
13 ДВП СССР, т. 13, с. 425, 427.
52
Твардовскому, который обращался в наркоминдсл с соответствующим запросом.
Однако Литвинов в письме Сталину отмечал, что "до получения приглашения от
Комиссии нам не следует связывать себя какими-либо ответами германскому
правительству", и заканчивал его предложением: "Ввиду изложенного прошу
разрешить не сообщать пока немцам о нашем решении, предоставив выбор
момента для этого сообщения НКИД 14. Как мы видим, в то время Литвинов
позволял себе еще высказывать собственную точку зрения, и, несмотря на
принятое решение политбюро, постепенно настаивать на своем. И спустя три
месяца, 24 декабря 1930 г., он заверял министров иностранных дел Германии и
Италии Ю. Курциуса и Д. Гранди, что "наше согласие на участие нс исключено и
что многое зависит от тех обстоятельств и условий, при которых последует
приглашение"15.
16—21 января 1931 г. на второй сессии Комиссии по изучению европейского
союза было принято решение о приглашении правительств Исландии, Турции и
СССР принять участие в работе Комиссии, которая постановила рассмотреть
проблемы, порожденные мировым экономическим кризисом. Литвинов восполь¬
зовался приглашением генерального секретаря Лиги наций Э. Друммонда, чтобы
выразить протест против того, что "одна группа европейских государств могла
присвоить себе право вынесения решений по вопросу о допущении или недо¬
пущении другой группы европейских же государств в коллектив, претендующий
на название панъевропейского"16 . По мнению Литвинова, нельзя понять ситуа¬
ции, когда, например, Швейцария с территорией 0,4% Европы или даже Нор¬
вегия с территорией 3,1%, выступают против допущения такого государства, как
Советский Союз, который занимает только в Европе территорию, состав¬
ляющую 45% всей Европы17.
Не устраивало СССР и то, что во время дебатов в Комиссии высказывалась
мысль, что там могут быть поставлены вопросы, обсуждение которых в при¬
сутствии советского представителя нежелательно. И все же в феврале 1931 г.
советское правительство объявило о своей готовности принять участие в ра¬
ботах комиссии пан-Европы, правда, с некоторыми оговорками. Вероятно, реше¬
ние политбюро от 25 сентября 1930 г. было пересмотрено, но когда, при каких
обстоятельствах, по каким мотивам и чьей инициативе — на этот счет до¬
кументов у нас пока нет.
Следующая сессия панъевропейской комиссии была намечена на май. 3 апреля
Литвинов в письме к Сталину (копия — Молотову), напоминая вкратце историю
вопроса об участии СССР в Комиссии, сообщал, что, по мнению Бриана, СССР и
Турция, не будучи членами Лиги наций, не могут быть и членами какого-либо
постоянного органа Лиги. "Бриан и его сателлиты, — писал нарком, — пред¬
лагали поэтому привлекать нс членов Лиги к участию лишь в разработке от¬
дельных вопросов, от случая к случаю"18.
На майской сессии предполагалось рассмотреть три вопроса: 1) доклад орга¬
низационной подкомиссии о статуте, организации и методах работ комиссии; 2)
предложение об участии свободного города Данцига в некоторых работах ко¬
миссии; 3) мировой экономический кризис. Германская и итальянская делегации
настаивали на допущении СССР и Турции к участию в обсуждении всех воп¬
росов. Бриан же не только возражал против этого, но и предлагал сузить
участие СССР и Турции даже по вопросу об экономическом кризисе. Ему удалось
14 АВП СССР, ф. 5, Секретариат Литвинова, он. 10, д. 19, п. 58, л. 4.
15 ДВП СССР, т. 13, с. 757.
16 ДВП СССР, т. 14. М., 1968, с. 68.
17 Там же, с. 69.
18 АВП СССР, ф. 5, Секретариат Литвинова, он. 11, д. 15, п. 73, л. 62.
53
провести первым пунктом повестки дня организационный вопрос, а третьим —
экономический, на обсуждение которого и приглашались делегации Исландии,
Турции и СССР. Таким образом, СССР получил приглашение лишь на обсуж¬
дение третьего пункта повестки дня — вопросы мирового экономического
кризиса. Как писал Литвинов Сталину, "мы участвуем в комиссии не в качестве
равноправного члена, а лишь от случая к случаю, хотя бы эти случаи охва¬
тывали 90% работы Комиссии"19.
Понимая все выгоды активных выступлений советских представителей р
Комиссии и возможных политических контактов в Женеве и признавая, с другой
стороны, малозначительность организационного вопроса, коллегия НКИД тем нс
менее полагала, что это дело престижа, которым ни в коем случае не следует
пренебрегать. “Раз мы заявили о своей готовности войти в комиссию Пан-
Европы, — считал Литвинов, — то мы должны настаивать на участии во всех
вопросах комиссии, включая организационный. Пока же этого добиться не
удалось, мы должны взять обратно свое заявление о посылке делегации и
ограничиться посылкой наблюдателя...
Ввиду малого срока, остающегося до майской сессии, а также большого
интереса, проявляемого к нашему решению со стороны Германии, Италии и
Турции, я просил бы об обсуждении вопроса на ближайшем заседании П.Б.
(политбюро. — З.Б.)"20.
1 апреля Литвинов направил Сталину (копии — Молотову и Ворошилову)
проект ответа Лиге наций на приглашение в панъевропейскую комиссию. Пере¬
сылая затем этот ответ Л.М. Хинчуку, полпреду СССР в Германии, для от¬
правки заказным письмом в Женеву, Литвинов писал, чтобы письмо не от¬
правлялось до получения от него дополнительных инструкций, хотя текст ответа
был утвержден в ЦК. Он просил ознакомить с текстом ответа германское
министерство иностранных дел, передав ему копию21.
Принимая приглашение на майскую сессию, наркоминдел вместе с тем
протестовал против устранения СССР от обсуждения двух первых пунктов
повестки дня. В письме полпредам СССР в Греции В.П. Потемкину и в
Германии Л.М. Хинчуку Литвинов писал о своих расчетах на то, что Германия,
как и Италия, будет "решительно возражать против этого устранения, на¬
рушающего принцип равноправия, который и Курциус, и Гранди так горячо
отстаивали в Женеве в январе. Во всяком случае, Друммонд до решения
Комиссии не должен был писать нам, что мы должны явиться только к 3-му
пункту"22.
Итальянские и германские дипломаты в беседах с советскими представите¬
лями по-прежнему проявляли заинтересованность в привлечении СССР к об¬
суждению всех вопросов. Италия, по словам итальянского посла в Москве Б.
Аттолико, "готова была идти в этом деле до конца", но не решалась взять на
себя инициативу. Если же это сделает Германия, то Италия "пойдет вместе с
ней вплоть до постановки под вопрос свое участие в пан-Европе, т.е. выхода
оттуда"23. Но, как писал Литвинов Хинчуку 26 апреля 1931 г., "у меня лично
такое впечатление, что ни Италия, ни Германия в настоящий момент нс будут
заострять своих отношений с Францией на вопросе о нашем участии"24.
В третьей, майской, сессии Комиссии по изучению вопроса о европейском
19 Там же, л. 63.
20 Гам же.
21 Там же, л. 74.
22 Там же, л. 79.
23 Там же.
24 Там же, л. 80.
54
союзе принял участие Литвинов, выступивший с большой речью. Он проана¬
лизировал сложившуюся в мире ситуацию, вызванную мировым экономическим
кризисом, отметив, что Комиссия должна обратить главное внимание на изучение
специфических причин как экономического, так и политического порядка, при¬
дающих особую остроту и глубину этому кризису. Он наметил те направления,
по которым, должны идти поиски средств для смягчения кризиса. Отвергнув
обвинения в ’’советском демпинге”, Литвинов предложил принять совместную
декларацию об обязательной продаже товаров на внутреннем рынке не дороже
внешнего. Западные страны обвиняли СССР не только в демпинге, но и в
применении принудительного труда, что, однако, также отвергалось советскими
представителями.
В заключение своей речи Литвинов выдвинул идею экономического пакта о
ненападении, представив для рассмотрения проект протокола об экономическом
ненападении25.
Советский проект предполагал мирное сосуществование стран вне зависи¬
мости от их политического режима и экономической системы на основе прин¬
ципов, провозглашенных международной экономической конференцией 1927 г.
Итальянская печать интерпретировала выдвижение такого проекта пакта как
отказ СССР от коммунистической пропаганды в отношении капиталистических
стран и "от программы мировой революции... Пакт экономического ненападе¬
ния — в действительности это пакт Келлога, примененный к экономическим
отношениям”, — писала "Джорнале д'Италиа”26.
23 сентября 1931 г. Литвинов получил телеграмму от генерального секретаря
Лиги наций, в которой говорилось о том, что 26 сентября соберется Комиссия по
изучению европейского союза. В телеграмме сообщалось, что будут обсуждать¬
ся, наряду с прочим, и вопросы создания специальных комиссий по пакту об
экономическом ненападении и по распространению особых облегчений на
незерновые сельскохозяйственные продукты. Как писал в тот же день народный
комиссар иностранных дел секретарю ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановичу, из теле¬
граммы можно заключить, что остальные пункты повестки дня, как, например,
избрание председателя панъевропейской Комиссии на новый год, "не нуждаются
в нашем участии”. Поскольку речь могла идти лишь об определении состава
двух упомянутых комиссий и назначении срока их созыва, то "в этих двух
вопросах мы не заинтересованы... да и вряд ли наше присутствие может оказать
влияние на состав комиссии”27.
Советский Союз добивался ограничения состава комиссии по пакту об
экономическом ненападении европейскими странами, но Лига наций уже
предрешила вопрос включением в эту комиссию представителей внеевропейских
стран. В этих условиях Литвинов считал совершенно излишним посылать в
Женеву кого бы то ни было28. По мнению Литвинова, созданная с согласия Лиги
наций панъевропейской Комиссией специальная подкомиссия для изучения и
рассмотрения советского проекта пакта призвана была затруднить прохождение
пакта. Он считал, что именно с этой целью комиссия была создана в "чрез¬
вычайно широком составе”, с участием многих внеевропейских стран, в том
числе и тех, с которыми СССР не имел нормальных отношений. "Если под¬
комиссия не сможет теперь засаботировать прохождение пакта и вынуждена
будет представить доклад январской сессии Пан-Европейской комиссии, то она,
несомненно, приложит все усилия к тому, чтобы путем поправок и изменений
25 ДВП СССР, т. 14, с. 342—343.
26 Цит. по: АВП СССР, ф. 5, Секретариат Литвинова, оп. И, д. 15, п. 73, л. 139.
27 Там же, л. 158.
28 Там же, л. 159.
55
лишить пакт всякого значения для нас и даже сделать его неприемлемым для нас
самих, причем особенно большую роль будет играть вопрос о демпинге и
монополии внешней торговли... Подкомиссия, конечно, ничего решать не будет и
выработает лишь новый проект пакта, но это в значительной мере пред¬
определит решения Пан-Европейской комиссии" — писал Литвинов Кагановичу
(копия —другим членам Политбюро) 6 октября 1931 г.29
Тем не менее от СССР в подкомиссию был включен член коллегии НКИД
Сокольников. Последний 22 октября 1931 г. обратился к Сталину с письмом
(копия — членам Политбюро), в котором излагал избранную ими с Литвиновым
тактику при обсуждении проекта пакта в подкомиссии. По мере накопления
возражений они предлагали внести те или иные изменения и дополнения в статьи
протокола, не меняя его сути. Недопустимым они считали внесение в пакт
"антидемпинговой клаузулы", объясняя это тем, что нет якобы ясности, что
такое демпинг, и что часто страны обвиняют друг друга в демпинге, имея в виду
совершенно различные вещи. В письме членам политбюро Сокольников писал,
что "рассчитывать на принятие пакта в нашей редакции трудно. В связи с этим
вся наша тактика должна стремиться либо к принятию пакта в предлагаемой
нами редакции с теми изменениями, которые не меняют его сущности и смысла,
либо к открытому его отклонению противной стороной"30.
Обсуждение советского предложения в Женеве затянулось. Панъевропейская
комиссия по изучению европейского союза передала его на рассмотрение спе¬
циальной подкомиссии, которая собралась в ноябре 1931 г. В результате дис¬
куссий идея пакта об экономическом ненападении была в основном одобрена, но
его подписание так и не состоялось. Мировой экономический кризис приобретал
все больший размах и глубину.
Не был заключен и европейский федеральный союз. Проект Бриана был выд¬
винут в неблагоприятное время. Он не мог преодолеть имевшиеся между го¬
сударствами противоречия. Ни Германия, ни Италия, ни особенно Великобрита¬
ния не хотели по разным причинам осуществления этого проекта, не желали
допустить усиления роли Франции в делах Европы. Срыву проекта в немалой
степени способствовал и СССР.
Если с сентября 1930 г. до 1932 г. Комиссия по изучению европейского союза
активно обсуждала различные вопросы сотрудничества стран Европы, то со
смертью автора и инициатора проекта в марте 1932 г. бриановская идея, ка¬
залось, была полностью отставлена. Однако она оказалась живучей. Появились
новые движения за единую Европу: "Союз-Европа", "Европейский таможенный
союз", "Европейский парламентский союз", "Федеральный союз".
Проект Бриана и сегодня привлекает к себе внимание. Во-первых, потому,
что это был первый проект европейского федерального союза, выдвинутый на
официальном, правительственном уровне. Во-вторых, потому, что бриановский
план предвосхитил аналогичные проекты последующего времени вплоть до
наших дней. Именно в нем мы находим понятия "Общий рынок", "Европейское
сообщество", "Сначала экономика — потом политика".
В 1982 г. в родном городе Бриана Нанте были организованы коллоквиумы:
"Аристид Бриан и Европа" и "Аристид Бриан и разоружение". Коллоквиумы
были приурочены к 120-летию со дня рождения Бриана и 50-летию со дня
смерти. Среди выступавших были президент Европейского парламента Петер
Данкер, генеральный секретарь Европейского Совета Франц Карасек. Член
Европейского парламента Луиза Вайс тогда подчеркивала, что Квинтэссенция
философии Бриана была воспринята такими личностями, как Робер Шуман и
Жан Монне31.
29 Там же, л. 162.
30 Там же, л. 165.
3‘ Aristide Briand et ГЕигоре. 8 mai 1982. Collogue, organise par la villc de Nantes. Nantes, 1982, p. 22.
56
© 1992 г.
Т.М. ФАДЕЕВА
У ИСТОКОВ ИДЕОЛОГИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА
Двухсотлетие Великой французской революции, недавно отмеченное мировой
общественностью, проходило в атмосфере значительно возросшей популярности
в общественном сознании идей и настроений консервативного толка. Это
обстоятельство в немалой степени предопределило повышенное внимание к тому
факту, что основные консервативные постулаты сложились как ответ, реакция
на первый опыт претворения французскими революционерами идей эпохи
Просвещения XVIII в. Разумеется, за 200 лет неоконсервативная мысль
претерпела значительную эволюцию, адаптируясь к современному миру. Однако
обращение к взглядам ’’отцов-основателей”, "новые прочтения” текстов,
переосмысление пророчеств виднейших "властителей умов” занимают важное
место в идейных разработках правых сил: сама активизация последних - явление
повое и неоднозначное, ставшее предметом анализа и дискуссий в научной
литературе, средствах массовой информации как у пас, так и за рубежом1 .
Превращение консерватизма в относительно стройную систему взглядов
впервые произошло в произведениях писателей, выступивших в разгар Великой
французской революции, англичанина Эдмунда Берка, французов Жозефа де
Местра и Луи де Бопальда, которых принято относить к "контр¬
революционному", или традиционалистскому направлению. Их объединило
неприятие нигилистического характера Французской революции XVIII в.,
порывавшей с прошлым и его вековыми традициями культурного общежития
людей, смысл и значение которых был ими выражен ярко и убедительно.
Оптимистическому взгляду просветителей на природу человека, разум и воля
которого в состоянии перестроить общество па началах свободы, равенства и
братства, консерваторы противопоставили идею об изначальном несовершенстве
человеческой природы, в силу чего умозрительные проекты радикального
переустройства общества обречены на неудачу, поскольку нарушают веками
установленный по "божьей воле” или в ходе исторического процесса порядок
вещей. Их неприятие капитализма и буржуазной демократии зиждилось па том,
что общество, лишенное объединяющего всех идеала, духовного консенсуса,
переставшее быть органическим и ставшее собранием отдельных распыленных
индивидуумов, не может существовать, что ему грозят упадок и декаданс.
Знакомство с правокопсервативной, традиционалистской мыслью в России
состоялось рано и прежде всего через творчество Жозефа де Местра. Эта
фигура представляет особый интерес для российского читателя еще и потому,
что де Местр, проведший 14 лет в России на положении изгнанника Революции,
оказал значительное, хотя и малоизученное, влияние на целый ряд видных
Патрушев Л.И. Консервативные тенденции в современной западногерманской буржуазной
исторической науке. - Новая и новейшая история, 1988, № 1; Рахшмир П.Ю. Эволюция консерватизма
в новое и новейшее время. - Новая и новейшая история, 1990, № 1; Гаджиев К.Г. Современный
консерватизм: опыт типологизации. - Новая и новейшая история 1991, № 1.
57
русских мыслителей, которых - при всей несхожести их между собой - с
известной долей условности можно отнести к традиции русского "просвещенного"
консерватизма. Советский исследователь С.С. Хоружий приводит следующие
основные имена этого списка: "Александр I - М.С. Лунин - М.Ф. Орлов -
П.Я. Чаадаев - В.С. Печерин - Ф.И. Тютчев - Л.Н. Толстой - Л.П. Карсавин"2.
В предисловии к статье Л.П. Карсавина о де Местре, написанной в 1920 г.
(опубликованной спустя 69 лет3 ) С.С. Хоружий обращает внимание на дату ее
написания. Напряженное размышление над смыслом и судьбами русской
революции - вот источник карсавипского интереса к взглядам де Местра на
Французскую революцию. Оба свидетеля великих революций своего времени
оказались едины в выводе о расхождении между провозглашаемым и истинным
содержанием революции и об иллюзорности всякого руководства ею. Однако
стремление определить смысл революции с религиозных и нравственных позиций
неизменно встречало резкую оппозицию и ожесточенные нападки левой критики,
усматривавшей в этом исключительно выражение клерикальной реакции на
революцию. Явное преобладание в общественно-политической атмосфере России
второй половины прошлого столетия революционно-демократического
мышления, определявшего дух исканий и мировосприятие образованных кругов
русского общества, вылилось в своего рода "интеллектуальный террор"
(выражение Розанова. - Т.Ф.) по отношению к идеям и деятельности
отечественных "просвещенных" консерваторов и либералов, уделявших
преимущественное внимание "морально-духовному" измерению национальной
самобытности при определении путей развития страны. Преувеличенная оценка
роли и значения творчества революционных демократов в советской литературе
и практически полное замалчивание взглядов деятелей противоположного лагеря
практически стерли в сознании не одного поколения и сами следы существования
этого направления. Их книги не были переведены в России. Что касается
Жозефа де Местра, то благодаря активности революционно-демократической
критики имя его появлялось не иначе как в сопровождении устойчивых
определений типа "реакционер, мракобес, апологет палача".
Такое упрощенное представление о двухвековом диалоге, а подчас
ожесточенном споре правой и левой традиций, из которых первая располагает
отнюдь не меньшим запасом аргументов, создаст искаженную картину развития
общественной мысли и сегодня не может удовлетворить исследователя.
В центре внимания статьи - взгляды французских традиционалистов
Ж. де Местра и Луи де Бональда; однако для полноты картины следует
остановиться и на взглядах признанного апологета традиции, классика
консерватизма Эдмунда Берка (1729-1797), получивших широкое
распространение и помогающих оттенить сходство и различия между ним и его
французскими собратьями, во многом обусловленные различными
обстоятельствами исторического развития обеих стран.
Эдмунд Берк опубликовал свои "Размышления о революции во Франции"4 в
1790 г., т.е. тогда, когда революция находилась в умеренной либеральной фазе и
еще не дошла до радикальной. Он судил о событиях с позиций аристократически-
буржуазной вигской олигархии. Английская аристократия, в отличие от
французской, давно включилась в ход капиталистического развития и активно
участвовала в парламентском правлении. Берк считал, что знатные семьи
земледельческой аристократии являются естественными правителями Франции,
2 Ж. де Местр как "предтеча" Чаадаева указан в письме П.А. Вяземского и
А.И. Тургенева к Пушкину от 14-15 июля 1831 г. - Пушкин Л.С. Поли. собр. соч., т. 14. М.» 1941, с. 191.
Карсавин Л.П. Жозеф де Местр. - Вопросы философии, 1989, Ла 3, с. 93-118.
4 Burke Е. Reflexions on Revolution in France. Oxford, 1877.
58
что они подготовлены к этому веками предшествующей истории, не принимая во
внимание то обстоятельство, что аристократия своим нежеланием идти на
реформы давно стала представителем только собственных интересов.
Поводом к написанию "Размышлений” послужило то, что "Общество
революции" в Лондоне, ежегодно отмечавшее 4 ноября годовщину "славной
революции" 1688 г., решило направить в 1789 г. приветствие Национальному
учредительному собранию в Париже, считая его деятельность новым
торжеством дела свободы в мире. Негодование Берка вызвала сама попытка
поставить на одну доску две столь различные революции и введенные ими
конституции: английскую конституцию 1688 г., вобравшую многовековые
традиции английских свобод и соответствующую духу протестантизма, и
"Декларацию прав человека и гражданина", по его мнению, разрушительную и
атеистическую, созданную людьми без практического опыта, теоретиками,
исходившими из ошибочных и произвольных абстракций.
Для позиции Берка характерно неприятие абстракций, обобщений и
неизбежных упрощений в политической области и противопоставление им
конкретного, обусловленного обстоятельствами места и времени, словом,
"исторического". Особое значение он придавал эмоциональному,
подсознательному началу в человеческом поведении, "инстинктам", в которых
таится вековая мудрость поколений. Его концепция человека и связанный с ней
культ традиций бросают вызов внеисторической сути таких понятий, как
"разум", "природа", "индивид", "общественный договор" и "права человека", на
основе которых французские законодатели создали свои институты. Природа
человека, пишет Берк, отличается высокой степенью сложности: чувствам и
страстям он повинуется больше, чем сознательной воле и расчетливому разуму.
Когда же государственный деятель, политик сталкивается с "народной массой,
пронизанной страстями и интересами", то простых решений быть не может.
"Простое" может быть лишь поверхностным, эфемерным, ребяческим вызовом
действительности: разве проста английская конституция? Нет, отвечает Берк,
это итог размышлений многих умов, в ходе многих столетий. И потому эта
образцовая конституция, которой восхищался Монтескье, соответствовала
подлинной "природе" общества в его конкретном историческом развитии и
подлинному "разуму" - не индивидуальному, но "общему разуму", наследию
веков и поколений.
Подлинной "природе" человека чуждо понятие "свобода" вообще,
безотносительно к чему-либо; смысл имеют только конкретно-исторические
свободы, добытые предками и унаследованные от них. Наша свобода, пишет -
Берк, "обладает своей генеалогией, гербами, галереей портретов"5 . Благодаря
конституции англичане получают, владеют, передают свое правление и свои
привилегии тем же способом, что и свою жизнь и имущество: "Они унаследовали
эту свободу, основывая свои претензии не па абстрактных принципах вроде прав
человека, по на правах англичан, как наследие, доставшееся от предков"6 . Что
касается равенства, то оно существует в области морали и добродетели - все
обязаны исполнять свой долг. Однако никакое общество немыслимо без
иерархии и, следовательно, неравенства, именно в этом основа порядка,
соответствующего "природе". Если же по примеру французов поместить наверху
то, чему надлежит быть внизу социальной пирамиды, извратится естественный
порядок, усугубится неравенство, которое, согласно Берку, не может быть
отменено. К естественным правам "парижские философы" относили и право
5 Ibid, р. 40.
6 Ibid., р. 37.
59
учреждения высшей власти - как будто сутью последней не является
принуждение, предназначенное обуздывать страсти управляемых и,
следовательно, внешнее по отношению к ним, а не от них исходящее.
’’Общественный договор" действительно существует, писал Берк, но его
нельзя уподоблять "торговой сделке", распадающейся по воле сторон.
"Государство - это партнерство во всей пауке, во всем искусстве, во всей
добродетели и всяческом совершенстве. Поскольку цели такого партнерства не
могут осуществиться даже во многих поколениях, оно становится партнерством
пе только между живыми, по и между ушедшими и грядущими поколениями"7 .
Но и государство - лишь звено "в истинно изначальном договоре, связывающем
низшую и высшую природу, видимый и невидимый миры... Разве повиновение
божественной необходимости может стать объектом выбора?" - риторически
вопрошает Берк.
Антиисторическому абстрактному рационализму Берк демонстративно
противопоставлял апологию "предрассудков", эту излюбленную мишень прос¬
ветителей. Самый надежный руководитель человеческого поведения - скрытая в
"обычных предрассудках" таинственная мудрость, унаследованная от предков; в
ней отражен "разум всеобщий, коллективный, политический". Разум одного
индивида недостаточен, чтобы ориентироваться в трудных обстоятельствах:
люди извлекают пользу из общего кладезя мудрости, из той "совокупности
предрассудков, на которую сознательно или подсознательно опирается
коллективная жизнь. Благодаря им добродетель становится привычкой, долг -
частью природы человека, тогда как при их отсутствии никакой компас не
указывает путь, люди лишаются ориентиров". Невосполнима утрата этих
"одежд", по выражению автора, отвергавшего "голый разум"8 . Как истый
апологет традиционализма, Берк запальчиво провозглашал: "Вместо того, чтобы
Отвергнуть паши старые предрассудки, мы их глубоко чтим и, добавим не
стыдясь, уважаем их именно потому, что это предрассудки: и чем древнее они и
шире распространены, тем больше мы их почитаем. Мы опасаемся оставлять
людей наедине с их собственным запасом разума, ибо полагаем, что он невелик и
что индивидам лучше иметь доступ к общим накоплениям наций и веков"9 .
Эта фундаментальная, противоположность между Францией и Англией не
ограничивается "предрассудками": она выражается также в глубоко различных
подходах к изменению общественных институтов. Французы делают из своей
страны "чистый лист", на котором можно чертить абстрактные конструкции,
"действуя во Франции как в завоеванной стране... разрушая наследие"10 11 .
Английский метод предпочитает медленные изменения, "сохраняющие полезные
части старого здания, добавляя то, что им соответствует. Только так и можно
поступать, имея дело с существами из плоти и крови, образ жизни и привычки
которых нельзя внезапно изменить без больших несчастий"11 . Ссылаясь на
черты национального характера англичан, отдающих предпочтение традиции
перед новшествами, Берк продолжает: "Мы еще похожи на наших предков... мы
пе стали еще дикарями... Атеисты не сделались нашими наставниками, безумцы
- законодателями. Мы пе сделали открытий, полагая, что их и пе может быть пи
в области морали и основных принципов управления, ни в идеях свободы... В
Англии мы еще пе лишились полностью своей национальной сущности... Мы не
7 Ibid., р. 114.
8 Ibid., р. 102.
9 Ibidem.
10 Ibid., р. 216.
11 Ibid., р. 129.
60
были выпотрошены и набиты, как чучело в музее птиц, соломой, тряпками и
жалкими обрывками бумаг о правах человека"12 .
Теории прогресса Берк противопоставил ’’постепенную эволюцию" в ходе
непрерывного исторического развития, улучшения и реформ при непременном
сохранении основ существующего порядка. Сильной стороной Берка было
восстановление истории в ее правах, возвращение политической мысли чувства
"историчности", которого были в значительной степени лишены его либеральные
оппоненты того времени. Философы Просвещения отреклись от средневекового
прошлого, которое они обрисовали как мрачную эпоху жестоких тиранов и
суеверных священников, представив тем самым собственные ценности как
самоочевидные, вневременные и законные. "Все прежние формы общества и
государства, все традиционные представления были признаны неразумными и
отброшены, как старый хлам; мир до сих пор руководился одними
предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения", - писал
Ф. Энгельс, указывая далее на глубоко буржуазную ограниченность такого
подхода13 .
Если Берк оспаривал просветительские теории XVIII в. с позиций прежде
всего истории, подразумевая, но не включая "божественное провидение" в ход
рассуждений, то именно к нему апеллируют в первую очередь представители
французской контрреволюционной мысли, которую иногда называют по этой
причине "теократической". Так как все разворачивается согласно божественному
плану - и победы, и поражения, и сами революции - то провидение должно
воплотиться в некоем земном орудии, каковым должна являться власть папы
римского, превышающая власть монархов. Обращение к средневековой
теократической утопий делает мысль де Местра гораздо "теологичпее и
реакционнее, чем Берка"14, хотя уважение к традиции, противопоставление
реального исторического прошлого, наследия предков "веку абстракций и химер"
согласуются с мыслями его английского собрата.
Жозеф де Местр (1754-1821), французский писатель и пьемонтский
государственный деятель, происходил из переселившейся в Савойю ветви
лангедокского графского рода; отец его был президентом савойского сената и
управляющим государственными имущсствами. Савойя, сегодня департамент
Южной Франции, в то время была автономной провинцией, входившей в состав
Сардинского королевства. Савойское происхождение наложило свой отпечаток
на мировоззрение де Местра, сложившееся под влиянием французской культуры:
идеализируя феодальное устройство общества, он переносил на него черты
патриархальной, глубоко религиозной Савойи. Накануне революции, в 1788 г.,
он становится сенатором, однако придворные интриги в столице Сардинского
королевства Турине помешали ему стать президентом сената. Его незаурядные
способности, чувство собственного достоинства, независимое поведение, а также
то, что он являлся масоном и слыл либералом, сторонником "новых взглядов",
вызывали в придворных кругах неприязненное к нему отношение.
В 1792 г. Савойя была аннексирована революционной Францией, и де Местр,
отказавшись принести присягу новому правительству, покинул страну. В 1799 г.
его назначили канцлером Сардинского королевства, а в 1803 г. в качестве
посланника сардинского короля он отправился в Россию. По долгу службы де
Местр встречался и вел беседы с царем Александром I; свое влияние в
придворных сферах, приобретенное благодаря уму, знаниям и таланту, он
12 Ibid., р. 101.
13 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 190.
14 Weiss J. Conservatism in Europe, 1770-1945. Traditionalism, Reactions and Counterrevolution. New
York, 1977, p. 46.
61
использовал ради предотвращения развития в России революционно-либеральных
тенденций15.
Основную часть своих произведений де Местр написал в Петербурге, где
провел 15 лет фактически на положении изгнанника. К материальным лишениям,
осознанию бесплодности своих дипломатических усилий, отнимавших, однако,
немало времени, добавлялась мучительная тревога о семье, детях, младшего из
которых ему даже не довелось увидеть. Его письма к жене и детям, полные
любви и заботы, в свое время поразили читателей контрастом с хорошо
известным обликом ультраконсерватора, в полемическом пылу берущего под
защиту жестокие средневековые формы правосудия - смертную казнь,
инквизицию.
Вообще переписка де Местра, опубликованная довольно поздно, в середине
столетия, добавляет немало неожиданных черт, усиливающих противоречивость
его облика: монархические и клерикальные убеждения соседствуют с
либеральными в политике и с терпимостью в области религии. Осознавая
невозможность реставрации прошлого, оп выступает за институты,
соответствующие времени. Понимает он и неизбежность революции, определяя
ее афористически как ’’великую и грозную проповедь провидения людям,
состоящую из двух истин: первая, обращенная к суверенам, гласит, что
злоупотребления порождают революции; вторая, обращенная к пародам, - что
революция бесконечно разорительнее злоупотреблений’’16 .
Только в 1817 г. Жозеф де Местр перебрался во Францию, где его
произведения получили широкое признание. Последние четыре года жизни оп
провел в Турине, занимая почетные должности. Однако реставрация прежних
порядков не внушает ему иллюзий: старые времена минули безвозвратно,
прогресс революционных идей необратим. "Я умираю вместе с Европой", -
папишет он накануне своей кончины 26 февраля 1821 г. в Турине, всего за
несколько дней до того, как разразилась революция в Пьемонте.
Де Местр начал писать поздно, в возрасте около 40 лет. Его первым
политическим произведением был памфлет "Письма савойского роялиста своим
соотечественникам"17 , где оп впервые высказывает свои взгляды на характер
Фра1щузской революции. Известность ему принесла книга, ставшая настольной
для эмиграции, “Размышления о Франции", вышедшая в 1796 г. в Лозанне18 .
Запрещенная французскими властями, опа была издана несколько раз нелегально
во Франции, один раз - в Швейцарии, а в 1797 г. - в Лондоне. Бонапарт
внимательно прочел ее, находясь в Италии, и весьма похвально отзывался о ее
авторе. В последние годы XVIII в. был написан ряд произведений, которым
15 О де Местре в России см.: Феоктистов Е. Жозеф де Мсстр в Петербурге. СПб., 186i, с. 87-96;
Милюков ПЛ. Главные течения русской исторической мысли, ч. I. М., 1989, с. 377, и др.
В то же время нельзя отрицать, как и преувеличивать, влияние определенных идей католической
социальной философии де Местра в более широком плане. Здесь следует назвать П.Я. Чаадаева,
который, по утверждению М. Гершензона, "заимствовал... идею исторической преемственности у де
Местра, идею воспитания человечества Богом - у де Бональда... Таким образом, его прямая связь с
этой школой, как и вообще с традиционной католической философией истории, не подлежит
сомнению... Притом же Чаадаев отнюдь не сливается ни с де Местром, ни с Бональдом. Позаимствовав
у них многое и еще больше отвергнув, он в целом остался, безусловно, оригинальным". - Гершензон М.
П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908, с. 74-75.
16 Maistrc J. de, Larousse Р. Grand diclionnaire univcrsel du XIX siecle. Paris, 1874,
p. 971.
17 Maisirc J. de. Letlres d'un royalisle savoisicn a scs compatrioics. - Maistrc J. de. Oeuvres completes,
t.. 1-8. Lyon, 1884-1886, t. 7, p. 350.
18 Maistrc J. de. Considerations sur la France suivi d'un essai sur le principe generated r des constitutions
politiques et des autres institutions humaincs. Paris, 1858, p. 394.
62
долгое время суждено было оставаться в рукописях, и среди них "Рассуждение о
суверенитете”19 - одно из наиболее интересных произведений де Местра в
области политической философии, увидевшее свет только в 1870 г. В 1819 г. в
Париже появляется сочинение "О папе”20 . Его продолжение, как и остальные
работы, вышло посмертно - "Санкт-Петербургские вечера”21 , которое сам
автор считал лучшим, и др. Во второй половине XIX в. публикуются неизданные
труды: в 1863-1864 гг. появляется собрание сочинений в четырех томах,
неполное; в 1884-1886 гг. - собрание сочинений в 14 томах.
Де Местр прекрасно владел словом, сочетая два стиля: точность и
лаконичность оценок в духе Просвещения и пафос в духе библейских пророков.
Содержание его творчества - это прежде всего полемика с революцией и ее
идеологией, которой он считал философию Просвещения, а в более глубоком
смысле - и Реформацию. Он слывет мастером парадокса: ставя себе целью
противопоставление интеллектуальной культуре Просвещения, которая была
чем-то само собой разумеющимся для образованной Европы, ценностей и
понятий, считавшихся наивными архаизмами, де Местр вынужден был па каждом
шагу демонстрировать абсурдность общепринятых представлений и
реабилитировать другие, презрительно именуемые "предрассудками”. Еще одна,
более глубокая причина парадоксальности его творчества вытекала из самого
положения консервативного противника революции во Франции. Как идеолог
старого порядка, опиравшегося на традицию, он отвергал всякую внезапную
перемену, разрыв преемственности: однако если для английского консерватора
речь шла о возражении против реформ, до которых общество еще не "дозрело”,
то во Франции разрыв со старым порядком уже произошел. И возврат к прежним
временам с течением времени рисовался уже не как спокойное возвращение к
"естественной” традиции, но как новая "революция”, нацеленная па создание
послереволюционного порядка, а он, в свою очередь, уже не мог быть простым
восстановлением феодализма. Эта противоречивость "контрреволюционной”
позиции, отрицавшей революцию в принципе, вполне отразилась в творчестве де
Местра. Апология войны, инквизиции и палача, а рядом с этим - тезисы, под
которыми мог бы подписаться либерал, мистика и рационализм, культ
средневековой папской Европы и язык современного национализма, осуждение
разума и его похвала, обскурантизм и восхищение рафинированной культурой -
все это можно найти в его произведениях.
Де Местр - это прежде всего социальный мыслитель, однако его
размышления об обществе основаны па философских и теологических учениях
Августина и Боссюэ, а также Платона, Паскаля, Мальбранша. Другим важным
источником его мысли являются мистицизм и эзотерические науки XVIII
столетия. Третьим источником можно назвать философию Просвещения, ее
принципам он подчас следовал бессознательно. С помощью этих средств де
Местр красноречиво выразил взгляды и настроения многочисленного.лагеря
противников революции - контрреволюционеров, знаменем которых стал
традиционализм. По существу традиционализм - это попытка преобразования в
теорию основ старого феодального порядка, того, что было неписаным
правилом, в науку. "Верные подданные из всех классов и провинций, вы должны
уметь быть роялистами: некогда это был инстинкт, сегодня - наука”, - пишет де
Местр22. Революционному обществу, возникшему в результате исторической
активности масс, вооруженных определенной концепцией общественного
19 Maistre J. dc. Etude sur le souveraincteC - Maistre J. dc. Oeuvres completes, t. 1, p. 574.
20 Maisirc J. dc. Du Pape. Paris, 1872, p. 399.
у
Maistre J. dc. Les soirees dc Saint-Pctersbourg ou entretiens sur le gouvemcment temporal de la
Providence, suive d'un traite'sur les sacrifices. Lyon, 1890, t. 1-2.
22 Maistre J. de. Lcttres d'un royalisle..., p. 155-156.
63
устройства, принципу сознательной реорганизации существующих порядков
традиционализм противопоставляет образ общества, формирующегося
органически в ходе исторического процесса, согласно божественному плану, для
человека непостижимому. Светской концепции общества, доступного научному
исследованию, поддающегося разумному воздействию человека, традиционализм
противопоставляет общество, проникнутое трансцендентным религиозным
началом, составляющим его первостепенную ценность.
В контрреволюционном лагере по отношению к революции сложились две
позиции. Согласно первой из них, она была плодом заговора ’’философии
якобинцев". Концепция заговора нашла свое классическое выражение в книге
аббата Баррюэля "История якобинства"23. Из нее вытекало, что возврат к
старому порядку можно осуществить с помощью вооруженной силы, покарав
горстку заговорщиков. Согласно другой концепции Французская революция есть
результат долгого исторического развития и внесенные ею новые моменты
общественного устройства сохранятся; так, власть короля отныне будет
ограничена конституцией. Взгляды де Местра отличались от обеих точек зрения.
Исходя из концепции "града божьего" Августина и истории как осуществления
"великого плана", он видел смысл революции не в ней самой, а за ее пределами:
"Политическая революция является лишь второстепенным мотивом великого
плана, который развертывается перед нами с грозным величием"24. Эту
концепцию он развивает в "Размышлениях о Франции".
Французская революция есть "чудо наподобие цветения дерева в январе"25 ,
опа поражает силой, сметающей все препятствия, которым сила человеческая
ничего не в состоянии противопоставить. Ее главные деятели столь
посредственны, считает де Местр, что нельзя не поразиться, как они могут
играть такую значительную историческую роль. Объяснение этого необычного
явления в том, что они оказываются лишь "орудием в руках силы, которая
пользуется ими для своих собственных целей: чем больше мы изучаем самые
активные на первый взгляд личности революции, тем больше замечаем в них
нечто бесстрастное и механическое"26 . Одним словом, "революция скорее сама
руководит людьми, нежели люди руководят ею, она развивается сама по
себе"27 , а это признак, что она является частью "великого плана" Провидения.
По мысли де Местра, это прежде всего "кара за век преступлений и
безумств"28, Оп находит мужество признать, что старый порядок в Европе
подвергся эрозии, устарел: "Тысячи накопившихся злоупотреблений подкопали
этот порядок, в особенности французский, и он начал загнивать, лишившись
единства, энергии, гражданского духа: революция была неизбежна, так как
режим должен пасть, когда имеет против себя одновременно презрение
порядочных людей и ненависть негодяев"29. Французская монархия разделяет
вину за взрыв революции, но подлинные причины следует искать не в ней.
Французская революция, по существу, является карой за искажение Францией
своей исторической миссии: "Ничего удивительного, что с тех пор, как опа
воспользовалась своим влиянием, чтобы злоупотребить своим призванием и
деморализовать Европу, это стало для нее роковым"30 .
23
Barrucl Л. Histoire du jacobinismc. Paris, 1776.
24 Maistre J. de. Elude sur la souverainct/, p. 8.
25 J
Maisirc J. de. Considerations sur la France..., p. 7.
26 Ibid., p. 2.
27 Ibid., p. 18.
2Я
Maistre J. de. Lellres d'un royalisle..., p. 83-84.
29 Ibid., p. 200.
30
Maistre J. de. Considerations sur la France, p. 305.
64
Такое искажение не является делом нескольких лот или группы людей: нет,
это дело поколений, часть исторического процесса общеевропейского значения.
Начиная с эпохи Реформации в Европе возник "дух бунта" против Бога, религии
и тронов. Этот бунт приобретает разные формы, но суть его одна.
Его непосредственным следствием стала философия Просвещения,
"заменившая народные догматы индив: (дуальным разумом"31 . Особенно пагубно
ее влияние на общественную жизнь и обычаи: начиная с XVIII в. все писатели,
ученые, художники создали под эгидой философии настоящий заговор против
общественных обычаев, способствуя падению нравов, ненависти к власти и
анархии. Результатом была не только революция, но и то общество, в котором
каждый думает и заботится только о себе, в котором собственный интерес
становится для человека единственным мотивом поведения: "Вы опасаетесь
силы обычая, чрезмерной власти иллюзий, воображения: всего этого уже нет -
нет ни обычая, пи господина; каждый живет своим умом. Поскольку философия
уничтожила силу, соединявшую людей, ист уже моральных уз"32.
Глядя па возникающее буржуазное общество, де Местр, руководствуясь
инстинктивной неприязнью феодала, замечает в нем семена разложения,
которые заметят и полнее проанализируют другие его единомышленники -
Бальзак, Ламеннэ, де Бопальд. Весь лагерь традиционалистов согласно
усматривал в Реформации первый акт буша индивидуума против сообщества в
лице власти и религии. "События XVI в., разделившие религиозное сообщество,
внесли аналогичный разлад в политическое сообщество и установили
одновременно пресвитерианскую религию и народное управление", писал де
Бопальд33. Историческим следствием "первородного греха" Реформации стал в
конечном счете и капитализм с его необузданной жаждой наживы, превративший
Францию первых десятилетий XIX в. "в собрание 30 млн. индивидуумов". По
словам Ламеннэ, "уже не существует настоящего сообщества, а только
множество независимых интересов, не согласованных между собой никакой
высшей волей"34 .
Оптимизму просветителей, их вере в абсолютную творческую мощь человека
де Местр противопоставлял убеждение, что ни общество, ни его установления не
могут возникнуть как результат общественного договора, произвольного чисто
человеческого решения. Высмеивая обильное бумаготворчество революционных
правительств, недолговечность разрабатываемых ими конституций и законов, де
Местр неустанно подчеркивает, что причина тут не в недостатке ума и опыта у
их авторов, а в том, что всякий человеческий разум, утративший связь с разумом
божественным, выражающим себя в исторически сложившихся традициях и
обычаях, становится бессильным. Конституция не может быть делом
человеческого ума, для этого он слишком слаб. "Всякая писаная конституция
есть не что иное, как клочок бумаги. Такая конституция не имеет престижа и
власти над людьми. Опа слишком известна, слишком ясна, па ней нет
таинственной печати помазания, а люди уважают в глубине сердца и охотно
повинуются только тому, что сокровенно, таким темным и могучим силам, как
нравы, обычаи, предрассудки, идеи, господствующие над нами без нашего
ведома и согласия... Писаная конституция всегда бездушна, а между тем вся
сущность дела в народном духе, на котором стоит государство... Этот дух
выражается прежде всего в чувстве патриотизма, одушевляющем граждан...
Настоящий патриотизм чужд всякого расчета и даже совершенно безотчетен; он
31 Maistrc J. dc. Etudes sur la souverainclc', p. 305.
32 Maistrc J. dc. Considerations sur la France, p. 78.
Ronald J. de Theorie du pouvoir politique cl rcligicux- Oeuvres. Paris, 1880, p. XX.
34 Trybuslcwicz J. de Maistre: Texly zamieszczone w wyborze. Warszawa, 1968, s. 37.
3 Новая и новейшая история, № 6
65
заключается в том, чтобы любить свою родину, потому что опа родина, т.е. нс
задавая себе никаких других вопросов, иначе мы начнем рассуждать, т.е.
перестанем любить"3* Другими словами, конституция, как и каждый
общественный институт, вырастает из реальной жизни общества, а последняя
так сложна, что даже анализ ее превышает человеческие возможности.
Более того, в противовес просветительской мысли, которая в общественных
явлениях искала прежде всего повторяемость, закономерности, де Местр
акцептирует индивидуальный, неповторимый характер эпох i пародов. Поэтому
при создании какого-либо общественного института следует учитывать все
обстоятельства и особенности страны и парода. Ошибкой революционных
законодателей было то, что их конституция была создана в расчете на
"абстрактного" человека. И де Местр оценивает усилия законодателей
следующей саркастической тирадой: "Но выдуманного вами общечеловека в
природе не существует. В своей жизни я видел французов, итальянцев, русских и
т.д.; благодаря Монтескье я знаю, что можно даже быть персиянином. Но
решительно вам объявляю, что сочиненного вами человека я не встречал ни
разу в моей жизни; если он существует, то мне об этом ничего не известно... Эта
конституция может быть предложена всем человеческим институтам от Китая до
Женевы. Но конституция, созданная для всех наций, не годится ни для какой:
это чистая абстракция, схоластическое произведение, созданное ради
умственного упражнения па основе идеальной гипотезы и адресованное
человеку, обитающему в воображаемых пространствах"* 36 . Поэтому человек не
в состоянии создавать институциональные формы в одиночку - это можно
сделать только в процессе, стихийного развития, освященного временем. Начало
всякого института - во тьме истории, причем гораздо большую роль при этом
играли инстинкты и импульсы, нежели разум37. Формы политического
устройства связаны с обычаем и характером народа и потому относительны:
"Даже деспотизм лишь тогда плох, когда оказывается в стране, предназначенной
для другого рода правления"38. Поэтому вместо того, чтобы придумывать
паилучший режим, следует говорить только о наилучшем правлении для данного
народа, вернее, для данного момента его исторического существования. Как
показывает опыт, "каждый народ имеет такое правление, которого
заслуживает", любой проект окажется "унылой химерой", если не будет
находиться в совершенной гармонии с характером народа39.
Объясняя различия в способе правления особенностями исторического
развития, де Местр выступает как ученик Монтескье и единомышленник Берка.
Однако он, кроме того, и в большей степени, являлся учеником Августина. И
оригинальность его как писателя состоит в подведении под политическое
мышление глубокой религиозной и мистической основы, в соответствии с которой
абсолютной монархии должна соответствовать и абсолютная верховная власть
церкви, сосредоточенная в лице папы римского.
В разделе "Размышлений о Франции", озаглавленном "О божественном
влиянии па политические конституции", де Местр, утверждая, что пи одна
конституция не может быть только плодом произвольной человеческой
деятельности, приходит к выводу, что все основные права являются лишь
внешним проявлением высших принципов. Одна их самых характерных черт
традиционалистской концепции общества состоит в том, что в каждом
33 Maisirć J. de. Considerations sur la France, p. 84, 211, 238-239.
36 Ibid., p. 87.
37 Ibid., p. 233.
38
Maistrc J. dc. Etude sur la souve rain etc' p. 538.
39 Ibid., p. 489-490.
66
"естественном”, т.е. стихийно возникшем, общественном явлении опа различает
две стороны: эмпирическую и метафизическую. С о/ ,ной стороны, мы имеем дело
с фактами, доступными человеческому анализу, с другой - обнаруживаем в
каждом человеческом институте некое недоступное уму первоначало, благодаря
которому он существует и функционирует. "Даже самые мудрые законодатели в
состоянии лишь собрать ранее существовавшие элементы в обычаях и
характере пародов; ио это соединение, это формирование, подобное творению,
осуществляется лишь от имени божества. Политика и религия были основаны
вместе, законодатель почти нс отличался от священнослужителя"40 .
Это творческое первоначало носит трансцендентный характер и, являясь
душой всякого общественного института, может лишь переживаться человеком,
по не может быть переложено на формальный человеческий язык. Отсюда
следует, что права и конституции санкционируют уже существующее неписаное
право. "Конституция в философском смысле является способом политического
существования, предписанного каждому пароду высшей властью; в низшем
значении она является совокупностью более или менее многочисленных прав,
утверждающих этот способ существования”41. Таинственное творческое
первоначало проникает в мир прежде всего через посредство религии: не
случайно у колыбели каждого народа стоят жрецы. Разумеется, в своих
видимых, эмпирических формах общество постоянно меняется, эволюционирует,
изменяются формы правления: "Человек, несомненно, всегда будет управляем,
но никогда одним и тем же способом. Другие обычаи, другие верования, другие
знания неизбежно повлекут иные права”. Изменение есть "неизбежный признак
жизни”42 . Формы вещей подвержены*изменениям, однако сущность их, будучи
отражением божественной мысли, неизменна. Осуждая злоупотребления старого
порядка, де Мсстр стремился защитить содержавшиеся в нем элементы
"естественного” общественного порядка, "органического общества”. Другими
словами, защищал оп нс конкретные формы общественного устройства, не
старую Францию, а некий универсальный идеал общества, его, так сказать,
метафизическую структуру, создавая своеобразную традиционалистскую
утопию.
Каким же должно быть настоящее общество? Простая совокупность людей по
своему собственному желанию не может образовать парод: в чем же суть того,
что в современной социологии именуется социальной связью? Понятие "народ”
одно из основных в концепции де Местра, - это группа людей, имеющих
собственный язык, территорию, культуру, обычаи, характер. Эти чисто
эмпирические признаки, отличающие одну группу от другой, па деле являются
выражением более глубоких ценностей трансцендентного порядка. Народ
является "единством”: "Народ обладает всеобщей душой и неким подлинным
моральным единством, которое и приводит к тому, что он есть то, что оп
есть"43. "Город, община, корпорация, а в особенности, семья, также составляют
40 Maistrc J. dc. Considerations sur la France, p. 84.
41 Maisirc J. dc. Etude sur la souvcrainetc7, p. 187.
42 Maistrc J. dc. Du Papę, p. 340.
43 Maistrc J. dc. Etude sur la souverainclc' p. 325.
Как и Берк, де Мсстр считал, что во времени это единство выражается в наследовании традиции.
Однако в области морали он парадоксальным образом расширяет это понятие до размеров
ответственности индивида за добрые и дурные деяния народа, к которому он принадлежит. "Кто не
хотел революции? Кто не замешан в смерти Людовика XVI? Виновен народ, если несколько
заговорщиков совершают преступление от его имени!" - патетически восклицает он. По словам
исследователя его биографии и творчества Р. Триомфа, "такое понимание человеческой общности
заставляет подумать о Достоевском; но здесь мы обнаруживаем также коллективное сознание
античных обществ и даже элементы первобытного менталитета". - Triomphc R. Joseph de Maistre:
Etude sur la vie et sur la doctrine d'un malerialisle mystique. Gcznevc, 1968, p. 10.‘
3
67
материальное и моральное единство, обладающее своими дурными и добрыми
чертами, способны иметь заслуги и вину и подлежащие за это карам и наградам,
как и отдельный индивид”44 45. Словом, всякая общественная группа, кроме
искусственно созданных па основе соглашения между людьми или декрета,
осуществляет в меньшем масштабе великий и священный принцип единства. И
наоборот - всякий "естественный” общественный союз обладает божественной
сущностью. Суть этого единства общественных групп недоступна уму: так,
семья состоит из единиц, весьма отличающихся друг от друга, "однако инстинкт
<•45
и опыт говорят нам, что семья есть единство .
Само возникновение народа - это "чудо" и "тайна”, над которой стоит
поразмышлять46 . Ведь возникает он в результате действий буквально одного
человека (полулегендарный родоначальник, праотец, вождь); он в гениальном
озарении осознает сам и доводит до сознания общности людей ее характер,
душу - все то, что содержится в пей, как дерево содержится в зерне.
Мифический родоначальник должен проникнуть в скрытые силы и способности,
создающие характер народа, и найти средства их развития47. Только это по
силам совершить человеку. Но он не может изменить самой сущности характера
парода, "всегда одной и той же"48. Народ не может сколько-нибудь прочным
образом придать себе другие права помимо тех, что соответствуют его
"естественной конституции".
Порядок в обществе реализуется прежде всего через общественную
иерархию, возникающую спонтанно, органически: "Всюду и всегда правила
аристократия"49. Наивно принимать революционный лозунг равенства за
чистую монету. Присмотревшись к действительности революционной Франции,
нетрудно увидеть, что "аристократия мест и должностей, вначале незаметная в
общей суматохе, начинает формироваться"50, - утверждал он в 1796 г. Идея
иерархии органически связана с идеей порядка - определенного разделения
функций, выпадающих на долю части по отношению к целому. В соответствии с
этой идеей традиционализм в противовес либеральной мысли, которая основной
акцент ставила па правах человека, подчеркивал прежде всего его обязанности.
Принцип иерархии в обществе опирается, таким образом, па идею обязанностей,
а не прав. Лучшие люди страны - не те, кто заботится о каких-то особых
правах, а те, кто несет особые обязанности. Чувство долга и сознание
обязанностей очищает и облагораживает, а претензия на права озлобляет и
маскирует нежелание нести обязанности. Принцип, украшающий дворянство, -
noblesse oblige - "положение обязывает". Дворянские привилегии есть лишь
атрибут выполняемой ими функции, которую де Местр образно сравнивает со
служением "народной религии". "В каждой стране существует известное
количество семейств, на которые опирается государство: их называют
аристократией или знатью. Если они остаются чистыми и проникнутыми
народным духом, государство будет непоколебимо, невзирая на пороки
властителей; если же они испорчены, особенно в вопросах религии, государство
падет, даже если бы им управлял Карл Великий. Патриций есть светский
священнослужитель: народная религия - его первая и священная обязанность,
поскольку сохраняет его привилегии, которые падут вместе с ней", - писал де
44 Maisirc J. dc. Les soirees de Saint-Peicrsbourg..., p. 288.
45 Maisirc J. de. Elude sur la souverainete7, p. 430. .
46 Maisirc J. de. Considerations sur la France, p. 143.
47 Ibid., p. 239.
48 Maisirc J. de. Etude sur la souverainete', p. 372.
49 Ibid.,p. 430.
50 Maisirc J. de. Considerations sur la France, p. 143.
68
Местр графу Потоцкому51. Каждый народ обладает коллективным разумом, по
это совсем не то же самое, что провозглашает большинство. Лишь когда
совокупность людей приобретает иерархическую структуру в ходе спонтанной
исторической эволюции, когда сложится в ней система освященных временем
порядков, институтов, концентрирующихся вокруг власти, тогда только ее голос
станет истинным выражением ее души. Эмпирический план истории - лишь
область проявления метафизического плана, подлинного и существенного. То,
что связывает людей между собой, вырастает из внерациопальпых источников,
откуда берут начало патриотизм и вера - "два великих чуда этого мира".
Поэтому нет ничего важнее для человека этих предрассудков, не поддающихся
рациональному анализу: "Они являются важнейшей человеческой потребностью,
подлинными источниками его счастья и святыней государств"52.
Индивидуальный разум должен подчинить себя народному, коллективному -
таков вывод де Местра. В противном случае он уничтожает общественные
связи, разрушает общество, порождая классовый и индивидуальный эгоизм.
Почти одновременно с де Местром выпустил свою первую книгу Луи де
Бональд (1754-1840), виконт, известный публицист и философ, потомок
старинной семьи, члены которой заседали в парламенте, служили в армии.
Получив образование в Париже, он вступил в корпус мушкетеров при Людовике
XV и пробыл там до 1776 г., вплоть до его упразднения. Вернувшись в родной
город Мило, оп был избран мэром, но отказался от этого поста и эмигрировал в
Гейдельберг, где написал свое главное сочинение "Теория политической и
религиозной власти в гражданском обществе" (1796). Любопытно, что эпиграфом
к ней служит фраза из "Общественного договора" Руссо. Цель труда - доказать,
что существует только единственная подлинная конституция - королевская, что
подлинное гражданское общество может быть основано только на союзе трона и
алтаря. Правительство Директории запретило распространение этой книги. Де
Бональд горячо приветствовал возвращение во Францию Бурбонов, сожалея,
однако, о том, что легитимные властители превратились в королей, чья власть
ограничена конституцией. Депутат парламента с 1815 г., де Бональд приложил
немало усилий для реализации идей, высказанных в собственных сочинениях,
последовательно выступая против свободы прессы, за запрещение развода,
ужесточение наказаний, в частности за святотатство, вплоть до смертной казни.
Избранный пэром Франции в 1820 г., он отказался от этого звания в 1830 г.,
чтобы не приносить присяги власти, "рожденной па баррикадах", т.е. в
результате июльской революции 1830 г., и сохранил за собой лишь титул члена
Французской академии. Он много писал, редактировал газеты "Меркюр де
Франс" и "Журналь де Деба" вместе с Шатобрианом, Февье, Ламеннэ. Помимо
основополагающего труда оп написал еще ряд работ, сухих и строгих, не
претендующих на литературную привлекательность, предлагая в них, по его
собственным словам, свое лекарство в "естественном и горьком виде, не
подслащивая". Тем не менее по общему признанию историков политической
мысли, он дал контрреволюции опору в виде системы, религиозные, социальные
и политические аспекты которой неразрывно взаимосвязаны. Во многом опа
близка по духу идеям Берка и де Местра, но в то же время вполне оригинальна.
Прежде всего Бональд предлагает пе "свою" систему, а "естественную
систему в организации политических обществ, вытекающую из их истории"53 . В
свою очередь природа и история значимы лишь постольку, поскольку являются
отражением божественной воли. Отсюда и вытекает теория общества и власти,
51 Trybusiewicz J. Op. cit., р. 32.
5^ Maistre J. dc. Etude sur la souvcrainclc, p. 376.
53 /
° Chevalier J.-J. Histoire de la pensce politique. Paris, 1984, p. 73.
бросающая вызов духу Просвещения и революции и не делающая ни
малейшей уступки ни современному индивидуалистическому обществу, ни
конституционному порядку. "Человек существует лишь для общества, и
общество создало его для своих целей: он должен употреблять на службу
обществу все, что получил от природы"54. Так, Бопальд противопоставляет
"религии человека" "религию общества"; самодовольному индивиду,
разглагольствующему о "правах", он неустанно повторяет, что в
действительности тот имеет лишь обязанности, и прежде всего по отношению к
обществу. Главную опасность "философии я" он видит в том, что она распыляет
общество на песчинки индивидуумов, превращая пресловутое "современное
общество" в "деструктурированнос". Необходимо вновь обрести "мы",
унаследованное старым порядком от средних веков: оно сосредоточено прежде
всего в семье, затем в ремесле, наконец, в обществе, государстве,
правительстве55. В социальном мире все стремится образовать "корпус" -
индивиды объединены в рамках семьи, ремесла, корпорации, образуя обширный
ансамбль, романтизированный образ старой Франции. Примечательно, что, рисуя
образ абсолютной монархии, Бопальд одновременно разрабатывает понятие о
роли промежуточных корпусов - знати, магистратуры, местных институтов. В
этом пункте, пишет французский историк Ж. Шевалье, "самый непримиримый из
контрреволюционеров присоединяется к позиции либералов, враждебных
административной централизации (Б. Констан, А. Токвиль, "доктринеры")"56 .
Он называет городскую и сельскую коммуну "подлинной политической семьей":
государство не существует без нее, тогда как опа существовала без государства.
Шевалье видит объяснение этому в том, что из всех промежуточных корпусов
"после великого избиения, произведенного революцией", коммуна давала те
территориальные и административные рамки, в которых "могло выжить - или
ожить - социальное "мы" на местном уровне под эгидой старых благородных
семей - нотаблей, иначе говоря, наследственных традиционных властей,
представлявшее собой естественный источник сопротивления центральной
власти в руках демократии"57. Так, децентрализация с помощью нотаблей есть
реванш "общества" над оспаривающим его индивидуализмом.
Любопытны рассуждения Бональда о происхождении и роли языка,
посредством которых оп, как ему казалось, окончательно отвергал претензии
индивидуального разума в одиночку, пренебрегая богом и традицией, рушить
старое и возводить новое общество.
Необходимо, чтобы человек "помыслил слово", прежде чем высказать свою
мысль. Это означает, что человек должен знать слово до речи - предположение,
для автора очевидное и исключающее всякую идею изобретения слова
человеком. "Человек, следовательно, в то или иное время получил слово, а не
изобрел его... Род человеческий при своем происхождении получил слово от
высшего, чем оп, существа, слово, посредством которого он знает свои
собственные мысли... Повсюду, где люди встречали человека, они находили
артикулированный язык и слово, обозначающее высшее существо, предмет
своей любви или страха". Такая концепция, основанная на божественном
откровении, должна была, по мысли автора, выбить почву из-под ног у
"искусственных объяснений" XVIII в., приписывавших человеку возможность
самому создать общество. Предположение, что слово изобретено человеком,
означало бы, что все истины - научные, моральные, исторические -
54 Bonald dc. Op. cit., p. 6.
55 Ibid., p. 262-289.
56 Chevalier J.-J. Op. cit., p. 77.
57 Ibidem.
70
относительны. Ибо допустить, что человек сам создал слово, мысль, закон,
общество - не значит ли это признать за ним право "все разрушить”? Не значит
ли это отбросить саму идею общества как "обязательного порядка истин и
обязанностей"? Не значит ли это признать правоту тех, кто рассматривает это
общество как результат "произвольного соглашения", как право парода изменять
его законы, "даже лучшие"?58 Но если мы примем истину, продолжает Бональд,
что человек не изобрел языка, что он дан ему в откровении, то все становится
па свои места - мораль, политика, религиозная традиция обретают прочную
почву под ногами. И тот, кто выступит против этого, "окажется в состоянии
войны с обществом. Простой индивид присвоит право судить и реформировать
целое, попытается свергнуть всеобщий разум, чтобы на его месте воцарился
частный разум, а им он всегда обязан обществу, поскольку оно передало ему
знание вместе с языком - средством всякой интеллектуальной операции"59 .
Теория языка увенчивает систему Бопальда, являясь в полном смысле слова
последним и высшим аргументом в споре, цель которого - доказать бессилие
человеческого разума перед откровением. В этом рвении, продиктованном не
столько философскими, сколько нолитическими соображениями (по замечаниям
его современников), он пошел на отдельные отступления от ортодоксии и
заслужил упреки со стороны церкви60. Следует отметить, что и де Местр,
проявляя интерес к языку, хотя и в меньшей степени высказывал сходные
соображения: "Никакой язык не может быть изобретен..’, мысль есть речь, с
которой разум обращается к самому себе. Мысль и слово - лишь два
великолепных синонима"61 .
Оба они - и де Местр, и Бональд - вошли в историю политической мысли как
апологеты теократической утопии и традиционализма. Их вдохновляло одно и то
же видение мира, один и тот же подход к пониманию происходящего,
породивший удивительно схожий строй мысли у этих двух очень разных людей.
Незадолго до смерти де Местр подводит итог этому своеобразному дуэту в
следующих словах: "О чем бы я пи подумал, Вы это написали; я написал все, о
чем подумали Вы; "возможно ли, чтобы природа решила так позабавиться,
натянув в столь совершенном созвучии две струны: Ваш дух и мой!" То, что
роднило их - попытка выразить, возвести в систему внутренний смысл традиции,
о котором не задумывались те, кто жил под ее сепыо, - подметил примыкавший
к этому же направлению Балланш в своей оценке Бопальда; ее с успехом можно
отнести и к де Местру. "Де Бональд, - писал он, - не затем пришел, чтобы
ввести в общество новую правду: он явился не допустить, чтобы прежняя правда
ушла из общества. Поэтому, хотя творчество господина де Бопальда относится
к уже не существующему порядку вещей, это, однако, дело большого значения
и бесспорной важности, поскольку правда - это всегда правда"62 . Для наиболее
проницательных читателей и почитателей работ двух рыцарей Реставрации было
ясно, что речь шла не о воскрешении безвозвратно ушедшего старого порядка, а
о разработке универсальных принципов общественной структуры, вечных и
неизменных.
Протест традиционализма против анархии и эгоизма складывающегося
капиталистического общества в чем-то сомкнулся с направлениями, казалось бы,
глубоко ему чуждыми, - с позитивизмом и социализмом. И Сен-Симон, и Огюст
Конт внимательно читали сочинения традиционалистов. Их особое внимание
58 Ibid., р. 78.
59 Ibid., р. 79-80.
60 Ibid., р. 256.
61 Ibidem.
62 Trybusicwicz J. Op. cii., p. 62.
71
привлекали стремление к единству общества, к средствам укрепления
авторитета и власти, к иерархии, подчеркивание связующей роли религии в
обществе. Однако еще важнее этих конкретных сюжетов была сама проблема
интеграции общества, его духовного единства, при которой человек чувствовал
бы себя не одиноким изолированным индивидуумом, а интегральной частью
живой органической целостности, выраженной в трудах традиционалистов живо и
глубоко. В этом плане традиционализм - не просто социально-политическое
учение: немалым было его влияние в более широком культурном плане, и
прежде всего на мироощущение романтиков.
Французский романтизм 20-х годов XIX в., зачарованный феодальным
прошлым, воспевавшим идеи христианства и монархии, исключительно созвучен
идеям традиционалистов. Прежде всего это относится к концепции истории. В
особенности у де Местра она предстает не как объективный обезличенный
процесс: она насыщена драматизмом и устремлена к таинственной, мистической
цели. Исторические события трактуются в категориях преступления, наказания,
искупления, очищения, избавления. Катаклизмы, войны, революции - уже не
аберрации, возникшие из-за недостатков просвещения, а составные части
великой мировой драмы, коллективной истории человечества, мучительно
ищущего свое подлинное предназначение. Романтиков привлекало у де Местра и
обращение к вопросам добра и зла (портрет палача как противоположный полюс
верховной власти, как слепое орудие высшей справедливости; рассуждения о
войне как постоянном жертвоприношении; о мистическом единстве человечества,
делающем возможным искупление вины грешника страданиями невинного, -
таков великий закон реверсии, объясняющий мистический смысл жертвы). Эти
мотивы нашли отражение в творчестве В. Гюго, Э. Сю и других, для которых
философия де Местра возвращала краски жизни и ее таинственный смысл
историческому процессу, очеловечивала его в противовес сухому картезианскому
рационализму и механицистской философии. Бальзак, примкнувший в 1832 г. к
партии роялистов (неолегитимистов, считавших Луи-Филиппа узурпатором), в
предисловии к "Человеческой комедии" (1842) ставит задачу взглянуть на
общество не как на скопище разрозненных индивидуальных существований, но
как па целостный общественный организм, подчиняющийся своим внутренним
законам. Оп воздает хвалу де Бональду, заявляя о своей приверженности
принципам монархии и религии и об антииндивидуалистическом кредо: "Я
рассматриваю семью, а не индивида в качестве подлинного социального
элемента. В этом плане с риском прослыть ретроградом я ставлю себя рядом с
Боссюэ и Бональдом, а не с современными новаторами"63 . Так, Бальзак сего
яркой индивидуальностью становится теоретиком "мы" с основной целью -
вернуть "душу" обществу, в котором революционный индивидуализм нарушил
основные связи - семейную и религиозную. Как выдающийся социальный
историк своего времени и гениальный писатель он дал весьма реалистическую
картину классовых противоречий, назвав победу буржуазии пирровой и
предсказав ей опасность новых революций64 .
С приближением первой мировой войны интерес к творчеству де Местра,
рожденному в условиях войны, революции и империи, полному размышлений о
63 Цит. по: Chevalier J.-J. Op. cii., р. 89.
64 Известно, как высоко ценили творчество Бальзака К. Маркс и Ф. Энгельс: "Правда, Бальзак по
своим политическим взглядам был легитимистом... В том, что Бальзак таким образом вынужден был
идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, в том, что он видел
неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих
лучшей участи, и в том, что он видел настоящих людей будущего там, где их в то время единственно и
можно было найти, я вижу одну из величайших побед реализма, од^у из наиболее ценных черт старика
Бальзака", - писал Энгельс. - Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 3^-37.
72
смысле кровопролитий, возрождается: в нем усматривают, в частности, образец
’’католического мышления" для военных. В связи со 100-летием со дня смерти
писателя (1921 г.) много говорится о пророческом характере его концепции
моральных сил нации, предвосхитившей идеи маршала Фоша. В годы второй
мировой войны интерес к де Местру вновь возрастает. И вишисты, и участники
некоммунистического Сопротивления i аходят для себя немало поучительного на
страницах его произведений. Им зачитывается де Голль, А. Камю сразу после
войны пишет книгу "Местр и Маркс". После войны появляется ряд работ,
исследующих политические идеи писателя. Его произведения вызывают интерес
интеллектуалов, занимающихся иррациональными течениями конца XVIII в.,
"таинственными истоками романтизма".
Традиционализм, известный также под названием теократической школы, в
послевоенный период исследуется в основном как идеология и политическая
программа ультрароялистской партии в период Реставрации. Известный
французский историк Р. Рсмон оценивает ультрароялизм как "историю мысли,
уверенной в своей правоте, но бессильной найти средства выражения,
подходящие своему времени"65, однако указывает па ее живучесть и влияние
вплоть до сегодняшнего дня благодаря вкладу выдающихся мыслителей и
писателей. Смысл Реставрации для ультра, подчеркивает он, заключался не
просто в возврате к монархии, а в восстановлении исрархизованной сословно¬
корпоративной структуры, разрушенной революцией66.
Французскую ветвь консерватизма обычно относят к крайне правым его
проявлениям. Если основной принцип консерватизма определить как философию
несовершенства человеческого разума и связанного с этим "ограниченного стиля
политики", пишет О’Салливэп, то традиционалистская школа исходит из
концепции мира как упорядоченного иерархического целого, в котором все,
включая человека, имеет место, предписанное творцом вселенной. Изменение
может нарушить изначальное единство творения, если оно предпринято
человеком произвольно, по собственному разумению. Правда, мир подвержен
порче, и многое в гем может обветшать и прийти в состояние вырождения, когда
потребуется что-то изменить, однако выход в возврате к истокам, к изначальной
сути вещей, которая неизменна, словом - "к золотому веку".
Английский исследователь консерватизма Эллисон метко назвал
традиционалистов "тори-космологами”, подчеркивая крайности, вытекающие из
такого подхода, прежде всего подчинение личности коллективу: общество
рассматривается как органическое единство, но в крайней версии - это
"отрицание того, что индивид может существовать вне специфического
социального контекста"67. "Органическое общество", подчеркивает Эллисон,
"может развиваться и изменяться, осторожно реформировать себя, оставаясь
самим собой; оно сходно с живым существом, но не обязательно смертно"68 . В
отличие от умеренных консерваторов, считавших, что порядок и свобода
требуют лишь соблюдения рамок законности и не нуждаются в том, чтобы все
члены общества были объединены верой в общие ценности, крайние
консерваторы от де Мсстра до Морраса отвергали такую возможность и
настаивали на необходимости консенсуса. Согласно же де Местру, порядок
невозможен без абсолютной власти: они должны принадлежать государству и
папе.
65 Rcmond R. La droile en France dc la Premiere Raslauralion a la V-me Republique. T. 1 (1815-1940);
T. 2 (1945-1965). Paris, 1968.
66 Ibid., p. 41.
67 Allison L. Righ Pricniplcs: A Conservative Philosophy of Politics. Oxford (N.Y.), 1984, p. 75.
68 Ibid., p. 17.
73
Поэтому, указывает О'Салливэн, представители этой школы так резко
противостояли демократии: порок этой формы правления, в их глазах, - в
санкционировании разногласий во имя свободы и равенства и в отсутствии
объединяющего идеала69. Их ошибку он видит в связывании политической
стабильности с духовным единством, столь тесным, что оно создаст утопическое
видение порядка. "Акцент па духовном единстве в ущерб разнообразию
неизбежно превращает консерватизм в формулу деспотизма, в конечном счете
столь же давящего, как тот, который реакционные мыслители находили в
демократической доктрине народного суверенитета"70 .
Близкую к этой оценку французских крайне правых сил высказал французский
исследователь Ф. Буррико: "Правых губит то, что они унаследовали от левых
свою концепцию консенсуса... эта концепция социального единства, основанного
па согласии умов, есть источник больших трудностей, особенно если идеи
трактуются как модели, выражением которых должен быть социальный
порядок"71 .
Трудные судьбы континентального, в особенности французского,
"консервативного либерализма" в прошлом, поиски его современного синтеза в
настоящем побудили Пьера Шоню, профессора истории в Сорбонне, проследить
долгую историю понятия "свобода", начиная с древнейших времен и Библии до
наших дней. П. Шоню - автор множества исторических сочинений, широко
применяющий методологию школы Анналов, прежде всего концепцию "большой
временной длительности" ę ее пренебрежением событийной историей и
абсолютизацией эволюционных процессов, что в конечном счете предопределило
его место среди историков, подвергающих ревизии Французскую революцию. В
ходе революции, утверждает оп, на первое место вышло понятие "равенство",
нанесшее понятию "свобода", как и реальным свободам предшествующего
времени, большой ущерб. Либерализм развивался в Англии с начала XVIII в., во
Франции - в 70-е годы XVIII в., а затем в годы террора его развитие было
прервано. "Революция, избрав путь равенства, перестает быть либеральной.
Либералы станут монархистами и отправятся в эмиграцию. На многие годы
революция закрыла двери либерализму", - рассуждает Шоню72 .
Поскольку курс на либеральное обновление общества привел к
революционному катаклизму, противники революции станут теоретиками
старого порядка, "нс отдавая себе отчета в том, что предают его", подчеркивает
Шоню, ибо и либеральные идеи давно успели стать частью традиции старого
порядка, в рамках которого уже происходили уступки новому - тому, что несло
Просвещение. Согласно логике рассуждении Шоню, контрреволюция в чем-то
сродни революции, поскольку то и другое - крайность и как таковая
противопоказана подлинному либерализму, последний, в устах Шоню,
равнозначен консерватизму английского типа. "Бональд и Местр почти так же
далеки от реального старого порядка, за который они выступали, как и его
противники - Лафайет, Робеспьер и Марат. Контрреволюционер есть
революционер, неважно, что он против"73 .
Франция и континентальная Европа поляризуются на контрреволюционеров и
революционеров. Зажатые между ними либералы "оказываются малым
семейством, подозрительным и презираемым". В Англии все обстоит иначе: Берк
- теоретик не контрреволюции, а мощного и влиятельного "семейства" -
69 O'Sullivan N. Conservatism. London, 1976, р. 34.
70 Ibid., р. 37.
71 Bourricaud F. Lc retour de la droile. Paris, 1986, p. 230.
72 Chaunu P. La liberie'. Paris, 1987, p. 271.
73 Ibid., p. 277.
74
консервативного. Однако па континенте ‘'трудно быть либералом и еще труднее
- консерватором". И те и другие понимают необходимость изменений, но
медленных, постепенных, осторожных, их деятельность в конечном счете
смешивается: "Всякий консерватор неизбежно либерал, всякий либерал -
консерватор". Либералы эпохи Реставрации (Б. Констан, Ж. де Сталь, Ф. Гизо,
П. Балланш, Р. де Шатобриан), понимая необратимость изменений и опасаясь
новых потрясений, принимали новые институты и понятия, вышедшие из горнила
революции; в остальном же их система ценностей была достаточно
консервативной и во многих аспектах подверженной влиянию
традиционалистской мысли (напомним, владевшей умами всего поколения
романтиков и их почитателей).
И, однако, далеко идущие последствия революционного "разрыва"
преемственности, сетует Шоню, и здесь привели к гибельному расколу:
"Либералы во Франции мобилизовали против себя обе традиции, которые
сталкивались в течение всего XIX в. (контрреволюционную и революционную. -
Т.Ф.). Никто не верил в их искренность. Слева Токвиль считался самым
интеллектуальным, т.е. самым опасным, выражением реакции. Справа Токвиль и
Шатобриан воспринимались как близнецы-предатели, играющие на руку режиму
Реставрации"74 . Существенно также и то, что либеральное течение во Франции
не сумело помешать тому, чтобы наиболее важные ценности - к их числу Шошо
относит понятие священного, трансцендентный характер идеи порядка, пре¬
емственность, верность долгу - были присущи крайне правому "семейству"75 .
Таким образом, отношение исследователей к крайне правой традиции
противоречиво. Им не доверили бы политической власти, и в то же время именно
в их руках сосредоточен немалый фонд ценностей, накапливавшийся благодаря
усилиям интеллектуалов и пользовавшийся гораздо более широкой поддержкой,
нежели их политические убеждения в строгом смысле слова. Современным
представителям крайне правой традиции это дает возможность широкого
выбора, позволяя отметать все то, что не выдержало испытания временем, и
выявляя некоторые концептуальные подходы, получающие в свете
современного развития пауки новое неожиданное освещение.
Прежде всего, "идеологическая перебранка", по выражению Буррико,
стремление во что бы ни стало унизить и оскорбить противника уступают место
более спокойному анализу исторической роли правокопсервативпого направления
и его функции - подвергать критике наиболее уязвимые места господствующей
идеологии. Так происходило со второй половины XIX в., когда буржуазное
общество, построенное па либеральных принципах, обнаружило существенные
лакуны, в частности свойство "порождать беспорядок", классовые конфликты.
При этом верность либеральным принципам мешала произвести коррекцию
системы, например, путем введения системы социального обеспечения, так как
это требовало вмешательства в "естественные" механизмы рынка. В этих
условиях корпоративистский идеал общественного устройства, долго бывший
достоянием традиционалистской мысли, ложится в основу учения социального
католицизма (А. де Мен, Ж. ла Тур дю Пеп); затем его ставят па научную
основу социологи, стремящиеся преодолеть идеологические и социально-
политические расколы в общест ве па основе органической солидарности всех его
частей.
Происхождению и эволюции многоликого идейно-политического течения, с
конца XIX в. занятого поисками "третьего пути" между либерализмом и
74 Ibidem.
75 Ibid., р. 279.
75
социализмом и основанного на “органической" концепции государства, посвящена
книга известного французского обществоведа М. Бувье76 .
У каждой эпохи свои интеллектуальные пристрастия, пишет М. Бувье:
сегодня, например, предпочитают говорить о социальной сложности, праве па
различие, о возврате к корням. В целом все, касающееся индивида и "малых
структур" - предприятия, ассоциации, района, - пользуется большой
благосклонностью в среде общественного мнения, интеллектуалов, политиков.
И, напротив, централизованное государство уже не имеет прежнего престижа:
оно испытывает настоящий кризис доверия как среди либералов, так и
социалистов, еще недавно выступавших за широкое государственное
вмешательство. Стремлению ограничить сферу деятельности государства
сопутствует обращение к органической концепции, признание необходимости
организовать социальную жизнь на основе "посреднических корпусов",
считаемых "единственными гарантами свободы индивидов"77. Представления об
органическом характере общества, который всегда акцентировался
традиционалистской мыслью, сегодня вновь оказались актуальными.
Р. Триомф, написавший о жизни и учении де Местра диссертацию, затем
книгу, ставит вопрос: устарел ли де Местр, является ли он только пророком
прошлого и свидетелем агонизирующей цивилизации, которую он тщетно желал
воскресить? Посмертная судьба его произведений свидетельствует о другом,
считает оп. Достаточно малейшего усилия, чтобы освободить местровское
творчество от частных проблем его эпохи: "Великий поборник традиционализма
не напрасно утверждал незыблемость принципов, не напрасно призывал себе в
помощь историю. Его система имеет прочные основы, от которых можно
отказаться, по которые нельзя отрицать. Свидетель старого режима, революции
и империи, как мы являемся свидетелями капиталистической демократии,
большевистской революции и сталинизма, Местр пытался найти те незыблемые
устои, на которых должен стоять мир, одновременно соответствующий природе
человека и гарантированный от его слабостей"78 .
Действительно, идеи и предостережения, высказанные консервативными
мыслителями прошлого, не утратили своего морального и интеллектуального
воздействия на современную социальную мысль и читаются сегодня с особым
интересом. Идеологи консерватизма, высказавшие свои основные постулаты в
споре с рационализмом Просвещения, проверившие свои выводы па опыте
Великой французской революции, утверждали, что попытки осуществить
радикальный разрыв с прошлым, создать рационалистически сконструированную
модель общества утопичны и зачастую ведут к обратным результатам. Они
выступали за органическую концепцию общества как целостности, в которой
поведение индивидов с их страстями и эгоизмом подчинено сложившимся
структурам и ценностям, традиции, обеспечивающей преемственность прошлого
с будущим.
На протяжении XIX в. консерватизм выполнял функции коррекции
либерализма с указанных позиций, и сегодня есть основания для вывода, что эти
его установки вошли в основной фонд современной западной социальной мысли.
Неоконсерватизм 70-80-х годов сумел органически сочетать наследие
классического либерализма с его уважением к правам человека и гражданского
общества, с защитой таких традиционных ценностей, как религия, семья, закон и
порядок, этнокультурное разнообразие, децентрализация и самоуправление.
7А /
° Bouvier М. Etat sans politique, tradition el modemitc. Paris, 1986.
77 Ibid., p. 1.
° Trioniphc R. Joseph de Maistrc: Elude sur la vic cl sur la doctrine d'un materialistę mystique. Geneve,
1968, p. 10.
76
Проблемы российских архивов
© 1992 г.
в.п. КОЗЛОВ
Зам. Председателя Комитета по делам архивов
при правительстве Российской Федерации
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ
РОССИЙСКИХ АРХИВОВ
Журнал ’’Новая и новейшая история” уделяет большое внимание работе ар¬
хивов России в новых условиях1. В данной статье хотелось бы поделиться сво¬
ими наблюдениями, связанными с проблемами использования архивных доку¬
ментов на современном этапе. Эти наблюдения, возможно, кому-то покажутся
спорными или неопределенными, но, как мне представляется, они могут пос¬
лужить отправной точкой для дальнейшего осмысления и широкого обсужде¬
ния проблемы.
Разумеется, сегодня вопросы использования документов - отнюдь не наи¬
более важное и определяющее направление работы госархивов. В сутолоке по¬
литических баталий и экономических передряг общество, требующее раскрытия
тайн прошлого, увы, не заметило, что в отношении архивов оно стало много ску¬
пее и меркантильнее, чем раньше. И если карман налогоплательщика сегодня
еще в состоянии вообще что-то оплачивать, можно твердо сказать, что лишь пос¬
ледняя, вконец потертая копейка попадает на нужды российских архивов. В
этих условиях, как говорится, хотя бы выжить архивистам; обеспечить сохран¬
ность национального достояния - и то хорошо.
Но наше общество выстрадало право на познание своего прошлого; к тому же
значительная часть общества в архивных документах видит одно из средств
своей социальной защиты, политической и моральной реабилитации. Именно
поэтому, особенно после августовских событий 1991 г., с таким нетерпением и
живым интересом ожидались открытия в российских архивах. Если говорить по
большому счету, открытий в подлинном смысле этого слова пока не произошло,
если не считать трех-пяти десятков сенсационных публикаций, живо и нагляд¬
но продемонстрировавших старую как мир истину о политической роли архивных ма¬
териалов, но, увы, мало что изменивших в наших представлениях о прошлом.
В то же время остались прежняя система доступа к архивным документам,
жесткие и неупорядоченные цены на копирование, осторожно-охранительная
позиция архивистов, ограничительные условия публикаций, соседствующие с в
высшей степени смелыми проектами микрофильмирования, компьютеризации,
структурных преобразований российских архивов.
Негативная реакция общества не замедлила последовать. Здесь нет смысла
подробно опровергать или соглашаться с критикой, отчасти справедливой,
отчасти совсем не имеющей оснований. Важно констатировать наличие противо¬
речивого общественного мнения, которое нельзя не учитывать и на фоне кото¬
рого идут преобразования российских архивов, в том числе в области исполь¬
зования. *
хСм. Новая и новейшая история, 1992, № 2, 3.
77
Думаю, что многие согласятся в определении того главного, что обусловли¬
вает решение проблемы использования документов сегодня. Это главное - соз¬
дание в последние месяцы возможностей для формирования принципиально
нового архивно-информационного пространства. Его главной отличительной
чертой можно считать предоставление обществу качественно иных, доселе оста¬
вавшихся недоступными массивов информации, в частности архивной, преиму¬
щественно по истории XX столетия, т.е. исторического отрезка, с которым свя¬
заны не только выдающиеся по своим историческим последствиям события
и явления, но и судьбы миллионов еще живущих людей.
Формирование этого пространства происходит в условиях несомненного
утомления общественного сознания россиян, его раздирания противоречиями -
с одной стороны, и экстремально повышенного внимания к архивам зарубеж¬
ных пользователей - с другой. Пока формирование такого пространства носит
в значительной степени неуправляемый и даже стихийный характер. Во-первых,
оно не имеет под собой не только законодательной, но и методической основы.
Во-вторых, оно охватывает преимущественно федеральные архивы, в первую
очередь бывшие партийные, из которых в общество буквально вбрасываются
порции новой архивной информации. В-третьих, как и все сферы архивной
службы, оно не имеет устойчивой материально-финансовой базы. И тем не менее
всем нам важно осознать, что это архивно-информационное пространство долж¬
но и обязательно будет уже в ближайшее время расширяться, охватывать как
местные госархивы, так и архивы министерств безопасности, иностранных дел,
обороны, внутренних дел.
Из этого следует, что сегодня российские архивисты, осознавая свою профес¬
сиональную и нравственную ответственность за сохранность документальной
памяти общества, обязаны понять и необходимость высвобождения из вериг
ее охранения. Причем, мне думается, дело здесь не только в реализации коман¬
ды ’’сверху”, которая, по существу, уже последовала после принятия 29 мая
1992 г. коллегией Комитета по делам архивов при правительстве Российской
Федерации Временной инструкции о порядке пользования и использования ар¬
хивных документов. Так называемый ’’человеческий фактор” - а в нашем слу¬
чае это профессиональная психология архивистов, - как мы знаем, в конечном
счете сильнее и эффективнее любой инструкции. Значит, нам самим необходимо
преодолеть прежние стереотипы.
Разумеется, это нелегкий процесс. Сегодня архивист, предоставляя информа¬
цию, выступает одним из главных действующих лиц в изменении привычной
нам картины прошлого. Ведь воздействие документа вряд ли можно сравнить с
пусть глубокими, но теоретическими рассуждениями об истории, ее закономер¬
ностях, движущих силах и прочем. Документальная сила факта убийственна по
своей сути, и в то же время она уязвима, поскольку хорошо известно, что факты,
какими бы они ни были - героическими, трагическими, - всего лишо частное
отражение всемирно-исторического процесса. Их подбор на субъективной ос¬
нове неизбежно приводит к искажению объективной картины прошлого. От¬
сюда вывод: исторические факты - любые и все, - а значит, и документы, со¬
держащие их, должны стать общедоступными.
Однако это общее и лично для меня бесспорное положение трудно реализовать
не только в чисто техническом аспекте. Ситуация осложняется тем обстоя¬
тельством, что выпущенный в последнее время на свободу поток этих фактов
носит в основном ’’негативный характер” как следствие ранее существовавших
необоснованных ограничений на доступ к ним. Убийственная сила этих фактов
ломает привычные стереотипы, порождает впечатление, что все наше прошлое -
сплошной набор преступлений, страстей, страданий и страха, а ?архивист одним
78
кажется борцом за правдивую картину прошлого, другим - едва ли не преступ¬
ником, подбрасывающим новые поленья в костер противоречий и бед общества.
Сегодня встает, может быть, один из кардинальных вопросов нашей профес¬
сии в нынешних условиях: кто мы сейчас - безжалостные хирурги, пытающиеся
правдой о прошлом решительно содействовать излечению больного народа и го¬
сударства, или терапевты, выжидательно и терпеливо влияющие на ход болез¬
ни? Ответ на этот вопрос, по моему мнению, не может быть связан с употребле¬
нием союза ’’или-или”, скорее это ”и-и”.
В таком ответе - разрешение противоречий между профессиональным и
нравственным долгом архивиста, отказ его от цензорских функций, его ответст¬
венность за безопасность государства и сохранение тайны личной жизни при
непременном переложении на пользователей всей ответственности за исполь¬
зование архивной информации, не содержащей признаков государственной тай¬
ны или тайны личности.
Итак, можно сказать, что первой характерной чертой складывающегося ныне
нового архивно-информационного пространства России является или должна
являться его принципиальная открытость для пользователей при ведущей
роли, которая отводится в формировании этой открытости архивисту.
Другая его характерная черта связана с наметившейся тенденцией к интег¬
рации в международные информационные системы. Степень готовности рос¬
сийских архивов к этому оказалась едва ли не обратно пропорциональна ко¬
личеству зарубежных предложений. К тому же они появляются в условиях
сложного состояния отечественной исторической науки, которая сегодня не
смогла адекватно отреагировать на новую степень открытости российских ар¬
хивов и потребить существенно новый информационный массив. Это порождает
коллизию вряд ли объективно обоснованного конфликта между российскими
историками и российскими архивистами. Усиленно муссирующийся в прессе те¬
зис о продаже архивных документов за валюту препятствует более решитель¬
ным действием в направлении интеграции российских архивов с зарубежными
партнерами. Между тем расширение этой интеграции, вне всякого сомнения,
лежит в русле современных мировых и российских процессов. Для россиян это
означает возвращение зарубежной архивной ’’Россики”, техническое переосна¬
щение архивов, освоение зарубежной архивной практики.
Характеризуя интеграционый процесс нового архивно-информационного
пространства, нельзя не заметить его третьей важной особенности. Хорошо
известно, что для российских архивистов традиционным было признание ис¬
торико-культурного назначения архивных документов. Этот важнейший про¬
фессиональный постулат и в наши дни сохраняет свое основополагающее зна¬
чение, его неплохо бы напомнить тем политикам, которые в ажиотажном деле¬
же наследия бывшего СССР собираются посягнуть на исторически сложившиеся
архивные комплексы, которые не подлежат никакому дроблению, если следо¬
вать здравому смыслу. Но невозможно отрицать или вовсе не замечать процес¬
сов, связанных с нынешней коммерциализацией архивной информации. Это
реальность, с которой бессмысленно бороться, хотя, по высшему счету, такой
подход так же нельзя приветствовать, как когда-то идеологизацию архивной
информации.
Надо признать: исключая деловые посреднические структуры между архи¬
вами и пользователями, и архивисты, и общество в целом оказались неспособ¬
ными должным образом отреагировать на это явление. Сегодня его определяют
два негативных фактора. Первый носит внешний характер, в газете ’’Известия”
он был определен как ’’архивное пиратство”2. Суть его в том, что пользователь,
2См. Известия, 21. II. 1992 г.
79
широко привлекая вновь открываемые архивные документы, исключает из про¬
цесса получения дохода не только архивы, но и государство как собственника
информации и наносит серьезный моральный ущерб архивам, публикуя докумен¬
ты не только без их согласия, но даже без ссылок на место их хранения, что
открывает простор фальсификациям. Второй - фактор внутриархивный, порож¬
денный особой, воспитывавшейся годами секретности психологией архивистов,
их нелегким сегодняшним положением и неразвитым пониманием процессов
коммерциализации архивной информации. Этот фактор условно можно было бы
назвать фактором негласной приватизации архивной информации, когда в по¬
гоне за выгодой своеобразными ’’приватизаторами” общенационального дос¬
тояния пытаются выступать архивы, отдельные группы сотрудников в них и
даже отдельные личности. И ’’архивное пиратство”, и попытки ’’приватизации”
архивной информации - факторы равнозначные по степени негативного воздей¬
ствия на цивилизованный процесс формирования нового архивно-информа¬
ционного пространства.
Сказанное дает возможность определить сугубо практические действия по
организации использования документов в условиях формирования нового ар¬
хивно-информационного пространства.
Первое. Непременным условием его цивилизованного функционирования
должна явиться правовая и нормативная база, начиная от закрепления в зако¬
нодательной форме понятий ’’безопасность государства”, ’’тайна личности” в
преломлении к ограничению на доступ к архивным документам и кончая поряд¬
ком выдачи лицензий на использование архивных документов, защитой прав
государства на свою архивную интеллектуальную собственность.
Второе. В новое архивно-информационное пространство должны быть вовле¬
чены новые документальные комплексы как высшего, так и низшего уровней,
причем не одних российских, но и зарубежных архивов. Только это даст воз¬
можность создать предпосылки для всесторонних ответов на вопросы о прошлом.
Третье. Освоение нового архивно-информационного пространства России -
дело не одного поколения исследователей. Однако уже сейчас важно, чтобы оно
стало достоянием не только российского, но и международного сообщества уче¬
ных - в этом залог постижения прошлого, основа международного сотрудни¬
чества в гуманитарной сфере.
Четвертое. Такое освоение уже сегодня немыслимо без программного подхо¬
да, ясного представления этапов разработки, форм взаимодействия, обмена
информацией, использования современных технологий. В частности, представ¬
ляется наиболее оптимальным распространение научно-справочного аппарата
(НСА) архивов, создание на его основе баз данных, маркетинговые операции по
определению спроса на тот или иной тематический, видовой, хронологический
комплекс архивных материалов, их тиражирование различными способами.
Пятое. Необходимо осознание того, что процесс использования документов
имеет и сугубо практический, и нравственный аспекты, когда речь идет о запро¬
сах социально-правового характера, о проблемах землепользования, полити¬
ческой реабилитации и т.д.
Шестое. В условиях развития современных архивных технологий важно изме¬
нить сложившиеся стереотипы относительно видов, форм публикаций. Клас¬
сические издания, безусловно, сохранят свою значимость, но необходимо ис¬
пользовать и другое - массовое микрофильмирование, создание баз и банков
данных, подключение к информационным системам других стран.
В этой связи хотелось бы остановиться на ситуации, сложившейся с публика¬
цией архивных документов.
Она характеризуется, с одной стороны, широким общественным запросом
на ранее сокрытые документы, потенциально благоприятными возможностями,
открывающимися для его удовлетворения в связи с передачей на государствен¬
ное хранение архивов КПСС и КГБ, бывших центральных архивов СССР, начатой
работой по открытию доступа к необоснованно засекреченным документаль¬
ным комплексам, острым интересом и многообразием реакции общественности
на вводимые в научный оборот новые исторические источники. С другой сто¬
роны, все более отчетливо обозначаются негативные явления и тенденции, свя¬
занные со свертыванием научно-издательской деятельности или превращени¬
ем ее в стихийный, неуправляемый процесс.
Отражением первого направления является наличие в планах публикаторс¬
кой работы новых тем документальных публикаций, объединенных сериями из¬
даний, - ’’Архив директивной инстанции”, ’’Открытия в российских архивах”,
’’Политические партии и движения”, ’’Механизмы власти в СССР”, ’’Комин¬
терн - Коминформ”, сборников документов ’’Всероссийское учредительное
собрание 1918 г.”, ’’Народ не молчал. Письма крестьян и рабочих о социализ¬
ме”, ’’Еврейский антифашистский комитет”, ’’Советско-германские военные
связи. 1917-1933 гг.”, ’’Коминтерн и советско-германский пакт о ненападении
1939 г.” и др.
Эти и другие запланированные публикации могут закрыть ’’белые пятна” оте¬
чественной и всемирной истории, создать серьезную документальную основу
постижения всемирно-исторического процесса, особенно новейшей истории.
Важно отметить также, что обозначился интерес и предприняты практические
шаги по подготовке новых форм документальных изданий и научно-справочно¬
го аппарата, прежде всего на микрофишах, рулонных микрофильмах, в виде
различных банков данных. Среди них: соглашения с фирмой ’’Чедвик - Хили”,
Гуверовским институтом войны, революции и мира, Центром по изучению Рос¬
сии и Советского Союза, ’’Иствью пабликейшн”, рядом других фирм и изда¬
тельств. Реализация названных и других планов научно-издательской деятель¬
ности предполагас тся на основе необычной для предшествующих лет интегра¬
ции с российскими и зарубежными научными и коммерческими центрами, от¬
дельными учеными. Кооперация с зарубежными партнерами в работе по публи¬
кации архивных источников становится все более значимым явлением в сфере
гуманитарного сотрудничества, демонстрируя открытость российских архивов
как одно из принципиальных доказательств новой политической воли руко¬
водства страны.
Вместе с тем анализ научно-издательской деятельности убеждает в том, что
госархивы испытывают серьезные трудности и столкнулись со многими нере¬
шенными проблемами в этой области своей работы. Ряд подготовленных ранее
в плановом порядке сборников документов сегодня устарел в научном отноше¬
нии. В то же время серийные публикации, составлявшие гордость отечествен¬
ной историко-археографической науки, такие, как ’’Полное собрание русских
летописей”, ’’Письма и бумаги императора Петра Великого”, ’’Декреты Советс¬
кой власти”, ’’Протоколы Петросовета”, ’’Особые журналы Совета Министров
царской власти” и другие из-за отсутствия полиграфических возможностей не
выходят в свет.
В настоящее время нет четкого представления о том, в какой степени необхо¬
димо регулировать научно-издательскую деятельность архивов, в каком соотно¬
шении должны находиться серийные и тематические, общероссийские и регио¬
нальные, межархивные и внутриархивные публикации документов. Увлечен¬
ность архивов федерального уровня относительно коммерческими изданиями
создает угрозу потери отечественного приоритета во введении в оборот широко¬
го круга документальных источников, поскольку реализация таких изданий
81
в основном ориентирована на зарубежные издательства. Отсутствует четкая сис¬
тема оценки научного уровня готовящихся публикаций. Местные госархивы
сегодня фактически выпали из общей системы публикаторской деятельности
как в плане новой тематики изданий, так и в плане их р?ализации на местном
уровне. Ряд архивов обнаруживает приверженность к конфиденциальности
своих издательских планов, мотивируя это ’’коммерческой тайной”, другие в
попытках монополизации публикаций своих документов создают неоправдан¬
ные ограничения для исследователей.
Имеют место факты сдерживания процессов рассекречивания архивных до¬
кументов, утративших или не содержащих государственной, коммерческой тай¬
ны и тайны личной жизни. Основные отечественные потребители информации
российских архивов - Российская академия наук и вузы - проявляют неоправ¬
данную в условиях складывающегося нового архивно-информационного
пространства России медлительность в освоении нового архивного материала.
Все это серьезно сдерживает доказательное, основанное на документальных
фактах изучение прошлого, особенно новейшей истории.
В этих условиях было бы важно признать крайне необходимым совместно с
РАН и Министерством образования РФ разработать Государственную программу
издания исторических источников, выделив в ней в качестве приоритетных
публикации сборников документов, объединенных следующими проблемами:
Российское государство в XVII-XIX вв.; история общественно-политических
движений и социальных конфликтов в России; механизмы власти в СССР, адми¬
нистративно-командное управление экономикой, репрессии; СССР в период
второй мировой войны; Великая Отечественная война 1941-1945 гг.; история
отечественной культуры и науки; история религии и церкви; внешняя полити¬
ка; международное коммунистическое движение; история городов, областей,
краев и республик России. При разработке программы необходимо обратить
особое внимание на механизмы ее реализации, имея в виду:
а) сквозное документальное обеспечение тематики изданий, т.е. подготовку
однотемных серийных публикаций общероссийского и регионального уровней
либо включение в сборники документов, отражающих процесс принятия реше¬
ний на высшем уровне и их реализацию в регионах;
б) включение в публикации архивных материалов, находившихся ранее на
закрытом хранении или в режиме ограниченного доступа;
в) совместное участие в выработке тематики документальных изданий, вы¬
явлении для них архивных документов и подготовке их к публикации сотруд¬
никами архивных учреждений, региональных отделений РАН, вузов страны;
г) использование части средств создаваемого фонда социального и техничес¬
кого развития российских архивов на нужды научно-издательской деятельнос¬
ти.
Можно было бы предложить архивам провести работу по подготовке и изда¬
нию ранее закрытого или находившегося на ограниченном доступе НСА (путе¬
водители, обзоры, описи, каталоги и т.д.), имея в виду использование средств
малой полиграфии, микрофильмирование, микрофиширование на базе бывших
партийных архивов. Важно также широко публиковать документы в журнале
’’Отечественные архивы”, в изданиях РАН - ’’Вопросы истории”, ’’Отечествен¬
ная история”, ’’Новая и новейшая история”, ’’Археографический ежегодник”
и т.д.
Было бы полезно организовать издание средствами малой полиграфии дваж¬
ды в год информационного бюллетеня Роскомархива ’’Открытия в российских
архивах”, посвященного обзорам рассекречиваемых архивных фондов и доку¬
ментов.
82
Воспоминания
© 1992 г.
Н.Т. ФЕДОРЕНКО
СТАЛИН И МАО ЦЗЭДУН
МАО ЦЗЭДУН В МОСКВЕ
Во время пребывания Мао Цзэдуна в Москве в феврале 1950 г. наше ведомст¬
во культуры решило ближе познакомить китайских друзей с духовной жизнью
столицы. Сочли, что нужно начать с гордости советского балета - ’’Красного
мака” в Большом театре. Сюжет балета, как известно, связан с жизнью Китая, по
крайней мере, так думали авторы и постановщики балета, которые подчас ре¬
альное подменяли воображаемым. Для полноты впечатления на спектакль был
приглашен сам Р.М. Глиэр, автор музыки балета ’’Красный мак”.
По каким-то обстоятельствам - думаю вовсе не случайным - Мао Цзэдун не
смог посетить Большой театр, хотя всем этого хотелось.
Группу китайских товарищей разместили в ложе для почетных гостей. Воз¬
главлял эту группу известный идеолог, профессор, член ЦК КПК Чэнь Бода.
Китайские товарищи проявили повышенный интерес к постановке и постоянно
обращались ко мне с разными, порой довольно деликатными вопросами.
- Скажите, а это что за чудище? - внезапно спросил меня Чэнь Бода, когда
появился исполнитель роли сутенера в шанхайском ночном заведении.
Я объяснил, как мог, но он не унимался:
- Неужели это страшилище - китаец? И остальные тоже китайцы? Это так вы
их себе представляете? И вам, кажется, все это нравится?
Мне пришлось сказать ему, что у каждого есть своя точка зрения, свое виде¬
ние. И что иностранцам очень трудно исполнять роль китайцев, приходится
гримироваться.
- Разве дело в гриме? Посмотрите, как он вообще выглядит, как ведет себя.
Это же чудовищно! - не успокаивался Чэнь Бода.
С тревогой наблюдал я за профессором. И чем дальше развивался сюжет балета,
тем больше возникало у китайского гостя вопросов. Наконец Чэнь Бода ”в серд¬
цах” выразил желание покинуть Большой театр.
Не буду подробно описывать, скольких трудов мне стоило удержать китайс¬
ких гостей от скандального демарша. Я старался обратить их внимание на то,
что на спектакле присутствовал знаменитый композитор, немолодой уже чело¬
век, который едва-едва держится на ногах.
- И вы считаете, что ’’Красный мак” создан знаменитым композитором? -
перебил меня Чэнь Бода.
Обстоятельства вынуждали меня использовать все возможные аргументы, и я
прибег к последнему, сказав, что наш заслуженный музыкант - человек почтен-
Окончание. Начало см. в № 5 нашего журнала за 1992 г.
83
ного возраста и что он специально пришел сегодня, чтобы лично приветство¬
вать дорогих гостей.
- Только из чувства учтивости мы остаемся, - обронил Чэнь Бода. - Непрос¬
тительно для самых прогрессивных деятелей искусства так беззастенчиво иска¬
жать образ китайцев, показывать их какими-то разбойниками и уродами. Извини¬
те, но это постыдное свидетельство невежества.
По окончании представления нас пригласили в кабинет директора Большого
театра, где, как полагается, был накрыт стол для дорогих китайских друзей.
Дальнейшие события лишь усугубили и без того печальное положение дел.
Великолепная мебель - позолоченные столы и бархатные кресла, предупреди¬
тельное обхождение прислуги, внимание и гостеприимство, казалось, нисколь¬
ко не заинтересовали Чэнь Бода и сопровождавших его лиц. Вместо живого раз¬
говора и обмена впечатлениями о балете в кабинете воцарилось тягостное мол¬
чание.
Хозяева, разумеется, ожидали услышать комплименты из уст благодарных
китайцев, для которых был специально устроен показ ’’Красного мака”. Но те
лишь молчали. И тогда я по праву сопровождавшего попросил Чэнь Бода сказать
о его впечатлениях о спектакле.
- Мне бы не хотелось проявлять бестактность, невоспитанность, неблагодар¬
ность. Потому позволю себе промолчать. Прошу не переводить моих слов, если
это возможно, - мрачно добавил Чэнь Бода, явно не желая высказывать крити¬
ческих замечаний.
Но не переводить было уже невозможно. Все слышали наш разговор и ожида¬
ли, что китайский гость изрек нечто похвальное. Мне пришлось прибегнуть к
дипломатии. Я вновь обратился к Чэнь Бода, попросив его не скрывать своих замеча¬
ний, которые, несомненно, будут в высшей степени ценны для дальнейшей твор¬
ческой деятельности коллектива.
- Прошу меня извинить, - начал Чэнь Бода, - но само название балета ’’Крас¬
ный мак” нас несколько обескураживает. Дело в том, что растение мак нами,
китайцами, воспринимается как символ опиума. Быть может, вы не знаете, но
опиум - злейший наш враг, потому что он веками губил народ... Простите, я не
хотел вас обидеть, - закончил он, изобразив на лице улыбку, которая могла
показаться извиняющейся.
После неловкой паузы разговор не клеился. Присутствующие обменивались
лишь лаконичными фразами. А когда Чэнь Бода добавил, что и сам сюжет, и
изображение китайских персонажей вызывают сомнение, беседа прервалась.
Мы покинули Большой театр. Китайские гости не пожелали более знакомить¬
ся с шедеврами театрального искусства Москвы.
Правда, был еще один случай, когда китайские гости смотрели по телевизору балет
’’Лебединое озеро”.
- Как вам понравился балет? - спросил я Чэнь Бода.
- Очень забавно, но скажите, почему все женщины выступают голыми? -
спросил меня Чэнь Бода. Дело в том, что китайские актрисы выступают на сцене
всегда в костюмах, скрывающих фигуру и формы. Появление актрис в другом
виде не только не принято, но и недопустимо.
Не менее примечательный случай имел место и во время передачи по телеви¬
дению спектакля с участием нашего знаменитого баса М.Д. Михайлова.
- Вам нравится его исполнение? - поинтересовался я у Чэнь Бода, который
смотрел спектакль вместе со своими товарищами и громко смеялся.
- Скажите, а почему он ревет как бугай? - спросил меня профессор.
- Это наш знаменитый бас, он не ревет, а поет своим могучим голосом. У
каждого свой слух, каждый слышит по-своему и воспринимает искусство по-
84
своему. Нам, русским, его пение очень по душе. Примерно так же, как вам нра¬
вится пекинская опера, где поют не своими голосами, а, так сказать, козлето¬
ном, - дерзнул парировать я.
- Ах так? Неужели? - воскликнул просвещенный профессор.
Посещение Большого театра китайскими гостями закончилось тем, что балет
’’Красный мак” был временно снят с репертуара. Но после изменения названия
спектакля на ’’Красный цветок” балет по-прежнему продолжали ставить. А в
остальном... все осталось по-прежнему.
Так ’’Красный мак” оказался развесистой клюквой. История эта - свидетель¬
ство невежества наших мастеров искусства. Неуважительное отношение к жиз¬
ни ближайших соседей, увлечение экзотикой обернулись последствиями, кото¬
рые испортили не только настроение людям, но и сами узы дружбы и добросо¬
седства. У А.Т. Твардовского есть слова: ’’Одна неправда нам в убыток, и только
правда ко двору”.
Не берусь измерять ущерб, наносимый подобными явлениями нашим духов¬
ным связям с зарубежными странами. Но убежден, что вопросы культуры нам
не следует ставить на самый последний план. Ведь именно с культуры и начина¬
ется духовное общение людей и народов, взаимное узнавание, сближение, вни¬
мание и сотрудничество. Лишь после этого начинают развиваться торговые,
экономические и другие отношения.
Каждая встреча Сталина с Мао Цзэдуном приносила что-то неожиданн а не¬
предсказуемое. То гость проявлял интерес к чему-либо, то хозяин но своей
инициативе затрагивал какой-нибудь вопрос.
Так, во время одной из бесед обсуждалась программа языка и мышления.
Сталин в общем высказывался в духе его известной статьи по языкознанию.
Основная идея состояла в том, что язык как средство сознательного выражения
мысли не чувствителен к классовой принадлежности людей. Любой человек
может говорить на любом языке, в том числе и на языке Пушкина, Толстого,
Достоевского и так далее. Все здесь определяется образованием и личными
интересами.
Примечательно, что Мао Цзэдун, в свою очередь развивая мысль о том, что
китайская иероглифика и язык при всей их сложности в действительности от¬
крыты каждому человеку, независимо от социального положения, классовой
принадлежности, отмечал, что не всякий китаец мог позволить себе необходи¬
мое образование и овладение иероглификой.
- И хотя мне не удалось получить высшее образование, - заметил Мао Цзэ¬
дун, - все же я, мне кажется, овладел иероглификой и языком.
- Товарищ Федоренко, - обратился ко мне Сталин, - подойдите ко мне с вашей
тарелкой.
Когда я приблизился к нему, он, как обычно, не глядя в мою сторону, сказал:
- Возьмите вот это. Редкое блюдо. Возможно, вы отведаете его первый раз в
жизни... Первый и последний, как говорится, - добавил он, по-прежнему смотря
в сторону. Я при этом подумал: почему человек отворачивается? Неужели я
вызываю в нем такое сильное отвращение? Ведь люди обычно смотрят друг дру¬
гу в глаза, когда разговаривают между собой.
Разумеется, я поблагодарил за угощение, но ощущение радости не испытал.
Тревожная мысль не покидала меня. Настораживало то, что официантка, пока¬
зывая блюдо хозяину, о чем-то с ним шепталась, а потом вместо того, чтобы
отнести это блюдо на сервировочный стол, поставила его у Сталина.
- Так как же, товарищ Федоренко? Понравилось вам приготовленное, - спро¬
сил он вскоре.
- Извините, товарищ Сталин, замешкался я тут, - едва вымолвил я на нерв¬
ной почве. - Очень деликатное...
Последовала пауза.
- Что же вы замолчали? - спросил Сталин не без упрека. И я почувствовал
словно легкую оплеуху в лайковой перчатке.
Блюдо это действительно оказалось вкусным: печень индейки, приготов¬
ленная с перцем и солью. Кавказский деликатес. Но меня не покидала тревога:
не угостили ли чем-то дурным. К счастью, все обошлось. Этот эпизод воскресил
в моей памяти другой случай, связанный с пребыванием Мао Цзэдуна в Москве
в 1957 г.
Тревожный звонок по правительственному телефону заставил без промедле¬
ния направиться в Кремль, где проживал тогда Мао Цзэдун. Встретил меня шеф
спецохраны и с нескрываемым волнением сказал:
- Товарищ заместитель министра, тут личный китайский повар Мао Цзэдуна
устроил нам полускандал, заявив, что привезенную нами рыбу он отказывается
принимать и готовить.
- Прошу без формальностей. Что здесь произошло? Какую, собственно, ры¬
бу? - спросил я полковника спецслужбы, который хотел видеть во мне прежде
всего высокопоставленнрго сановника, способного спасти положение, а главное
- его лично от возможных неприятностей.
- Карпа, которого мы ежедневно привозим для гостя, - выпалил он.
- Так в чем же дело?
* Повар только размахивает перед нами руками, отказываясь принять рыбу,
ведь это же скандал.
И он выпрямился, будто аршин проглотил.
Мне пришлось обратиться к китайскому повару, чтобы выяснить причину
такого поведения.
- Рыба эта уснула, неизвестно когда. А у меня строжайшее указание предсе¬
дателя Мао Цзэдуна готовить ему исключительно живую рыбу, - ответил шеф-
повар на хорошем пекинском диалекте.
Вот это недоразумение и вызвало переполох в недрах нашей особой службы.
- Да что вы? Неужели в этом все дело? - воскликнул полковник. - Да мы
сейчас же эту рыбу за жабры...
Воистину, никогда не поздно посадить дерево, хотя плоды его, быть может,
достанутся другим. Но радость останется с тобой.
... Шло время. Давно канул в вечность декабрь 1949 г. Минул январь 1950 г.
Приближался февраль, а с ним и годовщина подписания Договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи между Советским Союзом и Китайской Народ¬
ной Республикой.
- Нам хотелось бы, товарищ Сталин, устроить небольшой прием после подпи¬
сания договора, - обратился Мао Цзэдун, с просьбой во время очередной встре¬
чи.
- Естественно, - ответил Хозяин.
- Но не в Кремле, а в другом месте, например, в ’’Метрополе”.
- А почему не в Кремле?
- Видите ли, товарищ Сталин, Кремль - это место государственных приемов
советского правительства... Не совсем подходящее для нашей страны - суверен¬
ного государства.
- Да, но я никогда не посещаю приемов в ресторанах или иностранных по¬
сольствах. Никогда.
- Наш прием и без вас, товарищ Сталин... Нет, нет, просто немыслимо. Мы вас
просим, очень просим, пожалуйста, согласитесь, - настаивал Мао Цзэдун.
Наступила пауза, с ответом Сталин не спешил. Мао Цзэдун Ждал согласия
Хозяина, не сводя с него глаз.
86
- Хорошо, товарищ Мао Цзэдун, я приду, если вы этого так хотите, - произ¬
нес наконец Сталин и тотчас заговорил на другую тему. Так был нарушен обет,
который Сталин неукоснительно соблюдал всю жизнь.
14 февраля в назначенный день и час китайские хозяева и гости собрались в
банкетном зале ’’Метрополя”. И хотя здесь должна была царить торжественная
атмосфера, лица многих выражали озабоченность и даже тревогу: сдержит ли
Сталин обещание, удостоит ли своим присутствием. Немало оракулов высказы¬
вало мрачные прогнозы. Другие же, напротив, были настроены оптимистически.
И в этой связи мне вспомнился другой эпизод, о котором рассказал один из
московских всезнаек.
Будто бы однажды Сталин решил посетить столичный драматический театр,
но негласно, без лишнего шума и ажиотажа. Незаметно прошел в ложу и стал
смотреть спектакль. Бдительное око директора тотчас узрело гостя, он предпри¬
нял экстренные меры: моментально был водружен бюст Сталина в фойе.
По окончании спектакля Сталин, покидая театр, увидел свой бюст и удивлен¬
но спросил:
- А этот как сюда прошел?
... Когда атмосфера в банкетном зале ’’Метрополя” в ожидании Сталина, как
мне показалось, накалилась до предела, ко мне подошел человек в штатском и
с многозначительным видом доверительно прошептал:
- Вам следует встретить Хозяина в вестибюле и провести его сюда...
- Позвольте, разве это моя прерогатива? Не лучше ли это проделать вам, как
обычно? - ответил я полковнику, который мне уже примелькался.
- Не забывайте, знаете ли, с кем говорите. Перед вами...
- Догадываюсь.
- На счет прерогатив лучше помолчим. Объяснимся в другой раз. Я бы не
рекомендовал со мной так разговаривать. А сейчас вас, как специалиста по ки¬
тайскому, просят, неужели вы не понимаете?! - повелительно произнес мой
собеседник.
От дальнейшего диалога я воздержался, но было не совсем понятно, неужели
мне придется объясняться со Сталиным по-китайски. О таких людях хочется
сказать: он жаждет бегать, не научившись и ходить.
Взяв под руку, полковник провел меня в вестибюль и показал место, где я
должен был стоять и ’’глаз своих не сводить с входной двери”. Вокруг не было
ни души. Лишь гардеробщик занимал свое место у вешалки.
Вскоре открылась парадная дверь и появился Сталин. Быстрым взглядом он
обвел вестибюль и, заметив меня, не спеша, направился в мою сторону.
Приблизившись к гардеробу, он начал расстегивать шинель, в это время ус¬
лужливый гардеробщик будто на пружине подскочил к нему и подобострастно
произнес:
- Разрешите, Иосиф Виссарионович, подсобить...
Сталин, взглянув на швейцара, вежливо с ним поздоровался и с легкой иро¬
нией произнес:
- Благодарю, но это, кажется, даже я умею, - и бросил озорной взгляд в мою
сторону.
Сняв шинель, он прошел в гардероб, повесил ее, положил на полку свою фу¬
ражку, посмотрел в зеркало, поправил волосы и обратился ко мне:
- Как тут дела, все ли в сборе?
- Да, товарищ Мао Цзэдун и другие китайские друзья уже давно на месте,
ожидают вас.
- В таком случае - ведите меня, - сказал он и прикоснулся рукой к моему
плечу.
87
И я повел Сталина в банкетный зал, где его встретили громкими рукоплеска¬
ниями и шумными возгласами восторга. Это было всеобщее ликование - и
мрачных пессимистов, и очень осторожных оптимистов.
На какой-то миг Сталин остановился, окинул взглядом собравшихся и попро¬
сил меня вместе с ним подойти к Мао Цзэдуну, который стоял за длинным сто¬
лом ’’президиума”. Они поздоровались, пожали друг другу руки и переброси¬
лись несколькими фразами о состоянии здоровья друг друга. Затем китайские
товарищи во главе с Чжоу Эньлаем, собранным, подтянутым, серьезным, начали
подходить к Сталину, чтобы поздороваться и обменяться рукопожатиями. Мог
ли я в столь торжественный миг предполагать, что это - последняя встреча ки¬
тайского гостя с живым Сталиным, к которому он относился с чувством подлин¬
ного благоговения.
... Чжоу Эньлай был далеким потомком древних правителей из династии
Чжоу, господствовавшей в доисторические времена, которые Конфуций считал
’’идеальным веком Тяньси” - Поднебесной империи Китая. Именно Чжоу Энь¬
лай возглавил делегацию китайских коммунистов, отправившихся в Москву,
чтобы отдать последние почести усопшему вождю. Мы оказались тогда рядом у
гроба Сталина в зале Дома Союзов. Чжоу Эньлай при всей сдержанности, способ¬
ности владеть собой молчаливо стоял в слезах. Это не могло не трогать. И все
вокруг казалось жестоким и беспощадным...
Когда люди пошли за гробом, мы вновь оказались рядом с Чжоу Эньлаем и
шли в первом ряду, непосредственно за лафетом, в траурной процессии, направ¬
лявшейся на Красную площадь. Шли молча, погруженные в скорбные мысли. Не
знаю, как объяснить, но мне тогда казалось, что в глазах его затаена боль.
Запомнилась необыкновенная настороженность на лице Чжоу Эньлая, когда
нас пригласили на трибуну Мавзолея В.И. Ленина. Китайцы искусно владеют
эмоциями. И по выражению лица трудно бывает разгадать их мысли.
Выступал Берия. Он особо подчеркивал, что Политбюро ЦК КПСС как никогда
едино и монолитно. Чжоу Эньлай, внимательно следивший за речами ораторов,
попросил меня дважды перевести то, что говорил руководитель государствен¬
ной безопасности. Но от своих комментариев воздержался.
... Вернемся в ’’Метрополь”. В банкетном зале настроение у всех было при¬
поднятое. В некотором отдалении обособленно стояла когорта избранных: Берия,
Маленков, Ворошилов, Микоян, Шверник, Суслов, Булганин.
Начались тосты. Слышались громкие здравицы. Один за другим провозгла¬
шались спичи. Однако все ораторы - и не только они - не сводили глаз с двух
руководителей государств, стоявших рядом и время от времени перебрасываю¬
щихся фразами. В основном это были дружеские слова и различные реплики,
чаще из уст Сталина.
Наконец, Сталин, видимо, утомившись от нескончаемых оваций восторжен¬
ной аудитории, стал делать ^наки - не пора ли остановиться. Но тщетно. В ответ
раздавались лишь новые волны оваций. Махнув рукой, он обратился к Мао Цзэ¬
дуну, чтобы как-то охладить бурные восторги людей.
- Посмотрите, - сказал он Мао Цзэдуну, - на нашего ’’дядю Степу”. Вон он
над всеми возвышается на целую голову. Это известный детский писатель, -
весело сказал Сталин и попросил, чтобы С.В. Михалков подошел к нему.
Не привлекая внимания, Мао Цзэдун тотчас спросил у меня, что это за ’’дядя
Степа”, о котором только что говорил Сталин. Разумеется, я рассказал ему об
авторе и созданных им образах.
- А вы что же и детской литературой до сих пор интересуетесь? - спросил он
меня.
— Да, моим детям особенно нравится, когда я рассказываю о школьных годах,
88
проведенных вместе с Михалковым в городе Пятигорске, - решил я щегольнуть
близостью знакомства с известным поэтом.
- Позвольте, - воскликнул Мао Цзэдун, - я кажется, кое-что уже знаю о
нем... Это он страдает заиканием, как мне говорил Чжоу Эньлай?
- Верно, это так. Но заикание бывает полезно, если человек, например, не
приготовил домашнего задания или не может ответить на вопрос школьного
учителя. Вообще же этот детский писатель - удивительно находчив. Он пре¬
красно знает, когда сказать, что сказать и в чей адрес.
... Снова и снова - нескончаемые тосты. Люди, казалось, стремились превзой¬
ти друг друга в находчивости и остроумии. Но, думалось мне, что соперничество
это было отнюдь не бескорыстным. Не трудно было угадать значение тостов, кто
и кому адресовал свои трогательные пожелания, в чей адрес направлены здрави¬
цы, почему люди проявляют такую душевную заботу о других. Все это было
незримо обращено к совсем небольшой группе людей, которые находились
здесь, непосредственно за спиной Сталина.
Все с нетерпением ждали самого главного - слов Сталина. Именно он мог
сказать нечто, что выразило бы глубокий смысл исторического события. И этот
момент наступил. Сталин сделал жест рукой, попросив внимания.
- Дорогие товарищи, мы должны быть благодарны истории за то, что она дала
нам такого выдающегося марксиста-ленинца, неустрашимого коммуниста, как
Мао Цзэдун. За его здоровье и успехи, до дна, товарищи!
И все дружно осушили бокалы до дна. Снова раздался взрыв аплодисментов,
восторженных возгласов и общего ликования.
И когда все стали прощаться, ко мне торопливо подошел Н.Г. Пальгунов,
тогда генеральный директор ТАСС.
- Надеюсь, могу получить от вас текст выступления Сталина? - деловито
спросил он меня.
- Извините, почему вы обращаетесь ко мне, а не к своим подчиненным кор¬
респондентам, к вторых здесь целое скопище?
- Да, но они не знают китайского, а вы переводили Мао Цзэдуну.
- Переводил я действительно на китайский, но Сталин говорил по-русски. И
ваши сотрудники должны были записать это на нашем родном языке кирилли¬
цей. Или вы хотите иметь мой перевод его тоста на иероглифике?
Пальгунов одарил меня таким взглядом, какому позавидует и сатана. Взгляд
этот не трудно было понять, так как я уже был научен горьким опытом.
Когда Пальгунов работал корреспондентом ТАСС в Париже, он однажды по¬
лучил замечание из Москвы - непременно указывайте источник добываемой
информации, поскольку без этого материалы теряют всякую ценность.
К замечанию московского начальства полагалось относиться серьезно. И
Пальгунов сразу же приступил к делу. Очередная его информация гласила: ”Се-
годня, по сообщению органа компартии Франции ’’Юманите”, в Париже выпал
дождь”. Опыт зарубежной работы для Пальгунова оказался очень полезным. Во
всех случаях он добивался благонадежного источника информации, чтобы коз¬
лом отпущения сделать другого. В результате высокая оценка Сталиным китай¬
ского лидера прозвучала только в застольном тосте и сохранилась в памяти
лишь участников приема в ’’Метрополе”.
ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Время приносит все новые свидетельства того, что Сталин и Мао Цзэдун вой¬
дут в историю подобно тому, как вошли в нее тираны Цинь Шихуан, Тамерлан,
Чингисхан и другие деспоты и диктаторы.
При всех особенностях каждого из них Сталин и Мао Цзэдун имели нечто
общее. Причем не в чем-то малозначительном, а в весьма существенном. Разу¬
меется, мои наблюдения ограничены во многих отношениях. Но два аспекта мне
хотелось бы выделить особо.
В области языка как средства идеологического и политического воздействия
на массы и Сталин, и Мао Цзэдун часто прибегали к одинаковым приемам. Пред¬
почтение отдавалось языку краткому, предельно экономному, броскому. Отсю¬
да - лозунговость языка. Общеизвестны такие выражения Сталина, как ’’кадры
решают все”, ’’ликвидация кулачества как класса”, ’’пятилетку в четыре года”
и т.д. Не меньшее распространение в Китае получили такие призывы Мао Цзэду¬
на, как ’’твердо держаться упорной войны, сражаться с капитулянтством”,
’’твердо держаться сплочения, бороться с капитулянтством”, ’’громить ’’истре¬
бительные походы” (гоминьдана)” и т.п.
Что же до самой природы господства, характеризующего этих вождей, то об¬
щими для них были такие качества, как деспотизм, тиранство, жестокость в
общении с людьми. Известно, что одной из любимейших фигур Сталина был
Иван Грозный, на которого он, очевидно, хотел быть похожим. Здесь хотелось
бы напомнить о политике в деревне. О том, каким образом осуществлялась
сталинская сплошная коллективизация в Советском Союзе - достаточно хоро¬
шо известно и у нас, и за рубежом. Менее известно, каким образом проводил
такую политику Мао Цзэдун на раннем этапе, еще до победы народной револю¬
ции в Китае. В статье ’’Крестьянское движение в провинции Хунань” Мао Цзэ¬
дун писал: ’’Все ’’крайности” имеют революционное значение. Попросту говоря,
в каждой деревне необходим кратковременный период террора... Чтобы выпря¬
мить, надо перегнуть; не перегнешь - не выпрямишь”1.
Позднее, в 1958 г., на втором пленуме ЦК КПК восьмого созыва, Мао Цзэдун
заявил, что древний император Китая Цинь Шихуан ’’закопал живыми всего
только 460 конфуцианцев. Однако ему далеко до нас. Мы во время чистки рас¬
правились с несколькими десятками тысяч человек. Мы поступили, как десять
Цинь Шихуанов. Я утверждаю, что мы почище Цинь Шихуана. Тот закопал 460
человек, а мы 46 тысяч, в сто раз больше. Ведь убить, а потом вырыть могилу и
похоронить - это тоже означает закопать живым. Нас ругают, называют циньши-
хуанцами, узурпаторами. Мы это все признаем и считаем, что еще мало сделали
в этом отношении, можно сделать еще больше”1 2.
Об этом же Мао Цзэдун говорил во время беседы, когда мы находились в его
салоне в транссибирском экспрессе, и он обещал вернуться к вопросу о Цинь
Шихуане:
- Верно, что Цинь Шихуан огнем и мечом властвовал в Поднебесной. И он, и
его верноподданные фактически не останавливались ни перед чем, не соблюда¬
ли меры, брали через край. Все это было. Было прежде, случается и теперь. Пере¬
гибаем мы порой. Но если человек пробовал выправить палку, он знает, что ее
нужно выгибать до тех пор, пока она не перегнется в противоположную сторо¬
ну, а потом примет нормальный вид. Так как: не перегнешь - не выпрямишь.
Но ведь долго удерживать власть над народом террором и убийствами нель¬
зя. Неизбежно наступит возмездие.
Правда, мне запомнились слова Мао Цзэдуна, не единожды говорившего о
том, что китайские коммунисты всеми силами стремились к тому, чтобы земля
несла жизнь, а не смерть. Но идя к этой цели, они вынуждены вступать в крова¬
вую битву и не останавливаться ни перед чем, даже перед самой смертью. И
1Мао Цзэдун. Избранные произведения, т. Г. М., 1952, с. 44.
2Мао Цзэ дун сысян ваньсуй. Пекин, 1967, с. 257.
90
потому путь китайской компартии отмечен жертвами, чудовищными человечес¬
кими жертвами. Затем Мао Цзэдун ненадолго задумался, а потом сказал сле¬
дующее: ”У нас едва хватило сил стойко перенести страдания и потери. Одна¬
ко были и у нас разного рода издержки в борьбе. Армия - это не только герои.
Случались измены, малодушие, предательство в наших рядах - армейских и
партийных. Это тоже потери...
Многих, однако, на тот свет отправляли мы сознательно, убежденно. Отправ¬
ляли наверняка, так чтобы ни один из них не имел шанса вернуться. С врагами
революции мы вели себя беспощадно. То было отмщение врагам за их невер¬
ность. Смерть их становилась нашей победой. Смерть оборачивалась жизнью для
революции. Торжествовала справедливость - революция восставшего народа.
Не всякому это понятно. Но тем, кто рисковал своей жизнью в жесточайшей
битве за раскрепощение китайского народа, кто принес себя в жертву револю¬
ции, следует воздать хвалу и возвести памятник бессмертия”.
Возникает, разумеется, вопрос: как ныне относятся в Китае к идеям Мао Цзэ¬
дуна, к его учению, трудам? ’’Полезное принимается, ошибочное отклоняет¬
ся” - можно услышать в ответ. Остается, однако, выяснить, что же полезное, а
что ошибочное в маоизме. На этот вопрос ответ может быть дан лишь практикой,
жизнью. В известной мере это проявляется в экономической сфере, где достиг¬
нуты немалые успехи.
Поучителен для меня опыт работы над переводами и подготовкой издания
избранных работ Мао Цзэдуна на русском языке. В этих целях в К тай был ко¬
мандирован член ЦК КПСС академик П.Ф. Юдин, получивший манда! эт самого
Сталина. Китайские товарищи приняли советского философа со всеми почестя¬
ми. Он немедленно был приглашен Мао Цзэдуном, который помнил ранние вы¬
ступления Юдина, в которых последний беспощадно обличал противников
марксизма и материалистической диалектики. Мао Цзэдун не скупился на ком¬
плименты и заранее благодарил за ’’просвещенную” помощь при подготовке
текстов его работ, которые, конечно же, страдают ’’невежеством” и полны ’’гру¬
бых ошибок”.
Стоит, пожалуй, сказать, что Мао Цзэдун иногда позволял себе ” пошутить”
над собой.
- Знаете ли, - самоуничижительно говорил он мне как-то в минуту весело¬
го расположения духа, - у меня ведь самое что ни на есть деревенское проис¬
хождение, мужицкое, неотесанное. ’’Чучело соломенное на огороде”.
- Не отсюда ли происходит выражение: ’’Причину мудрой природы ищи в
траве”? - вырвалось у меня.
- Не городской я, рос в захолустье. Вот вы - человек с образованием, доктор
наук. А у меня низшее. Все пришлось самому. Все в борьбе и испытаниях, - при¬
бавил он, явно напрашиваясь на комплименты.
- Иные живут счастливо, сами того не зная. Человеческий подвиг, как и та¬
лант, сокращает путь к цели. Какой смысл в безмятежной и блаженной жизни?
Что-то должно ворочать душу, жечь воображение, - пытался я выразить свое
понимание.
- Верно говорят, без постоянной борьбы и доблесть увядает. Борьба - истин¬
ное счастье и радость жизни, - многозначительно закончил собеседник.
Действительно, у Мао Цзэдуна за плечами было лишь неполное среднее обра¬
зование. И он частенько не без гордости об этом упоминал, получая в ответ
комплименты благожелателей. Нужно ли уточнять, где в таких случаях истина,
а где китайский церемониал.
По прибытии в Пекин Юдин приступил к штудированию текстов работ Мао
91
Цзэдуна в русском переводе, который нами вместе с китайскими коллегами уже
был подготовлен.
Вскоре была назначена встреча с Мао Цзэдуном для разбора замечаний и ре¬
комендаций академика. Она происходила в кабинете правительственной рези¬
денции хозяина в Чжуннаньхае. Я был переводчиком.
В начале беседы Мао Цзэдун принес извинения за то, что причинил ученому
человеку столько затруднений, неудобств. И потому его не покидают чувство
стыда, угрызения совести. Затем начался разговор по существу.
Мао Цзэдун попросил Юдина изложить замечания, которые, ’’несомненно,
будут чрезвычайно ценными для автора, так как помогут в дальнейшем пра¬
вильно понимать и анализировать конкретные вещи”.
- Внимательное ознакомление с вашими трудами, товарищ Мао Цзэдун, -
начал Юдин, - убедило меня в их глубокой научности и большой теоретической
зрелости. Понимание законов марксистской философии и доскональное зна¬
ние конкретной действительности в Китае позволили автору дать объективную
оценку обстановки и вооружить партию в ее победоносной борьбе.
- Благодарю вас, товарищ Юдин, но вы слишком щедры. Мои примитивные
писания не заслуживают ваших похвал. Я делал все что мог в условиях беско¬
нечных походов и сражений, делал наспех, часто без первоисточников марксиз¬
ма-ленинизма. Отсюда неизбежны серьезные ошибки. Надеюсь, другие сделают
лучше, грамотнее, - произнес тихим голосом Мао Цзэдун.
- Вы слишком скромничаете, недооцениваете собственных трудов, товарищ
Мао Цзэдун. Никаких серьезных ошибок я не обнаружил. У меня есть лишь от¬
дельные пометки, частные методологические соображения.
Сказав это, Юдин развернул свои записи и приступил к замечаниям. Он назы¬
вал конкретные работы, абзацы, страницы. Переводчик Ши Чжэ тут же сообщал
об этом профессору Чэнь Бода, руководителю редакционного совета ЦК КПК по
изданию трудов Мао Цзэдуна, и он соотносил это с китайским текстом.
- Чэнь Бода, что вы скажете по поводу замечания академика? - спрашивал
Мао Цзэдун после очередного пояснения Юдина.
- Я внимательно слушал академика, считаю, что его замечание справедливо,
но мы уже ранее уточнили формулировку в вашей ранее опубликованной рабо¬
те и исправили опечатки, - спокойно отвечал Чэнь Бода.
- Прошу продолжать, товарищ Юдин, - произносил Мао Цзэдун.
- В таком же духе и остальные мои замечания, - говорил Юдин и ссылался на
соответствующую работу, абзац, страницу. И снова Мао Цзэдун столь же педан¬
тично обращался к Чэнь Бода.
- И это соображение, товарищ Мао Цзэдун, правильно, - отвечал тот, - но мы
уже внесли необходимое уточнение. Текст выправлен. Неточность, видимо,
была допущена по небрежности. Текст работы печатался в походных условиях.
Так происходил разбор теоретических работ Мао Цзэдуна. Он скорее демонст¬
рировал хорошо организованную деятельность Комиссии ЦК КПК и ее руково¬
дителя, весьма компетентную их работу, которая, в сущности, как бы предвос¬
хитила замечания советского философа и свела разговор о них к простой фор¬
мальности.
В процессе подготовки русского издания избранных работ Мао Цзэдуна я
убедился в том, что комиссия Чэнь Бода внесла в первоначальный текст значи¬
тельно больше корректив, чем об этом говорилось во время упомянутой встре¬
чи с Мао Цзэдуном. Более того, многие замечания Юдина либо не были приняты,
либо изложены в иной редакции.
Заслуживает в этой связи внимания читателей предисловие к изданию из¬
бранных произведений Мао Цзэдуна. В нем отмечается, в частности: ’’Все труды,
92
включенные в настоящее собрание, были просмотрены автором, который внес в
них некоторые исправления стилистического характера, а в отдельные работы -
дополнения и исправления по содержанию”3.
Так оно и было на деле. О Юдине же ни слова, что в общем справедливо.
... Мы вышли из приемной Мао Цзэдуна, и Юдин не мог удержаться от востор¬
га.
- Чему вы так радуетесь? - спросил я академика.
- А разве вы не испытываете гордости за блестяще выполненную нами науч¬
ную работу?
Не берусь судить, насколько Юдин был искренним.
- Наш труд пропал, но не даром, - вырвалось у меня.
- И верно, сегодня утром я получил такой жбанчик настоя, что наверняка
несколько расслаблюсь, - услышал я в ответ.
Вскоре Юдин был назначен советским послом в Китае.
Возвращаясь теперь мысленно к беседе у Мао Цзэдуна, я почему-то думаю,
что после нашего ухода у китайских друзей было больше причин ликовать. Ведь
все опять свелось к пресловутому китайскому церемониалу. Ничего критичес¬
кого по содержанию избранных работ Мао Цзэдуна высказано не было. Напро¬
тив, одни панегирики. Но грешен был не только Юдин. Все мы были грешны.
Грешны оттого, что поддавались общему гипнозу. Кто из нас не желал того,
чтобы великая победа наших китайских единомышленников еще более укрепи¬
ла братские узы, усилила убежденность в необходимости великого сражения за
торжество высших идеалов человечества.
Трудно порой бывает понять ход собственных мыслей, но именно после
встречи с Мао Цзэдуном в моей памяти всплыл один эпизод, случившийся неза¬
долго до этого.
Дело происходило в одном из традиционных китайских ресторанов. Мао Цзэ¬
дун устроил банкет в честь прибывшей в Пекин для переговоров с китайским
руководством советской делегации. Возглавлял делегацию Н.С. Хрущев. За¬
шел разговор о былых сражениях китайских коммунистов с гоминьдановскими
войсками.
- Скажите, товарищ Мао Цзэдун, - обратился Хрущев к хозяину, - какова
в конце концов ваша философия стратегии и тактики борьбы, проводившейся в
столь трудных условиях.
- О, это очень просто, - ответил Мао Цзэдун и, взяв костяные палочки для
еды, ловко приподнял из стоявшего перед ним блюда трепанга. - Видите, это
чудо теперь в моих руках. И я с удовольствием отправляю его в свой рот, из
которого, как вы догадываетесь, выход только один. Итак, трепанг у меня в
зубах. Он неразделим со мной.
- Может быть, окропим это каплями маотая? - вопросил Н.А. Булганин,
имея в виду китайскую водку. И все тотчас осушили по малой стопке весьма
крепкого напитка.
- Так вот, - продолжал Мао Цзэдун. - Трепанга я пережевываю и проглаты¬
ваю. Можете не сомневаться, что это именно так. Теперь облюбовываю второго
трепанга, столь привлекательно лежащего на блюде. И беру его палочками, вот
так, примерно. Но поместить его в свой рот, чтобы раскусить, пока йе тороп¬
люсь. Предпочитаю подержать его палочками, так сказать, для убедительности.
В то же время сосредоточиваю внимание на третьем трепанге, который так при¬
влекательно возбуждает мой аппетит...
- И что же происходит? - вырывается у А.И. Микояна.
3Мао Цзэдун. Указ, соч., т. 1, с. 7.
93
- Вот об этом, третьем трепанге, мы и должны поговорить, - закончил свое
повествование Мао Цзэдун.
- И за это нужно поднять бокалы, - снова проявил себя Булганин и, не дожи¬
даясь других, опрокинул свою стопку.
Вскоре я заметил, что сорочка стала ему узковатой. Накрахмаленный ворот¬
ничок, как тугой ошейник, оставлял красный след на его лоснящейся шее.
Один тост сменялся другим. Высказывались все новые пожелания, за кото¬
рые просто необходимо было выпить. Но шутки с маотаем не бесконечны, так
как крепость его в зависимости от места производства колеблется от пятидеся¬
ти до семидесяти градусов. Особенно, если продукт изготовлен для специально¬
го назначения.
- Почему бы нам не отметить такой знаменательный факт, как посещение
советскими друзьями вечного города, исторического поселения китайцев, Пеки¬
на, - обратился к собравшимся Чжоу Эньлай, который был известен как непре¬
взойденный тамада, обладавший способностью выпить громадное количество
любого зелья. Даже наши командированные специалисты и отечественные зна¬
токи, которые видывали всякое, признавали, что с Чжоу Эньлаем лучше не со¬
перничать.
И что же? Отметили. Осушили. Дружно. Без единого голоса против, но при
одном воздержавшемся - Хрущеве. Он не пил ни капли, но поддерживал энту¬
зиазм, в первую очередь Булганина.
- Почему бы нам не подтвердить преданность партии красных, партии ком¬
мунистов? - вызывающе продолжал Мао Цзэдун, указывая на горку красного
перца слева от него. - Нельзя же мириться с тем, что вокруг энтузиасты всяких
там бесцветных и безвкусных движений. Верный приверженец красного перца, я
спрашиваю вас, товарищи, готовы ли вы присоединиться к моей партии красно¬
го перца? - произнес Мао Цзэдун, обращаясь к участникам застолья.
По долгу переводчика, случайно оказавшегося трезвым из-за того, что ис¬
полнял служебные обязанности, я обратился к советским участникам застолья с
предложением отреагировать на призыв. Первым согласился Булганин. Он по¬
просил у Мао Цзэдуна пиалу с перцем и щедрою рукой засыпал его себе в рот,
думая, что хозяин угощает сладким перцем. Но этот перец перехватил у него
дыхание. Он закашлял, слезы выступили на глазах.
- В нашем лице, - едва выговорил он, - вы всегда получите в нашем лице...
- Красного перца? - воскликнул Хрущев. - Так это нам давно знакомо: та¬
кого перца задавали наши запорожцы, хлопцы! - обратился он к застольной
рати.
- И еще как зададим, - произнес Булганин, с трудом пришедший в себя.
И вот теперь я спрашиваю себя, какого перца мы собирались задать им, китай¬
цам? Но они ведь и сами знают, как задавать перца другим. Нужно ли об этом
говорить?
- Итак, считаю, что нам удалось создать партию стойких единомышленников,
которые бесстрашно поглощают красный перец и даже остаются в живых, - про¬
изнес Мао Цзэдун, который будто бы вовсе и не прикасался к маотаю.
В этой связи мне вспомнился случай, о котором мне рассказал сам Мао Цзэ¬
дун еще в поездке из Пекина в Москву:
- Во время Великого похода Красной Армии Китая с юга страны на север
путь наш проходил через дикие местности. Было это по той причине, что там не
было гоминьдановских войск и нам удавалось легче продвигаться. Однажды мы
оказались где-то на границе провинции Сычуань. Измученные переходом, реши¬
ли сделать привал. Вдруг наши бойцы обнаружили бассейн с цементным дном.
Все мы рванулись к нему.
94
Мао Цзэдун остановился, перевел дыхание и продолжил:
- Это было какое-то блаженство. Ссадины на ногах словно бы растворялись.
Поначалу мы блаженствовали. Как вдруг оказалось, что это бассейн для хране¬
ния маотая... Состояние у нас было просто шоковое. Но все обошлось благопо¬
лучно. Бойцы отдали должное обнаруженному ими кладу.
- Чем же все кончилось? - спросил кто-то из нашей делегации.
- Как говорят, все сошло с рук, то есть с ног. Удовольствие нужно позволять
себе только после трудов, а не перед ними, - с улыбкой ответил Мао Цзэдун. -
И мы двинулись вперед. Ведь перед рассветом и зарею отступают все тени.
- Не совсем точно, - вмешался Чжоу Эньлай. - Мы наполнили маотаем все
наши емкости, все обнаруженные сосуды и утром отправились в путь. Долго еще
вспоминали целебный источник в той глухомани.
- Разные бывают истории, но меня интересуют только такие, которые удивля¬
ют. Так, может быть, сомкнемся?! - вновь прозвучал голос Булганина.
И все дружно сомкнулись... перед разлукой.
95
Документальные очерки
© 1992 г.
Г.А. МИХАЙЛОВ, А.С. ОРЛОВ
ТАЙНЫ ’’ЗАКРЫТОГО НЕБА”
В марте 1992 г. в Вене подписан межгосударственный договор об ’’открытом
небе”. Он предусматривает инспекционные полеты военно-разведывательной
авиации над территориями стран - участниц Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Таким образом, разрешена еще одна важная между¬
народная проблема из тяжелого наследия ’’холодной войны”.
План ’’открытого неба” был предложен еще в 1955 г. президентом США
Д. Эйзенхауэром, но был отвергнут советским правительством.
Сегодня, когда ’’холодная война” ушла в прошлое, когда уже нет сверхдер¬
жавы по имени Советский Союз, а отношения между странами Запада и госу¬
дарствами СНГ нормализовались, этот отказ правительства СССР 50-х годов
’’открыть” воздушное пространство над своей страной для полетов иностранных
самолетов может показаться амбициозным актом, продиктованным лишь
стремлением не допустить ’’подрыва устоев”. Однако, если восстановить истори¬
ческую картину того времени, вспомнить, что это были за годы - в мире буше¬
вала ’’холодная война”, а среди политических и военных деятелей 50-60-х
годов господствовала крайняя подозрительность - ответ будет не столь одно¬
значным.
Авторы настоящего очерка в те годы служили в Главном штабе войск противо¬
воздушной обороны страны и принимали непосредственное участие в событиях,
связанных с проблемами ’’открытого неба”.
Воздушный парад в 1955 г. в Тушино был в разгаре, когда над аэродромом
после пролета серебрянокрылых истребителей появилась группа бомбардиров¬
щиков. Самолеты приковали к себе внимание представителей иностранных
посольств: это были неизвестные им новые межконтинентальные бомбардиров¬
щики ТУ-95, способные доставить ядерные бомбы до континентальной части
США. Появление в СССР авиации такого рода свидетельствовало о том, что США
перестали быть недосягаемой и неуязвимой территорией, что их монополии на
средства доставки ядерного оружия.к любой точке земного шара пришел конец.
Парад этот стал знаменательным событием: прошел всего лишь год с тех пор,
как в США была принята стратегия ’’массированного возмездия”. Она предусма¬
тривала в случае любой угрозы интересам безопасности США массированное
воздушное нападение на источник угрозы силами американской стратегической
авиации с применением водородных бомб. Исполнителями ’’возмездия” долж¬
ны были стать реактивные бомбардировщики Б-47 и Б-52 с дальностью действия
10-17 тыс. км. К середине 50-х годов был создан большой парк этих и обслужи¬
вающих их самолетов. Акция ’’возмездия” мыслилась как воздушная стратеги¬
ческая операция, в ходе которой тяжелые и средние бомбардировщики должны
были нанести удары ядерными бомбами по жизненно важным центрам страны
противника, уничтожить его военно-экономический потенциал, основные
96
города и принудить противника выполнить условия мира, продиктованные
руководством США. Предполагалось, что бомбардировщики, действуя из США
или с передовых баз, где часть их несла постоянное дежурство, могли через
считанные часы нанести ядерные удары по объектам СССР, главного потенци¬
ального противника США в те годы. Считалось, что такого рода акция пройдет
безнаказанно, поскольку межконтинентальной стратегической авиации нет ни у
одной другой страны на планете, а система противовоздушной обороны (ПВО)
СССР недостаточно эффективна. И вот парад 1955 г. в Москве опроверг этот
постулат американской стратегии.
В Вашингтоне, Лондоне и столицах других стран НАТО газеты подняли гром¬
кую кампанию об отставании западного мира в стратегических бомбардировщи¬
ках от СССР. Предполагалось, что в СССР развернуто массовое производство
двух типов стратегических бомбардировщиков - ТУ-16 (принятое наименова¬
ние в НАТО - ’’Бэджер”) и ТУ-95 (’’Биар”). Их считали аналогами американских
бомбардировщиков Б-47 и Б-52. По расчетам специалистов Пентагона выходило,
что к середине 60-х годов на вооружение советских военно-воздушных сил
могут поступить до 500 стратегических бомбардировщиков.
На Западе накапливалось все больше сведений о том, что в Советском Союзе
ведутся интенсивные работы по созданию межконтинентальных ракет на базе
гитлеровского ’’оружия возмездия”, ракеты Фау-2, с привлечением немецких
специалистов.
В США сотни американских и немецких специалистов во главе с создателем
’’чудо оружия рейха” В. фон Брауном разрабатывали проекты межконтиненталь¬
ных ракет ’’Атлас” и ’’Титан” также на базе германского ракетного оружия.
Соревнование в производстве стратегических вооружений между США и
СССР набирало силу. Каждая сторона стремилась выяснить состояние разрабо¬
ток ракет и самолетов стратегического назначения вероятного противника.
Положение осложнялось тем, что в те же годы и СССР, и США участвовали в
переговорах по сокращению вооружений.
Однако отношения между СССР и США, между Советским Союзом и западным
миром в целом были крайне неровными. Краткосрочные полосы потепления
перемежались с острыми международными кризисами, порой ставившими
человечество на грань ядерной войны. В военно-политических кругах обеих
сторон преобладало конфронтационное мышление, опиравшееся на противосто¬
явшие друг другу военные блоки - НАТО и Варшавский договор. Любой возни¬
кавший кризис сопровождался угрозами применить силу против другой сторо¬
ны или демонстрацией военной мощи.
Крайнее недоверие между правящими кругами СССР и стран Запада не поз¬
воляло разработать и применить на практике действенные меры контроля над
различными вариантами разоружения, которые неоднократно выдвигались
обеими сторонами в те годы. Так, в 1955 г. Советское правительство предложило
осуществить программу разоружения, предусматривающую сокращение как
обычных, так и ядерных вооружений. Предполагалось ограничить численность
вооруженных сил для СССР, США и Китая 1-1,5 млн. человек, а для Англии и
Франции - 650 тыс. человек1. Однако предложенные СССР сроки сокращения -
два года - были явно нереальными. К тому же отсутствовал механизм контро¬
ля: национальные средства контроля сторон были еще далеки от совершенства,
чтобы обеспечить надежное наблюдение за ходом разоружения партнера по
соглашению. В условиях взаимного недоверия эта проблема представляла
огромную сложность. СССР предлагал создать международный орган, обладаю¬
1История дипломатии, т. V, кн. 1. М., 1974, с. 667.
4 Новая и новейшая история, № 6
97
щий правом требовать от правительств документацию об уровне военных
расходов, иметь на согласованной основе посты в портах, на железнодорожных
узлах и авиабазах, укомплектованные личным составом из представителей
заинтересованных государств. Однако в НАТО сочли этот проект недостаточно
эффективным. Тогда-то и был выдвинут план ’’открытого неба”, повышавший
для США уровень надежности контроля. Но для СССР, который в развернувшей¬
ся в те годы гонке вооружений стремился в кратчайшие сроки догнать США и по
возможности вырваться вперед, ’’открытое небо” означало раскрытие для
американских и иных западных специалистов главных секретов создания совет¬
ских стратегических вооружений. И это в обстановке ’’холодной войны”, когда
в политике господствовал блоковый конфронтационный подход, а переговоры о
нормализации отношений и разоружении носили второстепенный, часто лишь
пропагандистский, характер. Поэтому Советский Союз, где все работы по созда¬
нию стратегического оружия велись в отдаленных районах страны, куда доступ
был закрыт, отверг план ’’открытого неба”.
В этих условиях американское руководство, встревоженное размахом
советских стратегических программ, особенно в области ракетно-ядерного
оружия, и лишенное легального доступа к военным секретам СССР, склонялось
к решению получить необходимую информацию нелегально.
Какие виды стратегических вооружений разрабатывались в Советском
Союзе? Каковы были состояние и перспективы этих разработок? Что являлось
приоритетным - ракеты или бомбардировщики? Где находились авиабазы и
ракетные позиции? Все эти вопросы стояли в центре внимания политиков и
стратегов в Вашингтоне.
В первой половине 50-х годов, когда интернированные в 1945 г. немецкие
ракетные специалисты вернулись из СССР в Германию, западным разведкам
стало известно о работах в СССР над созданием межконтинентального ракетного
оружия. Они уже знали, что на полигоне Капустин Яр, расположенном в низовь¬
ях Волги, проводятся экспериментальные пуски ракет. Но каких? Насколько
они сопоставимы с межконтинентальными ракетами, которые испытывались в
США? Необходимо было проникнуть за ’’железный занавес”.
Зимой 1954/1955 г. в Турции, в горном районе близ города Диарбекир с согла¬
сия турецкого правительства американцами была построена радиолокационная
станция (РЛС) с большой дальностью действия. Ее данные позволяли получать
информацию о том, что происходило в Капустином Яре. К концу 1955 г. амери¬
канцы с помощью РЛС в Диарбекире установили, что на этом полигоне испыты¬
ваются ракеты, что испытания ведутся интенсивно и достаточно успешно.
Специалисты США считали, что русские вырвались далеко вперед в деле созда¬
ния стратегического ракетного оружия. Парад в Москве в 1955 г. показал, что и
в области создания стратегической авиации Советский Союз достиг значительных
успехов. Американское общественное мнение все больше приходило к убеж¬
дению, что Соединенные Штаты отстают от СССР на важнейших направлениях
научно-технического прогресса.
В Белом доме и в Пентагоне пришли к выводу о необходимости немедленно
приступить к сбору данных о советских программах разработок стратегических
средств воздушного нападения. Было решено организовать систематические
полеты над территорией СССР с задачами сбора сведений о советских вооруже¬
ниях и вооруженных силах путем аэрофотосъемки и радиотехнической развед¬
ки. В те годы американские самолеты РБ-47, РБ-57, английский самолет ’’Канбе-
ра” уже совершали полеты с вторжением в воздушное пространство СССР; на
большой высоте сюда запускались американские аэростаты-разведчики.
В Советском Союзе это был,} цстречено протестами по дипломатическим кана¬
9R
лам и противодействием средств ПВО. Началась необъявленная воздушная
война. И, хотя большинству нарушителей удавалось уйти от поражения, выпол¬
нение задач в столь сложной обстановке становилось все более трудным делом.
К тому же эти самолеты не могли проникать в глубинные районы страны, где
размещались основные полигоны, позиции и аэродромы стратегических сил
СССР. Требовалось найти новое средство для разведывательных полетов, более
безопасное и надежное с точки зрения сбора Необходимых сведений. Выход
увидели в создании специального высотного одноместного самолета-разведчи¬
ка, оснащенного мощной аппаратурой аэрофотосъемки. Авиастроительная
компания ’’Локхид” под руководством своего вице-президента К. Джонсона
сконструировала одноместный самолет-разведчик с турбореактивным двигате¬
лем ”Джей-57” фирмы ’’Пратт-Уитни”. Он был способен совершать полет на
высоте 20 км, производить аэрофотосъемку и вести радиотехническую разведку.
Такая высота обеспечивала недосягаемость самолета для советских средств
ПВО.
В 1955 г. ПРУ и командование ВВС США разработали программы предстоявших
разведывательных полетов в интересах каждого из этих ведомств. Руководите¬
лем программы был назначен один из заместителей директора ПРУ А. Далле¬
са - Биссел. Первый испытательный полет нового самолета, получившего
наименование У-2, состоялся в августе 1955 г., а в мае следующего года был
сформирован первый отряд этих самолетов (подразделение 10-10), который стал
дислоцироваться в Англии. Однако вскоре британское правительство, опасаясь
осложнения отношений с Советским Союзом, потребовало убрать разведыва¬
тельный отряд со своей территории. Он был переброшен в Западную Германию,
на авиабазу Висбаден близ Франкфурта-на-Майне.
Но в это время произошло важное событие, имевшее прямое отношение к
предстоящим полетам У-2. Дело в том, что правительство СССР, обеспокоенное
нарушениями своих воздушных границ, решило показать иностранцам, что в
Советском Союзе имеются средства, способные бороться с этим. В 1956 г. на
воздушный парад в честь дня ВВС СССР были приглашены 28 иностранных воен¬
но-авиационных делегаций, в том числе американская, возглавляемая началь¬
ником штаба ВВС США генералом Н. Туайнингом, английская во главе с мини¬
стром авиации Н. Берчем, французская, представленная летчиками полка
’’Нормандия-Неман” - Героями Советского Союза, во главе с начальником
штаба ВВС Франции генералом Байи. 23 июня 1956 г. на Внуковском аэродроме
их встречали Маршал Советского Союза И.С. Конев и Главный Маршал авиации
П.Ф. Жигарев.
Парад состоялся 24 июня на подмосковном аэродроме Тушино. Иностранным
делегациям, находившимся на правительственной трибуне вместе с членами
Президиума ПК КПСС, и многочисленным зрителям были продемонстрированы
новейшие реактивные истребители, созданные в конструкторских бюро извест¬
ных советских конструкторов - А.С. Яковлева, А.И. Микояна, П.О. Сухого.
Было показано семь новых образцов, имевшихся, правда, в тот период лишь в
нескольких экземплярах. Демонстрация новых истребителей вызвала оживле¬
нные отклики среди гостей. Отмечалось пилотажное искусство наших летчиков,
четкость организации парада, высоко оценивались возможности показанных
самолетов.
Во второй половине того же дня в Центральном доме Советской Армии
министром обороны СССР Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым был дан
большой прием. После него все присутствовавшие члены Президиума ЦК КПСС
во главе с Н.С. Хрущевым, пригласив глав американской, английской и фран¬
цузской делегаций и соответствующих послов^ Й1 также ведущих авиаконструк¬
4
99
торов, расселись в парке под деревьями за летний стол недалеко от пруда*.
Хрущев начал произносить один из своих затяжных тостов ”в защиту мира”, в
ходе которого, обращаясь к генералу Туайнингу, спросил: ’’Сегодня мы показа¬
ли вам свою авиацию. А хотите посмотреть наши ракеты?” ”Да”, - последовал
быстрый прямой ответ. ’’Так мы вам их не покажем, - продолжал Хрущев под
хохот присутствовавших. - Сначала покажите свои самолеты и прекратите
засылать в наше воздушное пространство нарушителей. Непрошеных гостей мы
будем сбивать. Все заши ’’Канберры” достанем. Это же летающие гробы”.Ту-
айнинг покраснел и явно обиделся. В этот момент Хрущев заметил, что аме¬
риканский военный атташе полковник Ф.К. Меарнс выплеснул содержимое
своей рюмки под куст. Обращаясь к американскому послу Ч. Болену, Хрущев
немедленно обыграл и это: ’’Вот я тут о мире и дружбе, а ваш атташе что дела¬
ет?” Меарнс был вынужден демонстративно выпить огромный ’’штрафной”
бокал за советско-американскую дружбу, вслед за чем быстро удалился. Посол
Болен был взвинчен. Туайнинг явно злился. Инцидент постарались сгладить
русским гостеприимством в ходе поездки по стране. А 1 июля 1956 г., когда
Туайнинг с группой генералов ВВС США улетал с Внуковского аэродрома, его
подчеркнуто торжественно провожали Маршал Советского Союза И.С. Конев,
Главный маршал авиации П.Ф. Жигарев, генерал армии М.С. Малинин, маршал
авиации С.И. Руденко, а также посол США Ч. Болен и все три атташе: военный -
полковник Ф.К. Меарнс, военно-воздушный - полковник Ч.Э. Тейлор и военно-
морской - капитан 1-го ранга Л.Т. Морс.
Сразу же по возвращении Туайнинга в США начались систематические втор¬
жения американских самолетов в советское воздушное пространство. Это
выглядело как ответ на хвастливые речи Хрущева. Но было просто совпадени¬
ем. Президент Эйзенхауэр разрешил Даллесу в июне 1956 г. произвести несколь¬
ко разведывательных полетов в течение 10 дней. В начале июля отряд У-2 из
Западной Германии произвел пять глубоких вторжений в воздушное прост¬
ранство СССР на высоте 20 тыс. м. Фотографии, сделанные фотокамерами с
фокусным расстоянием 36 дюймов (90 см), были исключительно высокого
качества. Как вспоминал Биссел, ’’детали были видны настолько четко, что
можно было прочесть хвостовые номера на бомбардировщиках”* 2. Успешными
были и другие разведывательные полеты.
Советские радиолокационные станции обнаруживали и вели эти самолеты,
хотя и с ’’провалами проводки”. Правительство СССР направило ряд протестов
посольству США в Москве, в печати появились статьи о нарушении советских
границ американскими военными самолетами, что имело место и в предыдущие
годы, но точных сведений о новом американском разведывательном самолете в
СССР еще получить не могли.
С начала выполнения программы полетов У-2 до 1 мая 1960 г., когда был сбит
близ Свердловска американский летчик Ф. Пауэрс, их было произведено око¬
ло 30. Каждый из них заблаговременно и тщательно готовился группой Биссела
с участием представителей Белого дома, ПРУ, министерства обороны, комиссии
по атомной энергии, госдепартамента и других заинтересованных ведомств
США.
Чтобы создать наиболее выгодные условия для разведки глубинных объек¬
тов на территории СССР, было решено часть разведывательных полетов прово¬
дить, используя аэродром Адана в Турции и авиабазы Пакистана, в частности
Пешавар. Кроме того, по американским данным, радиолокационное прикрытие
*В числе присутствовавших был один из авторов статьи — Г.А. Михайлов.
2Life, 1964, N 12, р. 30.
100
советского воздушного пространства на границе с Афганистаном на участке,
ближайшем к Западному Пакистану, было весьма слабым. Наконец, стартуя из
Пакистана, самолеты-разведчики могли через короткое время выходить к
самым важным для американской разведки советским объектам - полигонам
для испытаний ракетного и ядерного оружия.
Итак, для разведывательных полетов часть самолетов У-2 перегнали из ФРГ в
Турцию на авиабазу Адана, расположенную в малонаселенной местности, где
легче было скрыть самолеты-разведчики от посторонних глаз. К тому же в
Южной Турции были благоприятные метеоусловия, позволявшие совершать
полеты в любое время года. Перед началом разведывательной операции выделен¬
ный для выполнения задачи У-2, а также военно-транспортный самолет С-130 со
вспомогательным и обслуживающим персоналом перелетали из Аданы в Пеша¬
вар. Через несколько дней, в зависимости от погоды в районе разведки на тер¬
ритории СССР, оба самолета вылетели из Пешавара: У-2 шел на выполнение
разведывательной задачи, С-130 возвращался в Адану. Советские военные
объекты фотографировались самолетами-разведчиками, вылетавшими не
только из Пакистана, но и с авиабаз в Турции и Японии.
Полученные в результате полетов У-2 аэрофотоснимки, представлявшие
собой, по мнению американских разведчиков, большую ценность, тщательно
изучались специалистами ЦРУ. Они позволили вскрыть многие элементы систе¬
мы советской ПВО, установить аэродромы истребителей-перехватчиков, пози¬
ции зенитных ракет, радиолокационных станций и другие компоненты системы,
особенно вокруг крупных городов СССР. Снимки с У-2 показали, что в СССР
развернуто широкое строительство атомных подводных лодок, способных нести
баллистические ракеты. В то же время воздушная разведка документально
доказала, что в СССР не существует сколько-нибудь значительной программы
строительства стратегических бомбардировщиков. Снимки выявили места
расположения авиационных заводов, позволили сделать выводы о возможнос¬
тях производства стратегических бомбардировщиков, получить сведения о
примерной численности стратегической авиации и аэродромах ее базирования.
Все это потребовало больших усилий и времени. Только через несколько лет
после начала полетов У-2 американское руководство располагало обширной
информацией о советских ракетах стратегического назначения. Удалось устано¬
вить, что на полигоне Капустин Яр испытываются ракеты средней дальности (от
900 до 4600 км), предназначенные главным образом для действий на европейском
театре войны. Испытательный полигон для межконтинентальных баллистичес¬
ких ракет (МБР) был обнаружен летом 1957 г., вскоре, после того, как У-2 стали
производить полеты из Пакистана. Ракетный полигон находился близ населен¬
ного пункта Тюра-Там (Байконур), расположенного на железнодорожной маги¬
страли возле Аральского моря. Отсюда ракеты запускались в восточном направ¬
лении по учебным целям на Камчатке, а позднее в Тихом океане. По своему
оборудованию и размаху работ Тюра-Там был сопоставим с американским
полигоном ла мысе Канаверал, где испытывались межконтинентальные ракеты
США. При фотографировании Тюра-Тама камера У-2 запечатлела советскую МБР
на пусковой установке. Там же было обнаружено оборудование для запусков
искусственных спутников Земли.
Вскоре достоверность разведывательных сведений начала подтверждаться на
практике. В августе 1957 г. с полигона Тюра-Там была успешно запущена меж¬
континентальная ракета, а в октябре и ноябре того же года первые советские
искусственные спутники Земли. Сомнений в том, что Советский Союз обладает
межконтинентальными ракетами, больше не было. Разведка США пришла к
выводу, что советские ракеты этого класса по размерам и мощности двигателей
101
превосходят американские. Было установлено также, что советское военное
командование приступило к развертыванию боевых позиций для МБР. Сопоста¬
вив это с рядом успешных испытаний ядерных бомб, которые были проведены
СССР на Новой Земле, американцы начали склоняться к мнению , что в области
ракетно-ядерного оружия Советский Союз обгоняет Соединенные Штаты.
В те годы политическим и военным деятелям в Вашингтоне казалось, что
СССР развивается весьма успешно: ежегодное увеличение капиталовложений в
промышленность составляло 12%, повышался жизненный уровень населения,
большие успехи были достигнуты в системе образования.
В то же время с 1958 г., по данным разведки США, начали значительно возрас¬
тать военные расходы СССР. Развернулись массовое производство ракетного
оружия и принятие его на вооружение Советской Армии и Флота. По расчетам
Пентагона, к середине 60-х годов СССР мог поставить на боевое дежурство до
500 МБР. Этого, как полагали, было бы достаточно, чтобы внезапным ударом
уничтожить основные силы авиации и ракет американского Стратегического
авиационного командования, которые могли быть на вооружении к тому време¬
ни, разрушить крупные города США. К тому же накапливались сведения о
развертывании в СССР работ по созданию зенитного ракетного оружия: У-2
обнаружили полигон ПВО в Сары-Шагане, недалеко от озера Балхаш. Там, как
было установлено, успешно велись испытательные пуски зенитных ракет.
Все это очень тревожило Белый дом и Пентагон. В американской прессе
поднялась шумиха об отставании США от СССР в ракетных программах. Однако
зимой 1959/1960 г. американская разведка установила два знаменательных с ее
точки зрения факта: во-первых, развертывание ракетных позиций в СССР шло
весьма медленно; во-вторых, почти все боевые позиции размещались вдоль
Транссибирской магистрали. Американцы объясняли это тем, что первые совет¬
ские МБР были слишком тяжелы и громоздки и поэтому могли перемещаться
только по железной дороге, а доставляться на позиции по железнодорожным
веткам. Гигантские размеры этих ракет затрудняли их помещение в шахты:
пусковые установки размещались на поверхности. Крупным недостатком
советских МБР первого поколения было крайне нестойкое жидкое топливо,
которое надо было менять через короткие промежутки времени, что также
снижало их боевую готовность. Все эти сведения были добыты в ходе полетов
У-2 с 1956 г. по май 1960 г.
В Советском Союзе полностью отдавали себе отчет о степени ущерба, наноси¬
мого полетами У-2 национальной безопасности СССР. Так, один из первых
полетов высотного разведчика, состоявшийся 4 июля 1956 г., наблюдался
советскими радиолокационными станциями. Было установлено, что У-2, обнару¬
женный над Франкфуртом-на-Майне, преследовал через Дрезден и Белосток и в
8 час. 18 мин. пересек советскую границу на высоте около 17 км. Он прошел на
этой высоте со скоростью 800—1100 км/час (с учетом попутного ветра) по марш¬
руту Бобруйск - Вильнюс - Калининград и ушел обратно в направлении ФРГ.
Полет над территорией СССР продолжался более 2,5 часа. На следующий день
такой же полет был отмечен по маршруту: Франкфурт-на-Майне - Пинск - Виль¬
нюс - Калининград - Гамбург. Над территорией СССР самолет находился почти
3,5 часа, углубился на 1000 км в воздушное пространство Советского Союза,
совершая полет на высоте 18 км при скорости 800 км/час.
9 июля наблюдались сразу три глубоких вторжения в воздушное пространст¬
во СССР. Самолеты на высоте 16-20 км появлялись со стороны Западной Герма¬
нии (Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг). Один из них пролетел по маршруту:
Прага- Сегед- Львов- Житомир- Киев- Г оме ль- Бобруйск- Барановичи- Брест-
Мюнхен; другой: Щецин- Калининград- Лиепая- Рига- Каунас- Минск- Дем-
102
блин- Эрфурт; третий: Минден- Щецин- Калининград- Лиепая- Рига- Каунас-
Белосток- Лодзь- Берлин- Ганновер. Над территорией СССР они находились
3-4,5 часа, углубились на 700-1400 км при скорости 800 км/час. На другой день
был отмечен еще один высотный разведчик, который на высоте 20 км при ско¬
рости 700-1100 км/час проследовал на Франкфурт-на-Майне через Дрезден-Чер¬
новцы- Одессу- Николаев- Керчь- Севастополь- Измаил- Варну- Мишкольц и
вернулся на территорию ФРГ. На этом первая серия полетов высотных разведчи¬
ков завершилась.
РЛС Советского Союза и стран Варшавского Договора наблюдали каждый
полет на всем протяжении маршрута, истребители ПВО наводились на цель, но
их потолок был на несколько километров ниже высот У-2 и не позволял эффек¬
тивно действовать по высотной цели.
Принимались меры по дипломатическим каналам. 10 июля 1956 г. Советское
правительство направило ноту протеста правительству США, в которой говори¬
лось, что нарушения воздушных границ СССР американскими самолетами
представляют собой ’’преднамеренное действие определенных кругов США,
рассчитанное на обострение отношений между Советским Союзом и Соединен¬
ными Штатами Америки”. В этой ноте, как и в нотах прежних лет в связи с
вторжением американских военных самолетов в воздушное пространство СССР,
например в ноте от 8 сентября 1954 г., подчеркивалось, что подобные действия
являются нарушением норм международного права.
Однако эти шаги не достигли цели. Правда, после июльской серии разведыва¬
тельных полетов в 1956 г. наступил перерыв. Но 1957 г. принес новые осложне¬
ния: разведывательные полеты У-2 возобновились. И теперь они охватывали
глубинные районы СССР. Самолеты-разведчики проникали в Казахстан и Си¬
бирь, где испытывались новые виды советских стратегических вооружений.
Активность разведки США подтверждалась событиями осени 1956 г., связанны¬
ми с вторжением англо-франко-израильских войск в Египет и восстанием в
Венгрии, подавленным советскими войсками. Так, 5 ноября 1956 г. Н.С. Хрущев
в послании премьер-министру Великобритании предупреждал, что если Англия
не прекратит агрессии в Египте, то ей придется столкнуться с решимостью СССР
’’применением силы сокрушить агрессоров и восстановить мир на Востоке’*.
Такого рода угрозы еще более обостряли интерес американских разведыва¬
тельных служб к перспективным советским вооружениям. Началась новая
серия разведывательных полетов. С марта по октябрь 1957 г. советские РЛС
системььПВО отметили пять пролетов У-2: один - в марте, два - в августе, по
одному в сентябре и октябре. В отличие от полетов 1956 г. самолеты У-2 теперь
вели разведку районов Закавказья (март, август), Казахстана, Средней Азии,
Сибири (август, сентябрь), Советского Севера (октябрь). Они заходили в воз¬
душное пространство СССР на 150-1650 км на высотах 19-21 км при скорости
700-900 км/час. По-прежнему для зенитной артиллерии и истребителей войск
ПВО СССР они были недосягаемы.
1957 г. стал годом прорыва СССР в космос. Успехи советских ракетчиков
сопровождались шумной пропагандистской кампанией, развернутой правитель¬
ством Н.С. Хрущева. Это еще больше побуждало американцев усилить нелегаль¬
ное проникновение за ’’железный занавес” с целью сбора достоверной информа¬
ции. Полеты У-2, обеспечивавшие документальные данные, были одним из важ¬
нейших источников сведений о советских программах вооружения. В 1960 г.
’’Нью-Йорк геральд трибюн” писала, что с помощью У-2 США стали получать
3Известия, 6.XI. 1956.
103
’’более надежные данные для государственной оценки”4. В 1958-1959 гг. самоле¬
ты У-2 сосредоточили свои усилия на разведке районов Советской Средней Азии
и Дальнего Востока. Поскольку проведенные и в этот период четыре полета (по
советским данным) прошли безнаказанно, американцы все более утверждались
в мысли, что Советский Союз не располагает достаточно эффективными сред¬
ствами ПВО, а следовательно, и в случае войны массированные удары американ¬
ской стратегической авиации не встретят серьезного противодействия.
Все это происходило на фоне дальнейшего роста международной напряжен¬
ности. В 1957 г. разгорелся турецко-сирийский конфликт, в следующем году
американская морская пехота высадилась в Ливане, обострилась обстановка на
Дальнем Востоке вокруг Тайваня. Советский Союз неоднократно требовал
прекратить” ’’империалистическое вмешательство”, заявляя при этом, что в
противном случае СССР вынужден будет применить силу.
Успехи Советского Союза в освоении космоса свидетельствовали о том, что
это были не пустые слова. В мае 1958 г. СССР вывел на орбиту еще один искус¬
ственный спутник Земли - целую лабораторию с комплексом исследователь¬
ской аппаратуры. В 1958-1959 гг. были созданы автоматические межпланетные
станции для исследования Луны, полным ходом шли работы над пилотируемы¬
ми космическими кораблями.
Все это болезненно воспринималось американским общественным мнением.
За океаном складывалось впечатление, что СССР обгоняет США на весьма
важных направлениях технического прогресса. Впечатляющими были рост
влияния СССР на страны ’'третьего мира” и темпы развития стран ’’социалисти¬
ческого лагеря”. По прогнозам американских специалистов, экономический
потенциал США и стран Западной Европы в 1960-1970-х годах мог возрасти на
40%, Японии - на 55%, тогда как СССР - на 70%, а Африки и Латинской Амери¬
ки - на 60%5.
Особенно беспокоили руководителей американского военного ведомства и
спецслужб программы создания современных вооружений в СССР: в Советском
Союзе развертывались позиции стратегических ракет, строились атомные
подводные лодки, начали поступать на вооружение зенитные ракеты, скорост¬
ные истребители-перехватчики, войска ПВО широко оснащались средствами
радиолокации и радиотехническим оборудованием. В то же время безнаказан¬
ность полетов У-2 свидетельствовала о том, что в войсках ПВО СССР еще не
было средств, способных бороться с высотными самолетами, что советская
пропаганда растущего военного могущества Советского Союза преувеличивает
успехи Советской Армии в этой области, хотя высотные разведывательные
полеты показывали интенсивное поступление новых видов оружия в войска.
Действительно, в соединения и части войск ПВО СССР в конце 50-х годов
начали поступать радиолокационные станции П-30, обнаруживавшие воздушные
цели на высоте 20 км и более; с 1959 г. авиаполки получили на вооружение
высотные перехватчики Т-3 со сверхзвуковой скоростью и потолком свыше
20 км, в зенитных ракетных войсках появился весьма эффективный ракетный
комплекс С-75 с дальностью действия 30 км и высотой поражения целей
25 тыс. м при скорости целей до 1500 км/час.
Решающим этапом необъявленной ’’воздушной войны” стала весна 1960 г. К
этому времени произошел ряд знаменательных событий. В сентябре 1959 г.
Н.С. Хрущев был с визитом в США. В течение 12 дней он встречался с президен¬
том Д. Эйзенхауэром, высшими политическими и государственными деятелями,
4New York Gerald Tribune, 11.V. 1960.
5Goals of Americans. New York, 1960, p. 369.
104
видными экономистами, высокопоставленными военными, а также с предста¬
вителями всех слоев американского общества. Визит прошел в атмосфере
согласия и дружелюбия. В совместном советско-американском коммюнике, в
частности, говорилось: ’’Председатель Совета Министров СССР и Президент
Соединенных Штатов согласились, что все неурегулированные международные
вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мирными средства¬
ми, путем переговоров’*. Президент США был приглашен посетить СССР в 1960 г.
Улучшение советско-американских отношений сказалось и на общем междуна¬
родном климате: на 16 мая 1960 г. было запланировано совещание глав прави¬
тельств четырех держав - США, СССР, Англии и Франции. Совещание, как полагали,
должно было разрешить многие спорные проблемы между Западом и Востоком.
Казалось, что близится разрядка международной напряженности. Но события,
происшедшие в апреле-мае, развеяли надежды мировой общественности. И в
центре этих событий оказались разведывательные полеты самолетов У-2.
В начале 1960 г. советское правительство объявило, что в СССР создан новый
вид вооруженных сил - ракетные войска стратегического назначения. Это
сообщение способствовало активизации высотных разведывательных полетов
американской авиации. Где развертывались стратегические ракеты СССР?
Какие образцы приняты на вооружение? Каковы их боевые возможности и
количество? Эти вопросы волновали Пентагон. Интересовали и процессы,
происходившие в войсках ПВО СССР: насколько противовоздушная оборона
способна противодействовать современной американской стратегической авиа¬
ции - основе военного могущества США? Дать ответы на эти вопросы должны
были новые вторжения У-2 в советское воздушное пространство.
9 апреля 1960 г. в 4 час. 47 мин. советские РЛС Туркестанского военного
округа обнаружили воздушную цель. По первым докладам, цель находилась в
воздушном пространстве СССР, в 430 км южнее г. Андижан, на расстоянии
250 км от советско-афганской границы. Следуя на высоте 19-21 км, У-2 на
скорости 780 км/ч двигался в сторону Семипалатинска. Достигнув семипалатин¬
ского ядерного полигона, самолет-разведчик сделал несколько галсов над ним,
затем пролетел в район озера Балхаш, где находился полигон зенитных ракет¬
ных войск Сары-Шаган, а оттуда проследовал к полигону стратегических ракет
Тюра-Там и через г. Мары ушел в Иран. Полет продолжался более шести часов.
Как же случилось, что нарушитель, находившийся столь длительное время в
советском небе, не был уничтожен, хотя, как уже говорилось, и в войсках ПВО,
и в ВВС, дислоцированных на маршрутах пролета, имелись силы и средства,
способные сбить У-2?
То, что происходило в тот день, напоминало театр абсурда. Когда самолет-на¬
рушитель приближался к Семипалатинску, на аэродроме истребительного
авиаполка ПВО, ближайшего к семипалатинскому полигону, находились два
самолета Т-3, оснащенные ракетами ’’воздух-воздух”, были летчики, имевшие
некоторый опыт в управлении этими истребителями. Но для того, чтобы осуще¬
ствить перехват, им необходимо было совершить посадку на другом аэродроме,
так как для возвращения на свой аэродром не хватило бы топлива. Такой
аэродром был при семипалатинском полигоне. Но режим секретности не позво¬
лял садиться на него летчикам без специальных допусков, а пилоты Т-3 В. На¬
заров и Б. Старовойтов таких допусков не имели. Самолет-нарушитель галсиро-
вал над сверхсекретным полигоном, а советские асы ждали результатов перего¬
воров командования войск ПВО страны с правительством СССР о получении
пресловутых допусков. Только в 7 час. по московскому времени было получено
бЛицом к лицу с Америкой. M., 1960, с. 440.
105
разрешение на взлет, но было уже поздно. Когда истребители Т-3 прибыли в
район Семипалатинска, У-2 уже стал недосягаем: он летел к другому секретно¬
му объекту - Сары-Шаган. У командования войск ПВО появилась надежда: в
Сары-Шагане находился новейший зенитный ракетный комплекс С-75, тактико¬
технические данные которого позволяли поражать цели на такой высоте. Но
волей случая У-2 вновь избежал угрозы уничтожения. В тот день не планирова¬
лись стрельбы, и ракет на позиции не было. А техническая площадка, где они
хранились, располагалась в 100 км от позиции. Однако и там не оказалось подго¬
товленных к боевому применению ракет. Были приняты экстренные меры, и
вскоре оснащенные ракеты уже перебрасывались к боевой позиции, но У-2,
закончив фотографирование полигона Сары-Шаган, направился к полигону
Тюра-Там. К этому времени в высшую степень боевой готовности были приведе¬
ны значительные силы ПВО и ВВС. Но удача не сопутствовала в тот день совет¬
ским авиаторам: вражеский разведчик был уже над Тюра-Тамом и, выполнив
задачу, уходил через Мары в сторону иранской границы. В ближайшем авиапол¬
ку ВВС были истребители Т-3, но летчики не имели опыта полетов на этом
самолете и к тому же не было ракет ”воздух-воздух”: они еще не поступили на
склад. И все-таки Т-3 старшего лейтенанта Кудели взлетел с ракетами от самоле¬
та МИГ-19. Однако, поскольку У-2 уже находился на значительном расстоянии,
управление перехватчиком было передано на командный пункт другой диви¬
зии, где не имели опыта управления высотными самолетами; наведение на цель
не состоялось. Другой летчик на Т-3, капитан Дорошенко, поднялся на высоту
17500 м и увидел вражеского оазведчика, но выше себя на 3 км. Подняться
выше Дорошенко, только осваивавший новый самолет, не смог. Так закончился
этот полный драматических событий день.
Для разбирательства причин неудачных действий войск ПВО по самолету-
нарушителю воздушного пространства СССР была назначена комиссия*. Она
вскрыла серьезные недостатки в боевой подготовке и управлении силами и
средствами ПВО и ВВС.
Многие генералы и офицеры получили строгие взыскания - Н.С. Хрущев был
возмущен: реальность перечеркнула его неоднократные заявления о высокой
степени боевой готовности Советской Армии. В Главном штабе войск ПВО
страны были спрогнозированы вероятные маршруты ожидавшихся новых
полетов У-2. Урок 9 апреля был тяжелым. Но он не прошел даром. Выводы,
сделанные из неудачи, вскоре привели к успеху. Случилось это через три
недели - 1 мая 1960 г.
До начала первомайского парада оставались считанные часы, когда на терри¬
торией Таджикской ССР была обнаружена высотная цель. Это был У-2, пилоти¬
руемый Ф. Пауэрсом. Он имел задание пролететь над территорией СССР на
предельной высоте по маршруту Пешавар (Пакистан) - Аральское море - Сверд¬
ловск - Киров - Архангельск и совершить посадку на аэродроме Будё (Норве¬
гия). Пролетая над пунктами, указанными на специальной карте, летчик должен
был включать аппаратуру для аэрофотосъемки и фиксации работы советских
РЛС.
С земли напряженно следили за неизвестным самолетом. Нервы у всех, кто
был на аэродромах, ракетных позициях, пунктах управления, штабах войск
ПВО страны и ВВС, были на пределе. Этому вторжению в воздушное пространст¬
во СССР именно 1 мая, в день всенародного праздника, за две недели до Париж¬
ского совещания в верхах руководителей США, СССР, Англии и Франции,
придавали не только военное, но и политическое значение.
J х;
*Один из авторов, А.С. Орлов, участвовал в работе этой комиссии.
106
Хрущев потребовал любой ценой сбить самолет, звонки из высших эшелонов
правительства то и дело раздавались в накаленной атмосфере Центрального
командного пункта войск ПВО. Высотный разведчик уверенно шел на север: вот
он миновал Тюра-Там, прошел вдоль Аральского моря, через Магнитогорск,
Челябинск. Нарушитель мог быть сбит только высотными перехватчиками или
зенитными ракетами, но для этого было нужно, чтобы У-2 пролетел через райо¬
ны, где такие средства имелись.
Итак» Пауэрс приближался к Свердловску. С аэродрома Кольцово (Сверд¬
ловск) на перехват пошел высотный истребитель СУ-9, случайно оказавшийся
там в ходе перегона самолета с завода в часть. Его пилот капитан Митягин не
имел компенсирующего высотного костюма, кислородной маски, самолет не
был вооружен. Летчик получил задачу сблизиться с нарушителем и таранить
его. Риск был огромным, а шансы на успех ничтожны. Ведь надо было точно
навести скоростной сверхзвуковой истребитель на цель, шедшую на дозвуковой
скорости, и совершить это в считанные секунды, так как дольше действовать на
предельной высоте СУ-9 не мог. Митягин набрал нужную высоту, но цели не
увидел, наведение не состоялось. Самолет совершил посадку. Шел уже девятый
час утра. Вскоре в Москве, на Красной площади, должен был начаться парад, а
неизвестный самолет летел в глубь страны. Каков же эффект советского военно¬
го могущества, когда над страной социализма можно безнаказанно летать, а
советская ПВО не в состоянии сбить даже одиночный самолет? Это понимали
все - от Хрущева до операторов РЛС, наблюдавших за полетом.
Тем временем У-2 вошел в зону действия зенитного ракетного дивизиона
близ Свердловска. Командовавший боевым расчетом начальник штаба дивизи¬
она майор М. Воронов (командир находился в командировке) отдал приказ:
’’Цель уничтожить!”. Первая же ракета взорвалась позади У-2, и ее осколки
пробили хвостовое оперение и крылья, не затронув кабины. Это случилось в
8 час. 53 мин. Цель была поражена. Пауэрс выбрался из падающего самолета и
раскрыл парашют.
Но обломки У-2 и поднятые в воздух истребители, отмечавшиеся на экранах
РЛС, создавали впечатление, что цель продолжает двигаться. Стартовали новые
ракеты. Одна из них уничтожила истребитель старшего лейтенанта С. Сафроно¬
ва. На место падения У-2 сразу же вылетела специальная комиссия. Г.А. Михай¬
лов входил в ее состав в качестве эксперта.
Сигнал тревоги, по которому офицеры, в том числе и авторы настоящей
статьи, должны были прибыть на КП, немедленно был сообщен им по телефону
еще до 6 утра. Первые засечки высотной цели, приближавшейся к границе
Советского Союза в районе южнее города Душанбе, - она летела прямо на север
на высоте более 19 тыс. м при скорости 750 км/час, - были получены в 5 час.
36 мин. (время московское). Дежурный генерал КП немедленно сообщил о нару¬
шении Главнокомандующему войск ПВО страны Маршалу Советского Союза
С.С. Бирюзову, его первому заместителю маршалу артиллерии Н.Д. Яковлеву,
начальнику Главного штаба генерал-полковнику авиации П.К. Демидову,
командующему истребительной авиацией генералу Е.Я. Савицкому и коман¬
дующему зенитными ракетными войсками генералу К.П. Казакову.
Когда в начале седьмого все командование войск ПВО страны и усиление
боевого расчета заняли свои рабочие места на КП, который в то время находил¬
ся во дворе дома № 3 Министерства обороны на Фрунзенской набережной в
Москве, обстановка складывалась достаточно нервозная: в 10.00 на Красной
площади должен был начаться парад, а затем демонстрация, на которых руко¬
водство партии, правительства и Вооруженных Сил, включая главкома войск
ПВО страны, должно было находиться на Мавзолее.
107
К 8.00 утра на КП войск ПВО страны уже был сделан вывод, что маршрут
полета через район Свердловска пойдет далее к Белому морю, а аэродром
посадки, вероятно, будет Будё в Норвегии.
Телефонные звонки от министра обороны Маршала Советского Союза Р.Я. Ма¬
линовского, из Кремля и лично от Н.С. Хрущева следовали один за другим.
Содержание их было примерно следующим: ’’Позор. Страна обеспечила ПВО
всем необходимым, а вы дозвуковой самолет сбить не можете!” На что маршал
Бирюзов отвечал: ’’Если бы я мог стать ракетой, то сам полетел бы и сбил этого
проклятого нарушителя!”
Как часто бывает в критические минуты, различные случайности мешали
сбить самолет-нарушитель: то ракетный дивизион, зону которого он задевал, не
был в этот день на боевом дежурстве, то маршрут проходил вне пределов зоны
обстрела или в таком створе, когда пуск ракет становился невозможным.
Истребители его не доставали. Все необходимые средства радиолокации и
радиоразведки были включены. Но самолет молчал. Судя по всему, он не ис¬
пользовал или не имел, как потом и оказалось, дальней радиосвязи. В связи с
подъемом в воздух нескольких пар истребителей и необходимостью расчистить
небо от всех других летательных аппаратов был дан сигнал для посадки на
ближайшие аэродромы всех самолетов, не задействованных в борьбе с наруши¬
телем. Это позволило радиолокационным станциям надежнее вести цель,
летевшую уже на высоте более 21 тыс. м при скорости около 750—800 км/час.
Поражение самолета У-2 в 8 час. 53 мин. 1 мая 1960 г. зенитной ракетой С-75 в
районе Свердловска достаточно подробно освещалось в печати7. Нам, находив¬
шимся в этот день на КП в Москве, запомнились доклады о пуске ракеты и
сообщение, что цель ’’замигала”, то ли применяя помехи, то ли разваливаясь.
Нервозность на КП не снижалась.
Пилот У-2 Пауэрс, поняв по вспышке сзади и потере управления, что следует
покинуть падающий самолет, был вынужден сбросить фонарь и с трудом уже на
высоте менее 10 км вылезти из кабины. Катапультироваться он не мог: взрывом
зенитной ракеты его кресло сдвинулось вперед и ноги оказались под приборной
доской. Второй ракетой, уже после оставления Пауэрсом самолета, У-2 был
прямым попаданием еще раз поражен, в результате чего его фюзеляж, двига¬
тель, крылья и кабина были разбросаны по земле в нескольких километрах
друг от друга.
Однако этого в Свердловске и Москве еще никто не знал. Наоборот, в районе
исчезновения нарушителя на экранах РЛС вновь появилась отметка о цели (от
нашего истребителя), которая была тут же поражена ракетой С-75 другого
дивизиона. Было 9 час. утра. Экраны мониторов расчистились. Наступила пауза.
Стало ясно, что нарушитель сбит. Маршал Бирюзов снял трубку правительст¬
венного телефона и доложил об этом Хрущеву. Хрущев выразил сомнение, но
сказал: ’’Приезжайте и доложите подробно”. Бирюзов немедленно приказал
группе из нескольких офицеров войск ПВО вылететь в Свердловск, разобраться
с фактами на месте, обеспечить сохранность обломков самолета и доложить
подробности. Сам он поехал в Кремль и на парад.
Вылет спецсамолета ТУ-104 в Свердловск (аэродром Кольцово) состоялся
около 12 час. Это был первый самолет, вылетевший из Внуково после запрета на
полеты самолетов гражданской авиации, введенного около 8 час. утра 1 мая.
Самолет был полон: на нем летели группы аппарата ЦК КПСС, военной контрраз¬
ведки КГБ, Генерального штаба и войск ПВО страны.
Агрессоров к позорному столбу. M., 1960.
Через два часа все были на месте. Пауэрса отправили в Москву. Оставалось
найти и собрать разбросанные по полям и перелескам части самолета, позабо¬
титься об их охране, особенно аппаратуры и больших, широких (24 см) рулонов
отснятой пленки. Последнюю тщательно обертывали солдатскими одеялами, что
потом помогло почти без потерь проявить ее и убедиться, сколь важные объек¬
ты и с каким высоким качеством были сфотографированы. Двигатель самолета
нашли в болоте и с трудом подняли его краном.
Был и такой эпизод, когда в одной из деревень, где народ по-уральски с
застольем праздновал 1 мая, после взрывов ракет и падения плоскости сбитого
самолета, стали разламывать ее и бить ломами, разливая имевшееся внутри
горючее, которое представляло интерес для военных экспертов.
Обеспечив сбор, сохранность и отгрузку в Москву всех останков У-2, группа
офицеров ПВО, входившая в комиссию, вернулась в столицу, чтобы готовить
выставку трофеев в Парке культуры им. Горького.
Комиссия составила первый доклад о тактико-технических данных и обору¬
довании самолета, целях и задачах, которые решались в ходе разведыватель¬
ных полетов. Комиссией, а затем следствием по делу Пауэрса было установлено,
что двигатель ”Джей-57” ’’Пратт-Уитни”, установленный на У-2 в первые годы
полетов, был заменен в дальнейшем более мощным двигателем той же фирмы,
позволившим поднять практический потолок полета самолета до 21 км. У-2 был
оборудован широкозахватным длиннофокусным аэрофотоаппаратом ”73-В”. Он
осуществлял семимаршрутное фотографирование последовательно через семь
застекленных люков. Это обеспечивало захват местности шириной 160-200 км,
протяженность фотографируемой полосы - 3500 км. Объектив с фокусным рас¬
стоянием 915-944,7 мм позволял с больших высот получать снимки масштаба
220-230 м в 1 см. С помощью радиотехнической разведывательной аппаратуры,
установленной на самолете, можно было получать сведения о системе радиотех¬
нического обеспечения ПВО СССР и отдельных объектах, входящих в эту систе¬
му.
Хрущев в своем докладе на сессии Верховного Совета 5 мая обнародовал
подробности инцидента с самолетом-разведчиком, умолчав, однако, о том, что
американский летчик жив, а части самолета и оборудование позволяют сделать
выводы о характере задач, которые он выполнял. Не было сказано и о гибели
старшего лейтенанта Сафронова.
Госдепартамент США вначале выдвинул версию, согласно которой У-2 - граж¬
данский самолет, выполнявший исследовательские задачи в районе турецко¬
советской границы и случайно нарушивший воздушное пространство СССР.
После сообщения Хрущева 7 мая о том, что летчик жив и находится в СССР,
американские официальные органы признали факт преднамеренного вторжения
в воздушное пространство Советского Союза. Президент Д. Эйзенхауэр подтвер¬
дил на пресс-конференции 11 мая, что полеты американских самолетов-развед¬
чиков над территорией СССР являются одним из элементов системы сбора
информации о Советском Союзе и проводились планомерно в течение ряда лет.
Он заявил, что ’’отдавал приказы о сборе любыми возможными способами
информации, необходимой для защиты Соединенных Штатов и свободного мира
от внезапного нападения и для того, чтобы дать им возможность провести
эффективные приготовления к обороне”. Он заявил также, что эти мероприятия
необходимы, так как в ’’Советском Союзе секретность и тайны стали фетишем”8.
Небезынтересна судьба Пауэрса. В августе 1960 г. в течение трех дней в
0Цит. по: Агрессоров к позорному столбу, с. 109—110.
109
Колонном зале Дома Союзов в Москве проходил открытый судебный процесс, на
котором он был осужден Военной Коллегией Верховного суда СССР на 10 лет.
На суде присутствовали его родители. Жена Пауэрса Барбара вскоре с ним раз¬
велась.
В феврале 1962 г. Пауэрс был обменен на арестованного в США советского
разведчика-нелегала Р. Абеля.
Вернувшись в США, Пауэрс был сначала встречен весьма критически широки¬
ми кругами американской общественности. Его обвинили в том, что он не взор¬
вал свой самолет после его поражения, не покончил жизнь самоубийством с
помощью данной ему булавки с ядом, признал себя виновным на суде. Однако
вскоре ЦРУ выступило с заявлением о добросовестном выполнении Пауэрсом
своих обязанностей в соответствии с контрактом и долгом гражданина США. Он
был реабилитирован в глазах общественного мнения, принят на работу, полу¬
чил все причитающиеся ему от ЦРУ деньги - 2500 долл, в месяц за время нахож¬
дения в заключении и по 1 тыс. долл, за месяц службы в подразделении ”10-10”
с лета 1956 г. по май 1960 г., недополученных в соответствии с контрактом.
В 1970 г. он написал очерк о своем полете, а в 1971 г. поступил на работу в
информационное агентство в Калифорнии.
1 августа 1977 г. во время катастрофы вертолета при полете в районе Лос-Анд¬
желеса по служебным делам Пауэрс погиб, не дожив до 48 лет. Он был провоз¬
глашен заслуженным ветераном и с согласия президента США Дж. Картера похо¬
ронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне недалеко от могилы президен¬
та Кеннеди.
В США за эти годы Пауэрсу были посвящены многие статьи в газетах и журна¬
лах, в целом оправдывающие насильственную политику ’’открытого неба”
президента Эйзенхауэра9.
Инцидент с У-2 имел весьма серьезные политические последствия: намечен¬
ное на 16 мая 1960 г. в Париже совещание в верхах не состоялось, визит Эйзен¬
хауэра в СССР, запланированный на 10 июня, был отменен, отношения СССР с
США ухудшились. Что касается разведывательных полетов американской
авиации над СССР, то они были прекращены. Вскоре эти задачи начали выпол¬
нять американские разведывательные спутники ’’Мидас” и ’’Самос”.
Так закончился первый этап попыток США ’’открыть небо” над Советским
Союзом, проникнуть в тайны программ вооружения советского государства,
тщательно охраняемые в условиях развернувшегося состязания в военном
могуществе двух сверхдержав.
Сегодня, оценивая международную обстановку второй половины 50-х годов,
следует, видимо, признать, что тогда, в разгар ’’холодной войны”, еще не сло¬
жились условия для взаимного обмена военными секретами. Слишком велики
были недоверие и враждебность друг к другу. Гонка ракетно-ядерных вооруже¬
ний только набирала силу, и мировое сообщество еще не осознало всю ее беспер¬
спективность и иллюзорность расчетов на победу в ядерной войне. Потребова¬
лись десятилетия горького опыта конфронтации, чтобы политики и стратеги по
обе стороны ’’железного занавеса” пришли к выводу о недопустимости воору¬
женного противостояния Запада и Востока, о необходимости согласованного
сокращения вооружений на условиях равной безопасности и с учетом интересов
обеих сторон.
9Beszhloss М. Mayday. Washington, 1986.
НО
© 1992 г.
Е.В. ФИЛИМОНОВА
РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ А.С. ИОНИН (1837-1900)
Имя Александра Семеновича Ионина обычно связывают с его четырехтомным
сочинением ”По Южной Америке”1 - до сих пор, пожалуй, непревзойденным
описанием далекого континента русским путешественником. Известны и его
дипломатические успехи в Латинской Америке - установление в 1885 г. дипло¬
матических отношений России с Аргентиной и Уругваем1 2 3 * 5.
В предлагаемом очерке мы обращаемся к предшествующему отрезку его
дипломатического пути, когда Александр Семенович активно участвовал в
решении самых жгучих вопросов политики России на Балканах. Исследователи
внешней политики России в этой части Европы имя Ионина упоминают лишь
мельком, ограничиваясь короткой характеристикой, в лучшем случае - цита¬
той из донесения. Наиболее емко высказался об Ионине академик С.Д. Сказкин:
’’Это был умный человек, хороший, хотя и несколько склонный к нервозности
дипломат, одним словом, экземпляр очень редкий среди агентов, посылавших¬
ся в 80-е годы на Восток”з.
Современники считали Ионина ’’высокопоставленным деятелем”*, ’’челове¬
ком бывалым и знающим”6, отмечали его активное участие в формировании
внешнеполитического курса России6.
Александр Семенович Ионин родился 3 марта 1837 г. в слободке Варваровка в
40 верстах от Бирюча - уездного города Воронежской губернии - в небогатой
дворянской семье отставного поручика Семена Александровича Ионина. Его
мать, Екатерина Васильевна, вскоре овдовела и воспитание сыновей (Александ¬
ра, Владимира, Николая) легло на ее плечи. Через родню и знакомых в Москве
она добилась поступления Александра в Лазаревский институт восточных
языков, ставший в это время вровень с лучшими лицеями страны. Дядя Алек¬
сандра, известный критик и писатель С.А. Маслов, ввел племянника в круг
московской интеллигенции. Основы его мировоззрения были заложены в
кружке славяноведа Н.А. Попова*. С тех пор им овладела идея о величии
1Ионин А.С. По Южной Америке, т. 1—4. СПб., 1892—1902.
2Шур Л.А. Из истории установления дипломатических отношений России со странами
Латинской Америки. (А.С. Ионин и его деятельность в Южной Америке.) — Вопросы истории,
1964, № 8, с. 211—215; Сизоненко А.И. Становление дипломатических отношений России со
странами Южной Америки и Мексикой. - Латинская Америка, 1983, № 5, с. 61—73; СССР
(Россия) — Аргентина. Страницы истории. 1885—1986. Документы и материалы. М., 1990.
3Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. М., 1974, с. 231.
* Дроздов И.И. Записки кавказца. - Русский архив, 1896, № 3, с. 242.
5 Всемирная иллюстрация, 1897, № 1467, с. 248.
6 В последнем трехтомиом издании "Дипломатического словаря” статьи об А.С. Ионине
нет. О нем, однако, сказано в "Энциклопедическом словаре Брокгауза и Бфрона” (т. 26.
СПб., 1894, с. 746). Ионин упомянут в альбоме известного писателя и общественного деяте¬
ля: Семевский М.И. Знакомые (автобиографические записки 850 известных лиц), т. 2. СПб.,
1888, с. 153.
*Попов, Нил Александрович (1833—1891) — историк, славяновед, с 1860 г. заведовал
кафедрой русской литературы в Московском университете. Защитил докторскую диссерта¬
цию "Россия и Сербия". Его перу принадлежат несколько трудов о православии и славян¬
ских народах.
111
России и своеобразии ее истори¬
ческого пути. Там же он встретил
свою будущую жену Леонтину
Юльевну, урожденную Лури.
Наиболее преуспевших выпуск¬
ников Лазаревского института
зачисляли в отделение восточных
языков Азиатского департамента
министерства иностранных дел.
По рекомендации московских
библиофилов и владельцев кни¬
гоиздательства братьев Петра и
Аркадия Ефремовых в 1854 г. ту¬
да был принят учеником и Ионин.
Таким образом, перед ним в буду¬
щем открывалась дипломатичес¬
кая карьера. Переезд в Петербург
стал новым этапом в его жизни.
Практическую деятельность в
министерстве иностранных дел
Ионин начал как переводчик.
Возможность взвесить мнения,
услышанные в кулуарах мини¬
стерства, представилась молодому
дипломату через два года, когда
он получил назначение на долж¬
ность драгомана (официального переводчика) и секретаря российской
миссии в Константинополе, где решался главный вопрос внешней
политики России - Восточный. После неудачи в Крымской войне российская
дипломатия оказалась в сложной ситуации. Добиться отмены ограничительных
статей Парижского договора 1856 г. о нейтрализации Черного моря и восстанов¬
ления международного престижа Россия могла только путем тонких диплома¬
тических ходов, избегая международных конфликтов. В министерстве ино¬
странных дел началась ’’эра” А.М. Горчакова, сумевшего перестроить стратегию
и тактику российской дипломатии для решения новых проблем.
Петербург стремился к расширению сети консульств в европейских провин¬
циях Порты, населенных славянами, в основном православного вероисповеда¬
ния. Несмотря на обнародование Хатт-и-хумаюна (Акта Порты) 1856 г., провоз¬
гласившего слияние наций Османской империи и равенство мусульман и хрис¬
тиан перед законом, положение славянского населения не улучшилось. Нацио¬
нально-освободительное движение развертывалось во всех славянских землях
Османской империи. Создание новых консульств должно было способствовать
политике ’’морального содействия” освободительной борьбе и поддерживать
традиционный статус России как защитницы православного населения Турции.
Для страны, ослабленной только что проигранной войной, это был единствен¬
ный путь сохранить влияние на Балканах, где усиливалась конкурентная
борьба великих держав.
В Петербурге для выполнения этих непростых задач очень тщательно отбира¬
ли кандидатов для новых консульств, отдавая предпочтение надежным и
исполнительным, компетентным и сочувствующим национально-освободитель¬
ной борьбе славян. Характерный пример - назначение российским консулом в
Сараево, главный город Боснии - один из наиболее важных центров европей¬
112
ских владений Турции, - А.Ф. Гильфердинга*, пользовавшегося репутацией
серьезного исследователя-славяноведа. По просьбе Гильфердинга летом 1857 г.
Ионина перевели секретарем поц его начало. Под влиянием Гильфердинга,
убежденного и деятельного славянофила, укрепились взлелеянные еще НиЯом
Поповым славянофильские симпатии молодого Ионина.
Первое самостоятельное дипломатическое поручение Ионин получил в июле
1857 г.: он должен был урегулировать конфликт в Мостарском (Дубровничес-
ком) округе (современная ГерцеговинаJ* 7 8. По наблюдениям Гильфердинга, там
было наиболее ’’твердо и живо влияние православия”®. Через полгода Ионина
вновь направили в Герцеговину. Официально - для информации мостарского
генерал-губернатора о передаче российскому консульству в Сараево консуль¬
ских обязанностей и в Герцеговине. Однако он также имел негласное задание -
собрать сведения о настроениях славян.
Мостарская администрация встретила Ионина очень холодно. Наблюдатель¬
ный австрийский консул в Мостаре объяснял это тем, что герцеговинские
власти считали начальника Ионина Гильфердинга причастным к повстанческо¬
му движению. Ионину оказал поддержку герцеговинский митрополит Григорий.
Он поселил дипломата в своем доме, помог собрать сведения об инсургентах.
Двухмесячное пребывание в Герцеговине привело Ионина к выводу, что дело
’’приняло вид междоусобной войны”; в феврале 1858 г. ом сообщал в Азиатский
департамент министерства иностранных дел, что восставших было около 5400 и
к ним присоединилось католическое население9.
Восстание на Балканах было для России не ко времени, поэтому и в Мостаре,
и в Сараево Ионин попытался найти верный тон для установления лояльных
отношений со всеми сторонами. Весьма лестно о дипломатическом такте подчи¬
ненного отзывался Гильфердинг при передаче дел в Сараево Е.Р. Шулепникову:
”Я не могу не выставить вам на вид, м(илостивый] г[осударь], той благоразум¬
ной твердости, с какою г. губернский секретарь Ионин, управлявший в то время
российским консульством в мое отсутствие, умел отклонить его (австрийского
консула. - Е.Ф.) неуместные претензии, сохраняя в то же время лучшие с ним
отношения, чем в какие поставили себя консульства французское и английское.
Возвратившись из своей поездки в Призрей, я мог только продолжить начатое
г. Иониным”10.
В конце апреля 1858 г. Ионин снова приехал в Герцеговину. Он содействовал
мирному урегулированию конфликта в Требиньском округе. К особой осторож¬
ности российскую дипломатию обязывали усиливавшиеся происки австрийских
агентов, притворявшихся путешественниками или ’’работавших” под русских,
давая массу обещаний повстанцам. Разжигая восстание, Австрия стремилась в
результате возможного конфликта, вину за который она хотела возложить на
Россию, добиться передачи Боснии и Герцеговины под свою Опеку. Перед отъез¬
дом Ионина с дипломатической миссией в Италию в октябре 1858 г. часть Боснии
действительно восстала. В одном из последних донесений послу России в Кон¬
стантинополе - А.П. Бутеневу Ионин изложил свое видение сути национально-
освободительного движения в Боснии и Герцеговине: ’’Движение восставших
★Гильфердинг, Александр Федорович (1831—1872) — сын русского дипломата, директора
канцелярии при наместнике царства Польского. В 1852 г. окончил Московский университет.
Вращаясь в кругу московских славянофилов, попал под влияние Хомякова.
7 Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. Документы. 1856—1864.
М., 1988, с. 77-78.
8 Там же, с. 49-51.
9 Там же, с. 128.
10 Там же, с. 142.
113
есть движение отчаянного населения, которое уже не надеется на справедли¬
вость властей и хочет защитить свои права последней оставшейся у него си¬
лою”11.
Работая в российском консульстве в Риме, Ионин с большим сочувствием
воспринял идею освобождения Италии. Его привлекли героическая фигура
Гарибальди и любопытная параллель, не раз подчеркнутая А.С. Аксаковым:
Гарибальди - освобождение Италии и Россия - освобождение Балкан.
В 1862 г. Ионин вновь вернулся на Балканы в качестве консула в Янине.
Здесь против турецкого ига вело борьбу греческое православное население
Эпира и Фессалии. Движением руководили тайные комитеты - этерии. Ионин
увидал в них основу для антитурецкой борьбы, начал верить в успех популяр¬
ной тогда идеи Балканского союза, предполагавшей совместное выступление
угнетенного православного населения различных национальностей против
Порты. Войдя в контакт с этеристами, он с удовольствием наблюдал, как все
большая часть этих обществ ориентировалась на поддержку России, а не на
проанглийское правительство в Афинах. Весной договоренность о совместных
действиях греков и оформившегося союза, славян была достигнута, о чем
Ионину сообщил глава янинских этеристов Аравандинос. Но выступление на
Балканах откладывалось до становившейся неизбежной войны Австрии с
Пруссией или до ожидавшегося указа Порты об автономии Дунайских княжеств.
Эти планы нарушило вспыхнувшее летом 1866 г. антитурецкое восстание
греков на Крите. Этеристы стали открыто вооружаться, готовясь поддержать
критян. После введения Турцией морской блокады острова все крупные евро¬
пейские державы отправили в критские воды военные суда для защиты своих
подданных. На русском корабле ’’Генерал-адмирал” тайно находился Ионин со
специальным поручением посла в Константинополе Н.П. Игнатьева11 12 ознако¬
миться с обстановкой на Крите. В то же время командир судна капитан И.И. Бу¬
таков и российский посланник в Афинах Е.П. Новиков получили из Петербурга
строгую инструкцию: ”По возможности избегать сношений с восставшими
христианами, чтобы не подавать повода к обвинению в снабжении военными
припасами и вообще в поддержке движения”13. Нерешительная позиция офици¬
альной России, безуспешно пытавшейся выработать общую с европейскими
державами политику в критском вопросе, сохранялась вплоть до конца 1866 г.
Развитие событий - провозглашение Критским собранием присоединения к
Греции, явно враждебная интересам России позиция европейских держав,
особенно Франции, достижение русско-сербской договоренности о моральной
поддержке Россией выступления балканских народов - убеждало Петербург в
необходимости оказать помощь критскому восстанию. Новогодний бал в столи¬
це России, где сам император начал розыгрыш благотворительной лотереи в
пользу критян, стал официальным поощрением материальной помощи восстав¬
шим, которая негласно оказывалась с начала выступления.
Одной из важных причин активизации курса России в критском вопросе, в
частности и по отношению к национально-освободительному движению на Бал¬
канах вообще, стало оформление в среде российской дипломатии влиятельной
группировки, названной в документах Ш отделения ’’сторонниками панслави¬
стской демократии”14. Ее члены - военный министр Д.А. Милютин, председа¬
11 Там же, с. 207.
12О нем см.: Хевролина В.М. Российский дипломат Н.П. Игнатьев. — Новая и новейшая
история, 1992, № 1.
13Сенкевич И.Г. Российская дипломатия в первые месяцы Критского восстания 1866—
1868 гг. - Балканский исторический сборник. Кишинев, 1968, с. 85.
14Сенкевич И.Г. Россия и Критское восстание 1866—1868 гг. М., 1970, с. 65.
114
тель Совета министров Н.П. Гагарин, великий князь Константин Николаевич и
другие - оказывали на Александра 11 давление в пользу более энергичных
действий в решении Восточного вопроса. ’’Идеологом” этой довольно расплыв¬
чатой по составу группировки стал посол России в Константинополе Игнатьев.
События на Крите и надежда на выступление Балканского союза, в разработ¬
ке идеи которого Игнатьев активно участвовал, склоняли его к мысли, что
момент для достижения ’’цели” может быть недалек. Он попытался представи1ь
министерству иностранных дел взгляды сторонников активных действий, подав
записку, составленную по его просьбе Иониным после поездки на Крит. В ней
была выражена уверенность, что народы европейской Турции поддержат восста¬
ние на острове, и содержался призыв оказать помощь общему антиосманскому
выступлению. Устремления, определявшие ориентацию Ионина на группировку
’’активного действия”, переплетались с идеями, близкими правым славяно¬
фильским кругам. Активная позиция России, по мнению Ионина, должна была
уберечь Балканы и Ближний Восток от влияния как католицизма, так и фран¬
цузского революционного духа, от которого ”до сих пор предохраняет христиан
только влияние России”15. Однако в ряде случаев брал верх над этими консер¬
вативными настроениями дипломата ’’пламенный идеализм” (по выражению
одного из знакомых Ионина), и он не пугался даже возможности народного вос¬
стания.
До середины 1867 г. надежды на общее выступление балканских народов не
покидали Ионина. Однако поражение Критского восстания, а также взаимное
недоверие и нерешительность славянских и греческих руководителей патрио¬
тического движения, переориентация Сербии - центра объединения православ¬
ных народов - на Австро-Венгрию после убийства князя Милана сделали эти
ожидания малореальными. Разочарованный Ионин писал своему давнему другу
Попову, что ’’делать у греков больше нечего”16.
Ионин целиком отдался своим увлечениям: путешествиям, этнографии,
литературе. В это время появились его очерки в ’’Русском вестнике” М.Н. Кат¬
кова, ’’Дне” И.С. Аксакова, ’’Русском мире”, ’’Известиях императорского рус¬
ского географического общества”17. Они подчеркнуто аполитичны - это записки
о путешествиях по Балканам, этнографические заметки, историко-географичес¬
кие обзоры. Но и в них Ионин пытался найти подход к решению балканских
проблем, прослеживая культурные и этнические связи славян, их отношения с
другими народами. Он писал: ’’Чтобы установить правильное суждение в сфере
политики, полезны бывают точные исследования этнографов в связи с географи¬
ей”18.
Вновь и вновь возвращался дипломат к временам былых надежд, когда, как
он писал своему единомышленнику М.А. Хитрово, вдохновленные идеей обще¬
балканского выступления против Порты российские дипломаты ”по долам и
лесам порхали по Македонии”19. В конце 1867 г. Ионин суммировал свои рас¬
суждения об истоках антитурецкой борьбы на Балканах и причинах ее неудач.
Суть проблемы он видел в исторически сложившихся различиях положения
славян и греков в Османской империи. Его аргументация сводилась к следую¬
щему. Турки разрушили относительно сильные славянские государства и попы¬
15Там же, с. 130.
16Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее - ОР РТБ), архив
Н. Попова, ф. 9, оп. 42, д. 2, л. 6.
17Всемирная иллюстрация, 1897,№ 1467, с. 248.
1ВИонин А.С. О куцо-влахах Эпира, Фессалии и Македонии. СПб., 1873, с. 4.
19Цит. по: Сенкевич И.Г, Россия и Критское восстание, с. 128.
115
тались насильно ассимилировать их жителей, обращая в ислам. Греки же задол¬
го до этого, когда ’’нация не заботилась о централизации, искренне была еще
ордой”, добровольно предпочли покровительство султана игу Венеции и тем
самым избежали меча. ’’Под турецким игом между греческой народностью сох¬
ранилось таким образом и просвещение, и независимая муниципальная адми¬
нистрация, и аристократия, управлявшая массами народа”20. Именно среди
элиты, по мнению Ионина, прежде всего возникло сознание ’’духовной силы”
нации, именно она встает во главе патриотического движения. ’’Турецкое иго
для Греции, может быть, было необходимо, чтобы соединить этот народ”21. Но,
несмотря на получение Грецией независимости, Ионин считал, что сама идея
этеристов - воссоздать эллинское государство - провалилась. Если Греция
была обязана успехом борьбы не только ’’своим старожилам, а всем грекам вне
ее границ”, то современное ему движение за независимость Эпира, Фессалии,
Крита уже не получило твердой опоры удовлетворенных обретением независи¬
мости жителей Аттики и Пелопонесса. Соответственно не было единства и в
славянском движении за независимость. Это разрозненность и определила, по
мнению дипломата, фиаско идеи Балканского союза.
Назначение на пост консула в Черногорию в апреле 1869 г. вновь поставило
Ионина в центр дипломатической борьбы вокруг Восточного вопроса. Молодой
черногорский князь Николай Негош, претендуя на роль нового объединителя
славянских сил, искал сближения с Россией. В свою очередь, желая укрепить
русское влияние в Черногории, Петербург решил сменить своего представителя
в Рагузе. Занимавший этот пост К.Д. Петкович находился с черногорским
правителем в очень натянутых отношениях после неудачного заговора против
Николая, которому российский дипломат активно содействовал22.
24 апреля 1869 г. Ионин принял дела в Рагузе. За короткое время он сумел
установить с черногорским князем дружеские отношения, даже поселился в его
небольшом двухэтажном деревянном дворце. ’’Ионин мой друг, и мы с ним
жили душа в душу”23, - говорил князь. Дипломат искренне полюбил эту ма¬
ленькую страну и ее самобытный народ. Попов выписывал по его просьбе для
Черногории учебники и пособия из Московского университета24. Порой консулу
приходилось, используя свои связи в литературных кругах России, поддержи¬
вать поэтические амбиции честолюбивого черногорского князя. Так, в 1871 г.
Ионин просил поэта А.Н. Майкова дать рецензию на стихи Николая, напечатан¬
ные в журнале ’’Черногория”25.
Ионин внимательно наблюдал за развитием национально-освободительного
движения на Балканах. Сначала он принял размеренный патриархальный уклад
жизни черногорцев за пассивность. В письме к Попову в марте 1870 г. Ионин
сетовал ”на сонливость славян вообще и в Далмации спящих до сих пор беспро¬
будно”26. Но уже в середине того же года дипломат сообщал в министерство
иностранных дел: ’’Малейший повод к неудовольствию, и черногорцев, и герце¬
20 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ), ранее — ЦГАОР, ф. 939,
on. 1, д. 6, л. ЗЗоб.
21Там же, л. ЗЗоб.—34.
22Всеобщая газета, 1869, № 90.
2ЭЦит. по: Щеглов А.Н. Русское министерство в Болгарии. — Исторический вестник, 1911,
кн. И, с. 586.
24ОР РГБ, архив H. Попова, ф. 9, оп. 42, д. 2, л. 9.
25Отдел рукописей Института русской литературы РАН (далее - ОР ИРЛИ), архив
А.Н. Майкова, ед. хр. 16810, л. 7.
2бОР РГБ,архив Н. Попова, ф. 9, оп. 42, д. 2, л. 7.
116
говинцев трудно будет удержать”27. Постепенно балканские дела увлекли
Ионина. Он участвовал в переговорах князя Николая по налаживанию связей
с Хорватией и Албанией. В целях объединения антиосманских сил Николай
вошел в сношения с революционным крылом инсургентов Омладиной во время
ее конфликта с Сербским регентством, с Матановичем - экстремистски настроен¬
ным черногорцем, прозванным в России ’’беспокойным’*8.
Среди сторонников активного внешнеполитического курса России в Восточ¬
ном вопросе консул в Рагузе, пожалуй, одним из первых оправился от разоча¬
ровании 1866 г.29 В значительной степени этот оптимизм был связан с укрепле¬
нием внешнеполитического положения России, что проявилось в выходе страны
из дипломатической изоляции после заключения договоров с Австро-Венгрией
и Германией. Акценты российской политики на Балканах несколько смести¬
лись. Ныне основные и небезосновательные опасения российских политиков,
впервые возникшие в связи с реальной перспективой выступления балканских
народов в 1866-1868 гг., были связаны не с военной слабостью страны, а с тем,
что результатами антиосманского выступления смогут воспользоваться эконо¬
мически более сильные западные державы. Попыткой избежать этого стало
выдвижение Горчаковым принципа ’’невмешательства’’ великих держав в
балканские дела, в случае нарушения которого, прежде всего со стороны Авст¬
рии, Россия оставляла за собой полную свободу действий.
Осенью 1874 г. в ряде районов Герцеговины начались крестьянские выступле¬
ния против злоупотреблений турецкой администрации И сборщиков налогов.
Одним из первых получив сведения об этих волнениях, вылившихся позднее в
грандиозное восстание, Ионин в донесении в Петербург замечал: ’’Хотя Герцего¬
вина и не находится официально в сфере Моей деятельности, тайное движение,
которое царит в настоящее время там, заставляет меня с особым интересом
следить за происходящими там событиями”30. Обстановка накалилась после
так называемого ’’Подгорицкого дела”, когда в ходе расправы с христианами на
территории Герцеговины были убиты 27 черногорцев, приехавших туда по
торговым делам. Конфликт был с большим трудом улажен комиссией великих
держав. Однако у Ионина, участвовавшего в ее работе, сложилось убеждение в
неизбежности нового конфликта.’’’’Подгорицкое дело” грозит возбудить на
европейском востоке самые опасные столкновения между Турецким и славян¬
ским элементом, сохранение status quo становится невозможным”31, - так писал
Ионин в записке, поданной в министерство иностранных дел зимой 1874/75 г.
Она вызвала оживленные дебаты среди дипломатов.
Игнатьев представлял дело следующим образом: ”С конца 1874 года обозна¬
чился резкий разлад в направлении между мною и некоторыми деятелями
нашими - директором Азиатского департамента Стремоуховым, посланником в
Вене (Е.П. Новиковым. - Е.Ф.) и даже генеральным консулом в Рагузе и Черно¬
гории Иониным, прежде бывшим моим подчиненным, пособником и единомыш¬
ленником. В Рагузе и Петербурге преувеличивали до чрезмерности каждое
черногорское недоразумение и столкновение, предполагая способствовать ее
21Хитрова Н.И. Черногория и национально-освободительное движение на Балканах и
русско-черногорские отношения в 50—70-е годы XIX ц. М., 1979, с. 273.
28Там же, с. 273-280.
29Уже в 1872 г. консул в Рагузе в своих донесениях просчитывал возможности и послед¬
ствия вмешательства России в конфликт на Балканах. — Никитин С.А. Очерки по истории
славян и русско-балканских связей в 50-70-е годы XIX в. М., 1978, с. 172-173.
30Россия и национально-освободительная борьба на Балканах. 1875—1878. М., 1978, с. 47.
З13аписки графа Н.П. Игнатьева (1875—1877). — Исторический вебтнйк, 1914, кн. 7, с. 73.
117
усилению и разрешить вопросы сербского племени в Турции в пользу одного
кн. Николая, не затрагивая никаких других народностей на Балканском полуос¬
трове”32. Ионин и Стремоухов, бывший ранее консулом в Рагузе, исходили из
того, что ни Австро-Венгрия, ни уже добившиеся независимого статуса Сербия и
Черногория не допустят образования на Балканах еще одного сильного славян¬
ского государства. Поскольку завоевание полной независимости Боснией и
Герцеговиной было невозможно, следовало путем совместного давления вели¬
ких держав добиваться их присоединения к родственной Черногории. ”Это
решение, без сомнения, самое простое, практическое и законное” было, как
считали Ионин и Стремоухов, единственным средством, не возбуждая ’’общего
христианского вопроса”, уладить конфликт на Балканах33 4.
Игнатьев же предлагал выждать, отложив решение до новой войны между
Францией и Германией, а пока добиваться прямого соглашения России с Портой.
Суть противоречий между Игнатьевым и его оппонентами заключалась в различ¬
ном подходе к вопросу о выборе возможных союзников России.
Посол в Константинополе был стойким приверженцем одной из старых истин
российской дипломатии, гласившей, что Россия тогда сильна, когда действует
независимо от кого-либо. Надеясь на свое личное влияние в Порте, он верил в
успех русско-турецких переговоров. Благодаря ’’Запискам” Игнатьева извест¬
ны нюансы воззрений группировки его противников: ”В Петербурге и в Рагузе,
как и в нашем венском посольстве, вообразили себе, что не Австрия наш веч¬
ный соперник на Балканском полуострове, а одна Порта, что Австро-Венгрия
преобразилась, готова нам помогать и что мы ее руками легче можем достигнуть
наших исторических задач, нежели самобытным действием в Царьграде и непо¬
средственным влиянием на Порту’44.
Ориентацию на союз с Австрией одобрял и сменивший Стремоухова на посту
директора Азиатского департамента министерства иностранных дел Н.К. Гире. С
Иониным у Гирса сложились самые дружеские отношения. Их переписка в сере¬
дине 70-х годов приобрела очень доверительный характер. Из писем нового
директора Азиатского департамента известно, что в министерстве мнение и
информацию консула в Рагузе очень ценили. Гире писал, что не только он сам ”с
особым интересом” читает донесения от Ионина, но и многие в Петербурге его
’’хотели бы видеть и расспросить”, ждут вестей из Черногории. ’’Подаются эти
донесения и государю, хотя и в извлечениях из-за их обширности и плохой
руки” Ионина35.
О том, как реагировал император на содержание донесений консула в Рагузе,
сообщил уполномоченный славянских комитетов в Сербии и Черногории
Г.А. Де-Воллан. По его мнению, около Александра П было два течения: одни
убеждали в неизбежности восстания, в том числе Ионин, а другие считали
возможность восстания на Балканах ’’пустяком”. Временный управляющий
внешнеполитическим ведомством России А.Г. Жомини был сторонником второ¬
го течения и ’’смотрел на это дело слегка”. Соответствующим образом он стал
преподносить ход событий Александру П, на что император удивленно отвечал:
’’Странно, это противоречит донесениям Ионина”36.
Прав, однако, оказался именно Ионин. В июне 1875 г. в ряде районов Герце¬
говины вспыхнуло восстание. В поисках возможностей мирно уладить кон¬
32Там же, с. 72.
ээОсвобождение Болгарии от турецкого ига, т. 1. М., 1961, с. 206.
З43аписки графа Н.П. Игнатьева, с. 73.
35ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 79, л. 2, 10-10 об.
36Де-Воллан Г.А. Очерки прошлого. - Русская старина, 1916, № 3, с. 520.
118
фликт Ионин выдвинул идею создания комиссии из консулов великих держав
для рассмотрения причин восстания и сбора материалов, подтверждавших необ¬
ходимость преобразований в европейских провинциях Османской империи.
24 августа комиссия консулов Австро-Венгрии, России, Германии, Италии,
Франции и Англии собралась в Мостаре. За месяц ее работы главы дипломати¬
ческих представительств пытались наладить посредническую связь между
турецкой администрацией и повстанцами. Но поскольку полномочий своих
правительств на то они не имели, работа комиссии закончилась безрезультатно.
Это окончательно стало ясно после трагедии на Поповом поле, когда беженцы,
вернувшиеся в восставшие области после того, как генеральный комиссар
Порты гарантировал им безопасность, были зверски перебиты. Ионин оказался в
сложном положении. ’’Мостарская комиссия провалилась, и теперь невзгоды
сыплются на меня”37, - писал он Аксакову в октябре 1875 г. К тому же Ионин
был совершенно деморализован непоследовательной политикой черногорского
князя и тем, что Россия оказалась не в состоянии контролировать события на
Балканах.
Осенью 1875 г. Игнатьев организовал турецко-черногорские переговоры,
соблазнив князя Николая перспективой присоединения к Черногории восстав¬
ших провинций, а Порту - возможностью воспользоваться влиянием
Николая, чтобы замирить Герцеговину. При этом аннулирова¬
лась сербско-черногорская договоренность о совместном выступлении весной
1876 г. Это был не самый удачный шаг хитрого и проницательного черногорского
князя, ранее под давлением собственного народа объявившего о поддержке
восстания. Хлынувший в Черногорию поток беженцев к концу 1875 г. достиг
50 тыс. человек, что составляло почти половину коренного населения страны38.
Восстание не утихло, но антиосманские силы были раздроблены; в конце
1875 г. Черногория оказалась на грани голода из-за резко возросшей численнос¬
ти населения. Князь Николай был в полной растерянности, и российскому
консулу пришлось взять большую часть хлопот об обеспечении страны продо¬
вольствием на себя. Он начал активно сотрудничать с благотворительными
организациями России, прежде всего со Славянскими комитетами, переживав¬
шими апогей своей деятельности.
Ионину не сложно было наладить с ними связь - как в Петербурге, так и в
Москве он имел в них знакомых и друзей. Членом Московского комитета была
его жена Л.Ю. Ионина. Энергичная, всецело преданная супругу, она встала во
главе Комитета помощи Черногории при дамском отделении Славянского
комитета в Москве. Под редакцией Иониной этим комитетом с благотворитель¬
ными целями был выпущен сборник ’’Родное племя”. В нем под псевдонимом
Асенин Ионин опубликовал очерк ’’Австриец в Боснии” и материал о современ¬
ном положении в Герцеговине39.
Весьма непросто сложились у дипломата отношения с лидером пореформен¬
ного славянофильства Аксаковым. Взгляды Ионина на исторические судьбы
России сложились под влиянием славянофилов. Он идеализировал допетров¬
скую Русь, противопоставлял ее ’’творческую силу народной жизни” европей¬
ским ’’механическим” институтам и теориям. Однако, пытаясь найти ответ на
чисто славянофильский вопрос - ’’Куда ушла наша русская жизнь и сила само¬
37Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(далее — ОР ГПБ), архив И.С. Аксакова, ф. 14, оп. 153, д. 30, л. 2об.
звХитр0ва Н.И. Черногория в период восточного кризиса 1875—1878 гг. — Россия и восточ¬
ный кризис 70-х годов XIX в. М., 1981, с. 68.
39Родное племя. Сборник. Дамское отделение Славянского общества в Москве. М., 1877.
11<J
бытная?”40, - среди виноватых в пороках русского общества он неожиданно
указывал на горе-учителей народа славянофилов. Несмотря на различия во
взглядах, Аксакова и Ионина связывала совместная деятельность и длительная
переписка. Высоко оценивая литературное дарование российского дипломата,
Аксаков предложил ему в 1880 г. снова сотрудничать в своей газете ’’День”41. В
одном из писем к лидеру славянофилов Ионин подчеркивал связывающую их
нить (хотя, как отмечал дипломат, ”мы с Вами часто не притирались”) - это
’’любовь к матушке России”42.
Во время герцеговинского восстания Ионин разделял мнение славянофилов,
что славянское движение ’’открыло спасительный клапан и приведет в свое
русло тревожную потребность воевать и воевать (то есть революционный
пыл)”43. И патриотически настроенная общественность, и часть российских
дипломатов, в частности русский генеральный консул в Черногории, действо¬
вали в едином порыве - оказать давление на Петербург с целью активизации
его балканской политики. Разочарованный пассивно-неопределенной позицией
официальной России, Ионин в октябре 1875 г. писал Аксакову: ’’Теперь русское
историческое влияние и, пожалуй, русская честь в Ваших руках, а не в наших
дипломатических”44.
В это время Славянский комитет в Москве, председателем которого был
Аксаков, стал ’’главным источником снабжения Черногории помощью”45. По
просьбе Аксакова консулу в Рагузе пришлось взять на себя распределение
средств, поступавших из России в созданный для помощи беженцам из восстав¬
ших областей Цетинский благотворительный комитет. Контроль действительно
был необходим - и князь Николай, и черногорский воевода Матанович не прочь
были использовать присланные деньги на собственные нужды46. Для пресечения
каких-либо возможных обвинений в свой адрес Ионин скрупулезно учитывал
поступавшие к нему средства, официально проводя все счета через рагузскую
канцелярию, куда он специально послал своего помощника Шатохина.
Восстание продолжалось. Черногория и Сербия наконец договорились о
совместном выступлении. Но это только огорчало рагузского консула. ’’Дела
принимают печальный оборот. Теперь дела черногорские окончательно сливают¬
ся с делами герцеговинскими”47, - сообщал он Аксакову. Суть в том, что Ионин
низко оценивал боевые возможности Черногории. По просьбе Горчакова он
специально изучил вопрос о состоянии черногорской армии. Как информиро¬
вал дипломата воевода Пламенац, численность 29 ее батальонов была около
19 тыс. человек, из которых только 8 тыс. имели скорострельные ружья, осталь¬
ную часть вооружения составляли устаревшие штуцеры48. Черногорская армия
была не только плохо вооружена, но и слабо организована. Батальоны формиро¬
вались по родственному и земляческому принципам, по племенам, округам,
кружкам. Это не всегда способствовало дисциплине, а порой служило сред¬
ством сведения счетов. Например, из мести воеводе Вукотичу его брат и помощ¬
ник намеренно проиграл сражение при Крстаце49.
40Ионич А.С. По Южной Америке, т. 2, с. 241.
41ОР ИРЛИ, архив С.Т., К.С. и И.С. Аксаковых, ф. 3, оп. 6, д. 56, л. 12—13.
42Там же, л. 12об.
43Голрвин К.Ф, Мои воспоминания, т. 1. СПб., 1908, с. 296.
44ОР ГПБ, архив И.С. Аксакова, ф. 14, оп. 153, д. 30, л. 1 об.
45Там же, л. 3.
46Щербак А.В. Черногория и ее война с турками в 1877-1878 гг. в двух выпусках. СПб.,
1879-1880, с. 45.
47ОР ГПБ, архив И.С. Аксакова, ф. 14, оп. 153, д. 30, л. 3 об.
48Россия и национально-освободительная борьба . . ., с. 109-112.
49Щербак А.В. Указ, соч., с. 76.
120
Несмотря на военную слабость, в летней военной кампании 1876 г. черногор¬
цам сопутствовал успех: они умело использовали знание местных условий,
горные прикрытия, тактику внезапных атак. С переходом борьбы на межгосу¬
дарственный уровень официальная Россия начала оказывать помощь Черного¬
рии - с сентября 1876 г. министерство иностранных дел ежемесячно выдавало
ей вексель на 50 тыс. рублей50. Ионин организовал тайные поставки в страну
орудий, ружей, пороха.
Но перед Черногорией вновь встала перспектива голодной зимы. Урожай не
был убран, скот забит, число беженцев продолжало расти. Стало нечем кормить
даже армию: солдаты получали немыслимо скудный паек ~ две галеты в день.
Воспользовавшись перемирием в конце 1876 г., Ионин поехал в Петербург с
личным ходатайством о помощи Черногории. Не получив поддержки у Горча¬
кова, который, по воспоминаниям Милютина, ’’уклонялся как ребенок от
помощи черногорским делам”51, консул нашел понимание у Гирса и еще более
влиятельного в конце 70-х годов Милютина. Последний заинтересовался сообра¬
жениями Ионина о балканских событиях и обещал ходатайствовать о выделе¬
нии Черногории миллиона рублей?2. Ионин лично обошел петербургские больни¬
цы, договариваясь о закупке для Черногории, где было всего четыре врача и
одна больница, медикаментов, о размещении раненых и больных53 * 55 56 57.
Близость к славянофильским кругам, сочувствие национально-освободитель¬
ному движению на Балканах в сочетании с неудержимым темпераментом и
страстностью, отличавшими Ионина, принесли ему славу горячего патриота
России и борца за славянскую идею. Друг дипломата К.Ф. Головин сообщал в
мемуарах, что ”в столице многие думали, что Ионин - нечто вроде политичес¬
кого агитатора, поджигавшего славянские страсти’*4. Рассказ о небылицах и
легендах, окружавших в Петербурге имя Александра Семеновича, Головин
завершил верным выводом, что Ионин ’’был представителем самой ортодоксаль¬
ной дипломатии, может быть, слишком влюбленным в Черногорию’*5. Совер¬
шенно точно Гире так определил мотивы такой активности Ионина в одном из
писем к нему в Петинье: ”В действиях Ваших высказывается не только глубо¬
кое знание дела и дипломатии, но и душевное сочувствие страждущим’*6.
Ионин был человеком очень оригинального поведения и своеобразного
характера. Воспоминания современников рисуют образ сухощавого, среднего
роста человека с бледным, нервным лицом и огромными, смотревшими в упор
на собеседника глазами. Вот как, к примеру, описывает 40-летнего Ионина
Де-Воллан: ’’Наружность его была необыкновенная”. На шее торчала как бы
’’мертвая голова, обтянутая, конечно, кожею. Но при разговоре с ним вы забы¬
вали о его наружности и находились под обаянием интересной личности’*7. Ум
и проницательность, которые отмечали в дипломате все современники, удиви¬
тельным образом сочетались в нем с очень высоким самомнением, с одной
стороны, и с мягкостью и добротой - с другой. Ионин заражал окружающих
своей почти магнетической энергией, бурным темпераментом, страстностью, с
какою он воспламенялся захватившим его делом. Однако, несмотря на свои
50Россия и национально-освободительная борьба. . ., с. 176.
51 Милютин Д.А. Дневник, т. 1. М., 1947, с. 153.
52Там же, с. 115.
53ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 75, л. 1об.
5АГоловин К.Ф. Указ, соч., с. 308.
55Там же.
56ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 79, л. 4-4об.
57Де-Воллан Г.А. Указ, соч., с. 515.
121
симпатии к славянам, он никогда не переходил приличествующей своему
дипломатическому статусу грани.
Это стало одной из причин тех сложностей, которые в конце 1876 г. возникли
в отношениях дипломата с руководством Славянских комитетов. Аксаков
упрекал Ионина, что сн ’’подчиняет интересы общества программам министерств
ва”50. В это время вождь славянофилов требовал от официальной России реши¬
тельных шагов для немедленного решения славянского вопроса. В ответе Акса¬
кову Ионин четко сформулировал свое понимание проблемы, считая необходи¬
мым, чтобы ’’политику вело все-таки министерство иностранных дел”, а ’’бла¬
готворительность славянских обществ не выходила за эту границу”58 59. Очень
раздражал Ионина молодой и неопытный посланец Петербургского комитета
А. Васильев, чью неловкую деятельность Александр Семенович в письме к
Аксакову квалифицировал как дискредитацию российской дипломатии60. Не на
месте, по мнению дипломата, находился и другой представитель комитетов -
князь А.И. Васильчиков. Уважая компетентность своего давнишнего приятеля в
вопросах финансов и государственного устройства, он считал, что в дипломати¬
ческой сфере Васильчиков - ’’человек, способный захлебнуться в стакане
воды”61.
В сложной военной обстановке ”в глазах черногорцев русский консул,
постоянно участвовавший во всех советах князя, всюду ему сопутствовавший в
походах, имел огромный авторитет. Не было уголков в Черногории, где бы его
не знали”62, - писал глава миссии Красного Креста А.В. Щербак, далеко не
разделявший восторженного отношения Ионина к Черногории. Влияние дипло¬
мата во многом определялось его статусом представителя великой державы и
реальной материальной помощью, которую эта держава оказывала Черногории.
Но немаловажную роль играли и личные качества Ионина и его дипломатичес¬
кое мастерство. ”Он всегда был начеку и всегда поспевал вовремя, - отмечал
Щербак, - едва ли кто-либо из наших дипломатических представителей сумел
бы в то время с такой ловкостью и тактом устранять все препятствия, выдвигае¬
мые настойчивыми интригами Австрии, как это делал Ионин”63. Де-Воллан,
посланный в Черногорию Московским Славянским обществом в 1878 г., писал в
воспоминаниях, что русский представитель ’’сумел поставить себя прочно и в
минис! ерстве, и при дворе, и у черногорцев, и если Черногория выйдет из этой
борьбы увеличенной в объеме, то это в большей степени заслуга Ионина”64.
Всплеск сочувствия борьбе славян во время Восточного кризиса всколыхнул
все русское общество. Метко охарактеризовал настроения в стране Ф. Скрин:
’’Александр II хотел нравственного давления, но не мог устоять против энтузи¬
азма подданных”65.
24 апреля 1877 г. Россия объявила Турции войну. Ионин отнесся к этому
положительно. Во-первых, по его мнению, это приближало Россию к выполне¬
нию предназначенной ей ’’мировой задачи” - ликвидации Османской импе¬
рии66. Во-вторых, в нем заговорил консерватор. ’’Война излечит нас от всяких
политических процессов”67, - считал дипломат.
58ОР ИРЛИ, архив Аксаковых, ф. 3, оп. 4, д. 245, л. 5.
59Там же, л. 4-4об.
60Там же.
61ОР ГПБ, архив И.С. Аксакова, ф. 14, оп. 153, д. 30, л. 4об.
62Щербак А.В. Указ, соч., с. 39.
63Там же.
64Де-Воллан Г.А. Поездка в Боснию и Герцеговину. — Голос минувшего, 1914, № 2, с. 9.
65Скрин Ф.Г. Рост России 1815-1900. СПб., 1904, с. 125.
66ОР ИРЛИ, архив Аксаковых, ф. 3, оп. 4, д. 245, л. 16об.
67Де-Воллан Г.А. Поездка в Боснию и Герцеговину, с. 187.
122
Решающий шаг был сделан, но вопрос, хватит ли у России сил для ведения
войны, продолжал дискутироваться в обществе. ”0 неготовности нашей к войне
говорили все. Ионин раз ужасно озлился на одного генерала при дворе и сказал:
если обыкновенный смертный говорит,,что мы не готовы, это ничего, но если
русский генерал говорит, что мы не можем осилить турок, то значит - вся
русская армия ничего не стоит”68, - писал Де-Воллан.
Черногория тем временем продолжала войну с Турцией. Теперь уже встал
вопрос о ее государственной независимости. Порта требовала восстановления в
Черногории верховной власти султана. Против измученной черногорской армии
была брошена огромная, по данным Ионина, численностью 52 тыс. человек,
армия Сулейман-паши. Разгромив Черногорию, Порта предполагала освободить
войска для русского фронта. Но народ маленькой страны продолжал сражаться
из последних сил. Ионин постоянно был рядом с князем Николаем: и на передо¬
вых позициях, и в штабе во время планирования операций. Он неутомимо пере¬
давал сведения в Петербург, став постоянным консультантом Гирса по балкан¬
ским делам. Военные действия не всегда были так удачны, как хотелось бы.
Ионин постепенно терял веру в то, что балканские вопросы будут решены
выгодно для России. Наиболее приемлемым и безболезненным ему теперь казался
следующий вариант. Поскольку Босния и Герцеговина совершенно опустоше¬
ны - ’’все, что могло бороться, ушло в Черногорию, а черногорская земля разо¬
рена и не может взять на свои плечи эти провинции, нужно отдать их Австро-
Венгрии. Это прибавит элемент брожения плюс цивилизации”. В дальнейшем
Россия бы вернула Боснию и Герцеговину в сферу своего влияния69.
Одна из последних вспышек оптимизма Ионина по поводу выгодного реше¬
ния Восточного вопроса для России относится ко времени подписания Сан-Сте-
фанского договора. На следующий же день после его заключения дипломат
телеграфировал Игнатьеву: ’’Позвольте мне Вас лично поздравить, что Вы имели
счастье подписать мир, который заключает для нас прекрасную награду много¬
летних усилий и трудов”70.
Берлинский конгресс, который свел к минимуму достижения российской
дипломатии в Сан-Стефано, сильно задел подогретые войной патриотические
круги России. К дипломатии страны осознание неудачи пришло позднее: во
внешнеполитическом ведомстве стали искать виновников войны уже в начале
80-х годов. После Берлинского конгресса произошли постепенные, но радикаль¬
ные перемены в составе и расстановке сил российской дипломатии. Отошел от
дел престарелый Горчаков. Вместе с ним покидала руководящие посты мини¬
стерства ’’старая гвардия” - А. Жомини, Г. Гамбургер. Очевидная неосущест¬
вимость идеи о прямом соглашении России с Турцией, фанатично защищавшая¬
ся Игнатьевым, похоронила его мечты из ’’лидера оппозиции” стать официаль¬
ным руководителем внешней политики. К руководству министерством иностран¬
ных дел с 1879 г. пришел Гире - человек очень скромный, трудолюбивый и
осторожный. Он сумел отыскать компромиссную линию между возродившейся
’’партией реванша”, общественным мнением и умиротворителями, считавшими,
что внешнеполитические вопросы для России должны на время отойти на
последний план. Может быть, именно благодаря миролюбивой, небогатой
смелыми ходами и неординарными решениями политике Гирса Россия смогла
постепенно найти свое место в системе европейских держав.
Этот сложный период был для Ионина временем раздумий и переоценок.
6ВДе-Воллан Г.А. Очерки прошлого. — Русская старина, 1916, № 6, с. 376.
б9Там же, с. 140-144.
70Записки графа Н.П. Игнатьева. — Исторический вестник, 1915, кн. 9, с. 736—737.
123
Черногория в результате войны получила полную независимость, территориаль¬
ные приращения и выход к морю. Босния и Герцеговина, как и предполагал
Ионин, отошли к Австро-Венгрии в обмен на возможность для России сохранить
влияние на получившие независимость части Болгарии. Но положение России на
Балканах было неустойчивым, надежды на сохранение влияния оставались
зыбкими. ”Сан-Стефанский договор был сделан под русским соусом, а Берлин¬
ский под австро-венгерским. Вкус получился совсем другой”71, - справедливо
ртмечал Игнатьев. Ионину пришлось испытать это на себе. ”В очень трудном,
почти невозможном положении изворачиваемся мы тут последние два года,
хуже войны. Тогда дело было с Россией, а теперь изволь подыгрывать неизвест¬
но кому”72, - писал дипломат. Аксакову. Слабым утешением для него было
повышение по службе до ранга министра-резидента и присвоение чина действи¬
тельного статского советника. Целые тома ионинских записок об улучшении
состояния России и стабилизации политического курса наполняли архивы, не
принося никаких результатов, и дипломат постепенно терял надежду на их
практическое использование73.
Своеобразным рубежом в воззрениях Ионина стали новые выступления
славянских народов: неудачный для Черногории пограничный конфликт с
Турцией в 1880 г. и восстание в Боснии и Герцеговине, где напрасно ждали
обещанных реформ. Это подтвердило предположение Ионина, что передача
славянских областей на Балканах Австро-Венгрии усилит в них напряженность.
Но у России теперь не было сил, чтобы вернуть их в сферу своего влияния.
Ионин констатировал, что ’’западные хитрецы нас перехитрили”74. Он считал,
что в ближайшее время балканские народы не смогут рассчитывать на поддерж¬
ку России, их выступления бесперспективны и только будут ослаблять борющие¬
ся народы.
Длительное пребывание в сложной обстановке на Балканах даже для ’’энер¬
гичного и всегда деятельного” Ионина стало тяготить его. ’’Эта работа совсем
переменила мою энергию, я должен отсюда уйти (и, вероятно, уйду) чуть не на
днях, через Москву, в отпуск сначала. .-. а там, что Бог даст”75, - писал дипло¬
мат Аксакову. Его все больше стали мучить тяжелые приступы невралгии, он не
раз просил Гирса отправить его в более спокойное место. Министр не спешил
отпускать опытного дипломата, считая его присутствие ’’крайне необходимым и
так важным”, ибо никто лучше Иойина не знал Черногорию76. В 1883 г. наступи¬
ла, наконец, долгожданная перемена: Ионин получил назначение в.Бразилию.
Однако отъезд в Рио-де-Жанейро был отложен в связи с возложенной на него
экстраординарной миссией в Болгарию. Обстоятельства вновь поставили дипло¬
мата в центр балканской политики России.
После Берлинского конгресса Болгария стала главной опорой сужавшегося
российского влияния на Балканах. Организуя управление получившего незави¬
симость государства, Россия постаралась обеспечить там свои интересы. Либе¬
ральный уклон конца царствования Александра II позволил принять в 1879 г.
достаточно демократичную для того времени Тырновскую конституцию. Победа
ориентировавшихся на Россию болгарских либералов и поддержка Россией
национального движения в стране, так же, как и российская дипломатия,
713аписки графа Н.П.Игнатьева. После Сан-Стефано. — Исторический вестник, 1916, кв. 5,
с.341.
72ОР ГПБ, архив И.С. Аксакова, ф. 14, оп. 153, д. 30, л. 16— 16об.
73ОР ИРЛИ, архив Аксаковых, ф. 3, оп. 4, д. 245, л. 16.
74Там же.
75Там же, л. 13об.—14.
76ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 75, л. 13об.
124
стремившегося к ликвидации ’’несправедливостей” Берлинского конгресса и
объединению Болгарии и Восточной Румелии, гарантировали российское влия¬
ние. Но в 1881 г. первый князь Болгарии, ставленник русского царя, Александр
Баттенбергский, воспользовавшись тем, что в начале нового царствования бол¬
гарские дела для России отошли на второй план, отменил Тырновскую консти¬
туцию и получил на семь лет чрезвычайные полномочия. Официальная Россия
фактически благословила этот государственный переворот. Но влияние ее в
Болгарии падало. Пришедшие к власти в Болгарии консерваторы и не в меру
честолюбивый князь стали проводить австрофильскую политику. Поддержка
либеральной оппозиции русскими генералами Л.Н. Соболевым и А.В. Каульбар¬
сом, занимавшими в болгарском правительстве соответственно посты министра
внутренних дел и военного министра, их противодействие авторитарной поли¬
тике князя привели к конфликту. В мае 1883 г., приехав в Россию на коронацию
Александра III, Александр Баттенбергский предложил сменить этих министров.
Болгарские дела неожиданно приковали внимание всего внешнеполитического
ведомства.
На роль ’’суперарбитра” между министрами и Александром Баттенбергским в
Софию был назначен (в качестве генерального консула) Ионин. ’’Выбор остано¬
вился на г. Ионине, как на человеке, давно и близко знакомом с южнославян¬
скими делами и доказавшем свои способности во время продолжительной
службы нашим представителем в Черногории”77, - отмечал в одном из первых
русских исследований по истории Болгарии П.А. Матвеев. Александр Семенович
в тонкостях разбирался в болгарских делах благодаря переписке с первым
’’устроителем” Болгарии князем В.А. Черкасским, прежним консулом в Софии
Хитрово и российским военным агентом Каульбарсом. По мнению Ионина,
причиной болгарских ’’недоразумений” была непоследовательная политика
министерства иностранных дел, легкомысленно и бездарно растерявшего все
’’болгарские козыри”78. Убежденный монархист и консерватор, он трезво смо¬
трел на парадоксальное положение, когда монархической России было выгодно
поддерживать в Болгарии либералов, а конституционной Австро-Венгрии делать
ставку на консерваторов, объясняя это тем, что Россия пользовалась в стране
влиянием ’’нравственным”, а Австро-Венгрия ’’материальным”. ’’Если бы Россия
захотела играть в Болгарии ту же коммерческую роль, как Австро-Венгрия, то,
вероятно, и нам пришлось бы для развития наших торговых дел держаться по
отношению к внутренней политике Болгарии австрийского образа действий, т.е.
поддерживать единодержавие и клику”79, - отмечал дипломат.
В подобном духе давал инструкции Ионину перед отъездом в Болгарию и
Гире: ”С полномочиями надо покончить и вернуть Болгарию на конституцион¬
ный путь”80. По поводу конфликта Александра с его русскими министрами Гире
справедливо считал, что русский генеральный комиссар должен здесь высту¬
пить в роли доброжелательного и опытного посредника. В министерстве сущест¬
вовало иное мнение. Директор Азиатского департамента И.А. Зиновьев был
убежден, что дерзкий князь заслуживал наказания, вплоть до переизбрания81.
Сам же Ионин критически относился как к Александру, так и к его русским
министрам. Соболева он воспринимал как ’’настоящего гимназиста и по внеш¬
Матвеев П.А. Болгария после Берлинского конгресса. Исторический очерк. СПб., 1887,
с. 181.
78 Головин К.Ф. Указ, соч., т. 2, с. 122.
1дСказкин С.Д. Указ, соч., с. 238.
В0Щеглов В.Н. Указ, соч., с. 584.
81ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 85, л. З-Зоб.
125
нему виду и по образу мыслей”. И полагал, что всеми ими можно пренебречь
ради сохранения влияния России в Болгарии82.
Однако во время первой же аудиенции у Александра Баттенбергского 12 ав¬
густа 1883 г. Ионин категорически потребовал от князя отказа от чрезвычай¬
ных полномочий и назначения комиссии для принятия конституции с сохране¬
нием российского представительства. После трехчасовых взаимных препира¬
тельств князь попросил время для размышлений. Сказавшись больным, он
попытался обеспечить себе опору, найдя компромисс между консерваторами и
либералами. В конце августа Ионин предъявил Александру ультиматум и,
поскольку тот продолжал оттягивать решение, угрожал телеграфировать в
Россию о присылке русских войск83. 30 августа Александр был вынужден издать
манифест об отказе от чрезвычайных полномочий и восстановить Тырновскую
конституцию.
Поручение министерства российский генеральный консул успешно выполнил.
Гире писал дипломату: ’’Никогда не приходилось мне встречаться с такими
серьезными и деликатными вопросами, как те, с которыми пришлось Вам возить¬
ся, и не могу достаточно надивиться искусству и энергии, с которыми Вы пре¬
одолеваете затруднения. Честь и слава Вам”84. Ионин также был удовлетворен
результатами. В письме к Аксакову он высказал надежду, что достигнутый
после августовско-сентябрьских событий компромисс между болгарскими
либералами и консерваторами явится средством, способным повысить ’’наш
поколебавшийся престиж”85.
Но отношения российской дипломатии с князем Александром, которого сам
же Ионин недавно советовал ’’гнать в шею”, продолжали оставаться напряжен¬
ными. Жесткая тактика, выбранная дипломатом, позволила выполнить цель,
поставленную Гирсом, но ’’приручить” князя он не смог. Знавший характер
дипломата Николай Черногорский объяснял это так: ’’Ионин опростился у меня
в Черногории, а немецкому принцу нужен дипломат, золотящий пилюли”86.
Любопытно, что не только Ионин, а все российские посланцы при общении с
Александром Баттенбергским теряли терпение и гибкость. Один и тот же путь
грубого давления на князя выбирали и Хитрово, и Ионин, и в 1886 г. Каульбарс.
Верную интерпретацию этой любопытной закономерности нашел дипломат
А. Карцев: ”В Вене нашим дипломатам приходилось действия нашего прави¬
тельства мотивировать соображениями Берлинского договора. В Болгарии,
охваченные водоворотом событий, они попадали на покатый путь воспомина¬
ний освободительной войны, последовавшей за ней оккупацией и тех горизон¬
тов реванша, ради которых наши инструкторы подготовляли болгарское войс¬
ко. Призрачность сказанных горизонтов в Петербурге сознавали, но отречься от
них не хватало решимости”87.
После окончания миссии в Болгарии Ионина ждала поездка в Бразилию, куда
он был назначен посланником. Это было повышение по службе, но, пожалуй,
дипломат рассчитывал на более почетное, тихое место где-нибудь в спокойной
европейской столице и в глубине души разделял мнение своего друга Каульбар¬
са, писавшего ему: ”Ло последнего времени все еще думал, что Вы туда (в ту
далекую страну, царство обезьян) не поедете и получите в Европе назначе¬
B2Kaptfee 4. Семь лет на Ближнем Востоке. СПб., 1908, с. 153.
взМатвеев П.А. Указ, соч., с. 190.
84ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 75, л. 32.
85ОР ГПБ, архив И.С. Аксакова, ф. 14, оп. 154, д. 26, л. 4.
В6Щеглов А.Н. Указ, соч., с. 586.
В1Карцев А. Указ, соч., с. 164.
126
ние’^в. К умиротворенной жизни располагали и расстроенное здоровье, и семей¬
ное положение Александра Семеновича. Ионин вступил во второй брак, женил¬
ся на молодой черногорке, гувернантке при женском пансионате в Петинье,
происходившей из знатного рода, гонимого при дворе Николая Негоша. В
судьбе девушки российский министр-резидент принял живое участие и был
покорен ею. Марина Павловна, как по-русски называл Ионин свою избранницу,
благодаря прекрасному воспитанию и природному уму, уверенно чувствовала
себя в высшем петербургском свете. Волевая, красивая, умевшая безукориз¬
ненно держаться, она заставила восхищаться собой и друзей, и врагов Алексан¬
дра Семеновича, и просто петербургских повес. Теперь у Марины Павловны
родился сын.
Далеко не так безоблачно складывались отношения Ионина с придворными
кругами Петербурга - и в этом одна из причин его назначения в далекую
Бразилию. Критика дипломатом руководства министерства, неумение подлажи¬
ваться, отсутствие карьерных устремлений вызывали недовольство ”в некото¬
рой здешней клике”. Так считал его знакомый литератор Н.А. Ратынский, очень
ценивший Ионина как ’’человека высокого европейского Просвещения и заме¬
чательно умного”69.
Не последнюю роль в определении судьбы ’’неудобного” дипломата сыграла
расстановка сил на новом этапе борьбы за определение внешнеполитического
курса России - это был чувствительный удар по стану сторонников Гирса. В 80-х
годах XIX в. дипломатическое амплуа Ионина значительно изменилось. Из
деятельного поборника и проводника активной славянской политики он стал
защитником взвешенной и миролюбивой политики министерства. Когда в
1888 г. обострилась борьба за сербский престол и правонационалистические
круги яростно критиковали политику внешнеполитического ведомства за
умеренность, ионинскую записку о предыстории последней русско-турецкой
войны и ее последствиях группировка Гирса - Ламздорфа представила для
реабилитации своего курса. В записке Ионин доказывал несостоятельность и
вредность для России проведения ’’особой” славянской политики88 89 90. Столь
резкий поворот в воззрениях дипломата, во-первых, отражал соотношение сил в
стане борцов за ’’славянскую идею”; теперь даже пламенные идеалисты видели
нереалистичность ее осуществления. Во-вторых, это был трезвый расчет опытно¬
го дипломата. В тогдашней системе европейских союзов Россия пока была в
изоляции: Тройственный союз уже агонизировал, а русско-французское согла¬
сие еще не оформилось. В-третьих, происходили перемены в мировоззрении
самого Ионина, эволюционировавшего в сторону толстовско-славянофильского
вида пацифизма. ’’Сила России не в силе кулака, которым мы столько кичились.
Эта сила в христианском добродушии нашего народа, его инстинктивной спра¬
ведливости и человеколюбии”91 92, - писал дипломат Майкову.
Находясь в дружеских отношениях с Гирсом и в общем поддерживая его
ориентацию тогда на Тройственный союз, Ионин не переоценивал способностей
нового руководителя российской дипломатии. ’’Рыба начинает гнить с голо¬
вы”9" - эта распространившаяся в кулуарах иностранного министерства фраза
Ионина о министре иностранных дел приобрела впоследствии в устах диплома¬
та новое звучание: так отзывался он вообще о министрах нового царствования.
88ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 96, л. 1об.
89Цит. по : Шур Л.А. Россия и Латинская Америка М., 1960, с. 101.
"Зайцев В.В. Русско-сербские отношения в конце 80-х гг. XIX в. — Советское славяно¬
ведение, 1989, № 1, с. 35—36.
91ОР ИРЛИ, архив А.Н. Майкова, ед. хр. 16810, л; 24об.
92Де-Воллан Г.А. Очерки прошлого. — Русская старина, 1914, № 6, с. 132.
127
Но то, что Ионин считал крупными фигурами оказавшихся не у дел при Алек¬
сандре III Милютина, Стремоухова и не видел значительных личностей в окру¬
жении нового монарха, критиковал, порой очень едко и остро, царя, бюрокра¬
тию, политический курс России, вовсе не говорит о его радикальных взглядах.
Что-Россия ”больна’\ не отрицал никто из сколько-нибудь значительных деяте¬
лей того времени. Но ионинский метод лечения середины 70-х годов, правона¬
ционалистический - ’’выпустить пар” путем победной войны, - теперь сменил¬
ся на полностью противоположный, но не более прогрессивный. ’’Больна у нас
психия и с Россией надо обращаться как с умалишенным человеком, то есть
усадить в темную комнату”93, - считал ныне Ионин. Поэтому к назначению
министром внутренних дел весной 1882 г. графа Д.А. Толстого, однозначно
расцененное русским обществом как усиление реакции, он отнесся с любопыт¬
ством и надеждой. Всякие ’’игрушки” вроде конституций и земских соборов - а
Ионин был безоговорочно против любых представительных начал - теперь
отпали, и это полностью соответствовало взглядам дипломата: ’’Надо излечить
Россию тишиной и спокойствием”94. Де-Воллан высказал интересное предполо¬
жение, что нервозность и нетерпимость Ионина стали лечить во внешнеполити¬
ческом ведомстве по его собственному ’’рецепту” для России: ’’Ионин именно
попадет в темную комнату, то есть меняет Черногорию на Бразилию”5.
Ионин надеялся, что экзотический мир Бразилии несколько развеет его
настроение, ’’ибо, жаловался он Аксакову, - нет ничего скучнее Петербур¬
га’96 . Первые впечатления прибывшего в конце 1884 г. ко двору императора
Педро II российского посланника соответствовали ожиданиям. Ионин отмечал,
что у Бразилии ’’внешней политики в настоящем смысле слова нет, а внутрен¬
нюю надо рассматривать в микроскоп”97 98.
Друзья Александра Семеновича еще довольно продолжительное время скеп¬
тически относились к деятельности Ионина в далекой стране. Поэт и литератур¬
ный деятель граф А.А. Голенищев-Кутузов, сообщая ему в 1888 г. о неурядицах
в дипломатическом ведомстве, советовал: ”Ну ее совсем -> эту Южную Амери¬
ку, там Вам делать-то нечего - здесь Вы очень нужны”8. Но казавшееся опалой
назначение в Рио-де-Жанейро неожиданно для всех становится наиболее пло¬
дотворным и значительным этапом жизненного пути Ионина.
Рост международного авторитета южно- и центрально-американских госу¬
дарств, в конце 70-х годов XiX в. значительно окрепших экономически и поли¬
тически, сформировал в руководстве российской дипломатии благосклонное
отношение к установлению с ними официальных отношений, что уже давно
осуществили остальные великие державы. При отъезде в Бразилию Ионин полу¬
чил указание Гирса прозондировать имевшиеся там для этого возможности.
Вскоре через своих представителей в Рио-де-Жанейро правительство соседней
с Бразилией Аргентинской республики выразило стремление иметь у себя
российского представителя. Возникший в Буэнос-Айресе план установления
контактов с Россией основывался на перспективе заключения русско-аргентин¬
ского торгового соглашения, поскольку страны имели сходные статьи экспор¬
та - хлеб, шерсть,* кожа. Это предложение было очень привлекательным для
России: стремительно ворвавшаяся на мировой хлебный рынок Аргентина уже
вызывала опасения русских экономистов. Понимая, что такой план утопичен
93Там же, с. 145.
94Там же.
^Де-Воллан Г.Д, Очерки прошлого. — Русская старина, 1914, № 3, с. 515.
96ОР ГПБ, архив А.С. Аксакова, ф. 153, д. 30, л. 2—Зоб.
91Ионин А.С. По Южной Америке, т. 1, с. 182Ó
98ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 76, л. 5.
128
из-за слабости торгового флота обеих стран, Ионин, однако, загорелся идеей
установления русско-аргентинских дипломатических отношений, прежде всего,
как и аргентинская дипломатия, подразумевая ’’виды на будущее”. Он пришел
к выводу, что расширение дипломатического представительства в Аргентине
необходимо для поддержания Россией статуса великой державы.
Поразительно быстро для российской бюрократической машины дело успеш¬
но завершилось. 22 октября 1885 г. Ионин был назначен чрезвычайным послом и
полномочным министром при Аргентинской республике с сохранением прежней
должности в Бразилии. Через полгода Буэнос-Айрес встречал первого российс¬
кого представителя, торжественно доставленного в столицу Аргентины на
единственном в республике военном фрегате.
В Петербурге с возраставшим вниманием наблюдали за деятельностью Иони¬
на в Южной Америке. Товарищ министра иностранных дел Ламздорф записал в
дневнике: ’’Его (Ионина. - Е.Ф.) донесения из Аргентинской республики в
высшей степени интересны и на извлечениях из них, представленных государю,
его величество начертал: ’’Весьма интересно” ".
Ионин сообщил в Россию о посещении им Уругвайской республики. Встретив
настойчивое желание правительства Уругвая видеть его также российским
послом в Монтевидео, Ионин предложил выслать ему верительные грамоты для
Уругвая. Во-первых, это следовало сделать из соображений дипломатического
этикета: российский посланник в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе не мог мино¬
вать Монтевидео по пути из Бразилии в Аргентину. Во-вторых, Ионин учитывал
рост политического значения Уругвая. ’’События в этой стране все усложняются
и приобретают значительный интерес в политической жизни Южной Америки, а
потому и должны быть наблюдаемы нашею миссией в этой стране света”* 100, -
отмечал в донесении Бирсу дипломат.
Выгодное географическое положение в устьях рек Параны и Ла-Платы пои-
влекало к Уругваю внимание и соседних стран, и европейских держав. Объяс¬
няя ситуацию вокруг этой республики, Ионин находил прекрасно знакомую
российской дипломатии параллель: ’’Уругвай играет в Америке роль Константи¬
нополя. Это здешний восточный вопрос, по своим причинам и резонам сходный
с тем, который существует на берегах проливов”101 102. В ноябре 1888 г. Ионин
вручил верительные грамоты президенту Уругвая, став одновременно послан¬
ником России в трех южно-американских странах.
Отношения этих государств между собой были полны противоречиями, что
требовало от российского представителя изрядного дипломатического такта и
ума. Географ А.И. Воейков считал важными слагаемыми успеха дипломатичес¬
кой деятельности Ионина в Южной Америке незаурядные черты его личности,
так как в отличие от Ионина ’’большинство дипломатов, долго служащих в
Европе, не имеют широты и кругозора, необходимого для понимания сложных
отношений в Южной Америке’*02. Здесь в полной мере смогло реализоваться
жизненное и дипломатическое кредо Александра Семеновича - стремление
укрепить внешнеполитический престиж отечества.
В 1888 г. Ионин предпринял путешествие вокруг Южной Америки. Через
Фолклендские острова, Огненную Землю и Магелланов пролив он добрался до
Тихоокеанского побережья. Здесь была главная цель его путешествия - Чилий¬
ская республика, которая, по сведениям дипломата, ’’пребывала в зените
"Ламздорф В.Н. Дневник. 1886—1890. М.—Л., 1926, с. 106.
100СССР (Россия) — Аргентина, с. 16.
101Ионин А.С. По Южной Америке, т. 2, с. 55.
102Воейков А.И. Разбор сочинений А.С. Ионина ”По Южной Америке”. СПб., 1899, с. 4.
5 Новая и новейшая история, № 6
129
гвоего политического значения и экономического развития”103. Ионин должен
был наметить пути для осуществления плана его аккредитации в качестве
российского посланника при президенте Чилийской республики104. Эту идею
поддерживало морское министерство, уже давно проявлявшее интерес к портам
Чили и Аргентины в связи с обостреньем международных отношений в Дальне¬
восточном регионе и возможностью крейсерской войны. Переворот 1889 г. в
Чили положил конец этим планам.
Ионин продолжил путешествие, углубившись в дебри Южной Америки.
Поразительная энергия 52-летнего дипломата! Он обследовал Боливию и Перу,
несколько раз пересекал Кордильеры. Затем хотел поехать в Центральную
Америку, где активность российской дипломатии в это время значительно
повысилась. К этому причастен и сам Ионин, о чем свидетельствуют строки из
письма к нему товарища министра иностранных дел А.Е. Влангали от 26 марта
1887 г.: ’’Пример Ваш возымел еще на нас то благотворное влияние, что мы не
позже начала будущего года затеем сношения с Вентральной Америкой”105.
Практическим результатом этих действий стало установление в 1890 г. дипло¬
матических отношений России с Мексикой.
Желание вернуться в конце 1889 г. в Рио-де-Жанейро заставило дипломата
решиться на еще более сложный и неизведанный путь, часть которого пришлось
пройти на плоту по Амазонке. Но затем Ионин вынужден был направиться не в
Бразилию, ставшую к тому времени республикой и сделавшуюся временно для
России и российских дипломатов неудобной страной, а домой, в Петербург.
По возвращении в Россию Ионин задумал написать книгу о Южной Америке. В
газете ’’Новое время” появилась об этом заметка, которая определяла ’’как
чудо, что русский дипломат может заниматься серьезным и полезным делом и
что министр покровительствует этому”106. Внешнеполитическое ведомство
одобрило замысел Ионина. Дипломат принялся за дело, и через' год первые два
тома его книги ”По Южной Америке” были готовы.
Однако в жизни Ионина вновь начался трудный период. Застопорилось дело с
изданием книги, очень холодно его принимали при дворе, вдобавок встал
вопрос о возвращении в Рио-де-Жанейро, где Ионин официально продолжал
считаться посланником. Ламздорф очень переживал за судьбу друга. ”Я люблю
и уважаю этого прекрасного и достойного человека. Его разнообразные позна¬
ния и выдающийся ум должны были бы обеспечить ему лучшую долю; почти
неприлично посылать представителя при новой Бразильской республике,
которую мы собираемся признать, посланника, который был аккредитован при
последнем императоре”107, - писал он в дневнике. Но помочь ни товарищ
министра, ни даже сам Гире Ионину не могли. На пост в Рио-де-Жанейро прочили
Хитрово, раздражавшего руководителей внешнеполитического ведомства
своими интригами и эксцентрическими выходками. Но Александр III счел
’’жестоким” посылать своего тогдашнего любимца Хитрово в такую далекую
страну.
В результате в декабре 1892 г. Ионин ушел в отставку, но, по просьбе Гирсд,
был оставлен в штате министерства иностранных дел. Его дальнейшая диплома¬
тическая деятельность носила ’’представительный” характер. Он был делегатом
103Ионин А.С, По Южной Америке, т. 3, с. 328.
104Центральный Государственный Архив Военно-Морского Флота, ф. 417, on. 1, д. 276,
л. 4.
105Цит. по: Шур Л.А. Россия и Латинская Америка, с. 96.
106Ламздорф В.Н, Дневник. 1891-1892. М.-Л., 1934, с. 58-59.
107Там же, с. 50-51.
130
ряда международных конференций, агентом петербургского банка в Египте. В
1897 г. представлял Россию при Швейцарском союзе.
Все это время он продолжал заниматься литературной деятельностью. Вслед
за первыми двумя увидел свет третий том его книги ”По Южной Америке”.
Сочинение Ионина, сочетавшее исследовательскую серьезность с увлекатель¬
ностью, получило очень высокую оценку специалистов и пользовалось большим
успехом у публики. В газете ’’Новое время” отмечалось: ’’Если бы хоть один из
десяти наших посланников изучил так тщательно историю и географию, этногра¬
фию и быт тех стран, где они аккредитованы, право же, они принесли бы России
больше пользы, чем от них ожидают”108.
Не желая связывать себя в оценках и суждениях, Ионин лишь вскользь
упоминает о своей дипломатической деятельности, что характерно и для его
ранних трудов. Это увлекательное описание южно-американских стран сквозь
призму восприятия истинно русского человека. Ионина справедливо считают
основоположником русской литературы о Южной Америке. В 1895 г. появился
немецкий перевод книги, а в 1897 г. Академия наук присудила ее автору пре¬
мию митрополита Макария.
Над четвертым томом уже тяжелобольной Ионин работал на своей вилле в
Швейцарии, в Граце. Пожилому дипломату было приятно узнать, что ему при¬
своен чин действительного тайного советника. Среди дипломатов его ранга во
всей России действительных тайных насчитывалось менее десятка.
Единственно, чего не поколебали ни годы, ни разочарования, ни перемены
дипломатических приоритетов - веры Ионина в величие России и ее историческо¬
го пути. Он активно содействовал сооружению в Швейцарии памятника русским
богатырям к 100-летию героического похода А.В. Суворова через Альпы, был
энергичным участником Общества ревнителей русского исторического просве¬
щения, нередко встречался со славянскими деятелями и помогал им советом.
21 мая 1900 г. Ионин скончался. Отпевали дипломата в Исидоровской церкви
Александро-Невской Лавры. Похоронен он здесь же, на Никольском кладбище.
108Новое время, 25 августа 1892 г. — ГАРФ, ф. 939, on. 1, д. 4, л. 8.
5
131
© 1992 г.
В.Н. МАЛОВ
МОСКОВСКИЙ АРХИВ МОНСЕНЬЕРА БУАЖЕЛЕНА
Материалы по истории Франции из отдела рукописей Российской государ¬
ственной библиотеки (бывшей Государственной библиотеки им. Ленина) до сих
пор практически не известны нашим историкам и не используются ими. Между
тем в московском собрании хранится немало рукописных сборников из архивов
и коллекций французских эмигрантских семей: разошедшиеся по чужим рукам
в годы Великой французской революции, они неведомыми путями попали в
конце концов к русским коллекционерам. Видимо, самым крупным и интерес¬
ным из этих фрагментов являются те пять томов из собрания российского Глав¬
ного штаба, которые в последней архивной описи выделены как часть архива
Буажелена (ф. 68, т. 374-378).
Жан-де-Дье-Раймон де Буажелен де Кюсе (1732-1804) был епископом Лавора в
Лангедоке в 1764-1770 гг., а затем архиепископом Экса (1770-1791 гг.) и по этой
должности главой местной администрации Прованса. Соответственно в наших
томах собраны документы провансальского и лангедокского происхождения.
Среди них имеются как адресованные Буажелену письма, так и достаточно
обширные записки; последние большей частью без даты и подписи автора. Весь
комплекс объединяет, по нашим подсчетам, 436 документов на 1834 листах.
Основные хронологические рамки собрания - 1731-1778 гг.; последний датиро¬
ванный документ помечен 18 мая 1778 г. Таким образом, оригиналы обширной
корреспонденции, которую Буажелен получал из Прованса в 1780-х годах, в
собрании отсутствуют; сразу же скажем, что их не сохранилось и за рубежом, о
чем подробнее будет сказано ниже.
Все пять буажеленовских томов были только недавно, в 1960-х годах, постав¬
лены рядом в архивной описи. Ранее один из них (ныне т. 376), самый большой
(240 документов на 503 л.), почему-то хранился отдельно. Это обстоятельство
привело к тому, что авторы появившейся в 1941 г. в ’’Записках отдела руко¬
писей ГБЛ” публикации буажеленовских документов Е.В. Козлова и О.А. Старо-
сельская-Никитина1 обратили внимание именно и только на этот том, не заме¬
тив наличия еще четырех томов того же собрания, в которых содержатся доку¬
менты, перекликающиеся с вошедшими в публикацию.
Правда, о публикации в данном случае можно говорить лишь с натяжкой -
свет увидели только русские переводы 37 писем; иностранным читателям
предоставлялась рискованная работа обратного перевода. К сожалению, прихо¬
дится отметить наличие очень грубых смысловых ошибок - публикаторы явно
недостаточно знали провансальские реалии. Так, в одном из документов мар¬
сельские куртье (маклеры товарной биржи) приняты... за лодочников* 2, и эта
ошибка обросла весьма фантастическими комментариями: было ’’открыто”
письма из Прованса 1772—1778 гг. — ГБЛ. Записки отдела рукописей, вып. 7. М., 1941,
с. 4-34. Введение написано совместно Е.В. Козловой и О.А. Старосельской-Никитиной, но
практически подготовкой к печати занималась Козлова, тогда как Старосельская-Никити-
на исполняла функции редактора.
2Там же, с. 12 (№ 5). Ср.: РГБ, ф. 68, т. 376, л. 7.
132
социальное расслоение в цехе лодочников, ’’проведена связь” с антицеховой
политикой Тюрго и т.п. Имеются и другие ошибки, не позволяющие полагаться
на точность переводов; хотя, конечно, заслугой публикаторов было то, что они
впервые обратили внимание на хранящиеся в фондах ГБЛ буажеленовские
документы3.
Между тем не только в Москве имеются тома документов из архива Буажеле¬
на, сейчас вместе с пятью московскими томами их выявлено II4. Пять томов
адресованных Буажелену писем из Прованса находятся в парижской Библиоте¬
ке Мазарини5. Они были использованы в первой и единственной монографии о
Буажелене, написанной аббатом Э. Лавакри6. Еще один, неизвестный Лавакри
том обнаружился также в Париже, в Библиотеке Св. Женевьевы: на него обратил
внимание современный исследователь истории Прованса Фр.-Kc. Эмманюэлли7.
Итак, пять томов в Москве и шесть в Париже. Как и московские тома, париж¬
ские составлены по принципу тематической разбивки документов.
Вопрос о хронологических рамках парижских томов, конечно, нуждается в
уточнении на месте, тем более что в них, очевидно, также имеется немало не¬
датированных записок. Однако и по отсылкам Лавакри, и по итогам зондажа,
проведенного по просьбе автора этих строк Ю.Л. Бессмертным в Библиотеке
Мазарини (за что я выражаю ему свою признательность), видно, что в этих томах
тоже нет документов за 1780-е годы; последние по времени документы, выяв¬
ленные Ю.Л. Бессмертным, относятся, как и в московской части собрания, к
1778 г. Отсылки Эмманюэлли на том из Библиотеки Св. Женевьевы также хроно¬
логически ограничены 1772-1777 гг.
Итак, мы оказываемся перед архивистской загадкой: целых 11 томов буаже-
леновского архива содержат документы не позднее 1778 г. и ни одного сохра¬
нившегося документа за предреволюционное десятилетие! О том, почему такое
могло произойти, мы еще скажем ниже. Пока же нам, видимо, надо ближе по¬
знакомить читателя с хозяином собрания - Буажеленом.
* * *
Личность этого прелата не вызвала особого интереса во французской историо¬
графии. Всего одна монография Э. Лавакри уже 70-летней давности - правда,
капитальная, написанная по архивным источникам, в частности и из семейного
3HeKOTOpwę из документов т. 374 и 377 были использованы Ф. Броделем, который имел
возможность ознакомиться с ними в Москве. — Braudel F, Civilisation matórielle, economic et
capitalisme, t. 2. Paris, 1979, p. 269, N 275; p. 276-278, N 313, 314, 324.
4Это предполагали и публикаторы "Писем из Прованса", которые писали: "До нас дошла
только девятая (если не меньшая) часть обширнейшей переписки" (с. 4). Правда, их пред¬
положение было основано на ошибке при чтении одной записи на последней странице знако¬
мого им тома, которую они перевели: "Этот том девятый, продолжение переписки прокуро¬
ров страны". На самом деле вместо "neufvieme” следует читать "renferme” ("Этот том содер¬
жит..."); никакой нумерации по томам в архиве Буажелена не было. Незнакомые с вышед¬
шей в 1920 г. и отсутствовавшей в СССР монографией Э. Лавакри о Буажелене (см. ниже,
сн. 6) публикаторы не смогли "выйти" на содержащиеся там прямые отсылки к томам па¬
рижской части собрания.
5Bibliotheque Mazarine. Ms. 3432—3436. Cf.: Molinier A. Catalogue des manuscrits de la Biblio-
theque Mazarine, t. 3. Paris, 1890, p. 79—80.
6Lavaquery E, Le cardinal de Boisgelin, 1732-1804, t. 1-2. Angers, 1920.
7 Bibliotheque Ste Genevieve. Ms. 2520. Cf.: Emmanuelli Fr.-X. Pouvoir royal et vie rćgionale
en Provence au dćclin de la monarchie, v. 1—2. Lille, 1974.
133
архива Буажеленов. Несколько рецензий на нее, среди авторов которых нахо¬
дим имена А. Олара и А. Матьеза. Наконец, совсем недавно вышла небольшая
статья, посвященная его взглядам0. Вот, пожалуй, практически и все. Далеко не
полный однотомник работ Буажелена был издан в 1818 г. его учеником кардина¬
лом Боссе, и других изданий не выходило.
А был он неординарным человеком просветительских взглядов, оптимистом
и прогрессистом, другом Тюрго, умным оратором, знающим администратором.
И в то же время - убежденным антицентралистом, защитником прав провин¬
ций и своего духовного сословия, что и сделало для него неприемлемой рево¬
люцию уже на первом ее этапе.
Будущий архиепископ родился 27 февраля 1732 г. в столице Бретани Ренне, в
семье президента Реннского парламента маркиза де Кюсе. Буажелены были
очень древним бретонским родом, восходившим еще к XI в.; его младшая
ветвь - де Кюсе - вошла в ’’дворянство мантии” в 1600 г. - как известно, Ренн¬
ский парламент был самым аристократическим в королевстве, и места в нем
были заняты представителями старого дворянства. Второй сын, наш герой был
предназначен к духовному сану; с 1748 г. он обучался теологии в Париже, в зна¬
менитой семинарии Сен-Сюльпис и в Сорбонне.
Еще в студенческие годы им были завязаны дружеские отношения с молоды¬
ми людьми, которым предстояло впоследствии сыграть важную роль в исто¬
рии, - с Тюрго (будущий министр-реформатор тогда готовился к духовной
карьере), Морле (видный литератор из просветительской плеяды), Ломени де
Бриенном (первый министр в 1787-1788 гг.). Когда Буажелен станет епископом
Лавора, он будет неоднократно останавливаться при поездках в свою епархию у
интенданта Лиможа Тюрго. Что же касается церковного поприща, то здесь он на
первых порах следовал по стопам своего старшего друга Ломени де Бриенна,
который, поднимаясь вверх, передавал ему свои оставляемые аббатства и бене¬
фиции. Буажелен в 1760 г. стал вслед за Ломени архидьяконом в Понту азе, а в
1764 г. - епископом Лавора, также благодаря покровительству Ломени, имев¬
шего с 1763 г. сан архиепископа Тулузского (Лавор подчинялся тулузской архи¬
епископии). Тем временем молодой бретонец добивается широкой известности
в качестве церковного оратора: им были произнесены имевшие большой успех
надгробные проповеди в память тестя короля Людовика XV Станислава Лещин¬
ского (1766 г.) и дофины Марии-Жозефы, матери наследника престола, будуще¬
го Людовика XVI (1767 г.).
Установив связи в окружении министров Шуазёлей, Буажелен в сентябре
1770 г., за три месяца до их опалы, был назначен архиепископом Экса. Таким обра¬
зом, он стал главой коллегии ’’прокуроров Прованса” - постоянного местного
правительства, действовавшего от имени представительного собрания об¬
ласти - Ассамблеи Общин Прованса. Ежегодно Буажелен должен был ездить в
Прованс, чтобы председательствовать на сессии ассамблеи, а затем объезжать
приходы своего диоцеза; и он не пренебрегал этими обязанностями. Но главная
взятая им на себя задача состояла в том, чтобы, находясь в столице, защищать
интересы Прованса перед правительством, быть ходатаем по делам провинции.
В этой должности ’’первого министра Прованса”, как называл себя сам Буаже¬
лен, он и пробыл целых 20 лет.
Была ли у него возможность подняться выше? Конечно, шансы Буажелена
сильно выросли, когда в 1774 г. Тюрго стал генеральным контролером. В 1775 г.
BCoupry Ch, Sociabilitć et libćralisme dconomique d’un prślat reformiste: Monseigneur de
Boisgelin (1732-1804). - Bulletin de la Societó franęaise d’histoire des iddes et d’histoire religieu-
se, Chambray-16s-Tours, 1988, N 5, p. 25-42.
134
архиепископу Экса была оказана честь произнесения проповеди на коронации
Людовика XVI. Но, кажется, его речь, встретившая одобрение ’’философов”, не
пришлась по вкусу при дворе - Буажелен слишком много говорил об обязан¬
ностях короля перед ’’страдающим человечеством”9. Проповедь не была напеча¬
тана, а ее автор не получил ленты ордена Святого Духа, что было обычной
наградой за коронационную речь. В своем последнем перед опалой знаменитом
письме к королю от 30 апреля 1776 г. Тюрго, поставленный перед необходи¬
мостью найти замену Мальзербу, подавшему в отставку с поста государственно¬
го секретаря по делам двора, предложил одним из кандидатов на эту должность
Буажелена10 11. Но тому не суждено было стать министром: 12 мая 1776 г. последо¬
вала отставка самого Тюрго. Известие об опале друга Буажелен встретил с боль¬
шим огорчением, хотя лично ему как защитнику прав Прованса нарушавшие их
реформы Тюрго и причиняли большие хлопоты. ’’Его министерство, - пишет он
20 мая 1776 г. поверенной всех его мыслей графине Грамон, - приносило мне
одни огорчения, и я говорил ему об этом, но верно и то, что в тем большей мере
я его уважал”. В следующем письме он называет Тюрго ’’человеком народа” и
предсказывает, что о нем ’’будут жалеть в провинциях”. Буажелен даже на¬
писал о своих сожалениях отказавшемуся поддержать Тюрго первому наставни¬
ку Людовика графу Морепа - шаг очень симпатичный, но для собственной
карьеры явно излишний11.
Архиепископ, конечно, чувствовал, что ему ”не дают хода”, хотя благодаря
спокойному и мягкому характеру переносил горечь отказов без особого надры¬
ва. Слишком серьезный, он был неспособен продвигаться вверх путем мелких
придворных и салонных интриг. Обращаясь мыслью к постоянно перечиты¬
ваемому им Монтескье, Буажелен приходит к противоположному выводу:
вовсе не честь является принципом французской монархии. ’’Тот, кто хочет
выдвинуться при монархии, - отмечал он, - должен ограничить свои таланты и
загубить их в ничтожных занятиях, в тайном заискивании перед посредствен¬
ными людьми, от которых зависит фортуна... Так погибает и настоящее често¬
любие, которое состоит в желании развить все свои Способности и применить
все свои силы”12. ’’Страной легкомысленных рабов” называет он Францию в
одном из писем к графине Грамон. Иначе обстоит дело в Англии, где министры
выдвигаются благодаря личным заслугам и компетентности. ”0, проклятые
законы невежества ^и испорченности! Под вашей властью плодятся глупцы, а
людям с кровью в жилах остается лишь удалиться в счастливые страны, где они
могут действовать свободно”13.
Сын автономной Бретани, знакомый с порядками Лангедока и Прованса, Буа¬
желен склонен был считать наилучшим государственное устройство, сочета¬
ющее монархический и республиканский принципы, причем республиканское
начало должны представлять муниципалитеты и собрания провинций. ’’Самой
9Lavaąuery Е. Op. cit., t. 1, р. 307.
10Turgot A.R.G. Oeuvres, t. 5. Paris, 1923, p. 456.
11 Cans A. Lettres de M. de Boisgelin, archeveque d’Aix a la comtesse de Gramont (1776—
1789). — Revue historique. Paris, t. 79—80, 1902; t. 79, p. 319, 320. Во французском Националь¬
ном архиве хранятся 456 писем Буажелена к графине Грамон за 1770—1790 гг., конфискован¬
ных в годы революции у ее дочери, королевской фрейлины. Они дают хорошее представле¬
ние о нем как о человеке.
12Соирту Ch. Op. cit., р. 32. В парижской Национальной библиотеке имеется трехтомник
сочинений Монтескье из книг Буажелена, в который вклеены листки с обширными собствен¬
норучными комментариями архиепископа.
13Lavaquery Е. Op. cit., t. 1, р. 318-319.
135
прочной монархией, - комментирует он Монтескье, - была бы такая, которая
управляла бы большой республикой, защищающей общие интересы всех про¬
винций... В каждом городе, в каждой провинции и группе провинций правление
было бы республиканским”14. Не надо только пытаться ’’делать добро людям
бесплодными авторитарными методами, они губят все то доброе, что было их
целью”15.
Вера в технический и общественный прогресс определяла мироощущение
Буажелена перед революцией. Он очень увлеченно, входя в технические дета¬
ли, обсуждал с графиней Грамон в 1784 г. все связанное с первым полетом воз¬
душного шара Монгольфье. ”Не могу без восхищения подумать об изобретате¬
лях и вообще о людях, - пишет он. - Люди подчинили себе все стихии и стали,
особенно в нашем веке, царями природы”16. В словах прелата-прогрессиста уже
чувствуются восторги и надежды приближающегося ’’сциентистского” XIX в.
Буажелен уверен в том, что мировая торговля соединит народы и ее успехи ”в
конечном счете ниспровергнут все законы и правительства, вредные для
счастья людей”17.
Революцию Буажелен встретил убежденным реформистом, но отнюдь не нис¬
провергателем всех традиций. ’’Авторитарные методы” решения вопросов не
нравились ему и тогда, когда они исходили снизу. Перед самым созывом Гене¬
ральных Штатов в Эксе были волнения, умиротворять которые пришлось Буаже-
лену, а голос провансальца Мирабо гремел здесь еще до того, как его облада¬
тель поднялся на столичную трибуну. ”Я хочу всяческой пользы, - писал Буа¬
желен графине Грамон 19 февраля 1789 г., - лишь бы не возомнили себя вправе
разрушать все без рассуждения волею возбужденной толпы”; подстрекающие
народ люди ’’хотят лишь произвести шум, я же хочу принести народу пользу без
беспорядков и без насилия”18.
Избранный депутатом от духовенства в Генеральные Штаты Буажелен выехал
из Прованса - как оказалось, навсегда. Вначале он явно недооценил непреодо¬
лимость стремления к слиянию палат, выступал за сохранение традиционного
посословного строения ассамблеи и в объединенное Учредительное собрание
вошел как бы в положении побежденного. Тем не менее он приступил к кон¬
структивной законодательной работе, был избран членом финансового комите¬
та собрания и пользовался авторитетом как знаток финансовых вопросов; в
ноябре - декабре 1789 г. он в течение двух недель занимал выборный пост пред¬
седателя Учредительного собрания.
Однако для архиепископа Экса было совершенно неприемлемо намерение
большинства собрания полностью подчинить церковь государству. Он безуспеш¬
но боролся и против безусловной национализации церковных имуществ, пред¬
лагая вместо этого большой заем государству от церкви, и против акта 12 июля
1790 г. о гражданском устройстве духовенства. Развернув активнейшую пам¬
флетную кампанию в защиту прав своего сословия, Буажелен в то же время
пытался найти какой-нибудь компромисс, хотя бы в форме утверждения ’’граж¬
данского устройства” церкви папой. Все было напрасно: 27 ноября 1790 г. Учре¬
дительное собрание предъявило свой ультиматум, потребовав от священнослу¬
жителей присягнуть новому устройству. Мягкий Буажелен проявил принци¬
14Ibid., р. 303.
15Coupry Ch. Op. cit., р. 28.
16Lavaquery Е. Op. cit., t. 1, p. 275.
^Соирту Ch. Op. cit., p. 34.
1BCans A. Op. cit., t. 80, p. 306.
136
пиальность и был 6 января 1791 г. отрешен от сана вместе с другими неприсяг¬
нувшими священниками. Иначе повел себя его старый друг Ломени де Бриенн,
к тому времени бывший уже кардиналом. Тот присягнул, послал вызывающее
письмо папе, который объявил французскую реформу схизматической, но и это
не спасло прелата-гражданина от ареста во время якобинской диктатуры и смер¬
ти в тюрьме в 1794 г. в ожидании гильотины.
Буажелен эмигрировал не по своей воле. Он выехал в изгнание 18 сентября
1792 г., подчинившись декрету о немедленной высылке неприсягнувших свя¬
щенников. Его оставшийся во Франции брат, спокойно проживавший в своем
бретонском замке, при якобинцах был арестован как ’’подозрительный” и в
июле 1794 г. вместе с женой взошел на эшафот, за три недели до падения Робес¬
пьера.
В эмиграции в Англии Буажелен провел девять лет, всегда примыкая к уме¬
ренному крылу эмигрантского лагеря. На родину он вернулся сразу же после
того, как это стало возможным благодаря франко-папскому конкордату 1801 г.;
в феврале 1802 г. старик снова увидел Париж. Авторитетного прелата встретили
с честью, при новом распределении диоцезов он был назначен архиепископом
Турским, а 18 апреля 1802 г. напомнил о себе как о проповеднике, выступив с
пасхальной проповедью во вновь открытом для богослужения соборе Париж¬
ской Богоматери в присутствии первого консула Бонапарта. 17 января 1803 г.
Буажелен стал кардиналом. Но жить ему осталось недолго - он скончался
22 августа 1804 г., за несколько месяцев до того, как гражданин Бонапарт стал
императором Наполеоном.
Такова была жизнь человека ”с кровью в жилах”, разделившего надежды и
разочарования своего трагического времени.
* * *
Теперь надо сказать, что тома буажеленовского собрания связаны с именем
еще одного человека, также поднявшегося со временем в высшие политические
сферы, хотя и совсем забытого историками. В четырех наших томах из пяти он
оставил свои пометы: 1) на титульном листе т. 375 надпись ’’Записки о каналах
Прованса в 1775 г.” с подписью ”Биго де Преамнё”, и в левом углу тем же почер¬
ком большая буква ”V” (т.е. ”vidi”, ’’видел”?); 2) аналогичная запись на титуле
т. 377: ’’Записки о марсельской Торговой Палате и Африканской компании. Биго
де Преамнё”, но ”V” отсутствует; 3) в т. 376 - уже не на титуле, а на первом
листе первого документа, в левом верхнем углу - ”V” и подпись ”Биго де Пре¬
амнё”; 4) в т. 378 на титульном листе на своем обычном месте ”V” и в центре
листа тем же почерком без подписи: ’’Письма и записки об управлении Ланге¬
доком”.
Феликс-Жюльен-Жан Биго де Преамнё (1747-1825) был бретонцем и земляком
Буажелена; как и прелат, он родился в Ренне, где его отец был адвокатом при
парламенте. Сын унаследовал в 1767 г. отцовскую профессию.
Лавакри предполагал, что Биго был представлен Буажелену в 1774 г., когда
он оформлял документы, связанные с семейным разделом наследства после
смерти отца архиепископа19. Однако один из наших неподписанных докумен¬
тов, от 21 февраля 1769 г., посланный из бретонского города Сен-Бриё (т. 378,
л. 117-118), исполнен почерком, очень похожим на почерк Биго, и по характеру
19Lavaquery Е. Op. cit., t. 1, р. 185.
137
мог бы принадлежать его перу: это адресованный Буажелену ответ юриста на
запрос об обычаях в Бретани в связи с некоторыми обстоятельствами предпола¬
гавшейся тогда покупки Штатами Лангедока знаменитого Канала Двух Морей.
Если это предположение правильно, знакомство состоялось на пять лет раньше.
В хлопотах по делам Прованса в столице Буажелен нуждался в помощнике.
Такая должность ’’агента Прованса” действительно существовала, но ее зани¬
мал человек пожилой и малоспособный, некто Жозеф Облэ. Между тем архи¬
епископ хотел, чтобы его помощник был человеком, лично ему преданным.
Тут-то он и вспомнил о своем молодом земляке и протеже, способном бретон¬
ском адвокате. Влияние Буажелена в Провансе было достаточно велико, и
он добился от Ассамблеи Общин назначения Биго (14 декабря 1779 г.). Но еще до
этого тот перебрался в Париж, став с 1778 г. адвокатом при Парижском парла¬
менте.
Сопоставив эти даты с тем, что нам известно о хронологических рамках
собрания Буажелена, мы приходим к вполне однозначному выводу об об¬
стоятельствах проведенной Биго тематической разбивки документов. Бретонец,
совершенно чуждый провансальских проблем, он нуждался в том, чтобы войти
в курс всех этих вопросов. Буажелен нашел очень естественный способ решения
этой задачи - он поручил Биго привести в порядок свой архив. Именно тогда
буажеленовские документы оделись в переплеты20.
После того как Биго ознакомился с провансальскими делами, у него, видимо,
уже не было необходимости заниматься классификацией поступающих к его
патрону новых писем. Документы 1780-х годов остались нерассортированными и
непереплетенными, что могло привести к их утрате. Свидетельства о том, что во
время революции из архива Буажелена пропал ряд бумаг, действительно име¬
ются21.
Дальнейшая судьба Биго оказалась примечательной. Во время революции он,
как и многие адвокаты, ушел в политику и в 1791-1792 гг. был депутатом
Законодательного собрания. Но в особенности выдвинулся он при Наполеоне.
В 1800 г. Биго стал членом комиссии по составлению Гражданского ^кодекса,
затем государственным советником, графом и членом Академии. В 1808—
1814 гг. он был вторым наполеоновским министром культов, сменив в этой
функции другого бывшего сотрудника Буажелена, провансальского адвоката
Порталиса. Как министр культов, Биго связал свое имя с репрессивной полити¬
кой Наполеона, державшего под арестом папу Пия VII, и уже не мог найти себе
места при Реставрации. Вернувшись к политической деятельности при ’’Ста
днях”, он был назначен государственным министром и пэром Франции, но после
второго падения императора окончательно удалился в частную жизнь. Биогра¬
фия Биго еще не стала предметом обстоятельных специальных исследований.
* * *
Собрание Буажелена в РГБ отчетливо делится на три тематически разнород¬
ные части, о чем даст представление табл. 1.
Охарактеризуем прежде всего тематику основной, провансальской, части
собрания, начав с самого большого т. 376.
20Переплеты т. 375, 376 и 377 идентичны. Одинаковые между собой переплеты т. 374 и
378, в которых собраны документы по Лангедоку, несколько отличаются от трех первых
только рисунком основной виньетки при совпадении вспомогательных элементов декора.
21Lavaquery Е. Op. cit., t. 1, р. 47.
138
Таблица 1. Состав собрания Буажелена в РГБ
Части собрания
Номера томов
Число до¬
кументов
Число
листов
Хронологические
рамки*
Провансальский архив
375, 376, 377
370
1045
1771-1778 гг.
Лангедокский архив
часть**
т. 378
36
125
1767-1770 гг.
Коллекций
т. 374,
часть
т. 378
30
664
1731—1750-е годы
В целом
т. 374-378
436
1834
1731-1778 гг.
*Для копий старых документов учитывается (если она известна) дата изготовления копии
и отправки ее Буажелену.
**Один из документов по ошибке включен в т. 377.
Из 240 документов этого тома, охватывающих период за 1772-1778 гг., подав¬
ляющее большинство (172) относится к двухлетию 1775-1776 гг. Таким образом,
основная часть документации датируется временем министерства Тюрго (1774—
1776 гг.). Практически все документы - это письма.
Авторами большинства писем (14(9 являются ’’прокуроры Прованса”, т.е.
непосредственные сотрудники Буажелена, члены возглавляемого им ’’прован¬
сальского правительства”. Здесь необходимо сделать разъяснения о характере
местного административного устройства. Прованс управлялся представитель¬
ным собранием, но это уже не были старые трехсословные Штаты Прованса,
подобные тем, которые действовали в Лангедоке или Бретани. Со времен
Ришелье Штаты Прованса перестали созываться. Их заменила в той же функции
Ассамблея Общин Прованса, состоявшая только из представителей имевших
такое право муниципалитетов. Крупнейший город Прованса Марсель стоял особ¬
няком по отношению к этой представительной системе: он рассматривался как
одна из ’’присоединившихся земель” и его представитель мог присутствовать на
Ассамблее Общин Прованса лишь с совещательным голосом. Ассамблея соби¬
ралась ежегодно под председательством архиепископа Экса, в перерыве между
ее сессиями текущее управление осуществляла коллегия ’’прокуроров Прован¬
са”. В своем постоянно действующем узком составе (’’прирожденные прокуро¬
ры”) она состояла из пяти человек: архиепископа Экса и четырех представите¬
лей эксского муниципалитета - трех консулов и асессора. При необходимости,
которая возникала лишь эпизодически, мог собираться широкий состав ’’про¬
куроров Прованса”: тогда к ’’прирожденным прокурорам” добавлялись шесть
’’присоединившихся”, по два представителя от каждого из трех сословий.
Первым консулом Экса всегда был человек из видного дворянского рода, не
обязательно связанный со столицей области. В 1775-1776 гг. им был маркиз
Вовнарг, младший брат известного моралиста, и ему принадлежит львиная доля
адресованных Буажелену писем (74). Место второго консула также резервирова¬
лось для дворян, его занимал в те же годы виконт Пюже, тоже писавший от себя
архиепископу (13 писем). Третьим консулом Экса был тогда некто Гал лиси
(видимо, из третьего сословия); он не вел самостоятельной переписки с Буаже-
леном, но лишь ставил свою подпись на коллективных письмах ’’прокуроров
Прованса” (таких писем имеется 37). Асессор Экса - очень влиятельный персо¬
1.39
наж, исполнявший функции секретаря коллегии и подготавливавший все ее
решения, - избирался из влиятельной местной адвокатуры; при Вовнарге им
был Антуан-Франсуа Барле (11 писем к Буажелену).
Таким образом, хотя представительство в Ассамблее Общин и было организо¬
вано ”по коммунам”, это вовсе не означало отстранения дворян от участия в
управлении областью: провансальское дворянство легко входило в городское
общество, и отнюдь не только в Эксе дворяне были первыми консулами. Тем не
менее логика ситуации делала Ассамблею Общин и ’’прокуроров Прованса”
защитниками интересов третьего сословия (точнее, владельцев ’’роторных
земель”) в спорах с дворянами: они должны были учитывать, кто платит основ¬
ную часть налога. Само дворянство понимало дело именно так. Граф Грасс
дю Бар, судившийся со своей общиной из-за налогообложения, прямо подчерки¬
вал перед Буажеленом пристрастность ’’прокуроров Прованса”: ’’прокуроры
страны являются естественными оппонентами (contradicteurs legitimes) владель¬
цев фьефов в том, что касается освобождения от тальи” (1 мая 1775 г., т. 376,
л. 30). За соблюдением интересов ротюрье зорко следили асессоры Экса, в част¬
ности Барле. Когда Буажелен решил выделить коммуне Барбантан субсидию на
устранение разрушений от разлива Роны, асессор запротестовал: там совсем нет
роторных земель, одни благородные. ’’Это противоречило бы нашей консти¬
туции и послужило бы очень плохим примером, - писал он, - благородные
земли не облегчают налогового бремени провинции” (5 июля 1775 г., т. 376,
л. 44-45).
Как известно, поземельное обложение в Провансе было ’’реальным”, приви¬
легированность давал не личный статус, а обладание благородными землями:
дворянин, владевший роторными землями, платил за них как простолюдин.
Существовал подробный кадастр, где доля каждой коммуны в роторной соб¬
ственности определялась в условных податных единицах (”фё”). Когда речь
шла о налогах, которые распространялись и на благородные земли, общая доля
этих последних определялась по соглашению ассамблеи с дворянским сослови¬
ем, после чего дворяне уже сами разверстывали данный налог между собой.
Споры сословий о доле дворянского участия в платеже ’’королевских двадца-
тин” имели место на сессии 1776 г. (Буажелен не присутствовал на ней по болез¬
ни, так что документы о ее ходе отложились в его архиве). В конечном счете
было достигнуто соглашение, согласно которому доля дворянства в ’’королев¬
ских двадцатинах” была сокращена с 1/10 до 1/12 от общей суммы, вносимой
всей провинцией (см. т. 376, л. 290-295). Такие размеры квоты означали явную
недообложенность благородных земель, общая стоимость которых, по оценке
П. Массона, лишь в три раза уступала стоимости земель роторных22.
Дворянство Прованса проводило свои особые ассамблеи, ежегодно избирав¬
шие синдиков дворянства, которые также искали у Буажелена поддержки в
делах, интересовавших сословие (шесть писем). В целом противоречия между
дворянством и третьим сословием Прованса в 1770-х годах не были особенно
острыми, стороны умели приходить к согласию. Происходил постоянный обмен
’’кадрами”: бывшие консулы Экса становились синдиками дворянства, и наобо¬
рот. Ассамблея Общин в патриархальной манере ежегодно вотировала выплату
приданого для одной из девиц-дворянок, а для другой, желавшей уйти в мона¬
хини, - выплату вступительного монастырского взноса; влиятельные лица в
местной администрации старались, чтобы выбор пал на их протеже.
Интенданты в Провансе занимали специфическое положение: в течение почти
всего XVIII в. этот пост был совмещен с должностью первого президента Эксско-
22Masson Р. La Provence au XVIIIе siecle. Paris, 1936, p. 202.
140
го парламента, что, естественно, повышало влиятельность парламентской кор¬
порации. Исключением были годы „реформы Mony”: в 1771 г. парламент в Эксе,
как и парламенты по всей Франции, был распущен, и его функции стала испол¬
нять Объединенная финансовая палата Прованса. Соответственно и первый пре¬
зидент парламента лишился поста интенданта. Сама по себе замена одной
местной палаты на другую не взволновала провансальцев и прошла гладко, нс
вскоре они ощутили неприятное последствие перемены - первый президент
нового ’’парламента” д’Альбертас не стал интендантом: в 1771-1775 гг. Прованс
получал своих интендантов из центра, будучи приравнен в этом отношении к
другим французским провинциям. Приверженность Прованса своим привилеги¬
ям не всегда учитывалась новыми интендантами, и Буажелен был во многом
обязан своей популярностью тому, что он сумел в 1773 г. добиться отмены ис¬
требованного интендантом Монтионом распоряжения о смещении асессора Экса
Леклерка. Возвращение в 1775 г., после отмены реформы Mony, старого парла¬
мента было триумфальным; его глава Латур вновь совместил посты президента
и интенданта и обладал ими обоими уже до самой революции.
Административная власть интенданта в землях, непосредственно управляв¬
шихся Ассамблеей Общин, была, естественно, ограничена; здесь он выступал
более как первый президент парламента или как авторитетный арбитр, напри¬
мер, в спорах между Ассамблеей Общин и дворянством. Гораздо сильнее она
была в ’’присоединившихся землях” и особенно в Марселе, где интендант-пре¬
зидент занимал по совместительству еще и третий пост, инспектора торговли,
который был по должности и председателем марсельской Торговой Палаты.
После ликвидации реформы Mony все три поста, временно разъединенные, были
вновь прочно объединены в руках Латура.
Возвращение к традиционной судейской системе породило конфликтные
ситуации, о которых очень подробно говорится в наших документах. Обширная
переписка посвящена долгому спору между провинцией и парламентом о юрис¬
дикции над лесами и водами. До роспуска парламента в 1771 г. он пользовался
этими оплаченными им правами ’’большой метризы”, которые, однако, прави¬
тельство не передало новому трибуналу. Воспользовавшись этой ситуацией,
Ассамблея Общин заплатила государству деньги за установление своего контро¬
ля над лесами и водами, что было очень важно для области, где коммуны обла¬
дали обширными лесными массивами. Возвращение старого парламента спутало
все карты. Чувствуя себя победителями, парламентарии сразу же приступили к
осуществлению своих прежних полномочий. В 1775-1776 гг. проходили затяж¬
ные переговоры между ’’прокурорами Прованса” и парламентом, под конец в
дело пришлось вступить лично Буажелену. Провансальская администрация
пыталась найти компромиссный вариант, оставив парламенту юрисдикцию спо¬
ров о собственности и взяв себе охрану природных ресурсов. Но парламент был
настроен бескомпромиссно, не желая уступать здесь соперникам независимую
от него власть. Буажелену удалось лишь добиться от правительства обещания
вернуть Провансу выплаченные им деньги.
Губернатором Прованса в 1770-1782 гг. был принц Марсан, отпрыск француз¬
ской ветви Лотарингского дома. Он жил при дворе и не посещал номинально
управляемую им провинцию, но ее делами все же по-своему интересовался. Как
раз в 1775 г. он напомнил о себе правительству ’’прокуроров Прованса”: в апре¬
ле до них дошло известие, что принц пытается создать монопольную компанию
по перевозке сушей товаров из Марселя в глубь королевства. Поскольку такая
монополия, очевидно небезвыгодная для принца, лишила бы заработка многих
мелких провансальских возчиков, ’’прокуроры Прованса” немедленно послали
свой протест правительству и известили об этом Буажелена. Тюрго, принципи¬
141
альный противник монополий, с пониманием отнесся к просьбам провансальцев
(т. 376, л. 143-144). Раздосадованный принц послал в Прованс письмо с упрека¬
ми, на что ’’прокуроры Прованса” вежливо, но твердо разъяснили ему: ”он
заблуждается, если думает, что имеет какие-либо права над нашей администра¬
цией” (т. 376, 146-149). Копии с продолжавшейся некоторое время по этому
поводу переписки вошли в состав архива Буажелена.
Местное самоуправление Прованса пользовалось хорошей репутацией у всех
видевших недостатки це'нтрализаторской интендантской системы в основной
части Франции; Неккер считал провансальскую администрацию ’’приближа¬
ющейся к совершенству”. За два года до революции уже упомянутый адвокат
Порталис, будущий наполеоновский министр культов, объяснял ее преиму¬
щества ’’энергией свободного народа”. Но это - свобода бедняков. ’’Нашу
администрацию, - продолжает Порталис, - всегда отличала благородная и
мудрая экономия”. В то время как сословные собрания соседних провинций
’’предавались великолепию и роскоши”, провансальцы всегда понимали, что
’’истинное счастье заключается в умеренности состояния”23
Из посвященного Провансу фундаментального историко-экономического ис¬
следования Р. Бареля24 складывается ясное представление о внутренней сла¬
бости провансальской экономики XVIII в., чье развитие уже в гораздо большей
степени, чем веком ранее, зависело от внешнего рынка; а между тем предло¬
жить этому рынку Прованс мог очень немного. Это была область, не обеспечи¬
вавшая себя зерном, с дешевыми винами и слаборазвитыми сельскими промыс¬
лами, мало пригодная для самостоятельного генерирования капиталистическо¬
го уклада. Экономическая слабость Прованса особенно проявлялась в его отно¬
шениях с Марселем. Прованс не мог стать ни аграрным, ни промышленным
’’хинтерландом” расположенного на его территории великого средиземномор¬
ского порта. В качестве вольного торгового города, ’’порто-франко”, Марсель
был отделен от остальной Франции таможенной границей и считался ’’иностран¬
ным портом”. Конечно, существовали многообразные повседневные торговые
связи между Марселем и остальным Провансом, но снабжение большого города
зерном обеспечивалось не провансальскими, а заморскими поставщиками: Мар¬
сель в основном жил импортом берберийского зерна и снабжал им Прованс.
Основным предметом французского экспорта через Марсель в Левант были сук¬
на - но не из Прованса, а из соседнего Лангедока. Динамично развивающееся
хозяйство Лангедока являло собой наглядный контраст с провансальской за¬
стойностью25. Провансальцы остро чувствовали свою слабость перед соседями.
”Я считаю Лангедок нашим личным врагом”, - писал 12 августа 1775 г. Буажеле-
ну Вовнарг, обвинявший соседнюю провинцию в стремлении подорвать все про¬
вансальские привилегии ”по праву более сильного и, что еще хуже, более бога¬
того” (т. 376, л. 65-68). Тем упорнее Прованс держался за эти привилегии-гаран¬
тии, за свою особность, очень чувствительно воспринимая все, что представля¬
лось покушением на его автономию. Эту ситуацию надо учесть при оценке того,
как воспринималась здесь политика Тюрго.
Приход к власти министра-реформатора провансальцы встретили с удовлет¬
ворением. Дружеская близость нового генерального контролера и их архи¬
23Ibid., р. 178.
2ĄBaehrel R. Une croissance: la Basse-Provence rurale (fin du XVIе siecle - 1789). Paris,
1961.
а5Напомним, что Э. Леруа Ладюри считает экономический подъем Лангедока во второй
половине XVIII в. качественно новым проявлением ярко выраженного и стойкого прогрес¬
са. — Le Roy Ladurie Е, Les paysans de Languedoc. Paris, 1966.
142
епископа внушала им надежды на будущее. Провозглашение эдиктом от 13 сен¬
тября 1774 г. свободы зерноторговли могло быть только выгодно для Прованса,
нуждавшегося в импорте зерна. Пик дороговизны, пришедшийся здесь на
1773 г., был уже позади, и восстановление нормальной навигации в Средиземно¬
морье благодаря заключенному в июле 1774 г. русско-турецкому миру вселяло
оптимизм. Потрясшие Иль-де-Франс в мае 1775 г. хлебные бунты (’’мучная
война”) не произвели на Прованс особого впечатления. ”Мы не понимаем, как
могут эти бездельники жаловаться: ведь они платят за хлеб на четвертую или
пятую часть дешевле, чем мы, а продают все столь же дорого, - писал Буажеле-
ну 17 мая 1775 г. лично близкий к нему маркиз де Пенн. - Правда, римский
народ тоже хотел, чтобы провинции его дешево кормили, но он был их сувере¬
ном и защитником, тогда как Париж слишком часто притягивает к себе их от¬
бросы” (т. 376, л. 141-141 об.).
Неприятие и подозрительность начинались, когда меры правительства гро¬
зили нарушить сложившийся уклад жизни. Так, неприемлемым для Прованса
оказалось намерение Тюрго по возможности вводить вместо откупной системы
непосредственное взимание налогов государственными чиновниками (так на¬
зываемая система ”режи”). Когда 18 декабря 1774 г. появился эдикт, заменяв¬
ший, в частности, системой ”режи” откуп сборов с оформления ипотечных пла¬
тежей, ’’прокуроры Прованса” заявили свой протест, а Эксекий парламент воз¬
держался от регистрации этого акта. Провансальцев вообще не устраивало рас¬
пространение на их землю системы ”режи” как слишком централизаторской.
Государственных сборщиков Вовнарг считал ’’хуже чумы” и просил Буажелена
защитить Прованс от ’’этих проклятых режи” (т. 376, л. 88 об., 107).
Немалое смущение умов в Провансе вызвало постановление Государствен¬
ного совета от 3 июня 1775 г., упразднившее сборы октруа (косвенный налог с
розничной торговли продовольствием) во всех городах Франции, кроме Парижа и
Марселя26. Таким способом Тюрго хотел понизить цены на зерновые. Но для
Прованса смысл постановления выглядел иначе. Провансальские коммуны
обладали свободой выбора того, каким способом им собирать государственные
налоги и местные сборы: многие предпочитали поземельное обложение (талью),
но было немало и таких городов (среди них Экс), которые использовали как раз
октруа. Применение акта к Провансу означало посягательство на свободы
провинции, оно могло бы поставить под сомнение всю систему налогообложе¬
ния и привести к необходимости переписать весь кадастр. 28 июня Вовнарг со¬
общил Буажелену о сильном брожении в Эксе после публикации постановле¬
ния: ’’Народ собирается вокруг афиш... многие заявляют, что больше не будут
платить сбор с муки (основной сбор в ЭкСе. - В.М.), другие уже начали отказы¬
ваться от уплаты, и большинство угрожает прибегнуть к силе, если их будут к
этому принуждать”. Со своей стороны землевладельцы, понимавшие, что отме¬
на косвенного налогообложения поведет к переходу на режим тальи, также
начали ’’угрожать насилием” (т. 376, л. 156 об). 2 июля около 100 горожан и кре¬
стьян жаловались королевскому прокурору в парламенте Кастийону на откуп¬
щиков сбора с муки, которые все еще продолжают его взимать. Кастийон разъ¬
яснил им, что новое постановление не относится к Провансу (т. 376, л. 71-72).
Впрочем, это брожение скоро прекратилось, не вылившись в какие-либо экс¬
цессы - все, кто имел хоть клочок ротюрной земли, боялись введения тальи.
Действуя через Буажелена, ’’прокуроры Прованса” добились от Тюрго принятия
Государственным советом интерпретирующего постановления, где было сказа¬
но: ”В настоящее время не будет внесено никаких изменений в то, что касается
26Turgot A.R.G. Oeuvres, t. 4. Paris, 1923, p. 457-459.
143
городов Прованса” (т. 376, л. 176-178). Хотя это разъяснение и успокоило ”про-
куроров Прованса”, содержащейся в нем многозначительной оговорки ”в
настоящее время” было достаточно, чтобы они выступили против его публика¬
ции, а в феврале 1776 г. сессия Ассамблеи Общин заявила о своем желании
’’охранять право всех общин провинции на выбор формы налогообложения”
(т. 376, л. 285).
Особо беспокоили провансальцев меры Тюрго, направленные на подрыв мар¬
сельской ’’винной привилегии” и вылившиеся в конечном счете в апрельский
эдикт 1776 г. о свободе виноторговли27, которому Тюрго придавал большое зна¬
чение, считая его необходимым дополнением к знаменитому эдикту 1774 г. о
свободе торговли зерном.
’’Винная привилегия” Марселя, существовавшая еще с XIII в., означала, что в
большом портовом городе разрешалось потребление вина, произведенного
только на виноградниках городской округи. Это, конечно, было очень выгодно
для владельцев виноградников и виноторговцев, но вызывало недовольство
марсельского плебса. Аналогичные привилегии имели и некоторые другие горо¬
да Прованса: Экс, Тараскон, Тулон, Систерон, Мартиг, Арль. Провансальские
вина, произведенные за пределами марсельской округи, могли лишь вывозить¬
ся через Марсель во французские колонии (это право распространялось и на все
другие французские вина) и в порты атлантического побережья Франции или в
Северную Европу (такое право провоза было зарезервировано только для про¬
вансальских вин, так что провансальцы имели свою, хоть и небольшую привиле¬
гию в системе марсельской виноторговли).
Тюрго начал с подрыва марсельской привилегии явочным порядком. Госу¬
дарственный совет отменил штраф, наложенный в Марселе на некоего Бертрана
за нарушение ’’винной привилегии”, и в порядке компенсации выдал ему раз¬
решение ежегодно ввозить туда вино в количестве, намного превышавшем сум¬
му штрафа (т. 376, л. 161-162). Уже тогда, 4 июля 1775 г., ’’прокуроры Прованса”
решили стать на сторону марсельцев, желая тем самым поддержать и собствен¬
ную провансальскую привилегию (т. 376, л. 207-208). Провансальцев не соблаз¬
няло то, что уничтожение монополии марсельских пригородов открывает для
их вин потребительский рынок Марселя; они сознавали слабую конкурентоспо¬
собность своих низкокачественных вин по сравнению с винами Лангедока. Дело
было воспринято ими как очередные лангедокские происки; именно в этой
ситуации Вовнарг высказал в письме Буажелену свою приведенную выше сен¬
тенцию об исконной вражде Лангедока и Прованса, добавив: ’’Город Марсель
пользуется привилегией, распространяющейся и на часть Прованса - и вот уже
Лангедок хочет у нас ее отнять” (т. 376, л. 65-68). После того как в сентябре
1775 г. ’’винная привилегия” Марселя была отменена, марсельская ратуша обра¬
тилась с просьбой о помощи к Провансу и лично к Буажелену. В феврале 1776 г.
Ассамблея Общин решила просить правительство пересмотреть его решение. Но
тут подоспел апрельский эдикт 1776 г. о свободе виноторговли, который, если
верить словам ’’прокуроров Прованса” из их письма к королю от 3 августа
1776 г. (т. 377, л. 253-261), ’’вверг в уныние главные города провинции”, также
лишившиеся своих ’’винных привилегий”. Опала Тюрго не привела к отмене его
реформы. Напротив, уже после его падения Эксекий парламент 17 августа
1776 г. по настоятельному требованию короля зарегистрировал апрельский
эдикт, и виноторговля Прованса в целом перешла на режим свободной конку¬
ренции.
27Ibid., t. 5, р. 370—384.
144
Буажелен усердно защищал интересы Прованса в конфликте с центром, и про¬
вансальцы могли быть довольны своим "премьером”. Вовнарг признавался в
письме к Буажелену от 19 мая 1776 г. (т. 376, л. 334-337), что раньше некоторые
сомневались в готовности архиепископа охранять местные привилегии, ”но эти
безосновательные мысли рассеялись после демаршей, которые Вы соблаговоли¬
ли предпринять перед правительством как в вопросе о привилегии Марселя, так
и в связи со сбором с продажи муки в Эксе”.
Нет надобности подробно описывать все обычные рутинные проблемы про¬
винциальной администрации, постоянно отражавшиеся на страницах прован¬
сальской корреспонденции Буажелена. Тут, естественно, и финансовые вопро¬
сы, связанные с разверсткой налогов и заключением займов, при помощи кото¬
рых Прованс кредитовал центральное правительство; и постоянные хлопоты о
ремонте дорог, орошении, мелиорации, ликвидации разрушений от обычных
для Прованса разливов его бурных рек Роны и Дюранса; и разборы споров
между общинами и их сеньорами; и урегулирование конфликтов с пограничным
папским владением, Авиньонской областью; и многое другое. Группа докумен¬
тов повествует о появлении и развитии мануфактур по производству бархата
генуэзского фасона в Эксе, о выделении им субсидий, конкуренции между
ними.
Достаточно колоритно дело об установке уличных фонарей в Эксе. Город еще
в 1697 г. собрал на это дело нужную сумму, но она была присвоена центральной
властью при Людовике XIV в виде принудительного займа; теперь ’’прокуроры
Прованса” хотели бы получить и использовать по назначению хотя бы проценты
по этому ’’займу”, которые правительством также никогда не выплачивались.
К концу 1775 г. законнейшая просьба Прованса поступила к Тюрго и натолкну¬
лась на его отказ; как видно, в известных обстоятельствах и либеральный рефор¬
матор мог быть столь же прижимистым, как и его консервативные предшествен¬
ники. ’’Мне несколько странно, - с иронией пишет Вовнарг Буажелену
3 января 1776 г., - что министр аргументирует необходимостью экономии для
короля нежелание возвращать ни основную сумму, ни проценты со взятых в
долг денег. Я знаю много частных лиц, которые охотно прибегли бы к такого
рода экономии” (т. 376, л. 265-266). Эксу пришлось ждать уличных фонарей еще
10 лет.
Восемь содержащихся в томе писем за 1772-1776 гг. написаны историком Про¬
ванса ораторианцем отцом Папоном (1734-1803), готовившим тогда свою четы¬
рехтомную ’’Историю Прованса” (переводы шести писем напечатаны в публика¬
ции ’’Письма из Прованса”). Буажелен помогал провансальскому эрудиту при
сборе материалов, делал критические замечания (23 марта 1772 г. Папон пишет
ему, что по совету архиепископа он расширил свой раздел о торговле - т. 376,
л. 458-459) и добился от ’’прокуроров Прованса” субсидий на печатание работы.
Впоследствии Папон стал одним из первых историков Великой французской
революции.
Наконец, большой комплекс (целых 28 документов) составляют адресован¬
ные Буажелену письма, автором которых был Луи-Никола де Ванто, маркиз
де Пенн (1737-1792). Тогда он был уже просто частным лицом28, хотя еще недав¬
но, в 1771-1772 гг., занимал пост первого консула Экса - первого, с которым
имел дело Буажелен в качестве главы провансальской администрации. Бывший
военный моряк, как и многие провансальские дворяне, и просвещенный агро¬
ном, Пенн оказался человеком, близким Буажелену по духу, и сохранил с ним
дружеские отношения; к его посредничеству иногда обращались те, кто стре-
28Публикаторы "Писем из Прованса” ошибочно сочли его мэром Марселя.
145
милея заручиться поддержкой архиепископа. Его письма очень интересны: чув¬
ствуется, что переписываются люди одного образа мыслей. Приведем, например,
откровенную характеристику Пенном своей ’’гражданской позиции”, созвучную
горьким мыслям Буажелена о невозможности выдвижения талантливых людей
при абсолютной монархии. ’’Если бы я, - пишет Пенн 16 января 1776 г., - был
рожден в стране, где есть отечество29, не было бы гражданина лучше меня, но я
живу среди подданных. Это звание внушило мне глубокую покорность и рас¬
слабленность духа (un engourdissement d’ame), которая, смиряя благие порывы,
постоянно погружает меня в какую-то гражданскую летаргию; впрочем, я всту¬
паю в возраст, когда с этим прекрасно мирятся” (т. 376, л. 271 об.). Отставку
Тюрго сочувствовавший ему Пенн прокомментировал так: ”Я предвидел его
падение: он действовал в такое время и в такой стране, где, по моему мнению,
невозможно делать добро. Слава г-на Тюрго будет в том, что он предпринял
такую попытку” (т. 376, л. 359 об.).
Содержание материалов т. 375 ввиду его узкой специализации можно охарак¬
теризовать вкратце. Все они связаны с проведением по инициативе Буажелена
большого оросительного канала от Дюранса к Тараскону; данные о ходе работ
содержатся также в ряде писем из т. 376.
В т. 375 включены 55 документов на 227 листах, из них только 13 - письма,
остальные - записки, выписки из регистров, отчеты о строительстве. Оригиналы
датируются временем с ноября 1771 по январь 1777 г., есть также несколько сня¬
тых тогда копий с более старых документов, начиная с выписок из регистров
Эксской ратуши еще за 1559 г. о различных проектах строительства каналов.
Решение о проведении канала Дюране - Тараскон было принято Ассамблеей
Общин в ноябре 1772 г. и утверждено Государственным советом 3 апреля 1773 г.;
новому каналу было дано имя Канал Буажелена. Сразу же начались работы,
которые затянулись до 1783 г. Подробнейшие отчеты об их ходе и расходовании
выделенных сумм охватывают время с 1773 г. по январь 1777 г. Материалы тома
затрагивают также и юридические аспекты дела в связи с урегулированием спо¬
ров с уже существовавшей, но практически не действовавшей компанией Кана¬
ла Прованса, которая претендовала на монопольное право проведения каналов
от Дюранса.
Т. 377 посвящен положению в Марселе и отношениям Марселя с Провансом.
В нем 76 документов на 317 листах (28 писем, 48 записок и других материалов).
Оригиналы датируются 1772-1777 гг. При этом большинство документов от¬
носится к 1773-1774 гг.
В целом в экономической сфере, как мы уже отмечали, Марсель был гораздо
больше нужен Провансу, чем Прованс Марселю. Но были все же общие интересы,
которые подчас побуждали марсельцев - подобно тому, как это былр в ситуа¬
ции с отменой ’’винной привилегии”, - искать политического содействия
провансальских властей и лично Буажелена. В 1772-1773 гг., в годы большой
дороговизны, на первый план выдвинулись вопросы регулирования зерно-
торговли.
Правительственная политика по отношению к марсельской зерноторговле
была тогда очень неустойчивой. В качестве ’’порто-франко” Марсель обладал
правом беспошлинного ввоза и реэкспорта иностранного зерна. Но именно
поэтому он считался ’ иностранным портом” по отношению ко всему остальному
королевству, и с ввозимого на его территорию французского зерна, в частности
и провансальского, брали пошлины как за вывоз из Франции. Когда в условиях
29Хороший пример употребления термина "patrie” уже в характерном для эпохи револю¬
ции республиканском смысле!
146
дороговизны экспорт французского зерна был вообще запрещен, правительство,
больше всего опасавшееся контрабандного вывоза, стало проявлять стремление
как можно больше ограничить ввоз отечественного зерна в Марсель.
Провансальцы были кровно заинтересованы в обилии зерна на марсельском
рынке, через который шло снабжение Прованса. Вывоз в Марсель зерна имел
для них подсобное значение. Провансальский сорт пшеницы был самым дорогим
во Франции: даже на месте, в Эксе, он шел в два раза дороже чем ввозившаяся
туда через Марсель берберийская пшеница30, которую провансальцы покупали
на деньги, вырученные от продажи своего зерна. Идеальным решением для них
было бы объявление Марселя в том, что касается зерноторговли, национальным
портом; такие мысли высказывали консулы Тулона (т. 377, л. 108-111). Когда
14 февраля 1773 г. Государственный совет не включил Марсель в число порто¬
вых городов, между которыми можно было свободно перевозить французское
зерно, ’’прокуроры Прованса” выступили 31 марта с соответствующим представ¬
лением (т. 377, л. 117-126) и 9 мая добились нужной поправки (т. 377, л. 162-
163). Но такое приравнивание Марселя к национальным портам не устраивало
уже марсельцев: оно означало жесткий контроль таможенных досмотрщиков
над экспортом зерна за рубеж, чтобы под видом реэкспортируемого иностран¬
ного зерна не было выпущено французское, а такой досмотр компрометировал
бы статус ’’порто-франко”. Жалоба марсельской Торговой Палаты - и новый
поворот правительственной политики: 12 сентября Марсель снова объявлен ино¬
странным портом, зато соответственно ограничен ввоз в него французского зер¬
на. Марселю и Провансу пришлось совместно искать устраивавшее обе стороны
решение, и марсельская ратуша в октябре обратилась за помощью к Буажелену
(т. 377, л. 112-116). Еще до этого, в апреле 1773 г., депутат марсельской Торговой
Палаты в Париже Ростаньи стремился установить контакт с Буажеленом, про¬
тиводействуя попыткам откупщиков Генерального Откупа ограничить ввоз
провансальского зерна в Марсель (т. 377, л. 164-166).
В других случаях интересы Прованса и марсельской торговой верхушки явно
расходились. Торговая Палата Марселя истребовала 15 июля 1772 г. у Государ¬
ственного совета постановление, запрещавшее ввоз в Марсель левантийского и
берберийского зерна на английских кораблях. Интендант Прованса Сенак де
Мельян в декабре 1773 г. просил генерального контролера Террэ об отмене этого
решения, но получил отказ (т. 377, л. 160-161). Несмотря на дороговизну, раз¬
гружать зерно с английских кораблей власти не разрешали. Это противоречило
принципу ’’порто-франко”, но соответствовало интересам марсельской Торговой
Палаты. С 1741 г. в Марселе действовала под ее эгидой Африканская компания,
специализировавшаяся на закупке зерна в Алжире и процветавшая в условиях
выгодной торговой конъюнктуры; она практически имела монополию на вывоз
зерна из алжирских портов Эль-Кала и Аннаба. Монополисты закрывали дорогу
своим конкурентам.
Вопрос об отношении к Африканской компании оживленно обсуждался в
Провансе. В 1772 г. асессор Экса Леклерк обвинил компанию в дороговизне
хлеба; именно за это он был смещен по приказу, отмененному после вмеша¬
тельства Буажелена. В бумагах архиепископа отложилось несколько записок об
Африканской компании, отчасти стимулированных этими событиями. Имеется
помета (т. 377, л. 91 об.): ’’Записки, поданные разными негоциантами после при¬
каза о г-не Леклерке”. В них отражены разные точки зрения: и тех, кто высту¬
пал за ликвидацию монополии (т. 377, л. 96-97, 155-157), и тех, кто считал
такую меру невозможной (т. 377, л. 88, 171-173 и 100-104, 152-154, 23-25). За
30Baehrel R. Op. cit., р. 536.
147
свои привилегии компания платила деньги алжирским властям, и можно было
опасаться, что в случае прекращения этих взносов алжирцы просто продадут эту
монополию англичанам. Африканская компания сохранила свои позиции ’’не¬
оспоримой хозяйки хлебного рынка в Западном Средиземноморье”31 до самой
революции.
В 1774 г. марсельская кредитная и торговая система была потрясена сильней¬
шим, хотя и кратковременным кризисом: обанкротилась мощная корпорация
марсельских куртье32. Эти события не имели прямого отношения к заботам про¬
вансальской администрации, но тут уже сказалась общеполитическая ситуация:
после прихода к власти Тюрго авторитет Буажелена в Провансе очень вырос и
конфликтующие группировки марсельского купеческого патрициата старались
заручиться его симпатией. Тема ’’дела куртье” затрагивается в 21 документе из
т. 377 и 8 документах из т. 376, где содержатся письма Пенна, бывшего информа¬
тором Буажелена, а иногда и посредником между ним и марсельцами.
Марсельские куртье с 1692 г. составляли корпорацию владельцев продажных
и наследственных должностей ’’королевских куртье”. Они не только занима¬
лись обычным торговым посредничеством, но и ’’держали кассу” - учитывали
долговые расписки и вексели и занимались собственным предприниматель¬
ством, пуская в оборот доверенные им деньги и ценные бумаги. Появление
’’кассы куртье” означало интенсификацию и удешевление марсельской системы
кредита, освободившейся от посредничества лионских ярмарок, и в то же время
ее локализацию, переход к опоре на собственные ресурсы, которые в 1774 г. ока¬
зались как раз недостаточными. Причиной кризиса, отличавшегося как исклю¬
чительной интенсивностью - общая сумма банкротств составила 43 млн. лив¬
ров, в четыре раза превысив показатель самого крупного до него в XVIII в. кри¬
зиса 1715 г.33, - так и локализованностью (он затронул только Марсель), была
именно ’’инфляция кредита”. Она начала ощущаться с середины 1760-х годов:
куртье все чаще стали прибегать к безналичным расчетам, пускали в оборот в
качестве ’’кредитных денег” выписанные ими билеты, из обращения ’’вымыва¬
лись” звонкая монета и надежные векселя34. Обеспокоенная марсельская Тор¬
говая Палата, где возобладали противники куртье из числа ’’солидных”, осто¬
рожных негоциантов, с конца 1770 г. пыталась запретить практику безналичных
’’компенсационных” расчетов, но куртье саботировали ее решения, пользуясь
поддержкой правительства и интенданта Сенака. В один из моментов обостре¬
ния разногласий Буажелен заинтересовался этим вопросом:4 5. января 1774 г.
датировано адресованное ему письмо лидера группировки куртье Пьера Вер-
дильона, который по просьбе архиепископа выслал ему копии некоторых мате¬
риалов (т. 377, л. 240-241).
Крах наступил в мае 1774 г., когда прекратил свои платежи сам Пьер Вердиль-
он, чей пассив был оценен более чем в 6 млн. ливров. Его попытки добиться
31Histoire du commerce de Marseille, t. 4. Paris, 1954, p. 237.
32O событиях, связанных с этим кризисом см.: Histoire du commerce de Marseille, t. 4,
p. 624—657. Им посвящена также специальная монография: Emmanuelli Fr.-X. La crise mar-
seillaise de 1774 et la chute des courtiers. Contribution a I’histoire du commerce de Levant et de
la banque. Paris, 1979.
33Ibid., p. 2.
34Эмманюэлли высказывает предположение, что подобная тактика группировки куртье
объяснялась их стремлением овладеть левантийской торговлей методами демпинга (действи¬
тельно, противники куртье обвиняли связанных с ними негоциантов в порче качества экс¬
портируемых товаров — т. 377, л. 81—84). Непосредственной причиной краха, по его мнению,
могла быть ошибка марсельцев в расчетах на заключение русско-турецкого мира после пере¬
мирия 1772 г., обнаружившаяся, когда война в 1773 г. возобновилась. — Ibid., р. 154.
148
выгодных для себя условий ликвидации долгов усилили возмущение против¬
ников куртье. 1 июля один из самых рьяных недругов, купец Симон Роллан,
прямо на бирже начал сбор подписей под своим направленным против куртье
меморандумом. Инспектор торговли Гёдревиль истребовал от своего брата,
курировавшего марсельскую торговлю морского министра Буржуа де Буана,
приказ о высылке возмутителя спокойствия из Марселя. Но это были уже
последние дни министерства - 19 июля де Буан был заменен Тюрго, который
через месяц пересел в кресло отставленного генерального контролера Террэ,
передав пост морского министра Сартину. Падение столичных покровителей
куртье совпало с новой волной банкротств в Марселе, и участь ’’кассы куртье”
была решена.
Имя пострадавшего Симона Роллана стало очень популярным на его родине.
28 июля Пенн, сообщая Буажелену об общем сочувствии к высланному, пишет:
’’Мало встречал я столь честных людей” (т. 376, л. 182 об.), а 1 августа, узнав об
отставке де Буана, он сразу же советует архиепископу добиться отмены приказа
о высылке Роллана, чтобы марсельцы почувствовали выгодность ’’единства с
провинцией” (т. 376, л. 180-181). Буажелен внял совету своего провансальского
друга, и в конце августа благодаря его хлопотам приказ был отменен. Пол¬
ностью реабилитированный Роллан не сразу воспользовался правом вернуться в
Марсель; на некоторое время он поселился в Париже, пытаясь через Буажелена
и Сартина влиять на решение марсельских дел. Так в архиве Буажелена от¬
ложился ряд документов, связанных с Ролланом: его письма и записки, адресо¬
ванные Буажелену и Сартину, авторские копии Роллана со старых документов,
различные составленные им информационные материалы, письма к самому Рол¬
лану от его марсельских друзей и информаторов.
Торговая Палата Марселя 16 сентября 1774 г. по предложению единомышлен¬
ника Роллана Франсуа Клари35 упразднила ’’кассу куртье”, а Бюро Торговли как
консультативный орган при Государственном совете 22 сентября рекомендова¬
ло уничтожить и их корпорацию, но окончательно этот вопрос был решен лишь
по эдикту 1777 г.: корпорация ’’королевских куртье” после выкупа их долж¬
ностей заменялась выборными куртье, ежегодно избираемыми марсельской
ратушей.
Несколько записок, одна из которых принадлежит С. Роллану (т. 377, л. 129-
132), посвящены борьбе марсельцев с ’’притязаниями Лангедока”: воспользо¬
вавшись кризисом 1774 г., Лангедок возобновил свои постоянные попытки
подорвать марсельскую монополию на торговлю с Левантом. Как всегда, ланге¬
докцы хотели добиться права продавать свои сукна иностранцам без обязатель¬
ного посредничества марсельцев. Из благодарственного письма ратуши и Торго¬
вой Палаты Марселя к Буажелену от 14 ноября 1774 г. видно, что архиепископ
поддержал позицию Марселя: притязания Лангедока были в очередной раз
отбиты (т. 377, л. 92-93).
* * *
Тот фрагмент собрания Буажелена, который мы назвали ’’лангедокским архи¬
вом”, датируется годами, когда он был епископом Лавора и в этом качестве
участвовал в ежегодных сессиях Штатов Лангедока. Примечательно, что здесь
отсутствуют материалы о деятельности Буажелена в самом Лаворе - документы
35Это‘был тот самый марсельский негоциант, двум дочерям которого суждено было
носить королевские короны: старшей Жюли — короны Неаполя и Испании в качестве жены
Жозефа Бонапарта, младшей Эжени-Дезире (одно время невесте самого Наполеона) — корону
Швеции как супруге Бернадотта.
!<9
имеют значение для всего Лангедока, и, как мы увидим, их тематика во многом
перекликается с провансальскими проблемами. Это легко объяснить, если
вспомнить, что для сортировавшего архив Буажелена Биго де Преамнё, который
готовился к роли агента Прованса в Париже, местные лаворские дела не пред¬
ставляли никакого интереса36.
’’Лангедокский архив” занимает часть т. 378 (л. 1-4, 15-133); кроме того,
один документ ошибочно включен в ’’провансальский” т. 377 (л. 76-77). В него
входят 13 писем и 23 документа типа записок; подавляющее большинство мате¬
риалов датируется 1768-1769 гг.
О деятельности Буажелена, связанной с работой Штатов Лангедока и испол¬
нением отдельных поручений провинции, почти ничего не известно, Лавакри о
ней вообще не упоминает. Из документов нашего тома видно, что Буажелен уже
тогда интересовался организацией сукноделия Лангедока и правилами торгов¬
ли лангедокскими сукнами в Леванте. 16 декабря 1769 г. смотрители корпора¬
ции сукноделов Каркассонна (важнейший центр сукноделия) в письме к нему
отмечают успешную защиту адресатом ’’интересов торговли перед нашим слав¬
ным монархом” (т. 378. л. 55). Епископ готовил тогда какой-то доклад, очевидно
для Штатов Лангедока, и интересовался причинами участившихся рекламаций
на качество лангедокских сукон со стороны контрольного бюро в Марселе
(т. 378, л. 53-54).
Последний вопрос особенно волновал тогда лангедокских фабрикантов и
торговцев. После интенсивного роста экспорта лангедокских сукон в Левант в
1740-1760-х годах левантийский рынок оказался перенасыщенным, и опасав¬
шиеся падения цен французские торговые колонии в Стамбуле и Измире в нояб¬
ре 1768 г. вновь ввели систему продажи сукон ”по распределению” между пред¬
ставленными в этих городах торговыми домами; тем самым ограничивался экс¬
порт и уничтожалась свобода выбора покупателя. Предъявление повышенных
требований к качеству, по мнению лангедокцев, служило той же цели. Подоб¬
ная система уже действовала в Стамбуле, Измире и Салониках с 1730-х годов,
введенная в аналогичной ситуации стараниями французского посла в Турции
Вильнёва, но была отменена постановлением Государственного совета в 1754 г.
Штаты Лангедока обратились с жалобой в правительство, просили отменить
введенные на торговлю ограничения (т. 378, л. 73-75, 86-89). В этой обстановке
вновь выдвигается мысль - и Штатами Лангедока, и инспектором мануфактур
Лебланом - о необходимости освободить лангедокских сукноделов и торговцев
от обязательного марсельского посредничества.
Интерес ко всем этим попавшим тогда в поле зрения Буажелена вопросам, оче¬
видно, стимулировал приобретение им документов его ’’коллекции”, относя¬
щихся к 1730- 1750-м годам и посвященных, как мы увидим, той же самой тема¬
тике.
10 документов связаны с участием Буажелена в хлопотах по делу о пред¬
полагавшейся тогда покупке Лангедоком построенного в 1681 г. Канала Двух
Морей у потомков его строителя Рике. Соединявший Гаронну и Средиземное
море канал имел немалое торговое значение для провинции, но предпринятая
по решению Штатов Лангедока в декабре 1768 г. попытка приобрести его на¬
толкнулась на непреодолимое препятствие - нежелание правительства отка¬
заться от взимания сеньориального сбора с покупки (канал был феодом), кото¬
рый лангедокские власти из принципа платить не хотели. Вероятно, интерес
Буажелена к строительству ’’своего” канала в Провансе обусловил включение в
том этого документального комплекса.
Зб27 писем, посланных Буажелену из Лавора в 1770—1771 гг., были выявлены Лавакри в
семейном архиве Буажеленов.
150
Наконец, некоторые документы посвящены отношениям Лангедока с цент¬
ральной властью и вопросам, возникавшим в связи с новыми финансовыми
требованиями правительства. В частности, имеется перечень поручений провин¬
ции ее депутатам в Париже во исполнение решений Штатов Лангедока 1768-
1769 гг. (т. 378, л. 90-94), прошение этой сессии Штатов королю о снижении раз¬
личных сборов и предоставлении субсидий с резолюциями на полях (т. 378,
л. 21-23) и т.п. Этими проблемами Лангедока Буажелен продолжал интересо¬
ваться и после своего перевода в Прованс - область, чьи заботы были во многом
сходными. В т. 377 (л. 249-252) имеется записка о лангедокских финансах,
составленная не ранее декабря 1773 г.
* * *
В ’’коллекцию Буажелена” входят материалы, собранные им в очевидной
связи с кругом его интересов и занимающие полтора тома (т. 374 и в т. 378
л. 5-14 и 134-372). Писем нет, все это записки, и подчас очень обширные.
Среди них прежде всего надо выделить неоконченную копию записки интен¬
данта Лебре о положении Прованса от 1698 г. Она вплетена в т. 374, где занимает
целых 280 листов (текстом заполнены только левые половины левых страниц).
Копия не могла быть написана ранее 1749 г.: на бумаге имеются водяные знаки с
этой датой изготовления бумажной формы.
Остальные 29 документов связаны между собой единством архивного проис¬
хождения - все они прошли через Бюро Торговли, основной рабочий и консуль¬
тативный орган по вопросам торговли и промышленности при Государственном
совете. Члены созданного в 1722 г. Бюро Торговли в основном входили в систе¬
му Генерального Контроля и находились в орбите влияния генерального конт¬
ролера37 38. Его президентом в 1726-1744 гг. был Луи Фагон, один из интендантов
финансов - очень влиятельных персонажей, ведавших отдельными отраслями
финансового управления. Входившие по должности в Государственный совет,
они были скорее сотрудниками, чем подчиненными генерального контролера,
осуществлявшего по отношению к ним функции координатора. Пост генерально¬
го контролера в 1730-1745 гг. занимал Филибер Орри, очень деятельный органи¬
затор системы всеобъемлющих регламентаций и государственного дири-
38
жизма .
Именно ко времени Орри и Фагона относятся почти все (26 из 29) собранные
Буажеленом записки, охватывающие 1731-1741 гг. Три записки относятся к
концу 1740-х - началу 1750-х годов, причем на одной из них (т. 378, л. 139-178)
имеется помета: ’’Включить в лангедокскую папку г-на Фагона”. Между тем
Фагона к тому времени уже не было в живых. Таким образом, мы имеем здесь
прямое доказательство того, что записки ’’коллекции Буажелена” были получе¬
ны им не из личного архива Фагона, но именно из ведомственного архива Бюро
Торговли.
По содержанию записки можно разделить на три группы: 1) о производстве
сукон в Лангедоке (6 записок за 1732-1750-е гг. - т. 378, л. 5-14 и 134-227;
т. 374, с. 177-270); 2) о торговле сукнами в Леванте (9 документов за 1731—
1741 гг. - т. 378, л. 242-372); 3) материалы командировки в Лангедок в 1740 г.
37О Бюро Торговли и его месте в системе других подразделений Государственного сове¬
та см.: Antoine М. Le ccnseil du roi sous le regne de Louis XV. Geneve — Paris, 1970.
38”Монсеньор, Вы первый помыслили усовершенствовать то, что г-н Кольбер оставил лишь
в наброске”, - обращается к нему автор одной из наших записок (т. 378, л. 182).
151
инспектора мануфактур Жобара (14 записок - т. 374, с. 1-176; т. 378, л. 228-241).
Естественно, постоянно имеет место тематическая перекличка между записка¬
ми разных групп.
1. Перед ориентированным на экспорт в страны Леванта лангедокским сукно¬
делием в 1730-х годах ввиду трудностей со сбытом встала задача определенной
структурной перестройки. Об этом писал в своей адресованной Орри записке
(т. 378, л. 179-227), составленной несколько ранее 13 февраля 1732 г., некто
Фондьер - специалист текстильного дела, который спустя два года, в 1734 г.,
будет послан в Лангедок внедрять в местное сукноделие разработанную им
новую технологию. Это была уже четвертая и, может быть, не последняя из его
записок на имя Орри. Фондьер считает необходимым сделать более разнообраз¬
ным ассортимент французских сукон, освоив производство как дорогих, так и
очень дешевых тканей английского фасона и соответственно сократив изготов¬
ление затоваривших левантийские рынки лангедокских сукон среднего каче¬
ства. Кроме того, он ратует за удешевление французской продукции путем по¬
нижения зарплаты рабочих и за улучшение ее качества с помощью технологиче¬
ских усовершенствований (записка наполнена такого рода деталями) и ужесто¬
чения цехового контроля за компетентностью вновь принимаемых мастеров.
Весьма любопытна датированная 19 апреля 1738 г. записка инспектора ману¬
фактур Лангедока Лемазюрье (т. 374, с. 177-262) - яркое выражение психологии
доведенного до крайних пределов административного диктата. Не доверяя
технологическим новшествам Фондьера, инспектор стоит за строгое соблюдение
старых регламентов. Он тоже считает необходимым наладить выделку сукон
английского фасона, но связанное с этим сокращение производства местных
сукон мыслит осуществить методами постоянного бюрократического вмеша¬
тельства. Лемазюрье доходит до мысли ввести целую систему устанавливаемых
сверху максимальных объемов производства старых тканей: один максимум
для королевских мануфактур, другой для прочих ’’привилегированных”, а
рядовых сукноделов он предлагает разбить на четыре класса, каждый со своим
максимумом, причем интендант Лангедока будет следить за правильностью
разбивки, а контрольное бюро в Монпелье время от времени производить пере¬
квалификацию в награду за хорошее качество продукции. Впрочем, в ’’коллек¬
цию Буажелена” записка Лемазюрье попала в сопровождении анонимного кри¬
тического отзыва на нее, написанного более умеренным администратором,
отвергающим как неосуществимые подобные прожекты лангедокского инспек¬
тора (т. 374, с. 263-270).
Три поздние анонимные записки 1740-1750-х годов были написаны уже в
обстановке хорошей экономической конъюнктуры, возобновившейся экспансии
лангедокского сукноделия в Леванте. Одна из них (т. 378, л. 139-178) предлага¬
ет меры по увеличению поголовья овец и улучшению качества лангедокской
шерсти; другая представляет критический отзыв на нее (т. 378, л. 5-14); третья
трактует некоторые вопросы юридического статуса и финансирования королев¬
ских мануфактур Лангедока (т. 378, л. 134-138).
2. Обнаружившийся в 1729 г. на левантийских рынках кризис перепроизвод¬
ства лангедокских сукон вызвал большое беспокойство королевской адми¬
нистрации. По инициативе французского посла в Стамбуле маркиза Вильнёва
зависевшая от него французская торговая колония в турецкой столице в 1731 г.
установила систему продажи по фиксированным ценам, вскоре распространив¬
шуюся также на Измир и Салоники. В 1736 г. последовало новое ужесточение:
в Стамбуле была введена ’’продажа по распределению”. Так была установлена
та система регулирования, которую, как мы упоминали выше, пытались вновь
ввести в действие в аналогичных обстоятельствах в 1768 г. Ее установление
152
обострило все противоречия, и Бюро Торговли готовилось обсуждать вопрос.
С подготовкой к обсуждению связана группа записок коллекции Буажелена.
В записке, датированной по содержанию 1731 г. (т. 378, л. 293-313), резюми¬
руются доводы в пользу фиксации цен, выдвигавшиеся послом Вильнёвом, и
возражения против них со стороны Торговой Палаты Марселя, опасавшейся
нарушений принципа свободы торговли; на полях воспроизведены чьи-то заме¬
чания, автор которых разделял позицию посла. Следующий документ (т. 378,
л. 314-319) излагает содержание предыдущего, сообщает о состоянии вопроса к
началу 1737 г. и намечает программу предстоявшего обсуждения в Бюро Торгов¬
ли. Предложенная к рассмотрению программа постепенного сокращения числа
французских торговых домов в Леванте изложена в записке, датированной
24 сентября 1735 г. (т. 378, л. 242-260). О практическом осуществлении системы
Вильнёва в Стамбуле говорит копия протокола собрания французской торговой
колонии 31 октября 1736 г. (т. 378, л. 281-282). В дискуссии принял участие и
уже известный нам Фондьер: имеется представленная им записка 1736 г. (т. 378,
л. 261-280), где мануфактурист высказывает мнение о естественности и законо¬
мерности периодических кризисов перепроизводства - ’’пять-шесть лет интен¬
сивного производства и один-два года спокойствия” (т. 378, л. 267 об.) - и о том,
что административное вмешательство только препятствует естественному рас¬
сасыванию кризиса; он выдвигает требование дать лангедокским фабрикантам
право торговли с Левантом без обязательного марсельского посредничества.
Этот вопрос был и официально поставлен тогда Штатами Лангедока; Торговой
Палате Марселя пришлось в обстоятельной записке опровергать доводы ланге¬
докцев (т. 378, л. 320-361).
Имеется и запись о решениях Бюро Торговли - ’’заседания, состоявшегося у
г-на Фагона 4 марта 1737 г. в присутствии графа Морепа” (т. 378, л. 362-364),
которое, отвергнув критику лангедокских фабрикантов, одобрило систему
Вильнёва39. Еще два документа об условиях торговли в Леванте датируются
1741 г.: записка, переданная инспектором торговли в Марселе П.-Ж. Пиньоном и
направленная против системы фиксации цен (т. 378, л. 369-372), и запись о реше¬
нии состоявшегося 25 сентября 1741 г. совещания в Бюро Торговли, которое раз¬
решило восстановить свободу торговли сукнами во всех левантийских портах,
кроме Стамбула, Измира и Салоник (т. 378, л. 365-368).
3. Инспекционная поездка Жобара в июне - сентябре 1740 г. привела к состав¬
лению им целого ряда записок о состоянии производства в отдельных ремеслен¬
ных центрах и рассеянной мануфактуры в их аграрной округе. В т. 374 включе¬
ны записки об Анноне, Ле-Пюи, Турноне, Манде, Лодеве, Ле-Вигане, Сент-Иппо-
лите, Алесе, Юзесе, Ниме, Монпелье и Сомьере. Они написаны по плану, напоми¬
нающему большие интендантские записки: вначале также содержатся сведения
о географии области, ее церковной и политической администрации и т.п., но
главное внимание, естественно, уделяется состоянию производства. Отчеты
Жобара насыщены статистическим материалом, много таблиц, где сведены дан¬
ные о размерах и центрах производства, сортах тканей, ценах, технологических
показателях.
Жобар был эмиссаром, ’’странствующим инспектором” (inspecteur ambulant),
присланным из столицы с довольно широкими полномочиями. В обследованных
им центрах он имел дело ę местными инспекторами мануфактур, вместе с кото¬
рыми составлял проекты будущих регламентов производства; в то же время он
Э9Содержание этого документа излагается П. Массоном (Masson Р. Hijtoire du commerce
franęais dans le Levant au XVIIIе siecle. Paris, 1911, p. 19 sq.), который, однако, дает другую
дату совещания — 4 апреля 1737 г.
153
контролировал их деятельность и имел право отрешать их от должности. Своею
властью Жобар проводил конфискации дефектных тканей. Он также особо забо¬
тился об изъятии эталонов местных мер длины, если они отличались от париж¬
ских (соответствующее постановление об унификации было принято Государ¬
ственным советом в 1734 г.). В Манде прибытие столичного ревизора вызвало
панику: ’’Сразу же опустели склады и станки, все сознавали себя нарушителями
и не сомневались в конфискации их тканей” (т. 374, с. 161). О всех своих дей¬
ствиях Жобар информировал интенданта Лангедока Бернажа, но подотчетен ему
не был.
С командировкой Жобара связаны также еще два документа: составленный
им в июне 1740 г. в порядке подготовки к поездке конспект нескольких доку¬
ментов о состоянии лангедокской промышленности, в основном большой запис¬
ки инспектора мануфактур Лангедока Лемазюрье, снабженной обширными
таблицами (т. 374, с. 1-38), и написанная каким-то третьим лицом записка о
разногласиях между Жобаром и Лемазюрье по вопросу о том, как лучше органи¬
зовать контроль над качеством продукции в горной области Жеводан (т. 378,
л. 228-241).
* * *
Подведем итог. Как и всякая конкретная архивистская работа, данный обзор
не является исчерпывающим научным исследованием общеисторических проб¬
лем. Это скорее лишь приглашение к такого рода исследованиям. Надо пола¬
гать, читатель почувствовал внутреннюю цельность собрания Буажелена, скон¬
центрированного на проблемах взаимоотношений внутри составлявшего некое
экономическое единство треугольника Прованс - Марсель - Лангедок, причем
обстоятельства пгзволили нашему герою взглянуть на дело с разных сторон и
сопоставить разные точки зрения. Отметим хорошо воспринимаемую разницу
между стабильностью аграрного Прованса, динамизмом промышленного Ланге¬
дока, беспокойным ритмом жизни торгового Марселя. И хотя мы здесь почти не
слышим голоса самого Буажелена, оценим ту информацию, которую дает архив
о личности его хозяина, об основательности работы и широте круга интересов
этого просвещенного администратора XVIII в., умевшего сочетать веру в про¬
гресс с неприятием бюрократического централизаторства и защитой местных
интересов.
154
Портреты историков
© 1992 г.
Б.Д. КОЗЕНКО
ЛЕВ ИЗРАИЛЕВИЧ ЗУБОК
(1896-1967)
Долгим трудным путем шло становление российского американоведения. В
политике, политологии и исторической науке начала XX в. господствовал евро¬
поцентризм. Книги, посвященные Соединенным Штатам Америки, выходили в
России редко, случайно и большого впечатления не производили.
Во время первой мировой войны США ворвались в центр европейской и
мировой политики и жизни. Но советские историки не торопились отходить от
европоцентристских концепций. Все же американские сюжеты появились в
трудах таких крупных исследователей, как М.Н. Покровский и Е.В. Тарле. В
20-х годах были опубликованы книги и брошюры А.Ф. Доброва, Л.Г. Райского,
С.И. Севина, А. Чекина (В.Я. Яроцкого) и других, работы скорее публицистичес¬
кого, чем научного характера, с небольшим объемом не всегда достоверного
фактического материала. В 30-е годы приобрели популярность книги экономис¬
та В. Лана. Но подлинный расцвет нашей американистики связан с именами
двух историков. Алексей Владимирович Ефимов был первым. Вторым - Лев
Израилевич Зубок.
Судьбы многих известных историков нашей страны первого послереволю¬
ционного призыва в одном удивительно схожи. Начало их жизни, казалось, не
предвещало ни увлечения наукой, ни заслуженной славы ученых, ни трудов,
которые переживут своих авторов и надолго останутся с нами.
Так случилось и с Зубоком. Он родился 29 (по другим данным 28) декабря
1896 г. в еврейском местечке Радомышль (ныне Житомирской области Украины).
Позднее, чтобы казаться старше, ’’добавил” себе в документах два года. Отец
умер рано. Многодетная семья - у Льва было шесть братьев и сестер - хлебнула
немало горя и нужды. Как могли, поддерживали родственники. Они рано
заметили у мальчика тягу к знаниям, замечательную память. Одна из родствен¬
ниц, проживавшая в Одессе, взяла его к себе и устроила в семиклассную торго¬
вую школу, которую он закончил уже 18-летним юношей.
Одесса - процветающий город-порт, откуда в те годы десятки тысяч людей
уезжали в Америку в поисках хлеба и свободы. Особенно велик был поток
еврейских эмигрантов, спасавшихся от нужды и погромов. Среди них оказался
и Лев Зубок. Бедность, бесправие, унижения, неопределенное будущее - вот
что скорее всего ждало его в России. Он искал выхода и решил найти его в
эмиграции: устроился матросом на корабль, отплывавший в США.
В Филадельфии, куда прибыл молодой эмигрант, он перепробовал много
занятий, занимался самым тяжелым трудом, работал на заводах Форда, затем
стал квалифицированным рабочим-щетинщиком и получил постоянное место и
заработок.
155
Жизнь в Америке начала XX в. оказалась далеко не сказочной. Как и многие
молодые эмигранты своего поколения, выходцы из России, Лев остро воспри¬
нимал социальную несправедливость, притеснения и унижения со стороны
хозяев мелких мастерских, где ему пришлось работать. Живой ум, спокойный,
но твердый характер, энергия и остроумие бывшего одессита выделяли его,
вскоре он стал профсоюзным активистом.
В апреле 1917 г. США вступили в мировую войну. Зубок отверг участие в
империалистической бойне: еще в 1915-1916 гг., во время пропагандистской
кампании ’’готовности к обороне”, он дважды отказался явиться на призывной
пункт для жеребьевки. Но когда в России победила Октябрьской революция,
у Зубока не было колебаний: всем сердцем он принял перемены на своей
родине. Зубок вступил в Лигу друзей Советской России и Общество техничес¬
кой помощи Советской России. Симпатии к революции и власти Советов, актив¬
ное участие в профсоюзном и антивоенном движении естественно привели его к
вступлению в 1919 г. в ряды только что созданной Коммунистической партии
Америки.
Известный историк А.З. Манфред, друг Льва Израилевича, автор первого пока
очерка о нем, вспоминал, что Зубок - человек редкой скромности - никогда не
рассказывал о своей жизни того времени, ограничиваясь лишь кратким упоми¬
нанием в автобиографии: ’’неоднократно руководил забастовками”1. Между
тем забастовки в США в 20-е годы были делом серьезным и опасным, настоящи¬
ми ’’классовыми битвами”. Предприниматели и власти меньше всего были
расположены обращаться с забастовщиками и вообще с ’’красными” мягко и
демократично. Надо было иметь немалое мужество и глубокую убежденность
для того, чтобы подняться на борьбу и поднимать других.
Занятый работой, стачками, митингами, демонстрациями, Зубок успел и
завести семью, и получить образование. Он женился на эмигрантке из России, от
этого брака родился единственный сын Мартин. В 1918 г. Зубок поступил в
университет г. Филадельфии и в 1922 г. закончил его весьма успешно, получив
степень магистра гуманитарных наук. В следующие два года он сдал экзамены,
допускавшие к работе над докторской диссертацией. Возможно, вскоре в
Америке появился бы еще один ’’пиэйчди” (Ph.,D.) - доктор философии (ученая
степень, присуждаемая исследователям после защиты диссертации). Но время
для научных занятий еще не пришло: после 13 лет проживания в США Зубок
покинул эту страну и вернулся на родину. Переезд состоялся, как у большинст¬
ва коммунистов, полулегально, по каналам Коминтерна. Так в ноябре 1925 г.
Лев Зубок оказался в СССР, в Москве. Сразу же вступил в РКП(б).
Он стал работать в Профинтерне заместителем заведующего англо-американ¬
ским сектором. В последующие годы в печати начали появляться его статьи по
проблемам рабочего класса. В 1927 г. на прилавки книжных магазинов легла
небольшого формата, но объемистая ’’Малая энциклопедия”, посвященная
международному профсоюзному движению и изданная Профинтерном* 2. Автор¬
ский коллектив ее включал таких известных деятелей международного ком¬
мунистического движения, как Э. Браудэр, Ф. Геккерт, Г. Димитров, Г. Монмус-
со, Г. Поллит, У. Фостер. Среди других значилась и фамилия Л. Зубока. Видимо,
уровень знания и понимания проблем профсоюзного движения, особенно США,
был достаточно высок у этого еще молодого работника, чтобы включить его в
такой авторитетный авторский коллектив.
Манфред А.З. Предисловие. - В кн.: Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в
начале XX века. М., 1969, с. 6.
2Малая энциклопедия по международному профдвижению. М., 1927.
156
Л.И. Зубок. Снимок конца 20-х годов
В эти же годы раскрылась и еще
одна грань дарования Льва Израи¬
левича - он оказался прекрасным
лектором. 20-е годы - время для
нашей страны особое, бурное, твор¬
ческое. Миллионы людей тянулись
к знаниям. И, конечно, велик был
интерес к зарубежным странам,
жизни и борьбе товарищей-проле¬
тариев, от которых ждали под¬
держки. Спрос на такую информа¬
цию был колоссальным. Зубок
стал выступать как лектор по воп¬
росам ’’текущего момента” и поло¬
жения в зарубежных странах.
Лекторскую деятельность он соче¬
тал с работой в Профинтерне, а за¬
тем в Коминтерне, выступал в
печате.
В лекциях и статьях Льва Изра¬
илевича стал усиливаться иссле¬
довательский момент. Он высту¬
пил по истории американского и
английского рабочего движения,
освободительной борьбы ирландс¬
кого народа. Эти работы до сих пор не утратили своего значения. Зубока стали
приглашать с лекциями в вузы Москвы. Вскоре он полностью переключился на
преподавательскую работу, сочетая ее с делом, считавшимся тогда практически
неподъемным - создание систематического курса современной, или новейшей
истории.
Вопрос о таком курсе встал, по-видимому, в конце 20-х годов, но так и не был
решен. Ряд ученых возражал в принципе, считая, что курс превратится в своего
рода политико-историческую публицистику, если не беллетристику, лишенную
даже подобия научности. Историки старой школы, склонные к позитивистскому
подходу, полагали, что еще не пришло время для создания новейшей истории
ввиду того, что накоплено слишком мало достоверного фактического материа¬
ла. Их оппоненты, соратники и ученики М.Н. Покровского, напротив, полагали,
что фактов слишком много, и пытались поспешно ’’встроить” их в социологи¬
ческие схемы, мало заботясь о научном анализе.
В появившихся в 1934 г. известных постановлениях СНК СССР и ЦК ВКП(б) о
развитии исторической науки говорилось о трех периодах новой истории,
третий из них начинался с 1918 г. В 1939 г. вышел долгожданный учебник по
новой истории3. В выступлениях И.В. Сталина, других партийных, коминтернов¬
ских и государственных деятелей настойчиво ставился вопрос о том, что истори¬
кам давно пора заняться изучением новейшей эпохи, начавшейся после победы
Октябрьской революции в России. К концу 30-х годов, особенно до 1937 г., были
опубликованы многочисленные документы и документальные сборники,
мемуары и свидетельства очевидцев, статистика, много научных и научно-по¬
пулярных статей и книг по этому периоду. Конечно, они не давали полной
эНовая история, ч. I. Под ред. Е.В. Тарле, А.В. Ефимова и Ф.А. Хейфец. М., 1939; Новая
история, ч. II, Под ред. Е.В. Тарле, А.В. Ефимова, Ф.И. Нотовича, В.М. Хвостова. М., 1939.
157
картины, но основой для обещающего труда могли послужить. Материал накап¬
ливался, он требовал анализа и обобщений. Такого труда ждал и читатель.
Лев Израилевич проявил немалую смелость, взявшись за создание учебника.
Ведь ’’новое слово”, сказанное им, могло оказаться неверным, ”не нашим”,
’’льющим воду на мельницу врага”. Он взялся за подготовку сначала отдельных
лекций, а затем и всего курса новейшей истории и начал читать его в высших
партийных учебных заведениях, в Московском государственном университете,
Московском институте философии, литературы и истории (ИФЛИ).
Хотя не было программ, не хватало наработанного материала, в появлявшей¬
ся литературе все чаще брали верх конъюнктурщина и политизированный
подход, дело все же продвигалось, курс создавался. Лев Израилевич ’’был зачи¬
нателем, пионером, он прокладывал первую трассу по целине, где у него не
было и не могло быть предшественников”4. Лекции по новейшей истории в
различных вузах и аудиториях принесли Зубоку широкую известность. Он
обладал талантом рассказчика, знающего и убежденного. К тому же многие
события были известны ему не по наслышке и не из книг.
С 1930 г. Л.И. Зубок окончательно перешел на преподавательскую работу. Он
вел курс в МГУ, а в Международной ленинской школе читал новейшую историю
на английском языке. Одновременно выступал по вопросам международного
положения и был своего рода ’’лекторской звездой”.
Главное внимание в это время Зубок уделял курсу новейшей истории. Он
прочитал его весь от начала до конца несколько раз, добавляя новые темы и
вопросы. Примерно за 15 лет постоянного чтения курса он систематизировал и
обобщил огромный фактический материал по истории почти двух десятков
стран, уточнил и обосновал периодизацию, выдвинул ряд важных итоговых
положений. В 1939 г. учебник новейшей истории вышел в свет. Написание
всякого учебника всегда было важнейшим и труднейшим делом для любого
ученого. Тем более учебника по истории, да еще по новейшей, тесно соприкасав¬
шейся с современностью, а значит и с политикой. Да еще в 30-е годы. Тогда
выход в свет такого учебника считался делом высокой партийно-государствен¬
ной значимости, его публиковали только с разрешения высоких инстанций, в
данном случае - специальной комиссии ИККИ во главе с Д.З. Мануильским.
Учебник Зубока явился первым в СССР подобным изданием и первой солид¬
ной публикацией ученого. Зубок непрестанно совершенствовал свои лекции,
обновлял, углублял и учитывал критику. В 1938 г. Л.И. Зубоку было присвоено
звание профессора, в 1940 г. присуждена ученая степень доктора исторических
наук. Все это время он продолжал работу над учебником. В 1946 г. он вышел
уже в двух томах5. В 1948 г. было выпущено новое, частично переработанное и
дополненное издание двухтомного курса лекций по новейшей истории. Сейчас,
когда издано несколько стабильных учебников по новейшей истории, курс лек¬
ций Зубока, можно сказать, забыт. Но за профессором Зубоком остается заслуга
перед нашей исторической наукой, перед высшей школой, всей системой обра¬
зования - он был первым, кто разработал весь курс и создал учебник. Зубок
явился первопроходцем, и это не может быть забыто, как не забываются, хотя и
не всегда вспоминаются, труды тех, кто закладывал фундамент любого нужного
и важного дела.
Однако жизнь не только баловала Льва Израилевича. В 1933 г. скоропостиж¬
но скончалась от менингита его жена Циля Ильинична. Она была незаурядной
4Манфред А,3. Указ, соч., с. 7.
53убок Л.И. Новейшая история, Ч. 1-2 (1918-1939 гг.). Стенограмма лекций, прочитанных
в ВПШ при ЦК ВКП(б). М., 1946.
158
личностью, человеком с большими способностями, добрым, душевным. Стре¬
мясь не отстать от мужа-ученого, за год окончила трехгодичный курс Между¬
народной ленинской школы. Но болезнь унесла ее. Через два года Зубок женил¬
ся на Александре Михайловне Найда, которая была другом и помощником до
конца его жизни.
Репрессии 30-х годов каким-то чудом обошли Льва Израилевича. Тогда дом
во Вспольном переулке, где жил ученый, был беспощадно ’’прочищен” НКВД.
Летом 1941 г., когда.началась Великая Отечественная война, Зубок отвез семью
в Ташкент, а сам вернулся в Москву и записался в народное ополчение. Он был
вскоре отозван для работы, на которую рядовой ополченец Зубок больше го¬
дился - лектором и преподавателем. Читал лекции на предприятиях и в учреж¬
дениях Москвы, потом по всей стране, издал ряд лекций и статей по злободнев¬
ным вопросам истории. Наработанный за военный годы материал оказался
весьма актуальным и полезным после войны, когда необычайно возрос интерес
не только к ’’текущей политике”, но и к истории США и международных отно¬
шений.
Без малого 40 лет жизни до самого последнего дня, посвятил Зубок любимо¬
му делу - изучению истории США.
Первые его статьи по сюжетам, связанным с американской историей, появи¬
лись еще в 20-е годы в США в левых изданиях. Переехав в СССР, безмерно
занятый, преподающий в нескольких учебных заведениях одновременно,
урывками он продолжал писать об Америке. Первые работы - по теме, хорошо
знакомой ему лично: история американского рабочего класса, профсоюзов,
социалистов. Среди них - интересная статья, впервые в нашей отечественной
литературе осветившая вопрос, через 20 лет ставший острым и злободневным, -
об истоках, корнях, говоря обобщенно, - об ’’уместности” в американских
условиях социализма и социалистического движения6. Одновременно Зубок
начал глубже изучать проблемы истории международных отношений7.
В 1948 г. было опубликовано первое крупное исследование Зубока, посвя¬
щенное внешней политике США8. В книге содержался новый материал и впер¬
вые поднимался ряд важных проблем, в частности об истоках формирования и
развития экспансионистской идеологии в США. Автор поставил целью показать
политику Соединенных Штатов в регионе, мало знакомом нашему читателю того
времени, вскрыть специфические методы этой политики, ее последствия. Солид¬
ная монография завершалась большим списком использованных источников и
литературы на русском, английском и испанском языках.
В работе Зубок обратил внимание на тезис, популярный тогда во многих
американских работах, - о том, что Карибский бассейн является ’’естественной
линией обороны” США, и показал, что ’’линия” действительно была, но не обо¬
роны, а экспансии. Главное внимание автор уделил методам экспансии, их раз¬
нообразию, переплетению, смене на разных этапах и в меняющихся условиях.
Этот вопрос был центральным в монографии. Детально изучив методы внешней
политики США в конце XIX - начале XX в., Зубок затем в более обобщенном
виде показал их эволюцию в 30-40-е годы, обрисовав переход от ’’дипломатии
63убок Л.И. У истоков коммунистического движения в США. — Историк-марксист, 1935,
№ 5/6.
1 Зубок Л.И. Дальний Восток после первой мировой войны и Вашингтонской конферен¬
ции. M., 1945; его же. США и Пакт Келлога. - Известия АН СССР. Серия истории и филосо¬
фии, 1946, № 5; его же. Экспансионисты США конца XIX — начала XX века. — Известия
АН СССР. Серия истории и философии, 1948, № 2.
в3убок Л.И. Империалистическая политика США в странах Караибского бассейна. 1900 —
1939. М.-Л., 1948.
159
большой дубинки” к ’’дипломатии доллара”, а затем к ’’политике доброго
соседа”. В свете этой эволюции автор не раз останавливался на новой роли
доктрины Монро, в том числе во время и после мировой войны. Именно здесь
современный читатель может заметить явные перегибы и излишнюю остроту
критики в адрес США. Однако Зубок не грешил против правды истории, против
фактов. А факты говорили о том, что экспансионистская политика, меняя свое
’’лицо”, существовала и развивалась.
Книга встретила положительный отклик в научных и преподавательских
кругах. Однако как раз в эти годы развернулась кампания борьбы с ’’космопо¬
литизмом”. ’’Проработке” подвергся и Зубок - его книга была несправедливо
и необоснованно раскритикована.
Наступили тяжелые времена. Но он уже испытал немало в 30-е годы, хотя
тогда репрессии обошли его. Теперь же беда коснулась и его. Он лишился
работы на истфаке МГУ и в других вузах. Много ночей ожидал ареста, не спал,
но продолжал работать, как одержимый. Семейное предание гласит, что от
ареста его спасло заступничество Светланы Сталиной, в то время студентки
истфака.
Прошли годы, и первая монография Л.И. Зубока была поставлена в ряд
’’серьезных исследований политики США”. Автор, констатировалось в солидном
историографическом труде, ’’рассмотрел малоизвестные сюжеты этой политики
в Мексике, Центральной Америке, Вест-Индии на большом временном отрезке
с начала XX в. и до второй мировой войны, уделив большое внимание характе¬
ристике экономического и политического положения в странах Карибского
моря”9. В фундаментальном издании по истории США отмечалось, что Зубок
вместе с другими историками положил начало научному изучению международ¬
ных отношений в Латинской Америке и политики США в этом регионе. Его
книга сыграла положительную роль, особенно в разработке истории внешнепо¬
литической идеологии США10 11. Позже Лев Израилевич вернулся к этой теме,
подготовив специальную статью11 и пространный обзор трудов известного
американского специалиста по внешнеполитической истории С. Бемиса12.
В 1956 г. Зубок участвовал в создании обобщающего труда по истории между¬
народных отношений на Дальнем Востоке13.
В 50-е годы Зубок вновь обратился к истории своего, как выразился один
рецензент, любимого героя - американского рабочего класса. В научных журна¬
лах и сборниках появились его статьи, содержавшие свежий фактический
материал, интересные оценки, постановку новых вопросов. Они открывали
перед читателем еще неизвестные или мало исследованные страницы жизни и
борьбы трудящихся США14. Ученый был близок к завершению большого труда
по данной теме. Но прежде чем это произошло, Зубок опубликовал вторую
крупную монографию, вписавшую его имя навсегда в нашу американистику.
Речь идет об ’’Очерках истории США”15.
9Историография новой и новейшей истории, т. I. М., 1968, с. 280, 298, 310.
10История США в 4-х т. Т. 2. 1877-1918. М., 1985, с. 567-568.
11 Зубок Л.И. Идеология экспансионистов США конца XIX - начала XX в. - Новая и
новейшая история, 1966, № 6.
123убок Л.И. Апология американской империалистической реакции в трудах С. Беми¬
са. — Вопросы истории, 1954, № 11.
^Международные отношения на Дальнем Востоке (1840—1949), 2-е изд. М., 1956-
1л Зубок Л.И. Рабочее и социалистическое движение в США в годы первой мировой
войны. — Вопросы истории, 1955, № 7; его же. Массовые бои рабочего класса США в 1890—
1894 гг. - Из истории общественных движений и. международных отношений. М., 1957.
153убок Л.И. Очерки истории США. 1877—1918. М., 1956.
160
Книга открывалась предисловием, весьма характерным для Льва Израилеви¬
ча: читатель предупреждался сразу же, что перед ним лишь попытка дать общий
обзор политической истории, рассчитанный на широкую публику. Автор ставил
перед собой, как он считал, ограниченную цель: дать краткий обзор классовой
борьбы в США, уделяя особое внимание массовым движениям и выступлениям.
Монография состояла из трех разделов: социально-экономическая история США
в 1877-1898 гг.; довоенный империализм; США в период первой мировой войны.
Эти коренные для развития Соединенных Штатов этапы в советской литературе
того времени освещались практически очень мало и недостаточно глубоко.
Зубок вновь шел ”по целине”, испытывая немалые трудности. Работе мешали
слабые возможности наших библиотек, захиревшие связи с американскими
библиотеками, отсутствие научных контактов с заокеанскими коллегами,
открытое и подчеркнуто резкое противостояние с США, вся атмосфера ’’холод-
ной войны”. Зубок задыхался от недостатка материалов - за все годы ’’холод-
ной войны” ему ни разу не удалось выехать поработать в зарубежных архивах и
библиотеках. Американцы ему отказывали во въездной визе в США как быв¬
шему работнику Профинтерна. Но чаще отказывали в выездной комиссии ЦК
КПСС. Так и пришлось Зубоку смириться с тем, что он, когда-то эмигрант и
американский коммунист, стал ’’невыездным”.
Систематизация и оценка фактов тоже были в те времена делом нелегким. В
отечественной науке утвердились стереотипы, рожденные сталинской концеп¬
цией истории, господствовавшим догматизмом и политизацие \ науки. Вовсю
’’гуляли” штампы о постоянно тяжелом положении трудящихся масс за рубе¬
жом и его дальнейшем ухудшении, клеймились ’’агенты Уолл-стрита” в проф¬
союзах и ’’лакеи монополий” в исторической науке.
Хотя книга называлась ’’Очерки”, Лев Израилевич представил, по сути,
серьезное научное исследование без всяких скидок на ’’очерковость”. Пора¬
жает список использованных им источников и литературы: привлечено почти
все имевшееся в библиотеках СССР. Список включал более 240 названий разно¬
образных источников и около 300 названий книг, брошюр, статей.
Монография Зубока насыщена фактами, многие из них впервые становились
известны советскому читателю. В основе исследования лежала марксистская
методология. Зубок принял марксизм еще молодым человеком и был искренне
привержен ему всю жизнь. Но он никогда не цеплялся за расхожие цитаты из
трудов классиков марксизма. Сквозной идеей книги было утверждение, что,
несмотря на всю специфику истории США, они шли своим, но не ’’исключитель¬
ным” путем, воплощая по-своему общие закономерности развития капиталис¬
тических стран. Америка, как и они, знала противоречия, кризисы, острую
политическую и классовую борьбу. В то же время Зубок, человек вообще-то
осторожный (а быть таким его заставила жизнь в только что отошедшую, но
очень свежую в памяти эпоху культа Сталина), в науке был достаточно смелым.
Именно в освещении проблемы общего и специфического он проявил мужество
ученого. Известно, что Сталин одно время требовал, в том числе и в науке,
соблюдать разумный диалектический подход к проблеме взаимоотношения
’’общее - особенное”. Но уже в 40-50-е годы он стал настаивать на примате
общего за счет особенного, и поиск всякой специфики в истории, например
зарубежных стран, превращался в дело недостойное, если не сказать опасное.
И вот в 1956 г. выходит книга, а писалась она, естественно, раньше, автор
которой громко борется с ’’исключительностью” США, и в то же время весь
материал его книги - это аргумент в пользу признания специфичности развития
Америки, равно как и других стран.
Конечно, в духе времени в книге рассказывалось о ’’невыносимых условиях
6 Новая и новейшая история, № 6
161
труда” рабочих, о росте относительного и абсолютного обнищения даже во
время военного ’’бума”, о разложении буржуазной демократии, коррупции и
т.п. Но тут же приводилось много фактов о росте экономики, успехах науки и
техники, повышении образовательного уровня масс. Тон книги - спокойный,
без разоблачительного пыла и страсти. Научная добросовестность автора про¬
явилась и в организации монографии. У нее обстоятельный научно-справочный
аппарат: хронология событий, обширная библиография, указатели имен и геог¬
рафических названий, много таблиц, схем и карт. Аккуратность и точность
автора были своего рода ’’фирменным знаком” Зубока.
’’Очерки по истории США” тут же попали в центр внимания научной общест¬
венности, которая высоко оценила книгу. Появилось несколько рецензий,
написанных известными американистами. Тогда льстиво-комплиментарный
стиль рецензий 70-80-х годов был еще не в моде. Рецензии были сдержанными,
но главное и положительное, равно как и недостатки, было отмечено. В рецен¬
зии ленинградского историка В.К. Фураева16 подчеркивалось, что книга Зубока
заполняет пробел в нашей американистике, содержит немало нового в освеще¬
нии ряда проблем, в частности истории США в годы первой мировой войны,
написана хорошим языком. В то же время рецензент уважительно, но ясно
подметил отдельные недостатки, главным образом вопросы, неполно освещен¬
ные автором. В других рецензиях обращалось внимание на систематичность
изложения основных событий, глубину их анализа и обобщений17. Книга Зубока
стала важным подспорьем * для дальнейшей работы наших американистов,
прежде всего создания первого обобщающего труда по всей американской
истории18.
Между тем Зубок вновь обратился к исследованию любимой и хорошо из¬
вестной ему темы истории рабочего движения США на разных этапах. Об этом
свидетельствовали его статьи в журналах и сборниках. Ряд проблем поднимал¬
ся впервые в советской литературе19. Одновременно публиковались рецензии
Зубока на книги, так или иначе связанные с этой темой20.
Одна из интересных статей по рабочему движению увидела свет в сборнике
трудов советских историков, приуроченном к 100-летию гражданской войны в
США. Лев Израилевич выступал здесь и в качестве соредактора совместно с
А.В. Ефимовым. В статье обстоятельно рассказывалось о ’’Национальном
рабочем союзе” - одной из первых пролетарских организаций в Америке, а
1бСм. Новая и новейшая история, 1958, № 2.
Белявская И,А, и Руденко Б,-Т, Новое исследование по истории США. - Коммунист,
1957, № 11.
10Очерки новой и новейшей истории США, в 2-х т. М., 1961.
19Зубок Л,И. Рабочее и социалистическое движение в США в годы первой мировой вой¬
ны. — Вопросы истории, 1955, № 7; его же. Массовые бои рабочего класса США в 1890—
1894 гг. — Из истории общественных движений и международных отношений. М., 1957; его
же. Подъем массового рабочего движения в США в 1919—1920. — Новая и новейшая история,
1957, № 4; его же. Массовое рабочее движение в США в 80-х годах XIX в. — Из истории рабо¬
чего класса и революционного движения. М., 1958; его же. Идеология и тактика американ¬
ских тред-юнионов в 1897—1904 гг. — Новая и новейшая история, 1960, № 3; его же. Идеоло¬
гия и тактика Союза ”Индустриальные рабочие мира” (1908—1915). — Новая и новейшая исто¬
рия, 1961, № 2; его же. Борьба течений в социалистической партии США (1901—1912). — Вопро¬
сы истории, 1961, № 2.
203убок Л,И, Уильям 3. Фостер как историк. — Вопросы истории, 1956, № 2; его же. Лето¬
пись классовых боев в США. - Мировая экономика и международные отношения, 1957,
№ 5; его же. Рецензия на кн.: Г.П. Куропятник. "Вторая американская революция”. — Новая
и новейшая история, 1962, № 4, и др.
162
также освещались вопросы отношения рабочих к рабству и гражданской
войне21.
Все эти публикации - части, большого исследования по истории рабочего
движения США, выпущенного Зубоком в 1962 г.22 Хронологические рамки
книги - от гражданской войны до окончания первой мировой войны. Этот
период всю жизнь привлекал внимание ученого. Монография стала заметным
явлением в советской историографии, может быть, еще и потому, что долго,
обстоятельно и всесторонне готовилась автором. А.З. Манфред вспоминал, что
Зубок работал медленно, проявлял требовательность к себе, добросовестность
и крайнюю тщательность в труде. Не выпускал скороспелых поделок, привык
работать добротно и прочно23. Первую и вторую его книги разделяли восемь лет,
третья, хотя задел был громадным, вышла через шесть лет, последняя - через
семь.
История рабочего движения - приоритетная в советской историографии тема.
С нее когда-то начиналось и наше американоведение. Но лишь теперь, на рубеже
50-60-х годов, был накоплен материал, отработаны подходы и концепции.
Сделано было много, в том числе и Зубоком. Все это надо было систематизиро¬
вать и подытожить. Такую попытку и предпринял Лев Израилевич в работе, не
совсем точно, но вполне в духе его скромности названной ’’Очерками”. На
самом деле книга представляла целостное, комплексное, систематизированное
и глубокое исследование всех сторон истории рабочего класса и классовой
борьбы США на рубеже двух эпох: ’’свободного” и монополистического капита¬
лизма. Одновременно затрагивались проблемы экономики, внутренней полити¬
ки, давались характеристики многим деятелям и событиям. Под прицелом
вновь оказалась теория ’’исключительности” развития американского рабочего
класса и самой Америки. Автор на новом материале проводил свою уже извест¬
ную нам идею: путь США - особенный, специфичный, своеобразный, но не ис¬
ключительный. Завершала книгу большая историографическая глава, где,
пожалуй, впервые в нашей науке давался анализ огромной литературы, создан¬
ной историками США, была сделана попытка более или менее четко выделить
направления и школы американской историографии рабочего движения.
В рецензии Е.Б. Черняка24 говорилось, что книга Зубока - крупная работа,
подводящая итог десятилетиям труда не только автора, но и всей нашей науки.
Рецензент особо выделил ’’последовательный историзм автора”, оценивавшего
явления или события по ходу их зарождения и развития, а не только по ’’конеч¬
ному результату”. Отмечена была и научно обоснованная попытка дать перио¬
дизацию рабочего движения, которая тогда еще медленно пробивала себе
дорогу. Позднее работа Зубока была названа обобщающим трудом, который стал
’’важным достижением советской историографии”25. Книга оказалась своеобраз¬
ным плацдармом, опираясь на который наши ученые, большей частью молодежь,
развернули исследование всех сторон истории рабочего класса США в конце
XIX и в XX в.
Появление ’’Очерков” окончательно закрепило за Зубоком место одного из
ведущих наших историков-американистов.
21К 100-летию Гражданской войны в США. Отв. ред. А.В. Ефимов и Л.И. Зубок. M.,
1961.
223убок Л.И. Очерки истории рабочего движения в США. 1865—1918. М., 1962.
23Манфред А.З. Указ, соч., с. 10.
24Черняк Е.Б. Рецензия на кн.: Л.И. Зубок. "Очерки истории рабочего движения в США.
1865—1918”. — Новая и новейшая история, 1963, № 1.
25История США в 4-х т, т. 2, с. 564; см. также: Историография новой и новейшей истории,
т. I, с. 264.
6
163
Лев Израилевич продолжал разрабатывать эту тему, опубликовав несколько
статей26, а также рецензий, в которых поддержал тогда молодых И.П. Дементье¬
ва, Е.Б. Черняка, Н.Н. Яковлева27. Вскоре Зубок предстал в новом качестве,
неожиданном для многих, но не для тех, кто близко знал его. Он оказался
ответственным редактором двухтомника по истории II Интернационала28. В 20-е
годы о II Интернационале писали много и часто. Однако печально памятное
вмешательство Сталина в 1931 г. в дискуссию на эту тему круто изменило
развитие всей отечественной исторической науки, а саму тему II Интернациона¬
ла практически закрыло. В общих трудах, популярных брошюрах и учебниках
II Интернационал предавался анафеме как ’’целая полоса безраздельного
господства оппортунизма”. ’’Оттепель” 1954-1956 гг. вернула для исследований
историю II Интернационала. В числе прочих была начата работа и над двухтом¬
ником, задуманным как обобщающий итоговый труд. В состав редколлегии
вошли известные ученые А.Л. Нарочницкий, В.М. Далин, Е.И. Рубинштейн,
В.М. Турок и др.
Пока создавался авторский коллектив, отбирался и осмыслялся материал,
времена переменились, ’’оттепель” сменили новые ’’заморозки”. К руководству
идеологической работой и контролю за деятельностью историков пришли люди,
строго следившие за ’’чистотой марксизма”, как они ее понимали и трактовали.
Работа на многих направлениях исторической науки затормозилась. Появились
сбои и в работе над историей II Интернационала. Тогда-то на посту ответственно¬
го редактора и оказался Зубок. О том, как это произошло, вспоминал Манфред:
’’Трудно сказать, почему, да и нет нужды вдаваться в причины, но дело не шло,
коллектив давно работал, а труд не продвигался к завершению. Так было до тех
пор, пока Л.И. Зубока не пригласили быть главным редактором издания. Он
взял руководство подготовкой этого непростого, имевшего особые трудности
издания в свои руки, и работа сразу наладилась. Издание было завершено.
Книги вышли в свет и получили заслуженно высокую оценку научной общест¬
венности”29.
Отметим, что новый пост имел и свои деликатные особенности: в коллектив
авторов входили сверстники Зубока, известные ученые, крупные специалисты
по истории II Интернационала. Надо было сплотить их в ’’коллектив равных” и
возглавить его, взяв на себя прежде всего ответственность за все издание. Это и
сделал Лев Израилевич, сделал спокойно, доброжелательно, уважительно, но
твердо и требовательно. Добавим, что Л.И. Зубок явился еще и автором ряда
материалов двухтомника: введения и нескольких параграфов.
Работа над историей II Интернационала шла в известной мере в русле преж¬
них интересов ученого - истории борьбы классов, рабочего и социалистическо¬
го движения. Но уже тогда, в начале 60-х годов, Зубок задумал расширить, а в
какой-то степени и круто изменить фронт своих исследований - заняться
гражданской историей. Возможно, что определенное влияние на это решение
оказало знакомство с книгой Н.Н. Яковлева по новейшей истории США, на
которую Зубок писал рецензию. Тогда, в начале 60-х годов, Яковлев и Зубок
задумали совместно написать новейшую историю США. Однако в вышедшей в
1972 г., уже после смерти Льва Израилевича, книге ему принадлежат лишь три
263убок Л.И. Ленин об американском империализме и рабочем движении. — Новая и
новейшая исторля, 1963, № 2.
27См. Вопросы истории, 1963, № 3; 1965, № 6.
28История Второго Интернационала. Отв. ред. Л.И. Зубок, т. I—II. M., 1965—1966.
29Манфред А.З. Указ, соч., с. 10.
164
небольших параграфа по проблемам внутренней политики и классовой
борьбы30.
Начало 60-х годов оказалось для Зубока временем весьма плодотворным.
Вышла солидная книга по истории рабочего движения, началась подготовка
монографии по истории внешней политики. Было опубликовано несколько
больших статей31 и содержательных, нестандартных рецензий. В одной из них
Зубок разбирал сборник документов ’’Великий Октябрь и прогрессивная Аме¬
рика”. Рецензия ’’выдавала” автора как современника и участника событий,
представителя той ’’передовой части трудящихся”, о которой рассказывали
документы сборника. Характерны его замечания: пропущена одна из речей
’’Американского Бебеля” Юджина Дебса, напрасно не показаны выступления в
защиту Советской России военных, деловых людей, сенаторов и других пред¬
ставителей ’’господствующих кругов”32.
Но главным делом ученого стало в те годы исследование внешней политики
США начала XX в. Лев Израилевич работал методично, упорно, не щадя сил.
Кое-что по теме было уже написано и опубликовано, еще больше собрано,
прочитано, обдумано. Книга должна была состоять из 14 глав и обширных
научно-справочных приложений. Зубок не торопился, наслаждаясь самим
процессом работы, привлекая малоизвестные, а то и вовсе не востребованные до
того архивные материалы. Работе с ними он придавал особое значение. В пого¬
жий осенний день 66-го года я встретил Льва Израилевича по пути в Институт
истории, который помещался тогда на улице Дмитрия Ульянова. Узнав, что я
иду из Архива внешней политики России, Зубок сказал удовлетворенно: ”Вы
правильно делаете, молодой человек, что работаете в архивах. Ничто их не
заменит, никакие публикации документов, никакой пересказ, никакое бойкое
переложение”. Лев Израилевич посетовал, что нынче молодежь не любит сидеть
в архивах, спешит прочитать новомодную зарубежную книгу. ’’Нет, - заключил
Лев Израилевич, - начинать работу надо с архивов. И вы не пожалеете об этом.
Ведь это так интересно!”
Зубок говорил искренне, не ради назидания. В ту пору он просиживал в
архиве долгие часы, внимательно вчитывался в документы, делал выписки и
еще больше отдавал перепечатывать - у него была такая привилегия в АВПР.
Почти на всех страницах его последней книги, посвященной внешней политике
США на рубеже двух столетий (она вышла уже после смерти Льва Израилевича
в 1969 г.)33, читатель встретит многочисленные ссылки на архивные документы.
И еще одна особенность этой работы. Часть ее сюжетов уже освещалась наши¬
ми историками. Зубок тщательно изучил их труды и использовал в книге,
уважительно назвав своих предшественников: Е.В. Тарле, Б.А. Романова,
А.А. Гальперина, Л.Н. Кутакова и многих других.
Но основная черта его последней монографии - рассмотрение проблем,
включая и уже изучавшиеся, под новым углом зрения. Новое состояло в комп¬
лексном подходе, в изучении всей связки противоречий США, Японии, России и
европейских держав, политики Вашингтона по всему мировому экономическо¬
му и политическому пространству. Заново, со многими дополнениями и уточ¬
З03убок Л.И., Яковлев Н.Н. Новейшая история США. М., 1972, с. 195—210, 221—229,
268-286.
31 Зубок Л.И. Идеология экспансионистов США конца XIX — начала XX века. — Новая и
новейшая история, 1966, № 6; его же. Юджин Дебс — защитник дела Октября. Документаль¬
ный очерк. — Вопросы истории, 1967, № 8.
З23убок Л.И. Рецензия на книгу "Великий Октябрь и прогрессивная Америка. Сб. доку¬
ментов и материалов”. — Новая и новейшая история”, 1967, № 5.
33Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в начале XX века.
165
нениями, были рассмотрены американская политика в Карибском бассейне, на
Дальнем Востоке, в Китае, зоне Панамского канала. В общую ткань экспансии
США была вплетена деятельность американцев в Турции, Иране, Северной
Африке. По-новому рассматривалась идеология экспансионизма, ее основные
доктрины.
Автор показал прекрасное знание фактического материала, глубокое и
тонкое проникновение в дипломатические хитросплетения, умение выделить
главное и преподнести его просто, без насыщенных деклараций и пропагандист¬
ской шумихи, но убедительно, выпукло. Удалось Зубоку передать и ’’биение
пульса” тревожной, предгрозовой эпохи начала XX в.
Последняя, оставшаяся незаконченной книга Зубока вызвала большой
интерес. Общее мнение было единодушно положительным. На книгу были
опубликованы сразу три рецензии, а это бывает очень редко. В рецензии Т.Н. Се¬
востьянова указывалось, что книга - результат многолетней исследовательской
работы автора, она восполняет пробел в советской литературе. Рецензент
отметил многоплановость, комплексное освещение политики США, поставлен¬
ной в центр широкого полотна исторического развития. Труд Л.И. Зубока
характеризовался как важный этап в исследовании проблем истории внешней
политики и дипломатии США в начале XX в. ’’Историки не раз будут обращаться
к этой книге”34.
В рецензии И.А. Белявской отмечалось внимание ученого к взглядам людей,
которые оказывали влияние на политику США, глубокое исследование идеоло¬
гического обоснования американской экспансии, привлечение многих свежих
материалов из архивов35. Исследование Зубока получило заслуженно высокую
оценку и в наши дни - как крупное обобщающее исследование, в немалой
степени подводящее итоги общей работы советских историков36.
Готовя монографию, Лев Израилевич собрал большой материал. Но ученый
считал, что собрал еще не все, и в мае 1967 г. отправился в Ленинград, порабо¬
тать там в архивах. Чувствовал он себя неважно: сказывались годы, упорная
работа, перенесенные болезни, его мучила бессонница. Но Зубок все же поехал.
Остановился в гостинице ’’Европейская”. Поздним вечером 13 мая он вернулся
в гостиницу и, приняв снотворное, лег спать. В полночь громко зазвонил
телефон. Лев Израилевич с трудом проснулся. Сдерживая себя, спросил, в чем
дело. Оказалось: приехали зарубежные туристы, надо для них срочно освобо¬
дить номер. До предела возмущенный, Зубок спустился к администратору. Была
глубокая ночь. Разговор с администратором закончился трагически: Зубок упал
у стойки замертво37.
После смерти Льва Израилевича друзья и коллеги вместе с его вдовой Алек¬
сандрой Михайловной разобрали рукописи и подготовили книгу к изданию.
Образовалась своего рода редакционная коллегия: академик А.А. Губер и
доктора исторических наук М.С. Альперович и В.М. Далин; Губер взял на себя
обязанности ответственного редактора. А.З. Манфред вместо предисловия
написал краткий, но содержательный очерк о жизненном и творческом пути
покойного друга.
Каким был Лев Израилевич Зубок - ученый, преподаватель, лектор, че¬
ловек? Все, знавшие Зубока-исследователя, отмечают его огромную эрудицию,
большие способности, великолепную память, исключительную собранность,
34Вопросы истории, 1970, № 6.
35Новая и новейшая история, 1970, № 3. См. также: Латинская Америка, 1970, № 1.
3бИстория США в 4-х т., т. 2, с. 569.
37Литературная газета, 7.VI.1967.
166
организованность,обязательность и добросовестность, огромную, не убывавшую
с годами работоспособность. К любому делу Зубок относился ответственно, для
него не было мелких или неважных дел. Все он старался делать хорошо, доб¬
ротно и в срок. Он был активным и очень полезным членом редколлегии жур¬
нала ’’Новая и новейшая и история” со времени его основания в 1957 г., старал¬
ся всемерно поддерживать молодых авторов, делал ценные и всегда конструк¬
тивные замечания по статьям.
Как всякий автор, Лев Израилевич имел самолюбие, но критику - без вос¬
торга, конечно, - принимал и выводы из нее делал. Когда вышли ’’Очерки
истории США”, один из рецензентов писал, что в них недостаточно освещен
вопрос о ’’новой иммиграции” в начале XX в. В следующей книге Зубока рецен¬
зенты уже отметили полное и всестороннее освещение вопроса об иммиграции
как одно из достоинств работы. В тех же ’’Очерках” была допущена мелкая
фактическая ошибка. Один из молодых провинциальных американистов пись¬
менно указал на нее автору. В следующей книге Зубока ошибка была исправле¬
на. История на этом не кончается. Лев Израилевич был назначен оппонентом
по диссертации своего ’’критика и дал положительный и уважительный отзыв.
Этот частный случай характеризует его и как человека и как ученого.
Сейчас, конечно, мы можем упрекать Зубока в излишней, местами даже
навязчивой идеологизации и политизации истории США в его печатных работах
и лекциях. Судить историка за это не приходится: он был человеком своего
времени, должен был учитывать его требования, ’’спрос” идеологического
руководства и издательств. Но он не притворялся. Что такое ’’железная пята”
монополий и полицейские гонения в США, коррупция среди профбоссов и
нужда масс, он познал не из книжек, а своей собственной жизнью.
Некоторые положения в его трудах сегодня можно охарактеризовать как
проявление догматизма и пропагандистские штампы. Но Зубок не был догма¬
тиком. Он пытался и в навязанные схемы вложить творческое начало, стремил¬
ся найти сам или поддержать новое, найденное другими. В книгах Зубока
можно встретить резкие, с сарказмом характеристики буржуазных деятелей с
обязательными в те времена ироническими кавычками (’’заслуги” или, скажем,
’’достижения” У. Тафта, Т. Рузвельта и пр.), но историк нигде и никогда не игно¬
рировал, не искажал подлинного масштаба и значения этих и других политиков
и дипломатов. Он действительно разоблачал экспансионистскую политику
правящих кругов США в XIX - начале XX в., но никогда не опускался до
плакатного карикатурного ’’разоблачительства” и очернительства, бранных
эпитетов и определений. Он был ученым, исследователем, знал факты и твердо
опирался на них. Он знал меру, меру во всем.
Зубок был прежде всего работником. Он работал много, охотно, с интересом,
можно сказать, со вкусом. Трудился напряженно, творчески, очень требова¬
тельно к себе. Примерно за 40-45 лет напряженного неустанного научного твор¬
чества он создал более 200 работ. Он не гнался за модой. Характерна и не слиш¬
ком выигрышная для автора строгость, некая ’’академичность” и сухость
изложения в книгах Льва Израилевича. А между тем он любил юмор и был остер
на язык, но полагал, что научная книга - не сборник анекдотов, она должна
быть серьезна, строга. По мнению ученого, не красоты стиля, но сила фактов,
убедительность выводов и оценок, строгая логика должны определять ее лицо.
Зато каждая книга Зубока - это полноценное научное исследование капиталь¬
ного характера, без которых нельзя представить и сегодня наше американове¬
дение.
Зубок был эрудированным ученым, крупным знатоком всемирной истории.
Знания у него были обширнейшие, ’’свою” Америку, ’’свой” период в ее истории
167
он знал досконально, до мельчайших событий, дат, имен. Но он глубоко пони¬
мал историю вообще, ее закономерности. Отсюда его большой авторитет в
науке. Ученого отличали и идейная убежденность, верность раз принятым
принципам, смелость в их отстаивании. В спорах и дискуссиях был тверд, гово¬
рил аргументированно. Если надо - с иронией и сарказмом. Был бойцом по
характеру и оставался им до конца жизни. Отличала Зубока и научная щедрость
- он не таил внутри себя знания, всегда делился ими с коллегами, учениками,
студентами. Для аспирантов, которыми он руководил, не жалел ни времени, ни
сил.
Зубок - лектор, преподаватель, оратор был очень хорош. Он говорил без
’’взрывов” эмоций, эффектов красноречия, энергических жестов. Аудиторию
увлекали широта знаний лектора, стройная логика, убежденность, умение
подвести слушателя к самостоятельным выводам и оценкам. Но в нужный
момент Зубок ’’оживлял” свой рассказ шуткой или критическим замечанием.
Зубок - человек... Среднего роста, плотный, подтянутый, на вид неторопли¬
вый, излучавший спокойствие. В последние годы - большая лысая голова,
твердый взгляд. И где-то в глубине глаз - смешинка. В жизни он был на ред¬
кость обаятелен, отличался скромностью, все той. же неторопливостью, осмот¬
рительностью в поступках. Выдержка не покидала его. Они никогда не повышал
голоса, говорил спокойно, подбирая понятные всем слова и выражения. Но
тонкий юмор, незлобивая шутка, иногда не без перца, острое словцо всегда
были с ним.
Зубок был примерным семьянином, преданным мужем, отцом, дедом. Его
жена, друг и помощник Александра Михайловна, помогавшая ему в работе уже
над книгой 1948 г., что ее автор отметил особо, рассказывала: ’’Помимо работы
почти не хватало времени на увлечения для души. Но они были: как у многих
интеллигентов, было пристрастие к собиранию книг, старинных вещей (он мог
часами ходить по магазинам и антикварным лавкам); коллекционирование
редких пластинок, в том числе с еврейскими песнями и мелодиями. Часто Лев
Израилевич снимал что-нибудь с полки, где стояли его собрания, и дарил уче¬
никам”.
С молодежью он общался без профессорского менторства, надменности, но и
без панибратства и заигрывания. Зубок был физически крепким, не чурался
спорта, уже в преклонном возрасте очень полюбил коньки.
Зубок был сыном своего времени. Будучи незаурядным человеком, естест¬
венно, имел врагов, соперников. За его спиной нередко рассказывали разные
истории, легенды, анекдоты, приписывали ему не очень ’’выдержанные” слова и
выражения. Конечно, Лев Израилевич был не чужд всего человеческого, в том
числе и недостатков. Но больше в нем было достоинств. И среди них - редкие в
наше время жизнерадостность и жизнестойкость. Он любил жизнь, а в жизни
больше всего любил работу и людей. Это помогало ему побеждать время и
возраст. Всегда верящий в добро - таким остался он в памяти людей, знавших
его. Остаются и труды Зубока - основательно фундированные, без которых
нельзя представить нашу американистику, нашу историческую науку.
168
Из зарубежной книги
© 1992 г.
У. ШИРЕР
БЕРЛИНСКИЙ ДНЕВНИК*
Нюрнберг, 20 ноября, вторник
(1945 г. - Ред.)
Вот он, апогей! Вот он, этот момент, котопого ты ждал все эти мрачные,
отчаянные годы! Ждал, чтобы увидеть, как Правосудие настигает Зло. Чтобы
увидеть, как оно схватило этих варваров, этих жалких маленьких человечков,
которые чуть было не угробили весь мир. Вот он, настоящий конец долгой ночи,
окончание чудовищного, отвратительного кошмара.
Только посмотрите, как эти когда-то могущественные люди так низко пали!
Лишившись власти, славы и блестящих парадных нацистских мундиров, какими
маленькими, скромными посредственностями выглядят они, эти 20 обвиняемых,
сидящих сегодня на скамье подсудимых! Как же оказалось возможно - задаешь
себе вопрос, - что эти жалкие люди в поношенных костюмах, люди, которых
бьет нервная дрожь, всего лишь пять лет назад, когда я их видел в последний
раз, держали в своих руках чудовищную власть? Как смогли они, эти люди,
ерзающие на своих местах, подмять под себя такую великую нацию и завоевать
почти весь мир? Произошедшая с ними метаморфоза просто поражает. Разве эти
люди - те самые завоеватели, гордо вышагивающие вожди расы господ? Внезап¬
ная утрата власти тут же лишила их привычной наглости, высокомерия, грубос¬
ти, тех черт, которые были самой их сутью на протяжении всех тех лет, когда
мне приходилось их наблюдать. Как быстро превратились они в разбитых, без¬
вольных, несчастных маленьких человечков!
Когда я вошел в 9 часов 40 минут утра в зал суда, они все уже сидели на
скамье подсудимых. [...] Около 10 утра судебный пристав, чьи манеры и голос нс
оставляют сомнения в том, что его только что сюда доставили прямо из зала
английского суда, громко обращается к публике в суде с призывом встать по
стойке ’’смирно”. Обвиняемые, всегда четко исполняющие любой приказ, вскаки¬
вают. Судьи входят в зал. [...]
Без излишней суеты судья Лоуренс стучит костяшками пальцев по столу, при¬
зывая публику к тишине, и приступает к зачтению своего вступительного слова.
"Суд, - говорит он, - который мы сейчас открываем, - уникален в истории миро¬
вой юриспруденции и имеет чрезвычайно важное значение для миллионов людей
во всем мире. В силу этих причин на всякого, кто принимает участие в этом
суде, ложится торжественная ответственность исполнять свои обязанности без
страха и упрека в соответствии с принципами закона и справедливости... Обязан¬
ность всех тех, кого это касается, - следить за тем, чтобы этот суд не отошел
от принципов и традиций, которые только одни и наделяют правосудие властью
и указывают то место, которое оно должно занимать в делах всех цивилизо
ванных государств”.
Окончание. Начало см. № 3 нашего журнала за 1992 г.
169
Он предупреждает, что ’’Трибунал будет настойчиво требовать исполнения
установленного порядка и соблюдения приличий и в этом отношении готов при¬
нять любые самые строгие меры”.
Затем, неспешно приступая к делу, он кладет на стол текст обвинения. Все в
зале знают его почти наизусть, но это суд и здесь должна быть соблюдена опре¬
деленная процедура. Обвинение должь о быть зачитано. Судья Джэксон призы¬
вает своего первого заместителя Олдермана приступить к скучной церемонии
чтения. Позже его сменяют английский, французский и русский прокуроры.
’’Соединенные Штаты Америки, - торжественным тоном провозглашает Ол¬
дерман, - Французская республика, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии и Союз Советских Социалистических Республик против Гер¬
мана Вильгельма Геринга, Рудольфа Гесса...”
Один за другим зачитываются четыре пункта обвинения: первый - обвинение
в заговоре с целью совершения преступления против мира, военные преступле¬
ния и преступления, направленные против человечества; второй - подробное
обвинение в преступлениях, совершенных против мира; третий - военные прес¬
тупления; четвертый - преступления, совершенные против человечества. Все
виды чудовищных преступлений, к которым, кажется, мы уже привыкли, огрубев
душой, вновь подробно и тщательно перечисляются. Обвиняемым скучно. Всем
остальным тоже. [...]
Нюрнберг, 21 ноября, среда
Кажется, сегодня мы услыхали одно из самых важных обращений суда в
истории. Вступительное слово за Соединенные Штаты зачитал судья Джэксон, и
оно, скажем прямо, не явилось шедевром ораторского искусства, да и самого
Джэксона при его публичных выступлениях никак не назовешь Цицероном.
Необходимость говорить медленно, чтобы за речью могли поспеть переводчики,
позволила ему произнести почти бесстрастную речь, к чему он сам так стремился
и что, наконец, ему удалось сделать. Он говорил ясным, ровным голосом: [...]
’’Наше судебное расследование приобретает особое значение только потому,
что эти обвиняемые, эти пленники олицетворяют собой все те зловещие
отзвуки, которые будут давать о себе знать еще долгое время после того, как их
тела превратятся в тлен. Они - живые символы расовой ненависти, террора и
насилия, являющихся следствием высокомерия и жестокости власти. Они до
такой степени отождествляли себя с разработанной ими же философией и с
силами, которые они сами направляли, что всякое проявление мягкости к ним
может стать победой и поощрением Зла, связанного с их именами”.
Затем он излагает суть дела, обрисовывает нацистский заговор с целью веде¬
ния агрессивной войны и совершения преступлений против человечества. Факты,
цифры, выдержки из секретных нацистских документов льются рекой. [...]
"Наши доказательства отвратительны, - предупреждает он суд, - и вы буде¬
те обвинять меня в том, что я лишил вас сна... К своим жестоким экспериментам
нацисты добавили и просто бесчеловечные... в Дахау... жертвы погружали в хо¬
лодную воду и удерживали там до тех пор, пока температура их тела не снижа¬
лась до 28 градусов по Цельсию, и все они тут же умирали. Такие "опыты” про¬
водились в августе 1942 г., но затем техника врачей стала еще более изощрен¬
ной. К февралю 1943 г. был составлен доклад, в котором сообщалось о том, что
30 человек были охлаждены до температуры от 27 до 29 градусов, в результате
чего их руки и ноги побелели. Затем тела были "отогреты” в горячей ванне. Но
к триумфу, одержанному нацистскими учеными, их толкало "звериное сердце”.
Едва не доведенного до смерти через чрезмерное охлаждение человека помеща¬
ли среди живых тел обнаженных женщин. Когда он приходил в себя, то бессоз¬
нательно совершал половой акт. Здесь садизм нацистов достиг своего крайнего
предела”. [...]
170
Джэксон начал говорить в 11 часов 5 минут утра и после перерыва на обед
продолжал до вечера. Теперь он дошел до заключительной части.
’’Этот суд представляет собой отчаянные усилия, предпринятые человечест¬
вом с целью применения силы закона к тем государственным деятелям, которые
использовали силу своего государства, чтобы подорвать основы мира во всем
мире... Это... еще один шаг, предпринятый с целью доказать, что тем, кто за¬
тевает войну, придется заплатить за это каждому в отдельности... Истинным
истцом в нашем деле является Цивилизация".
Благородная позиция, и она вступает в кричащее противоречие с обветшав¬
шей концепцией закона и нравственности, представленной довольно разношерст¬
ной группой немецких защитников, стремящихся отменить чтение обвинитель¬
ного заключения на сегодняшнем утреннем заседании суда. Их аргументация -
лишнее доказательство того, как мало немцы вынесли из катастрофы, которую
потерпел нацистский эксперимент. [...]
Все эти высокоученые немецкие юристы, среди которых, конечно, немало
убежденных нацистов, естественно, до смерти напуганы своими беспокойными
клиентами и заканчивают свое заявление смехотворным предложением отка¬
заться от судебного процесса как такового и заменить его "простым рассле¬
дованием" того, что произошло. Они в этой связи выкладывают еще одну "ко¬
зырную карту", призывая после этого расследования "все общество относящихся
с уважением к закону наций впоследствии создать закон, определяющий нака¬
зание для таких лиц, которые намеренно будут пытаться в будущем развязать
несправедливую войну".
Таким образом, нацистские преступники должны быть немедленно освобож¬
дены из-под стражи! Но их слова не производят никакого впечатления на судью
Лоуренса, и он терпеливо объясняет защитникам обвиняемых, что такая поста¬
новка вопроса противоречит статье III Устава, которая постановляет, что дейст¬
вия Трибунала не могут ставиться под сомнение ни обвинением, ни защитой. Так
что их запрос принят не будет.
После краткого перерыва, чтобы дать немецким адвокатам возможность
провести консультации со своими клиентами по поводу их прошений, английский
судья объявляет: "Теперь я обращаюсь к обвиняемым с вопросом: виновен или
не виновен?"
Геринг при упоминании своего имени быстро поднимается с места и идет к
микрофону, расположенному перед скамьей подсудимых. Чувствуется, что
вот-вот из тайников его души готова излиться драматическая речь. "Перед тем,
как..." - начинает он, но судья Лоуренс не дает ему закончить фразу. Слышится
раскатистый стук его молотка. "Я уже объяснил, - резко замечает он, - что об¬
виняемым не дозволяется произносить здесь речи". Некогда могущественный
рейхсмаршал смущен. Он не привык к такому обращению. Он недовольно фыр¬
кает. Затем сердито бросает: "Невиновен!"
Следующим подходит к микрофону Гесс. Он с вызовом выкрикивает всего
одно слово: "Невиновен!"
Все обвиняемые заявляют о своей невиновности. Затем Геринг подскакивает
к микрофону второй раз. Он явно желает высказаться. Но Лоуренс не позволяет
себя запугать даже Герингу. "Вам разрешается обращаться к Трибуналу только
через своего адвоката", - напоминает он ему. Геринг бессильно плюхается на
свое место. Теперь наступает время для судьи Джэксона представить аргумен¬
тацию обвинения. [...]
Нюрнберг, 22 ноября, четверг
[...] Сегодня днем американское обвинение выгрузило в суде и обрушило на
нас 91 тыс. слов секретных документов, в которых прослеживается ведущая к
агрессивной войне дорога, намеренно избранная нацистами. Обвиняемые, сидя¬
171
щие на скамье подсудимых, были просто поражены. [...] Здесь представлено все
то, что они говорили на своих тайных встречах, разрабатывая планы ведения
тотальной войны. [...]
Большую часть этих документов я видел в Берлине и изложил в этих своих
сделанных наспех заметках. Сегодня я обнаружил кое-что новенькое о предвари¬
тельном взаимопонимании, достигнутом в Берлине 4 апреля 1941 г. между Гитле¬
ром и японским министром иностранных дел Ясукой Мацуокой в отношении пред¬
полагаемой войны против Соединенных Штатов. [...] Немецкое правительство
сохранило в своих секретных архивах полную запись разговора между Гитлером
и Мацуокой. Приведу наиболее важные из него отрывки:
’’Фюрер обратил внимание (Мацуоки) на то, что Германия незамедлительно
отреагирует на последствия в случае вступления Японии в конфликт с Соединен¬
ными Штатами... Поэтому Германия без задержки нанесет удар в случае конф¬
ликта, возникшего между Японией и Америкой".
Мацуока со своей стороны не оставил у Гитлера и тени сомнений в том, что
Япония намеревается в скором времени нанести удар по Соединенным Штатам.
Секретная стенограмма говорит об этом весьма недвусмысленно:
"Что касается японско-американских отношений, то Мацуока объяснил, что...
рано или поздно, но войны с Соединенными Штатами избежать не удастся... По
его мнению, этот конфликт произойдет скорее рано, чем поздно. Приведенная
аргументация: почему бы Японии не нанести решающий удар в нужный момент и
не взять на себя риск ведения войны с Америкой?"
В этот момент хитрый японский министр иностранных дел признался фюреру,
что в Японии есть люди, которые "выражают колебания в отношении таких
мыслей" и считают Гитлера "опасным человеком". Гитлер, вероятно, почувство¬
вал необходимость немного ободрить своего собеседника в отношении амери¬
канцев. Немецкая стенограмма продолжает:
"Германия (сказал Гитлер) уже заранее приняла меры, чтобы воспрепятст¬
вовать высадке в Европе хотя бы одного американца, Германия предпримет
самую энергичную подводную войну с помощью своих лодок и люфтваффе,
используя свой предыдущий опыт... она продемонстрирует свое очевидное значи¬
тельное превосходство, не говоря уже о том факте, что немецкий солдат, вполне
естественно, стоит на голову выше любого американца".
Из предыдущих записей нам известно, что Гитлер уже принял решение
совершить нападение на Россию и что дата такого нападения была определена
всего через два месяца после переговоров с японским министром иностранных
дел. Естественно, Гитлер ничего не сообщил о своих планах японскому союз¬
нику. Но намек все же был. "Он, не колеблясь ни одной минуты, - отмечается в
стенограмме, - немедленно ответит на расширение войны - будь то против
России или против Америки". [...]
Нюрнберг, 30 ноября, пятница
Это был день Рудольфа Гесса в суде, и какой день! Действительно ли третий
человек в рейхе сошел с ума или же только ловко притворяется? Судья Лоуренс
дал обещание суду во всем разобраться в 4 часа пополудни. Посмотрим.
Нам стало известно, что американские психиатры, врачи из Великобритании,
Франции и России по поручению суда занимались обследованием Гесса. Медики
пришли к некоторым интересным выводам. Лучше всего они кратко освещены в
докладе, представленном Трибуналу 17 ноября русскими специалистами по пси¬
хиатрии и неврологии, профессорами Московского медицинского института,
докторами медицины Евгением Краснухиным, Евгением Зеппом и Николаем
Курасковым.
Анализируя вначале доклад, представленный главным консультантом
Английского военного министерства д-ром Т. Риисом, который наблюдал Гесса
172
во время его пребывания в Англии, русские врачи устанавливают, что ’’после
своего ареста и заключения" в тюрьму в Англии у Гесса начала проявляться
мания преследования. Он опасался возможного отравления или убийства, боялся,
что его гибель будет замаскирована под самоубийство и все это будет осущест¬
влено англичанами, "находящимися под гипнотическим влиянием евреев". "Более
того, - говорится далее в докладе русских медиков, - такая мания преследования
наблюдалась до получения им известия о катастрофе немецкой армии под
Сталинградом, после чего такие проявления были вытеснены симптомами амне¬
зии (потери памяти) ... Более того, он совершил две попытки самоубийства.
Ножевая рана, нанесенная им во время второй попытки в кожное покрытие
возле сердца, свидетельствует о явно выраженном истерико-демонстративном
характере пациента. После этого у него вновь наблюдался переход от амнезии к
мании преследования, и в этот период он написал, что симулировал амнезию.
В конечном счете он вновь погрузился в состояние амнезии, которое продол¬
жается до настоящего времени".
"С психической точки зрения, - констатируется в докладе русских врачей, -
Гесс находится в состоянии ясно выраженного сознания... Утрата памяти Гес¬
сом - это не результат какого-то психического заболевания, а лишь истеричес¬
кая амнезия, базисом которой является бессознательное влечение к самозащи¬
те... Такое поведение часто прекращается, когда истерик начинает чувствовать
неизбежную необходимость вести себя правильно, как подобает. Поэтому ам¬
незия Гесса может закончиться после его привлечения к суду".
Русские врачи не желали снимать с Гесса ответственность "за предъявленные
ему обвинения". Но английские эксперты выразили в этом отношении несколько
иной взгляд. Два дня спустя, 19 ноября, в докладе, подписанном президентом Ко¬
ролевского колледжа психиатрии лордом Мораном, докторами Риисом и главным
невропатологом, консультантом Британского военного министерства Джорджем
Раддоком и представленным в Трибунал, сообщалось, что "Гесс не является
душевнобольным в строгом смысле этого слова. Утрата им памяти полностью
не повлияет на понимание им судебного разбирательства, но она окажет свое
влияние на его способность к защите, на осмысление деталей прошлого, которые
могут всплыть в ходе дачи свидетельских показаний". Английские врачи поэтому
рекомендовали получать "дальнейшие свидетельские показания с помощью нар¬
коанализа".
Но, как выяснилось, именно такого анализа Гесс и не желал, и судья Джэк¬
сон - нужно отдать ему должное - не стал заставлять проводить такой анализ
силой.
Представитель американской армейской части, отвечавшей за безопасность
обвиняемых в Нюрнберге, майор Дуглас М. Килли из медицинского армейского
корпуса, служивший психиатром в Нюрнбергской тюрьме, заявил 16 октября,
что наилучший способ определения истинного состояния Гесса - это проведение
"наркогипноза". Такое лечение обычно проводится всеми хорошими психиатрами.
Майор Килли, правда, поставил в известность свое начальство, что время от
времени при этом происходят нежелательные инциденты, но ему лично не
приходилось видеть этого ни разу, хотя он имеет большой опыт лечения "нарко¬
гипнозом".
Но Гесс отказался и от этого. Он сказал, что может пойти на это только
после суда, но не до его завершения. Судья Джэксон 20 октября сообщил, что
"любое лечение этого заболевания с применением наркотиков может причинить
ущерб пациенту и поэтому не может быть принято".
"Я говорю это не потому, что не одобряю такое лечение, - заявил американс¬
кий обвинитель суду, - напротив, я его одобряю и настаивал бы на его приме¬
нении, если бы пациентом оказался кто-нибудь из членов моей семьи. Но я при¬
держиваюсь мнения, что введение Гессу в частном порядке каких бы то ни было
173
наркотиков может оказаться опасным, так как в случае его смерти, даже в силу
естественных причин, оно станет предметом публичного скандала".
Так обстояло это дело, когда в 4 часа дня судья Лоуренс распорядился вывес¬
ти из зала всех обвиняемых и препроводить их в камеры, чтобы выслушать
доводы, приведенные адвокатом Гесса в пользу его сумасшествия. Когда мы
вернулись в зал после короткого перерыва, то увидели, что на скамье подсу¬
димых восседает только один Гесс. Он был настолько собран и настолько же в
своем уме, как и любой другой нацист, которых я немало повидал в своей жизни.
В течение двух Недель судебных заседаний он обращал мало внимания на
судебную процедуру, а спокойно сидел на своем месте, углубившись в чтение
романов. Теперь, судя по его виду, он готовился следить за происходящим с
самым пристальным вниманием.
Его адвокат немедленно приступил к довольно пространной речи, но вскоре
исчерпал терпение даже собственного клиента. Гесс вырвал листок из своего
блокнота, что-то бегло в нем набросал, с сердитым видом подозвал к себе поли¬
цейского и попросил его передать записку адвокату. Защитник взял ее в руки,
пробежал глазами и вновь продолжал свою монотонную речь, суть которой
сводилась к тому, что Гесс страдает потерей памяти и поэтому не в состоянии
следить за судебным разбирательством, задавать вопросы свидетелям, т.е. прак¬
тически неспособен к самозащите. Когда он распространялся об этом, его подза¬
щитный все время одобрительно кивал головой, и так продолжалось до тех пор,
пока смущенный вконец адвокат не промямлил что-то вроде того, что Гесс не
уполномочивал его выступить с этой речью. Наконец он сел на свое место, и
обвинение выступило с краткими заявлениями. По словам Джэксона, оно считало
Гесса жертвой добровольной амнезии и поэтому тот должен подвергнуться суду.
Адвокат вскочил и потребовал предоставления ему последнего слова для оп¬
ровержения. Гесс явно рассердился. Он махнул своему защитнику рукой, чтобы
тот отказался от этой затеи, что он в конце концов и исполнил. Судья Джэксон
сделал вид, что намеревается объявить в заседении перерыв, но затем, словно
еще раз хорошенько поразмыслив, с некоторой наигранной неуверенностью спро¬
сил у немецкого адвоката, есть ли у того какие-то возражения против выступле¬
ния Гесса в свое оправдание.
Весь зал был наэлектризован. Не успел еще судья Джэксон закончить фразу,
как Гесс поднялся со своего места и начал пробираться к трибуне адвоката,
стоявшей на полпути между судейской трибуной и скамьей подсудимых. Военный
полицейский остановил его, и на какое-то мгновение показалось, что Гесс сейчас
оттолкнет его. Но последний взял себя в руки и бросил умоляющий взгляд на
судей. Лоуренс не глядел в его сторону, а судья Беркетт, сообразительный па¬
рень, от внимания которого ничего не ускользнет, это заметил. Через наушники
было слышно, как он шепчет на ухо Лоуренсу: "Ему нужен микрофон. Дайте ему
микрофон".
Полицейский принес микрофон и поставил его рядом со скамьей подсудимых.
Бывший гитлеровский палач вновь оказался в центре внимания и теперь пол¬
ностью отдавал себе в этом отчет. Он был удивительно собран и полностью
уверен в себе. [...]
"Господин председатель, - сказал Гесс тихим, но твердым голосом, и в зале
тут же воцарилась мертвая тишина, - в начале сегодняшнего вечернего засе¬
дания суда я передал своему защитнику записку, в которой выражал свое мнение
по поводу того, что всю судебную процедуру можно значительно сократить, если
мне будет предоставлена возможность свободно высказаться. Я хочу сказать о
следующем: для того, чтобы исключить всякую возможность объявления моей
личности неспособной к ответу на выдвигаемые против меня обвинения и
принимая во внимание мое желание принять участие в судебном разбирательстве
наравне со всеми, мне хотелось бы сделать следующее заявление перед Трибу¬
налом".
174
Он сделал на секунду паузу, чтобы заглянуть в записи, которые нацарапал на
каком-то старом конверте: “Первоначально я был склонен сделать это заявление
в более поздний момент. Моя память теперь снова в полном порядке”.
Еще одна хорошо рассчитанная на публику пауза, чтобы до нее как следует
дошел смысл произнесенных им слов:
“Я симулировал утрату памяти в силу тактических причин. Истина заклю¬
чается в том, что у меня лишь чуть снижена способность к концентрации. Но
кроме этого я считаю, что моя способность следить за ходом судебного рассле¬
дования, защищать себя, задавать вопросы свидетелям и давать ответы на
вопросы - во всех этих аспектах моя способность ни в коей мере не нарушена.
Я подчеркиваю тот факт, что несу полную ответственность за все, что я совер¬
шил, подписывал лично или ставил свою подпись вместе с другими. Мое глубокое
убеждение в том, что этот Трибунал не имеет законных полномочий, не меняет¬
ся в результате только что сделанного мной заявления.
Прежде в беседах с моим официальным защитником я симулировал потерю
памяти. Поэтому он действовал вполне искренне, когда утверждал, что я утра¬
тил память”.
Гесс, который совершенно не осознавал всей грандиозности созданной им сен¬
сации, с сердитым видом отправился на свое место, а глаза его, которые были
столь отсутствующими и пустыми, вдруг озарились довольным блеском. Присут¬
ствовавшие в зале суда были просто ошеломлены. Судья Лоуренс, который, ка¬
залось, впервые и сам был несколько смущен происходящим, тут же взял себя в
руки и в сухой юридической манере объявил, что на сегодня суд завершает свою
работу.
В коридоре я столкнулся с защитником Гесса, который все еще никак не мог
отдышаться. С его лица градом катил пот. "Кто же из нас сумасшедший?” -
повторял он сквозь зубы. [...]
Нюрнберг, 2 декабря, воскресенье
Наконец-то у немца, да еще и генерала (однако он австриец, нельзя не отме¬
тить это различие), хватило мужества встать и публично перед всем миром
заклеймить нацистскую Германию и самих нацистов за то, что они сотворили!
Это - генерал-майор Эрвин Лахоузен из немецкой контрразведки, близкое и
доверенное лицо одного из самых фантастических людей нашего времени - адми¬
рала-Канариса, начальника германской военной разведки, известного среди своих
близких под кличкой “Желтая птичка” или “Канарейка”. Теперь не вызывает
сомнения то, что сам Канарис был инициатором нескольких покушений на Гитле¬
ра, которые закончились безуспешно. За роль, сыгранную в последнем покуше¬
нии в июле 1944 г., и тоже провалившемся, он, как я уже сообщал в этих запис¬
ках, был подвергнут страшным пыткам,< которые длились под заботливым при¬
смотром Гитлера почти целый год. Гестапо медленно его удавило. Насколько
известно, Лахоузен - единственный оставшийся в живых важный сотрудник из
окружения Канариса. Все остальные были уничтожены нацистами.
Нужно вернуться к пятнице 30 ноября, когда Лахоузен был неожиданно вве¬
ден в зал в качестве первого свидетеля обвинения. [...] Он поднялся на трибуну,
и Геринг, Риббентроп и Кейтель уставились на него с самым сердитым выра¬
жением на лицах, и иногда присутствовавшим казалось, что если бы им было
предоставлено судом последнее желание, то они перед смертью с большим
удовольствием все вместе открутили бы ему, этому мужественному австрийцу,
голову. Но их взгляды его не пугали. Он очень быстро продемонстрировал, что
его ненависть к ним не знает пределов.
Его необычный, даже странный рассказ о чудовищном дикарстве тех людей,
которые правили Германией, увы, настолько пространен, что я не могу здесь его
привести целиком. Назову только главные его “пункты”: Гитлер, Гиммлер и под¬
175
судимые Геринг, Риббентроп, Кейтель и Йодль на заседании 12 сентября 1939 г.,
состоявшемся в личном вагоне Гитлера на окраине Варшавы, пришли к согласию
о необходимости намеренных бомбардировок с целью уничтожения польской сто¬
лицы, хотя такие действия не оправдывались ни малейшей военной необхо¬
димостью. На этом совещании было принято также решение об уничтожении
польской интеллигенции, знати, клира и, само собой разумеется, евреев. Они от¬
давали приказы о массовом клеймлении и убийствах русских военнопленных.
Эсэсовцы, которые были переодеты в форму польской армии и посланы, чтобы
совершить нападение на пограничную немецкую радиостанцию и тем самым
дать в руки Гитлера предлог для нападения на Польшу, все до единого были
позже уничтожены, - теперь они уже не могли никому рассказать об этом.
Я уже видел горы документов, содержавшие разработанные Германией планы
проведения различных военных операций - против Австрии, Чехословакии,
России и т.д. Лахоузен раскрыл еще один плащ о котором мне не приходилось
никогда ранее слышать, - план "операции Густав". Его выполнения требовал
лично фельдмаршал Кейтель. Это был план убийства двух французских гене¬
ралов - Вейгана и Жиро. Последнего предстояло "ликвидировать" в тюрьме, где
он в это время содержался; первого - в Северной Африке.
Французский обвинитель вскочил на ноги:
- Кто отдал приказ убить генералов Вейгана и Жиро?
- Кейтель.
Судья Биддл его перебил:
- Отдавались ли приказы об уничтожении русских военнопленных в письмен¬
ной форме?
- Насколько мне известно, да...
-Таким образом, это были официальные приказы...
- Да...
Наконец, в завершение своего рассказа Лахоузен сообщил, что еще до начала
войны, летом 1939 г., развернула свои действия особая эскадрилья высотных
самолетов-разведчиков, которые, вылетая с секретной военной базы на окраине
Будапешта, производили разведполеты над Лондоном и Ленинградом! Вероятно,
это была большая неожиданность как для русских, так и для англичан. [...]
Нюрнберг, 5 декабря, среда
Историкам теперь предстоит пересмотреть свои суждения по поводу позорно¬
го мюнхенского пакта, который уничтожил первую Чехословацкую республику и
на год предотвратил мировую войну. Это становится ясным из массы секретных
немецких документов, продемонстрированных на суде. Они не оставляют и тени
сомнения в том, что сумасшедший Гитлер отнюдь не "блефовал" во время "мюн¬
хенского кризиса". Он был готов начать войну. Я сам считал после того, как
лично освещал важнейшие совещания в Годесберге и Мюнхене в те напряжен¬
ные сентябрьские дни 1938 г., что Гитлер водит всех за нос, что все это - один
их его грандиозных блефов. Но секретные бумаги показывают, что еще до того,
как ему в Мюнхене была поднесена на блюдечке Судетская область при полном
попустительстве со стороны Чемберлена и Даладье, Гитлер вместе со своим
верховным главнокомандованием уже был готов нанести удар по Чехословакии
своими обладавшими значительным преимуществом сухопутными и военно-воз¬
душными силами, — что-то около 1 октября 1938 г. Более того, из этих докумен¬
тов явствует, что Гитлер и его генералы полностью сознавали, что такое напа¬
дение на Чехословакию неизбежно приведет к возникновению мировой войны, и
они (за исключением нескольких генералов) были решительно настроены пойти
на такой риск еще в 1938 г.
За эту информацию и за многое другое мы обязаны выразить нашу глубокую
благодарность верному адъютанту фюрера майору (а позже полковнику) Шмунд-
176
ту, который собрал в одном досье большую часть, если не все секретные при¬
казы, доклады и планы, имевшие отношение к ’’операции Грюн" - нападению на
Чехословакию. Все досье было захвачено в полной сохранности и теперь фигу¬
рировало в качестве вещественного доказательства в суде. Оно само по себе
может стать увлекательнейшей книгой. Здесь я приведу только основные его
разделы.
Первый - дискуссия относительно выполнения “операции Грюн” между Гит¬
лером и генералом Йодлем 21 апреля 1938 г., пять недель спустя после “аншлю¬
са”. Прежде всего они рассматривают политические аспекты немецкого нападе¬
ния на Чехословакию:
“1. Стратегически неожиданный удар, как гром среди ясного неба, без всякой
возможности оправдания отвергнут по следующим причинам: враждебно наст¬
роенное общественное мнение в мире, что может привести к возникновению кри¬
тической ситуации. Такая мера оправдана только при уничтожении последнего
противника на континенте.
2. Действия после определенных дипломатических усилий, которые постепен¬
но приведут к кризису и возникновению войны.
3. Молниеносные акции в результате возникшего инцидента (например, убий¬
ство немецкого посла в связи с антинемецкой демонстрацией)”.
Переходя к “военным соображениям”, фюрер со своими генералами прини¬
мают решение о “подготовке к политическим возможностям” (2) и (3), но самое
лучшее, по их мнению, - это пункт 3, т,е. фабрикация с помощью провокации
“инцидента" для “молниеносных акций" - убийство собственного посла в Праге!
Первая зловещая нота о гитлеровских планах агрессии против Чехословакии
прозвучала, судя по всему, в директиве от 20 мая. “Весьма вероятно, - пишет
Гитлер, - русские окажут военную поддержку Чехословакии. Если в первые дни
наземных операций не будут достигнуты конкретные успехи, то вполне возможен
общеевропейский кризис". Нам становится известно, что некоторые из генералов
выражают больше опасений, чем их вождь. Йодль записывает об этом в днев¬
нике 30 мая 1938 г. (еще один интересный документ, захваченный союзниками):
“Фюрер подписывает директиву “Грюн”, где заявляет о своем окончательном
решении в скором времени уничтожить Чехословакию.
Противоречия все сильнее обостряются, и, когда фюрер, проявляя интуицию,
заявляет, что мы должны это осуществить в текущем году, армия высказывает
мнение, что мы не может этого сделать пока, так как наверняка западные дер¬
жавы вмешаются, а мы еще не в состоянии сравниться с ними по силе".
Здесь нам впервые приходится слышать из уст такого видного военного, как
Йодль, замечание об “интуиции" Гитлера, которая получит широкую известность
в будущем и которая три года спустя приведет к гибели немецкой армии в снегах
России.
Среди документов имеется сопроводительное письмо от 30 мая, написанное
Кейтелем, который подчеркивает, что “стратегическая концентрация” против
Чехословакии должна быть осуществлена “начиная с 1 октября 1938 г. самое
позднее”. Таким образом, известна дата запланированного немцами нападения на
чехословацкое государство. Директива Гитлера от 30 мая озаглавлена так: “Вой¬
на на два фронта с главными усилиями, предпринимаемыми в Судетской области”
и начинается следующим образом:
“Мое непоколебимое решение - раздавить Чехословакию военными средст¬
вами в самом ближайшем будущем... Неизбежное развитие ситуации внутри
Чехословакии или других политических событий в Европе, создающих для нас
удивительно неожиданную благоприятную возможность, которая может больше
не повториться, заставит меня принять решение и раньше... Соответственно к
подготовке необходимо приступить немедленно".
Во всей директиве от 30 мая чувствуется предположение Гитлера, что Анг¬
лия, Франция и Россия не станут сидеть сложа руки во время войны Германии
177
против Чехословакии. Из приводимых немецких данных совершенно ясно, что
Германия в 1938 г. не обладала достаточной военной силой, чтобы противо¬
стоять трем крупным державам. Гитлер это понимал. Но он из этого не делает
необходимых выводов. Так, он подчеркивает, что немецкие силы на Западе
’’должны быть в численном отношении ограничены”, но в то же время быть в
состоянии овладеть ситуацией в случае вмешательства французов и англичан.
Он так обращается к люфтваффе: "Наиболее важная задача ВВС - это уничто¬
жение чешских военно-воздушных сил и баз их снабжения в самое короткое
время, чтобы избежать возможного их активного использования, как, впрочем, и
русских, и французских ВВС”.
Таким образом, он имеет в виду возможность военной реакции со стороны
русских и французов. Он не очень уверен и в отношении англичан, поэтому дает
инструкции немецкому флоту "принять необходимые меры для надежной защиты
Северного моря и Балтики против внезапного вмешательства в конфликт других
стран".
По мере приближения лета призрак ведения войны на два фронта, этот кош¬
мар, мучающий немецких генералов на протяжении столетия, все чаще возни¬
кает в туманном сознании Гитлера. К концу июня еще одно название операции
начинает мелькать в директивах Гитлера и Верховного главнокомандования.
Она называется операция "Рот" и касается проведения войны на Западе.
18 июня от Гитлера получена "сверхсекретная" директива, озаглавленная
"Стратегическая концентрация". Второй ее параграф озаглавлен: "Война на два
фронта с главными усилиями, предпринимаемыми на Западе" (операция "Рот").
В ней говорится:
"Даже если война западных держав против нас должна ввиду сложившейся на
сегодня ситуации начаться с уничтожения Чехословакии, подготовка к страте¬
гической концентрации войск для ведения войны сухопутной армией и военно-
воздушным флотом на Западе уже не представляет собой первостепенной
важности.
Однако подгсговка к дате намечаемого события ("Рот") остается в силе. [...]
Она должна внести свой вклад [...] в случае перенесения главных усилий с
Востока на Запад, что может при определенных обстоятельствах стать необхо¬
димым. Она также является предварительной работой для возможной в будущем
войны на Западе".
Упоминаются здесь также "задачи для выполнения флотом в ходе операции
"Рот"". Из других документов нам известно, что немецкий флот получил приказ
организовать подводное заграждение в определенном месте в Северном море и
даже в Ла-Манше к дню "Д" - нападению на Чехословакию.
Итак, Гитлер предусматривает возможность ведения войны на два фронта.
К 7 июля по мере того, как растет его решимость (или же его злостное упрям¬
ство?), он выражает готовность не только пойти на это, но и предусматривает
возможность ведения боевых действий на Востоке как против России, так и
против Чехословакии. В его "сверхсекретном меморандуме", направленном Вер¬
ховному главнокомандованию, впервые признается, что "невозможно предвидеть
ту политическую ситуацию, которая может сложиться либо до выполнения, либо
после завершения операции "Грюн" [...].
[...] "Однако, продолжает он, желательно по крайней мере привести теорети¬
ческое соображение и расчеты на случай нескольких возможных исходов, чтобы
избежать психологической неподготовки".
Какие же это вероятные исходы?
"Если при выполнении операции "Грюн" вмешается Франция, то вступают в
силу меры, предусмотренные операцией "Рот". Самое главное в этой связи -
удержание в руках фортификационных укреплений до того момента, когда испол¬
нение акции "Грюн" высвободит необходимые дополнительные силы. Если Фран¬
178
ция будет поддержана Англией, то такая поддержка не окажет большого влия¬
ния на первоначальном этапе сухопутной войны [...].
На Востоке наиболее вероятно вмешательство России. Оно, по крайней мере
на первоначальной стадии, может принять форму подкреплений для чешских
ВВС и вооружений. Однако нельзя проходить мимо решения относительно
принятия необходимых мер против России, если она начнет морскую и воздуш¬
ную войну с нами или же проявит желание проникнуть в Восточную Пруссию
через приграничные государства”.
Немецкий диктатор также не очень уверен и в отношении Польши. "В случае
наступления Польши, - говорит он, - мы должны удерживать восточные укреп¬
ления и Восточную Пруссию”.
Если Гитлер выражает лишь некоторую свою неуверенность, его генералы
бьют тревогу. Раздавить маленькую "Чехию” - одно дело. Но воевать с Фран¬
цией, Англией и Россией - чистое безумие. Это означает развязывание мировой
войны. Начальник генерального штаба генерал Людвиг Бек выражает "свое
неудовольствие” и подает в отставку. Перед своим уходом Бек направляет Гит¬
леру меморандум, в котором предупреждает о том, что его политика "приведет в
конечном счете к новой мировой войне и трагическому концу Германии”. Позже
генерал Гальдер, преемник Бека на посту начальника генштаба, заявит, что
весь генеральный штаб выступал против нападения на чехов и рассматривал
такое решение "как чистую военную авантюру".
В любом случае своего апогея события достигли 10 августа. Гитлер созвал
армейских руководителей в Бергхофе. Захваченный дневник Йодля показывает,
как проходила эта тайная встреча:
"После обеда фюрер произносит почти трехчасовую речь, в которой он разви¬
вает свои политические взгляды. Все попытки нескольких генералов обратить
внимание фюрера на недостатки нашей подготовки не увенчиваются успехом.
Это особенно касается замечания генерала Витергейма о том... что армия может
удерживать западные укрепления только в течение трех недель”.
Фюрер возмущен, кровь бросается ему в лицо, и он делает военным резкое
замечание, что, мол, в таком случае вся их армия никуда не годится. "Могу заве¬
рить вас, господа генералы, что эти позиции мы будем удерживать не три
недели, а целых три года”. Причина такого пессимизма, к несчастью, довольно
широко распространенного в кругах генерального штаба армии, объясняется раз¬
личными обстоятельствами. Прежде всего, действия генерального штаба сопря¬
жены со старыми воспоминаниями; политические соображения тоже играют опре¬
деленную роль - нельзя же все время требовать только подчинения и вы¬
полнения военных миссий. Все, конечно* исполняется с традиционной аккурат¬
ностью, но без души, так как в конечном счете они не верят в полководческий
гений фюрера... "Такое пораженчество может не только нанести колоссальный
политический вред, так как различия во мнении генералов и фюрера уже стали
общеизвестным фактом, но и стать большой опасностью для морального сос¬
тояния наших войск”.
Хорошенькое положение у военачальников, которые вот-вот готовы вступить
на тропу войны, войны с далеко не ясным исходом, не так ли? Но тем не менее
подготовка к ней и разработка планов идут полным ходом. 25 августа генераль¬
ный штаб люфтваффе направляет "сверхсекретную директиву” только для "ко¬
мандиров”, озаглавленную "Оценка ситуации - операция "Грюн””.
"Главное предположение состоит в том, - говорится в ней, - что Франция
объявит нам войну в ходе осуществления нами операции "Грюн”. Предпола¬
гается, что Франция пойдет на такой шаг только при активной военной под¬
держке со стороны Великобритании. Советский Союз, вероятно, тут же встанет
на сторону западных держав.
[...] Соединенные Штаты Америки немедленно поддержат военные действия
западных держав своими эффективными идеологическими и экономическими
I 79
средствами. Италию, националистическую Испанию, Венгрию и Японию можно
рассматривать как благожелательных нейтралов [...].
Военной целью держав Антанты является преодоление сопротивления Герма¬
нии с помощью нанесения ударов по ее военной промышленности. Друг :ми сло¬
вами, с помощью продолжительной войны”.
Как утверждает директива, немецкая цель - "добиться решения с помощью
нанесения поражения западным державам”.
Из этой директивы мы также узнаем, что в 1938 г. "карты английских аэро¬
дромов как основных целей уже готовы на 90 процентов... Карты целей на
территории Бельгии и Голландии подготовлены для массовой печати”. Таким
образом, и эти два небольших нейтральных государства должны были подверг¬
нуться нападению еще... в 1938 г.!
День ”Д” - нападение на Чехословакию, намеченное на 1 октября - неумоли¬
мо приближался. 3 сентября в Бергхофе между Гитлером и генералами фон
Браухичем и Кейтелем состоялось совещание. Браухич сообщает, что армия
займет свои позиции возле чешской границы 28 сентября. Гитлер обещает им
избрать в качестве дня ”Д” 28 сентября, 12 часов дня. Он также отдает приказы
об усилении передовых позиций в районе Ахена и Саарбрюкена.
Совершенно ясно, что Запад все больше лишает немецких генералов сна.
8 сентября Йодль записывает в дневнике, что генерал Штюльпнагель "впервые”
начинает испытывать сомнения по поводу плана Гитлера, так как он "предпо¬
лагает, что западные страны не прибегнут при вмешательстве к активным
боевым действиям”. Йодль заключает: "Должен признаться, что меня это также
беспокоит”.
В ночь на 9 сентября, с 10 вечера до 3.30 утра, в Нюрнберге, где подходит к
концу нацистское сборище с истерическими угрозами в адрес чехов, происходит
еще одно совещание Гитлера с его высокопоставленными генералами. Майор
Шмундт тоже там и ведет секретные записи. Новый начальник генерального
штаба генерал Гальдер подробно обрисовывает самую последнюю версию опе¬
рации "Грюн”. Гитлер, который не любит Гальдера, настаивает на изменении
плана. Ему ради политических соображений необходим решительный успех в
течение восьми дней.
До дня ”Д” теперь остается менее двух недель. И вот вмешивается Невиль
Чемберлен - 22 сентября он встречается в Годесберге с Гитлером. В тот же
вечер, узнаем из дневника Йодля, несмотря на мольбы перепуганного премьер-
министра о сохранении мира, генерал Штюльпнагель от имени Кейтеля звонит в
Берлин из Годесберга и требует "продолжения подготовки в соответствии с
разработанным планом”. 26 сентября Гитлер, находясь в состоянии нервного
возбуждения, сообщает аудитории во Дворце спорта в Берлине, что он непре¬
менно начнет войну, если только ему не будет передана Судетская область
до 1 октября.
Следующий документ в досье "Грюн” показывает, что сам Гитлер верит в
неизбежность развязывания войны. Вот что в нем говорится: "Совершенно сек¬
ретно. 27 сентября в 13.00 фюрер и Верховное главнокомандование вооружен¬
ных сил отдали приказ о передислоцировании штурмовых частей из районов
подготовки к исходным пунктам их наступления. Штурмовые части должны
доложить о своей готовности к выполнению операции "Грюн” 30 сентября, реше¬
ние об этом принято всего за день до этого, в 12 часов дня”.
Жребий брошен. 22 сентября Йодль в дневнике записывает, что, по утверж¬
дению Геринга, "большую войну нельзя дольше откладывать. Она может длить¬
ся хоть семь лет, но мы ее обязательно выиграем”.
Однако многие немецкие генералы не разделяют такого оптимизма. Некото¬
рые из них находились в этот фатальный сентябрьский день (28-го) в Берлине,
чтобы схватить Гитлера, сбросить нацистский режим и спасти Германию - и весь
мир - от неминуемой войны. Наступил их день - день ”Д”.
180
В пять вечера генерал Йодль отодвигает в сторону дела, чтобы сделать в
дневнике еще одну запись: "17.00. Напряженность спадает. Фюрер принял реше¬
ние провести встречу с Чемберленом, дуче и Даладье в Мюнхене".
В этот день я тоже оказался в Берлине и приблизительно в то же время запи¬
сал в дневнике: "Войны не будет! Гитлер пригласил Муссолини, Чемберлена и
Даладье на встречу завтра. Эта троица поможет Гитлеру выкарабкаться из
трудной ситуации и передать ему Судетскую область без всякой войны".
Заговорщики во главе с генералом Витцлебеном, как мы об этом позднее
узнаем от Гальдера, пришли в ужас. "Мы должны были уже приступить к осу¬
ществлению своего плана, - вспоминает Витцлебен, - когда было получено это
неожиданное, оказавшееся для нас полным сюрпризом известие о предстоящей
встрече Гитлера с Чемберленом в Мюнхене. Фундамент нашего плана рухнул".
Йодль в дневнике подытоживает: "29 сентября. Мюнхенский пакт подписан.
Чехословакия как держава больше не существует. Гений фюрера и его реши¬
мость не останавливаться даже перед мировой войной принесли нам победу без
войны. Остается только надеяться, что этот неверующий, слабый и весьма
сомнительный народ наконец-то обращен и останется таким в будущем".
Итак, Мюнхен отнюдь не был блефом, к? к это себе представляли многие.
Гитлер был готов начать войну и начал бы ее, если бы Чемберлен с Даладье не
сдались. Многие считают, что это в какой-то мере реабилитирует неудачливого
английского премьер-министра. Но я придерживаюсь диаметрально противопо¬
ложной точки зрения. Не говоря уже о бесчестности его поведения, когда он
самым подлым образом принес в жертву Чехословакию, он тем самым оттянул
начало мировой войны всего лишь на 11 месяцев. Если бы Германия начала
войну в 1938 г., то, мне кажется - и мои предположения получают подтверж¬
дение в немецких секретных документах, - она не длилась бы так долго и
Германия быстро потерпела бы поражение. Весь мир избежал бы тех ужасных
разрушений и страданий, которые ему пришлось испытать год спустя. Из
немецких архивов явствует, что, по мнению большинства немецких военных экс¬
пертов, "третий рейх" не обладал такой мощью, которая позволила бы ему вести
военные действия в 1938 г. против Англии, Франции, России и Чехословакии и,
вероятно, даже Польши одновременно. Мы можем с полным основанием предпо¬
ложить, что в 1938 г. эта мощная коалиция смогла бы тут же отреагировать
должным образом на немецкую угрозу. Когда в 1939 г. все же началась война, то
Чехословакии, которая еще год назад располагала превосходной армией, защи¬
щавшей сильные фортификационные укрепления, уже больше не существовало
и Гитлер мог свободно напасть на других, тем более что Россия практически
выпала из такой потенциальной коалиции.
Нельзя не привести краткий "постскриптум" к операции "Грюн". Еще два
"сверхсекретных документа" - директивы фюрера - демонстрируют нам все
вероломство человека, которого генерал Йодль считал "гением человечества".
Он неоднократно давал заверения в том, что после получения Судетской области
не будет более посягать на Чехословакию. И все же 21 октября, всего три
недели спустя после подписания Мюнхенского пакта, Гитлер издал секретную
директиву, призывавшую немецкие вооруженные силы "быть готовыми в любое
время уничтожить то, что еще осталось от Чехословакии". 17 декабря генерал
Кейтель составил свое заключение по поводу этой директивы, в котором го¬
ворится:
"В отношении "ликвидации остатка Чехословакии" Гитлер дал следующий
дополнительный приказ: подготовка в этой связи должна продолжаться, основы¬
ваясь на предположении, что никакого достойного сопротивления оказано не
будет. Для всего мира эти действия должны быть представлены как акции по
умиротворению, а не военное предприятие".
В один снежный мартовский день (15 марта 1939 г.), как нам всем хорошо
известно, "ликвидация" была самым преступным образом осуществлена. [...]
Нюрнберг, 7 декабря, пятница
181
[...] Вероятно, секретные документы немецкого Верховного главнокомандова¬
ния об операции "Морской лев" - вторжении на Британские острова - не будут
здесь обнародованы. А жаль, так как мы до сих пор не знаем точно, почему
нацисты так и не предприняли этого вторжения. Или, может, все же предпри¬
нимали? Что это за история с трупами немецких солдат, которые выносило на
английские пляжи осенью 1940 г.?
Насколько мне известно, документы по операции "Морской лев" так и не были
представлены на суде в Нюрнберге. Но 18 ноября 1946 г. премьер-министр Эт¬
тли сделал письменное заявление по поводу немецких планов вторжения в
Англию, которые основаны на исследовании захваченных немецких документов
и допросах немецких военнопленных. Хочу привести здесь его краткое содер¬
жание:
"В июле 1940 г. Гитлер пересмотрел ближайшие планы и был вынужден
внести неожиданную поправку в свою стратегию. Если он хотел избежать про¬
должительной изнурительной войны на два фронта, против Англии на западе и в
перспективе против России на востоке, ему нужно было найти такие средства,
которые могли бы принудить Англию к отказу от ведения борьбы. Военная
ситуация в случае падения Франции, судя по всему, склоняла Гитлера к мнению,
что Британия проявит готовность заключить мир на условиях компромисса. Но
одновременно с усилиями, предпринимаемыми им с целью достижения такого
мира, он также планировал вторжение в Соединенное королевство и старался
его всячески форсировать, что, с одной стороны, представляло собой дополни¬
тельную угрозу при ведении мирных переговоров, а с другой - являлось практи¬
ческой альтернативой в случае провала таких переговоров.
До этого времени Германия не занималась долговременным планированием
вторжения в нашу страну, за исключением чисто морских операций, которые
разрабатывались оперативным отделом военно-морского флота начиная с ноября
1939 г. 21 мая 1940 г. Редер обсуждал эту тему с Гитлером, и 2 июля Гитлер
отдал приказ подготовить разведоценки и приступить к плану проведения опера¬
ции "Морской лев" (вторжение в Англию)".
Нлже следует отрывок из директивы, изданной Гитлером 16 июля 1940 г.:
'Так как Великобритания, несмотря на всю безнадежность своего военного
положения, не проявляет никаких признаков стремления к мирному урегулиро¬
ванию, я принял решение подготовить операцию по высадке наших сухопутных
войск на территорию Англии и при необходимости осуществить ее на практике
[...]. Подготовка всей операции должна быть завершена к середине августа [...]".
Таким образом, немецкий генеральный штаб получил всего месяц срока для
осуществления всей подготовки.
Совершенно ясно, что генеральный штаб вермахта знал о предстоящей опе¬
рации. Немецкие части неожиданно быстро достигли берегов Ла-Манша, хотя
заранее не было разработано никаких планов для такого крупного и честолю¬
бивого предприятия. Некоторые части люфтваффе были передислоцированы.
Десантные суда ограничивались теми баржами и речными лодками, которые
можно было без особых хлопот доставить из Германии и Голландии. Все эти суда
могли действовать только в условиях штилевого моря, а выгрузка танков и про¬
чей военной техники могла быть успешно осуществлена только при тщательной
их переделке. Немецкие войска не имели необходимой подготовки для прове¬
дения амфибийно-десантных операций, а их штабы не обладали каким-либо зна¬
чительным опытом в технике осуществления таких необычных боевых действий.
В конечном счете все зависело от флота и ВВС, которые должны были и
транспортировать, и прикрывать силы вторжения.
По словам главнокомандующего немецкого военно-морского флота Деница,
руководители рейха выражали свое согласие с тем, что немецкий флот не может
сравниться с флотом Англии, который, как они рассчитывали, конечно, мобили¬
зует все суда до последнего и выставит своего последнего моряка ради успеш-
182
ного отражения немецкой высадки. Поэтому предполагалось, что при проведе¬
нии этой операции немецкие люфтваффе должны будут взять на себя двойную
роль - уничтожить королевские ВВС и недопустить атак английских военных
кораблей на сухопутные немецкие войска. Геринг выражал уверенность в том,
что люфтваффе успешно справятся с поставленными задачами. Иодль и Кейтель
разделяли его уверенность и были готовы попытаться осуществить операцию,
поскольку, считали они, немецкому флоту по плечу выполнение и более важных
задач, чем простая переброска войск через пролив. По словам Деница, немецкий
флот, хотя и не соответствовал масштабности поставленной перед ним задачи по
организации прикрытия войск, все же мог выполнить основные требования
командования.
Однако Верховное главнокомандование флота, несмотря на выражаемую
Герингом уверенность в успехе, придерживалось все же мнения, что, даже если
люфтваффе и смогли бы нанести поражение королевским ВВС в битве за Бри¬
танию, они не смогли бы выполнить вторую поставленную перед ними задачу, а
именно - предотвратить нападение кораблей английского флота на высажи¬
вающийся у берегов Англии сухопутный десант. Оно считало, что люфтваффе
не располагают для этого необходимым вооружением, что имеющиеся у них на
вооружении бомбы - очень малого калибра и поэтому люфтваффе будут не в
состоянии предотвратить уничтожение крупных десантных судов. Но, несмотря
на столь осторожные оценки верховного главнокомандования флота, при условии
разгрома королевских ВВС немцы, вполне вероятно, могли бы приступить к
выполнению десантной операции.
Подготовительной фазой операции должно было стать нападение с воздуха,
целью которого было уничтожение королевских ВВС в воздухе и на земле,
разрушение портов, коммуникаций, авиационных заводов, а также продовольст¬
венных складов в самом Лондоне. Воздушная атака должна была начаться 13 ав¬
густа, однако в силу различных обстоятельств вторжение не могло состояться
ранее 15 сентября. Окончательное решение должно было быть принято после
успешного завершения подготовительной фазы. Только после нее можно было
бы сделать вывод о том, осуществима ли эта операция вообще в этом году. Это
зависело от двух факторов: способны ли будут немецкие ВВС успешно нейт¬
рализовать королевский военно-воздушный флот и добиться господства в воз¬
духе во всем районе предполагаемого вторжения и смогут ли люфтваффе
обеспечить необходимое прикрытие сухопутных войск и предотвратить нападе¬
ние на них кораблей британского флота.
Что касается самого плана вторжения, то операция "Морской лев" предусмат¬
ривала высадку двух немецких армий общей численностью в 25 дивизий в районе
между Фолькстоуном и Уортингом. 10 дивизий должны были высадиться в пер¬
вые четыре дня и захватить исходный плацдарм. Приблизительно через восемь
дней предполагалось начать продвижение вперед с выходом на линию от устья
Темзы до холмов к югу от Лондона и Портсмута. Ход сражения зависел от обс¬
тоятельств, которые сложились бы к этому времени, но необходимо было сосре¬
доточить все усилия на скорейшем отсечении Лондона от западной части страны.
Парашютный десант предполагалось использовать только для захвата Дувра.
Могла быть также развернута и третья армия.
Принятые впоследствии приказы показывают, что Гитлер крайне неохотно
принимал решение об осуществлении операции "Морской лев". 16 августа был
издан приказ о том, что окончательное решение задерживается, но следует
продолжать подготовку до 15 сентября. 3 сентября день "Д" был назначен на
21 сентября, но приказ предусматривал отмену всех действий за 24 часа до часа
"Зеро". 17 сентября Гитлер вновь принял решение о переносе операции, а 19 сен¬
тября поступил приказ о прекращении концентрации плавсредств, а также о
рассредоточении уже собранных судов ввиду возможных бомбардировок с воз¬
183
духа. 12 октября вся операция была отложена до весны будущего года, хотя и
предписывалось ведение вводящих в заблуждение действий.
Дело в том, что немецким люфтваффе так и не удалось выполнить первую из
двух поставленных перед ними задач, а именно - уничтожить королевские ВВС.
Так как это главное предварительное условие не было соблюдено, то и вся опе¬
рация в результате была перенесена на более поздний срок.
Дезинформация, о которой упоминается выше, предпринималась на протя¬
жении всей весны и лета 1941 г. В июле же 1941 г. Гитлер еще раз перенес эту
операцию на весну 1942 г., руководствуясь соображениями, что к этому времени
"русская кампания будет завершена". Впоследствии этот проект уже больше
серьезно не рассматривался...
Нюрнберг, 8 декабря, суббота
[...] Предприимчивый корреспондент АП познакомил меня с интересными вы¬
сказываниями Рудольфа Гесса по поводу его перелета в Англию 10 мая 1941 г.
Говоря об Англии, Гесс демонстрирует свою исключительную наивность, и
вообще все, что он говорит, на редкость запутанно и противоречиво:
"Вопрос: Какова была цель вашего перелета в Англию?
Ответ: Во время проведения военной кампании во Франции в июне 1940-го я
выразил фюреру свою точку зрения, суть которой состояла в том, что при
заключении мира с Англией (что мы в то время считали делом решенным)
следует сформулировать требование о возвращении всего того, что было отнято
у Германии в результате Версальского договора [...].
Мне казалось, что, скорее всего, рассмотреть предложения Гитлера о лучшем
между нами взаимопонимании Англии мешают соображения престижа.
Принимая во внимание преобладавшую в то время военную ситуацию, Анг¬
лия, не теряя своего престижа, могла бы вступить в переговоры, если бы появи¬
лась какая-то осязаемая причина, способная объяснить этот шаг в глазах об¬
щественного мнения. Поэтому я решил предоставить такую причину, лично от¬
правившись в Англию.
Перед отлетом я оставил фюреру письмо, в котором мотивировал свой пос¬
тупок. В этом письме я таким образом представил свою аргументацию - после
контактов со мной английское правительство сможет заявить следующее:
В ходе переговоров с господином Гессом мы имели возможность убедиться,
что предложения Гитлера о взаимопонимании были сделаны им всерьез. При
таких обстоятельствах Англия не может более принимать на себя неоправдан¬
ную ответственность за продолжающуюся военную бойню и не может не выра¬
зить своего желания привести войну к такому окончанию, которое устроит все
стороны. Поэтому оно выражает свое намерение вступить в переговоры ради
достижения такой цели.
То, что я написал Гитлеру, я повторял в беседах со всеми лицами, с которыми
мне приходилось встречаться в Англии [...].
Вопрос: Знал ли Гитлер или кто-либо из высокопоставленных нацистов о ва¬
шем полете заблаговременно?
Ответ: Никто. Ни Гитлер, ни кто-либо другой об этом не знал, за исклю¬
чением моего адъютанта, которому я доверил свой план.
Вопрос: В какой степени в этом были замешаны Вилли Мессершмидт и про¬
фессор Хаусхофер?
Ответ: Мессершмидт не был проинформирован о моем намерении. Я получил
от него самолет на том основании, что мне требуется машина для совершения
продолжительных полетов над территорией Германии. Что касается Хаусхофе-
ра, то я просто попросил его написать для меня несколько строк в качестве
рекомендательного письма к герцогу Гамильтону под тем предлогом, что я с
согласия Гитлера должен встретиться с ним на нейтральной почве.
184
Вопрос: Когда же вы приняли решение лететь?
Ответ: Я принял решение лететь вскоре после уже упомянутой мной беседы
с фюрером в июне 1940 г. [...] Все дело тянулось до 10 мая 1941 г., так как
не было благоприятных предварительных условий. (Здесь Гесс распространяется
в деталях о метеосводках и т.д.)
Вопрос: Откуда вы взлетели?
Ответ: Я взлетел с аэродрома авиационного завода Мессершмидта в Аугс¬
бурге; оттуда я совершил несколько коротких тренировочных полетов, а также
несколько вылетов в сторону Англии, которые я был вынужден прервать из-за
плохих погодных условий.
Вопрос: Узнали ли вы, уже находясь в Англии, или же вы знали раньше, что в
Германии официально объявлено о том, что вы - сумасшедший? Какова была
ваша реакция на такое заявление?
Ответ: В письме, оставленном мной для Гитлера, я сообщал ему, что намерен
осуществить свой план, даже рискуя навлечь на себя обвинение с его стороны в
моем безумии. Таким образом, сообщение об этом в газетах не стало для меня
сюрпризом”. [...]
... Те дни и годы, которые я провел среди немцев в Германии, вряд ли можно
назвать чем-то очень приятным. Но они и не отличались скукой, и я не испыты¬
ваю особого сожаления, что моя личная и маловажная судьба так долго была
связана с великой тевтонской столицей, лежащей далеко за Эльбой. Страдания и
слава людей моего времени большей частью были порождены тем злом, которое
вырвалось из Берлина, и теми успехами негерманского мира, которому удалось в
конечном счете все же победить.
185
Критика и библиография
Рецензии
DAS DEUTSCHE REICH UND DER ZWEITE WELTKRIEG. Bd. 6. Der globale Krieg.
Die Ausweitung zum Weltkrieg un der Wechsel der Initiative 1941-1943. Stuttgart:
Deutsche Verlags-Anstalt, 1990,1184 S.
ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. Т. 6. Глобальная война, ее
превращение в мировукквойну и смена инициативы 1941-1943. Штутгарт, 1990,
1184 с.
Внимание научной общественности Рос¬
сии привлек очередной, шестой том труда
немецких военных историков "Германский
рейх и вторая мировая война”, подготовлен¬
ный сотрудниками Института военно-истори¬
ческих исследований бундесвера ФРГ. Том
охватывает события второй мировой войны
в 1941—1943 гг. и озаглавлен "Глобальная
война, ее превращение в мировую войну и
смена инициативы”. В системе опублико¬
ванных к настоящему времени томов 10-том-
ника1 эта книга занимает, пожалуй, цент¬
ральное место.
Том состоит из введения, предисловия,
шести частей и заключения.
Автор введения начальник института
военно-исторических исследований бундес¬
вера ФРГ бригадный генерал д-р Г. Рот опре¬
деляет хронологические рамки исследова¬
ния и его роль в многотомнике. В предисло¬
вии ведущий историк Института военно¬
исторических исследований В. Диет подчер¬
кивает, что книга посвящена описанию поли¬
тических и дипломатических событий
1941—1943 гг., боевых действий сухопутных
1 xDas Deutsche Reich und der Zweite Welt¬
krieg. 1Q В-de. Bd. 1. Ursachen und Vorausset-
zungen der deutschen Kriegspolitik; Bd. 2. Die
Errichtung der Hegemonie auf dem europai-
schen Kontinent; Bd. 3. Der Mittelmeerraum
und Siidosteuropa; Bd. 4. Der Angriff auf die
Sowjetunion; Bd. 5/1. Organisation und Mobi-
lisierung des deutschen Machtbereichs. Stutt¬
gart, 1979-1989. Рецензию на первый том 10-том
ника см. Новая и новейшая история, 1982, № 1,
с. 204-209.
войск, военно-морских сил и авиации вое¬
вавших стран на всех сухопутных и морских
театрах военных действий второй мировой
войны.
Часть первая (автор д-р X. Боог) "Полити¬
ка и стратегия в 1941—1943 гг. От континен¬
тально-атлантической к глобальной войне"
посвящена анализу проблем создания анти¬
гитлеровской коалиции, тройственного пак¬
та держав "оси”. В ней рассматривается раз¬
витие событий в мире до вступления США в
войну, значение конференции в Касабланке
в 1942 г., изучается стратегия Гитлера в
период между Перл-Харбором и Сталинград¬
ской битвой.
Во второй части (автор д-р В. Ран) "Вой¬
на на Тихом океане” приводится оценка
военно-экономических потенциалов вою¬
ющих сторон, рассматривается путь Японии
к войне, события в Перл-Харборе, воздуш¬
ные и морские операции в Тихом океане, а
также события вокруг Гуадалканала.
Часть третья (автор д-р В. Ран) "Морская
война в Атлантике и Северном море" охва¬
тывает вопросы стратегии Германии, Англии
и США, ведения морской войны в Атланти¬
ке и прибрежной зоне. Особое внимание
уделяется подводной войне, а также дей¬
ствиям надводного флота. Анализируются
также морские операции на северном фланге
Европы.
Часть четвертая (автор д-р X. Боог) назы¬
вается "Англо-американские стратегические
зоздушные бомбардировки в Европе и
германская противовоздушная оборона”.
В ней исследуются доктрины стратегических
бомбардировок Германии. Англии и США.
186
Приводится оценка боевых возможностей
ВВС Германии в 1942 г.
В пятой части (автор д-р Р. Штумпф) "Вой¬
на в Средиземноморском регионе в 1942—
1943 гг. Операции в Северной Африке и Цент¬
ральном бассейне Средиземного моря" под¬
черкивается значение этого театра военных
действий, рассматриваются операции в
Северной Африке, бои за остров Мальта,
африканский поход Э. Роммеля и окружение
Эль-Аламейна, высадка англо-американских
союзников в Северо-Западной Африке и
отступление немецко-итальянских войск.
Часть шестая (автор д-р Б. Вегнер) "Война
против Советского Союза в 1942—1943 гг.”
посвящена описанию так называемого "вто¬
рого похода" Гитлера против СССР, боям
весной 1942 г. и началу летнего наступления
вермахта. Основное внимание уделено
битвам за Кавказ и Сталинград. Рассмотрены
также боевые действия зимой 1943 г. на дру¬
гих участках советско-германского фронта.
В заключении (авторы X. Боог, В. Ран,
Р. Штумпф, Б. Вегнер) делается вывод о том,
что главная причина неудач Германии в
войне 1941—1943 гг. состоит в непрофессио¬
нализме Гитлера, взявшего в период тоталь¬
ной войны всю полноту власти в свои
руки.
Исследование на тисано на основе доку¬
ментов и материалов, хранящихся в архи¬
вах и научных центрах ФРГ: Федеральном
архиве (Кобленц), Федеральном архиве —
Военном архиве (Фрайбург), Политическом
архиве министерства иностранных дел
(Бонн), Институте современной истории
(Мюнхен), Институте военно-исторических
исследований (Фрайбург)' и в частных ар¬
хивах.
В научный оборот введены документы
штабов верховного главнокомандования
вермахта, верховного главнокомандова¬
ния сухопутных войск, верховного штаба
военно-морских сил, штабов групп армий,
армий и дивизий.
Использованы также материалы Нацио¬
нального архива США (Вашингтон) и Нацио¬
нального государственного архива Велико¬
британии (Лондон).
Одним из ключевых моментов тома явля¬
ется ответ на вопрос, когда война стала
мировой. Г. Рот считает, что таким перелом¬
ным событием явились вступление в вой¬
ну США и объявление им войны со стороны
Германии и Италии. Превращение войны из
европейской в мировую, пишет Рот, нача¬
лось "с появлением, кроме Восточного,
театров военных действий в Атлантике, а
также в Средиземноморском регионе и
Северной Африке. Операции немецких
войск получили широкое географическое
распространение и одновременно достигли
своей кульминации” (с. XI).
X. Боог исследует процесс образования
антигитлеровской коалиции, подробно рас¬
сматривая внешнюю политику США и разви¬
тие отношений воюющих сторон до вступле¬
ния Америки в войну.
Важное место в американской политике в
начале 1941 г. занимало послание президента
США Ф. Рузвельта конгрессу от 6 января, в
котором он сформулировал цели войны про¬
тив тоталитарных государств (прежде всего
Германии и Японии). Речь шла о "четырех
свободах” западной демократии: слова,
международной торговли, религиозных
отправлений и свободе от страха и подавле¬
ния (с. 14). В апреле—мае 1941 г. была за¬
вершена разработка официального плана
войны, нарастали темпы производства
вооружений, укреплялись военные силы
США и Англии, был разработан секретный
англо-американский план ведения войны
ABC—I (с. 14). К этому же времени относит¬
ся начало широкомасштабных поставок со
стороны США военной техники и вооруже¬
ния Англии.
Сближение США и Англии с Советским
Союзом началось фактически сразу же после
нападения Германии и ее союзников на
СССР. Авторы отмечают, что для западных
государств агрессия против советского наро¬
да была значительно менее неожиданной,
нежели для советского руководства. До
фактического создания антигитлеровской
коалиции начали складываться партнерские
отношения между Великобританией, Совет¬
ским Союзом и Соединенными Штатами Аме¬
рики. Авторы приводят известные высказы¬
вания британского премьера У. Черчилля,
сделанные им 22 июня 1941 г., т.е. в день
нападения Германии на СССР. Хотя при этом
подчеркивается, что вместо срочной воен¬
ной помощи в Советский Союз была направ¬
лена военная делегация для сбора информа¬
ции об СССР и его вооруженных силах
(с. 18). В труде, правда, не уточняется, о
какой конкретной военной помощи просило
советское военное командование. А речь
шла о высадке английских дивизий на севе¬
ре Европы для совместных действий про¬
тив немцев и форсированной помощи воору¬
187
жением. Высадка же английских сил в
количестве 30 тыс. человек в районе Па-де-
Кале, о которой вначале высказался Чер¬
чилль, была не возможна в связи с тем, что
имелись суда только для доставки одной
бригады численностью 6 тыс. человек
(с. 18).
Главное, отмечает автор, состояло в том,
что как англичане, так и американцы были
фактически одного мнения о возможностях
Советского Союза. По оценке военного мини¬
стерства Великобритании, крах СССР должен
был произойти через три месяца. Это обусло¬
вило увеличение американской военной по¬
мощи Англии, но СССР ее только лишь
обещали.
В значительной степени под влиянием
упорного сопротивления Красной Армии
номецким агрессорам помощь из-за океана
начала поступать, хотя и составила до кон¬
ца 1941 г. "только четверть от обещанного
объема — 360 778 тонн, в том числе
154 000 тонн через северные порты России”
(с. 19). Автор признает, что именно в это
трудное время поставки составили незначи¬
тельную часть от всей помощи за годы вой¬
ны — около 17,5 млн. тонн (с. 19).
Также подчеркивается, что Советский
Союз рассматривался Рузвельтом как
противовес Германии и Японии. Оказание
США помощи СССР в 1941 г. определялось
тем, что американцы уже в январе 1941 г.
располагали копией директивы Гитлера
№ 21 — план "Барбаросса”.
В книге приводится мнение Рузвельта о
возможности открытия второго фронта в
Европе: это могло стать реальностью только
после ослабления Германии посредством
блокады, воздушных бомбардировок и про¬
паганды. Второй фронт в Европе планиро¬
валось открыть не ранее 1942 или 1943 г., при
этом роль Красной Армии не учитывалась
(с. 22).
В томе подробно излагаются решения
западных держав, связанные с Атлантиче¬
ской конференцией и принятием Атланти¬
ческой хартии, формулируются цели войны
и принципы ее ведения против стран "оси”.
В труде большое внимание уделено проб¬
леме второго фронта и оказанию помощи
Советскому Союзу со стороны союзников.
Стремительное продвижение немецких
войск в глубь территории СССР вынудило
Сталина 3 сентября 1941 г. обратиться к
Черчиллю с просьбой об открытии второго
фронта "где-нибудь на Балканах или во
Франции, что заставило бы немцев оттянуть с
Восточного фронта от 30 до 40 дивизий”. Ста¬
лин предлагал также высгдить в Архангель¬
ске или переправить через Иран 25—30 диви¬
зий для совместных действий против нем¬
цев (с. 34). Англичане считали это предло¬
жение нереалистичным.
Приводятся подробные выдержки из
переписки лидеров антигитлеровской коали¬
ции, выступлений Сталина. Причем задерж¬
ку с открытием второго фронта автор объяс¬
няет "недоверием Советов к своим новым
союзникам”, связанным с Мюнхеном и пере¬
летом Гесса в Англию. Анализируются ре¬
зультаты переговоров Сталина и Идена
16—18 сентября 1941 г. в Москве и англо-
американской конференции в Вашингтоне с
22 декабря 1941 г. до середины января
1942 г. Отмечается, что Черчилль слабо пред¬
ставлял себе роль СССР в войне, недооцени¬
вал Японию и явно переоценивал возмож¬
ности Сопротивления в Европе (с. 43). На
конференции были приняты важные реше¬
ния о высадке в Северной Африке и пере¬
базировании части американских сухопут¬
ных сил и авиации на территорию Англии.
Был составлен также план действий, обеспе¬
чивающий совместную победу над фашист¬
ской Германией.
В томе рассматриваются дипломатические
события 1942 г. Значительное внимание
уделяется конференции в Касабланке, в
ходе которой западных союзников больше
волновал вопрос, "как связать Советский
Союз договорами, в особенности, по вопро¬
сам его будущих границ”. В книге указыва¬
ется на взаимосвязь происходивших дипло¬
матических переговоров с событиями на
советско-германском фронте.
Неудовлетворенность советской стороны
переносом срока высадки англо-американ¬
ских войск в Западной Европе на 1944 г.,
подогреваемая подозрительностью Сталина,
сказалась на переговорах Черчилля с совет¬
ским руководством в Москве в августе
1942 г. Последние, по словам автора, носили
"очень недружественный характер”, хотя в
итоге Сталину удалось достичь решения ряда
вопросов, в частности, возобновления воен¬
ных поставок морем и через Иран (с. 71).
Отмечается, что внутри антигитлеровской
коалиции имелись значительные проблемы.
Они заключались в идеологическом неприя¬
тии западными державами большевизма,
негативной оценке событий 1939—1941 гг.,
связанных с сотрудничеством Сталина с
188
Гитлером. Коалиция рассматривалась на
Западе как "странный союз”.
Последняя глава первой части посвящена
рассмотрению проблем, связанных с деятель¬
ностью "государств Тройственного пакта”,
противостоявших антигитлеровской коали¬
ции. Прежде всего отмечается, что в отли¬
чие от последней в блрке фашистских госу¬
дарств не было совместных органов, а так¬
же равноправных взаимоотношений. "Тре¬
тий рейх" имел преобладающее право в
решении вопросов. Результаты встреч Гит¬
лера с Муссолини, Антонеску и Маннергей¬
мом фактически не влияли на изменение
военной обстановки на фронтах. Подробно
прослеживается стратегия Гитлера "между
Перл-Харбором и Сталинградом”. Приводит¬
ся оценка Гитлером обстановки в первом и
втором полугодии 1942 г. Он продолжал счи¬
тать, "что противник (Красная Армия. —
Г.И,) сильно ослаблен, но не разбит”. Выход
на Кавказ, захват нефтеносных районов
СССР и дальнейшее продвижение в район
Суэца и Ближнего Востока представлялись
Гитлеру "ключом к победе и окончанию
войны” (с. 118).
Детально разбираются взаимоотношения
союзников Германии по войне от создания
оси Берлин — Рим до подписания Тройствен¬
ного пакта и заключения военного согла¬
шения.
В разделе "Япония и война в Европе”
утверждается, что сковывание американско¬
го потенциала на Тихом океане полностью
соответствовало интересам немцев в веде¬
нии войны в Европе. При этом временной
фактор имел решающее значение. Немало¬
важную роль играли экономические интере¬
сы Германии.
Рассматриваются также проблемы ведения
коалиционной войны. Подчеркивается, что
для ее эффективного ведения необходима
тесная кооперация на всех уровнях, в осо¬
бенности в стратегическом, а также опера¬
тивно-тактическом взаимодействии воору¬
женных сил участников коалиции. Для Гер¬
мании главная проблема заключалась в том,
что "германское руководство было не гото¬
во и даже не способно прогнозировать стра¬
тегические перспективы ведения коалицион¬
ной войны” (с. 169).
Часть тома посвящена войне на Тихом
океане. В ней подробно рассматривается
дипломатическая и военная деятельность
стран, этого региона, прежде всего Японии,
начиная с 20-х годов.
Значительное место уделено дипломати¬
ческим усилиям Японии в преддверии на¬
падения Германии на Советский Союз, а
также подготовке Японии к войне с США.
Рассматриваются отношения Японии и США.
Япония к концу октября 1941 г. стояла перед
следующей альтернативой: предотвратить
войну, что означало принятие всех амери¬
канских предложений; немедленно начать
войну, чтобы решить политические задачи
силой оружия; решиться на войну и продол¬
жить подготовку к ней, чтобы лишить
Вашингтон последних возможностей вести
переговоры (с. 215).
Отдельный раздел тома посвящен нападе¬
нию японцев на Перл-Харбор и последствиям
этой операции. Успех, по мнению В. Рана,
был достигнут в результате сочетания двух
факторов: внезапности и умелого использо¬
вания оружия. Отмечается, что генерал
Д. Макартур располагал только половиной
необходимых войск и авиации для успешной
обороны. Однако потери американцев после
Перл-Харбора были быстро восполнены.
Действиям военно-морских сил сторон в
Атлантике и Северном море посвящается
часть третья тома. Ее автор наиболее деталь¬
но рассматривает морскую стратегию немцев
и союзников в Атлантике. Приводится вы¬
держка из немецкой директивы № 1 "О веде¬
нии войны” от 31 августа 1939 г., в которой,
в частности, говорится: "Военно-морские
флагманы ведут борьбу против торгового
судоходства, сосредоточив главные усилия
против Англии”. По мнению командующего
ВМС Германии гросс-адмирала Э. Редера,
"стратегической целью флота являлось по¬
давление военной экономики противника
путем блокады морских коммуникаций”
(с. 275). Германия исходила при этом из
опыта первой мировой войны, а также
островного положения Англии, для кото¬
рой морские коммуникации, в особенности :
США, были жизненно необходимыми. Став¬
ка делалась на "быстрое подавление Англии,
пока она не получила эффективную амери¬
канскую помощь”.
В. Ран считает, что немецкий военно-
морской штаб сделал выводы из негативных
итогов первой мировой войны: было центра¬
лизовано руководство флотом, получила
дальнейшее развитие радиосвязь. В основе
морской стратегии лежали следующие прин¬
ципы: добиваться успеха в операциях не за
счет числа потопленных судов торгового
флота, а путем расширения радиуса действий
189
на коммуникациях противника, осуще¬
ствляя "двойное управление", достигать
согласованных действий и исключения
диверсионных актов со стороны противника
в отдаленных друг от друга регионах океана;
избегать, по возможности, прямых морских
сражений с кораблями противника (с. 371).
Последняя глава третьей части посвящена
операциям военно-морских сил на Севере.
Сопротивление Красной Армии на северном
участке фронта спутало немецкие карты.
Конвои союзников пошли в Советскую Рос¬
сию, и только после разгрома PQ-17 в июле
1942 г. наступила небольшая пауза. Однако
роль операций в Северном море становилась
менее существенной. С весны 1943 г. союзни¬
ки предпочитали доставлять оружие и иму¬
щество через Иран, а конвои с февраля по
ноябрь 1943 г. через Северное море не прово¬
дились (с. 425).
О важности для немецких историков
вопроса о стратегических бомбардировках
"третьего рейха” и германской противо¬
воздушной обороны свидетельствует тот
факт, что ему посвящена четвертая часть
тома. Эту проблему X. Боог исследует в
историческом плане, начиная с довоенного
времени.
Английские, а позднее англо-американ¬
ские стратегические бомбардировки Гер¬
мании не без основания называются исклю¬
чительным событием в истории войны. "Они
продолжались пять лет, их интенсивность
нарастала, и они затрагивали повседневную
жизнь каждого немца" (с. 449). С весны
1944 г. началось систематическое разрушение
германской военной экономики англо-
американской авиацией.
Стратегические бомбардировки осуще¬
ствлялись Англией вне связи с операциями
сухопутных сил и ВМС. Кроме выведения из
строя военных и экономических объектов,
задачей этих налетов было моральное воз¬
действие на население и личный состав гер¬
манской армии.
В книге приводится карта-схема целей на
немецкой территории. В Англии была
создана специальная авиашкола по подготов¬
ке пилотов для бомбардировок Германии.
Новая стратегия действий заключалась в
концентрированном разрушении целей, рас¬
положенных в крупных центрах, и примене¬
нии возможно большего количества зажига¬
тельных бомб. В ответ на налеты немецкой
авиации на Лондон Черчилль приказал бом¬
бить Берлин.
Следует отметить, что автор уделяет не¬
заслуженно большое внимание стратегиче¬
ским бомбардировкам Германии ВВС союз¬
ников, не учитывая, что в это время значи¬
тельные силы немецких люфтваффе были за¬
действованы на советско-германском фронте
и в Африке.
Наряду с другими сухопутными и мор¬
скими театрами военных действий историк
Р. Штумпф детально исследует ведение
войны в Средиземноморье в 1942—1943 гг.,
анализирует операции, проводившиеся в
Северной Африке и в центральной части
Средиземного моря.
О значении, которое автор уделяет опера¬
циям в районе Эль-Аламейна, говорит тот
факт, что им посвящено две главы исследо¬
вания. Поэтапно рассматриваются вопросы
планирования и ведения боевых действий
сторон, в частности "ночной охоты на доро¬
гах” английской авиации.
Немецкое командование стремилось
овладеть крепостью Тобрук. После ее паде¬
ния открывался путь на Эль-Аламейн.
Именно этот рубеж прикрывал подступы к
Суэцкому каналу - вожделенной мечте гер¬
манских генералов. Успехи настолько вскру¬
жили голову гитлеровскому руководству,
что готовился приказ о дальнейшем продви¬
жении на Египет (с. 642). Однако взять с
ходу Эль-Аламейн генералу Э. Роммелю не
удалось, ему пришлось перейти к осаде.
Немцы предприняли широкий обходной
маневр с севера. Но их силы были на
исходе.
В конце октября английскими войсками
под командованием генерала Б. Монтгомери
была предпринята операция по прорыву
итало-германских позиций. Отход немцев
противоречил приказу "фюрера”: "Ни шагу
назад!”, но обстоятельства оказались силь¬
нее. Бессмысленно жертвовать людьми Ром¬
мель не стал. Под Эль-Аламейном было про¬
демонстрировано подавляющее превосход¬
ство союзников в Северной Африке.
Сложились благоприятные условия для
действий англо-американских войск в Севе¬
ро-Западной Африке. После высадки войск
союзников в Марокко и Алжире (операция
"Торч”) Гитлер понял, что в этом регионе
создается плацдарм для "прыжка в Южную
Европу". Однако, вынужден признать автор,
"на пороге нового года особое внимание гер¬
манское командование уделяло войне про¬
тив Советского Союза”.
Событиям на советско-германском фрон¬
190
те в 1942—1943 гг. в томе отведено значитель¬
ное место. Б. Вегнер в девяти главах пытает¬
ся нарисовать объективную картину хода
боевых действий на советско-германском
фронте с весны 1942 до зимы 1943 г. Летнюю
кампанию, планирование которой началось в
апреле 1942 г. (директива № 41), автор назы¬
вает "вторым походом” Гитлера на СССР.
Излагаются концепция и основные стратеги¬
ческие положения главного командования
вермахта: на севере — блокада Ленинграда и
соединение с финской армией; на юге —
максимальная концентрация сил и средств,
стремительное продвижение на Кавказ и
захват нефтеносных районов.
Приводятся критические высказывания
немецких генералов Г. Кюхлера, Э. Фромма,
Э. Вагнера, адмирала В. Канариса, называв¬
ших план летнего наступления немцев,
носивший кодовое название "Блау”, "уто¬
пическим”.
Параллельно даны оценка экономики
СССР и состояния Красной Армии на время
подготовки к наступлению и в ходе военных
действий, а также прогноз развития ин¬
дустриального производства в СССР на
1942 г. Говорится о просчетах немецких стра¬
тегов, заниженно оценивавших военно-эконо¬
мический потенциал СССР (с. 806—811).
В томе приводятся данные о мобильных
силах немецкой полевой армии на Востоке к
15 июня 1942 г., составе группы армий "Юг”,
люфтваффе и системе управления ими. Де¬
тально описывается ход боевых действий в
начале летнего наступления. Автор отмеча¬
ет серьезные противоречия между командо¬
ванием группы армий "Юг” и начальником
генерального штаба сухопутных войск
Ф. Гальдером.
Б. Вегнер считает, что командованием
вермахта было допущено распыление сил и
средств. Неудача германских войск под
Воронежем вынудила верховное командова¬
ние осуществить структурную реорганизацию
наступавших армий. Были созданы группы
армий "А” и "Б”, отстранен от должности
фельдмаршал Ф. фон Бок. Преследование
отходивших советских войск оценивалось
как "безрезультатное”.
Автор явно негативно относится к после¬
дующему раздвоению направления наступ¬
ления вермахта — на Сталинград и на Кав¬
каз. Если наступление на Сталинград
подразумевало быстрый его захват в основ¬
ном силами 6-й армии, то группе армий "А”
(кодовое название "Эдельвейс”) предстояло
вести наступление на южном фланге, вклю¬
чая захват Кавказа и выход на побережье
Черного моря. Гитлер видел в этом создание
предпосылок для дальнейших ударов по
Ираку, Ирану и Месопотамии. При этом не¬
достаточно, по мнению автора, учитывались
трудности в обеспечении войск в связи с
сильно растянутыми коммуникациями. Это
негативно сказывалось уже на снабжении
6-й армии, что замедлило ее продвижение к
Сталинграду и дало возможность русским
подготовить город к обороне. Б. Вегнер упре¬
кает Гитлера в некомпетентности, когда тот
вмешивался в решения генерального штаба
без учета всех обстоятельств оперативного
характера.
Исследователь показывает масштабы
поражений Красной Армии. Комментируя
приказ Сталина № 227 "Ни шагу назад!”, он с
иронией отмечает, что Сталин в качестве
примера действий для Красной Армии при¬
водит порядки, существовавшие у немецких
агрессоров.
Отмечается, что военные действия были в
значительной мере привязаны к транспорт¬
ным магистралям. Действия группы армий
"А” тесно координировались с тем, что про¬
исходило на сталинградском направлении.
Приводится высказывание генерала Д. Йод¬
ля о том, что "судьба Кавказа... решается
под Сталинградом” (с. 931).
В сентябре 1942 г. в ставке Гитлера под
Винницей вынуждены были признать, что,
несмотря на огромны потери Красной Армии,
наступило начало кризиса: "Стратегические
цели войны в России на этом этапе так и не
были достигнуты” (с. 957).
Большое внимание в шестом томе уделе¬
но рассмотрению действий сторон в районе
Сталинграда. Автор исходит из посылки, что
сил 6-й армии было недостаточно, чтобы
взять город. Командующий армией генерал
Ф. Паулюс докладывал об этом в ставку,
после чего было принято решение пополнит^,
силы группы армий "Б” за счет одного танко¬
вого корпуса 4-й армии и двумя армейскими
корпусами (в том числе одним румынским).
Это позволило немцам отбить контратаки
советских войск и к сентябрю вплотную
подойти к городу. Севернее Сталинграда
войска группы армий "Б” вышли к Волге.
Началась битва за город.
В книге приводится заявление Гитлера от
2 сентября 1942 г. о том, что "при захвате
города все мужское население должно быть
устранено”. Ф. Гальдер уточняет — "уничто-
191
жено, так как его миллионное население,
проникнутое коммунистической идеей, осо¬
бенно опасно” (с. 977—978).
Автор пытается объяснить неудачи Пау¬
люса по окончательному захвату Сталингра¬
да все более ухудшавшимся снабжением,
началом осенней распутицы и ’’особенно
плохими возможностями для маневра тан¬
ками”, отсутствием навыков ведения улич¬
ного боя у солдат. Город стал для немцев
"вторым Верденом”. Силы 6-й армии были
исчерпаны.
Историк говорит о конфликтной ситуации
в отношениях между немцами, итальянцами
и румынами под Сталинградом.
В этих условиях советское командование
предприняло 19 ноября контрнаступление2.
Ставится важный вопрос: знало ли немецкое
командование о подготовке русских к
контрнаступлению. Так, в сентябре Ф. Галь¬
дер утверждал, что "Красная Армия не рас¬
полагает существенными оперативными
резервами” (с. 1014). Не отличался от своего
предшественника в оценке ситуации и вновь
назначенный начальник генерального штаба
сухопутных войск К. Цейтцлер. В то же
время начальник отдела иностранных армий
Востока генерал Р. Гелен в докладе 7 сен¬
тября 1942 г. указывал на то, что "людские
резервы русских... неисчерпаемы”. Правда,
31 октября 1942 г. он же говорил, что
"ничего не известно о подготовке крупного
наступления на каком-либо участке фронта”
(с. 1016). Немецкая разведка до самого нача¬
ла контрнаступления так и не установила
большого скопления советских танков. Ис¬
следователь рассматривает боевые действия
сторон в сталинградской битве главным
образом по иностранным источникам3. При
этом автор умалчивает о действиях Красной
Армии как в борьбе за город, так и в ходе
уничтожения окруженной группировки
вермахта.
*При изложении хода боевых действий
автор использует советские издания: Самсо¬
нов А.М. Сталинградская битва. М., 1968;
История второй мировой войны. 1939—
1945 гг., т. 6. М., 1976; Жуков Г.К. Воспоми¬
нания и размышления. М., 1988, и др.
3Doerr Н. Der Feldzug nach Stalingrad.
Darmstadt, 1955; Ziemke E.F. Stalingrad and
Belorussia. New York, 1982; Jukes G. Histlers
Stalingrad Decisions. Berkeley, 1985; Bey¬
er W.R. Stalingrad. Unten, wo das Leben
Konkret war. Frankfurt a.M., 1987.
В шестой части тома описываются также
действия группы армии "Дон”, возглав¬
лявшейся фельдмаршалом Э. фон Манштейном
в ходе операции "Винтергевиттер”. Наиболь¬
ший интерес в этой главе представляет
раздел под красноречивым названием
"Конец”. Главную вину за создавшееся без¬
выходное положение автор возлагает на
верховное командование сухопутных войск
и транспортную авиацию, не обеспечившую
выполнение своих задач.
В выводах раздела говорится, что причи¬
ной сложившейся обстановки явились оши¬
бочные решения Гитлера: "Налицо в 1942 г.
банкротство стратегической концепции Гит¬
лера”.
В заключение отмечается, что "второй
поход” Гитлера против Советского Союза
потерпел полный провал. Победы советских
войск под Сталинградом и на Кавказе уско¬
рили превращение Советского Союза в миро¬
вую державу. Это также способствовало при¬
нятию союзниками решения об открытии
второго фронта. Победы Красной Армии по¬
влияли на общую расстановку сил в других
регионах мира. Полностью провалился гитле¬
ровский план экономической эксплуатации
Советского Союза.
Также дается оценка действий Японии на
Тихом океане в связи с растянутыми мор¬
скими коммуникациями и возраставшей
угрозой со стороны США. Авторы считают,
что война на морях якобы и означала
"второй фронт”.
Поражение в Северной Африке оценива¬
ется авторами как наказание за недостаточ¬
ное внимание к этому "второстепенному
фронту”. Признается наличие грубых ошибок
в ведении войны в этот отрезок времени.
Поражения Германии, завершают свои выво¬
ды авторы тома, практически лишили ее
преимуществ, достигнутых ранее. Вина за это
традиционно возлагается на "фюрера”, его
профессиональную некомпетентность.
В целом шестой том труда "Германский
рейх и вторая мировая война” представляет
собой значительный вклад в развитие воен¬
но-исторических исследований о второй
мировой войне.
Г.М. Иваницкий,
старший научный сотрудник
Института военной истории
Министерства Обороны
Российской Федерации
192
В.П. Смирнов, В.С. Посконин. ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОИ ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ В ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ. 1789-1989. М.:
изд-во Московского университета, 1991,222 с.
Работа профессора Московского государ¬
ственного университета им. М.В. Ломоносова
д.и.н. В.П. Смирнова и его коллеги к.и.н.
В.С. Посконина завершает серию из шести
публикаций "Великая французская револю¬
ция. Документы и исследования”, подготов¬
ленную кафедрой новой и новейшей истории
исторического факультета МГУ к 200-летию
Революции.
Проблема, избранная авторами, интересна
и актуальна. Несмотря на обширную отечест¬
венную литературу о Великой французской
революции, до сих пор революционные
традиции, их место и роль в исторической
памяти французов широко не освещались. В
таком объеме и в таких хронологических
рамках эта важная и неординарная тема
рассмотрена впервые.
В книге обстоятельно прослеживается,
как на протяжении двух веков свободолюби¬
вые и демократические идеалы Великой
революции постоянно отражались на самосоз¬
нании французов. Главное внимание
уделено анализу событий Революции, ее
идей и символов, которые легли в основу
того, что можно назвать традициями.
Подробно рассматриваются идейно-полити¬
ческая борьба в общественном мнении
страны, формирование основных взглядов и
направлений в оценке роли и значения
Революции в первой половине XIX в. Опи¬
сывая дальнейшую историю Франции, авторы
постоянно соотносят творчество историков,
деятельность политиков, общественное мне¬
ние каждого конкретного периода с тем, как
революционные традиции проявляли себя
при осмыслении тех или иных сложных
поворотов французской истории (Вторая
республика, Вторая империя, Третья респуб¬
лика, новейшее время), какое место они
занимали в идейной неполитической борьбе.
Большое место в работе занимает анализ
мало изучавшейся в отечественной истори¬
ографии проблемы преподавания истории
Великой французской революции в школах
Франции. При этом авторы затрагивают и
более общий вопрос исторического образо¬
вания в стране. Это важная часть исследо¬
вания, в которой вводится в научный оборот
много нового историографического матери¬
ала.
Авторы рассматривают влияние и исполь¬
зование идей и традиций Великой француз¬
ской революции в современной политичес¬
кой борьбе, в деятельности основных поли¬
тических сил Франции; коммунистов, социа¬
листов, представителей левацкой тенденции,
голлистов, республиканцев, монархистов,
неофашистов и других крайне правых груп¬
пировок. Этот анализ показывает, что и два
столетия спустя политические силы страны
очень по-разному оценивают те или иные
события, тех или иных деятелей Революции,
да и саму Революцию тоже. Важно то, что
большинство современных политических
партий считают себя в той или иной степе¬
ни продолжателями революционной тради¬
ции, тем самым закрепляя ее непреходящее
значение как для современной Франции, так
и для всей мировой истории.
Конечно, у разных политических партий
и течений свои излюбленные герои и собы¬
тия Революции. Но лишь очень немногие
считают Революцию историческим провалом
или преступлением. И практически все
используют символы, традиции, даже лек¬
сику Революции, ее "негатив” и "позитив”
в пропагандистской деятельности, в полити¬
ческом противостоянии с соперниками.
Эту оценку подтверждает и широкое
празднование 200-летнего юбилея Великой
французской революции, чему посвящена
отдельная глава книги.
Если исходить из тех задач, которые
поставили перед собой авторы, то можно
сказать, что они в целом справились с
трудной темой, хотя изучение формирования
коллективного представления французов о
своем прошлом они ограничили главным
образом анализом идейно-политической
борьбы, исторических изысканий и препо¬
давания истории Революции прежде всего в
школе. Естественно, что процесс передачи
исторической памяти нации более сложен и
многоаспектен. Традиции могут передаваться
через семью, общественную деятельность,
через произведения искусства, различные
памятники прошлого и т.д. Тем не менее
авторы почти не касаются художественной
литературы, изобразительного искусства,
драматургии, кинематографа и многого
другого, что тоже "оживляет” историческую
память широких масс, хотя может порождать
"историческую мифологию”. Но это не упрек
авторам. В сравнительно небольшой работе
невозможно охватить все. Они и не ставили
перед собой такой задачи. При чтении книги
чувствуется некоторая "зажатость”, даже
тезисность текста, что, видимо, является
следствием "урезания" работы до определен¬
ного объема.
Отдельно следует отметить заключение
7 Новая и новейшая история, № 6
193
книги. В нем авторы не только подвели
итоги своего исследования, но еще раз
попытались осмыслить всемирно-историчес¬
кое значение Великой французской револю¬
ции. Не будет преувеличением сказать, что
идеалы Французской революции легли в
основу современной демократии. Хотя
буржуазные революции возникали и ранее,
но "особенность Франции заключается в том,
что даже идеям, заимствованным извне,
французские идеологи и политики умели
придать универсальное значение, политичес¬
кую остроту, чеканную формулировку и в
таком виде сделать их достоянием всего
человечества. Великая французская револю¬
ция превратила теоретические построения
идеологов в объект массовой политической
борьбы, внесла их в сознание широчайших
слоев населения и надолго закрепила в
коллективной памяти не только французского
народа, но и других народов” (с. 189).
Именно от Французской буржуазной рево¬
люции конца XVIII в. ведут свое начало
многие представители современных идейно¬
политических течений: либералы и радика¬
лы, социалисты и коммунисты, социал-хри-
стиане и сторонники сильной государствен¬
ной власти. Декларация прав 1789 г. легла в
основу многих более поздних деклараций
о правах и свободах человека. Равенство и
братство, национальный суверенитет,
республиканская форма правления - это
принципы Великой французской революции.
Революционные методы борьбы, террор,
гражданская война, иностранная интервен¬
ция — это тоже опыт Великой французской
революции.
Поэтому работа В.П. Смирнова и В.С. Пос¬
конина выглядит очень современной и для
нас, хотя, казалось бы, в ней рассматривают¬
ся события далекой и не нашей истории. Но
мы сейчас тоже переживаем время переос¬
мысления нашего прошлого, пытаемся
понять, что было ценного и непреходящего в
нашей истории, особенно после Октябрьской
революции, что стало мифом и субкульту¬
рой, в чем была историческая неизбежность,
беспощадная логика исторического разви¬
тия, а в чем были заблуждения и искажения
действительности. Опыт анализа изучения
истории и традиций Великой французской
революции показывает нам, что в той или
иной степени мы переживаем сейчас ту же
мучительную болезнь познания истины и
ценностей, что пережили и переживают
после революции 1789 г. французы.
С.П. Костриков,
кандидат исторических наук,
доцент
В.Л. Керов. ФРАНЦУЗСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ОСТРОВОВ ИНДИЙСКОГО ОКЕА¬
НА (xvn-xvm вв.) М.: изд-во ’’Наука”, 1990,148 с.
Книга д.и.н., профессора Университета
дружбы народов (Москва) В.Л. Керова ори¬
гинальна по теме и содержанию. Автор по¬
ставил целью исследовать истоки колониа¬
лизма ”в конкретно-исторической форме на
примере определенного региона”, а также
рассмотреть оценки колониализма "западноевро¬
пейской общественной мыслью на различных
этапах ее развития” (с. 3). Эта задача им
выполнена. Заметим, что в решении второй
ее части авторские выводы в основном соот¬
ветствуют уже укоренившимся в нашей ли¬
тературе представлениям. Но при этом
В.Л. Керов нередко использует малоизвест¬
ные факты, сами по себе представляющие
интерес для исследователя. Так, автор
показывает, что деятельность торговой ком¬
пании, созданной в первой половине XV в.
Жаком Кёром и кредитовавшей французское
государство, явилась одной из предшествен¬
ниц колониальной политики страны. Любо¬
пытны сведения о памятной записке 1626 г.,
адресованной дворянином И. де Разилли
кардиналу Ришелье и содержащей програм¬
му колониальной экспансии. Данные тако¬
го рода обогащают общепринятую концеп¬
цию становления колониальной политики
Франции.
Главным же в книге является исследова¬
ние первой части авторского замысла,
отличающееся новизной.
В отечественной историографии до сих
пор не существовало работы, специально
охватывающей историю французской коло¬
ниальной .экспансии в юго-западном регио¬
не Индийского океана в начальные века
новой истории. Поскольку в книге постоян¬
но затрагиваются два главных предмета ис¬
следования — страна-метрополия и объекты
ее экспансии, — то и изложение ведется па¬
194
раллельно в двух аспектах: колониальная
политика Франции XVII—XVIII вв. в целом,
исходившая из внутренних потенций
вызревавшего капиталистического способа
производства, и проистекавшие из нее собы¬
тия на индоокеанских островах в тесной свя¬
зи с их внутренним социально-экономичес¬
ким развитием. Определяя специфику про¬
никновения Франции во владения восточнее
Африки, В.Л. Керов устанавливает, что здесь
(в отличие от Новой Франции в Канаде и
Луизианы) метрополия стремилась не к лик¬
видации аборигенов с заменой их колониста¬
ми, а прежде всего к доходной эксплуа¬
тации приобретаемых земель на основе
приспособления местных обществ к торго¬
вым интересам самой Франции (с. 13).
Источниковедческая база работы широка:
письма, трактаты, мемуары, отчеты путе¬
шественников и захватчиков, документы
колониальных властей. Хорошо использова¬
на также имеющаяся отечественная и зару¬
бежная литература. В сферу исследования
вошли острова Мадагаскар, Маскаренские,
Сейшельские, Амирантские и Коморские.
Главное внимание уделено метрополии и
Мадагаскару, поскольку именно последний
являлся нередко и базой ранней колониа¬
льной экспансии в данном регионе, и преи¬
мущественным ее объектом. Мы считаем
правильным, что автор не ограничивает по¬
вествование заморской политикой только
Франции, а рассматривает ее в увязке с
политикой Португалии, Голландии и Анг¬
лии, когда державы Европы вступили в
схватку за материальные источники перво¬
начального накопления капитала. Хотелось
бы только увидеть здесь больше сведений
о значении работорговли для тогдашней ис¬
тории региона1. Ярко очерчены в книге ме¬
роприятия реального инициатора новой ко¬
лониальной политики Франции кардинала
Ришелье по созданию крупного флота и раз¬
нородных торговых "Компаний для замор¬
ской деятельности (с. 23—33).
Касаясь запутанной проблемы абориге¬
нов Мадагаскара, до сих пор наукой оконча¬
тельно не решенной, автор отмечает, что в
заселении Мадагаскара участвовали мигра¬
ционные волны из древней Меланезии
(с. 34). Однако речь должна идти лишь о
мигрантах, принадлежавших к меланезий¬
скому антропологическому подтипу, но
хСр.: Абрамова С.Ю. Обзор докладов на
симпозиуме, посвященном 150-летию отмены
рабства на островах Индийского океана. —
В кн.: Африка — колониализм и антиколо¬
ниализм. М., 1990.
вовсе не исходивших непосредственно из
Меланезии2.
Интересен рассказ об истории мадагаскар¬
ских этнических групп — сакалава, беци-
мисарака, сиханака, бецилеу, мерина и
других, об их ранних государственных образо¬
ваниях, в том числе сильнейшем из них —
Име'рина. Подробно проанализированы пе¬
рипетии начального проникновения фран¬
цузов на Мадагаскар, закрепленного в сере¬
дине XVII в. созданием колониального по¬
селения во главе с Э. де Флакуром (с. 52—
70). Следующий важный этап постепенного
овладения огромным островом относится ко
времени меркантилистских мероприятий
генерального контролера финансов и морско¬
го министра Франции Ж.-Б. Кольбера с его
Ост-Индской компанией. Наконец, очерчена
дальнейшая жизнь малагасийцев под воздей¬
ствием Индийской компании с 1719 г., час¬
тых набегов пиратов XVIII в. и авантюристи¬
ческих акций всевозможных участников ко
ионизационного процесса вроде бежавшего с
Камчатки политического ссыльного М.-
А. Беньёвского, сыгравшего заметную роль
в судьбах Мадагаскара второй половины
XVIII в. (с. 73-94).
Особый раздел исследования посвящен
истории вышеназванных архипелагов —
Маскаренских, Сейшельских, Амирантских
и Коморских островов, причем автор просле¬
живает их судьбу и в XIX в., выходя за
намеченные рамки книги, что позволяет чи¬
тателю лучше уяснить общую ретроспективу
событий. Добавим, что несомненную пользу
принесет также хорошо составленный
научный аппарат, сочетающий в себе под¬
робную библиографию3 и несколько указа¬
телей.
Работа В.Л. Керова восполняет опреде¬
ленный пробел в историографии француз¬
ской колонизации островов Индийского
океана и подводит историческую базу под
исследование последующих событий на
индоокеанских архипелагах. Малочислен¬
ность и неполнота таких работ серьезно ме¬
шает специалистам по истории XIX-XX вв.
Далее: в отличие от ряда авторов, рисующих
2См.: Шевеленко А.Я, Из истории вопроса
о происхождении мальгашей. — Вопросы ис¬
тории, 1962, № 7; Орлова А.С, Проблема этно¬
генеза малагасийцев. - В кн.: Вопросы аф¬
риканской истории. М., 1983.
3Из имеющихся на русском языке она
уступает лишь предложенной А.Л. Емелья¬
новым. - В кн.: Емельянов А,Л., Мыль-
цев П.А, Забытая история великого острова.
М., 1990.
7'
195
колониальную политику Франции во всех
подопечных странах одной краской, В.Л. Ке¬
ров вычленяет индоокеанскую ее специ¬
фику.
Отечественная историография, касающая¬
ся названных островов, за исключением Ма¬
дагаскара, вообще скудна. Даже в общих
трудах на эту тему порой либо нельзя найти
сведения о малых архипелагах, либо никак
не прослеживается единство сходных на них
и на Мадагаскаре событий. Отметим также,
что в работах о Мадагаскаре французская
экспансия на остров в XVII—XVIII вв. ос¬
вещалась крайне сжато. Не этим ли объяс¬
няется тот поразительный факт, что некото¬
рые африканисты писали о начале француз¬
ского проникновения на Мадагаскар ”с
конца XVIII — начала XIX в.”4? Книга
В.Л. Керова в значительной степени закры¬
вает имеющиеся лакуны.
А.Я. Шевеленко,
кандидат исторических наук,
зав. отделом журнала
'Вопросы истории”
4См. Кулик С.Ф. Африка: по следам со¬
бытий. М., 1983. с. 216.
196
Научная жизнь
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"СОВЕТСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 1917—1991".
5—7 февраля 1992 г. в Москве прошла меж¬
дународная научная конференция "Советская
внешняя политика. 1917—1991. Ретроспектива",
которую организовали и провели Институт
всеобщей истории РАН, Университет Тель-Ави¬
ва (Израиль) и Внешнеполитическая Ассоциация
(Москва). В ее работе приняли участие ведущие
специалисты по проблемам международных
отношений и советской внешней политики из
научных центров Москвы, МИДа России, а
также ученые из США, Великобритании,
Франции, Германии, Израиля, Италии, Канады,
Норвегии и ряда других стран.
Открывая конференцию, посол Израиля в
России А. Левин, накануне конференции вру¬
чивший верительные грамоты Президенту Рос¬
сии В.И. Ельцину, подчеркнул, что сот¬
рудничество историков вносит солидный вклад в
отношения между двумя государствами, которые
после сравнительно непродолжительного "ме¬
дового месяца" в конце 40-ж— начале 50-х годов
и последовавших за ним десятилетий разрыва
вновь приобретают цивилизованные формы.
Тон конференции был задан во вступи¬
тельном докладе директора Института всеобщей
истории РАИ д.и.н. А.О. Чубарьяна "Политика
и мораль в советской внешней политике".
Диалектика "политического" и "морального" в
международных отношениях, отметил доклад¬
чик, — сложная материя, способная гораздо лег¬
че вызывать к жизни вопросы, чем давать на них
ответы. Сегодня существует некоторый скепсис:
можно ли говорить о морали, об этике, коль
скоро речь идет о защите национально-
государственных интересов? Попытка преодо¬
леть такой скепсис, оперируя категориями
"старого" мышления, очевидно, была бы обрече¬
на на неудачу. Новые подходы, новый взгляд па
международные отношения и внешнеполи¬
тические функции государства позволяют выйти
за рамки традиционного противопоставления
политики и морали, строить на этой основе не
только партнерские, но и союзнические отно¬
шения. Во имя чего? Во имя созидания
ценностей, которые необходимы для любого
народа, любой нации, любого государства,
таких, как система глобальной безопасности,
преодоление экологического кризиса и обеспе¬
чение надежной защиты окружающей среды. В
этом случае строить межгосударственные отно¬
шения следует не только на основе между¬
народного права, но и ориентируясь на мораль¬
но-этические нормы. Следовательно, и совре¬
менный анализ внешней политики СССР невоз¬
можен без учета морального фактора.
По мнению докладчика классическим приме¬
ром такого подхода может служить оценка пакта
Молотова—Риббентропа, который был не
только противоправен, но и аморален. В то же
время в докладе было подчеркнуто, что исполь¬
зование категорий этики при анализе внешней
политики неизбежно порождает новые проблемы
для исследователей. К ним относится опре¬
деление такого понятия, как "национальный
интерес", или проблема соотношения нацио¬
нальных и общечеловеческих интересов.
Программа конференции состояла из несколь¬
ких тематических разделов, которые хроно¬
логически и проблемно отражали важнейшие
явления в истории внешней политики СССР:
"Генезис советской внешней политики"; "На
пороге второй мировой войны"; "От военного
союза к "холодной войне""; "Советский Союз и
Восточная Европа"; "Советский Союз и проб¬
лемы Ближнего Востока"; "Архивные источники
по проблемам советской внешней политики" и
"Новые перспективы российской внешней
политики".
В настоящем обзоре будут освещены
выступления по наиболее актуальным темам.
Первый из них — "Генезис советской внеш¬
ней политики” — оказался и самым значитель¬
ным по числу докладчиков. Один из орга¬
низаторов конференции профессор Тель-
Авивского университета Г. Городецкий выступил
на тему "Формулирование советской внешней
политики — первое десятилетие". Ученый счи¬
тает, что процесс становления отношений
советского правительства с другими странами в
первые годы после захвата власти характе¬
197
ризовался активным пересмотром внешнеполити¬
ческих приоритетов. Если сразу после октября
1917 г. ставка делалась, в основном, на
реализацию идеи перманентной мировой рево¬
люции, чему в немалой степени способствовало
назначение Л.Д Троцкого наркомом иностранных
дел, то уже к концу 20-х годов И.В. Сталин
решительно повернул, штурвал внешнепо¬
литического ведомства в сторону защиты
национальных интересов, исходя из собственного
понимания таких интересов.
Эту характерную для начального этапа
советской внешней политики эволюцию отметил
и д.и.н. Л.Н. Нежинский (Институт российской
истории РАН), осветивший тему: "Послеок¬
тябрьский этап противостояния: Восток —
Запад". Более того, по мнению ученого,
происходившая эволюция так и не была
завершена, в результате чего советская внешне¬
политическая доктрина приобрела двойствен¬
ность. С одной стороны, согласно этой доктрине
внешняя политика рассматривалась как специ¬
фическое средство подготовки всемирной про¬
летарской революции, а с другой — отражала
стремление обеспечить мирные условия для
строительства нового строя. Со временем наз¬
ванные направления развития советской внеш¬
ней политики превратились в два ее ведущих
принципа: принцип пролетарского интерна¬
ционализма и принцип мирного сосуществования
государств с различным общественным строем.
Л.Н. Нежинский отметил, что первая линия
развития доминировала до 1921 г. После 1921 г.
в условиях начавшегося перехода к нэпу были
внесены коррективы во внешнеполитическую
доктрину.
В докладе "Нэп по внешней политике:
конференции в Генуе и Рапалло" проф. К. Финк
(Университет штата Огайо, США) подчеркнула,
что первая встреча Востока и Запада закон¬
чилась провалом, так как в 1922 г. значительная
часть западного мира была все еще напугана
событиями в России и очень настороженно
относилась к представителям новой власти.
Внутри самого советского руководства, отметила
К. Финк, не было единства по вопросу об
отношениях с внешним буржуазным миром.
В.И. Ленин лавировал между сторонниками и
противниками взаимодействия с Западом, что во
многом обусловило двойственный характер
внешнеполитической линии Советов.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что
дуализм советской внешней политики, отчетливо
проявившийся уже на стадии ее генезиса,
объяснялся неизбежным противоречием между
желанием руководства соблюдать идеологи¬
ческое целомудрие и не поступаться принципами
марксизма, с одной стороны, и жесткой
необходимостью управлять хозяйством огромной,
находящейся в состоянии разрухи страны — с
198
другой. Отсюда и борьба между сторонниками
"революционной" линии и "прагматиками",
характерным примером которой может служить
спор, разгоревшийся в политбюро вокруг так
называемого "письма Террачини". Речь шла о
том, нужно ли с помощью итальянской ком¬
партии организовывать в Генуе демонстрацию
местных рабочих в честь приезда советской
дипломатической делегации на генуэзскую кон¬
ференцию. Против такой демонстрации
выступали Л.Б. Красин и М.М. Литвинов.
Ленин, находившийся в то время в Горках,
прислал записку, в которой категорически
настаивал на демонстрации пролетарской соли¬
дарности и целесообразности акции итальянских
рабочих.
Тема двух линий в советской внешней
политике так или иначе звучала и в других
докладах, посвященных ее генезису. Наиболее
характерным в этом отношении был доклад
проф. Дж. Хаслама (Кембриджский университет,
Великобритания) "М. Литвинов и альтер¬
нативная традиция в советской внешней
политике".
Согласно Хасламу, во внешней политике
советского государства в предвоенное десяти¬
летие можно обнаружить две стратегические
линии, олицетворяемые фигурами М.М. Литви¬
нова. и В.М. Молотова. Первый, как во время
своего пребывания в правительстве, так и в
годы опалы, в наибольшей степени отличался
прозападной ориентацией. Будучи реалистом и
прагматиком, Литвинов не верил в возможность
быстрой и синхронно протекавшей пролетарской
революции в Европе, и поэтому делал ставку на
мирное сосуществование и сотрудничество с
Западом. При этом буржуазный мир не казался
ему чем-то однородным. Литвинов отчетливо
осознавал принципиальное различие между
парламентскими демократиями и фашистскими
режимами и выступал за создание системы
коллективной безопасности против фашистской
угрозы. Другую линию представлял Молотов,
который вслед за Сталиным никак не диффе¬
ренцировал внешнее окружение. Для него и
фашистские диктаторские режимы, и такие
страны, как США или Англия, являлись в
первую очередь капиталистическим миром, т.е.
классово враждебным. Он не принимал кон¬
цепцию коллективной безопасности, был сторон¬
ником раздела мира на сферы влияния. Именно
от Молотова Сталин получал аргументы в
пользу союза с Германией, именно тот уверял
своего "хозяина" в конце 1940 г., что Германия
верна пакту и не собирается нападать на СССР,
а после окончания второй мировой войны опять
же Молотов стал активным сторонником курса
на "холодную войну". По мнению докладчика,
Литвинов и Молотов были не только антиподами
в подходах к внешней политике, но и непри¬
миримо враждовали лично. Их высказывания
друг о друге отнюдь не отличались дипло¬
матическими выражениями.
Утверждения Хаслама были подвергнуты
сомнению как в частностях, так и концеп¬
туально. К.и.н. А.С. Орлов (Институт военной
истории), возражая Хасламу, доказывал, что
нет никаких оснований говорить, будто осенью
1940 г. Молотов был уверен в том, что Германия
нападет на СССР. Наоборот, все поведение
наркома после возвращения в ноябре 1940 г. из
Берлина, где он встречался с Гитлером, сви¬
детельствует об обратном. Научный сотрудник
Института Европы РАН, посол В.И. Ерофеев, в
течение ряда лет работавший помощником
Молотова, привел много фактов из собственного
опыта общения с бывшим министром иностран¬
ных дел, позволяющих, по его мнению, объек¬
тивно охарактеризовать этого политического
деятеля.
К.и.н. С.З. Случ (Институт славяноведения и
балканистики РАН) отметил, что концепция
’’двух внешнеполитических линий” и существо¬
вания антитезы Литвинов — Молотов выглядит
очень заманчиво, но даже эффектно звучащее
свидетельство о том, что Литвинов называл
Молотова "дураком", не способно опровергнуть
главного: в сталинскую эпоху не могло быть
разных внешнеполитических курсов. Речь можно
вести только о последовательно проводившейся
тоталитарной, жесткой внешней политике, у
которой был один автор — Сталин. Молотов и
Литвинов представляли ли1йь две формы ее
выражения. В частности, Литвинова Сталин
использовал, когда ему нужен был удобный
фасад, чтобы создать благоприятный имидж на
Западе.
Другой проблемный раздел, обсуждавшийся
на конференции, — "На пороге второй мировой
войны". Проф. Т. Ульдрикс (Университет штата
Северная Каролина, США) в докладе "Пе¬
реоценка советской политики обеспечения бе¬
зопасности в 30-е годы" заявил, что новые
данные позволяют переосмыслить роль СССР в
обеспечении коллективной безопасности перед
второй мировой войной. Политика, направленная
на создание системы коллективной безопасности,
традиционно трактовалась как высокоморальная,
противоположная по своему политическому и
нравственному содержанию "умиротворению"
агрессора, чем занимались прежде всего
правительства Н. Чемберлена и Э. Даладье.
Однако американский ученый разделяет мнение
тех, кто утверждает, что в действительности
Сталин до войны никогда по-настоящему не
стремился к прочным союзническим отношениям
с западными демократиями, а предпочитал союз
с Гитлером и всеми силами добивался этого
союза. Об этом свидетельствуют и "чистки" 30-х
годов, проводившиеся им у себя в стране, и
советско-германский пакт о ненападении, и
последующий договор о дружбе.
Проф. И. Флейшхауэр (Институт М. Планка,
Бопп), получившая широкую известность на
Западе благодаря своим книгам о пакте Моло¬
това — Риббентропа и советско-германских
секретных переговорах в 1941—1945 гг., в
докладе "Советско-германские "особые" отноше¬
ния: от Брест-Литовска до пакта Молотова —
Риббентропа" говорила, что "особый" характер
отношений двух государств во многом опре¬
делялся личной позицией и индивидуальными
качествами таких политических деятелей, как
Ленин, Ратенау, Сталин, Гитлер. Основным
мотивом, побуждавшим их в указанный период
формировать "особые" отношения между своими
странами, было не стремление наладить партнер¬
ство и добрососедство, а личная заинтересован¬
ность1, имперские амбиции, желание вождей
СССР и Германии господствовать на континенте
и в мире, предварительно разделив их на сферы
влияния. Выступавшая подчеркнула, что такого
рода межгосударственные отношения были
скорее отношениями между правящими верхуш¬
ками, чем между народами. В ССР накануне
подписания пакта налицо было своеобразное
раздвоение: общественное мнение сориенти¬
ровано в одну сторону, а Сталин и его
ближайшее окружение действовали в другом
направлении. Сталин вообще считал себя
деятелем "экономического умиротворения".
Только такой путь, по его мнению, был способен
максимально отодвинуть или избавить СССР от
войны с Германией. Последующие после
заключения пакта события показали, считает
докладчик, что политика СССР в отношении
Германии характеризовалась отсутствием про¬
фессионализма, это была игра, навязанная самим
себе, игра, за конечный успех в которой
пришлось заплатить невероятно высокую
цену.
В докладе к.и.н. А.М. Филитова (ИВИ
РАН), прочитанном на заседании секции "От
военного союза к "холодной войне’”’, "СССР в
антигитлеровской коалиции: сотрудничество и
противоречия" отмечалось, что предпосылки
"холодной войны" нужно искать в тех проти¬
воречиях, которые существовали между
1 Министр иностранных дел Германии
(1922 г.) В. Ратенау, поставивший свою подпись
под Рапалльским договором между Германией и
Советской Россией, был одновременно пред¬
седателем германской "Всеобщей компании
электричества" (АЭГ), имевшей предприятия по
всему земному шару. В частности, АЭГ владела
трамвайными линиями в Петербурге. Ратенау в
1921 г. выступил с проектом консорциума с
Россией, говорил о возможности ее интеграции в
европейское хозяйство.
199
участниками антигитлеровской коалиции. На
первый взгляд, многие из них могут показаться
чисто тактическими, нс носящими принци¬
пиального характера, однако, отмстил доклад¬
чик, возникающие противоречия очень часто
касались послевоенного мирового устройства и
свидетельствовали о двух возможных подходах к
нему. Первый — это так называемый коопе¬
ративный подход, хорошо иллюстрируемый
идеей Ф. Рузвельта о "четырех мировых
полицейских" (США, Англия, Франция, СССР).
Второй подход, который можно назвать
"односторонним", основывался на суждениях
Сталина о "свободе рук". СССР для достижения
своих целей предпочел иметь ничем не свя¬
занные руки. Согласно предположению высту¬
павшего, после окончания второй мировой войны
была возможность альтернативного развития
событий на консенсусной основе, вероятно,
избавившая бы мир от "холодной войны". В
частности, Западу нужно было более настойчиво,
более последовательно, эффективно и, пожалуй,
более гибко проводить в жизнь идеи "коопе¬
ративного" послевоенного устройства.
Зам. директора ИВИ РАН д.и.н. М.М. На-
ринский в докладе "Советская внешняя политика
и происхождение "холодной войны" отметил, что
до недавнего времени у нас господствовала
точка зрения, что "холодная война” — это
проводившаяся империалистическими кругами
Запада, прежде всего США, политика, направ¬
ленная против СССР и других стран мировой
системы социализма. И поскольку "холодную
войну" представляли как специфическую реак¬
цию капиталистического мира на воплощение в
жизнь идей социализма, то начало ее относили к
1917 г. В свою очередь, на Западе полагали, что
"холодная война" —это политика СССР, начало
которой положил Сталин, стремившийся к
мировой гегемонии. Таким образом, понятие
"холодная война" прочно вошло в обиход как
синоним определенной политики.
По мнению выступившего, "холодная война"
представляет собой более сложное явление. Ее
можно определить как специфическое состояние
международных отношений, характеризовав¬
шееся жестким противостоянием двух военно¬
политических блоков во главе со сверхдер¬
жавами. Поэтому следует с полным правом
утверждать, что "холодная война" является
порождением второй мировой войны. Именно
после ее окончания возникли условия, способные
вызвать обострение отношений между союз¬
никами. Во-первых, появились предпосылки их
раскола, связанные с национальными интересами
каждой из держав-победительниц. Во-вторых,
при анализе условий, породивших "холодную
войну", необходим учет психологических факто¬
ров, в частности особого менталитета людей,
выигравших войну. Мировая война породила
200
гипертрофированную уверенность, что ставка на
силу даст в конечном итоге колоссальный
эффект. В то же время предыдущий опыт,
например, Мюнхен и советско-германский пакт
1939 г., показал, что дипломатические методы не
срабатывают. Все это вместе взятое спо¬
собствовало выработке специфического комплек¬
са державы-победительницы. Однако претензии
Сталина на роль мирового гегемона вступали в
противоречие с имевшимися экономическими и
военными возможностями2. Формой компенсации
за несоответствие желаемого и действительного
явилось стремление генералиссимуса установить
жесткий контроль над странами Восточной и
Юго-Восточной Европы. По мнению докладчика,
разделение мира на два блока и переход к
конфронтационным отношениям между ними
было закреплены отказом СССР и под его
нажимом странами Восточной Европы от участия
в "плане Маршалла".
Особенностям протекания "холодной войны"
в Азии посвятил доклад проф. А. Шай (Уни¬
верситет Тель-Авива). История современности
знает несколько вариантов "холодной войны", и
среди них европейский и азиатский. Под
лаконичной формулой "холодная война" в Азии
скрываются события, которые выходят за рамки
чисто идеологической конфронтации, перерастая,
в отличие от Европы, в войну "горячую". К
генезису "холодной войны" докладчик подходит с
иными, нежели М.М. Наринский, мерками. Ее
истоки он находит не в периоде, пред¬
шествовавшем второй мировой войне, а в
1945 г., когда США сделали ставку на
объединение Китая под руководством Чан
Кайши, чтобы создать противовес распростра¬
нению советской экспансии в Юго-Восточную
Азию, конфронтация лишь усугубилась. Кроме
того, понятие "холодная война" в Азии включает
в себя вопросы неоколониализма, проблемы
деколонизации и модернизации азиатского
континента.
Академик С.Л. Тихвинский согласился с тем,
что "холодная война" в Азии не только отражает
процесс деколонизации, но и в значительной
степени обусловлена им. История и специфика
этого явления в Азии должны волновать нас не
меньше, чем аналогичный процесс в Европе, ибо
Россия — евроазиатская страна.
2Проф. В. Дашичев, ссылаясь на стенограм¬
му одного из послевоенных совещаний в Кремле,
рассказал, что маршал С.М. Буденный назвал
стратегической ошибкой отказ Советского
Союза от продолжения похода к Атланти¬
ческому побережью и оккупации войсками
Советской Армии Западной Европы. "Нужно
было разрубить саблей все это с головы до того
места, откуда ноги растут", — настаивал он.
Сталин ответил: "Разрубить — это можно. Но
как мы их будем затем кормить?"
С обсуждения проблематики "холодной
войны" началась работа и в рамках другого
раздела конференции — "Советский Союз и
проблемы Ближнего Востока".
Директор Института политических и госу¬
дарственных исследований проф. Б. Кунихольм
(Университет Дыока, США) представил доклад
"Истоки "холодной войны" на Ближнем Востоке".
Он высказал мысль о том, что для более
продуктивного исследования такого явления, как
"холодная война", нужно в первую очередь
решить проблему критериев и источников.
Очень важно всем исследователям пользоваться
общими стандартами и критериями. Докладчик
высказал уверенность, что унификации крите¬
риев поможет рассекречивание архивов. Поло¬
жительный пример в этом отношении уже подал
президент США Д. Буш, разрешивший исто¬
рикам пользоваться секретными документами.
Докладчик считает, что начало ее ближне¬
восточному варианту было во многом положено
акциями СССР в отношении Ирана и Турции в
1944—1947 гг. Для установления своего влияния
Сталин готов был рисковать и даже решиться на
конфликт с США и Англией. "Доктрина
Трумэна" появилась, чтобы сдержать сталинскую
экспансию на Ближнем Востоке.
Д.и.н. В.Л. Мальков (ИВИ РАН) привлек
внимание участников конференции к тому, что
ближневосточную политику СССР нужно рас¬
сматривать нс в историческом вакууме, а в
конкретном контексте. Это потребует введения
в оборот колоссального количества документов,
часть из которых еще недоступна. Новые
материалы помогут ответить на старые
дискуссионные вопросы (например: была ли
неизбежна "холодная война"?) или разгадать
многочисленные загадки истории, такие, как
"казус Бирнса"3.
Доклад "Проблематика советско-израильских
отношений" сделал проф. Я. Рои (Университет
Тель-Авива). Он выделил три фактора советской
действительности, которые, по его мнению, во
многом повлияли на советско-израильские
отношения. Во-первых, это господствовавшая в
СССР идеология, во-вторых, — антисемитизм,
официально запрещенный, но фактически су¬
ществующий как элемент исторической тра¬
диции, и, в-третьих, — советские евреи, кото¬
рые, как считалось, подвергаются постоянному
подстрекательству со стороны Израиля к
3Так называют неожиданную отставку в
1947 г. государственного секретаря США
Д.Ф. Бирнса, который был активным сторон¬
ником послевоенного сотрудничества США,
Англии и СССР и много сделал для организации
в декабре 1945 г. Московского совещания ми¬
нистров иностранных дел трех держав-побе¬
дительниц.
эмиграции. Глубинной причиной разрыва дипло¬
матических отношений с Израилем для руко¬
водства СССР, по мнению докладчика, было
желание прекратить всякие связи с этой страной
и таким образом избавить советских евреев от
контактов и стимулов к эмиграции. Шести¬
дневная война послужила удобным предлогом
для осуществления этих намерений.
Комментируя доклады о ближневосточных
проблемах, заместитель начальника Управления
стран Ближнего Востока и Северной Африки
МИД России О.М. Дерковский заявил, что перед
новым правительством России стоит задача
привести нашу политику на Ближнем Востоке в
соответствие с национальными интересами.
Необходимо отказаться, подчеркнул он, от
линии, направленной на поддержку какой-либо
одной стороны в ближневосточном конфликте, а
проводить курс, предусматривающий отста¬
ивание определенных принципов. "Россия должна
выполнять роль честного брокера в процессе
разрешения конфликтов и противоречий между
Израилем и арабскими государствами", —
отмстил дипломат.
Мы не сможем быть "честными брокерами" в
этом вопросе, возразил журналист-междуна¬
родник, специалист по новейшей германской
истории к.и.н. Л.А. Безыменский, до тех пор,
пока не будут окончательно изжиты формы
государственного антисемитизма на территории
СНГ. Общеизвестны факты из недавнего
прошлого, такие, как "дело врачей". Сейчас есть
достаточно серьезные свидетельства, что оно
призвано было явиться и прелюдией, и осно¬
ванием для осуществления уже разработанных
Берия планов насильственной депортации всех
евреев из центральных районов СССР, и в
первую очередь из Москвы и Ленинграда.
Только смерть Сталина помешала их осу¬
ществлению. Полностью пролить свет на еще
одну зловещую страницу послеоктябрьской
истории можно будет лишь после окончательного
рассекречивания архивов КГБ и ЦК КПСС.
Однако, как считает Л.А. Безыменский, вместе
со смертью Сталина не умер антисемитизм в
государственных структурах.
На фоне звучащих почти в каждом
выступлении требований рассекретить для
историков до сих пор еще закрытые архивы с
особым вниманием был выслушан доклад
генерала С.А. Кондрашева из Министерства
безопасности РФ "Архив КГБ и исследование
советской внешней политики — новые перспек¬
тивы", которым был открыт специальный раздел
конференции "Архивные источники по проблемам
советской внешней политики".
Выступление Кондрашева основывалось на
документах из архивов госбезопасности ,
проливающей свет на деятельность спецслужб и
дипломатов в предвоенные и военные годы, а
201
также во времена "холодной войны". Именно
благодаря разведке, отметил докладчик, на
рубеже 30-х и 40-х годов руководство страны
получило новые сведения о сложной дипло¬
матической и политической игре, затеянной
Гитлером в период непосредственной подготовки
к войне и территориальным захватам. 2 июля
1939 г. агент НКВД в Париже сообщил, что
немцы делают все возможное, чтобы воспре¬
пятствовать франко-англо-советскому сближе¬
нию. Они готовы даже временно принести в
жертву свои стратегические интересы на
Кавказе и Украине и согласиться на ком¬
пенсацию за счет Польши, только чтобы не дать
сложиться антигерманскому союзу трех евро¬
пейских держав.
Разведданные помогли также составить
мнению о графе Ф. фон дер Шулснбурге,
назначенном Гитлером в 1934 г. — в самый
разгар воинствующих нападок национал-со¬
циалистской прессы против СССР — послом
Германии в Советском Союзе. К этому
дипломату, который еще перед первой мировой
войной был германским консулом в Тбилиси и
зарекомендовал себя как активный проводник
германских интересов на Кавказе и в Иране,
советское руководство относилось сначала с
большой настороженностью и недоверием. Такое
настроение усугубляла конфиденциальная ин¬
формация из Берлина, согласно которой его
предшественник Р.А. Надольный был отозван из
Москвы как раз за проявленное стремление
улучшить советско-германские отношения. Од¬
нако по сведениям советской разведки в Берлине
и контрразведки, контролировавшей германское
посольство в Москве, после 1933 г. Шулснбург
стал противником нацизма и был настроен,
безусловно, в пользу улучшения отношений
между Германией и СССР. Очень часто
деятельность представителей иностранного отде¬
ла ПСДАП, работавших в германском по¬
сольстве в Москве, расходилась с линией посла
Шуленбурга. Обзоры о положении в Европе и
Советском Союзе, которые этот дипломат
посылал в Берлин и которые затем по
агентурным каналам попадали в Москву, от¬
личались обстоятельностью и профессиональным
знанием дела.
Материалы из архивных фондов органов
госбезопасности дают возможность взглянуть па
советскую внешнюю политику и внутреннюю
обстановку в СССР глазами иностранных
наблюдателей и среди них, конечно, развед¬
чиков. По сути дела можно вести речь о новом
аспекте исследования советской истории,
имеющем большое значение, так как он вкупе с
другой информацией позволяет гораздо более
объективно реконструировать истинную картину
недавнего прошлого.
Однако архивы спецслужб таят в себе еще
немало загадок, которые могут быть разгаданы
только путем сопоставления с материалами,
хранящимися в архивах других причастных к
большой политике ведомств, в частности
ЦК КПСС, а также в архивах европейских
стран. Наиболее ярким примером документов,
требующих объективной оценки, являются
так называемые "решения Политбюро"
1931—1937 гг., находящиеся в германских
архивах. Эти материалы готовил в те годы в
Советском Союзе человек, связанный с высшим
партийным и государственным руководством и
регулярно переправлявший их через Австрию в
руки германского правительства. Однако кроме
двух случаев использования этих донесений в
пропагандистских целях нет никаких прямых
доказательств того, что на их основе руко¬
водством рейха принимались какие-либо принци¬
пиальные решения. Согласно версии Кондрашева
эти "решения Политбюро" были скорее всего
очень умело организованной "дезой", которой
немцы, с одной стороны, доверяли, однако
активно использовать в силу каких-то
соображений остерегались. Что это? Сверхосто¬
рожность? Контригра? Только дополнительная
скоординированная работа в отечественных и
заграничных архивах поможет раскрыть
истину.
Многочисленные данные не раз подтвержда¬
ли особую роль разведки в формировании
советской внешней политики. Вместе с тем в
архивах спецслужб имеются документы, пока¬
зывающие, что важная информация разведки
оставалась без внимания. Можно сказать, что
она оценивалась высоко, когда соответствовала
умонастроениям высшего партийного и госу¬
дарственного руководства. Тоталитарная систе¬
ма заставляла разведчиков многим рисковать,
если их материалы расходились с мнением
первых лиц в государстве об обстановке в
Европе и в мире. Многие разведчики перед
заключением пакта с Германией и накануне
германского вторжения в нашу страну под¬
верглись гонениям и даже были репрессированы
по той причине, что их информация про¬
тиворечила точке зрения вождя. Имеющиеся
документы подтверждают, что за несколько
месяцев до нападения Германии на Советский
Союз, когда стала поступать информация Р.
Зорге, с большой точностью и ссылками на
источники указывающая на начало агрессии,
Сталин наложил резолюцию на одно из
донесений разведчика, запрещавшую докла¬
дывать ему о сообщениях Зорге, которые он
расценил как германскую дезинформацию. Таким
образом, отмечалось в докладе, знакомство с
архивами спецслужб заставляет задуматься еще
над одной проблемой, касающейся истории
международных отношений и советской внешней
политики, — проблемой ответственности
202
Сталина как руководителя государства за
игнорирование данных советской разведки и
контрразведки о грозящей стране внешней
опасности.
Профессор Стэнфордского университета
(США) А. Даллин в докладе "Внутренние
источники советской внешней политики" от¬
мстил, что курс советского правительства на
международной арене не столько зависел от
определенных принципов, сколько диктовался
тем или иным положением внутри страны.
Наиболее характерным примером такой связи
является поведение Ленина в 1918 г., когда тот
оправдывал сделку с внешним врагом. Спасение
страны и собственного положения у кормила
власти для вождя мирового пролетариата
оказалось важнее судеб мировой революции.
Точно так же спустя 70 лет действовал М.С.
Горбачев. Его новая внешнеполитическая кон¬
цепция, курс на прекращение войны в Аф¬
ганистане и сокращение вооружения исходили в
первую очередь из необходимости проведения
"ремонтных работ" внутри страны. Однако,
между внутренней и внешней политикой можно
установить наличие косвенной зависимости.
Разрешение на эмиграцию евреев из СССР —
вот та цена, которую в 70-е годы заплатил
Л.И. Брежнев за улучшение международного
положения государства и создание более
благоприятных условий для внешнеэкономи¬
ческой деятельности.
Оживленная дискуссия развернулась в пос¬
ледний день конференции при обсуждении темы
"Новые перспективы российской внешней
политики". Начальник историко-дипломати¬
ческого управления МИД России к.и.н. И.В. Ле¬
бедев в докладе "Влияние завершения "холодной
войны" на современные международные отно¬
шения" дал общую характеристику внешне¬
политических принципов нового российского
руководства. На первый план он выдвинул отказ
от двух "китов", на которых прежде бази¬
ровалось поведение СССР на международной
арене: идеологизация внешней политики и ставка
на силу, на гонку вооружений. В качестве одной
из первоочередных стратегических целей
докладчик назвал задачу реализации предло¬
жения Президента России ©создании глобальной
системы совместной защиты человечества от
угрозы применения силы. Это в будущем.
Однако не меньше забот вызывает и прошлое.
Россия унаследовала от бывшего СССР 16 тыс
договоров, которые она как государство —
правопреемник должна будет выполнять.
Гораздо сложнее, чем с договорами, обстоит
дело с историческим наследием, по отношению к
которому справедливо встает вопрос об
ответственности. Новое руководство российского
МИДа приняло на себя нелегкий груз моральных
обязательств и организационных забот по
установлению истины. Уже рассекречена и опуб¬
ликована переписка, относящаяся к вторжению
советских войск в Чехословакию в 1968 г.4, и
принято решение опубликовать переписку между
Н.С. Хрущевым и Д. Кеннеди в период
Карибскою кризиса.
Проф. В.Б. Кувалдин (Фонд Горбачева,
Москва) в докладе "Мир после "холодной
войны"" не согласился с распространенной точкой
зрения, что "холодная война" закончилась в
1991 г., когда были ликвидированы военные и
экономические структуры мировой системы
социализма и СССР распался на отдельные
суверенные государства. По его мнению,
окончание "холодной войны" произошло значи¬
тельно раньше и его можно отнести ко времени
между XXVII съездом КПСС (апрель 1986 г.) и
встречей М.С. Горбачева и Д. Буша на Мальте
(май 1989 г.). Однако в целом ликвидация
"холодной войны" —это процесс, выходящий за
рамки отмеченного трехлетия. Историю "хо¬
лодной войны" с достаточной степенью точности
можно подразделить на три этапа. Такая
периодизация исходит из того, отметил доклад¬
чик, что глубинной основой "холодной войны"
является не идеология, а геополитическое со¬
перничество. Основа такого соперничества была
заложена в Ялте в 1945 г., а конец наступил в
1962 г. вместе с окончанием Карибского кризиса.
Следующий этап (1962—1986 г.) можно оха¬
рактеризовать формулой "ни войны, ни мира".
И, наконец, уже отмеченное трехлетие
(1986—1989 г.) — особая стадия, которая при¬
вела к постепенному затуханию "холодной
войны".
Что касается перспектив развития между¬
народных отношений, то, по мнению докладчика,
некий прообраз отношений и взаимодействия
государств в будущем дал кризис в Персидском
заливе. Говорить же о перспективах российской
внешней политики, считает Кувалдин, сейчас не
имеет никакого смысла, так как на данном этапе
такой осознанной политики у России еще нет,
это дело будущего.
Ему возразил И.В. Лебедев, отметивший,
что, несмотря на незавершенность смены
общественного строя и отсутствие четкой
политической структуры, у России уже есть своя
государственность, свой президент, свое прави¬
тельство, проводящее определенную политику, в
том числе и внешнюю.
Оппонентом Кувалдина явился и зав. секто¬
ром Института США и Канады РАН д.и.н. К.В.
Плешаков, с докладом "Поиски новых внешнепо¬
литических ориентиров". По его мнению, Россия
как субъект на международной арене с первого
же дня своего независимого суверенного сущест¬
вования вынуждена вступать в отношения с
^См. Вестник МИД, 1991, № 24.
203
другими государствами. К тому же как пра¬
вопреемник СССР она стала членом Совета
Безопасности ООН, выполняет многочисленные
договорные обязательства. Поэтому нелогично в
такой ситуации утверждать, что у России еще
нет своей собственной внешней политики.
Однако, говоря о России как о право¬
преемнице бывшего Союза, нельзя ставить знак
тождества между этими государствами и их
политикой. Россия качественно отличается от
СССР. После августа 1991 г. происходит возврат
к проблемам досоветского периода се развития.
С новой силой начинают волновать умы старые
дилеммы, прежде всего цивилизационная: что
есть Россия — Восток или Запад?
В стремлении определить место России в
общем русле развития цивилизации, отметил
выступавший, всегда сталкивались полярные
точки зрения. Одни рассматривают ее как
составную часть западного культурного ареала,
другие не менее категорично относят ее к
Востоку. Однако существовала и существует
третья точка зрения, в настоящее время
получившая дополнительный импульс и новых
приверженцев: Россия — это особая циви¬
лизация, не принадлежащая ни Востоку, ни
Западу. По мнению докладчика, важной задачей
для нынешнего российского руководства ста¬
новится выбор идеи, способной быть стержнем
внешнеполитической концепции. Наиболее прив¬
лекательны два варианта: а) национальная идея;
б) державность . Первая идея легко принимается
масса.л и и способна очень быстро объединять
различные слои общества. Российское общество
в принципе готово воспринять национальную
идею. Главным препятствием к ее исполь¬
зованию служит национальная неоднородность
российского государства. Больше плюсов имеет,
с точки зрения оратора, идея державности,
которая, как показывает опыт США, способна
объединять и патриотически воодушевлять
народ, не ущемляя при этом ничьих на¬
циональных чувств.
Помимо выбора стержневой внешнеполи¬
тической идеи, продолжал докладчик, пс менее
важно определить и систему внешнеполити¬
ческих приоритетов. На данной этапе таковыми
являются: а) обеспечение выживания в условиях
кризиса и демонтажа старой системы; б) обес¬
печение безопасности и территориальной
целостности страны.
В области межгосударственных связей важны
два момента. Во-первых, приоритетным являет¬
ся установление взаимовыгодных долгосрочных
отношений с бывшими республиками СССР, и в
первую очередь с Украиной. Разрыв России с
Украиной и Бкларусью может вызвать
цивилизационный шок колоссальной силы,
который тяжело будет пережить.
Разговор о перспективах внешней политики
России вызвал оживленный обмен мнениями.
Но в одном все участники конференции были
едины: внешнеполитическая концепция России и
ее практическое осуществление должны спо¬
собствовать скорейшему выходу из глубокого
кризиса, в котором оказалась страна. Российской
дипломатии следует приложить максимум усилий,
чтобы государства, возникшие на развалинах
бывшего СССР, к концу XX в. стали орга¬
нической частью мирового сообщества, приняв
на себя все связанные с этим обязательства и
нормы.
А.О. Чубарьян, подводя итоги конференции,
обратил внимание на широко использованный на
ней синтез двух наук — истории и политологии.
Он назвал его новым направлением в изучении
международных отношений — "исторической
политологией".
Прошедшая в интересных научных спорах
конференция будет способствовать выработке
новых идей и новых подходов к изучению
проблем внешней политики и международных
отношений XX в. Выступления ученых показали,
что историков в неменьшей степени, чем
прошлое, волнует настоящее и будущее.
Изучение прошлого служит основой для лучшего
понимания процессов современности и научного
прогнозирования. В развитии мировой совето¬
логии наступает новый этап. Она должна стать
единой отраслью мировой исторической науки, а
не служить подручным средством в идеоло¬
гической конфронтации между Востоком и
Западом.
В.В. Ищенко,
РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ В ЕВРОПЕ: 90-е годы XX в.
Эта конференция прошла 8—10 апреля
1992 г. в Москве. Ее устроителями и участни¬
ками с российской стороны выступили:
Российская академия управления (РАУ),
Московский государственный институт меж¬
дународных отношений (МГИМО) МИД РФ,
Институт мировой экономики и международ¬
ных отношений (ИМЭМО) РАН, Институт
всеобщей истории РАН, Институт славянове¬
дения и балканистики РАН, Дипломатичес¬
кая академия МИД РФ. С немецкой стороны:
Евангелическая академия (Мюльхайм, Рур),
Институт имени Гёте (Москва), Евангеличес¬
кая церковь земли Рейнланд, "Мюльхаймс-
кая инициатива”, "Дойче банк”. Конферен¬
ция была проведена при содействии общест¬
ва "Россия — Германия”, Стойленского гор¬
нообогатительного комбината (Старый Ос¬
кол), журнала "Международная жизнь”. Для
участия в работе были приглашены герма¬
нисты из Нижнего Новгорода, Тулы, Яро¬
славля.
На заседаниях присутствовали представи¬
тели аппарата президента РФ, МИД РФ, по¬
сольства ФРГ в России.
Открывая конференцию, ректор МГИМО,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, д.и.н.,
проф. А.И. Степанов сказал, что она являет¬
ся продолжением встречи представителей
научной общественности Германии и России,
состоявшейся в Мюльхайме. С приветствием
к аудитории обратился заместитель министра
иностранных дел РФ Г.В. Берденников.
Участников встречи также приветствовал
ректор РАУ, депутат Верховного Совета РФ,
д.т.н. Р.Е. Тихонов и глава немецкой делега¬
ции, ректор Евангелической академии
д-р Д. Бах.
Первый день работы был посвящен об¬
суждению тем "Место и роль Российской Фе¬
дерации и объединенной Германии в системе
государств Европы” и "Договорные основы
сотрудничества Российской Федерации и
ФРГ”.
Доклады по первой теме сделали с рос¬
сийской стороны - А.И. Степанов, с германс¬
кой — д-р, проф. Х.-А. Якобсен (ФРГ) "Взаи¬
моотношения ФРГ и СССР в 1945—1990 гг.”
В развернувшейся по докладам дискус¬
сии приняли участие доктора исторических
наук А.А. Мацнев (РАУ), Ф.И. Новик (Инсти¬
тут Российской истории РАН), главный ре¬
дактор журнала "Международная жизнь”
Б.Д. Пядышев, проф. Д.М. Проэктор
(ИМЭМО РАН), проф. X. Линке (Евангели¬
ческая академия), Чрезвычайный и Полно¬
мочный Посланник Ю.Ф. Жаров. •
Генерал-лейтенант, Чрезвычайный и Пол¬
номочный Посол К.Ф. Михайлов сделал до¬
клад "Меры доверия в отношениях между
вооруженными силами СНГ и ФРГ”. Чрезвы¬
чайный и Полномочный Посол, к.ю.н.
Ю.А. Квицинский подчеркнул важность со¬
трудничества России с Европейским Сооб¬
ществом. Д-р В. Михалка (ФРГ), касаясь про¬
блем европейской безопасности, отметил,
что в настоящее время нельзя говорить
о победе Запада в "холодной войне”, а лишь
о превращении предложенных Западом
принципов в программу.
С докладом "Проблемы сотрудничества
Германии и России в 90-х годах” выступил
д.и.н. Н.В. Павлов (Дипломатическая акаде¬
мия МИД РФ). В обсуждении его участвовали
д.и.н., проф. М.И. Семиряга (ИВИ РАН),
д.ю.н., проф. В.П. Блищенко (МГИМО).
На второй день работы конференции бы¬
ла рассмотрена тема "Экономическое и науч¬
но-техническое сотрудничество России и Гер¬
мании в 90-х годах. Возможности и реалии”.
С докладами выступили д-р Ф. Вильгельм
Кристиане, председатель наблюдательного
совета "Дойче банк” и Р.Е. Тихонов.
Доклад "Опыт экономического сотрудни¬
чества двух стран в 1945-1990 гг.” сделал
д-р К. Майер (ФРГ).
В прениях выступили зав. сектором Ин¬
ститута Европы РАН В.Б. Белов, к.э.н.
Э.П. Бабин (МГИМО) и др.
Затем участники конференции обсудили
205
тему "Перспективы сотрудничества России и
Германии на пороге 3^X1 в.” В докладе ди¬
ректора ИВИ РАН д.и.н., проф. А.О. Чубарья-
на "Узловые проблемы европейской безопас¬
ности на современном этапе” была проанали¬
зирована новая ситуация на европейском
континенте, стоящем на пороге выра¬
ботки новой системы европейской бе¬
зопасности. С докладами также выступили
генерал-майор в отставке И. Лёзер (ФРГ)
"Перспективы политики безопасности в Ев¬
ропе" и директор Института славяноведения
и балканистики РАН д.и.н., проф. В.К. Вол¬
ков "Отношения России и Германии со стра¬
нами Восточной Европы”.
В прениях по этим докладам приняли
участие д.и.н., проф. В.А. Анфилов
(МГИМО), представитель Общества Макса
Планка Ценкер, научный сотрудник Дипло¬
матической академии МИД РФ А. Сидоров.
Третий день работы конференции был по¬
священ теме "Опыт и традиции сотрудни¬
чества двух стран в духовной сфере".
По вопросу "Место и роль молодежных
обменов в культурном сотрудничестве” вы¬
ступили представитель канцелярии премьер-
министра земли Северный Рейн-Вестфалия
д-р X. Хиллерман, д-р К.Д. ван Веринг (Ин¬
ститут имени Гёте).
Начальник историко-документального
управления МИД РФ к.и.н. И.В. Лебедев сде¬
лал сообщение "Архивы России как источ¬
ник изучения истории международных отно¬
шений”. Он подчеркнул, что в архивных
фондах МИД России документы по истории
отношений России и Германии занимают су¬
щественное место, в частности, они получи¬
ли отражение в уникальном многотомном
издании "Внешняя политика России в XIX и
начале XX в." Значительное внимание уде¬
ляется публикациям сборников документов
по германской политике СССР послевоенного
времени. Снятие грифа "Для. служебного
пользования" позволило открыть доступ ис¬
следователям к материалам, касающимся
переговоров об установлении дипломатичес¬
ких отношений СССР с ФРГ в 1955 г. Стано¬
вятся доступными для исследователей до¬
кументы по германскому вопросу во взаи¬
моотношениях СССР, США, Англии и Фран¬
ции.
Роли церкви в сотрудничестве ФРГ и Рос¬
сии в 90-е годы были посвящены выступле¬
ния представителей Евангелической церкви
Х.-П. Фридриха, Р. Коппе, Д. Баха и митро¬
полита Волоколамского и Юрьевского докто¬
ра богословия, проф. Питирима.
Интерес на конференции вызвал доклад
заведующего кафедрой истории и политики
Европы и Америки д.и.н., проф. А.А. Ахтам-
зяна "Немцы в России — проблема XX века?".
Докладчик отметил основные этапы появле¬
ния немецкого населения на территории Рос¬
сии: первые пришельцы при Иване Ш; город¬
ская колонизация при Петре I; массовая,
сельская колонизация при Екатерине Ц. Он
отметил, что немцы в Российской империи
не имели своей государственности и обрели
ее только после Октябрьской революции. Ис¬
торик обратил внимание на то, что для пони¬
мания принятых в 1941 г. мер в отношении
немецкого населения, которые он назвал ве¬
ликой несправедливостью, надо учитывать
обстановку военного времени. В докладе бы¬
ли рассмотрены вехи поэтапной реабилита¬
ции немцев в СССР в послевоенные годы.
Суть проблемы немецкого населения в Рос¬
сии сегодня — не в восстановлении автоно¬
мии (никто не оспаривает это право), а в
сложности переселения огромной массы лю¬
дей. В этой связи ученый призвал к взве¬
шенному, терпеливому поиску решения
проблемы.
В дискуссии по докладу А.А. Ахтамзяна
приняли участие ученые и представители об¬
щественности. Было отмечено, что хотя точ¬
ка зрения А.А. Ахтамзяна достаточно аргу¬
ментирована, имеются и иные мнения.
При подведении итогов конференции
Х.-А. Якобсен подчеркнул, что немецкая
сторона стремилась внести вклад в рассмо¬
трение проблем экономического, политичес¬
кого и культурного сотрудничества двух
стран, оказание России "помощи для самопо¬
мощи". Отметив значение потребности в реа¬
лизации совместных научных проектов, на¬
правленных на осмысление истории, он обра¬
тил внимание на недостаточную материаль¬
ную базу и слабую взаимную информирован¬
ность. Ученый выразил мнение, что при орга¬
низации конференции следовало бы идти не
столько вширь, сколько более обстоятельно
обсудить отдельные проблемы и наметить
пути их* совместного решения.
А.А. Ахтамзян отметил, что на конферен¬
ции впервые за последние годы был охвачен
широкий круг проблем отношений России и
Германии. В ходе их обсуждения выявились
не только различные точки зрения, но и сов¬
падение интересов. К важным достижениям
206
была отнесена склонность ее участников к
определению внешнеполитических приорите¬
тов России и Германии. Обнаружилось пони¬
мание необходимости поиска путей обеспе¬
чения интересов обеих стран в экономике,
науке, культуре, образовании. В то же вре¬
мя при значительной близости позиций оче¬
видно, что еще не до конца преодолено нега¬
тивное наследие, обременяющее наши взаи¬
моотношения со времен второй мировой
войны. Обнаружились различия в оценке
смысла и духа Рапалло, событий 1939 г., в
оценке российского коллаборационизма.
Это, по мнению А.А. Ахтамзяна, хороший
отправной пункт для совместных и парал¬
лельных исследований. На конференции бы¬
ли вынесены предложения по созданию ко¬
миссии для совместных и параллельных раз¬
работок, предложены рекомендации прави¬
тельствам по обеспечению экономического
сотрудничества, по обмену студентами, пре¬
подавателями, по изучению немецкого и
русского языков.
А.И. Степанов в заключительном слове
отметил творческий и дискуссионный харак¬
тер докладов и выступлений на конферен¬
ции, подчеркнул, что в ходе обмена мнения¬
ми участники лучше узнали друг друга.
Ю.В. Родович
ЭВОЛЮЦИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ЕВРОПЕ
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
"Круглый стол" по этой теме прошел в
феврале 1992 г. в Институте всеобщей исто¬
рии (ИВИ) РАН. Он был организован проб¬
лемной группой института "Власть и полити¬
ческая культура”.
"Круглый стол” привлек живой интерес
как медиевистов, так и историков нового и
новейшего времени. В нем приняли участие
научные сотрудники ИВИ РАН доктора исто¬
рических наук Е.В. Гутнова, С.П. Пожарс¬
кая, В.В. Рогинский, А.С. Намазова, Г.С. Ос¬
тапенко, А.Н. Чистозвонов, А.А. Сванидзе,
В.Н. Малов, Л.С. Чиколини, кандидаты исто¬
рических наук Д.Г. Федосов, А.П. Черных,
Т.Л. Лабутина, М.П. Айзенштадт, Д.А. Мо¬
дель, Е.В. Котова, Е,В. Киселева, Е.А. Кири¬
лина, И.И. Сиволап, Л.П. Репина, Е.Л. Добро¬
ва, Л.Ф. Туполева, В.А. Ведюшкин, В.М. Во¬
лодарский; а также И.С. Пичугина; д.и.н.
Б.Н. Флоря (Институт славяноведения и бал¬
канистики РАН); д.и.н. Н.А. Хачатурян,
к.и.н. О.В. Дмитриева (обе — Московский
государственный университет); кандидаты
исторических наук В.Д. Назаров, В.А. Кучу-
мов (оба — Институт Российской истории
РАН), С.Б. Семенов (Самарский государст¬
венный педагогический институт), С.В. Кон¬
дратьев (Тюменский государственный уни¬
верситет); а также С.Е. Федоров (Московс¬
кий государственный педагогический уни¬
верситет).
Для обсуждения были выделены три ос¬
новных вопроса: 1) избирательное право,
структура и состав представительных собра¬
ний, их связь с электоратом; 2) политические
функции собраний и их отношения с испол¬
нительной властью; 3) исторические тради¬
ции и новации в развитии европейского пар¬
ламентаризма.
В дискуссии выступили 30 человек. До¬
кладов не было, обсуждение велось в виде
свободной беседы, в которой каждый мог
выступить по всем трем намеченным вопро¬
сам.
Открывая "круглый стол”, руководитель
группы "Власть и политическая культура”
Е.В. Гутнова подчеркнула, что вынесенную
на обсуждение большую тему следует рас¬
сматривать "на стыке” цивилизационного и
формационного подходов. Первый предпола¬
гает понимание представительных систем
управления как одного из важных компо¬
нентов единой европейской цивилизации и
подчеркивает преемственность их развития и
создававшихся ими политических и куль¬
турных традиций. Второй же требует тща¬
тельного изучения взаимодействия представи¬
тельных учреждений с окружающей соци¬
альной действительностью на каждом этапе
их истории, связей, обусловливавших изме¬
нил в их социальном составе, структуре, на¬
правлении их политики, т.е., в конечном
счете, все то новое, что постепенно изменяло
их историческое лицо. Сочетание этих двух
подходов, обеспечивающее выявление тра¬
диций и новаций в развитии представитель¬
ных собраний в Европе, может дать всесто¬
роннее освещение проблемы, уберечь исто¬
207
риков от односторонних концепций.
Е.В. Гутнова призвала участников "круглого
стола” обратить внимание на эволюцию ин¬
ституционных форм, развивавшихся относи¬
тельно самостоятельно и нередко активизи¬
ровавших политическую роль представитель¬
ных собраний в их отношениях с исполни¬
тельной властью, а также влиявших на роль
закрепленных в этих собраниях традиций в
формировании политического менталитета и
социальных теорий.
Внимание выступавших привлекла проб¬
лема сословности средневековых и бессо¬
словности парламентов нового времени.
Этот вопрос был поставлен в выступлении
Н.А. Хачатурян, подчеркнувшей параллель¬
ность процесса оформления сословий и скла¬
дывания средневековых сословных собра¬
ний, которые с самого начала служили инст¬
рументом диалога между государством в ли¬
це королевской власти и обществом. Чем
шире был спектр приглашавшихся к этому ди¬
алогу сословий, тем более внедрялся прин¬
цип представительства. Система выборов в
большинстве стран вырабатывалась постепен¬
но и с трудом, но все же она, как и привле¬
чение к политическому диалогу горожан, а в
ряде случаев и свободных крестьян, была
показателем развития общества и в какой-то
мере гарантом политической стабильности в
нем, а также проявлением слабых ростков
средневековой демократии.
Переход к собраниям нового времени оз¬
наменовался отказом от сословного принци¬
па при*Их формировании, расширением элек¬
тората и отменой "императивного мандата”,
стеснявшего в средние века свободу депута¬
тов. Вопрос об отличии средневековых соб¬
раний от современных парламентов подни¬
мался в обсуждениях неоднократно, прежде
всего применительно к Польше, Австрии,
Англии, Бельгии, Скандинавским странам.
Признавалась ликвидация сословности в по¬
рядке выборов и структуре новых парламен¬
тов, постепенное расширение электората и
избирательного права в выступлениях
Б.Н. Флори, Т.Л. Лабутиной, М.П. Айзенш-
тадт, Д.А. Модель, В.В. Рогинского, Е.В. Ко¬
товой, Е.А. Кирилиной, А.С. Намазовой. Бы¬
ли предложены и некоторые общие критерии
перехода от средневековых сословных соб¬
раний к новым парламентам С.Б. Семено¬
вым: 1) институализация собрания и оформ¬
ление их конституции; 2) развитие партий¬
ной системы; 3) распространение избиратель¬
ного права на все более широкие слои об¬
щества; 4) формирование определенного
уровня политической культуры.
Для Англии таким рубежом, по мнению
ряда выступавших, был конец XVIII — нача¬
ло XIX в. Однако в таких утверждениях есть
и спорные моменты: в Англии ликвидация
сословности была определяющим критерием
перехода к новому парламенту. Не менее
важным критерием здесь было также введе¬
ние ответственного министерства, однако
всеобщее избирательное право утвердилось в
этой стране гораздо позднее, только в 80-е
годы XIX в.
Другой важный вопрос: понятие средне¬
вековой демократии. Многие из участников
дискуссии (Н.А. Хачатурян, Б.Н. Флоря,
Л.П. Репина, О.В. Дмитриева, А.Н. Чистозво-
нов, А.А. Сванидзе) подчеркивали услов¬
ность этого понятия в применении к средне¬
вековью. Выборы часто подменялись назна¬
чением депутатов королевскими должност¬
ными лицами или местной олигархией. При¬
чем Л.П. Репиной и О.В. Дмитриевой отмеча¬
лось, что если даже выборы производились,
как было, например, в Польше или в Анг¬
лии, они далеко не были свободными. В го¬
родах их контролировала городская верхуш¬
ка, в сельских округах землевладельцы. Одно¬
временно возрастало давление на выборы и со
стороны знати и со стороны короля, которое
к середине XVII в. сильно ограничивало де¬
мократизм этих выборов. Подчеркивалось
отсутствие в это время роста городского
представительства, так как создаваемые тог¬
да в большом количестве города посылали в
парламент не горожан, но сельских джентри,
ставленников феодальной знати. В конце
XVII и в XVIII в. английский парламент все
более удаляется от "демократии” даже сред¬
невекового периода. Электорат сокращается
до 5% мужского населения, отсутствует
предвыборная борьба. Говорилось, что она
начинается только с конца 60-х годов
XVIII в., нарастает требование избиратель¬
ной реформы, расширяется освещение парла¬
ментской жизни в прессе (Т.Л. Лабутиной,
М.П. Айзенштадт, Е.Л. Добровой). Л.Ф. Ту¬
полева отмечала, что реформа 1832 г. откры¬
ла путь к постепенной демократизации пар¬
ламента, которая стала реальностью только в
80-е годы XIX в.
Еще более ограничена была демократия в
средневековых генеральных штатах Нидер¬
ландов. Они комплектовались олигархичес¬
ким путем. Превалировали представители
городов, состоявшие обычно из наиболее бо¬
298
гатых людей и влиятельных магистратов.
Элементы "народного представительства”
имелись лишь в отдельных провинциальных
штатах, например, во Фрисландии, где было
равное представительство от дворян и
крестьян. Избирательное право было крайне
ограничено. Избрание депутатов от провин¬
ций, подчеркнул А.Н. Чистозвонов, до конца
XV в. часто подменялось назначением.
Отмечалось, что в странах Юго-Западной
Европы, например, в Провансе и Кастилии,
сословные собрания постепенно превраща¬
лись в собрания городских представителей
(В.Н. Маловым, И.С. Пичугиной, В.А. Ве-
дюшкиным). Это, очевидно, определялось,
по мнению выступавших, высоким уровнем
развития городов в этих регионах, сохране¬
нием здесь влияния римского права, а в Ис¬
пании и арабским влиянием, считает С.П.
Пожарская.
Подводя итоги обсуждения по вопросу о
"демократичности” средневековых сослов¬
ных собраний, Е.В. Гутнова подчеркнула,
что при всех недостатках тогдашних избира¬
тельных порядков, олигархической и иерар¬
хической структуре электората привлечение
в сословные собрания представителей с мест,
прежде всего от податных сословий, вело на
практике к некоторой демократизации систе¬
мы управления.
В дискуссии затрагивался также вопрос о
древних истоках представительных систем в
Европе, которые, по мнению А.А. Сванидзе,
восходили в Северной Европе еще к органам
германского местного самоуправления до¬
феодального периода; в Южной Европе, по
мнению других, к античным традициям, на¬
пример, в городах-государствах Италии, что
отметила Л.С. Чиколини.
Был поставлен также вопрос о том, что
представительные собрания каждой страны
следует изучать как целостную систему в
связи со всеми другими институтами. Это
было показано на примере средневековой
Германии В.М. Володарским, где слабость
общеимперских собраний (будущие рейхста-
ги) восполнялась развитостью и четкостью
организации местных сословных собраний-
ландтагов, а также практикой утверждения
на ландтагах и рейхстагах всегерманских
или провинциальных договоров о "земном
мире”, которые превратились постепенно в
своего рода символ государственного единст¬
ва страны, в реальности распавшейся на мно¬
жество государств.
О необходимости системного подхода к
изучению сословных собраний на Руси гово¬
рил В.Д. Назаров. Он считает, что представи¬
тельный принцип реализовался здесь не
только в земских соборах XVI — начала
XVII в., но и в боярской думе, поскольку
она была представительством аристократии
при царе, а также в структуре "государева
двора”, где были представлены отдельные
города и уезды, и в местных органах управ¬
ления.
Возник также вопрос о несоответствии
идеальных правовых установок относитель¬
но представительных собраний их реальной
практике. Это было показано В.М. Володарс¬
ким на примере средневековой Германии, а
также английского парламента в XVI и пер¬
вой половине XVII в.; реальный престиж это¬
го учреждения в это время был гораздо ниже
принятых правовых и институционных
норм, считают С.В. Кондратьев и С.Е. Федо¬
ров.
Такие расхождения характерны и для ря¬
да парламентов нового и новейшего време¬
ни. В Испании, в частности, при наличии де¬
мократической конституции, всеобщего из¬
бирательного права долго действовала еще
так называемая "система касиков”, т.е. осу¬
ществлялось влияние местных крупных зем¬
левладельцев на выборах в парламент, отме¬
чала С.П. Пожарская.
В ходе оживленной дискуссии о функци¬
ях средневековых сословных собраний и
современных парламентов и их отношений с
исполнительной властью выяснилось, что
для большинства сословных собраний была
характерна многофункциональность: они
должны были подтверждать введение экст¬
раординарных налогов, разбирать поступав¬
шие с мест петиции и судебные дела, в ос¬
новном по государственным преступлениям,
участвовать в разной форме в законодатель¬
стве, санкционировать важнейшие внешне¬
политические акции, решать вопросы престо¬
лонаследия. Этот набор функций реализо¬
вался в разных странах по-разному. Так, в
Нидерландах во время и после революции
генеральные штаты, до того преимуществен¬
но совещательный орган при короле, посте¬
пенно приобрели полномочия главного пра¬
вящего института. Они сосредоточили в сво¬
их руках верховную власть во внешней, на¬
логовой и бюджетной политике, в решении
вопросов престолонаследия. По мнению
А.Н. Чистозвонова, исполнительная власть,
хотя и сохраняла некоторые черты монархи¬
ческой, однако не определяла стратегии по¬
209
литики. Широкими полномочиями по отно¬
шению к королю располагал в XVI—XVII вв.
и польский сейм. Действия короля во всем
были связаны сеймом, каждый член которо¬
го мог отвергнуть предложение короля —
имел право liberum veto (свободно выражае¬
мого вето), подчеркивал Б.Н. Флоря. Из дру¬
гих сословных собраний сильным влиянием
на исполнительную власть пользовались кас¬
тильские кортесы, как отмечали И.С. Пичу¬
гина и В.А. Ведюшкин, и английский парла¬
мент. Последний имел обязательное право
санкций на все экстраординарные налоги,
повышение экспортных и импортных пош¬
лин, с XIV в. располагал законодательной
инициативой (подача биллей), которая к
концу XV в. почти полностью перешла в его
руки. Парламент как высший суд, по замеча¬
нию Е.В. Гутновой, приобретает право воз¬
буждать иски о государственной измене и о
судебном преследовании королевских совет¬
ников-министров (так называемый ’’импич¬
мент"). В XVI в. признается верховенство
парламентских статутов над всеми закона¬
ми, исполнительная власть, ранее стоявшая
вне парламента, включается в его состав, что
соответствует новой формуле документов
этого времени: "король в парламенте”. Од¬
новременно растет и роль парламента как
центра информации с мест и концентрации
общественного мнения, отмечала Л.П. Репи¬
на. Вместе с тем ученые подчеркивали не
только расхождения парламента с исполни¬
тельной властью, но и своеобразные формы
их сближения: поскольку в XVI—XVII вв.
усиливалась роль местной землевладельчес¬
кой и чиновной элиты на выборах в парла¬
мент, а следовательно, и в его составе, в
том числе и палате общин, деятельность ее
членов часто реализовывала своеобразное
сращение законодательной и исполнительной
власти. Это, с одной стороны, укрепляло по¬
следнюю на местах, способствовало быстрей¬
шей реализации принимаемых законов, а с
другой - усиливало влияние электората на
законодательство, указывала О.В. Дмитрие¬
ва. В конце XVIII в. исполнительная власть
в Англии в виде ответственного перед парла¬
ментом министерства была поставлена под
прямой контроль парламента, считает Д.А.
Модель.
Большим политическим влиянием поль¬
зовался и шотландский парламент, возник¬
ший, как и английский, в конце XIII в. В
XIII—XIV вв., когда Шотландия вела войну
за независимость от Англии, ее парламент
нередко оказывался во главе этой борьбы и
всего государства, самостоятельно назначая
совет регентов (в случае малолетства или
пленения короля), а иногда и самого коро¬
ля. Его заметную роль в Шотландии и в
XVI в. подчеркивал Д.Г. Федосов.
Интересный пример сращивания законо¬
дательной и исполнительной власти дает ис¬
тория арагонских и каталонских кортесов в
XIV—XV вв. Оно осуществлялось в обеих
частях конфедерации в форме создания в
кортесах так называемых "постоянных депу¬
таций”, которые состояли из небольшого чис¬
ла (двух-трех) делегатов от всех входивших
в кортесы палат и действовали от их имени в
промежутке между сессиями. В.А. Кучумов
говорил о том, что король охотно шел на та¬
кую подмену, превращая эти "депутации” в
свой исполнительный орган и реже созывая
полные собрания.
Обычно между исполнительной властью и
сословными собраниями существовали слож¬
ные и противоречивые отношения. В боль¬
шинстве стран функции собраний не выходи¬
ли за рамки совещательных, но и в этом ка¬
честве они нередко вынуждали исполнитель¬
ную власть считаться с собой, поскольку про¬
ведение каких-либо важных мероприятий
короны без согласия собраний на практике
не могло рассчитывать на полный успех.
Возникновение сословных собраний внес¬
ло много нового в политическую структуру
средневековых обществ. При этом, как под¬
черкнула Е.В. Гутнова, их политическая
роль была неоднозначна, что вытекало из са¬
мого их происхождения. Возникшие, как
правило, по воле короля для удобства полу¬
чения информации с мест и нужд управле¬
ния, т.е. для установления диалога с наибо¬
лее социально активной частью своих под¬
данных, они, с точки зрения короля и его
советников, должны были быть послушным
орудием его воли. Но их возникновение в
разной мере в разных странах вызывалось
также и потребностями “снизу”, исходивши¬
ми от самих подданных, "сословий”, и по¬
этому о^ни не могли не быть рупором послед¬
них. Отсюда постоянные конфликты между
правительством и сословными собраниями и
претензии последних на более или менее эф¬
фективные ограничения власти короля. В
результате этих конфликтов собрание нередко
добивалось от него тех или иных уступок.
Однако чаще всего такие конфликты, в ко¬
нечном итоге, завершались разумным комп¬
ромиссом, хотя иногда их результатом быва-
210
по низложение короля или отставка его со*
ветников, а иногда и смена династии. В этих
случаях консенсус, инструментом которого
по преимуществу и были сословные собра¬
ния, нарушался, а вместе с тем нарушалась
политическая стабильность.
С.П. Пожарская отметила, что в новое
время разделение между исполнительной и
законодательной властью становится более
четким. Современные парламенты по преи¬
муществу являются средоточием законода¬
тельства, в частности по бюджету и финан¬
сам, сохраняя при этом свое значение баро¬
метра общественного мнения. Они и сегодня
являются в первую очередь инструментами
компромисса, консенсуса и политической
стабильности, политическим органом, кото¬
рый создает возможности конституционной
смены - парламентской отставки прави¬
тельства без мятежей и революций. Поэтому,
хотя конфликты между законодательной и
исполнительной властью случаются и в сов¬
ременных парламентских государствах и да¬
же являются нормой, парламент лишь в са¬
мых исключительных случаях может потре¬
бовать, например, отставки президента, как
правило лишь тогда, когда уличает его в
личной или политической нечистоплотности.
Вопрос о традициях и новациях в эволю¬
ции представительных собраний рассматри¬
вался во многих аспектах. Некоторые из
участников видели корни представительных
институтов в Европе в первобытно-общин¬
ных или античных традициях. Другие рас¬
сматривали преемственность политических
институтов. В результате выяснилось, что во
многих странах — Швеции, Дании, Норвегии,
Австрии и Германии — сословная структура
представительных собраний сохранялась до
60-х годов XIX в. и только тогда уступила
принципам современного всесословного пар¬
ламентаризма.
В России же, как отметила Е.В. Гутнова,
даже государственная дума, возникшая в
1906 г., носила на себе явные следы сослов¬
ности (выборы по сословным куриям). Со¬
хранение средневековых традиций особенно
заметно в судьбах английского парламента:
его название, структура — деление на палаты
лордов и общин, внешний ритуал, процедура
принятия законов, система выборочных ок¬
ругов — во многом восходят к этой старой тра¬
диции при всех отличиях современного пар¬
ламента от средневекового. И в Испании сов¬
ременный парламент сохраняет свое древнее
название кортесов, в Германии существует
рейхстаг.
Традиции средневековых сословных соб¬
раний в новое и новейшее время воздейству¬
ют на политический менталитет. В английс¬
ком парламенте представления о свободе
слова, депутатской неприкосновенности, не¬
обходимости голосования, наконец, о верхо¬
венстве (суверенитете) "народа” и его пред¬
ставительства над королем ведут свое нача¬
ло от парламентских порядков XV—XVI вв.
Отчасти это имеет место и в других странах.
Столетия существования подобных учрежде¬
ний с выработанной процедурой, с привыч¬
кой избирать депутатов, свободно дискути¬
ровать друг с другом, а иногда и с королем,
постоянные связи депутатов с электоратом,
позднее — в XVIII в. — с прессой — все это
исподволь воспитывало в широких слоях
общества определенный уровень политичес¬
кой культуры, столь необходимой для эф¬
фективной реализации современного парла¬
ментаризма. Неслучайно уже в новое время
мы сталкиваемся часто с идеализацией сред¬
невековых сословных собраний, как эталона
для более поздних конституционных инсти¬
тутов. Так было, например, в Португалии в
XVII и XVIII вв., когда кортесы в реальной
жизни находились в упадке, в представлени¬
ях либеральных политиков именно средне¬
вековые кортесы периода их расцвета в
XIV—XV вв. расценивались как идеал свобо¬
ды и народоправства для современности,
указывал А.П. Черных. Да и сегодня в Шот¬
ландии, например, все нарастающая борьба
за национальную автономию ассоциируется в
первую очередь с восстановлением самостоя¬
тельного шотландского парламента, как сим¬
вола возвращения к средневековому идеалу
независимости, говорил Д.Г. Федосов. С.П.
Пожарской отмечалось, что отсутствие дав¬
них традиций представительных собраний во
многих странах сегодняшней Европы сильно
затрудняет установление парламентских ре¬
жимов. Там, где ощущается многовековой
разрыв между ними и менталитетом общест¬
ва, парламенты не вписываются достаточно
органично в политическую систему в целом
и поэтому часто дают в своей деятельности
"сбои”. Напротив, давность парламентских
традиций придает устойчивость современ¬
ным формам парламентаризма.
В этом плане интересны были выступле¬
ния, касающиеся отношения к парламентам
прошлого их современников, в частности
211
просветителей в XVII—XVIII в. Если в Анг¬
лии, по словам Т.Л. Лабутиной, Д. Дефо и
Дж. Свифт, например, разко критиковали
современный им английский парламент за
коррупцию на выборах, систему "гнилых
местечек", продажность депутатов, которым
пытались противопоставить образ идеального
парламентария, то Вольтер в середине
XVIII в., хотя и был в принципе высокого
мнения об английском парламенте, но счи¬
тал парламентскую систему неприемлемой
для Франции, идеал для которой видел в
просвещенном абсолютизме. Парламент он
рассматривал для своей страны как крайнее
средство, так как опасался влияния на него
"черни”, которого можно избежать только
очень высоким избирательным цензом. Вооб¬
ще же "господство черни”, отмечал И.И. Си¬
волап, Вольтер приписывал Швейцарии и
Польше и уподоблял его наступлению нового
варварства. В этой связи в дискуссии был
поставлен непосредственно не связанный с
ней вопрос: не прав ли был Вольтер в своих
прогнозах и не стало ли бедой для Франции
то, что она пошла, вопреки этим прогнозам,
по пути революции и парламентской демо¬
кратии? В силу неподготовленности страны к
ней, отсутствия связей между властью и об¬
ществом эта неограниченная демократия,
указывала Е.В. Киселева, ввергла страну в
хаос гражданской войны и террора. Отсюда
возник и более общий вопрос, поставленный
И.С. Пичугиной: возможно ли вообще разви¬
тие общества без разрывов, катаклизмов, ре¬
волюций, чисто эволюционным путем? По
этому вопросу мнения разделились. Часть
ученых — А.Н. Чистозвонов, И.С. Пичугина,
Б.Н. Флоря, Е.В. Гутнова, в конечном итоге
и Е.В. Киселева — высказали мысль, что, по¬
скольку революции происходили в истории
неоднократно,они возникали с определенной
закономерностью в тех случаях, когда
власть резко противилась каким-либо рефор¬
мам, в результате чего взрыв оказывался не¬
избежным, как бы ни пагубны были его по¬
следствия.
Подводя итоги "круглого стола”, сопред¬
седатели Е.В. Гутнова и З.П. Пожарская от¬
метили его общую плодотворность как в
плане дальнейшей работы группы, так и в
плане накопления полезного опыта совмест¬
ной работы нескольких отделов над общей
темой. В ходе обсуждений определился круг
перспективных задач. Среди них наиболее
важными представляются: "сквозная” исто¬
рия, системное рассмотрение генезиса пред¬
ставительных учреждений в разных странах
от момента их возникновения до современ¬
ного состояния, установление сходства и раз¬
личий между ними; эволюция понятий "на¬
род” и "демократия” на разных историчес¬
ких этапах; представительные собрания при
федеративном устройстве государства; пар¬
ламенты и местные органы власти; предста¬
вительные собрания как барометр общест¬
венных настроений и их взаимоотношения с
прессой; парламентаризм и партийные систе¬
мы; законодательная, исполнительная и су¬
дебная власть при парламентских режимах;
роль парламентов в реформах и революциях;
парламентские системы и колониализм; осо¬
бенности развития государственности на За¬
паде и на Востоке; роль традиции в развитии
государственных систем и политической
культуры.
Е.В. Гутнова
УРОКИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КРИЗИСА 1968 г.
В замке Либлице под Прагой со 2 по 6 де¬
кабря 1991 г. проходила научная конферен¬
ция "Чехословацкое развитие 1968 г. и его
международные последствия", организован¬
ная правительственной комиссией ЧСФР по
изучению событий 1967—1970 гг. В ее работе
участвовали А. Дубчек, О. Черник, И. Гаек,
3. Млынарж, В. Славик, В. Шилган, Э. Голь-
штюккер, В. Вашко, Й. Зрак, В. Менци, И.
Пеликан, М. Рейман и ряд других известных
деятелей "пражской весны”. Конференция
подвела итог двухлетней работы упомянутой
комиссии, которая сумела накопить обшир¬
ный архив из более чем 100 тыс. страниц до¬
кументов, мало известных, а по преиму¬
ществу вовсе не известных широкой общест¬
венности.
В основу архива легли материалы Цент¬
рального комитета компартии Чехословакии,
в частности стенограммы всех заседаний Пре¬
зидиума ЦК КПЧ, записи бесед со многими
участниками "пражской весны” и последо¬
вавшей за ней "нормализации”, всевозмож¬
ные докладные записки, а также документы,
212
переданные Венгрией, Германией и Поль¬
шей, которые позволяют реконструировать
содержание встреч глав пяти компартий, об¬
суждавших "чехословацкий вопрос”.
Открыл конференцию председатель На¬
ционального собрания ЧСФР А. Дубчек, под¬
черкнувший большое значение работы по
выяснению всех обстоятельств как чехосло¬
вацкого весеннего возрождения 1968 г., так
и нарушения этого оздоровительного процес¬
са пятью странами Варшавского договора с по¬
мощью военного вторжения, которое не
только отбросило тогдашнюю ЧССР далеко
назад, но явилось, по существу, началом
конца всего "реального социализма”.
| В докладе председателя правительствен¬
ной комиссии В. Менцла были подробно оха¬
рактеризованы основные направления
"пражской весны”, причины и последствия
ее подавления. Он объяснил приход к влас¬
ти реформаторского крыла в КПЧ тем, что
компартия Чехословакии, опираясь на до¬
военные демократические традиции и широ¬
кую интеллигентскую прослойку в своих ря¬
дах, несмотря на огромный урон, нанесен¬
ный процессом большевизации, оказалась
способной откликнуться на вызов времени.
Это, по мнению автора доклада, был реаль¬
ный шанс для социализма избавиться от то¬
талитарной закупорки всех его вен, обусло¬
вившей последовавшую 20-летнюю смертель¬
ную агонию сталинистской системы.
Выступая в дискуссии, чехословацкий
историк из "поколения пражской весны”
3. Гейзлер усомнился в тезисе В. Менцла на¬
счет реального шанса. Он заявил, что безыс¬
ходность системы, осознанная чехословац¬
ким обществом в период "нормализации",
привела к поискам выхода из тупика уже не
в рамках КПЧ, а в создании и деятельности
параллельных общественно-политических
структур, нацеленных не на верхушечные
реформы, а глубинные преобразования.
Член правительственной комиссии исто¬
риков В. Курап рассказал о некоторых фак¬
тах, лишь недавно ставших достоянием ши¬
рокой общественности, например, о требова¬
ниях советских военачальников А. Гречко
и И. Якубовского 25 апреля 1968 г. поставить
чехословацкие дивизии под непосредствен¬
ное командование военного руководства
Варшавского договора.
О том же говорил бывший консультант
Й. Смрковского — одного из лидеров "праж¬
ской весны” — М. Навратил, показавший
возрастание военного фактора и его обратное
влияние на политические решения участни¬
ков "социалистического содружества”. Штаб¬
ные и командные учения "Шумава”, "Небес¬
ный щит”, ”Неман”, а также нажим совет¬
ского генералитета до предела сузили воз¬
можность ненасильственного, политического
урегулирования отношений с вознамерив¬
шимся демократизироваться партнером.
Член правительственной комиссии исто¬
риков М. Гаек назвал "социалистическое со¬
дружество дегенерированным посткомин¬
терном” и поставил чехословацкий кризис
1968 г. в один ряд с другими примерами на¬
рушения сталинистского единообразия и не¬
укоснительного равнения: "интернациона¬
листский” курс Венгрии в 1956 г., конфликт
с Китаем, ставший очевидным уже в 1958 г.,
углубление противоречий с Албанией и Ру¬
мынией.
Гости конференции из стран бывшг гоц-
содружества остановились на реакцу.^ йпт-
номенклатуры своих стран на событиг > Че¬
хословакии и постепенном вызревании ре¬
шимости коммунистических лидеров обра¬
титься к самым крайним, насильственным
мерам. В частности, польский исследователь
В. Тихий связал эффект заразительного при
мера "пражской ереси” с трудностями, кото¬
рые переживал в то время режим В. Гомул¬
ки. Последний, растратив былой авторитет в
стране, осознал, что в состоянии удержаться
на своем посту лишь при поддержке СССР, а
потому обрушился на реформаторские силы
в самой ПОРП. Именно Гомулке принадле¬
жит определение процессов, развивавшихся в
Праге, как "мирного перехода от социалисти¬
ческого государства к республике буржуаз¬
ного типа”.
Выступление болгарского историка Д. Иису¬
сова базировалось на документах ЦК БКП.
Он подчеркнул, что Т. Живков стоял на
более экстремистских позициях в отношении
чехословацкого кризиса, чем принято было
считать до сих пор. Уже в конце марта 1968 г.
он настоятельно советовал советским руко¬
водителям использовать все меры, чтобы не
позволить разразиться настоящей контррево¬
люции. Судя по данным, приведенным Иису¬
совым, болгарский лидер ратовал за восста¬
новление диктатуры пролетариата в "братс¬
кой стране” вне зависимости от желания или
позиции "здоровых сил” в КПЧ.
Как сообщил представитель объединен¬
ной Германии М. Прис, лидер ГДР В. Ульб¬
рихт, считая себя главным толкователем
марксизма, с самого начала поставил целью
213
разоблачение претензии КПЧ на создание соб¬
ственной модели социализма. Он иницииро¬
вал шумную пропагандистскую кампанию,
квалифицируя теоретическое обоснование
курса КПЧ как полный отход от общих прин¬
ципов марксизма-ленинизма, как губитель¬
ный для социализма ревизионистский ук¬
лон. После 21 августа 1968 г. именно с терри¬
тории ГДР и под прямым руководством иде¬
ологов СЕПГ вещала на Чехословакию ра¬
диостанция "Влтава”.
Директор Института всеобщей истории
(ИВИ) РАН д.и.н., проф. А.О. Чубарьян по¬
ставил трагический исход "пражской весны”
в широкий мировой контекст, показав, что
она началась в крайне неудобное для своей
реализации время блокового противоборст¬
ва. СССР переживал реанимацию сталиниз¬
ма, ег~ правящие структуры постепенно оп-
рав*^ от шока самоуничижения, которо¬
му ~>ерг их Н.С. Хрущев. Впервые после
кус>^^ого кризиса ощутив себя сверхдер¬
жавой» советское политическое руководство
испытывало сочетание комплексов возрос¬
шей силы, вседозволенности и осажденной
крепости. Поскольку начисто отсутствовал
положительный опыт улаживания конфлик¬
тов с союзниками по Варшавскому договору,
а всякие отклонения от советской модели
считались крамолой, на военном разрешении
противоречий с Чехословакией лежала пе¬
чать заданности.
М.Л. Коробочкин (ИВИ РАН), проанализи¬
ровав документы Историко-документально¬
го управления МИД России, пришел к заклю¬
чению X) превращении советского посольства
в Праге в посредника между ЦК КПСС и ЦК
КПЧ, в инструмент для передачи писем и
толкования неясностей, возникавших по их
прочтении. Произошла, как он отметил, под¬
мена аналитической функции посольства
идеологемами догматического толка. Ни
один из посольских выводов не только не
соответствовал действительности, но и нано¬
сил серьезный вред советской политике.
Заместитель директора Института славя¬
новедения и балканистики (ИСБ) РАН
Ю.С. Новопашин остановился на характерис¬
тике коммунистической доктрины ограни¬
ченного суверенитета — "доктрины Брежне¬
ва”. Он обосновал глубинную связь между
существованием системы советского типа и
репрессивными, террористическими метода¬
ми ее утверждения и сохранения. Ю.С. Ново¬
пашин сказал: ”От себя лично, других при¬
сутствующих здесь ученых и публицистов
Российской Федерации и всех обществоведов
нашей страны я обращаюсь к творцам "праж¬
ской весны”, к ее теоретикам и практикам с
просьбой о прощении за попытки оболгать
предпринимавшиеся тогда шаги по демокра¬
тизации тоталитарного социализма”.
И.И. Поп (ИСБ РАН) предостерег от прове¬
дения аналогий между интеллектуальным
подъемом "пражской весны” и периодом пе¬
рестройки в нашей стране: если пражские
партийные реформаторы, выдвинув ряд но¬
вых концепций, смогли повести общество за
собой, то в советских условиях партийная
мысль только отстаивала старые догматы.
М.В. Латыш (ИСБ РАН) остановился на
характеристике расстановки сил в высшем
советском эшелоне власти, выдвинув свою
версию принятия окончательного решения о
вторжении. Историк из Швеции Ю. Леван-
довский, говоря о вооруженных силах как
решающем рычаге принуждения в системе
советского типа, отметил, что средства, кото¬
рыми располагала армия, оказались совер¬
шенно неподходящими к решению задач по¬
давления освободительного движения и не
устранили рождавшие его причины.
Австрийский исследователь Г. Штайнер
рассказал о деятельности австрийского посла
в Праге К. Киршлеггера, который вопреки
указанию президента К. Вальдхайма, оста¬
вил австрийское посольство открытым для
чехословацких беженцев, а также неодно¬
кратно обращался к послам других западных
держав с призывом более решительно под¬
держать руководство А. Дубчека.
А. Гуерра — функционер бывшей италь¬
янской компартии — поделился воспоминания¬
ми о том, какой нажим со стороны тогдашне¬
го руководства КПСС пришлось испытать
ИКП с целью побудить ее отказаться от под¬
держки "пражской весны”.
Наибольший интерес вызвал "круглый
стол” с участием А. Дубчека, О. Черника,
И. Гаека, В. Славика, 3. Млынаржа, И. Пели¬
кана и др. А. Дубчек отвел от себя и своих
соратников обвинения в капитулянтстве в
связи с подписанием ими Московского про¬
токола, подчеркнув, что не мог ставить под
угрозу десятки тысяч жизней своих сограж¬
дан. А. Дубчек постарался также внести яс¬
ность в историю с письмом, полученным им
от Л.И. Брежнева 19 августа. Вопреки утвер¬
ждению В. Биляка он не утаил это письмо от
Президиума ЦК КПЧ, а просто не придал ему
значения последнего предупреждения.
Бывший премьер ЧССР О. Черник высту¬
214
пил в защиту своей экономической полити¬
ки, представлявшей собой, по его определе¬
нию, симбиоз плана и рынка. Он говорил и о
весьма примечательной трансформации Г.
Гусака, который выступал на протяжении
всего 1968 г. за федерацию снизу, т.е. делеги¬
рование республиками своих полномочий
центру, а после прихода к власти заявил се¬
бя как рьяный сторонник централизма. За¬
щищая Московский протокол, О. Черник об¬
ратил внимание на то, что чехословацкая де¬
легация добилась невключения в протокол
советских требований о признании законнос¬
ти интервенции и бессрочного пребывания
войск на ее территории, и лишь по мере
"нормализации” советская сторона, видя,
что Прага усвоила философию уступок, стала
настаивать на осуществлении тех мер, кото¬
рые не были предусмотрены протоколом.
Бывший министр иностранных дел ЧССР И.
Гаек поделился воспоминаниями о своем
визите в Москву в мае 1968 г.
^Марксистский философ И. Свитак выска¬
зал соображение, что пражские реформаторы
смогли бы спасти страну экономической ре¬
формой, если бы не пустились в политичес¬
кие осложнения, хотя, как показали зашед¬
шие в тупик венгерские реформы, экономи¬
ческие преобразования, не подкрепленные
политическими, тоже имеют свои пределы^
3. Млынарж подчеркнул, что чехословац¬
кие коммунисты, пользуясь ощутимой под-
70-летие РАПАЛЛЬСКОГО ДОГОВОРА.
26—27 мая 1992 г. состоялся организован¬
ный Белорусским государственным универ¬
ситетом и Минским государственным педаго¬
гическим институтом семинар, па котором
рассматривались многообразные аспекты
советско-германских отношений с 20-х годов
до наших дней, значение "духа Рапалло”
для их развития, историографии этих вопро¬
сов. Он собрал ученых-германистов не толь¬
ко из разных городов Беларуси, но и из
крупных научных центров России и
Украины.
Вступительный доклад "Состояние и
проблемы белорусской германистики на
современном этапе” сделал д.и.н. Г.А. Кос¬
мач (Минск). Он охарактеризовал вклад,
внесенный учеными Беларуси в изучение
различных сторон истории Германии, ее свя¬
зей с СССР, в частности с Беларусью, и слож¬
ные задачи, стоящие в этой области ныне.
К.и.н. В.С. Павлов (Нижний Новгород) в
сообщении "Рапалльский договор и рапалль-
держкой населения, ни в коей мере не чув¬
ствовали себя орудиями политики Кремля.
Это, по его словам, относилось и к 1948 г.
[_Бывший директор чехословацкого теле¬
видения И. Пеликан говорил о реакции ми¬
рового коммунистического движения на
кризис 1968 г., указав, что лишь самые не¬
значительные и зависимые от Москвы ком¬
партии высказывали свое одобрение советс¬
ким действиям^
Бывший секретарь ЦК КПЧ В. Славик рас¬
сказал о попытках прозондировать с чехо¬
словацкими военными возможность оказа¬
ния отпора вторжению.
На сопровождавшей эту конференцию
дискуссии неоднократно поднимались во¬
просы альтернативных вариантов поведения
чехословацких лидеров в условиях давле¬
ния на них союзников по соцсодружеству,
возможности организации сопротивления в
случае вооруженного нападения со стороны
Варшавского договора, об ошибочной страте¬
гии Запада, слишком явно заявившем о сво¬
ем нежелании вмешиваться в конфликт вну¬
три восточного блока, о дате принятия окон¬
чательного решения о вторжении, соотноше¬
нии сил внутри советского руководства и
группах давления в лице генералитета, о со¬
хранении остатков или возрождения элемен¬
тов гражданского общества в чехословацких
условиях 1968 г.
М.В. Латыш
ская политика в советской историографии”
наметил основные этапы развития исследова¬
ний по указанной проблематике, подверг
критике некоторые положения прежних лет
и назвал последние публикации, содержа¬
щие более объективную трактовку темы.
Д.и.н. Л.М. Шнеерсон (Минск) выступил с
сообщением "Сближение России и Пруссии
накануне франко-прусской войны 1870-
1871 гг.", он проанализировал историческую
обстановку и побудительные мотивы согла¬
шения России и Франции 1868 г., способство¬
вавшего решению национальной задачи объ¬
единения Германии в ходе франко-прусской
войны. К этому сообщению тематически при¬
мыкает выступление д.и.н. Б.М. Туполева
(Москва) "Бисмарк и Горчаков — партнеры и
противники на дипломатической арене”:
автор осветил сложные отношения обеих
канцлеров, представлявших две различные
концепции великодержавной политики.
"Германия глазами сотрудников наркоматов
215
иностранных дел и внешней торговли в до-
рапалльский период” — так называлось со¬
общение В.Л. Красноперова (Иваново), в
котором на интересных архивных материа¬
лах прослеживалась эволюция взглядов
советских представителей в Германии на ее
положение и перспективы. Т.Н. Плохотнюк
(Ставрополь) доложила результаты исследо¬
вания темы ”Немецкая иммиграция на
Северный Кавказ в 20-е годы XX в.”, пока¬
зав, как плодотворно воздействовала
рапалльская политика на переселение в этот
регион немцев, в частности из самой Гер¬
мании. В сообщении к.и.н. В.А. Космача
(Витебск) "Рапалло и восточноевропейский
аспект германской культурной внешней
политики в годы Веймарской республики”
были с новых позиций рассмотрены различ¬
ные стороны культурного и научно-техниче¬
ского сотрудничества двух стран, а также
взаимодействие в военной области.
Д.и.н. Н.В. Фарбман (Пенза) сделал сообще¬
ние ”Густав Штреземан и ”дух Рапалло”, в
котором охарактеризовал существенную
роль Щтрезсмана в успешном (хотя и не
прямолинейном) развитии рапалльской
политики, роль, в большой мере искажав¬
шуюся в литературе. В сообщении
д.и.н. Л.И. Гинцберга (Москва) "Советско-
германские отношения в последние годы
Веймарской республики” показан упадок
политики Рапалло в условиях резких
внутриполитических изменений в СССР на
рубеже 20—30-х годов, а также в Германии,
где в те же годы рвался к власти фашизм.
К.и.н. Л.С. Тутик (Днепропетровск) в сооб¬
щении "Протестантская церковь в Веймар¬
ской Германии” уделила наибольшее вни¬
мание политическим позициям евангеличе¬
ского духовенства, в значительной мере под¬
державшего нацистов. В сообщении "Нацио¬
нал-большевизм в Германии и советско-
германские отношения (1919—1923 гг.)”
Г.А. Космач впервые осветил указанное
идеологическое и политическое явление,
оказывавшее воздействие на отношения
двух стрдн и имевшее влиятельных сторон¬
ников в Коминтерне, КПГ.
Три сообщения были посвящены связям
рапалльской политики с внешнеполитиче¬
ским курсом Польши в 20 — начале 30-х го¬
дов: докладчики И.Н. Мезга "Польша и
советско-германские отношения в середине
20-х годов”; Е.А. Бровкин "Польская
дипломатия в условиях советско-германско¬
го сближения после Рапалло (до конца 20-х
годов)”; к.и.н. Г.Г. Лазько (все — Гомель)
•Проблема Рапалло в европейской политике
Польши” осветили отношения Польши со
своими главными соседями на западе и
востоке в связи с заключением Рапалльско-
го договора и вызванными им опасениями,
определявшимися реваншистскими настрое¬
ниями в Германии и отчуждением с СССР.
"Рапалло и антифашистское движение в
Германии” — так озаглавила свое сообщение
к.и.н. Г.Н. Сапожникова (Москва), она рас¬
крыла значение традиций Рапалло для
сотрудничества в годы второй мировой вой¬
ны советских людей, находившихся на тер¬
ритории Германии, с немецкими анти¬
фашистами, подпольщиками, оказывавшими
Советскому Союзу разнообразную помощь, в
частности разведывательными данными.
Д.и.н. А.В. Цфасман (Челябинск) в сообще¬
нии "Советская печать о военных действиях
фашистской Германии в Европе (сентябрь
1939 - май 1941 гг.)” проанализировал, как
эволюционировала информация в советских
газетах по мере развития германской
агрессии; он подчеркнул, что переход печати
от явного сочувствия Германии к сдержан¬
ной позиции в характеристике военных дей¬
ствий отражал эволюцию отношений обеих
стран в указанный период.
Д.и.н. И.Я. Биек (Иваново) в сообщении
"Новейшая немецкая литература о повсе¬
дневной жизни в Веймарской республике”
дал общую характеристику этой литературы,
широко распространенной ныне в ФРГ, и
обстоятельно рассмотрел одну из подобных
публикаций. Сообщение к.и.н. С.Р. Сухо¬
рукова (Москва) "Взгляд с той стороны.
Рапалло в оценках историков и политоло¬
гов ФРГ 80-х годов” содержало анализ не¬
которых работ последнего десятилетия, в
которых доминируют либерально-демокра¬
тические тенденции. Специальные аспекты
проблематики фигурировали в сообщениях
к.и.н. В.Е. Снапковского "Проблемы репара¬
ций для Беларуси” и к.филол.н. А.Ф. Лит¬
виновича (оба — Минск) "Вклад писателей,
ученых, культурных деятелей немецкого
происхождения XIX - начала XX в. в соби¬
рание, исследование и популяризацию тра¬
диционной духовной и материальной куль¬
туры белорусского народа”. Первый доло¬
жил о позициях сторон в вопросе о предо¬
ставлении Беларуси германских репараций
после второй мировой войны и показал,
каким образом дело свелось к индивидуаль¬
ной компенсации некоторым категориям
216
пострадавших от немецко-фашистских окку¬
пантов. А.Ф. Литвинович познакомил участ¬
ников семинара с неизвестными фактами
изучения деятелями немецкого происхожде¬
ния, находившимися в Беларуси, ее быта,
фольклора, традиций и ознакомлений с ними
зарубежной общественности.
Выступления вызвали дискуссию, в кото¬
рой затрагивались не только разные аспекты
рапалльских связей СССР и Германии, но и
внутриполитические события в обеих
странах, актуальные проблемы отношений
России и других государств СНГ с Германией
в современных условиях. Было высказано
единодушное стремление продолжить и
укрепить тесное сотрудничество ученых-
германистов стран СНГ, сложившееся за мно¬
гие годы, их совместные исследования и
встречи в разных республиках бывшего
СССР.
Л,И, Гинцберг
217
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ ’’НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ”
в 1992 г.
СТАТЬИ
Айзин Б.А. Альтернативы германской истории в конце XIX — начале XX века № 4
Белоусова З.С. План Бриана и позиция СССР в свете новых документов № б
Буде Р.Б. (США). Бреттон-Вудская конференция объединенных наций в 1944 г.
(К истории создания Международного валютного фонда и Международного бан*
ка реконструкции и развития) № 2
Виноградов В.Н. Николай I в "Крымской ловушке" № 4
Генерал армии Гареев М.А. Об изучении истории Великой Отечественной войны ... № 1
Желицки Б.Й. Венгрия 1956 г. Эволюция оценок венгерских историков № 3
Лемиш Дж. (США). Если не рассматривать историю США в розовом свете № 1
Мартынов Б.Ф. Генерал И.Т. Беляев и "Русский очаг" в Парагвае № 5
Член-корр. РАН Мясников В.С. Об изучении истории внешней политики России. ... № 5
Наджафов Д.Г. Дипломатия США и советско германские переговоры 1939 года № 1
Остапенко Г.С. Британское миссионерство в XX в.: религиозная экспансия или про- *
светительство № 3
Пименова Л.А. Идея свободы во Французской революции XVIII в № 1
Член-корр. РАН Писарев Ю.А. Создание югославского государства в 1918 г.: уроки
истории № 1
Член-корр. РАН Поляков Ю.А. Гражданская война в России: последствия внутрен¬
ние и внешние № 4
Сиполс В.Я. Миссия Криппса в 1940 г. Беседа со Сталиным №5
Смоленский Н.И. Понятие и слово в языке историка № 2
Академик Тихвинский С.Л. СССР и интервенция Японии в Северо-Восточном Ки¬
тае в 1931 г № 3
Член-корр. РАН Трухановский В.Г. Размышления в связи с книгой Р. Эдмондса
"Большая тройка” № 2
Фадеева Т.М. У истоков идеологии европейского консерватизма № 6
Фирсов Ф.И. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР в 1939—1941 гг № 6
Фураев В.К. (Санкт-Петербург). Об изучении истории международных отношений
и внешней политики СССР № 3
Юар Р. (Франция). Политические традиции в истории Франции № 5
В ПРЕЗИДИУМЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Академик Кудрявцев В.Н., вице-президент РАН. Гуманитарные и общественные
науки: состояние и перспективы. Доклад на Координационном Совете по гума¬
нитарным и общественным наукам № 4
Обсуждение доклада № 4
К 500-летию ПЛАВАНИЯ КОЛУМБА
Гарсиа Уидобро Г. (Чили). Америка 500 лет назад: современный взгляд № 4
Гончарова Т.В. Индейская Америка: пять столетий колонизации и перспективы
возрождения № 6
Кинтеро Р. (Эквадор). Путешествие Колумба и страны Латинской Америки № 3
Пожарская С.П. Открытие Америки: взгляд историка № 3
Хачатуров К.А. Встреча двух миров № 3
218
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Ответы декана исторического факультета Московского государственного универси¬
тета им. М.В. Ломоносова академика Ю.С. Кукушкина на вопросы журнала
"Новая и новейшая история” № 5
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
О книге Д.А. Волкогонова "Триумф и трагедия: политический портрет И.В. Ста¬
лина" № 2
Согрин В.В. Американский опыт в новых измерениях (о статье Дж. Лемиша) № 2
Шпотов Б.М. О статье Дж. Лемиша № 3
ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
Академик Бонгард-Левин Г.М. Будда и основы его учения № 4
Светлов Г.Е. Синто: история и современность №5
ВОСПОМИНАНИЯ
Главный маршал артиллерии Воронов Н.Н. На службе военной (окончание) № 1
Корниенко Г.М. Упущенная возможность. Встреча Н.С. Хрущева и Дж. Кеннеди в
Вене в 1961 г № 2
Федоренко Н.Т. Сталин и Мао Цзэдун №5,6
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Вознесенский В.Д. Кобурги в Болгарии № 3
Замойский Л.П. История Савойского королевского дома № 1
Малов В.Н. Московский архив монсеньера Буажелена № 6
Михайлов Г.А., Орлов А.С. Тайны "закрытого неба" № 6
Орлик О.В. Российский дипломат Н.Д. Киселев № 2
Пальчиков П.А., Гончаров А.А. Что произошло с командующим Западным фронтом
генералом Д.Г. Павловым в 1941 г № 5
Ревякин А.В. Французские династии: Бурбоны, Орлеаны, Бонапарты № 4
Рокитянский Я.Г. Трагическая судьба академика Д.Б. Рязанова № 2
Рыбаченок И.С. Министр иностранных дел России А.Б. Лобанов-Ростовский № 3
Соловьев О.Ф. Масонство далекое и близкое № 4, 5
Филимо.аова Е.В. (Волгоград). Российский дипломат А.С. Ионин (1837—1900) № 6
Хевролияа В.М. Российский дипломат граф Н.П. Игнатьев № 1
ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ
Гутнова Е.В. Академик Евгений Алексеевич Косминский № 2
Золотарев В.П. (Сыктывкар). Николай Иванович Кареев (1850—1931) № 4
Козенко Б.Д. (Самара). Лев Израилевич Зубок (1896—1967) № 6
Мильская Л.Т. Александр Иосифович Неусыхин. Тернистый путь ученого № 3
Павлова Т.А., Черняк Е.Б. Памяти Михаила Абрамовича Барга № 1
Рахшмир П.Ю., Лаптева М.П. (Пермь). Лев Ефимович Кертман (1917—1987) № 5
СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
Рябов Ф.Г. Стоило ли низвергать Вандомскую колонну? № 2
Шейнис З.С. Письма М.М. Литвинова из Мерано: 1934 г № 3
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ
Баженов А.Н., Барсуков АН. О документальной базе по истории Великой Отече-
ственной войны № 5
Козлов В.П. Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории
и его перспективы № 2
Козлов В.П. Об использовании документов российских архивов № 6
Соколов В.В. Архив внешней политики Российской Федерации — историкам № 4
219
Усиков Р.А. К созданию Центра хранения современной документации № 2
Фомичев В.Н. Документальные материалы по истории Западной Европы XVIII—
XIX N° 3
Шахназарова Э.Н., Щечилина В.Н. Архив Коминтерна № 3
ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
Волобуев О.В. О подготовке специалистов-историков в педвузах №1
Вяземский Е.Е. О программах и учебниках по истории и обществознанию в шко¬
лах № 2
Гарбузов В.Н. (Псков). Как реформировать историческое образование в высшей
школе № 1
ПУБЛИКАЦИИ
Вишлёв О.В. Почему медлил И.В. Сталин в 1941 г.? (из германских архивов) № 1, 2
Накануне 22 июня 1941 г. Неопубликованное интервью Маршала Советского Союза
А.М. Василевского. Предисловие генерал-полковника Ю.А. Горькова №6
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ
Айседора Дункан в Советской России. Из книги М. Дести "Нерассказанная история.
Жизнь Айседоры Дункан. 1921—1927” № 1
Застольные беседы в ставке Гитлера № 4
Из дневников Йозефа Геббельса. 1945 г № 5
Ширер У. Берлинский дневник №3,6
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Гуркин В.В. О людских потерях на советско-германском фронте в 1941—1945 гг. ... № 3
Дунаевский В.А. Как не следует издавать книги № 5
Маршал бронетанковых войск Лосик О.А. По поводу статьи генерала армии
М.А. Гареева № 2
Фураев В.К. (Санкт-Петербург). Еще раз о программах и учебниках по новой и
новейшей истории № 1
ИСТОРИОГРАФИЯ
Блуменау С.Ф. (Брянск). Современная французская историография Вандеи и Шуан-
рии № 1
Репина Л.П. Локальная история и современная историография Английской рево¬
люции № 3
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЦЕНЗИИ
Адо А.В. В.Н. Малов. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и француз¬
ское общество. М., 1991 № 4
Артемов В.А. (Воронеж), Борозняк А.И. (Екатеринбург). И.Я. Биек. История по¬
вседневной жизни населения в Веймарской республике. Иваново, 1990 № 5
Борисов Б.И. Д.Г. Наджафов. Нейтралитет США. 1935—1941. М., 1990 № 2
Виноградов В.Н. Ф. Келлог. История румынской историографии. Бейкерсфилд,
1991 № 5
Гайдук И.В. Н. Зальцман. Реформа и революция. Жизнь и время Раймонда Ро¬
бинса. Кент, 1991 № 3
Гутнова Б.В. В.В. Согрин, Г.И. Зверева, Л.П. Репина. Современная
историография Великобритании. М., 1991 № 5
Дроздов Э.А. В.И. Антюхина-Московченко. Шарль де Голль и Советский
Союз. М., 1990 № 1
220
Дубовицкий Г.А. (Самара). Д. Гербер. Формирование американского плюрализ¬
ма: Буффало, 1825—1860. Урбана, 1989; М.С. Блумин. Появление среднего
класса: социальный опыт в американском городе, 1760—1900. Кембридж,
1990 №3
Бманов А.Г. (Тюмень). Дж. Писторино. X. Колумб: загадка криптограммы.
Генуя, 1990 № 2
Брин М.Б. (Ярославль). А.А. Аникеев. Аграрная политика нацистской Герма¬
нии в годы второй мировой войны. Ростов-на-Дону, 1990 № 2
Иваницкий Г.М. Германский рейх и вторая мировая война. Т. 6. Глобальная война,
ее превращение в мировую войну и смена инициативы 1941—1943. Штутгарт,
1990 №6
Имангалиев Р.Н., Королев В.С., Уманский П.Б., Шарифжанов И.И. (Казань). Исто¬
риография истории нового времени стран Европы и Америки. М., 1990 № 3
Костриков С.П. В.П. Смирнов, В.С. Посконин. Традиции Великой француз¬
ской революции в идейно-политической жизни Франции. 1789—1989. М., 1991 ... № 6
Лаптева Л.П. Е.К. Вяземская, С.И. Данченко. Россия и Балканы. Конец
XVIII в. — 1918 г. (Советская послевоенная историография). Обзор. М., 1990 .... № 5
Маныкин А.В., Петрова Н.К. Народы мира. Историко-этнографический справочник.
М., 1988 №1
Могильницкий Б.Г. (Томск). П.Н. Кудрявцев. Сочинения. Избранное. М.,
1991 №4
Орлов А.С. Великая Отечественная война. 1941—1945: События. Люди. Документы.
Краткий исторический справочник. М., 1990 № 1
Член-корр. РАН Покровский Н.Н. (Новосибирск). Русско-китайские отношения в
XVII-XVIII вв. Т. 1-4. М., 1969-1990 № 2
Посконин В.С. Национальный фронт как он есть. Париж, 1989 № 4
Ржешевский О.А. А. Буллок. Гитлер и Сталин. Параллельные жизни. Лондон,
1991 №5
Смирнова Н.Д. К. Штурм-Шнабль. Переписка Франца Миклошича с южными
славянами. Марибор, 1991 № 4
Строганов А.И. История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70-е годы
XIX века. М., 1991 № 4
Ушаков В.А. (Санкт-Петербург). Б.М. Шпотов. Промышленный переворот в
США. Ч. 1-2. М., 1991 № 3
Цфасман А.Б. (Челябинск). Б.М. Туполев. Германский империализм в борьбе
за место под солнцем”. Германская экспансия на Ближнем Востоке, в Восточ¬
ной Африке и в районе Индийского океана в конце XIX — начале XX в. М.,
1991 №1
Черкасов П.П. Б.Б. Черняк. Судебная петля. Секретная история политических
процессов на Западе. М., 1991 №4
Шевеленко А.Я. В.Л. Керов. Французская колонизация островов Индийского
океана (XVII—XVIII вв.). М., 1990 № 6
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. НАХОДКИ
Карлов Л.П. Из истории американских денежных знаков № 3
Чернявский Г.И. (Харьков). Неизвестные статьи Х.Г. Раковского № 3
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Власова М.А., Троицкая Л.М. Американисты об изучении истории США № 1
Гинцберг Л.И. Встреча германистов в Волгограде № 1
Гинцберг Л.И. 70-летие Рапалльского договора. Научный семинар в Минске № 6
Гутнова Б.В. Эволюция парламентаризма в Европе от средневековья до современ¬
ности №6
Бвэеров Р.Я. Международная конференция, посвященная Р. Люксембург № 3
Ищенко В.В. Международная конференция "Советская внешняя политика.
1917—1991” №6
Латыш М.В. Уроки чехословацкого кризиса 1968 г № 6
221
Милюкова В.И. Советские историки о зарубежной историографии № 1
Милюкова В.И. 85 лет со дня рождения академика А.Л. Нарочницкого. Научные
чтения № 3
Милюкова В.И. О советско-американских и российско-американских отношениях
в 1933-1992 гг №4
Наумеиков О.А, Хабибулин Р.К. (Уфа). Конференция англоведов в Уфе № 2
Новые российские академики №5
Попиштяну К. (Румыния). Обзор современных исторических исследований в Румы¬
нии № 3
Родович Ю.В. (Тула). Россия и Германия в Европе: 90-е годы XX в № 6
Рубцов Ю.В. 50-летие битвы за Москву № 2
Шилов В.С. Общее собрание Отделения истории РАН № 5
60 лет - Александру Огановичу Чубарьяну № 1
70 лет — Виктору Константиновичу Фураеву № 1
Драбкин Я.С. Памяти Вальтера Бартеля № 3
[б.Н. Билунов| №4
[A.?. Иоаннисян) №2
|В.Г. Карасев| № 2
|А.М. Самсонов! № 5
[А.Ф. Шульговский] № 2
|Я.А. Эльфонд, №4
CONTENTS
Our Publications. On the Eve of June 22, 1941. An Unpublished Interview of Marshal of the
Soviet Union A.M. Vasilevsky (Foreword by Colonel-General Yu.A. Gorkov). Articles.
Firsov F.I. The Comintern Archives and the Foreign Policy of the USSR in 1939-1941. Goncharo¬
va T.V. Indian America: Five Centuries of Colonization and Prospects for Rebirth. Belousova Z3. Brian’s Plan
and the USSR’s Stand in the Light of New Documents. Fadeeva T^f. At the Origin of Ideology of European
Concervatism. Problems of Russian Archivis. Kozlov VX On Using Documents from Russian Archi¬
ves. The History of the Worid Religions. Reminiscences. FedorenkoN.T. Stalin
and Mao Tse-tung (the end). Documentary Essays. Mikhailov G.A., Orlov A.S. Secrets ot the
"Closed Sky*. Filimonova E.V. (Volgograd). The Russian Diplomat A.S. Ionin (1837-1900). Malov VJi. The
Moscow Archive of Monsignor Boisgelien. Profiles of Historians. Kozenko B.D. (Samara).
Lev Izrailevich Zubok (1896—1967). From Foreign Books. Scherer W. The Berlin Diary (the
end). Questions of Teaching History. Book Reviews. Scientific Life. Index of
Articles for 1992.
222
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Белоусова Зинаида Сергеевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, специалист по новейшей истории Франции и международ¬
ным отношениям, автор монографий “Французская дипломатия накануне Мюнхена” (М.,
1964), "Франция и европейская безопасность. 1929-1939 гг.” (М., 1976), глав в коллектив¬
ных трудах "История Франции”, т. III (М., 1973), “Европа XX века: проблемы безопасности”
(М., 1985) и других научных работ.
ГОНЧАРОВА Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный сотруд¬
ник Института Латинской Америки РАН, автор монографий ”Еврипид” (М., 1987), “Эпикур”
(М., 1988), “Индеанизм: идеология и политика” (М., 1989), многих статей, в частности “Они
ждут возвращения Пачакути” в сборнике “Три каравеллы на горизонте” (М., 1991).
КОЗЛОВ Владимир Петрович, доктор исторических наук, специалист по историографии и
источниковедению истории России X VIII " первой половины XIX в., автор монографий “Ко¬
лумбы российских древностей” (М., 1981), "Кружок А.И. Мусина-Пушкина и “Слово о полку
Игореве”,(М., 1988), "Полемика вокруг "Истории государства Российского” Н.М. Карамзина”
(М., 1989),"Древностелюбивые проказы” или Обманутая, но торжествующая Клио” (в печати).
МАЛОВ Владимир Николаевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, специалист по проблемам новой истории стран Западной Европы,
автор монографии "Происхождение современного письма” (М., 1975), “Ж.Б. Кольбер. Абсо¬
лютистская бюрократия и французское общество” (М., 1991).
МИХАЙЛОВ Георгий Александрович, генерал-полковник в отставке. В 1954—1967 гг. слу¬
жил в Главном штабе войск ПВО страны и Московском округе ПВО, затем в Генштабе. В
конце 70-х годов был военным атташе при советском посольстве в США. После выхода в от¬
ставку с 1989 г. — консультант Института США и Канады РАН.
ОРЛОВ Александр Семенович, полковник в отставке. В 1955—1967 гг. служил в Бакинс¬
ком округе ПВО и Главном штабе войск ПВО страны. Кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института военной истории, специалист по истории второй мировой вой¬
ны, автор монографий "Секретное оружие третьего рейха” (М., 1975), “В поисках абсолютного
оружия” (М., 1989) и других работ по указанной проблематике.
ФАДЕЕВА Татьяна Михайловна, кандидат исторических наук, старший научный сотруд¬
ник Отдела исторических наук ИНИОН РАН, специалист по новой и новейшей истории Фран¬
ции, автор монографии "Стратегия буржуазного реформизма в современной Франции” (М.,
1975), статей по проблемам реформизма, либерализма, неоконсерватизма, европеизма, глав в
коллективных монографиях "Социал-демократический и буржуазный реформизм в системе
государственно-монополистического капитализма” (М., 1980), "Французская философия се¬
годня” (М., 1987), "Франция глазами французских социологов” (М., 1990).
ФИЛИМОНОВА Елена Валерьевна, ассистент кафедры всеобщей истории Волгоградского
университета.
ФИРСОВ Фридрих Игоревич, доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором
Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории, специалист по исто¬
рии международного коммунистического и рабочего движения, автор ряда монографий и
других научных работ в этой области.
СССР И ВЕНГЕРСКИЕ СОБЫТИЯ 1956 г.: НОВЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕКРЕТНЫЙ ДОКЛАД К.Е. ВОРОШИЛОВА ОБ УРОКАХ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНД¬
СКОЙ ВОЙНЫ 1939-1940 гг.
НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РОЛИ К. КАУТСКОГО И Э. БЕРНШТЕЙНА ВО П ИН¬
ТЕРНАЦИОНАЛЕ
Ф. РУЗВЕЛЬТ КАК ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 1941-1945 гг.
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ АЛ. ИЗВОЛЬСКИЙ
БУРБОНЫ В ИСПАНИИ
РОССИЙСКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА И ТАЙНАЯ СЕРБСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕР¬
НАЯ РУКА”
РЕНЕССАНС МАКСА ВЕБЕРА
ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
ЮМ КАК ИСТОРИК
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ: РУССКОЕ ИСКУССТВО И АМЕРИКАНСКИЕ ДЕНЬГИ
1900-1940 гг.
Технический редактор Н.П. Торчигина
Сдано в набор 31.08.92. Подписано к печати 19.10.92. Формат бумаги 70 х 100 1/16
Печать офсетная Усл.печ. 18,2 л. Усл.кр.-отт. 268,1 тыс. Уч.-изд.л. 20,7 Кум.л. 7,0
Тираж 14 540 Зак. 3214 Цена 2 р. 10 к.
Адрес редакции: Москва 121002, Арбат, д. 33/12, тел. 241—16—84
2-я типография издательства "Наука”, 121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6.
224
2 р. 10 к.
Индекс 70620