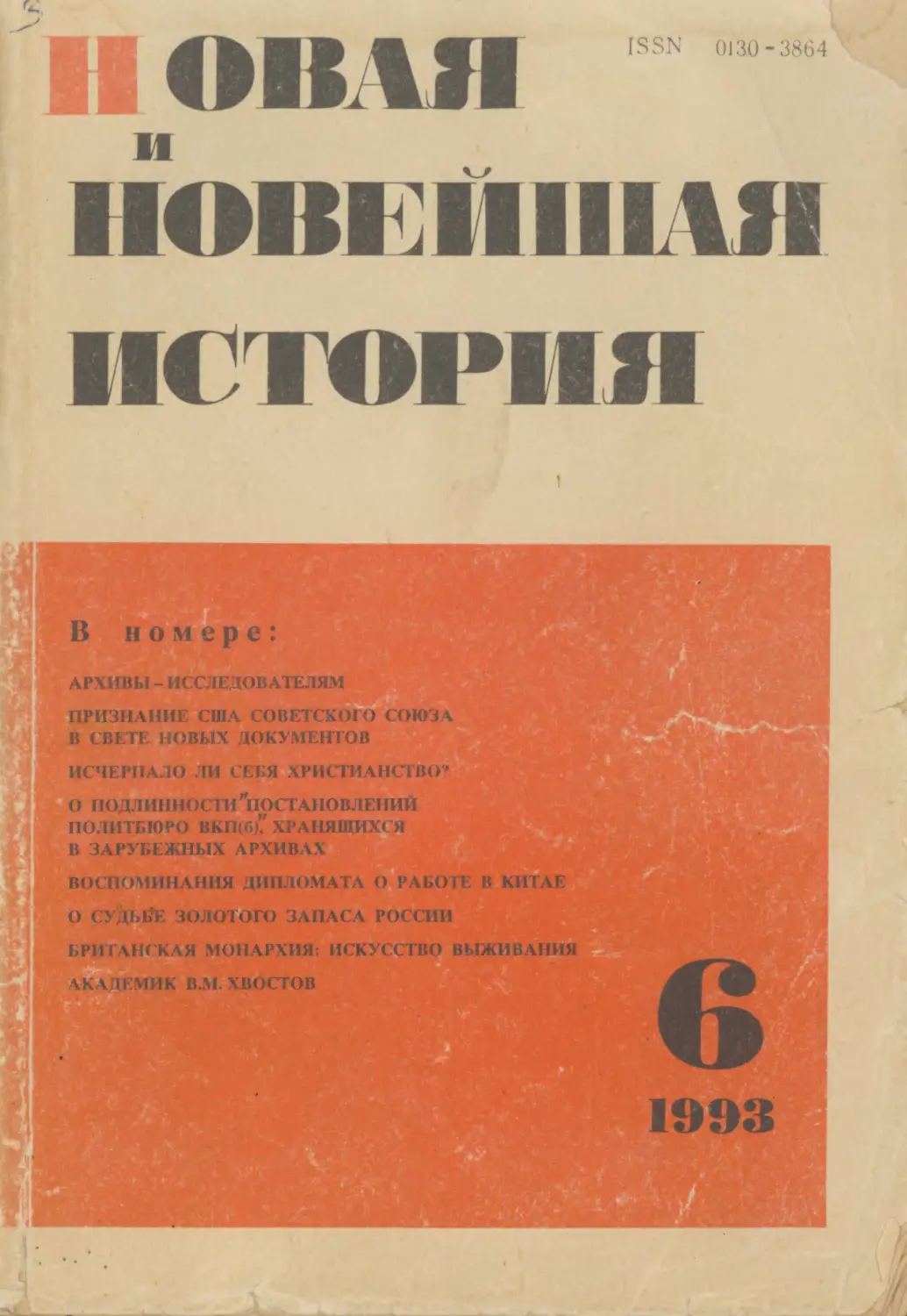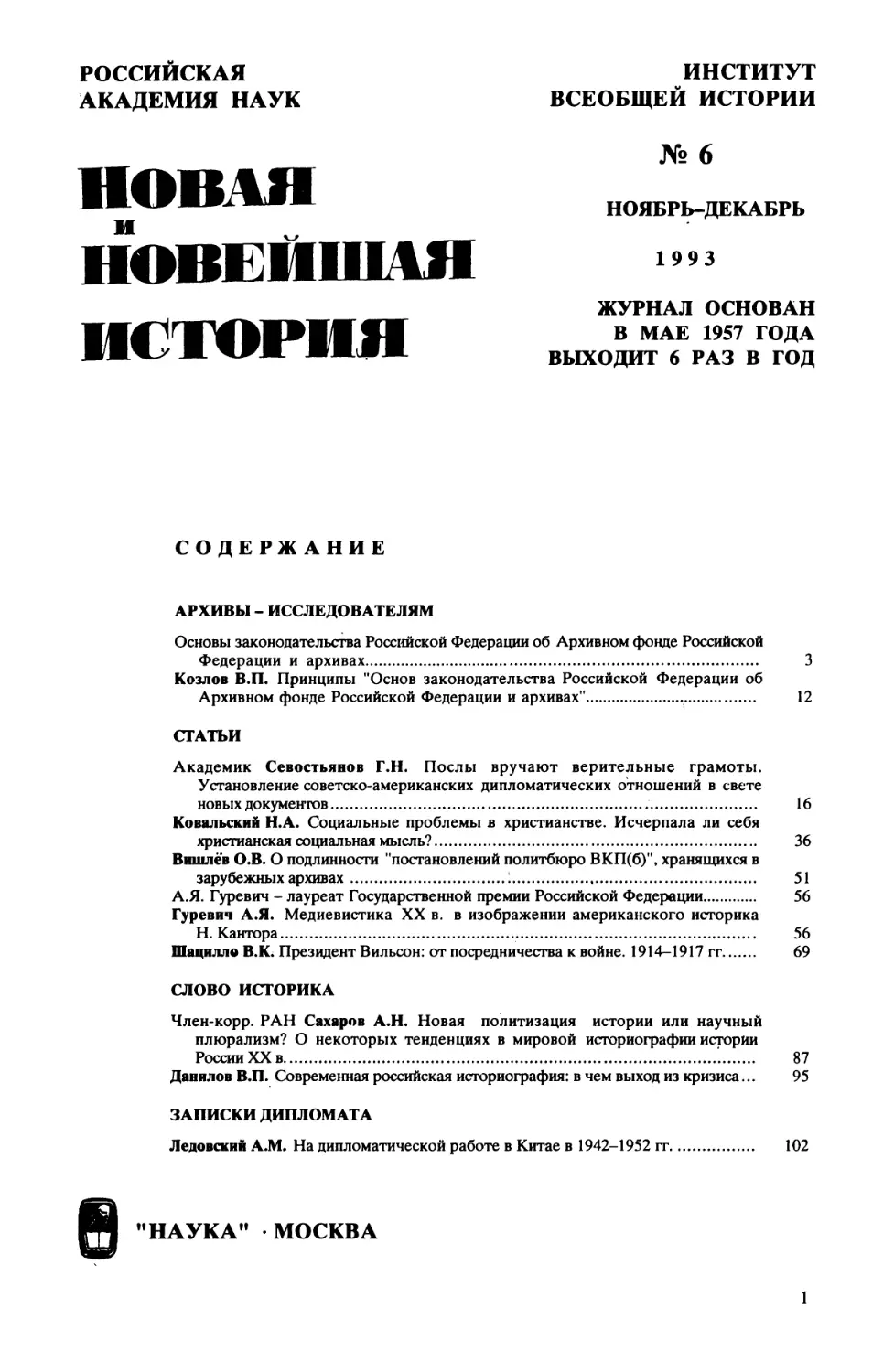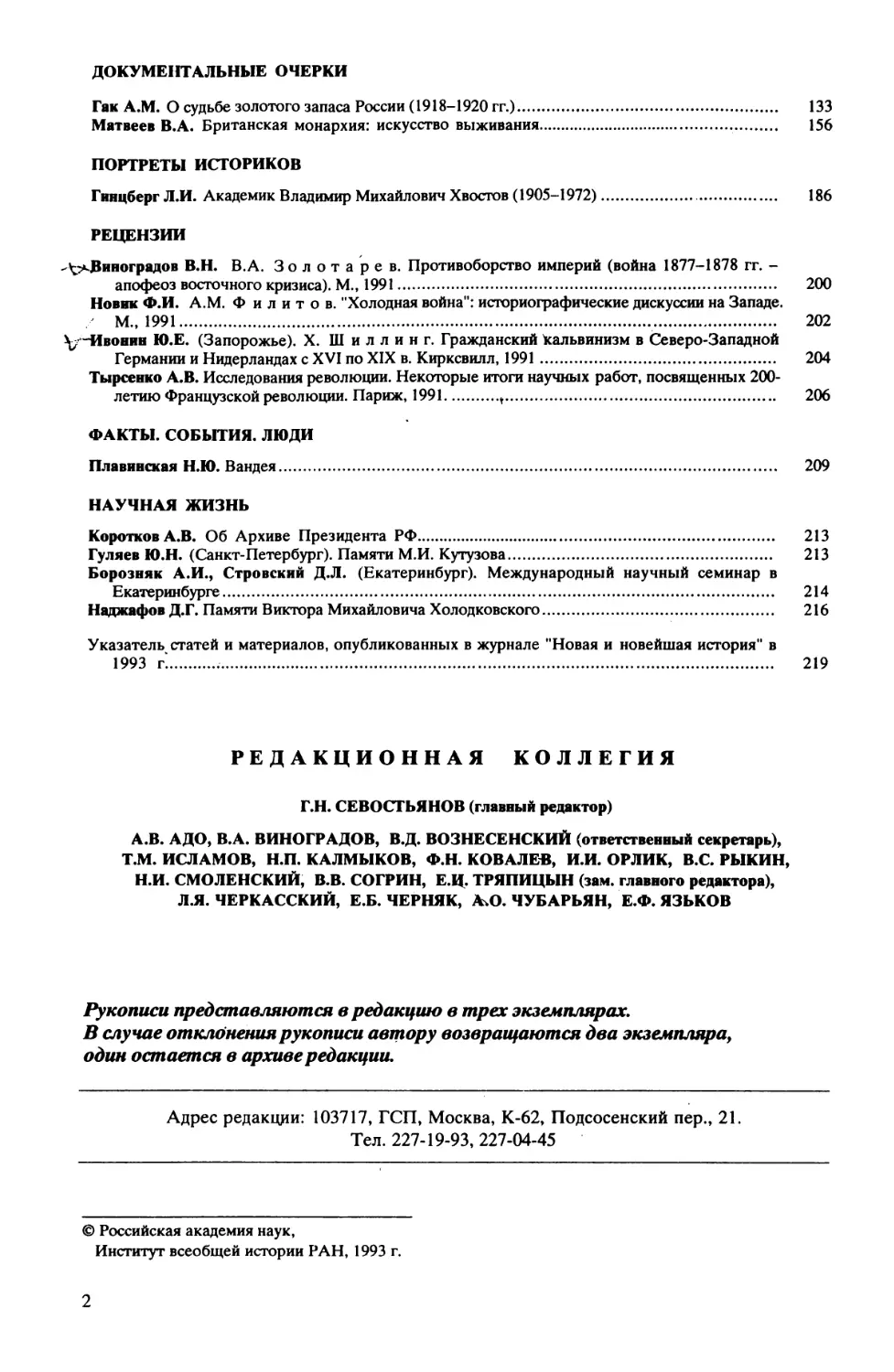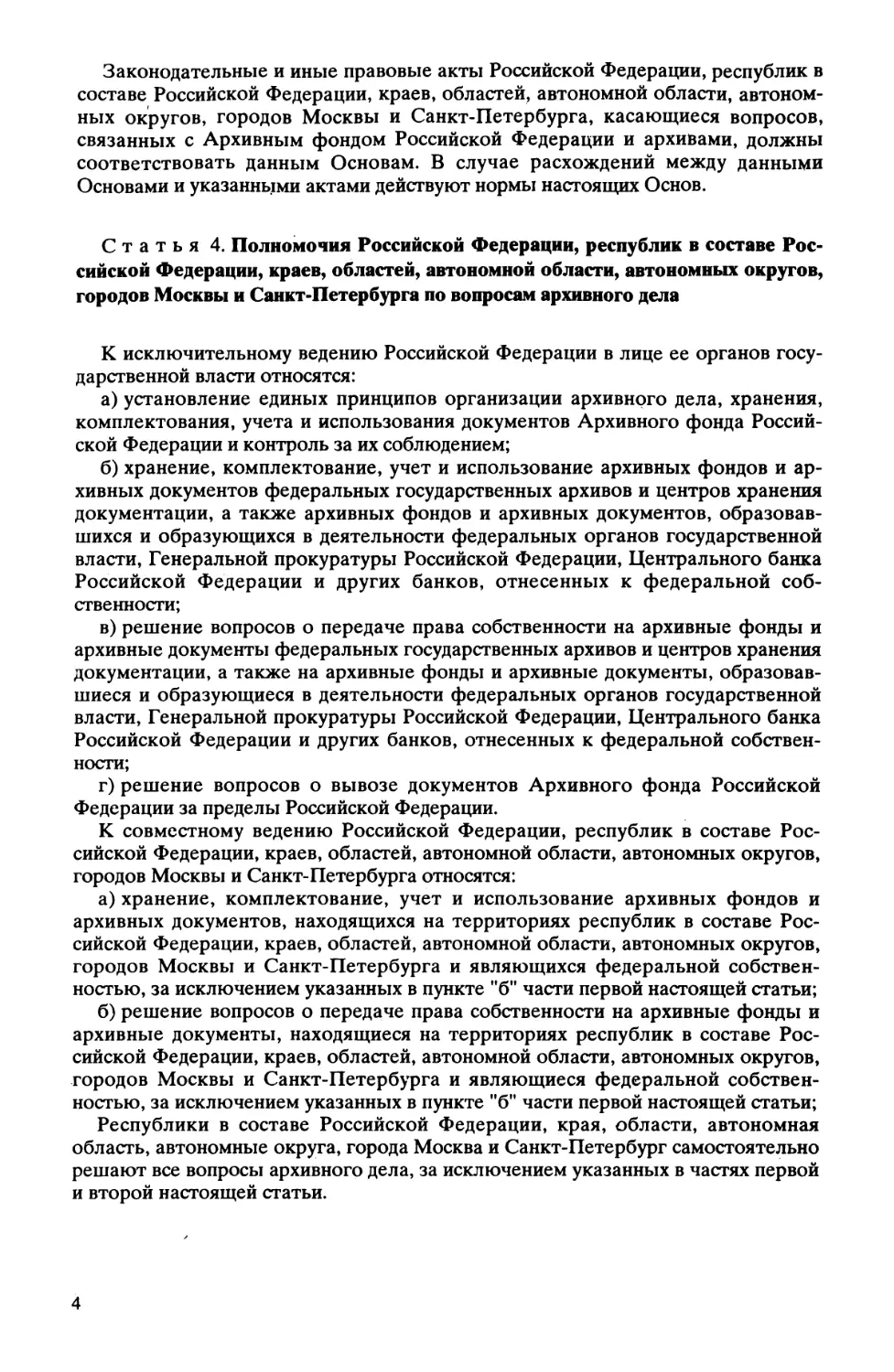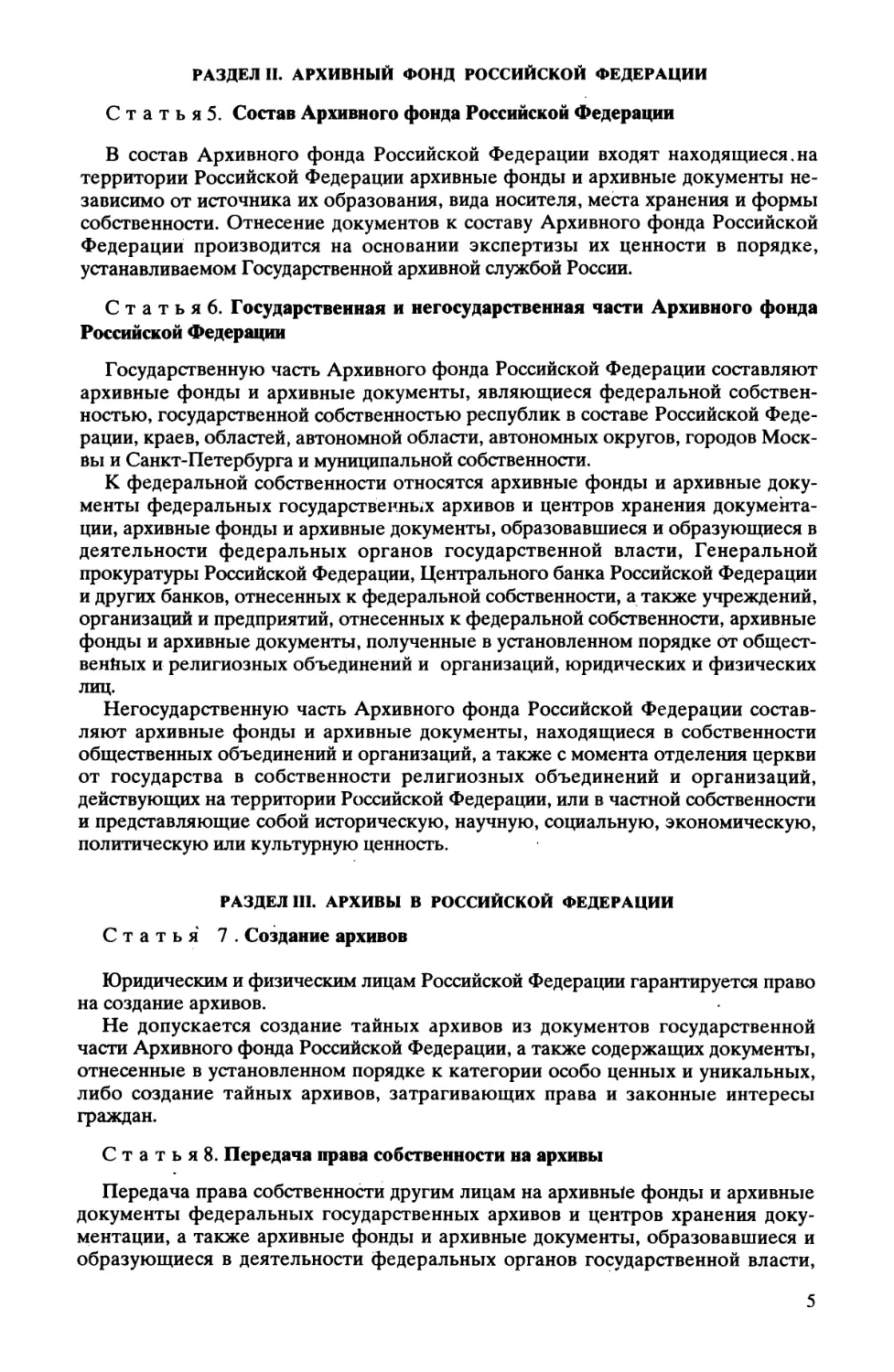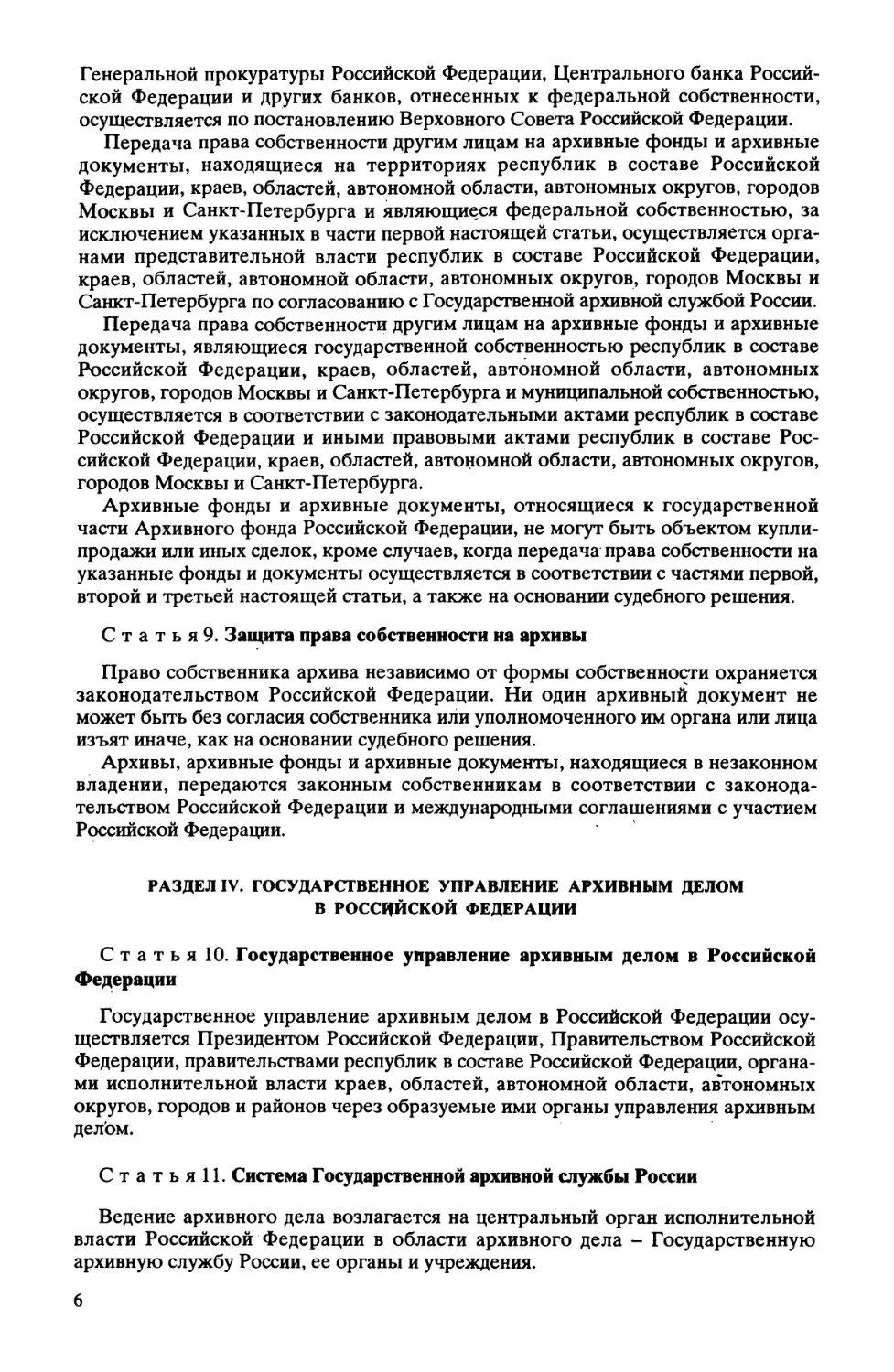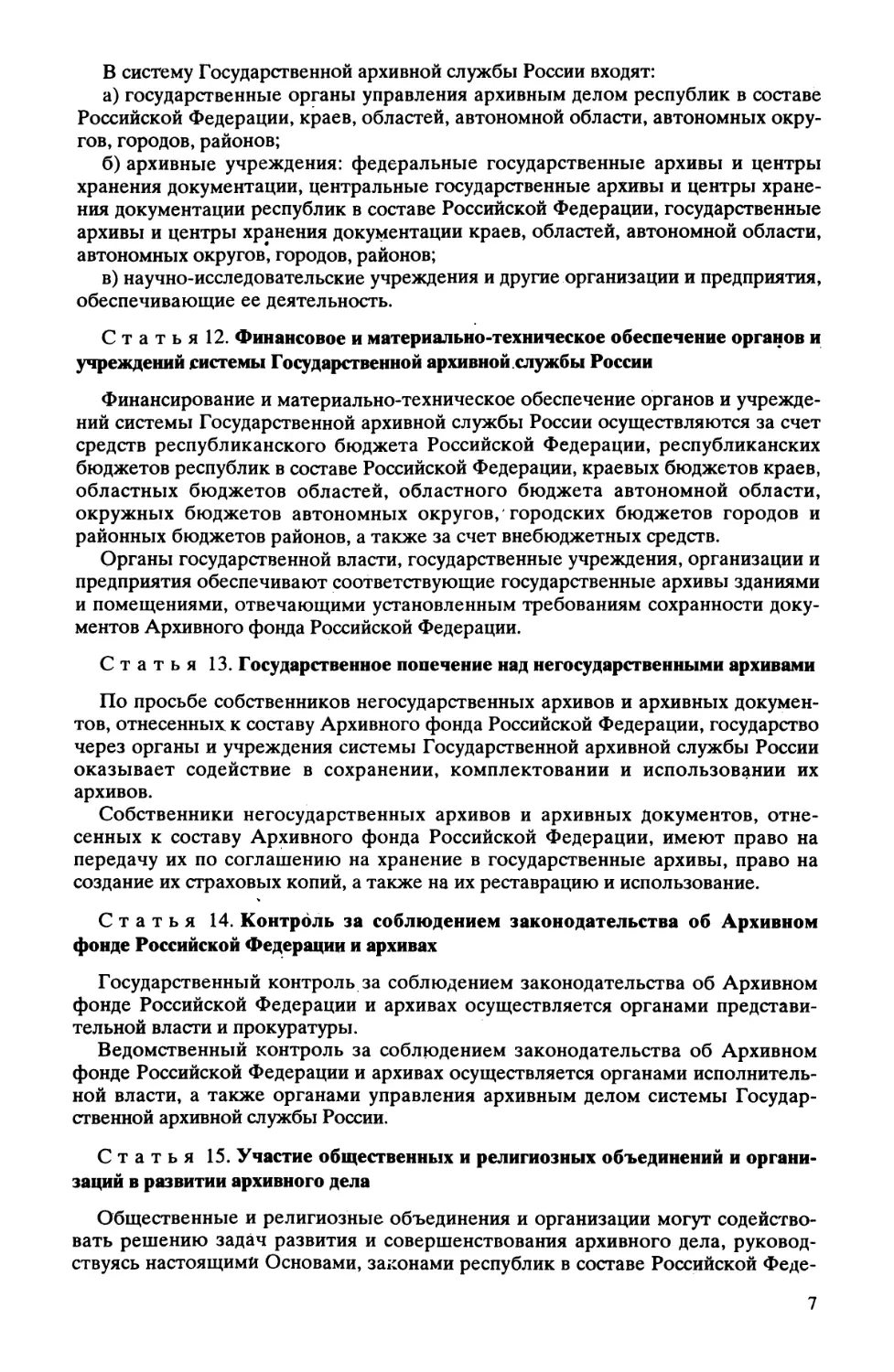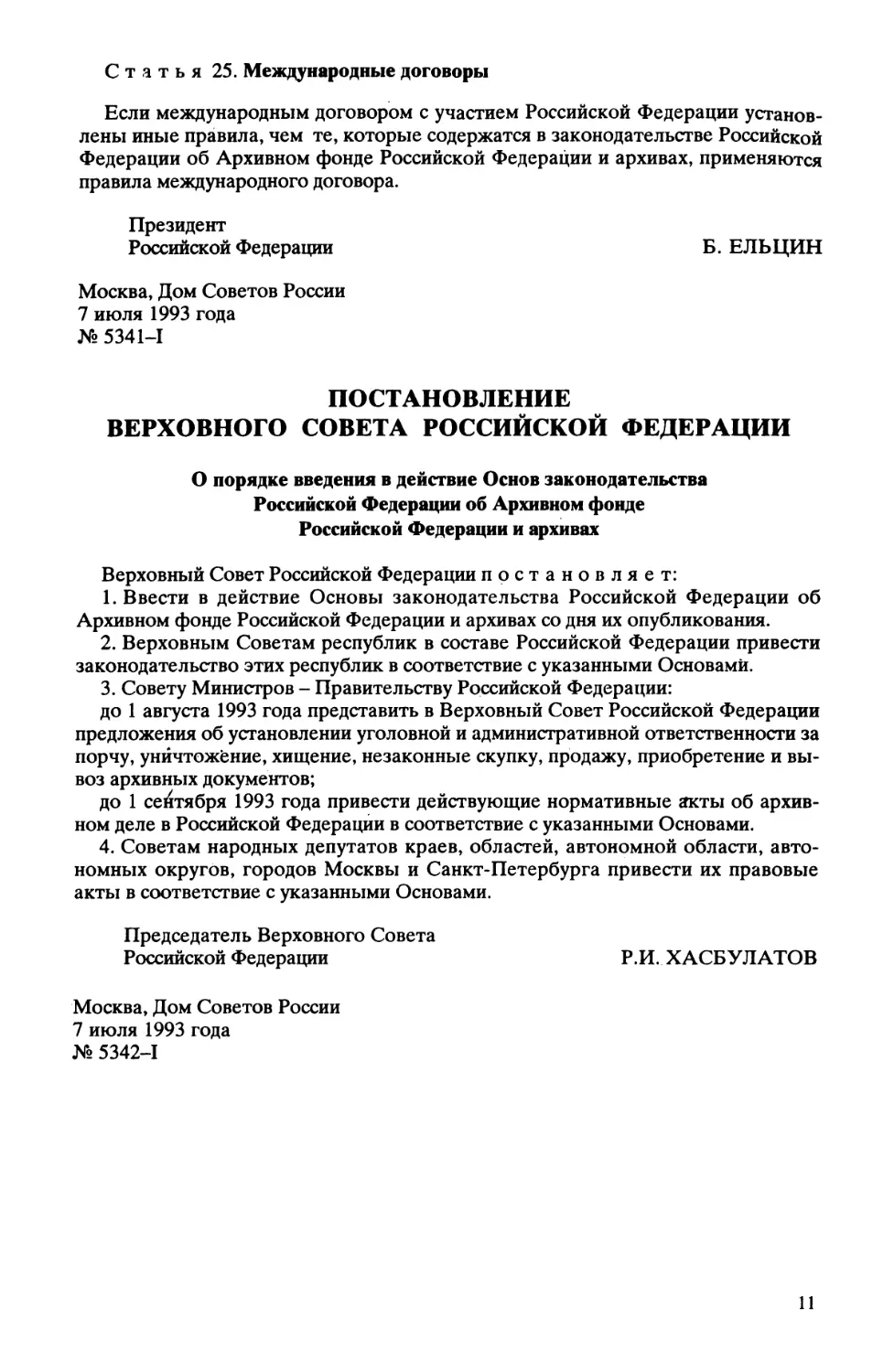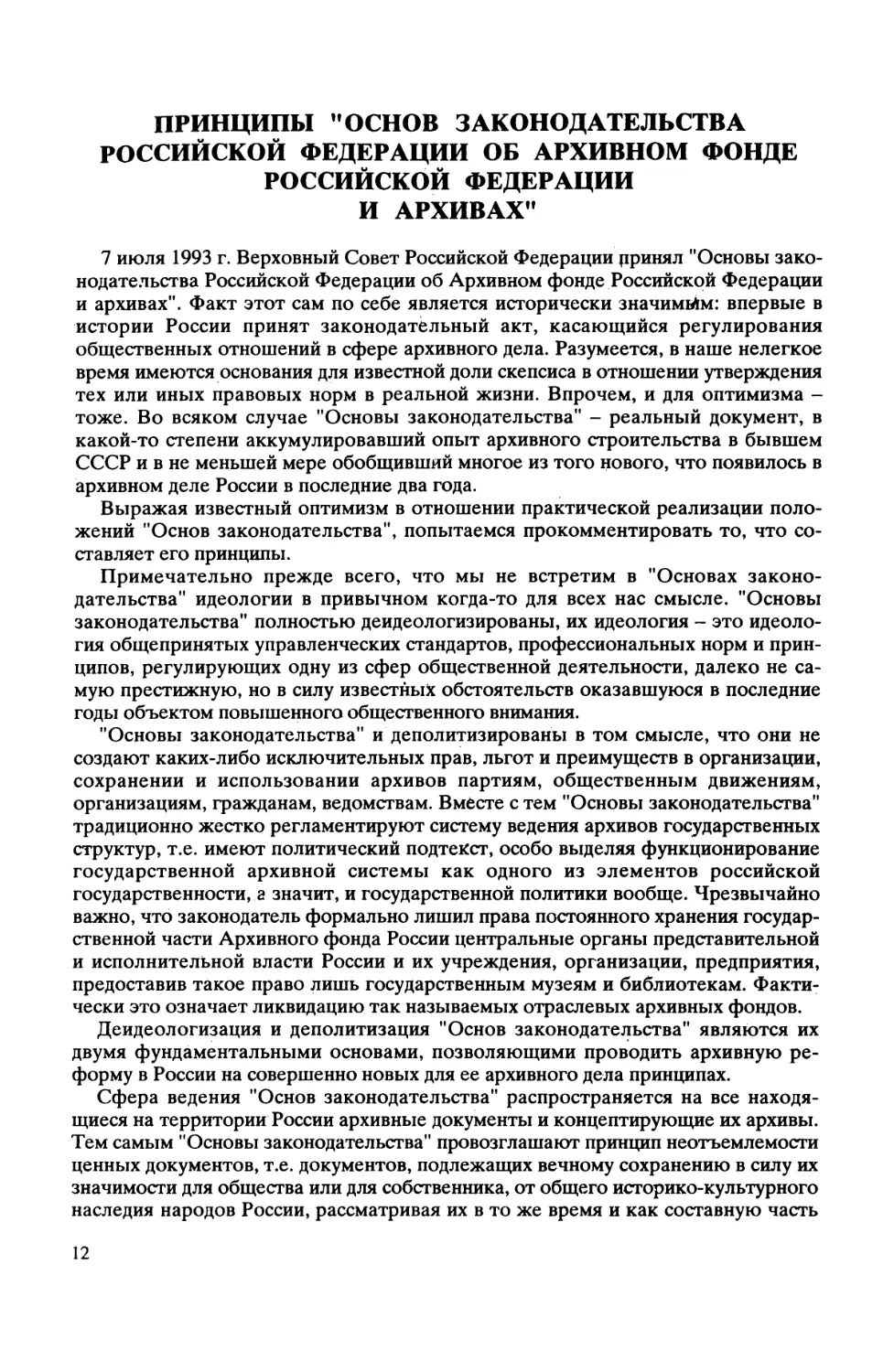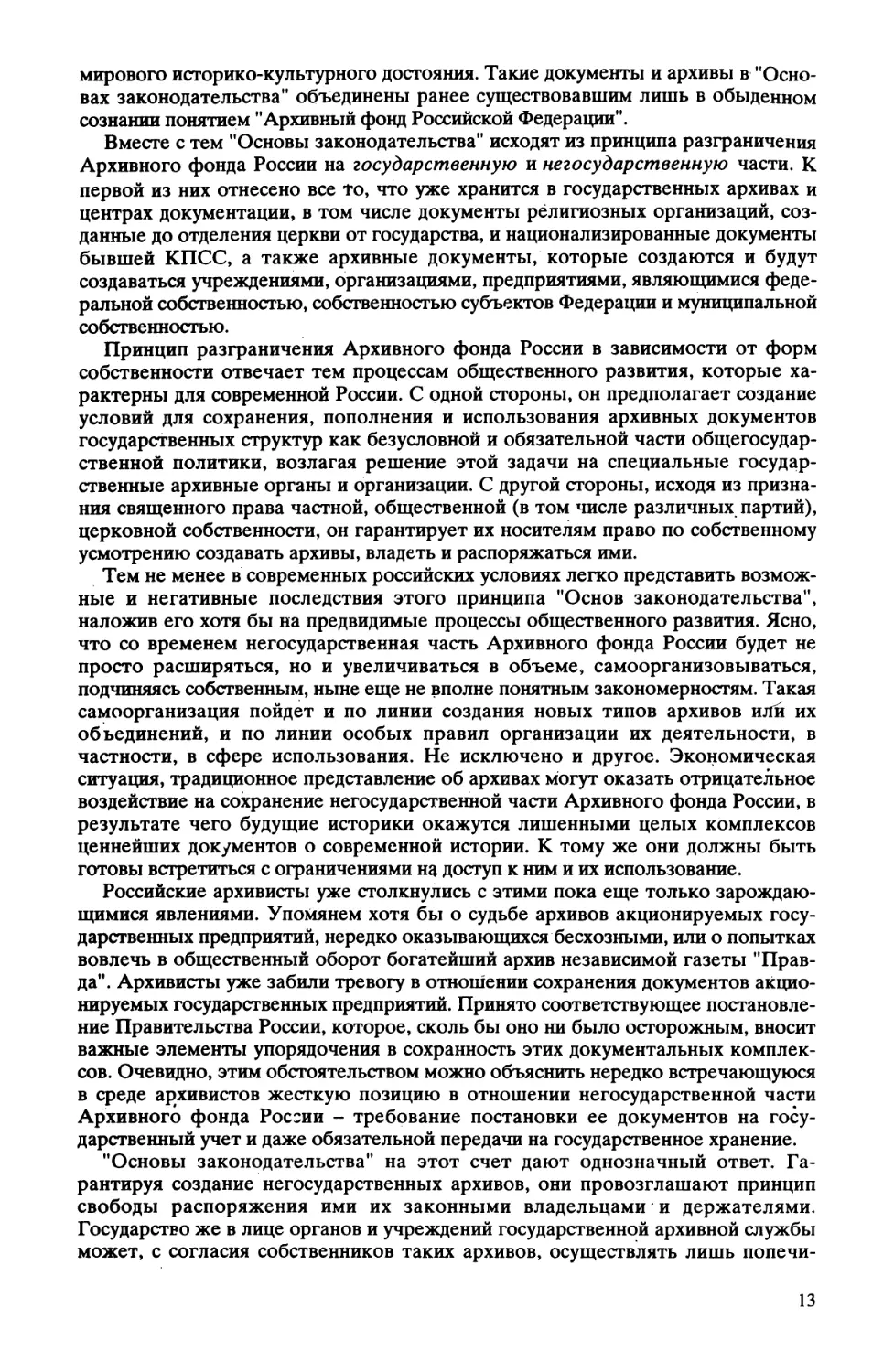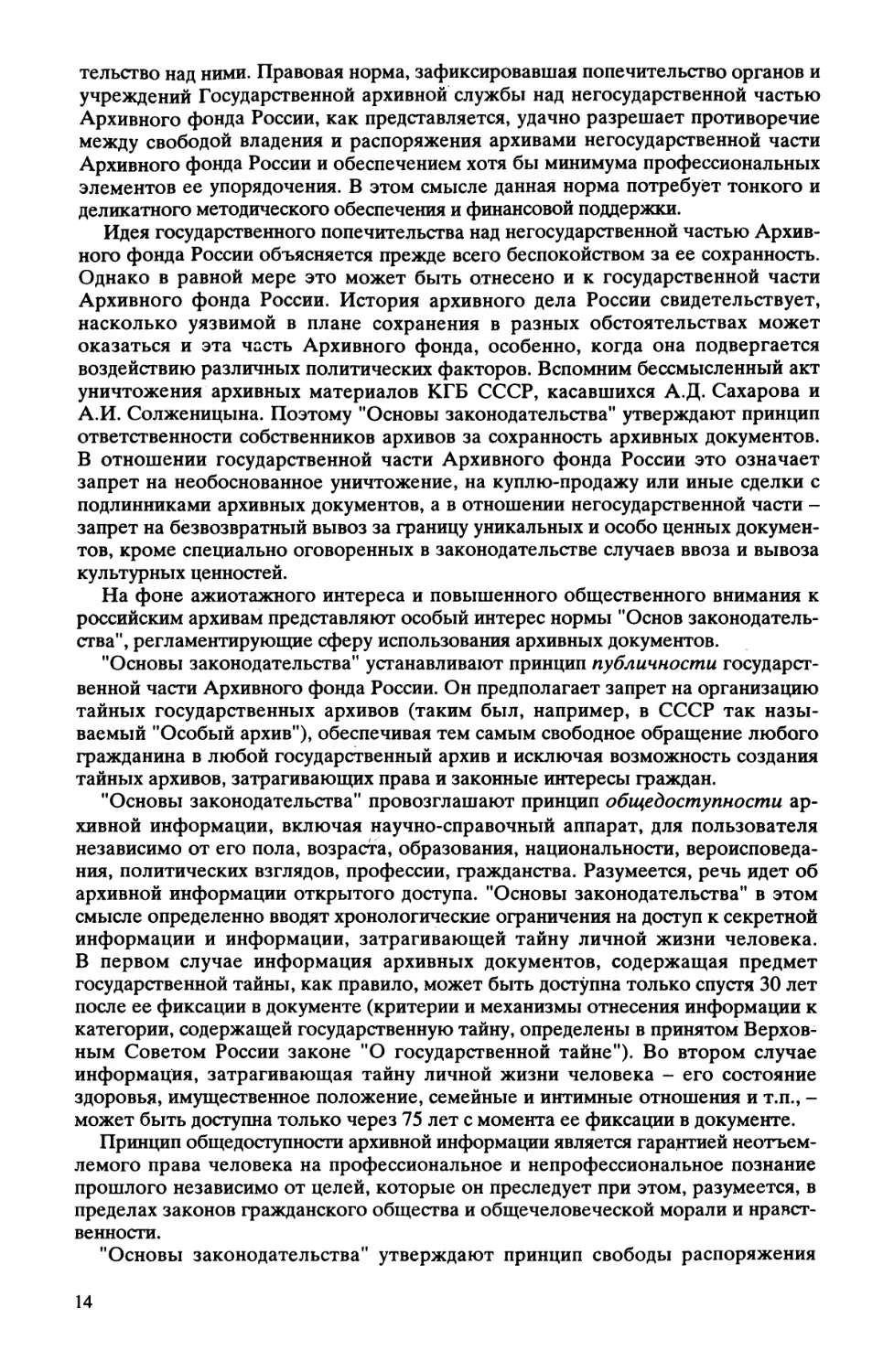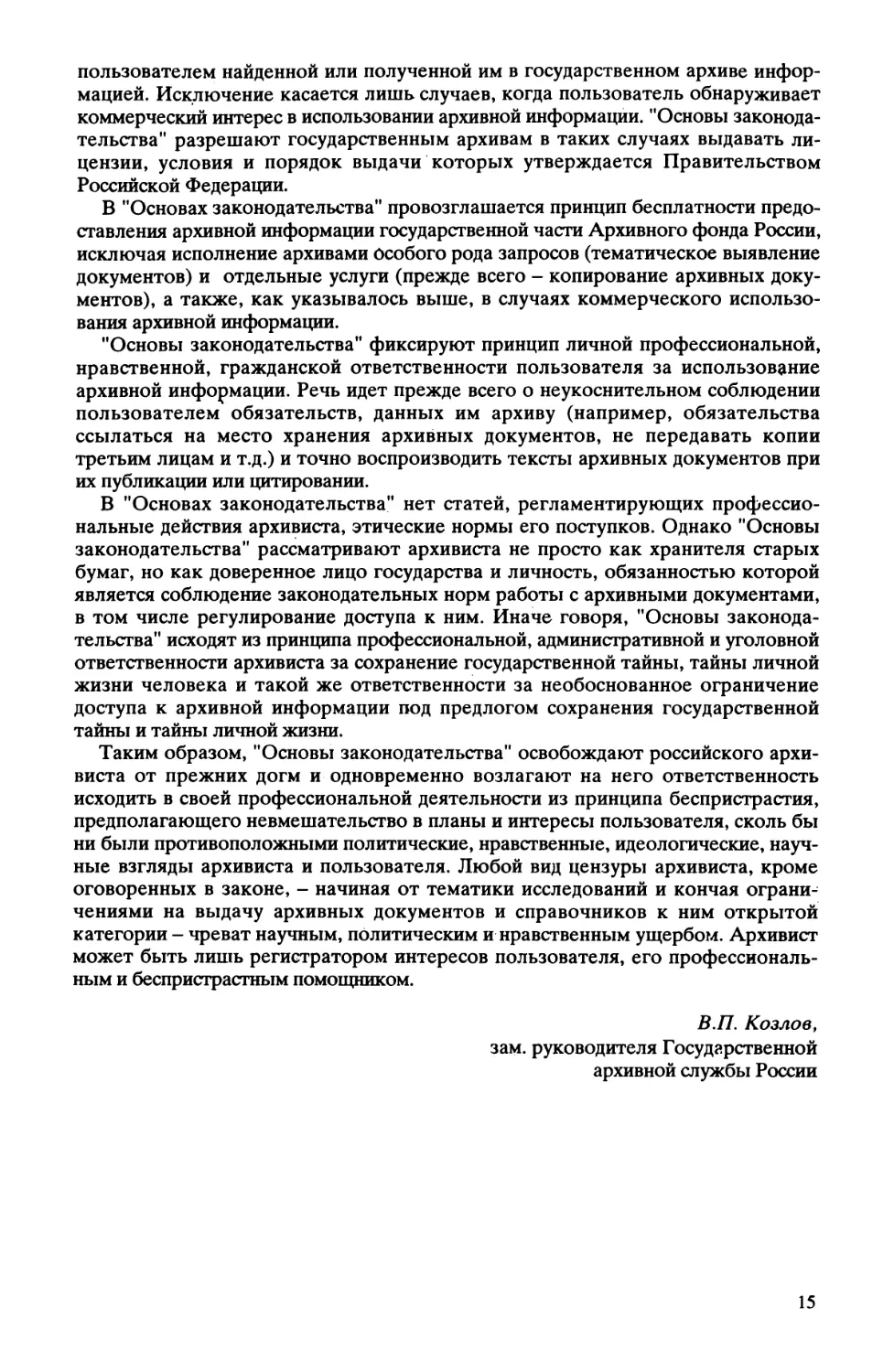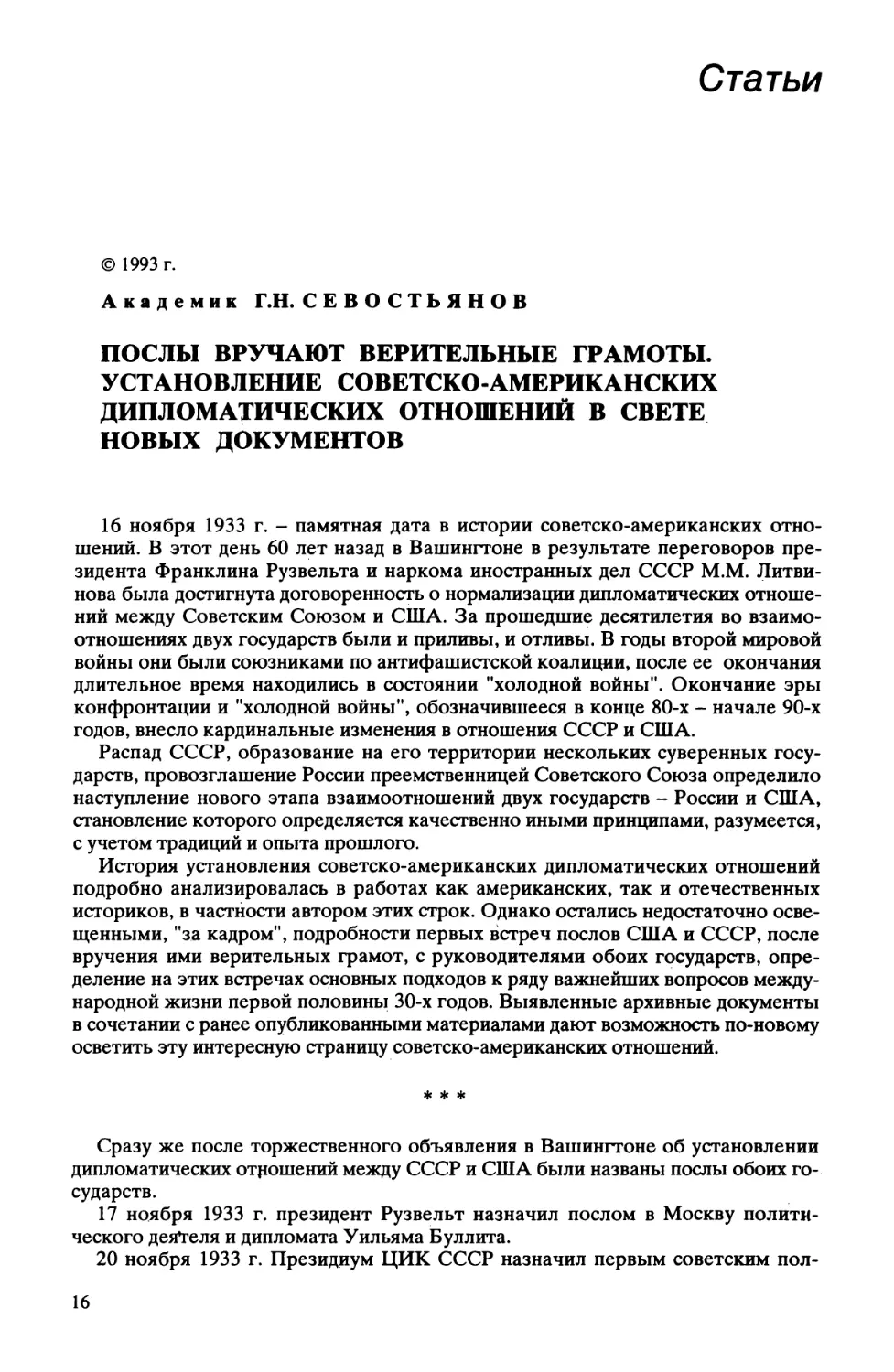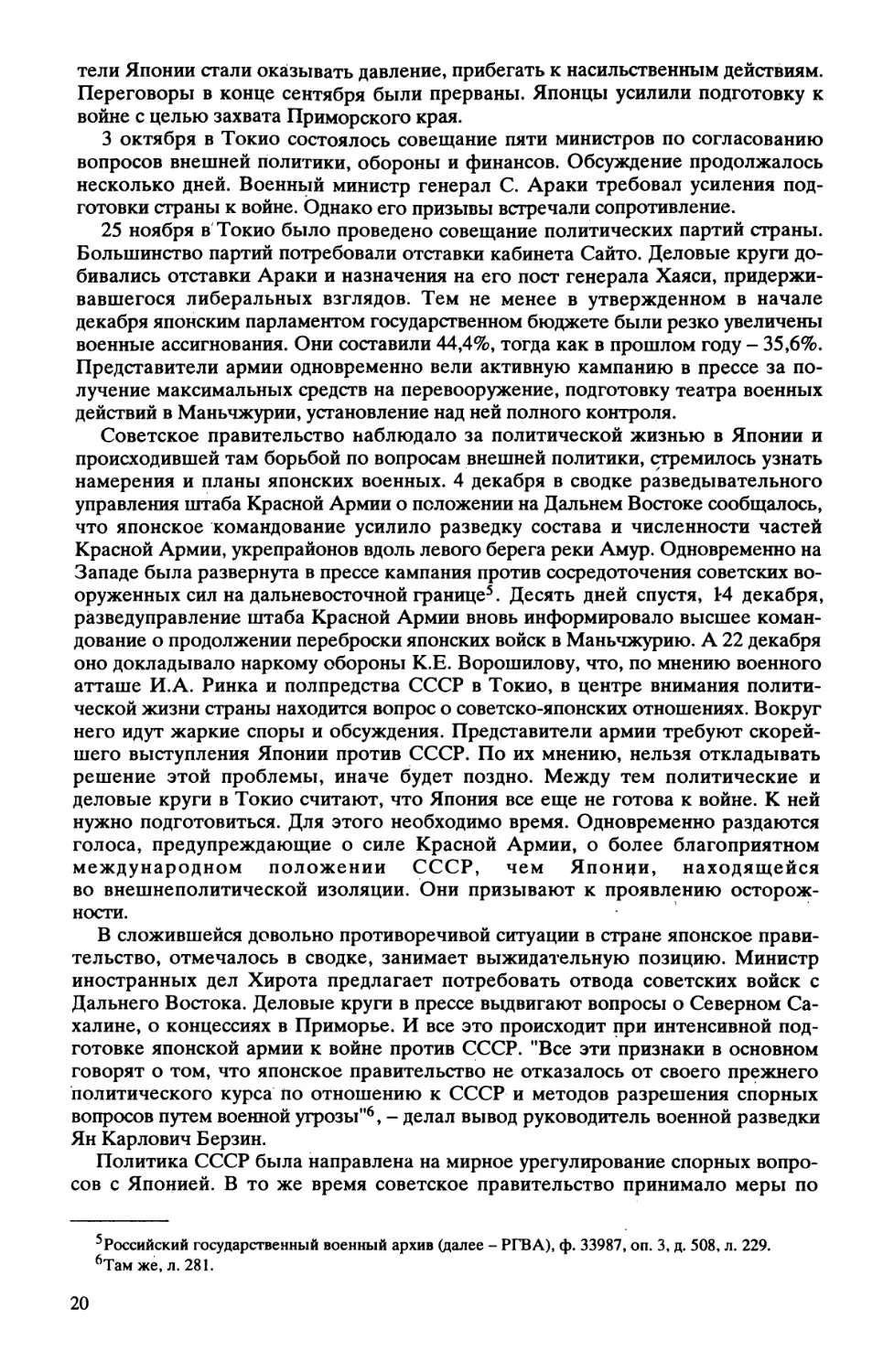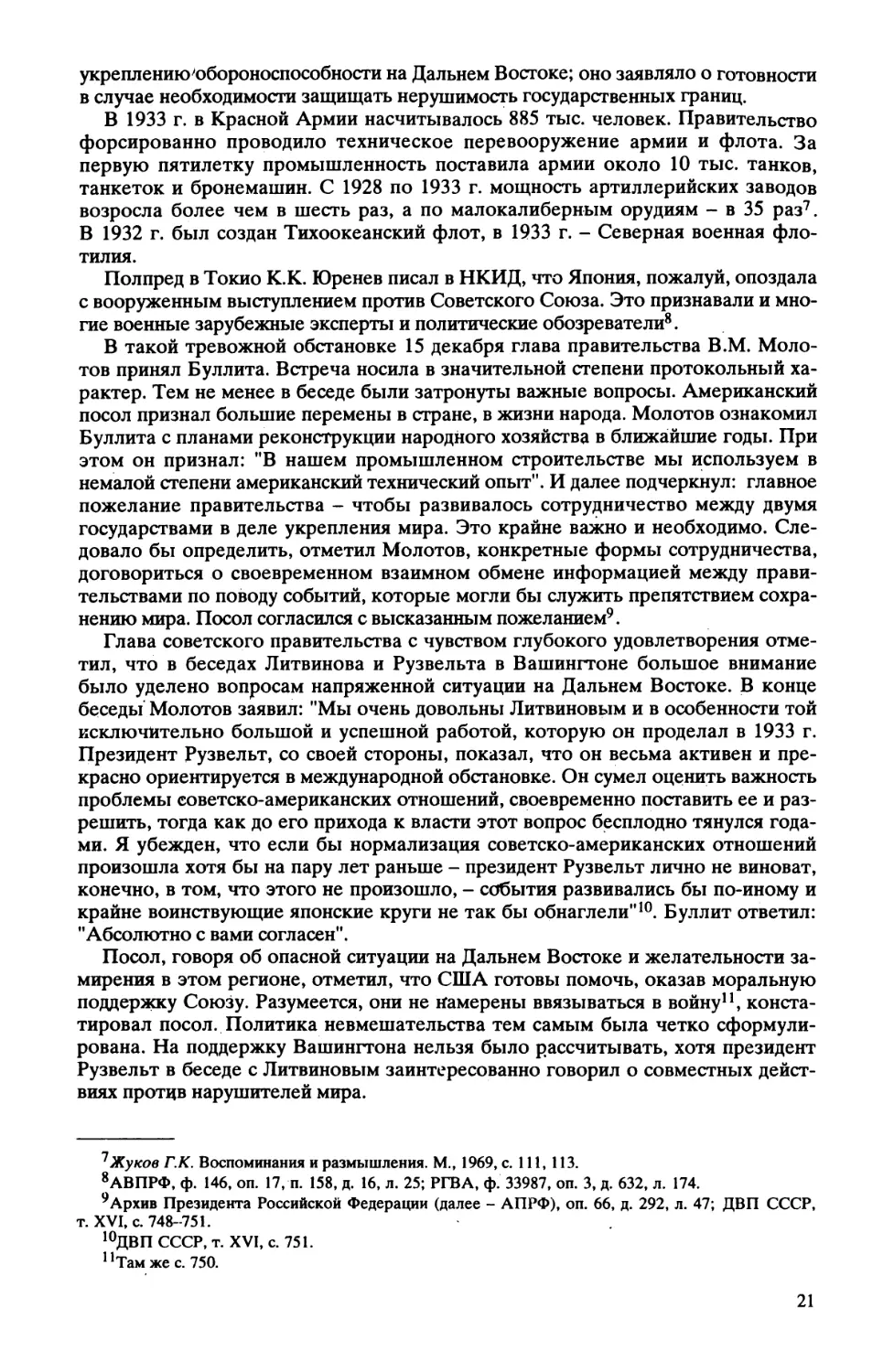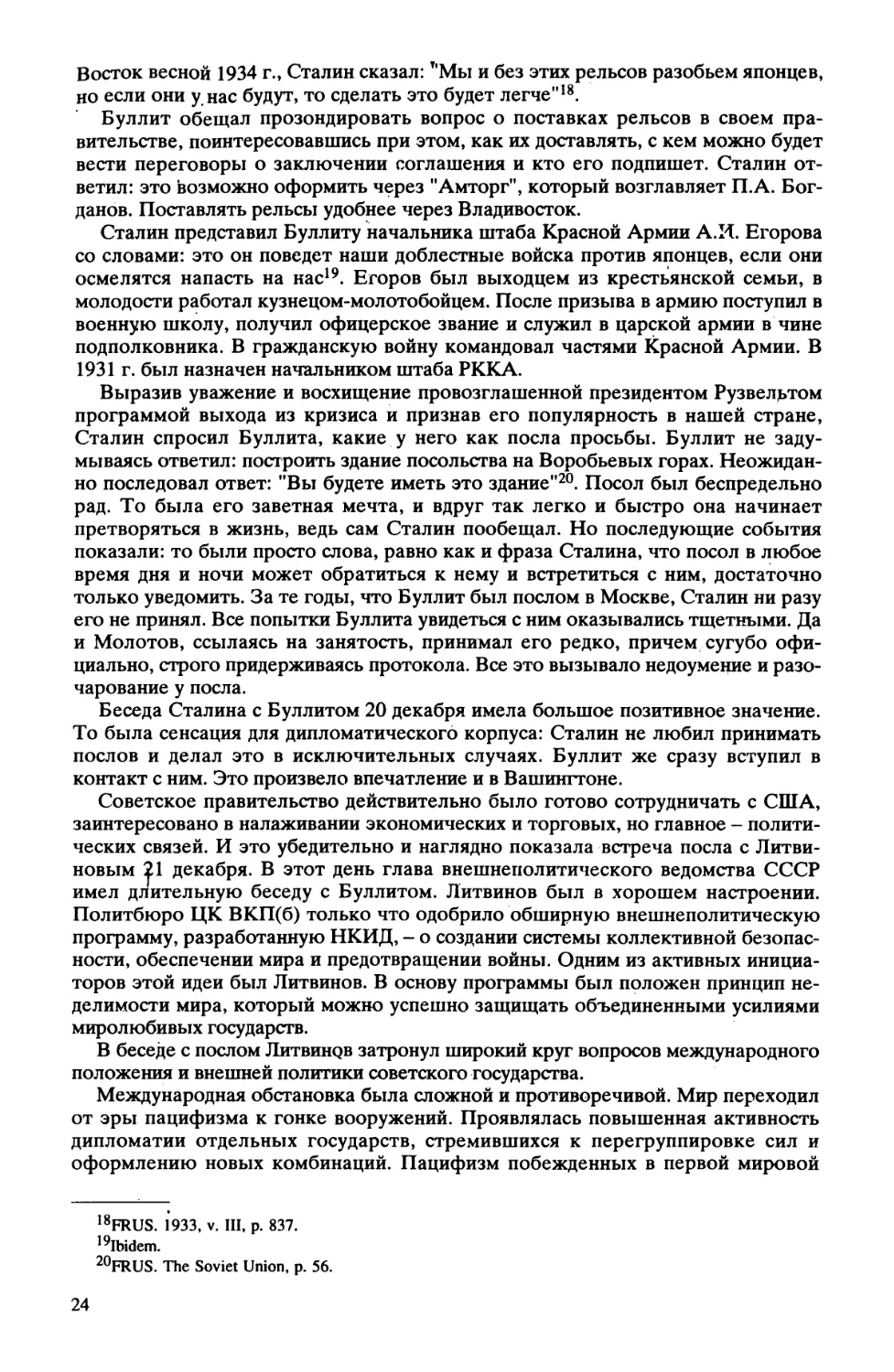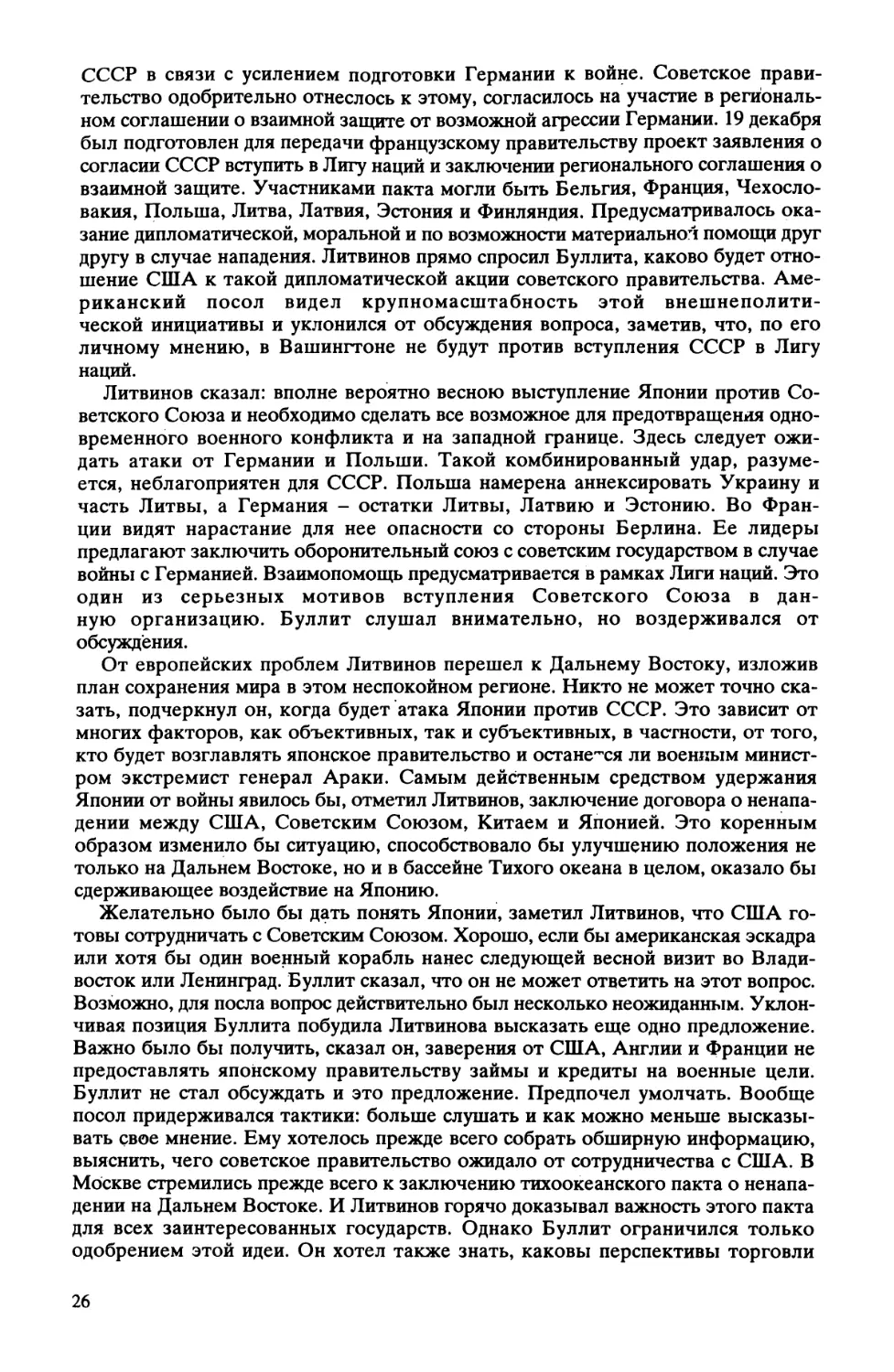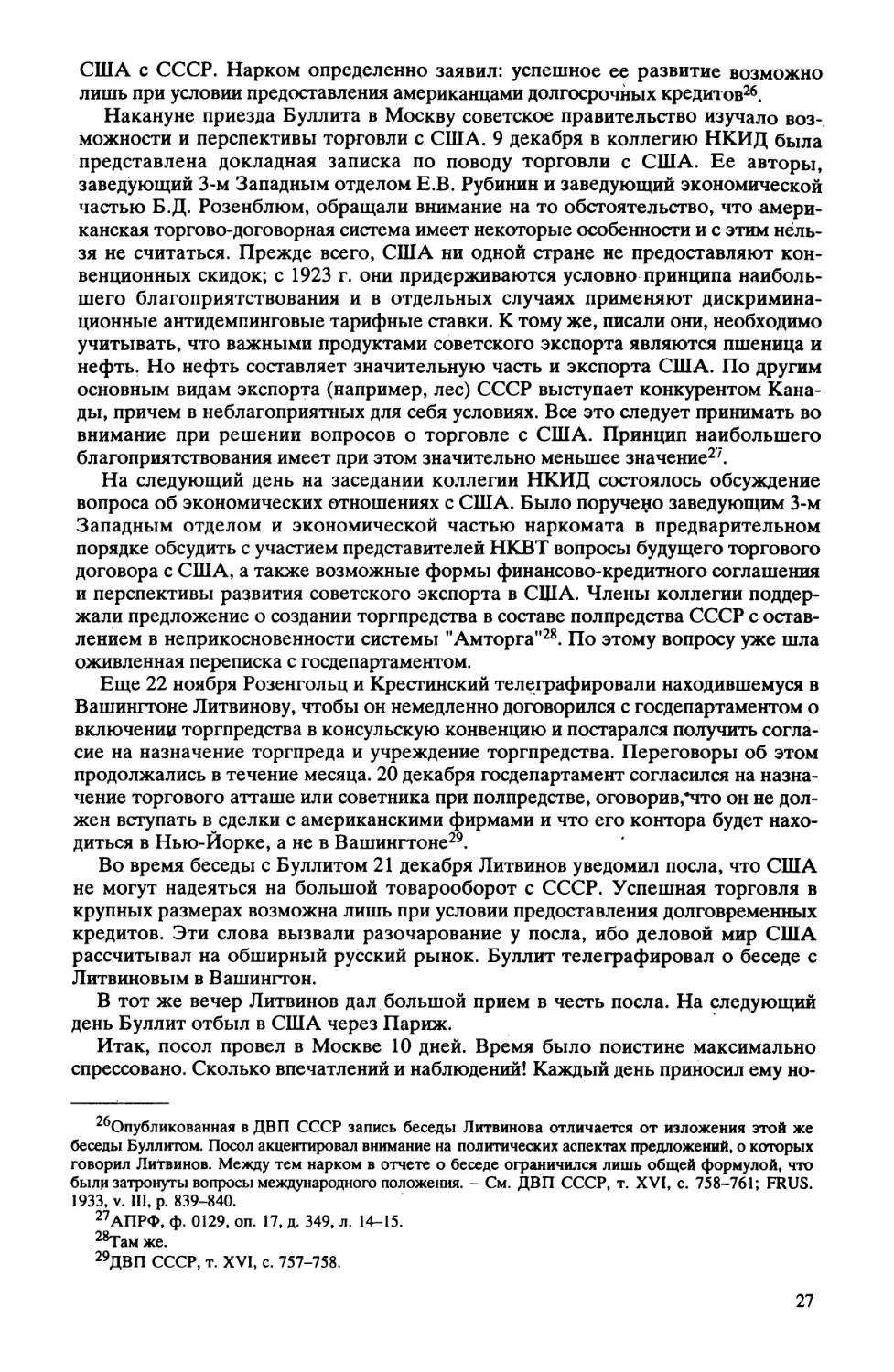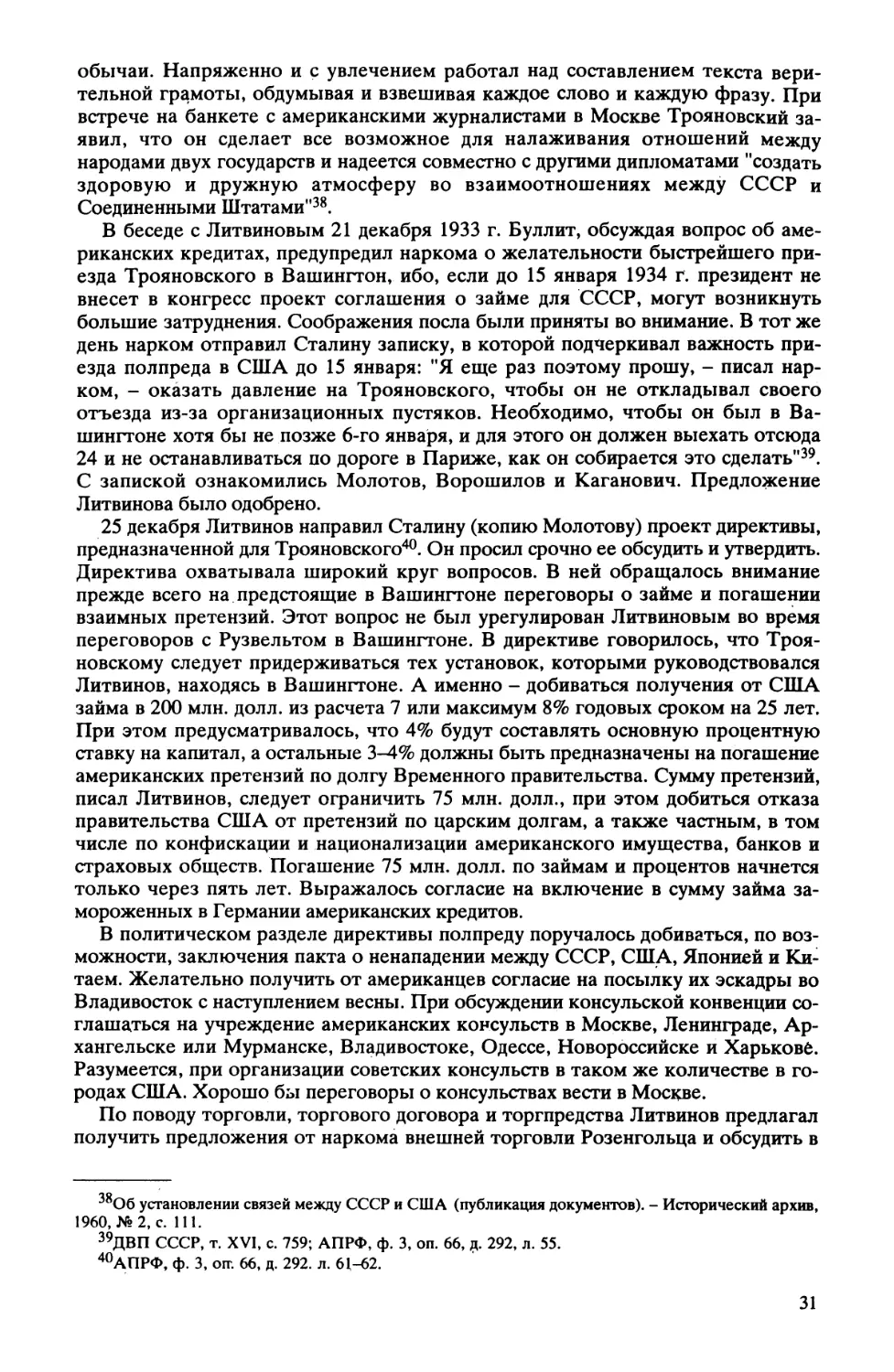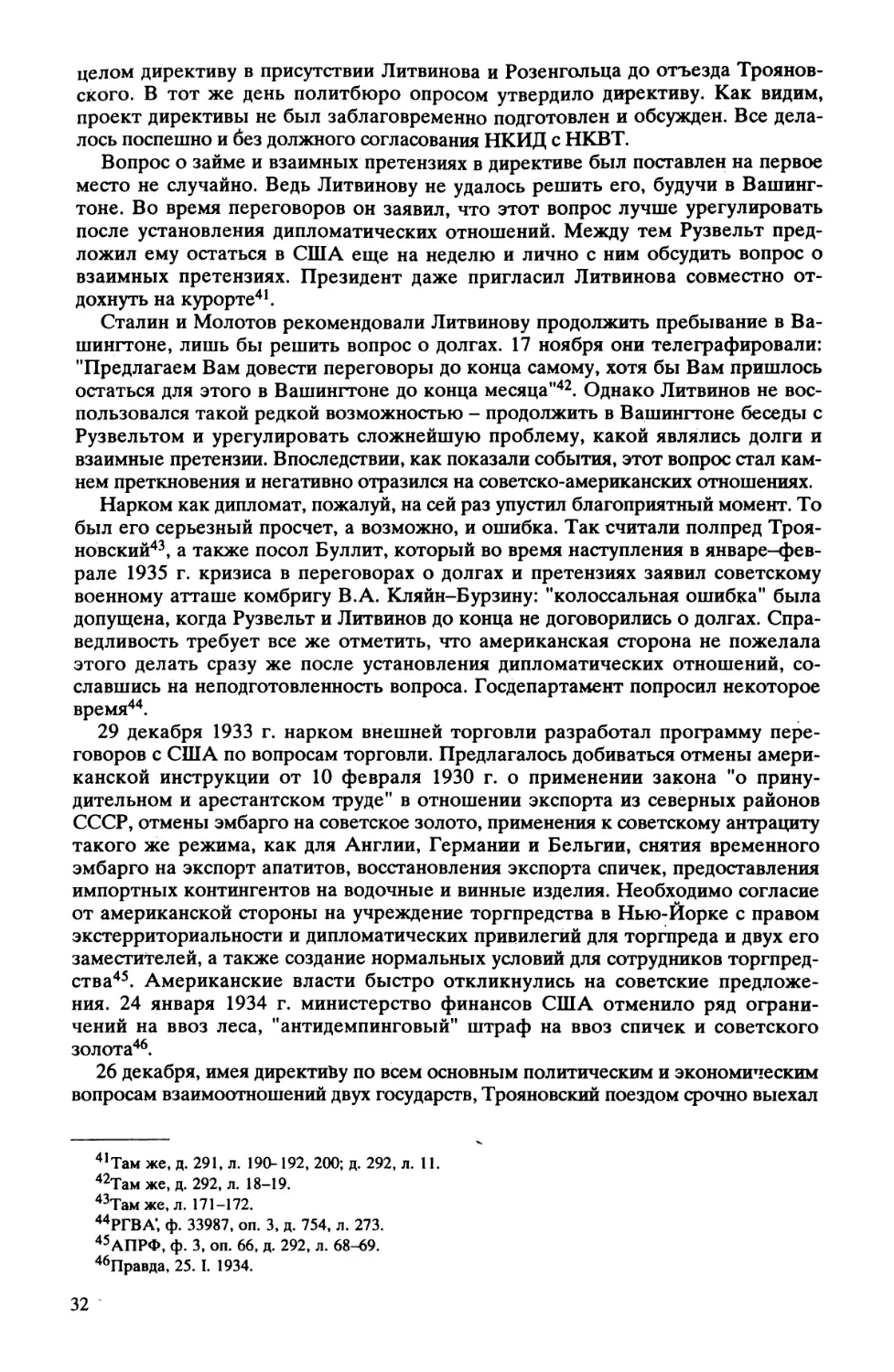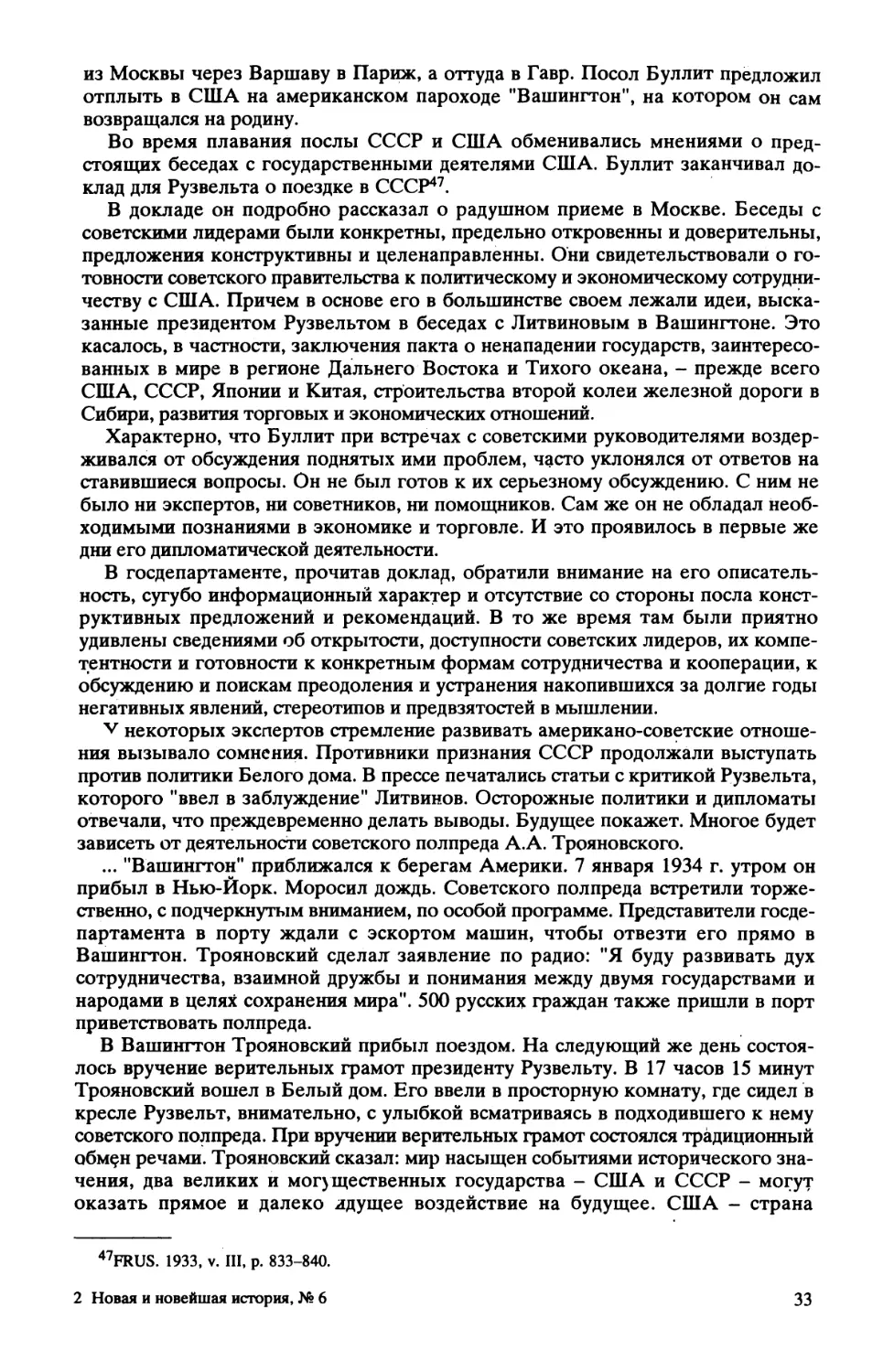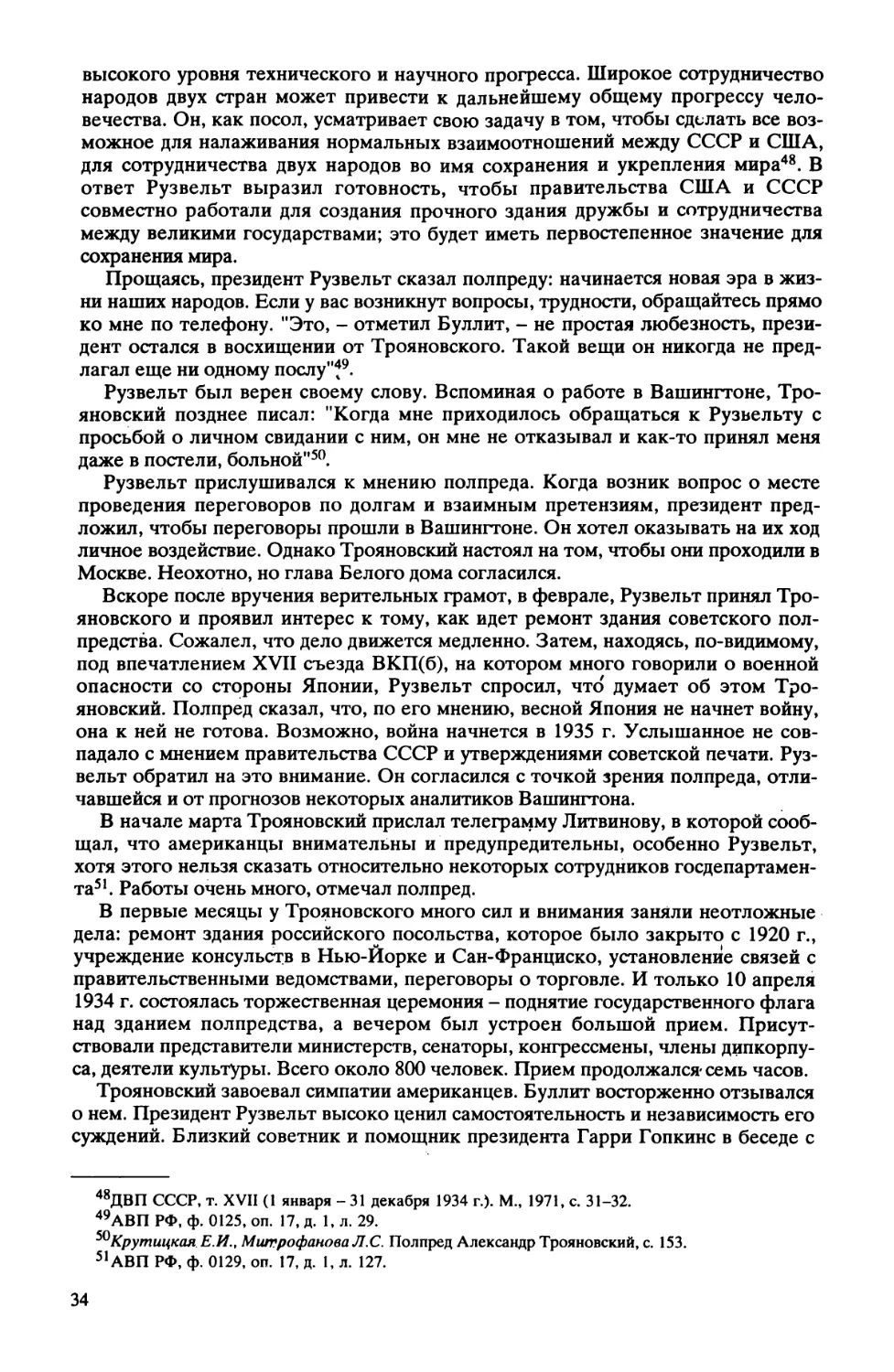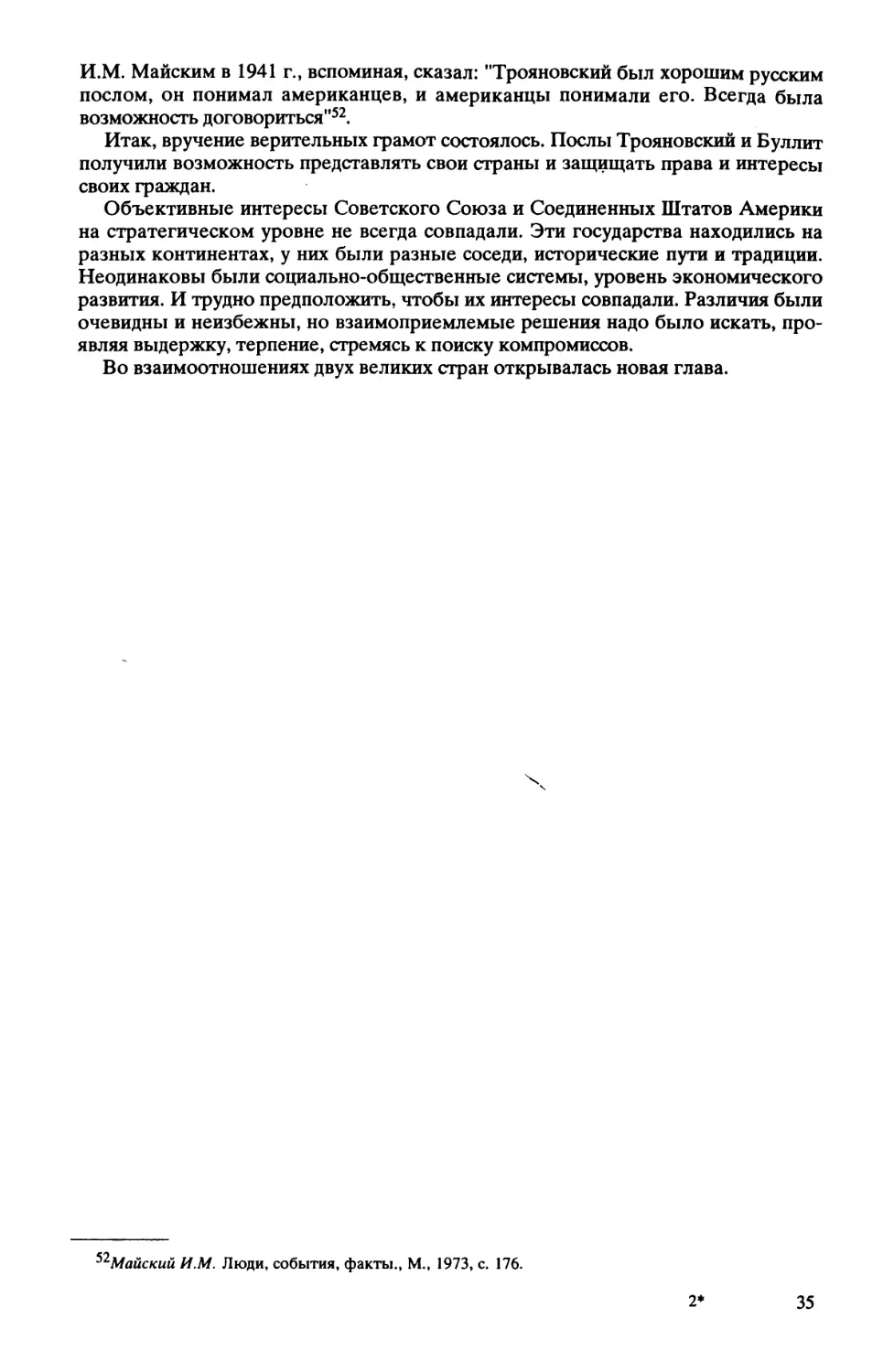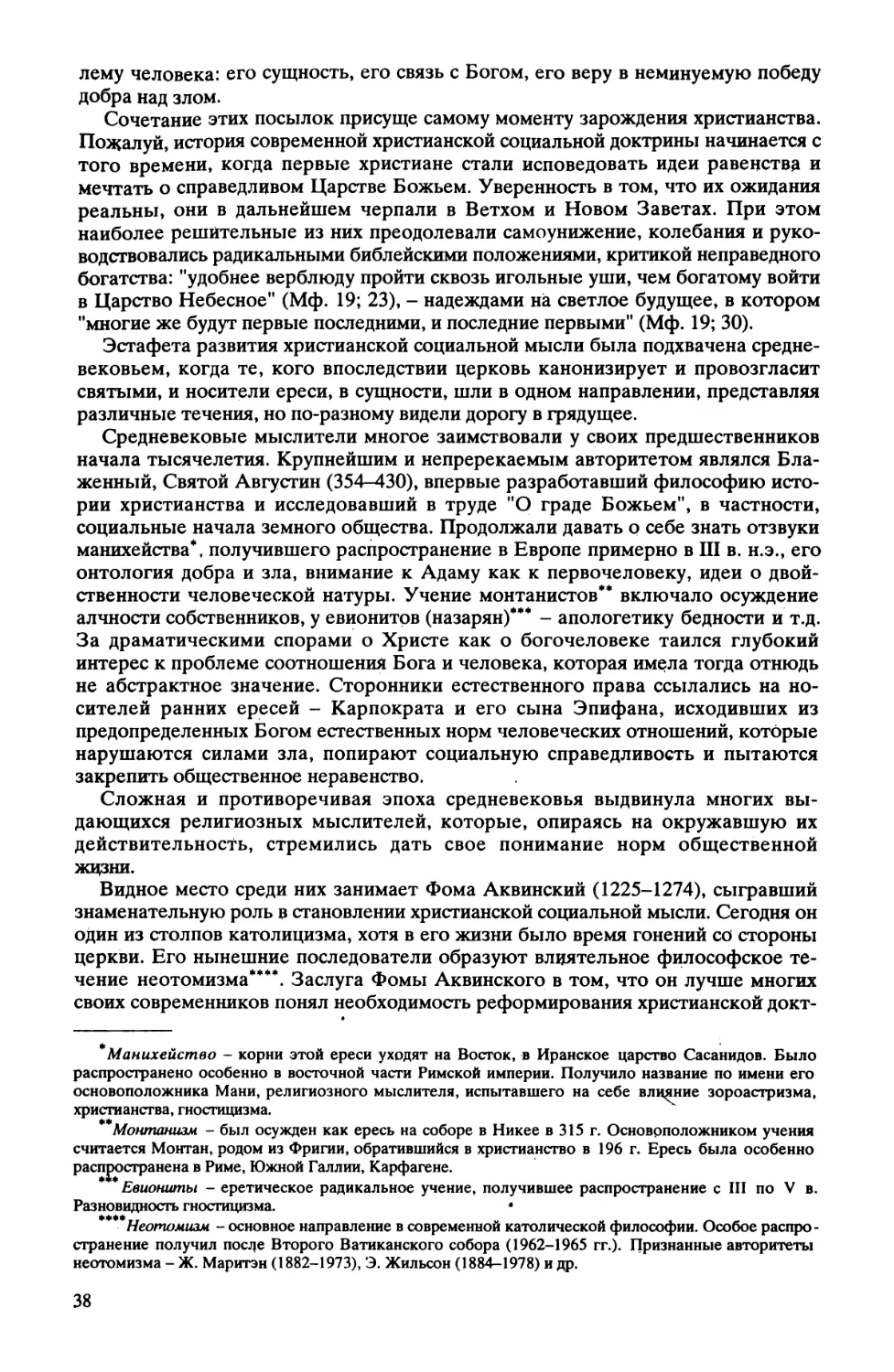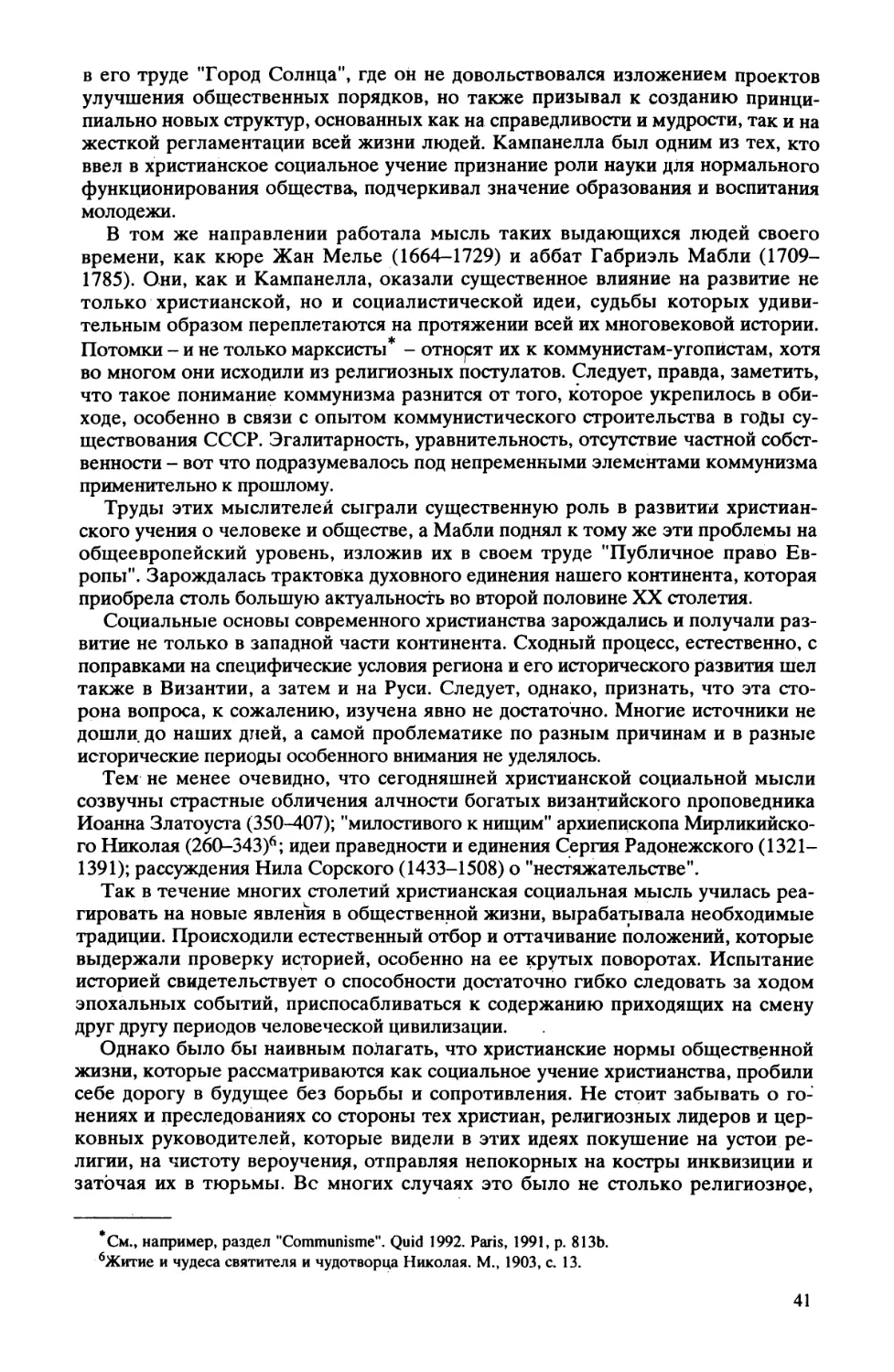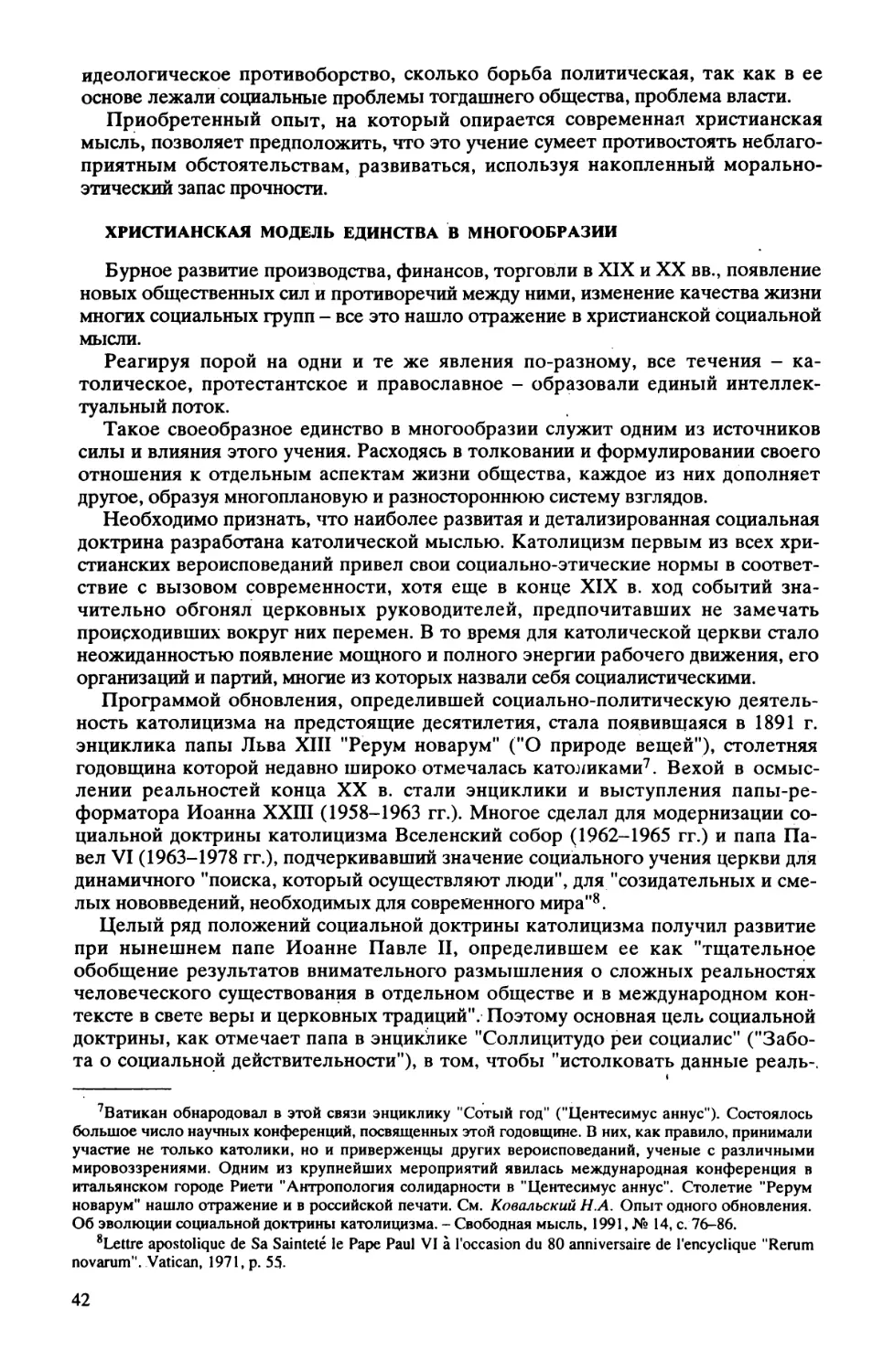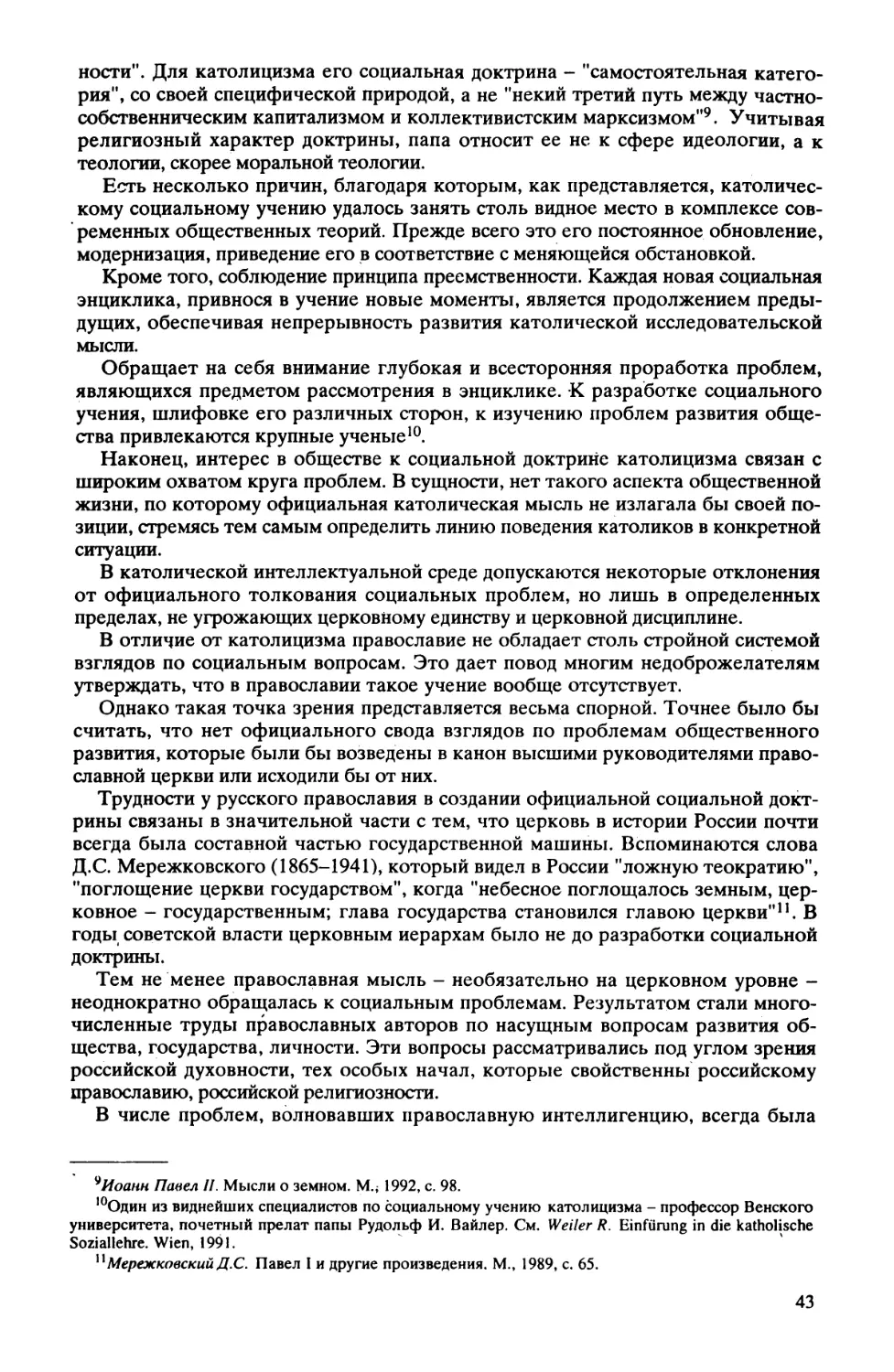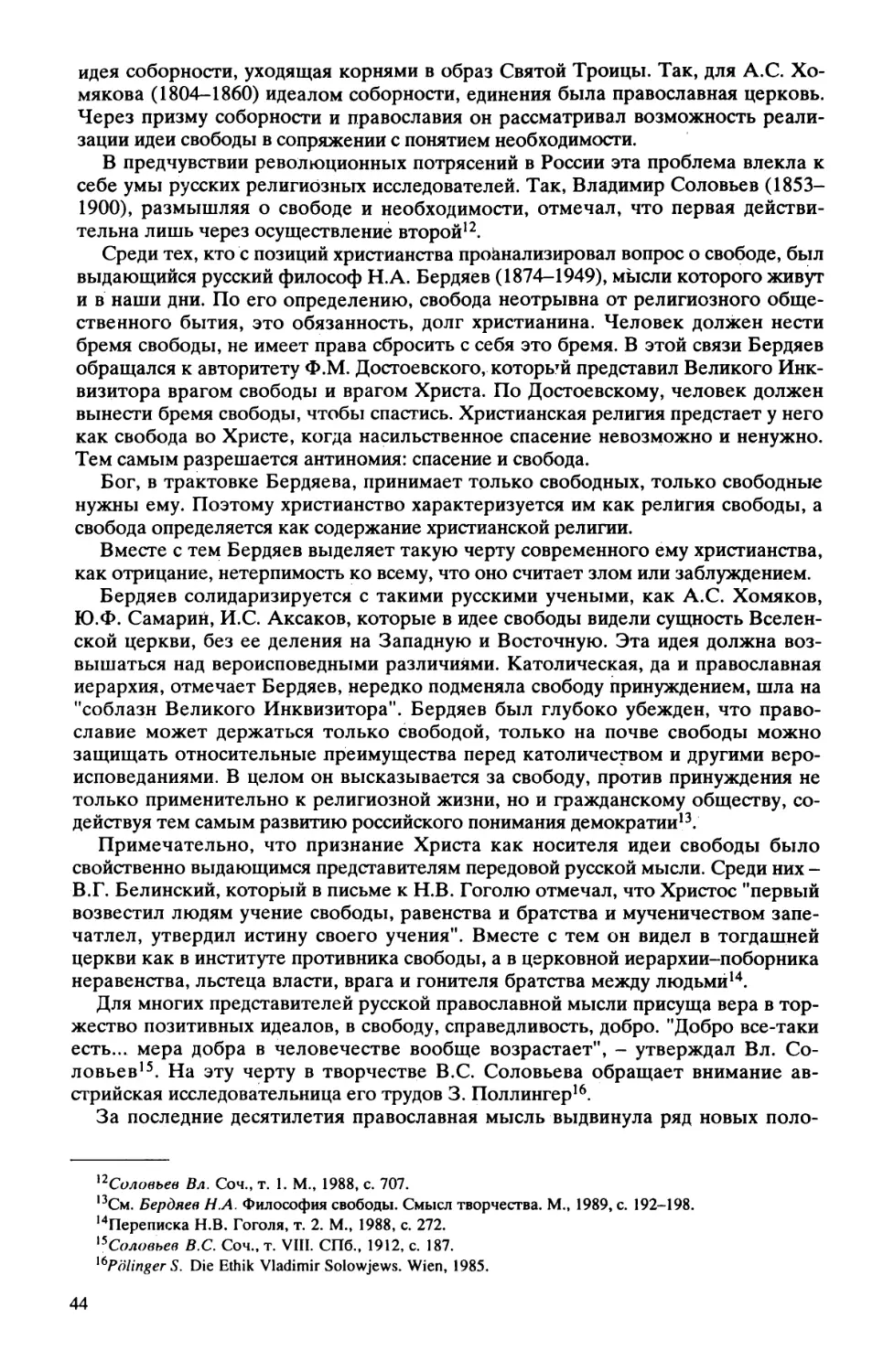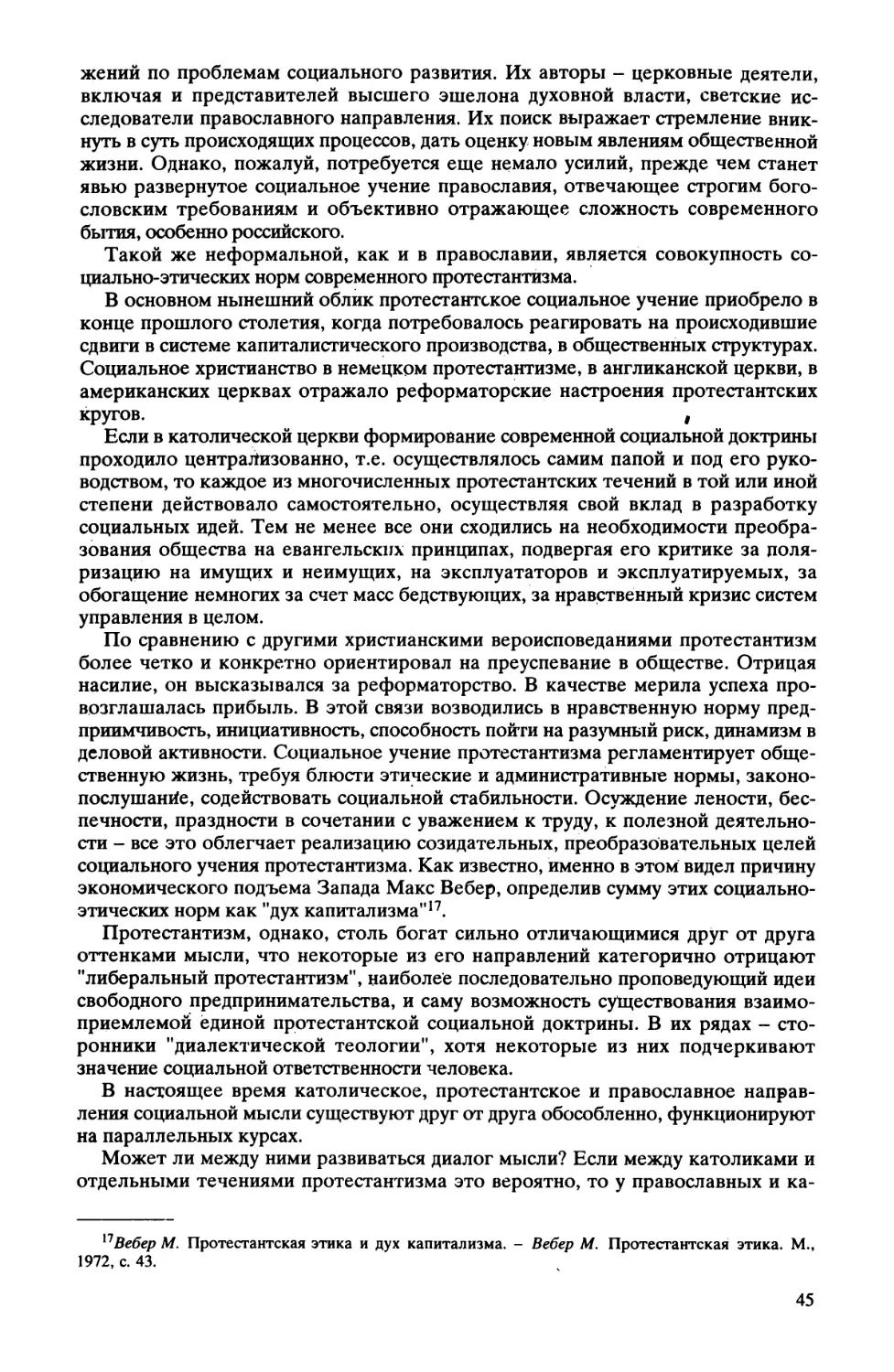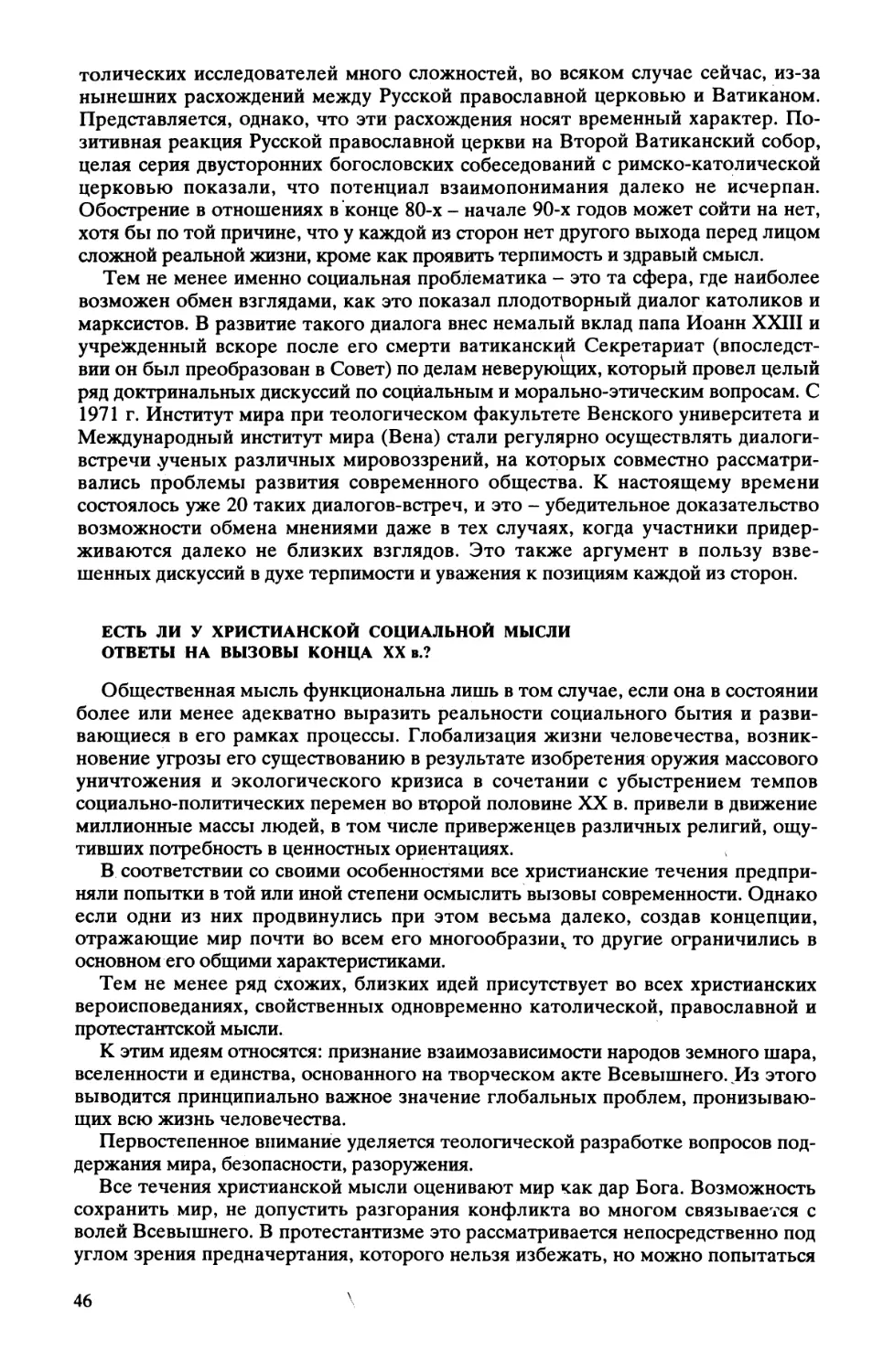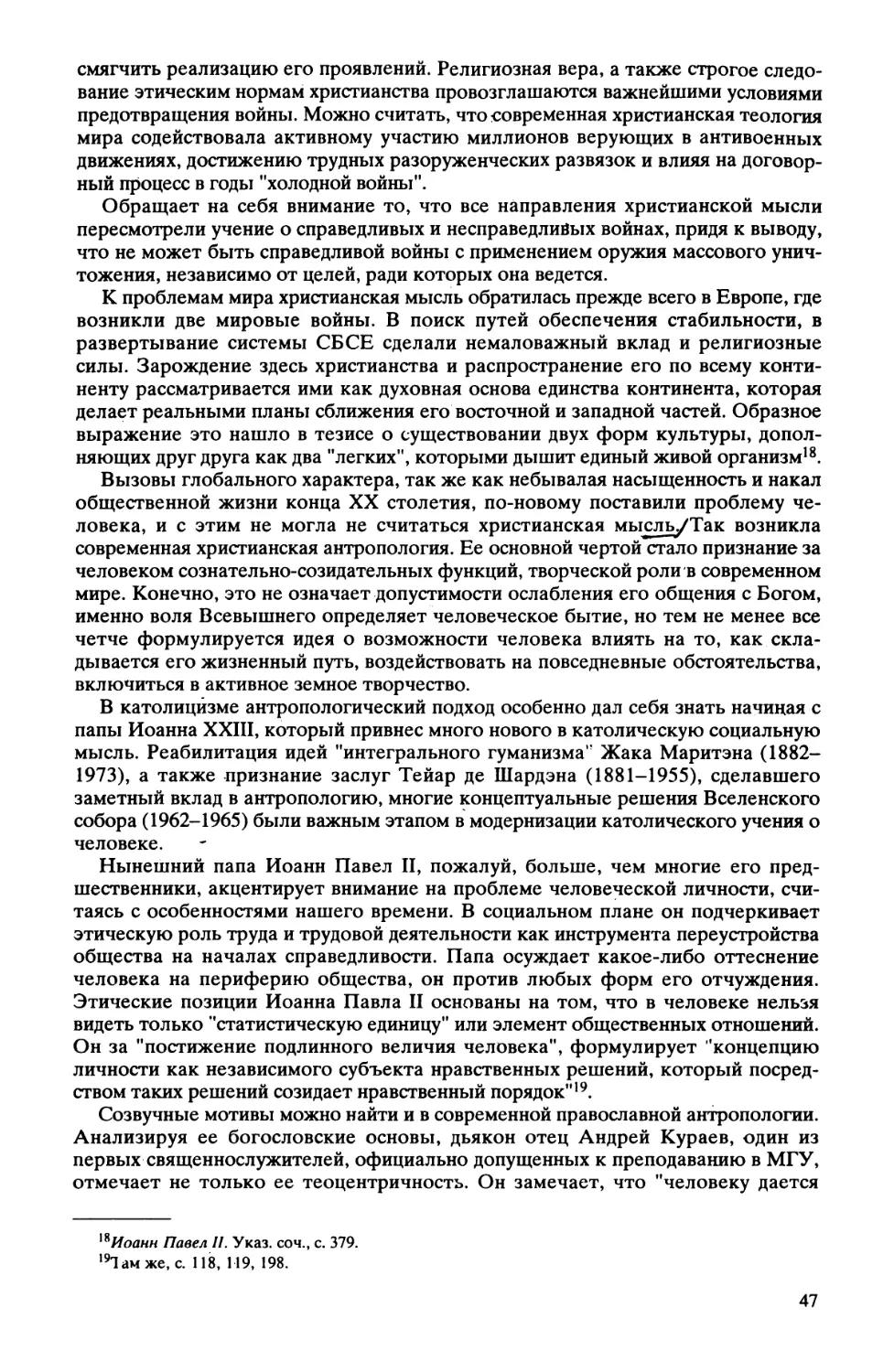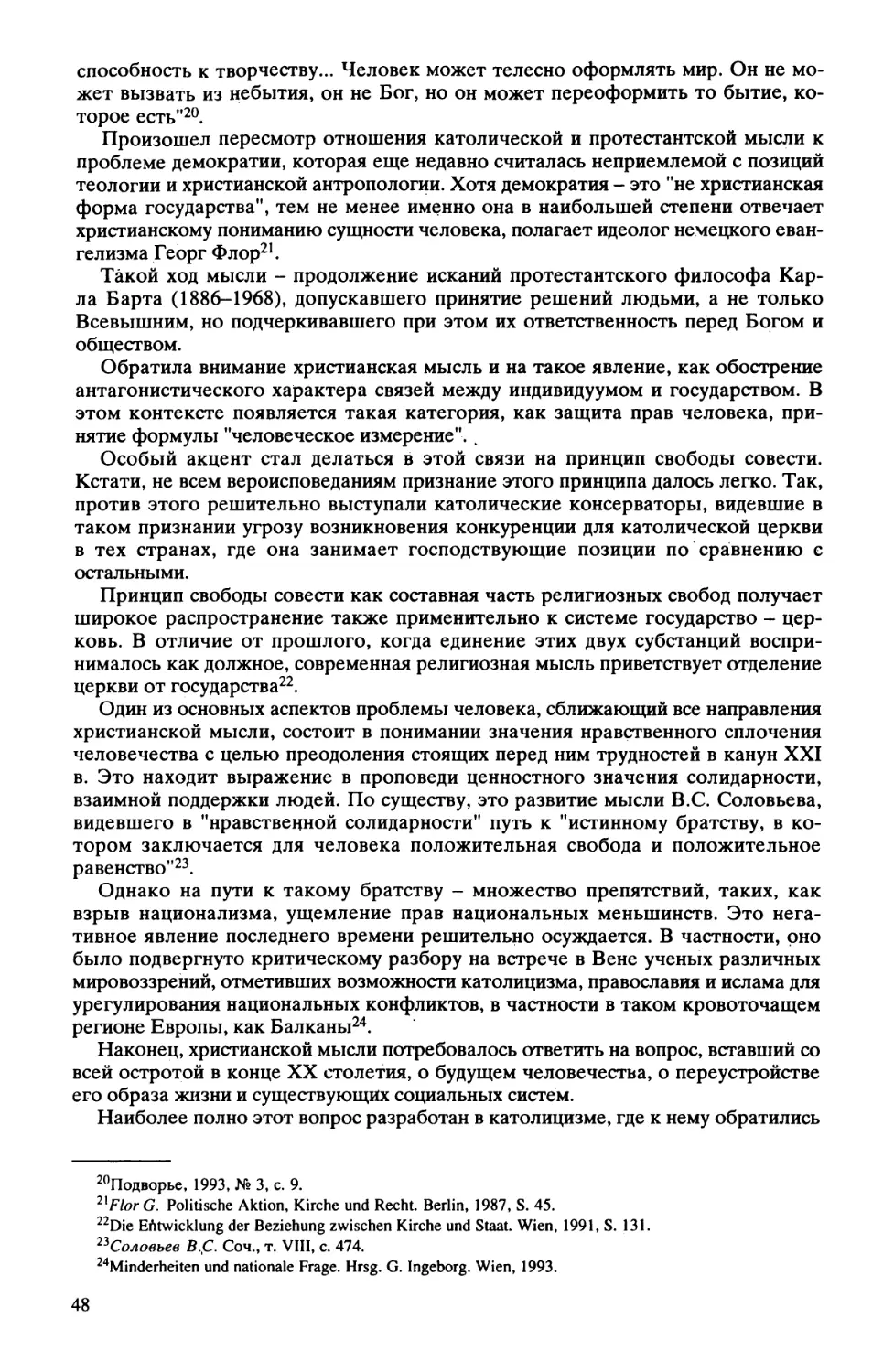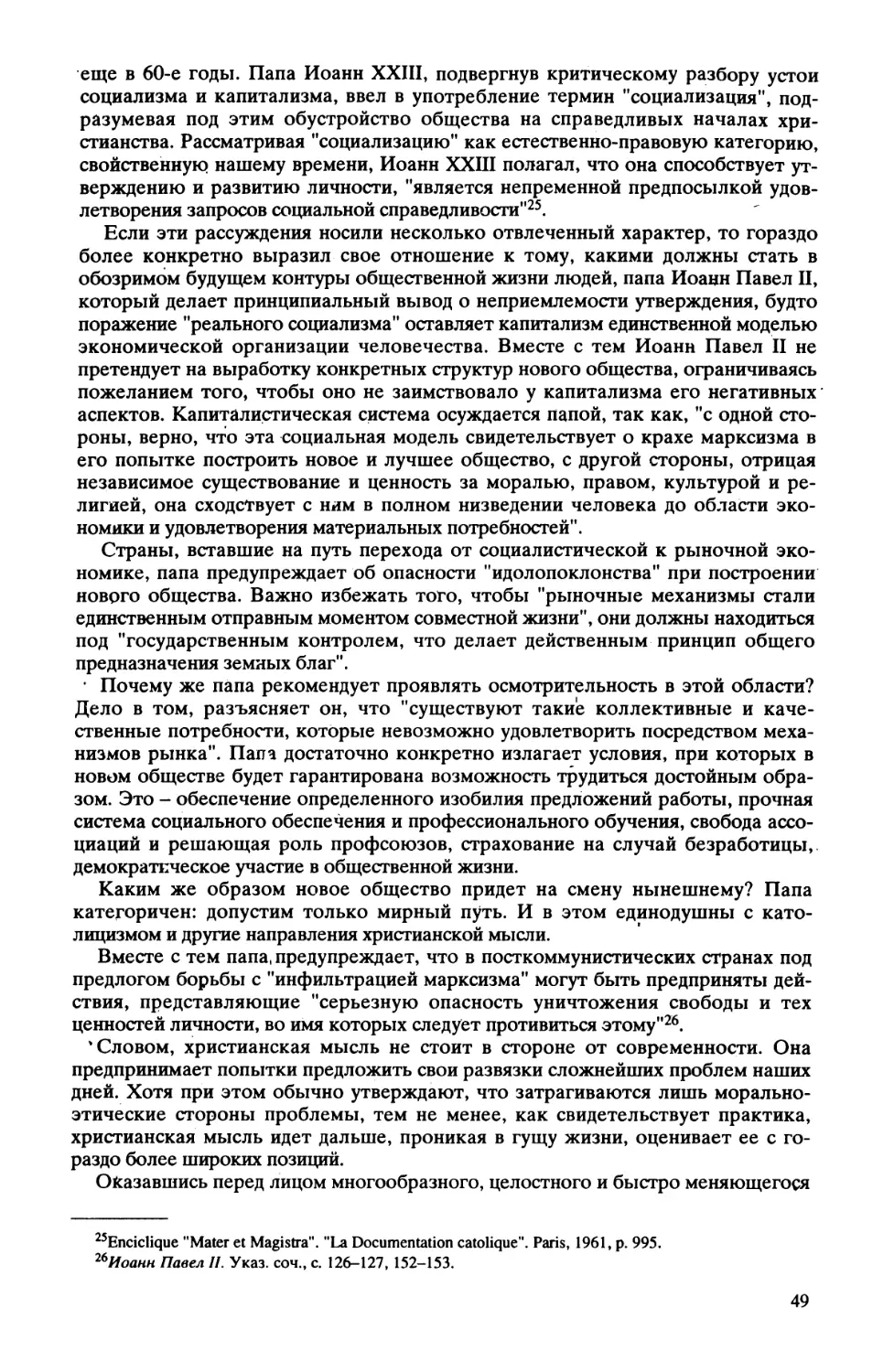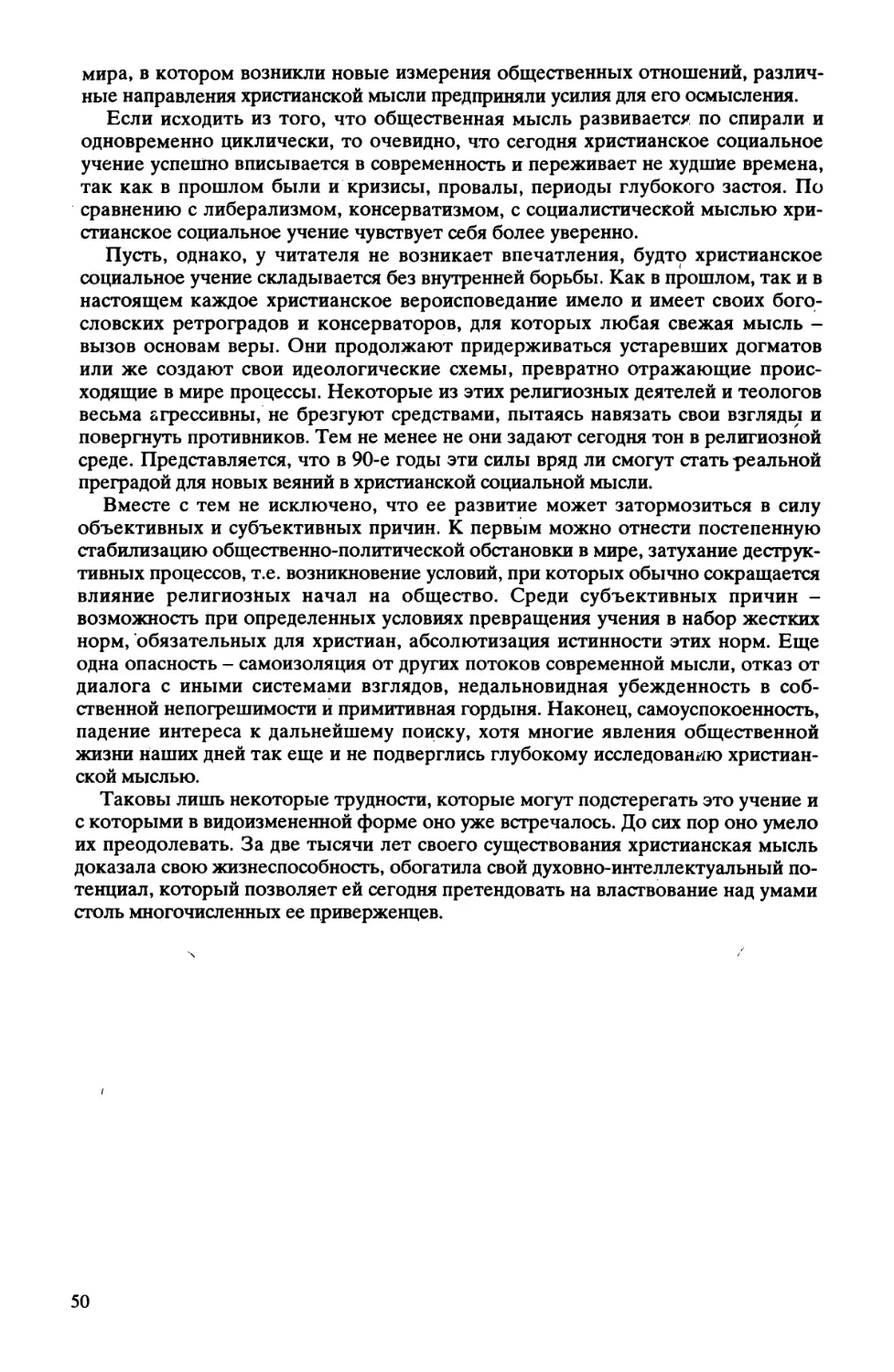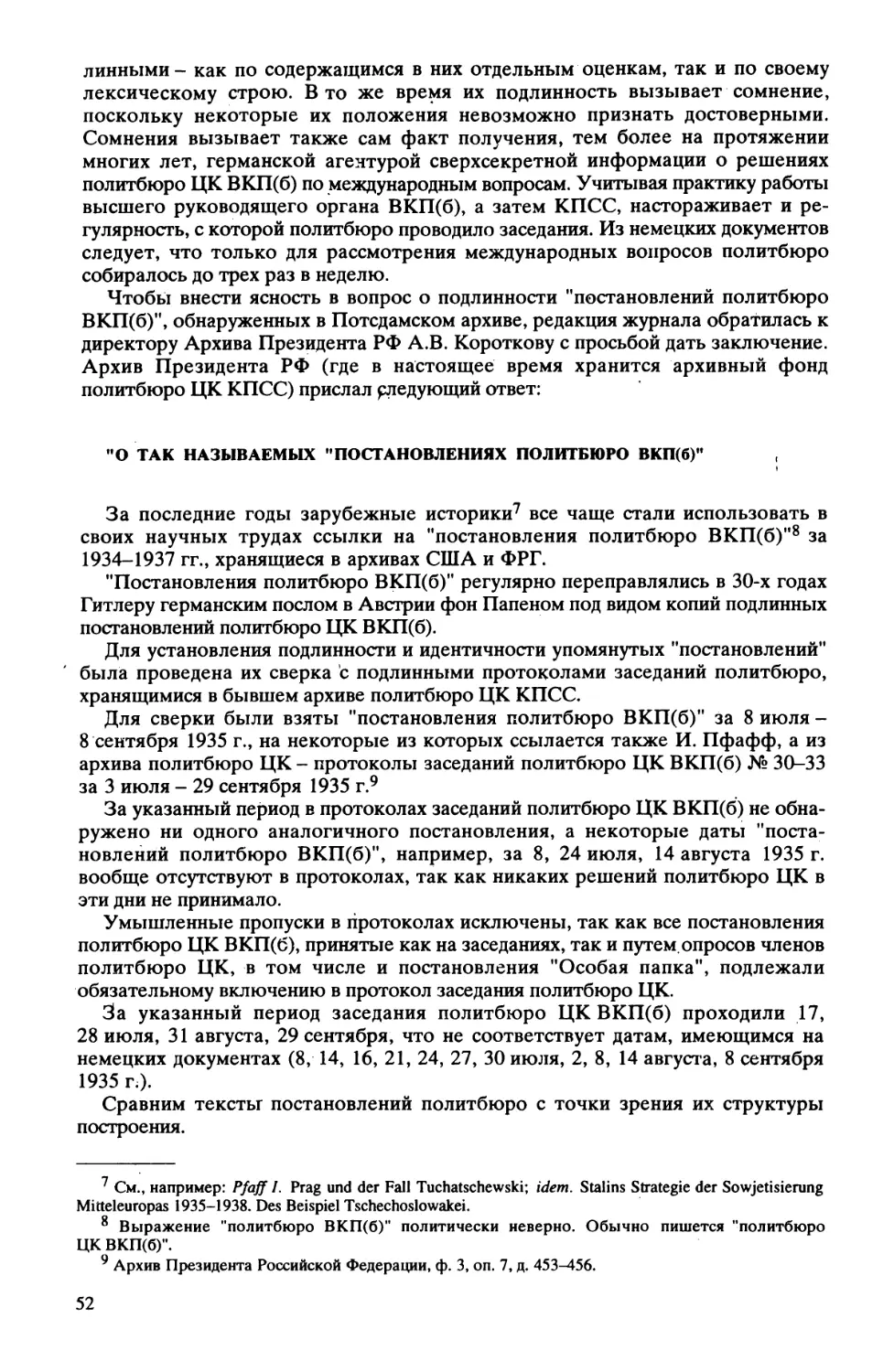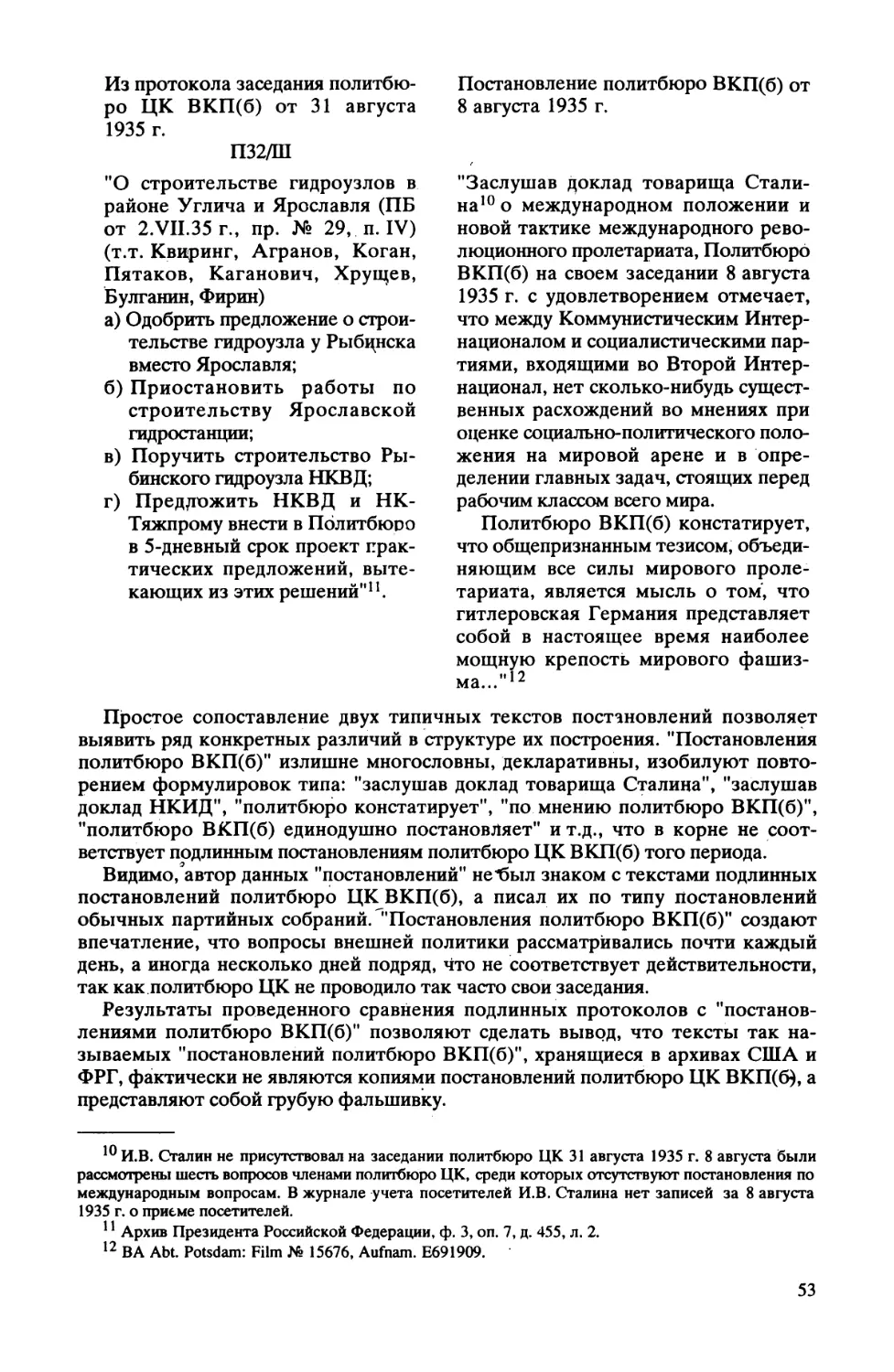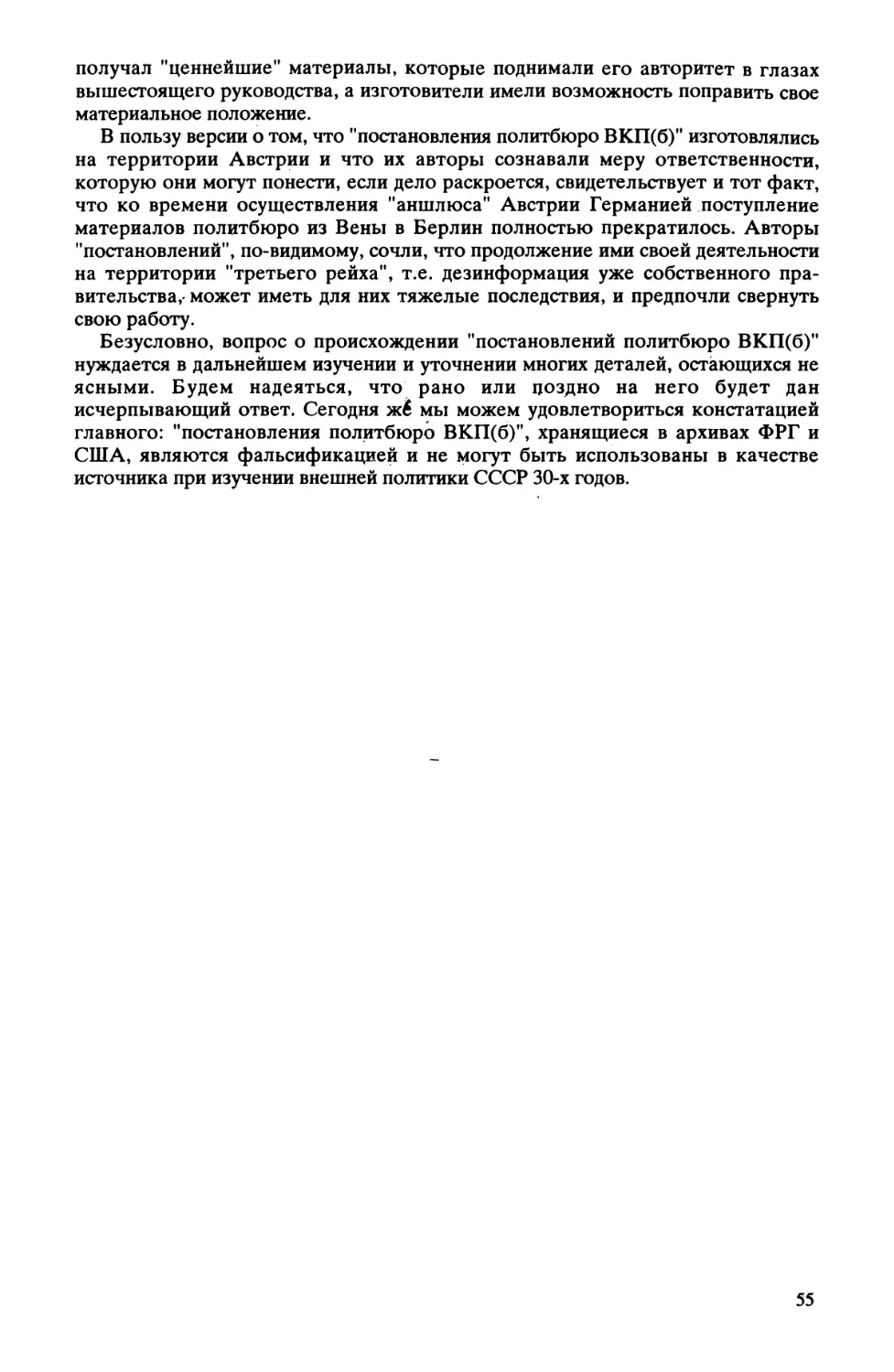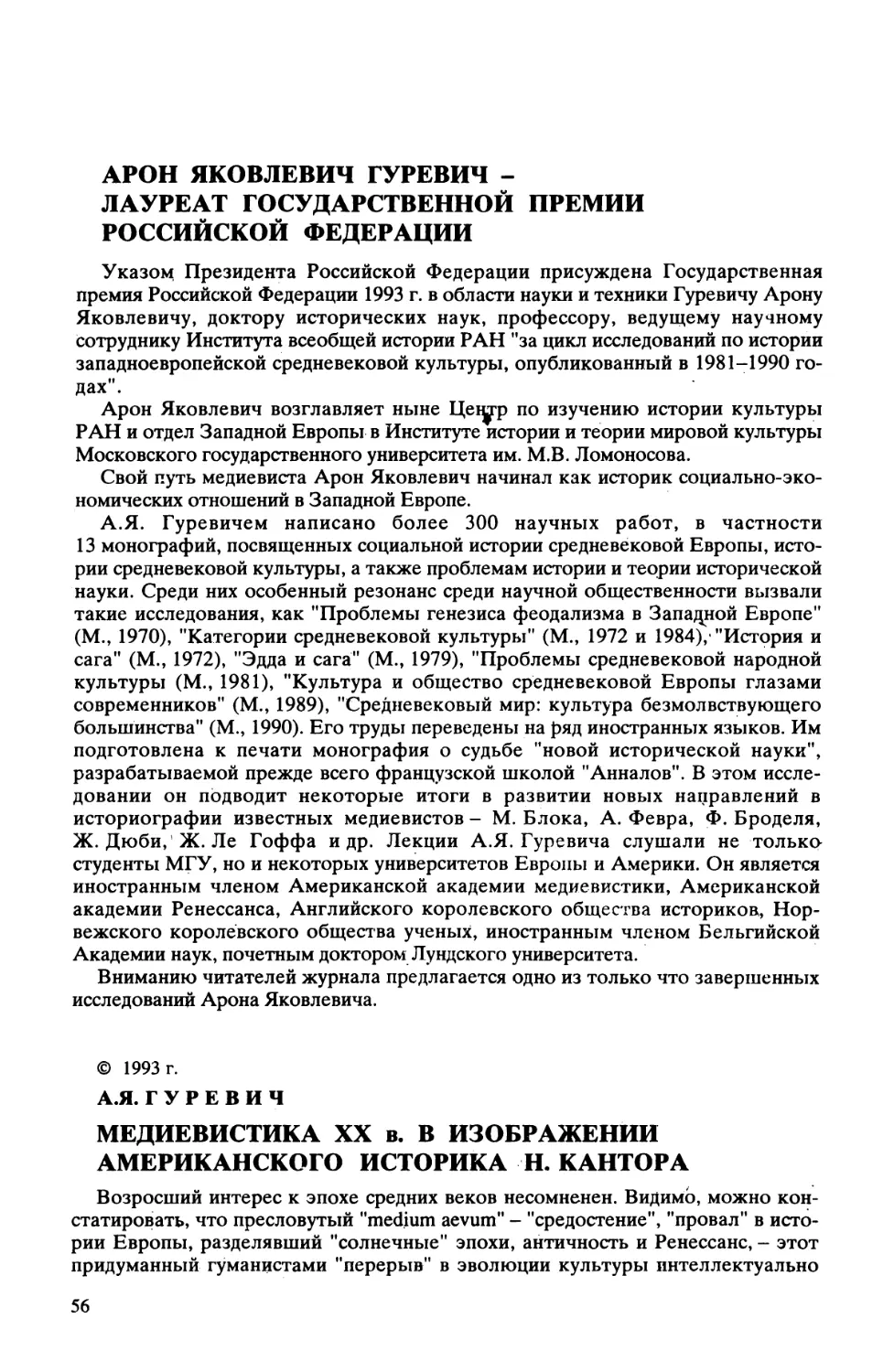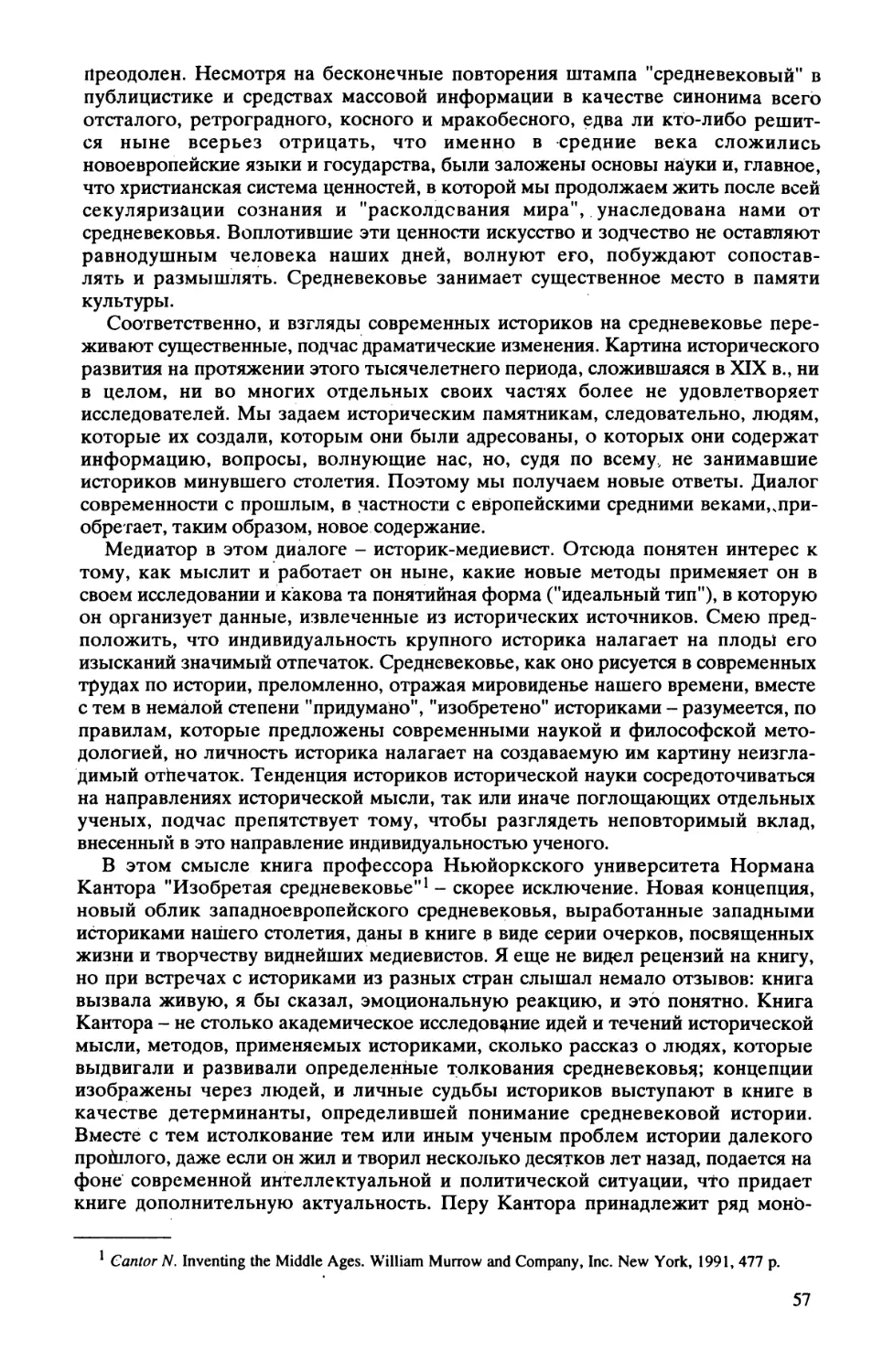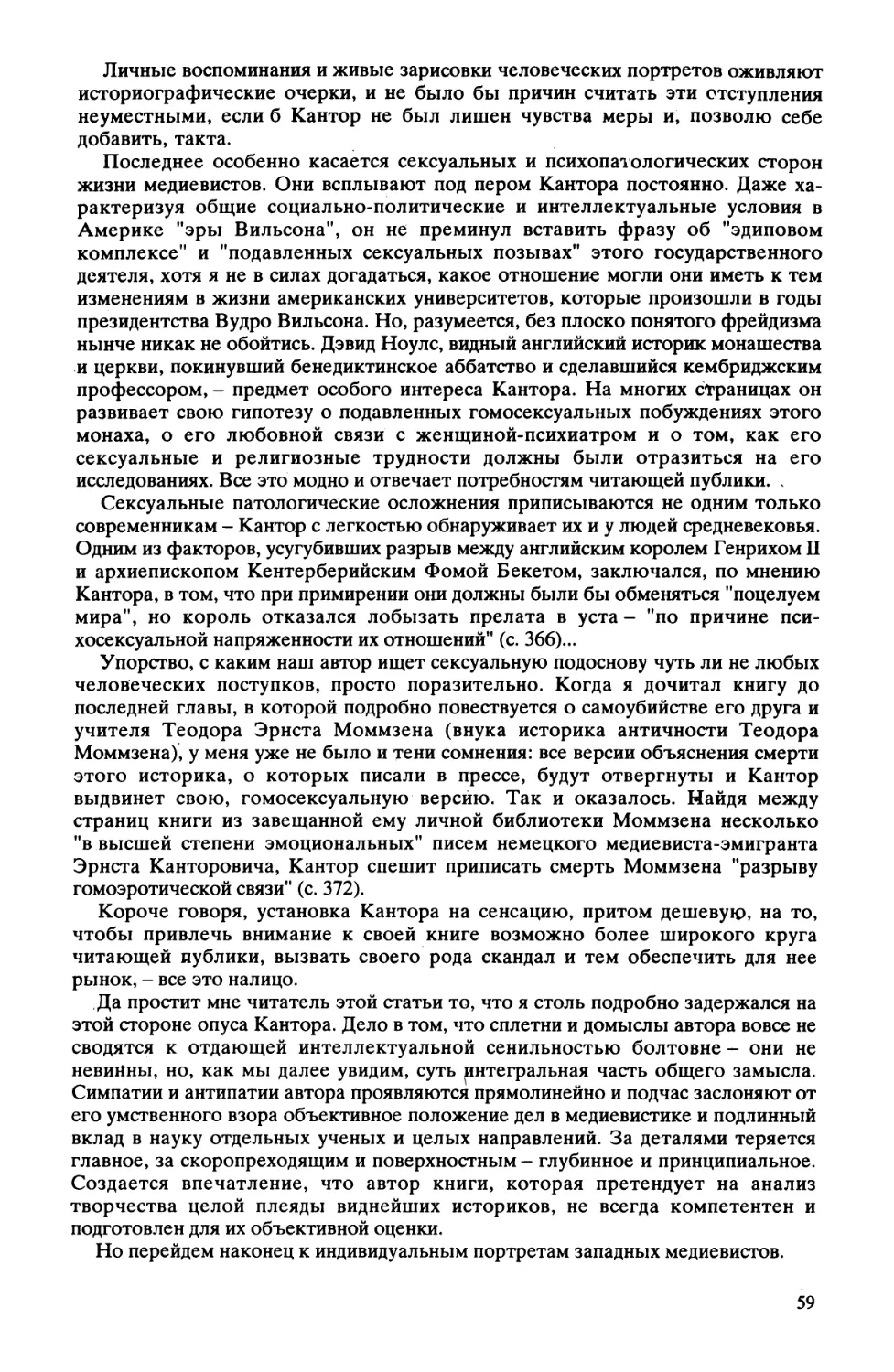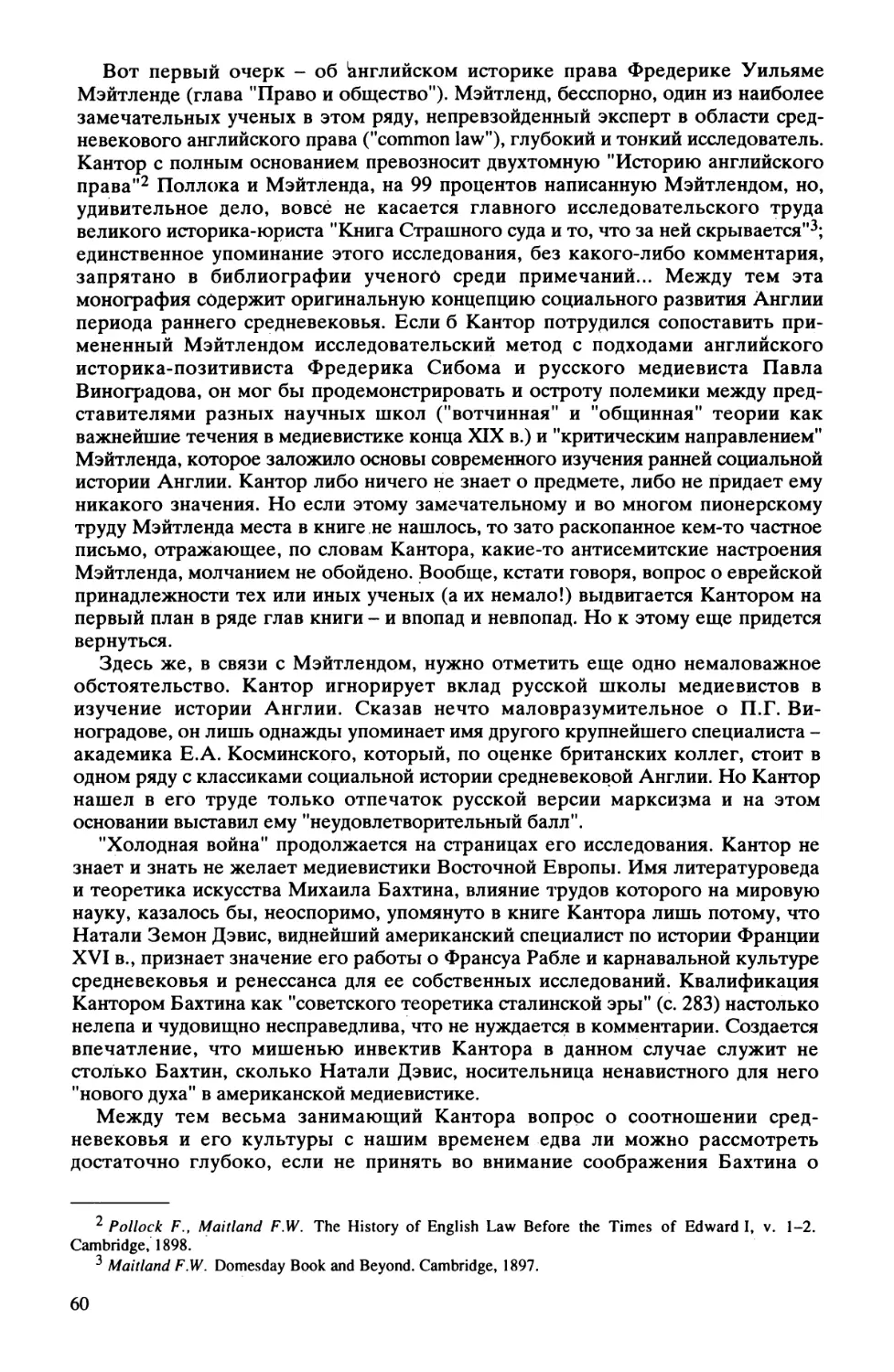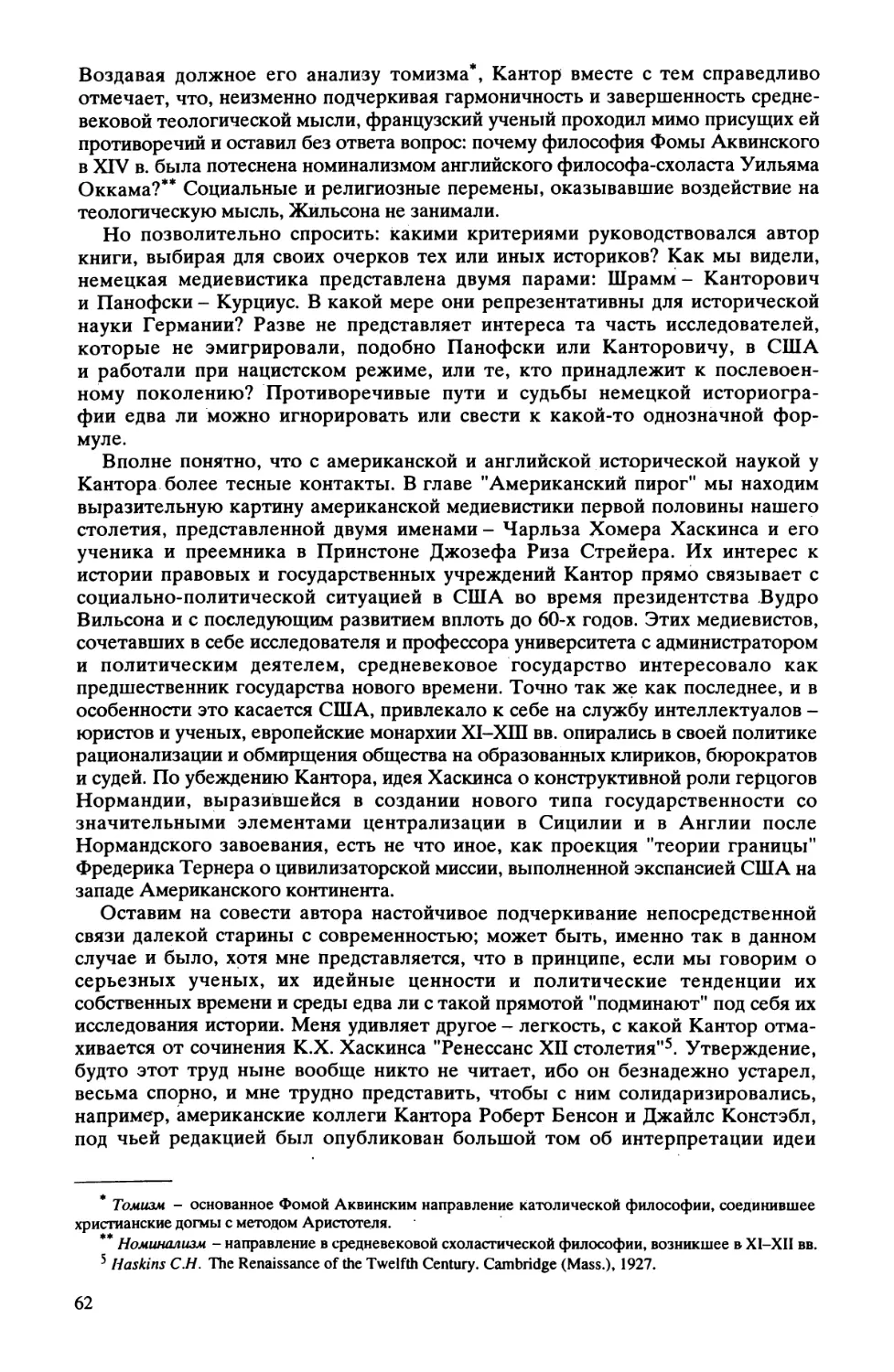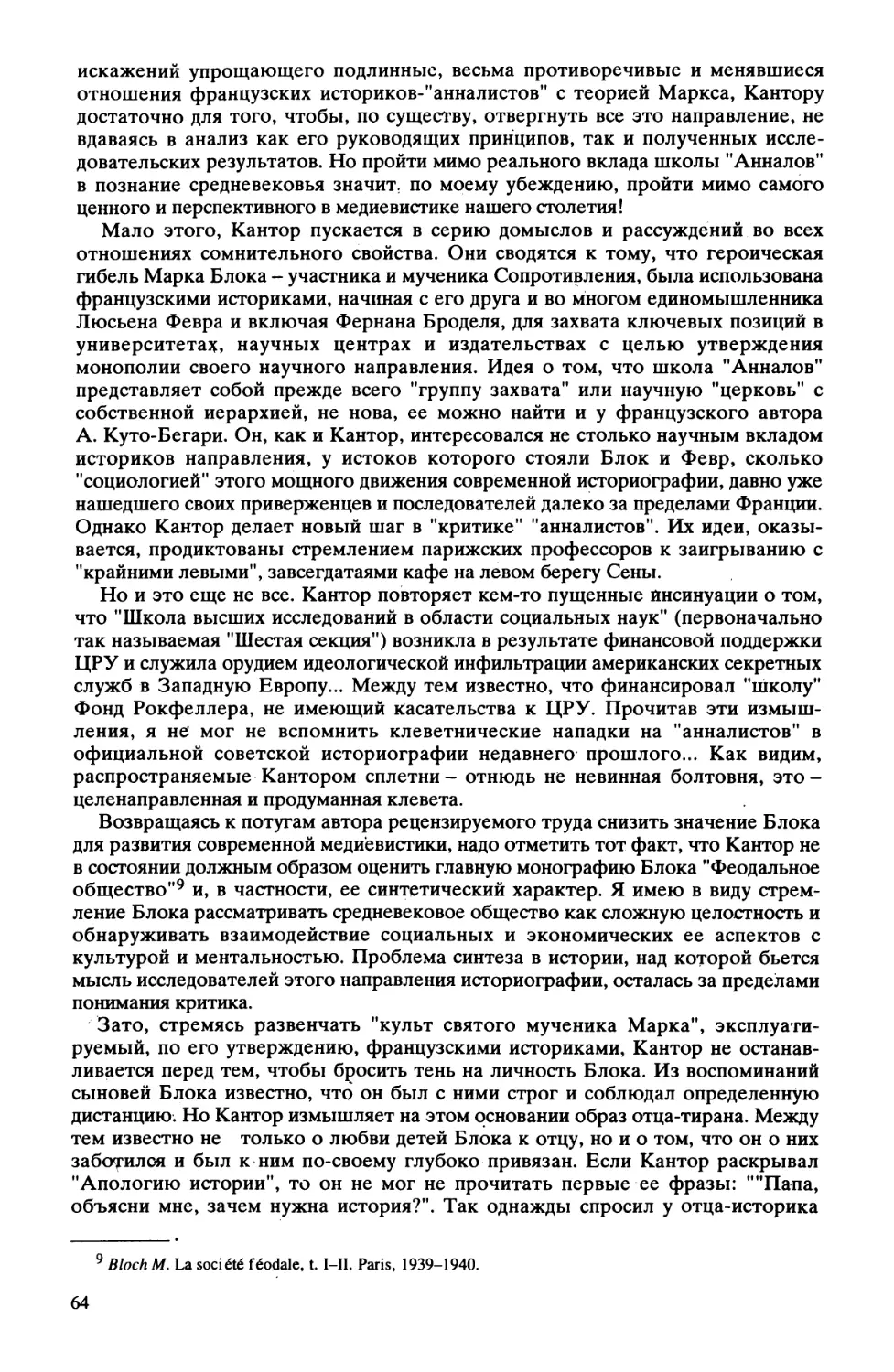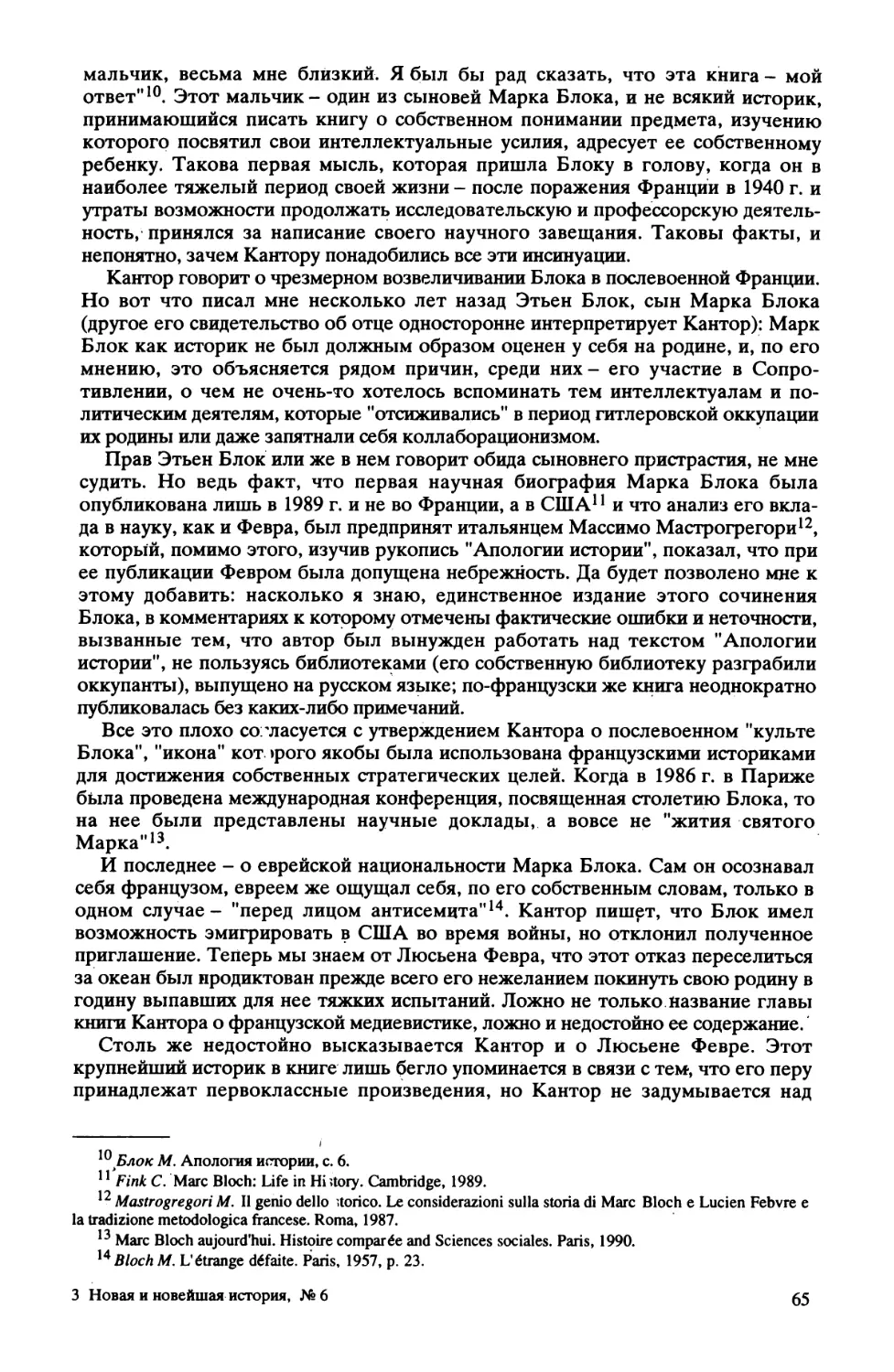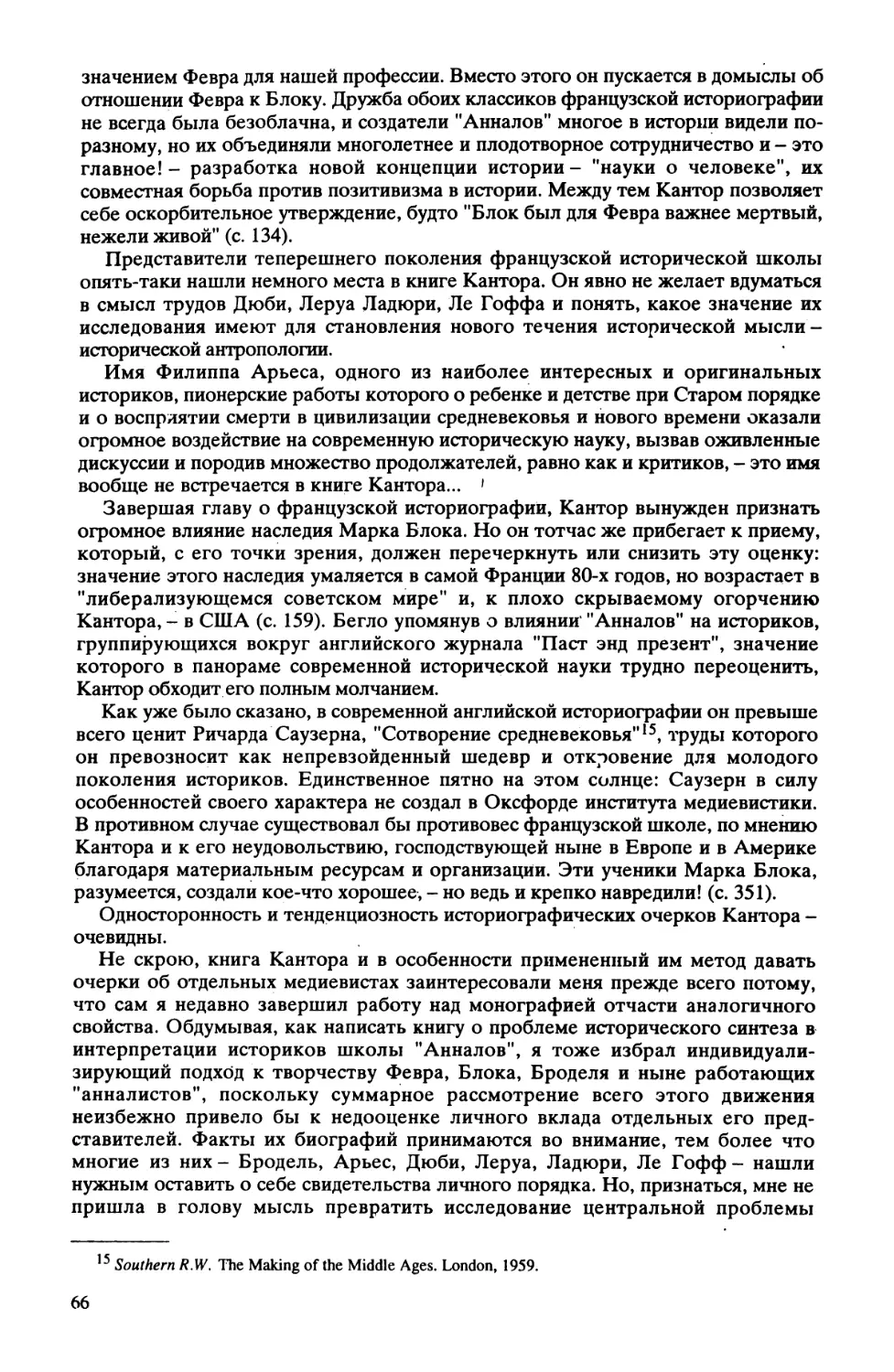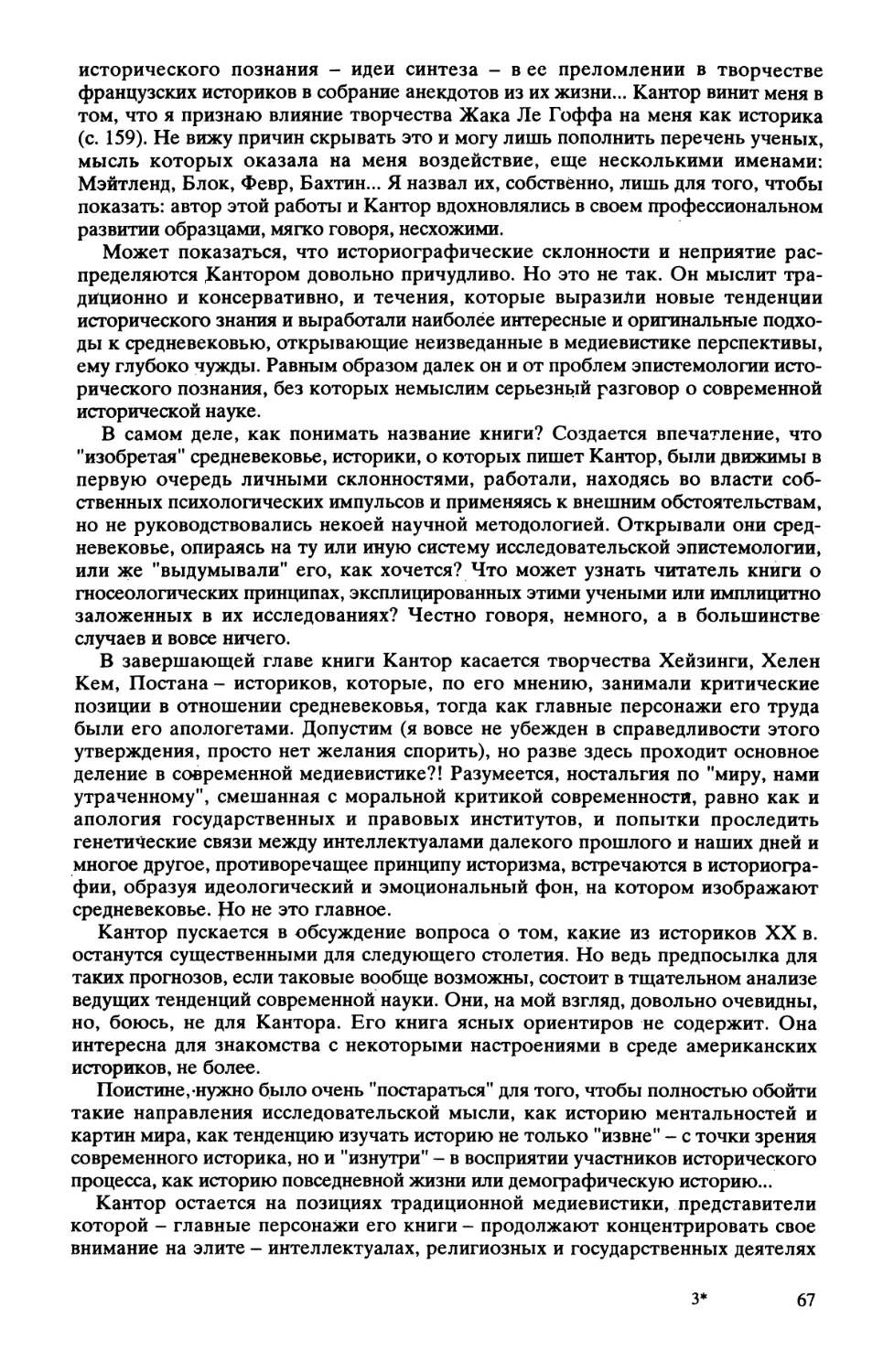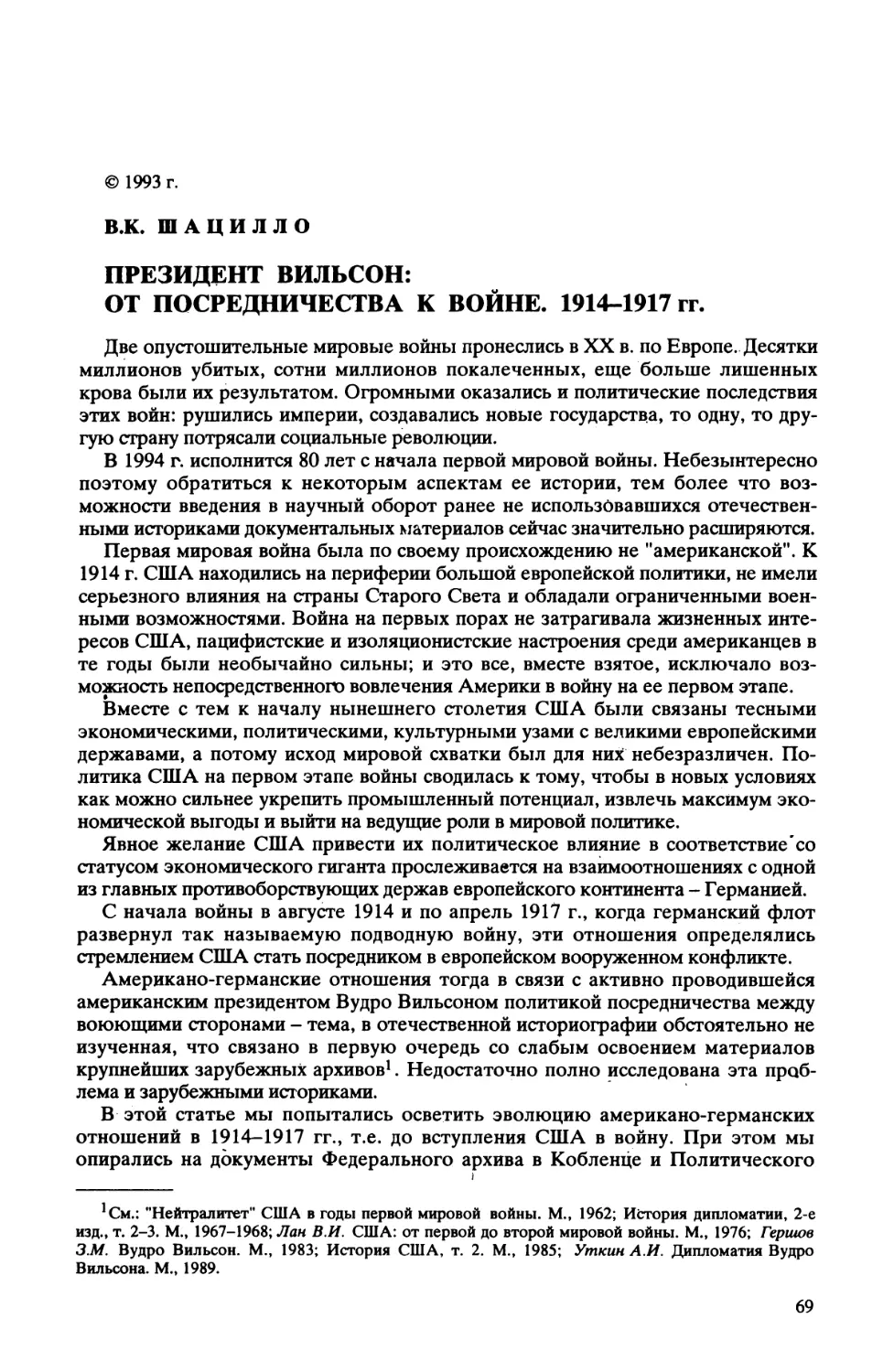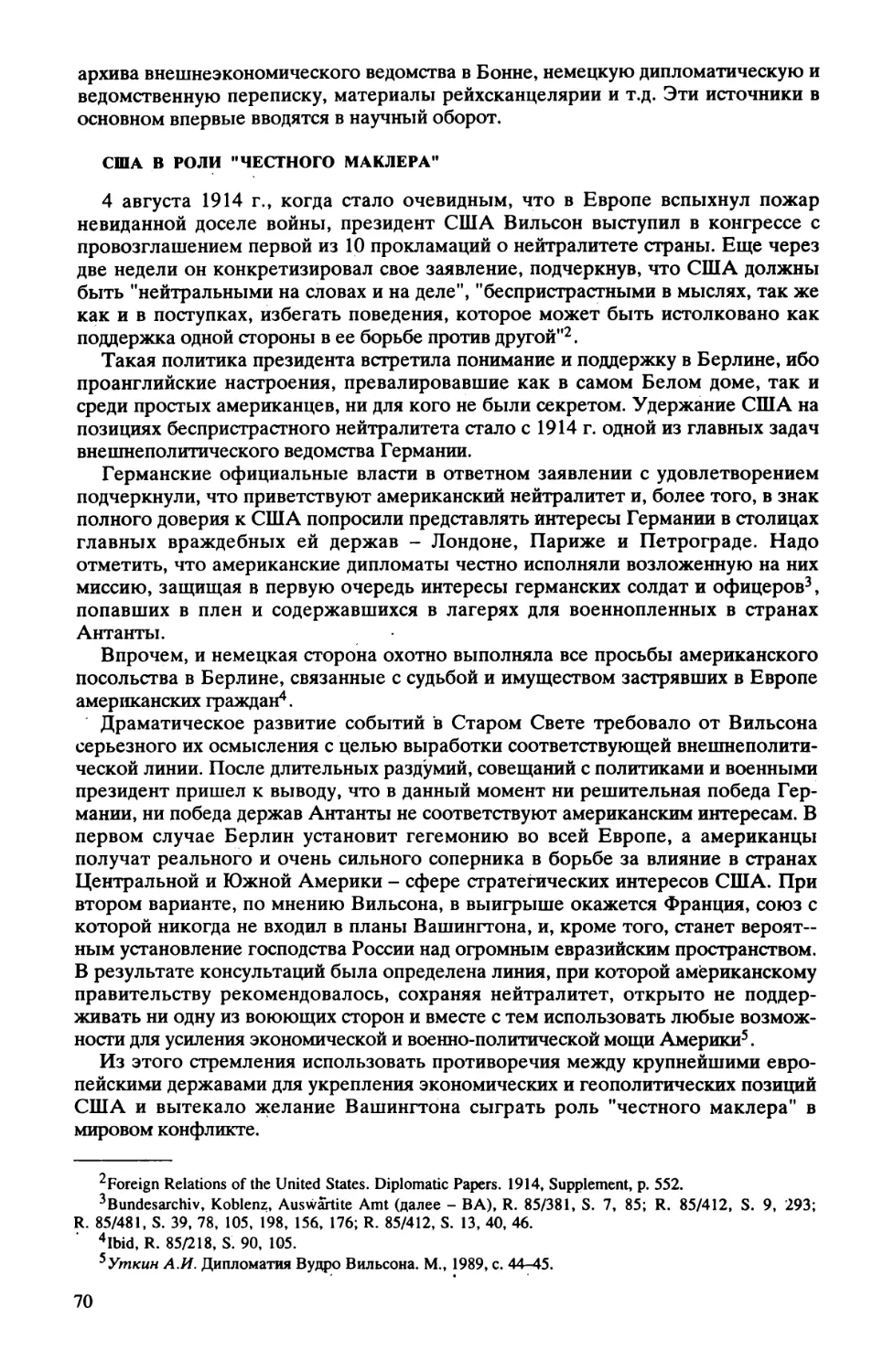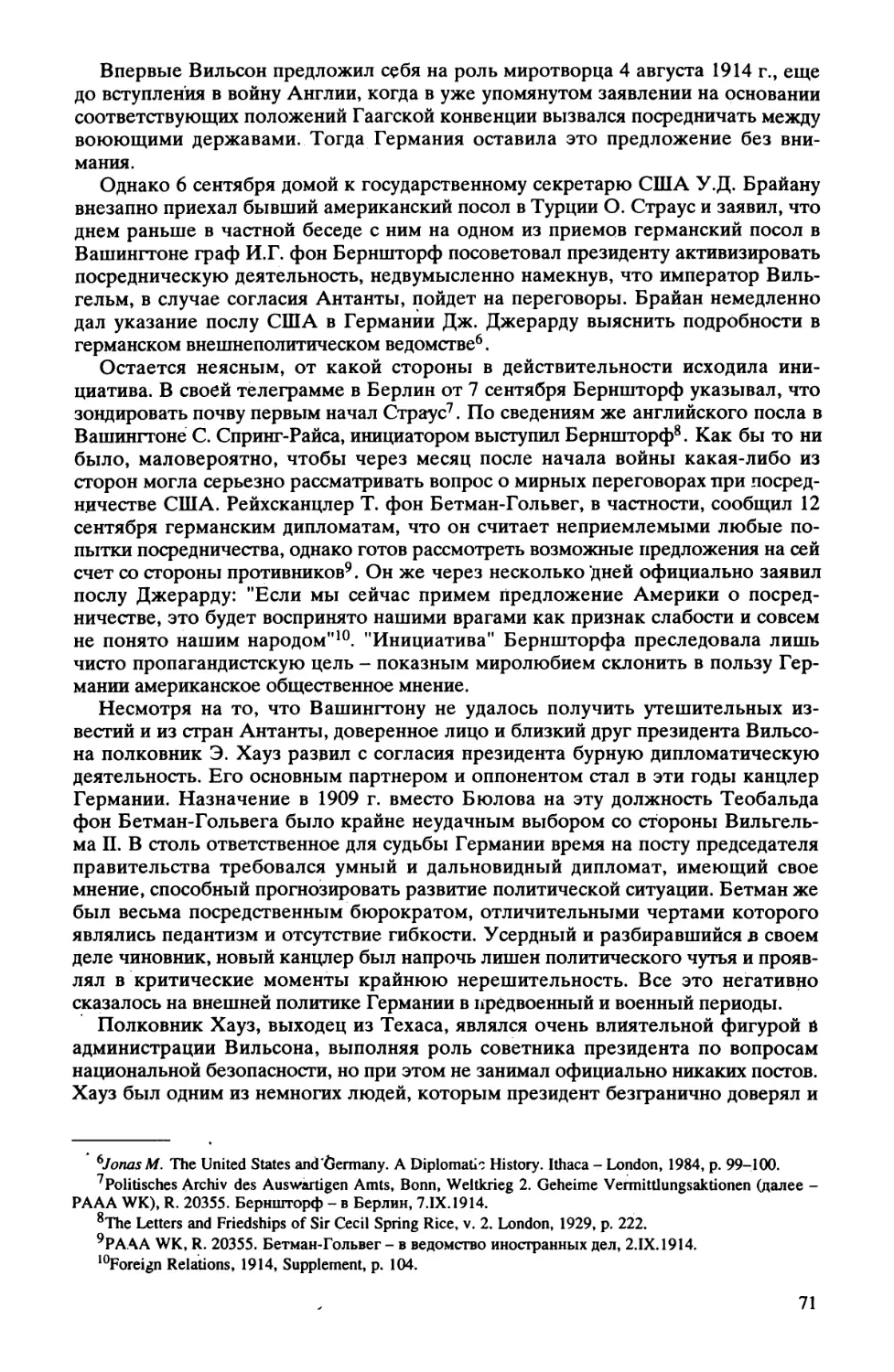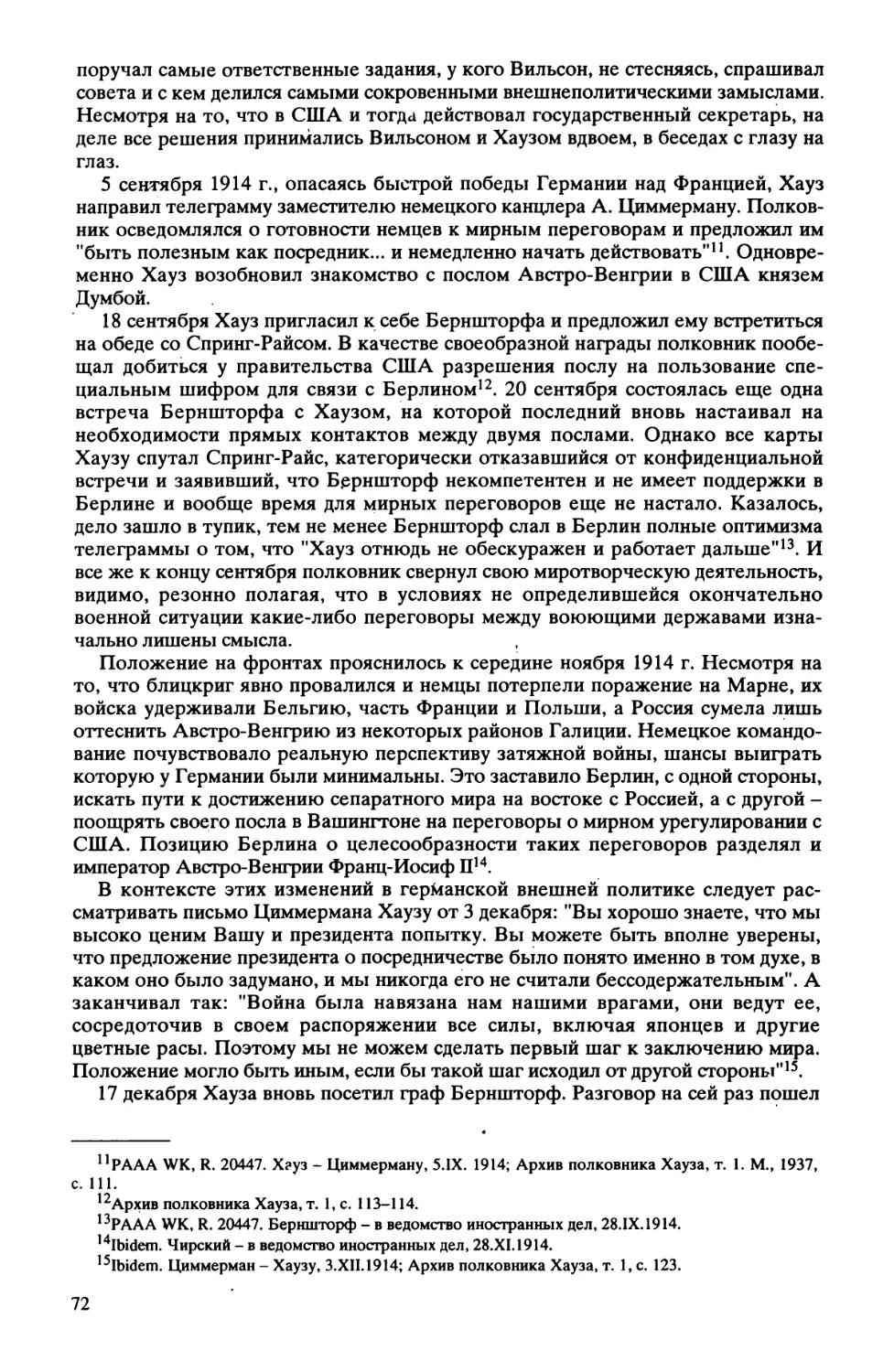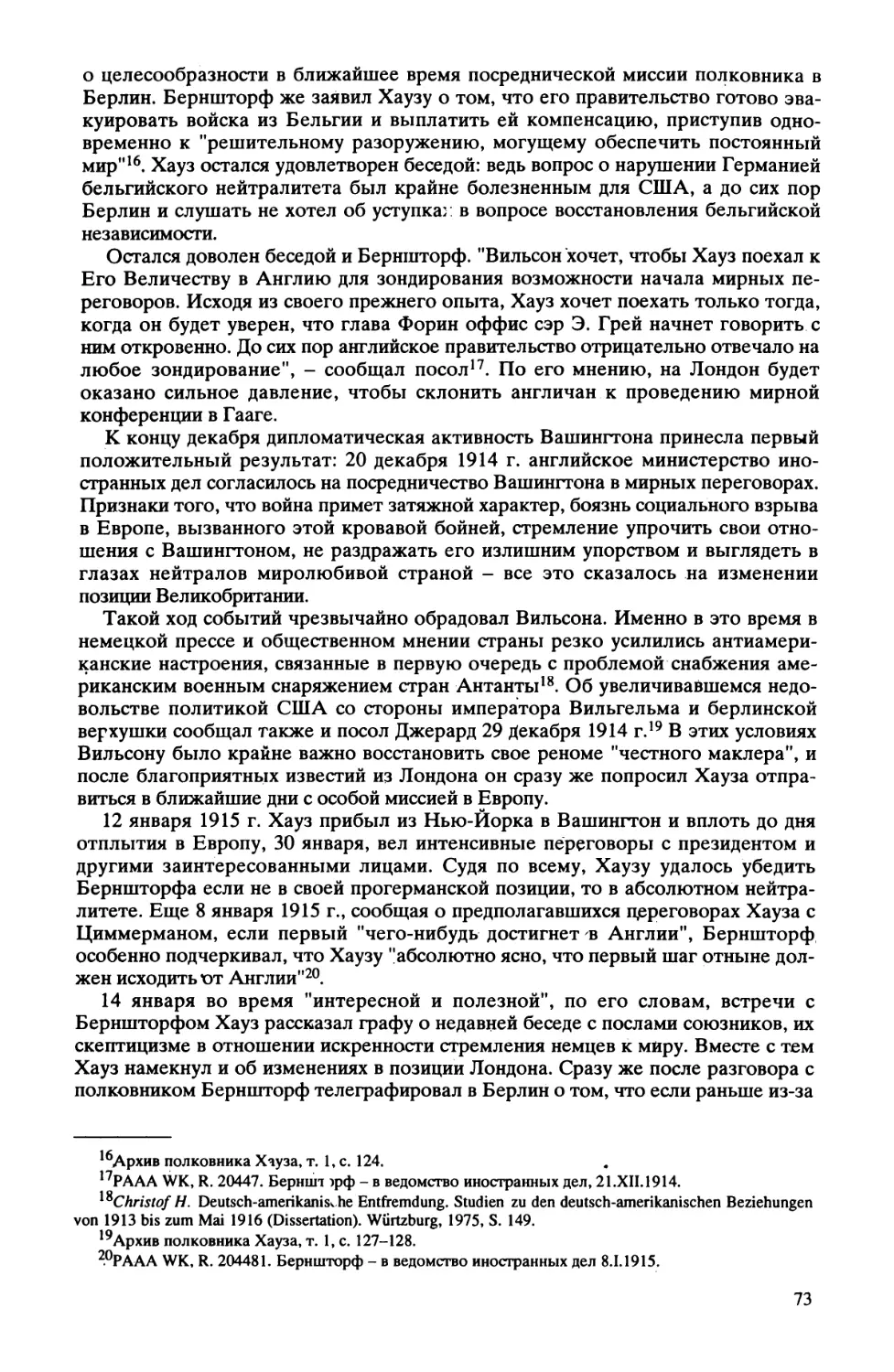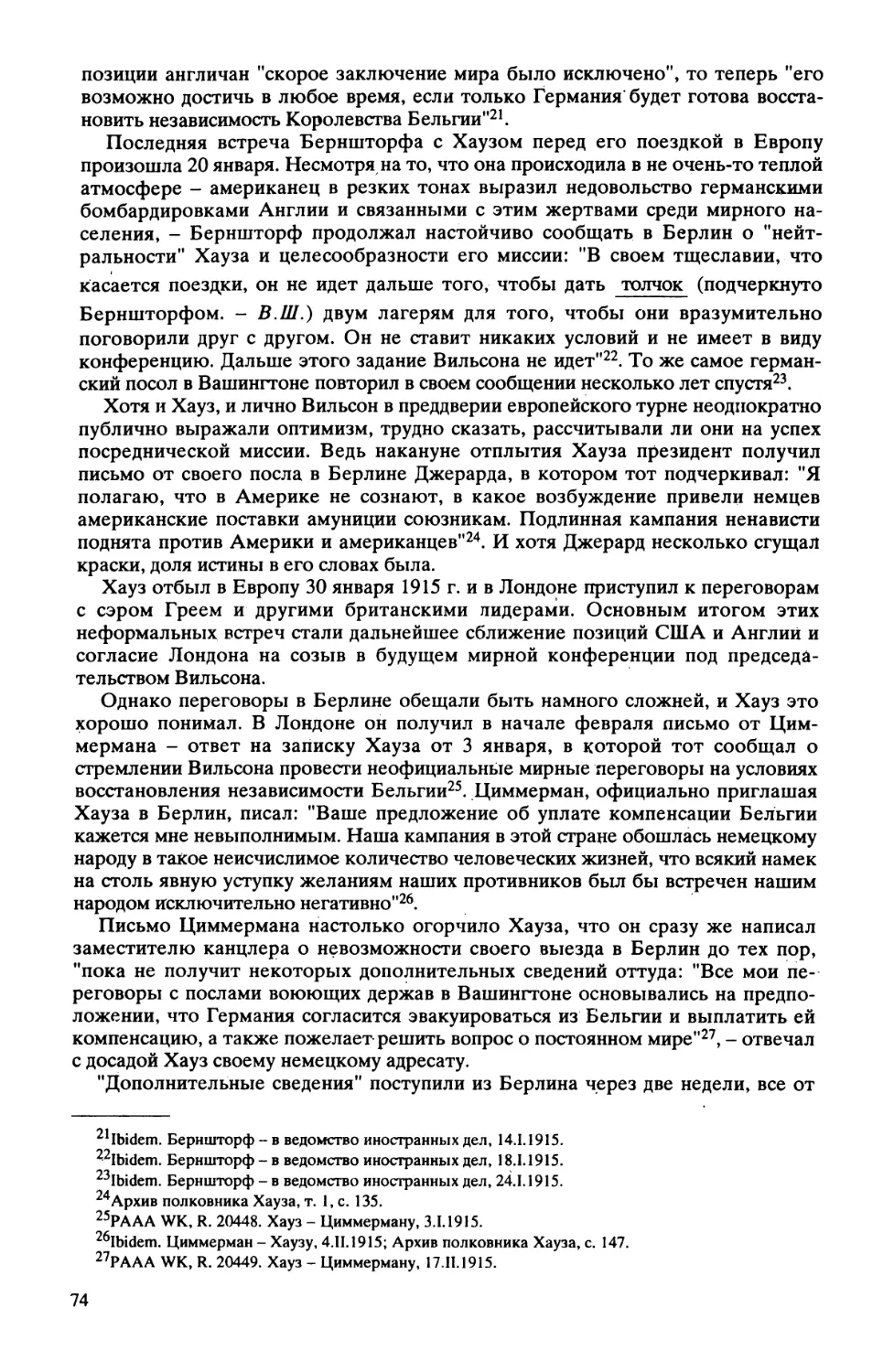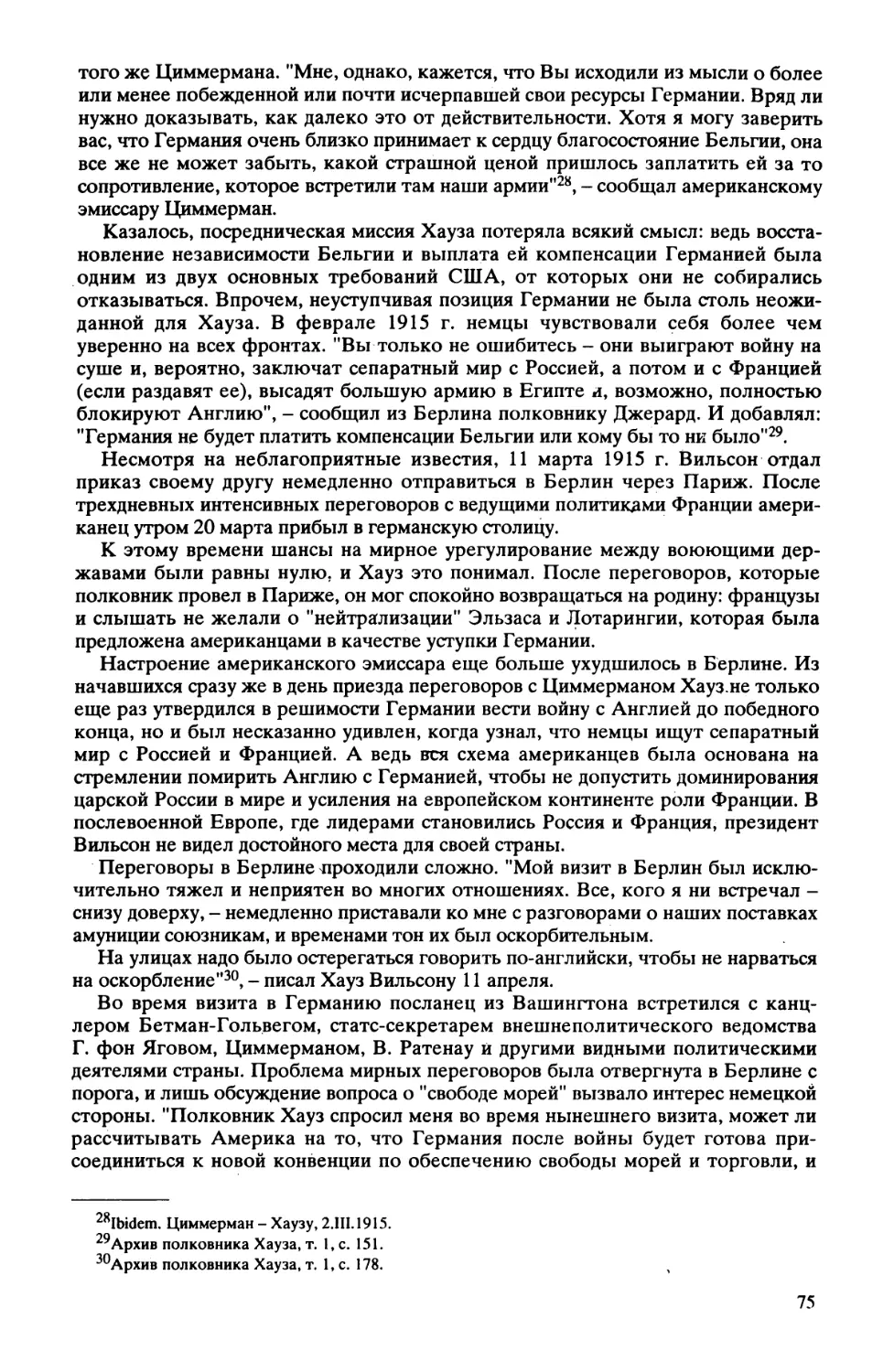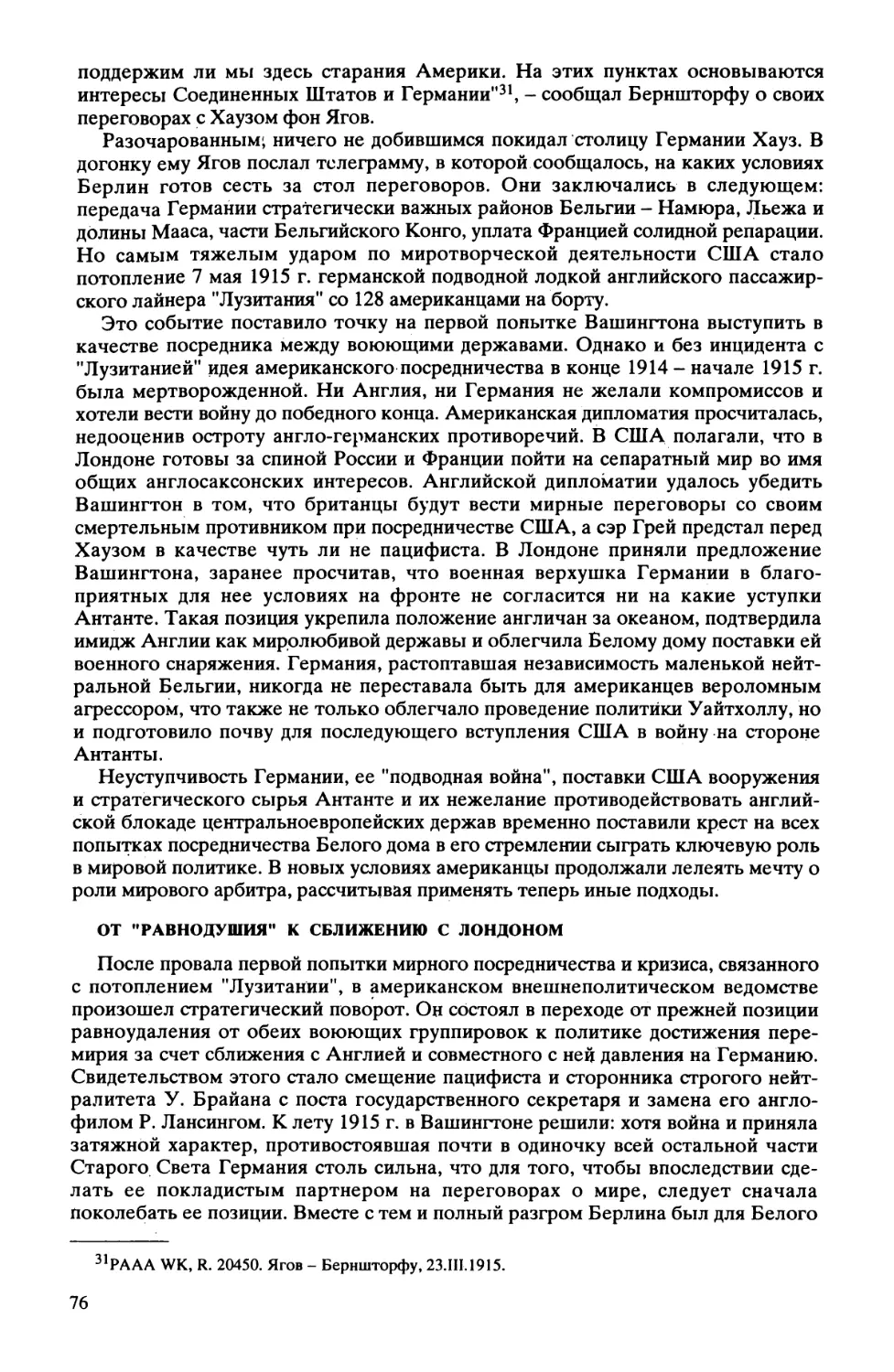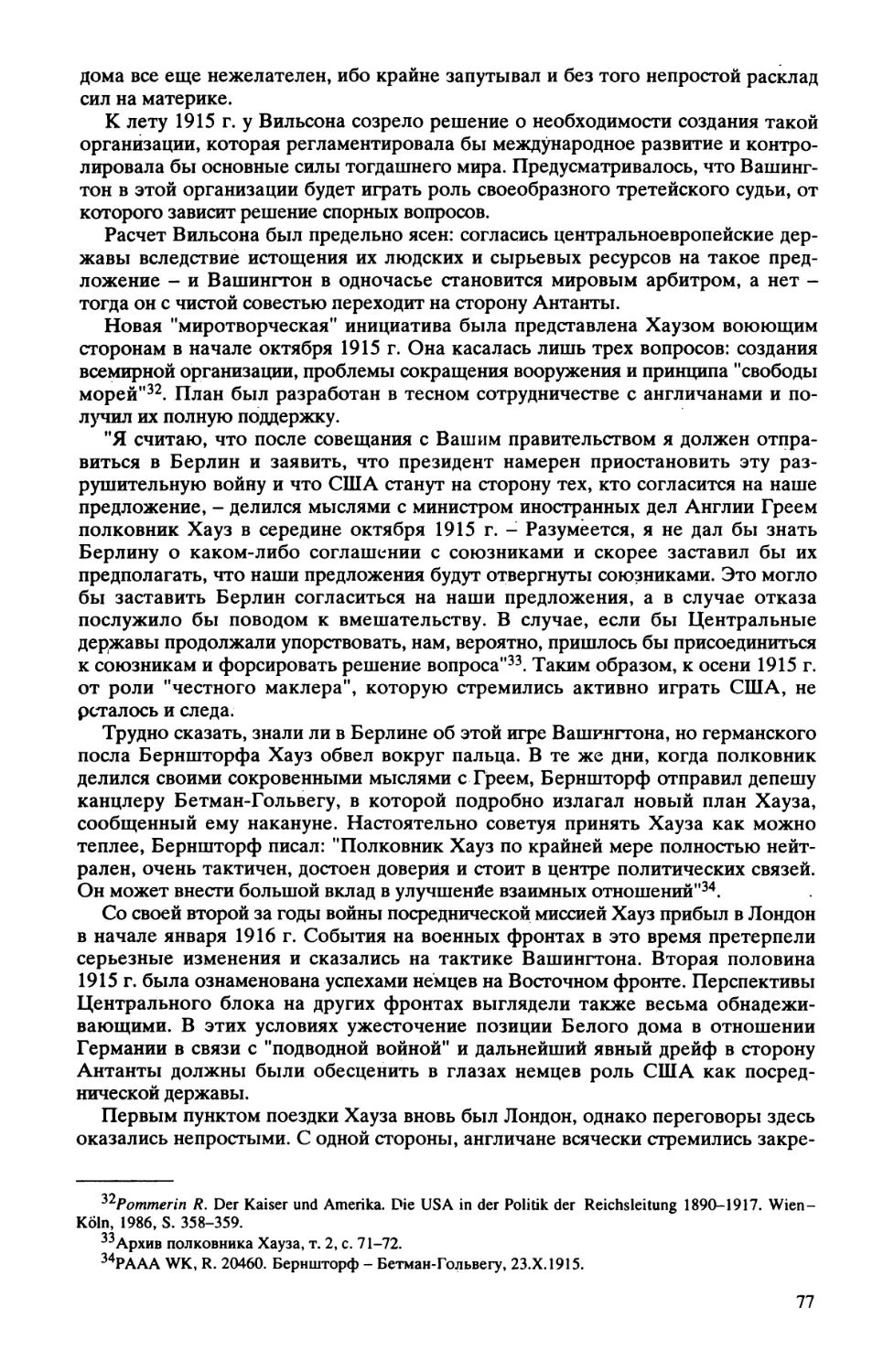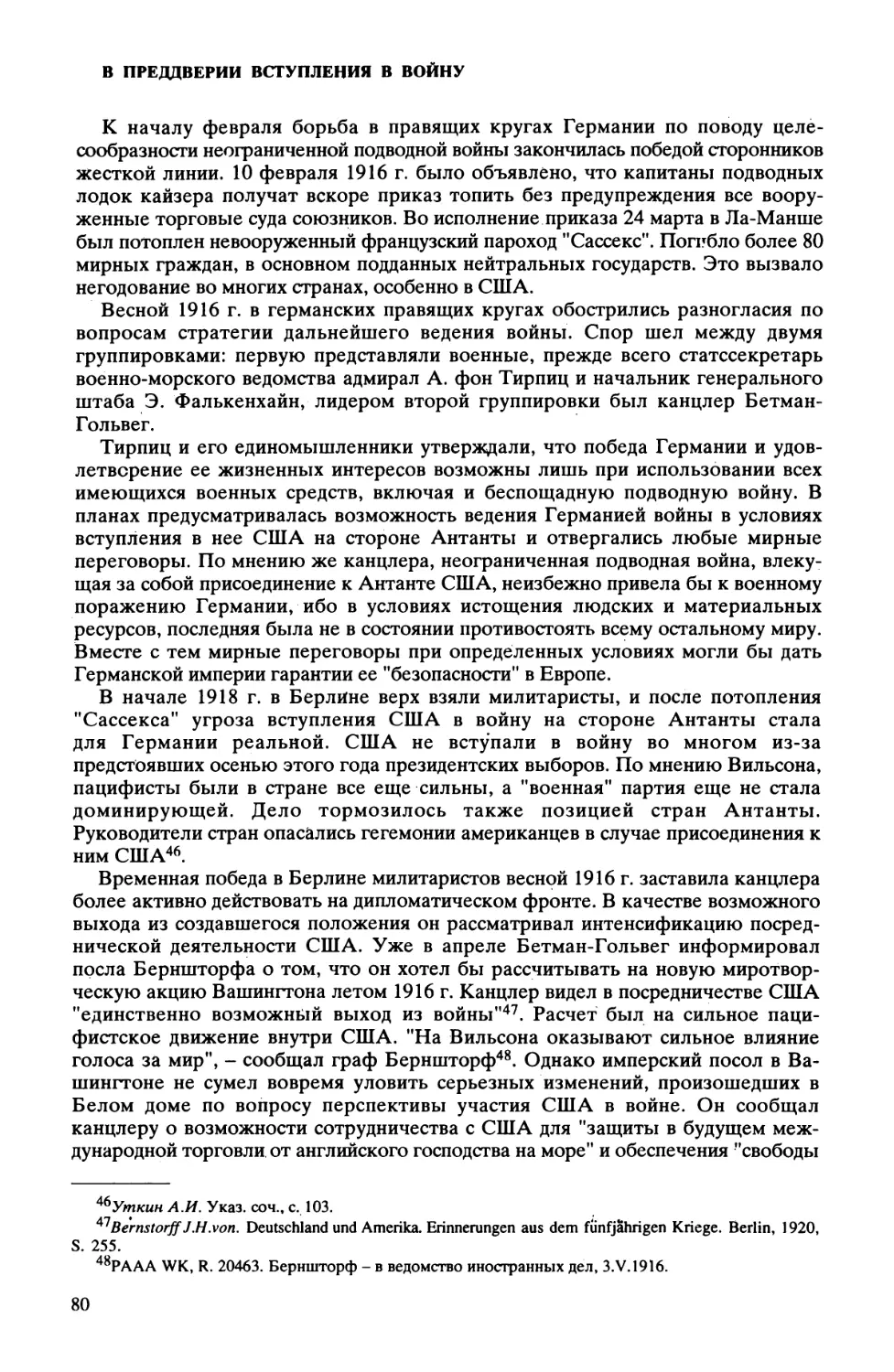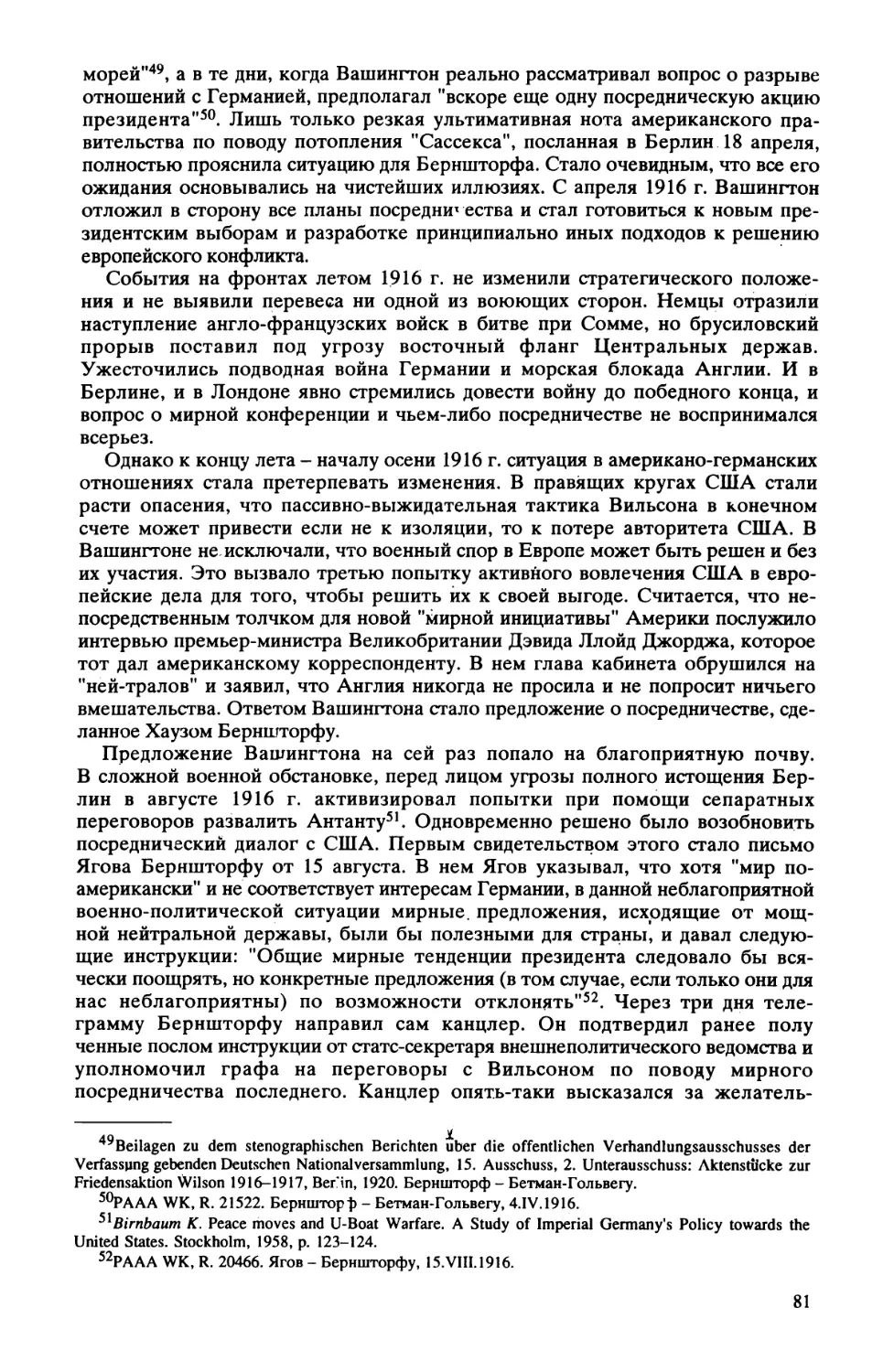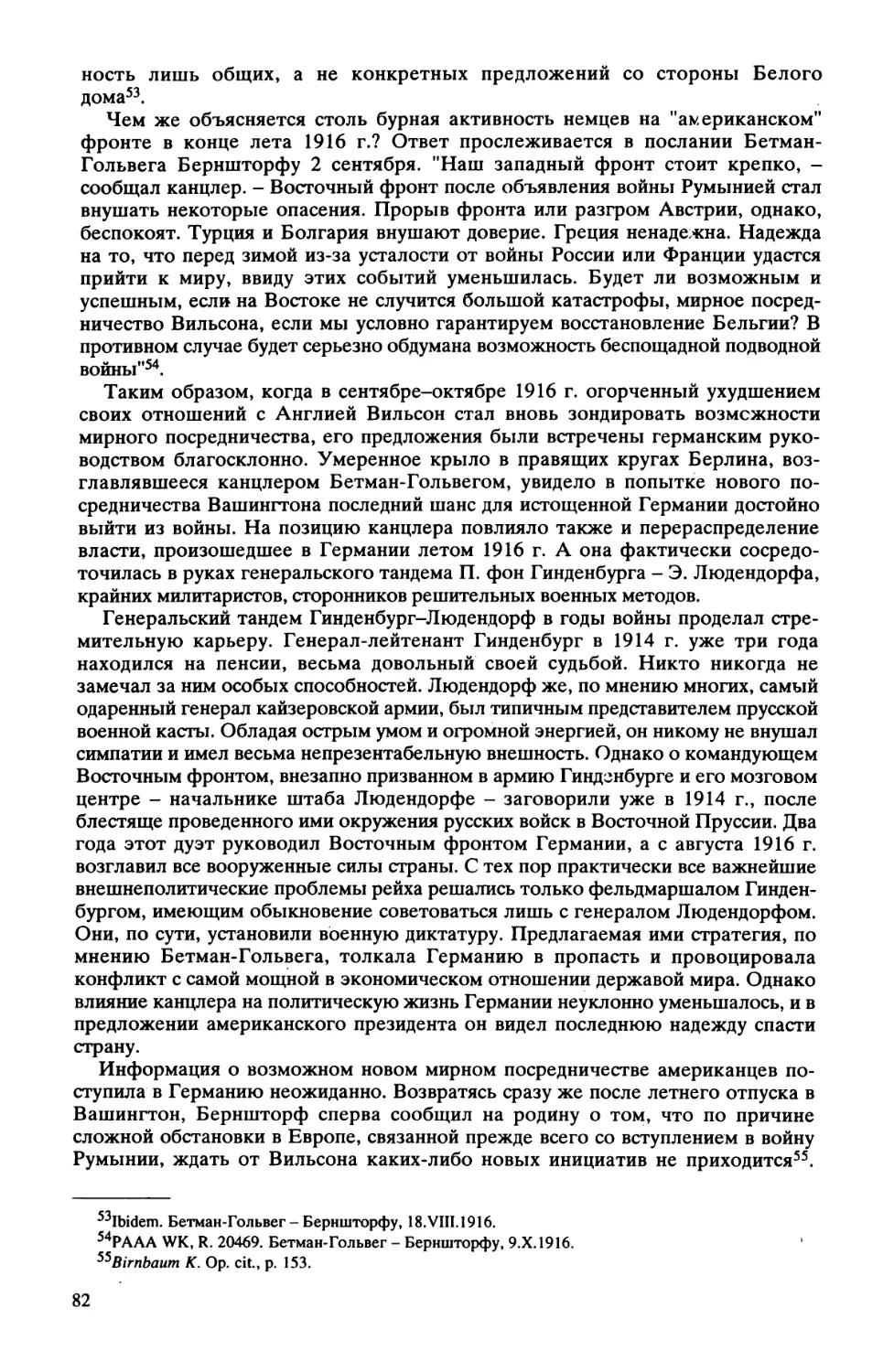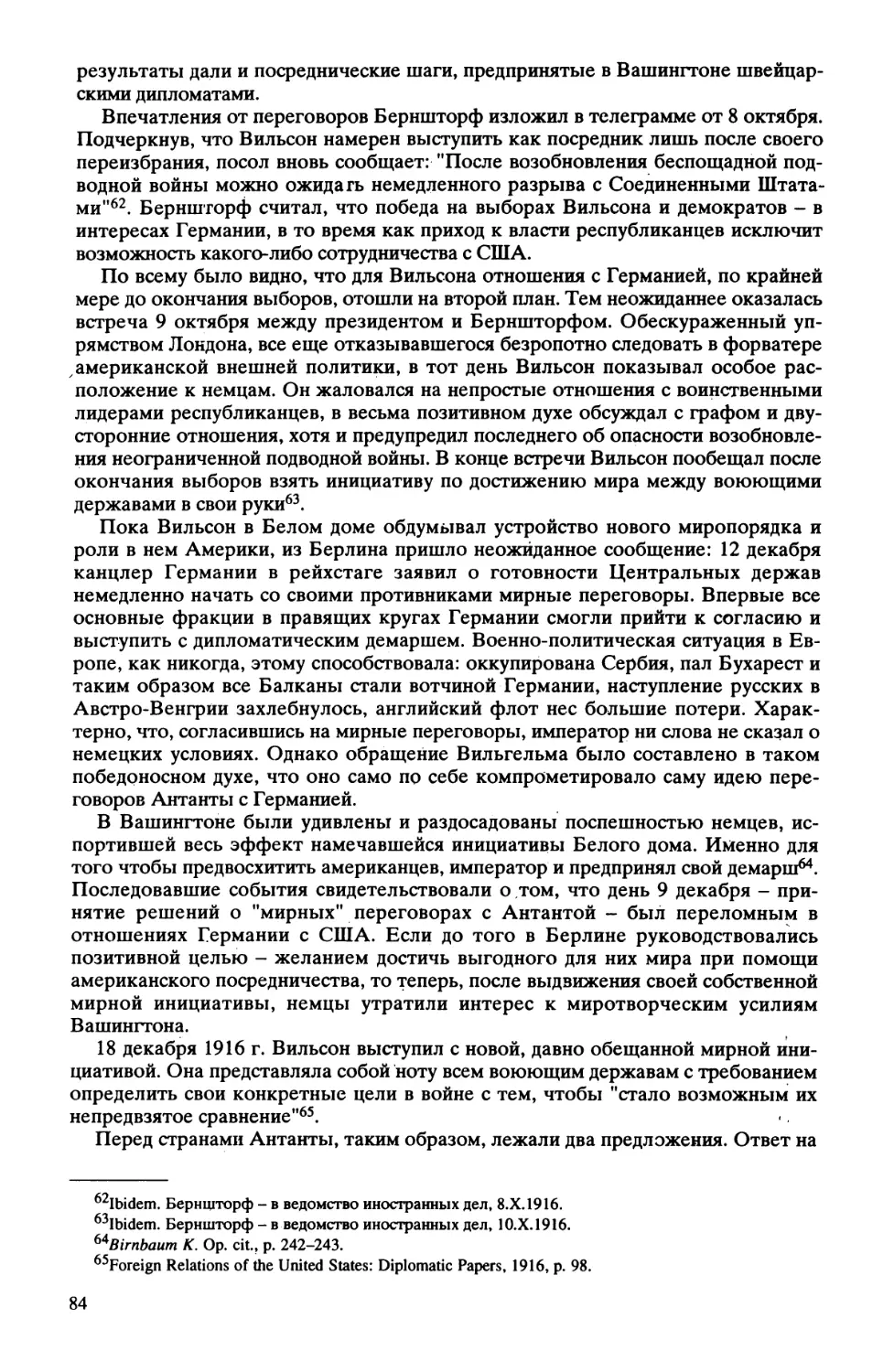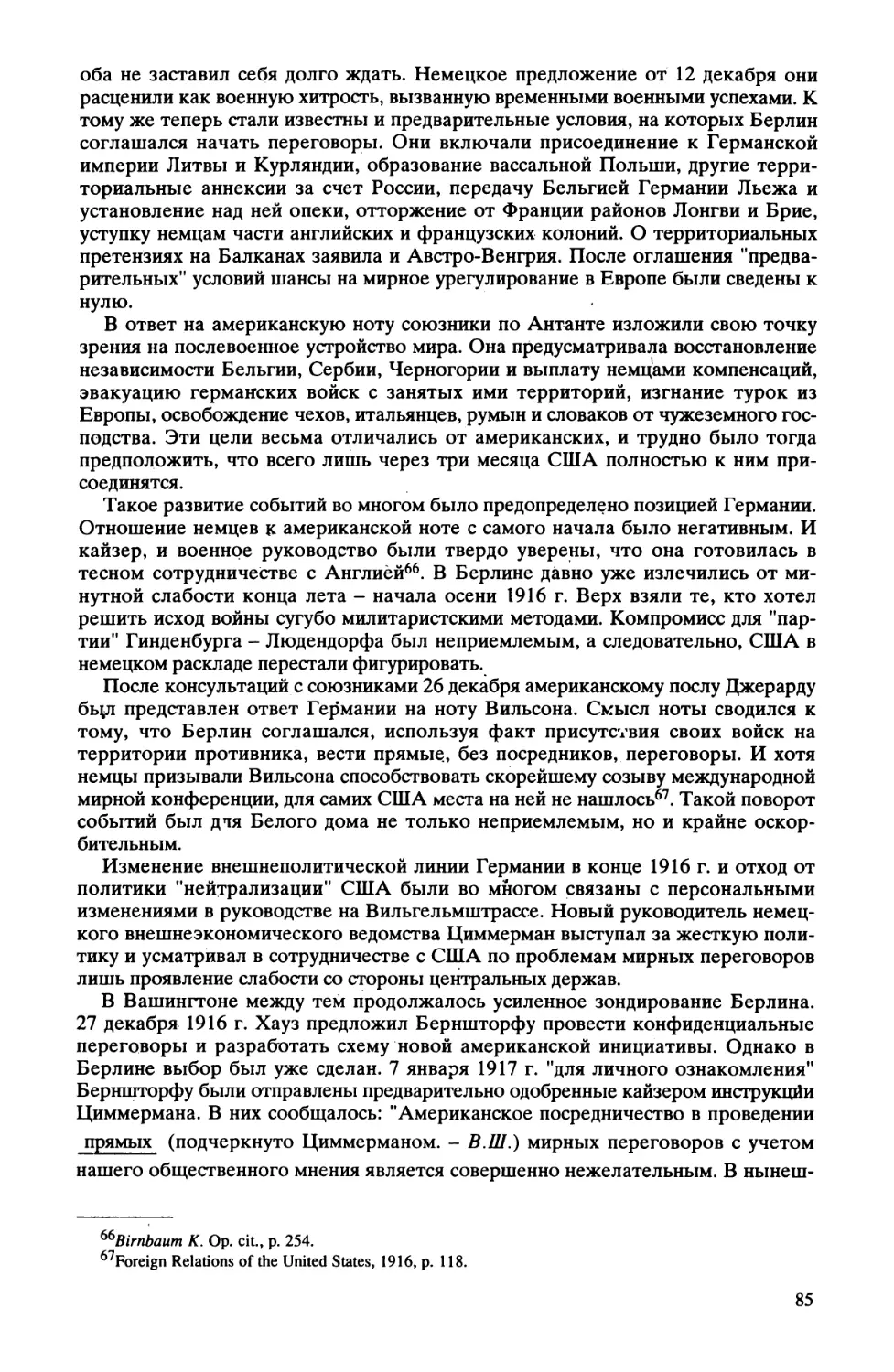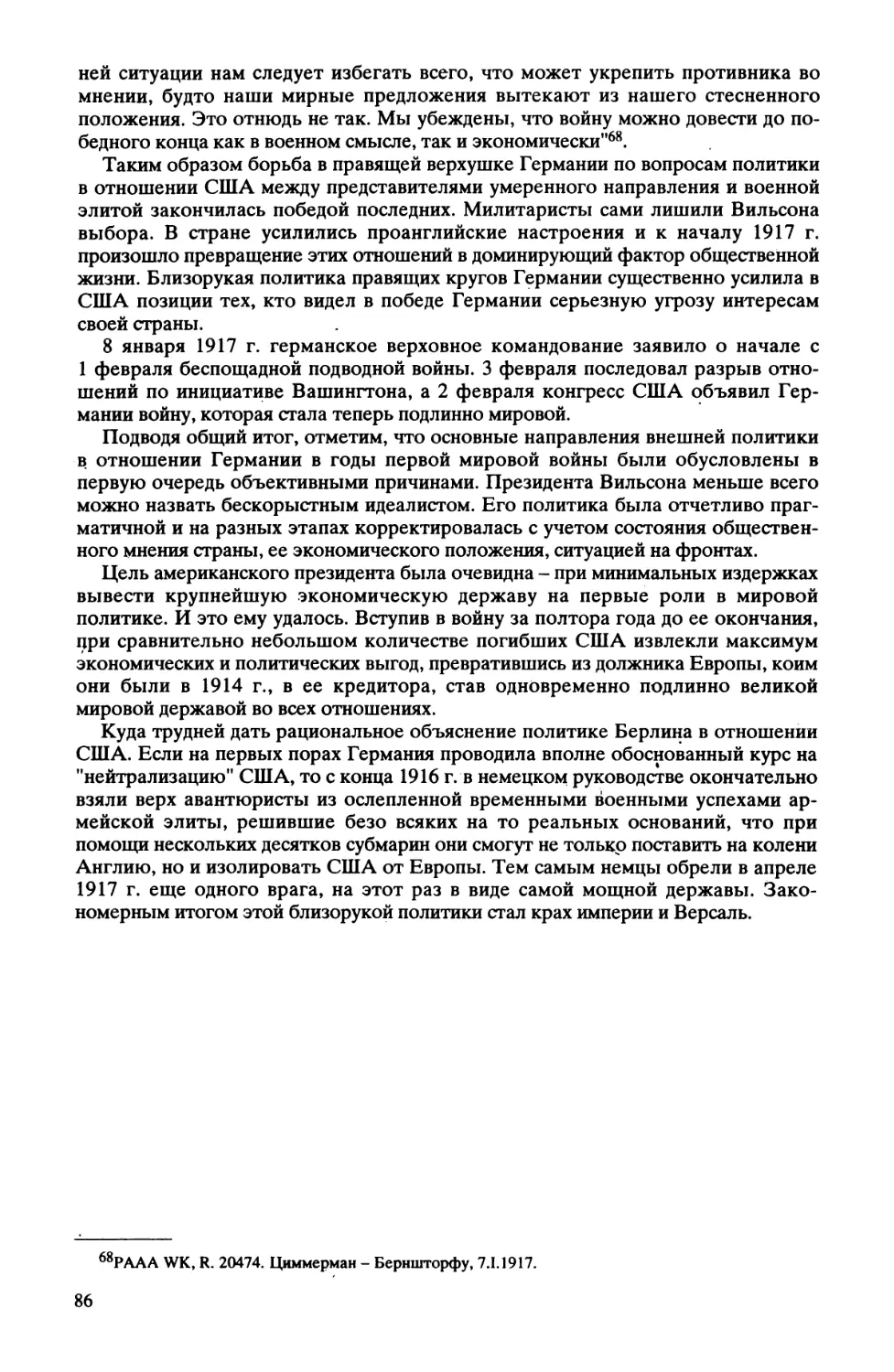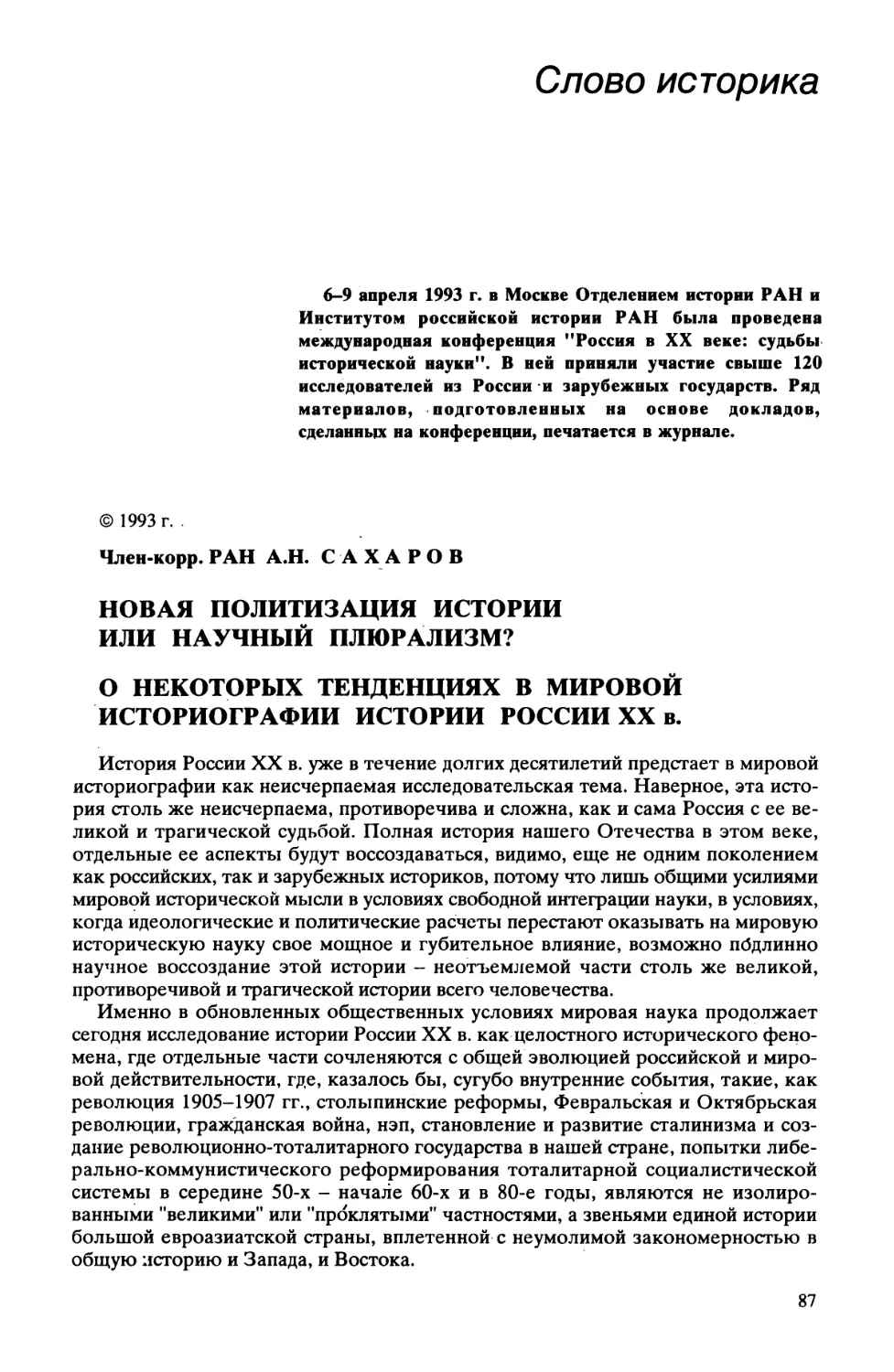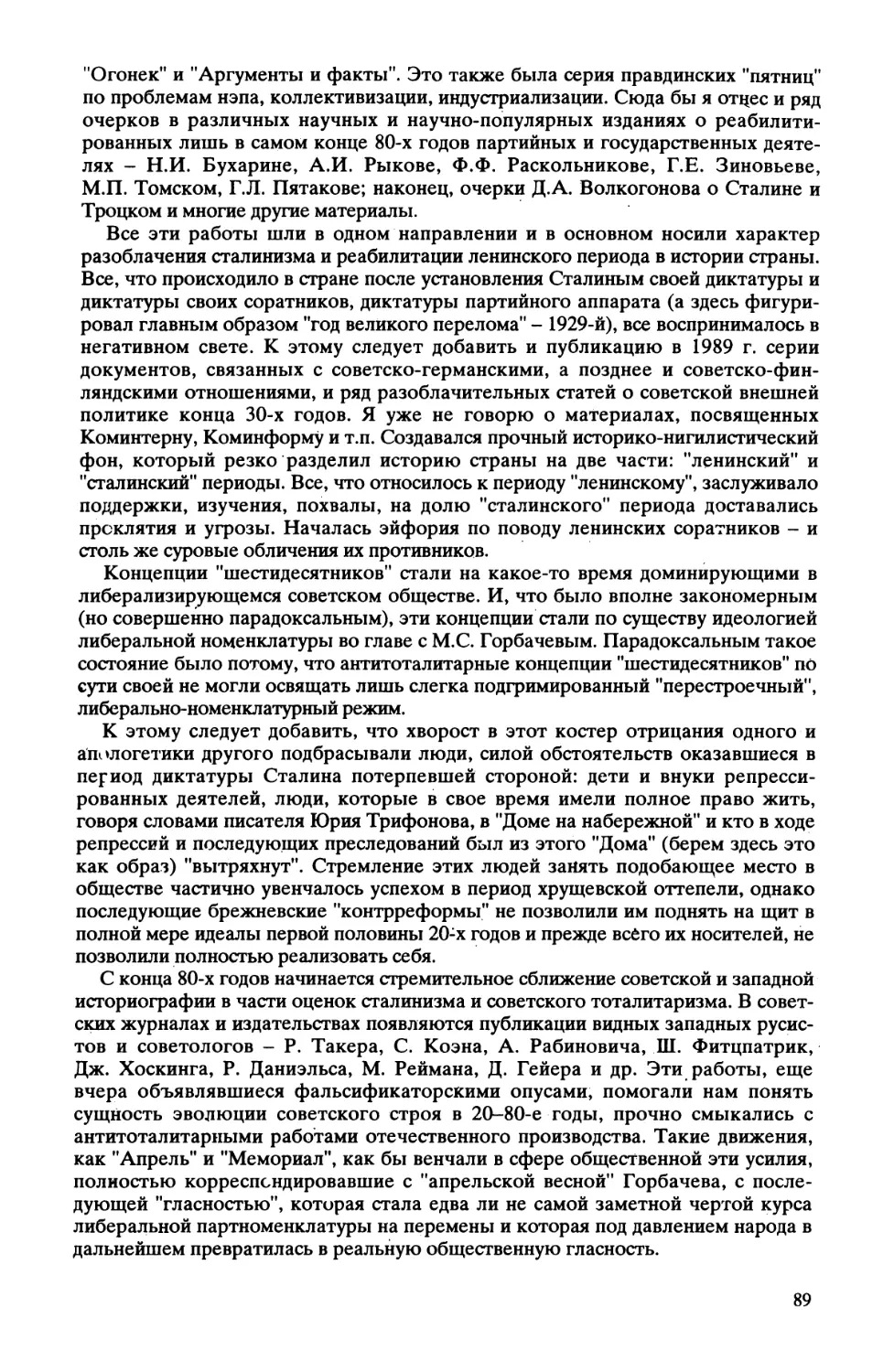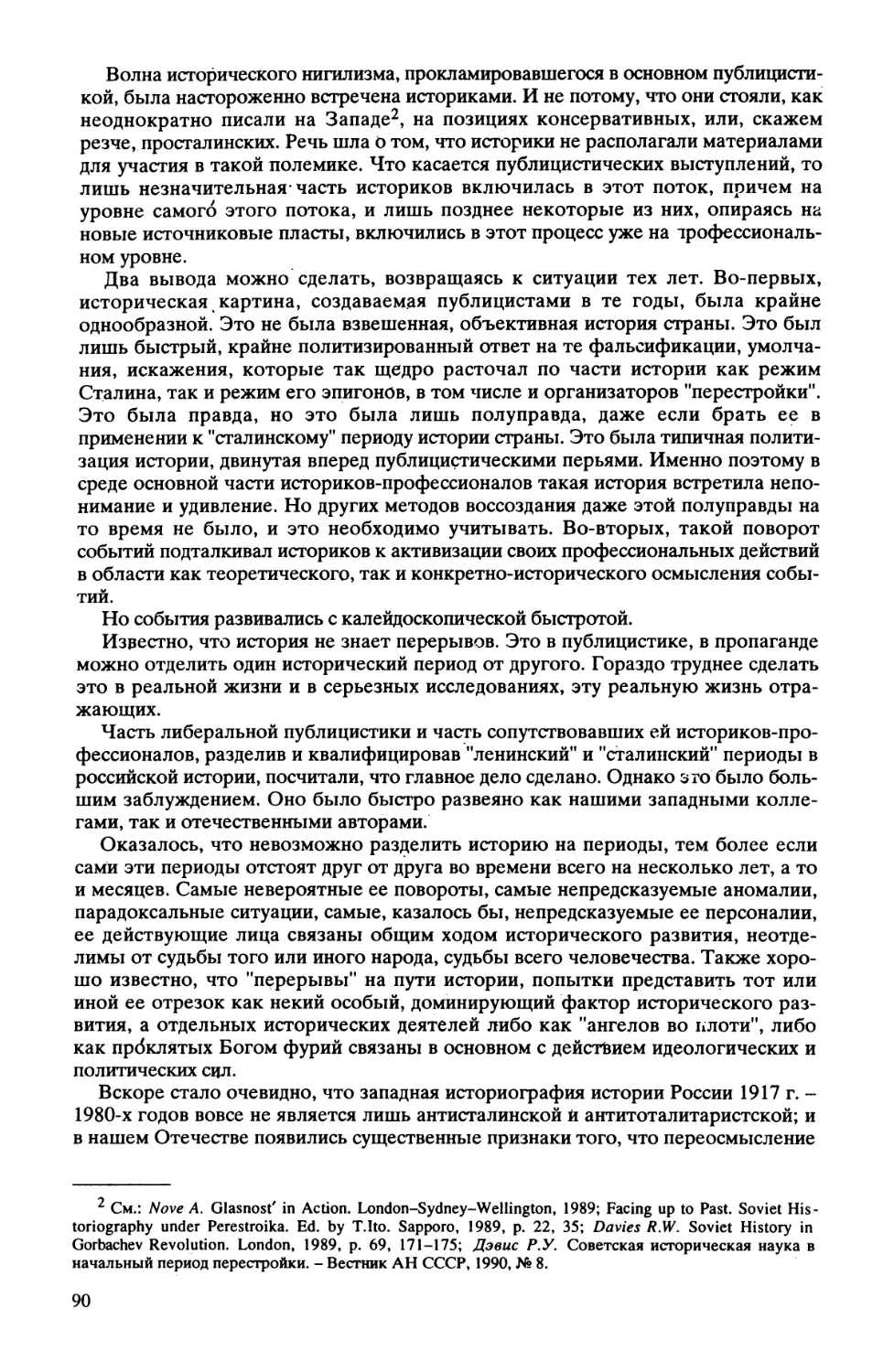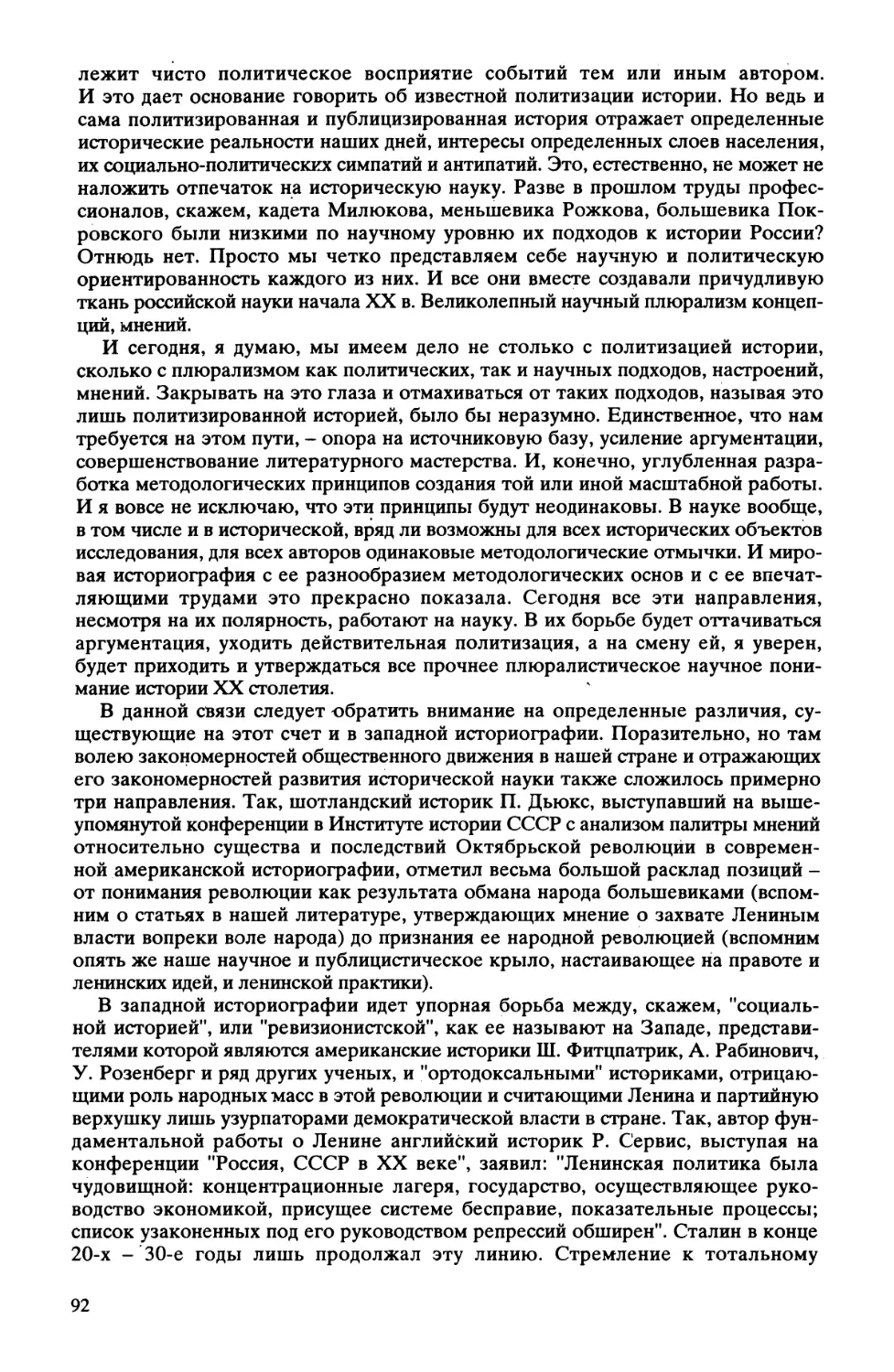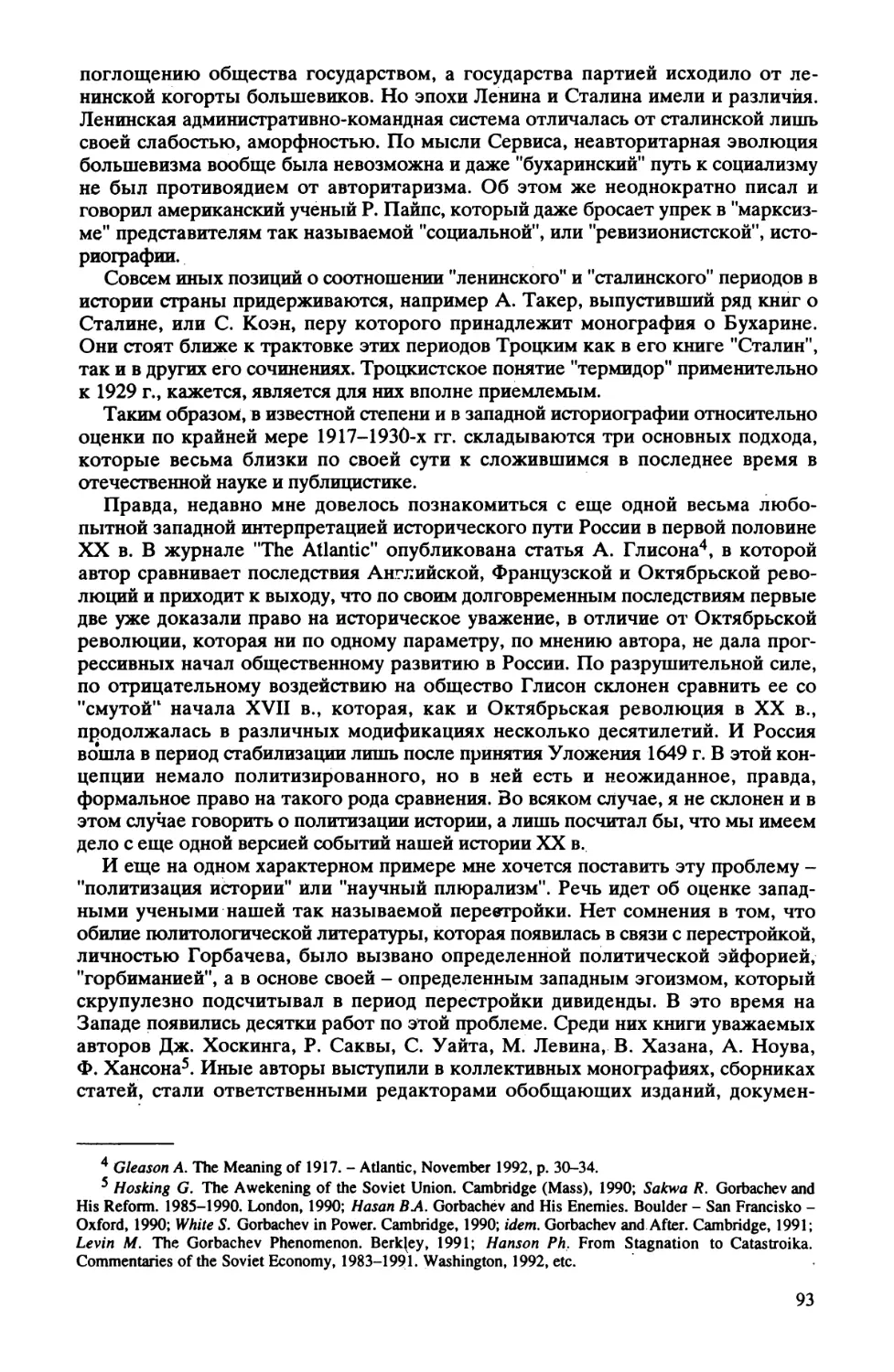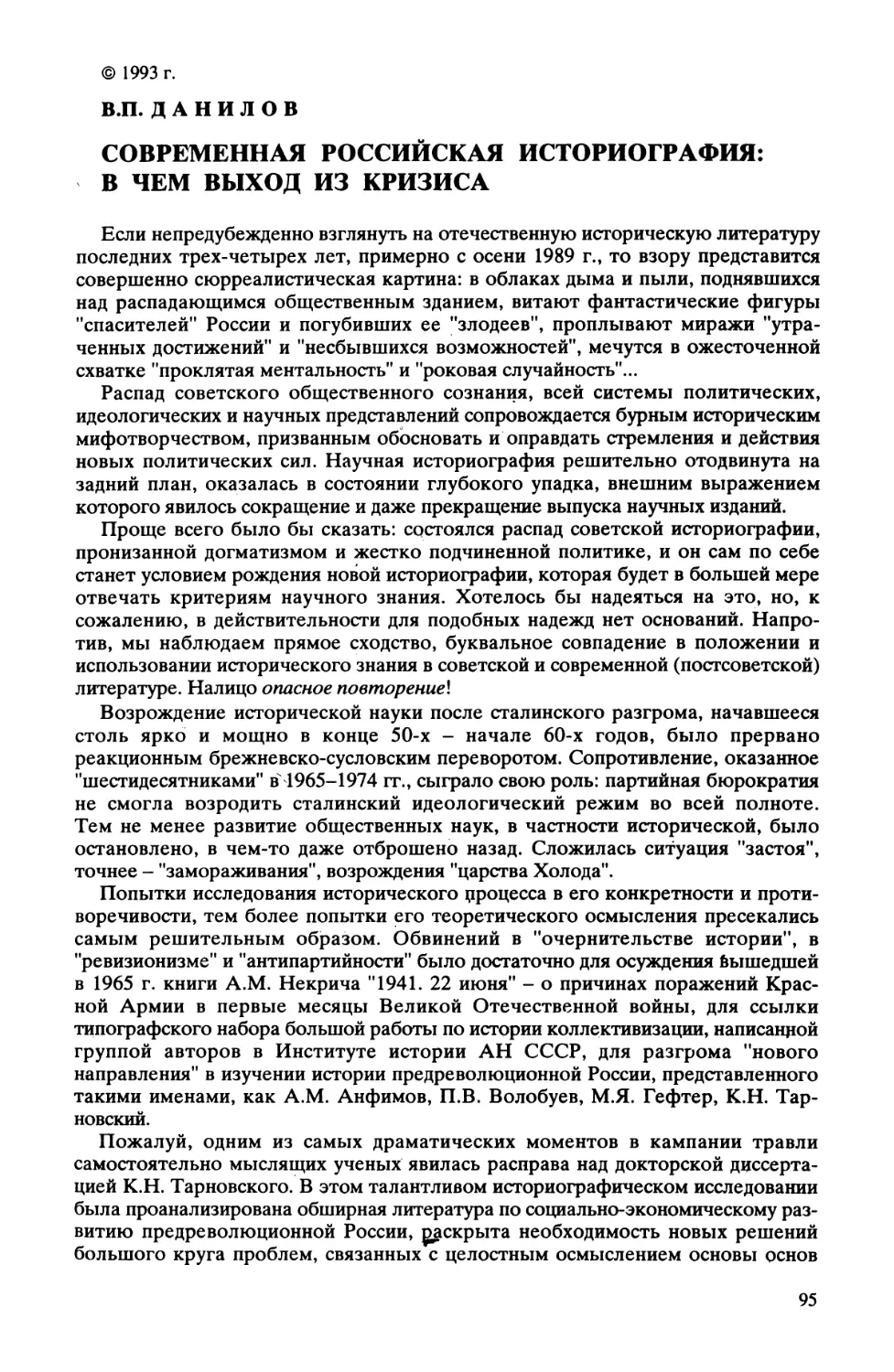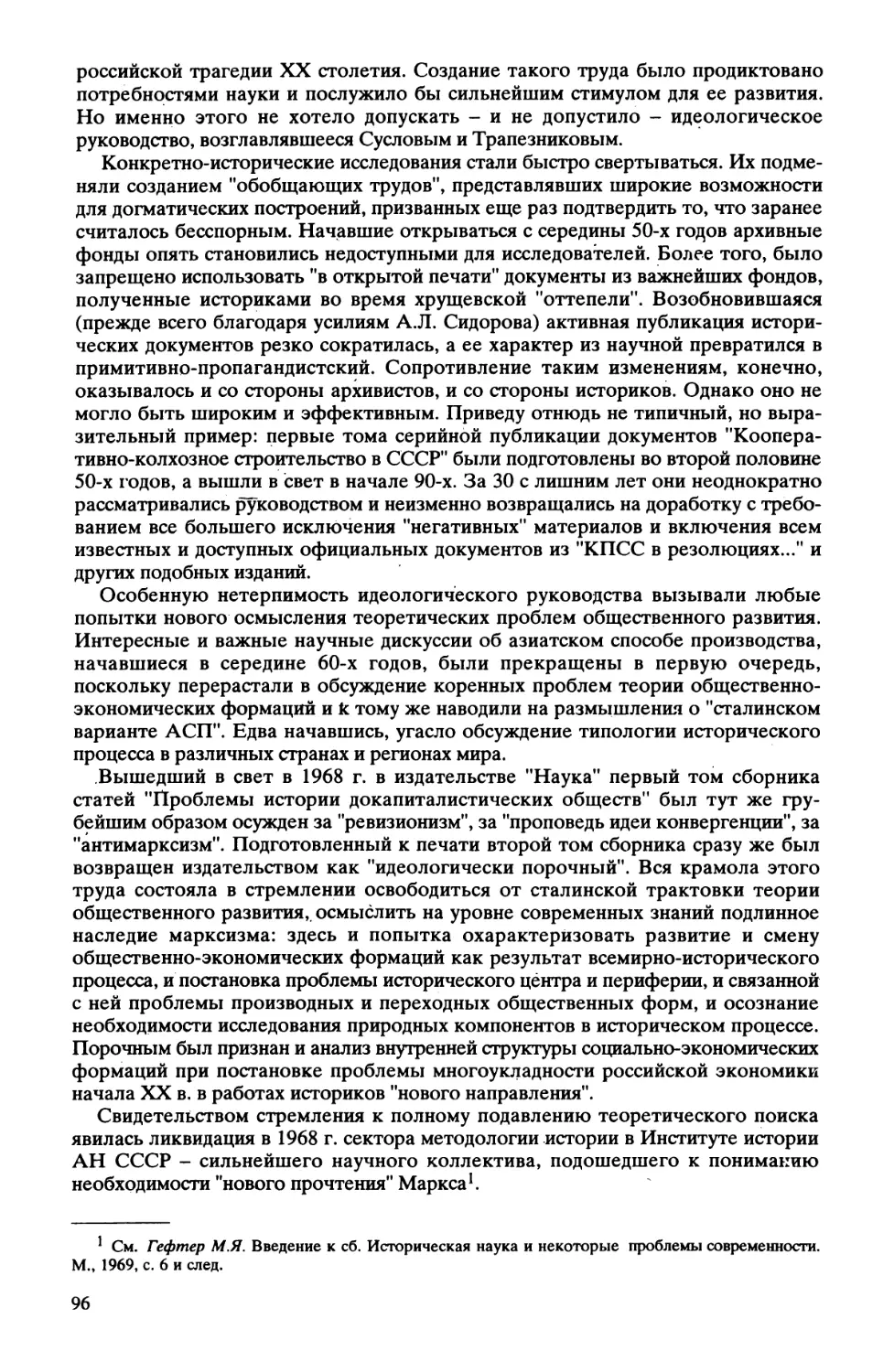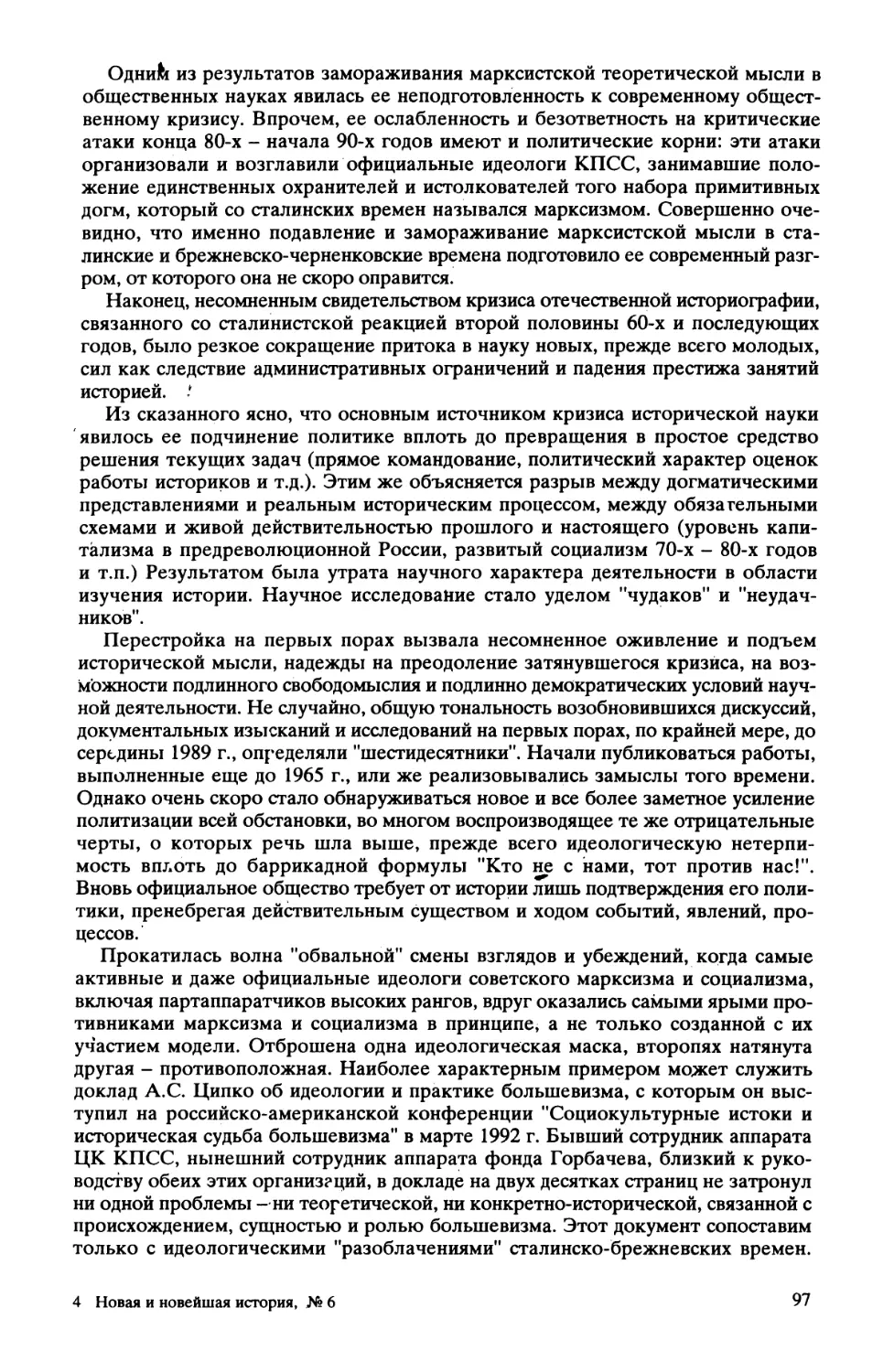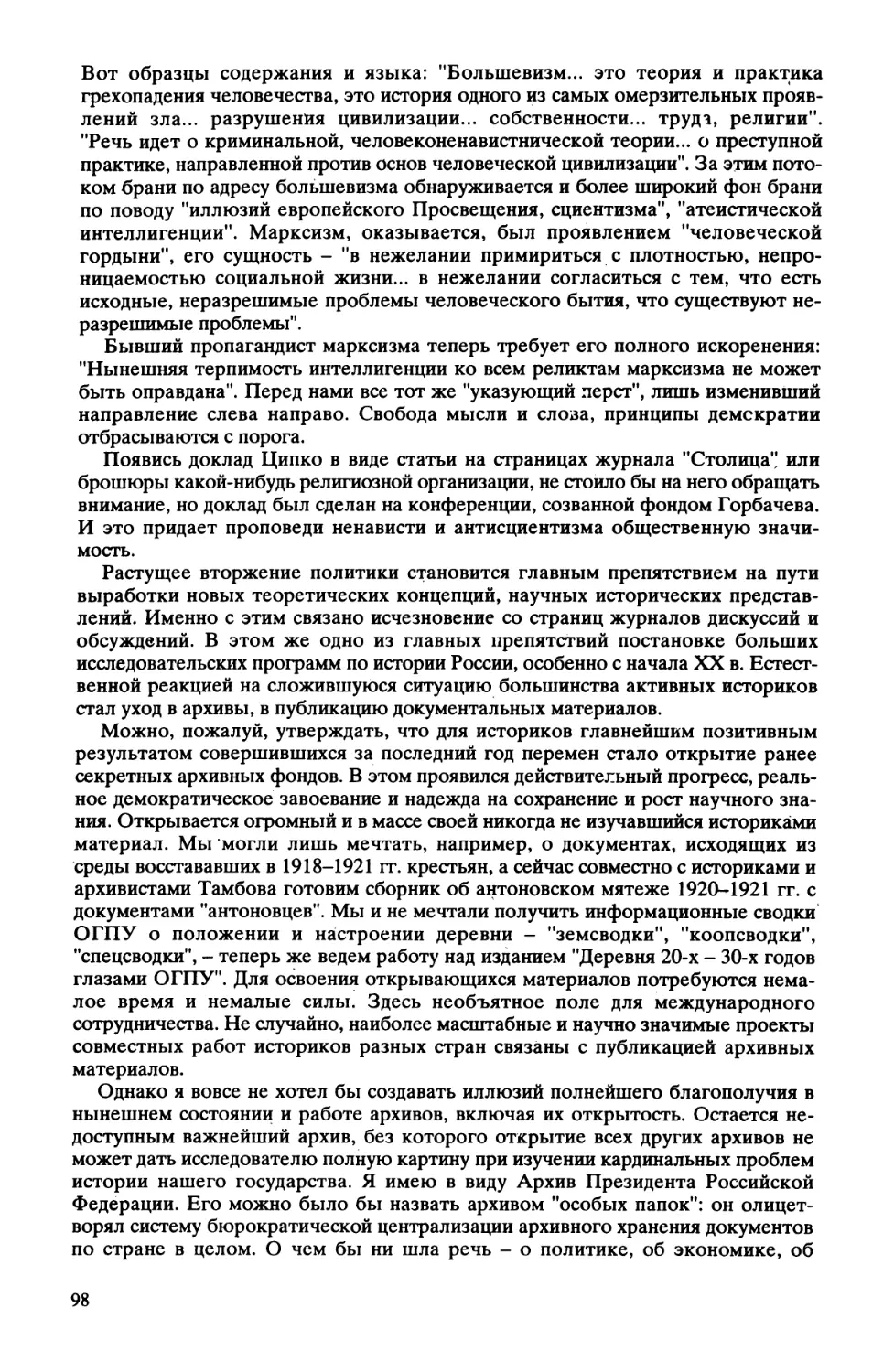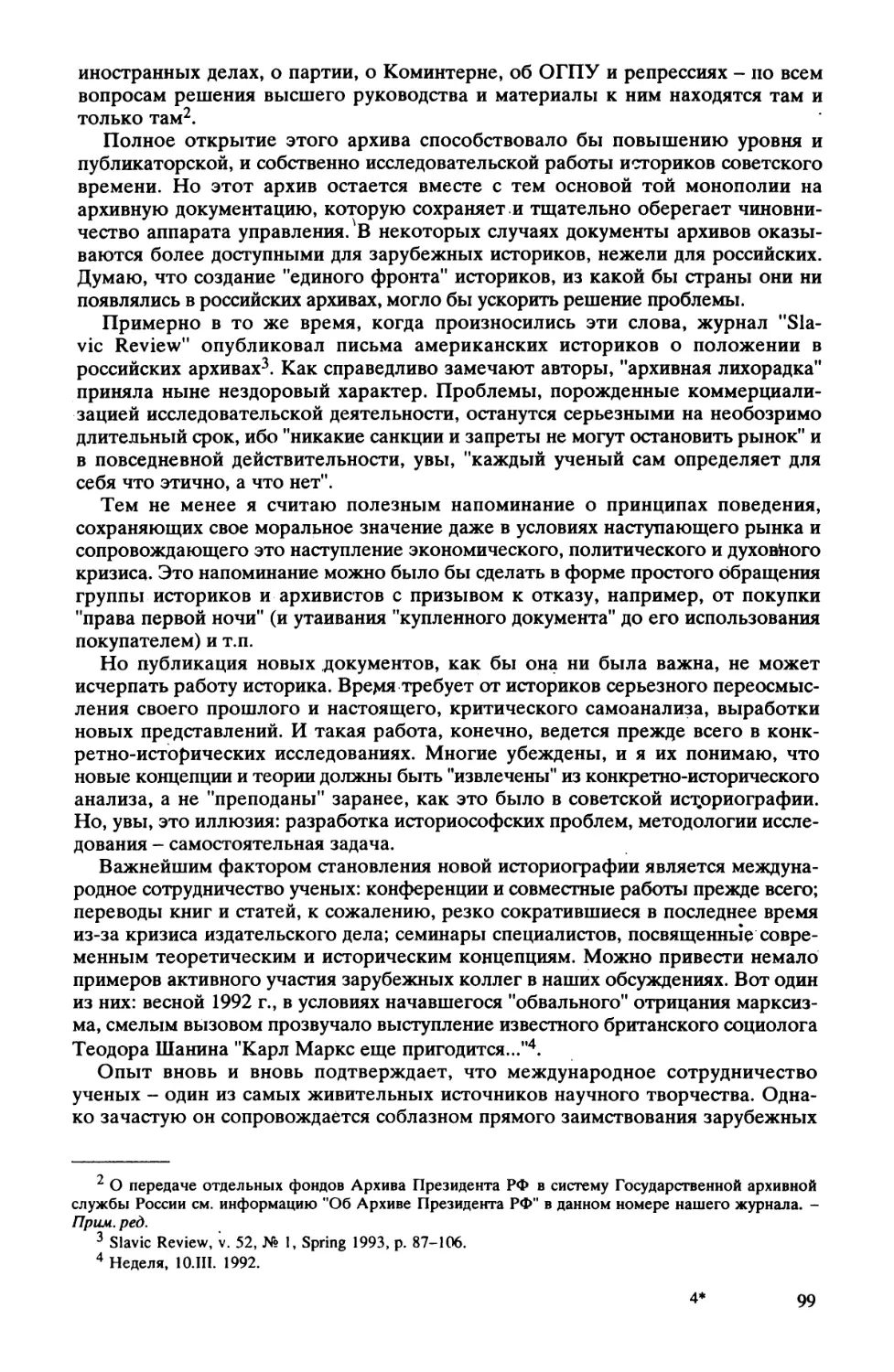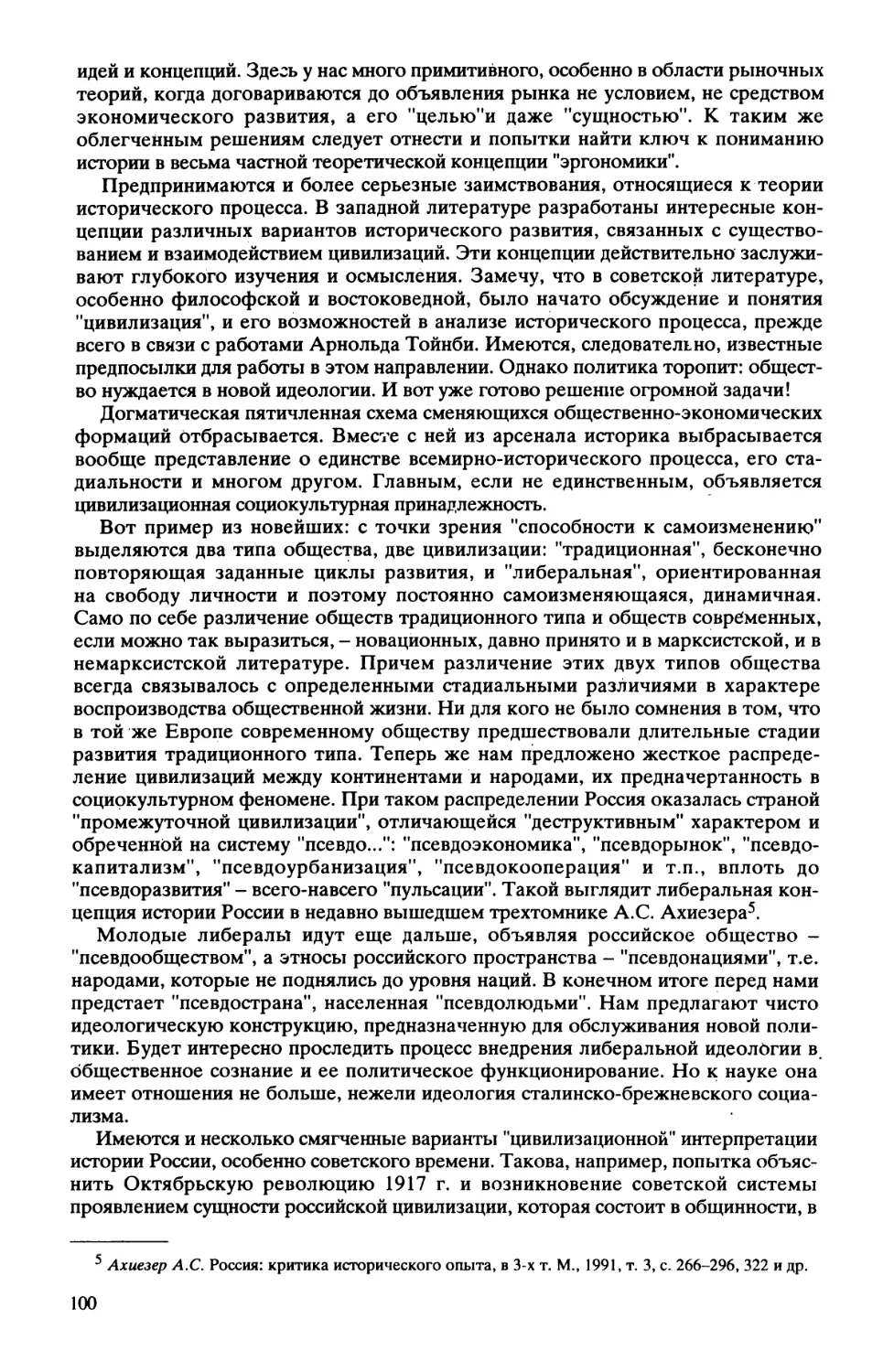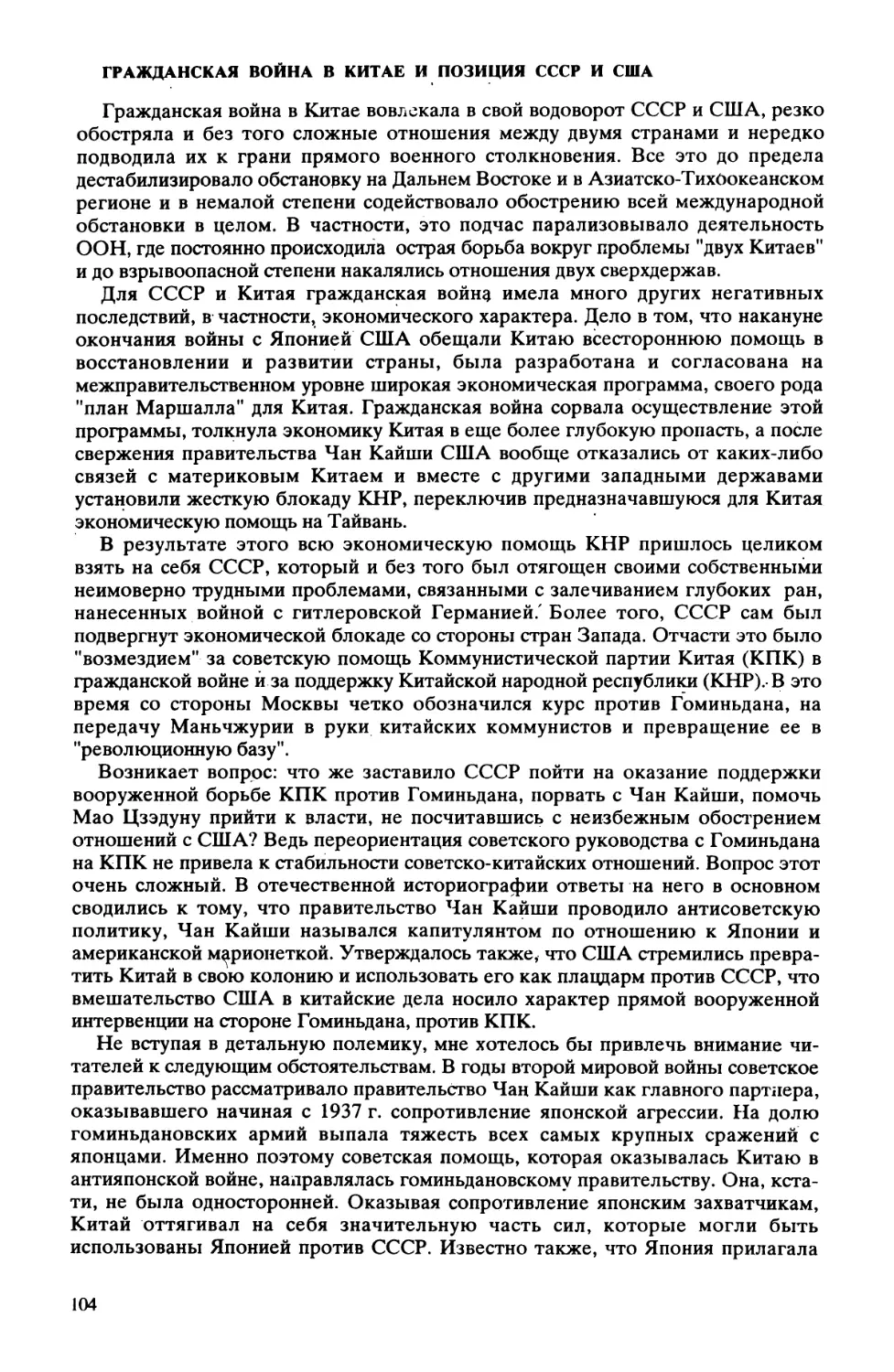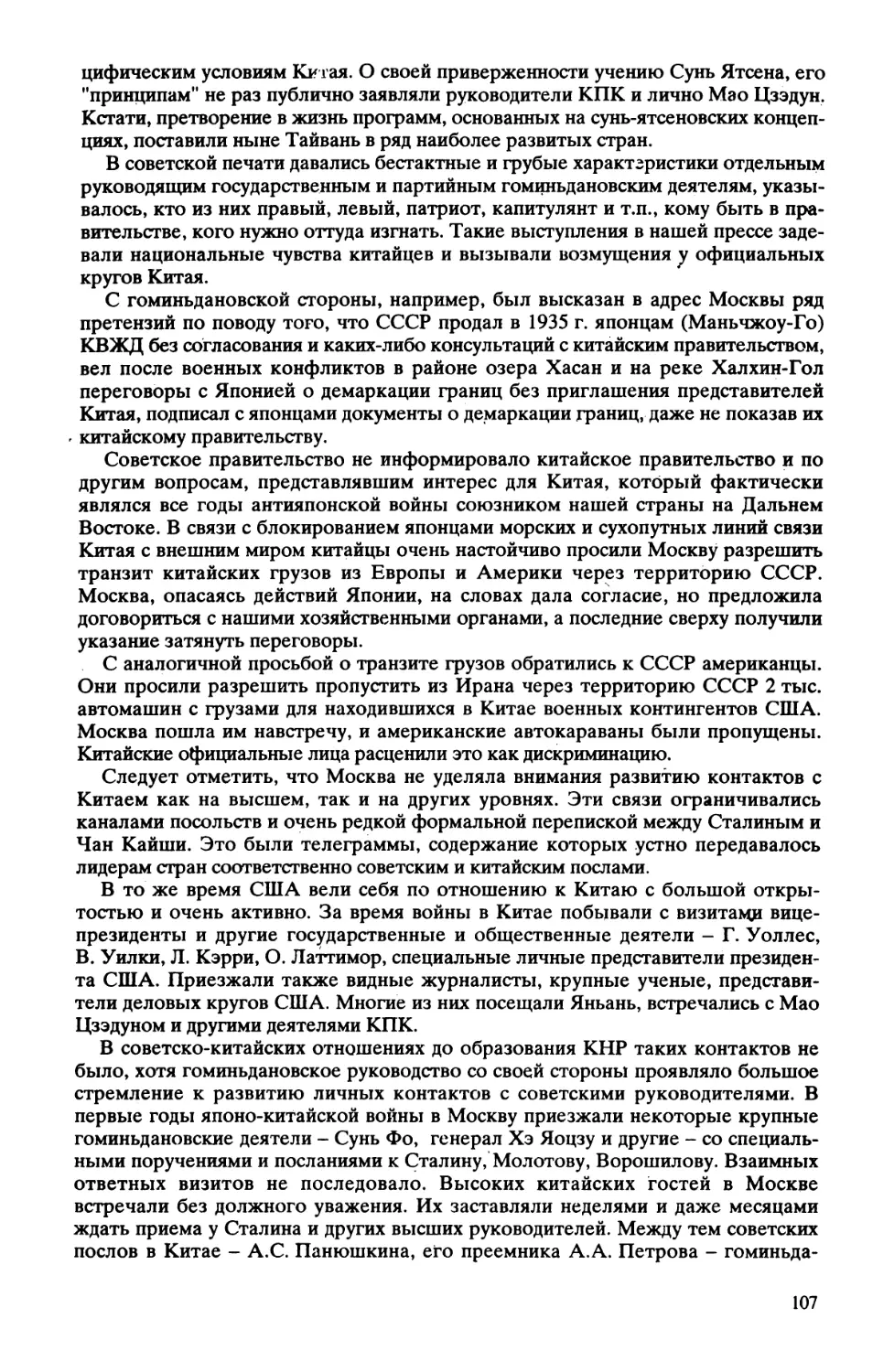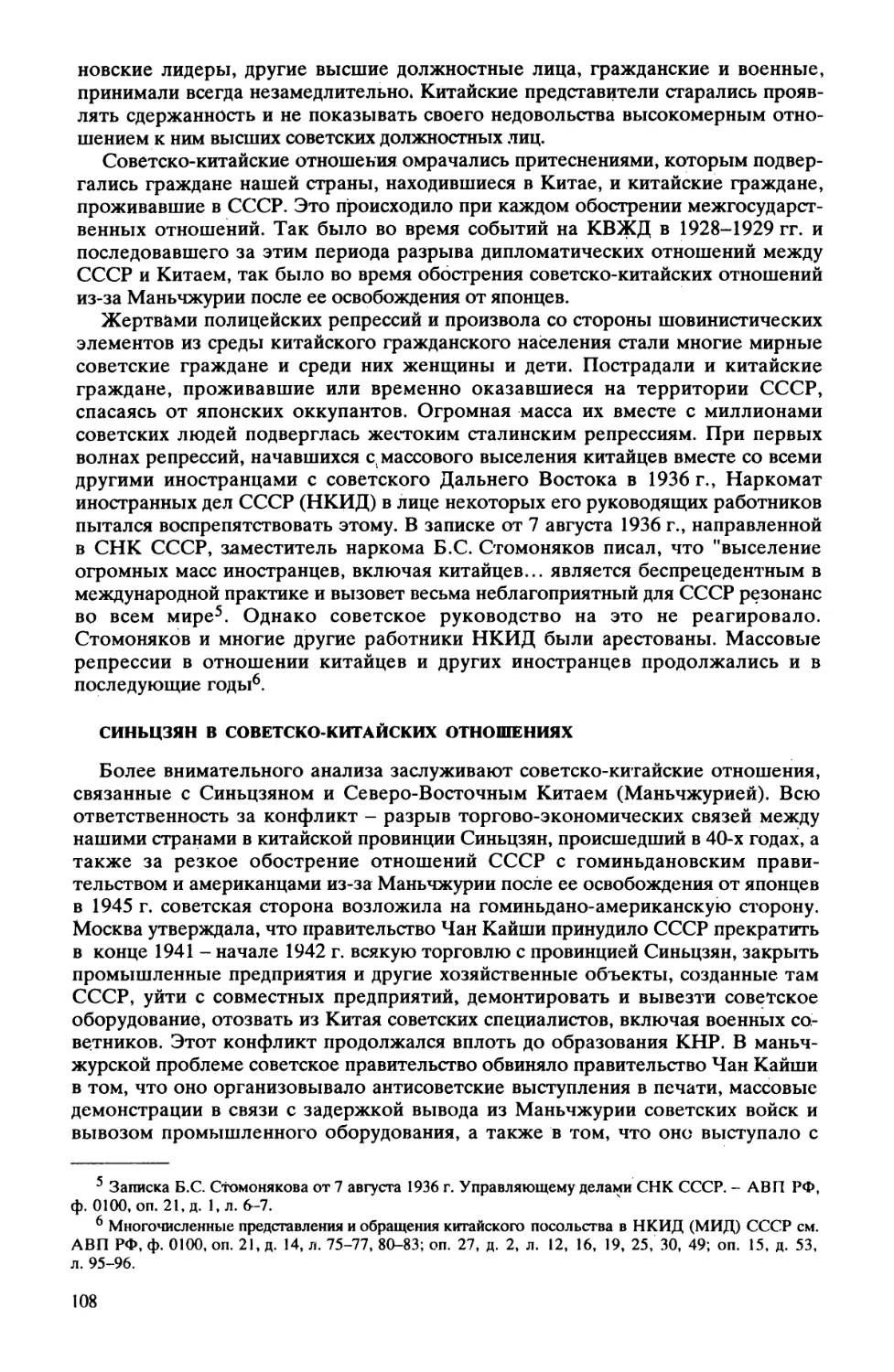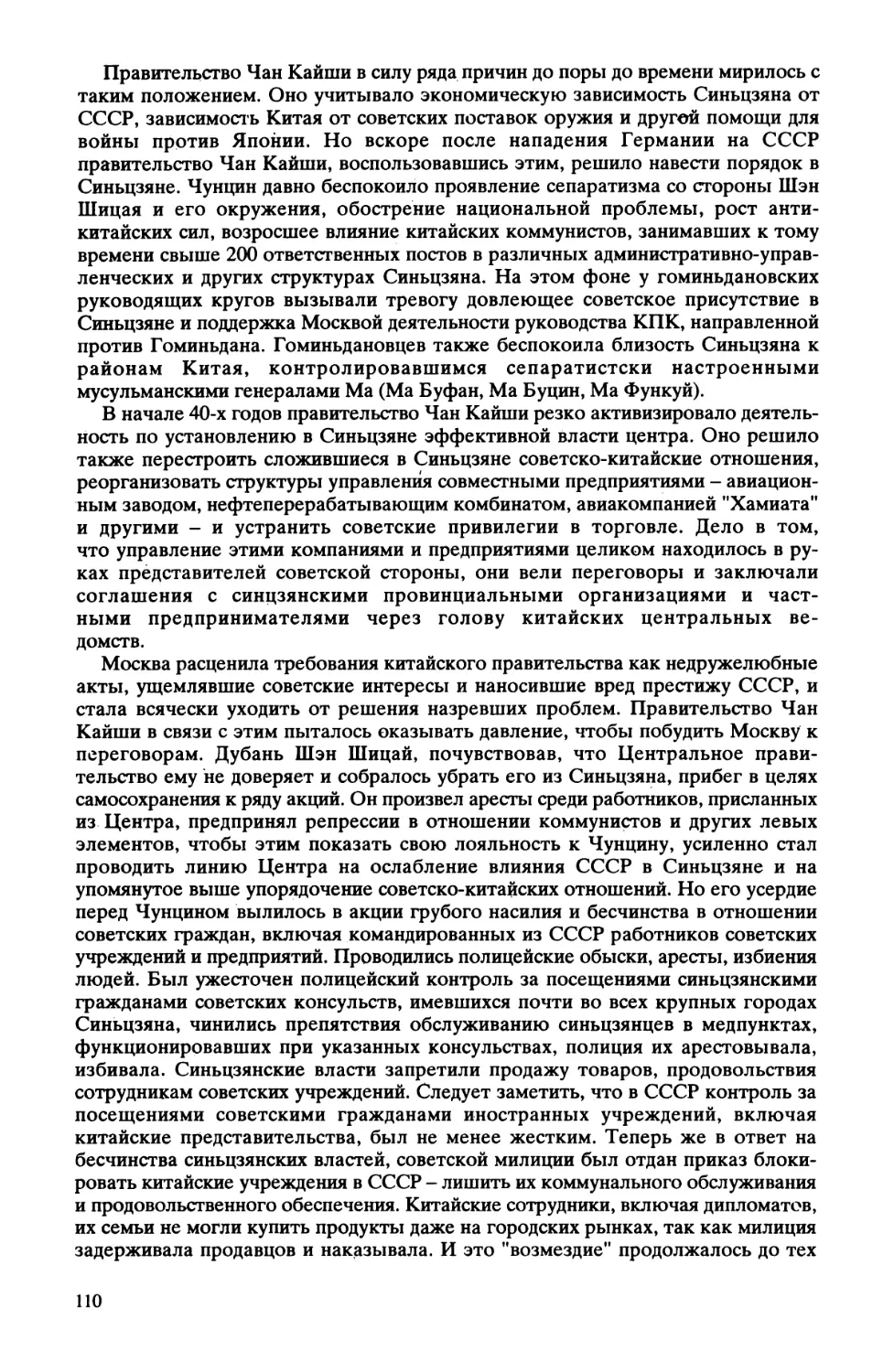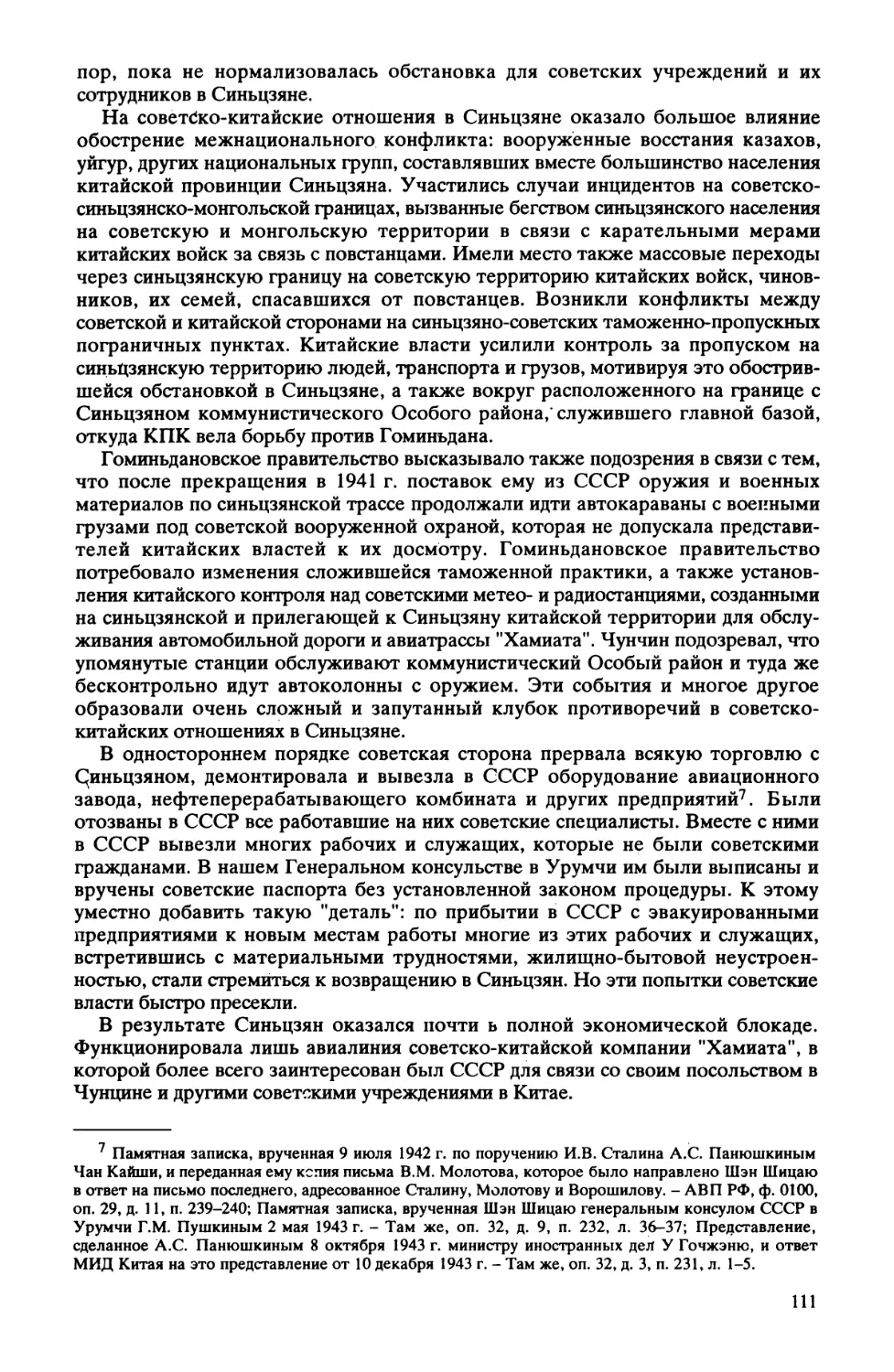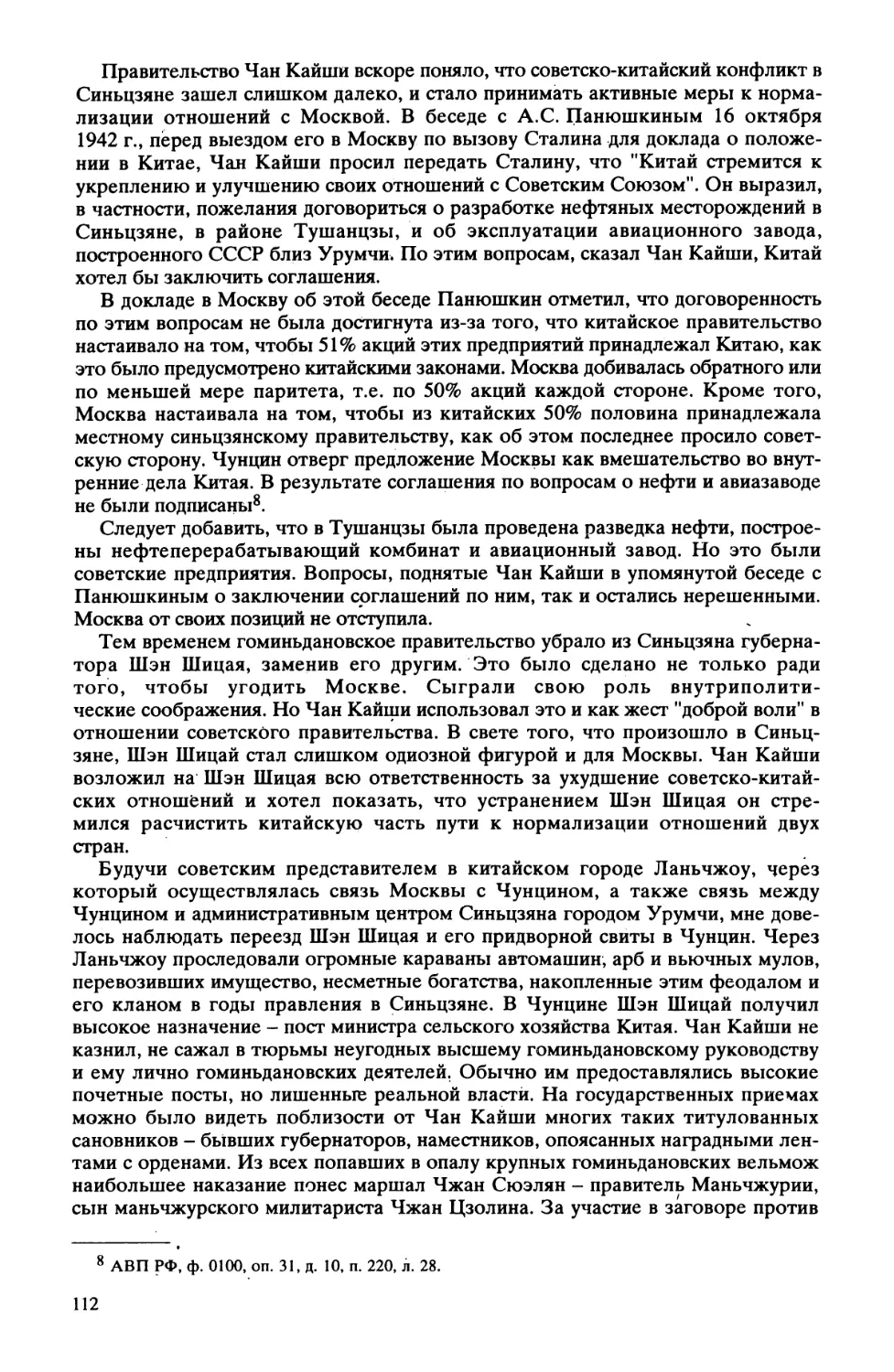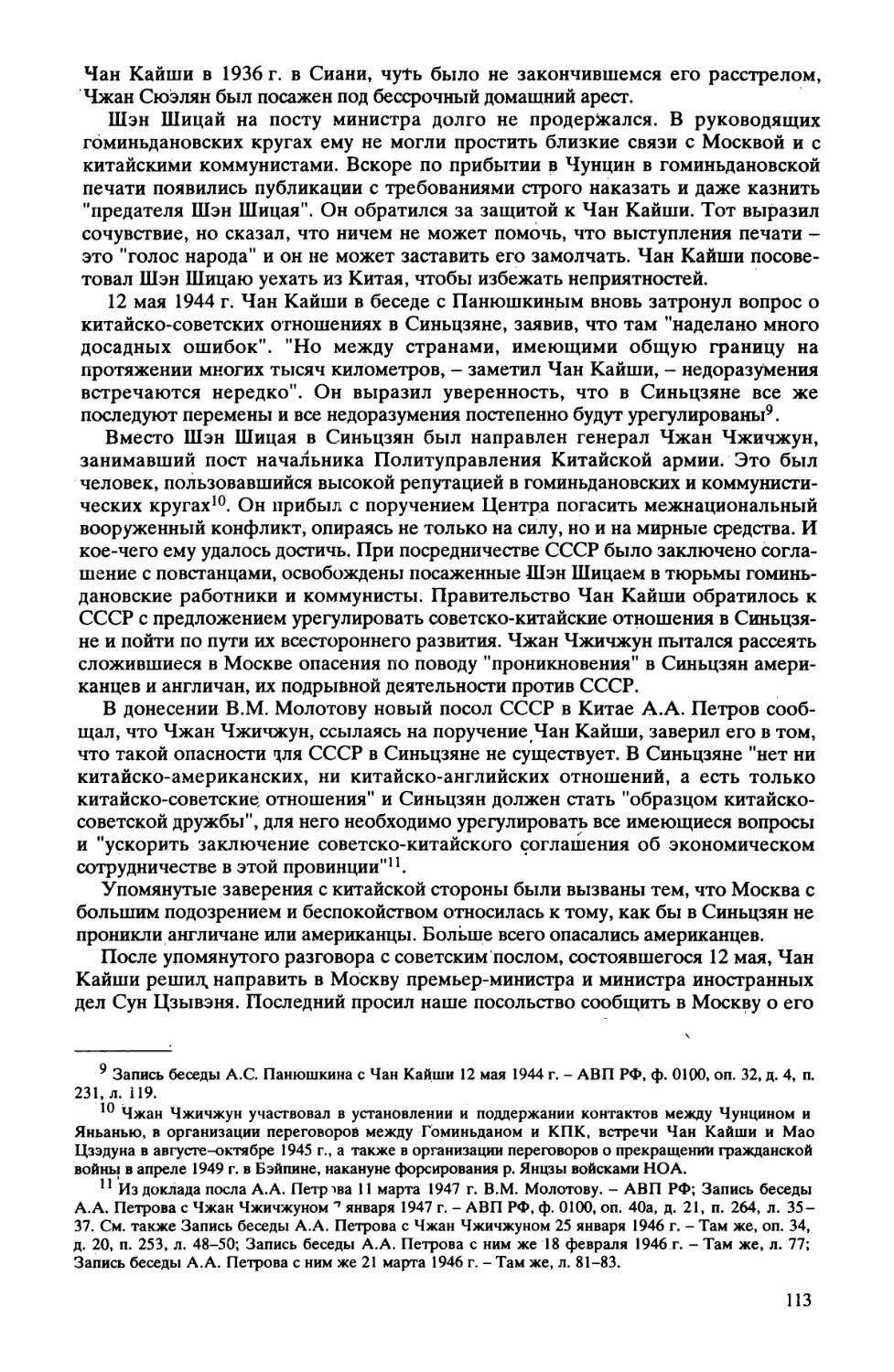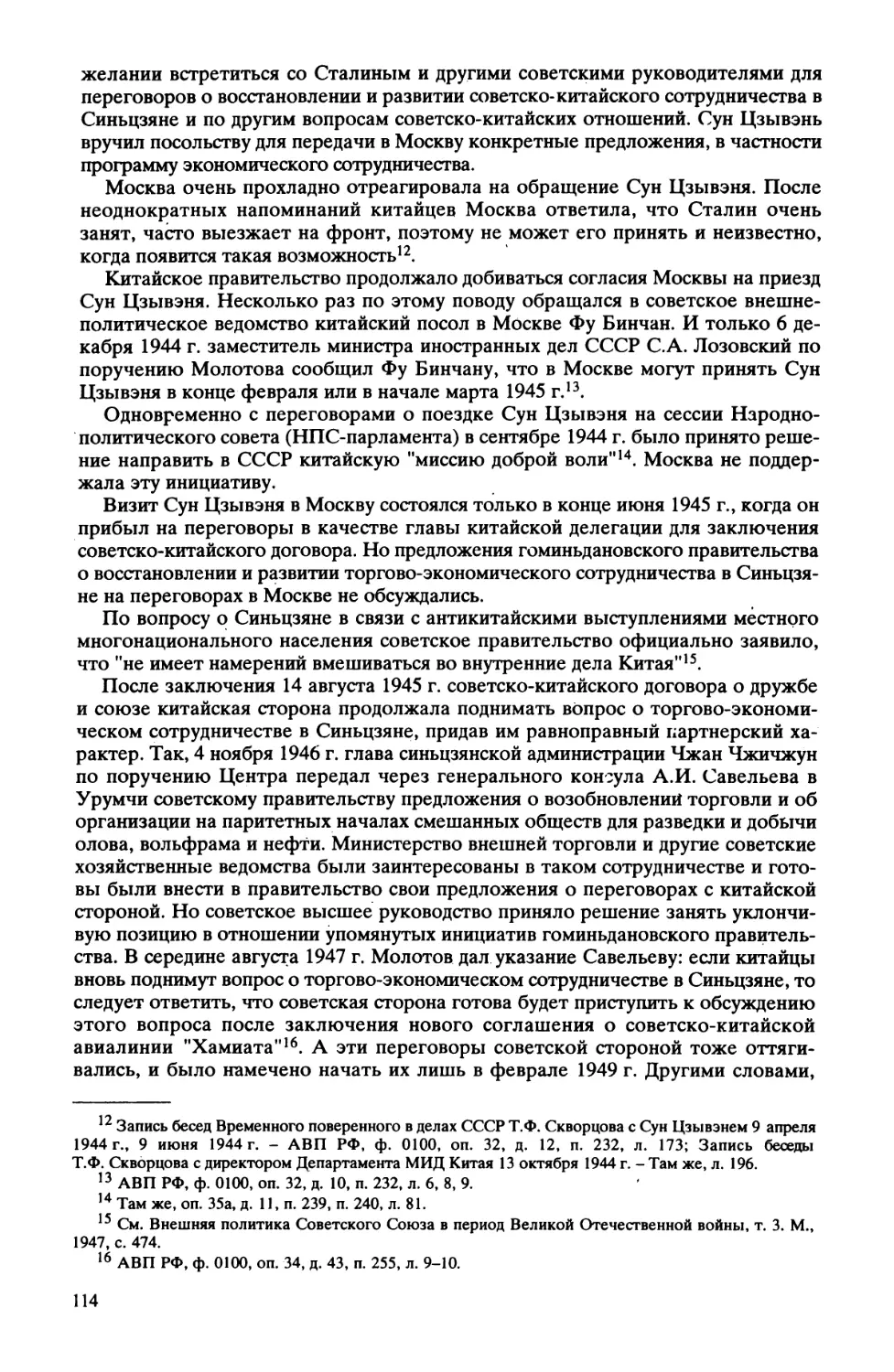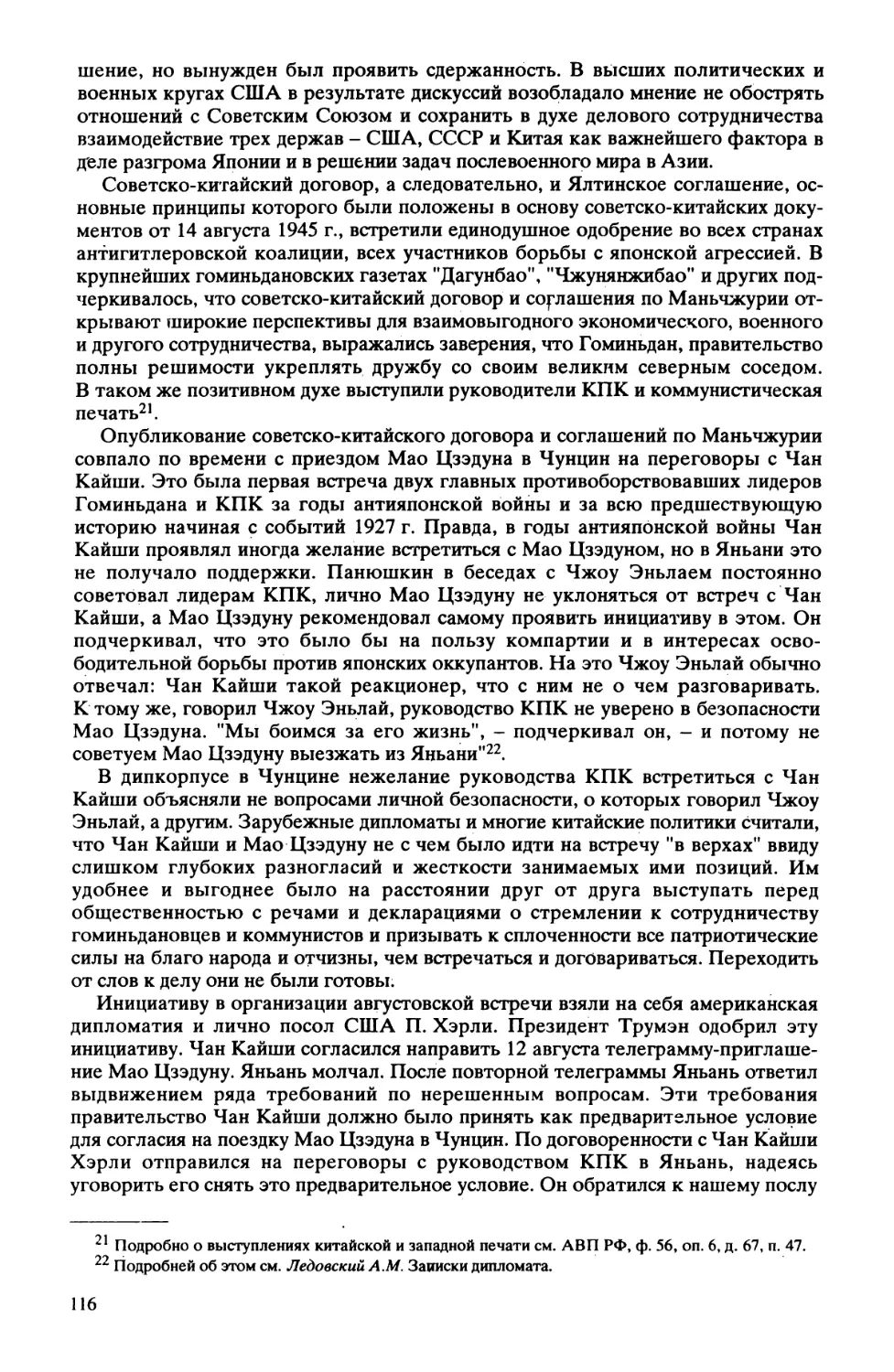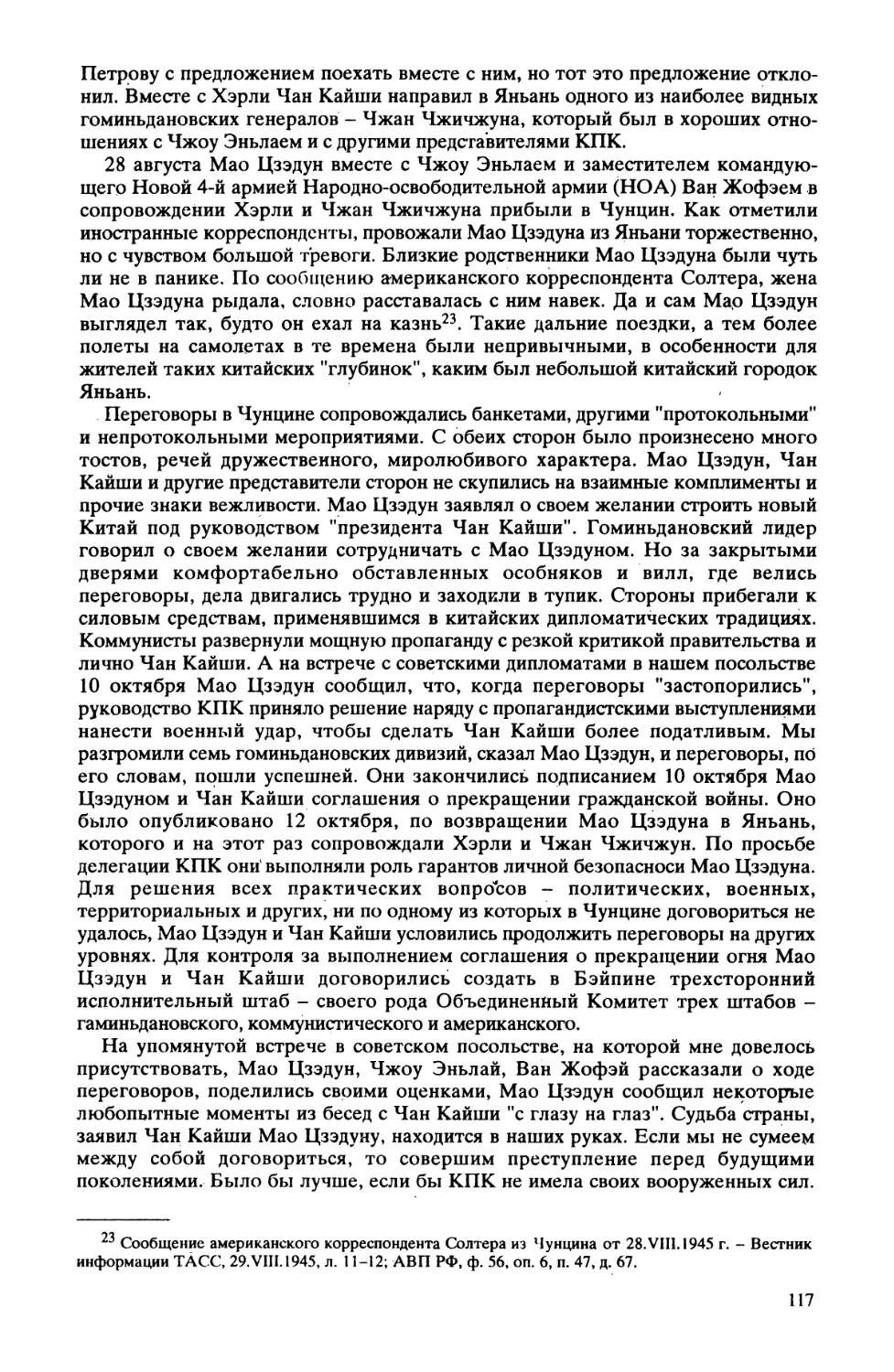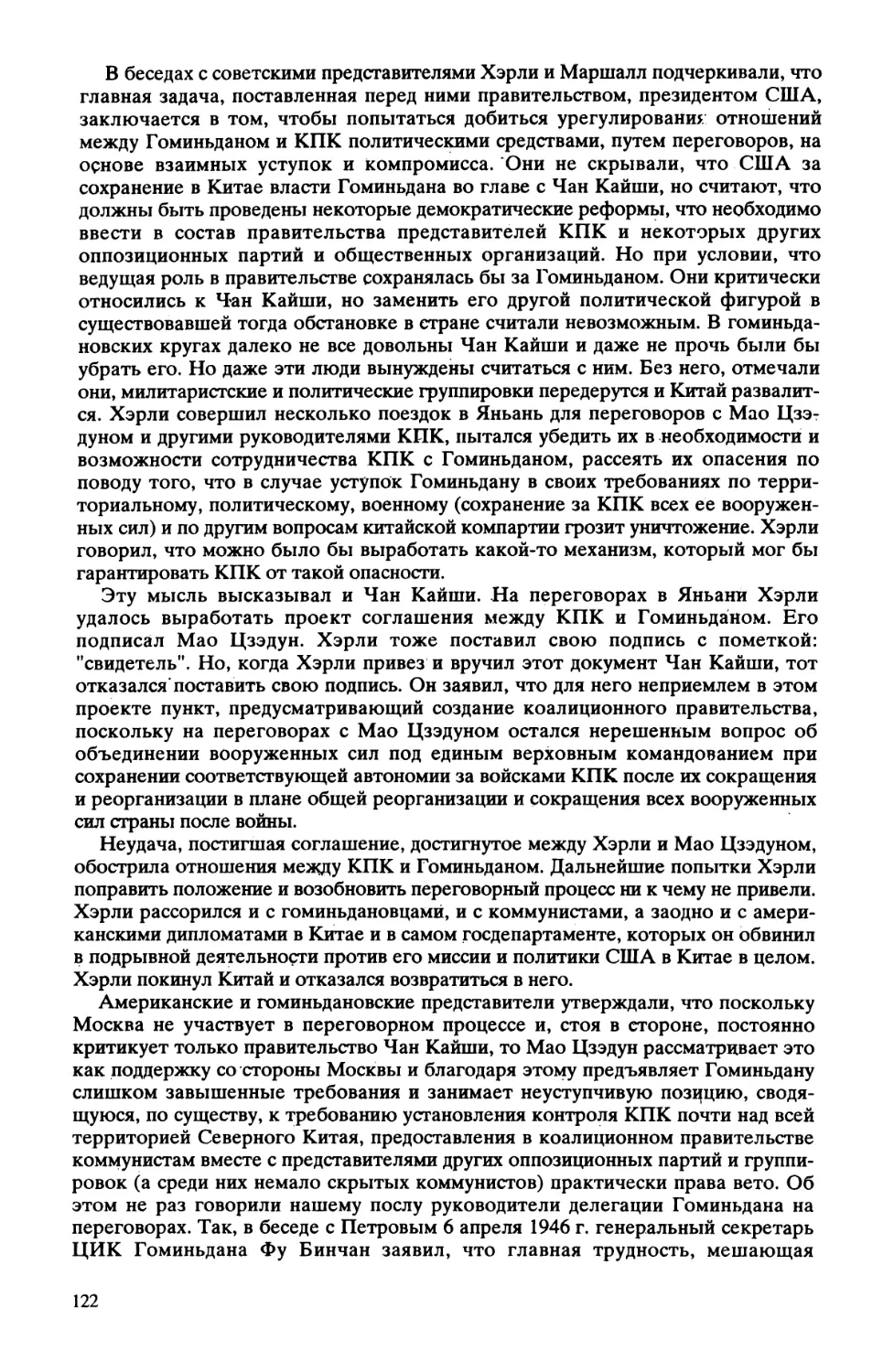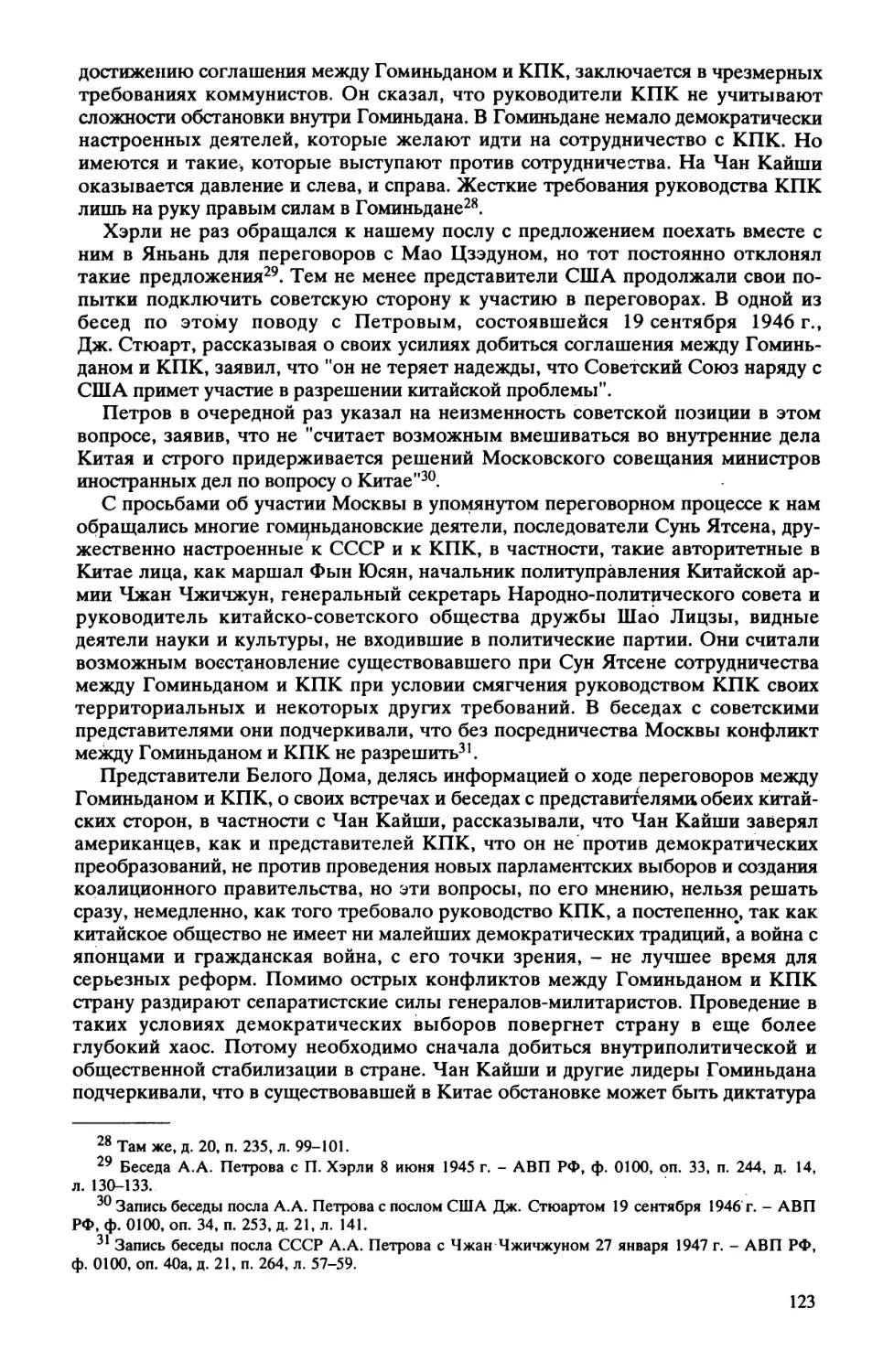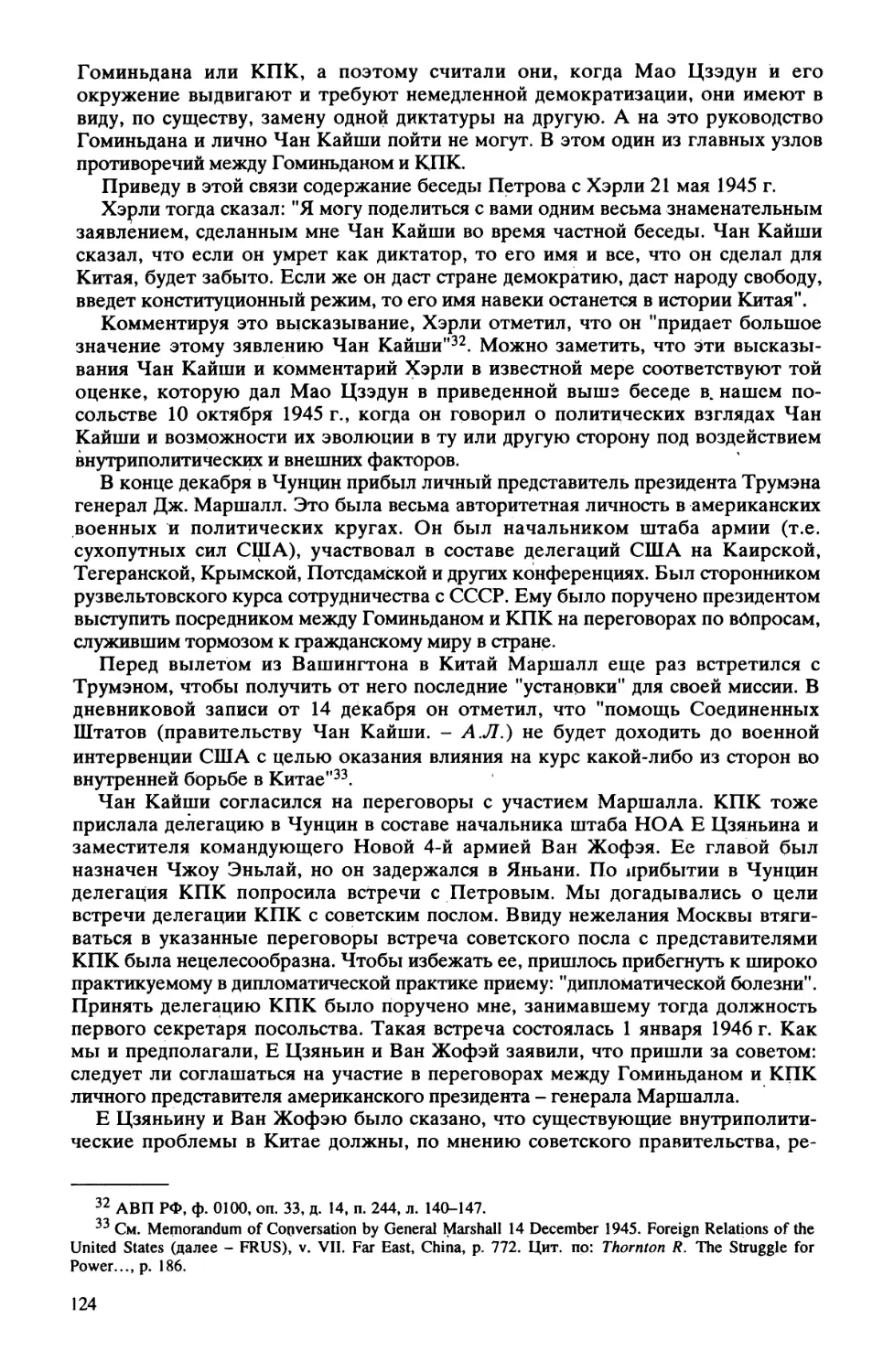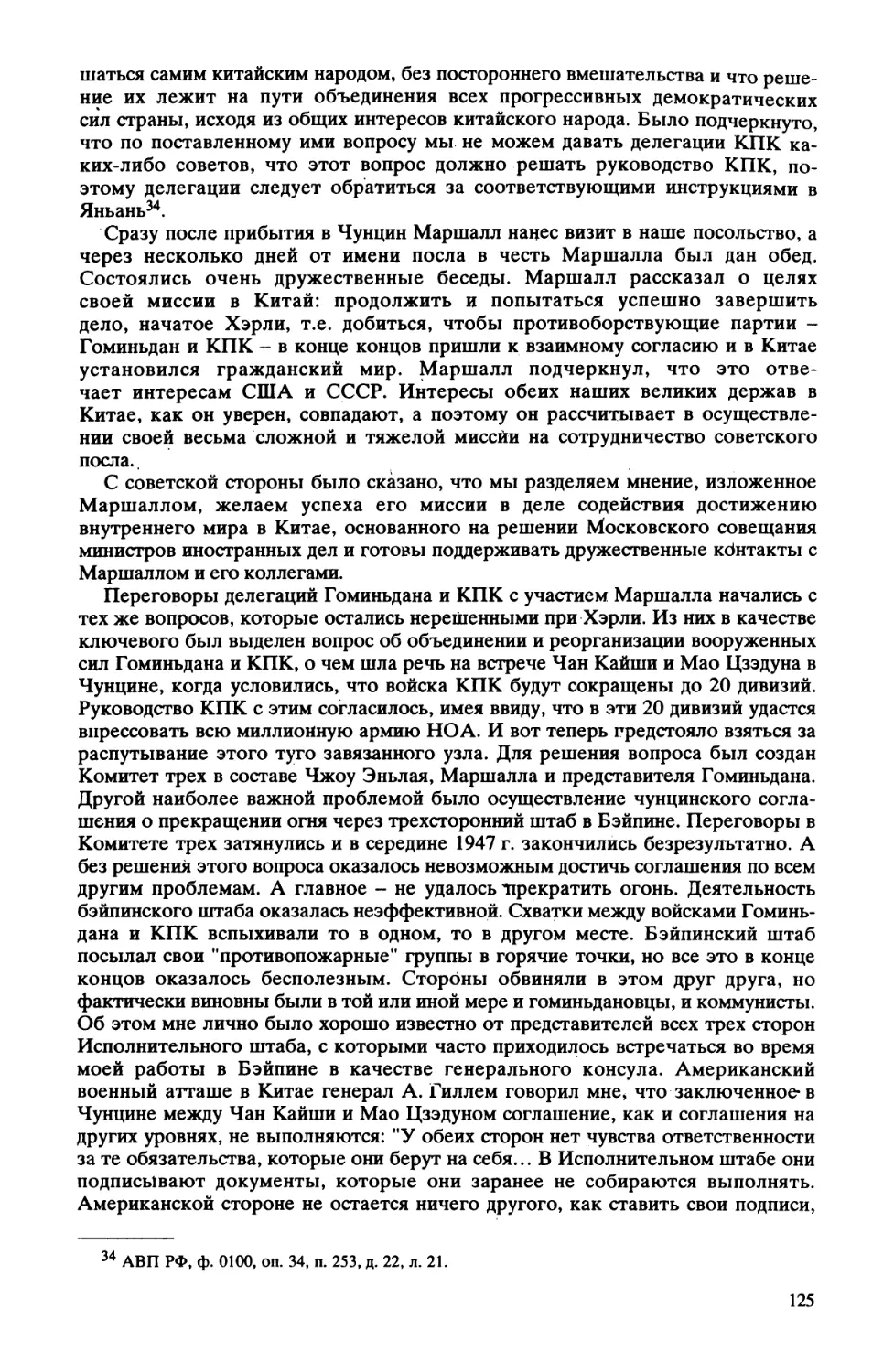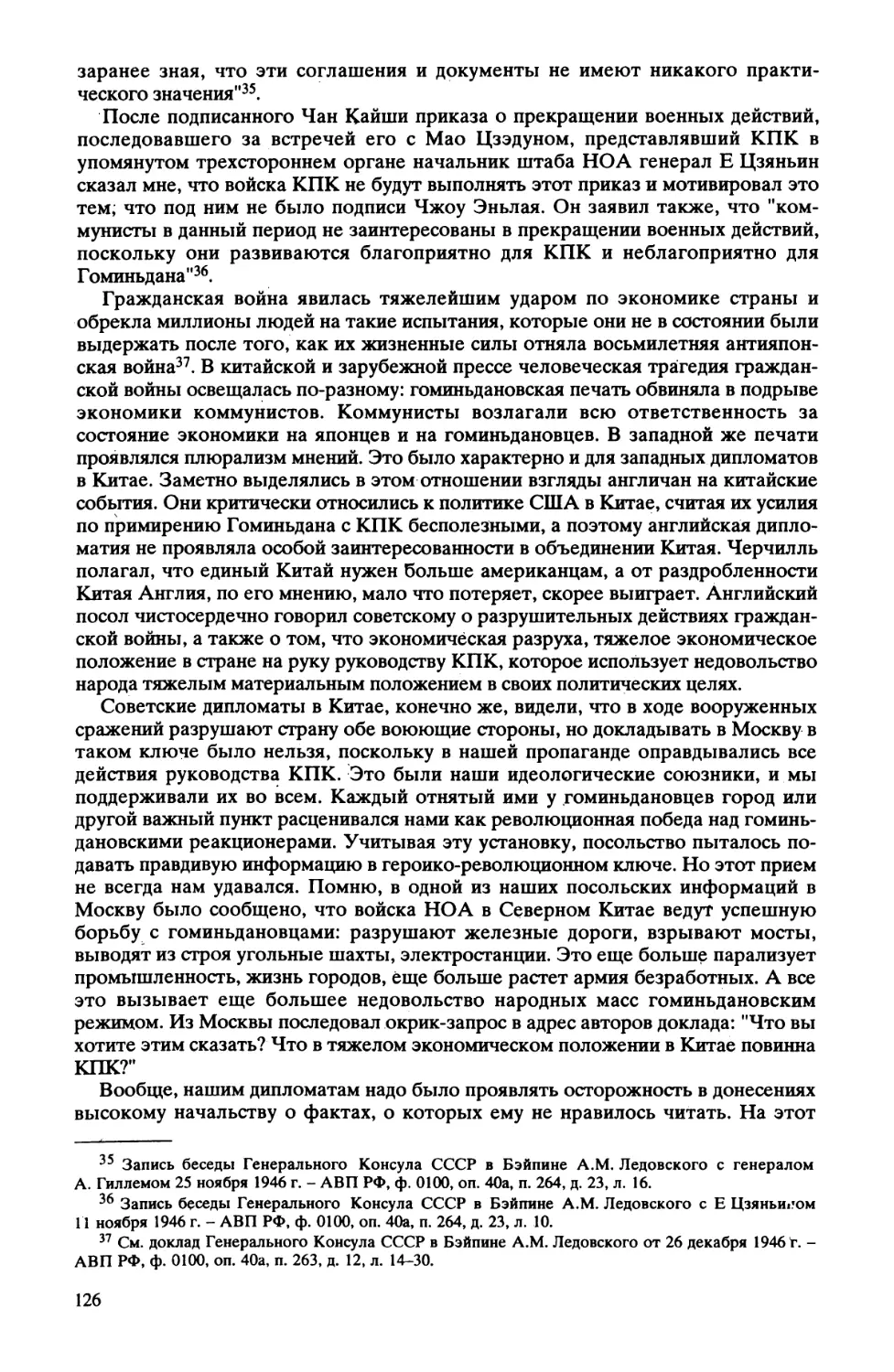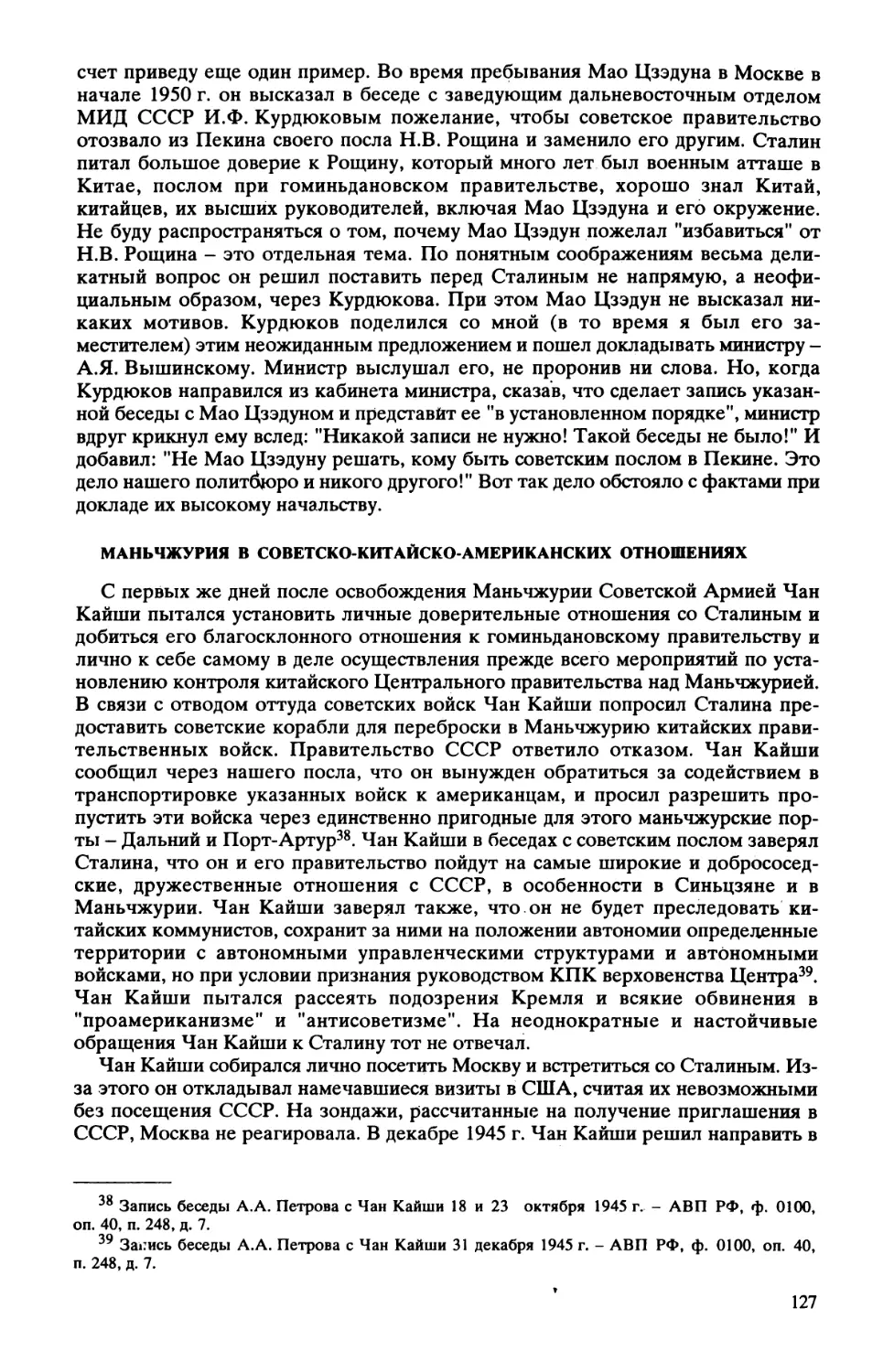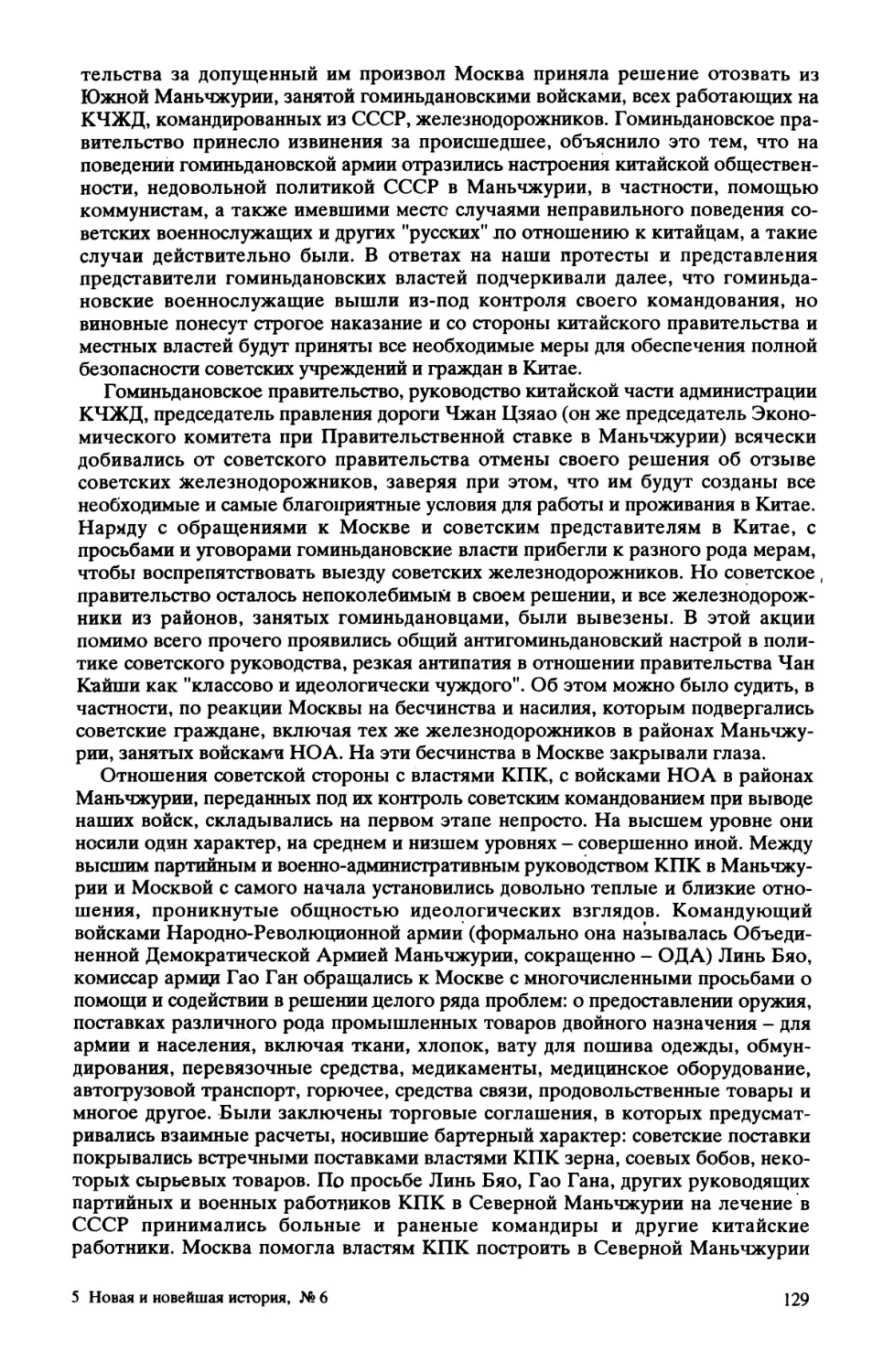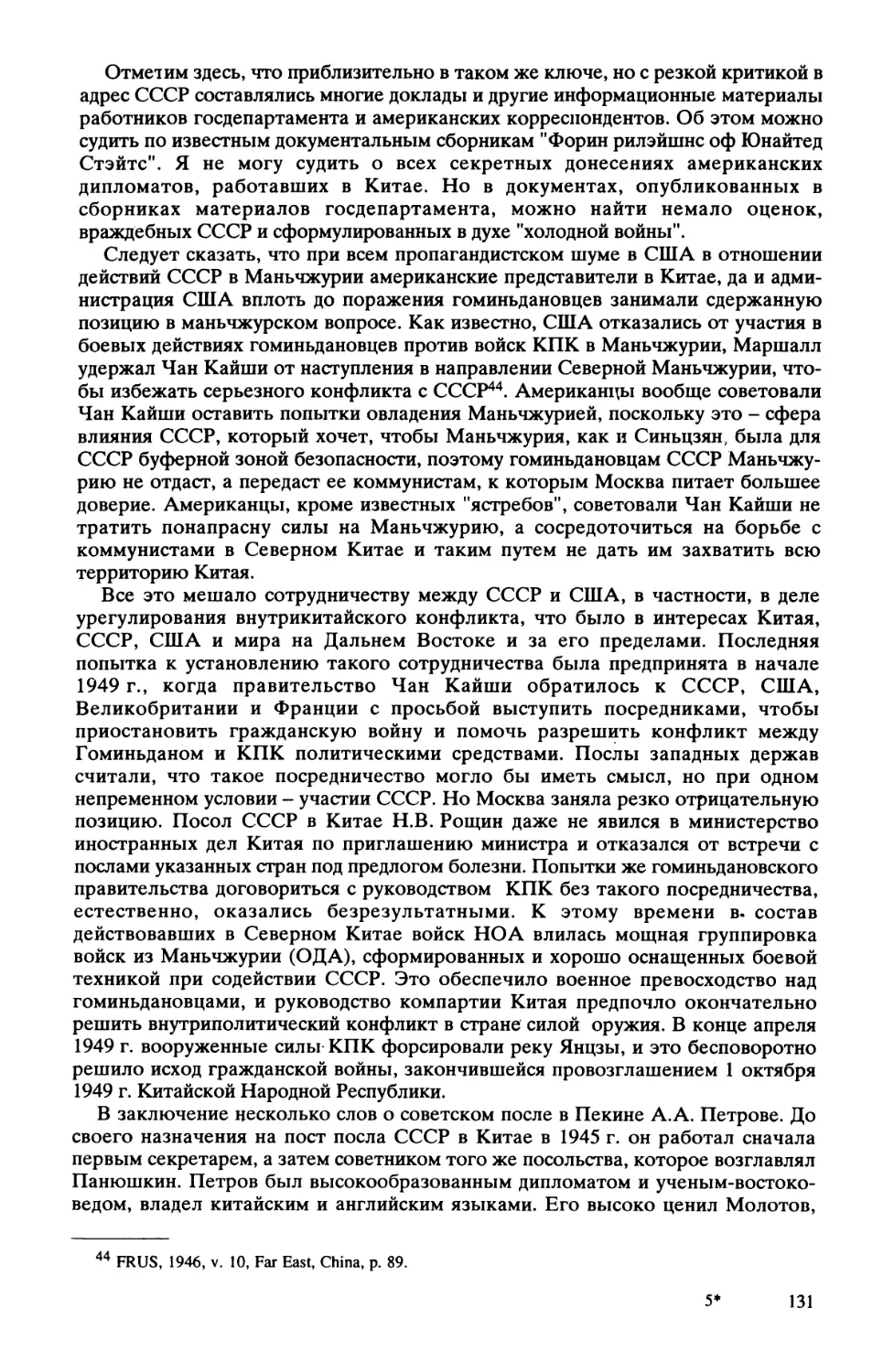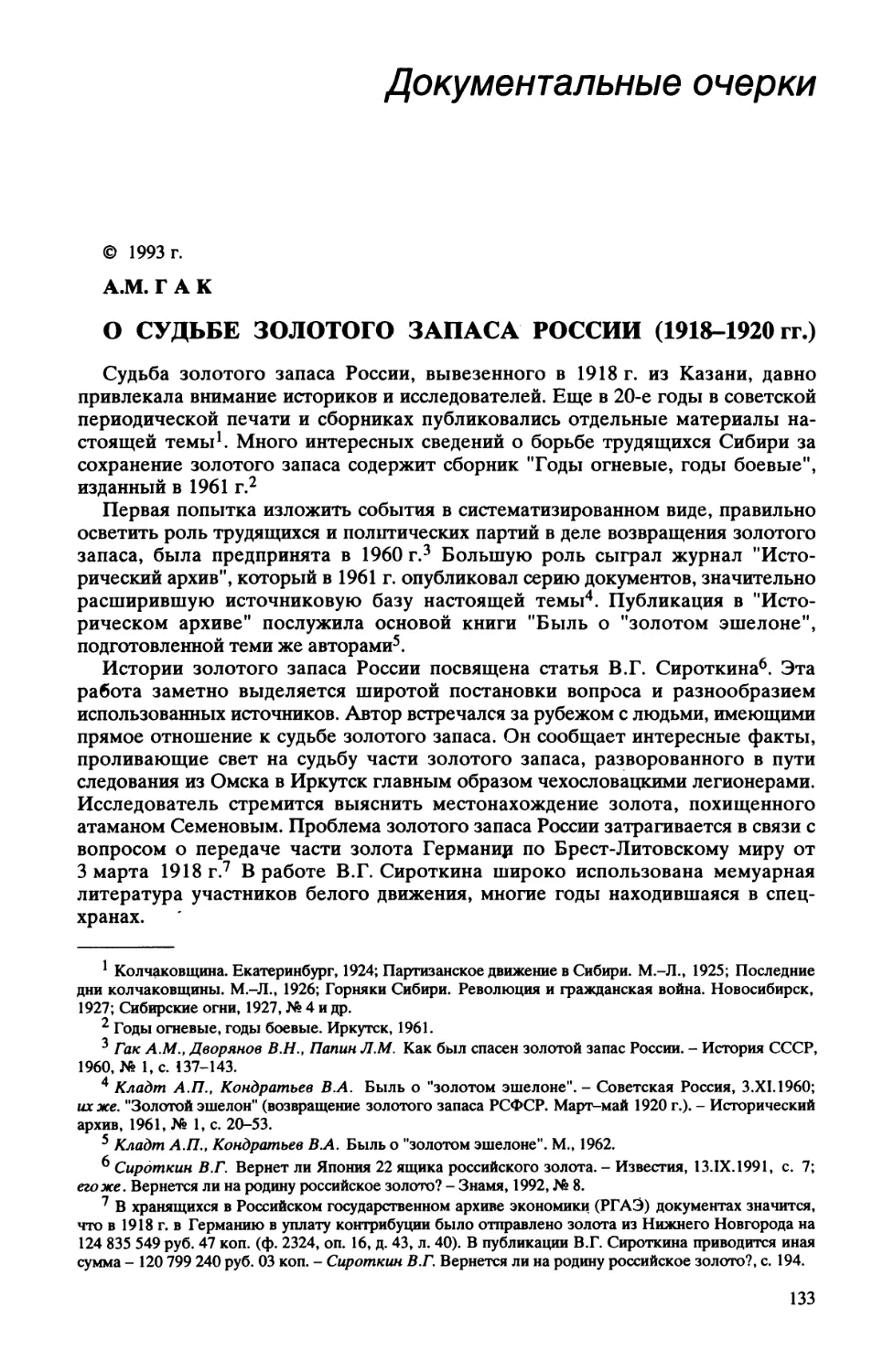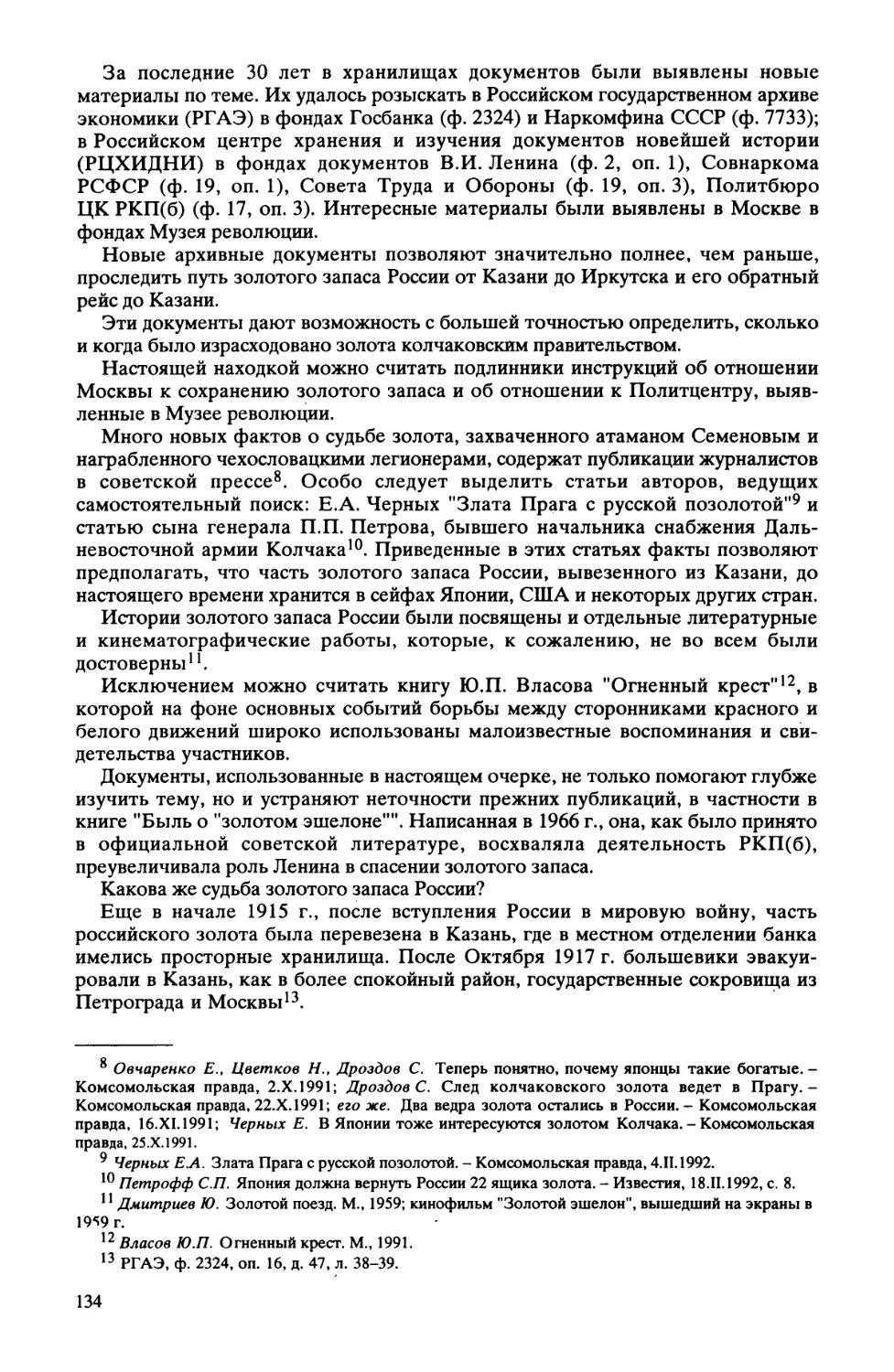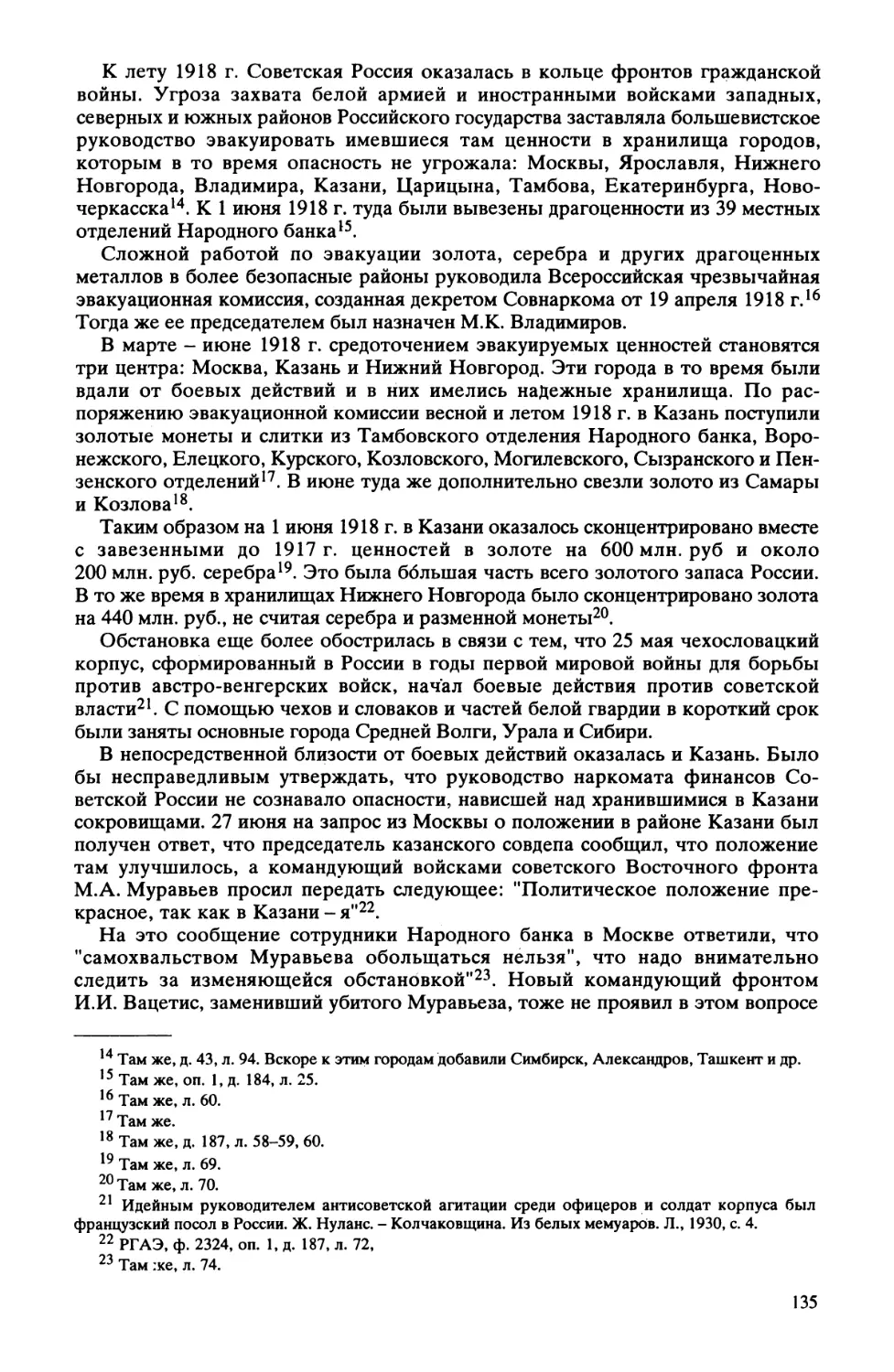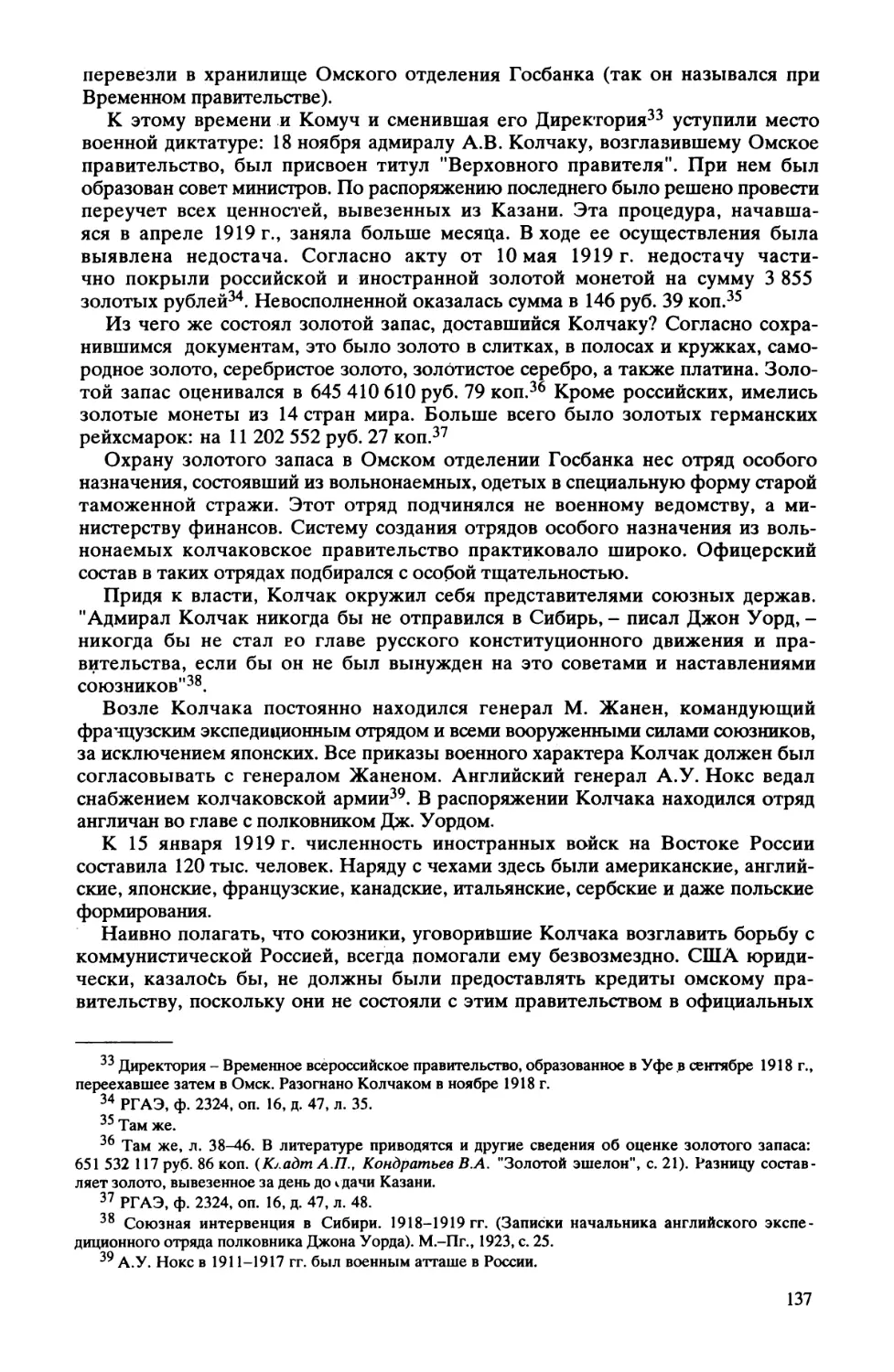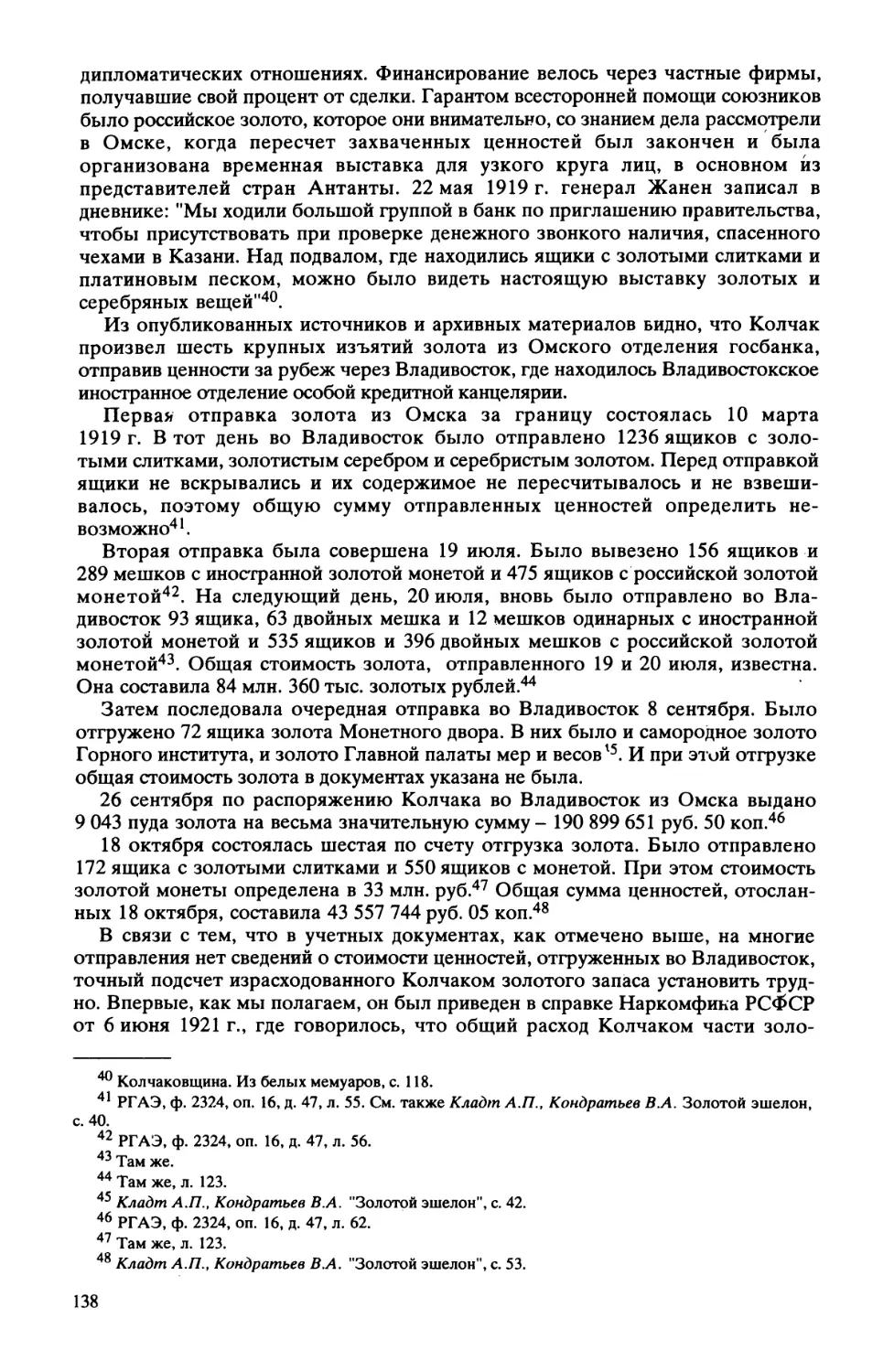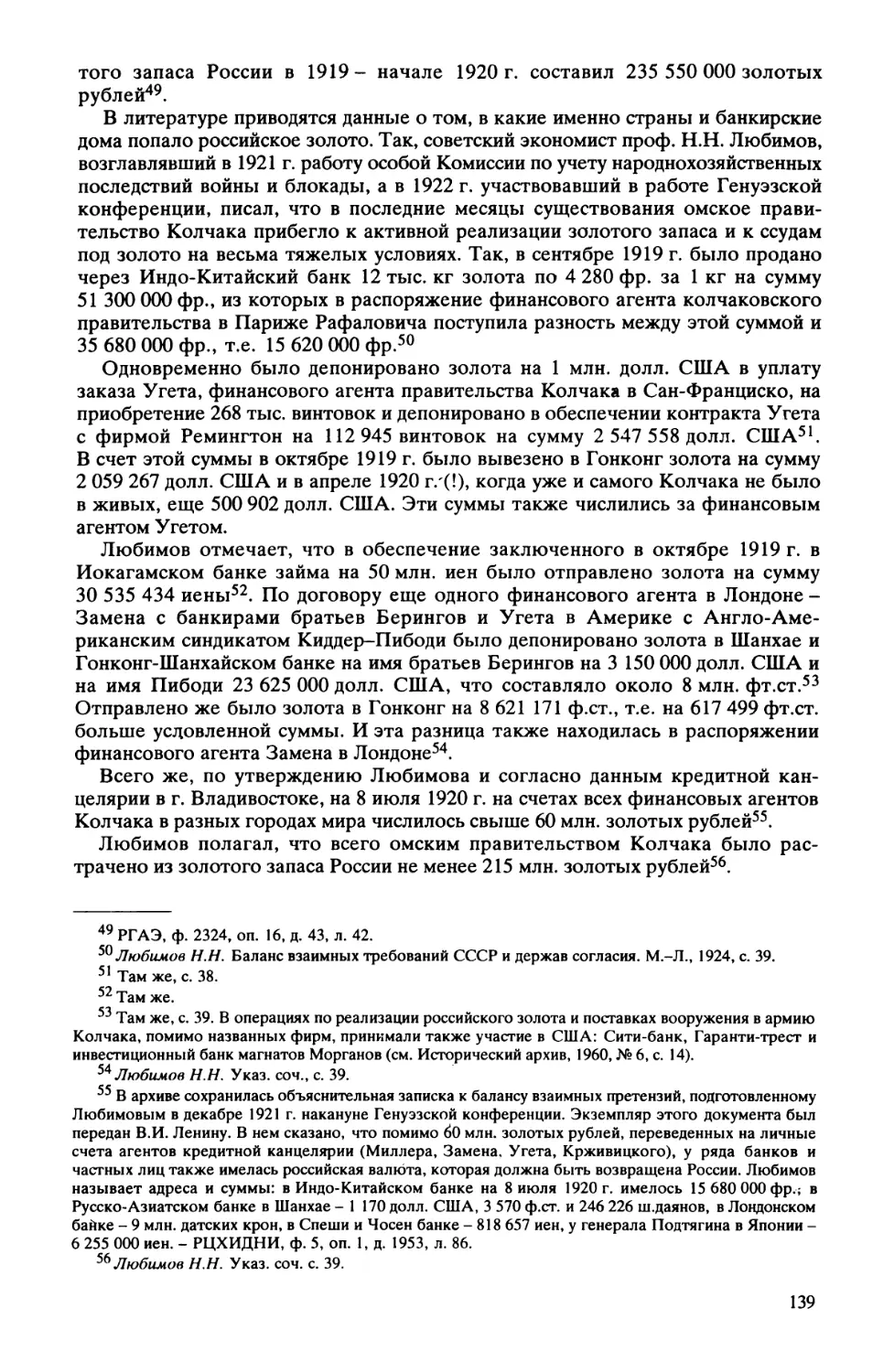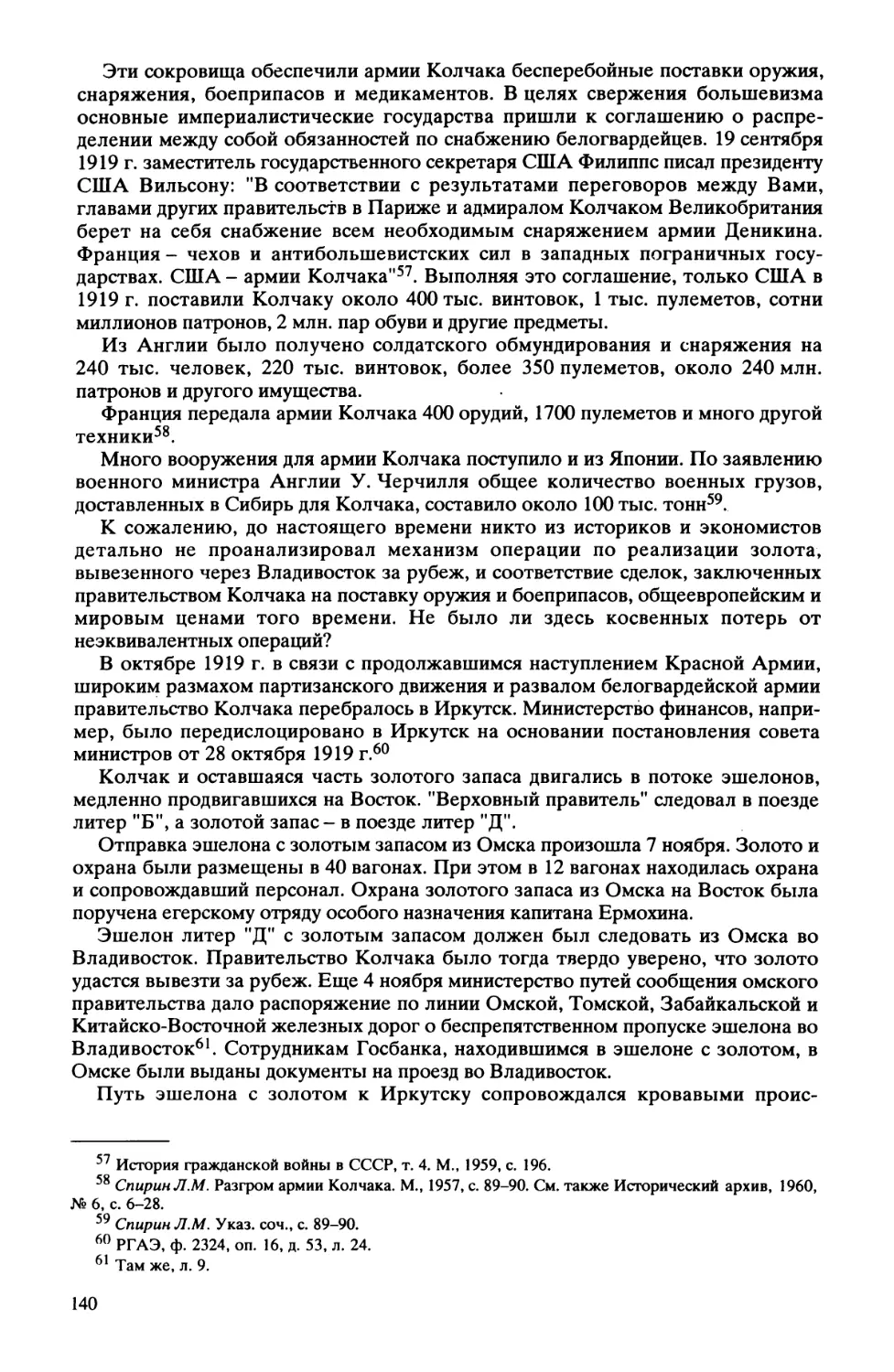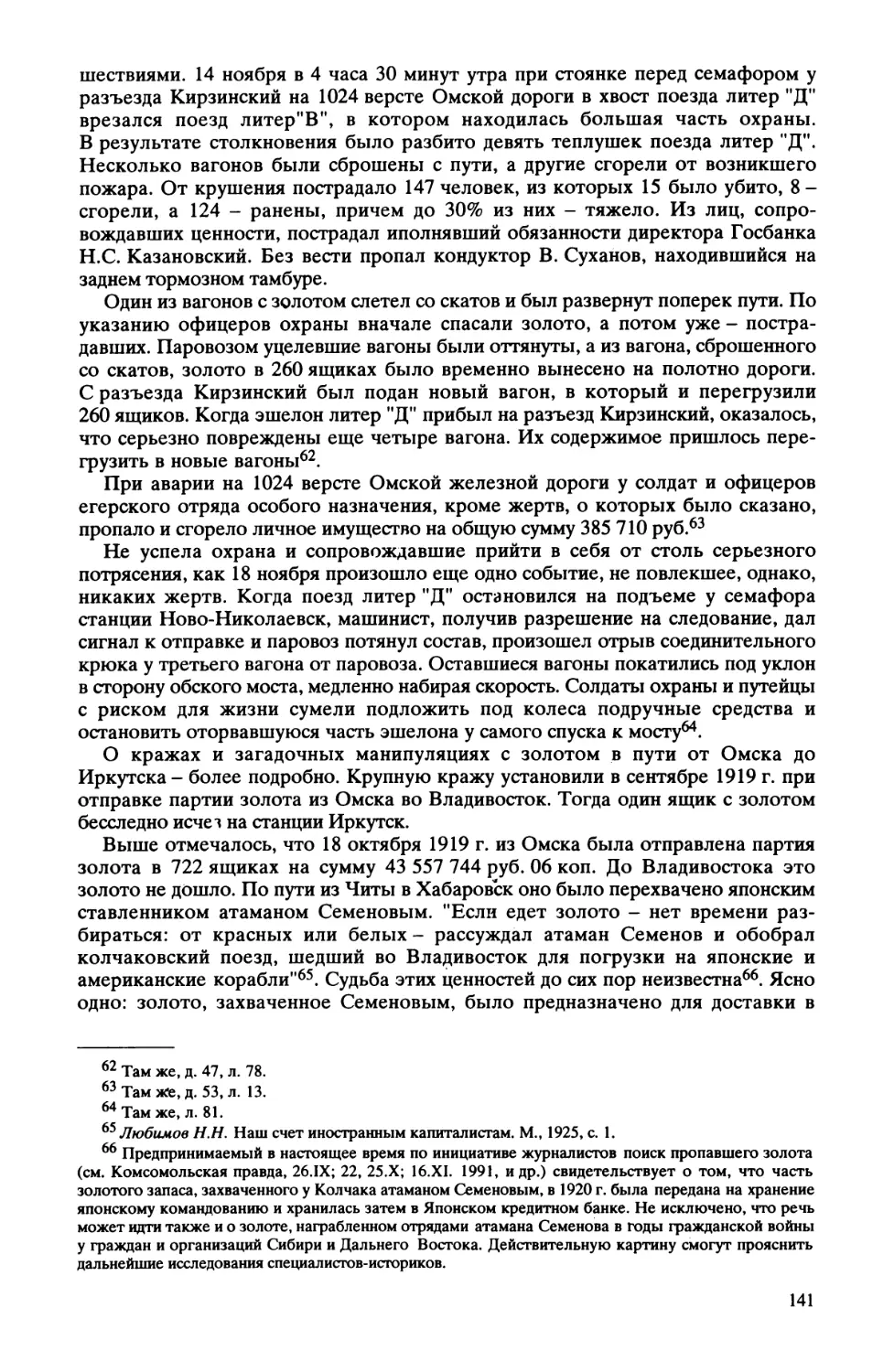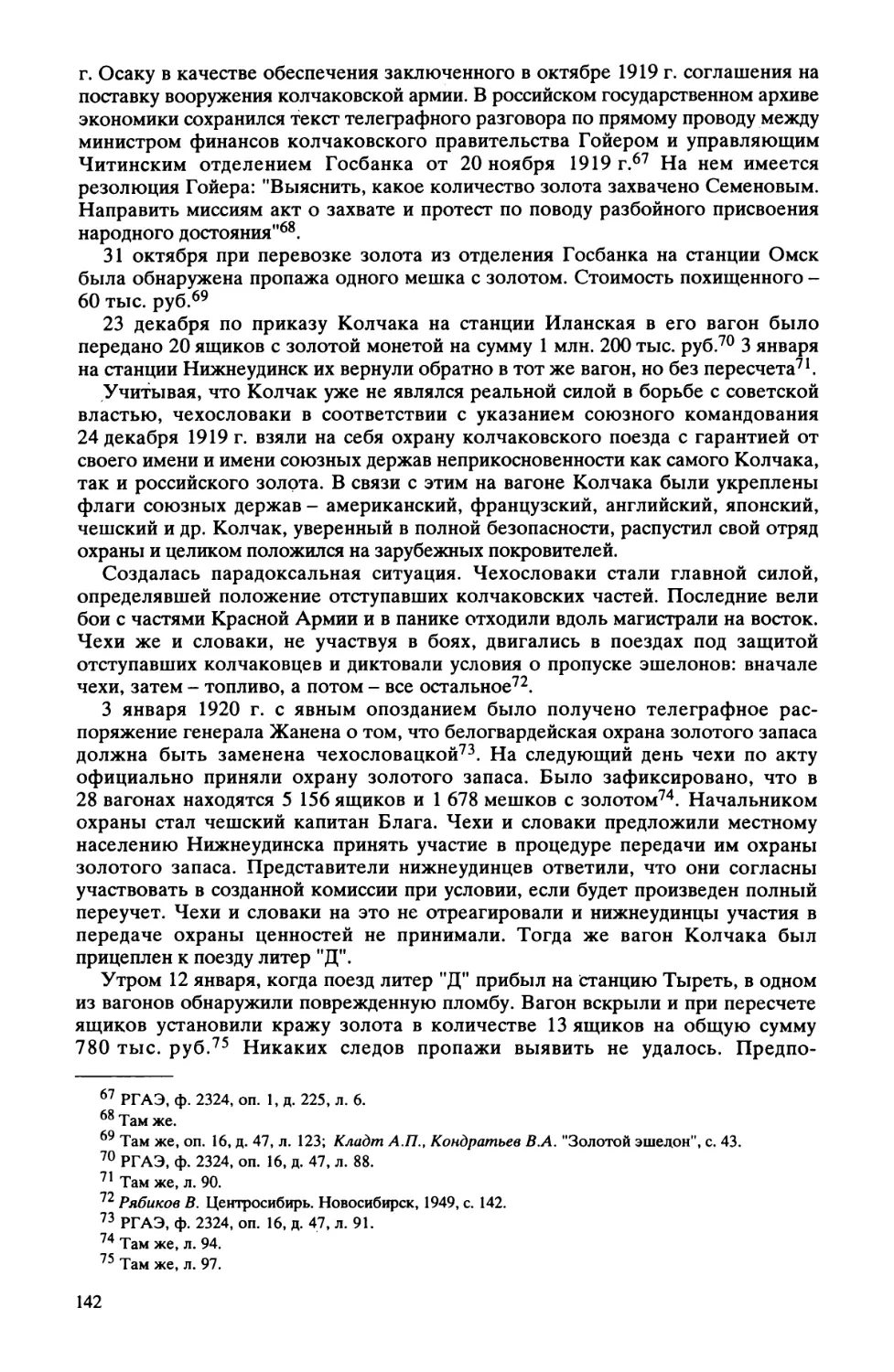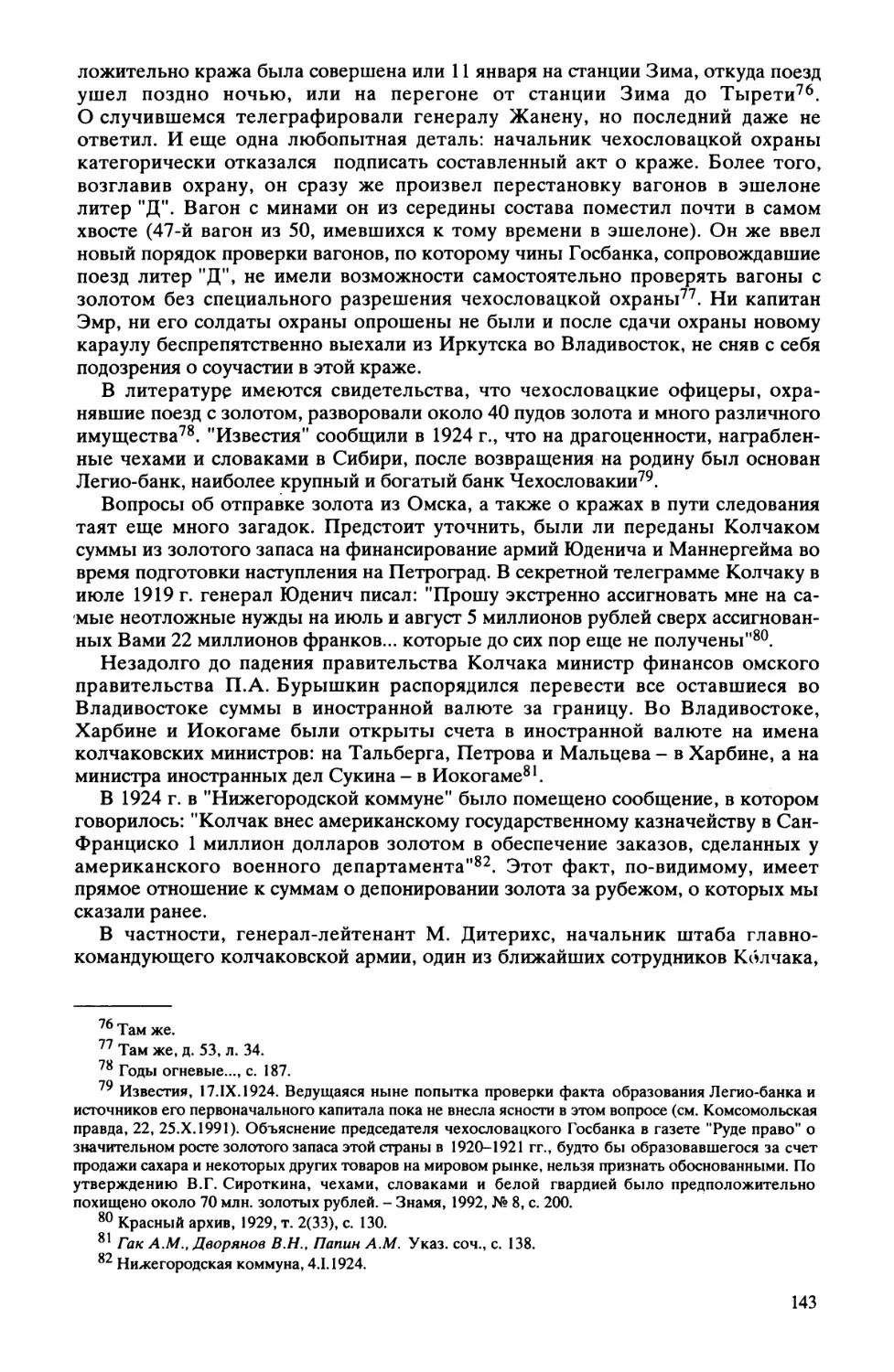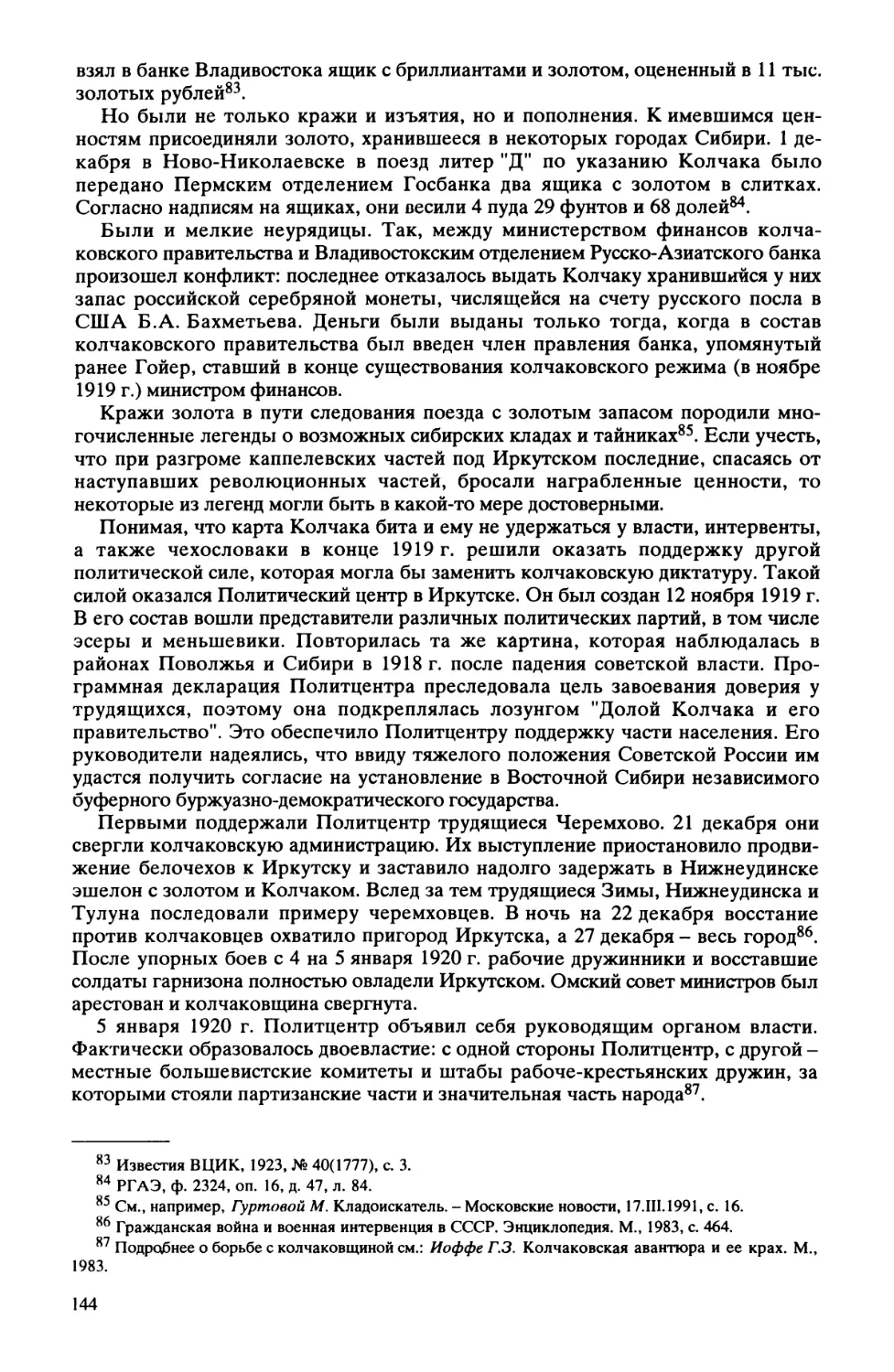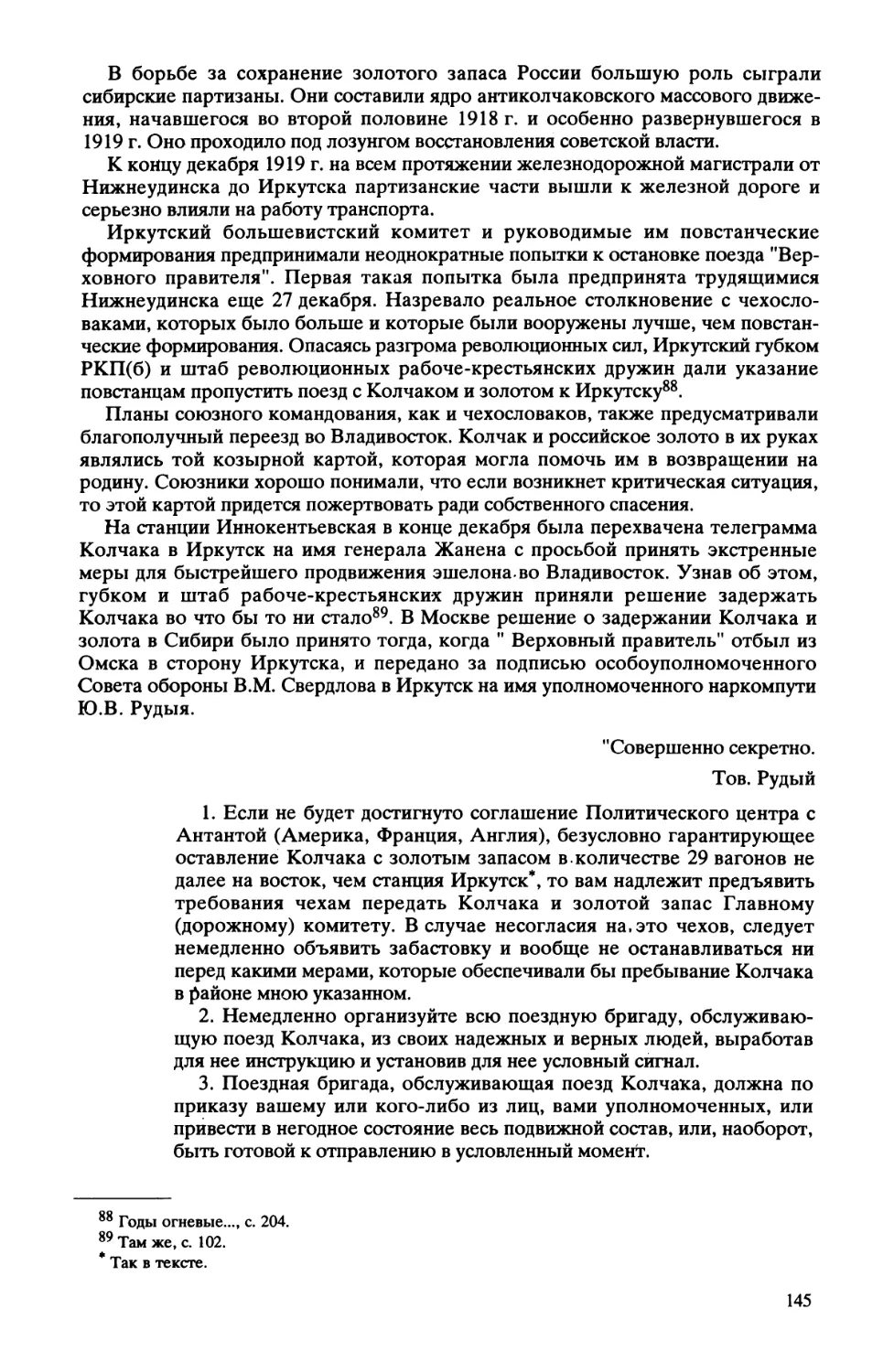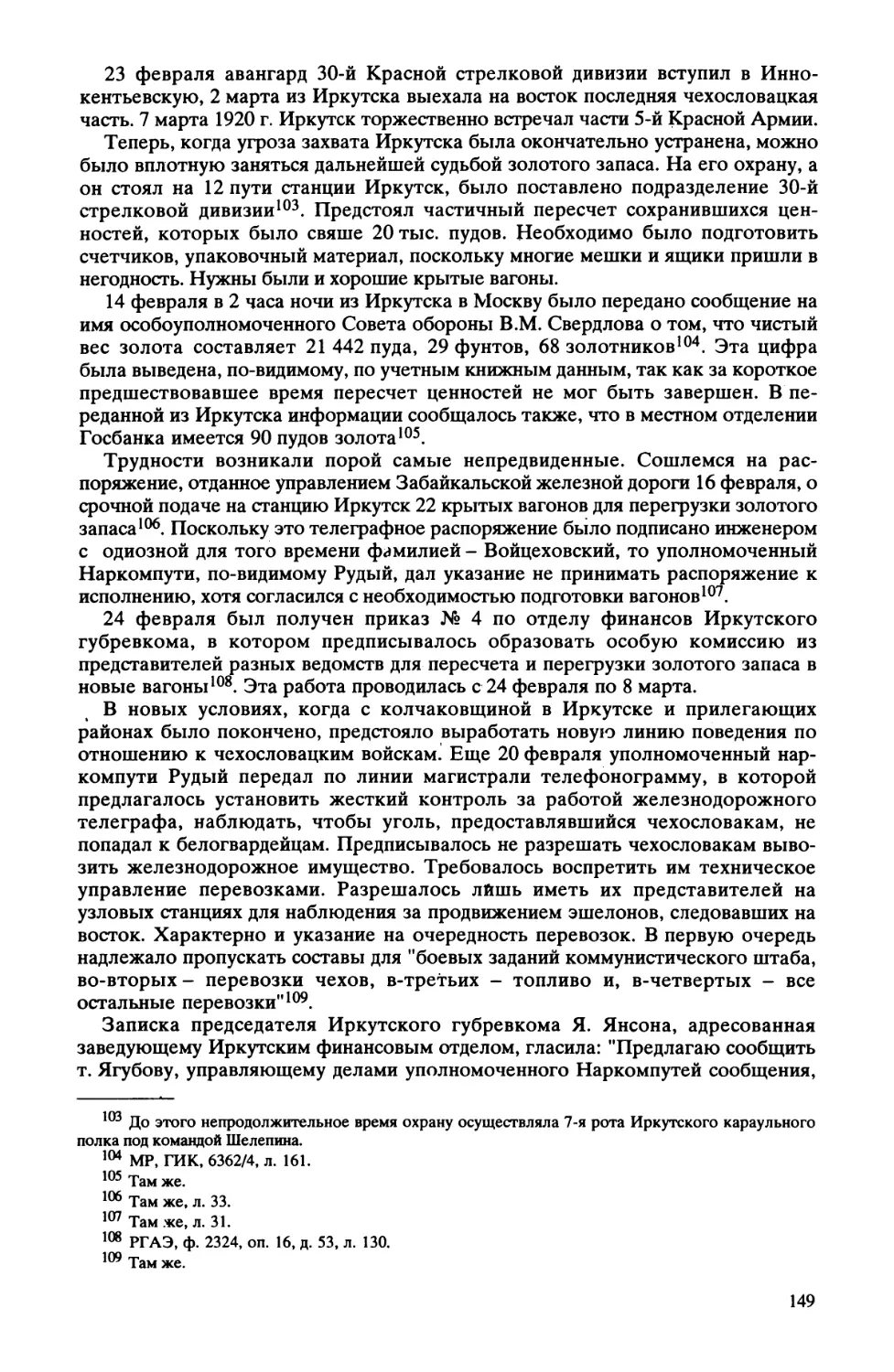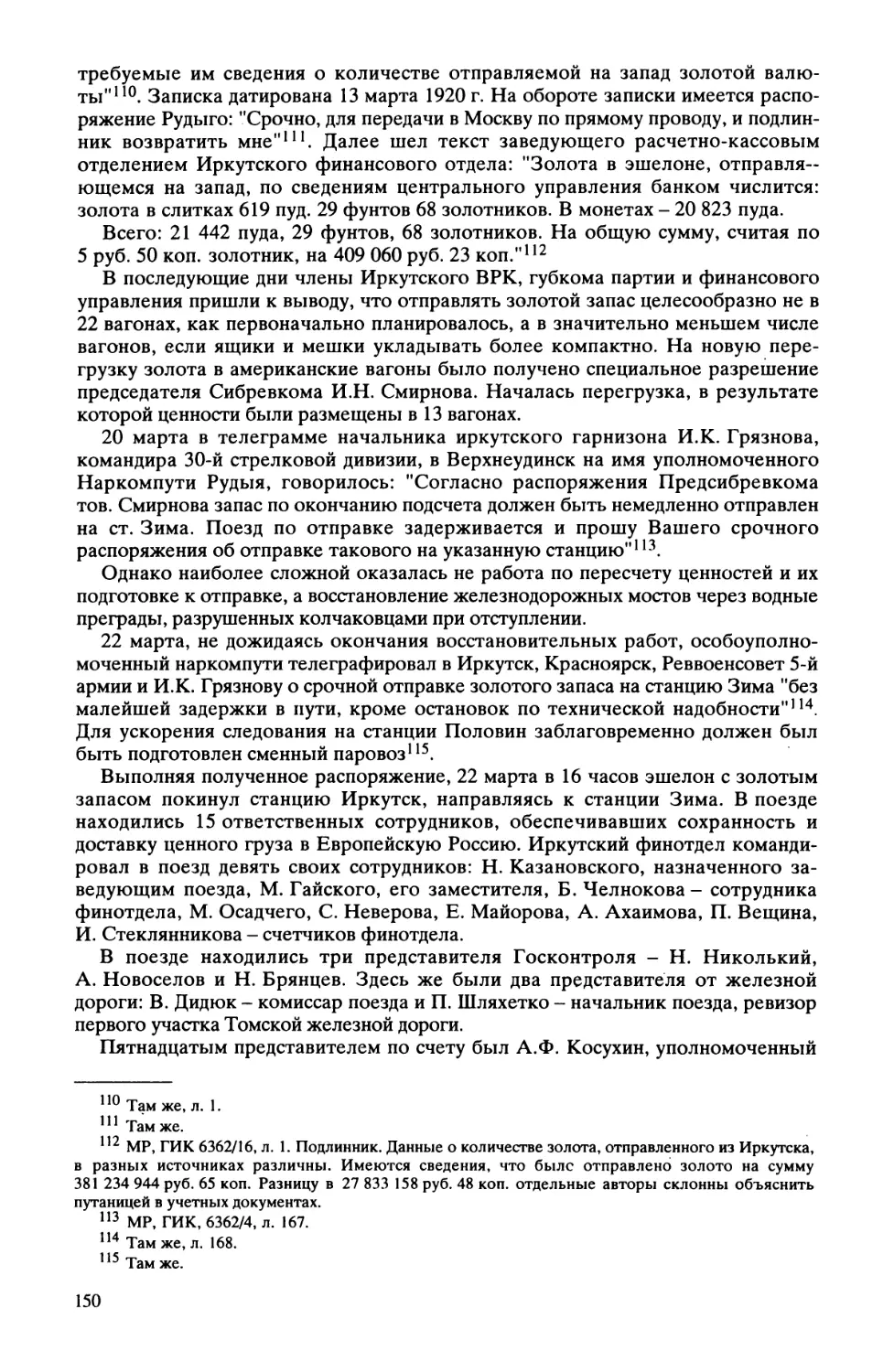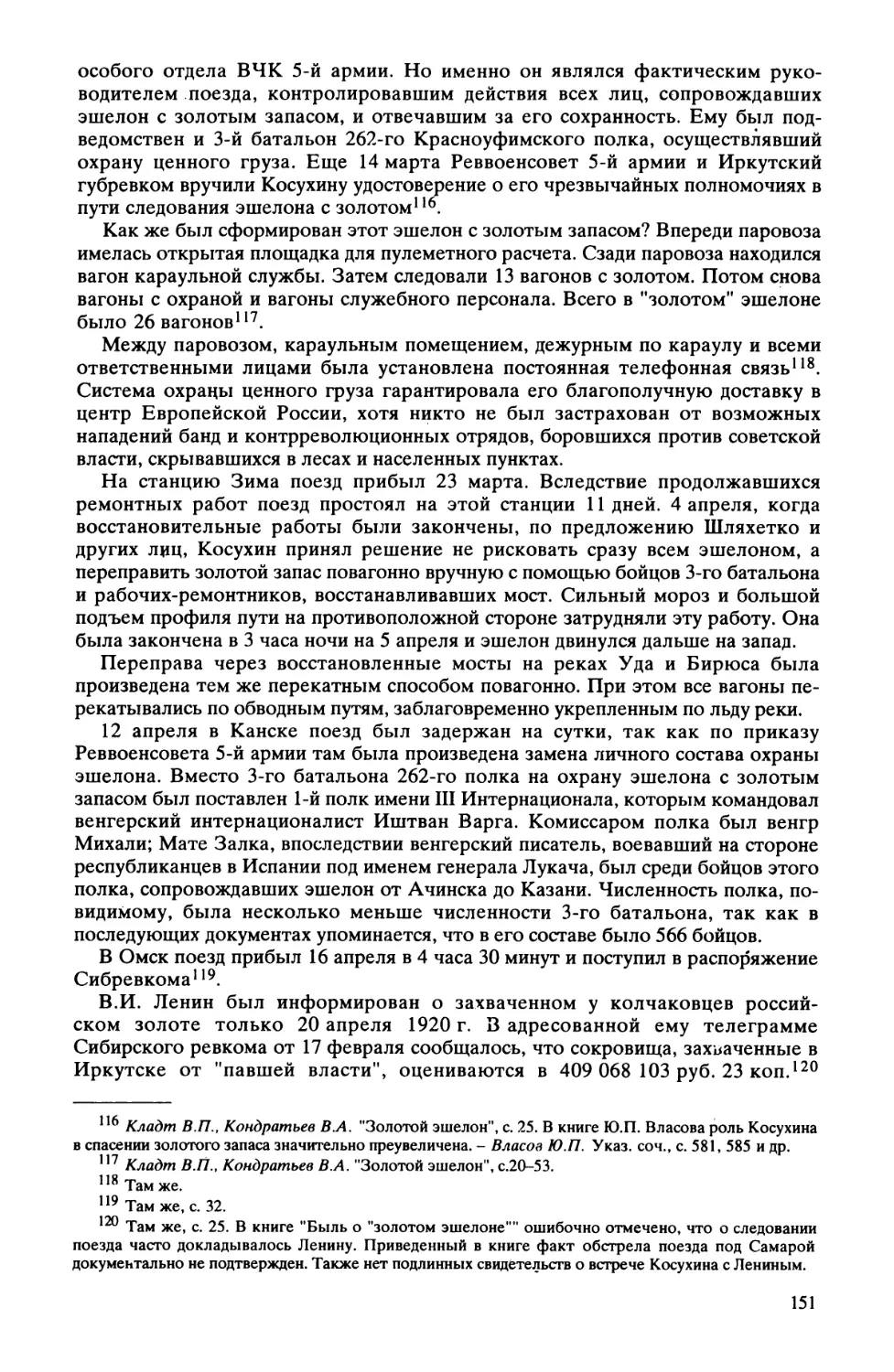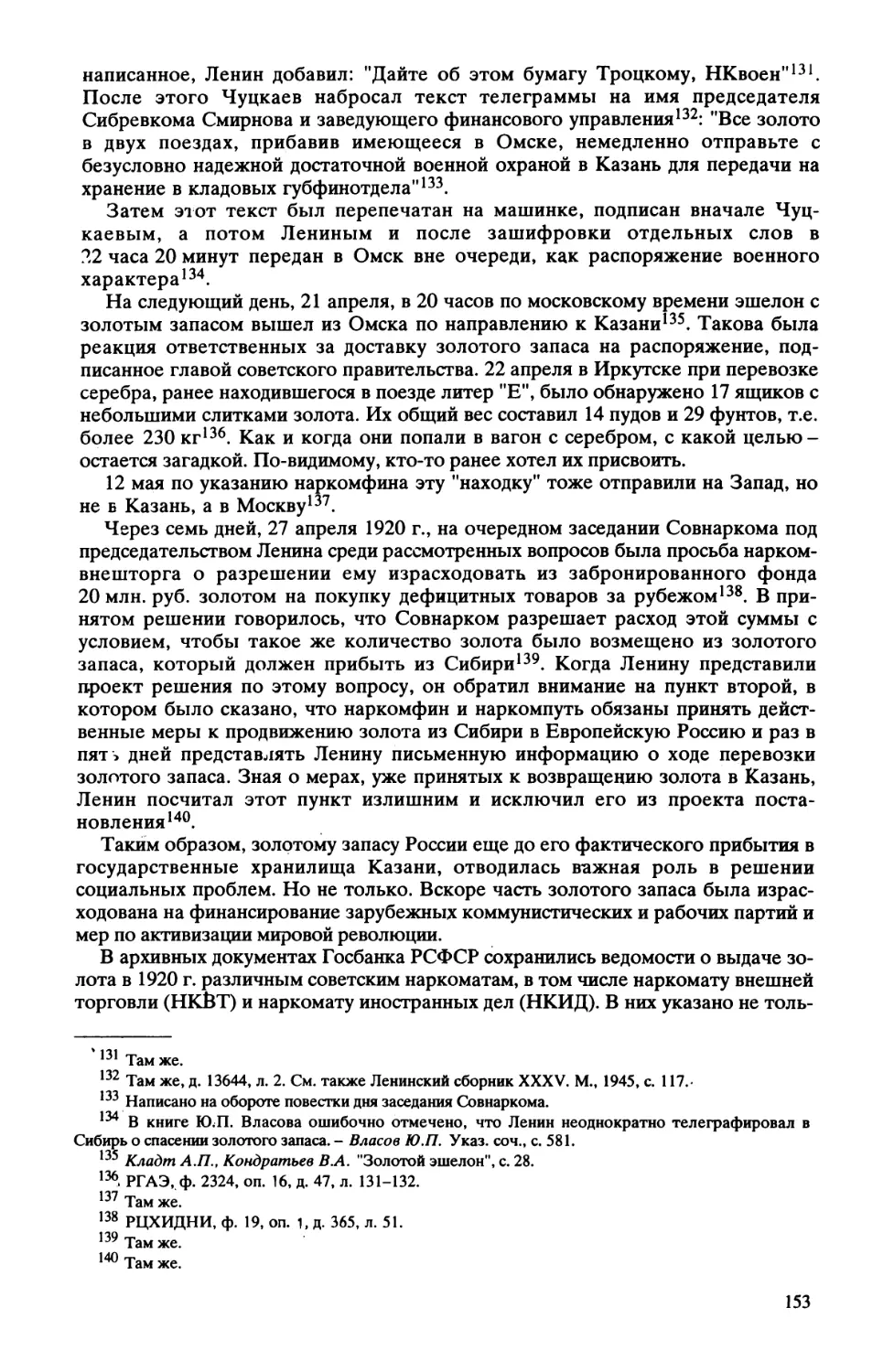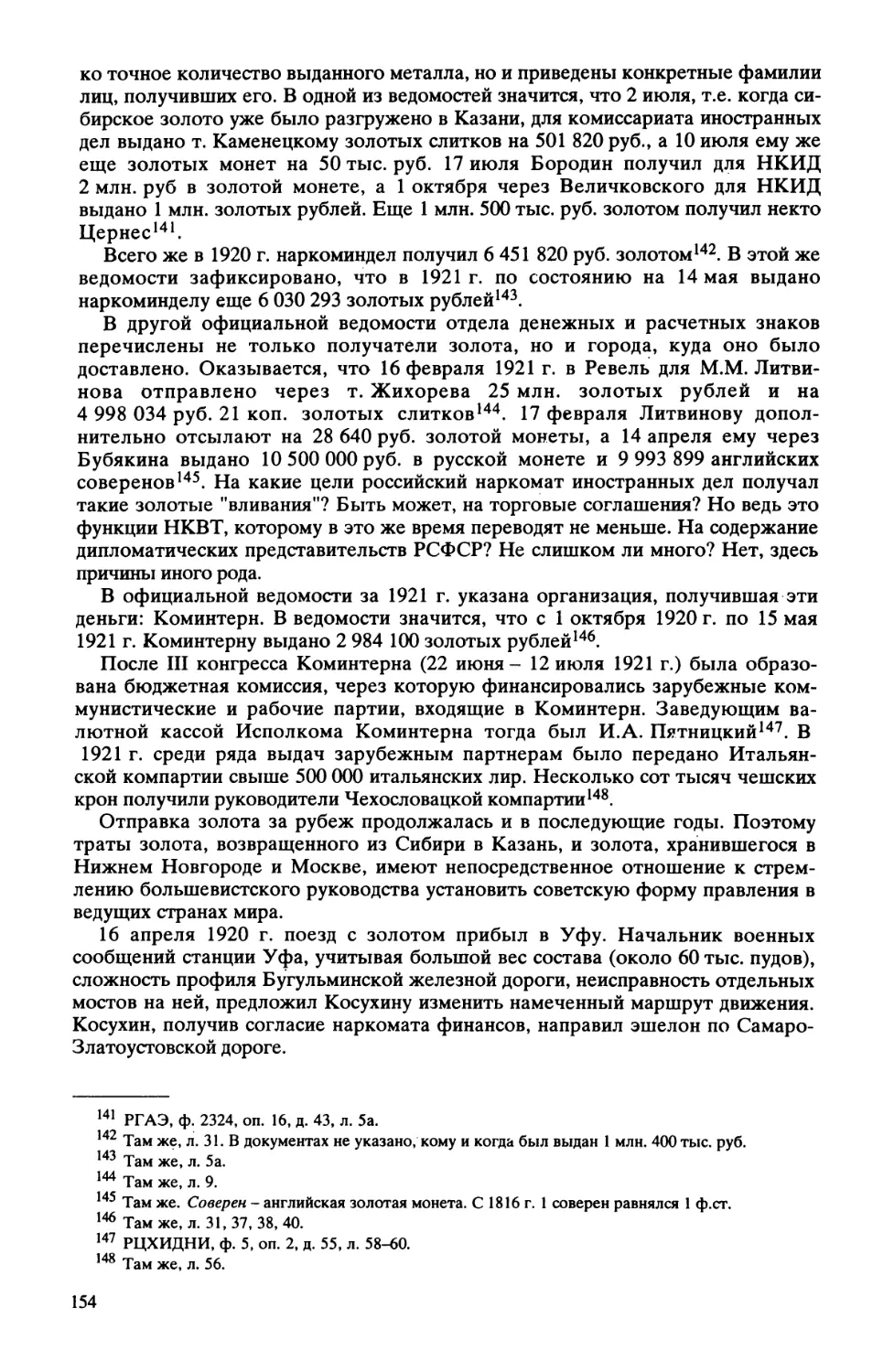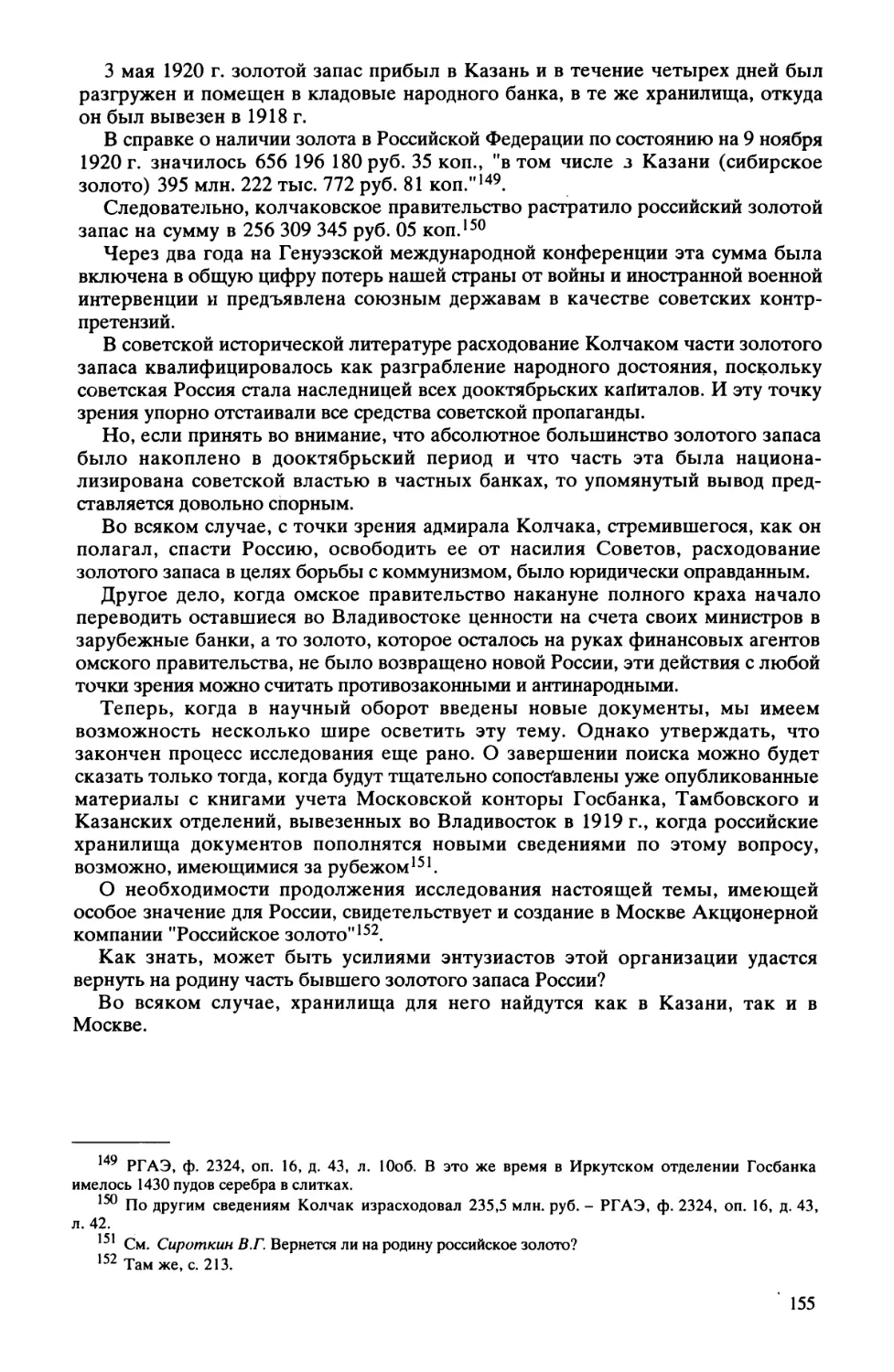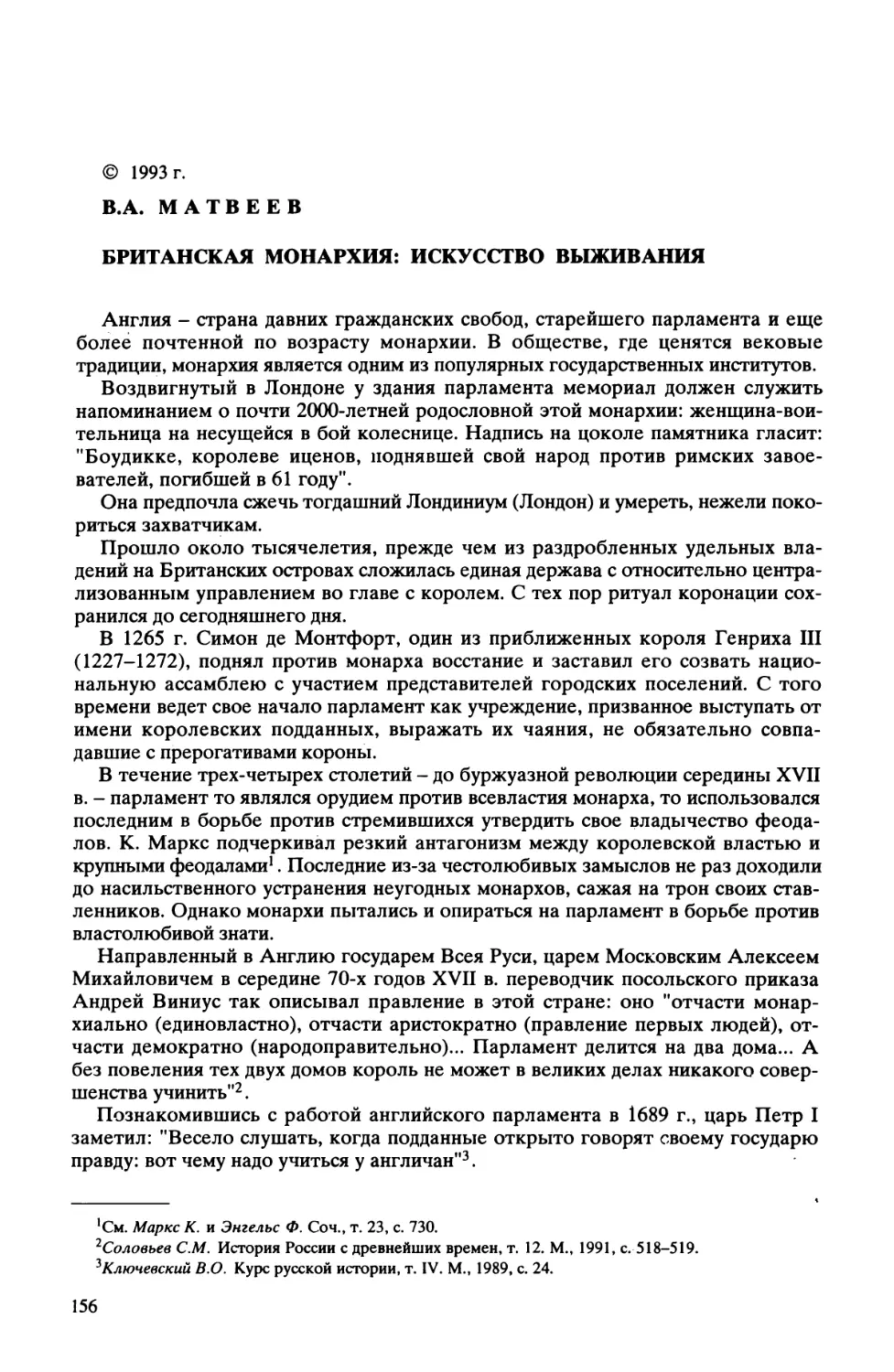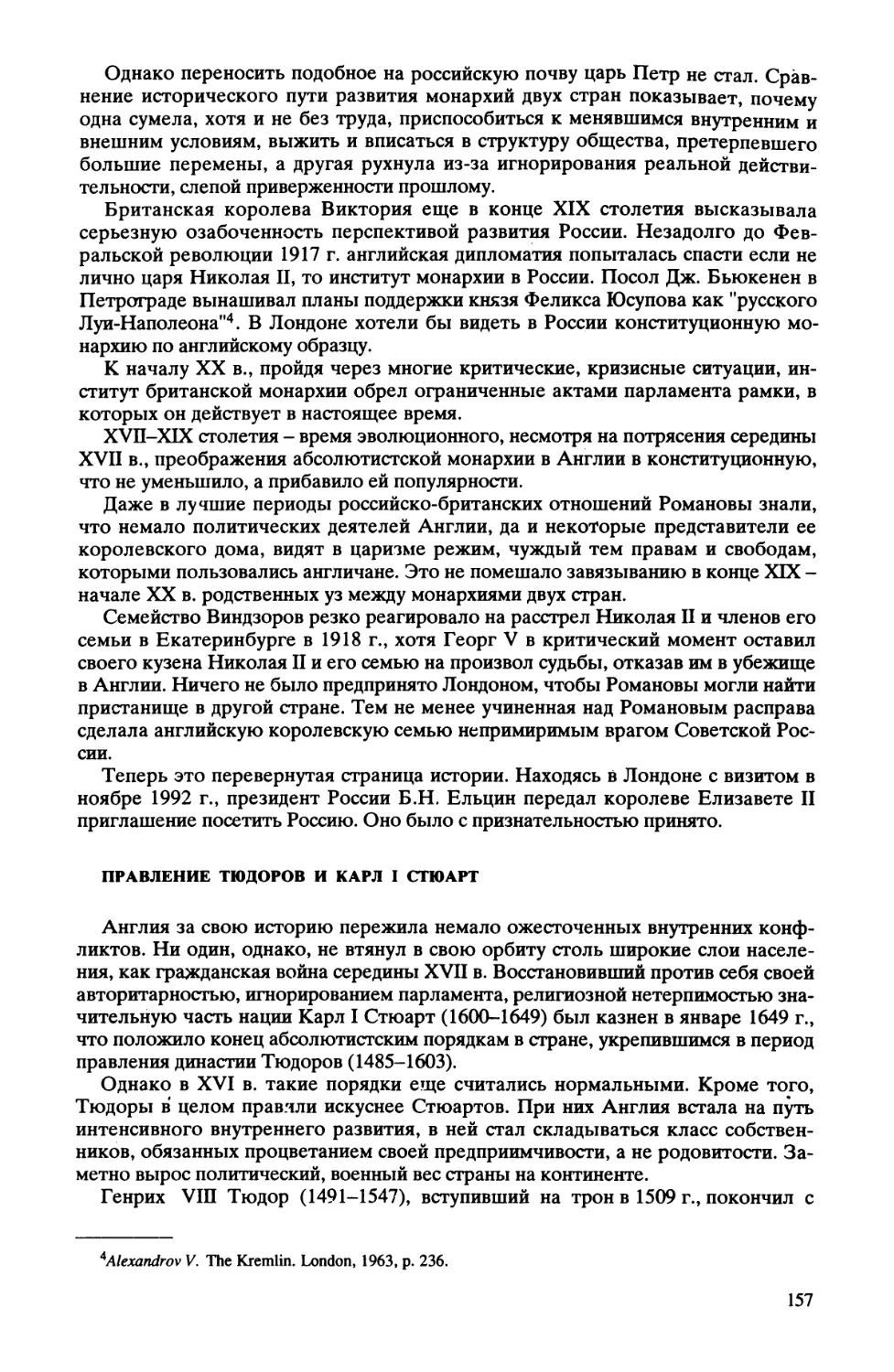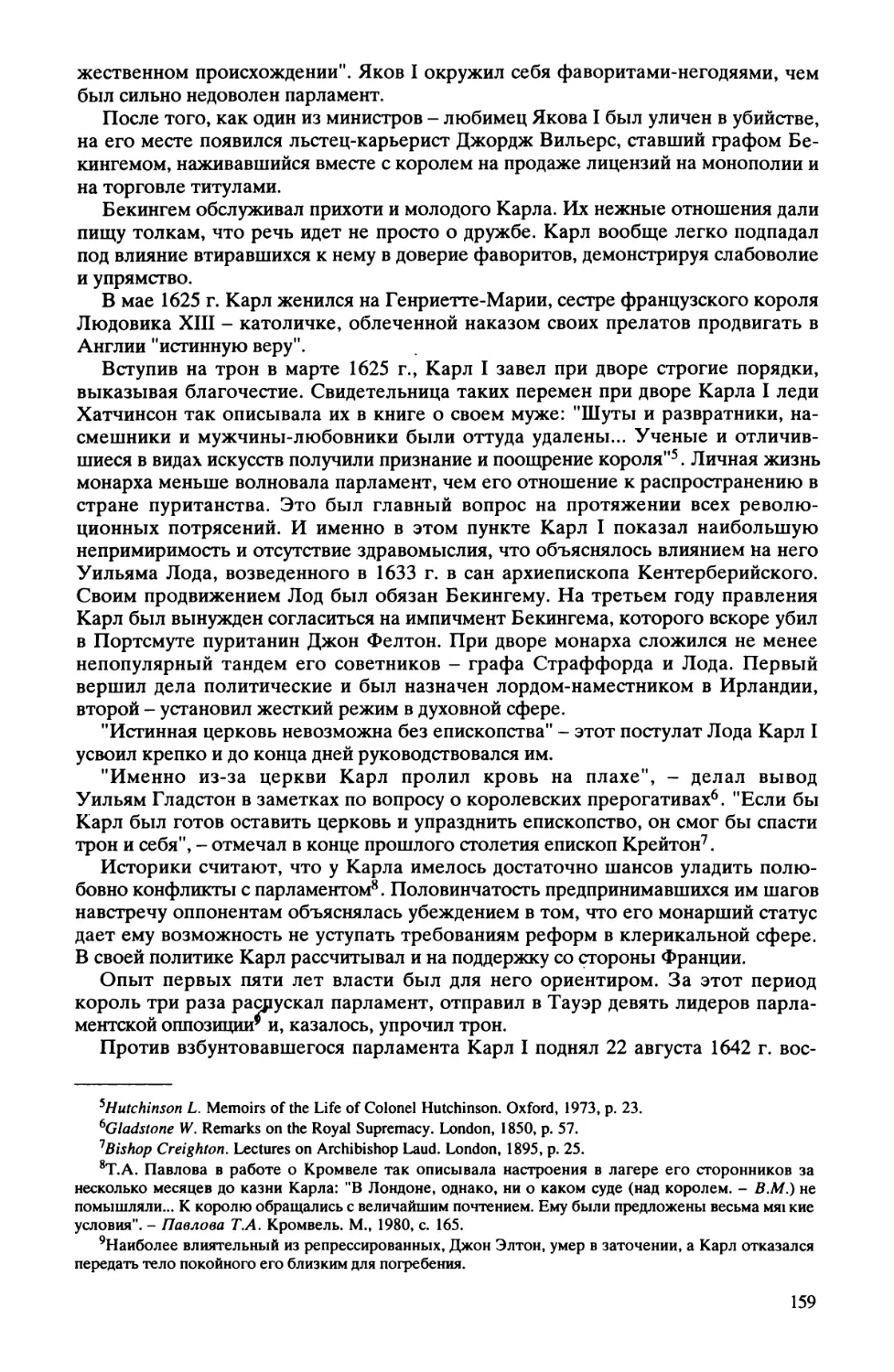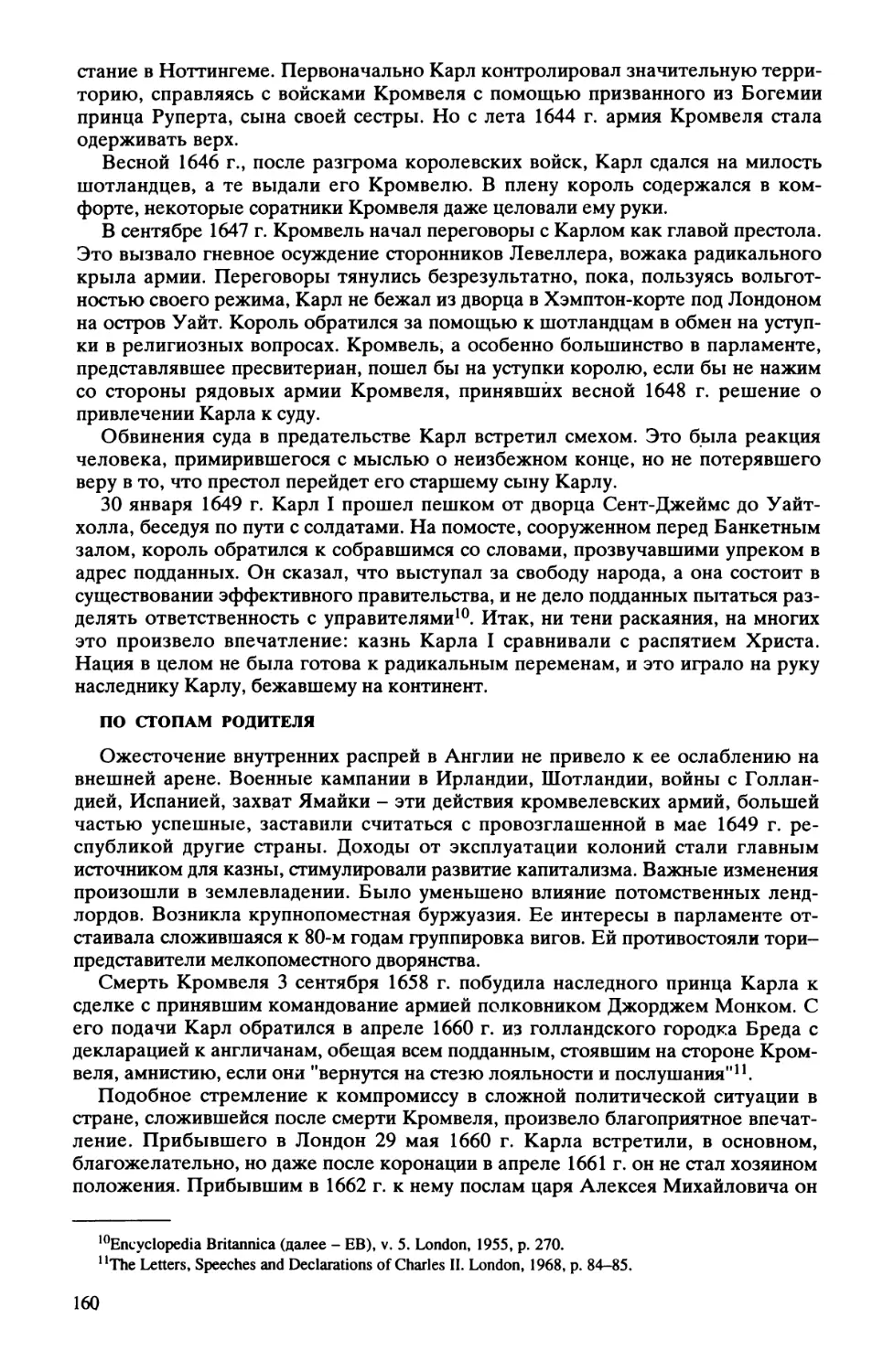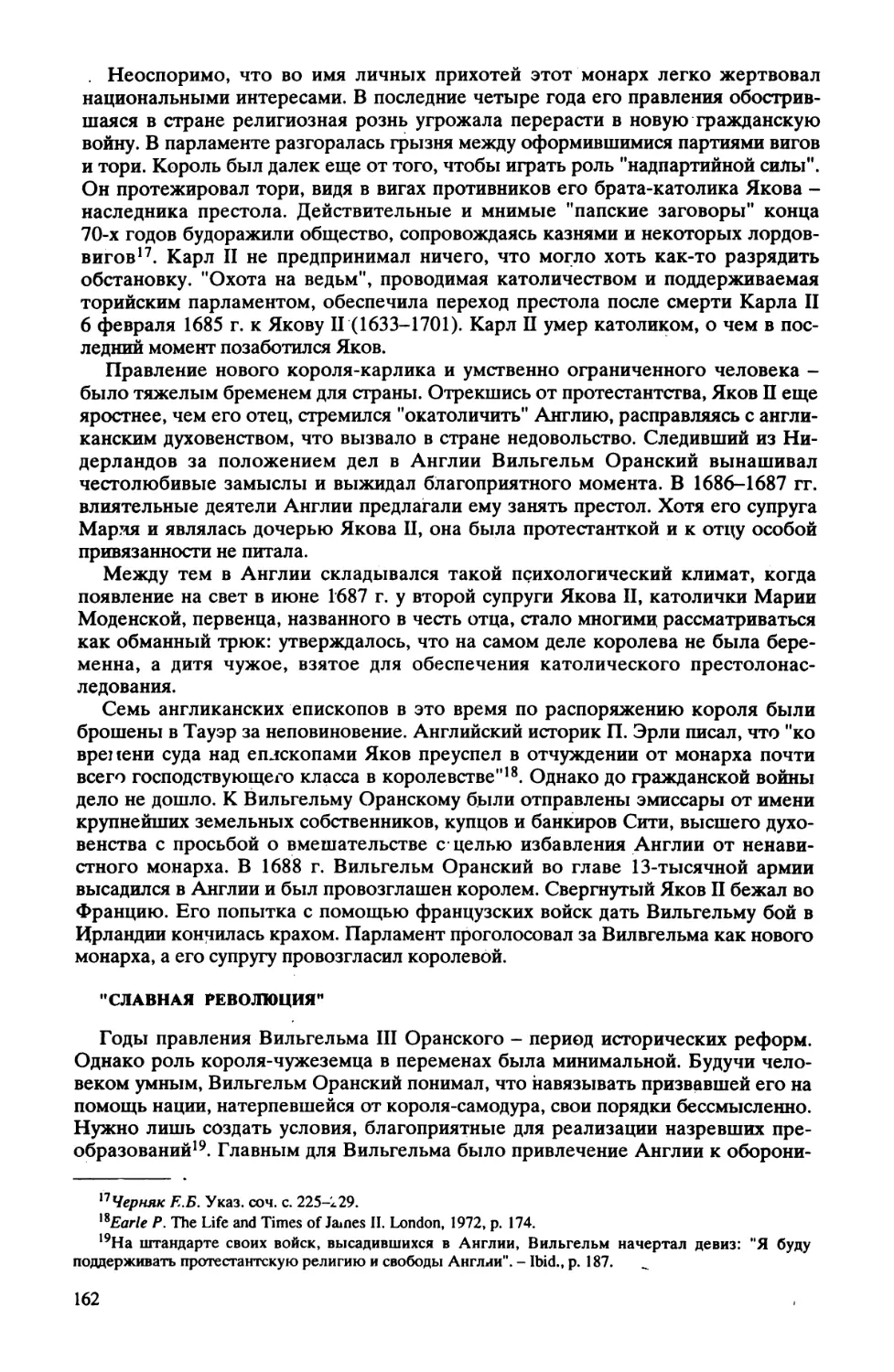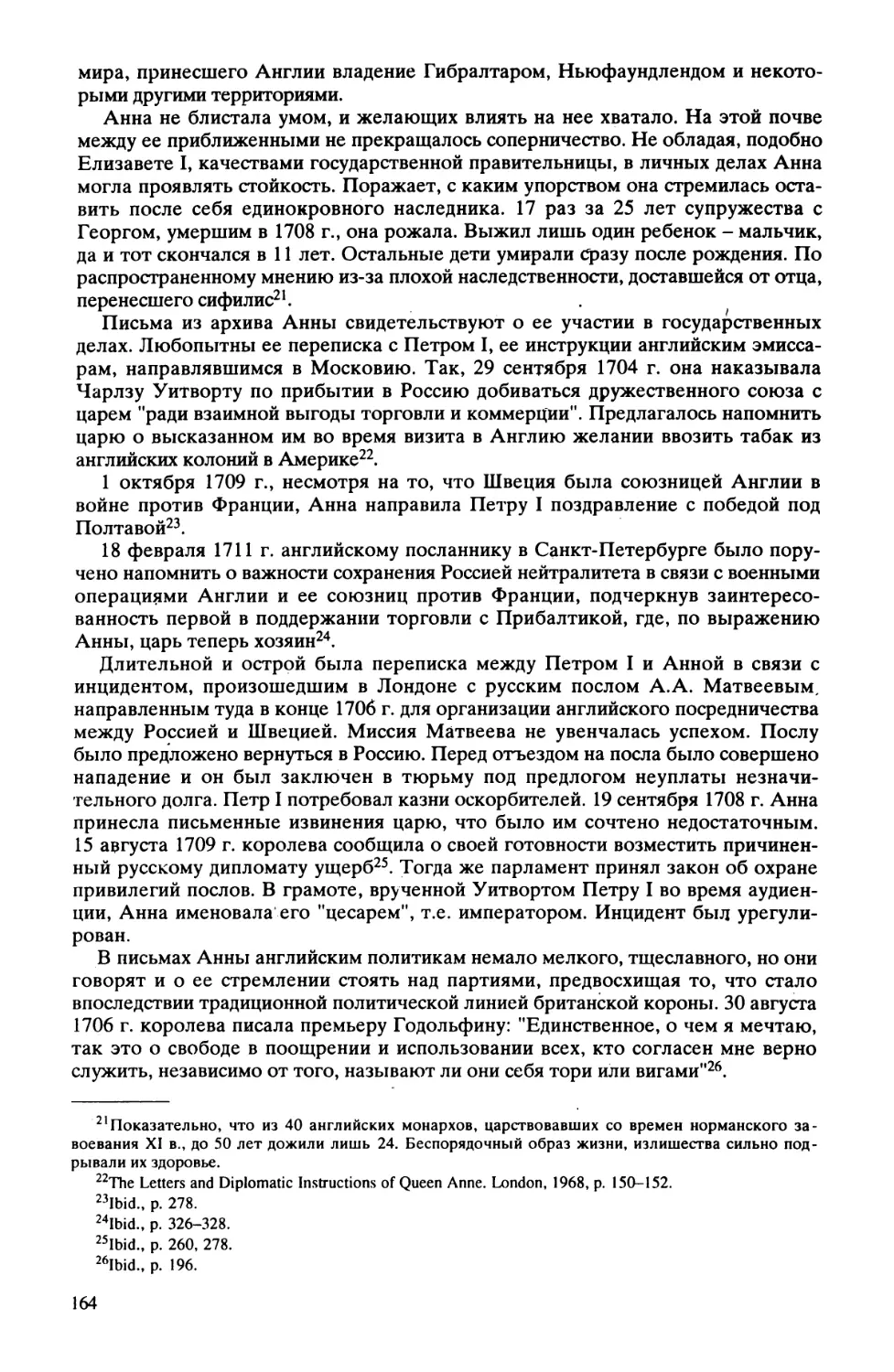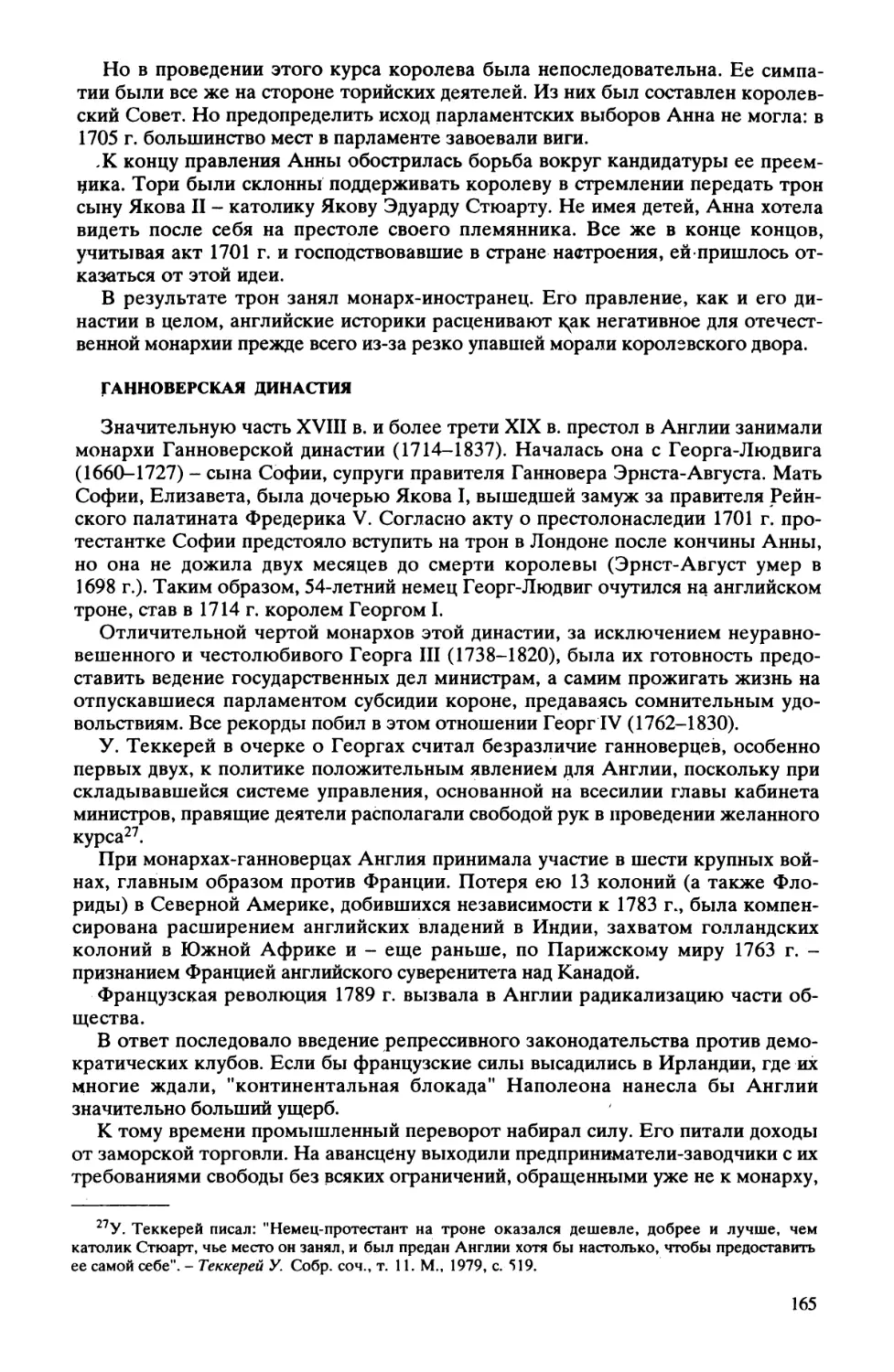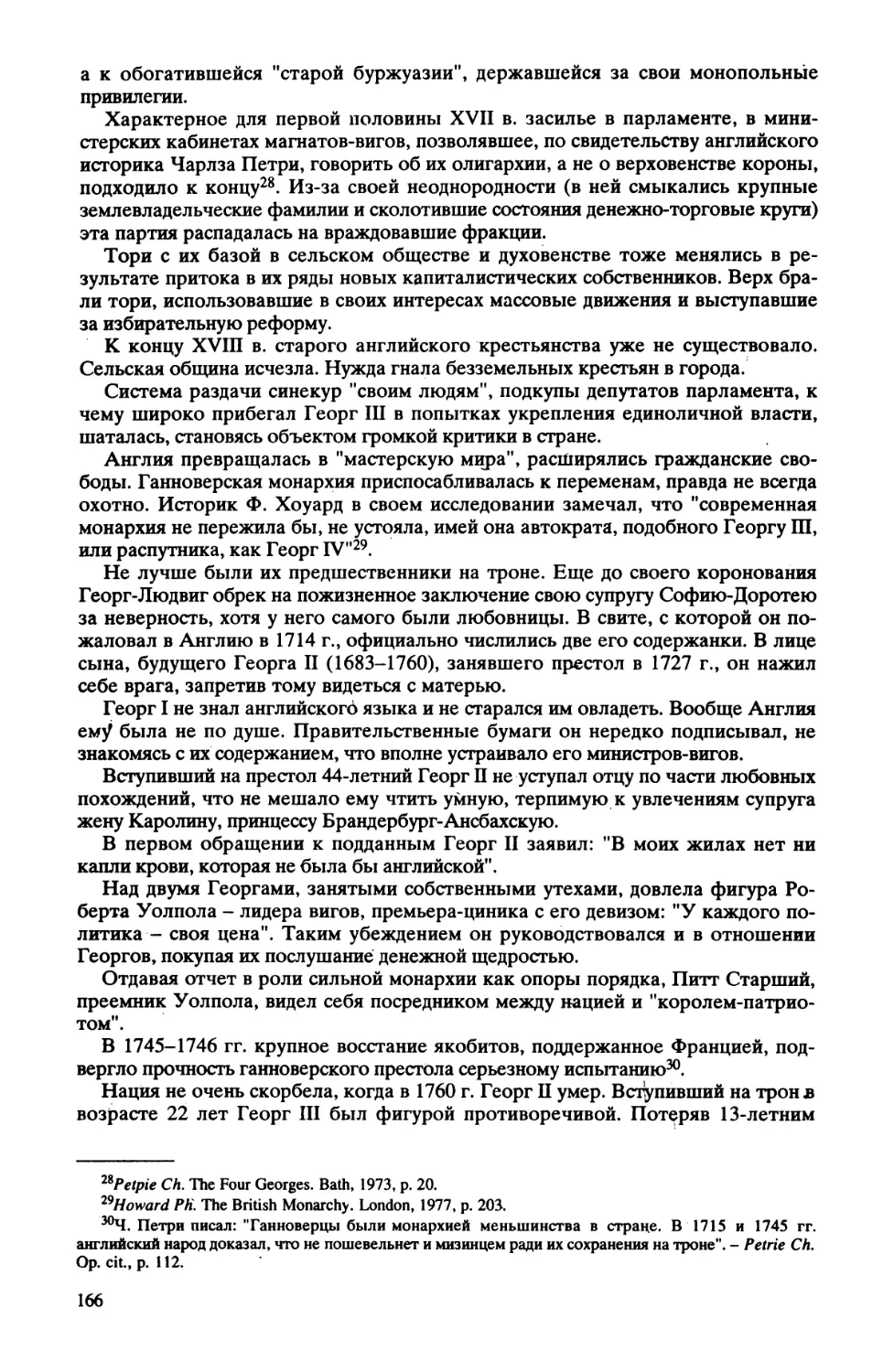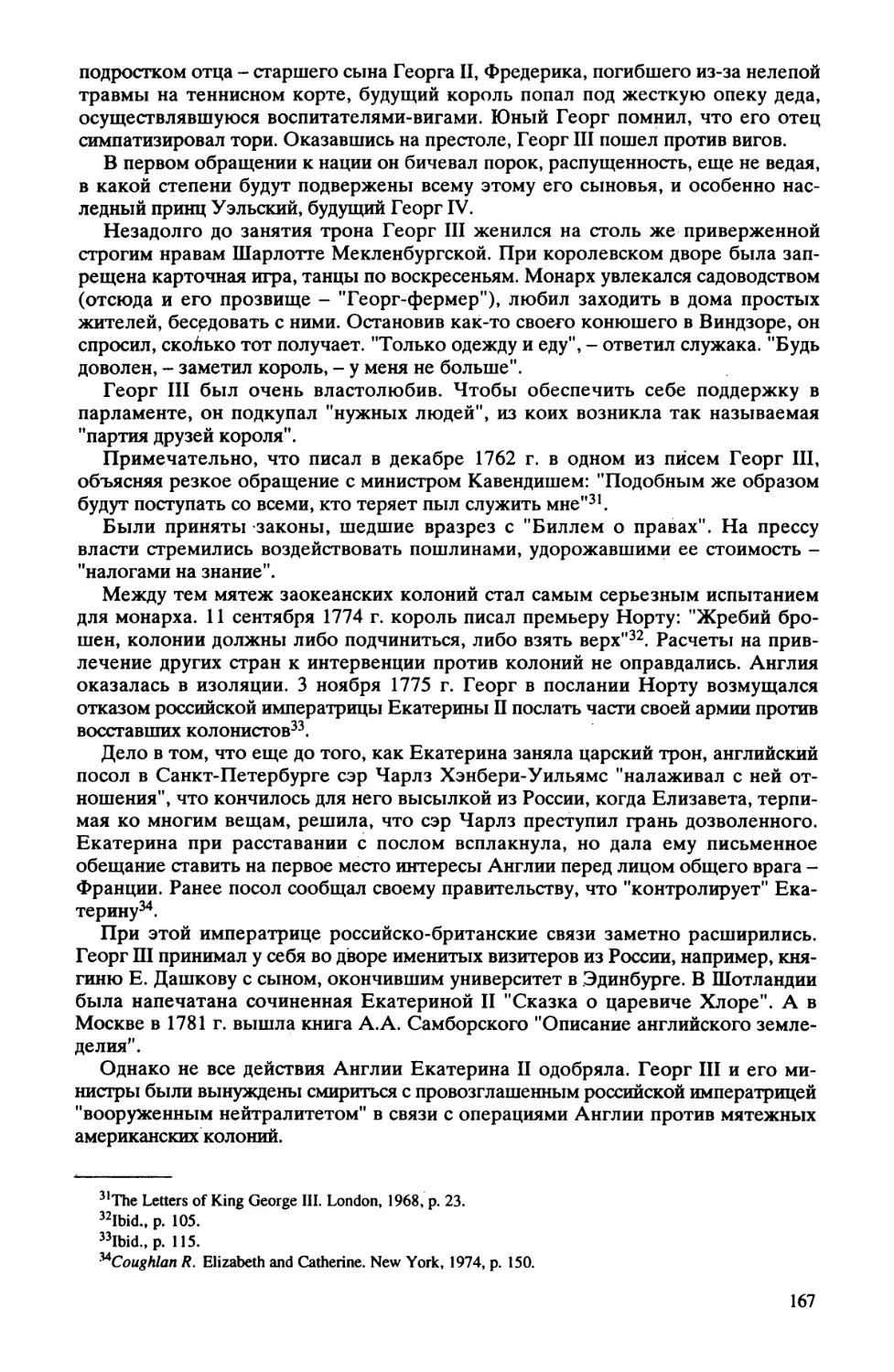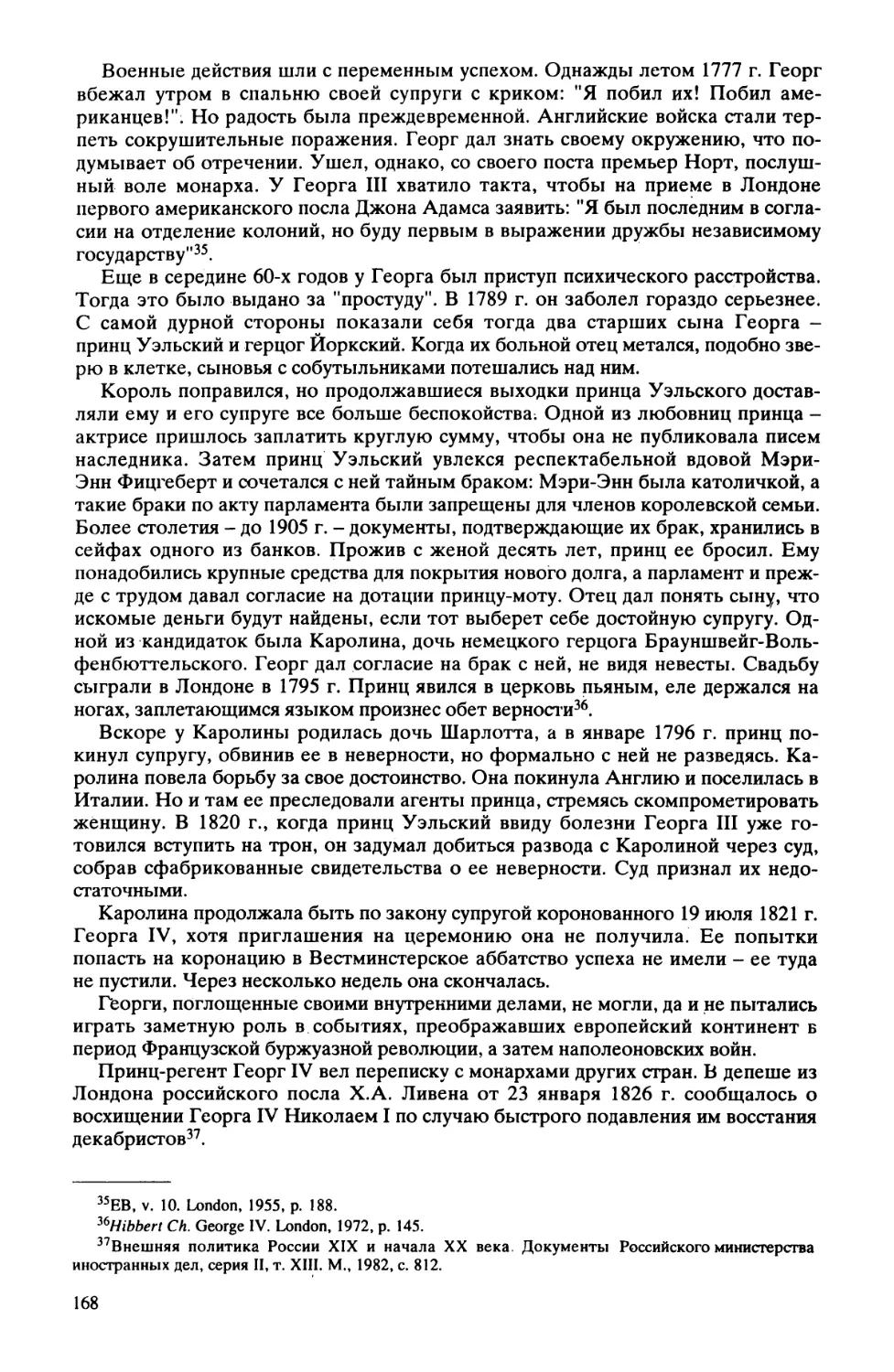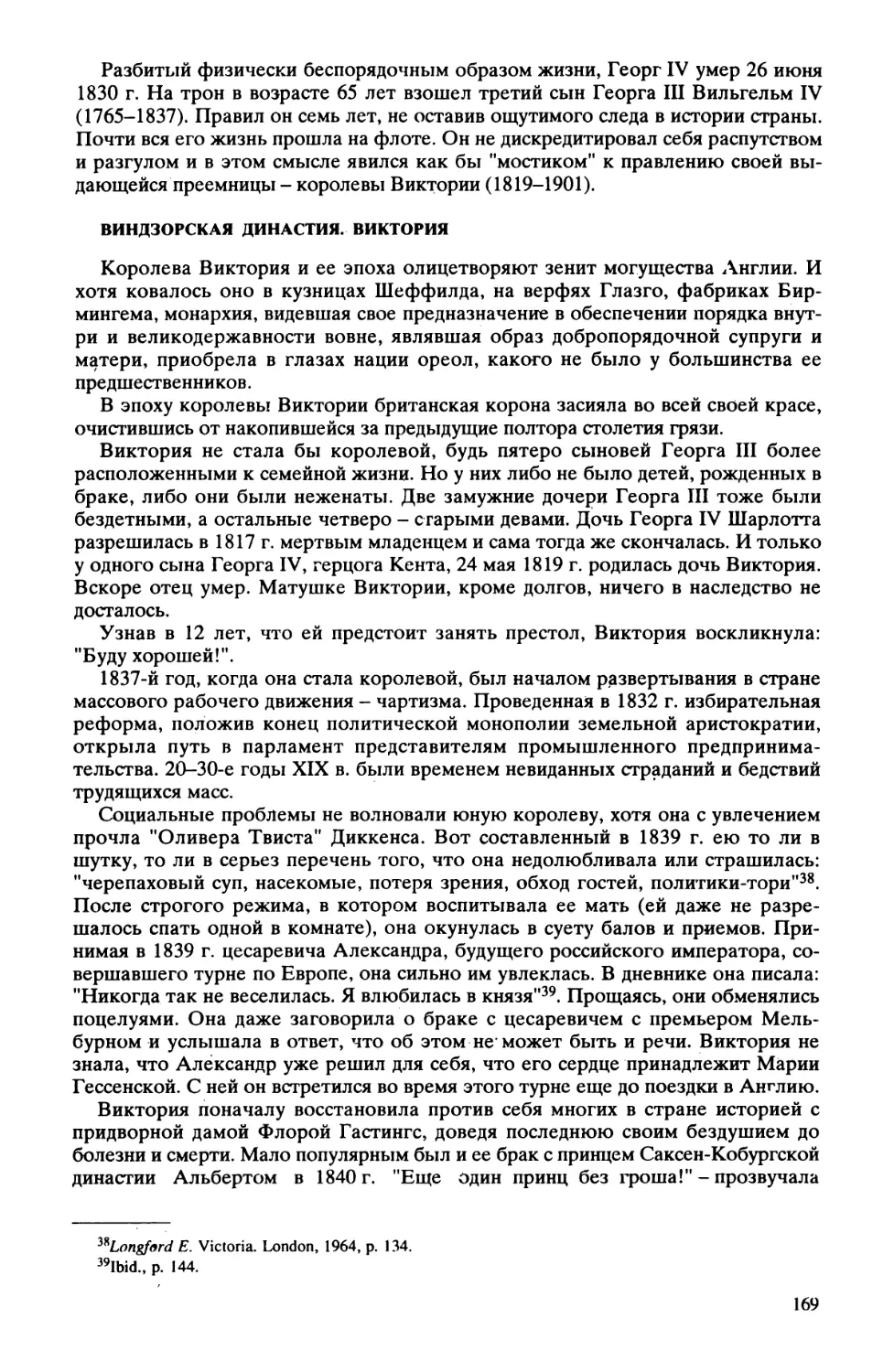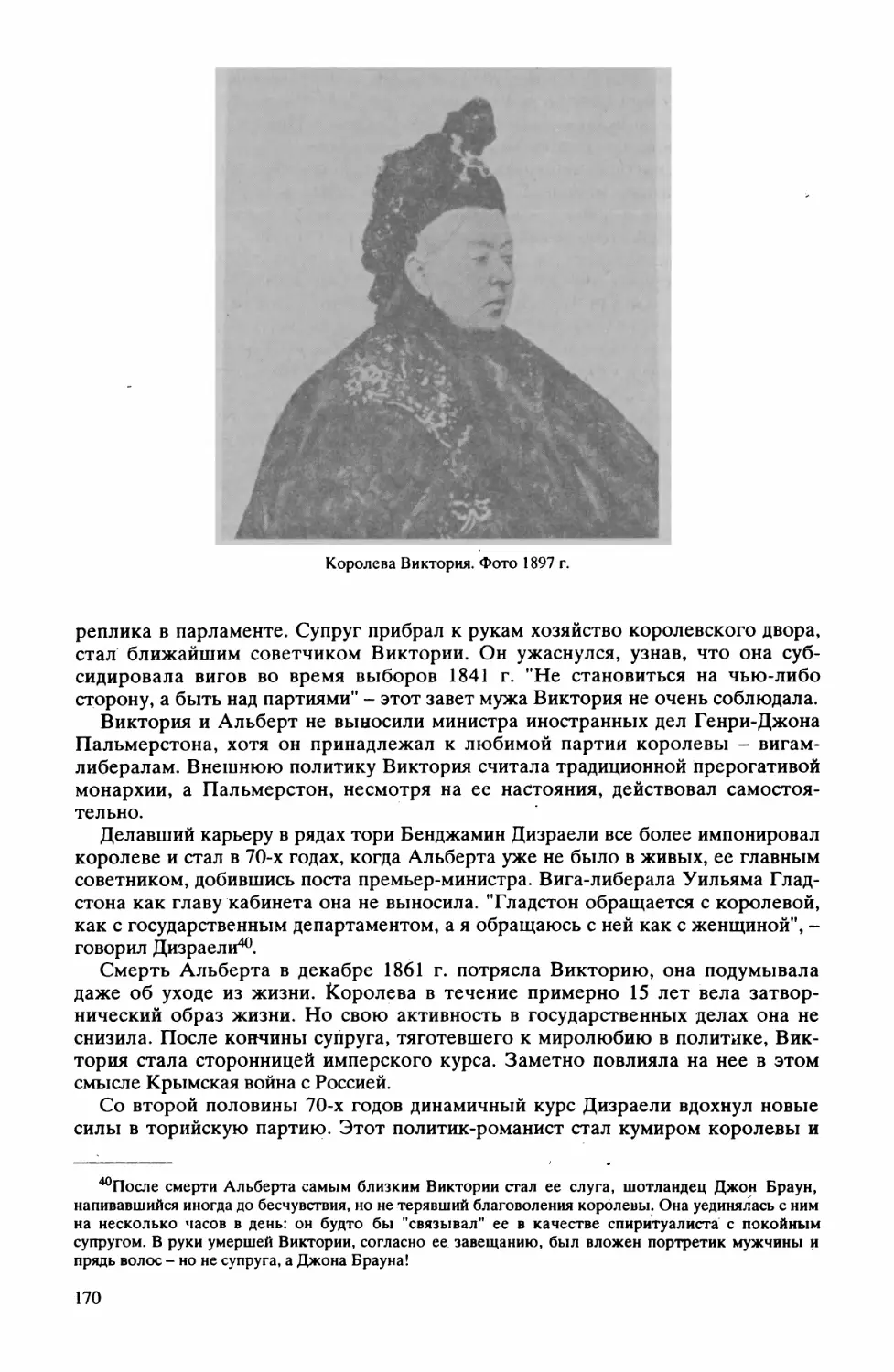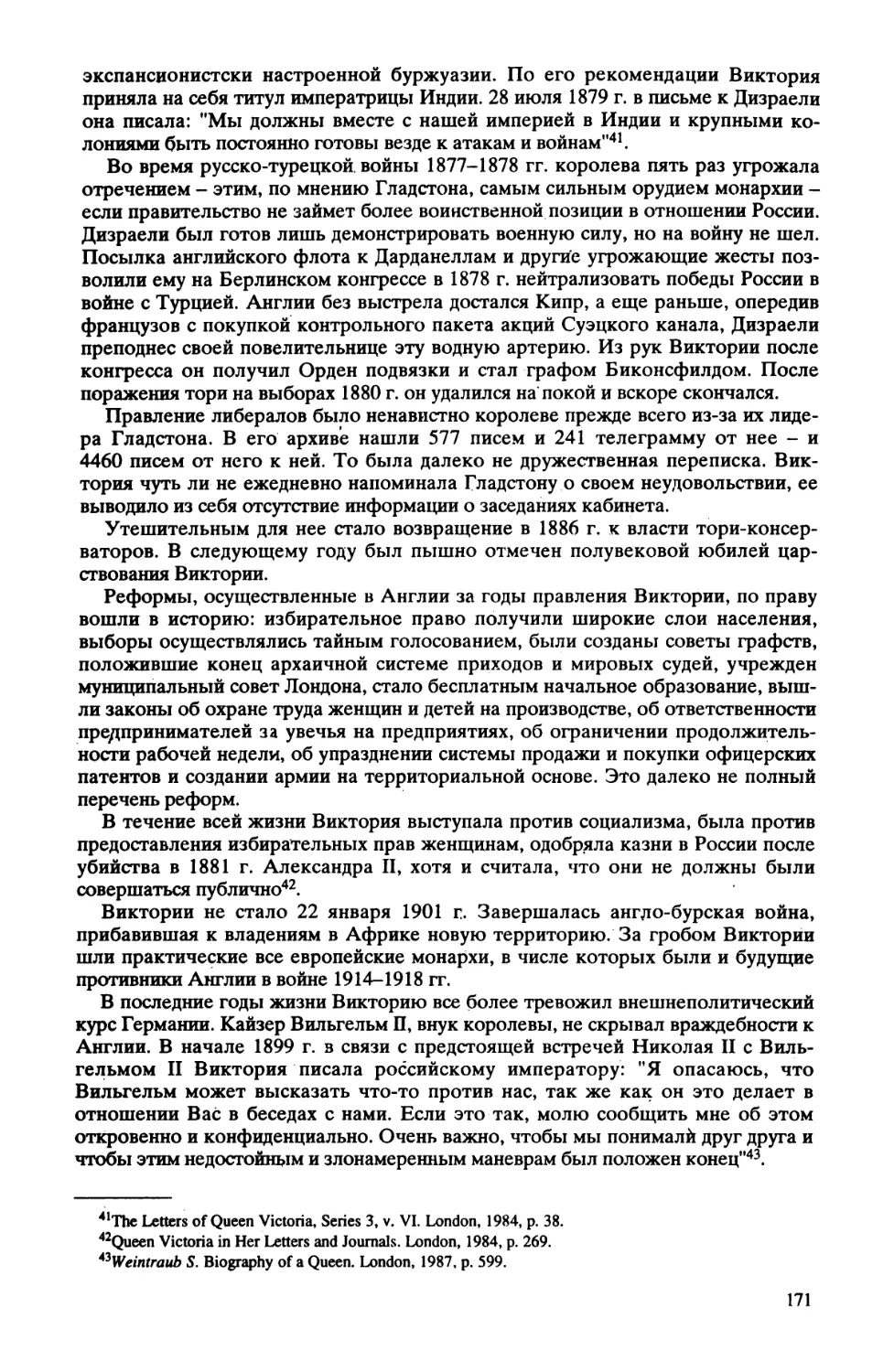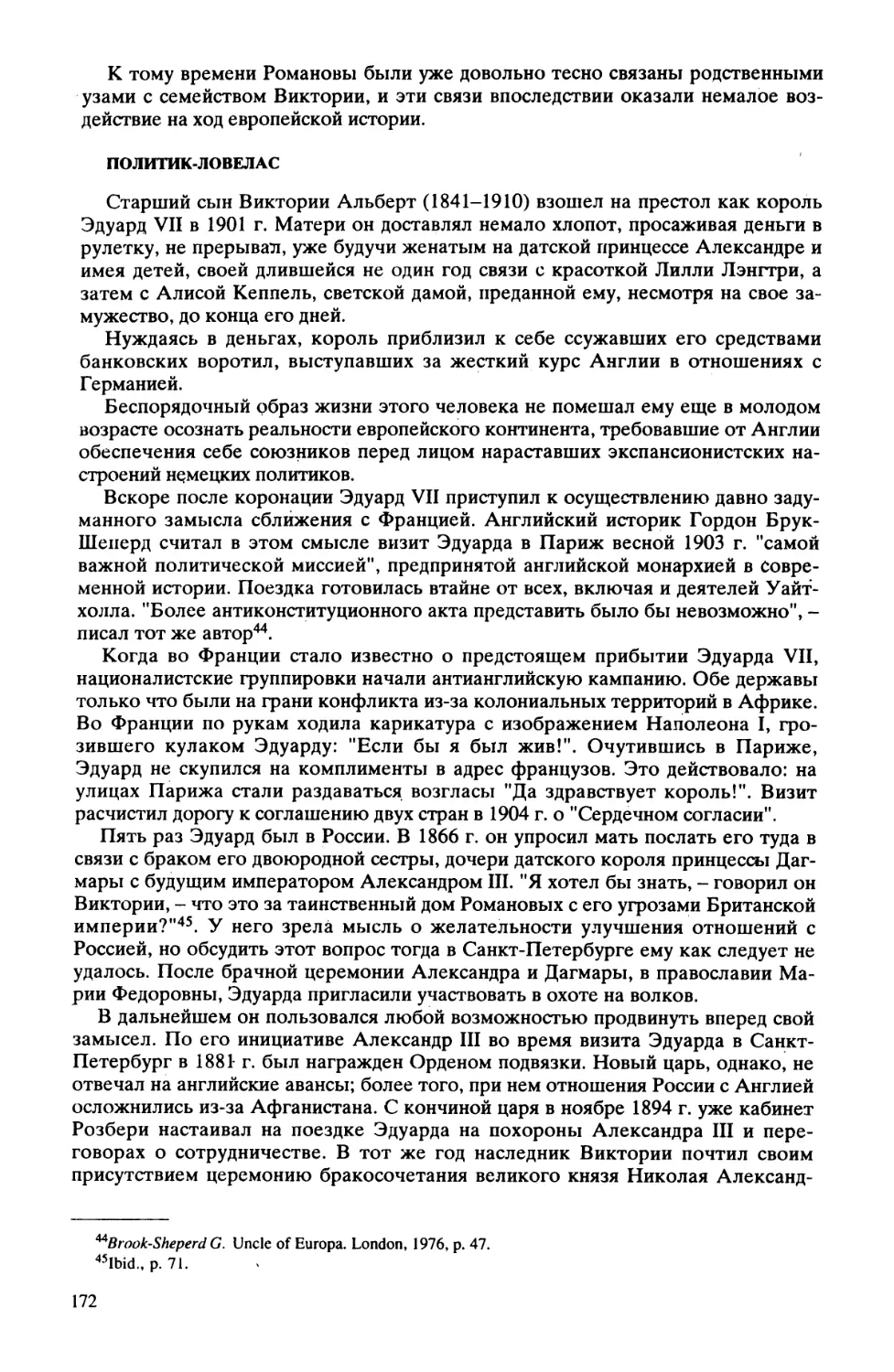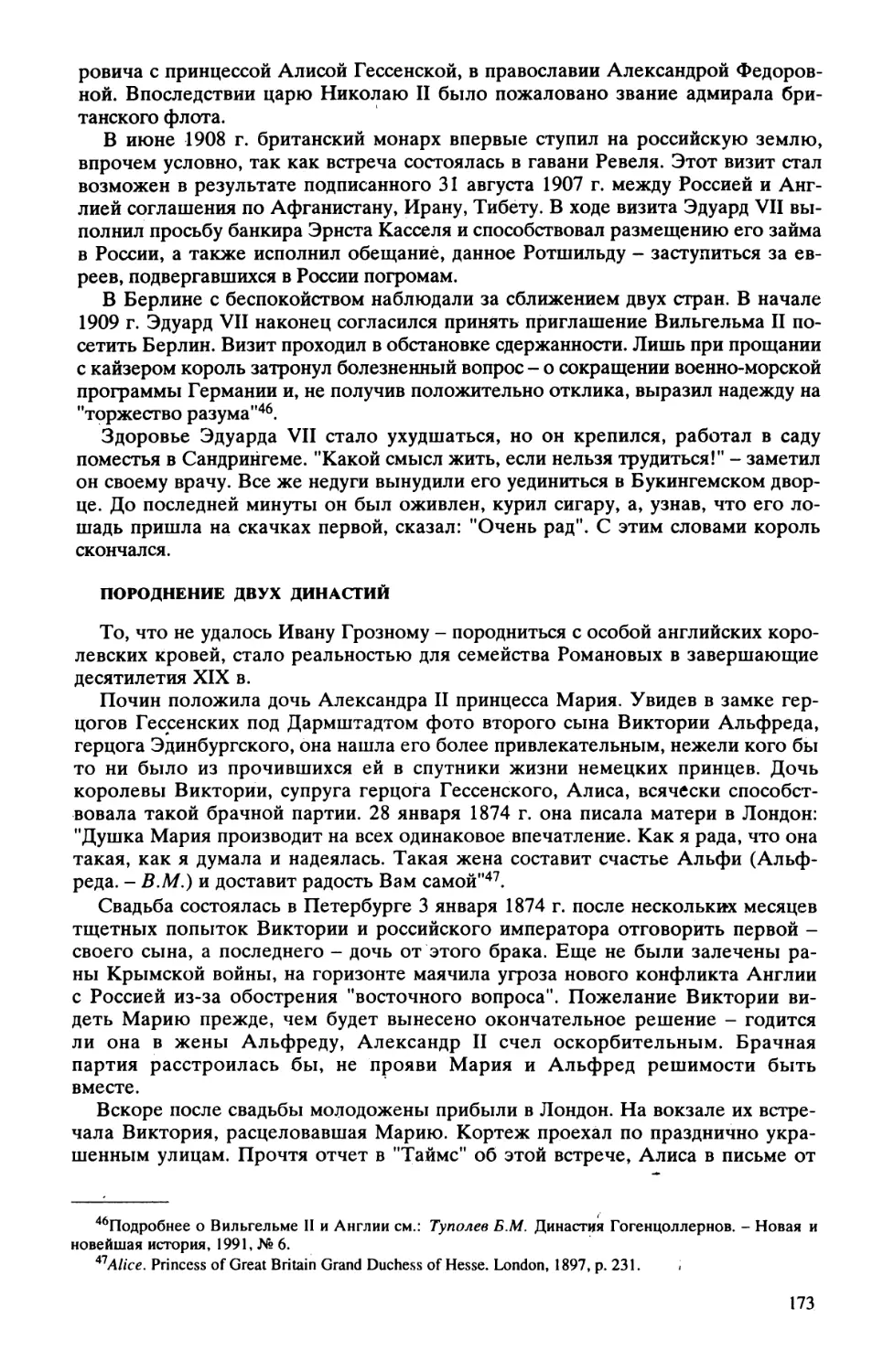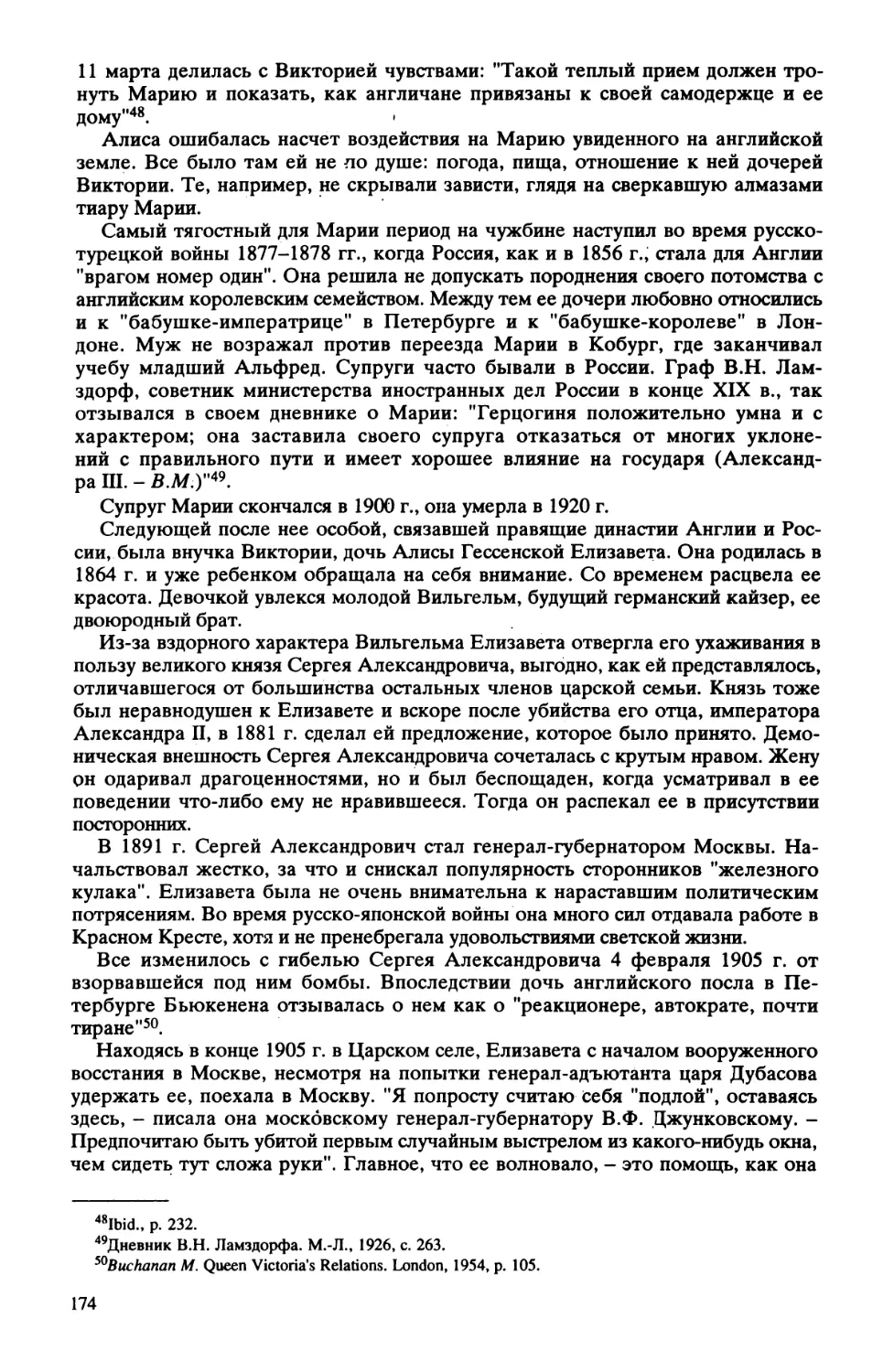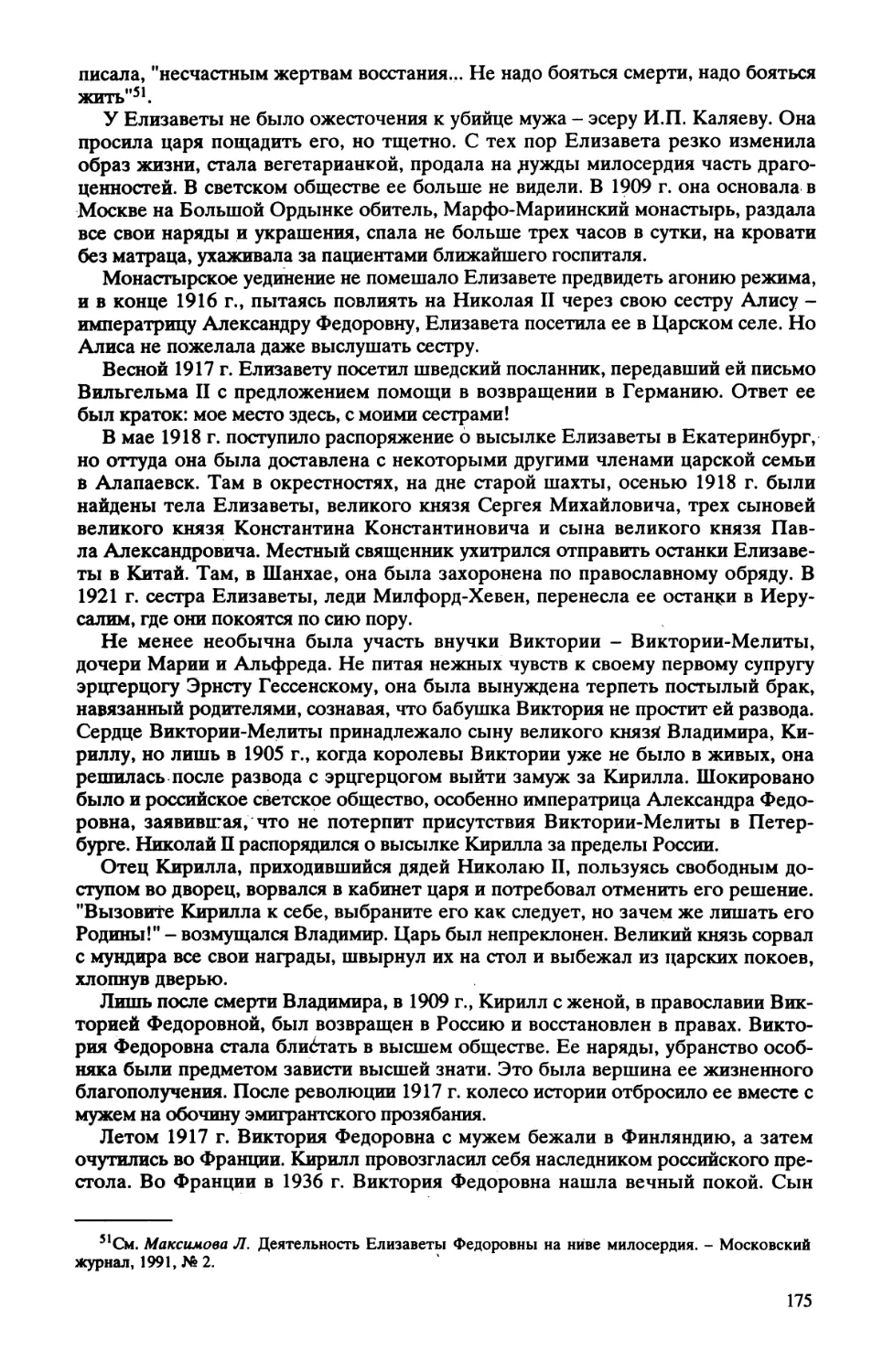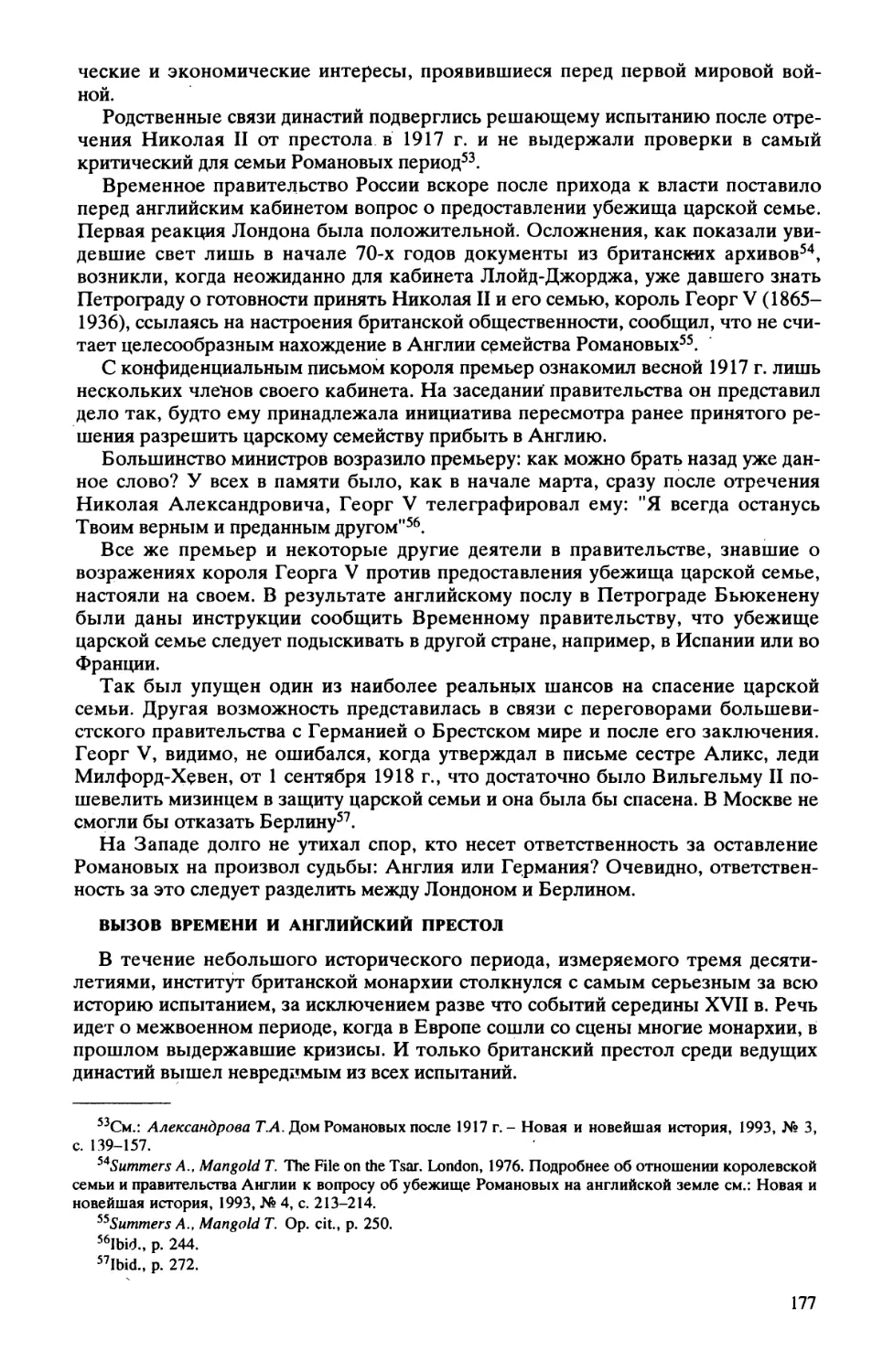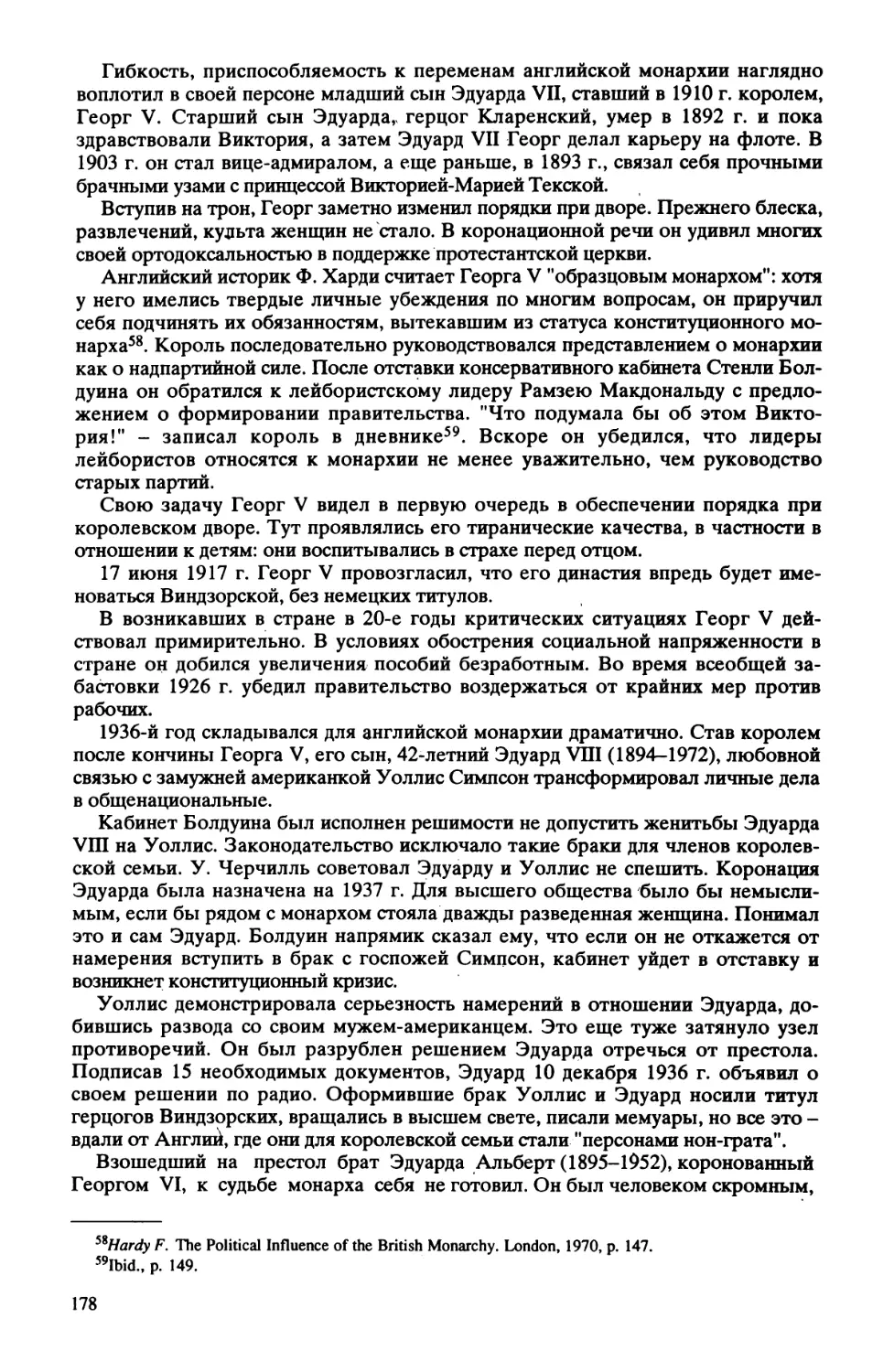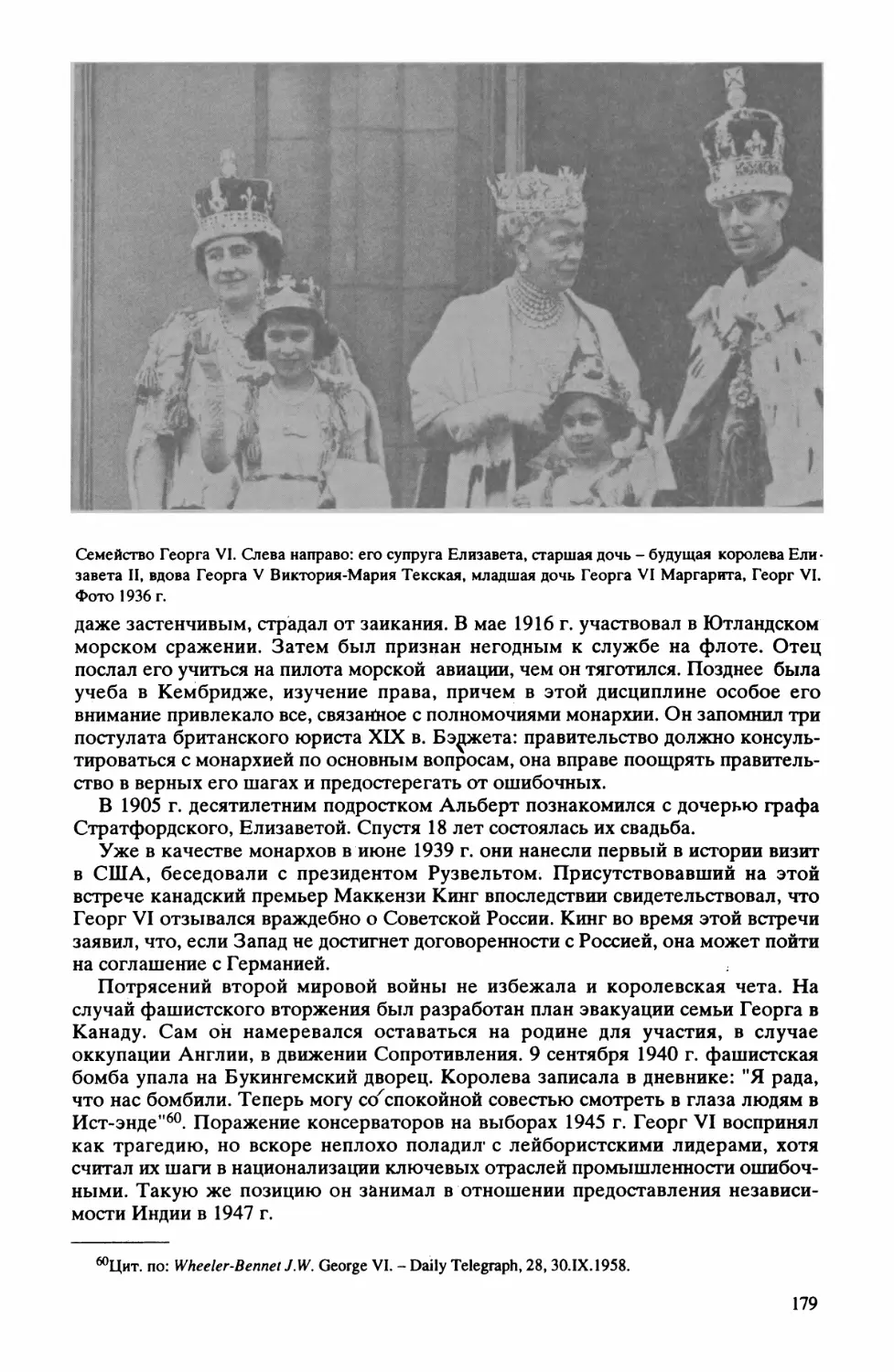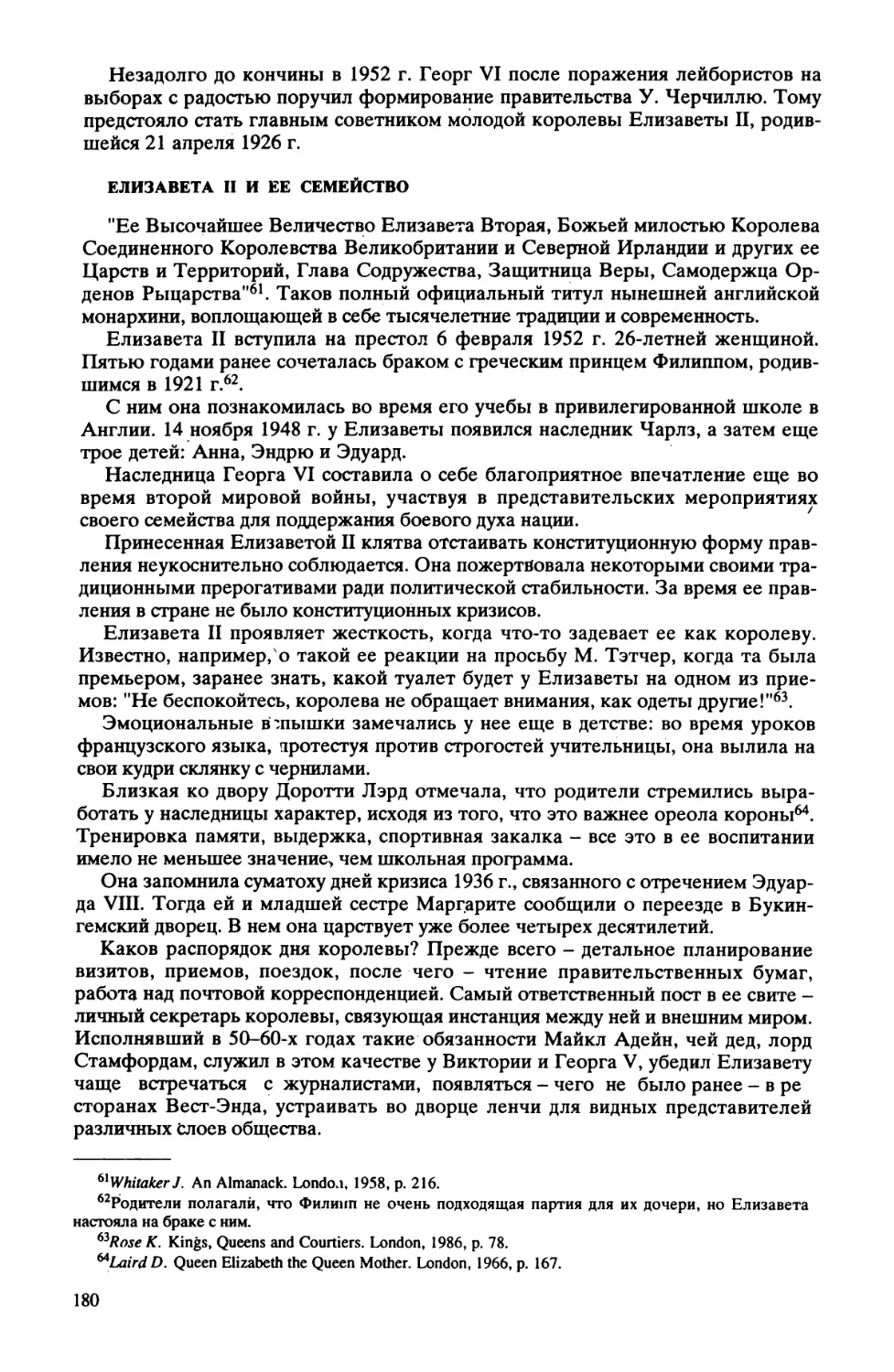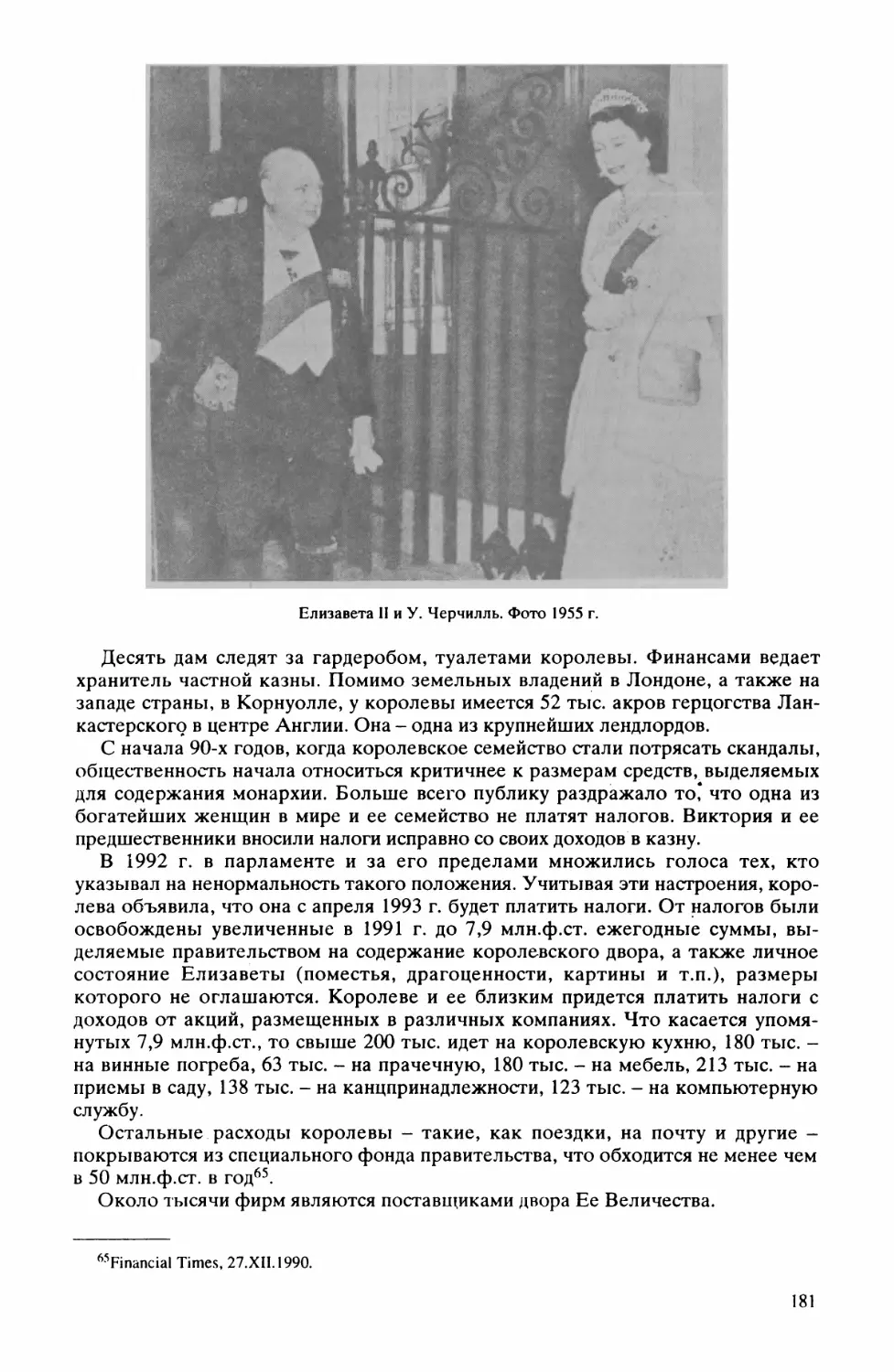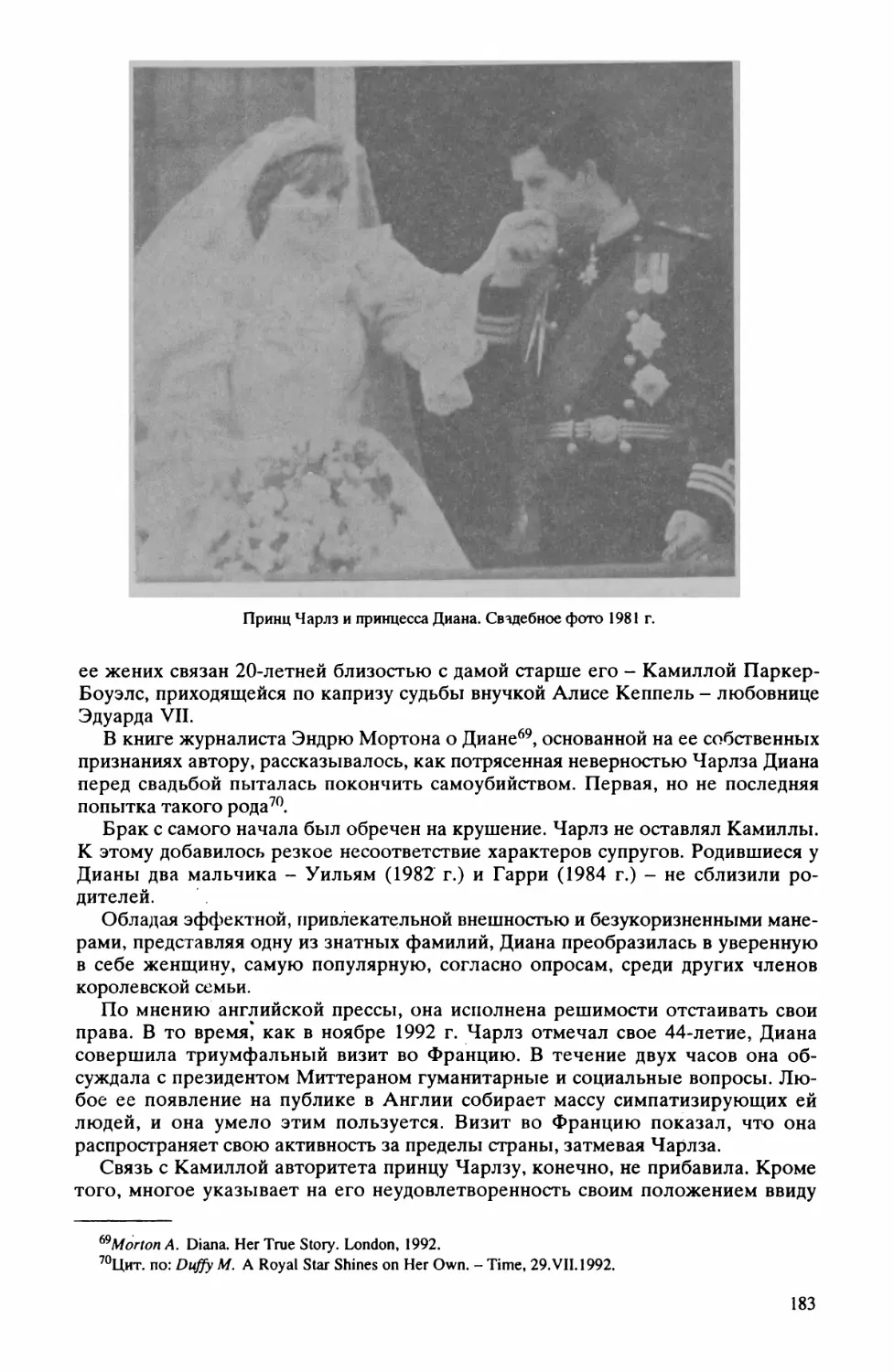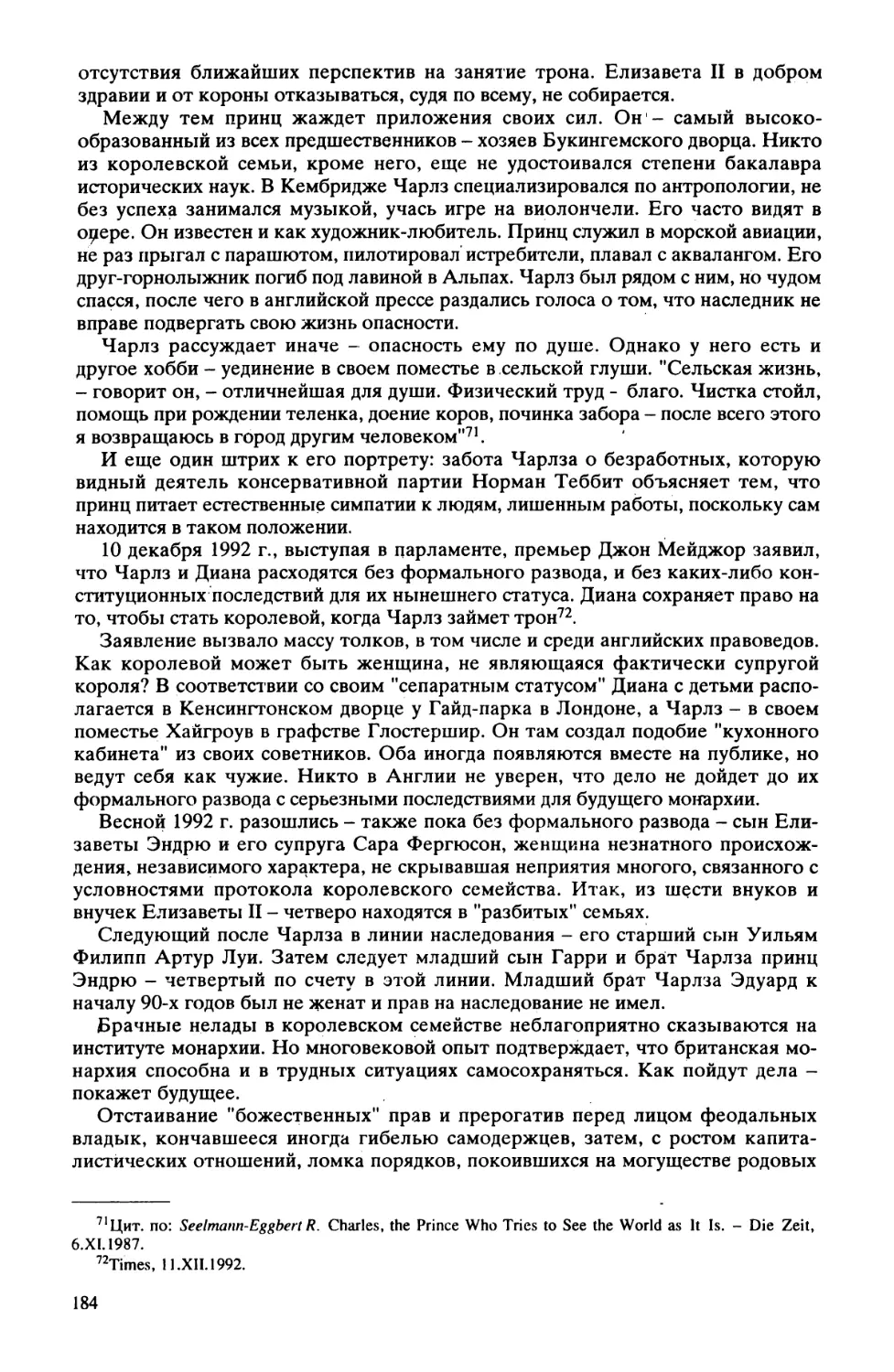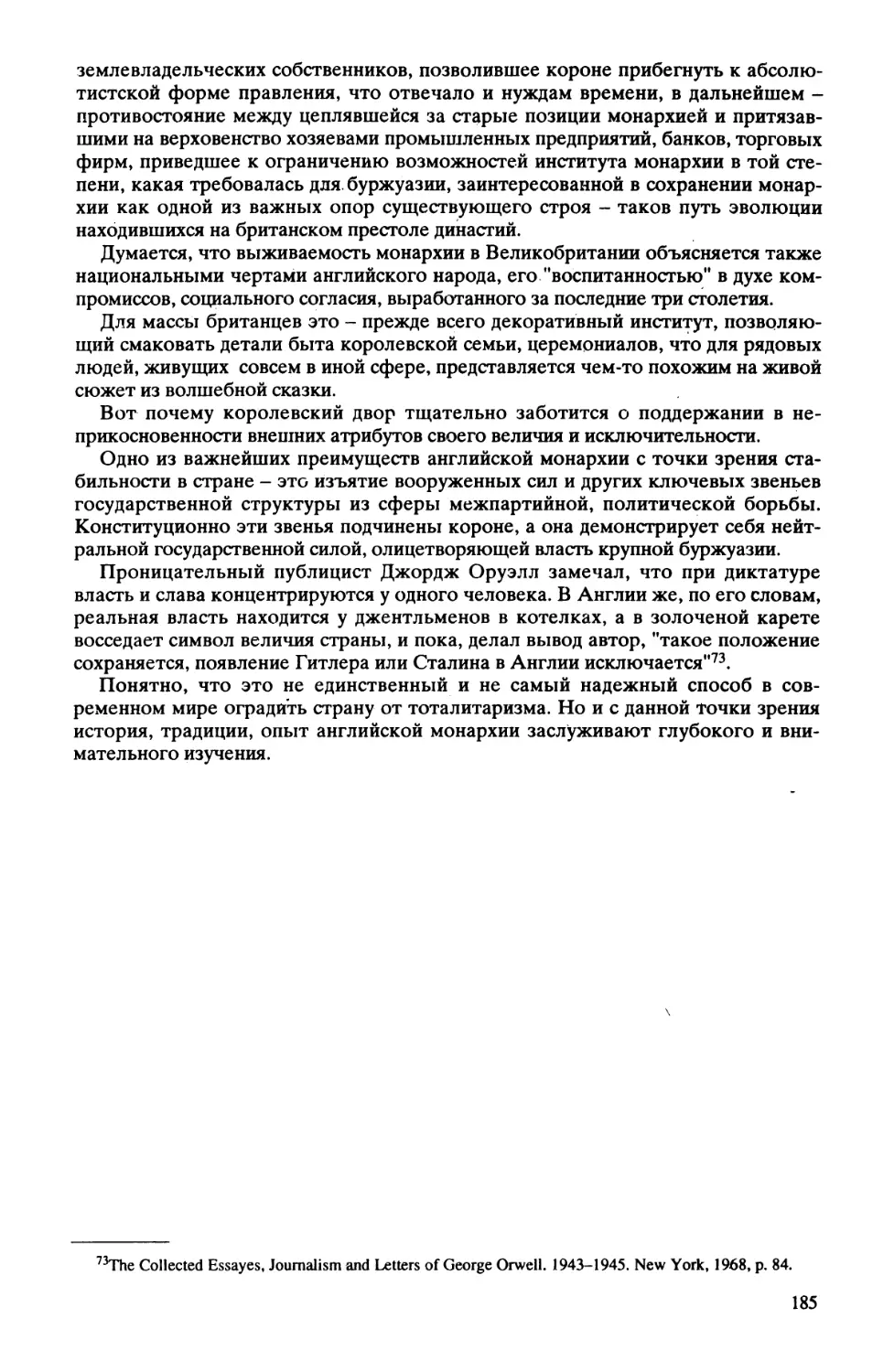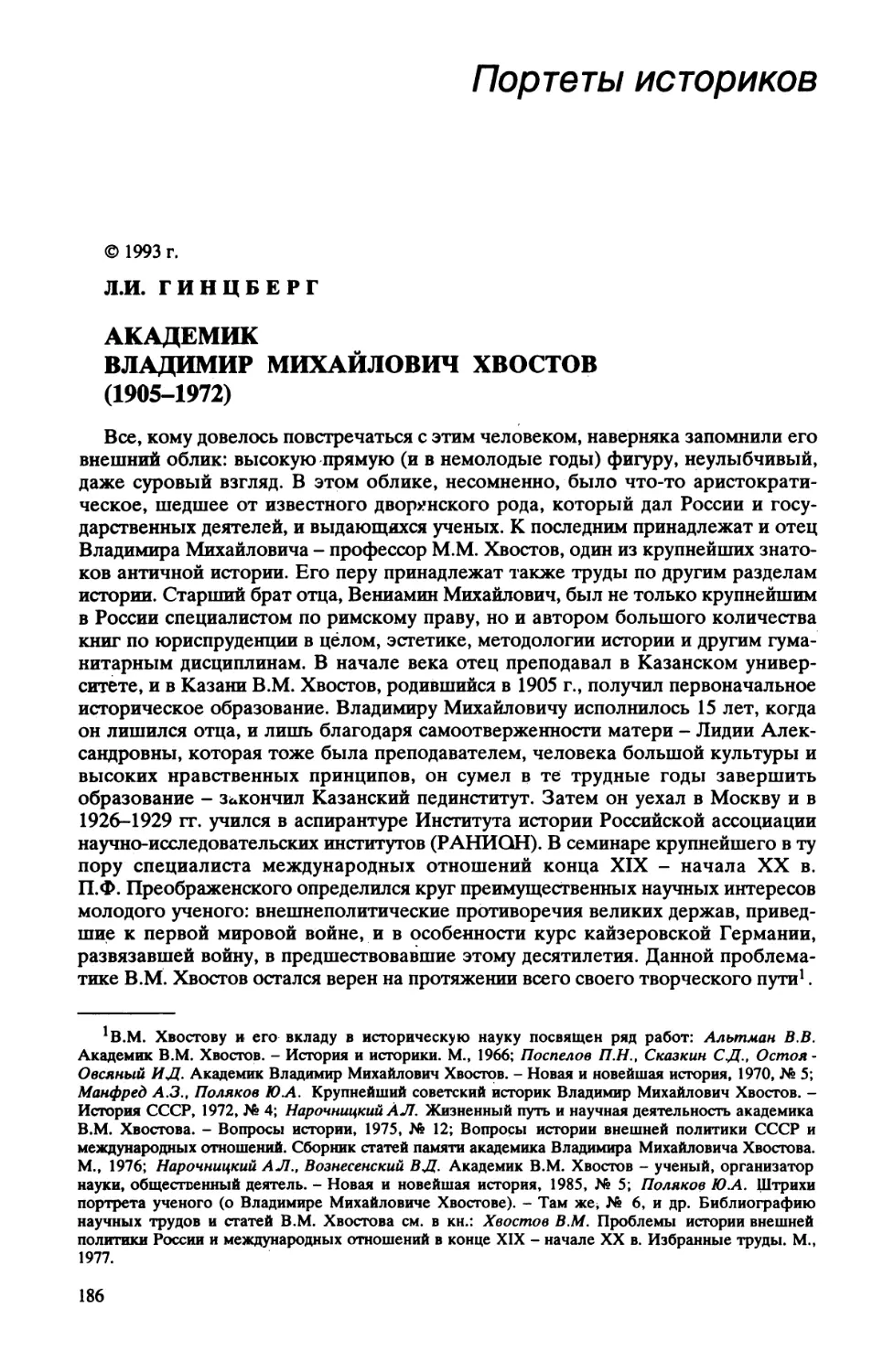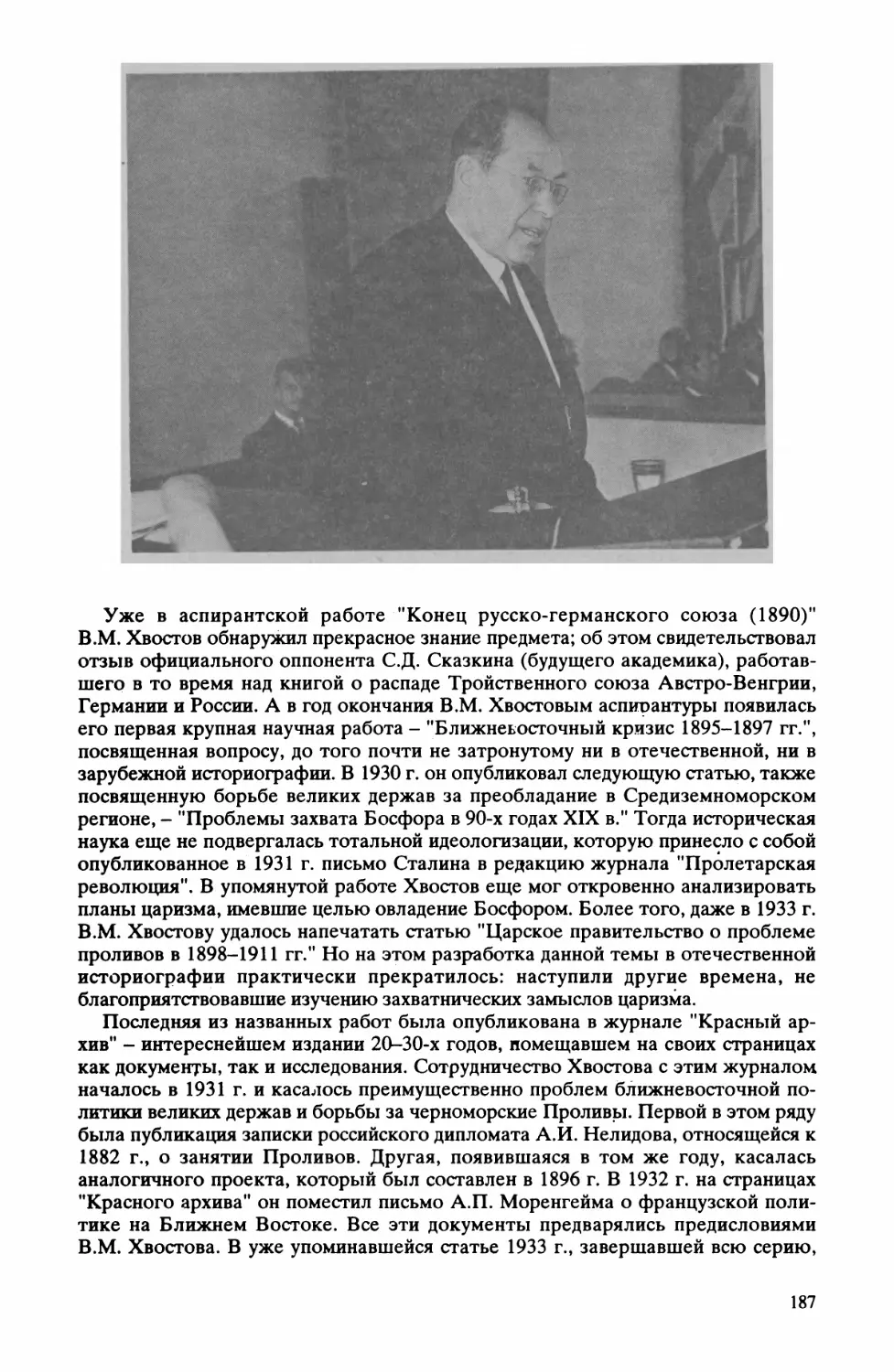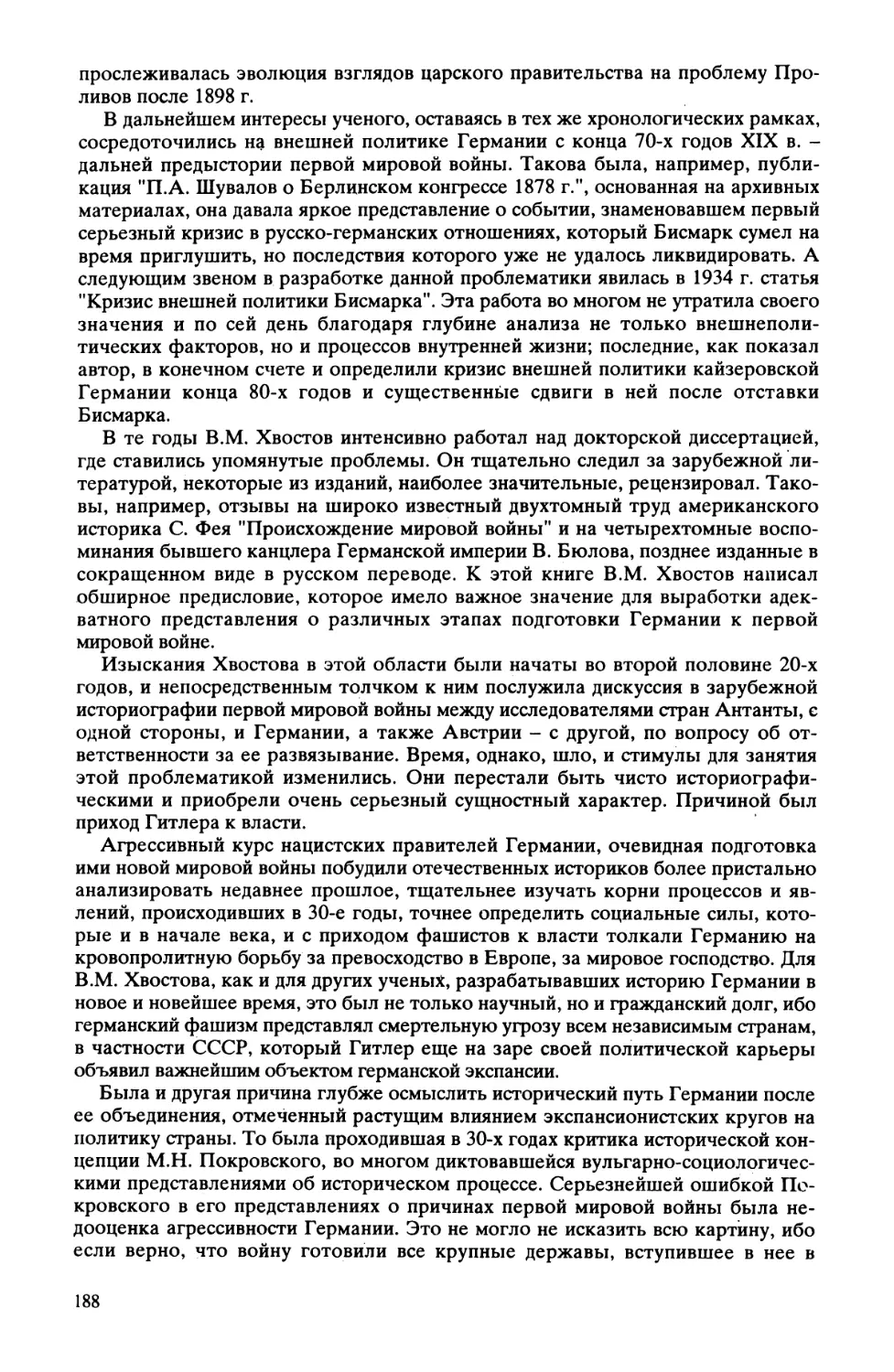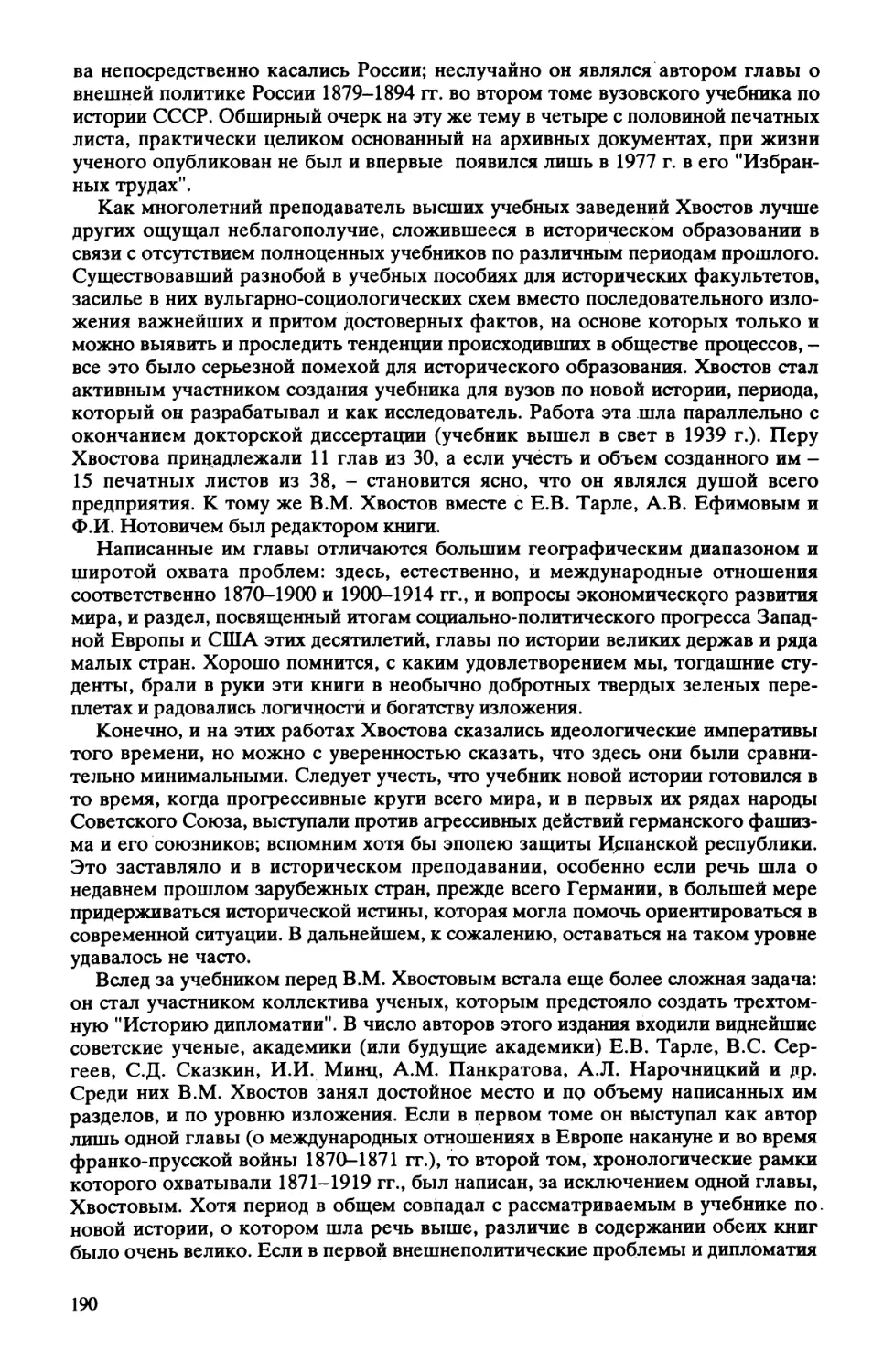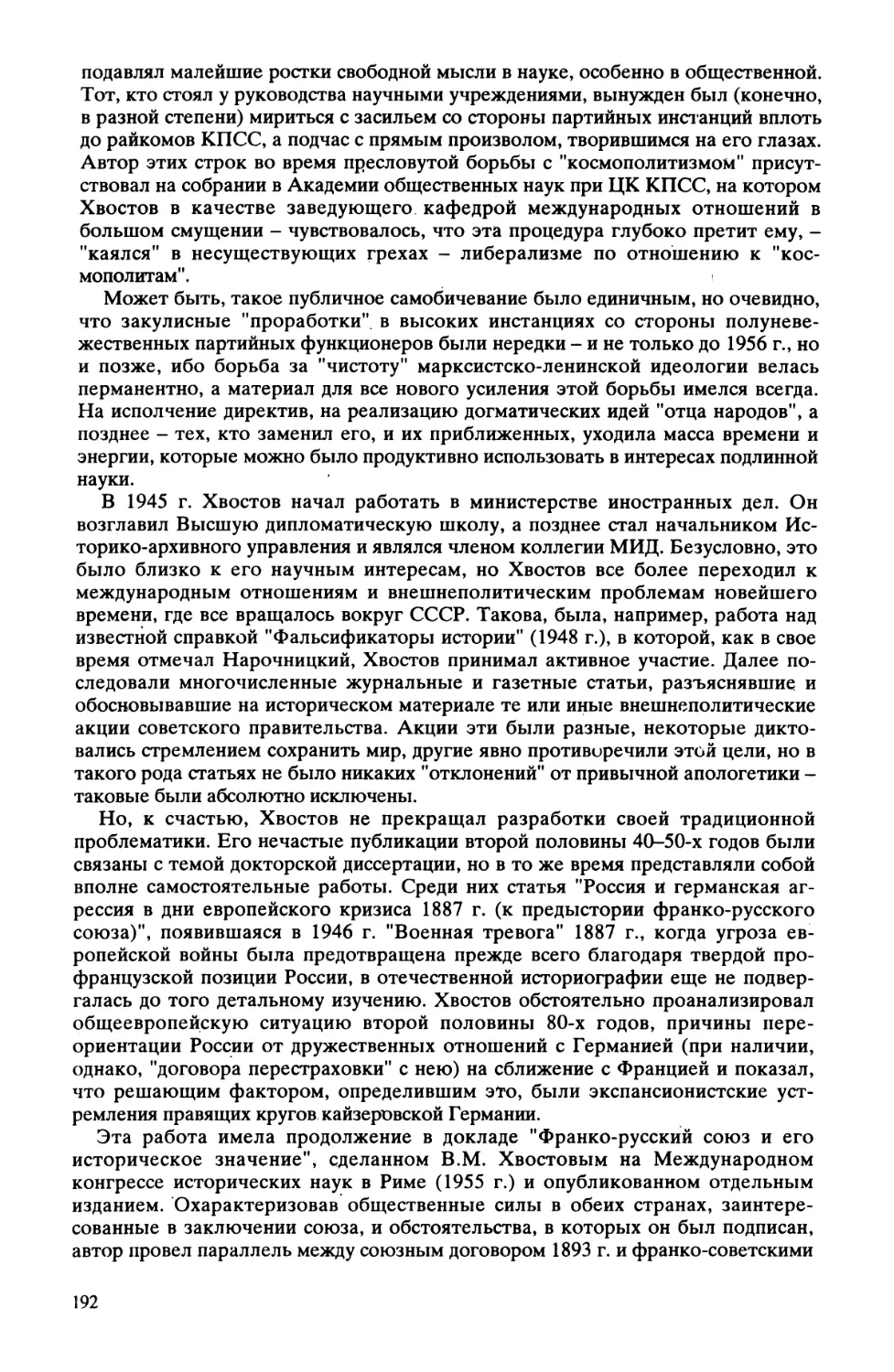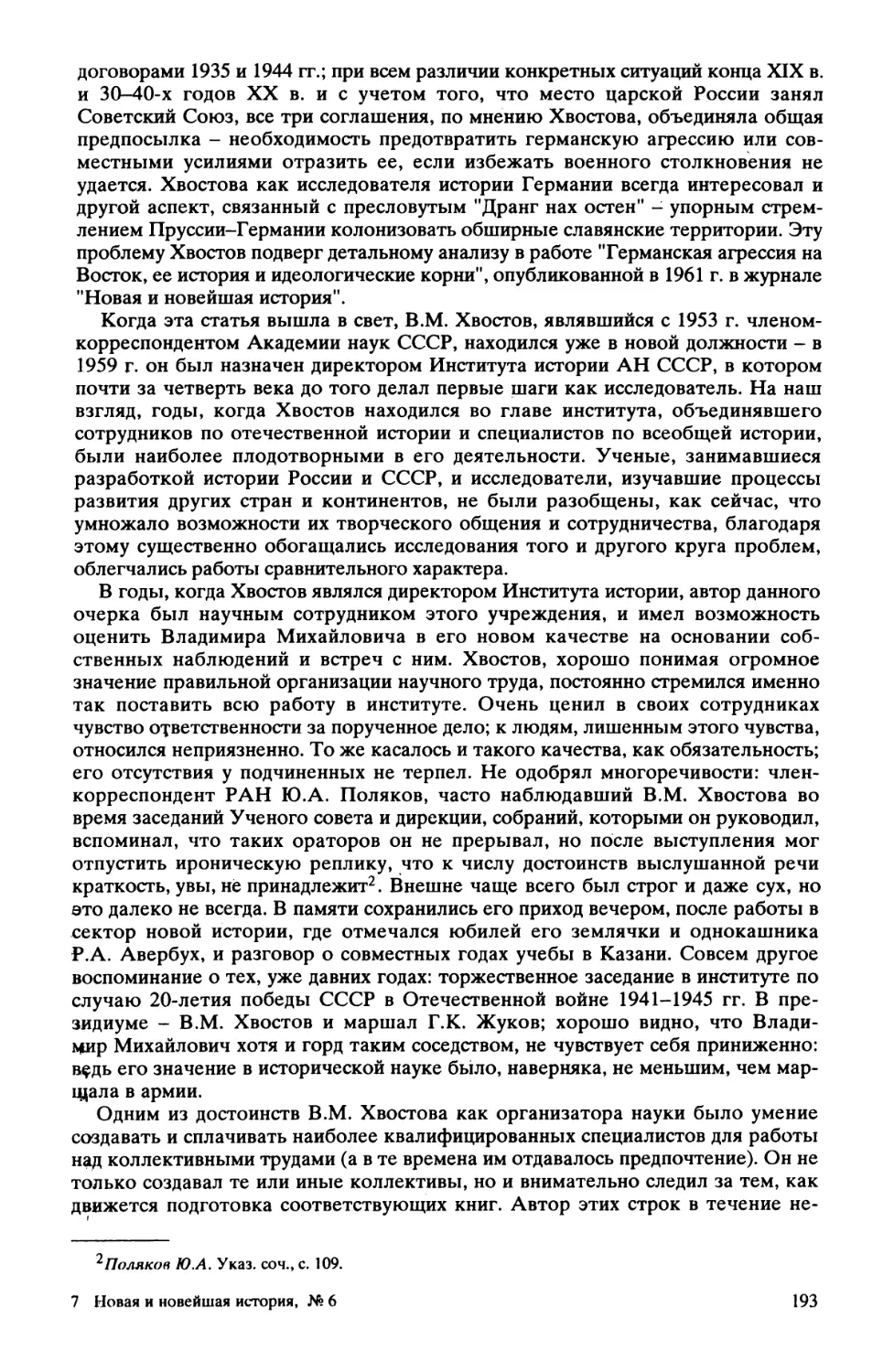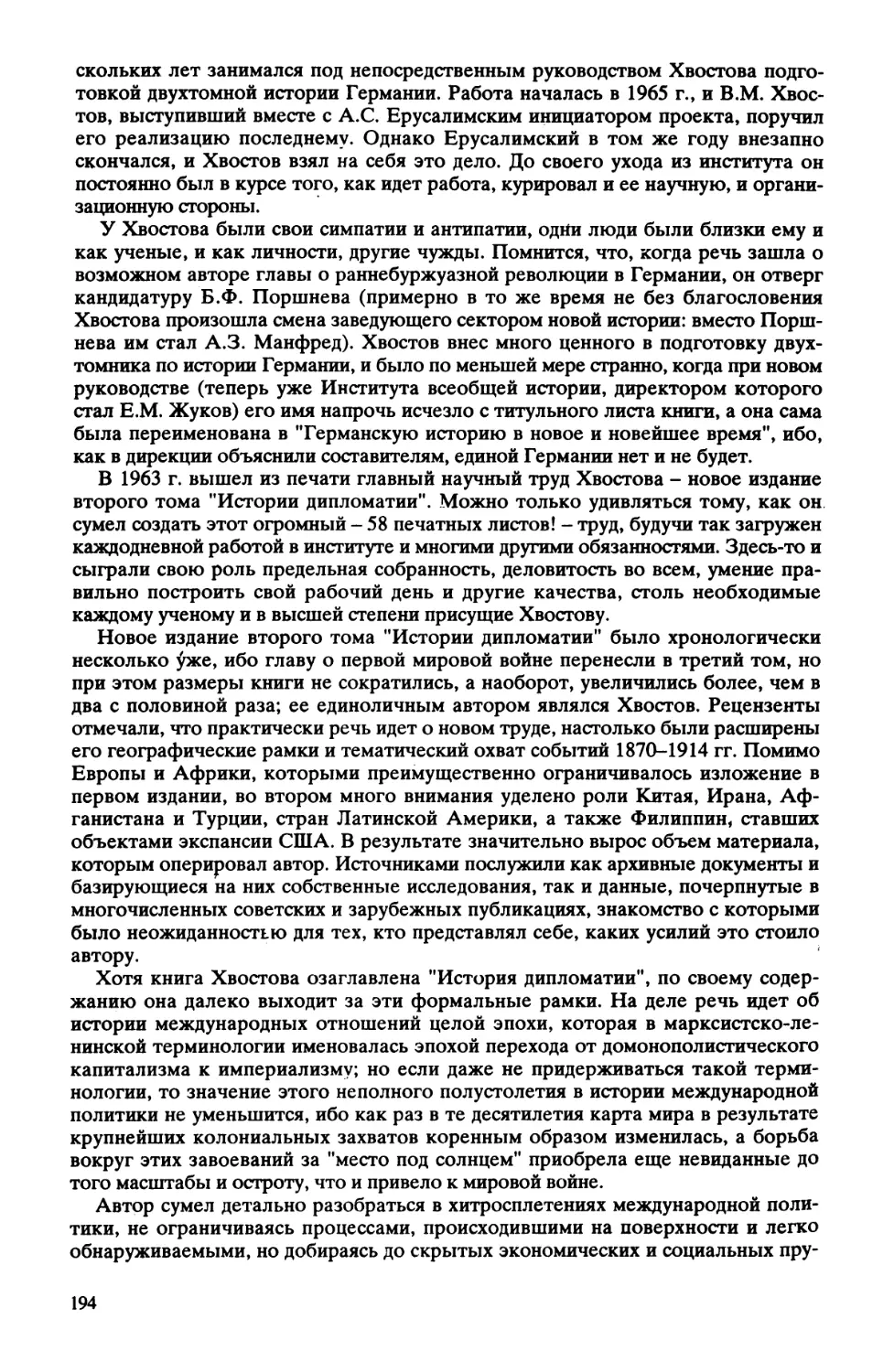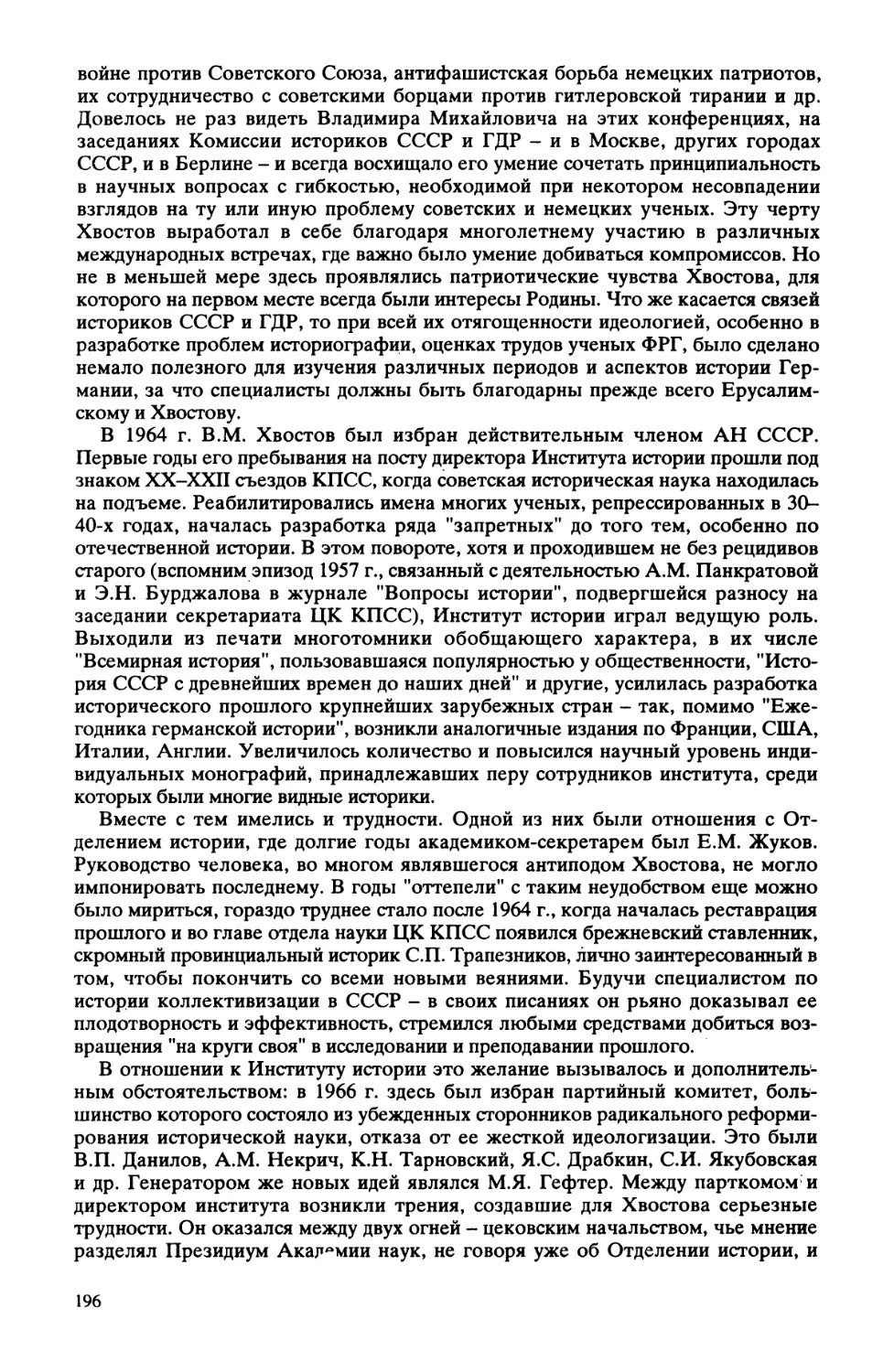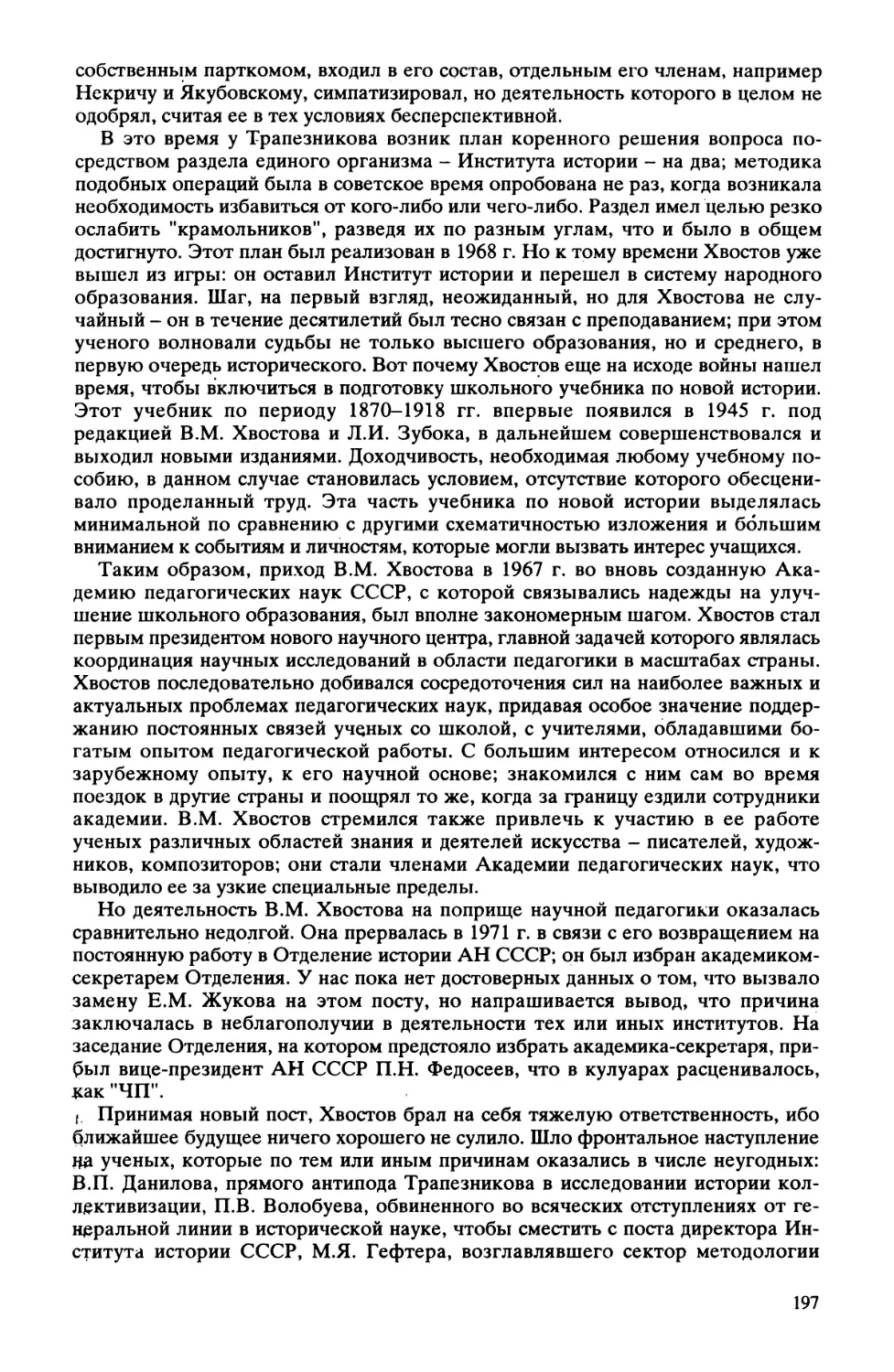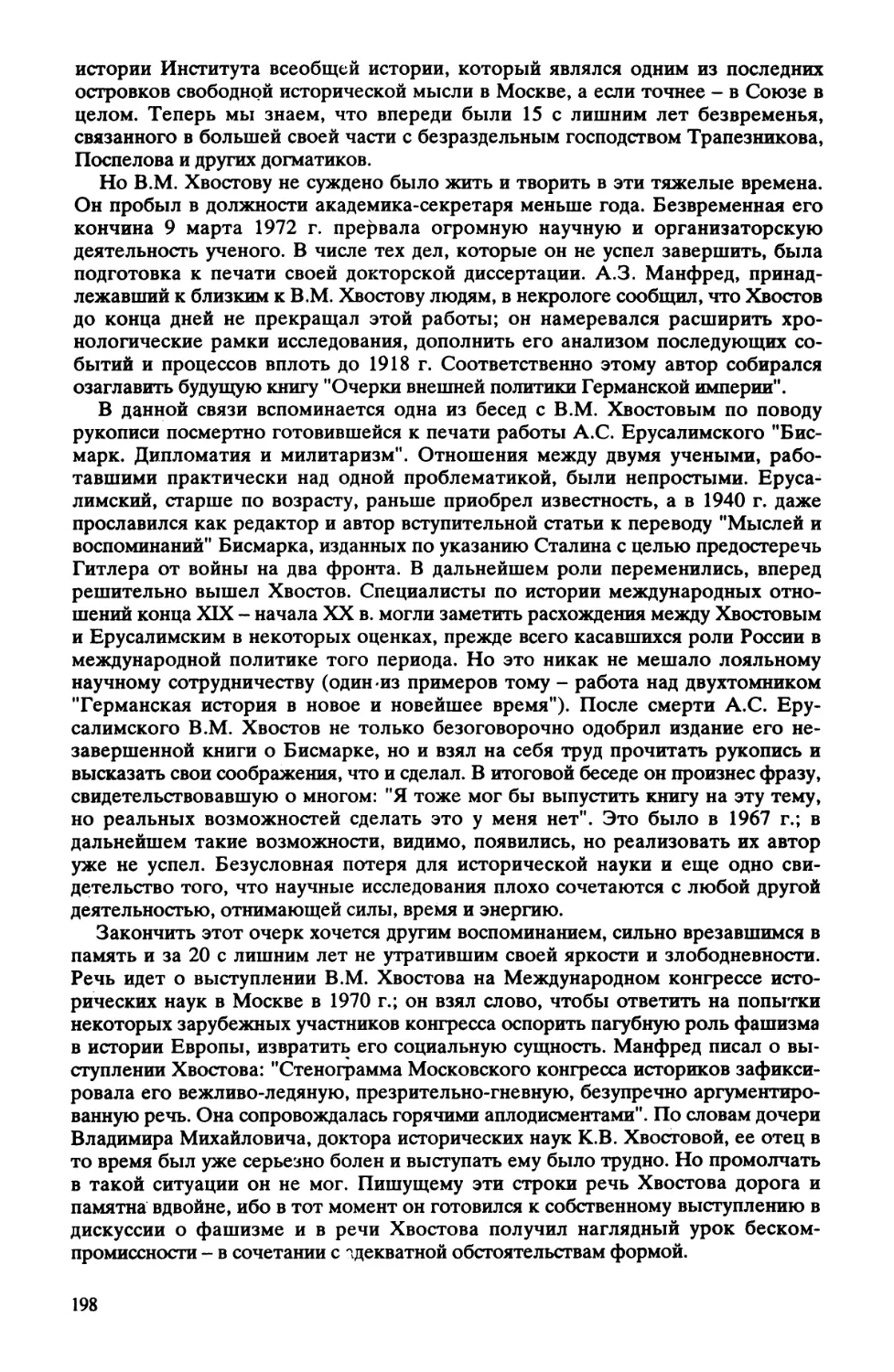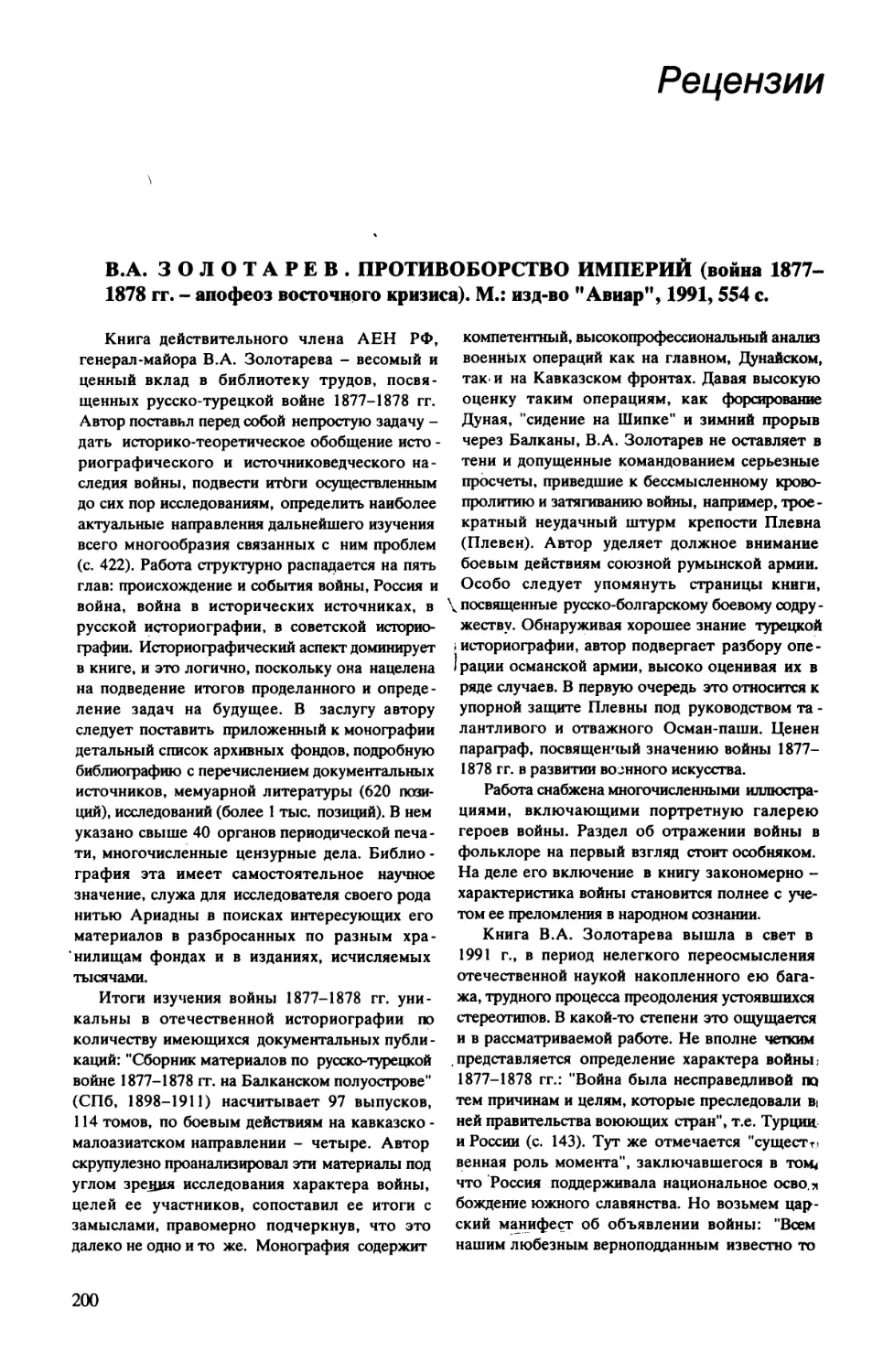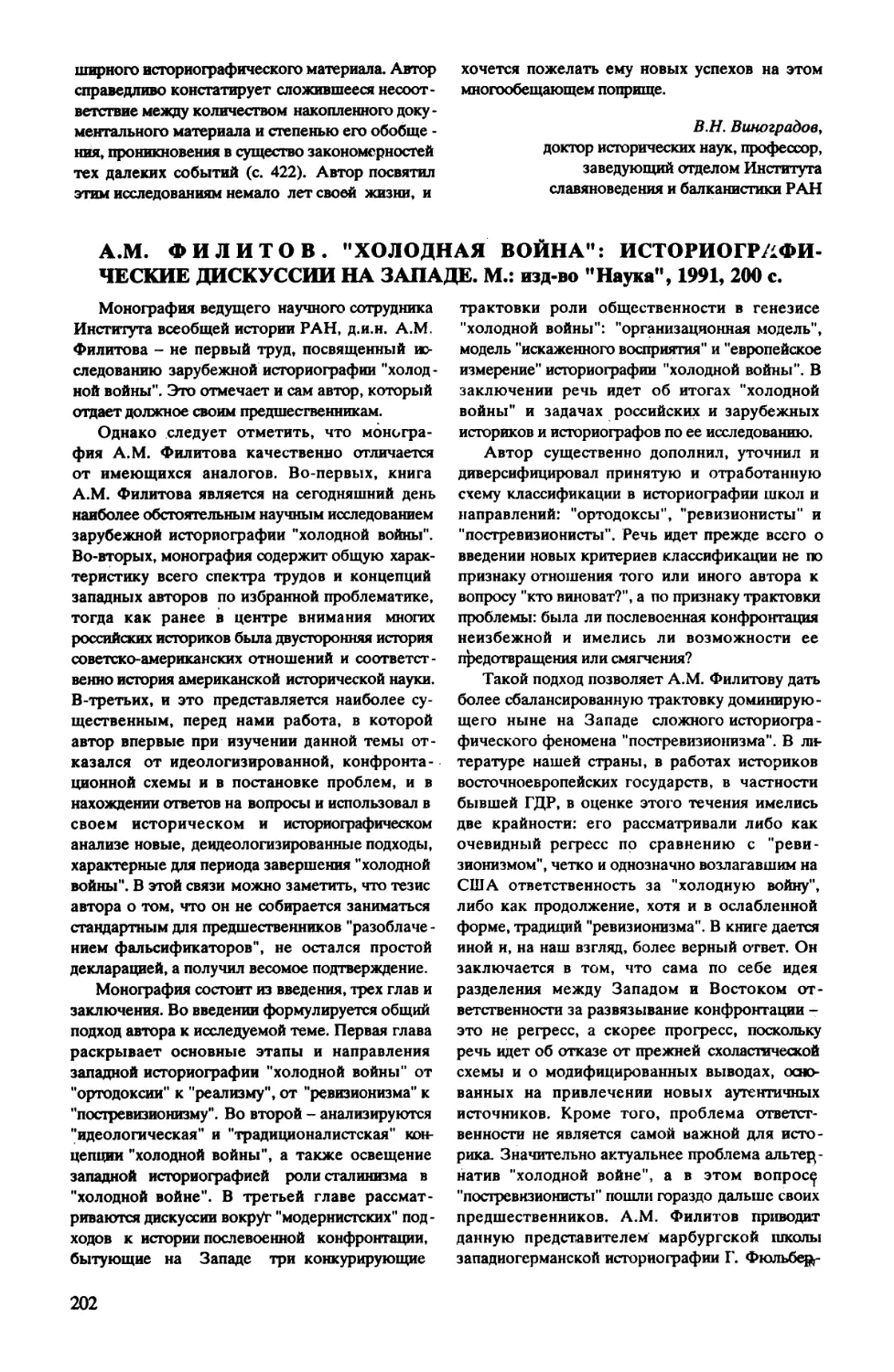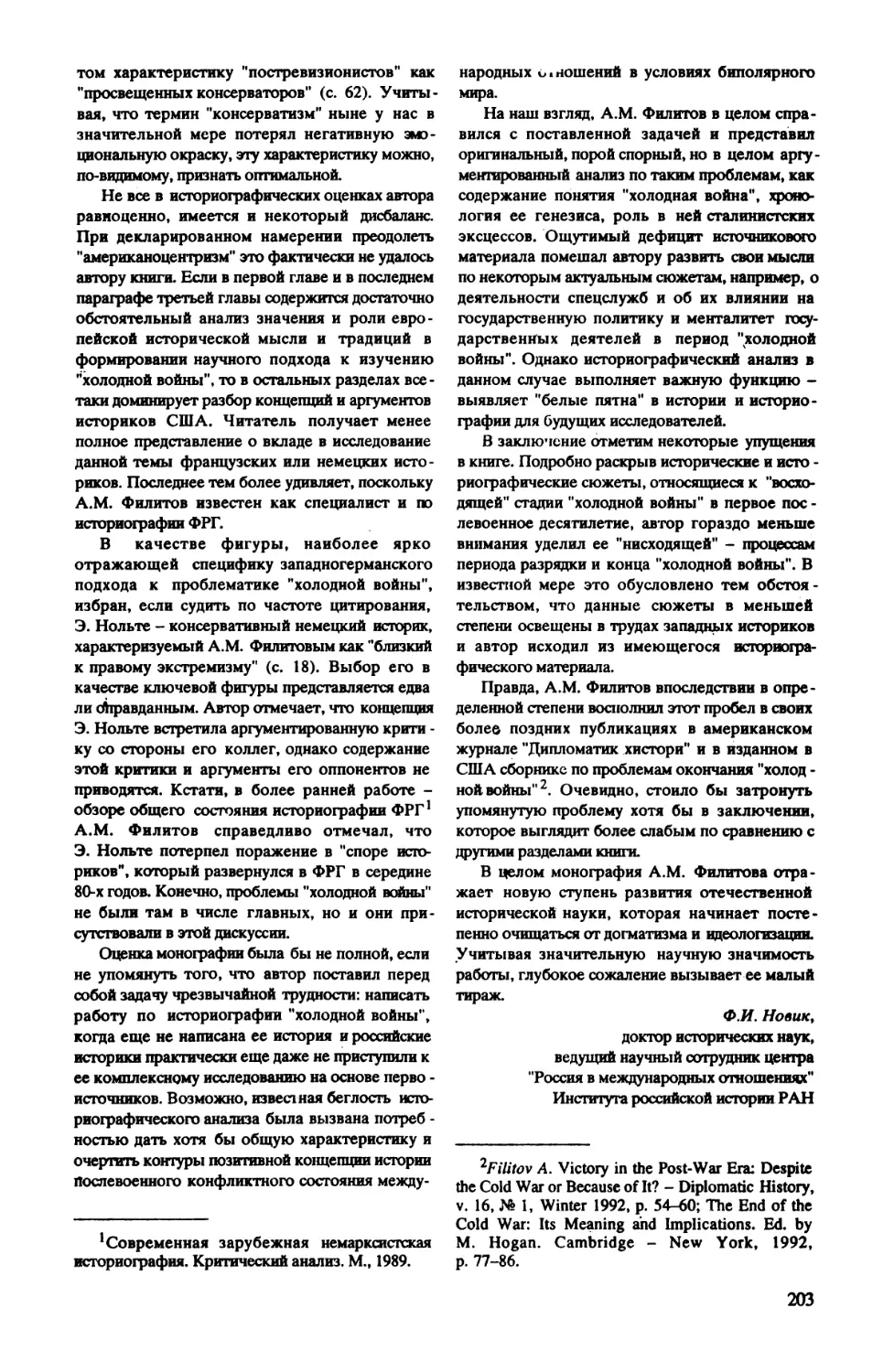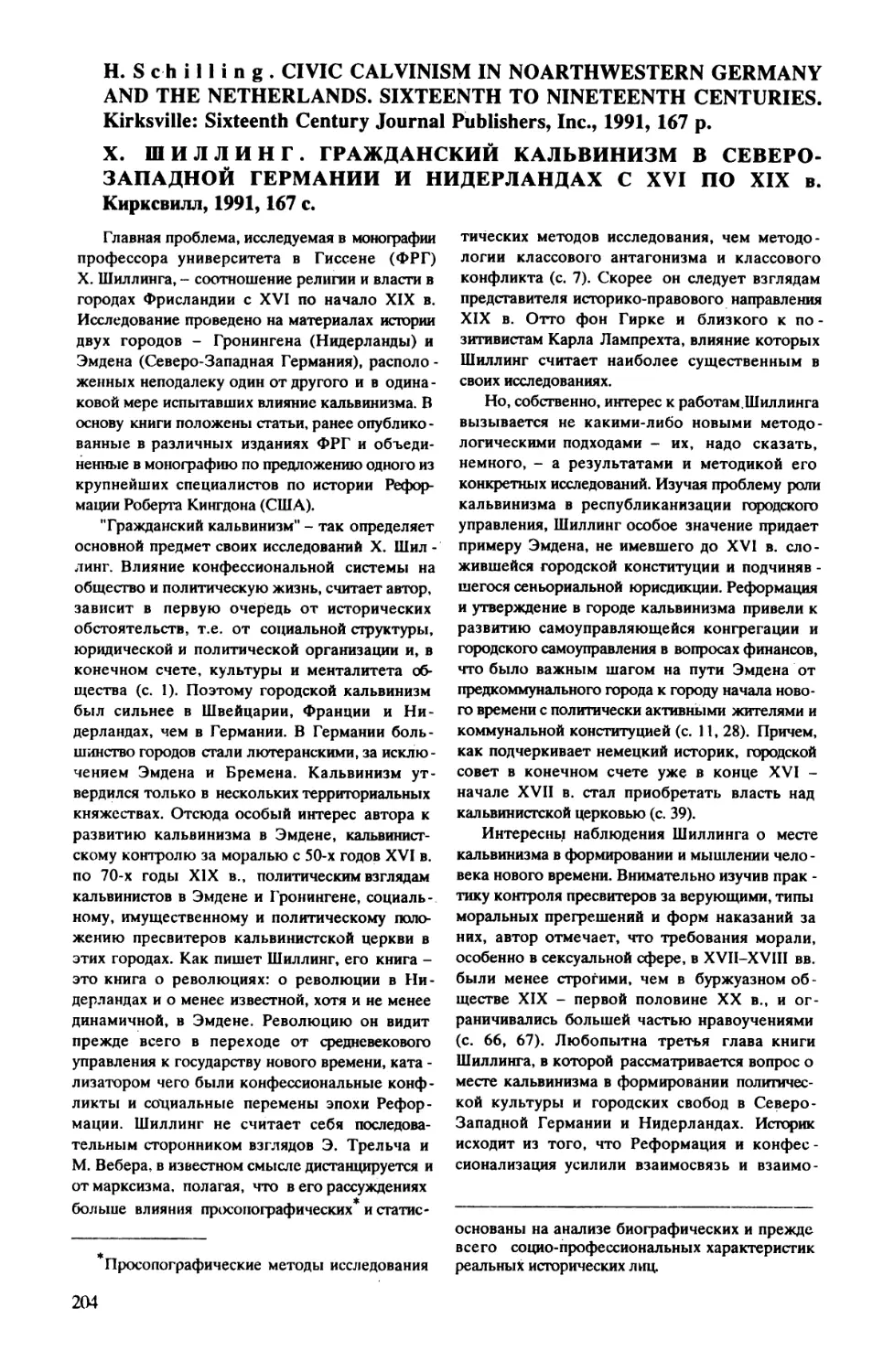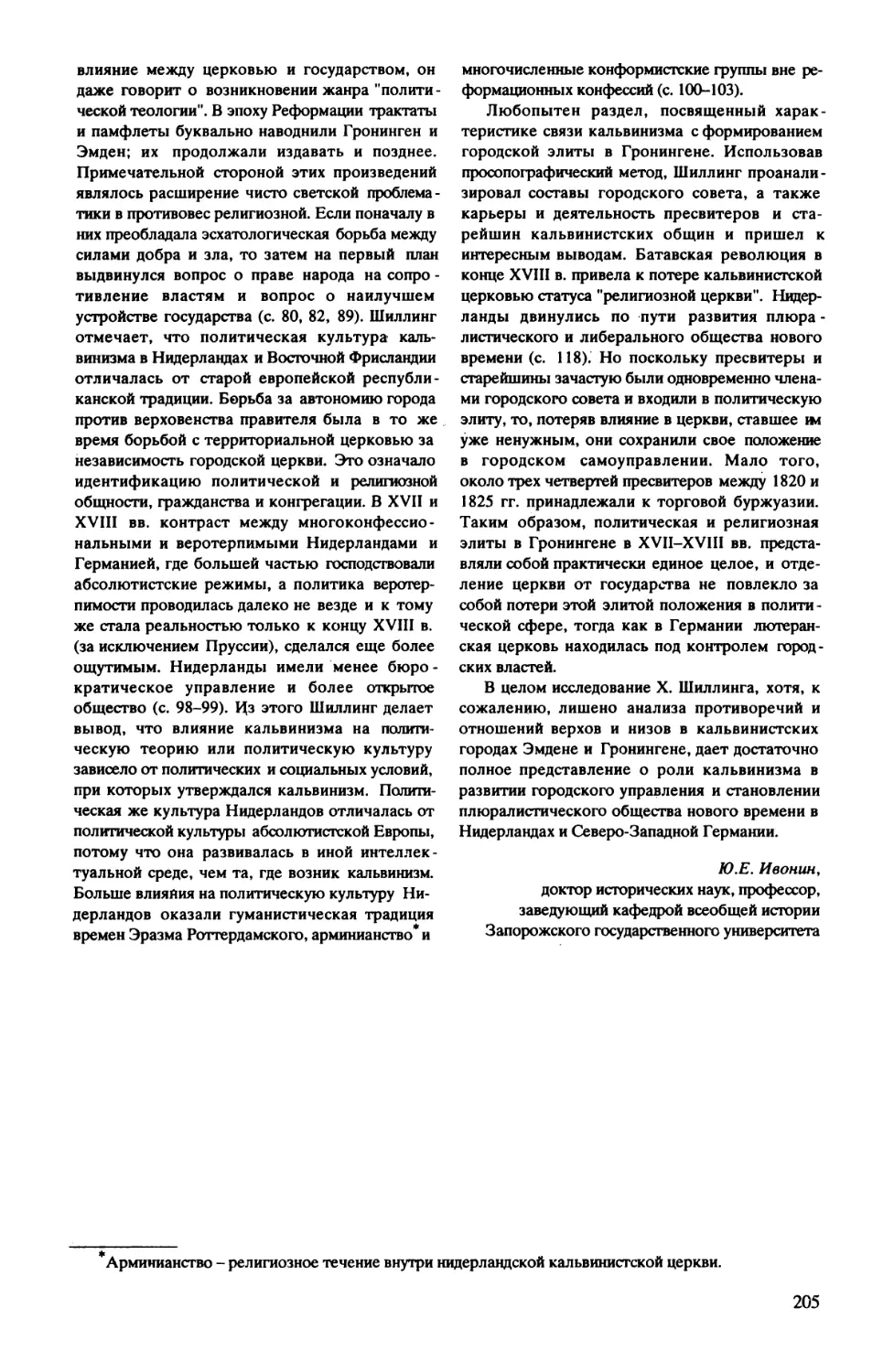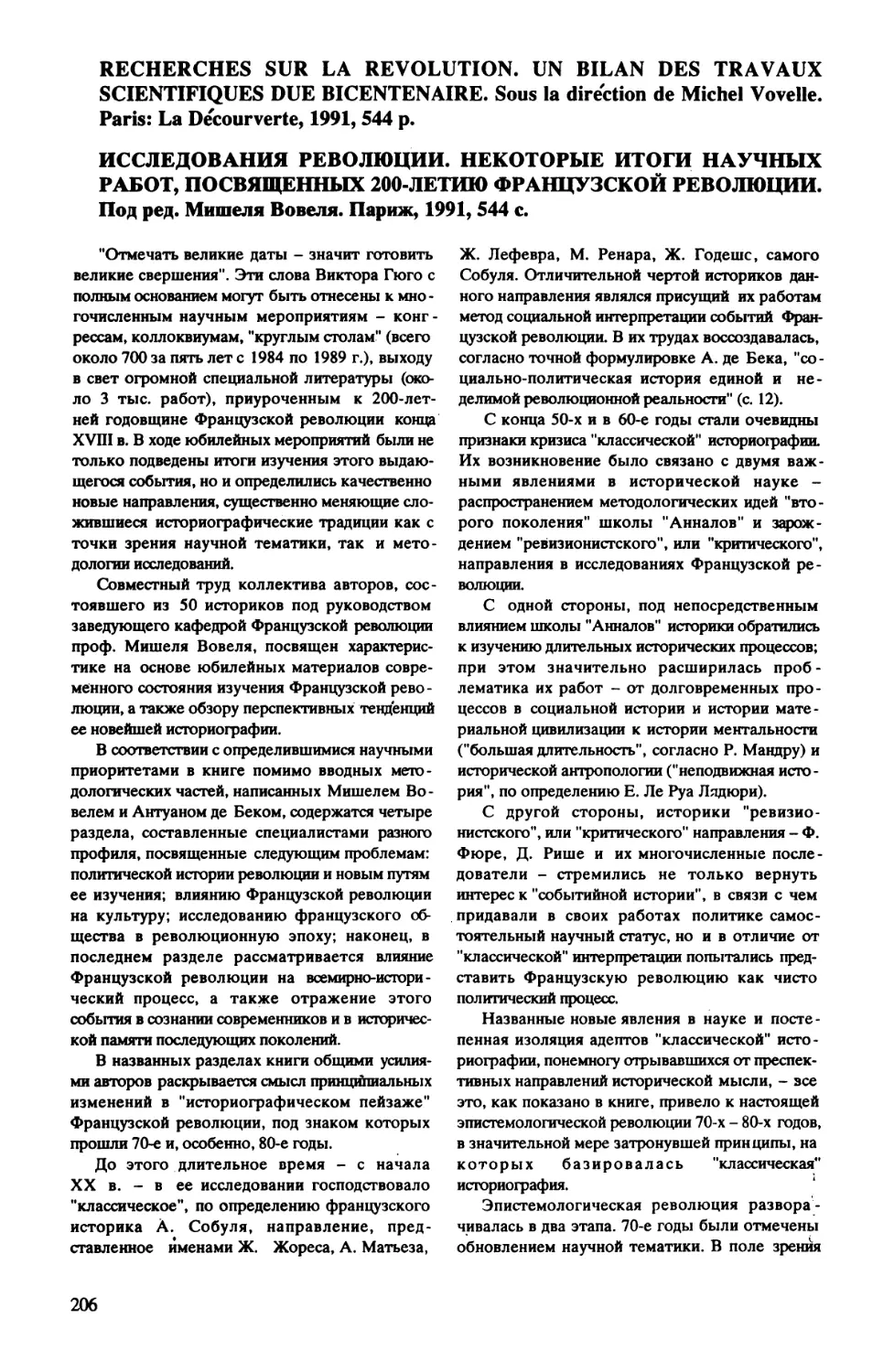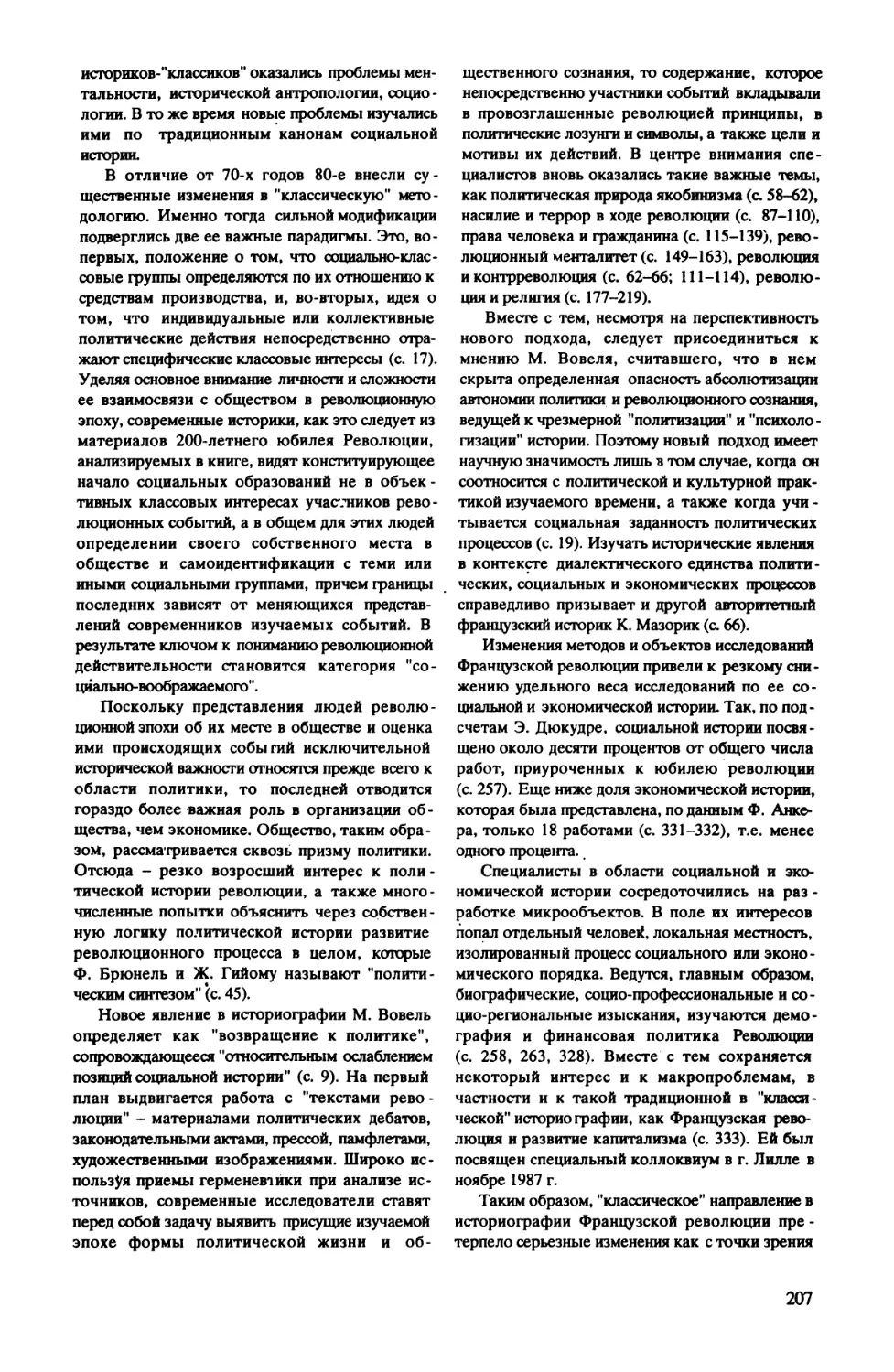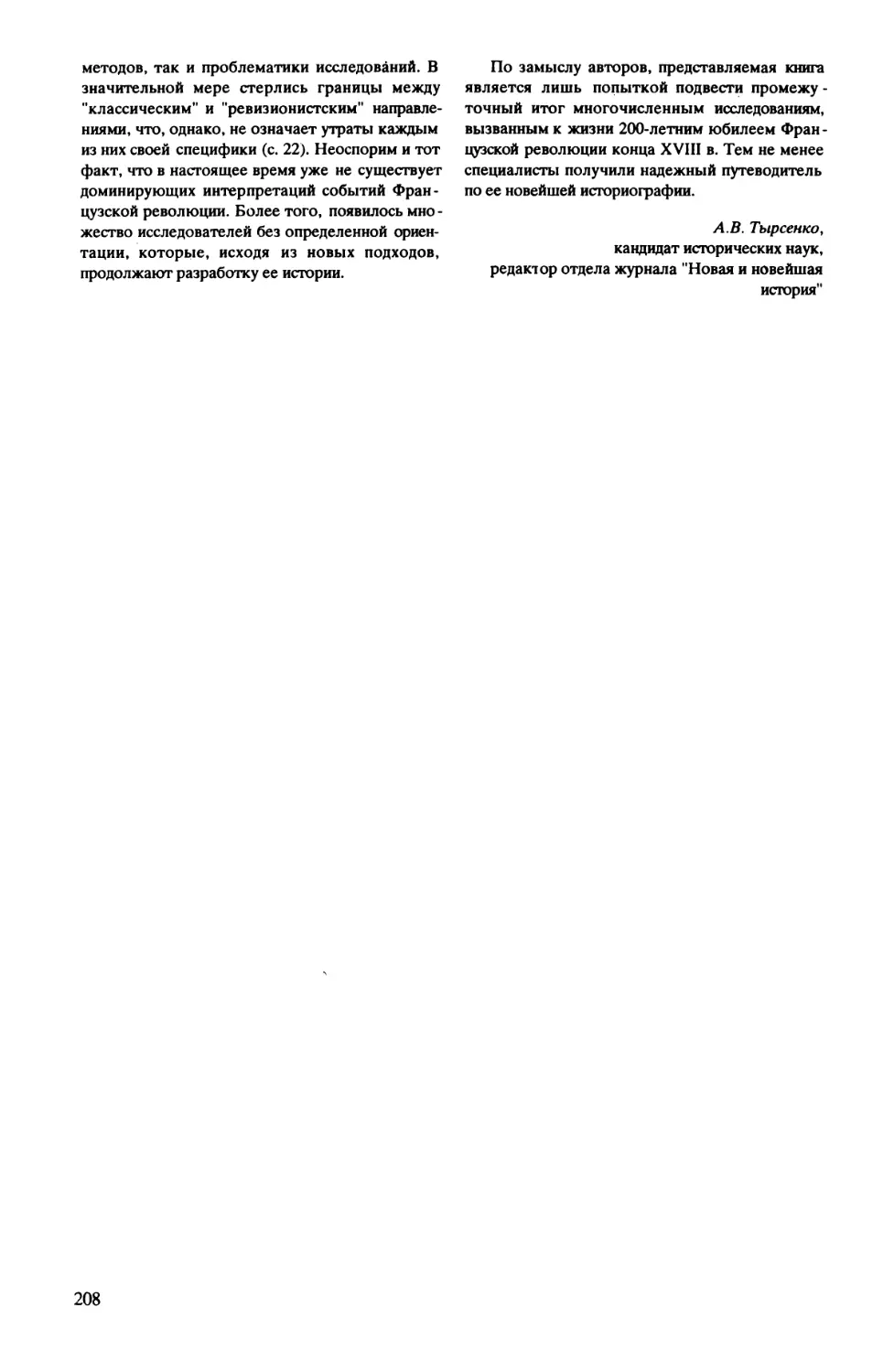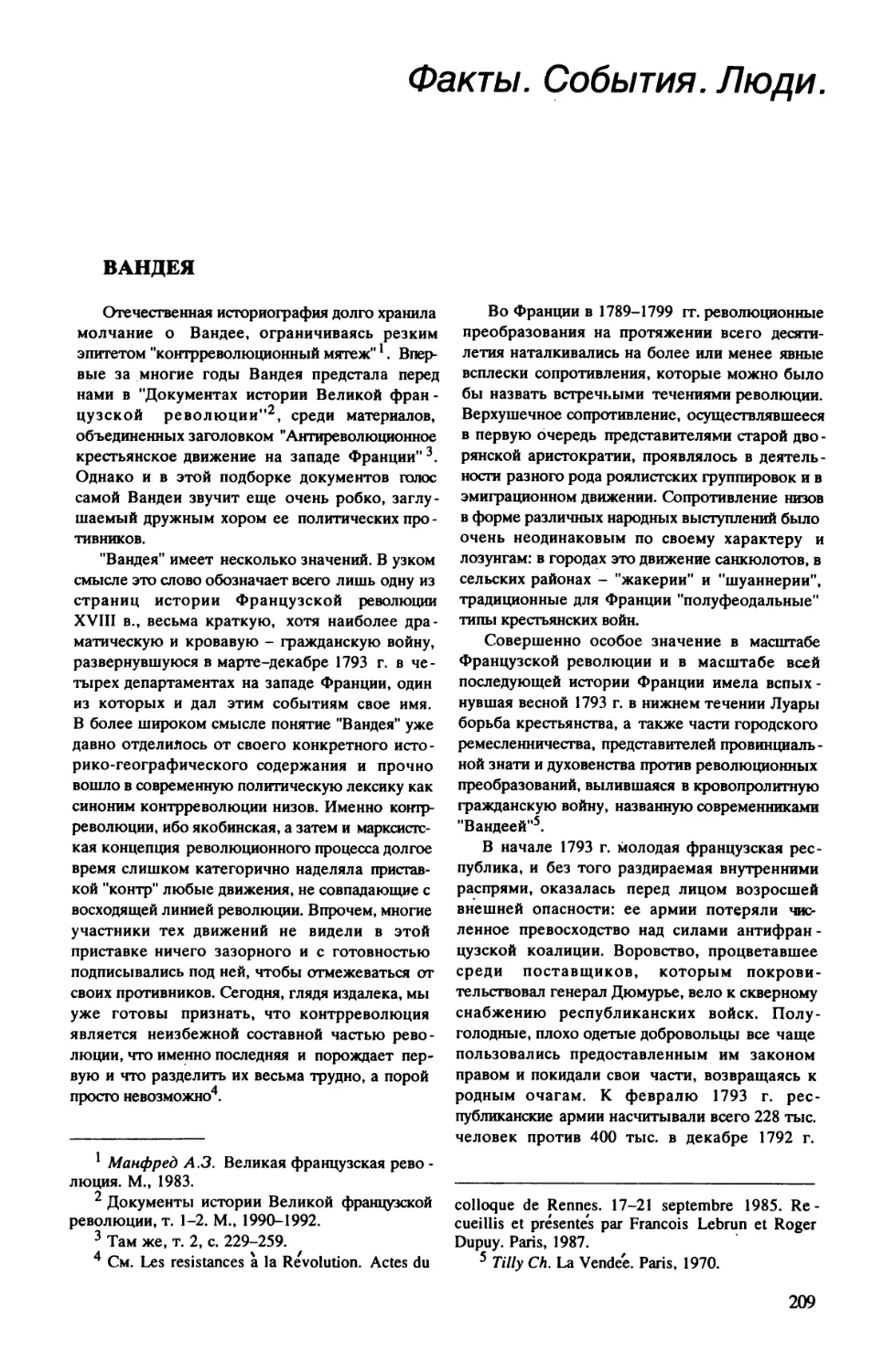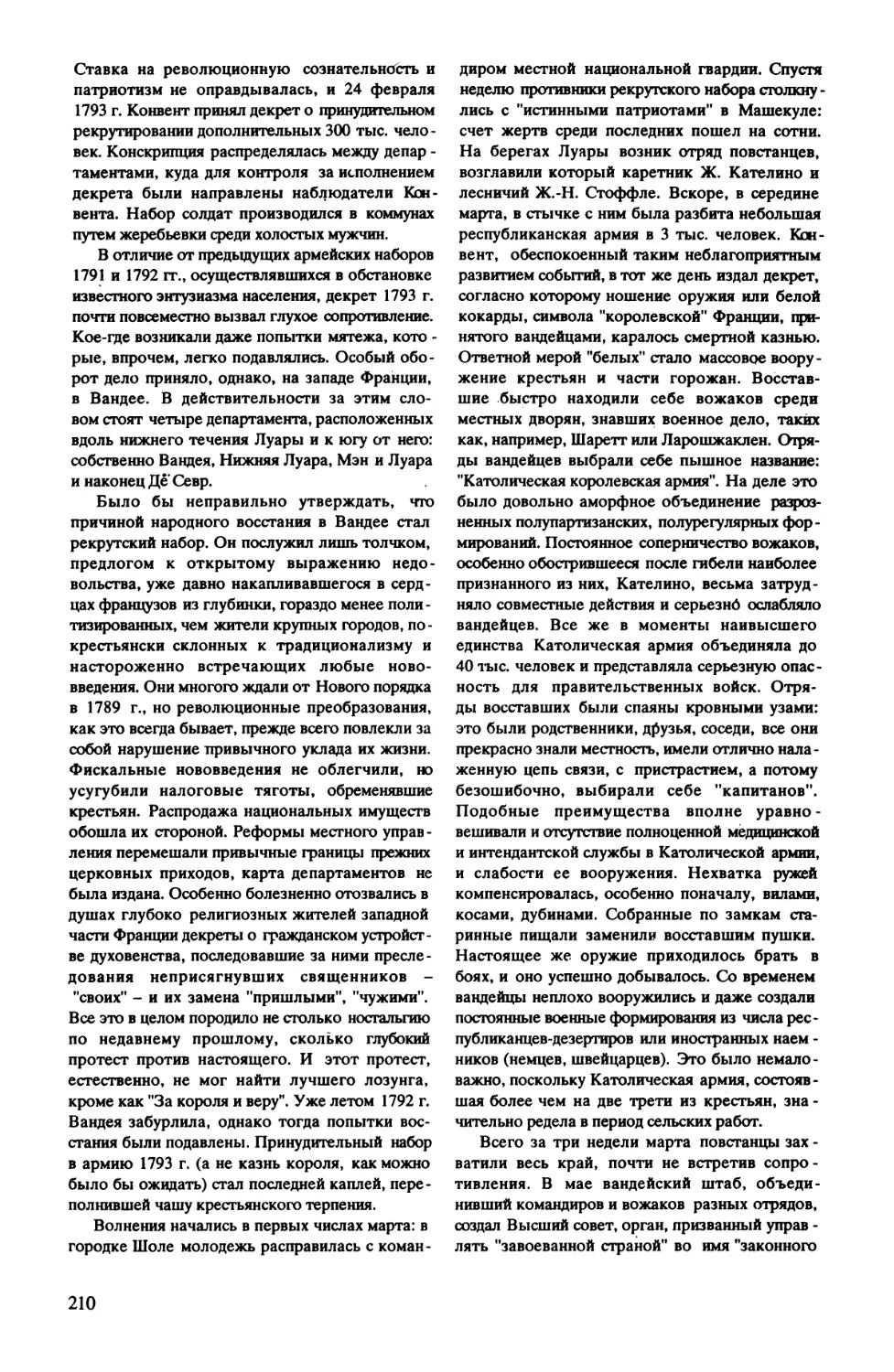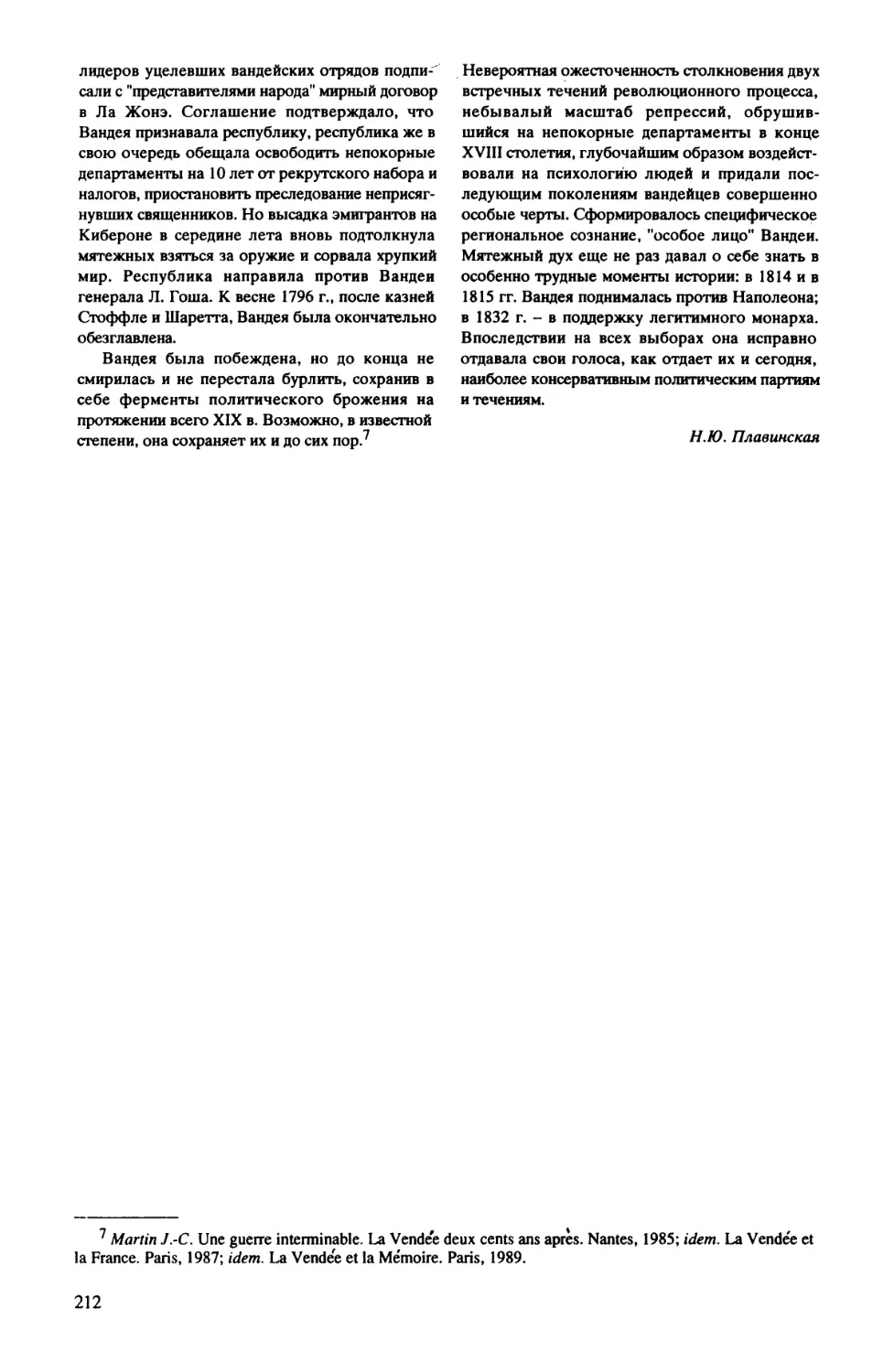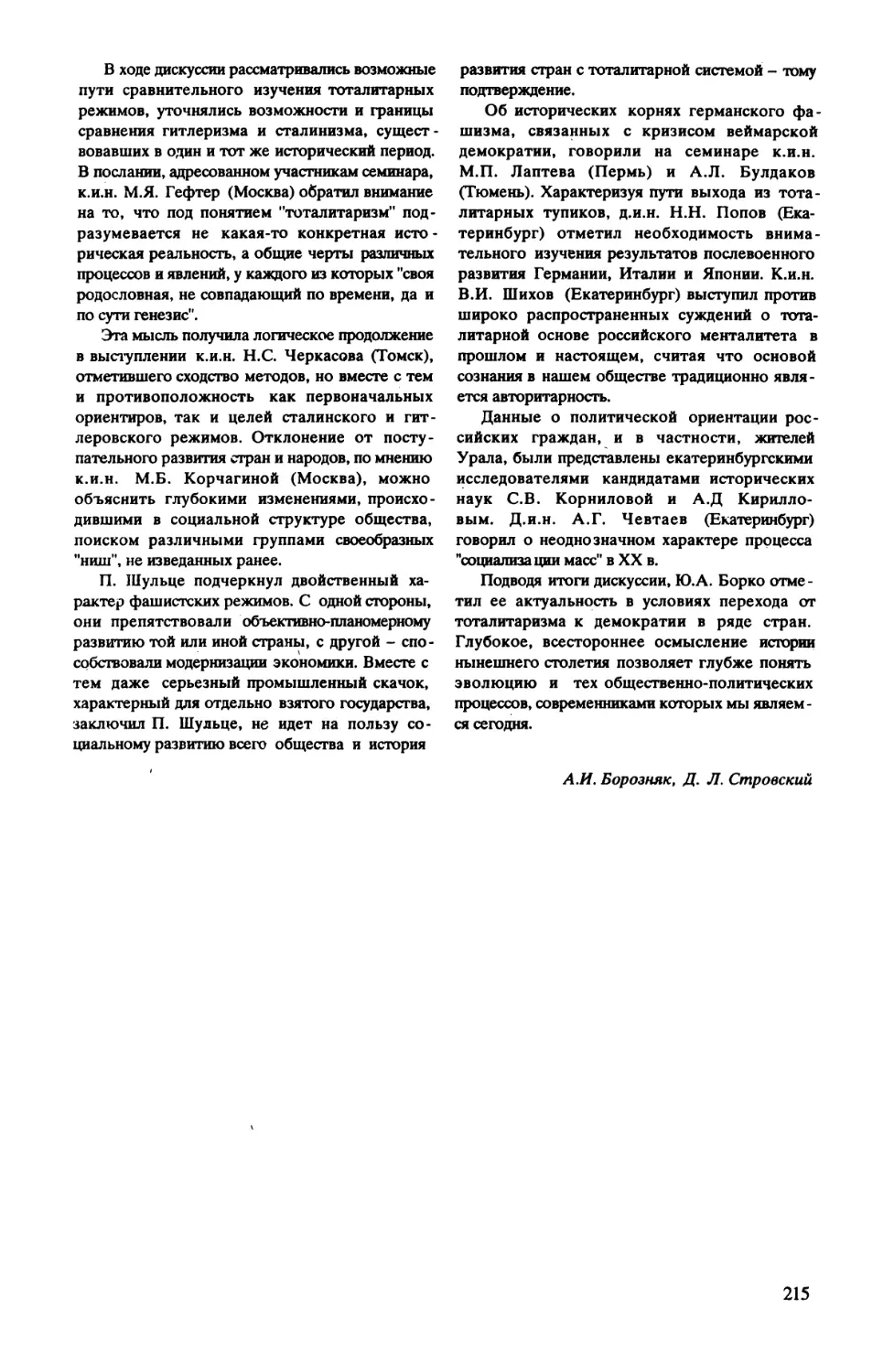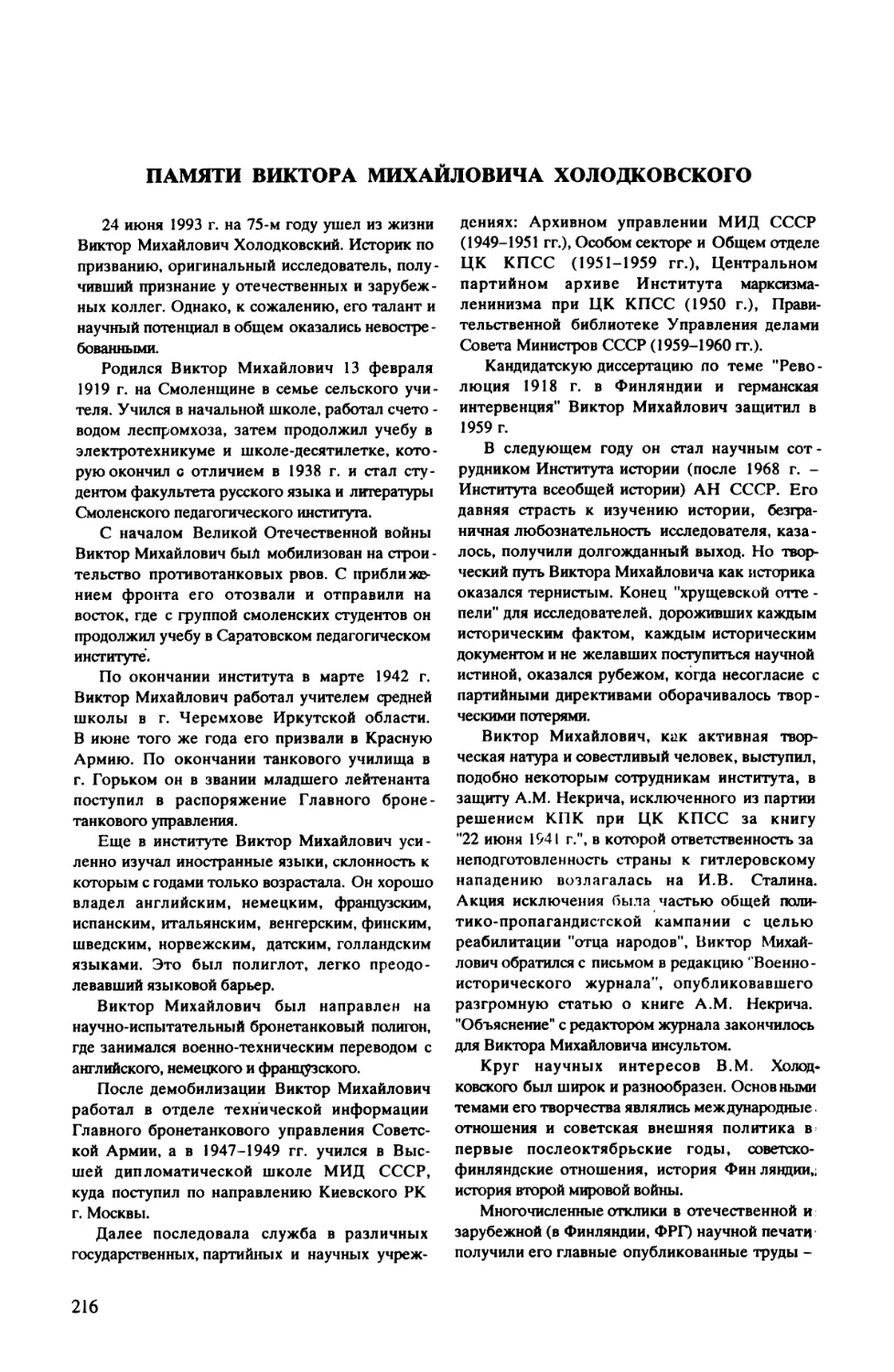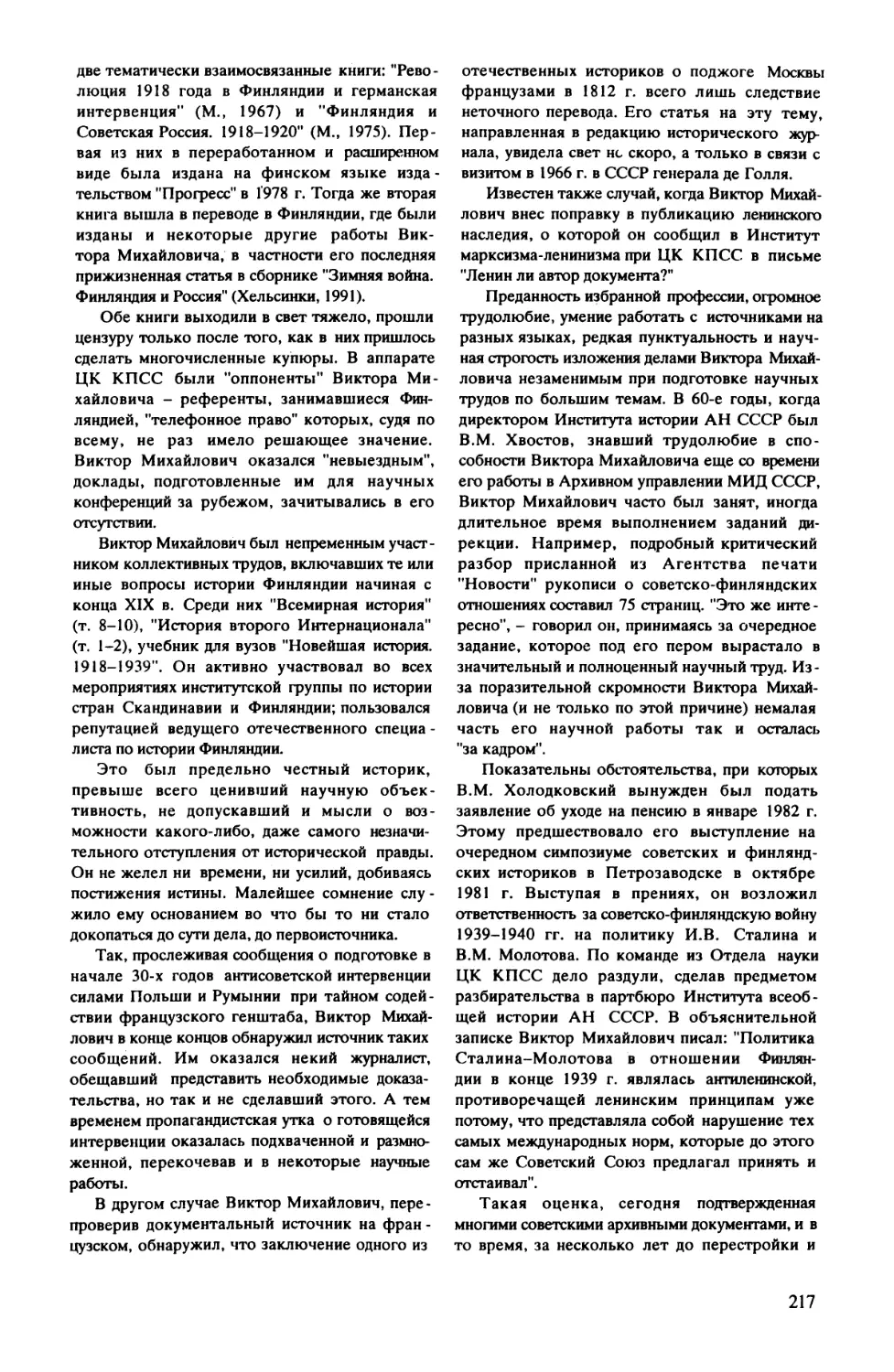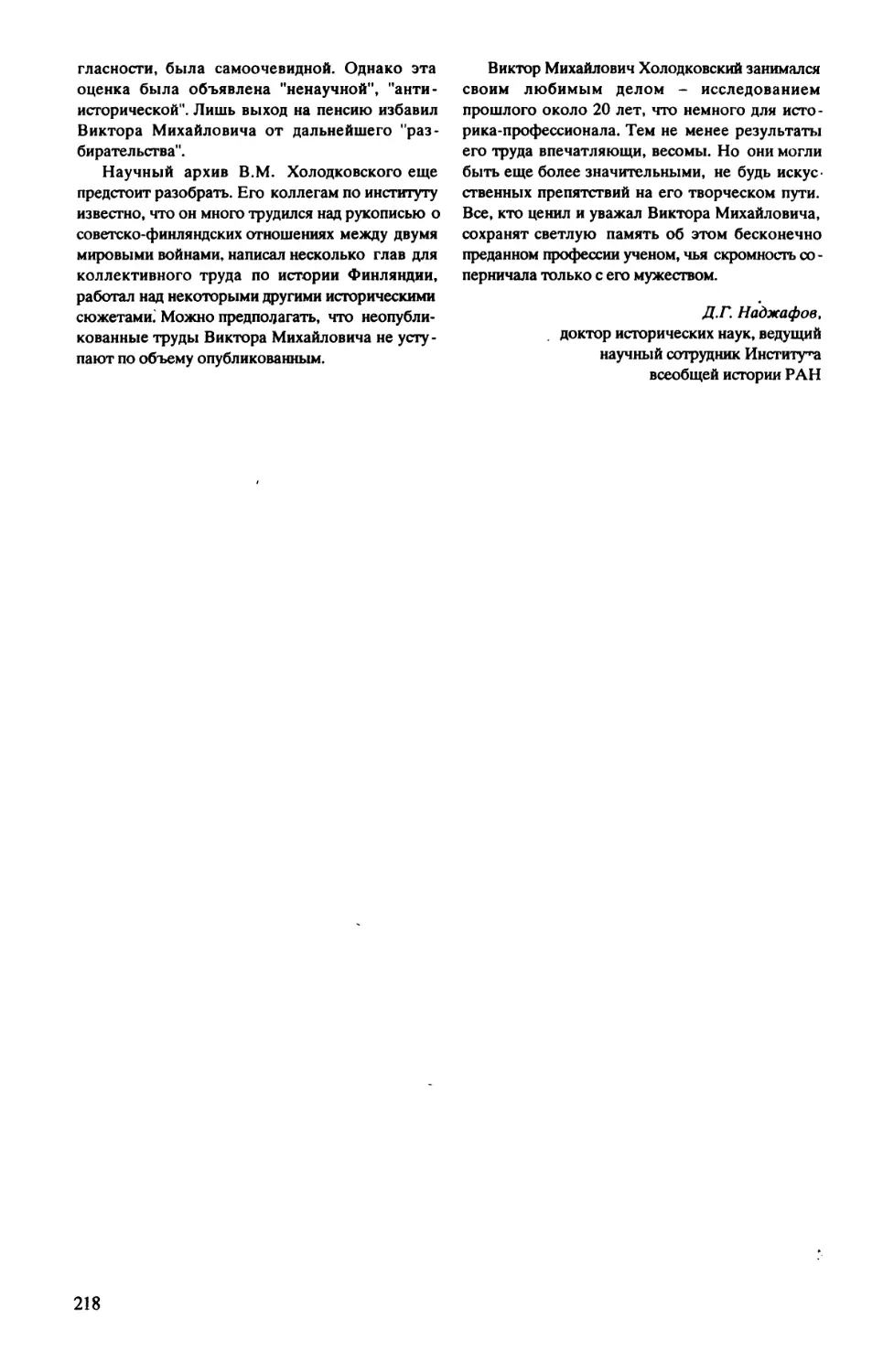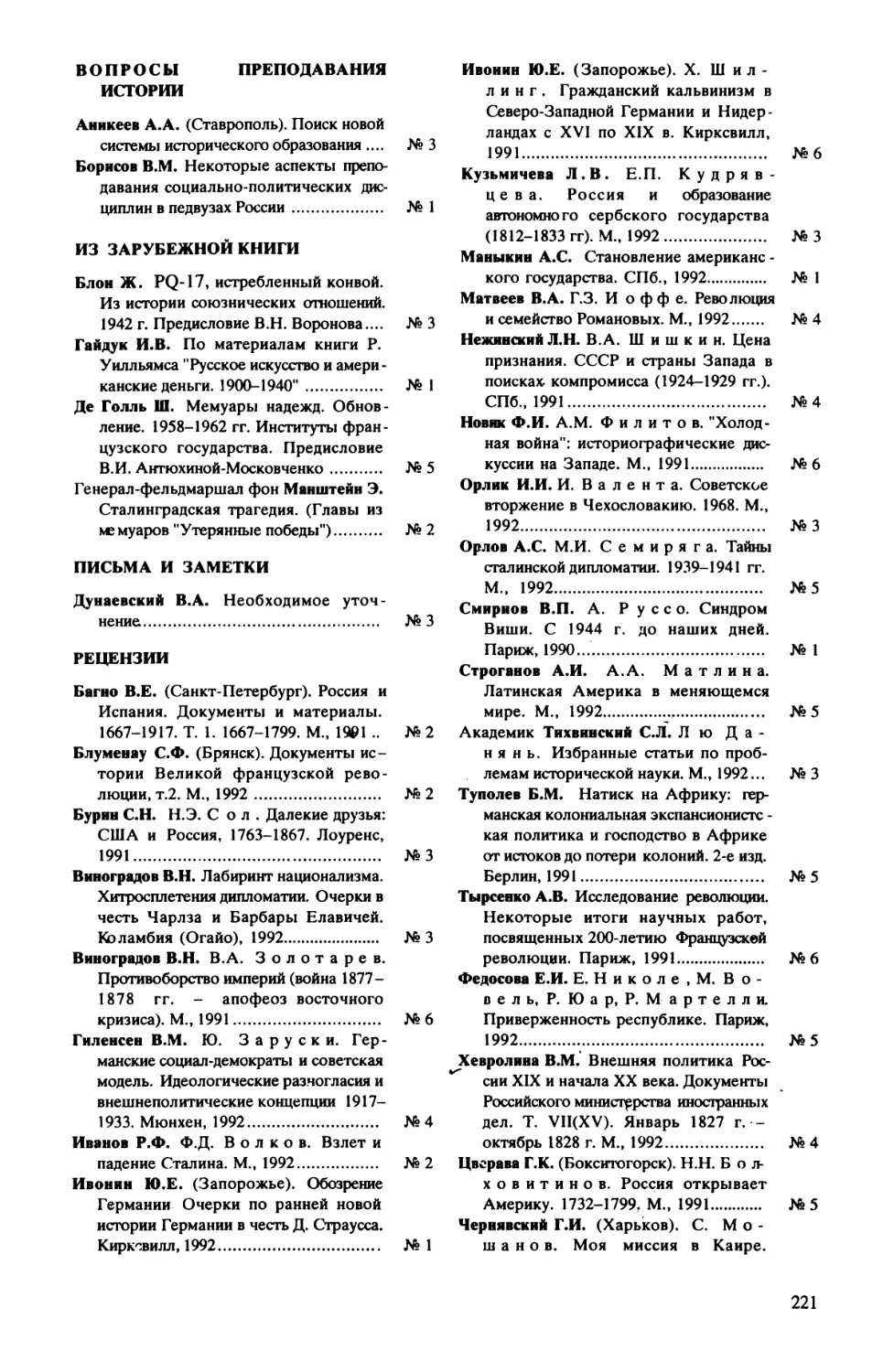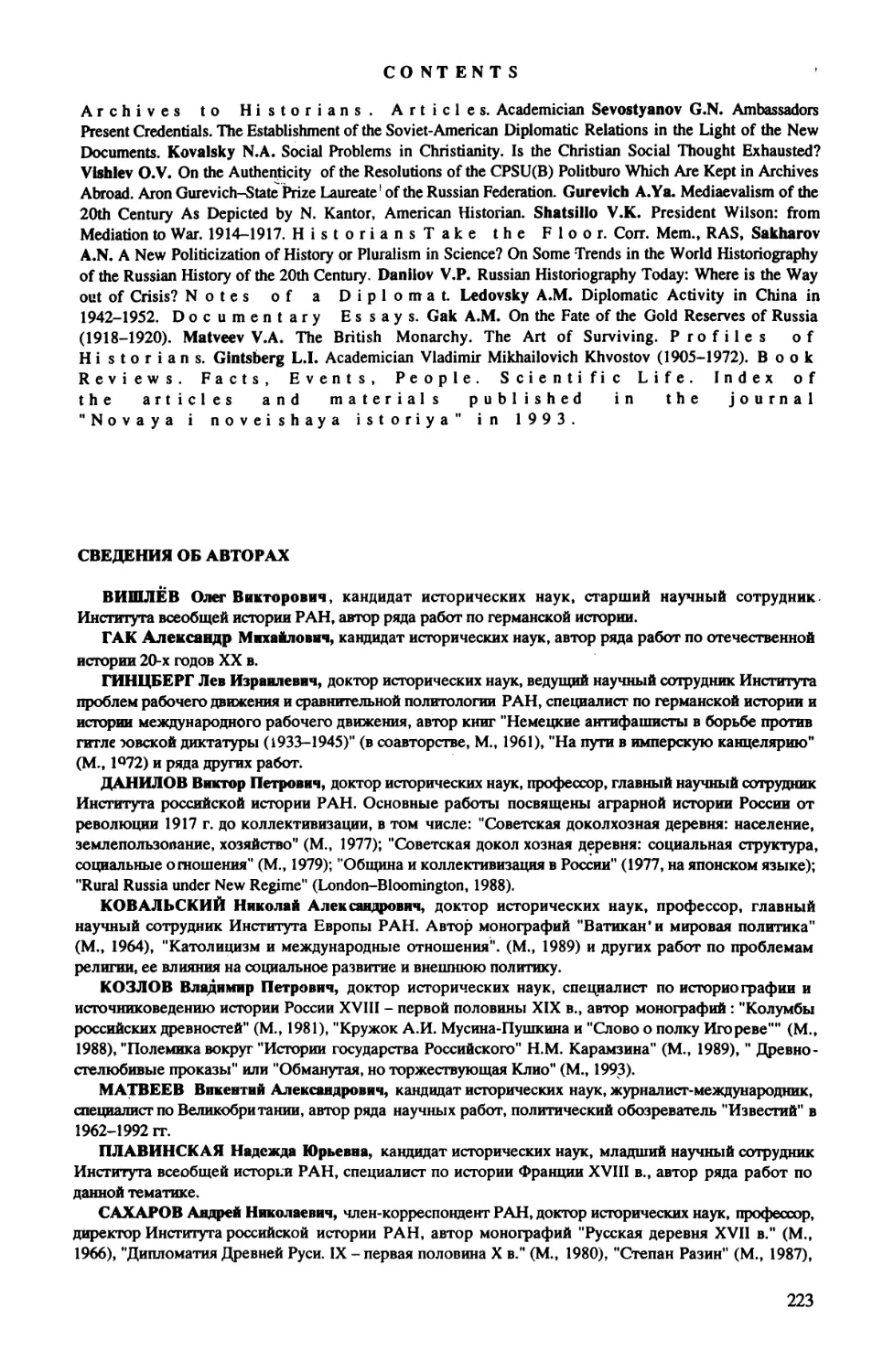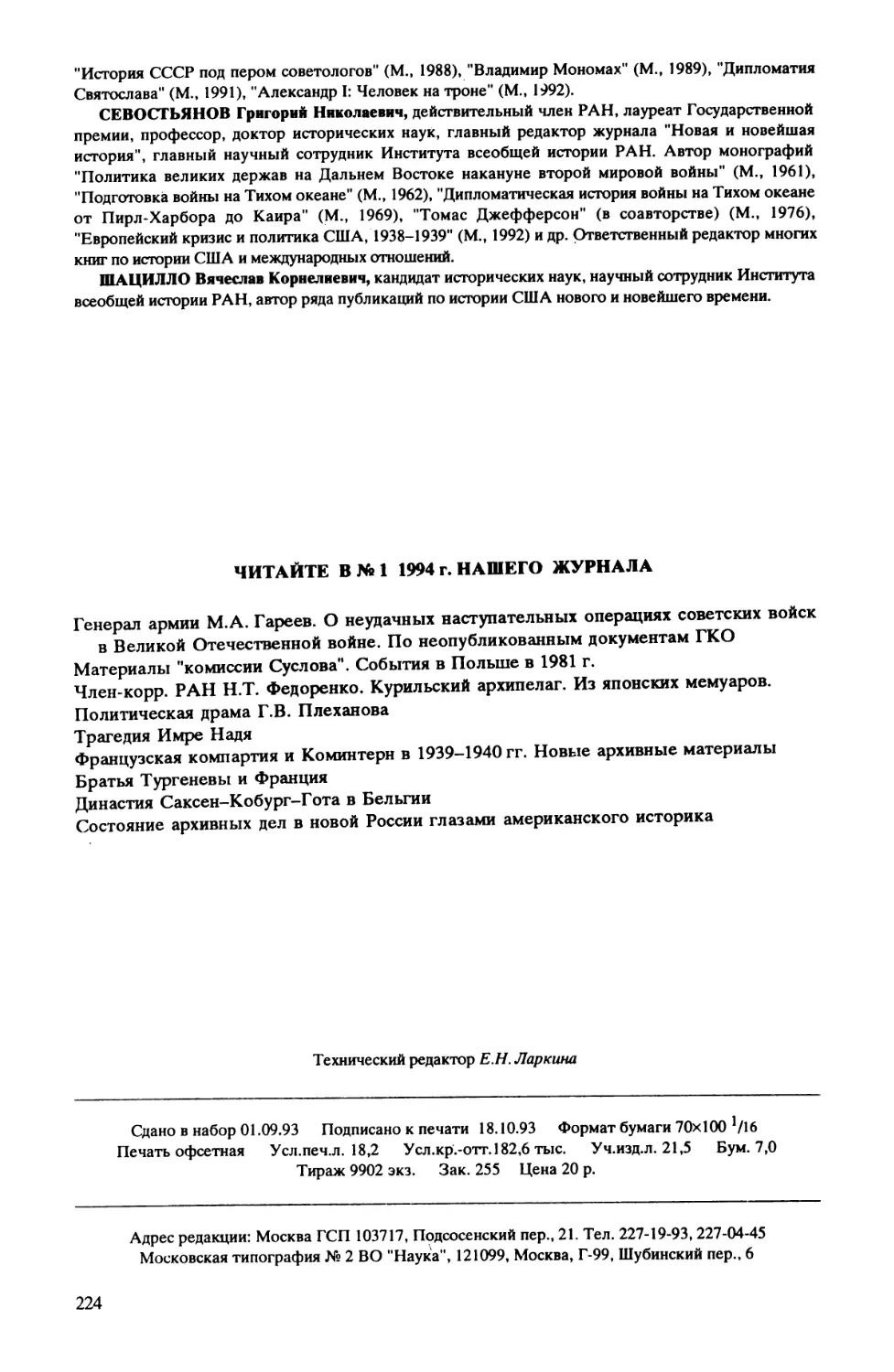Text
<шлн
ISSN 0130-3864
и
IIOBIIIIIIU9
ИСТОРИЯ
номере
АРХИВЫ - ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
ПРИЗНАНИЕ США СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В СВЕТЕ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ИСЧЕРПАЛО ЛИ СЕБЯ ХРИСТИАНСТВО’
о подлинности’’постановлений
ПОЛИТБЮРО ВКП(б)’,' ХРАНЯЩИХСЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ
ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА О РАБОТЕ В КИТАЕ
О СУДЬБЕ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА РОССИИ
БРИТАНСКАЯ МОНАРХИЯ: ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ
АКАДЕМИК В.М. ХВОСТОВ
1993
il
РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
НОВАЯ
НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ
ИНСТИТУТ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
№ 6
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
1993
ЖУРНАЛ ОСНОВАН
В МАЕ 1957 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
АРХИВЫ - ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской
Федерации и архивах 3
Козлов В.П. Принципы "Основ законодательства Российской Федерации об
Архивном фонде Российской Федерации и архивах" 12
СТАТЬИ
Академик Севостьянов Т.Н. Послы вручают верительные грамоты.
Установление советско-американских дипломатических отношений в свете
новых документов 16
Ковальский Н.А. Социальные проблемы в христианстве. Исчерпала ли себя
христианская социальная мысль? 36
Вишлёв О.В. О подлинности "постановлений политбюро ВКП(б)", хранящихся в
зарубежных архивах : 51
А.Я. Гуревич - лауреат Государственной премии Российской Федерации 56
Гуревич А.Я. Медиевистика XX в. в изображении американского историка
Н. Кантора 56
Шацилло В.К. Президент Вильсон: от посредничества к войне. 1914-1917 гг 69
СЛОВО ИСТОРИКА
Член-корр. РАН Сахаров А.Н. Новая политизация истории или научный
плюрализм? О некоторых тенденциях в мировой историографии истории
России XX в 87
Данилов В.П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса... 95
ЗАПИСКИ ДИПЛОМАТА
Ледовский А.М. На дипломатической работе в Китае в 1942-1952 гг 102
В "НАУКА" МОСКВА
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Гак А.М. О судьбе золотого запаса России (1918-1920 гг.) 133
Матвеев В.А. Британская монархия: искусство выживания 156
ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ
Гинцберг Л.И. Академик Владимир Михайлович Хвостов (1905-1972) 186
РЕЦЕНЗИИ
-^Виноградов В.Н. В. А. Золотарев. Противоборство империй (война 1877-1878 гг. -
апофеоз восточного кризиса). М., 1991 200
Новик Ф.И. А.М. Ф и л и т о в. "Холодная война": историографические дискуссии на Западе.
М., 1991 202
\/~Ивонин Ю.Е. (Запорожье). X. Шиллинг. Гражданский кальвинизм в Северо-Западной
Германии и Нидерландах с XVI по XIX в. Кирксвилл, 1991 204
Тырсенко А.В. Исследования революции. Некоторые итоги научных работ, посвященных 200-
летию Французской революции. Париж, 1991 t 206
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Плавинская Н.Ю. Вандея 209
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Коротков А.В. Об Архиве Президента РФ 213
Гуляев Ю.Н. (Санкт-Петербург). Памяти М.И. Кутузова 213
Борозняк А.И., Стровский Д.Л. (Екатеринбург). Международный научный семинар в
Екатеринбурге 214
Наджафов Д.Г. Памяти Виктора Михайловича Холодковского 216
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Новая и новейшая история" в
1993 г. 219
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)
А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, В.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь),
Т.М. ИСЛАМОВ, Н.П. КАЛМЫКОВ, Ф.Н. КОВАЛЕВ, И.И. ОРЛИК, В.С. РЫКИН,
Н.И. СМОЛЕНСКИЙ, В.В. СОГРИН, Е.И. ТРЯПИЦЫН (зам. главного редактора),
ЛЯ. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК, А.О. ЧУБАРЬЯН, Е.Ф. ЯЗЬКОВ
Рукописи представляются в редакцию в трех экземплярах.
В случае отклонения рукописи автору возвращаются два экземпляра,
один остается в архиве редакции
Адрес редакции: 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21.
Тел. 227-19-93, 227-04-45
© Российская академия наук,
Институт всеобщей истории РАН, 1993 г.
2
Архивы - исследователям
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АРХИВАХ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящих Основ:
под Архивным фондом Российской Федерации понимается совокупность доку¬
ментов, отражающих материальную и духовную жизнь ее народов, имеющих
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культур¬
ное значение и являющихся неотъемлемой частью историко-культурного насле¬
дия народов Российской Федерации;
под архивным документом понимается документ, сохраняемый или подлежа¬
щий сохранению в силу его значимости для общества, а равно имеющий цен¬
ность для собственника;
под архивным фондом понимается совокупность архивных документов, истори¬
чески или логически связанных между собой;
под архивом понимается совокупность архивных документов, а также ар¬
хивное учреждение или структурное подразделение учреждения, организации или
предприятия, осуществляющее прием и хранение архивных документов в инте¬
ресах пользователей;
под тайным архивом понимается архив, о котором не заявлено публично;
под архивным делом понимается деятельность по организации хранения, учета
и использования архивных документов.
С т а т ь я 2. Область применения Основ законодательства Российской Феде¬
рации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах
Настоящие Основы регулируют формирование, организацию хранения, учет,
использование архивов и архивных фондов и управление ими в целях обеспе¬
чения сохранности архивных документов и их всестороннего использования в
интересах граждан, общества и государства.
С т а т ь я 3. Законодательство об Архивном фонде Российской Федерации и
архивах
Законодательство об Архивном фонде Российской Федерации и архивах
состоит из настоящих Основ и соответствующих законов республик в составе
Российской Федерации, иных правовых актов Российской Федерации, республик в
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном¬
ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
3
Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, республик в
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном¬
ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, касающиеся вопросов,
связанных с Архивным фондом Российской Федерации и архивами, должны
соответствовать данным Основам. В случае расхождений между данными
Основами и указанными актами действуют нормы настоящих Основ.
Статья 4. Полномочия Российской Федерации, республик в составе Рос¬
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга по вопросам архивного дела
К исключительному ведению Российской Федерации в лице ее органов госу¬
дарственной власти относятся:
а) установление единых принципов организации архивного дела, хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий¬
ской Федерации и контроль за их соблюдением;
б) хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и ар¬
хивных документов федеральных государственных архивов и центров хранения
документации, а также архивных фондов и архивных документов, образовав¬
шихся и образующихся в деятельности федеральных органов государственной
власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка
Российской Федерации и других банков, отнесенных к федеральной соб¬
ственности;
в) решение вопросов о передаче права собственности на архивные фонды и
архивные документы федеральных государственных архивов и центров хранения
документации, а также на архивные фонды и архивные документы, образовав¬
шиеся и образующиеся в деятельности федеральных органов государственной
власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка
Российской Федерации и других банков, отнесенных к федеральной собствен¬
ности;
г) решение вопросов о вывозе документов Архивного фонда Российской
Федерации за пределы Российской Федерации.
К совместному ведению Российской Федерации, республик в составе Рос¬
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга относятся:
а) хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и
архивных документов, находящихся на территориях республик в составе Рос¬
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга и являющихся федеральной собствен¬
ностью, за исключением указанных в пункте "б" части первой настоящей статьи;
б) решение вопросов о передаче права собственности на архивные фонды и
архивные документы, находящиеся на территориях республик в составе Рос¬
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга и являющиеся федеральной собствен¬
ностью, за исключением указанных в пункте "б” части первой настоящей статьи;
Республики в составе Российской Федерации, края, области, автономная
область, автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург самостоятельно
решают все вопросы архивного дела, за исключением указанных в частях первой
и второй настоящей статьи.
4
РАЗДЕЛ II. АРХИВНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С т а т ь я 5. Состав Архивного фонда Российской Федерации
В состав Архивного фонда Российской Федерации входят находящиеся.на
территории Российской Федерации архивные фонды и архивные документы не¬
зависимо от источника их образования, вида носителя, места хранения и формы
собственности. Отнесение документов к составу Архивного фонда Российской
Федерации производится на основании экспертизы их ценности в порядке,
устанавливаемом Государственной архивной службой России.
С т а т ь я 6. Государственная и негосударственная части Архивного фонда
Российской Федерации
Государственную часть Архивного фонда Российской Федерации составляют
архивные фонды и архивные документы, являющиеся федеральной собствен¬
ностью, государственной собственностью республик в составе Российской Феде¬
рации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Моск¬
вы и Санкт-Петербурга и муниципальной собственности.
К федеральной собственности относятся архивные фонды и архивные доку¬
менты федеральных государственных архивов и центров хранения документа¬
ции, архивные фонды и архивные документы, образовавшиеся и образующиеся в
деятельности федеральных органов государственной власти, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации
и других банков, отнесенных к федеральной собственности, а также учреждений,
организаций и предприятий, отнесенных к федеральной собственности, архивные
фонды и архивные документы, полученные в установленном порядке от общест-
венйых и религиозных объединений и организаций, юридических и физических
лиц.
Негосударственную часть Архивного фонда Российской Федерации состав¬
ляют архивные фонды и архивные документы, находящиеся в собственности
общественных объединений и организаций, а также с момента отделения церкви
от государства в собственности религиозных объединений и организаций,
действующих на территории Российской Федерации, или в частной собственности
и представляющие собой историческую, научную, социальную, экономическую,
политическую или культурную ценность.
РАЗДЕЛИ!. АРХИВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 7 . Создание архивов
Юридическим и физическим лицам Российской Федерации гарантируется право
на создание архивов.
Не допускается создание тайных архивов из документов государственной
части Архивного фонда Российской Федерации, а также содержащих документы,
отнесенные в установленном порядке к категории особо ценных и уникальных,
либо создание тайных архивов, затрагивающих права и законные интересы
граждан.
С т а т ь я 8. Передача права собственности на архивы
Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архивные
документы федеральных государственных архивов и центров хранения доку¬
ментации, а также архивные фонды и архивные документы, образовавшиеся и
образующиеся в деятельности федеральных органов государственной власти,
5
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Россий¬
ской Федерации и других банков, отнесенных к федеральной собственности,
осуществляется по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.
Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архивные
документы, находящиеся на территориях республик в составе Российской
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и являющиеся федеральной собственностью, за
исключением указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется орга¬
нами представительной власти республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга по согласованию с Государственной архивной службой России.
Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архивные
документы, являющиеся государственной собственностью республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальной собственностью,
осуществляется в соответствии с законодательными актами республик в составе
Российской Федерации и иными правовыми актами республик в составе Рос¬
сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Архивные фонды и архивные документы, относящиеся к государственной
части Архивного фонда Российской Федерации, не могут быть объектом купли-
продажи или иных сделок, кроме случаев, когда передача права собственности на
указанные фонды и документы осуществляется в соответствии с частями первой,
второй и третьей настоящей статьи, а также на основании судебного решения.
С т а т ь я 9. Защита права собственности на архивы
Право собственника архива независимо от формы собственности охраняется
законодательством Российской Федерации. Ни один архивный документ не
может быть без согласия собственника или уполномоченного им органа или лица
изъят иначе, как на основании судебного решения.
Архивы, архивные фонды и архивные документы, находящиеся в незаконном
владении, передаются законным собственникам в соответствии с законода¬
тельством Российской Федерации и международными соглашениями с участием
Российской Федерации.
РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 10. Государственное управление архивным делом в Российской
Федерации
Государственное управление архивным делом в Российской Федерации осу¬
ществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, правительствами республик в составе Российской Федерации, органа¬
ми исполнительной власти краев, областей, автономной области, автономных
округов, городов и районов через образуемые ими органы управления архивным
делом.
С т а т ь я 11. Система Государственной архивной службы России
Ведение архивного дела возлагается на центральный орган исполнительной
власти Российской Федерации в области архивного дела - Государственную
архивную службу России, ее органы и учреждения.
6
В систему Государственной архивной службы России входят:
а) государственные органы управления архивным делом республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных окру¬
гов, городов, районов;
б) архивные учреждения: федеральные государственные архивы и центры
хранения документации, центральные государственные архивы и центры хране¬
ния документации республик в составе Российской Федерации, государственные
архивы и центры хранения документации краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов, районов;
в) научно-исследовательские учреждения и другие организации и предприятия,
обеспечивающие ее деятельность.
С т а т ь я 12. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов и
учреждений системы Государственной архивной службы России
Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и учрежде¬
ний системы Государственной архивной службы России осуществляются за счет
средств республиканского бюджета Российской Федерации, республиканских
бюджетов республик в составе Российской Федерации, краевых бюджетов краев,
областных бюджетов областей, областного бюджета автономной области,
окружных бюджетов автономных округов, городских бюджетов городов и
районных бюджетов районов, а также за счет внебюджетных средств.
Органы государственной власти, государственные учреждения, организации и
предприятия обеспечивают соответствующие государственные архивы зданиями
и помещениями, отвечающими установленным требованиям сохранности доку¬
ментов Архивного фонда Российской Федерации.
Статья 13. Государственное попечение над негосударственными архивами
По просьбе собственников негосударственных архивов и архивных докумен¬
тов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской Федерации, государство
через органы и учреждения системы Государственной архивной службы России
оказывает содействие в сохранении, комплектовании и использовании их
архивов.
Собственники негосударственных архивов и архивных Документов, отне¬
сенных к составу Архивного фонда Российской Федерации, имеют право на
передачу их по соглашению на хранение в государственные архивы, право на
создание их страховых копий, а также на их реставрацию и использование.
Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства об Архивном
фонде Российской Федерации и архивах
Государственный контроль за соблюдением законодательства об Архивном
фонде Российской Федерации и архивах осуществляется органами представи¬
тельной власти и прокуратуры.
Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об Архивном
фонде Российской Федерации и архивах осуществляется органами исполнитель¬
ной власти, а также органами управления архивным делом системы Государ¬
ственной архивной службы России.
Статья 15. Участие общественных и религиозных объединений и органи¬
заций в развитии архивного дела
Общественные и религиозные объединения и организации могут содейство¬
вать решению задач развития и совершенствования архивного дела, руковод¬
ствуясь настоящими Основами, законами республик в составе Российской Феде¬
7
рации, другими нормативными актами Российской Федерации, республик в
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном¬
ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
РАЗДЕЛ V. ХРАНЕНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
С т а т ь я 16. Обязанность собственников по обеспечению сохранности доку¬
ментов Архивного фонда Российской Федерации
Собственники документов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской
Федерации, обязаны обеспечивать их сохранность.
На особо ценные и уникальные архивные документы создаются страховые
копии.
Порядок отнесения архивных документов к особо ценным и уникальным, а
также порядок создания и хранения их страховых копий устанавливается Госу¬
дарственной архивной службой России.
Статья 17. Хранение документов государственной части Архивного фонда
Российской Федерации
Постоянное хранение документов государственной части Архивного фонда
Российской Федерации осуществляют государственные архивы, государственные
музеи и библиотеки.
Временное хранение документов государственной части Архивного фонда
Российской Федерации осуществляют центральные органы исполнительной влас¬
ти Российской Федерации, государственные учреждения, организации и
предприятия в создаваемых ими ведомственных архивах.
Порядок постоянного и временного хранения документов государственной
части Архивного фонда Российской Федерации в государственных и ведом¬
ственных архивах и передачи указанных документов на постоянное хранение в
государственные архивы устанавливается Государственной архивной службой
России.
Статья 18. Комплектование архивов i
Государственные архивы комплектуются архивными документами, образую¬
щимися в деятельности органов государственной власти, государственных
учреждений, организаций и предприятий или приобретенными указанными
архивами, а также документами, переданными им негосударственными учрежде¬
ниями, организациями, предприятиями и гражданами.
Комплектование музеев и библиотек, а также архивов общественных, рели¬
гиозных объединений и организаций и частных архивов подлинными доку¬
ментами государственной части Архивного фонда Российской Федерации запре¬
щается.
При продаже документов негосударственной части Архивного фонда Россий¬
ской Федерации государство имеет преимущественное право на их приобретение.
Статья 19. Государственный учет документов Архивного фонда Россий¬
ской Федерации
Все документы государственной и негосударственной части Архивного фонда
Российской Федерации независимо от места их хранения подлежат государст¬
8
венному учету. Порядок государственного учета документов Архивного фонда
Российской Федерации устанавливается Государственной архивной службой
России.
Статья 20. Использование архивных документов
Документы государственной части Архивного фонда Российской Федерации и
Справочники к ним предоставляются для использования всем юридическим и
физическим лицам.
Использование архива или архивного документа, находящегося в собствен¬
ности общественных и религиозных объединений и организаций или в частной
собственности, осуществляется только с согласия собственника.
Порядок использования архивных документов в государственных архивах
определяется Государственной архивной службой России.
Порядок использования документов государственной части Архивного фонда
Российской Федерации, находящихся на временном хранении в центральных
органах исполнительной власти Российской Федерации, в государственных
учреждениях, организациях и на предприятиях, определяется ими по согласова¬
нию с соответствующими органами и учреждениями системы Государственной
архивной службы России.
Государственные архивы имеют право при выдаче пользователям для исполь¬
зования в коммерческих целях копий архивных документов и справочников к
указанным документам устанавливать условия их использования (заключать
лицензионные договоры). При этом порядок заключения лицензионных договоров
устанавливается Правительством Российской Федерации.
• Использование документов государственной части Архивного фонда Россий¬
ской Федерации, содержащих государственную или иную охраняемую законом
тайну, разрешается по истечении 30 лет со времени их создания, если иное не
установлено законодательством.
Увеличение указанного срока в отношении отдельных архивных документов
устанавливается постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации по представлению Государственной архивной службы России.
Использование документов государственной части Архивного фонда Россий¬
ской Федерации, содержащих секретные сведения, разрешается органами и
учреждениями системы Государственной архивной службы России совместно с
соответствующими центральными органами исполнительной власти Российской
Федерации, учреждениями, организациями и предприятиями до истечения 30 лет
со времени их создания, по мере утраты секретности этих сведений.
Ограничения в использовании архивных документов, содержащих сведения о
личной жизни граждан (об их здоровье, семейных и интимных отношениях, иму¬
щественном положении), а также создающие угрозу для их жизни и безопасности
жилища, устанавливаются на срок 75 лет со времени создания документов, если
иное не предусмотрено законом. Ранее этого срока доступ к таким документам
может быть разрешен самим гражданином, а после его смерти - его наслед¬
никами.
Граждане, учреждения, организации и предприятия, а также общественные и
религиозные объединения и организации имеют право получать заверенные
копии из архивных документов и выписки из архивных документов, хранящихся в
государственных архигах или архивах учреждений, организаций, предприятий,
или самостоятельно изготавливать копии этих документов и делать выписки из
них, если это не угрожает физической сохранности документов.
Пользователи архивных документов несут ответственность за их использо¬
9
вание и сохранность в установленном порядке. Пользователи архивных докумен¬
тов могут обжаловать решения органов управления архивным делом и архивных
учреждений по вопросам использования архивных документов в вышестоящий в
порядке подчиненности орган управления архивным делом, а в случае несогласия
с его решением - в судебном порядке в соответствии с законодательством.
РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АРХИВАХ
Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства об Архив¬
ном фонде Российской Федерации и архивах
Должностные лица и граждане несут уголовную, административную и иную
установленную законодательством Российской Федерации и республик в составе
Российской Федерации ответственность за нарушение законодательства об
Архивном фонде Российской Федерации и архивах.
РАЗДЕЛ VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 22. Международное сотрудничество в области архивного дела
Органы и учреждения системы Государственной архивной службы России,
общественные и религиозные объединения и организации и граждане - соб¬
ственники архивных документов принимают участие в международном сотруд¬
ничестве в области архивного дела, участвуют в международных совещаниях и
конференциях по проблемам архивов.
Статья 23. Вывоз архивных документов Архивного фонда Российской
Федерации за пределы Российской Федерации
Вывоз архивных документов государственной части, а также уникальных и
особо ценных документов негосударственной части Архивного фонда Российской
Федерации за пределы Российской Федерации запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
Государственная архивная служба России вправе разрешать временный вывоз
документов государственной части, а также уникальных и особо ценных
документов негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации за
пределы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о вывозе и ввозе культурных ценностей.
Статья 24. Вывоз и ввоз копий архивных документов
Вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию
копий архивных документов (не на правах подлинника) и выписок из них,
включая полученные в результате купли-продажи, дарения или совершения
собственником иных гражданско-правовых сделок, могут осуществляться без
ограничений, за исключением вывоза копий архивных документов, доступ к
которым закрыт, и выписок из них.
10
Статья 25. Международные договоры
Если международным договором с участием Российской Федерации установ¬
лены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской
Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах, применяются
правила международного договора.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России
7 июля 1993 года
№ 5341-1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О порядке введения в действие Основ законодательства
Российской Федерации об Архивном фонде
Российской Федерации и архивах
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Ввести в действие Основы законодательства Российской Федерации об
Архивном фонде Российской Федерации и архивах со дня их опубликования.
2. Верховным Советам республик в составе Российской Федерации привести
законодательство этих республик в соответствие с указанными Основами.
3. Совету Министров - Правительству Российской Федерации:
до 1 августа 1993 года представить в Верховный Совет Российской Федерации
предложения об установлении уголовной и административной ответственности за
порчу, унйчтожение, хищение, незаконные скупку, продажу, приобретение и вы¬
воз архивных документов;
до 1 сентября 1993 года привести действующие нормативные акты об архив¬
ном деле в Российской Федерации в соответствие с указанными Основами.
4. Советам народных депутатов краев, областей, автономной области, авто¬
номных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга привести их правовые
акты в соответствие с указанными Основами.
Председатель Верховного Совета
Российской Федерации Р.И. ХАСБУЛАТОВ
Москва, Дом Советов России
7 июля 1993 года
№ 5342-1
11
ПРИНЦИПЫ ’’ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АРХИВАХ”
7 июля 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации цринял "Основы зако¬
нодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации
и архивах". Факт этот сам по себе является исторически значимом: впервые в
истории России принят законодательный акт, касающийся регулирования
общественных отношений в сфере архивного дела. Разумеется, в наше нелегкое
время имеются основания для известной доли скепсиса в отношении утверждения
тех или иных правовых норм в реальной жизни. Впрочем, и для оптимизма -
тоже. Во всяком случае "Основы законодательства" - реальный документ, в
какой-то степени аккумулировавший опыт архивного строительства в бывшем
СССР и в не меньшей мере обобщивший многое из того нового, что появилось в
архивном деле России в последние два года.
Выражая известный оптимизм в отношении практической реализации поло¬
жений "Основ законодательства", попытаемся прокомментировать то, что со¬
ставляет его принципы.
Примечательно прежде всего, что мы не встретим в "Основах законо¬
дательства" идеологии в привычном когда-то для всех нас смысле. "Основы
законодательства" полностью деидеологизированы, их идеология - это идеоло¬
гия общепринятых управленческих стандартов, профессиональных норм и прин¬
ципов, регулирующих одну из сфер общественной деятельности, далеко не са¬
мую престижную, но в силу известных обстоятельств оказавшуюся в последние
годы объектом повышенного общественного внимания.
"Основы законодательства" и деполитизированы в том смысле, что они не
создают каких-либо исключительных прав, льгот и преимуществ в организации,
сохранении и использовании архивов партиям, общественным движениям,
организациям, гражданам, ведомствам. Вместе с тем "Основы законодательства"
традиционно жестко регламентируют систему ведения архивов государственных
структур, т.е. имеют политический подтекст, особо выделяя функционирование
государственной архивной системы как одного из элементов российской
государственности, а значит, и государственной политики вообще. Чрезвычайно
важно, что законодатель формально лишил права постоянного хранения государ¬
ственной части Архивного фонда России центральные органы представительной
и исполнительной власти России и их учреждения, организации, предприятия,
предоставив такое право лишь государственным музеям и библиотекам. Факти¬
чески это означает ликвидацию так называемых отраслевых архивных фондов.
Деидеологизация и деполитизация "Основ законодательства" являются их
двумя фундаментальными основами, позволяющими проводить архивную ре¬
форму в России на совершенно новых для ее архивного дела принципах.
Сфера ведения "Основ законодательства" распространяется на все находя¬
щиеся на территории России архивные документы и концептирующие их архивы.
Тем самым "Основы законодательства" провозглашают принцип неотъемлемости
ценных документов, т.е. документов, подлежащих вечному сохранению в силу их
значимости для общества или для собственника, от общего историко-культурного
наследия народов России, рассматривая их в то же время и как составную часть
12
мирового историко-культурного достояния. Такие документы и архивы в "Осно¬
вах законодательства" объединены ранее существовавшим лишь в обыденном
сознании понятием "Архивный фонд Российской Федерации".
Вместе с тем "Основы законодательства" исходят из принципа разграничения
Архивного фонда России на государственную и негосударственную части. К
первой из них отнесено все то, что уже хранится в государственных архивах и
центрах документации, в том числе документы религиозных организаций, соз¬
данные до отделения церкви от государства, и национализированные документы
бывшей КПСС, а также архивные документы, которые создаются и будут
создаваться учреждениями, организациями, предприятиями, являющимися феде¬
ральной собственностью, собственностью субъектов Федерации и муниципальной
собственностью.
Принцип разграничения Архивного фонда России в зависимости от форм
собственности отвечает тем процессам общественного развития, которые ха¬
рактерны для современной России. С одной стороны, он предполагает создание
условий для сохранения, пополнения и использования архивных документов
государственных структур как безусловной и обязательной части общегосудар¬
ственной политики, возлагая решение этой задачи на специальные государ¬
ственные архивные органы и организации. С другой стороны, исходя из призна¬
ния священного права частной, общественной (в том числе различных партий),
церковной собственности, он гарантирует их носителям право по собственному
усмотрению создавать архивы, владеть и распоряжаться ими.
Тем не менее в современных российских условиях легко представить возмож¬
ные и негативные последствия этого принципа "Основ законодательства",
наложив его хотя бы на предвидимые процессы общественного развития. Ясно,
что со временем негосударственная часть Архивного фонда России будет не
просто расширяться, но и увеличиваться в объеме, самоорганизовываться,
подчиняясь собственным, ныне еще не вполне понятным закономерностям. Такая
самоорганизация пойдет и по линии создания новых типов архивов или их
объединений, и по линии особых правил организации их деятельности, в
частности, в сфере использования. Не исключено и другое. Экономическая
ситуация, традиционное представление об архивах могут оказать отрицательное
воздействие на сохранение негосударственной части Архивного фонда России, в
результате чего будущие историки окажутся лишенными целых комплексов
ценнейших документов о современной истории. К тому же они должны быть
готовы встретиться с ограничениями на доступ к ним и их использование.
Российские архивисты уже столкнулись с этими пока еще только зарождаю¬
щимися явлениями. Упомянем хотя бы о судьбе архивов акционируемых госу¬
дарственных предприятий, нередко оказывающихся бесхозными, или о попытках
вовлечь в общественный оборот богатейший архив независимой газеты "Прав¬
да". Архивисты уже забили тревогу в отношении сохранения документов акцио¬
нируемых государственных предприятий. Принято соответствующее постановле¬
ние Правительства России, которое, сколь бы оно ни было осторожным, вносит
важные элементы упорядочения в сохранность этих документальных комплек¬
сов. Очевидно, этим обстоятельством можно объяснить нередко встречающуюся
в среде архивистов жесткую позицию в отношении негосударственной части
Архивного фонда России - требование постановки ее документов на госу¬
дарственный учет и даже обязательной передачи на государственное хранение.
"Основы законодательства" на этот счет дают однозначный ответ. Га¬
рантируя создание негосударственных архивов, они провозглашают принцип
свободы распоряжения ими их законными владельцами и держателями.
Государство же в лице органов и учреждений государственной архивной службы
может, с согласия собственников таких архивов, осуществлять лишь попечи¬
13
тельство над ними. Правовая норма, зафиксировавшая попечительство органов и
учреждений Государственной архивной службы над негосударственной частью
Архивного фонда России, как представляется, удачно разрешает противоречие
между свободой владения и распоряжения архивами негосударственной части
Архивного фонда России и обеспечением хотя бы минимума профессиональных
элементов ее упорядочения. В этом смысле данная норма потребует тонкого и
деликатного методического обеспечения и финансовой поддержки.
Идея государственного попечительства над негосударственной частью Архив¬
ного фонда России объясняется прежде всего беспокойством за ее сохранность.
Однако в равной мере это может быть отнесено и к государственной части
Архивного фонда России. История архивного дела России свидетельствует,
насколько уязвимой в плане сохранения в разных обстоятельствах может
оказаться и эта часть Архивного фонда, особенно, когда она подвергается
воздействию различных политических факторов. Вспомним бессмысленный акт
уничтожения архивных материалов КГБ СССР, касавшихся А.Д. Сахарова и
А.И. Солженицына. Поэтому "Основы законодательства" утверждают принцип
ответственности собственников архивов за сохранность архивных документов.
В отношении государственной части Архивного фонда России это означает
запрет на необоснованное уничтожение, на куплю-продажу или иные сделки с
подлинниками архивных документов, а в отношении негосударственной части -
запрет на безвозвратный вывоз за границу уникальных и особо ценных докумен¬
тов, кроме специально оговоренных в законодательстве случаев ввоза и вывоза
культурных ценностей.
На фоне ажиотажного интереса и повышенного общественного внимания к
российским архивам представляют особый интерес нормы "Основ законодатель¬
ства", регламентирующие сферу использования архивных документов.
"Основы законодательства" устанавливают принцип публичности государст¬
венной части Архивного фонда России. Он предполагает запрет на организацию
тайных государственных архивов (таким был, например, в СССР так назы¬
ваемый "Особый архив"), обеспечивая тем самым свободное обращение любого
гражданина в любой государственный архив и исключая возможность создания
тайных архивов, затрагивающих права и законные интересы граждан.
"Основы законодательства" провозглашают принцип общедоступности ар¬
хивной информации, включая научно-справочный аппарат, для пользователя
независимо от его пола, возраста, образования, национальности, вероисповеда¬
ния, политических взглядов, профессии, гражданства. Разумеется, речь идет об
архивной информации открытого доступа. "Основы законодательства" в этом
смысле определенно вводят хронологические ограничения на доступ к секретной
информации и информации, затрагивающей тайну личной жизни человека.
В первом случае информация архивных документов, содержащая предмет
государственной тайны, как правило, может быть доступна только спустя 30 лет
после ее фиксации в документе (критерии и механизмы отнесения информации к
категории, содержащей государственную тайну, определены в принятом Верхов¬
ным Советом России законе "О государственной тайне"). Во втором случае
информация, затрагивающая тайну личной жизни человека - его состояние
здоровья, имущественное положение, семейные и интимные отношения и т.п., -
может быть доступна только через 75 лет с момента ее фиксации в документе.
Принцип общедоступности архивной информации является гарантией неотъем¬
лемого права человека на профессиональное и непрофессиональное познание
прошлого независимо от целей, которые он преследует при этом, разумеется, в
пределах законов гражданского общества и общечеловеческой морали и нравст¬
венности.
"Основы законодательства" утверждают принцип свободы распоряжения
14
пользователем найденной или полученной им в государственном архиве инфор¬
мацией. Исключение касается лишь случаев, когда пользователь обнаруживает
коммерческий интерес в использовании архивной информации. "Основы законода¬
тельства" разрешают государственным архивам в таких случаях выдавать ли¬
цензии, условия и порядок выдачи которых утверждается Правительством
Российской Федерации.
В "Основах законодательства" провозглашается принцип бесплатности предо¬
ставления архивной информации государственной части Архивного фонда России,
исключая исполнение архивами Особого рода запросов (тематическое выявление
документов) и отдельные услуги (прежде всего - копирование архивных доку¬
ментов), а также, как указывалось выше, в случаях коммерческого использо¬
вания архивной информации.
"Основы законодательства" фиксируют принцип личной профессиональной,
нравственной, гражданской ответственности пользователя за использование
архивной информации. Речь идет прежде всего о неукоснительном соблюдении
пользователем обязательств, данных им архиву (например, обязательства
ссылаться на место хранения архивных документов, не передавать копии
третьим лицам и т.д.) и точно воспроизводить тексты архивных документов при
их публикации или цитировании.
В "Основах законодательства" нет статей, регламентирующих профессио¬
нальные действия архивиста, этические нормы его поступков. Однако "Основы
законодательства" рассматривают архивиста не просто как хранителя старых
бумаг, но как доверенное лицо государства и личность, обязанностью которой
является соблюдение законодательных норм работы с архивными документами,
в том числе регулирование доступа к ним. Иначе говоря, "Основы законода¬
тельства" исходят из принципа профессиональной, административной и уголовной
ответственности архивиста за сохранение государственной тайны, тайны личной
жизни человека и такой же ответственности за необоснованное ограничение
доступа к архивной информации под предлогом сохранения государственной
тайны и тайны личной жизни.
Таким образом, "Основы законодательства" освобождают российского архи¬
виста от прежних догм и одновременно возлагают на него ответственность
исходить в своей профессиональной деятельности из принципа беспристрастия,
предполагающего невмешательство в планы и интересы пользователя, сколь бы
ни были противоположными политические, нравственные, идеологические, науч¬
ные взгляды архивиста и пользователя. Любой вид цензуры архивиста, кроме
оговоренных в законе, - начиная от тематики исследований и кончая ограни¬
чениями на выдачу архивных документов и справочников к ним открытой
категории - чреват научным, политическим и нравственным ущербом. Архивист
может быть лишь регистратором интересов пользователя, его профессиональ¬
ным и беспристрастным помощником.
В.П. Козлов,
зам. руководителя Государственной
архивной службы России
15
Статьи
© 1993 г.
Академик Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ
ПОСЛЫ ВРУЧАЮТ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ.
УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИХ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СВЕТЕ
НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
16 ноября 1933 г. - памятная дата в истории советско-американских отно¬
шений. В этот день 60 лет назад в Вашингтоне в результате переговоров пре¬
зидента Франклина Рузвельта и наркома иностранных дел СССР М.М. Литви¬
нова была достигнута договоренность о нормализации дипломатических отноше¬
ний между Советским Союзом и США. За прошедшие десятилетия во взаимо¬
отношениях двух государств были и приливы, и отливы. В годы второй мировой
войны они были союзниками по антифашистской коалиции, после ее окончания
длительное время находились в состоянии ’’холодной войны". Окончание эры
конфронтации и "холодной войны", обозначившееся в конце 80-х - начале 90-х
годов, внесло кардинальные изменения в отношения СССР и США.
Распад СССР, образование на его территории нескольких суверенных госу¬
дарств, провозглашение России преемственницей Советского Союза определило
наступление нового этапа взаимоотношений двух государств - России и США,
становление которого определяется качественно иными принципами, разумеется,
с учетом традиций и опыта прошлого.
История установления советско-американских дипломатических отношений
подробно анализировалась в работах как американских, так и отечественных
историков, в частности автором этих строк. Однако остались недостаточно осве¬
щенными, "за кадром", подробности первых встреч послов США и СССР, после
вручения ими верительных грамот, с руководителями обоих государств, опре¬
деление на этих встречах основных подходов к ряду важнейших вопросов между¬
народной жизни первой половины 30-х годов. Выявленные архивные документы
в сочетании с ранее опубликованными материалами дают возможность по-новому
осветить эту интересную страницу советско-американских отношений.
* * *
Сразу же после торжественного объявления в Вашингтоне об установлении
дипломатических отношений между СССР и США были названы послы обоих го¬
сударств.
17 ноября 1933 г. президент Рузвельт назначил послом в Москву полити¬
ческого деятеля и дипломата Уильяма Буллита.
20 ноября 1933 г. Президиум ЦИК СССР назначил первым советским пол¬
16
предом в США Александра Антоновича Трояновского, видного дипломата, в те¬
чение последних пяти лет - посла СССР в Японии.
Буллит отправился на пароходе в Европу в начале декабря. Настроение у
него было хорошее. Он получил высокое назначение. Его поздравляли. Имя и
фотографии его печатались на первых страницах газет. Буллит находился в
центре внимания публики и дипломатических кругов. Это тем более было при¬
ятно, что на протяжении последних лет о нем, казалось, забыли.
Он вспоминал, как президент Вудро Вильсон в феврале 1919 г. послал его в
Советскую Россию, охваченную гражданской войной. "Русский вопрос" был од¬
ним из важнейших на Версальской конференции. Молодому дипломату, слыв¬
шему либералом, было поручено узнать, на каких условиях большевики согласны
начать переговоры с Антантой о мире. От имени правительства США и Англии
были изложены предложения касательно перемирия. Буллит посетил Нарком-
индел, встречался с Г.В. Чичериным и М.М. Литвиновым, был принят В.И. Ле¬
ниным. Согласившись в принципе с проектом стран Антанты, Ленин внес ряд
уточнений: предложил вывести все иностранные войска из России, прекратить
оказание военной помощи генеральским "правительствам", созданным на терри¬
тории бывшей Российской империи, засчитать золото, захваченное чехословака¬
ми, в уплату российского долга.
Буллит привез советские предложения в Париж и передал их президенту
Вильсону и госсекретарю Р. Лансингу, встретился с английским премьером Ллойд
Джорджем. Он надеялся на одобрение привезенного им проекта. Но проект был
отвергнут. Ллойд Джордж откровенно заявил, что в Москву надо было отпра¬
вить более консервативного человека. Возмущенный Буллит подал в отставку и
покинул Париж. Его миссия в Советскую Россию потерпела неудачу. На многие
годы Буллит отошел от дипломатической работы. Занялся литературным тру¬
дом. Вел праздный образ жизни. Путешествовал. Никто не интересовался им.
• И лишь после прихода Франклина Рузвельта в Белый дом Буллита пригласили
работать в госдепартамент. Он был одним из членов делегации США на Между¬
народной экономической конференции в Лондоне летом 1933 г., в ходе которой в
рез>льтате личных контактов членов делегации с Литвиновым был поставлен
вопрос о возможности нормализации советско-американских отношений.
И вот наступил его звездный час. Он будет представлять в Москве интересы
своей страны, советовать самому президенту Рузвельту, как лучше поступить
при решении того или иного важного вопроса в отношении Советской России и
европейской дипломатии США. Эти мысли занимали Буллита во время путе¬
шествия из Нью-Йорка в Гамбург. Как тщеславному человеку они доставляли
ему глубокое удовлетворение. Вообще, он любил помечтать в свободные мину¬
ты. На пароходе Буллит получил возможность не только отддхнуть, но и обсто¬
ятельно обдумать наставления, которые ему дал президент перед отъездом.
Из Гамбурга Буллит поездом отправился в СССР. На государственной
границе на станции Погорелое его встретили как высокого гостя. 11 декабря
Буллит прибыл в Москву. На Белорусском вокзале американского посла ждали
пресс-секретарь Литвинова Иван Дивильковский, начальник протокола Дмитрий
Флоринский и только что назначенный послом в США Александр Трояновский.
Буллит остановился в гостинице "Националь" и был приятно удивлен, узнав, что
ему предоставили те самые комнаты, в которых он жил в уже далеком 19-м году.
Программа пребывания Буллита в Москве была предельно насыщена и тща¬
тельно продумана. Каждая минута оказалась "вставленной в расписание". Преду¬
сматривались многочисленные встречи и беседы с советскими лидерами. Никому
из иностранных дипломатов прежде не уделялось такого подчеркнутого вниманйя
и гостеприимства.
В день приезда посол США нанес официальный визит наркому иностранных
17
дел СССР. Собеседники вспомнили недавние встречи в Вашингтоне, затронули
политические вопросы. Буллит не преминул высказаться о ведущихся между
Германией и Японией переговорах, направленных против Советского Союза,
напомнил о поощрении Англией и Францией захвата Японией Маньчжурии в
1931 г., сказал о недоверии США к Англии, особенно ее министру иностранных
дел Джону Саймону, занимавшему прояпонскую позицию. Затем он сам поставил
вопрос, что нужно сделать, чтобы Япония не начала преждевременных военных
действий. Литвинов в ответ напомнил Буллиту о поручении Рузвельта: изучить
вопрос о возможности заключения пакта трех или четырех (США, СССР, Япо¬
ния и, возможно, Китай). Было бы полезно опубликовать совместную декла¬
рацию СССР и США о готовности консультироваться в случае угрозы войны.
Однако Буллит не пожелал развивать эту тему; он предпочел говорить о планах
строительства здания для посольства, о предоставлении для этого участка
земли1.
13 декабря в Кремле состоялось вручение послом верительных грамот пред¬
седателю ЦИК СССР М.И. Калинину. Буллита сопровождали первый секретарь
американского посольства в Германии Джозеф Флэк и Джордж Кеннан - третий
секретарь миссии в Латвии. С советской стороны присутствовали также
М.М; Литвинов и замнаркома Н.Н. Крестинский. Американский посол заверил
главу советского государства, что он приложит силы и знания для создания дру¬
жественных отношений между двумя великими нациями. Калинин пожелал как
можно быстрее устранить искусственные препятствия, стоявшие долгие годы на
пути установления широких и разнообразных форм сотрудничества между на¬
родами СССР и американским народом. Этому, разумеется, не должно препят¬
ствовать различие социально-политических систем обеих стран. Советское прави¬
тельство, подчеркнул Калинин, исполнено доброй воли и твердой решимости
содействовать развитию и укреплению взаимного сближения двух стран и объ¬
единению их усилий для сохранения всеобщего мира2.
После официальной церемонии между Калининым и Буллитом состоялась не¬
принужденная беседа. Посол напомнил о своем визите в молодую Советскую
Республику, о встречах с Лениным и членами советского правительства. Обменя¬
лись мнениями о смелых реформах, проводимых президентом Рузвельтом. Ка¬
линин обещал предоставить послу возможность посетить любую часть Союза
без каких-либо ограничений.
В тот же день "Известия" опубликовали статью под названием "Карьера
Вильяма Буллита". Его представили как объективного обозревателя советской
жизни, опытного дипломата. 14 декабря в той же газете появилась статья под
названием "Дружба между СССР и США есть гарантия мира".
В день вручения верительных грамот у Буллита было еще несколько офи¬
циальных встреч. В частности, состоялась беседа с членом коллегии НКИД
Б.С. Стомоняковым. Предметом обсуждения здесь явилась дальневосточная си¬
туация. Как и в беседе с Литвиновым, Буллит коснулся британской политики в
отношении Японии, заметив, что англичане в свое время не возражали против
захвата Японией Маньчжурии, "они также нисколько не возражали бы против
захвата Японией Приморья, их беспокоит только возможность японского про¬
движения в район к югу от Великой стены, где начинается сфера английских
интересов"3.
Документы внешней политики СССР (далее-ДВП СССР), т. XVI (1 января 1933 - 31 декабря
1933). М., 1970, с. 731-733.
2Там же, с. 739-740.
3Архив внешней политики Российской Федерации (далее - АВП РФ), ф. 05, оп. 13, д. 55, л. 56-
57; Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М,, 1979, с. 293.
18
Американский посол имел беседу и с заместителем наркома иностранных дел
Л.М. Караханом, известным дипломатом, долгие годы занимавшимся политикой
СССР в отношении Китая и Японии. Внимание собеседников было сосредоточено
на Дальнем Востоке. Карахан в первую очередь интересовался тем, как в Ва¬
шингтоне оценивают ситуацию в этом регионе. Желая взять инициативу беседы
в свои руки, он прямо спросил посла, какой информацией о японских планах в
отношении Советского Союза располагают правительственные ведомства США.
Буллит был откровенен и сказал, что, по его мнению, определенная часть в
военных кругах Японии выступает за войну против СССР и, возможно, в
феврале следующего года она начнется с нападения на Советское Приморье. Но
другая влиятельная группа в правительственных сферах еще не установила
время вооруженного конфликта. Это будет зависеть от многих факторов, в том
числе положения в Маньчжоу-Го, отношений между Японией и Китаем и раз¬
вития международных отношений в целом. В общем, 70% за то, что Япония,
заметил посол, совершит нападение на советский Дальний Восток. Собеседники
единодушно при этом констатировали, что установление дипломатических отно¬
шений между Америкой й Советским Союзом должно оказать сдерживающее
влияние на японцев.
Касаясь далее политики США, Буллит отметил, что японцы предлагали Ва¬
шингтону заключить пакт о ненападении, но это предложение было отклонено,
так как Япония нарушила пакт Келлога, отказавшись вывести войска из Маньч¬
журии, с чем США решительно не согласны. Отсюда налицо серьезные и трудно
разрешимые разногласия. Проведение в жизнь идеи заключения пакта о нена¬
падении между США, СССР и Японией, обсуждавшейся Рузвельтом и Литви¬
новым в Вашингтоне, также связано с трудностями. Изучение ее привело к
негативным выводам, подчеркнул Буллит. На вопрос Карахана о положении в
Китае, "Буллит, махнув рукой, сказал, что там ничего нельзя понять, все темно,
неясно и трудно строить какие-либо расчеты на эту страну"4. Как видно, посол
не пожелал обсуждать ситуацию в Китае, и не случайно: она была действитель¬
но сложной и противоречивой.
Обстановка на Дальнем Востоке в это время складывалась неблагоприятно.
Советско-японские отношения, становясь все более напряженными, приобретали
опасный характер. До конца 1931 г. между СССР и Японией существовали нор¬
мальные добрососедские отношения. Не было конфликтов и крупных недо¬
разумений. Спорные вопросы обычно решались мирным дипломатическим путем.
Однако после вторжения японской армии в Маньчжурию и оккупации этой
части Китая положение резко изменилось. Создание Маньчжоу-Го и выход
Японии из Лиги наций еще более обострили обстановку. Грубо*нарушив
многие договорные обязательства, представители Японии и Маньчжурии стали
посягать на коммерческие интересы советского государства на КВЖД, срывать
работу самой дороги, предъявлять необоснованные претензии. Непрерывно
нарушались правила эксплуатации КВЖД, происходили постоянные нападения
на поезда, разрушения пути, убийства сотрудников дороги и насилия над ними,
захваты имущества дороги, аресты советских граждан, смещение их и назна¬
чение на их места маньчжур. Протесты советского правительства игнори¬
ровались.
Видя невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации КВЖД, прави¬
тельство СССР 2 мая 1933 г. предложило Японии начать переговоры о выкупе
ею дороги. В Токио охотно согласились. Вскоре выяснилось, что Япония хотела
купить дорогу по минимальной стоимости, по существу, получить ее даром: она
предложила ничтожную сумму. Советская сторона не согласилась. Представи¬
4ДВП СССР, т. XVI, с. 745.
19
тели Японии стали оказывать давление, прибегать к насильственным действиям.
Переговоры в конце сентября были прерваны. Японцы усилили подготовку к
войне с целью захвата Приморского края.
3 октября в Токио состоялось совещание пяти министров по согласованию
вопросов внешней политики, обороны и финансов. Обсуждение продолжалось
несколько дней. Военный министр генерал С. Араки требовал усиления под¬
готовки страны к войне. Однако его призывы встречали сопротивление.
25 ноября в Токио было проведено совещание политических партий страны.
Большинство партий потребовали отставки кабинета Сайто. Деловые круги до¬
бивались отставки Араки и назначения на его пост генерала Хаяси, придержи¬
вавшегося либеральных взглядов. Тем не менее в утвержденном в начале
декабря японским парламентом государственном бюджете были резко увеличены
военные ассигнования. Они составили 44,4%, тогда как в прошлом году - 35,6%.
Представители армии одновременно вели активную кампанию в прессе за по¬
лучение максимальных средств на перевооружение, подготовку театра военных
действий в Маньчжурии, установление над ней полного контроля.
Советское правительство наблюдало за политической жизнью в Японии и
происходившей там борьбой по вопросам внешней политики, стремилось узнать
намерения и планы японских военных. 4 декабря в сводке разведывательного
управления штаба Красной Армии о положении на Дальнем Востоке сообщалось,
что японское командование усилило разведку состава и численности частей
Красной Армии, укрепрайонов вдоль левого берега реки Амур. Одновременно на
Западе была развернута в прессе кампания против сосредоточения советских во¬
оруженных сил на дальневосточной границе5. Десять дней спустя, 14 декабря,
разведуправление штаба Красной Армии вновь информировало высшее коман¬
дование о продолжении переброски японских войск в Маньчжурию. А 22 декабря
оно докладывало наркому обороны К.Е. Ворошилову, что, по мнению военного
атташе И.А. Ринка и полпредства СССР в Токио, в центре внимания полити¬
ческой жизни страны находится вопрос о советско-японских отношениях. Вокруг
него идут жаркие споры и обсуждения. Представители армии требуют скорей¬
шего выступления Японии против СССР. По их мнению, нельзя откладывать
решение этой проблемы, иначе будет поздно. Между тем политические и
деловые круги в Токио считают, что Япония все еще не готова к войне. К ней
нужно подготовиться. Для этого необходимо время. Одновременно раздаются
голоса, предупреждающие о силе Красной Армии, о более благоприятном
международном положении СССР, чем Японии, находящейся
во внешнеполитической изоляции. Они призывают к проявлению осторож¬
ности.
В сложившейся довольно противоречивой ситуации в стране японское прави¬
тельство, отмечалось в сводке, занимает выжидательную позицию. Министр
иностранных дел Хирота предлагает потребовать отвода советских войск с
Дальнего Востока. Деловые круги в прессе выдвигают вопросы о Северном Са¬
халине, о концессиях в Приморье. И все это происходит при интенсивной под¬
готовке японской армии к войне против СССР. "Все эти признаки в основном
говорят о том, что японское правительство не отказалось от своего прежнего
политического курса по отношению к СССР и методов разрешения спорных
вопросов путем военной угрозы”6, - делал вывод руководитель военной разведки
Ян Карлович Берзин.
Политика СССР была направлена на мирное урегулирование спорных вопро¬
сов с Японией. В то же время советское правительство принимало меры по
5Российский государственный военный архив (далее - РГВА), ф. 33987, оп. 3, д. 508, л. 229.
6Там же, л. 281.
20
укреплению?обороноспособности на Дальнем Востоке; оно заявляло о готовности
в случае необходимости защищать нерушимость государственных границ.
В 1933 г. в Красной Армии насчитывалось 885 тыс. человек. Правительство
форсированно проводило техническое перевооружение армии и флота. За
первую пятилетку промышленность поставила армии около 10 тыс. танков,
танкеток и бронемашин. С 1928 по 1933 г. мощность артиллерийских заводов
возросла более чем в шесть раз, а по малокалиберным орудиям - в 35 раз7.
В 1932 г. был создан Тихоокеанский флот, в 1933 г. - Северная военная фло¬
тилия.
Полпред в Токио К.К. Юренев писал в НКИД, что Япония, пожалуй, опоздала
с вооруженным выступлением против Советского Союза. Это признавали и мно¬
гие военные зарубежные эксперты и политические обозреватели8.
В такой тревожной обстановке 15 декабря глава правительства В.М. Моло¬
тов принял Буллита. Встреча носила в значительной степени протокольный ха¬
рактер. Тем не менее в беседе были затронуты важные вопросы. Американский
посол признал большие перемены в стране, в жизни народа. Молотов ознакомил
Буллита с планами реконструкции народного хозяйства в ближайшие годы. При
этом он признал: "В нашем промышленном строительстве мы используем в
немалой степени американский технический опыт”. И далее подчеркнул: главное
пожелание правительства - чтобы развивалось сотрудничество между двумя
государствами в деле укрепления мира. Это крайне важно и необходимо. Сле¬
довало бы определить, отметил Молотов, конкретные формы сотрудничества,
договориться о своевременном взаимном обмене информацией между прави¬
тельствами по поводу событий, которые могли бы служить препятствием сохра¬
нению мира. Посол согласился с высказанным пожеланием9.
Глава советского правительства с чувством глубокого удовлетворения отме¬
тил, что в беседах Литвинова и Рузвельта в Вашингтоне большое внимание
было уделено вопросам напряженной ситуации на Дальнем Востоке. В конце
беседы Молотов заявил: "Мы очень довольны Литвиновым и в особенности той
исключительно большой и успешной работой, которую он проделал в 1933 г.
Президент Рузвельт, со своей стороны, показал, что он весьма активен и пре¬
красно ориентируется в международной обстановке. Он сумел оценить важность
проблемы советско-американских отношений, своевременно поставить ее и раз¬
решить, тогда как до его прихода к власти этот вопрос бесплодно тянулся года¬
ми. Я убежден, что если бы нормализация советско-американских отношений
произошла хотя бы на пару лет раньше - президент Рузвельт лично не виноват,
конечно, в том, что этого не произошло, - события развивались бы по-иному и
крайне воинствующие японские круги не так бы обнаглели”10. Буллит ответил:
"Абсолютно с вами согласен”.
Посол, говоря об опасной ситуации на Дальнем Востоке и желательности за¬
мирения в этом регионе, отметил, что США готовы помочь, оказав моральную
поддержку Союзу. Разумеется, они не Намерены ввязываться в войну11, конста¬
тировал посол. Политика невмешательства тем самым была четко сформули¬
рована. На поддержку Вашингтона нельзя было рассчитывать, хотя президент
Рузвельт в беседе с Литвиновым заинтересованно говорил о совместных дейст¬
виях протцв нарушителей мира.
7Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969, с. 111, 113.
8АВПРФ, ф. 146, оп. 17, п. 158, д. 16, л. 25; РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 632, л. 174.
9Архив Президента Российской Федерации (далее - АПРФ), оп. 66, д. 292, л. 47; ДВП СССР,
т. XVI, с. 748-751.
10ДВП СССР, т. XVI, с. 751.
1 !Там же с. 750.
21
Молотов заявил: главное - избежать войны и получить время для решения
внутренних проблем страны. Он выразил беспокойство, что война может раз¬
разиться весною следующего года, она неизбежна. Возможно, начнется в 1935 г,
отметил Буллит12.
В тот же день Буллит имел беседу с наркомом внешней торговли А.П. Розен-
гольцем. Посол интересовался возможностями роста американского экспорта в
СССР13. Вечером Литвинов дал обед в честь Буллита. На встрече присут¬
ствовали глава правительства Молотов и почти все наркомы. Состоялась двух¬
часовая беседа посла с Молотовым, Ворошиловым, Куйбышевым и другими офи¬
циальными лицами. Посол слушал, задавал вопросы, наблюдал. Ему все было
интересно и важно. Все, что он видел и слышал, побуждало к размышлениям.
16 декабря Буллит решил встретиться с некоторыми представителями дипло¬
матического корпуса, с послами и посланниками. В первую очередь это были
французский посол Шарль Альфан, старый и опытный дипломат, которого он
знал ранее, а также польский посланник Юлиуш Лукасевич. Состоялась встреча
и с Карлом Радеком - блестящим советским публицистом, знатоком Германии.
Говоря о положении на Дальнем Востоке, Радек усомнился в возможности япон¬
ского нападения на Советский Союз весною следующего года. Его мнение расхо¬
дилось со взглядами многих членов правительства, на что посол обратил
внимание14.
19 декабря Буллит встретился с руководителем управления экономической и
социальной статистики и договорился о получении посольством официальных све¬
дений о развитии народного хозяйства. На следующий день Буллит беседовал с
наркомом финансов Г.А. Гринько по поводу обмена долларов на рубли на льгот¬
ных условиях. Нарком обещал благожелательно рассмотреть этот вопрос. Это
вызвало удивление у советских руководителей, ибо такого прецедента еще не
было: существовал единый официальный курс обмена валюты, никому льгот не
предоставлялось. Вполне понятно, что возник вопрос в отношении других ино¬
странных представительств: почему американцы должны иметь преимущества
перед дипломатами других стран?
20-го Буллит был принят первым заместителем председателя государственной
комиссии по планированию народного хозяйства В.И. Межлауком и обсудил
перспективы экономических отношений между США и СССР. На вопрос Бул¬
лита, в чем нуждается Советский Союз, каков характер товаров, экспорт кото¬
рых возможен из США в СССР, последовал ответ: машинное оборудование и
станки всех типов крайне необходимы для страны. Именно они должны быть
главными статьями будущего импорта. Затем Межлаук информировал Буллита о
ходб строительства второй колеи железной дороги в Сибири. Строитель¬
ство встретилось с большими трудностями, сказал он. Надо непременно вести
железную дорогу к Ленским золотым приискам, но она еще не начата.
Транссибирская железная дорога (вторая колея) не закончена на протяжении
почти двух тысяч километров. Из этой беседы Буллиту стало очевидно, что
советское правительство весьма заинтересовано в получении из США
железнодорожных рельсов. Собственно, и Рузвельт говорил об этом с
Литвиновым, и заместитель государственного секретаря У. Филиппе затрагивал
эту тему15.
12Foreign Relations of the United States. The Diplomatic Papers. The Soviet Union 1933-1939 (далее -
FRUS. The Soviet Union). Washington, 1952, p. 56-57.
13Foreign Relations of the United States. The Diplomatic Papers. 1933. (далее - FRUS. 1933), v. Ш.
Washington, 1949, p. 834.
14FRUS. 1933, v. III, p. S35.
15Ibid., p. 836; ДВП СССР, т. XVI, с. 659, 667.
22
В тот же день Буллита принял К.Е. Ворошилов. Нарком обороны откровенно
сказал, что, по его мнению, японцы неминуемо атакуют советский Дальний Вос¬
ток, но они, безусловно, потерпят поражение.
Отметим, что обеспечение безопасности на Дальнем Востоке представляло
большие трудности. Сухопутные границы Забайкалья и Дальнего Востока пре¬
вышали 4500 км, а морские границы протянулись на 15 тыс. км. Обстановка по¬
велительно требовала от советского командования увеличения численности ар¬
мии, оснащения ее боевой техникой и строительства укрепленных районов для
прикрытия основных направлений. Нужно было в короткий срок перебросить на
восток дополнительные контингенты людей, орудия, танки, боеприпасы и
продовольствие.
27 мая 1933 г. СНК СССР принял постановление "О мероприятиях пер¬
вой очереди по усилению ОКДВА" (Особой Краснознаменной Дальневосточной
Армии). Предусматривалось безотлагательное строительство на Даль¬
нем Востоке бензохранилищ, складов, аэродромов, увеличение численности
войск.
К 1933 г. на Дальнем Востоке советским командованием были сосредоточены
крупные вооруженные силы: 13 стрелковых и две кавалерийских дивизии, 280
самолетов, 800 танков, танкеток и бронемашин, 870 орудий. Общая численность
армии и Тихоокеанского флота составила 151 652 человека, и она не уступала
японским войскам, дислоцировавшимся в Маньчжурии, Корее и южной части
Сахалина16. Более того, превосходила их по вооруженности и технике.
И тем не менее напряженное положение на Дальнем Востоке и открытые
заявления Японии о подготовке к войне побудили Совет Труда и Обороны при¬
нять 22 декабря постановление о дополнительной переброске на Дальний Восток
трех стрелковых дивизий, трех механизированных и семи авиационных бригад,
10 эскадрилий, а также артиллерийских полков. Предусматривалось перебросить
270 орудий, 930 самолетов, 960 танков и 56 тыс. человек17. К концу 1933 г. со¬
ветскому правительству удалось многое сделать в укреплении обороноспо¬
собности Дальнего Востока.
СССР стремился к сотрудничеству и взаимопониманию с США. Вечером 20
декабря Ворошилов устроил банкет в честь Буллита в своей квартире в Кремле.
Присутствовали Калинин, Сталин, Молотов, Межлаук, Пятаков, Куйбышев,
Каганович, Орджоникидзе, Литвинов, Крестинский, Карахан, Сокольников, на¬
чальник штаба РККА Егоров, полцред Трояновский. Как видим, на встрече были
представлены руководители народного хозяйства, ответственные работники нар¬
коматов иностранных дел и обороны.
Сталин провозгласил тост за Рузвельта и его смелость в вопросе признания
СССР. Преодолевая большое сопротивление, сказал он, президент проявил се¬
бя как мужественный и настойчивый политик. Буллит предложил тост за
здоровье Калинина, а Молотов - за Буллита, нового посла и старого друга
России.
В этот вечер Сталин беседовал с Буллитом, сосредоточив внимание' на по¬
ложении на Дальнем Востоке. Он поставил вопрос о возможности поставок Со¬
ветскому Союзу из США железнодорожных рельсов для завершения строитель¬
ства второй колеи транссибирской магистрали, заметив при этом, что можно
рельсы даже бывшие в употреблении. Их нужно 250 тыс. т. Такое предложение
было обусловлено тем, что советское правительство планировало прокладку вто¬
рого пути на магистральных железных дорогах - Урало-Кузбасской, Забайкаль¬
ской, Уссурийской. Говоря о возможном нападении Японии на Советский Дальний
16РГВА, ф. 4, оп. 14, д. 753, л. 28.
17Там же, д. 1309, л. 2.
23
Восток весной 1934 г., Сталин сказал: "Мы и без этих рельсов разобьем японцев,
но если они у нас будут, то сделать это будет легче"18.
Буллит обещал прозондировать вопрос о поставках рельсов в своем пра¬
вительстве, поинтересовавшись при этом, как их доставлять, с кем можно будет
вести переговоры о заключении соглашения и кто его подпишет. Сталин от¬
ветил: это возможно оформить через "Амторг", который возглавляет П.А. Бог¬
данов. Поставлять рельсы удобнее через Владивосток.
Сталин представил Буллиту начальника штаба Красной Армии А.М. Егорова
со словами: это он поведет наши доблестные войска против японцев, если они
осмелятся напасть на нас19. Егоров был выходцем из крестьянской семьи, в
молодости работал кузнецом-молотобойцем. После призыва в армию поступил в
военную школу, получил офицерское звание и служил в царской армии в чине
подполковника. В гражданскую войну командовал частями Красной Армии. В
1931 г. был назначен начальником штаба РККА.
Выразив уважение и восхищение провозглашенной президентом Рузвельтом
программой выхода из кризиса и признав его популярность в нашей стране,
Сталин спросил Буллита, какие у него как посла просьбы. Буллит не заду¬
мываясь ответил: построить здание посольства на Воробьевых горах. Неожидан¬
но последовал ответ: "Вы будете иметь это здание"20. Посол был беспредельно
рад. То была его заветная мечта, и вдруг так легко и быстро она начинает
претворяться в жизнь, ведь сам Сталин пообещал. Но последующие события
показали: то были просто слова, равно как и фраза Сталина, что посол в любое
время дня и ночи может обратиться к нему и встретиться с ним, достаточно
только уведомить. За те годы, что Буллит был послом в Москве, Сталин ни разу
его не принял. Все попытки Буллита увидеться с ним оказывались тщетными. Да
и Молотов, ссылаясь на занятость, принимал его редко, причем сугубо офи¬
циально, строго придерживаясь протокола. Все это вызывало недоумение и разо¬
чарование у посла.
Беседа Сталина с Буллитом 20 декабря имела большое позитивное значение.
То была сенсация для дипломатического корпуса: Сталин не любил принимать
послов и делал это в исключительных случаях. Буллит же сразу вступил в
контакт с ним. Это произвело впечатление и в Вашингтоне.
Советское правительство действительно было готово сотрудничать с США,
заинтересовано в налаживании экономических и торговых, но главное - полити¬
ческих связей. И это убедительно и наглядно показала встреча посла с Литви¬
новым ^1 декабря. В этот день глава внешнеполитического ведомства СССР
имел длительную беседу с Буллитом. Литвинов был в хорошем настроении.
Политбюро ЦК ВКП(б) только что одобрило обширную внешнеполитическую
программу, разработанную НКИД, - о создании системы коллективной безопас¬
ности, обеспечении мира и предотвращении войны. Одним из активных инициа¬
торов этой идеи был Литвинов. В основу программы был положен принцип не¬
делимости мира, который можно успешно защищать объединенными усилиями
миролюбивых государств.
В беседе с послом Литвинрв затронул широкий круг вопросов международного
положения и внешней политики советского государства.
Международная обстановка была сложной и противоречивой. Мир переходил
от эры пацифизма к гонке вооружений. Проявлялась повышенная активность
дипломатии отдельных государств, стремившихся к перегруппировке сил и
оформлению новых комбинаций. Пацифизм побежденных в первой мировой
18FRUS. 1933, V. III, р. 837.
19Ibidem.
20FRUS. The Soviet Union, p. 56.
24
войне государств уходил в прошлое. Их представители дерзко заявляли о
реванше, о намерении создать вооруженные силы, становились на путь пере¬
смотра ранее заключенных договоров, открыто говорили о подготовке к войне.
Страны-победите’льницы были против ревизии Версальско-вашингтонской систе¬
мы договоров и соглашений. Но, ратуя за сохранение послевоенного порядка,
вели себя нерешительно и боязливо. Их лидеры широковещательно говорили о
мире, разоружении и пацифизме, Особенно на международных встречах и конфе¬
ренциях, где принималось немало резолюций по этим вопросам. А межгосударст¬
венные противоречия и разногласия в это время расширялись и углублялись,
становились все более ощутимыми. Об этом свидетельствовали многие факты.
В начале декабря Литвинов, возвращаясь из США после переговоров с Руз¬
вельтом о нормализации отношений, посетил Италию. В Риме встретился с Мус¬
солини. Они обсудили ситуацию в Европе. Дуче заявил: ’’Без Советского Союза
и США Лига наций не имеет никакого смысла"21. Литвинов обратил его внима¬
ние на воинственность Японии, намерения Гитлера продвигаться на восток. 4 де¬
кабря Муссолини в беседе с советским полпредом В.П. Потемкиным сказал, что
Италия, возможно, выйдет из Лиги наций, политика Германии враждебна СССР
и Италии, так как она собирается свою экспансию развивать на северо-восток и
юго-восток. И далее он многозначительно заметил: СССР "может грозить война
с Японией, Германией и Польшей"22. В заявлении представителям печати Лит¬
винов констатировал наличие множества нерешенных международных проблем,
которые все более и более усложняются.
11 и 13 декабря в Москве Литвинов обменялся'мнениями с германским послом
в СССР Р. Надольным о состоянии советско-германских отношений. Разговор
носил острый характер. Попытки посла возложить ответственность за ухудше¬
ние в отношениях между Двумя государствами на советское правительство были
решительно отклонены. Мы, отметил Литвинов, не намерены участвовать ни в
каких интригах против Германии. В то же время он обратил внимание на за¬
метное сближение Германии с Японией: "В момент напряженности наших отно¬
шений с Японией Германия вдруг почувствовала большую любовь к этой стране
и общность интере со з с ней"23.
В это же время в Варшаве маршал Пилсудский при встрече с гитлеровским
эмиссаром X. Раушнингом предложил обсудить вопрос о заключении антисовет¬
ского альянса между Германией и Польшей. Это стало известно в Москве. Со¬
ветское правительство немедленно реагировало. 14 декабря оно предложило
Польше опубликовать совместную декларацию о заинтересованности двух го¬
сударств в сохраненйи и укреплении мира в Прибалтике. Литвинов в беседе с
польским посланником Лукасевичем спросил: как Польша относится к дово¬
оружению, а точнее, вооружению Германии и к проекту декларации о решимо¬
сти СССР и Польши защищать мир в Восточной Европе и независимость
Прибалтийских стран в случае возникновения войны?24 25 Польская дипломатия
маневрировала, а затем Варшава отклонила предложение Москвы.
Исходя из оценки складывавшейся напряженной ситуации в Европе, Литвинов
сказал Буллиту о намерении советского правительства вступить в Лигу наций. В
этом проявляет большую заинтересованность Франция, заметил он2.5.
Действительно, еще в октябре министр иностранных дел Франции Ж. Поль-
Бонкур поставил вопрос о возможности сближения и сотрудничества Франции и
21ДВП СССР, т. XVI, с. 713.
22Там же, с. 722-723.
23Там же, с. 741.
24Там же, с. 746-747.
25Там же, с. 758-761.
25
СССР в связи с усилением подготовки Германии к войне. Советское прави¬
тельство одобрительно отнеслось к этому, согласилось на участие в региональ¬
ном соглашении о взаимной защите от возможной агрессии Германии. 19 декабря
был подготовлен для передачи французскому правительству проект заявления о
согласии СССР вступить в Лигу наций и заключении регионального соглашения о
взаимной защите. Участниками пакта могли быть Бельгия, Франция, Чехосло¬
вакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Предусматривалось ока¬
зание дипломатической, моральной и по возможности материальной помощи друг
другу в случае нападения. Литвинов прямо спросил Буллита, каково будет отно¬
шение США к такой дипломатической акции советского правительства. Аме¬
риканский посол видел крупномасштабность этой внешнеполити¬
ческой инициативы и уклонился от обсуждения вопроса, заметив, что, по его
личному мнению, в Вашингтоне не будут против вступления СССР в Лигу
наций.
Литвинов сказал: вполне вероятно весною выступление Японии против Со¬
ветского Союза и необходимо сделать все возможное для предотвращения одно¬
временного военного конфликта и на западной границе. Здесь следует ожи¬
дать атаки от Германии и Польши. Такой комбинированный удар, разуме¬
ется, неблагоприятен для СССР. Польша намерена аннексировать Украину и
часть Литвы, а Германия - остатки Литвы, Латвию и Эстонию. Во Фран¬
ции видят нарастание для нее опасности со стороны Берлина. Ее лидеры
предлагают заключить оборонительный союз с советским государством в случае
войны с Германией. Взаимопомощь предусматривается в рамках Лиги наций. Это
один из серьезных мотивов вступления Советского Союза в дан¬
ную организацию. Буллит слушал внимательно, но воздерживался от
обсуждения.
От европейских проблем Литвинов перешел к Дальнему Востоку, изложив
план сохранения мира в этом неспокойном регионе. Никто не может точно ска¬
зать, подчеркнул он, когда будет атака Японии против СССР. Это зависит от
многих факторов, как объективных, так и субъективных, в частности, от того,
кто будет возглавлять японское правительство и останемся ли военным минист¬
ром экстремист генерал Араки. Самым действенным средством удержания
Японии от войны явилось бы, отметил Литвинов, заключение договора о ненапа¬
дении между США, Советским Союзом, Китаем и Японией. Это коренным
образом изменило бы ситуацию, способствовало бы улучшению положения не
только на Дальнем Востоке, но и в бассейне Тихого океана в целом, оказало бы
сдерживающее воздействие на Японию.
Желательно было бы дать понять Японии, заметил Литвинов, что США го¬
товы сотрудничать с Советским Союзом. Хорошо, если бы американская эскадра
или хотя бы один военный корабль нанес следующей весной визит во Влади¬
восток или Ленинград. Буллит сказал, что он не может ответить на этот вопрос.
Возможно, для посла вопрос действительно был несколько неожиданным. Уклон¬
чивая позиция Буллита побудила Литвинова высказать еще одно предложение.
Важно было бы получить, сказал он, заверения от США, Англии и Франции не
предоставлять японскому правительству займы и кредиты на военные цели.
Буллит не стал обсуждать и это предложение. Предпочел умолчать. Вообще
посол придерживался тактики: больше слушать и как можно меньше высказы¬
вать свое мнение. Ему хотелось прежде всего собрать обширную информацию,
выяснить, чего советское правительство ожидало от сотрудничества с США. В
Москве стремились прежде всего к заключению тихоокеанского пакта о ненапа¬
дении на Дальнем Востоке. И Литвинов горячо доказывал важность этого пакта
для всех заинтересованных государств. Однако Буллит ограничился только
одобрением этой идеи. Он хотел также знать, каковы перспективы торговли
26
США с СССР. Нарком определенно заявил: успешное ее развитие возможно
лишь при условии предоставления американцами долгосрочных кредитов26.
Накануне приезда Буллита в Москву советское правительство изучало воз¬
можности и перспективы торговли с США. 9 декабря в коллегию НКИД была
представлена докладная записка по поводу торговли с США. Ее авторы,
заведующий 3-м Западным отделом Е.В. Рубинин и заведующий экономической
частью Б.Д. Розенблюм, обращали внимание на то обстоятельство, что амери¬
канская торгово-договорная система имеет некоторые особенности и с этим нель¬
зя не считаться. Прежде всего, США ни одной стране не предоставляют кон¬
венционных скидок; с 1923 г. они придерживаются условно принципа наиболь¬
шего благоприятствования и в отдельных случаях применяют дискримина¬
ционные антидемпинговые тарифные ставки. К тому же, писали они, необходимо
учитывать, что важными продуктами советского экспорта являются пшеница и
нефть. Но нефть составляет значительную часть и экспорта США. По другим
основным видам экспорта (например, лес) СССР выступает конкурентом Кана¬
ды, причем в неблагоприятных для себя условиях. Все это следует принимать во
внимание при решении вопросов о торговле с США. Принцип наибольшего
благоприятствования имеет при этом значительно меньшее значение27.
На следующий день на заседании коллегии НКИД состоялось обсуждение
вопроса об экономических отношениях с США. Было поручено заведующим 3-м
Западным отделом и экономической частью наркомата в предварительном
порядке обсудить с участием представителей НКВТ вопросы будущего торгового
договора с США, а также возможные формы финансово-кредитного соглашения
и перспективы развития советского экспорта в США. Члены коллегии поддер¬
жали предложение о создании торгпредства в составе полпредства СССР с остав¬
лением в неприкосновенности системы "Амторга"28. По этому вопросу уже шла
оживленная переписка с госдепартаментом.
Еще 22 ноября Розенгольц и Крестинский телеграфировали находившемуся в
Вашингтоне Литвинову, чтобы он немедленно договорился с госдепартаментом о
включении торгпредства в консульскую конвенцию и постарался получить согла¬
сие на назначение торгпреда и учреждение торгпредства. Переговоры об этом
продолжались в течение месяца. 20 декабря госдепартамент согласился на назна¬
чение торгового атташе или советника при полпредстве, оговорив,*что он не дол¬
жен вступать в сделки с американскими фирмами и что его контора будет нахо¬
диться в Нью-Йорке, а не в Вашингтоне29.
Во время беседы с Буллитом 21 декабря Литвинов уведомил посла, что США
не могут надеяться на большой товарооборот с СССР. Успешная торговля в
крупных размерах возможна лишь при условии предоставления долговременных
кредитов. Эти слова вызвали разочарование у посла, ибо деловой мир США
рассчитывал на обширный русский рынок. Буллит телеграфировал о беседе с
Литвиновым в Вашингтон.
В тот же вечер Литвинов дал большой прием в честь посла. На следующий
день Буллит отбыл в США через Париж.
Итак, посол провел в Москве 10 дней. Время было поистине максимально
спрессовано. Сколько впечатлений и наблюдений! Каждый день приносил ему но¬
26Опубликованная в ДВП СССР запись беседы Литвинова отличается от изложения этой же
беседы Буллитом. Посол акцентировал внимание на политических аспектах предложений, о которых
говорил Литвинов. Между тем нарком в отчете о беседе ограничился лишь общей формулой, что
были затронуты вопросы международного положения. - См. ДВП СССР, т. XVI, с. 758-761; FRUS.
1933, v. III, р. 839-840.
27АПРФ, ф. 0129, оп. 17, д. 349, л. 14-15.
28Там же.
29ДВП СССР, т. XVI, с. 757-758.
27
вое и необычное, он не успевал его в полной мере осмыслить и оценить. Ведь он
оказался в эпицентре большой политики. В дипломатическом корпусе о нем
говорили, журналисты писали статьи.
В Париже Буллит узнал, что Сталин 25 декабря дал интервью корреспон¬
денту газеты "Нью-Йорк тайме" Уолтеру Дюранти, в котором лестно отозвался
об американском после и оценил значимость признания Америкой Советского
Союза. А он в этом принимал непосредственное и активное участие!30
Сталин беседовал с Дюранти около часа31. В центре внимания были вопросы
дипломатического признания СССР со стороны США и значение этого акта.
Возобновление отношений между двумя странами, отметил Сталин, имело боль¬
шое значение; оно повысило шанс на сохранение и укрепление мира, открыло
дорогу для торговли, экономического сотрудничества и взаимной кооперации.
На вопрос: каков возможный объем советско-американской торговли? - по¬
следовал ответ: заявление Литвинова на Международной экономической конфе¬
ренции летом 1933 г. в Лондоне (о готовности СССР разместить за границей
заказы на сумму в 1 млрд. долл, на основе получения долгосрочных кредитов)
остается в силе. "Мы величайший в мире рынок, - сказал Сталин, - и готовы
заказывать и оплатить большое количество товаров. Но нам нужны благо¬
приятные условия кредита". В наше время многие государства, отметил он, не
платят по кредитам или приостановили платежи, но СССР не намерен так по¬
ступать. Добыча золота в стране увеличилась вдвое по сравнению с царским вре¬
менем и достигла 100 млн. рублей в год. Кредитные обязательства страны
составляют немногим более 450 млн. рублей, мы их выплатим к концу 1934 г.,
сказал Сталин. Советское правительство готово заказывать и оплачивать това¬
ры, но для этого нужны благоприятные условия. На вопрос, какое впечатление
произвел на него Буллит, Сталин ответил: хорошее, "он говорит не как обычный
дипломат, - он человек прямой, говорит то, что думает".
"А как насчет Японии?" - спросил Дюранти. Сталин заявил, что СССР хотел
бы иметь хорошие отношения с Японией, жить с ней в дружбе. Однако это зави¬
сит не только от Москвы. Воинствующие элементы в Токио открыто призывают
к экспансии, и существует опасность нападения на территорию советского госу¬
дарства. Надо готовиться к самозащите. И затем сказал: "Со стороны Японии
будет неразумно, если она нападет на СССР".
Выступая на IV сессии ЦИК СССР 28 декабря, глава правительства заявил,
что восстановление дипломатических отношений между США и СССР создает
благоприятные предпосылки для развития торгово-экономических связей и укреп¬
ления мира.
Литвинов на том же форуме депутатов, говоря о нормализации отношений с
США, отметил, что Америка увидела в СССР "могучий фактор сохранения мира
и соответственно оценила сотрудничество с нами в этом направлении". Сделав
исторический экскурс, Литвинов показал несостоятельность политики изоляции
Советского Союза. Америка долго упорствовала и стойко держалась его неприз¬
нания. Но Рузвельт как реальный политик, убедившись в бесплодности недаль¬
новидной позиции республиканцев, встал на путь устранения аномалии в отно¬
шениях между двумя государствами32.
Этот смелый, решительный, дальновидный шаг президента США высоко оце¬
нил Сталин, который после возвращения Литвинова из Вашингтона вызвал нар¬
кома в Кремль и долго беседовал с ним. Сталин расспрашивал о переговорах и
30Интервью было опубликовано 28 декабря 1933 г. в "Нью-Йорк тайме", а 4 января 1934 г. - в
"Известиях".
31ДВП СССР, т. XVI, с. 765-768.
32Там же, с. 787-788.
28
президенте Рузвельте. Его интересовал президент как личность, государствен¬
ный деятель и политик. Поблагодарив за успешную дипломатическую миссию в
Вашингтоне, Сталин в знак признательности и расположения сказал, что отныне
просит Литвинова пользоваться государственной дачей близ подмосковного
поселка Фирсановка, которая до этого считалась сталинской дачей33. В, кругу
близких Литвинов в шутливой форме заметил: "Ермак за покорение Сибири был
удостоен шубой с царского плеча. Меня же Сталин одарил Фирсановкой".
В конце декабря, когда посол Буллит находился в Париже перед тем, как
вернуться в США,, в Москве шла подготовка к отъезду в Аме)рику первого со¬
ветского полпреда в Вашингтоне А.А. Трояновского.
У Трояновского была большая и интересная биография. Александр Антонович
родился в Туле 2 января 1882 г. в семье военного34- Учился в кадетском корпусе
в Воронеже, затем в Михайловском артиллерийском училище. С увлечением
изучал историю и литературу, естественные и технические науки. По окончании
училища в 1903 г. был направлен в артиллерийскую бригаду Киевского военного
округа. Но вскоре он разочаровался в армейской службе и, движимый любозна¬
тельностью, поступил вольнослушателем на физико-математический факультет
Киевского университета. Там Трояновский сблизился с демократически наст¬
роенными студентами. В 1904 г. вступил в ряды РСДРП. Когда началась русско-
японская война, его направили на фронт, где он лично увидел стойкость и ге¬
роизм русского солдата и бездарность высшего командования. Война произвела
огромное впечатление на молодого Трояновского. Он подал прошение на имя
Николая II об отставке, заявив, что совесть не позволяет ему служить в армии,
которая может быть брошена против своего народа. 14 сентября 1906 г. по¬
следовал приказ военного министра об увольнении поручика Трояновского со
службы и предании суду. 16 октября его отставка была принята "высочайшим
указом". Начался "допрос" за проявленную дерзость. Был составлен обви¬
нительный акт. Суд вынес приговор о лишении бывшего поручика всех прав
офицера в отставке.
С тех пор Трояновский стал "неблагонадежным". Начался новый этап в его
жизни. Он принимал активное участие в борьбе против самодержавия. В августе
1907 г. был арестован. В феврале 1909 г. суд приговорил его к ссылке, и вскоре
Александр Антонович был отправлен в Енисейск по этапу. Его поселили "под
особым наблюдением" в деревне Таханово Бельской волости. Через два года
Трояновский бежал из ссылки. Товарищи помогли, и он оказался в Париже, где
принял участие в издании журнала "Просвещение".
В эмиграции ему суждено было пробыть четыре года. За это время он по¬
знакомился со многими руководителями российской социал-демократии - Лени¬
ным, Плехановым, Луначарским, Мануильским. Изучил английский, французский
и немецкий языки. Много работал в библиотеках, занимаясь самообразованием.
С увлечением читал работы по экономике. Когда разразилась мировая война и
на конференции заграничной секции РСДРП (февраль - март 1915 г.)
большевики выдвинули лозунг о поражении своего правительства, Трояновский и
ряд других членов партии не согласились с этим, разойдясь во взглядах с
товарищами. Он временно примкнул к меньшевикам.
В Россию Трояновский вернулся в 1917 г. После Октябрьской революции
некоторое время служил в Красной Армии, преподавал в Московской артил¬
Шейнис З.С. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек. М., 1989,
с. 315.
34О жизненном пути и дипломатической деятельности А.А. Трояновского см. Крутицкая Е.И.,
Митрофанова Л.С. Посол Советского Союза А.А. Трояновский. - Новая и новейшая история, 1975,
№ 2, 3; их же. Полпред Александр Трояновский. М., 1975.
29
лерийской школе. Затем в июле 1919 г. был назначен заместителем руководи¬
теля Главного управления архивных дел. Он много сделал по спасению доку¬
ментального богатства России, обследовав ряд архивов в провинции. В сле¬
дующем году его пригласили работать в Наркомат рабоче-крестьянской инспек¬
ции, откуда он перешел на работу в Госплан. 10 мая 1924 г. Трояновский стал
членом коллегии Наркомата внешней торговли СССР и одновременно возглавил
Государственную торговую импортно-экспортную контору Госторга РСФСР,
проявив большие способности в налаживании и расширении внешней торговли,
ведении переговоров с иностранными фирмами.
Когда в 1927 г. встал вопрос о назначении полпреда в Японию, нарком
Г.В. Чичерин предложил Трояновского. Нарком при этом говорил, что на Даль¬
нем Востоке и Тихом океане скрещиваются интересы многих крупных госу¬
дарств, японская дипломатия является сложной и тонкой. Поэтому советское
правительство и его интересы в Токио должен представлять человек с большим
размахом, глубоким знанием экономических и политических вопросов.
3 января 1928 г. Трояновский отправился в Японию. На пограничной станции
Маньчжурия полпред заявил японским журналистам о необходимости усиления
экономических отношений между двумя странами и урегулирования их посред¬
ством заключения торгового договора. При встрече с главой правительства
Танакой он предложил подписать договор о ненападении. Но последовал ответ:
не пришло еще время.
Все свои силы и знания Трояновский направил на налаживание добрососедских
отношений между двумя странами. В качестве полпреда он пробыл в Японии с
1928 по 1933 г., став за это время признанным специалистом по дальневосточным
проблемам, внешней политике Японии, международным отношениям. С его мне¬
нием считались. Он показал себя осторожным и трезвомыслящим политиком,
тонким дипломатом, познавшим тайны профессии. Умел глубоко и всесторонне
анализировать события, предвидеть их дальнейшее развитие и последствия.
Отличительной особенностью его мышления являлось умение выделить главное
в калейдоскопе событий и найти оптимальное решейие. Его отличали особая
наблюдательность, редкая интуиция. Он завоевал уважение дипломатического
корпуса.
В феврале 1933 г. Трояновский покинул Японию. По словам японского посла в
Москве Ота, "Япония прощалась с Трояновским с большим сожалением" и "он
оставил о себе очень хорошую память"35; "ни один иностранный посол не имел
такого авторитета и вокруг себя такой теплой атмосферы"36.
Назначение Трояновского первым полпредом СССР в США, как уже отме¬
чалось, состоялось 20 ноября. Иностранная пресса широко комментировала это
сообщение. Американские газеты, приветствуя назначение Трояновского, отме¬
чали удачное сочетание в его лице "эксперта по экономическим вопросам и
дальневосточным проблемам". "Джорнэл оф коммерс" признал Трояновского
"знатоком восточных проблем по первоисточникам". А посол США в Японии
Джозеф Грю писал: "Назначение Трояновского в Вашингтон - великолепный
выбор"37.
Несомненно, обширные познания Трояновского в истории, экономике и поли¬
тике стран Азии, в первую очередь Японии и Китая, где США имели большие
интересы, были приняты во внимание при назначении его полпредом в Вашинг¬
тон. К отъезду в Америку он усердно готовился, изучал историю страны, дея¬
тельность конгресса и политических партий, жизнь народа, его традиции, нравы,
35ДВП СССР, т. XVI, с. 121.
36Там же, с. 132.
37См. Крутицкая Е.И., Митрофанова Л.С. Полпред Александр Трояновский, с. 144.
30
обычаи. Напряженно и с увлечением работал над составлением текста вери¬
тельной грамоты, обдумывая и взвешивая каждое слово и каждую фразу. При
встрече на банкете с американскими журналистами в Москве Трояновский за¬
явил, что он сделает все возможное для налаживания отношений между
народами двух государств и надеется совместно с другими дипломатами "создать
здоровую и дружную атмосферу во взаимоотношениях между СССР и
Соединенными Штатами"38.
В беседе с Литвиновым 21 декабря 1933 г. Буллит, обсуждая вопрос об аме¬
риканских кредитах, предупредил наркома о желательности быстрейшего при¬
езда Трояновского в Вашингтон, ибо, если до 15 января 1934 г. президент не
внесет в конгресс проект соглашения о займе для СССР, могут возникнуть
большие затруднения. Соображения посла были приняты во внимание. В тот же
день нарком отправил Сталину записку, в которой подчеркивал важность при¬
езда полпреда в США до 15 января: "Я еще раз поэтому прошу, - писал нар¬
ком, - оказать давление на Трояновского, чтобы он не откладывал своего
отъезда из-за организационных пустяков. Необходимо, чтобы он был в Ва¬
шингтоне хотя бы не позже 6-го января, и для этого он должен выехать отсюда
24 и не останавливаться по дороге в Париже, как он собирается это сделать"39.
С запиской ознакомились Молотов, Ворошилов и Каганович. Предложение
Литвинова было одобрено.
25 декабря Литвинов направил Сталину (копию Молотову) проект директивы,
предназначенной для Трояновского40. Он просил срочно ее обсудить и утвердить.
Директива охватывала широкий круг вопросов. В ней обращалось внимание
прежде всего на предстоящие в Вашингтоне переговоры о займе и погашении
взаимных претензий. Этот вопрос не был урегулирован Литвиновым во время
переговоров с Рузвельтом в Вашингтоне. В директиве говорилось, что Троя¬
новскому следует придерживаться тех установок, которыми руководствовался
Литвинов, находясь в Вашингтоне. А именно - добиваться получения от США
займа в 200 млн. долл, из расчета 7 или максимум 8% годовых сроком на 25 лет.
При этом предусматривалось, что 4% будут составлять основную процентную
ставку на капитал, а остальные 3-4% должны быть предназначены на погашение
американских претензий по долгу Временного правительства. Сумму претензий,
писал Литвинов, следует ограничить 75 млн. долл., при этом добиться отказа
правительства США от претензий по царским долгам, а также частным, в том
числе по конфискации и национализации американского имущества, банков и
страховых обществ. Погашение 75 млн. долл, по займам и процентов начнется
только через пять лет. Выражалось согласие на включение в сумму займа за¬
мороженных в Германии американских кредитов.
В политическом разделе директивы полпреду поручалось добиваться, по воз¬
можности, заключения пакта о ненападении между СССР, США, Японией и Ки¬
таем. Желательно получить от американцев согласие на посылку их эскадры во
Владивосток с наступлением весны. При обсуждении консульской конвенции со¬
глашаться на учреждение американских консульств в Москве, Ленинграде, Ар¬
хангельске или Мурманске, Владивостоке, Одессе, Новороссийске и Харькове.
Разумеется, при организации советских консульств в таком же количестве в го¬
родах США. Хорошо бы переговоры о консульствах вести в Москве.
По поводу торговли, торгового договора и торгпредства Литвинов предлагал
получить предложения от наркома внешней торговли Розенгольца и обсудить в
38Об установлении связей между СССР и США (публикация документов). - Исторический архив,
1960, №2, с. 111.
39ДВП СССР, т. XVI, с. 759; АПРФ, ф. 3, оп. 66, д. 292, л. 55.
40АПРФ, ф. 3, огг. 66, д. 292. л. 61-62.
31
целом директиву в присутствии Литвинова и Розенгольца до отъезда Троянов¬
ского. В тот же день политбюро опросом утвердило директиву. Как видим,
проект директивы не был заблаговременно подготовлен и обсужден. Все дела¬
лось поспешно и без должного согласования НКИД с НКВТ.
Вопрос о займе и взаимных претензиях в директиве был поставлен на первое
место не случайно. Ведь Литвинову не удалось решить его, будучи в Вашинг¬
тоне. Во время переговоров он заявил, что этот вопрос лучше урегулировать
после установления дипломатических отношений. Между тем Рузвельт пред¬
ложил ему остаться в США еще на неделю и лично с ним обсудить вопрос о
взаимных претензиях. Президент даже пригласил Литвинова совместно от¬
дохнуть на курорте41.
Сталин и Молотов рекомендовали Литвинову продолжить пребывание в Ва¬
шингтоне, лишь бы решить вопрос о долгах. 17 ноября они телеграфировали:
"Предлагаем Вам довести переговоры до конца самому, хотя бы Вам пришлось
остаться для этого в Вашингтоне до конца месяца"42. Однако Литвинов не вос¬
пользовался такой редкой возможностью - продолжить в Вашингтоне беседы с
Рузвельтом и урегулировать сложнейшую проблему, какой являлись долги и
взаимные претензии. Впоследствии, как показали события, этот вопрос стал кам¬
нем преткновения и негативно отразился на советско-американских отношениях.
Нарком как дипломат, пожалуй, на сей раз упустил благоприятный момент. То
был его серьезный просчет, а возможно, и ошибка. Так считали полпред Троя¬
новский43, а также посол Буллит, который во время наступления в январе-фев¬
рале 1935 г. кризиса в переговорах о долгах и претензиях заявил советскому
военному атташе комбригу В.А. Кляйн-Бурзину: "колоссальная ошибка" была
допущена, когда Рузвельт и Литвинов до конца не договорились о долгах. Спра¬
ведливость требует все же отметить, что американская сторона не пожелала
этого делать сразу же после установления дипломатических отношений, со¬
славшись на неподготовленность вопроса. Госдепартамент попросил некоторое
время44.
29 декабря 1933 г. нарком внешней торговли разработал программу пере¬
говоров с США по вопросам торговли. Предлагалось добиваться отмены амери¬
канской инструкции от 10 февраля 1930 г. о применении закона "о прину¬
дительном и арестантском труде" в отношении экспорта из северных районов
СССР, отмены эмбарго на советское золото, применения к советскому антрациту
такого же режима, как для Англии, Германии и Бельгии, снятия временного
эмбарго на экспорт апатитов, восстановления экспорта спичек, предоставления
импортных контингентов на водочные и винные изделия. Необходимо согласие
от американской стороны на учреждение торгпредства в Нью-Йорке с правом
экстерриториальности и дипломатических привилегий для торгпреда и двух его
заместителей, а также создание нормальных условий для сотрудников торгпред¬
ства45. Американские власти быстро откликнулись на советские предложе¬
ния. 24 января 1934 г. министерство финансов США отменило ряд ограни¬
чений на ввоз леса, "антидемпинговый" штраф на ввоз спичек и советского
золота46.
26 декабря, имея директиву по всем основным политическим и экономическим
вопросам взаимоотношений двух государств, Трояновский поездом срочно выехал
41Там же, д. 291, л. 190-192, 200; д. 292, л. 11.
42Там же, д. 292, л. 18-19.
43Там же, л. 171-172.
44РГВА‘, ф. 33987, оп. 3, д. 754, л. 273.
45АПРФ, ф. 3, оп. 66, д. 292, л. 68-69.
46Правда, 25. I. 1934.
32
из Москвы через Варшаву в Париж, а оттуда в Гавр. Посол Буллит предложил
отплыть в США на американском пароходе "Вашингтон", на котором он сам
возвращался на родину.
Во время плавания послы СССР и США обменивались мнениями о пред¬
стоящих беседах с государственными деятелями США. Буллит заканчивал до¬
клад для Рузвельта о поездке в СССР47.
В докладе он подробно рассказал о радушном приеме в Москве. Беседы с
советскими лидерами были конкретны, предельно откровенны и доверительны,
предложения конструктивны и целенаправленны. Они свидетельствовали о го¬
товности советского правительства к политическому и экономическому сотрудни¬
честву с США. Причем в основе его в большинстве своем лежали идеи, выска¬
занные президентом Рузвельтом в беседах с Литвиновым в Вашингтоне. Это
касалось, в частности, заключения пакта о ненападении государств, заинтересо¬
ванных в мире в регионе Дальнего Востока и Тихого океана, - прежде всего
США, СССР, Японии и Китая, строительства второй колеи железной дороги в
Сибири, развития торговых и экономических отношений.
Характерно, что Буллит при встречах с советскими руководителями воздер¬
живался от обсуждения поднятых ими проблем, часто уклонялся от ответов на
ставившиеся вопросы. Он не был готов к их серьезному обсуждению. С ним не
было ни экспертов, ни советников, ни помощников. Сам же он не обладал необ¬
ходимыми познаниями в экономике и торговле. И это проявилось в первые же
дни его дипломатической деятельности.
В госдепартаменте, прочитав доклад, обратили внимание на его описатель-
ность, сугубо информационный характер и отсутствие со стороны посла конст¬
руктивных предложений и рекомендаций. В то же время там были приятно
удивлены сведениями об открытости, доступности советских лидеров, их компе¬
тентности и готовности к конкретным формам сотрудничества и кооперации, к
обсуждению и поискам преодоления и устранения накопившихся за долгие годы
негативных явлений, стереотипов и предвзятостей в мышлении.
V некоторых экспертов стремление развивать американо-советские отноше¬
ния вызывало сомнения. Противники признания СССР продолжали выступать
против политики Белого дома. В прессе печатались статьи с критикой Рузвельта,
которого "ввел в заблуждение" Литвинов. Осторожные политики и дипломаты
отвечали, что преждевременно делать выводы. Будущее покажет. Многое будет
зависеть от деятельности советского полпреда А.А. Трояновского.
... "Вашингтон" приближался к берегам Америки. 7 января 1934 г. утром он
прибыл в Нью-Йорк. Моросил дождь. Советского полпреда встретили торже¬
ственно, с подчеркнутым вниманием, по особой программе. Представители госде¬
партамента в порту ждали с эскортом машин, чтобы отвезти его прямо в
Вашингтон. Трояновский сделал заявление по радио: "Я буду развивать дух
сотрудничества, взаимной дружбы и понимания между двумя государствами и
народами в целях сохранения мира". 500 русских граждан также пришли в порт
приветствовать полпреда.
В Вашингтон Трояновский прибыл поездом. На следующий же день состоя¬
лось вручение верительных грамот президенту Рузвельту. В 17 часов 15 минут
Трояновский вошел в Белый дом. Его ввели в просторную комнату, где сидел в
кресле Рузвельт, внимательно, с улыбкой всматриваясь в подходившего к нему
советского полпреда. При вручении верительных грамот состоялся традиционный
обм$н речами. Трояновский сказал: мир насыщен событиями исторического зна¬
чения, два великих и могущественных государства - США и СССР - могут
оказать прямое и далеко идущее воздействие на будущее. США - страна
47FRUS. 1933, V. III, р. 833-840.
2 Новая и новейшая история, № 6
33
высокого уровня технического и научного прогресса. Широкое сотрудничество
народов двух стран может привести к дальнейшему общему прогрессу чело¬
вечества. Он, как посол, усматривает свою задачу в том, чтобы сделать все воз¬
можное для налаживания нормальных взаимоотношений между СССР и США,
для сотрудничества двух народов во имя сохранения и укрепления мира48. В
ответ Рузвельт выразил готовность, чтобы правительства США и СССР
совместно работали для создания прочного здания дружбы и сотрудничества
между великими государствами; это будет иметь первостепенное значение для
сохранения мира.
Прощаясь, президент Рузвельт сказал полпреду: начинается новая эра в жиз¬
ни наших народов. Если у вас возникнут вопросы, трудности, обращайтесь прямо
ко мне по телефону. "Это, - отметил Буллит, - не простая любезность, прези¬
дент остался в восхищении от Трояновского. Такой вещи он никогда не пред¬
лагал еще ни одному послу"49.
Рузвельт был верен своему слову. Вспоминая о работе в Вашингтоне, Тро¬
яновский позднее писал: "Когда мне приходилось обращаться к Рузвельту с
просьбой о личном свидании с ним, он мне не отказывал и как-то принял меня
даже в постели, больной"50.
Рузвельт прислушивался к мнению полпреда. Когда возник вопрос о месте
проведения переговоров по долгам и взаимным претензиям, президент пред¬
ложил, чтобы переговоры прошли в Вашингтоне. Он хотел оказывать на их ход
личное воздействие. Однако Трояновский настоял на том, чтобы они проходили в
Москве. Неохотно, но глава Белого дома согласился.
Вскоре после вручения верительных грамот, в феврале, Рузвельт принял Тро¬
яновского и проявил интерес к тому, как идет ремонт здания советского пол¬
предства. Сожалел, что дело движется медленно. Затем, находясь, по-видимому,
под впечатлением XVII съезда ВКП(б), на котором много говорили о военной
опасности со стороны Японии, Рузвельт спросил, что' думает об этом Тро¬
яновский. Полпред сказал, что, по его мнению, весной Япония не начнет войну,
она к ней не готова. Возможно, война начнется в 1935 г. Услышанное не сов¬
падало с мнением правительства СССР и утверждениями советской печати. Руз¬
вельт обратил на это внимание. Он согласился с точкой зрения полпреда, отли¬
чавшейся и от прогнозов некоторых аналитиков Вашингтона.
В начале марта Трояновский прислал телеграмму Литвинову, в которой сооб¬
щал, что американцы внимательны и предупредительны, особенно Рузвельт,
хотя этого нельзя сказать относительно некоторых сотрудников госдепартамен¬
та51. Работы очень много, отмечал полпред.
В первые месяцы у Трояновского много сил и внимания заняли неотложные
дела: ремонт здания российского посольства, которое было закрыто с 1920 г.,
учреждение консульств в Нью-Йорке и Сан-Франциско, установление связей с
правительственными ведомствами, переговоры о торговле. И только 10 апреля
1934 г. состоялась торжественная церемония - поднятие государственного флага
над зданием полпредства, а вечером был устроен большой прием. Присут¬
ствовали представители министерств, сенаторы, конгрессмены, члены дипкорпу¬
са, деятели культуры. Всего около 800 человек. Прием продолжался-семь часов.
Трояновский завоевал симпатии американцев. Буллит восторженно отзывался
о нем. Президент Рузвельт высоко ценил самостоятельность и независимость его
суждений. Близкий советник и помощник президента Гарри Гопкинс в беседе с
48ДВП СССР, т. XVII (1 января - 31 декабря 1934 г.). М., 1971, с. 31-32.
49АВП РФ, ф. 0125, оп. 17, д. 1, л. 29.
^Крутицкая Е.И., Митрофанова Л.С. Полпред Александр Трояновский, с. 153.
51 АВП РФ, ф. 0129, оп. 17, д. 1, л. 127.
34
И.М. Майским в 1941 г., вспоминая, сказал: "Трояновский был хорошим русским
послом, он понимал американцев, и американцы понимали его. Всегда была
возможность договориться"52.
Итак, вручение верительных грамот состоялось. Послы Трояновский и Буллит
получили возможность представлять свои страны и защищать права и интересы
своих граждан.
Объективные интересы Советского Союза и Соединенных Штатов Америки
на стратегическом уровне не всегда совпадали. Эти государства находились на
разных континентах, у них были разные соседи, исторические пути и традиции.
Неодинаковы были социально-общественные системы, уровень экономического
развития. И трудно предположить, чтобы их интересы совпадали. Различия были
очевидны и неизбежны, но взаимоприемлемые решения надо было искать, про¬
являя выдержку, терпение, стремясь к поиску компромиссов.
Во взаимоотношениях двух великих стран открывалась новая глава.
^Майский И.М. Люди, события, факты., М., 1973, с. 176.
2*
35
© 1993 г.
Н.А. КОВАЛЬСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ХРИСТИАНСТВЕ.
ИСЧЕРПАЛА ЛИ СЕБЯ
ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ?
Каждый раз, когда в истории человечества происходили глубокие потрясения,
они сопровождались ростом тяготения людей к духовным началам; в обществе
возникала потребность религиозного осмысления происходящего.
Не стал исключением и конец нынешнего века с его грандиозной ломкой всего
устаревшего, привычного и тревогой за будущее, скрытого пеленой неизвест¬
ности. Общественное сознание воспринимает меняющуюся действительность
через категории "кризиса”, '’катастрофы", "тупика", имея в виду мировой эконо¬
мический спад, углубление разрыва в темпах экономического развития Юга и Се¬
вера, социально-политическую дестабилизацию целых регионов и другие нега¬
тивные знамения нашего времени.
Как кардинальную смену эпох трактуют современность модные теории "конца
истории", "постиндустриального общества", "постмодернизма" и др. Стало обще¬
принятым говорить о том, что ценностные ориентации либерализма, консерва¬
тизма, а теперь и социализма изжили себя.
Что же происходит в нынешних условиях с христианским социальным учением,
этим нравственным выбором значительной части человечества?
Представляется, что под христианским социальным учением следует понимать
совокупность различных направлений христианской социальной мысли, столь
богатой оттенками и особенностями. Это - комплекс различных версий и
интерпретаций христианских норм применительно к различным сторонам жизни
общества. Естественно, многое зависит от того, к какому вероисповеданию -
католическому, православному или протестантскому - принадлежит тот или иной
мыслитель, от его политических симпатий, от традиций того или иного идейного
течения, да и от многих других причин. Поэтому было бы неоправданным
рассматривать христианское социальное учение как нечто единое целое и моно¬
литное, хотя можно выделить ряд положений, которые являются общими для
всех направлений этого учения. Главное же, что их объединяет, - это при¬
верженность идеалам христианства.
Через призму христианства подвергается этической оценке весьма широкий
круг социальных проблем. В поле внимания исследователей - проблемы под¬
держания мира, обеспечение всеобщего благосостояния и устранение экономи¬
ческого неравенства, укрепление нравственности и морали, этические послед¬
ствия развития науки, вопросы труда и занятости и многие другие срезы сов¬
ременного мира.
Социальное учение христианства стало материальной силой, овладевшей соз¬
нанием миллионов людей, независимо от их отношения к религии. Оно оказало
колоссальное влияние на формирование европейской цивилизации, придав ей
свойственные христианству черты, создав конкретный образ жизни, разработав
комплекс морально-этических норм, которыми руководствуются, хотя и в раз¬
личной степени, на всех континентах.
36
Ряд политических партий, организаций и общественных движений считает
нужным зафиксировать в своих программах и уставах приверженность хри¬
стианским принципам. Правда, на деле зачастую оказывается, что эти принципы
трактуются ими весьма своеобразно, в зависимости от потребностей поли¬
тической борьбы и групповых интересов.
Словом, социальная доктрина христианства представляет собой существенный
фактор жизни современного общества, его развития, во многом определяет его
нынешний облик.
Основу социальной доктрины христианства составили богословское толкова¬
ние Священного Писания и трудов церковных авторитетов, изучение истори¬
ческого опыта, анализ нынешних реальностей с позиций религиозной этики и
морали. Сегодня предпринимаются усилия для того, чтобы осмыслить сущность
современности, уяснить, какое "завтра" нужно человечеству, подсказать, каким
путем прийти к этому "завтра".
Сумеет ли христианская социальная мысль справиться с этой насущной за¬
дачей? Достаточен ли ее потенциал для достойного вступления в XXI в ?
Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, важно разобраться в некоторых
сторонах этого учения, которые во многом определяют его дальнейшую судьбу,
его перспективы.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ - ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА
Пи одна общественная теория не существует вне времени. Это применимо и к
христианскому социальному учению, которое исторично. Через прошлое легче
познается его настоящее, логика его развития. Объективное содержание опыта
раскрывает многие его сегодняшние грани, позволяет определить основные
направления его дальнейшего развития, его перспективы.
Несмотря на то, что основные посылки социальной доктрины христианства не
претерпели принципиальных изменений на протяжении всей истории ее суще¬
ствования, тем не менее она эволюционировала вместе с обществом. На различ¬
ных отрезках времени она приобретала новые оттенки. Порой происходила,
казалось бы, ее полная трансформация, но затем возрождались многие элементы
из предыдущих времен. Словом, каждая эпоха рождала свойственные ей тен¬
денции, основанные на христианских принципах, подтверждая тем самым, что не
может быть вечных истин.
Были периоды, когда христианское социальное учение в своей эволюции шло
на спад, чтобы потом оказаться на подъеме. Иногда его объявляли несущест¬
вующим, утверждая, что у церкви не может быть интересов в социальной сфере,
а порой, наоборот, церковь бросала лучшие свои умы на обоснование ее устрем¬
лений в светской жизни. Временами эти взаимоисключающие претензии со¬
существовали, являясь выражением борьбы правящих и оппозиционных сил в
христианском сообществе.
Применение принципа историзма позволяет уяснить, почему социальные осно¬
вы христианства выдержали суровую проверку временем на протяжении двух
тысячелетий.
Думается, что секрет их жизненности в том, что в комплексе этих нрав¬
ственных ориентиров всегда были наряду с ценностями, принадлежавшими лишь
одной эпохе и умиравшими вместе с ней, также такие, которые, став обще¬
человеческими, прошли через всю многовековую историю цивилизации.
Среди нравственных норм, благодаря которым христианское социальное
учение обеспечило себе выживание, следует назвать прежде всего постоянный
поиск идеала справедливости, а также неустанное стремление осмыслить проб¬
37
лему человека: его сущность, его связь с Богом, его веру в неминуемую победу
добра над злом.
Сочетание этих посылок присуще самому моменту зарождения христианства.
Пожалуй, история современной христианской социальной доктрины начинается с
того времени, когда первые христиане стали исповедовать идеи равенства и
мечтать о справедливом Царстве Божьем. Уверенность в том, что их ожидания
реальны, они в дальнейшем черпали в Ветхом и Новом Заветах. При этом
наиболее решительные из них преодолевали самоунижение, колебания и руко¬
водствовались радикальными библейскими положениями, критикой неправедного
богатства: "удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти
в Царство Небесное" (Мф. 19; 23), - надеждами на светлое будущее, в котором
"многие же будут первые последними, и последние первыми" (Мф. 19; 30).
Эстафета развития христианской социальной мысли была подхвачена средне¬
вековьем, когда те, кого впоследствии церковь канонизирует и провозгласит
святыми, и носители ереси, в сущности, шли в одном направлении, представляя
различные течения, но по-разному видели дорогу в грядущее.
Средневековые мыслители многое заимствовали у своих предшественников
начала тысячелетия. Крупнейшим и непререкаемым авторитетом являлся Бла¬
женный, Святой Августин (354-430), впервые разработавший философию исто¬
рии христианства и исследовавший в труде "О граде Божьем", в частности,
социальные начала земного общества. Продолжали давать о себе знать отзвуки
манихейства*, получившего распространение в Европе примерно в III в. н.э., его
онтология добра и зла, внимание к Адаму как к первочеловеку, идеи о двой¬
ственности человеческой натуры. Учение монтанистов** включало осуждение
алчности собственников, у евионитрв (назарян)*** - апологетику бедности и т.д.
За драматическими спорами о Христе как о богочеловеке таился глубокий
интерес к проблеме соотношений Бога и человека, которая имела тогда отнюдь
не абстрактное значение. Сторонники естественного права ссылались на но¬
сителей ранних ересей - Карпократа и его сына Эпифана, исходивших из
предопределенных Богом естественных норм человеческих отношений, которые
нарушаются силами зла, попирают социальную справедливость и пытаются
закрепить общественное неравенство.
Сложная и противоречивая эпоха средневековья выдвинула многих вы¬
дающихся религиозных мыслителей, которые, опираясь на окружавшую их
действительность, стремились дать свое понимание норм общественной
жцзни.
Видное место среди них занимает Фома Аквинский (1225-1274), сыгравший
знаменательную роль в становлении христианской социальной мысли. Сегодня он
один из столпов католицизма, хотя в его жизни было время гонений со стороны
церкви. Его нынешние последователи образуют влиятельное философское те¬
чение неотомизма****. Заслуга Фомы Аквинского в том, что он лучше многих
своих современников понял необходимость реформирования христианской докт-
Манихейство - корни этой ереси уходят на Восток, в Иранское царство Сасанидов. Было
распространено особенно в восточной части Римской империи. Получило название по имени его
основоположника Мани, религиозного мыслителя, испытавшего на себе влияние зороастризма,
христианства, гностицизма.
Монтанизм - был осужден как ересь на соборе в Никее в 315 г. Основоположником учения
считается Монтан, родом из Фригии, обратившийся в христианство в 196 г. Ересь была особенно
распространена в Риме, Южной Галлии, Карфагене.
Евиониты - еретическое радикальное учение, получившее распространение с III по V в.
Разновидность гностицизма. •
Неотомизм - основное направление в современной католической философии. Особое распро¬
странение получил посде Второго Ватиканского собора (1962-1965 гг.). Признанные авторитеты
неотомизма - Ж. Маритэн (1882-1973), Э. Жильсон (1884-1978) и др.
38
рины того времени .с целью ее приближения к существовавшим условиям. Он
пришел к выводу, что христианство должно быть религией здравого смыс¬
ла. Прав был его католический биограф Г.К. Честертон, который полагал, что
"Св. Фома (быть может, прежде всего) великий антрополог", положивший нача¬
ло современному католическому учению о человеке. По меткому замечанию
Г.К. Честертона, суть формулы человека в понимании Св. Фомы в том, что
"человек - не воздушный шар, возносящийся к небу, и не крот, роющий землю,
а скорее дерево, чьи корни питаются из земли, вершина стремится к звездам"1.
Св. Фома осудил пессимистические начала в христианстве, сконцентрировал свое
внимание на его творческой, созидательной тональности. Он живо интересовался
ростом ремесел, развитием торговли, характером денежных отношений. Ему
принадлежат идеи о греховности ссудного процента, о "справедливой цене" и
другие, на которые в более поздние времена стали ссылаться многие борцы за
социальную справедливость.
Зарождение христианского гуманизма связано с Франциском Ассизским (1182—
1226), в котором А. Грамши увидел "комету, сверкнувшую на католическом
небосклоне", "основоположника нового христианства, новой религии", вызвав¬
шего "такой же огромный подъем среди верующих, какой наблюдался в первые
века христианства", и пытавшегося "осуществить на практике основные прин¬
ципы Евангелия"2. Призывы к братству и солидарности, миру и благородству
сочетались у него с проповедью социальной справедливости и свободы, поиском
мер улучшения жизни бедняков. Он был одним из первых, кто пришел к выводу
о существовании социальных корней возникновения войны. "Тот, кто владеет
большими богатствами, - учил Франциск Ассизский, - нуждается, чтобы защи¬
тить их, в оружии, и таким образом рождаются войны"3.
Наряду с Франциском Ассизским и Фомой Аквинским многие религиозные
мыслители того времени в монастырских кельях и в стенах университетов
стремились разобраться в общественном бытие, приходили зачастую к ориги¬
нальным выводам, некоторые из которых дошли до наших дней и не утратили
актуальности.
Однако религиозное общественное сознание формировалось также в гуще
народа, выражавшего недовольство неправедными порядками и поднимавшегося
на борьбу за справедливость. Народные волнения тех времен большей частью
проходили под религиозными лозунгами, в ожидании явления мессии, который
утвердит справедливое Царство Божие. Бунтари мечтали о социальном ра¬
венстве. Единственно приемлемым для себя обществом они считали общество
без богатых. При этом они исходили из того, что праведными путями выбиться в
богатые невозможно. Те же из участников этих движений, которые имели ка¬
кую-либо более или менее крупную собственность, считали нужным йзбавиться
от нее. Среди них был один из руководителей движения дульсинистов* (апо¬
стольских братьев) Жерар Сегарелли, владелец больших поместий, ставший
странствующим апостолом. Социальные мотивы тесно переплетались с духов¬
ными и в гуситских войнах (1419-1437 гг.)^ когда значительная часть их уча¬
стников избрала своим символом библейского Адама, не знавшего еще, что та¬
кое несправедливость и угнетение.
Новую страницу в истории христианской социальной мысли открыл проте¬
1 Честертон Г.К. Вечный человек. М., 1991, с. 336-339.
2Грамши Л. Избранные произведения, т. 2. М., 1957, с. 108-109.
3St. Francis today. St. Francis Was Bom 800 Years Ago: 1981. Padova, 1981, p. 17.
Дульсинисты - их религиозным вождем был фра Дольчино из Наварры, сожженный на костре
инквизицией в 1307 г. Выступал защитником бедняков. После его смерти дульсинисты продолжали
вести упорную борьбу в Ломбардии и южной части Франции.
39
стантизм, возникший в ходе Реформации. Тогда же появились новые нравст¬
венные ориентиры, возросло внимание к проблемам человеческих отношений, к
человеку, к его обыденной жизни. К добродетелям стали относить общест¬
венную активность индивидуума, его деятельность на благо неимущих, всех тех,
кто нуждался в помощи. Руководствуясь этими моральными принципами, люди
стремились к другой жизни, основанной на заветах Христа и представлявшейся
им светом во мраке окружавшего их прозябания, тем очистительным братством,
которое несет им спасение.
В эпоху гуманизма со всей остротой возникла проблема методов борьбы за
справедливость, которая станет столь сильно волновать многих христиан г бор¬
цов за социальное и национальное освобождение спустя несколько столетий, в
конце XX в. Томас Мюнцер (ок. 1490-1525), приверженец радикальных мер,
допускал насилие ради достижения нравственных целей, ради поражения тех, кто
предал Бога и погряз в грехе. ”Бог говорит вам, - призывал Мюнцер, - не
бойтесь, вам нечего пугаться, не ваша идет война, а Господня. Не за себя
боритесь”4. Иных взглядов придерживался другой лидер реформаторства -
Мартин Лютер (1483-1546), делавший ставку на повседневное подтачивание
политических и идейных устоев противника, на постепенность, а не на револю¬
ционный натиск.
В дальнейшем выбор методов борьбы всегда зависел от конкретных условий и
исторической обстановки. Недаром папа Павел VI (1963-1978 гг.) в энциклике
"Популорум прогрессио” ("О всестороннем развитии народов”, 1967) отмечал
даже допустимость "революционного восстания" в борьбе "против явной и про¬
должительной тирании, грубо посягающей на основные права человеческой лич¬
ности и вредящей в опасной мере общему благу страны"5.
Начало XVI в. отличается попытками реализовать на практике христианские
идеалы. Активные участники Реформации - анабаптисты* сумели создать не¬
сколько многочисленных общин в Моравии, где в ожидании второго пришествия
они занимались ремеслами и торговлей, стремясь построить свою жизнь на
основе христианской морали, прежде всего любви к ближнему и свершения доб¬
рых дел. Этот эксперимент продолжался несколько десятилетий, но репрессии со
стороны Габсбургов помешали его продолжению.
Не удалась попытка и другой ветви анабаптистов во главе с Мельхио¬
ром Гофманом обустроить жизнь в соответствии с христианскими принципами.
Захватив в 1534 г. германский город Мюнцер, они создали там управленческую
структуру, заимствованную из Ветхого завёта, упразднили денежные знаки,
ввели товарообмен вместо торговли, рассматривая эти меры как подготовку к
пришествию Христа и утверждению тысячелетнего Царства Божия.
Хотя эти попытки учреждения нового справедливого общества успехом не
завершились, тем не менее они свидетельствовали о том, что многие христиане
видели в своем ^учении руководство к конкретным действиям. Постепенно
накапливался опыт участия в конструктивных общественных преобразованиях, в
создании новых общественных устоев.
Результатом стало в последующие десятилетия обращение христианской
мысли к разработке четких контуров общества будущего. Развернутый план
такого общества был изложен доминиканцем Томмазо Кампанеллой (1568-1639)
4Цит. по: Волгин В.П. История социалистических учений. Часть 1. М.-Л., 1928, с. 114-115.
5Окружное послание Его Святейшества папы Павла VI "О всестороннем развитии народов".
Ватикан, 1967, с. 25.
Анабаптисты - приверженцы радикального общественно-религиозного течения в период Ре -
формации. В акте вторичного крещения видели символ возрождения норм христианской спра -
ведливости. Идеалом Царства Божьего на земле многих из них считали уравнительное и кол¬
лективное землевладение.
40
в его труде "Город Солнца", где он не довольствовался изложением проектов
улучшения общественных порядков, но также призывал к созданию принци¬
пиально новых структур, основанных как на справедливости и мудрости, так и на
жесткой регламентации всей жизни людей. Кампанелла был одним из тех, кто
ввел в христианское социальное учение признание роли науки для нормального
функционирования общества, подчеркивал значение образования и воспитания
молодежи.
В том же направлении работала мысль таких выдающихся людей своего
времени, как кюре Жан Мелье (1664-1729) и аббат Габриэль Мабли (1709-
1785). Они, как и Кампанелла, оказали существенное влияние на развитие не
только христианской, но и социалистической идеи, судьбы которых удиви¬
тельным образом переплетаются на протяжении всей их многовековой истории.
Потомки - и не только марксисты* - относят их к коммунистам-утопистам, хотя
во многом они исходили из религиозных постулатов. Следует, правда, заметить,
что такое понимание коммунизма разнится от того, которое укрепилось в оби¬
ходе, особенно в связи с опытом коммунистического строительства в годы су¬
ществования СССР. Эгалитарность, уравнительность, отсутствие частной собст¬
венности - вот что подразумевалось под непременными элементами коммунизма
применительно к прошлому.
Труды этих мыслителей сыграли существенную роль в развитии христиан¬
ского учения о человеке и обществе, а Мабли поднял к тому же эти проблемы на
общеевропейский уровень, изложив их в своем труде "Публичное право Ев¬
ропы". Зарождалась трактовка духовного единения нашего континента, которая
приобрела столь большую актуальность во второй половине XX столетия.
Социальные основы современного христианства зарождались и получали раз¬
витие не только в западной части континента. Сходный процесс, естественно, с
поправками на специфические условия региона и его исторического развития шел
также в Византии, а затем и на Руси. Следует, однако, признать, что эта сто¬
рона вопроса, к сожалению, изучена явно не достаточно. Многие источники не
дошли до наших дней, а самой проблематике по разным причинам и в разные
исгорические периоды особенного внимания не уделялось.
Тем не менее очевидно, что сегодняшней христианской социальной мысли
созвучны страстные обличения алчности богатых византийского проповедника
Иоанна Златоуста (350-407); "милостивого к нищим" архиепископа Мирликийско-
го Николая (260-343)* 6; идеи праведности и единения Сергия Радонежского (1321-
1391); рассуждения Нила Сорского (1433-1508) о "нестяжательстве".
Так в течение многих столетий христианская социальная мысль училась реа¬
гировать на новые явления в общественной жизни, вырабатывала необходимые
традиции. Происходили естественный отбор и оттачивание положений, которые
выдержали проверку историей, особенно на ее крутых поворотах. Испытание
историей свидетельствует о способности достаточно гибко следовать за ходом
эпохальных событий, приспосабливаться к содержанию приходящих на смену
друг другу периодов человеческой цивилизации.
Однако было бы наивным полагать, что христианские нормы общественной
жизни, которые рассматриваются как социальное учение христианства, пробили
себе дорогу в будущее без борьбы и сопротивления. Не стоит забывать о го¬
нениях и преследованиях со стороны тех христиан, религиозных лидеров и цер¬
ковных руководителей, которые видели в этих идеях покушение на устои ре¬
лигии, на чистоту вероучения, отправляя непокорных на костры инквизиции и
заточая их в тюрьмы. Вс многих случаях это было не столько религиозное,
См., например, раздел "Communisme". Quid 1992. Paris, 1991, р. 813b.
6Житие и чудеса святителя и чудотворца Николая. М., 1903, с. 13.
41
идеологическое противоборство, сколько борьба политическая, так как в ее
основе лежали социальные проблемы тогдашнего общества, проблема власти.
Приобретенный опыт, на который опирается современная христианская
мысль, позволяет предположить, что это учение сумеет противостоять неблаго¬
приятным обстоятельствам, развиваться, используя накопленный морально-
этический запас прочности.
ХРИСТИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ЕДИНСТВА В МНОГООБРАЗИИ
Бурное развитие производства, финансов, торговли в XIX и XX вв., появление
новых общественных сил и противоречий между ними, изменение качества жизни
многих социальных групп - все это нашло отражение в христианской социальной
мысли.
Реагируя порой на одни и те же явления по-разному, все течения - ка¬
толическое, протестантское и православное - образовали единый интеллек¬
туальный поток.
Такое своеобразное единство в многообразии служит одним из источников
силы и влияния этого учения. Расходясь в толковании и формулировании своего
отношения к отдельным аспектам жизни общества, каждое из них дополняет
другое, образуя многоплановую и разностороннюю систему взглядов.
Необходимо признать, что наиболее развитая и детализированная социальная
доктрина разработана католической мыслью. Католицизм первым из всех хри¬
стианских вероисповеданий привел свои социально-этические нормы в соответ¬
ствие с вызовом современности, хотя еще в конце XIX в. ход событий зна¬
чительно обгонял церковных руководителей, предпочитавших не замечать
проирходивших вокруг них перемен. В то время для католической церкви стало
неожиданностью появление мощного и полного энергии рабочего движения, его
организаций и партий, многие из которых назвали себя социалистическими.
Программой обновления, определившей социально-политическую деятель¬
ность католицизма на предстоящие десятилетия, стала появившаяся в 1891 г.
энциклика папы Льва XIII "Рерум новарум" ("О природе вещей"), столетняя
годовщина которой недавно широко отмечалась католиками7. Вехой в осмыс¬
лении реальностей конца XX в. стали энциклики и выступления папы-ре¬
форматора Иоанна ХХШ (1958-1963 гг.). Многое сделал для модернизации со¬
циальной доктрины католицизма Вселенский собор (1962-1965 гг.) и папа Па¬
вел VI (1963-1978 гг.), подчеркивавший значение социального учения церкви для
динамичного "поиска, который осуществляют люди", для "созидательных и сме¬
лых нововведений, необходимых для современного мира"8.
Целый ряд положений социальной доктрины католицизма получил развитие
при нынешнем папе Иоанне Павле II, определившем ее как "тщательное
обобщение результатов внимательного размышления о сложных реальностях
человеческого существования в отдельном обществе и в международном кон¬
тексте в свете веры и церковных традиций". Поэтому основная цель социальной
доктрины, как отмечает папа в энциклике "Соллицитудо реи социалис" ("Забо¬
та о социальной действительности"), в том, чтобы "истолковать данные реаль¬
7Ватикан обнародовал в этой связи энциклику "Сотый год" ("Центесимус аннус"). Состоялось
большое число научных конференций, посвященных этой годовщине. В них, как правило, принимали
участие не только католики, но и приверженцы других вероисповеданий, ученые с различными
мировоззрениями. Одним из крупнейших мероприятий явилась международная конференция в
итальянском городе Риети "Антропология солидарности в "Центесимус аннус". Столетие "Рерум
новарум" нашло отражение и в российской печати. См. Ковальский Н.А. Опыт одного обновления.
Об эволюции социальной доктрины католицизма. - Свободная мысль, 1991, № 14, с. 76-86.
8Lettre apostolique de Sa Saintete le Pape Paul VI a 1'occasion du 80 anniversaire de 1'encyclique "Rerum
novarum". Vatican, 1971, p. 55.
42
ности". Для католицизма его социальная доктрина - "самостоятельная катего¬
рия", со своей специфической природой, а не "некий третий путь между частно¬
собственническим капитализмом и коллективистским марксизмом"9. Учитывая
религиозный характер доктрины, папа относит ее не к сфере идеологии, а к
теологии, скорее моральной теологии.
Есть несколько причин, благодаря которым, как представляется, католичес¬
кому социальному учению удалось занять столь видное место в комплексе сов¬
ременных общественных теорий. Прежде всего это его постоянное обновление,
модернизация, приведение его в соответствие с меняющейся обстановкой.
Кроме того, соблюдение принципа преемственности. Каждая новая социальная
энциклика, привнося в учение новые моменты, является продолжением преды¬
дущих, обеспечивая непрерывность развития католической исследовательской
мысли.
Обращает на себя внимание глубокая и всесторонняя проработка проблем,
являющихся предметом рассмотрения в энциклике. К разработке социального
учения, шлифовке его различных сторон, к изучению проблем развития обще¬
ства привлекаются крупные ученые10.
Наконец, интерес в обществе к социальной доктрине католицизма связан с
широким охватом круга проблем. В сущности, нет такого аспекта общественной
жизни, по которому официальная католическая мысль не излагала бы своей по¬
зиции, стремясь тем самым определить линию поведения католиков в конкретной
ситуации.
В католической интеллектуальной среде допускаются некоторые отклонения
от официального толкования социальных проблем, но лишь в определенных
пределах, не угрожающих церковному единству и церковной дисциплине.
В отличие от католицизма православие не обладает столь стройной системой
взглядов по социальным вопросам. Это дает повод многим недоброжелателям
утверждать, что в православии такое учение вообще отсутствует.
Однако такая точка зрения представляется весьма спорной. Точнее было бы
считать, что нет официального свода взглядов по проблемам общественного
развития, которые были бы возведены в канон высшими руководителями право¬
славной церкви или исходили бы от них.
Трудности у русского православия в создании официальной социальной докт¬
рины связаны в значительной части с тем, что церковь в истории России почти
всегда была составной частью государственной машины. Вспоминаются слова
Д.С. Мережковского (1865-1941), который видел в России "ложную теократию",
"поглощение церкви государством", когда "небесное поглощалось земным, цер¬
ковное - государственным; глава государства становился главою церкви"11 *. В
годы советской власти церковным иерархам было не до разработки социальной
доктрины.
Тем не менее православная мысль - необязательно на церковном уровне -
неоднократно обращалась к социальным проблемам. Результатом стали много¬
численные труды православных авторов по насущным вопросам развития об¬
щества, государства, личности. Эти вопросы рассматривались под углом зрения
российской духовности, тех особых начал, которые свойственны российскому
православию, российской религиозности.
В числе проблем, волновавших православную интеллигенцию, всегда была
9Иоанн Павел II. Мысли о земном. М.; 1992, с. 98.
,0Один из виднейших специалистов по социальному учению католицизма - профессор Венского
университета, почетный прелат папы Рудольф И. Вайлер. См. Weiler R. Einfuning in die katholische
Soziallehre. Wien, 1991.
u Мережковский Д.С. Павел I и другие произведения. М., 1989, с. 65.
43
идея соборности, уходящая корнями в образ Святой Троицы. Так, для А.С. Хо¬
мякова (1804-1860) идеалом соборности, единения была православная церковь.
Через призму соборности и православия он рассматривал возможность реали¬
зации идеи свободы в сопряжении с понятием необходимости.
В предчувствии революционных потрясений в России эта проблема влекла к
себе умы русских религиозных исследователей. Так, Владимир Соловьев (1853-
1900), размышляя о свободе и необходимости, отмечал, что первая действи¬
тельна лишь через осуществление второй12.
Среди тех, кто с позиций христианства проанализировал вопрос о свободе, был
выдающийся русский философ Н.А. Бердяев (1874-1949), мысли которого живут
и в наши дни. По его определению, свобода неотрывна от религиозного обще¬
ственного бытия, это обязанность, долг христианина. Человек должен нести
бремя свободы, не имеет права сбросить с себя это бремя. В этой связи Бердяев
обращался к авторитету Ф.М. Достоевского, который представил Великого Инк¬
визитора врагом свободы и врагом Христа. По Достоевскому, человек должен
вынести бремя свободы, чтобы спастись. Христианская религия предстает у него
как свобода во Христе, когда насильственное спасение невозможно и ненужно.
Тем самым разрешается антиномия: спасение и свобода.
Бог, в трактовке Бердяева, принимает только свободных, только свободные
нужны ему. Поэтому христианство характеризуется им как релйгия свободы, а
свобода определяется как содержание христианской религии.
Вместе с тем Бердяев выделяет такую черту современного ему христианства,
как отрицание, нетерпимость ко всему, что оно считает злом или заблуждением.
Бердяев солидаризируется с такими русскими учеными, как А.С. Хомяков,
Ю.Ф. Самарин, И.С. Аксаков, которые в идее свободы видели сущность Вселен¬
ской церкви, без ее деления на Западную и Восточную. Эта идея должна воз¬
вышаться над вероисповедными различиями. Католическая, да и православная
иерархия, отмечает Бердяев, нередко подменяла свободу принуждением, шла на
’’соблазн Великого Инквизитора". Бердяев был глубоко убежден, что право¬
славие может держаться только свободой, только на почве свободы можно
защищать относительные преимущества перед католичеством и другими веро¬
исповеданиями. В целом он высказывается за свободу, против принуждения не
только применительно к религиозной жизни, но и гражданскому обществу, со¬
действуя тем самым развитию российского понимания демократии13.
Примечательно, что признание Христа как носителя идеи свободы было
свойственно выдающимся представителям передовой русской мысли. Среди них -
В.Г. Белинский, который в письме к Н.В. Гоголю отмечал, что Христос "первый
возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запе¬
чатлел, утвердил истину своего учения". Вместе с тем он видел в тогдашней
церкви как в институте противника свободы, а в церковной иерархии-поборника
неравенства, льстеца власти, врага и гонителя братства между людьми14.
Для многих представителей русской православной мысли присуща вера в тор¬
жество позитивных идеалов, в свободу, справедливость, добро. "Добро все-таки
есть... мера добра в человечестве вообще возрастает", - утверждал Вл. Со¬
ловьев15. На эту черту в творчестве В.С. Соловьева обращает внимание ав¬
стрийская исследовательница его трудов 3. Поллингер16.
За последние десятилетия православная мысль выдвинула ряд новых поло¬
}2Соловьев Вл. Соч., т. 1. М., 1988, с. 707.
,3См. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989, с. 192-198.
14Переписка Н.В. Гоголя, т. 2. М., 1988, с. 272.
^Соловьев В.С. Соч., т. VIII. СПб., 1912, с. 187.
x(iPdlinger S. Die Ethik Vladimir Solowjews. Wien, 1985.
44
жений по проблемам социального развития. Их авторы - церковные деятели,
включая и представителей высшего эшелона духовной власти, светские ис¬
следователи православного направления. Их поиск выражает стремление вник¬
нуть в суть происходящих процессов, дать оценку новым явлениям общественной
жизни. Однако, пожалуй, потребуется еще немало усилий, прежде чем станет
явью развернутое социальное учение православия, отвечающее строгим бого¬
словским требованиям и объективно отражающее сложность современного
бытия, особенно российского.
Такой же неформальной, как и в православии, является совокупность со¬
циально-этических норм современного протестантизма.
В основном нынешний облик протестантское социальное учение приобрело в
конце прошлого столетия, когда потребовалось реагировать на происходившие
сдвиги в системе капиталистического производства, в общественных структурах.
Социальное христианство в немецком протестантизме, в англиканской церкви, в
американских церквах отражало реформаторские настроения протестантских
кругов. t
Если в католической церкви формирование современной социальной доктрины
проходило централизованно, т.е. осуществлялось самим папой и под его руко¬
водством, то каждое из многочисленных протестантских течений в той или иной
степени действовало самостоятельно, осуществляя свой вклад в разработку
социальных идей. Тем не менее все они сходились на необходимости преобра¬
зования общества на евангельских принципах, подвергая его критике за поля¬
ризацию на имущих и неимущих, на эксплуататоров и эксплуатируемых, за
обогащение немногих за счет масс бедствующих, за нравственный кризис систем
управления в целом.
По сравнению с другими христианскими вероисповеданиями протестантизм
более четко и конкретно ориентировал на преуспевание в обществе. Отрицая
насилие, он высказывался за реформаторство. В качестве мерила успеха про¬
возглашалась прибыль. В этой связи возводились в нравственную норму пред¬
приимчивость, инициативность, способность пойги на разумный риск, динамизм в
деловой активности. Социальное учение протестантизма регламентирует обще¬
ственную жизнь, требуя блюсти этические и административные нормы, законо-
послушанйе, содействовать социальной стабильности. Осуждение лености, бес¬
печности, праздности в сочетании с уважением к труду, к полезной деятельно¬
сти - все это облегчает реализацию созидательных, преобразовательных целей
социального учения протестантизма. Как известно, именно в этом видел причину
экономического подъема Запада Макс Вебер, определив сумму этих социально¬
этических норм как "дух капитализма"17.
Протестантизм, однако, столь богат сильно отличающимися друг от друга
оттенками мысли, что некоторые из его направлений категорично отрицают
"либеральный протестантизм", наиболее последовательно проповедующий идеи
свободного предпринимательства, и саму возможность существования взаимо¬
приемлемой единой протестантской социальной доктрины. В их рядах - сто¬
ронники "диалектической теологии", хотя некоторые из них подчеркивают
значение социальной ответственности человека.
В настоящее время католическое, протестантское и православное направ¬
ления социальной мысли существуют друг от друга обособленно, функционируют
на параллельных курсах.
Может ли между ними развиваться диалог мысли? Если между католиками и
отдельными течениями протестантизма это вероятно, то у православных и ка-
17Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - Вебер М. Протестантская этика. М.,
1972, с. 43.
45
топических исследователей много сложностей, во всяком случае сейчас, из-за
нынешних расхождений между Русской православной церковью и Ватиканом.
Представляется, однако, что эти расхождения носят временный характер. По¬
зитивная реакция Русской православной церкви на Второй Ватиканский собор,
целая серия двусторонних богословских собеседований с римско-католической
церковью показали, что потенциал взаимопонимания далеко не исчерпан.
Обострение в отношениях в конце 80-х - начале 90-х годов может сойти на нет,
хотя бы по той причине, что у каждой из сторон нет другого выхода перед лицом
сложной реальной жизни, кроме как проявить терпимость и здравый смысл.
Тем не менее именно социальная проблематика - это та сфера, где наиболее
возможен обмен взглядами, как это показал плодотворный диалог католиков и
марксистов. В развитие такого диалога внес немалый вклад папа Иоанн XXIII и
учрежденный вскоре после его смерти ватиканский Секретариат (впоследст¬
вии он был преобразован в Совет) по делам неверующих, который провел целый
ряд доктринальных дискуссий по социальным и морально-этическим вопросам. С
1971 г. Институт мира при теологическом факультете Венского университета и
Международный институт мира (Вена) стали регулярно осуществлять диалоги-
встречи ученых различных мировоззрений, на которых совместно рассматри¬
вались проблемы развития современного общества. К настоящему времени
состоялось уже 20 таких диалогов-встреч, и это - убедительное доказательство
возможности обмена мнениями даже в тех случаях, когда участники придер¬
живаются далеко не близких взглядов. Это также аргумент в пользу взве¬
шенных дискуссий в духе терпимости и уважения к позициям каждой из сторон.
ЕСТЬ ЛИ У ХРИСТИАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ
ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ КОНЦА XX в.?
Общественная мысль функциональна лишь в том случае, если она в состоянии
более или менее адекватно выразить реальности социального бытия и разви¬
вающиеся в его рамках процессы. Глобализация жизни человечества, возник¬
новение угрозы его существованию в результате изобретения оружия массового
уничтожения и экологического кризиса в сочетании с убыстрением темпов
социально-политических перемен во второй половине XX в. привели в движение
миллионные массы людей, в том числе приверженцев различных религий, ощу¬
тивших потребность в ценностных ориентациях.
В соответствии со своими особенностями все христианские течения предпри¬
няли попытки в той или иной степени осмыслить вызовы современности. Однако
если одни из них продвинулись при этом весьма далеко, создав концепции,
отражающие мир почти во всем его многообразии^ то другие ограничились в
основном его общими характеристиками.
Тем не менее ряд схожих, близких идей присутствует во всех христианских
вероисповеданиях, свойственных одновременно католической, православной и
протестантской мысли.
К этим идеям относятся: признание взаимозависимости народов земного шара,
вселенности и единства, основанного на творческом акте Всевышнего. Из этого
выводится принципиально важное значение глобальных проблем, пронизываю¬
щих всю жизнь человечества.
Первостепенное внимание уделяется теологической разработке вопросов под¬
держания мира, безопасности, разоружения.
Все течения христианской мысли оценивают мир как дар Бога. Возможность
сохранить мир, не допустить разгорания конфликта во многом связывается с
волей Всевышнего. В протестантизме это рассматривается непосредственно под
углом зрения предначертания, которого нельзя избежать, но можно попытаться
46
смягчить реализацию его проявлений. Религиозная вера, а также строгое следо¬
вание этическим нормам христианства провозглашаются важнейшими условиями
предотвращения войны. Можно считать, что современная христианская теология
мира содействовала активному участию миллионов верующих в антивоенных
движениях, достижению трудных разоруженческих развязок и влияя на договор¬
ный процесс в годы "холодной войны".
Обращает на себя внимание то, что все направления христианской мысли
пересмотрели учение о справедливых и несправедливых войнах, придя к выводу,
что не может быть справедливой войны с применением оружия массового унич¬
тожения, независимо от целей, ради которых она ведется.
К проблемам мира христианская мысль обратилась прежде всего в Европе, где
возникли две мировые войны. В поиск путей обеспечения стабильности, в
развертывание системы СБСЕ сделали немаловажный вклад и религиозные
силы. Зарождение здесь христианства и распространение его по всему конти¬
ненту рассматривается ими как духовная основа единства континента, которая
делает реальными планы сближения его восточной и западной частей. Образное
выражение это нашло в тезисе о существовании двух форм культуры, допол¬
няющих друг друга как два "легких", которыми дышит единый живой организм18.
Вызовы глобального характера, так же как небывалая насыщенность и накал
общественной жизни конца XX столетия, по-новому поставили проблему че¬
ловека, и с этим не могла не считаться христианская мысль./Так возникла
современная христианская антропология. Ее основной чертой стало признание за
человеком сознательно-созидательных функций, творческой роли в современном
мире. Конечно, это не означает допустимости ослабления его общения с Богом,
именно воля Всевышнего определяет человеческое бытие, но тем не менее все
четче формулируется идея о возможности человека влиять на то, как скла¬
дывается его жизненный путь, воздействовать на повседневные обстоятельства,
включиться в активное земное творчество.
В католицйзме антропологический подход особенно дал себя знать начиная с
папы Иоанна XXIII, который привнес много нового в католическую социальную
мысль. Реабилитация идей "интегрального гуманизма" Жака Маритэна (1882—
1973), а также признание заслуг Тейар де Шардэна (1881-1955), сделавшего
заметный вклад в антропологию, многие концептуальные решения Вселенского
собора (1962-1965) были важным этапом в модернизации католического учения о
человеке.
Нынешний папа Иоанн Павел II, пожалуй, больше, чем многие его пред¬
шественники, акцентирует внимание на проблеме человеческой личности, счи¬
таясь с особенностями нашего времени. В социальном плане он подчеркивает
этическую роль труда и трудовой деятельности как инструмента переустройства
общества на началах справедливости. Папа осуждает какое-либо оттеснение
человека на периферию общества, он против любых форм его отчуждения.
Этические позиции Иоанна Павла II основаны на том, что в человеке нельзя
видеть только "статистическую единицу" или элемент общественных отношений.
Он за "постижение подлинного величия человека", формулирует "концепцию
личности как независимого субъекта нравственных решений, который посред¬
ством таких решений созидает нравственный порядок"19.
Созвучные мотивы можно найти и в современной православной антропологии.
Анализируя ее богословские основы, дьякон отец Андрей Кураев, один из
первых священнослужителей, официально допущенных к преподаванию в МГУ,
отмечает не только ее теоцентричность. Он замечает, что "человеку дается
18Иоанн Павел 11. Указ, соч., с. 379.
191амже, с. 118, 119, 198.
47
способность к творчеству... Человек может телесно оформлять мир. Он не мо¬
жет вызвать из небытия, он не Бог, но он может переоформить то бытие, ко¬
торое есть”20.
Произошел пересмотр отношения католической и протестантской мысли к
проблеме демократии, которая еще недавно считалась неприемлемой с позиций
теологии и христианской антропологии. Хотя демократия - это "не христианская
форма государства”, тем не менее именно она в наибольшей степени отвечает
христианскому пониманию сущности человека, полагает идеолог немецкого еван¬
гелизма Георг Флор21.
Такой ход мысли - продолжение исканий протестантского философа Кар¬
ла Барта (1886-1968), допускавшего принятие решений людьми, а не только
Всевышним, но подчеркивавшего при этом их ответственность перед Богом и
обществом.
Обратила внимание христианская мысль и на такое явление, как обострение
антагонистического характера связей между индивидуумом и государством. В
этом контексте появляется такая категория, как защита прав человека, при¬
нятие формулы "человеческое измерение". .
Особый акцент стал делаться в этой связи на принцип свободы совести.
Кстати, не всем вероисповеданиям признание этого принципа далось легко. Так,
против этого решительно выступали католические консерваторы, видевшие в
таком признании угрозу возникновения конкуренции для католической церкви
в тех странах, где она занимает господствующие позиции по сравнению с
остальными.
Принцип свободы совести как составная часть религиозных свобод получает
широкое распространение также применительно к системе государство - цер¬
ковь. В отличие от прошлого, когда единение этих двух субстанций воспри¬
нималось как должное, современная религиозная мысль приветствует отделение
церкви от государства22.
Один из основных аспектов проблемы человека, сближающий все направления
христианской мысли, состоит в понимании значения нравственного сплочения
человечества с целью преодоления стоящих перед ним трудностей в канун XXI
в. Это находит выражение в проповеди ценностного значения солидарности,
взаимной поддержки людей. По существу, это развитие мысли В.С. Соловьева,
видевшего в "нравственной солидарности" путь к "истинному братству, в ко¬
тором заключается для человека положительная свобода и положительное
равенство"23.
Однако на пути к такому братству - множество препятствий, таких, как
взрыв национализма, ущемление прав национальных меньшинств. Это нега¬
тивное явление последнего времени решительно осуждается. В частности, оно
было подвергнуто критическому разбору на встрече в Вене ученых различных
мировоззрений, отметивших возможности католицизма, православия и ислама для
урегулирования национальных конфликтов, в частности в таком кровоточащем
регионе Европы, как Балканы24.
Наконец, христианской мысли потребовалось ответить на вопрос, вставший со
всей остротой в конце XX столетия, о будущем человечества, о переустройстве
его образа жизни и существующих социальных систем.
Наиболее полно этот вопрос разработан в католицизме, где к нему обратились
20Подворье, 1993, № 3,с. 9.
2xFlorG. Politische Aktion, Kirche und Recht. Berlin, 1987, S. 45.
22Die Eńtwicklung der Beziehung zwischen Kirche und Staat. Wien, 1991, S. 131.
23Соловьев B.C. Соч., т. VIII, с. 474.
24Minderheiten und nationale Frage. Hrsg. G. Ingeborg. Wien, 1993.
48
еще в 60-е годы. Папа Иоанн XXIII, подвергнув критическому разбору устои
социализма и капитализма, ввел в употребление термин "социализация", под¬
разумевая под этим обустройство общества на справедливых началах хри¬
стианства. Рассматривая "социализацию" как естественно-правовую категорию,
свойственную нашему времени, Иоанн XXIII полагал, что она способствует ут¬
верждению и развитию личности, "является непременной предпосылкой удов¬
летворения запросов социальной справедливости"25.
Если эти рассуждения носили несколько отвлеченный характер, то гораздо
более конкретно выразил свое отношение к тому, какими должны стать в
обозримом будущем контуры общественной жизни людей, папа Иоанн Павел II,
который делает принципиальный вывод о неприемлемости утверждения, будто
поражение "реального социализма" оставляет капитализм единственной моделью
экономической организации человечества. Вместе с тем Иоанн Павел II не
претендует на выработку конкретных структур нового общества, ограничиваясь
пожеланием того, чтобы оно не заимствовало у капитализма его негативных
аспектов. Капиталистическая система осуждается папой, так как, "с одной сто¬
роны, верно, что эта социальная модель свидетельствует о крахе марксизма в
его попытке построить новое и лучшее общество, с другой стороны, отрицая
независимое существование и ценность за моралью, правом, культурой и ре¬
лигией, она сходствует с ним в полном низведении человека до области эко¬
номики и удовлетворения материальных потребностей".
Страны, вставшие на путь перехода от социалистической к рыночной эко¬
номике, папа предупреждает об опасности "идолопоклонства" при построении
нового общества. Важно избежать того, чтобы "рыночные механизмы стали
единственным отправным моментом совместной жизни", они должны находиться
под "государственным контролем, что делает действенным принцип общего
предназначения земных благ".
’ Почему же папа рекомендует проявлять осмотрительность в этой области?
Дело в том, разъясняет он, что "существуют такие коллективные и каче¬
ственные потребности, которые невозможно удовлетворить посредством меха¬
низмов рынка". Папа достаточно конкретно излагает условия, при которых в
новом обществе будет гарантирована возможность трудиться достойным обра¬
зом. Это - обеспечение определенного изобилия предложений работы, прочная
система социального обеспечения и профессионального обучения, свобода ассо¬
циаций и решающая роль профсоюзов, страхование на случай безработицы,
демократическое участие в общественной жизни.
Каким же образом новое общество придет на смену нынешнему? Папа
категоричен: допустим только мирный путь. И в этом единодушны с като¬
лицизмом и другие направления христианской мысли.
Вместе с тем папа, предупреждает, что в посткоммунистических странах под
предлогом борьбы с "инфильтрацией марксизма" могут быть предприняты дей¬
ствия, представляющие "серьезную опасность уничтожения свободы и тех
ценностей личности, во имя которых следует противиться этому"26.
'Словом, христианская мысль не стоит в стороне от современности. Она
предпринимает попытки предложить свои развязки сложнейших проблем наших
дней. Хотя при этом обычно утверждают, что затрагиваются лишь морально-
этические стороны проблемы, тем не менее, как свидетельствует практика,
христианская мысль идет дальше, проникая в гущу жизни, оценивает ее с го¬
раздо более широких позиций.
Оказавшись перед лицом многообразного, целостного и быстро меняющегося
25Enciclique "Mater et Magistra". "La Documentation catolique". Paris, 1961, p. 995.
26 Иоанн Павел II. Указ, соч., с. 126-127, 152-153.
49
мира, в котором возникли новые измерения общественных отношений, различ¬
ные направления христианской мысли предприняли усилия для его осмысления.
Если исходить из того, что общественная мысль развивается по спирали и
одновременно циклически, то очевидно, что сегодня христианское социальное
учение успешно вписывается в современность и переживает не худшие времена,
так как в прошлом были и кризисы, провалы, периоды глубокого застоя. По
сравнению с либерализмом, консерватизмом, с социалистической мыслью хри¬
стианское социальное учение чувствует себя более уверенно.
Пусть, однако, у читателя не возникает впечатления, будто христианское
социальное учение складывается без внутренней борьбы. Как в прошлом, так и в
настоящем каждое христианское вероисповедание имело и имеет своих бого¬
словских ретроградов и консерваторов, для которых любая свежая мысль -
вызов основам веры. Они продолжают придерживаться устаревших догматов
или же создают свои идеологические схемы, превратно отражающие проис¬
ходящие в мире процессы. Некоторые из этих религиозных деятелей и теологов
весьма агрессивны, не брезгуют средствами, пытаясь навязать свои взгляды и
повергнуть противников. Тем не менее не они задают сегодня тон в религиозной
среде. Представляется, что в 90-е годы эти силы вряд ли смогут стать реальной
преградой для новых веяний в христианской социальной мысли.
Вместе с тем не исключено, что ее развитие может затормозиться в силу
объективных и субъективных причин. К первым можно отнести постепенную
стабилизацию общественно-политической обстановки в мире, затухание деструк¬
тивных процессов, т.е. возникновение условий, при которых обычно сокращается
влияние религиозных начал на общество. Среди субъективных причин -
возможность при определенных условиях превращения учения в набор жестких
норм, обязательных для христиан, абсолютизация истинности этих норм. Еще
одна опасность - самоизоляция от других потоков современной мысли, отказ от
диалога с иными системами взглядов, недальновидная убежденность в соб¬
ственной непогрешимости и примитивная гордыня. Наконец, самоуспокоенность,
падение интереса к дальнейшему поиску, хотя многие явления общественной
жизни наших дней так еще и не подверглись глубокому исследованию христиан¬
ской мыслью.
Таковы лишь некоторые трудности, которые могут подстерегать это учение и
с которыми в видоизмененной форме оно уже встречалось. До сих пор оно умело
их преодолевать. За две тысячи лет своего существования христианская мысль
доказала свою жизнеспособность, обогатила свой духовно-интеллектуальный по¬
тенциал, который позволяет ей сегодня претендовать на властвование над умами
столь многочисленных ее приверженцев.
50
© 1993 г.
О.В. В И Ш Л Ё В
О подлинности
’’ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПОЛИТБЮРО ВКП(б)”,
ХРАНЯЩИХСЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ
В работах западных авторов можно встретить ссылки на "постановления
политбюро ВКП(б)" по международным вопросам, хранящиеся в фондах
германских и американских архивов. Эти "постановления" в ЗО-е годы поступали
по дипломатическим и агентурным каналам через германское посольство в Вене
в министерство иностранных дел рейха, в руководство Национал-социалистской
германской рабочей партии (НСДАП) и в рейхсканцелярию. Ученые, опи¬
рающиеся в своих работах на этот источник, как правило, считают, что имеют
дело с копиями подлинных решений высшего руководящего органа ВКП(б). Из
этого исходят, в частности, в публикациях американские авторы М. Ловенталь и
Дж. Макдоуэлл1, западногерманский исследователь И. Пфафф2. Одно из "поста¬
новлений политбюро ВКП(б)" было включено даже в официальное издание
германских дипломатических документов3. Обзор "постановлений" за
1932-1933 гг., хранящихся в германских архивах, был опубликован итальянским
историческим журналом "Студи сторичи"4, а затем перепечатан издающимся в
Мюнхене на русском языке журнале "Страна и мир"5.
Во время работы в Германии в Потсдамском архиве в 1990 г. автору статьи
удалось познакомиться с некоторыми из названных документов, а именно-
с фотокопиями 11 "постановлений политбюро ВКП(б)" за время с 8 июля по
8 сентября 1935 г.6, оригиналы которых хранятся в Федеральном архиве ФРГ в
г. Кобленце.
По своему содержанию документы представляют несомненный интерес. В них
раскрываются цели политики СССР в Европе и на Дальнем Востоке, отношение
советского руководства к Великобритании, США и Франции, с одной стороны,
Германии, Италии и Японии - с другой, а также затрагиваются принципиальные
вопросы стратегии и тактики Коминтерна в сфере международных отношений.
При поверхностном рассмотрении эти документы могли показаться под¬
1 Lovental М., McDowell J. The Stalin Resolutions and the Road to World War II. - San Josć Studies,
November 1980, p. 78-104; February 1981, p. 6ff.; idem. The Retrest from Communism in 1934. - San Josć
Studies, May 1981, p. 66-103.
2 Pfaff I. Der Kurswechsel der sowjetischen Mitteleuropapolitik nach der Rheinlandbesetzung. - Zeitschrift
fiir Ostforschung, 1985, H. 1, S. 67-108; idem. Prag und der Fall Tuchatschewski. - Vierteljahrshefte fiir
Zeitgeschichte, 1987, H. 1, S. 95-134; idem. Stalins Strategie der Sowjetisierung Mitteleuropas 1935-1938.
Das Beispiel Tschechoslowakei. - Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte, 1990, H. 4, S. 543-589.
3Akten zur deutschen auswartigen Politik, serie B, Bd. XIX, dok. I.
4 Reiman M. Per una storia della politica sovietica negli anni 1932-1933. Le "Informazioni Stojko". -
Studi storici, 1985, № 3, p. 581-609.
5 Страна и мир. Мюнхен, 1985, № 8, с. 68-78; № 9, с. 28-38.
6 В A Abt. Potsdam: Auswartiges Amt, Adjutantur des Fuhrers, 0.50, Film № 15676, Aufnam. E691890-
E691927.
51
линными - как по содержащимся в них отдельным оценкам, так и по своему
лексическому строю. В то же время их подлинность вызывает сомнение,
поскольку некоторые их положения невозможно признать достоверными.
Сомнения вызывает также сам факт получения, тем более на протяжении
многих лет, германской агентурой сверхсекретной информации о решениях
политбюро ЦК ВКП(б) по международным вопросам. Учитывая практику работы
высшего руководящего органа ВКП(б), а затем КПСС, настораживает и ре¬
гулярность, с которой политбюро проводило заседания. Из немецких документов
следует, что только для рассмотрения международных вопросов политбюро
собиралось до трех раз в неделю.
Чтобы внести ясность в вопрос о подлинности "постановлений политбюро
ВКП(б)", обнаруженных в Потсдамском архиве, редакция журнала обратилась к
директору Архива Президента РФ А.В. Короткову с просьбой дать заключение.
Архив Президента РФ (где в настоящее время хранится архивный фонд
политбюро ЦК КПСС) прислал следующий ответ:
"О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ”ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ПОЛИТБЮРО ВКП(б)"
За последние годы зарубежные историки7 все чаще стали использовать в
своих научных трудах ссылки на "постановления политбюро ВКП(б)"8 за
1934-1937 гг., хранящиеся в архивах США и ФРГ.
"Постановления политбюро ВКП(б)" регулярно переправлялись в 30-х годах
Гитлеру германским послом в Австрии фон Папеном под видом копий подлинных
постановлений политбюро ЦК ВКП(б).
Для установления подлинности и идентичности упомянутых "постановлений"
была проведена их сверка с подлинными протоколами заседаний политбюро,
хранящимися в бывшем архиве политбюро ЦК КПСС.
Для сверки были взяты "постановления политбюро ВКП(б)" за 8 июля -
8 сентября 1935 г., на некоторые из которых ссылается также И. Пфафф, а из
архива политбюро ЦК - протоколы заседаний политбюро ЦК ВКП(б) № 30-33
за 3 июля - 29 сентября 1935 г.9
За указанный период в протоколах заседаний политбюро ЦК ВКП(б) не обна¬
ружено ни одного аналогичного постановления, а некоторые даты "поста¬
новлений политбюро ВКП(б)", например, за 8, 24 июля, 14 августа 1935 г.
вообще отсутствуют в протоколах, так как никаких решений политбюро ЦК в
эти дни не принимало.
Умышленные пропуски в протоколах исключены, так как все постановления
политбюро ЦК ВКП(б), принятые как на заседаниях, так и путем.опросов членов
политбюро ЦК, в том числе и постановления "Особая папка", подлежали
обязательному включению в протокол заседания политбюро ЦК.
За указанный период заседания политбюро ЦК ВКП(б) проходили 17,
28 июля, 31 августа, 29 сентября, что не соответствует датам, имеющимся на
немецких документах (8, 14, 16, 21, 24, 27, 30 июля, 2, 8, 14 августа, 8 сентября
1935 г.).
Сравним тексты постановлений политбюро с точки зрения их структуры
построения.
7 См., например: Pfaff /. Prag und der Fall Tuchatschewski; idem. Stalins Strategie der Sowjetisierung
Mitteleuropas 1935-1938. Des Beispiel Tschechoslowakei.
8 Выражение "политбюро ВКП(б)" политически неверно. Обычно пишется "политбюро
ЦК ВКП(б)".
9 Архив Президента Российской Федерации, ф. 3, оп. 7, д. 453^456.
52
Из протокола заседания политбю¬
ро ЦК ВКП(б) от 31 августа
1935 г.
П32/Ш
"О строительстве гидроузлов в
районе Углича и Ярославля (ПБ
от 2.VII.35 г., пр. № 29, п. IV)
(т.т. Квиринг, Агранов, Коган,
Пятаков, Каганович, Хрущев,
Булганин, Фирин)
а) Одобрить предложение о строи¬
тельстве гидроузла у Рыбинска
вместо Ярославля;
б) Приостановить работы по
строительству Ярославской
гидростанции;
в) Поручить строительство Ры¬
бинского гидроузла НКВД;
г) Предложить НКВД и НК-
Тяжпрому внести в Политбюро
в 5-дневный срок проект прак¬
тических предложений, выте¬
кающих из этих решений"10 11.
Постановление политбюро ВКП(б) от
8 августа 1935 г.
"Заслушав доклад товарища Стали¬
на10 о международном положении и
новой тактике международного рево¬
люционного пролетариата, Политбюро
ВКП(б) на своем заседании 8 августа
1935 г. с удовлетворением отмечает,
что между Коммунистическим Интер¬
националом и социалистическими пар¬
тиями, входящими во Второй Интер¬
национал, нет сколько-нибудь сущест¬
венных расхождений во мнениях при
оценке социально-политического поло¬
жения на мировой арене и в опре¬
делении главных задач, стоящих перед
рабочим классом всего мира.
Политбюро ВКП(б) констатирует,
что общепризнанным тезисом, объеди¬
няющим все силы мирового проле¬
тариата, является мысль о том, что
гитлеровская Германия представляет
собой в настоящее время наиболее
мощную крепость мирового фашиз¬
ма..."12
Простое сопоставление двух типичных текстов постановлений позволяет
выявить ряд конкретных различий в структуре их построения. "Постановления
политбюро ВКП(б)" излишне многословны, декларативны, изобилуют повто¬
рением формулировок типа: "заслушав доклад товарища Сталина", "заслушав
доклад НКИД", "политбюро констатирует", "по мнению политбюро ВКП(б)",
"политбюро ВКП(б) единодушно постановляет" и т.д., что в корне не соот¬
ветствует подлинным постановлениям политбюро ЦК ВКП(б) того периода.
Видимо, автор данных "постановлений" не!5ыл знаком с текстами подлинных
постановлений политбюро ЦК ВКП(б), а писал их по типу постановлений
обычных партийных собраний. "Постановления политбюро ВКП(б)" создают
впечатление, что вопросы внешней политики рассматривались почти каждый
день, а иногда несколько дней подряд, что не соответствует действительности,
так как политбюро ЦК не проводило так часто свои заседания.
Результаты проведенного сравнения подлинных протоколов с "постанов¬
лениями политбюро ВКП(б)" позволяют сделать вывод, что тексты так на¬
зываемых "постановлений политбюро ВКП(б)", хранящиеся в архивах США и
ФРГ, фактически не являются копиями постановлений политбюро ЦК ВКП(б), а
представляют собой грубую фальшивку.
10 И.В. Сталин не присутствовал на заседании политбюро ЦК 31 августа 1935 г. 8 августа были
рассмотрены шесть вопросов членами политбюро ЦК, среди которых отсутствуют постановления по
международным вопросам. В журнале учета посетителей И.В. Сталина нет записей за 8 августа
1935 г. о приеме посетителей.
11 Архив Президента Российской Федерации, ф. 3, оп. 7, д. 455, л. 2.
12 В A Abt. Potsdam: Film № 15676, Aufnam. E691909.
53
Для завершения этой темы следовало бы уточнить, какие документы могли
послужить источником для данной фальсификации, придав ей вид подлинности.
Можно предположить, что кто-то из сотрудников советского полпредства в
Вене, имевших доступ к поступавшей информации и установкам НКИД для
загранучреждений, использовал их для фабрикации вышеуказанных ’’постанов¬
лений политбюро ВКП(б)”, которые продавал затем немецкой разведке.
Специалист-эксперт Архива Президента РФ
МУРИН ЮТ.
Итак, ’’Постановления политбюро ВКП(б)", как свидетельствует приведенное
заключение, являются фальшивкой. Однако нельзя пройти мимо поставленного
Ю.Г. Муриным вопроса о том, кто поставлял немцам названные "постановления”
и с какой целью.
Версия о том, что источником "информации” являлся один из сотрудников
советского полпредства в Вене, уже высказывалась западными историками.
Пфафф назвал даже имя этого человека - представитель ТАСС в Австрии
Фридрих Вильгельм Бохов13. Однако эта версия не выдерживает критики,
поскольку нет ни одного документа, подтверждающего факт получения
"постановлений” из рук советских дипломатов. Что же касается персоны Бохова,
то здесь Пфафф допустил ошибку. Бохов не имел никакого отношения ни к
ТАСС, ни вообще к Советскому Союзу. Бохов, венский корреспондент
лондонской газеты "Дейли экспресс", являлся агентом гестапо и никаких
"постановлений политбюро ВКП(б)" фон Папену не передавал.
Нет ни документальных подтверждений, ни логических объяснений и у версии
о возможной дезинформационной акции со стороны советской разведки.
Наиболее убедительным представляется объяснение происхождения "поста¬
новлений политбюро ВКП(б)", которое дали немецкие исследователи М. Рейман
и И. Сюттерлин, тщательно изучившие интересующий нас вопрос14. Они
пришли, в частности, к следующим документально обоснованным выводам:
1. "Постановления политбюро ВКП(б)" внешнеполитическое ведомство
НСДАП, абвер и германский посол в Вене фон Папен получали через австрий¬
скую разведку;
2. Посредниками между изготовителями "информации" и ее получателями
(а возможно, и авторами фальшивки) являлись проживавшие в Вене
д-р А. Рютц, выходец из Прибалтики, бывший владелец газеты "Ригаше
рундшау", хорошо знавший Россию, владевший русским языком и обладавший
широкими связями с российской эмиграцией, а также некто "Рафаэль", человек,
связанный с троцкистской организацией "Анти-Коминтерн";
3. Поставлявшаяся "информация" оплачивалась из кассы внешнеполи¬
тического ведомства НСДАП, а также несколько раз лично фон Папеном. За
каждое "постановление" информаторы получали от 200 до 300 рейхсмарок.
Только с января 1934 г. по март 1936 г. им было выплачено от 55 до 85 тыс.
рейхсмарок. Учитывая, что руководитель восточного отдела внешнепо¬
литического ведомства НСДАП д-р Лейбрандт в ряде случаев договаривался с
информаторами о частоте подачи "постановлений политбюро ВКП(б)", нельзя
исключать возможность того, что здесь имело место сотрудничество, которое на
языке юристов может быть квалифицировано как преступный сговор. Лейбрандт
13 Pfaff 1- Prag un der Pal* Tuchatschewski, S. 122-123 (Anm. 109).
X Ą Reiman M., Siitterlin /. Sowjetlische "Politb iiro-Beschliisse" der Jahre 1931-1937 in staatlichen
deutschen Archiven. - Jahrbiicher f lir Geschichte Osteuropas, 1989, H. 2, S. 196-216.
54
получал "ценнейшие" материалы, которые поднимали его авторитет в глазах
вышестоящего руководства, а изготовители имели возможность поправить свое
материальное положение.
В пользу версии о том, что "постановления политбюро ВКП(б)" изготовлялись
на территории Австрии и что их авторы сознавали меру ответственности,
которую они могут понести, если дело раскроется, свидетельствует и тот факт,
что ко времени осуществления "аншлюса" Австрии Германией поступление
материалов политбюро из Вены в Берлин полностью прекратилось. Авторы
"постановлений", по-видимому, сочли, что продолжение ими своей деятельности
на территории "третьего рейха", т.е. дезинформация уже собственного пра¬
вительства,' может иметь для них тяжелые последствия, и предпочли свернуть
свою работу.
Безусловно, вопрос о происхождении "постановлений политбюро ВКП(б)"
нуждается в дальнейшем изучении и уточнении многих деталей, остающихся не
ясными. Будем надеяться, что рано или поздно на него будет дан
исчерпывающий ответ. Сегодня жб мы можем удовлетвориться констатацией
главного: "постановления политбюро ВКП(б)", хранящиеся в архивах ФРГ и
США, являются фальсификацией и не могут быть использованы в качестве
источника при изучении внешней политики СССР 30-х годов.
55
АРОН ЯКОВЛЕВИЧ ГУРЕВИЧ -
ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указом Президента Российской Федерации присуждена Государственная
премия Российской Федерации 1993 г. в области науки и техники Гуревичу Арону
Яковлевичу, доктору исторических наук, профессору, ведущему научному
сотруднику Института всеобщей истории РАН "за цикл исследований по истории
западноевропейской средневековой культуры, опубликованный в 1981-1990 го¬
дах".
Арон Яковлевич возглавляет ныне IJeiyp по изучению истории культуры
РАН и отдел Западной Европы в Институте истории и теории мировой культуры
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Свой путь медиевиста Арон Яковлевич начинал как историк социально-эко¬
номических отношений в Западной Европе.
А.Я. Гуревичем написано более 300 научных работ, в частности
13 монографий, посвященных социальной истории средневековой Европы, исто¬
рии средневековой культуры, а также проблемам истории и теории исторической
науки. Среди них особенный резонанс среди научной общественности вызвали
такие исследования, как "Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе"
(М., 1970), "Категории средневековой культуры" (М., 1972 и 1984),’"История и
сага" (М., 1972), "Эдда и сага" (М., 1979), "Проблемы средневековой народной
культуры (М., 1981), "Культура и общество средневековой Европы глазами
современников" (М., 1989), "Средневековый мир: культура безмолвствующего
большинства" (М., 1990). Его труды переведены на ряд иностранных языков. Им
подготовлена к печати монография о судьбе "новой исторической науки",
разрабатываемой прежде всего французской школой "Анналов". В этом иссле¬
довании он подводит некоторые итоги в развитии новых направлений в
историографии известных медиевистов - М. Блока, А. Февра, Ф. Броделя,
Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и др. Лекции А.Я. Гуревича слушали не толька
студенты МГУ, но и некоторых университетов Европы и Америки. Он является
иностранным членом Американской академии медиевистики, Американской
академии Ренессанса, Английского королевского общества историков, Нор¬
вежского королевского общества ученых, иностранным членом Бельгийской
Академии наук, почетным доктором Лундского университета.
Вниманию читателей журнала предлагается одно из только что завершенных
исследований Арона Яковлевича.
© 1993 г.
А.Я. ГУРЕВИЧ
МЕДИЕВИСТИКА XX в. В ИЗОБРАЖЕНИИ
АМЕРИКАНСКОГО ИСТОРИКА Н. КАНТОРА
Возросший интерес к эпохе средних веков несомненен. Видимо, можно кон¬
статировать, что пресловутый "medium aevum" - "средостение", "провал" в исто¬
рии Европы, разделявший "солнечные" эпохи, античность и Ренессанс, - этот
придуманный гуманистами "перерыв" в эволюции культуры интеллектуально
56
преодолен. Несмотря на бесконечные повторения штампа "средневековый" в
публицистике и средствах массовой информации в качестве синонима всего
отсталого, ретроградного, косного и мракобесного, едва ли кто-либо решит¬
ся ныне всерьез отрицать, что именно в средние века сложились
новоевропейские языки и государства, были заложены основы науки и, главное,
что христианская система ценностей, в которой мы продолжаем жить после всей
секуляризации сознания и "расколдсвания мира", унаследована нами от
средневековья. Воплотившие эти ценности искусство и зодчество не оставляют
равнодушным человека наших дней, волнуют его, побуждают сопостав¬
лять и размышлять. Средневековье занимает существенное место в памяти
культуры.
Соответственно, и взгляды современных историков на средневековье пере¬
живают существенные, подчас драматические изменения. Картина исторического
развития на протяжении этого тысячелетнего периода, сложившаяся в XIX в., ни
в целом, ни во многих отдельных своих частях более не удовлетворяет
исследователей. Мы задаем историческим памятникам, следовательно, людям,
которые их создали, которым они были адресованы, о которых они содержат
информацию, вопросы, волнующие нас, но, судя по всему, не занимавшие
историков минувшего столетия. Поэтому мы получаем новые ответы. Диалог
современности с прошлым, в частности с европейскими средними веками,.при¬
обретает, таким образом, новое содержание.
Медиатор в этом диалоге - историк-медиевист. Отсюда понятен интерес к
тому, как мыслит и работает он ныне, какие новые методы применяет он в
своем исследовании и какова та понятийная форма ("идеальный тип"), в которую
он организует данные, извлеченные из исторических источников. Смею пред¬
положить, что индивидуальность крупного историка налагает на плоды его
изысканий значимый отпечаток. Средневековье, как оно рисуется в современных
трудах по истории, преломленно, отражая мировиденье нашего времени, вместе
с тем в немалой степени "придумано", "изобретено" историками - разумеется, по
правилам, которые предложены современными наукой и философской мето¬
дологией, но личность историка налагает на создаваемую им картину неизгла¬
димый отйечаток. Тенденция историков исторической науки сосредоточиваться
на направлениях исторической мысли, так или иначе поглощающих отдельных
ученых, подчас препятствует тому, чтобы разглядеть неповторимый вклад,
внесенный в это направление индивидуальностью ученого.
В этом смысле книга профессора Ньюйоркского университета Нормана
Кантора "Изобретая средневековье"1 - скорее исключение. Новая концепция,
новый облик западноевропейского средневековья, выработанные западными
историками нашего столетия, даны в книге в виде серии очерков, посвященных
жизни и творчеству виднейших медиевистов. Я еще не видел рецензий на книгу,
но при встречах с историками из разных стран слышал немало отзывов: книга
вызвала живую, я бы сказал, эмоциональную реакцию, и это понятно. Книга
Кантора - не столько академическое исследование идей и течений исторической
мысли, методов, применяемых историками, сколько рассказ о людях, которые
выдвигали и развивали определенные толкования средневековья; концепции
изображены через людей, и личные судьбы историков выступают в книге в
качестве детерминанты, определившей понимание средневековой истории.
Вместе с тем истолкование тем или иным ученым проблем истории далекого
прошлого, даже если он жил и творил несколько десятков лет назад, подается на
фоне современной интеллектуальной и политической ситуации, что придает
книге дополнительную актуальность. Перу Кантора принадлежит ряд моно¬
1 Cantor N. Inventing the Middle Ages. William Murrow and Company, Inc. New York, 1991, 477 p.
57
графий, посвященных как средневековью, так и новейшему времени, и эта
перекличка эпох живо ощущается и в рассматриваемой работе.
Оценивая в отдельных главах своего объемистого труда научный вклад
каждого из историков, выделенных им в передний ряд современной ме¬
диевистики, Кантор сосредоточивает внимание в первую очередь не на иссле¬
довательских аспектах, но на обстоятельствах и превратностях жизни историка,
на его личности и характерологических особенностях, на его социальном окру¬
жении, воспитании, политических симпатиях и национальной принадлежности.
Все это, несомненно, помогает понять умонастроение ученого, которое отчасти
определяло круг его интересов и могло налагать отпечаток на его научные
методы, выбор проблем исследования и полученные результаты.
Но возбуждение в среде медиевистов, вызванное книгой Кантора, объяс¬
няется не здравым самим по себе подходом к историку как к личности, творящей
в определенной человеческой среде и в конкретных социально-политических и
бытовых условиях, которые не могли не найти какого-то преломления и в его
научном творчестве, - это возбуждение, насколько я могу судить, есть реакция
на тенденцию потеснить и даже подменить вдумчивый анализ научной концепции
и исследовательской методологии серией анекдотов из жизни историка,
домыслами и сплетнями, собранными отовсюду и нередко не из вполне
доброкачественных источников. Читатель узнает из книги Кантора о том, что
некоторые "оксбриджские" историки не переносили английской кухни, а иные
мучались садомазохистскими комплексами, кто были их жены и любовницы и как
неуютно чувствовали себя иные из них в старейших университетских центрах
Англии, что Андре Мальро, писатель, философ и будущий министр культуры
Франции, во время нацистской оккупации Франции выпил целый винный погреб,
прячась на вилле своей приятельницы, что крупнейший историк томизма Этьен
Жильсон недолюбливал своего коллегу, тоже француза, Жака Маритена, и в
особенности его жену. Читателю сообщается имя любимой собачки того или
иного корифея медиевистики и многое другое, наверное, привлекающее вни¬
мание широкой публики, но явно не относящееся к делу.
Да и иные медиевисты, вероятно, не без приятности узнают, что их выдаю¬
щиеся предшественники и коллеги не были лишены человеческих слабостей.
Такова, например, сцена встречи молодого Кантора с вышедшим на пенсию
оксфордским профессором Поуиком, когда тот, немного послушав начинающего
историка об его научных планах, внезапно прервал его гневной филиппикой
против своих университетских коллег и лейбористского правительства,
назначившего его преемником на кафедре "проклятого коммуниста". Вспоминая
своего профессора в Принстоне Джозефа Стрейера, Кантор приводит ряд
эпизодов, характеризующих его как самовластного администратора, не тер¬
певшего возражений. Ознакомившись с диссертацией своего ученика, он огра¬
ничивался одной фразой, выражавшей приятие или неодобрение, без какого-либо
обсуждения по существу. Кое-кому из медиевистов, возможно, будет лестно
узнать, что Аллен Даллес, шеф ЦРУ США, ценил специалистов по истории
средневековья за их способность анализировать документы (Стрейер по со¬
вместительству работал в 50-е годы в этом ведомстве).
Кое-что в книге основано на собственном опыте и личных впечатлениях.
Бедняга Кантор, оказавшись в 50-е годы в Оксфорде, испытал потрясение:
английская пища отвратительна. Если к этому прибавить, что предшест¬
вовавшие усердные занятия в Принстоне послужили препятствием Кантору для
нормальной социальной и сексуальной жизни, то придется заключить: молодость
его была загублена... К тому же, сетует он, англичане, в противоположность
американцам, пренебрегают психоанализом, что ведет к тяжелым послед¬
ствиям...
58
Личные воспоминания и живые зарисовки человеческих портретов оживляют
историографические очерки, и не было бы причин считать эти отступления
неуместными, если б Кантор не был лишен чувства меры и, позволю себе
добавить, такта.
Последнее особенно касается сексуальных и психопатологических сторон
жизни медиевистов. Они всплывают под пером Кантора постоянно. Даже ха¬
рактеризуя общие социально-политические и интеллектуальные условия в
Америке "эры Вильсона", он не преминул вставить фразу об "эдиповом
комплексе" и "подавленных сексуальных позывах" этого государственного
деятеля, хотя я не в силах догадаться, какое отношение могли они иметь к тем
изменениям в жизни американских университетов, которые произошли в годы
президентства Вудро Вильсона. Но, разумеется, без плоско понятого фрейдизма
нынче никак не обойтись. Дэвид Ноулс, видный английский историк монашества
и церкви, покинувший бенедиктинское аббатство и сделавшийся кембриджским
профессором, - предмет особого интереса Кантора. На многих страницах он
развивает свою гипотезу о подавленных гомосексуальных побуждениях этого
монаха, о его любовной связи с женщиной-психиатром и о том, как его
сексуальные и религиозные трудности должны были отразиться на его
исследованиях. Все это модно и отвечает потребностям читающей публики. .
Сексуальные патологические осложнения приписываются не одним только
современникам - Кантор с легкостью обнаруживает их и у людей средневековья.
Одним из факторов, усугубивших разрыв между английским королем Генрихом II
и архиепископом Кентерберийским Фомой Бекетом, заключался, по мнению
Кантора, в том, что при примирении они должны были бы обменяться "поцелуем
мира", но король отказался лобызать прелата в уста - "по причине пси¬
хосексуальной напряженности их отношений" (с. 366)...
Упорство, с каким наш автор ищет сексуальную подоснову чуть ли не любых
человеческих поступков, просто поразительно. Когда я дочитал книгу до
последней главы, в которой подробно повествуется о самоубийстве его друга и
учителя Теодора Эрнста Моммзена (внука историка античности Теодора
Моммзена), у меня уже не было и тени сомнения: все версии объяснения смерти
этого историка, о которых писали в прессе, будут отвергнуты и Кантор
выдвинет свою, гомосексуальную версию. Так и оказалось. Найдя между
страниц книги из завещанной ему личной библиотеки Моммзена несколько
"в высшей степени эмоциональных" писем немецкого медиевиста-эмигранта
Эрнста Канторовича, Кантор спешит приписать смерть Моммзена "разрыву
гомоэротической связи" (с. 372).
Короче говоря, установка Кантора на сенсацию, притом дешевую, на то,
чтобы привлечь внимание к своей книге возможно более широкого круга
читающей публики, вызвать своего рода скандал и тем обеспечить для нее
рынок, - все это налицо.
Да простит мне читатель этой статьи то, что я столь подробно задержался на
этой стороне опуса Кантора. Дело в том, что сплетни и домыслы автора вовсе не
сводятся к отдающей интеллектуальной сенильностью болтовне - они не
невинны, но, как мы далее увидим, суть интегральная часть общего замысла.
Симпатии и антипатии автора проявляются прямолинейно и подчас заслоняют от
его умственного взора объективное положение дел в медиевистике и подлинный
вклад в науку отдельных ученых и целых направлений. За деталями теряется
главное, за скоропреходящим и поверхностным - глубинное и принципиальное.
Создается впечатление, что автор книги, которая претендует на анализ
творчества целой плеяды виднейших историков, не всегда компетентен и
подготовлен для их объективной оценки.
Но перейдем наконец к индивидуальным портретам западных медиевистов.
59
Вот первый очерк - об (английском историке права Фредерике Уильяме
Мэйтленде (глава "Право и общество"). Мэйтленд, бесспорно, один из наиболее
замечательных ученых в этом ряду, непревзойденный эксперт в области сред¬
невекового английского права ("common law"), глубокий и тонкий исследователь.
Кантор с полным основанием превозносит двухтомную "Историю английского
права"2 Поллока и Мэйтленда, на 99 процентов написанную Мэйтлендом, но,
удивительное дело, вовсе не касается главного исследовательского труда
великого историка-юриста "Книга Страшного суда и то, что за ней скрывается"3;
единственное упоминание этого исследования, без какого-либо комментария,
запрятано в библиографии ученого среди примечаний... Между тем эта
монография содержит оригинальную концепцию социального развития Англии
периода раннего средневековья. Если б Кантор потрудился сопоставить при¬
мененный Мэйтлендом исследовательский метод с подходами английского
историка-позитивиста Фредерика Сибома и русского медиевиста Павла
Виноградова, он мог бы продемонстрировать и остроту полемики между пред¬
ставителями разных научных школ ("вотчинная" и "общинная" теории как
важнейшие течения в медиевистике конца XIX в.) и "критическим направлением"
Мэйтленда, которое заложило основы современного изучения ранней социальной
истории Англии. Кантор либо ничего не знает о предмете, либо не придает ему
никакого значения. Но если этому замечательному и во многом пионерскому
труду Мэйтленда места в книге не нашлось, то зато раскопанное кем-то частное
письмо, отражающее, по словам Кантора, какие-то антисемитские настроения
Мэйтленда, молчанием не обойдено. Вообще, кстати говоря, вопрос о еврейской
принадлежности тех или иных ученых (а их немало!) выдвигается Кантором на
первый план в ряде глав книги - и впопад и невпопад. Но к этому еще придется
вернуться.
Здесь же, в связи с Мэйтлендом, нужно отметить еще одно немаловажное
обстоятельство. Кантор игнорирует вклад русской школы медиевистов в
изучение истории Англии. Сказав нечто маловразумительное о П.Г. Ви¬
ноградове, он лишь однажды упоминает имя другого крупнейшего специалиста -
академика Е.А. Косминского, который, по оценке британских коллег, стоит в
одном ряду с классиками социальной истории средневековой Англии. Но Кантор
нашел в его труде только отпечаток русской версии марксизма и на этом
основании выставил ему "неудовлетворительный балл".
"Холодная война" продолжается на страницах его исследования. Кантор не
знает и знать не желает медиевистики Восточной Европы. Имя литературоведа
и теоретика искусства Михаила Бахтина, влияние трудов которого на мировую
науку, казалось бы, неоспоримо, упомянуто в книге Кантора лишь потому, что
Натали Земон Дэвис, виднейший американский специалист по истории Франции
XVI в., признает значение его работы о Франсуа Рабле и карнавальной культуре
средневековья и ренессанса для ее собственных исследований. Квалификация
Кантором Бахтина как "советского теоретика сталинской эры" (с. 283) настолько
нелепа и чудовищно несправедлива, что не нуждается в комментарии. Создается
впечатление, что мишенью инвектив Кантора в данном случае служит не
столько Бахтин, сколько Натали Дэвис, носительница ненавистного для него
"нового духа" в американской медиевистике.
Между тем весьма занимающий Кантора вопрос о соотношении сред¬
невековья и его культуры с нашим временем едва ли можно рассмотреть
достаточно глубоко, если не принять во внимание соображения Бахтина о
2 Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law Before the Times of Edward I, v. 1-2.
Cambridge, 1898.
3 Maitland F.W. Domesday Book and Beyond. Cambridge, 1897.
60
позиции "вненаходимости" исследователя, позволяющей ему раскрывать в
изучаемой культуре такие стороны, более того, такие глубины, которые были
скрыты от взора людей той эпохи: современность и прошлое диалогически
перекликаются в бахтинском "большом времени”. Рассмотрение этой пробле¬
матики дало бы ключ к объективной оценке ситуации в современной ме¬
диевистике. Но, к сожалению, эта проблематика Кантору явным образом чужда,
и поэтому его рассуждения, например, об английских медиевистах и писателях -
"оксфордских фантастах” - Клайве Стэпле Льюисе, Джоне Рональде Толкине и
других, не отличаются глубиной.
Напротив, такие разделы, как "Нацистские близнецы" (Перси Эрнст Шрамм и
Эрнст Хартвиг Канторович) или "Формалисты" (Эрвин Панофски и Эрнст Роберт
Курциус), читаются с интересом. Они содержат обширную информацию и отно¬
сительно научного вклада этих медиевистов и об их жизни. Исследовательские
ориентации певцов средневековой императорской власти (Шрамм писал об
Оттоне III, Канторович о Фридрихе II Гогенштауфене) действительно нахо¬
дились в соответствии с консервативными настроениями этих историков. Шрамм
остался в нацистской Германии и даже сделался официальным историографом
при генеральном штабе вермахта. Избежав послевоенной денацификации, он в
60-е годы опубликовал книгу о Гитлере.
Жизнь Канторовича сложилась иначе. Несмотря на связи в высших кругах
нацистской партии, ему пришлось эмигрировать. В Англии он не прижился, а в
США во времена маккартизма он, будучи далек от "левых", тем не менее был
вынужден оставить университет в Беркли, после того как отказался дать
письменные заверения в идеологической лояльности, и искать убежища в
Принстоне, в Институте высших исследований. Поэтому мне не ясно, зачем
Кантору понадобилось объединять Канторовича со Шраммом при всей близости
их изначальных судеб и интересов как историков под заголовком "Нацистские
близнецы". Мать и двоюродная сестра Канторовича погибли в нацистском лагере
смерти. Политический консерватизм не предотвратил ни его вынужденной
эмиграции из Германии, ни ухода из Беркли. Мне представляется, что книга о
Канторовиче, принадлежащая перу Алэна Буро4, дает более объективную и
разностороннюю оценку этого историка.
Содержательная глава "Формалисты" посвящена анализу иконологии Эрвина
Панофски, открывшего новый этап в изучении средневекового искусства. В этой
же книге изложен, по-моему, верный взгляд на творчество Эрнста Роберта
Курциуса. Как известно, этот выдающийся историк литературы подчеркивал
значение топосов, общих мест, литературных й понятийных клише - своего рода
"несущих конструкций" в истории средневековой латинской словесности. На¬
стаивая на идее, что преемственность формальных признаков характерна для
европейской литературы вплоть до XX столетия, Курциус исходил из опре¬
деленных общефилософских и мировоззренческих предпосылок, в частности, из
сознания опасности идеологизации культуры. Торжество идеологии, по его
мысли, ведет к Гитлеру и Освенциму.
Но при этом Курциус оставлял вне поля зрения более динамичные стороны
средневековой литературы, которые не подходили под его "топологию". Это
верно подмечено Кантором. Следовало бы вместе с тем прибавить, что клише,
топосы и прочее наследие античной и раннехристианской литературы сами
по себе едва ли оставались неизменными: вменяющихся культурных контек¬
стах они неизбежно приобретали иную функцию и неприметно меняли свой
смысл.
Думается, сбалансированная оценка дана творчеству Этьена Жильсона.
4 Boureau A. Histoires d'un historien Kantorowicz. Paris, 1990.
61
Воздавая должное его анализу томизма*, Кантор вместе с тем справедливо
отмечает, что, неизменно подчеркивая гармоничность и завершенность средне¬
вековой теологической мысли, французский ученый проходил мимо присущих ей
противоречий и оставил без ответа вопрос: почему философия Фомы Аквинского
в XIV в. была потеснена номинализмом английского философа-схоласта Уильяма
Оккама?** Социальные и религиозные перемены, оказывавшие воздействие на
теологическую мысль, Жильсона не занимали.
Но позволительно спросить: какими критериями руководствовался автор
книги, выбирая для своих очерков тех или иных историков? Как мы видели,
немецкая медиевистика представлена двумя парами: Шрамм - Канторович
и Панофски - Курциус. В какой мере они репрезентативны для исторической
науки Германии? Разве не представляет интереса та часть исследователей,
которые не эмигрировали, подобно Панофски или Канторовичу, в США
и работали при нацистском режиме, или те, кто принадлежит к послевоен¬
ному поколению? Противоречивые пути и судьбы немецкой историогра¬
фии едва ли можно игнорировать или свести к какой-то однозначной фор¬
муле.
Вполне понятно, что с американской и английской исторической наукой у
Кантора более тесные контакты. В главе "Американский пирог" мы находим
выразительную картину американской медиевистики первой половины нашего
столетия, представленной двумя именами - Чарльза Хомера Хаскинса и его
ученика и преемника в Принстоне Джозефа Риза Стрейера. Их интерес к
истории правовых и государственных учреждений Кантор прямо связывает с
социально-политической ситуацией в США во время президентства Вудро
Вильсона и с последующим развитием вплоть до 60-х годов. Этих медиевистов,
сочетавших в себе исследователя и профессора университета с администратором
и политическим деятелем, средневековое государство интересовало как
предшественник государства нового времени. Точно так же как последнее, и в
особенности это касается США, привлекало к себе на службу интеллектуалов -
юристов и ученых, европейские монархии Х1-ХШ вв. опирались в своей политике
рационализации и обмирщения общества на образованных клириков, бюрократов
и судей. По убеждению Кантора, идея Хаскинса о конструктивной роли герцогов
Нормандии, выразившейся в создании нового типа государственности со
значительными элементами централизации в Сицилии и в Англии после
Нормандского завоевания, есть не что иное, как проекция "теории границы"
Фредерика Тернера о цивилизаторской миссии, выполненной экспансией США на
западе Американского континента.
Оставим на совести автора настойчивое подчеркивание непосредственной
связи далекой старины с современностью; может быть, именно так в данном
случае и было, хотя мне представляется, что в принципе, если мы говорим о
серьезных ученых, их идейные ценности и политические тенденции их
собственных времени и среды едва ли с такой прямотой "подминают" под себя их
исследования истории. Меня удивляет другое - легкость, с какой Кантор отма¬
хивается от сочинения К.Х. Хаскинса "Ренессанс XII столетия"5. Утверждение,
будто этот труд ныне вообще никто не читает, ибо он безнадежно устарел,
весьма спорно, и мне трудно представить, чтобы с ним солидаризировались,
например, американские коллеги Кантора Роберт Бенсон и Джайлс Констэбл,
под чьей редакцией был опубликован большой том об интерпретации идеи
Томизм - основанное Фомой Аквинским направление католической философии, соединившее
христианские догмы с методом Аристотеля.
** Номинализм - направление в средневековой схоластической философии, возникшее в XI—XII вв.
5 Haskins С.Н. The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge (Mass.), 1927.
62
"возрождения" и "обновления" в XII в.6 Можно не согласиться с концепцией
Хаскинса, но приходится признать, что выкованное им понятие "Ренессанс
XII столетия" принято частью современных медиевистов.
Разделы книги, с содержанием которых в той или иной мере можно согла¬
ситься, - это главы, посвященные медиевистам, специализировавшимся на изу¬
чении политической, правовой и интеллектуальной истории средневековья. При
всей оригинальности их интерпретаций, надо заметить, что эти выдающиеся
специалисты работали в русле традиционной историографии. Их подход к
истории средних веков - по преимуществу элитарный, и Кантор, судя по всему,
его разделяет. "Идеальным" историком, по его мнению, является английский
исследователь Ричард Соузерн, вместе с учениками уделяющий особое внимание
средневековому "гуманизму".
Положение коренным образом меняется, как только Кантор обращается к
новаторским тенденциям исторической мысли, представители которых выра¬
ботали оригинальные принципы исследования, обратились к нетрадиционной
проблематике и подняли мало- или вовсе не исследованные пласты исторических
источников.
Наибольшее недоумение вызывает глава под названием "Французские евреи:
Луи Альфан и Марк Блок", где Кантор "разделывается" с французской
медиевистикой. Что же общего находит он между Альфаном, автором в свое
время известной книги о Карле Великом, и Блоком, идеи которого легли в основу
и по сей день воплощаются в деятельности наиболее влиятельной в современной
мировой историографии школы "Анналов"? Очевидно, только одно оба исто¬
рика были еврейского происхождения и, принадлежа к одному поколению,
лишились возможности продолжать свою профессорскую деятельность в годы
немецкой оккупации Франции. Но дальше их судьбы расходятся: Альфану
удалось укрыться в провинции, а Блок, как известно, ушел в движение
Сопротивления и, выданный нацистам, был ими расстрелян в июне 1944 г.
В послевоенный период его имя стало символом исторической науки нового типа,
и это вызывает у Кантора нескрываемое раздражение.
Но проблема не сводится к личным судьбам историков, сколь они ни
драматичны. И я возвращаюсь к вопросу: что же по существу объединяет
Альфана с Блоком? Если бы Кантор сопоставил их труды по теоретическим
проблемам исторического знания - "Введение в историю"7 Альфана и
"Апологию истории или ремесло историка"8 Блока, он мог бы легко убедиться в
том, что в этих одновременно написанных книгах представлены два совершенно
разных этапа развития исторической мысли с двумя противоположными
методологиями. Книга Альфана остается на уровне идей Ш. Ланглуа и
Ш. Сеньобоса, в теоретических рассуждениях которых зафиксированы прин¬
ципиальные позиции позитивизма рубежа XIX и XX вв.: историк всецело зависит
от "текстов", не в состоянии и не смеет от них отойти, и его задача состоит в
"спасении" исторических фактов от забвения. Незавершенная Блоком "Апология
истории" намечает программу новой школы исторического познания, всецело
ориентирующей исследователя на активность по отношению к "текстам",
которые он в силу постановки актуальных научных проблем преобразует в
источники получения нового знания о прошлом.
Кантор не видит новой эпистемологии Блока и школы "Анналов", и она его не
интересует. Не интересует прежде всего, по-видимому, потому, что, на его
взгляд, проникнута марксизмом. Этого соображения, весьма спорного и до
6 Renaissance and Renewal in the Twelfth Century. Cambridge (Mass.), 1982.
7 Halphen L. Introduction й 1'Histoire. Paris, 1946.
8 Блок M. Апология истории или ремесло историка, 2-е изд. М., 1986.
63
искажений упрощающего подлинные, весьма противоречивые и менявшиеся
отношения французских историков-"анналистов” с теорией Маркса, Кантору
достаточно для того, чтобы, по существу, отвергнуть все это направление, не
вдаваясь в анализ как его руководящих принципов, так и полученных иссле¬
довательских результатов. Но пройти мимо реального вклада школы "Анналов”
в познание средневековья значит, по моему убеждению, пройти мимо самого
ценного и перспективного в медиевистике нашего столетия!
Мало этого, Кантор пускается в серию домыслов и рассуждений во всех
отношениях сомнительного свойства. Они сводятся к тому, что героическая
гибель Марка Блока - участника и мученика Сопротивления, была использована
французскими историками, начиная с его друга и во многом единомышленника
Люсьена Февра и включая Фернана Броделя, для захвата ключевых позиций в
университета^, научных центрах и издательствах с целью утверждения
монополии своего научного направления. Идея о том, что школа ’’Анналов"
представляет собой прежде всего "группу захвата" или научную "церковь" с
собственной иерархией, не нова, ее можно найти и у французского автора
А. Куто-Бегари. Он, как и Кантор, интересовался не столько научным вкладом
историков направления, у истоков которого стояли Блок и Февр, сколько
"социологией" этого мощного движения современной историографии, давно уже
нашедшего своих приверженцев и последователей далеко за пределами Франции.
Однако Кантор делает новый шаг в "критике" "анналистов". Их идеи, оказы¬
вается, продиктованы стремлением парижских профессоров к заигрыванию с
"крайними левыми", завсегдатаями кафе на левом берегу Сены.
Но и это еще не все. Кантор повторяет кем-то пущенные Инсинуации о том,
что "Школа высших исследований в области социальных наук" (первоначально
так называемая "Шестая секция") возникла в результате финансовой поддержки
ЦРУ и служила орудием идеологической инфильтрации американских секретных
служб в Западную Европу... Между тем известно, что финансировал "школу"
Фонд Рокфеллера, не имеющий Касательства к ЦРУ. Прочитав эти измыш¬
ления, я не мог не вспомнить клеветнические нападки на "анналистов" в
официальной советской историографии недавнего прошлого... Как видим,
распространяемые Кантором сплетни - отнюдь не невинная болтовня, это-
целенаправленная и продуманная клевета.
Возвращаясь к потугам автора рецензируемого труда снизить значение Блока
для развития современной медиевистики, надо отметить тот факт, что Кантор не
в состоянии должным образом оценить главную монографию Блока "Феодальное
общество"9 и, в частности, ее синтетический характер. Я имею в виду стрем¬
ление Блока рассматривать средневековое общество как сложную целостность и
обнаруживать взаимодействие социальных и экономических ее аспектов с
культурой и ментальностью. Проблема синтеза в истории, над которой бьется
мысль исследователей этого направления историографии, осталась за пределами
понимания критика.
Зато, стремясь развенчать "культ святого мученика Марка", эксплуати¬
руемый, по его утверждению, французскими историками, Кантор не останав¬
ливается перед тем, чтобы бросить тень на личность Блока. Из воспоминаний
сыновей Блока известно, что он был с ними строг и соблюдал определенную
дистанцию. Но Кантор измышляет на этом основании образ отца-тирана. Между
тем известно не только о любви детей Блока к отцу, но и о том, что он о них
заботился и был к ним по-своему глубоко привязан. Если Кантор раскрывал
"Апологию истории", то он не мог не прочитать первые ее фразы: ""Папа,
объясни мне, зачем нужна история?". Так однажды спросил у отца-историка
9 Bloch М. La socićtć fćodale, t. I-II. Paris, 1939-1940.
64
мальчик, весьма мне близкий. Я был бы рад сказать, что эта книга - мой
ответ"10. Этот мальчик - один из сыновей Марка Блока, и не всякий историк,
принимающийся писать книгу о собственном понимании предмета, изучению
которого посвятил свои интеллектуальные усилия, адресует ее собственному
ребенку. Такова первая мысль, которая пришла Блоку в голову, когда он в
наиболее тяжелый период своей жизни - после поражения Франции в 1940 г. и
утраты возможности продолжать исследовательскую и профессорскую деятель¬
ность, принялся за написание своего научного завещания. Таковы факты, и
непонятно, зачем Кантору понадобились все эти инсинуации.
Кантор говорит о чрезмерном возвеличивании Блока в послевоенной Франции.
Но вот что писал мне несколько лет назад Этьен Блок, сын Марка Блока
(другое его свидетельство об отце односторонне интерпретирует Кантор): Марк
Блок как историк не был должным образом оценен у себя на родине, и, по его
мнению, это объясняется рядом причин, среди них - его участие в Сопро¬
тивлении, о чем не очень-то хотелось вспоминать тем интеллектуалам и по¬
литическим деятелям, которые "отсиживались" в период гитлеровской оккупации
их родины или даже запятнали себя коллаборационизмом.
Прав Этьен Блок или же в нем говорит обида сыновнего пристрастия, не мне
судить. Но ведь факт, что первая научная биография Марка Блока была
опубликована лишь в 1989 г. и не во Франции, а в США11 и что анализ его вкла¬
да в науку, как и Февра, был предпринят итальянцем Массимо Мастрогрегори12,
который, помимо этого, изучив рукопись "Апологии истории", показал, что при
ее публикации Февром была допущена небрежность. Да будет позволено мне к
этому добавить: насколько я знаю, единственное издание этого сочинения
Блока, в комментариях к которому отмечены фактические ошибки и неточности,
вызванные тем, что автор был вынужден работать над текстом "Апологии
истории", не пользуясь библиотеками (его собственную библиотеку разграбили
оккупанты), выпущено на русском языке; по-французски же книга неоднократно
публиковалась без каких-либо примечаний.
Все это плохо согласуется с утверждением Кантора о послевоенном "культе
Блока", "икона" которого якобы была использована французскими историками
для достижения собственных стратегических целей. Когда в 1986 г. в Париже
была проведена международная конференция, посвященная столетию Блока, то
на нее были представлены научные доклады, а вовсе не "жития святого
Марка"13.
И последнее - о еврейской национальности Марка Блока. Сам он осознавал
себя французом, евреем же ощущал себя, по его собственным словам, только в
одном случае - "перед лицом антисемита"14. Кантор пишет, что Блок имел
возможность эмигрировать в США во время войны, но отклонил полученное
приглашение. Теперь мы знаем от Люсьена Февра, что этот отказ переселиться
за океан был продиктован прежде всего его нежеланием покинуть свою родину в
годину выпавших для нее тяжких испытаний. Ложно не только название главы
книги Кантора о французской медиевистике, ложно и недостойно ее содержание.
Столь же недостойно высказывается Кантор и о Люсьене Февре. Этот
крупнейший историк в книге лишь бегло упоминается в связи с тем, что его перу
принадлежат первоклассные произведения, но Кантор не задумывается над
10 Блок М. Апология истории, с. 6.
11 Fink С. Marc Bloch: Life in Hi nory. Cambridge, 1989.
12 Mastrogregori M. Il genio dello norico. Le considerazioni sulla storia di Marc Bloch e Lucien Febvre e
la tradizione metodologica francese. Roma, 1987.
13 Marc Bloch aujourd'hui. Histoire comparće and Sciences sociales. Paris, 1990.
™ Bloch M. L'ćtrange dćfaite. Paris, 1957, p. 23.
3 Новая и новейшая история, № 6 55
значением Февра для нашей профессии. Вместо этого он пускается в домыслы об
отношении Февра к Блоку. Дружба обоих классиков французской историографии
не всегда была безоблачна, и создатели "Анналов" многое в истории видели по-
разному, но их объединяли многолетнее и плодотворное сотрудничество и - это
главное! - разработка новой концепции истории - "науки о человеке", их
совместная борьба против позитивизма в истории. Между тем Кантор позволяет
себе оскорбительное утверждение, будто "Блок был для Февра важнее мертвый,
нежели живой" (с. 134).
Представители теперешнего поколения французской исторической школы
опять-таки нашли немного места в книге Кантора. Он явно не желает вдуматься
в смысл трудов Дюби, Леруа Ладюри, Ле Гоффа и понять, какое значение их
исследования имеют для становления нового течения исторической мысли -
исторической антропологии.
Имя Филиппа Арьеса, одного из наиболее интересных и оригинальных
историков, пионерские работы которого о ребенке и детстве при Старом порядке
и о восприятии смерти в цивилизации средневековья и нового времени оказали
огромное воздействие на современную историческую науку, вызвав оживленные
дискуссии и породив множество продолжателей, равно как и критиков, - это имя
вообще не встречается в книге Кантора... 1
Завершая главу о французской историографии, Кантор вынужден признать
огромное влияние наследия Марка Блока. Но он тотчас же прибегает к приему,
который, с его точки зрения, должен перечеркнуть или снизить эту оценку:
значение этого наследия умаляется в самой Франции 80-х годов, но возрастает в
"либерализующемся советском мире" и, к плохо скрываемому огорчению
Кантора, - в США (с. 159). Бегло упомянув о влиянии "Анналов" на историков,
группирующихся вокруг английского журнала "Паст энд презент", значение
которого в панораме современной исторической науки трудно переоценить,
Кантор обходит его полным молчанием.
Как уже было сказано, в современной английской историографии он превыше
всего ценит Ричарда Саузерна, "Сотворение средневековья"15, труды которого
он превозносит как непревзойденный шедевр и откровение для молодого
поколения историков. Единственное пятно на этом солнце: Саузерн в силу
особенностей своего характера не создал в Оксфорде института медиевистики.
В противном случае существовал бы противовес французской школе, по мнению
Кантора и к его неудовольствию, господствующей ныне в Европе и в Америке
благодаря материальным ресурсам и организации. Эти ученики Марка Блока,
разумеется, создали кое-что хорошее, - но ведь и крепко навредили! (с. 351).
Односторонность и тенденциозность историографических очерков Кантора -
очевидны.
Не скрою, книга Кантора и в особенности примененный им метод давать
очерки об отдельных медиевистах заинтересовали меня прежде всего потому,
что сам я недавно завершил работу над монографией отчасти аналогичного
свойства. Обдумывая, как написать книгу о проблеме исторического синтеза в
интерпретации историков школы "Анналов", я тоже избрал индивидуали¬
зирующий подход к творчеству Февра, Блока, Броделя и ныне работающих
"анналистов", поскольку суммарное рассмотрение всего этого движения
неизбежно привело бы к недооценке личного вклада отдельных его пред¬
ставителей. Факты их биографий принимаются во внимание, тем более что
многие из них - Бродель, Арьес, Дюби, Леруа, Ладюри, Ле Гофф - нашли
нужным оставить о себе свидетельства личного порядка. Но, признаться, мне не
пришла в голову мысль превратить исследование центральной проблемы
15 Southern R.W. The Making of the Middle Ages. London, 1959.
66
исторического познания - идеи синтеза - в ее преломлении в творчестве
французских историков в собрание анекдотов из их жизни... Кантор винит меня в
том, что я признаю влияние творчества Жака Ле Гоффа на меня как историка
(с. 159). Не вижу причин скрывать это и могу лишь пополнить перечень ученых,
мысль которых оказала на меня воздействие, еще несколькими именами:
Мэйтленд, Блок, Февр, Бахтин... Я назвал их, собственно, лишь для того, чтобы
показать: автор этой работы и Кантор вдохновлялись в своем профессиональном
развитии образцами, мягко говоря, несхожими.
Может показаться, что историографические склонности и неприятие рас¬
пределяются Кантором довольно причудливо. Но это не так. Он мыслит тра¬
диционно и консервативно, и течения, которые выразили новые тенденции
исторического знания и выработали наиболее интересные и оригинальные подхо¬
ды к средневековью, открывающие неизведанные в медиевистике перспективы,
ему глубоко чужды. Равным образом далек он и от проблем эпистемологии исто¬
рического познания, без которых немыслим серьезный разговор о современной
исторической науке.
В самом деле, как понимать название книги? Создается впечатление, что
"изобретая" средневековье, историки, о которых пишет Кантор, были движимы в
первую очередь личными склонностями, работали, находясь во власти соб¬
ственных психологических импульсов и применяясь к внешним обстоятельствам,
но не руководствовались некоей научной методологией. Открывали они сред¬
невековье, опираясь на ту или иную систему исследовательской эпистемологии,
или же "выдумывали" его, как хочется? Что может узнать читатель книги о
гносеологических принципах, эксплицированных этими учеными или имплицитно
заложенных в их исследованиях? Честно говоря, немного, а в большинстве
случаев и вовсе ничего.
В завершающей главе книги Кантор касается творчества Хейзинги, Хелен
Кем, Постана - историков, которые, по его мнению, занимали критические
позиции в отношении средневековья, тогда как главные персонажи его труда
были его апологетами. Допустим (я вовсе не убежден в справедливости этого
утверждения, просто нет желания спорить), но разве здесь проходит основное
деление в современной медиевистике?! Разумеется, ностальгия по "миру, нами
утраченному", смешанная с моральной критикой современности, равно как и
апология государственных и правовых институтов, и попытки проследить
генетические связи между интеллектуалами далекого прошлого и наших дней и
многое другое, противоречащее принципу историзма, встречаются в историогра¬
фии, образуя идеологический и эмоциональный фон, на котором изображают
средневековье. Цо не это главное.
Кантор пускается в обсуждение вопроса о том, какие из историков XX в.
останутся существенными для следующего столетия. Но ведь предпосылка для
таких прогнозов, если таковые вообще возможны, состоит в тщательном анализе
ведущих тенденций современной науки. Они, на мой взгляд, довольно очевидны,
но, боюсь, не для Кантора. Его книга ясных ориентиров не содержит. Она
интересна для знакомства с некоторыми настроениями в среде американских
историков, не более.
Поистине, нужно было очень "постараться" для того, чтобы полностью обойти
такие направления исследовательской мысли, как историю ментальностей и
картин мира, как тенденцию изучать историю не только "извне" - с точки зрения
современного историка, но и "изнутри" - в восприятии участников исторического
процесса, как историю повседневной жизни или демографическую историю...
Кантор остается на позициях традиционной медиевистики, представители
которой - главные персонажи его книги - продолжают концентрировать свое
внимание на элите - интеллектуалах, религиозных и государственных деятелях
3*
67
средних веков. Занятие, бесспорно, вполне почтенное, но оставляющее вне поля
зрения огромные массивы исторической реальности. Речь идет вовсе не о ложно
понятом демократизме, как полагают иные противники изучения истории такого
феномена, как ’’народная культура" - понятие плохо определенное, но не
перестающее из-за этого обозначать историческую реальность, которая требует
исследования, - а о переосмыслении предмета как социальной истории, так и
истории культуры, точнее, об их взаимном сближении.
Нужно страдать сильнейшей близорукостью, чтобы не заметить этой тен¬
денции, и завидной смелостью, чтобы, тем не менее, рассуждать о современной
историографии... Впрочем, почему о современной? Великий период "изобретенья
средневековья" медиевистами XX столетия, по Кантору,- 1895-1965 гг.
Последняя треть века, с его точки зрения, видимо, не ознаменовалась чем бы то
ни было примечательным. И это утверждение в высшей степени показательно!
Ведь как раз за минувшие 25 лет и заявили о себе в полный голос и утвердились
те новые тенденции и направления, которые были только что упомянуты. Вот
суждение другого американского историка о современной историографии. Лоренс
Стоун писал в середине 80-х годов: "Минувшие 25 лет будут считаться своего
рода героическим периодом в развитии исторического понимания, зажатым
между двумя периодами умиротворенного усвоения добытых знаний"16. Я ни¬
сколько не сомневаюсь в глубокой правоте Стоуна, который в свое время
активно поработал над углублением нового понимания истории, оказавшегося
Кантору совершещю чуждым.
Один из эпиграфов к книге Кантора - знаменитая формула Бернарда Шартр¬
ского, философа-схоласта XII в.: "Подобно карликам, стоящим на плечах ве¬
ликанов, мы видим дальше, нежели они". Боюсь, что эти слова в данном случае
приходится принимать иронически, ибо содержание книги не свидетельствует о
том, что ее автор видит дальше или лучше по сравнению с теми действительно
большими мастерами, которых он отобрал в герои своего сочинения.
16 Stone L. The Past and the Present Revisited. London, 1981, p. XI.
68
© 1993 г.
В.К. ШАЦИЛЛО
ПРЕЗИДЕНТ ВИЛЬСОН:
ОТ ПОСРЕДНИЧЕСТВА К ВОЙНЕ. 1914-1917 гг.
Две опустошительные мировые войны пронеслись в XX в. по Европе. Десятки
миллионов убитых, сотни миллионов покалеченных, еще больше лишенных
крова были их результатом. Огромными оказались и политические последствия
этих войн: рушились империи, создавались новые государства, то одну, то дру¬
гую страну потрясали социальные революции.
В 1994 г. исполнится 80 лет с начала первой мировой войны. Небезынтересно
поэтому обратиться к некоторым аспектам ее истории, тем более что воз¬
можности введения в научный оборот ранее не использовавшихся отечествен¬
ными историками документальных материалов сейчас значительно расширяются.
Первая мировая война была по своему происхождению не "американской". К
1914 г. США находились на периферии большой европейской политики, не имели
серьезного влияния на страны Старого Света и обладали ограниченными воен¬
ными возможностями. Война на первых порах не затрагивала жизненных инте¬
ресов США, пацифистские и изоляционистские настроения среди американцев в
те годы были необычайно сильны; и это все, вместе взятое, исключало воз¬
можность непосредственного вовлечения Америки в войну на ее первом этапе.
Вместе с тем к началу нынешнего столетия США были связаны тесными
экономическими, политическими, культурными узами с великими европейскими
державами, а потому исход мировой схватки был для них небезразличен. По¬
литика США на первом этапе войны сводилась к тому, чтобы в новых условиях
как можно сильнее укрепить промышленный потенциал, извлечь максимум эко¬
номической выгоды и выйти на ведущие роли в мировой политике.
Явное желание США привести их политическое влияние в соответствие'со
статусом экономического гиганта прослеживается на взаимоотношениях с одной
из главных противоборствующих держав европейского континента - Германией.
С начала войны в августе 1914 и по апрель 1917 г., когда германский флот
развернул так называемую подводную войну, эти отношения определялись
стремлением США стать посредником в европейском вооруженном конфликте.
Американо-германские отношения тогда в связи с активно проводившейся
американским президентом Вудро Вильсоном политикой посредничества между
воюющими сторонами - тема, в отечественной историографии обстоятельно не
изученная, что связано в первую очередь со слабым освоением материалов
крупнейших зарубежных архивов1. Недостаточно полно исследована эта проб¬
лема и зарубежными историками.
В этой статье мы попытались осветить эволюцию американо-германских
отношений в 1914-1917 гг., т.е. до вступления США в войну. При этом мы
опирались на документы Федерального архива в Кобленце и Политического
^м.: "Нейтралитет" США в годы первой мировой войны. М., 1962; История дипломатии, 2-е
изд., т. 2-3. М., 1967-1968; Лан В.И. США: от первой до второй мировой войны. М., 1976; Гершов
З.М. Вудро Вильсон. М., 1983; История США, т. 2. М., 1985; Уткин А.И. Дипломатия Вудро
Вильсона. М., 1989.
69
архива внешнеэкономического ведомства в Бонне, немецкую дипломатическую и
ведомственную переписку, материалы рейхсканцелярии и т.д. Эти источники в
основном впервые вводятся в научный оборот.
США В РОЛИ "ЧЕСТНОГО МАКЛЕРА"
4 августа 1914 г., когда стало очевидным, что в Европе вспыхнул пожар
невиданной доселе войны, президент США Вильсон выступил в конгрессе с
провозглашением первой из 10 прокламаций о нейтралитете страны. Еще через
две недели он конкретизировал свое заявление, подчеркнув, что США должны
быть "нейтральными на словах и на деле", "беспристрастными в мыслях, так же
как и в поступках, избегать поведения, которое может быть истолковано как
поддержка одной стороны в ее борьбе против другой"2.
Такая политика президента встретила понимание и поддержку в Берлине, ибо
проанглийские настроения, превалировавшие как в самом Белом доме, так и
среди простых американцев, ни для кого не были секретом. Удержание США на
позициях беспристрастного нейтралитета стало с 1914 г. одной из главных задач
внешнеполитического ведомства Германии.
Германские официальные власти в ответном заявлении с удовлетворением
подчеркнули, что приветствуют американский нейтралитет и, более того, в знак
полного доверия к США попросили представлять интересы Германии в столицах
главных враждебных ей держав - Лондоне, Париже и Петрограде. Надо
отметить, что американские дипломаты честно исполняли возложенную на них
миссию, защищая в первую очередь интересы германских солдат и офицеров3,
попавших в плен и содержавшихся в лагерях для военнопленных в странах
Антанты.
Впрочем, и немецкая сторона охотно выполняла все просьбы американского
посольства в Берлине, связанные с судьбой и имуществом застрявших в Европе
американских граждан4.
Драматическое развитие событий в Старом Свете требовало от Вильсона
серьезного их осмысления с целью выработки соответствующей внешнеполити¬
ческой линии. После длительных раздумий, совещаний с политиками и военными
президент пришел к выводу, что в данный момент ни решительная победа Гер¬
мании, ни победа держав Антанты не соответствуют американским интересам. В
первом случае Берлин установит гегемонию во всей Европе, а американцы
получат реального и очень сильного соперника в борьбе за влияние в странах
Центральной и Южной Америки - сфере стратегических интересов США. При
втором варианте, по мнению Вильсона, в выигрыше окажется Франция, союз с
которой никогда не входил в планы Вашингтона, и, кроме того, станет вероят¬
ным установление господства России над огромным евразийским пространством.
В результате консультаций была определена линия, при которой американскому
правительству рекомендовалось, сохраняя нейтралитет, открыто не поддер¬
живать ни одну из воюющих сторон и вместе с тем использовать любые возмож¬
ности для усиления экономической и военно-политической мощи Америки5.
Из этого стремления использовать противоречия между крупнейшими евро¬
пейскими державами для укрепления экономических и геополитических позиций
США и вытекало желание Вашингтона сыграть роль "честного маклера" в
мировом конфликте.
2Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. 1914, Supplement, p. 552.
3Bundesarchiv, Koblenz, Auswartite Amt (далее - BA), R. 85/381, S. 7, 85; R. 85/412, S. 9, 293;
R. 85/481, S. 39, 78, 105, 198, 156, 176; R. 85/412, S. 13, 40, 46.
4Ibid, R. 85/218, S. 90, 105.
Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989, с. 44-45.
70
Впервые Вильсон предложил себя на роль миротворца 4 августа 1914 г., еще
до вступления в войну Англии, когда в уже упомянутом заявлении на основании
соответствующих положений Гаагской конвенции вызвался посредничать между
воюющими державами. Тогда Германия оставила это предложение без вни¬
мания.
Однако 6 сентября домой к государственному секретарю США У.Д. Брайану
внезапно приехал бывший американский посол в Турции О. Страус и заявил, что
днем раньше в частной беседе с ним на одном из приемов германский посол в
Вашингтоне граф И.Г. фон Берншторф посоветовал президенту активизировать
посредническую деятельность, недвумысленно намекнув, что император Виль¬
гельм, в случае согласия Антанты, пойдет на переговоры. Брайан немедленно
дал указание послу США в Германии Дж. Джерарду выяснить подробности в
германском внешнеполитическом ведомстве6.
Остается неясным, от какой стороны в действительности исходила ини¬
циатива. В своей телеграмме в Берлин от 7 сентября Берншторф указывал, что
зондировать почву первым начал Страус7. По сведениям же английского посла в
Вашингтоне С. Спринг-Райса, инициатором выступил Берншторф8. Как бы то ни
было, маловероятно, чтобы через месяц после начала войны какая-либо из
сторон могла серьезно рассматривать вопрос о мирных переговорах при посред¬
ничестве США. Рейхсканцлер Т. фон Бетман-Гольвег, в частности, сообщил 12
сентября германским дипломатам, что он считает неприемлемыми любые по¬
пытки посредничества, однако готов рассмотреть возможные предложения на сей
счет со стороны противников9. Он же через несколько дней официально заявил
послу Джерарду: "Если мы сейчас примем предложение Америки о посред¬
ничестве, это будет воспринято нашими врагами как признак слабости и совсем
не понято нашим народом"10. "Инициатива" Берншторфа преследовала лишь
чисто пропагандистскую цель - показным миролюбием склонить в пользу Гер¬
мании американское общественное мнение.
Несмотря на то, что Вашингтону не удалось получить утешительных из¬
вестий и из стран Антанты, доверенное лицо и близкий друг президента Вильсо¬
на полковник Э. Хауз развил с согласия президента бурную дипломатическую
деятельность. Его основным партнером и оппонентом стал в эти годы канцлер
Германии. Назначение в 1909 г. вместо Бюлова на эту должность Теобальда
фон Бетман-Гольвега было крайне неудачным выбором со стороны Вильгель¬
ма П. В столь ответственное для судьбы Германии время на посту председателя
правительства требовался умный и дальновидный дипломат, имеющий свое
мнение, способный прогнозировать развитие политической ситуации. Бетман же
был весьма посредственным бюрократом, отличительными чертами которого
являлись педантизм и отсутствие гибкости. Усердный и разбиравшийся в своем
деле чиновник, новый канцлер был напрочь лишен политического чутья и прояв¬
лял в критические моменты крайнюю нерешительность. Все это негативно
сказалось на внешней политике Германии в предвоенный и военный периоды.
Полковник Хауз, выходец из Техаса, являлся очень влиятельной фигурой й
администрации Вильсона, выполняя роль советника президента по вопросам
национальной безопасности, но при этом не занимал официально никаких постов.
Хауз был одним из немногих людей, которым президент безгранично доверял и
bJonasM. The United States and'^ermany. A Diplomatic History. Ithaca - London, 1984, p. 99-100.
7Politisches Archiv des Auswartigen Amts, Bonn, Weltkrieg 2. Geheime Vermittlungsaktionen (далее -
PAAA WK), R. 20355. Берншторф - в Берлин, 7.IX.1914.
8The Letters and Friedships of Sir Cecil Spring Rice, v. 2. London, 1929, p. 222.
9PAAA WK, R. 20355. Бетман-Гольвег - в ведомство иностранных дел, 2.IX.1914.
10Foreign Relations, 1914, Supplement, p. 104.
71
поручал самые ответственные задания, у кого Вильсон, не стесняясь, спрашивал
совета и с кем делился самыми сокровенными внешнеполитическими замыслами.
Несмотря на то, что в США и тогда действовал государственный секретарь, на
деле все решения принимались Вильсоном и Хаузом вдвоем, в беседах с глазу на
глаз.
5 сентября 1914 г., опасаясь быстрой победы Германии над Францией, Хауз
направил телеграмму заместителю немецкого канцлера А. Циммерману. Полков¬
ник осведомлялся о готовности немцев к мирным переговорам и предложил им
"быть полезным как посредник... и немедленно начать действовать”11. Одновре¬
менно Хауз возобновил знакомство с послом Австро-Венгрии в США князем
Думбой.
18 сентября Хауз пригласил к себе Берншторфа и предложил ему встретиться
на обеде со Спринг-Райсом. В качестве своеобразной награды полковник пообе¬
щал добиться у правительства США разрешения послу на пользование спе¬
циальным шифром для связи с Берлином12. 20 сентября состоялась еще одна
встреча Берншторфа с Хаузом, на которой последний вновь настаивал на
необходимости прямых контактов между двумя послами. Однако все карты
Хаузу спутал Спринг-Райс, категорически отказавшийся от конфиденциальной
встречи и заявивший, что Берншторф некомпетентен и не имеет поддержки в
Берлине и вообще время для мирных переговоров еще не настало. Казалось,
дело зашло в тупик, тем не менее Берншторф слал в Берлин полные оптимизма
телеграммы о том, что "Хауз отнюдь не обескуражен и работает дальше"13. И
все же к концу сентября полковник свернул свою миротворческую деятельность,
видимо, резонно полагая, что в условиях не определившейся окончательно
военной ситуации какие-либо переговоры между воюющими державами изна¬
чально лишены смысла.
Положение на фронтах прояснилось к середине ноября 1914 г. Несмотря на
то, что блицкриг явно провалился и немцы потерпели поражение на Марне, их
войска удерживали Бельгию, часть Франции и Польши, а Россия сумела лишь
оттеснить Австро-Венгрию из некоторых районов Галиции. Немецкое командо¬
вание почувствовало реальную перспективу затяжной войны, шансы выиграть
которую у Германии были минимальны. Это заставило Берлин, с одной стороны,
искать пути к достижению сепаратного мира на востоке с Россией, а с другой -
поощрять своего посла в Вашингтоне на переговоры о мирном урегулировании с
США. Позицию Берлина о целесообразности таких переговоров разделял и
император Австро-Венгрии Франц-Иосиф П14.
В контексте этих изменений в германской внешней политике следует рас¬
сматривать письмо Циммермана Хаузу от 3 декабря: "Вы хорошо знаете, что мы
высоко ценим Вашу и президента попытку. Вы можете быть вполне уверены,
что предложение президента о посредничестве было понято именно в том духе, в
каком оно было задумано, и мы никогда его не считали бессодержательным". А
заканчивал так: "Война была навязана нам нашими врагами, они ведут ее,
сосредоточив в своем распоряжении все силы, включая японцев и другие
цветные расы. Поэтому мы не можем сделать первый шаг к заключению мира.
Положение могло быть иным, если бы такой шаг исходил от другой стороны"15.
17 декабря Хауза вновь посетил граф Берншторф. Разговор на сей раз пошел
НРААА WK, R. 20447. Хауз - Циммерману, 5.IX. 1914; Архив полковника Хауза, т. 1. М., 1937,
с. 111.
12Архив полковника Хауза, т. 1, с. 113-114.
13РААА WK, R. 20447. Берншторф - в ведомство иностранных дел, 28.IX.1914.
14Ibidem. Чирский - в ведомство иностранных дел, 28.XI.1914.
15Ibidem. Циммерман - Хаузу, 3.XII.1914; Архив полковника Хауза, т. 1, с. 123.
72
о целесообразности в ближайшее время посреднической миссии полковника в
Берлин. Берншторф же заявил Хаузу о том, что его правительство готово эва¬
куировать войска из Бельгии и выплатить ей компенсацию, приступив одно¬
временно к "решительному разоружению, могущему обеспечить постоянный
мир"16. Хауз остался удовлетворен беседой: ведь вопрос о нарушении Германией
бельгийского нейтралитета был крайне болезненным для США, а до сих пор
Берлин и слушать не хотел об уступка:: в вопросе восстановления бельгийской
независимости.
Остался доволен беседой и Берншторф. "Вильсон хочет, чтобы Хауз поехал к
Его Величеству в Англию для зондирования возможности начала мирных пе¬
реговоров. Исходя из своего прежнего опыта, Хауз хочет поехать только тогда,
когда он будет уверен, что глава Форин оффис сэр Э. Грей начнет говорить с
ним откровенно. До сих пор английское правительство отрицательно отвечало на
любое зондирование", - сообщал посол17. По его мнению, на Лондон будет
оказано сильное давление, чтобы склонить англичан к проведению мирной
конференции в Гааге.
К концу декабря дипломатическая активность Вашингтона принесла первый
положительный результат: 20 декабря 1914 г. английское министерство ино¬
странных дел согласилось на посредничество Вашингтона в мирных переговорах.
Признаки того, что война примет затяжной характер, боязнь социального взрыва
в Европе, вызванного этой кровавой бойней, стремление упрочить свои отно¬
шения с Вашингтоном, не раздражать его излишним упорством и выглядеть в
глазах нейтралов миролюбивой страной - все это сказалось на изменении
позиции Великобритании.
Такой ход событий чрезвычайно обрадовал Вильсона. Именно в это время в
немецкой прессе и общественном мнении страны резко усилились антиамери¬
канские настроения, связанные в первую очередь с проблемой снабжения аме¬
риканским военным снаряжением стран Антанты18. Об увеличивавшемся недо¬
вольстве политикой США со стороны императора Вильгельма и берлинской
верхушки сообщал также и посол Джерард 29 Декабря 1914 г.19 В этих условиях
Вильсону было крайне важно восстановить свое реноме "честного маклера", и
после благоприятных известий из Лондона он сразу же попросил Хауза отпра¬
виться в ближайшие дни с особой миссией в Европу.
12 января 1915 г. Хауз прибыл из Нью-Йорка в Вашингтон и вплоть до дня
отплытия в Европу, 30 января, вел интенсивные переговоры с президентом и
другими заинтересованными лицами. Судя по всему, Хаузу удалось убедить
Берншторфа если не в своей прогерманской позиции, то в абсолютном нейтра¬
литете. Еще 8 января 1915 г., сообщая о предполагавшихся переговорах Хауза с
Циммерманом, если первый "чего-нибудь достигнет в Англии", Берншторф
особенно подчеркивал, что Хаузу "абсолютно ясно, что первый шаг отныне дол¬
жен исходить от Англии"20.
14 января во время "интересной и полезной", по его словам, встречи с
Берншторфом Хауз рассказал графу о недавней беседе с послами союзников, их
скептицизме в отношении искренности стремления немцев к миру. Вместе с тем
Хауз намекнул и об изменениях в позиции Лондона. Сразу же после разговора с
полковником Берншторф телеграфировал в Берлин о том, что если раньше из-за
16Архив полковника Хауза, т. 1, с. 124.
17РААА WK, R. 20447. Бернпи >рФ - в ведомство иностранных дел, 21.XII. 1914.
1 ^Christof Н. Deutsch-amerikanisvhe Entfremdung. Studien zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen
von 1913 bis zum Mai 1916 (Dissertation). Wiirtzburg, 1975, S. 149.
19Архив полковника Хауза, т. 1, с. 127-128.
20РААА WK, R. 204481. Берншторф - в ведомство иностранных дел 8.1.1915.
73
позиции англичан "скорое заключение мира было исключено", то теперь "его
возможно достичь в любое время, если только Германия будет готова восста¬
новить независимость Королевства Бельгии"21.
Последняя встреча Берншторфа с Хаузом перед его поездкой в Европу
произошла 20 января. Несмотря на то, что она происходила в не очень-то теплой
атмосфере - американец в резких тонах выразил недовольство германскими
бомбардировками Англии и связанными с этим жертвами среди мирного на¬
селения, - Берншторф продолжал настойчиво сообщать в Берлин о "нейт¬
ральности" Хауза и целесообразности его миссии: "В своем тщеславии, что
касается поездки, он не идет дальше того, чтобы дать толчок (подчеркнуто
Берншторфом. - В.Ш.) двум лагерям для того, чтобы они вразумительно
поговорили друг с другом. Он не ставит никаких условий и не имеет в виду
конференцию. Дальше этого задание Вильсона не идет"22. То же самое герман¬
ский посол в Вашингтоне повторил в своем сообщении несколько лет спустя23.
Хотя и Хауз, и лично Вильсон в преддверии европейского турне неоднократно
публично выражали оптимизм, трудно сказать, рассчитывали ли они на успех
посреднической миссии. Ведь накануне отплытия Хауза президент получил
письмо от своего посла в Берлине Джерарда, в котором тот подчеркивал: "Я
полагаю, что в Америке не сознают, в какое возбуждение привели немцев
американские поставки амуниции союзникам. Подлинная кампания ненависти
поднята против Америки и американцев"24. И хотя Джерард несколько сгущал
краски, доля истины в его словах была.
Хауз отбыл в Европу 30 января 1915 г. и в Лондоне приступил к переговорам
с сэром Греем и другими британскими лидерами. Основным итогом этих
неформальных встреч стали дальнейшее сближение позиций США и Англии и
согласие Лондона на созыв в будущем мирной конференции под председа¬
тельством Вильсона.
Однако переговоры в Берлине обещали быть намного сложней, и Хауз это
хорошо понимал. В Лондоне он получил в начале февраля письмо от Цим¬
мермана - ответ на записку Хауза от 3 января, в которой тот сообщал о
стремлении Вильсона провести неофициальные мирные переговоры на условиях
восстановления независимости Бельгии25. Циммерман, официально приглашая
Хауза в Берлин, писал: "Ваше предложение об уплате компенсации Бельгии
кажется мне невыполнимым. Наша кампания в этой стране обошлась немецкому
народу в такое неисчислимое количество человеческих жизней, что всякий намек
на столь явную уступку желаниям наших противников был бы встречен нашим
народом исключительно негативно"26.
Письмо Циммермана настолько огорчило Хауза, что он сразу же написал
заместителю канцлера о невозможности своего выезда в Берлин до тех пор,
"пока не получит некоторых дополнительных сведений оттуда: "Все мои пе¬
реговоры с послами воюющих держав в Вашингтоне основывались на предпо¬
ложении, что Германия согласится эвакуироваться из Бельгии и выплатить ей
компенсацию, а также пожелает решить вопрос о постоянном мире"27, - отвечал
с досадой Хауз своему немецкому адресату.
"Дополнительные сведения" поступили из Берлина через две недели, все от
21Ibidem. Берншторф - в ведомство иностранных дел, 14.1.1915.
22Ibidem. Берншторф - в ведомство иностранных дел, 18.1.1915.
23Ibidem. Берншторф - в ведомство иностранных дел, 24.1.1915.
24Архив полковника Хауза, т. 1, с. 135.
25РААА WK, R. 20448. Хауз - Циммерману, 3.1.1915.
26Ibidem. Циммерман - Хаузу, 4.II.1915; Архив полковника Хауза, с. 147.
27РААА WK, R. 20449. Хауз - Циммерману, 17.11.1915.
74
того же Циммермана. "Мне, однако, кажется, что Вы исходили из мысли о более
или менее побежденной или почти исчерпавшей свои ресурсы Германии. Вряд ли
нужно доказывать, как далеко это от действительности. Хотя я могу заверить
вас, что Германия очень близко принимает к сердцу благосостояние Бельгии, она
все же не может забыть, какой страшной ценой пришлось заплатить ей за то
сопротивление, которое встретили там наши армии"28, - сообщал американскому
эмиссару Циммерман.
Казалось, посредническая миссия Хауза потеряла всякий смысл: ведь восста¬
новление независимости Бельгии и выплата ей компенсации Германией была
одним из двух основных требований США, от которых они не собирались
отказываться. Впрочем, неуступчивая позиция Германии не была столь неожи¬
данной для Хауза. В феврале 1915 г. немцы чувствовали себя более чем
уверенно на всех фронтах. "Вы только не ошибитесь - они выиграют войну на
суше и, вероятно, заключат сепаратный мир с Россией, а потом и с Францией
(если раздавят ее), высадят большую армию в Египте и, возможно, полностью
блокируют Англию", - сообщил из Берлина полковнику Джерард. И добавлял:
"Германия не будет платить компенсации Бельгии или кому бы то ни было"29.
Несмотря на неблагоприятные известия, И марта 1915 г. Вильсон отдал
приказ своему другу немедленно отправиться в Берлин через Париж. После
трехдневных интенсивных переговоров с ведущими политиками Франции амери¬
канец утром 20 марта прибыл в германскую столицу.
К этому времени шансы на мирное урегулирование между воюющими дер¬
жавами были равны нулю, и Хауз это понимал. После переговоров, которые
полковник провел в Париже, он мог спокойно возвращаться на родину: французы
и слышать не желали о "нейтрализации" Эльзаса и Лотарингии, которая была
предложена американцами в качестве уступки Германии.
Настроение американского эмиссара еще больше ухудшилось в Берлине. Из
начавшихся сразу же в день приезда переговоров с Циммерманом Хаузне только
еще раз утвердился в решимости Германии вести войну с Англией до победного
конца, но и был несказанно удивлен, когда узнал, что немцы ищут сепаратный
мир с Россией и Францией. А ведь вся схема американцев была основана на
стремлении помирить Англию с Германией, чтобы не допустить доминирования
царской России в мире и усиления на европейском континенте роли Франции. В
послевоенной Европе, где лидерами становились Россия и Франция, президент
Вильсон не видел достойного места для своей страны.
Переговоры в Берлине проходили сложно. "Мой визит в Берлин был исклю¬
чительно тяжел и неприятен во многих отношениях. Все, кого я ни встречал -
снизу доверху, - немедленно приставали ко мне с разговорами о наших поставках
амуниции союзникам, и временами тон их был оскорбительным.
На улицах надо было остерегаться говорить по-английски, чтобы не нарваться
на оскорбление"30, - писал Хауз Вильсону 11 апреля.
Во время визита в Германию посланец из Вашингтона встретился с канц¬
лером Бетман-Гольвегом, статс-секретарем внешнеполитического ведомства
Г. фон Яговом, Циммерманом, В. Ратенау й другими видными политическими
деятелями страны. Проблема мирных переговоров была отвергнута в Берлине с
порога, и лишь обсуждение вопроса о "свободе морей" вызвало интерес немецкой
стороны. "Полковник Хауз спросил меня во время нынешнего визита, может ли
рассчитывать Америка на то, что Германия после войны будет готова при¬
соединиться к новой конвенции по обеспечению свободы морей и торговли, и
28Ibidem. Циммерман - Хаузу, 2.III.1915.
29Архив полковника Хауза, т. 1, с. 151.
30Архив полковника Хауза, т. 1, с. 178.
75
поддержим ли мы здесь старания Америки. На этих пунктах основываются
интересы Соединенных Штатов и Германии"31, - сообщал Берншторфу о своих
переговорах с Хаузом фон Ягов.
Разочарованным; ничего не добившимся покидал столицу Германии Хауз. В
догонку ему Ягов послал телеграмму, в которой сообщалось, на каких условиях
Берлин готов сесть за стол переговоров. Они заключались в следующем:
передача Германии стратегически важных районов Бельгии - Намюра, Льежа и
долины Мааса, части Бельгийского Конго, уплата Францией солидной репарации.
Но самым тяжелым ударом по миротворческой деятельности США стало
потопление 7 мая 1915 г. германской подводной лодкой английского пассажир¬
ского лайнера "Лузитания" со 128 американцами на борту.
Это событие поставило точку на первой попытке Вашингтона выступить в
качестве посредника между воюющими державами. Однако и без инцидента с
"Лузитанией" идея американского посредничества в конце 1914 - начале 1915 г.
была мертворожденной. Ни Англия, ни Германия не желали компромиссов и
хотели вести войну до победного конца. Американская дипломатия просчиталась,
недооценив остроту англо-германских противоречий. В США полагали, что в
Лондоне готовы за спиной России и Франции пойти на сепаратный мир во имя
общих англосаксонских интересов. Английской дипломатии удалось убедить
Вашингтон в том, что британцы будут вести мирные переговоры со своим
смертельным противником при посредничестве США, а сэр Грей предстал перед
Хаузом в качестве чуть ли не пацифиста. В Лондоне приняли предложение
Вашингтона, заранее просчитав, что военная верхушка Германии в благо¬
приятных для нее условиях на фронте не согласится ни на какие уступки
Антанте. Такая позиция укрепила положение англичан за океаном, подтвердила
имидж Англии как миролюбивой державы и облегчила Белому дому поставки ей
военного снаряжения. Германия, растоптавшая независимость маленькой нейт¬
ральной Бельгии, никогда не переставала быть для американцев вероломным
агрессором, что также не только облегчало проведение политики Уайтхоллу, но
и подготовило почву для последующего вступления США в войну на стороне
Антанты.
Неуступчивость Германии, ее "подводная война", поставки США вооружения
и стратегического сырья Антанте и их нежелание противодействовать англий¬
ской блокаде центральноевропейских держав временно поставили крест на всех
попытках посредничества Белого дома в его стремлении сыграть ключевую роль
в мировой политике. В новых условиях американцы продолжали лелеять мечту о
роли мирового арбитра, рассчитывая применять теперь иные подходы.
ОТ "РАВНОДУШИЯ” К СБЛИЖЕНИЮ С ЛОНДОНОМ
После провала первой попытки мирного посредничества и кризиса, связанного
с потоплением "Лузитании", в американском внешнеполитическом ведомстве
произошел стратегический поворот. Он состоял в переходе от прежней позиции
равноудаления от обеих воюющих группировок к политике достижения пере¬
мирия за счет сближения с Англией и совместного с ней давления на Германию.
Свидетельством этого стало смещение пацифиста и сторонника строгого нейт¬
ралитета У. Брайана с поста государственного секретаря и замена его англо¬
филом Р. Лансингом. К лету 1915 г. в Вашингтоне решили: хотя война и приняла
затяжной характер, противостоявшая почти в одиночку всей остальной части
Старого Света Германия столь сильна, что для того, чтобы впоследствии сде¬
лать ее покладистым партнером на переговорах о мире, следует сначала
поколебать ее позиции. Вместе с тем и полный разгром Берлина был для Белого
31РААА WK, R. 20450. Ягов - Берншторфу, 23.III. 1915.
76
дома все еще нежелателен, ибо крайне запутывал и без того непростой расклад
сил на материке.
К лету 1915 г. у Вильсона созрело решение о необходимости создания такой
организации, которая регламентировала бы международное развитие и контро¬
лировала бы основные силы тогдашнего мира. Предусматривалось, что Вашинг¬
тон в этой организации будет играть роль своеобразного третейского судьи, от
которого зависит решение спорных вопросов.
Расчет Вильсона был предельно ясен: согласись центральноевропейские дер¬
жавы вследствие истощения их людских и сырьевых ресурсов на такое пред¬
ложение - и Вашингтон в одночасье становится мировым арбитром, а нет -
тогда он с чистой совестью переходит на сторону Антанты.
Новая "миротворческая” инициатива была представлена Хаузом воюющим
сторонам в начале октября 1915 г. Она касалась лишь трех вопросов: создания
всемирной организации, проблемы сокращения вооружения и принципа "свободы
морей”32. План был разработан в тесном сотрудничестве с англичанами и по¬
лучил их полную поддержку.
"Я считаю, что после совещания с Вашим правительством я должен отпра¬
виться в Берлин и заявить, что президент намерен приостановить эту раз¬
рушительную войну и что США станут на сторону тех, кто согласится на наше
предложение, - делился мыслями с министром иностранных дел Англии Греем
полковник Хауз в середине октября 1915 г. - Разумеется, я не дал бы знать
Берлину о каком-либо соглашении с союзниками и скорее заставил бы их
предполагать, что наши предложения будут отвергнуты союзниками. Это могло
бы заставить Берлин согласиться на наши предложения, а в случае отказа
послужило бы поводом к вмешательству. В случае, если бы Центральные
державы продолжали упорствовать, нам, вероятно, пришлось бы присоединиться
к союзникам и форсировать решение вопроса”33. Таким образом, к осени 1915 г.
от роли "честного маклера”, которую стремились активно играть США, не
рсталось и следа.
Трудно сказать, знали ли в Берлине об этой игре Вашингтона, но германского
посла Берншторфа Хауз обвел вокруг пальца. В те же дни, когда полковник
делился своими сокровенными мыслями с Греем, Берншторф отправил депешу
канцлеру Бетман-Гольвегу, в которой подробно излагал новый план Хауза,
сообщенный ему накануне. Настоятельно советуя принять Хауза как можно
теплее, Берншторф писал: "Полковник Хауз по крайней мере полностью нейт¬
рален, очень тактичен, достоен доверия и стоит в центре политических связей.
Он может внести большой вклад в улучшенйе взаимных отношений"34.
Со своей второй за годы войны посреднической миссией Хауз прибыл в Лондон
в начале января 1916 г. События на военных фронтах в это время претерпели
серьезные изменения и сказались на тактике Вашингтона. Вторая половина
1915 г. была ознаменована успехами немцев на Восточном фронте. Перспективы
Центрального блока на других фронтах выглядели также весьма обнадежи¬
вающими. В этих условиях ужесточение позиции Белого дома в отношении
Германии в связи с "подводной войной" и дальнейший явный дрейф в сторону
Антанты должны были обесценить в глазах немцев роль США как посред¬
нической державы.
Первым пунктом поездки Хауза вновь был Лондон, однако переговоры здесь
оказались непростыми. С одной стороны, англичане всячески стремились закре¬
Upommerin R. Der Kaiser und Amerika. Die USA in der Politik der Reichsleitung 1890-1917. Wien-
Kóln, 1986, S. 358-359.
33Архив полковника Хауза, т. 2, с. 71-72.
34РААА WK, R. 20460. Берншторф - Бетман-Гольвегу, 23.Х.1915.
77
пить дружеские Связи с таким мощным партнером, как США, а с другой - не
могли принять позицию Вашингтона о балансе сил в Европе и нежелательности
полного разгрома Берлина, опасаясь неконтролируемого усиления экономи¬
ческого и военно-политического влияния США. Кроме того, британцы были
накрепко повязаны многочисленными соглашениями со своими союзниками по
коалиции.
Между тем Вильсон настаивал, чтобы было оказано давление на англичан.
12 января он телеграфировал Хаузу, что все затруднения с Германией, видимо,
вскоре разрешатся, и в таком случае, особенно если будет настаивать сенат,
США окажутся вынужденными заставить Англию пойти, как минимум, на
аналогичные уступки35.
Хауз, покидая 20 января 1916 г. Лондон, уже понял, что вряд ли стоит ждать
американского дипломатического прорыва в Берлине.
К новой активизации посреднической деятельности Вильсона здесь давно были
готовы. Помимо регулярных депеш Берншторфа в здание германского внешне¬
политического ведомства, на Вильгельмштрассе поступали сообщения из других
столиц, шла утечка информации из дипломатических представительств США,
особенно в Турции. Так, еще в конце ноября 1915 г. посол Германии в Кон¬
стантинополе Меттерних сообщал в Берлин о своем разговоре с Энвер-пашой:
"Здешний американский посол Моргентау сказал Энверу, что Англия была бы
готова к мирным переговорам, если бы они не принесли ей особого ущерба и если
бы Англия не понесла очень тяжелых потерь. На маленькие государства, такие,
как Сербия, Бельгия, не будет обращаться особого внимания. Что же касается
Франции и России, то от них можно больше потребовать. Моргентау намекнул,
что он действует по согласованию с президентом Вильсоном"36.
Видимо, Моргентау и правда действовал по указанию Вильсона, все эти
предложения изначально были блефом и имели целью лишь убедить немцев в
искренности Белого дома и его "нейтральности". Но обмануть Берлин не уда¬
лось. Комментируя это сообщение, Циммерман отметил: "Желание президента
Вильсона стать мирным посредником известно. Его исполнение, вероятно,
обеспечит переизбрание. Но то, что он во всех вопросах стоит на стороне
Англии, по-английски чувствует и думает, не подлежит никакому сомнению"37.
Циммерман дал указание Меттерниху донести свою точку зрения до Энвер-паши
и добавить при этом, что военное положение, в частности, в Галлиополии и
Ираке складывается не в пользу Антанты и что "продолжение войны соот¬
ветствует турецким интересам"38.
В Константинополе Моргентау продолжал интенсивное дипломатическое
зондирование. Он встречался с Меттернихом, Энвер-пашой, выяснял требования
в отношении мирных переговоров Германии и Англии, обещав передать их
президенту Вильсону39. В конце концов Моргентау предложил отправиться с
дипломатической миссией в Вену, Берлин, Париж и Лондон, где бы он имел
возможность обсудить все вопросы с руководителями основных воюющих
держав. Для этого существовал благовидный предлог - отъезд посла в отпуск в
Америку40. Однако серьезного продолжения активность американского посла в
Константинополе не получила: к началу 1916 г. посредническая деятельность
опять сосредоточилась в руках личного посланника Вильсона - Хауза.
35Архив полковника Хауза, т. 2, с. 101.
36РААА WK, R. 20459. Меттерних - в ведомство иностранных дел, 19.XI.1915.
37Ibidem. Циммерман - фон Тройлеру, 20.XI.1915.
38Ibidem. Циммерман - в ведомство иностранных дел, 8.ХП.1915.
39РААА WK, R. 20460. Меттерних - в ведомство иностранных дел, 18.XII.1915.
40РААА WK, R. 20461. Меттерних - Бетман-Гольвегу, 28.11.1916.
78
Полковник вновь прибыл в Берлин 26 января 1916 г. Со времени его пред¬
шествующего визита шансы на успех американской посреднической миссии еще
больше уменьшились: это было связано и с успехами германского оружия, и с
активизацией деятельности внутри страны воинствующих милитаристских сил, и
с очевидным сдвигом США в сторону Антанты. И хотя как в правительстве, так
и в рейхстаге влиятельные политические силы, олицетворяемые фигурой канц¬
лера Бетман-Гольвега полагали, что в случае длительного продолжения войны
Германии грозит истощение, они были в явном меньшинстве41.
Хауз приехал в Берлин, не > имея на руках сколько-нибудь эффективного
средства воздействия на германскую политику. Ему оставалось лишь учитывать
пропагандистские рассуждения Берлина о недопустимости борьбы между двумя
братскими народами - немцами и англичанами, повторяя, что они тем самым
могут лишь обескровить друг друга и дать исторический шанс ’’чуждым” нациям,
а именно - славянам, японцам, французам. "Я сказал, что западная цивилизация
развалилась: на всех базарах и во всех мечетях Востока насмехаются над
Западом", - вспоминал Хауз42. Однако пророчества о близкой гибели западной
цивилизации не смогли пронять Бетман-Гольвега. Интересы англосаксонской
расы всегда отступали у немцев на второй план, когда заходила речь о великой
Германии.
В конце переговоров на поставленный полковником вопрос о возможном мире
канцлер изложил свои условия: образование полностью зависимых от Германии,
Бельгии и Польши, выплата Францией и Бельгией огромной контрибуции43.
Хауз уехал из Берлина разгневанный. По его мнению, Вильгельм "спятил",
канцлер "одурманен". "До каких пор такие правители будут существовать где бы
то ни было на земном шаре!" - в сердцах восклицал полковник44. После второго
визита Хауза в Берлин у американцев окончательно рассеялись иллюзии отно¬
сительно возможности и дальше играть роль посредника. У США не оставалось
выбора. Теперь вступление Вашингтона в мировую войну на стороне Антанты
было делом времени и зависело лишь от тактических вариантов, связанных с
особенностями внутри- и внешнеполитической ситуации в стране и в Европе.
В новой обстановке американцам надо было провести консультации не только
с англичанами, но и с французами. По дороге из Берлина в Лондон Хауз имел ряд
обстоятельных бесед с руководителями Франции. Если раньше привлечение
союзников на свою сторону Вашингтон перепоручил Лондону, то теперь взялся
за дело сам.
В Париже Хауз увидел ту же решимость бороться с оружием в руках до
победного конца, что в Берлине и Лондоне. Мирное посредничество было делом
безнадежным. Однако в отношении будущего военного сотрудничества между
американцами и французами разногласий не существовало. "В конце донцов мы
пришли к соглашению, что в случае, если весной и летом союзники одержат
какие-нибудь значительные победы, вы не будете вмешиваться; если же колесо
войны повернется против них или перемен не наступит, тогда вы вмешаетесь", -
писал Хауз Вильсону 9 февраля 1916 г.45 Конкретные вопросы и политического
сотрудничества США с Антантой, и проблемы послевоенного устройства мира
были подробно рассмотрены во время посещения Хаузом Лондона на обратном
пути.
Ротте г in R. Op. cit., S. 360-361.
42Архив полковника Хауза, т. 2, с. 109.
^ChristofH. Op. cit., S. 227.
44Архив полковника Хауза, т. 2, с. 107.
4>Гамже, с. 125.
79
В ПРЕДДВЕРИИ ВСТУПЛЕНИЯ В ВОЙНУ
К началу февраля борьба в правящих кругах Германии по поводу целе¬
сообразности неограниченной подводной войны закончилась победой сторонников
жесткой линии. 10 февраля 1916 г. было объявлено, что капитаны подводных
лодок кайзера получат вскоре приказ топить без предупреждения все воору¬
женные торговые суда союзников. Во исполнение приказа 24 марта в Ла-Манше
был потоплен невооруженный французский пароход "Сассекс”. Погибло более 80
мирных граждан, в основном подданных нейтральных государств. Это вызвало
негодование во многих странах, особенно в США.
Весной 1916 г. в германских правящих кругах обострились разногласия по
вопросам стратегии дальнейшего ведения войны. Спор шел между двумя
группировками: первую представляли военные, прежде всего статссекретарь
военно-морского ведомства адмирал А. фон Тирпиц и начальник генерального
штаба Э. Фалькенхайн, лидером второй группировки был канцлер Бетман-
Гольвег.
Тирпиц и его единомышленники утверждали, что победа Германии и удов¬
летворение ее жизненных интересов возможны лишь при использовании всех
имеющихся военных средств, включая и беспощадную подводную войну. В
планах предусматривалась возможность ведения Германией войны в условиях
вступления в нее США на стороне Антанты и отвергались любые мирные
переговоры. По мнению же канцлера, неограниченная подводная война, влеку¬
щая за собой присоединение к Антанте США, неизбежно привела бы к военному
поражению Германии, ибо в условиях истощения людских и материальных
ресурсов, последняя была не в состоянии противостоять всему остальному миру.
Вместе с тем мирные переговоры при определенных условиях могли бы дать
Германской империи гарантии ее ’’безопасности” в Европе.
В начале 1918 г. в Берлине верх взяли милитаристы, и после потопления
"Сассекса” угроза вступления США в войну на стороне Антанты стала
для Германии реальной. США не вступали в войну во многом из-за
предстоявших осенью этого года президентских выборов. По мнению Вильсона,
пацифисты были в стране все еще сильны, а "военная” партия еще не стала
доминирующей. Дело тормозилось также позицией стран Антанты.
Руководители стран опасались гегемонии американцев в случае присоединения к
ним США46.
Временная победа в Берлине милитаристов весной 1916 г. заставила канцлера
более активно действовать на дипломатическом фронте. В качестве возможного
выхода из создавшегося положения он рассматривал интенсификацию посред¬
нической деятельности США. Уже в апреле Бетман-Гольвег информировал
посла Берншторфа о том, что он хотел бы рассчитывать на новую миротвор¬
ческую акцию Вашингтона летом 1916 г. Канцлер видел в посредничестве США
"единственно возможный выход из войны”47. Расчет был на сильное паци¬
фистское движение внутри США. "На Вильсона оказывают сильное влияние
голоса за мир", - сообщал граф Берншторф48. Однако имперский посол в Ва¬
шингтоне не сумел вовремя уловить серьезных изменений, произошедших в
Белом доме по вопросу перспективы участия США в войне. Он сообщал
канцлеру о возможности сотрудничества с США для "защиты в будущем меж¬
дународной торговли от английского господства на море" и обеспечения "свободы
Уткин А.И. Указ, соч., с. 103.
47Bernstorff J.Н.von. Deutschland und Amerika. Erinnerungen aus dem funfjahrigen Kriege. Berlin, 1920,
S. 255.
48PAAA WK, R. 20463. Берншторф - в ведомство иностранных дел, 3.V.1916.
80
морей”49, а в те дни, когда Вашингтон реально рассматривал вопрос о разрыве
отношений с Германией, предполагал "вскоре еще одну посредническую акцию
президента”50. Лишь только резкая ультимативная нота американского пра¬
вительства по поводу потопления "Сассекса", посланная в Берлин 18 апреля,
полностью прояснила ситуацию для Берншторфа. Стало очевидным, что все его
ожидания основывались на чистейших иллюзиях. С апреля 1916 г. Вашингтон
отложил в сторону все планы посредничества и стал готовиться к новым пре¬
зидентским выборам и разработке принципиально иных подходов к решению
европейского конфликта.
События на фронтах летом 1916 г. не изменили стратегического положе¬
ния и не выявили перевеса ни одной из воюющих сторон. Немцы отразили
наступление англо-французских войск в битве при Сомме, но брусиловский
прорыв поставил под угрозу восточный фланг Центральных держав.
Ужесточились подводная война Германии и морская блокада Англии. И в
Берлине, и в Лондоне явно стремились довести войну до победного конца, и
вопрос о мирной конференции и чьем-либо посредничестве не воспринимался
всерьез.
Однако к концу лета - началу осени 1916 г. ситуация в американо-германских
отношениях стала претерпевать изменения. В правящих кругах США стали
расти опасения, что пассивно-выжидательная тактика Вильсона в конечном
счете может привести если не к изоляции, то к потере авторитета США. В
Вашингтоне не исключали, что военный спор в Европе может быть решен и без
их участия. Это вызвало третью попытку активного вовлечения США в евро¬
пейские дела для того, чтобы решить йх к своей выгоде. Считается, что не¬
посредственным толчком для новой "мирной инициативы” Америки послужило
интервью премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа, которое
тот дал американскому корреспонденту. В нем глава кабинета обрушился на
"ней-тралов" и заявил, что Англия никогда не просила и не попросит ничьего
вмешательства. Ответом Вашингтона стало предложение о посредничестве, сде¬
ланное Хаузом Берншторфу.
Предложение Вашингтона на сей раз попало на благоприятную почву.
В сложной военной обстановке, перед лицом угрозы полного истощения Бер¬
лин в августе 1916 г. активизировал попытки при помощи сепаратных
переговоров развалить Антанту51. Одновременно решено было возобновить
посреднический диалог с США. Первым свидетельством этого стало письмо
Ягова Берншторфу от 15 августа. В нем Ягов указывал, что хотя "мир по-
американски” и не соответствует интересам Германии, в данной неблагоприятной
военно-политической ситуации мирные, предложения, исходящие от мощ¬
ной нейтральной державы, были бы полезными для страны, и давал следую¬
щие инструкции: "Общие мирные тенденции президента следовало бы вся¬
чески поощрять, но конкретные предложения (в том случае, если только они для
нас неблагоприятны) по возможности отклонять"52. Через три дня теле¬
грамму Берншторфу направил сам канцлер. Он подтвердил ранее полу
ченные послом инструкции от статс-секретаря внешнеполитического ведомства и
уполномочил графа на переговоры с Вильсоном по поводу мирного
посредничества последнего. Канцлер опять-таки высказался за желатель¬
49Beilagen zu dem stenographischen Berichten uber die offentlichen Verhandlungsausschusses der
Verfasspng gebenden Deutschen Nationalversammlung, 15. Ausschuss, 2. Unterausschuss: Aktenstucke zur
Friedensaktion Wilson 1916-1917, Bef in, 1920. Берншторф - Бетман-Гольвегу.
50PAAA WK, R. 21522. Бернштор!) - Бетман-Гольвегу, 4.IV.1916.
^Birnbaum К. Peace moves and U-Boat Warfare. A Study of Imperial Germany’s Policy towards the
United States. Stockholm, 1958, p. 123-124.
52PAAA WK, R. 20466. Ягов - Берншторфу, 15.V1II.1916.
81
ность лишь общих, а не конкретных предложений со стороны Белого
дома53.
Чем же объясняется столь бурная активность немцев на "американском"
фронте в конце лета 1916 г.? Ответ прослеживается в послании Бетман-
Гольвега Берншторфу 2 сентября. "Наш западный фронт стоит крепко, -
сообщал канцлер. - Восточный фронт после объявления войны Румынией стал
внушать некоторые опасения. Прорыв фронта или разгром Австрии, однако,
беспокоят. Турция и Болгария внушают доверие. Греция ненадежна. Надежда
на то, что перед зимой из-за усталости от войны России или Франции удастся
прийти к миру, ввиду этих событий уменьшилась. Будет ли возможным и
успешным, если на Востоке не случится большой катастрофы, мирное посред¬
ничество Вильсона, если мы условно гарантируем восстановление Бельгии? В
противном случае будет серьезно обдумана возможность беспощадной подводной
войны"54.
Таким образом, когда в сентябре-октябре 1916 г. огорченный ухудшением
своих отношений с Англией Вильсон стал вновь зондировать возможности
мирного посредничества, его предложения были встречены германским руко¬
водством благосклонно. Умеренное крыло в правящих кругах Берлина, воз¬
главлявшееся канцлером Бетман-Гольвегом, увидело в попытке нового по¬
средничества Вашингтона последний шанс для истощенной Германии достойно
выйти из войны. На позицию канцлера повлияло также и перераспределение
власти, произошедшее в Германии летом 1916 г. А она фактически сосредо¬
точилась в руках генеральского тандема П. фон Гинденбурга - Э. Людендорфа,
крайних милитаристов, сторонников решительных военных методов.
Генеральский тандем Гинденбург-Людендорф в годы войны проделал стре¬
мительную карьеру. Генерал-лейтенант Гинденбург в 1914 г. уже три года
находился на пенсии, весьма довольный своей судьбой. Никто никогда не
замечал за ним особых способностей. Людендорф же, по мнению многих, самый
одаренный генерал кайзеровской армии, был типичным представителем прусской
военной касты. Обладая острым умом и огромной энергией, он никому не внушал
симпатии и имел весьма непрезентабельную внешность. Однако о командующем
Восточным фронтом, внезапно призванном в армию Гинденбурге и его мозговом
центре - начальнике штаба Людендорфе - заговорили уже в 1914 г., после
блестяще проведенного ими окружения русских войск в Восточной Пруссии. Два
года этот дуэт руководил Восточным фронтом Германии, а с августа 1916 г.
возглавил все вооруженные силы страны. С тех пор практически все важнейшие
внешнеполитические проблемы рейха решались только фельдмаршалом Гинден¬
бургом, имеющим обыкновение советоваться лишь с генералом Людендорфом.
Они, по сути, установили военную диктатуру. Предлагаемая ими стратегия, по
мнению Бетман-Гольвега, толкала Германию в пропасть и провоцировала
конфликт с самой мощной в экономическом отношении державой мира. Однако
влияние канцлера на политическую жизнь Германии неуклонно уменьшалось, и в
предложении американского президента он видел последнюю надежду спасти
страну.
Информация о возможном новом мирном посредничестве американцев по¬
ступила в Германию неожиданно. Возвратясь сразу же после летнего отпуска в
Вашингтон, Берншторф сперва сообщил на родину о том, что по причине
сложной обстановки в Европе, связанной прежде всего со вступлением в войну
Румынии, ждать от Вильсона каких-либо новых инициатив не приходится55.
53Ibidem. Бетман-Гольвег - Берншторфу, 18.VIII.1916.
54РААА WK, R. 20469. Бетман-Гольвег - Берншторфу, 9.Х.1916.
55Birnbaum К. Op. cit., р. 153.
82
Президент, полагал германский посол, не будет принимать решительных мер до
успешного окончания избирательной кампании. То же самое Берншторф сообщил
несколькими днями позже Бетман-Гольвегу, присовокупив, что новые инициа¬
тивы Вильсона возможны в случае, если последует персональная просьба из
Берлина. Однако пока эти телеграммы шли к адресатам, американский посол в
Берлине Джерард в неофициальных беседах выразил готовность от имени Бе¬
лого дома выступить с новыми мирными предложениями56.
Между тем верный своей линии на недопустимость конфронтации с США
рейхсканцлер в конце августа - начале сентября много времени уделил раз¬
работке политики в отношении США. Основные идеи он зафиксировал в записке
о предполагаемых инструкциях Берншторфу, отправленной императору 23 сен¬
тября. Инструкции эти были написаны после консультаций с шефом имперского
Адмиралтейства.
Политическая ситуация для Германии в записке оценивалась как "несомненное
затишье". "Однако, - по мнению канцлера, - война на многих фронтах требует
огромных сил и окончание войны желательно по многим причинам"57. Далее в
записке отмечалось, что, как считает военно-морское командование, неогра¬
ниченная подводная война может заставить Англию запросить мира ecerę лишь
за несколько месяцев, однако войну можно окончить и другим путем, а имен¬
но - если воюющие страны примут посреднические мирные предложения
Вильсона. В последнем случае не возникнет никаких территориальных проблем,
зато мира можно достичь очень быстро - после окончания президентских
выборов в США. Автор этих инструкций германскому послу в Вашингтоне
ставил своей задачей примирить две господствовавшие в правящих кругах
Берлина тенденции и найти выход из создавшегося положения, не осложняя
отношений с США58.
Проект инструкций послу Берншторфу стал предметом внимательного изу¬
чения в замке Плес - штаб-квартире германского верховного главнокомандо¬
вания. Вильгельм внес в проект ряд серьезных замечаний, ослабив пункт о
готовности Германии позитивно ответить на американские мирные предложения.
Изменен был и сам тон инструкций, дабы ни у кого не возникло впечатления, что
немцы запрашивают мира, а военная ситуация на фронте была обрисована в
розовых тонах59. Хотя и нет тому прямых свидетельств, некоторые историки не
без основания считают, что эти изменения были внесены по требованию гене¬
рала Людендорфа60.
Чтобы увеличить давление на Вашингтон, 24 сентября 1916 г. - именно в тот
день, когда инструкции ^ерншторфу рассматривались на совещаний военной
верхушки в Плесе, - Вильгельм выступил еще с одной дипломатической ини:
циативой, отправив в Берлин меморандум отъезжавшему в отпуск на родину
американскому послу Джерарду. Император сообщал, что ждет от Вильсона
йовых мирных инициатив, не забыв, впрочем, "припугнуть" американцев возоб¬
новлением неограниченной "подводной войны"61.
Во исполнение высочайшего поручения 3 октября граф Берншторф встре¬
тился с Хаузом. Встреча оказалась безрезультатной. Хауз объяснил послу, что
до окончания избирательной кампании в США ожидать каких-либо новых
дипломатических инициатив со стороны Вильсона не приходится. Негативные
56Ibidem.
57РААА WK, R. 20468. Бетман-Гольвег - Вильгельму II, 23.Х.1916.
58Ibidem.
59Ibidem. Вильгельм II - Бетман-Гольвегу, 24.IX.1916.
^См., например: Birnbaum К. Op. cit., р. 157.
61РААА WK, R. 20469. Бетман-Гольвег - Берншторфу, 9.Х.1916.
83
результаты дали и посреднические шаги, предпринятые в Вашингтоне швейцар¬
скими дипломатами.
Впечатления от переговоров Берншторф изложил в телеграмме от 8 октября.
Подчеркнув, что Вильсон намерен выступить как посредник лишь после своего
переизбрания, посол вновь сообщает: "После возобновления беспощадной под¬
водной войны можно ожидать немедленного разрыва с Соединенными Штата¬
ми"62. Берншторф считал, что победа на выборах Вильсона и демократов - в
интересах Германии, в то время как приход к власти республиканцев исключит
возможность какого-либо сотрудничества с США.
По всему было видно, что для Вильсона отношения с Германией, по крайней
мере до окончания выборов, отошли на второй план. Тем неожиданнее оказалась
встреча 9 октября между президентом и Берншторфом. Обескураженный уп¬
рямством Лондона, все еще отказывавшегося безропотно следовать в форватере
американской внешней политики, в тот день Вильсон показывал особое рас¬
положение к немцам. Он жаловался на непростые отношения с воинственными
лидерами республиканцев, в весьма позитивном духе обсуждал с графом и дву¬
сторонние отношения, хотя и предупредил последнего об опасности возобновле¬
ния неограниченной подводной войны. В конце встречи Вильсон пообещал после
окончания выборов взять инициативу по достижению мира между воюющими
державами в свои руки63.
Пока Вильсон в Белом доме обдумывал устройство нового миропорядка и
роли в нем Америки, из Берлина пришло неожиданное сообщение: 12 декабря
канцлер Германии в рейхстаге заявил о готовности Центральных держав
немедленно начать со своими противниками мирные переговоры. Впервые все
основные фракции в правящих кругах Германии смогли прийти к согласию и
выступить с дипломатическим демаршем. Военно-политическая ситуация в Ев¬
ропе, как никогда, этому способствовала: оккупирована Сербия, пал Бухарест и
таким образом все Балканы стали вотчиной Германии, наступление русских в
Австро-Венгрии захлебнулось, английский флот нес большие потери. Харак¬
терно, что, согласившись на мирные переговоры, император ни слова не сказал о
немецких условиях. Однако обращение Вильгельма было составлено в таком
победоносном духе, что оно само по себе компрометировало саму идею пере¬
говоров Антанты с Германией.
В Вашингтоне были удивлены и раздосадованы поспешностью немцев, ис¬
портившей весь эффект намечавшейся инициативы Белого дома. Именно для
того чтобы предвосхитить американцев, император и предпринял свой демарш64.
Последовавшие события свидетельствовали о том, что день 9 декабря - при¬
нятие решений о "мирных" переговорах с Антантой - был переломным в
отношениях Германии с США. Если до того в Берлине руководствовались
позитивной целью - желанием достичь выгодного для них мира при помощи
американского посредничества, то теперь, после выдвижения своей собственной
мирной инициативы, немцы утратили интерес к миротворческим усилиям
Вашингтона.
18 декабря 1916 г. Вильсон выступил с новой, давно обещанной мирной ини¬
циативой. Она представляла собой ноту всем воюющим державам с требованием
определить свои конкретные цели в войне с тем, чтобы "стало возможным их
непредвзятое сравнение"65.
Перед странами Антанты, таким образом, лежали два предложения. Ответ на
62Ibidem. Бернщторф - в ведомство иностранных дел, 8.Х.1916.
63Ibidem. Берншторф - в ведомство иностранных дел, 10.Х.1916.
Birnbaum К. Op. cit., р. 242-243.
65Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1916, p. 98.
84
оба не заставил себя долго ждать. Немецкое предложение от 12 декабря они
расценили как военную хитрость, вызванную временными военными успехами. К
тому же теперь стали известны и предварительные условия, на которых Берлин
соглашался начать переговоры. Они включали присоединение к Германской
империи Литвы и Курляндии, образование вассальной Польши, другие терри¬
ториальные аннексии за счет России, передачу Бельгией Германии Льежа и
установление над ней опеки, отторжение от Франции районов Лонгви и Брие,
уступку немцам части английских и французских колоний. О территориальных
претензиях на Балканах заявила и Австро-Венгрия. После оглашения ’’предва¬
рительных" условий шансы на мирное урегулирование в Европе были сведены к
нулю.
В ответ на американскую ноту союзники по Антанте изложили свою точку
зрения на послевоенное устройство мира. Она предусматривала восстановление
независимости Бельгии, Сербии, Черногории и выплату немцами компенсаций,
эвакуацию германских войск с занятых ими территорий, изгнание турок из
Европы, освобождение чехов, итальянцев, румын и словаков от чужеземного гос¬
подства. Эти цели весьма отличались от американских, и трудно было тогда
предположить, что всего лишь через три месяца США полностью к ним при¬
соединятся.
Такое развитие событий во многом было предопределено позицией Германии.
Отношение немцев к американской ноте с самого начала было негативным. И
кайзер, и военное руководство были твердо уверены, что она готовилась в
тесном сотрудничестве с Англией66. В Берлине давно уже излечились от ми¬
нутной слабости конца лета - начала осени 1916 г. Верх взяли те, кто хотел
решить исход войны сугубо милитаристскими методами. Компромисс для "пар¬
тии" Гинденбурга - Людендорфа был неприемлемым, а следовательно, США в
немецком раскладе перестали фигурировать.
После консультаций с союзниками 26 декабря американскому послу Джерарду
бьут представлен ответ Германии на ноту Вильсона. Смысл ноты сводился к
тому, что Берлин соглашался, используя факт присутствия своих войск на
территории противника, вести прямые, без посредников, переговоры. И хотя
немцы призывали Вильсона способствовать скорейшему созыву международной
мирной конференции, для самих США места на ней не нашлось67. Такой поворот
событий был дчя Белого дома не только неприемлемым, но и крайне оскор¬
бительным.
Изменение внешнеполитической линии Германии в конце 1916 г. и отход от
политики "нейтрализации" США были во многом связаны с персональными
изменениями в руководстве на Вильгельмштрассе. Новый руководитель немец¬
кого внешнеэкономического ведомства Циммерман выступал за жесткую поли¬
тику и усматривал в сотрудничестве с США по проблемам мирных переговоров
лишь проявление слабости со стороны центральных держав.
В Вашингтоне между тем продолжалось усиленное зондирование Берлина.
27 декабря 1916 г. Хауз предложил Берншторфу провести конфиденциальные
переговоры и разработать схему новой американской инициативы. Однако в
Берлине выбор был уже сделан. 7 января 1917 г. "для личного ознакомления"
Берншторфу были отправлены предварительно одобренные кайзером инструкцйи
Циммермана. В них сообщалось: "Американское посредничество в проведении
прямых (подчеркнуто Циммерманом. - В.Ш.) мирных переговоров с учетом
нашего общественного мнения является совершенно нежелательным. В нынеш¬
66Birnbaum К. Op. cit., р. 254.
67Foreign Relations of the United States, 1916, p. 118.
85
ней ситуации нам следует избегать всего, что может укрепить противника во
мнении, будто наши мирные предложения вытекают из нашего стесненного
положения. Это отнюдь не так. Мы убеждены, что войну можно довести до по¬
бедного конца как в военном смысле, так и экономически”68.
Таким образом борьба в правящей верхушке Германии по вопросам политики
в отношении США между представителями умеренного направления и военной
элитой закончилась победой последних. Милитаристы сами лишили Вильсона
выбора. В стране усилились проанглийские настроения и к началу 1917 г.
произошло превращение этих отношений в доминирующий фактор общественной
жизни. Близорукая политика правящих кругов Германии существенно усилила в
США позиции тех, кто видел в победе Германии серьезную угрозу интересам
своей страны.
8 января 1917 г. германское верховное командование заявило о начале с
1 февраля беспощадной подводной войны. 3 февраля последовал разрыв отно¬
шений по инициативе Вашингтона, а 2 февраля конгресс США объявил Гер¬
мании войну, которая стала теперь подлинно мировой.
Подводя общий итог, отметим, что основные направления внешней политики
в отношении Германии в годы первой мировой войны были обусловлены в
первую очередь объективными причинами. Президента Вильсона меньше всего
можно назвать бескорыстным идеалистом. Его политика была отчетливо праг¬
матичной и на разных этапах корректировалась с учетом состояния обществен¬
ного мнения страны, ее экономического положения, ситуацией на фронтах.
Цель американского президента была очевидна - при минимальных издержках
вывести крупнейшую экономическую державу на первые роли в мировой
политике. И это ему удалось. Вступив в войну за полтора года до ее окончания,
при сравнительно небольшом количестве погибших США извлекли максимум
экономических и политических выгод, превратившись из должника Европы, коим
они были в 1914 г., в ее кредитора, став одновременно подлинно великой
мировой державой во всех отношениях.
Куда трудней дать рациональное объяснение политике Берлина в отношении
США. Если на первых порах Германия проводила вполне обоснованный курс на
"нейтрализацию" США, то с конца 1916 г. в немецком руководстве окончательно
взяли верх авантюристы из ослепленной временными военными успехами ар¬
мейской элиты, решившие безо всяких на то реальных оснований, что при
помощи нескольких десятков субмарин они смогут не только поставить на колени
Англию, но и изолировать США от Европы. Тем самым немцы обрели в апреле
1917 г. еще одного врага, на этот раз в виде самой мощной державы. Зако¬
номерным итогом этой близорукой политики стал крах империи и Версаль.
68РААА WK, R. 20474. Циммерман - Берншторфу, 7.1.1917.
86
Слово историка
6-9 апреля 1993 г. в Москве Отделением истории РАН и
Институтом российской истории РАН была проведена
международная конференция "Россия в XX веке: судьбы
исторической науки". В ней приняли участие свыше 120
исследователей из России и зарубежных государств. Ряд
материалов, подготовленных на основе докладов,
сделанных на конференции, печатается в журнале.
© 1993 г. .
Член-корр. РАН А.Н. С А ХА РОВ
НОВАЯ ПОЛИТИЗАЦИЯ ИСТОРИИ
ИЛИ НАУЧНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ?
О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В МИРОВОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ РОССИИ XX в.
История России XX в. уже в течение долгих десятилетий предстает в мировой
историографии как неисчерпаемая исследовательская тема. Наверное, эта исто¬
рия столь же неисчерпаема, противоречива и сложна, как и сама Россия с ее ве¬
ликой и трагической судьбой. Полная история нашего Отечества в этом веке,
отдельные ее аспекты будут воссоздаваться, видимо, еще не одним поколением
как российских, так и зарубежных историков, потому что лишь общими усилиями
мировой исторической мысли в условиях свободной интеграции науки, в условиях,
когда идеологические и политические расчеты перестают оказывать на мировую
историческую науку свое мощное и губительное влияние, возможно подлинно
научное воссоздание этой истории - неотъемлемой части столь же великой,
противоречивой и трагической истории всего человечества.
Именно в обновленных общественных условиях мировая наука продолжает
сегодня исследование истории России XX в. как целостного исторического фено¬
мена, где отдельные части сочленяются с общей эволюцией российской и миро¬
вой действительности, где, казалось бы, сугубо внутренние события, такие, как
революция 1905-1907 гг., столыпинские реформы, Февральская и Октябрьская
революции, гражданская война, нэп, становление и развитие сталинизма и соз¬
дание революционно-тоталитарного государства в нашей стране, попытки либе¬
рально-коммунистического реформирования тоталитарной социалистической
системы в середине 50-х - начале 60-х и в 80-е годы, являются не изолиро¬
ванными ’’великими” или "проклятыми" частностями, а звеньями единой истории
большой евроазиатской страны, вплетенной с неумолимой закономерностью в
общую историю и Запада, и Востока.
87
Прежде, как мы знаем, выбор в трактовке этих событий был до крайности
мал. Советская историография, касающаяся прежде всего истории нашей страны
после 1917 г., представляла собой монолит сомнительной научной ценности, где
все наиболее масштабные оценки исторических явлений XX в. подчинялись стро¬
гим идеологическим и политическим детерминантам. z
Западная историография имела в этой области более широкий выбор средств,
идей, новых подходов, включая дискуссионные. И все же. С середины 20-х годов
по мере укрепления сталинизма как общественно-политической и идеологической
системы, по мере социально-экономического, политического, идеологического и,
увы, как следствие этого, научного противостояния двух систем историческая
наука стала не столько сферой исследовательского диалога, сколько полем идео¬
логических битв. Это принесло неизмеримый ущерб обеим противоборствующим
сторонам, хотя как в нашем Отечестве, так и на Западе в это время выходило
немало интересных творческих работ, основанных на первоклассных источниках
и проникнутых оригинальными исследовательскими идеями.
При этом западная, в частности российская эмигрантская историография, не
обремененная жесткими классовыми постулатами, могла свободно оценить тра¬
гическую сторону советской действительности, что было практически невозмож¬
но для советской исторической науки, чьи наибольшие успехи приходились на
разработку дореволюционной истории России. Пока мы старательно переже¬
вывали "Краткий курс истории ВКП(б)", а позднее - сусловскую концепцию
развитого социализма, научный мир Запада в трактовке советской истории
стремительно уходил вперед. Свидетельством этого стали не только много¬
численные работы по истории СССР 20-30-х годов, но и анализ периода
стагнации 70-х - начала 80-х годов. В США, Англии, Германии выходили
солидные труды, анализирующие нашу политическую систему, экономику,
культуру, образование, военное дело, труды, которые подводили к выводу о
том, что Советский Союз находится в состоянии тяжелейшего, все прогресси¬
рующего кризиса1. Мы эти работы объявляли фальсификацией истории либо
вовсе не замечали их.
На рубеже 80-90-х годов положение в стране резко изменилось. Решаю¬
щим стал 1988-й, когда, топчась на месте в сфере кардинальных социально-
экономических и политических реформ, наше общество при активной поддержке
средств массовой информации, публицистики, научно-популярной и научной
периодики добилось относительной гласности. Это было время, когда исто¬
рические события, исторические лица, которые в течение десятков лет либо
замалчивались, либо представали в искаженном виде, сначала осторожно, потом
все более и более смело становились предметом свободного исторического
освещения. Свет, естественно, падал туда, где ранее была темнота или значи¬
тельная тень. И носителями этого света стали в первую очередь публицисты,
деятели культуры, литературы, кино, т.е. те, кто мог быстрее всего реализовать
свои творческие ресурсы для раскрытия исторической правды. Напомню о пьесах
М. Шатрова, о "Покаянии" Тенгиза Абуладзе.
И еще. Кто прежде всего взялся за перо? То были "шестидесятники" или
люди, близкие к ним, те, кто в период хрущевской "оттепели" впервые с конца
20-х годов всколыхнулись в поисках исторической, прежде всего антисталинской,
антитоталитарной исторической истины. Я могу назвать здесь серию, публи¬
цистических статей в журнале "Новый мир" - И. Клямкина, А. Нуйкина,
В. Селюнина, В. Шубкина и других, привлекавшие всеобщее внимание выступ¬
ления в газетах "Московские новости", "Советская культура", еженедельниках
1 См., например: After Brezhnev. Sources of the Soviet Conduct in the 1980s. Bloomington, 1983;
The Soviet Union Today. An Interpretative Guide. Chicago, 1983; Soviet Union in 1980s. New York, 1984.
88
"Огонек" и "Аргументы и факты". Это также была серия правдинских "пятниц"
по проблемам нэпа, коллективизации, индустриализации. Сюда бы я отцес и ряд
очерков в различных научных и научно-популярных изданиях о реабилити¬
рованных лишь в самом конце 80-х годов партийных и государственных деяте¬
лях - Н.И. Бухарине, А.И. Рыкове, Ф.Ф. Раскольникове, Г.Е. Зиновьеве,
М.П. Томском, Г.Л. Пятакове; наконец, очерки Д.А. Волкогонова о Сталине и
Троцком и многие другие материалы.
Все эти работы шли в одном направлении и в основном носили характер
разоблачения сталинизма и реабилитации ленинского периода в истории страны.
Все, что происходило в стране после установления Сталиным своей диктатуры и
диктатуры своих соратников, диктатуры партийного аппарата (а здесь фигури¬
ровал главным образом "год великого перелома" - 1929-й), все воспринималось в
негативном свете. К этому следует добавить и публикацию в 1989 г. серии
документов, связанных с советско-германскими, а позднее и советско-фин¬
ляндскими отношениями, и ряд разоблачительных статей о советской внешней
политике конца 30-х годов. Я уже не говорю о материалах, посвященных
Коминтерну, Коминформу и т.п. Создавался прочный историко-нигилистический
фон, который резко разделил историю страны на две части: "ленинский" и
"сталинский" периоды. Все, что относилось к периоду "ленинскому", заслуживало
поддержки, изучения, похвалы, на долю "сталинского" периода доставались
проклятия и угрозы. Началась эйфория по поводу ленинских соратников - и
столь же суровые обличения их противников.
Концепции "шестидесятников" стали на какое-то время доминирующими в
либерализирующемся советском обществе. И, что было вполне закономерным
(но совершенно парадоксальным), эти концепции стали по существу идеологией
либеральной номенклатуры во главе с М.С. Горбачевым. Парадоксальным такое
состояние было потому, что антитоталитарные концепции "шестидесятников" по
сути своей не могли освящать лишь слегка подгримированный "перестроечный",
либерально-номенклатурный режим.
К этому следует добавить, что хворост в этот костер отрицания одного и
апологетики другого подбрасывали люди, силой обстоятельств оказавшиеся в
период диктатуры Сталина потерпевшей стороной: дети и внуки репресси¬
рованных деятелей, люди, которые в свое время имели полное право жить,
говоря словами писателя Юрия Трифонова, в "Доме на набережной" и кто в ходе
репрессий и последующих преследований был из этого "Дома" (берем здесь это
как образ) "вытряхнут". Стремление этих людей занять подобающее место в
обществе частично увенчалось успехом в период хрущевской оттепели, однако
последующие брежневские "контрреформы" не позволили им поднять на щит в
полной мере идеалы первой половины 20-х годов и прежде всего их носителей, не
позволили полностью реализовать себя.
С конца 80-х годов начинается стремительное сближение советской и западной
историографии в части оценок сталинизма и советского тоталитаризма. В совет¬
ских журналах и издательствах появляются публикации видных западных русис¬
тов и советологов - Р. Такера, С. Коэна, А. Рабиновича, Ш. Фитцпатрик,
Дж. Хоскинга, Р. Даниэльса, М. Реймана, Д. Гейера и др. Эти работы, еще
вчера объявлявшиеся фальсификаторскими опусами, помогали нам понять
сущность эволюции советского строя в 20-80-е годы, прочно смыкались с
антитоталитарными работами отечественного производства. Такие движения,
как "Апрель" и "Мемориал", как бы венчали в сфере общественной эти усилия,
полностью корреспондировавшие с "апрельской весной" Горбачева, с после¬
дующей "гласностью", которая стала едва ли не самой заметной чертой курса
либеральной партноменклатуры на перемены и которая под давлением народа в
дальнейшем превратилась в реальную общественную гласность.
89
Волна исторического нигилизма, прокламировавшегося в основном публицисти¬
кой, была настороженно встречена историками. И не потому, что они стояли, как
неоднократно писали на Западе2, на позициях консервативных, или, скажем
резче, просталинских. Речь шла О том, что историки не располагали материалами
для участия в такой полемике. Что касается публицистических выступлений, то
лишь незначительная* часть историков включилась в этот поток, причем на
уровне самого этого потока, и лишь позднее некоторые из них, опираясь на
новые источниковые пласты, включились в этот процесс уже на зрофессиональ-
ном уровне.
Два вывода можно сделать, возвращаясь к ситуации тех лет. Во-первых,
историческая картина, создаваемая публицистами в те годы, была крайне
однообразной. Это не была взвешенная, объективная история страны. Это был
лишь быстрый, крайне политизированный ответ на те фальсификации, умолча¬
ния, искажения, которые так щедро расточал по части истории как режим
Сталина, так и режим его эпигонов, в том числе и организаторов "перестройки".
Это была правда, но это была лишь полуправда, даже если брать ее в
применении к "сталинскому" периоду истории страны. Это была типичная полити¬
зация истории, двинутая вперед публицистическими перьями. Именно поэтому в
среде основной части историков-профессионалов такая история встретила непо¬
нимание и удивление. Но других методов воссоздания даже этой полуправды на
то время не было, и это необходимо учитывать. Во-вторых, такой поворот
событий подталкивал историков к активизации своих профессиональных действий
в области как теоретического, так и конкретно-исторического осмысления собы¬
тий.
Но события развивались с калейдоскопической быстротой.
Известно, что история не знает перерывов. Это в публицистике, в пропаганде
можно отделить один исторический период от другого. Гораздо труднее сделать
это в реальной жизни и в серьезных исследованиях, эту реальную жизнь отра¬
жающих.
Часть либеральной публицистики и часть сопутствовавших ей историков-про¬
фессионалов, разделив и квалифицировав "ленинский" и "сталинский" периоды в
российской истории, посчитали, что главное дело сделано. Однако эго было боль¬
шим заблуждением. Оно было быстро развеяно как нашими западными колле¬
гами, так и отечественными авторами.
Оказалось, что невозможно разделить историю на периоды, тем более если
сами эти периоды отстоят друг от друга во времени всего на несколько лет, а то
и месяцев. Самые невероятные ее повороты, самые непредсказуемые аномалии,
парадоксальные ситуации, самые, казалось бы, непредсказуемые ее персоналии,
ее действующие лица связаны общим ходом исторического развития, неотде¬
лимы от судьбы того или иного народа, судьбы всего человечества. Также хоро¬
шо известно, что "перерывы" на пути истории, попытки представить тот или
иной ее отрезок как некий особый, доминирующий фактор исторического раз¬
вития, а отдельных исторических деятелей либо как "ангелов во плоти", либо
как прбклятых Богом фурий связаны в основном с действием идеологических и
политических сил.
Вскоре стало очевидно, что западная историография истории России 1917 г. -
1980-х годов вовсе не является лишь антисталинской й антитоталитаристской; и
в нашем Отечестве появились существенные признаки того, что переосмысление
2 См.: Nove A. Glasnost' in Action. London-Sydney-Wellington, 1989; Facing up to Past. Soviet His¬
toriography under Perestroika. Ed. by T.Ito. Sapporo, 1989, p. 22, 35; Davies R.W. Soviet History in
Gorbachev Revolution. London, 1989, p. 69, 171-175; Дэвис Р.У. Советская историческая наука в
начальный период перестройки. - Вестник АН СССР, 1990, № 8.
90
истории России XX в. вышло далеко за рамки очищения социализма от скверны
сталинизма и возвращения ему первозданных, так сказать, "евангелических" ле¬
нинских принципов.
В 1988-1990 гг. появилась серия материалов, которая вполне определенно
рассматривала весь период истории России, открывшийся Октябрьской револю¬
цией 1917 г., как единое целое, где "ленинский" период и сталинский тоталита¬
ризм не имели непроходимой грани и непосредственно вытекали с неумолимой
неизбежностью второй из первого. Это направление нашло свое отражение в
статьях А. Ципко в журнале "Наука и жизнь", Г. Попова в ряде периодических
изданий, в некоторых материалах, опубликованных журналом "Наш современ¬
ник", в частности в статьях В. Кожинова.
Всем им был свойствен совершенно иной настрой, чем материалам, которые
шли в русле горбачевской "апрельской весны". В них поднимались теоретические
вопросы "строительства социализма", показывался непреходящий утопизм подоб¬
ных попыток как в теоретическом, так и в конкретно-историческом плане:
они стремились выявить тоталитарные начала советского режима с первых
шагов нового строя, они доказывали, что именно Ленин освятил эту тота¬
литарную модель нового общества и, по существу, взрастил Сталина как поли¬
тическую фигуру. Они снимали елей с образов соратников Ленина и будущих
противников Сталина и стремились показать, что, скажем, Троцкий, Бухарин,
Рыков, Радек, Зиновьев, Каменев, Рудзутак и поверженные Сталиным сталинцы
были единой революционной гвардией с общим теоретическим основанием,
общим менталитетом, общим революционным мироощущением, и Сталин просто
был одним из них. Особую позицию относительно советской модели тотали¬
таризма как тоталитаризма революционного, по форме народного, хотя по сути
своей и глубоко антинародного, высказал автор этих строк*
Одновременно и в публицистике, и в научно-исторической среде стало вы¬
кристаллизовываться и третье направление оценки исторического пути России в
1917-1980-х гг. Назовем его марксистско-ортодоксальным. Это направление со
своей стороны также не отделяло "ленинский" период от сталинизма, но делало
это не со знаком минус, как предыдущее, а со знаком плюс. Безусловно прини¬
мая концепции и практику советской власти в 1917-1924 гг. как объективную и
закономерную, это направление в то же время считает, что и позднее, несмотря
на все извращения сталинизма, советский строй сохранил свою социалистическую
основу и весь период "строительства социализма" - это исторический этап в
жизни страны, который требует к себе внимательного и бережного отношения,
хотя это вовсе не то строительство социализма, которое мы себе представляли в
течение десятилетий. Наиболее полно и гибко эту точку зрения выразил, на мой
взгляд, В.П. Дмитренко на конференции "Россия, СССР в XX веке", прове¬
денной Институтом истории СССР АН СССР в апреле 1990 г. Он полагает, что
социалистическое учение является одной из магистральных линий развития
человечества и оно, как и общество, подвижно, изменчиво, чем не сумели,
вопреки Ленину, воспользоваться российские коммунисты, превратив его в уто¬
пию, в догму. А в России возник тип некапиталистического общества, обладаю¬
щего рядом социалистических черт, что само по će6e стало явлением мирового
масштаба.
Эти основные направления понимания истории страны в ее последние 70 с
лишним лет, обозначившись поначалу в публицистике, на различного рода
конференциях и симпозиумах, не остались на данном уровне. Есть некоторые
основания полагать, что они постепенно начинают выкристаллизовываться и в
серьезной профессиональной литературе. Не сомневаюсь, что в основе их порой
3 См. Сахаров А. Революционный тоталитаризм в нашей истории. - Коммунист, 1991, № 5.
91
лежит чисто политическое восприятие событий тем или иным автором.
И это дает основание говорить об известной политизации истории. Но ведь и
сама политизированная и публицизированная история отражает определенные
исторические реальности наших дней, интересы определенных слоев населения,
их социально-политических симпатий и антипатий. Это, естественно, не может не
наложить отпечаток на историческую науку. Разве в прошлом труды профес¬
сионалов, скажем, кадета Милюкова, меньшевика Рожкова, большевика Пок¬
ровского были низкими по научному уровню их подходов к истории России?
Отнюдь нет. Просто мы четко представляем себе научную и политическую
ориентированность каждого из них. И все они вместе создавали причудливую
ткань российской науки начала XX в. Великолепный научный плюрализм концеп¬
ций, мнений.
И сегодня, я думаю, мы имеем дело не столько с политизацией истории,
сколько с плюрализмом как политических, так и научных подходов, настроений,
мнений. Закрывать на это глаза и отмахиваться от таких подходов, называя это
лишь политизированной историей, было бы неразумно. Единственное, что нам
требуется на этом пути, - опора на источниковую базу, усиление аргументации,
совершенствование литературного мастерства. И, конечно, углубленная разра¬
ботка методологических принципов создания той или иной масштабной работы.
И я вовсе не исключаю, что эти принципы будут неодинаковы. В науке вообще,
в том числе и в исторической, вряд ли возможны для всех исторических объектов
исследования, для всех авторов одинаковые методологические отмычки. И миро¬
вая историография с ее разнообразием методологических основ и с ее впечат¬
ляющими трудами это прекрасно показала. Сегодня все эти направления,
несмотря на их полярность, работают на науку. В их борьбе будет оттачиваться
аргументация, уходить действительная политизация, а на смену ей, я уверен,
будет приходить и утверждаться все прочнее плюралистическое научное пони¬
мание истории XX столетия.
В данной связи следует обратить внимание на определенные различия, су¬
ществующие на этот счет и в западной историографии. Поразительно, но там
волею закономерностей общественного движения в нашей стране и отражающих
его закономерностей развития исторической науки также сложилось примерно
три направления. Так, шотландский историк П. Дьюкс, выступавший на выше¬
упомянутой конференции в Институте истории СССР с анализом палитры мнений
относительно существа и последствий Октябрьской революции в современ¬
ной американской историографии, отметил весьма большой расклад позиций -
от понимания революции как результата обмана народа большевиками (вспом¬
ним о статьях в нашей литературе, утверждающих мнение о захвате Лениным
власти вопреки воле народа) до признания ее народной революцией (вспомним
опять же наше научное и публицистическое крыло, настаивающее на правоте и
ленинских идей, и ленинской практики).
В западной историографии идет упорная борьба между, скажем, "социаль¬
ной историей", или "ревизионистской", как ее называют на Западе, представи¬
телями которой являются американские историки Ш. Фитцпатрик, А. Рабинович,
У. Розенберг и ряд других ученых, и "ортодоксальными" историками, отрицаю¬
щими роль народных масс в этой революции и считающими Ленина и партийную
верхушку лишь узурпаторами демократической власти в стране. Так, автор фун¬
даментальной работы о Ленине английский историк Р. Сервис, выступая на
конференции "Россия, СССР в XX веке", заявил: "Ленинская политика была
чудовищной: концентрационные лагеря, государство, осуществляющее руко¬
водство экономикой, присущее системе бесправие, показательные процессы;
список узаконенных под его руководством репрессий обширен". Сталин в конце
20-х - 30-е годы лишь продолжал эту линию. Стремление к тотальному
92
поглощению общества государством, а государства партией исходило от ле¬
нинской когорты большевиков. Но эпохи Ленина и Сталина имели и различия.
Ленинская административно-командная система отличалась от сталинской лишь
своей слабостью, аморфностью. По мысли Сервиса, неавторитарная эволюция
большевизма вообще была невозможна и даже "бухаринский" путь к социализму
не был противоядием от авторитаризма. Об этом же неоднократно писал и
говорил американский ученый Р. Пайпс, который даже бросает упрек в "марксиз¬
ме" представителям так называемой "социальной", или "ревизионистской", исто¬
риографии.
Совсем иных позиций о соотношении "ленинского" и "сталинского" периодов в
истории страны придерживаются, например А. Такер, выпустивший ряд книг о
Сталине, или С. Коэн, перу которого принадлежит монография о Бухарине.
Они стоят ближе к трактовке этих периодов Троцким как в его книге "Сталин",
так и в других его сочинениях. Троцкистское понятие "термидор" применительно
к 1929 г., кажется, является для них вполне приемлемым.
Таким образом, в известной степени и в западной историографии относительно
оценки по крайней мере 1917-1930-х гг. складываются три основных подхода,
которые весьма близки по своей сути к сложившимся в последнее время в
отечественной науке и публицистике.
Правда, недавно мне довелось познакомиться с еще одной весьма любо¬
пытной западной интерпретацией исторического пути России в первой половине
XX в. В журнале "The Atlantic" опубликована статья А. Глисона4, в которой
автор сравнивает последствия Английской, Французской и Октябрьской рево¬
люций и приходит к выходу, что по своим долговременным последствиям первые
две уже доказали право на историческое уважение, в отличие от Октябрьской
революции, которая ни по одному параметру, по мнению автора, не дала прог¬
рессивных начал общественному развитию в России. По разрушительной силе,
по отрицательному воздействию на общество Глисон склонен сравнить ее со
"смутой'1 начала XVII в., которая, как и Октябрьская революция в XX в.,
продолжалась в различных модификациях несколько десятилетий. И Россия
вошла в период стабилизации лишь после принятия Уложения 1649 г. В этой кон¬
цепции немало политизированного, но в ней есть и неожиданное, правда,
формальное право на такого рода сравнения. Во всяком случае, я не склонен и в
этом случае говорить о политизации истории, а лишь посчитал бы, что мы имеем
дело с еще одной версией событий нашей истории XX в.
И еще на одном характерном примере мне хочется поставить эту проблему -
"политизация истории" или "научный плюрализм". Речь идет об оценке запад¬
ными учеными нашей так называемой перестройки. Нет сомнения в том, что
обилие политологической литературы, которая появилась в связи с перестройкой,
личностью Горбачева, было вызвано определенной политической эйфорией,
"горбиманией", а в основе своей - определенным западным эгоизмом, который
скрупулезно подсчитывал в период перестройки дивиденды. В это время на
Западе появились десятки работ по этой проблеме. Среди них книги уважаемых
авторов Дж. Хоскинга, Р. Саквы, С. Уайта, М. Левина, В. Хазана, А. Ноува,
Ф. Хансона5. Иные авторы выступили в коллективных монографиях, сборниках
статей, стали ответственными редакторами обобщающих изданий, докумен¬
4 Gleason Л. The Meaning of 1917. - Atlantic, November 1992, p. 30-34.
5 Hosking G. The Awekening of the Soviet Union. Cambridge (Mass), 1990; Sakwa R. Gorbachev and
His Reform. 1985-1990. London, 1990; Hasan BA. Gorbachev and His Enemies. Boulder - San Francisko -
Oxford, 1990; White S. Gorbachev in Power. Cambridge, 1990; idem. Gorbachev and After. Cambridge, 1991;
Levin M. The Gorbachev Phenomenon. Berkley, 1991; Hanson Ph, From Stagnation to Catastroika.
Commentaries of the Soviet Economy, 1983-1991. Washington, 1992, etc.
93
тальных публикаций. Это С. Биалер, А. Даллин, Г. Лапидус, Г. Бальцер и др.6
Появилась даже специальная литература, посвященная советской исторической
науке в период перестройки7.
И что же мы видим в этом широком потоке? Доминанта этой литературы -
славословие перестройки, Горбачева, даже тогда, когда ее провал и провал
самого номенклатурного реформатора был в нашей стране уже налицо.
Весьма характерны здесь два примера. В 1989 г. выходит в свет статья
С. Биалера ""Дело Ельцина": дилемма левых в революции Горбачева". Так вот,
маститый автор пишет, говоря о ноябрьском пленуме ЦК КПСС (1987), снявшем
Ельцина со всех постов: "Так закончилась сага о Борисе Ельцине, одной
из наиболее колоритных и интригующих фигур советской политики на пер¬
вой стадии горбачевской эры"8. Этот материал вышел в свет в 1989 г.,
когда Б.Н. Ельцин одержал ошеломляющую победу на выборах в Верхов¬
ный Совет СССР.
Три года спустя, уже после августа 1991 г., в журнале "Commentary" за апрель
1992 г. такой вдумчивый и внимательный автор, как М. Мэлиа, в статье
"Ельцин и мы" писал: "Будучи в оппозиции к коммунизму, Ельцин был нами
осужден как "популист", "скоморох", "автократ" и некоторыми бюрократами в
Вашингтоне - как "отчаянный демагог"... Но странный поворот событий: с того
времени, как Ельцин сделал свою политическую карьеру в качестве защитника
демократии и рынка, Горбачев, даже после его августовского плена, видел
реформы только сквозь призму Коммунистической партии. Единственная причина
этой инверсии заключалась в западной горбимании. Ельцин, в конце концов, был
человеком, который сверг нашего друга в Кремле"9. В подобном же духе была
написана блестящая книга Д. Моррисона "Борис Ельцин. От большевика к
демократу"10.
На первый взгляд перед нами обычная политическая полемика. На деле же в
западной историографии выкристаллизовываются два противостоящих друг
другу взгляда на смысл событий в России на исходе XX в.; две разных оценки
реформ 80-90-х годов; два разных взгляда на августовские (1991 г.) события.
Любопытно, что во многом эти оценки либо противостоят, либо соответствуют и
некоторым оценкам в отечественной литературе. Публицистическая и политоло¬
гическая, а позднее и историческая западная "горбимания" прочно корреспонди¬
ровалась с нашей либерально-коммунистической прогорбачевской прессой,
"круглыми столами" и т.д. Взгляды Д. Моррисона и М. Мэлиа, напротив, ближе
к леворадикальным статьям Ю.Н. Афанасьева, Г.Х. Попова и других авторов.
Конечно, это не исторические исследования. Это, как говорится, политизиро¬
ванная история. Но она создает определенный ментальный фон как в России, так
и на Западе: она определяет контуры будущих историографических направлений,
потому что историки - живые люди, а XX столетие - это для всех нас наше
вчера, наше сегодня и наше завтра.
—: I
6 The Soviet System in Crisis. A Reader of Western and Soviet Views. Ed. by A. Dallin and
G.M. Lapidus. Boulder (Colorado), 1991; Five Years That Shook the World. Gorbachev's Unfinished
Revolution. By H.D. Balzer. Oxford, 1991, etc.
7 См. Сахаров A.H. Советская историография в оценках западных исследователей. - Вестник
АН СССР, 1991, № 3; Sakharov A.N. Soviet Historiography: Modem Trends. - Western and Russian
Historiography Recent Views. New York, 1993.
8 Bialer S. The Yeltsin Affair: The Dilemma of the Left in Gorbachev's Revolution. - Politics, Society,
and Nationality inside Gorbachev's Russia. Ed. by S. Bialer. Boulder-London, 1989, p. 91.
9 Malta M. Yeltsin and Us. - Commentary, April 1992, p. 21.
10 Morrison D. Boris Yeltsin. From Bolshevik to Democrat. New York, 1991.
94
© 1993 г.
В.П. ДАНИЛОВ
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ:
В ЧЕМ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Если непредубежденно взглянуть на отечественную историческую литературу
последних трех-четырех лет, примерно с осени 1989 г., то взору представится
совершенно сюрреалистическая картина: в облаках дыма и пыли, поднявшихся
над распадающимся общественным зданием, витают фантастические фигуры
"спасителей" России и погубивших ее "злодеев", проплывают миражи "утра¬
ченных достижений" и "несбывшихся возможностей", мечутся в ожесточенной
схватке "проклятая ментальность" и "роковая случайность"...
Распад советского общественного сознания, всей системы политических,
идеологических и научных представлений сопровождается бурным историческим
мифотворчеством, призванным обосновать и оправдать стремления и действия
новых политических сил. Научная историография решительно отодвинута на
задний план, оказалась в состоянии глубокого упадка, внешним выражением
которого явилось сокращение и даже прекращение выпуска научных изданий.
Проще всего было бы сказать: состоялся распад советской историографии,
пронизанной догматизмом и жестко подчиненной политике, и он сам по себе
станет условием рождения новой историографии, которая будет в большей мере
отвечать критериям научного знания. Хотелось бы надеяться на это, но, к
сожалению, в действительности для подобных надежд нет оснований. Напро¬
тив, мы наблюдаем прямое сходство, буквальное совпадение в положении и
использовании исторического знания в советской и современной (постсоветской)
литературе. Налицо опасное повторение'.
Возрождение исторической науки после сталинского разгрома, начавшееся
столь ярко и мощно в конце 50-х - начале 60-х годов, было прервано
реакционным брежневско-сусловским переворотом. Сопротивление, оказанное
"шестидесятниками" в 1965-1974 гг., сыграло свою роль: партийная бюрократия
не смогла возродить сталинский идеологический режим во всей полноте.
Тем не менее развитие общественных наук, в частности исторической, было
остановлено, в чем-то даже отброшено назад. Сложилась ситуация "застоя",
точнее - "замораживания", возрождения "царства Холода".
Попытки исследования исторического цроцесса в его конкретности и проти¬
воречивости, тем более попытки его теоретического осмысления пресекались
самым решительным образом. Обвинений в "очернительстве истории", в
"ревизионизме" и "антипартийности" было достаточно для осуждения бышедшей
в 1965 г. книги А.М. Некрича "1941. 22 июня" - о причинах поражений Крас¬
ной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны, для ссылки
типографского набора большой работы по истории коллективизации, написащюй
группой авторов в Институте истории АН СССР, для разгрома "нового
направления" в изучении истории предреволюционной России, представленного
такими именами, как А.М. Анфимов, П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тар¬
ковский.
Пожалуй, одним из самых драматических моментов в кампании травли
самостоятельно мыслящих ученых явилась расправа над докторской дцссерта-
цией К.Н. Тарновского. В этом талантливом историографическом исследовании
была проанализирована обширная литература по социально-экономическому раз¬
витию предреволюционной России, раскрыта необходимость новых решений
большого круга проблем, связанных с целостным осмыслением основы основ
95
российской трагедии XX столетия. Создание такого труда было продиктовано
потребностями науки и послужило бы сильнейшим стимулом для ее развития.
Но именно этого не хотело допускать - и не допустило - идеологическое
руководство, возглавлявшееся Сусловым и Трапезниковым.
Конкретно-исторические исследования стали быстро свертываться. Их подме¬
няли созданием "обобщающих трудов", представлявших широкие возможности
для догматических построений, призванных еще раз подтвердить то, что заранее
считалось бесспорным. Начавшие открываться с середины 50-х годов архивные
фонды опять становились недоступными для исследователей. Более того, было
запрещено использовать "в открытой печати" документы из важнейших фондов,
полученные историками во время хрущевской "оттепели". Возобновившаяся
(прежде всего благодаря усилиям А.Л. Сидорова) активная публикация истори¬
ческих документов резко сократилась, а ее характер из научной превратился в
примитивно-пропагандистский. Сопротивление таким изменениям, конечно,
оказывалось и со стороны архивистов, и со стороны историков. Однако оно не
могло быть широким и эффективным. Приведу отнюдь не типичный, но выра¬
зительный пример: первые тома серийной публикации документов "Коопера¬
тивно-колхозное строительство в СССР" были подготовлены во второй половине
50-х годов, а вышли в свет в начале 90-х. За 30 с лишним лет они неоднократно
рассматривались руководством и неизменно возвращались на доработку с требо¬
ванием все большего исключения "негативных" материалов и включения всем
известных и доступных официальных документов из "КПСС в резолюциях..." и
других подобных изданий.
Особенную нетерпимость идеологического руководства вызывали любые
попытки нового осмысления теоретических проблем общественного развития.
Интересные и важные научные дискуссии об азиатском способе производства,
начавшиеся в середине 60-х годов, были прекращены в первую очередь,
поскольку перерастали в обсуждение коренных проблем теории общественно¬
экономических формаций и к тому же наводили на размышления о "сталинском
варианте АСП". Едва начавшись, угасло обсуждение типологии исторического
процесса в различных странах и регионах мира.
Вышедший в свет в 1968 г. в издательстве "Наука" первый том сборника
статей "Проблемы истории докапиталистических обществ" был тут же гру¬
бейшим образом осужден за "ревизионизм", за "проповедь идеи конвергенции", за
"антимарксизм". Подготовленный к печати второй том сборника сразу же был
возвращен издательством как "идеологически порочный". Вся крамола этого
труда состояла в стремлении освободиться от сталинской трактовки теории
общественного развития, осмыслить на уровне современных знаний подлинное
наследие марксизма: здесь и попытка охарактеризовать развитие и смену
общественно-экономических формаций как результат всемирно-исторического
процесса, и постановка проблемы исторического центра и периферии, и связанной
с ней проблемы производных и переходных общественных форм, и осознание
необходимости исследования природных компонентов в историческом процессе.
Порочным был признан и анализ внутренней структуры социально-экономических
формаций при постановке проблемы многоукладное™ российской экономики
начала XX в. в работах историков "нового направления".
Свидетельством стремления к полному подавлению теоретического поиска
явилась ликвидация в 1968 г. сектора методологии истории в Институте истории
АН СССР - сильнейшего научного коллектива, подошедшего к пониманию
необходимости "нового прочтения" Маркса1.
1 См. Гефтер М.Я. Введение к сб. Историческая наука и некоторые проблемы современности.
М., 1969, с. 6 и след.
96
Одни^ из результатов замораживания марксистской теоретической мысли в
общественных науках явилась ее неподготовленность к современному общест¬
венному кризису. Впрочем, ее ослабленность и безответность на критические
атаки конца 80-х - начала 90-х годов имеют и политические корни: эти атаки
организовали и возглавили официальные идеологи КПСС, занимавшие поло¬
жение единственных охранителей и истолкователей того набора примитивных
догм, который со сталинских времен назывался марксизмом. Совершенно оче¬
видно, что именно подавление и замораживание марксистской мысли в ста¬
линские и брежневско-черненковские времена подготовило ее современный разг¬
ром, от которого она не скоро оправится.
Наконец, несомненным свидетельством кризиса отечественной историографии,
связанного со сталинистской реакцией второй половины 60-х и последующих
годов, было резкое сокращение притока в науку новых, прежде всего молодых,
сил как следствие административных ограничений и падения престижа занятий
историей. /
Из сказанного ясно, что основным источником кризиса исторической науки
явилось ее подчинение политике вплоть до превращения в простое средство
решения текущих задач (прямое командование, политический характер оценок
работы историков и т.д.). Этим же объясняется разрыв между догматическими
представлениями и реальным историческим процессом, между обязательными
схемами и живой действительностью прошлого и настоящего (уровень капи¬
тализма в предреволюционной России, развитый социализм 70-х - 80-х годов
и т.п.) Результатом была утрата научного характера деятельности в области
изучения истории. Научное исследование стало уделом "чудаков" и "неудач¬
ников".
Перестройка на первых порах вызвала несомненное оживление и подъем
исторической мысли, надежды на преодоление затянувшегося кризиса, на воз¬
можности подлинного свободомыслия и подлинно демократических условий науч¬
ной деятельности. Не случайно, общую тональность возобновившихся дискуссий,
документальных изысканий и исследований на первых порах, по крайней мере, до
середины 1989 г., определяли "шестидесятники". Начали публиковаться работы,
выполненные еще до 1965 г., или же реализовывались замыслы того времени.
Однако очень скоро стало обнаруживаться новое и все более заметное усиление
политизации всей обстановки, во многом воспроизводящее те же отрицательные
черты, о которых речь шла выше, прежде всего идеологическую нетерпи¬
мость вплоть до баррикадной формулы "Кто не с нами, тот против нас!".
Вновь официальное общество требует от истории лишь подтверждения его поли¬
тики, пренебрегая действительным существом и ходом событий, явлений, про¬
цессов.
Прокатилась волна "обвальной" смены взглядов и убеждений, когда самые
активные и даже официальные идеологи советского марксизма и социализма,
включая партаппаратчиков высоких рангов, вдруг оказались самыми ярыми про¬
тивниками марксизма и социализма в принципе, а не только созданной с их
участием модели. Отброшена одна идеологическая маска, второпях натянута
другая - противоположная. Наиболее характерным примером может служить
доклад А.С. Ципко об идеологии и практике большевизма, с которым он выс¬
тупил на российско-американской конференции "Социокультурные истоки и
историческая судьба большевизма" в марте 1992 г. Бывший сотрудник аппарата
ЦК КПСС, нынешний сотрудник аппарата фонда Горбачева, близкий к руко¬
водству обеих этих организаций, в докладе на двух десятках страниц не затронул
ни одной проблемы - ни теоретической, ни конкретно-исторической, связанной с
происхождением, сущностью и ролью большевизма. Этот документ сопоставим
только с идеологическими "разоблачениями" сталинско-брежневских времен.
4 Новая и новейшая история, № 6
97
Вот образцы содержания и языка: "Большевизм... это теория и практика
грехопадения человечества, это история одного из самых омерзительных прояв¬
лений зла... разрушения цивилизации... собственности... труда, религии".
"Речь идет о криминальной, человеконенавистнической теории... о преступной
практике, направленной против основ человеческой цивилизации”. За этим пото¬
ком брани по адресу большевизма обнаруживается и более широкий фон брани
по поводу "иллюзий европейского Просвещения, сциентизма", "атеистической
интеллигенции". Марксизм, оказывается, был проявлением "человеческой
гордыни", его сущность - "в нежелании примириться с плотностью, непро¬
ницаемостью социальной жизни... в нежелании согласиться с тем, что есть
исходные, неразрешимые проблемы человеческого бытия, что существуют не¬
разрешимые проблемы”.
Бывший пропагандист марксизма теперь требует его полного искоренения:
"Нынешняя терпимость интеллигенции ко всем реликтам марксизма не может
быть оправдана". Перед нами все тот же "указующий перст", лишь изменивший
направление слева направо. Свобода мысли и слова, принципы демократии
отбрасываются с порога.
Появись доклад Ципко в виде статьи на страницах журнала "Столица" или
брошюры какой-нибудь религиозной организации, не стоило бы на него обращать
внимание, но доклад был сделан на конференции, созванной фондом Горбачева.
И это придает проповеди ненависти и антисциентизма общественную значи¬
мость.
Растущее вторжение политики становится главным препятствием на пути
выработки новых теоретических концепций, научных исторических представ¬
лений. Именно с этим связано исчезновение со страниц журналов дискуссий и
обсуждений. В этом же одно из главных препятствий постановке больших
исследовательских программ по истории России, особенно с начала XX в. Естест¬
венной реакцией на сложившуюся ситуацию большинства активных историков
стал уход в архивы, в публикацию документальных материалов.
Можно, пожалуй, утверждать, что для историков главнейшим позитивным
результатом совершившихся за последний год перемен стало открытие ранее
секретных архивных фондов. В этом проявился действительный прогресс, реаль¬
ное демократическое завоевание и надежда на сохранение и рост научного зна¬
ния. Открывается огромный и в массе своей никогда не изучавшийся историками
материал. Мы могли лишь мечтать, например, о документах, исходящих из
среды восстававших в 1918-1921 гг. крестьян, а сейчас совместно с историками и
архивистами Тамбова готовим сборник об антоновском мятеже 1920—1921 гг. с
документами "антоновцев". Мы и не мечтали получить информационные сводки
ОГПУ о положении и настроении деревни - "земсводки", "коопсводки",
"спецсводки", - теперь же ведем работу над изданием "Деревня 20-х - 30-х годов
глазами ОГПУ". Для освоения открывающихся материалов потребуются нема¬
лое время и немалые силы. Здесь необъятное поле для международного
сотрудничества. Не случайно, наиболее масштабные и научно значимые проекты
совместных работ историков разных стран связаны с публикацией архивных
материалов.
Однако я вовсе не хотел бы создавать иллюзий полнейшего благополучия в
нынешнем состоянии и работе архивов, включая их открытость. Остается не¬
доступным важнейший архив, без которого открытие всех других архивов не
может дать исследователю полную картину при изучении кардинальных проблем
истории нашего государства. Я имею в виду Архив Президента Российской
Федерации. Его можно было бы назвать архивом "особых папок": он олицет¬
ворял систему бюрократической централизации архивного хранения документов
по стране в целом. О чем бы ни шла речь - о политике, об экономике, об
98
иностранных делах, о партии, о Коминтерне, об ОГПУ и репрессиях - по всем
вопросам решения высшего руководства и материалы к ним находятся там и
только там2.
Полное открытие этого архива способствовало бы повышению уровня и
публикаторской, и собственно исследовательской работы историков советского
времени. Но этот архив остается вместе с тем основой той монополии на
архивную документацию, которую сохраняет и тщательно оберегает чиновни¬
чество аппарата управления. В некоторых случаях документы архивов оказы¬
ваются более доступными для зарубежных историков, нежели для российских.
Думаю, что создание "единого фронта" историков, из какой бы страны они ни
появлялись в российских архивах, могло бы ускорить решение проблемы.
Примерно в то же время, когда произносились эти слова, журнал "Sla¬
vic Review" опубликовал письма американских историков о положении в
российских архивах3. Как справедливо замечают авторы, "архивная лихорадка"
приняла ныне нездоровый характер. Проблемы, порожденные коммерциали¬
зацией исследовательской деятельности, останутся серьезными на необозримо
длительный срок, ибо "никакие санкции и запреты не могут остановить рынок" и
в повседневной действительности, увы, "каждый ученый сам определяет для
себя что этично, а что нет".
Тем не менее я считаю полезным напоминание о принципах поведения,
сохраняющих свое моральное значение даже в условиях наступающего рынка и
сопровождающего это наступление экономического, политического и духовного
кризиса. Это напоминание можно было бы сделать в форме простого обращения
группы историков и архивистов с призывом к отказу, например, от покупки
"права первой ночи" (и утаивания "купленного документа" до его использования
покупателем) и т.п.
Но публикация новых документов, как бы она ни была важна, не может
исчерпать работу историка. Время требует от историков серьезного переосмыс¬
ления своего прошлого и настоящего, критического самоанализа, выработки
новых представлений. И такая работа, конечно, ведется прежде всего в конк¬
ретно-исторических исследованиях. Многие убеждены, и я их понимаю, что
новые концепции и теории должны быть "извлечены" из конкретно-исторического
анализа, а не "преподаны" заранее, как это было в советской историографии.
Но, увы, это иллюзия: разработка историософских проблем, методологии иссле¬
дования - самостоятельная задача.
Важнейшим фактором становления новой историографии является междуна¬
родное сотрудничество ученых: конференции и совместные работы прежде всего;
переводы книг и статей, к сожалению, резко сократившиеся в последнее время
из-за кризиса издательского дела; семинары специалистов, посвященные совре¬
менным теоретическим и историческим концепциям. Можно привести немало
примеров активного участия зарубежных коллег в наших обсуждениях. Вот один
из них: весной 1992 г., в условиях начавшегося "обвального" отрицания марксиз¬
ма, смелым вызовом прозвучало выступление известного британского социолога
Теодора Шанина "Карл Маркс еще пригодится..."4.
Опыт вновь и вновь подтверждает, что международное сотрудничество
ученых - один из самых живительных источников научного творчества. Одна¬
ко зачастую он сопровождается соблазном прямого заимствования зарубежных
2 О передаче отдельных фондов Архива Президента РФ в систему Государственной архивной
службы России см. информацию ”06 Архиве Президента РФ" в данном номере нашего журнала. -
Прим. ред.
3 Slavic Review, v. 52, № 1, Spring 1993, p. 87-106.
4 Неделя, 10.III. 1992.
4*
99
идей и концепций. Здесь у нас много примитивного, особенно в области рыночных
теорий, когда договариваются до объявления рынка не условием, не средством
экономического развития, а его "целью"и даже ’’сущностью". К таким же
облегченным решениям следует отнести и попытки найти ключ к пониманию
истории в весьма частной теоретической концепции "эргономики".
Предпринимаются и более серьезные заимствования, относящиеся к теории
исторического процесса. В западной литературе разработаны интересные кон¬
цепции различных вариантов исторического развития, связанных с существо¬
ванием и взаимодействием цивилизаций. Эти концепции действительно заслужи¬
вают глубокого изучения и осмысления. Замечу, что в советской литературе,
особенно философской и востоковедной, было начато обсуждение и понятия
"цивилизация", и его возможностей в анализе исторического процесса, прежде
всего в связи с работами Арнольда Тойнби. Имеются, следовательно, известные
предпосылки для работы в этом направлении. Однако политика торопит: общест¬
во нуждается в новой идеологии. И вот уже готово решение огромной задачи!
Догматическая пятичленная схема сменяющихся общественно-экономических
формаций Отбрасывается. Вместе с ней из арсенала историка выбрасывается
вообще представление о единстве всемирно-исторического процесса, его ста¬
диальности и многом другом. Главным, если не единственным, объявляется
цивилизационная социокультурная принадлежность.
Вот пример из новейших: с точки зрения "способности к самоизменению"
выделяются два типа общества, две цивилизации: "традиционная", бесконечно
повторяющая заданные циклы развития, и "либеральная", ориентированная
на свободу личности и поэтому постоянно самоизменяющаяся, динамичная.
Само по себе различение обществ традиционного типа и обществ современных,
если можно так выразиться, - новационных, давно принято и в марксистской, и в
немарксистской литературе. Причем различение этих двух типов общества
всегда связывалось с определенными стадиальными различиями в характере
воспроизводства общественной жизни. Ни для кого не было сомнения в том, что
в той же Европе современному обществу предшествовали длительные стадии
развития традиционного типа. Теперь же нам предложено жесткое распреде¬
ление цивилизаций между континентами и народами, их предначертанность в
социокультурном феномене. При таком распределении Россия оказалась страной
"промежуточной цивилизации", отличающейся "деструктивным" характером и
обреченной на систему "псевдо...": "псевдоэкономика", ’’псевдорынок", "псевдо-
капитализм", "псевдоурбанизация", "псевдокооперация" и т.п., вплоть до
"псевдоразвития" - всего-навсего "пульсации". Такой выглядит либеральная кон¬
цепция истории России в недавно вышедшем трехтомнике А.С. Ахиезера5.
Молодые либералы идут еще дальше, объявляя российское общество -
"псевдообществом", а этносы российского пространства - "псевдонациями", т.е.
народами, которые не поднялись до уровня наций. В конечном итоге перед нами
предстает "псевдострана", населенная "псевдолюдьми". Нам предлагают чисто
идеологическую конструкцию, предназначенную для обслуживания новой поли¬
тики. Будет интересно проследить процесс внедрения либеральной идеолбгии в
общественное сознание и ее политическое функционирование. Но к науке она
имеет отношения не больше, нежели идеология сталинско-брежневского социа¬
лизма.
Имеются и несколько смягченные варианты "цивилизационной" интерпретации
истории России, особенно советского времени. Такова, например, попытка объяс¬
нить Октябрьскую революцию 1917 г. и возникновение советской системы
проявлением сущности российской цивилизации, которая состоит в общинности, в
5 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта, в 3-х т. М., 1991, т. 3, с. 266-296, 322 и др.
100
общинном самоуправлении прежде всего6. Сохранение общинных институтов,
традиций, связей в крестьянской среде, конечно, сказывалось на ходе и исходе
революции, но революция в России совершилась в силу социальных и истори¬
ческих обстоятельств, связанных отнюдь не с общиной.
Обновление научного мировоззрения - самостоятельная творческая работа
(ее сущность, на мой взгляд, будет состоять в синтезе), не дающая быстрого и к
тому же отвечающего "заказу" результата.
Все то, о чем говорилось выше, - и многое другое, в чеч проявляется кризис
постсоветской историографии, - можно, пожалуй, признать неизбежным: слиш¬
ком долго историческая наука, историки находились под политическим и
идеологическим диктатом, слишком долгой была изоляция, оторванность нашей
историографии от исторической науки других стран./Тлубина и продолжи¬
тельность кризиса будут, конечно, зависеть от общей ситуации в стране, а она
отнюдь не благоприятна для ученых занятий. Потребуются немалые усилия для
обеспечения и расширения возможностей исследовательской работы, для
реализации и обсуждения ее результатов, для защиты ее от некомпетентного
вмешательства. Главная опасность, а Ойа уже не в будущем, а в настоящем,
состоит в установлении нового "единомыслия", в новом диктате со стороны
политики и идеологии. Выход из кризиса не в замене "пятичлейки" "двух¬
членной", не в перевертывании старой методологической формулы "экономика -
базис..." в псевдоновую формулу "культура - базис..." и т.д. Подлинный выход -
в свободе научной мысли и научного слова, равно гарантированной представи¬
телям всех мировоззренческих и научных направлений и школ.
6 См. СеменниковаЛ.Н. Октябрь 1917-го... Что же произошло? - Свободная мысль, 1992, № 15,
с. 5-18; Хасбулатов Р.И. Слово о Советах. - Правда, 4.III.1993; его же. Заглянем в истоки Оте¬
чества. - Правда, 15.V.1993; его же. Право по-царски... - Правда, 3.VII.1993.
101
Записки дипломата
© 1993 г.
А.М. ДЕДОВСКИЙ
НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В КИТАЕ
В 1942-1952 гг.
КАК Я СТАЛ ДИПЛОМАТОМ
К проблемам советско-китайско-американских отношений я оказался причас¬
тен в 1942 г., когда был направлен на дипломатическую работу в Китай. А до
этого я прошел трехлетнюю подготовку в Высшей дипломатической школе
МИД СССР, переименованной впоследствии в Дипломатическую Академию.
Это дипломатическое учебное заведение было создано по инициативе и указанию
И.В. Сталина в 1939 г. для подготовки профессиональных дипломатических
кадров. До этого они готовились на краткосрочных курсах, а в большинстве
случаев направлялись за рубеж без всякой подготовки, без знаний языков и
стран, куда они назначались. Им преходилось проходить практическую школу
дипломатии в ходе работы. Правда, полпредами, а затем послами назначались
люди высокой квалификации, всесторонне образованные, владевшие иностран¬
ными языками. Но их в советском дипломатическом корпусе было мало, бук¬
вально единицы. Что касается аппаратов дипломатических органов в центре и за
рубежом, то в подавляющем большинстве их сотрудники вовсе не имели про¬
фессиональной подготовки. И вот для решения этой кадровой задачи и начала
функционировать с октября 1939 г. Высшая дипломатическая школа (ВДШ).
Среди ее первых 50 слушателей неожиданно для себя оказался и автор этих
строк. Это произошло при обстоятельствах, заслуживающих упоминания.
Для отбора слушателей ВДШ были направлены в различные районы страны
инструкторы Управления кадров ЦК ВКП(б). Через местные партийные органы
они знакомились с возможными кандидатами из числа грамотных молодых
работников не только в крупных городах, но и в далекой ’’глубинке". Я был,
таким образом, отобран из среды многих моих сверстников в Астраханском
округе, ныне Астраханской области, где я рцботал в то время учителем физики и
математики в одной из сельских школ (сейчас это город Харабали). В результате
собеседования с приезжавшим в Астрахань инструктором ЦК моя кандидатура
была рекомендована Сталинградским обкомом ВКП(б) и утверждена ЦК
ВКП(б).
Перед утверждением отобранных для поступления в ВДШ кандидатов нас
вызвали в ЦК, где с каждым беседовал один из секретарей. В его приемной
Андрей Мефодиевич Дедовский - Чрезвычайный и Полномочный посол в отставке, кандидат
исторических наук. В настоящее время - старший научный сотрудник Института Дальнего Востока
РАН. Автор книг "СССР и Народная революция в Китае" (М., 1972), "Китайская политика США и
советская дипломатия" (М., 1985) и ряда других работ.
102
впервые встретились 50 слушателей первого набора ВДШ, большинство кото¬
рых впоследствии стали послами. Лекции в ВДШ читали крупнейшие ученые
страны. Иностранным языкам нас учили в группах по два-три человека. Мне и
двум моим товарищам было определено изучать китайский и английский языки.
В середине 1942 г., после трех лет учебы, закончилась моя подготовка в ВДШ
(товарищи, изучавшие западные языки, окончили школу на год раньше), и я
сразу же был направлен на работу в Китай, где почти безвыездно трудился
10 лет, до середины 1952 г. Начал с должности атташе, вскоре был назначен
вторым, первым секретарем посольства, затем - советским представителем в
г. Ланьчжоу, генеральным консулом СССР в Бэйпине (Пекине), а после образо¬
вания КНР - генеральным консулом в Мукдене, являвшемся административным
центром Маньчжурии, или Северо-Восточного Китая (Дунбэй).
По возвращении в 1952 г. из Китая я занимался проблемами Дальнего Восто¬
ка и советско-китайских отношений в центральном аппарате МИД СССР в
качестве заместителя заведующего Дальневосточным отделом. Ę 1955-1959 гг.
мне довелось работать советником нашего посольства в США, откуда я был
направлен на семь лет послом в Бирму. По возвращении в 1966 г. из Бирмы мне
довелось иметь дело с международными проблемами, касавшимися в первую
очередь советско-китайско-американских отношений, находясь на руководящей
работе в отделе заграничных кадров ЦК КПСС. Через этот отдел в значитель¬
ной мере контролировалась деятельность советских внешнеполитических и
внешнеэкономических органов в нашей стране и за рубежом. С точки зрения
познаний в области проблем международных отношений очень многое мне дала
работа в Союзе советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными
странами (ССОД), где я в течение семи лет был заместителем председателя
президиума этой организации, являвшейся как бы общественным министерством
иностранных дел. Это предоставило мне большие возможности для связей со
многими зарубежными странами, в том числе США и Китаем, с представителями
официальных, а еще более - общественно-политических кругов всех идеологи¬
ческих оттенков.
Выйдя в 1980 г. в отставку и перейдя на научную работу в Институт
Дальнего Востока, я получил возможность попытаться изложить накопленные за
многие годы деятельности на внешнеполитическом поприще знания и опыт в
ряде опубликованных книг и статей по вопросам международных отношений на
Дальнем Востоке, главным образом между СССР, Китаем и США в годы второй
мировой войны и первого послевоенного десятилетия, которые сыграли особую
роль в истории советско-китайско-американских отношений. Честно говоря, эти
мои предыдущие работы имеют ряд недостатков, что в той или иной мере
свойственно работам других советских авторов, которым приходилось писать в
годы "холодной войны", в условиях жесткой цензуры, навязанных сверху
идеологических стереотипов и других часто непреодолимых барьеров.
Сложившаяся новая обстановка для научной творческой работы, предоставив¬
шаяся мне лично возможность ознакомления со многими оригинальными архивны¬
ми документами позволяет и побуждает вернуться к вопросам, затронутым в
моих предыдущих сочинениях, как и в работах других историков, отечественных
и зарубежных.
Предметом данного повествования я решил взять из огромного комплекса
разнообразных проблем те, которые касаются более всего истоков "холодной
войны" в Азии и взаимоотношений в треугольнике СССР - США - Китай. Эта
проблематика более всего знакома мне по моей дипломатической и научно-
исследоватедьской работе.
103
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ И ПОЗИЦИЯ СССР И США
Гражданская война в Китае вовлекала в свой водоворот СССР и США, резко
обостряла и без того сложные отношения между двумя странами и нередко
подводила их к грани прямого военного столкновения. Все это до предела
дестабилизировало обстановку на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и в немалой степени содействовало обострению всей международной
обстановки в целом. В частности, это подчас парализовывало деятельность
ООН, где постоянно происходила острая борьба вокруг проблемы "двух Китаев"
и до взрывоопасной степени накалялись отношения двух сверхдержав.
Для СССР и Китая гражданская война имела много других негативных
последствий, в частности, экономического характера. Дело в том, что накануне
окончания войны с Японией США обещали Китаю всестороннюю помощь в
восстановлении и развитии страны, была разработана и согласована на
межправительственном уровне широкая экономическая программа, своего рода
"план Маршалла" для Китая. Гражданская война сорвала осуществление этой
программы, толкнула экономику Китая в еще более глубокую пропасть, а после
свержения правительства Чан Кайши США вообще отказались от каких-либо
связей с материковым Китаем и вместе с другими западными державами
установили жесткую блокаду КНР, переключив предназначавшуюся для Китая
экономическую помощь на Тайвань.
В результате этого всю экономическую помощь КНР пришлось целиком
взять на себя СССР, который и без того был отягощен своими собственными
неимоверно трудными проблемами, связанными с залечиванием глубоких ран,
нанесенных войной с гитлеровской Германией/ Более того, СССР сам был
подвергнут экономической блокаде со стороны стран Запада. Отчасти это было
"возмездием" за советскую помощь Коммунистической партии Китая (КПК) в
гражданской войне й за поддержку Китайской народной республики (КНР). В это
время со стороны Москвы четко обозначился курс против Гоминьдана, на
передачу Маньчжурии в руки китайских коммунистов и превращение ее в
"революционную базу".
Возникает вопрос: что же заставило СССР пойти на оказание поддержки
вооруженной борьбе КПК против Гоминьдана, порвать с Чан Кайши, помочь
Мао Цзэдуну прийти к власти, не посчитавшись с неизбежным обострением
отношений с США? Ведь переориентация советского руководства с Гоминьдана
на КПК не привела к стабильности советско-китайских отношений. Вопрос этот
очень сложный. В отечественной историографии ответы на него в основном
сводились к тому, что правительство Чан Кайши проводило антисоветскую
политику, Чан Кайши назывался капитулянтом по отношению к Японии и
американской марионеткой. Утверждалось также, что США стремились превра¬
тить Китай в свою колонию и использовать его как плацдарм против СССР, что
вмешательство США в китайские дела носило характер прямой вооруженной
интервенции на стороне Гоминьдана, против КПК.
Не вступая в детальную полемику, мне хотелось бы привлечь внимание чи¬
тателей к следующим обстоятельствам. В годы второй мировой войны советское
правительство рассматривало правительство Чан Кайши как главного партнера,
оказывавшего начиная с 1937 г. сопротивление японской агрессии. На долю
гоминьдановских армий выпала тяжесть всех самых крупных сражений с
японцами. Именно поэтому советская помощь, которая оказывалась Китаю в
антияпонской войне, направлялась гоминьдановскому правительству. Она, кста¬
ти, не была односторонней. Оказывая сопротивление японским захватчикам,
Китай оттягивал на себя значительную часть сил, которые могли быть
использованы Японией против СССР. Известно также, что Япония прилагала
104
всяческие усилия, чтобы склонить правительство Чан Кайши к сговору, к
прекращению борьбы. Нетрудно представить, какие последствия такой вариант
событий имел бы как для Китая, так и для нашей страны. Все японские
предложения были гоминьдановским правительством отвергнуты. Не привели
также к успеху попытки США поставить под свое верховное командование все
вооруженные силы Китая. В ответ на настойчивые предложения Ф. Рузвельта
согласиться с этим и назначить в качестве главнокомандующего генерала
Стилуэлла Чан Кайши потребовал, чтобы Стилуэлл немедленно убрался из
Китая1.
Можно было бы привести ряд других фактов, свидетельствовавших о том, что
Чан Кайши не был чьей-то марионеткой или капитулянтом. Правда, такими
оценками грешила иногда информация из нашего посольства в Китае. Помню, из
МИД СССР приходили на этот счет замечания, в которых указывалось, что
информация, поступавшая из посольства, носила слишком тенденциозный
характер и отражала мнение лишь представителей левой и левоэкстремистской
оппозиции, на которых замыкались почти все связи нашего посольства. МИД
требовал установления более широких связей с представителями всех полити¬
ческих сил Китая, включая правых и левых, а в осуществлении политической
линии советского правительства ориентироваться на центристские силы и лично
на Чан Кайши как их лидера и наиболее, твердого сторонника борьбы против
японской агрессии. Эти замечания МИД ставили советских дипломатов в Китае в
затруднительное положение. Нам более всего приходилось опасаться того, что
контакты и связи с ’’правыми гоминьдановцами" могут быть истолкованы как
отступление от "классовых позиций", а то и вызвать еще худшие подозрения. А
к "правым" причислялись проправительственные круги и все другие китайские
деятели, высказывавшие хоть малейшие критические замечания, а тем более
недовольство в отношении политики Кремля или настроенные против КПК, а
точнее, против действий маоцзэдуновского руководства.
На деятельность наших дипломатов в Китае накладывала свой отпечаток
двойственность целей, положенных в основу внешней политики СССР, С одной
стороны, необходимо было удержать Китай в войне против Японии и активизи¬
ровать китайский фронт. А для этого мы должны были иметь нормальные
отношения с правительством Чан Кайши, с Гоминьданом в целом. С другой
стороны, целью Москвы было защитить КПК и укрепить ее позиции. Эти задачи
трудно совмещались, так как борьба между Гоминьданом и КПК была прежде
всего борьбой между Чан Кайши и Мао Цзэдуном за власть в стране, а история
страны, китайские традиции, как не раз говорили нам многие китайцы, не знали
компромиссов между двумя боровшимися противниками, ибо борьба, как
правило, прекращалась только тогда, когда один уничтожал другого. Американ¬
цы пытались примирить между собой Чунцин (столица Китая в годы анти¬
японской войны) и Яньань (местопребывание руководства КПК), взяли было на
себя роль посредников, стремясь удержать обе стороны от войны друг с другом,
но из этого ничего не вышло. Москва же не хотела выступать посредником и,
пока шла антияпонская война, старалась всячески предотвратить гражданскую
войну путем сдерживания одной из сторон - Гоминьдана. Но это, подрывало
наши отношения с гоминьдановским правительством. Таков был общий фон
советско-китайских отношений вплоть до октября 1949 г. - образования КНР2 * *.
1 Tuchman В. Stilwell and the American Experience in China. London - York, 1972. p. 637; Thornton R.
China, 'rhe Struggle for Power. 1917-1972. Bloomington - London, 1975, p. 150-151.
2 Подробнее об этом см. Ледовский А.М. СССР, США и Китай в 1937-1949 гг. Записки
советского дипломата. - Новая и новейшая история, 1990, № 5; его же. Записки дипломата. -
Проблемы Дальнего Востока, 1991, № 1.
105
В дополнение к этому между СССР и гоминьдановским Китаем возникало
много других вопросов, претензий. Больше всего их выдвигала советская
сторона, причем часто в очень резкой форме. Например, наше посольство в
Китае по указанию правительства выражало недовольство по поводу того, что в
Китае мало демонстрируется советских фильмов, мало публикуется советских
материалов, ограниченно распространяется советская литература, особенно по¬
литическая. Китайскому правительству в связи с этим делались неоднократные
представления, протесты. Указывалось при этом на широкое распоостранение
американских и английских материалов, кинофильмов. Это расценивалось нами
как дискриминация в отношении СССР. Китайские власти отвергали наши
демарши как необоснованные, не учитывавшие обстановку в стране, где КПК
вела вооруженную борьбу за свержение гоминьдановского правительства и зах¬
ват власти, а советские пропагандистские материалы еще более способствовали
дестабилизации ^обстановки. К тому же материалы ТАСС, Совинформбюро
приходили с большим опозданием, были очень ’’сырыми" и требовали большой
переработки, перевода на китайский язык и т.д. Поэтому китайские издательст¬
ва предпочитали пользоваться английскими и американскими материалами, про¬
ходившими необходимую обработку на месте. Мы в посольстве, разумеется,
понимали несостоятельность многих наших претензий к китайцам. Помню, наш
посол А.С. Панюшкин и пресс-атташе посольства Е. Виноградов неоднократно
писали об этом в Москву. Наше посольство имело для обработки материалов
всего лишь одного сотрудника, тогда как американцы располагали для этих
целей штатом свыше 100 человек. Мы просили добавить нам хотя бы одну-две
штатные единицы, но Москва ответила отказом. Посольство указывало также
на неприемлемость для условий Китая советских фильмов, поскольку они носили
слишком пропагандистский характер, к тому же китайская публика из-за язы¬
кового барьера многие советские фильмы не понимала (в Китае был широко рас¬
пространен английский язык и очень мало кто знал русский), советские доку¬
ментальные фильмы крайне запаздывали, и к ним терялся интерес3.
Гоминьдановские власти во многом были вынуждены идти нам навстречу,
несмотря на то, что советская сторона не отвечала взаимностью. К сожалению,
в СССР не публиковалось никаких гоминьдановских материалов, не демонстри¬
ровалось никаких китайских фильмов, не устраивалось выставок. В СССР не
было советско-китайской общественной организации, тогда как в гоминьданов¬
ском Китае довольно активно функционировало китайско-советское общество
культурных связей, которое возглавляли видные гоминьдановские деятели,
члены правительства. В районах, контролировавшихся КПК, такого общества,
кстати, не существовало.
Имели место грубые и бесцеремонные выступления советской печати с кри¬
тикой и осуждениями политики Гоминьдана, деятельности правительства Чан
Кайши, политических и экономических программ развития Китая, изложенных, в
частности, в документах VI конгресса Гоминьдана, состоявшегося 5-21 мая
1945 г. В работах отечественных историков эти документы были или полностью
игнорированы, или высмеяны без сколько-нибудь серьезного рассмотрения4. А
между тем эти программы были основаны на "трех принципах" Сунь Ятсена и
положительно оценены учеными в Китае и за рубежом как отвечавшие спе¬
3 Докладная записка пресс-атташе Посольства СССР в Китае Е. Виноградова заместителю
министра иностранных дел СССР С.А. Лозовскому от 2 июля 1945 г. - Архив внешней политики
Российской Федерации (далее - АВП РФ), ф. 0100, оп.40, д. 53, п. 251, л. 1-12; Записка поверенного
в делах СССР в Китае Т.Ф. Скворцова на имя С.А. Лозовского. - Там же, оп. 32, п. 236, д. 48,
л. 12-13. О представлениях А.С. Панюшкина по поводу "дискриминаций" в части распространения в
Китае советской литературы, демонстрации фильмов и т.п. см. Там же, оп. 25, д. 9, л. 96-101.
4 См. Китай в период войны против японской агрессии (1937-1945). М., 1988, с. 281-290.
106
цифическим условиям Китая. О своей приверженности учению Сунь Ятсена, его
"принципам" не раз публично заявляли руководители КПК и лично Мао Цзэдун.
Кстати, претворение в жизнь программ, основанных на сунь-ятсеновских концеп¬
циях, поставили ныне Тайвань в ряд наиболее развитых стран.
В советской печати давались бестактные и грубые характеристики отдельным
руководящим государственным и партийным гоминьдановским деятелям, указы¬
валось, кто из них правый, левый, патриот, капитулянт и т.п., кому быть в пра¬
вительстве, кого нужно оттуда изгнать. Такие выступления в нашей прессе заде¬
вали национальные чувства китайцев и вызывали возмущения у официальных
кругов Китая.
С гоминьдановской стороны, например, был высказан в адрес Москвы ряд
претензий по поводу того, что СССР продал в 1935 г. японцам (Маньчжоу-Го)
КВЖД без согласования и каких-либо консультаций с китайским правительством,
вел после военных конфликтов в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол
переговоры с Японией о демаркации границ без приглашения представителей
Китая, подписал с японцами документы о демаркации границ, даже не показав их
китайскому правительству.
Советское правительство не информировало китайское правительство и по
другим вопросам, представлявшим интерес для Китая, который фактически
являлся все годы антияпонской войны союзником нашей страны на Дальнем
Востоке. В связи с блокированием японцами морских и сухопутных линий связи
Китая с внешним миром китайцы очень настойчиво просили Москву разрешить
транзит китайских грузов из Европы и Америки через территорию СССР.
Москва, опасаясь действий Японии, на словах дала согласие, но предложила
договориться с нашими хозяйственными органами, а последние сверху получили
указание затянуть переговоры.
С аналогичной просьбой о транзите грузов обратились к СССР американцы.
Они просили разрешить пропустить из Ирана через территорию СССР 2 тыс.
автомашин с грузами для находившихся в Китае военных контингентов США.
Москва пошла им навстречу, и американские автокараваны были пропущены.
Китайские официальные лица расценили это как дискриминацию.
Следует отметить, что Москва не уделяла внимания развитию контактов с
Китаем как на высшем, так и на других уровнях. Эти связи ограничивались
каналами посольств и очень редкой формальной перепиской между Сталиным и
Чан Кайши. Это были телеграммы, содержание которых устно передавалось
лидерам стран соответственно советским и китайским послами.
В то же время США вели себя по отношению к Китаю с большой откры¬
тостью и очень активно. За время войны в Китае побывали с визитацд вице-
президенты и другие государственные и общественные деятели - Г. Уоллес,
В. Уилки, Л. Кэрри, О. Латтимор, специальные личные представители президен¬
та США. Приезжали также видные журналисты, крупные ученые, представи¬
тели деловых кругов США. Многие из них посещали Яньань, встречались с Мао
Цзэдуном и другими деятелями КПК.
В советско-китайских отношениях до образования КНР таких контактов не
было, хотя гоминьдановское руководство со своей стороны проявляло большое
стремление к развитию личных контактов с советскими руководителями. В
первые годы японо-китайской войны в Москву приезжали некоторые крупные
гоминьдановские деятели - Сунь Фо, генерал Хэ Яоцзу и другие - со специаль¬
ными поручениями и посланиями к Сталину, Молотову, Ворошилову. Взаимных
ответных визитов не последовало. Высоких китайских гостей в Москве
встречали без должного уважения. Их заставляли неделями и даже месяцами
ждать приема у Сталина и других высших руководителей. Между тем советских
послов в Китае - А.С. Панюшкина, его преемника А.А. Петрова - гоминьда¬
107
новские лидеры, другие высшие должностные лица, гражданские и военные,
принимали всегда незамедлительно* Китайские представители старались прояв¬
лять сдержанность и не показывать своего недовольства высокомерным отно¬
шением к ним высших советских должностных лиц.
Советско-китайские отношения омрачались притеснениями, которым подвер¬
гались граждане нашей страны, находившиеся в Китае, и китайские граждане,
проживавшие в СССР. Это происходило при каждом обострении межгосударст¬
венных отношений. Так было во время событий на КВЖД в 1928-1929 гг. и
последовавшего за этим периода разрыва дипломатических отношений между
СССР и Китаем, так было во время обострения советско-китайских отношений
из-за Маньчжурии после ее освобождения от японцев.
Жертвами полицейских репрессий и произвола со стороны шовинистических
элементов из среды китайского гражданского населения стали многие мирные
советские граждане и среди них женщины и дети. Пострадали и китайские
граждане, проживавшие или временно оказавшиеся на территории СССР,
спасаясь от японских оккупантов. Огромная масса их вместе с миллионами
советских людей подверглась жестоким сталинским репрессиям. При первых
волнах репрессий, начавшихся с массового выселения китайцев вместе со всеми
другими иностранцами с советского Дальнего Востока в 1936 г., Наркомат
иностранных дел СССР (НКИД) в лице некоторых его руководящих работников
пытался воспрепятствовать этому. В записке от 7 августа 1936 г., направленной
в СНК СССР, заместитель наркома Б.С. Стомоняков писал, что "выселение
огромных масс иностранцев, включая китайцев... является беспрецедентным в
международной практике и вызовет весьма неблагоприятный для СССР резонанс
во всем мире5. Однако советское руководство на это не реагировало.
Стомоняков и многие другие работники НКИД были арестованы. Массовые
репрессии в отношении китайцев и других иностранцев продолжались и в
последующие годы6.
СИНЬЦЗЯН В СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Более внимательного анализа заслуживают советско-китайские отношения,
связанные с Синьцзяном и Северо-Восточным Китаем (Маньчжурией). Всю
ответственность за конфликт - разрыв торгово-экономических связей между
нашими странами в китайской провинции Синьцзян, происшедший в 40-х годах, а
также за резкое обострение отношений СССР с гоминьдановским прави¬
тельством и американцами из-за Маньчжурии после ее освобождения от японцев
в 1945 г. советская сторона возложила на гоминьдано-американскую сторону.
Москва утверждала, что правительство Чан Кайши принудило СССР прекратить
в конце 1941 - начале 1942 г. всякую торговлю с провинцией Синьцзян, закрыть
промышленные предприятия и другие хозяйственные объекты, созданные там
СССР, уйти с совместных предприятий, демонтировать и вывезти советское
оборудование, отозвать из Китая советских специалистов, включая военных со¬
ветников. Этот конфликт продолжался вплоть до образования КНР. В маньч¬
журской проблеме советское правительство обвиняло правительство Чан Кайши
в том, что оно организовывало антисоветские выступления в печати, массовые
демонстрации в связи с задержкой вывода из Маньчжурии советских войск и
вывозом промышленного оборудования, а также в том, что оно выступало с
5 Записка Б.С. Стомонякова от 7 августа 1936 г. Управляющему делами СНК СССР. - АВП РФ,
ф. 0100, оп. 21, д. 1, л. 6-7.
6 Многочисленные представления и обращения китайского посольства в НКИД (МИД) СССР см.
АВП РФ, ф. 0100, оп. 21, д. 14, л. 75-77, 80-83; оп. 27, д. 2, л. 12, 16, 19, 25, 30, 49; оп. 15, д. 53,
л. 95-96.
108
необоснованными нападками на СССР по поводу оказания помощи КПК, пере¬
дачи Маньчжурии в руки китайских коммунистов и т.д. Москва рассматривала
эти выступления гоминьдановцев как нарушение китайским правительством
советско-китайского договора от 14 августа 1945 г. о дружбе и союзе и как
сговор с американским империализмом на антисоветской основе. В обоснование
тезиса о ’’проамериканской” политике Чан Кайши и антисоветской политике
США в Китае в отечественной историографии указывалось на пребывание в
Китае с согласия правительства Чан Кайши американских войск, их участие в
военных действиях против войск КПК, что в конечном счете якобы было
направлено против СССР. Пришло время попытаться восстановить по возмож¬
ности более объективную картину событий. Поделюсь в этой связи информацией
и фактами, которые до сих пор либо мало освещались, либо вовсе не были
известны нашим читателям.
Начну с синьцзянского вопроса. В начале 40-х годов там произошел межна¬
циональный конфликт, переросший в антикитайские вооруженные восстания
местного многонационального населения, что обострило советско-китайские отно¬
шения и привело к разрыву торгово-экономических связей СССР с Синьцзяном.
СССР приостановил деятельность созданных в Синьцзяне советских промышлен¬
ных предприятий - авиационного завода, нефтеперерабатывающего комбината и
других объектов, демонтировал промышленное оборудование и вывез все это на
свою территорию. Осталось функционировать только одно предприятие -
авиакомпания "Хамиата". СССР прекратил всякую торговлю с Синьцзяном.
Такое положение сохранялось вплоть до образования КНР.
Объективное рассмотрение фактов дает основание сделать вывод о том, что
в советско-китайском конфликте в Синьцзяне повинны обе стороны - гоминь¬
дановские и советские власти, а США в этом конфликте не играли той роли,
которая им приписывалась советской стороной.
В действительности советско-китайские отношения в Синьцзяне складыва¬
лись следующим образом. Москва, пользуясь особыми контактами и связями,
установленными с главой администрации Синьцзяна (дубанем) Шэн Шицаем, сла¬
бым контролем над ним со стороны Центрального правительства, добилась
исключительных прав и привилегий в экономической и во всех других сферах.
Этому способствовали объективные обстоятельства: крайняя отстал ось Синь¬
цзяна, удаленность от китайского Центра и бездорожье, отсутствие хотя бы
мало-мальски развитых коммуникаций, связывающих Синьцзян с экономически
более развитыми провинциями и частями Китая, отсутствие возможностей
выхода Синьцзяна на внешние рынки, кроме приграничных среднеазиатских
республик СССР. В результате к началу 40-х годов Синьцзян оказался в полной
экономической зависимости от СССР и под сильным политическим влиянием
Москвы. СССР занимал монопольное положение в синьцзянской торговле и
командное положение во всех совместных предприятиях, имел свои собственные
хозяйственные объекты, действовавшие независимо от китайских властей.
СССР имел на территории Синьцзяна военный контингент - 8-й кавалерийский
полк. В вопросах, касавшихся Синьцзяна, Москва непосредственно решала все с
дубанем Шэн Шицаем, минуя Центральное китайское правительство. Напрямую
заключались торговые и другие соглашения, велась переписка высших советских
руководителей* с синьцзянским губернатором; представители советских прави-.
тельственных учреждений посещали Синьцзян даже без всякого уведомления
китайского министерства иностранных дел о своем въезде в эту китайскую
провинцию. И вообще въезд людей, транспорта, провоз грузов из СССР на
территорию Синьцзяна и обратно осуществлялся фактически без контроля со
стороны китайских властей. Так же беспрепятственно шли из СССР караваны
автомашин с оружием.
109
Правительство Чан Кайши в силу ряда причин до поры до времени мирилось с
таким положением. Оно учитывало экономическую зависимость Синьцзяна от
СССР, зависимость Китая от советских поставок оружия и другой помощи для
войны против Японии. Но вскоре после нападения Германии на СССР
правительство Чан Кайши, воспользовавшись этим, решило навести порядок в
Синьцзяне. Чунцин давно беспокоило проявление сепаратизма со стороны Шэн
Шицая и его окружения, обострение национальной проблемы, рост анти-
китайских сил, возросшее влияние китайских коммунистов, занимавших к тому
времени свыше 200 ответственных постов в различных административно-управ¬
ленческих и других структурах Синьцзяна. На этом фоне у гоминьдановских
руководящих кругов вызывали тревогу довлеющее советское присутствие в
Синьцзяне и поддержка Москвой деятельности руководства КПК, направленной
против Гоминьдана. Гоминьдановцев также беспокоила близость Синьцзяна к
районам Китая, контролировавшимся сепаратистски настроенными
мусульманскими генералами Ма (Ма Буфан, Ма Буцин, Ма Функуй).
В начале 40-х годов правительство Чан Кайши резко активизировало деятель¬
ность по установлению в Синьцзяне эффективной власти центра. Оно решило
также перестроить сложившиеся в Синьцзяне советско-китайские отношения,
реорганизовать структуры управления совместными предприятиями - авиацион¬
ным заводом, нефтеперерабатывающим комбинатом, авиакомпанией "Хамиата"
и другими - и устранить советские привилегии в торговле. Дело в том,
что управление этими компаниями и предприятиями целиком находилось в ру¬
ках представителей советской стороны, они вели переговоры и заключали
соглашения с синцзянскими провинциальными организациями и част¬
ными предпринимателями через голову китайских центральных ве¬
домств.
Москва расценила требования китайского правительства как недружелюбные
акты, ущемлявшие советские интересы и наносившие вред престижу СССР, и
стала всячески уходить от решения назревших проблем. Правительство Чан
Кайши в связи с этим пыталось оказывать давление, чтобы побудить Москву к
переговорам. Дубань Шэн Шицай, почувствовав, что Центральное прави¬
тельство ему не доверяет и собралось убрать его из Синьцзяна, прибег в целях
самосохранения к ряду акций. Он произвел аресты среди работников, присланных
из Центра, предпринял репрессии в отношении коммунистов и других левых
элементов, чтобы этим показать свою лояльность к Чунцину, усиленно стал
проводить линию Центра на ослабление влияния СССР в Синьцзяне и на
упомянутое выше упорядочение советско-китайских отношений. Но его усердие
перед Чунцином вылилось в акции грубого насилия и бесчинства в отношении
советских граждан, включая командированных из СССР работников советских
учреждений и предприятий. Проводились полицейские обыски, аресты, избиения
людей. Был ужесточен полицейский контроль за посещениями синьцзянскими
гражданами советских консульств, имевшихся почти во всех крупных городах
Синьцзяна, чинились препятствия обслуживанию синьцзянцев в медпунктах,
функционировавших при указанных консульствах, полиция их арестовывала,
избивала. Синьцзянские власти запретили продажу товаров, продовольствия
сотрудникам советских учреждений. Следует заметить, что в СССР контроль за
посещениями советскими гражданами иностранных учреждений, включая
китайские представительства, был не менее жестким. Теперь же в ответ на
бесчинства синьцзянских властей, советской милиции был отдан приказ блоки¬
ровать китайские учреждения в СССР - лишить их коммунального обслуживания
и продовольственного обеспечения. Китайские сотрудники, включая дипломатов,
их семьи не могли купить продукты даже на городских рынках, так как милиция
задерживала продавцов и наказывала. И это ’’возмездие" продолжалось до тех
ПО
пор, пока не нормализовалась обстановка для советских учреждений и их
сотрудников в Синьцзяне.
На советбко-китайские отношения в Синьцзяне оказало большое влияние
обострение межнационального конфликта: вооружённые восстания казахов,
уйгур, других национальных групп, составлявших вместе большинство населения
китайской провинции Синьцзяна. Участились случаи инцидентов на советско-
синьцзянско-монгольской границах, вызванные бегством синьцзянского населения
на советскую и монгольскую территории в связи с карательными мерами
китайских войск за связь с повстанцами. Имели место также массовые переходы
через синьцзянскую границу на советскую территорию китайских войск, чинов¬
ников, их семей, спасавшихся от повстанцев. Возникли конфликты между
советской и китайской сторонами на синьцзяно-советских таможенно-пропускных
пограничных пунктах. Китайские власти усилили контроль за пропуском на
синьцзянскую территорию людей, транспорта и грузов, мотивируя это обострив¬
шейся обстановкой в Синьцзяне, а также вокруг расположенного на границе с
Синьцзяном коммунистического Особого района, служившего главной базой,
откуда КПК вела борьбу против Гоминьдана.
Гоминьдановское правительство высказывало также подозрения в связи с тем,
что после прекращения в 1941 г. поставок ему из СССР оружия и военных
материалов по синьцзянской трассе продолжали идти автокараваны с военными
грузами под советской вооруженной охраной, которая не допускала представи¬
телей китайских властей к их досмотру. Гоминьдановское правительство
потребовало изменения сложившейся таможенной практики, а также установ¬
ления китайского контроля над советскими метео- и радиостанциями, созданными
на синьцзянской и прилегающей к Синьцзяну китайской территории для обслу¬
живания автомобильной дороги и авиатрассы "Хамиата". Чунчин подозревал, что
упомянутые станции обслуживают коммунистический Особый район и туда же
бесконтрольно идут автоколонны с оружием. Эти события и многое другое
образовали очень сложный и запутанный клубок противоречий в советско-
китайских отношениях в Синьцзяне.
В одностороннем порядке советская сторона прервала всякую торговлю с
Синьцзяном, демонтировала и вывезла в СССР оборудование авиационного
завода, нефтеперерабатывающего комбината и других предприятий7. Были
отозваны в СССР все работавшие на них советские специалисты. Вместе с ними
в СССР вывезли многих рабочих и служащих, которые не были советскими
гражданами. В нашем Генеральном консульстве в Урумчи им были выписаны и
вручены советские паспорта без установленной законом процедуры. К этому
уместно добавить такую "деталь”: по прибытии в СССР с эвакуированными
предприятиями к новым местам работы многие из этих рабочих и служащих,
встретившись с материальными трудностями, жилищно-бытовой неустроен¬
ностью, стали стремиться к возвращению в Синьцзян. Но эти попытки советские
власти быстро пресекли.
В результате Синьцзян оказался почти ь полной экономической блокаде.
Функционировала лишь авиалиния советско-китайской компании ’’Хамиата”, в
которой более всего заинтересован был СССР для связи со своим посольством в
Чунцине и другими советскими учреждениями в Китае.
7 Памятная записка, врученная 9 июля 1942 г. по поручению И.В. Сталина А.С. Панюшкиным
Чан Кайши, и переданная ему копия письма В.М. Молотова, которое было направлено Шэн Шицаю
в ответ на письмо последнего, адресованное Сталину, Молотову и Ворошилову. - АВП РФ, ф. 0100,
оп. 29, д. 11, п. 239-240; Памятная записка, врученная Шэн Шицаю генеральным консулом СССР в
Урумчи Г.М. Пушкиным 2 мая 1943 г. - Там же, оп. 32, д. 9, п. 232, л. 36-37; Представление,
сделанное А.С. Панюшкиным 8 октября 1943 г. министру иностранных дел У Гочжэню, и ответ
МИД Китая на это представление от 10 декабря 1943 г. - Там же, оп. 32, д. 3, п. 231, л. 1-5.
111
Правительство Чан Кайши вскоре поняло, что советско-китайский конфликт в
Синьцзяне зашел слишком далеко, и стало принимать активные меры к норма¬
лизации отношений с Москвой. В беседе с А.С. Панюшкиным 16 октября
1942 г., перед выездом его в Москву по вызову Сталина для доклада о положе¬
нии в Китае, Чан Кайши просил передать Сталину, что "Китай стремится к
укреплению и улучшению своих отношений с Советским Союзом". Он выразил,
в частности, пожелания договориться о разработке нефтяных месторождений в
Синьцзяне, в районе Тушанцзы, и об эксплуатации авиационного завода,
построенного СССР близ Урумчи. По этим вопросам, сказал Чан Кайши, Китай
хотел бы заключить соглашения.
В докладе в Москву об этой беседе Панюшкин отметил, что договоренность
по этим вопросам не была достигнута из-за того, что китайское правительство
настаивало на том, чтобы 51% акций этих предприятий принадлежал Китаю, как
это было предусмотрено китайскими законами. Москва добивалась обратного или
по меньшей мере паритета, т.е. по 50% акций каждой стороне. Кроме того,
Москва настаивала на том, чтобы из китайских 50% половина принадлежала
местному синьцзянскому правительству, как об этом последнее просило совет¬
скую сторону. Чунцин отверг предложение Москвы как вмешательство во внут¬
ренние дела Китая. В результате соглашения по вопросам о нефти и авиазаводе
не были подписаны8.
Следует добавить, что в Тушанцзы была проведена разведка нефти, построе¬
ны нефтеперерабатывающий комбинат и авиационный завод. Но это были
советские предприятия. Вопросы, поднятые Чан Кайши в упомянутой беседе с
Панюшкиным о заключении соглашений по ним, так и остались нерешенными.
Москва от своих позиций не отступила.
Тем временем гоминьдановское правительство убрало из Синьцзяна губерна¬
тора Шэн Шицая, заменив его другим. Это было сделано не только ради
того, чтобы угодить Москве. Сыграли свою роль внутриполити¬
ческие соображения. Но Чан Кайши использовал это и как жест "доброй воли" в
отношении советского правительства. В свете того, что произошло в Синьц¬
зяне, Шэн Шицай стал слишком одиозной фигурой и для Москвы. Чан Кайши
возложил на Шэн Шицая всю ответственность за ухудшение советско-китай¬
ских отношений и хотел показать, что устранением Шэн Шицая он стре¬
мился расчистить китайскую часть пути к нормализации отношений двух
стран.
Будучи советским представителем в китайском городе Ланьчжоу, через
который осуществлялась связь Москвы с Чунцином, а также связь между
Чунцином и административным центром Синьцзяна городом Урумчи, мне дове¬
лось наблюдать переезд Шэн Шицая и его придворной свиты в Чунцин. Через
Ланьчжоу проследовали огромные караваны автомашин, арб и вьючных мулов,
перевозивших имущество, несметные богатства, накопленные этим феодалом и
его кланом в годы правления в Синьцзяне. В Чунцине Шэн Шицай получил
высокое назначение - пост министра сельского хозяйства Китая. Чан Кайши не
казнил, не сажал в тюрьмы неугодных высшему гоминьдановскому руководству
и ему лично гоминьдановских деятелей. Обычно им предоставлялись высокие
почетные посты, но лишенные реальной власти. На государственных приемах
можно было видеть поблизости от Чан Кайши многих таких титулованных
сановников - бывших губернаторов, наместников, опоясанных наградными лен¬
тами с орденами. Из всех попавших в опалу крупных гоминьдановских вельмож
наибольшее наказание понес маршал Чжан Сюэлян - правитель Маньчжурии,
сын маньчжурского милитариста Чжан Цзолина. За участие в заговоре против
8 АВП РФ, ф. 0100, оп. 31, д. 10, п. 220, л. 28.
112
Чан Кайши в 1936 г. в Сиани, чу1ь было не закончившемся его расстрелом,
Чжан Сюэлян был посажен под бессрочный домашний арест.
Шэн Шицай на посту министра долго не продержался. В руководящих
гоминьдановских кругах ему не могли простить близкие связи с Москвой и с
китайскими коммунистами. Вскоре по прибытии в Чунцин в гоминьдановской
печати появились публикации с требованиями строго наказать и даже казнить
"предателя Шэн Шицая". Он обратился за защитой к Чан Кайши. Тот выразил
сочувствие, но сказал, что ничем не может помочь, что выступления печати -
это ’’голос народа” и он не может заставить его замолчать. Чан Кайши посове¬
товал Шэн Шицаю уехать из Китая, чтобы избежать неприятностей.
12 мая 1944 г. Чан Кайши в беседе с Панюшкиным вновь затронул вопрос о
китайско-советских отношениях в Синьцзяне, заявив, что там "наделано много
досадных ошибок". "Но между странами, имеющими общую границу на
протяжении многих тысяч километров, - заметил Чан Кайши, - недоразумения
встречаются нередко". Он выразил уверенность, что в Синьцзяне все же
последуют перемены и все недоразумения постепенно будут урегулированы9.
Вместо Шэн Шицая в Синьцзян был направлен генерал Чжан Чжичжун,
занимавший пост начальника Политуправления Китайской армии. Это был
человек, пользовавшийся высокой репутацией в гоминьдановских и коммунисти¬
ческих кругах10. Он прибыл с поручением Центра погасить межнациональный
вооруженный конфликт, опираясь не только на силу, но и на мирные средства. И
кое-чего ему удалось достичь. При посредничестве СССР было заключено согла¬
шение с повстанцами, освобождены посаженные Шэн Шицаем в тюрьмы гоминь¬
дановские работники и коммунисты. Правительство Чан Кайши обратилось к
СССР с предложением урегулировать советско-китайские отношения в Синьцзя¬
не и пойти по пути их всестороннего развития. Чжан Чжичжун пытался рассеять
сложившиеся в Москве опасения по поводу "проникновения" в Синьцзян амери¬
канцев и англичан, их подрывной деятельности против СССР.
В донесении В.М. Молотову новый посол СССР в Китае А.А. Петров сооб¬
щал, что Чжан Чжичжун, ссылаясь на поручение Чан Кайши, заверил его в том,
что такой опасности для СССР в Синьцзяне не существует. В Синьцзяне "нет ни
китайско-американских, ни китайско-английских отношений, а есть только
китайско-советские отношения" и Синьцзян должен стать "образцом китайско-
советской дружбы", для него необходимо урегулировать все имеющиеся вопросы
и "ускорить заключение советско-китайского соглашения об экономическом
сотрудничестве в этой провинции"11.
Упомянутые заверения с китайской стороны были вызваны тем, что Москва с
большим подозрением и беспокойством относилась к тому, как бы в Синьцзян не
проникли англичане или американцы. Больше всего опасались американцев.
После упомянутого разговора с советским послом, состоявшегося 12 мая, Чан
Кайши решил, направить в Москву премьер-министра и министра иностранных
дел Сун Цзывэня. Последний просил наше посольство сообщить в Москву о его
9 Запись беседы А.С. Панюшкина с Чан Кайши 12 мая 1944 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 32, д. 4, п.
231, л. 119.
10 Чжан Чжичжун участвовал в установлении и поддержании контактов между Чунцином и
Яньанью, в организации переговоров между Гоминьданом и КПК, встречи Чан Кайши и Мао
Цзэдуна в августе-октябре 1945 г., а также в организации переговоров о прекращении гражданской
войны в апреле 1949 г. в Бэйпине, накануне форсирования р. Янцзы войсками НО А.
11 Из доклада посла А.А. Петрова 11 марта 1947 г. В.М. Молотову. - АВП РФ; Запись беседы
А.А. Петрова с Чжан Чжичжуном п января 1947 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 40а, д. 21, п. 264, л. 35-
37. См. также Запись беседы А.А. Петрова с Чжан Чжичжуном 25 января 1946 г. - Там же, оп. 34,
д. 20, п. 253, л. 48-50; Запись беседы А.А. Петрова с ним же 18 февраля 1946 г. - Там же, л. 77;
Запись беседы А.А. Петрова с ним же 21 марта 1946 г. - Там же, л. 81-83.
113
желании встретиться со Сталиным и другими советскими руководителями для
переговоров о восстановлении и развитии советско-китайского сотрудничества в
Синьцзяне и по другим вопросам советско-китайских отношений. Сун Цзывэнь
вручил посольству для передачи в Москву конкретные предложения, в частности
программу экономического сотрудничества.
Москва очень прохладно отреагировала на обращение Сун Цзывэня. После
неоднократных напоминаний китайцев Москва ответила, что Сталин очень
занят, часто выезжает на фронт, поэтому не может его принять и неизвестно,
когда появится такая возможность12.
Китайское правительство продолжало добиваться согласия Москвы на приезд
Сун Цзывэня. Несколько раз по этому поводу обращался в советское внешне¬
политическое ведомство китайский посол в Москве Фу Бинчан. И только 6 де¬
кабря 1944 г. заместитель министра иностранных дел СССР С.А. Лозовский по
поручению Молотова сообщил Фу Бинчану, что в Москве могут принять Сун
Цзывэня в конце февраля или в начале марта 1945 г.13.
Одновременно с переговорами о поездке Сун Цзывэня на сессии Народно¬
политического совета (НПС-парламента) в сентябре 1944 г. было принято реше¬
ние направить в СССР китайскую "миссию доброй воли"14. Москва не поддер¬
жала эту инициативу.
Визит Сун Цзывэня в Москву состоялся только в конце июня 1945 г., когда он
прибыл на переговоры в качестве главы китайской делегации для заключения
советско-китайского договора. Но предложения гоминьдановского правительства
о восстановлении и развитии торгово-экономического сотрудничества в Синьцзя¬
не на переговорах в Москве не обсуждались.
По вопросу о Синьцзяне в связи с антикитайскими выступлениями местного
многонационального населения советское правительство официально заявило,
что "не имеет намерений вмешиваться во внутренние дела Китая"15.
После заключения 14 августа 1945 г. советско-китайского договора о дружбе
и союзе китайская сторона продолжала поднимать вопрос о торгово-экономи¬
ческом сотрудничестве в Синьцзяне, придав им равноправный партнерский ха¬
рактер. Так, 4 ноября 1946 г. глава синьцзянской администрации Чжан Чжичжун
по поручению Центра передал через генерального консула А.И. Савельева в
Урумчи советскому правительству предложения о возобновлений торговли и об
организации на паритетных началах смешанных обществ для разведки и добычи
олова, вольфрама и нефти. Министерство внешней торговли и другие советские
хозяйственные ведомства были заинтересованы в таком сотрудничестве и гото¬
вы были внести в правительство свои предложения о переговорах с китайской
стороной. Но советское высшее руководство приняло решение занять уклончи¬
вую позицию в отношении упомянутых инициатив гоминьдановского правитель¬
ства. В середине августа 1947 г. Молотов дал указание Савельеву: если китайцы
вновь поднимут вопрос о торгово-экономическом сотрудничестве в Синьцзяне, то
следует ответить, что советская сторона готова будет приступить к обсуждению
этого вопроса после заключения нового соглашения о советско-китайской
авиалинии "Хамиата"16. А эти переговоры советской стороной тоже оттяги¬
вались, и было намечено начать их лишь в феврале 1949 г. Другими словами,
12 Запись бесед Временного поверенного в делах СССР Т.Ф. Скворцова с Сун Цзывэнем 9 апреля
1944 г., 9 июня 1944 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 32, д. 12, п. 232, л. 173; Запись беседы
Т.Ф. Скворцова с директором Департамента МИД Китая 13 октября 1944 г. - Там же, л. 196.
13 АВП РФ, ф. 0100, оп. 32, д. 10, п. 232, л. 6, 8, 9.
14 Там же, оп. 35а, д. 11, п. 239, п. 240, л. 81.
15 См. Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны, т. 3. М.,
1947, с. 474.
16 АВП РФ, ф. 0100, оп. 34, д. 43, п. 255, л. 9-10.
114
советское руководство взяло курс на затяжку с обсуждением вопросов торгово-
экономического сотрудничества в Синьцзяне. Оно исходило при этом главным
образом из политических и идеологических соображений: в условиях резко
обострившейся в Китае внутриполитической обстановки, усилившейся борьбы
между Гоминьданом и КПК Москва считала нецелесообразным восстанавливать
и развивать торгово-экономические связи в Синьцзяне, так как это способ¬
ствовало бы укреплению позиций гоминьдановского правительства, а Москва
стремилась к их всяческому подрыву.
Такова была объективная картина советско-китайских отношений в Синь¬
цзяне и возникшего там конфликта между советским и гоминьдановскйм прави¬
тельствами.
КИТАЙ И СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Президент США Ф. Рузвельт считал, что основой послевоенного мира на
Дальнем Востоке и в сопредельном регионе должно быть тесное сотрудничество
между США, СССР й Китаем. Он призывал к этому руководителей СССР и
Китая, рассматривал этот вопрос со Сталиным на Тегеранской и Крымской
конференциях, а также на встрече с Чан Кайши на Каирской конференции. По
поручению президента США этот вопрос обсуждался с Чан Кайши специаль¬
ными представителями президента - Уилки, Уоллесом, Кэрри, Латтимором и
другими во время их поездок в Китай. Через них Рузвельт настойчиво советовал
Чан Кайши наладить тесные добрососедские отношения с СССР, подчеркивал,
что послевоенный мир в Азии будет зависеть от сотрудничества трех велцких
держав - США, СССР и Китая17. За это горячо выступал и вице-президент
США Уоллес, посетивший Китай в июне 1944 г. В коммюнике об итогах
переговоров с Чан Кайши было специально записано: "Отношения между Китаем
и его ближайшим великим соседом - Советским Союзом должны поддерживаться
на основе взаимопонимания". Уоллес передал Чан Кайши рекомендацию
Рузвельта "провести переговоры с СССР с целью улучшения отношений между
обоими государствами"18.
Чан Кайши прислушивался к таким советам и сам понимал необходимость
добрососедских отношений с СССР, рассматривая их в рамках треугольника
Китай - США - СССР19.
Идея советско-китайско-американского сотрудничества нашла воплощение в
Ялтинском соглашении, подписанном Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем на
Крымской конференции, состоявшейся в феврале 1945 г. И хотя Чан Кайши не
был приглашен на эту конференцию, китайское правительство в целом одобрило
это соглашение. В соответствии с соглашением в июле-августе 1945 г. р Москве
состоялись советско-китайские переговоры, которые завершились заключением
14 августа 1945 г. договора о дружбе и союзе между СССР и Китаем и ряда
других соглашений: о Китайской Чанчуньской железной дороге (КЧЖД), о воен¬
но-морской базе Порт-Артур, о порте Дальний, а также по другим важным
вопросам20. ,
Советско-китайские переговоры проходили после кончины Рузвельта, являв¬
шегося одним из главных инициаторов Ялтинского соглашения. Сменивший его
на президентском посту Г. Трумэн попытался было ревизовать Ялтинское согла¬
17 У Сянсан. Эди Цинлюэ Чжунго. Табйэй, 1954, с. 472.
18 Там же. Подробно о переговорах Уоллеса с Чан Кайши см. также: Ню Дун. Цун Хэрли дао
Масиэл (от Хэрли до Маршалла). Фучжоу, 1988.
19 Более подробно см. Дедовский А.М. СССР, США и Китай в 1937-1949 гг.; его же. Записки
дипломата.
20 Советско-китайские соглашения. 1917-1957. Сборник документов. М., 1959, с. 196-206.
115
шение, но вынужден был проявить сдержанность. В высших политических и
военных кругах США в результате дискуссий возобладало мнение не обострять
отношений с Советским Союзом и сохранить в духе делового сотрудничества
взаимодействие трех держав - США, СССР и Китая как важнейшего фактора в
деле разгрома Японии и в решении задач послевоенного мира в Азии.
Советско-китайский договор, а следовательно, и Ялтинское соглашение, ос¬
новные принципы которого были положены в основу советско-китайских доку¬
ментов от 14 августа 1945 г., встретили единодушное одобрение во всех странах
антигитлеровской коалиции, всех участников борьбы с японской агрессией. В
крупнейших гоминьдановских газетах "Дагунбао", "Чжунянжибао" и других под¬
черкивалось, что советско-китайский договор и соглашения по Маньчжурии от¬
крывают широкие перспективы для взаимовыгодного экономического, военного
и другого сотрудничества, выражались заверения, что Гоминьдан, правительство
полны решимости укреплять дружбу со своим великим северным соседом.
В таком же позитивном духе выступили руководители КПК и коммунистическая
печать21.
Опубликование советско-китайского договора и соглашений по Маньчжурии
совпало по времени с приездом Мао Цзэдуна в Чунцин на переговоры с Чан
Кайши. Это была первая встреча двух главных противоборствовавших лидеров
Гоминьдана и КПК за годы антияпонской войны и за всю предшествующую
историю начиная с событий 1927 г. Правда, в годы антияпонской войны Чан
Кайши проявлял иногда желание встретиться с Мао Цзэдуном, но в Яньани это
не получало поддержки. Панюшкин в беседах с Чжоу Эньлаем постоянно
советовал лидерам КПК, лично Мао Цзэдуну не уклоняться от встреч с Чан
Кайши, а Мао Цзэдуну рекомендовал самому проявить инициативу в этом. Он
подчеркивал, что это было бы на пользу компартии и в интересах осво¬
бодительной борьбы против японских оккупантов. На это Чжоу Эньлай обычно
отвечал: Чан Кайши такой реакционер, что с ним не о чем разговаривать.
К тому же, говорил Чжоу Эньлай, руководство КПК не уверено в безопасности
Мао Цзэдуна. "Мы боимся за его жизнь”, - подчеркивал он, - и потому не
советуем Мао Цзэдуну выезжать из Яньани"22.
В дипкорпусе в Чунцине нежелание руководства КПК встретиться с Чан
Кайши объясняли не вопросами личной безопасности, о которых говорил Чжоу
Эньлай, а другим. Зарубежные дипломаты и многие китайские политики считали,
что Чан Кайши и Мао Цзэдуну не с чем было идти на встречу "в верхах” ввиду
слишком глубоких разногласий и жесткости занимаемых ими позиций. Им
удобнее и выгоднее было на расстоянии друг от друга выступать перед
общественностью с речами и декларациями о стремлении к сотрудничеству
гоминьдановцев и коммунистов и призывать к сплоченности все патриотические
силы на благо народа и отчизны, чем встречаться и договариваться. Переходить
от слов к делу они не были готовы.
Инициативу в организации августовской встречи взяли на себя американская
дипломатия и лично посол США П. Хэрли. Президент Трумэн одобрил эту
инициативу. Чан Кайши согласился направить 12 августа телеграмму-приглаше¬
ние Мао Цзэдуну. Яньань молчал. После повторной телеграммы Яньань ответил
выдвижением ряда требований по нерешенным вопросам. Эти требования
правительство Чан Кайши должно было принять как предварительное условие
для согласия на поездку Мао Цзэдуна в Чунцин. По договоренности с Чан Кайши
Хэрли отправился на переговоры с руководством КПК в Яньань, надеясь
уговорить его снять это предварительное условие. Он обратился к нашему послу
21 Подробно о выступлениях китайской и западной печати см. АВП РФ, ф. 56, оп. 6, д. 67, п. 47.
22 Подробней об этом см. Ледовский А.М. Записки дипломата.
116
Петрову с предложением поехать вместе с ним, но тот это предложение откло¬
нил. Вместе с Хэрли Чан Кайши направил в Яньань одного из наиболее видных
гоминьдановских генералов - Чжан Чжичжуна, который был в хороших отно¬
шениях с Чжоу Эньлаем и с другими представителями КПК.
28 августа Мао Цзэдун вместе с Чжоу Эньлаем и заместителем командую¬
щего Новой 4-й армией Народно-освободительной армии (НОА) Ван Жофэем в
сопровождении Хэрли и Чжан Чжичжуна прибыли в Чунцин. Как отметили
иностранные корреспонденты, провожали Мао Цзэдуна из Яньани торжественно,
но с чувством большой тревоги. Близкие родственники Мао Цзэдуна были чуть
ли не в панике. По сообщению американского корреспондента Солтера, жена
Мао Цзэдуна рыдала, словно расставалась с ним навек. Да и сам Мао Цзэдун
выглядел так, будто он ехал на казнь23. Такие дальние поездки, а тем более
полеты на самолетах в те времена были непривычными, в особенности для
жителей таких китайских ’'глубинок”, каким был небольшой китайский городок
Яньань.
Переговоры в Чунцине сопровождались банкетами, другими "протокольными”
и непротокольными мероприятиями. С обеих сторон было произнесено много
тостов, речей дружественного, миролюбивого характера. Мао Цзэдун, Чан
Кайши и другие представители сторон не скупились на взаимные комплименты и
прочие знаки вежливости. Мао Цзэдун заявлял о своем желании строить новый
Китай под руководством "президента Чан Кайши". Гоминьдановский лидер
говорил о своем желании сотрудничать с Мао Цзэдуном. Но за закрытыми
дверями комфортабельно обставленных особняков и вилл, где велись
переговоры, дела двигались трудно и заходили в тупик. Стороны прибегали к
силовым средствам, применявшимся в китайских дипломатических традициях.
Коммунисты развернули мощную пропаганду с резкой критикой правительства и
лично Чан Кайши. А на встрече с советскими дипломатами в нашем посольстве
10 октября Мао Цзэдун сообщил, что, когда переговоры "застопорились",
руководство КПК приняло решение наряду с пропагандистскими выступлениями
нанести военный удар, чтобы сделать Чан Кайши более податливым. Мы
разгромили семь гоминьдановских дивизий, сказал Мао Цзэдун, и переговоры, по
его словам, пошли успешней. Они закончились подписанием 10 октября Мао
Цзэдуном и Чан Кайши соглашения о прекращении гражданской войны. Оно
было опубликовано 12 октября, по возвращении Мао Цзэдуна в Яньань,
которого и на этот раз сопровождали Хэрли и Чжан Чжичжун. По просьбе
делегации КПК они выполняли роль гарантов личной безопасноси Мао Цзэдуна.
Для решения всех практических вопросов - политических, военных,
территориальных и других, ни по одному из которых в Чунцине договориться не
удалось, Мао Цзэдун и Чан Кайши условились продолжить переговоры на других
уровнях. Для контроля за выполнением соглашения о прекращении огня Мао
Цзэдун и Чан Кайши договорились создать в Бэйпине трехсторонний
исполнительный штаб - своего рода Объединенный Комитет трех штабов -
гаминьдановского, коммунистического и американского.
На упомянутой встрече в советском посольстве, на которой мне довелось
присутствовать, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Ван Жофэй рассказали о ходе
переговоров, поделились своими оценками, Мао Цзэдун сообщил некоторые
любопытные моменты из бесед с Чан Кайши "с глазу на глаз". Судьба страны,
заявил Чан Кайши Мао Цзэдуну, находится в наших руках. Если мы не сумеем
между собой договориться, то совершим преступление перед будущими
поколениями. Было бы лучше, если бы КПК не имела своих вооруженных сил.
23 Сообщение американского корреспондента Солтера из Чунцина от 28.VIII.1945 г. - Вестник
информации ТАСС, 29.VIII. 1945, л. 11-12; АВП РФ, ф. 56, оп. 6, п. 47, д. 67.
117
В дальнейшем она могла бы завоевать даже власть в стране, используя только
политические средства.
Характеризуя Чан Кайши как политического деятеля, Мао Цзэдун сказал:
"У Чан Кайши пока нет глубокой идейно-политической устремленности или, как
мы говорим, центрального звена, вокруг которого вращалось бы все остальное.
Сам Чан Кайши не знает, по какому пути ему идти: по пути диктатуры или по
пути демократии. Во внешней политике Чан Кайши не знает, на кого
ориентироваться: на США или на СССР. Опираться целиком на США он не ре¬
шается в силу международного влияния СССР, а на СССР - опасается. Его
отношение к КПК определяется такими факторами: силой КПК, международным
весом СССР, положением в Синьцзяне и наличием Советской Армии в Маньч¬
журии"24.
Из оценок Мао Цзэдуна, из упомянутого соглашения о прекращении огня, из
многих других фактов можно было сделать вывод о наличии возможностей для
гражданского мира в Китае, объединения всех национально-патриотических сил,
для выработки и осуществления единой, общеприемлемой программы
послевоенного развития Китая, залечивания глубочайших ран, нанесенных
японской оккупацией, решения острейших экономических и социальных проблем.
Что касается внешних факторов, то в Китае и за рубежом особое значение
придавали советско-китайскому договору и соглашениям по Маньчжурии. С ними
связывали не только урегулирование внутреннего конфликта - между Гоминь¬
даном и КПК, но и обеспечение взаимопонимания между СССР и США и ста¬
бильности на Дальнем Востоке.
Эта мысль проходила лейтмотивом через комментарии официальных, общест¬
венно-политических кругов, через средства массовой информации Китая, а также
США, Англии и других западных стран25.
Однако благожелательный тон западной прессы вскоре начал меняться.
Зазвучали голоса критики в адрес СССР по поводу политики и действий в
отношении Китая. Это переросло в резкие осуждения советско-китайского дого¬
вора и Ялтинского соглашения, касающегося Китая. Правда, американские
официальные круги первое время воздерживались от слишком резких выступ¬
лений в адрес СССР, высказывались за взаимопонимание и сотрудничество в
урегулировании китайских проблем. Но по мере обострения внутренней обста¬
новки в Китае американская пропаганда переходила на все более жесткие
позиции. Такая же эволюция наблюдалась и в гоминьдановской пропаганде, хотя
до определенной черты проявлялась более заметная сдержанность. Критика
чаще всего заканчивалась на примирительных нотах, на высказываниях за
дружбу и призывах к СССР соблюдать договор, не оказывать помощь КПК в
борьбе за свержение существующего в Китае и общепризнанного мировым
сообществом правительства. Когда же гражданская война в Китае приобрела
широкие масштабы, гоминьдановские выступления стали очень резкими, вплоть
до призывов к Западу начать войну против СССР. Но даже и тогда сами
гоминьдановские руководители и лично Чан Кайши старались, как правило,
воздерживаться от публичных выступлений, тем более резкой критики в адрес
советского руководства. Такой линии они придерживались вплоть до разрыва
Москвой дипломатических отношений с правительством Чан Кайши в конце
ноября 1949 г. в связи с провозглашением КНР.
Резкий поворот в отношениях СССР с Китаем и США явился результатом
24 Беседа посла СССР в Китае А.А. Петрова с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и Ван Жофэем
10 октября 1945 г. - АВП РФ.
25 Об откликах иностранной прессы на советско-китайский договор подробно см. Вестник
иностранной информации ТАСС, 28.VIII.1945; АВП РФ, ф. 56, оп. 6, д. 67, п. 47.
118
влияния целого комплекса факторов - экономических, политических, военных,
идеологических, психологических и др. Не последнюю роль сыграли особенности
политиков, их личные интересы и амбиции. На СССР, его внешнюю политику на
глобальном и региональных уровнях, включая китайское, дальневосточное
направление, особое воздействие оказали, с одной стороны, возросшая эконо¬
мическая и военная мощь, которой США обладали к концу второй мировой
войны, наличие у США ядерного оружия, которое было ими уже пущено в ход;
все более проявлявшееся стремление американцев действовать в междуна¬
родных делах с позиции силы; попытки США отстранить СССР от решения
проблем, касавшихся Японии, и превратить ее в ядерный плацдарм, нацеленный
на СССР. С другой - экономическая слабость Советского Союза, разоренного
тяжелой войной. Отсюда - чувство огромного экономического плюс военного
превосходства над собой США. Все это и многое другое обостряло беспокойство
СССР за свою безопасность и часто приводило к неадекватной реакции
советского руководства на некоторые действия США.
На политику США в отношении СССР, в том числе по вопросам, касавшимся
Китая, большое влияние оказывали такие факторы, как огромный междуна¬
родный престиж СССР, возросшее влияние на мировые события в результате
его решающей роли в разгроме держав фашистско-милитаристского блока "оси",
мощный подъем национально-освободительных движений народов Востока,
поддержка этих движений Советским Союзом и активное участие в них местных
коммунистов.
ОТ ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ К ПОСЛЕВОЕННОМУ МИРУ
Из всего сложного комплекса взаимоотношений в треугольнике СССР - Ки¬
тай - США на переходном этапе от войны с Японией к послевоенному миру мне
хотелось бы остановиться на двух важных, на мой взгляд, факторах, сыгравших
главную роль в разрушении "китайского моста", который, по идее Ф. Рузвельта
и других трезвомыслящих в мире политиков, должен был служить связующим
звеном между СССР и США на Дальнем Востоке. Это - события, развернув¬
шиеся в Северном Китае после капитуляции Японии, и события в Маньчжурии
после освобождения ее Советской Армией.
В Северном Китае после заявления Японии о безоговорочной капитуляции
сразу же началась схватка между Гоминьданом и КПК за овладение этим
важнейшим после Маньчжурии регионом Китая.
Чан Кайши приказал японскому командованию не сдаваться коммунистам,
оставаться на занятых ими позициях до прихода китайских правительственных
войск. Этот приказ поддержал Д. Макартур как главнокомандующий Тихоокеан¬
ским театром, в состав которого входил Китайский фронт. Командование Народ¬
но-Освободительной армии отказалось подчиниться этим приказам, но сломить
японцев и захватить занятые ими города и разные объекты войска КПК не
смогли. Чан Кайши предпринял массовую переброску на Север основных гоминь¬
дановских сил с юга и юго-запада страны, где они прикрывали эти районы от
главных японских сил, нацеленных на эти районы.
В сентябре - октябре 1945 г. на территории Китая высадились американские
войска общей численностью около 100 тыс. человек. Их десанты дислоцирова¬
лись в наиболее крупных, преимущественно приморских городах. Они взяли под
охрану главные линии железных дорог, ведущих в Северный Китай, ряд распо¬
ложенных на севере угольных шахт, электростанций, другие объекты, необхо¬
димые для жизнеобеспечения крупных городов страны. Наряду с этим командо¬
вание американских войск в Китае приступило к оказанию помощи в переброске
китайских правительственных войск с юга на север страны. Руководство КПК
119
приказало своим войскам оказать решительное сопротивление указанной пере¬
броске и таким образом установить контроль КПК над возможно большей терри¬
торией Северного Китая. В результате развернулись военные сражения.
Переговорный процесс, начатый в Чунцине, "забуксовал", ни один из практи¬
ческих вопросов не был решен, и в середине 1947 г. переговоры были оконча¬
тельно прерваны, уступив место всеобщей гражданской войне.
Гоминьдановцы обвинили в неудаче переговоров и в провоцировании граждан¬
ской войны руководство КПК, последнее возложило всю ответственность на
Гоминьдан, США и лично на Чан Кайши, Хэрли, Маршалла, Стюарта и некото¬
рых других американских и гоминьдановских деятелей.
По мере того как "буксовали" упомянутые переговоры и ожесточались
сражения за Северный Китай, руководство КПК развернуло широкую
антиамериканскую кампанию за вывод американских войск под лозунгом "Янки -
вон из Китая!" При этом были выдвинуты обвинения, в частности, в том, что
войска США принимают прямое участие в боевых сражениях против войск
НОА, нападают на "освобожденные районы" КПК, сжигают китайские деревни
вместе с тысячами жителей, не щадя женщин и детей, самолеты США бомбят и
обстреливают города.
Командование американских войск в Китае неоднократно выступало с реши¬
тельными опровержениями, выражало готовность к совместному с КПК рассле¬
дованию, указывало, что обвиняющая сторона уклоняется от таких расследо¬
ваний.
По мнению советских военных специалистов в Китае, присутствие контин¬
гента американских войск на китайской территории не представляло серьезной
опасности непосредственно для СССР, наши дальневосточные рубежи были
надежно прикрыты, в частности, военно-морской базой Порт-Артур. Но указан¬
ные войска представляли опасность для КПК своим возможным вмешательствбм
в боевые действия, и это явилось главной причиной, побудившей советское
руководство решительно выступить с требованиями о немедленном выводе
американских войск из Китая. Оно вынесло вопрос о Китае на состоявшееся в
декабре 1945 г. в Москве совещание министров иностранных дел СССР, США и
Англии и, несмотря на возражения американцев и англичан и на протесты
китайского правительства, на массовые демонстрации китайской обществен¬
ности, прошедшие во многих городах Китая (кроме "освобожденных районов"),
было проведено обсуждение китайского вопроса без приглашения на совещание
представителей Китая.
На этом совещании, по настоянию Молотова, было принято соглашение о
скорейшем выводе из Китая войск США и СССР (из Маньчжурии), а также о
прекращении гражданской войны в Китае и демократизации этой страны. С
одной стороны, эти решения отвечали добрым целям, интересам самого
китайского народа. Но с другой - обсуждение и принятие решений по Китаю без
согласия на это самих китайцев, даже без консультаций с ними, а тем более без
учета интересов законного правительства Китая не могло встретить одобрение в
широких общественно-политических кругах Китая и не задеть национальных
чувств китайцев, судьбу которых по-прежнему решали великие державы.
После Московского совещания советское правительство выступило против
политики США в Китае, в особенности по вопросу об их войсках в Китае,
используя трибуну ООН и другие междунарЬдные форумы. Каждая сессия Гене¬
ральной Ассамблеи ООН начиналась с горячих схваток советской делегации с
американцами по этому вопросу. В самих США было немало людей среди поли¬
тических и общественных деятелей, которые ратовали за то, чтобы убрать
американские войска из Китая. В печати США осуждались поведение амери¬
канских солдат по отношению к китайцам, их развязное, грубое обращение с
120
женщинами, имевшие место случаи изнасилований и многое другое, что вообще
характерно для поведения американцев, когда они оказываются в других
странах, в особенности в экономически отсталых. Но американскую общест¬
венность глубоко "задевали" распространявшиеся пропагандой Яньани обвинения
в том, что американские военные нападали на китайские деревни в районах,
занятых коммунистами, учиняли массовые зверские расправы над населением, не
щадя женщин и детей, бомбили и обстреливали с самолетов населенные пункты.
Американцы считали такие публикации оскорбительными вымыслами.
А между тем в доверительных беседах с нами, советскими работниками в
Китае, представители КПК неоднократно говорили, что в действительности
американские войска воздерживаются от боевых действий против войск НОА.
рГак, в беседе с послом А.А. Петровым 5 октября 1945 г. Чжоу Эньлай и
заместитель командующего Новой 4-й армией НОА Ван Жофэй заявили:
"Оценивая операции американских войск в Китае, мы исключаем возможность их
непосредственного участия в гражданской войне"26. В беседе А.А. Петрова и
военного атташе Н.В. Рощина с Чжоу Эньлаем 26 октября 1946 г., когда уже в
разгаре была гражданская война, отвечая на вопрос о поведении американцев,
Чжоу Эньлай сказал: "Случаи участия американцев в боях очень редки, кроме
стычек с американскими морскими пехотинцами других случаев не было.
Непосредственное участие в войне американских летчиков или личного состава
других родов войск также маловероятно"27.
А упомянутые редкие стычки возникали главным образом из-за того, что
солдаты НОА проникали в расположение американских морских пехотинцев или
туда, где последние охраняли линии коммуникаций между городами, а также
электростанции, угольные шахты, обеспечивавшие электроэнергией города, где
находились подразделения американских войск. Морские пехотинцы в целях
предотвращения диверсий не подпускали солдат НОА к этим объектам, и в
таких случаях иногда возникали перестрелки.
В связи с этим хотелось бы поделиться личными наблюдениями, привести
некоторые документы, которые могут быть полезны исследователям и за¬
интересованным читателям для более объективной оценки событий, происхо¬
дивших в Северном Китае, а следовательно, и в этой стране в целом после
капитуляции Японии.
Прежде всего следует сказать несколько слов о миссиях Хэрли и Маршалла в
Китае. На протяжении второй мировой войны между нашим и американским
посольствами, советскими работниками и американцами поддерживались
хорошие отношения, официальные и просто человеческие. Мы обменивались
информацией о положении в Китае и в мире, ходили в гости друг к другу. Не все
и не сразу было утрачено в характере этих отношений и в первые годы после
окончания войны. Установились хорошие контакты с прибывшим в Китай в
1944 г. генералом Хэрли - личным представителем президента США, назначен¬
ным через некоторое время послом в Китае. Весьма дружественный деловой
характер носили наши отношения с генералом Маршаллом, прилетевшим в
Китай в конце декабря 1945 г. в качестве личного представителя президента
после возвращения в США Хэрли. Хэрли и Маршалл часто бывали в нашем
посольстве, вели довольно откровенные беседы с нашим послом, ó содержании
которых я скажу ниже. Мне лично приходилось принимать участие в этих
беседах, а также встречаться и беседовать с Хэрли, Маршаллом и другими
видными американскими представителями на приемах у американцев, китайцев,
в дипломатическом корпусе. у
26 Запись беседы А.А. Петрова с Чжоу Эньлаем и Ван Жофэем 5 октября 1945 г. - АВП РФ.
27 АВП РФ, ф. 0100, оп. 34, д. 21, п. 253, л. 203-212.
121
В беседах с советскими представителями Хэрли и Маршалл подчеркивали, что
главная задача, поставленная перед ними правительством, президентом США,
заключается в том, чтобы попытаться добиться урегулирован™, отношений
между Гоминьданом и КПК политическими средствами, путем переговоров, на
основе взаимных уступок и компромисса. Они не скрывали, что США за
сохранение в Китае власти Гоминьдана во главе с Чан Кайши, но считают, что
должны быть проведены некоторые демократические реформы, что необходимо
ввести в состав правительства представителей КПК и некоторых других
оппозиционных партий и общественных организаций. Но при условии, что
ведущая роль в правительстве сохранялась бы за Гоминьданом. Они критически
относились к Чан Кайши, но заменить его другой политической фигурой в
существовавшей тогда обстановке в стране считали невозможным. В гоминьда¬
новских кругах далеко не все довольны Чан Кайши и даже не прочь были бы
убрать его. Но даже эти люди вынуждены считаться с ним. Без него, отмечали
они, милитаристские и политические группировки передерутся и Китай развалит¬
ся. Хэрли совершил несколько поездок в Яньань для переговоров с Мао Цзэ¬
дуном и другими руководителями КПК, пытался убедить их в необходимости и
возможности сотрудничества КПК с Гоминьданом, рассеять их опасения по
поводу того, что в случае уступок Гоминьдану в своих требованиях по терри¬
ториальному, политическому, военному (сохранение за КПК всех ее вооружен¬
ных сил) и по другим вопросам китайской компартии грозит уничтожение. Хэрли
говорил, что можно было бы выработать какой-то механизм, который мог бы
гарантировать КПК от такой опасности.
Эту мысль высказывал и Чан Кайши. На переговорах в Яньани Хэрли
удалось выработать проект соглашения между КПК и Гоминьданом. Его
подписал Мао Цзэдун. Хэрли тоже поставил свою подпись с пометкой:
"свидетель”. Но, когда Хэрли привез и вручил этот документ Чан Кайши, тот
отказался поставить свою подпись. Он заявил, что для него неприемлем в этом
проекте пункт, предусматривающий создание коалиционного правительства,
поскольку на переговорах с Мао Цзэдуном остался нерешенным вопрос об
объединении вооруженных сил под единым верховным командованием при
сохранении соответствующей автономии за войсками КПК после их сокращения
и реорганизации в плане общей реорганизации и сокращения всех вооруженных
сил страны после войны.
Неудача, постигшая соглашение, достигнутое между Хэрли и Мао Цзэдуном,
обострила отношения между КПК и Гоминьданом. Дальнейшие попытки Хэрли
поправить положение и возобновить переговорный процесс ни к чему не привели.
Хэрли рассорился и с гоминьдановцамй, и с коммунистами, а заодно и с амери¬
канскими дипломатами в Китае и в самом госдепартаменте, которых он обвинил
в подрывной деятельности против его миссии и политики США в Китае в целом.
Хэрли покинул Китай и отказался возвратиться в него.
Американские и гоминьдановские представители утверждали, что поскольку
Москва не участвует в переговорном процессе и, стоя в стороне, постоянно
критикует только правительство Чан Кайши, то Мао Цзэдун рассматривает это
как поддержку со стороны Москвы и благодаря этому предъявляет Гоминьдану
слишком завышенные требования и занимает неуступчивую позицию, сводя¬
щуюся, по существу, к требованию установления контроля КПК почти над всей
территорией Северного Китая, предоставления в коалиционном правительстве
коммунистам вместе с представителями других оппозиционных партий и группи¬
ровок (а среди них немало скрытых коммунистов) практически права вето. Об
этом не раз говорили нашему послу руководители делегации Гоминьдана на
переговорах. Так, в беседе с Петровым 6 апреля 1946 г. генеральный секретарь
ЦИК Гоминьдана Фу Бинчан заявил, что главная трудность, мешающая
122
достижению соглашения между Гоминьданом и КПК, заключается в чрезмерных
требованиях коммунистов. Он сказал, что руководители КПК не учитывают
сложности обстановки внутри Гоминьдана. В Гоминьдане немало демократически
настроенных деятелей, которые желают идти на сотрудничество с КПК. Но
имеются и такие, которые выступают против сотрудничества. На Чан Кайши
оказывается давление и слева, и справа. Жесткие требования руководства КПК
лишь на руку правым силам в Гоминьдане28.
Хэрли не раз обращался к нашему послу с предложением поехать вместе с
ним в Яньань для переговоров с Мао Цзэдуном, но тот постоянно отклонял
такие предложения29. Тем не менее представители США продолжали свои по¬
пытки подключить советскую сторону к участию в переговорах. В одной из
бесед по этому поводу с Петровым, состоявшейся 19 сентября 1946 г.,
Дж. Стюарт, рассказывая о своих усилиях добиться соглашения между Гоминь¬
даном и КПК, заявил, что "он не теряет надежды, что Советский Союз наряду с
США примет участие в разрешении китайской проблемы".
Петров в очередной раз указал на неизменность советской позиции в этом
вопросе, заявив, что не "считает возможным вмешиваться во внутренние дела
Китая и строго придерживается решений Московского совещания министров
иностранных дел по вопросу о Китае"30.
С просьбами об участии Москвы в упокщнутом переговорном процессе к нам
обращались многие гоминьдановские деятели, последователи Сунь Ятсена, дру¬
жественно настроенные к СССР и к КПК, в частности, такие авторитетные в
Китае лица, как маршал Фын Юсян, начальник политуправления Китайской ар¬
мии Чжан Чжичжун, генеральный секретарь Народно-политического совета и
руководитель китайско-советского общества дружбы Шао Лицзы, видные
деятели науки и культуры, не входившие в политические партии. Они считали
возможным восстановление существовавшего при Сун Ятсене сотрудничества
между Гоминьданом и КПК при условии смягчения руководством КПК своих
территориальных и некоторых других требований. В беседах с советскими
представителями они подчеркивали, что без посредничества Москвы конфликт
между Гоминьданом и КПК не разрешить31.
Представители Белого Дома, делясь информацией о ходе переговоров между
Гоминьданом и КПК, о своих встречах и беседах с представителям» обеих китай¬
ских сторон, в частности с Чан Кайши, рассказывали, что Чан Кайши заверял
американцев, как и представителей КПК, что он не против демократических
преобразований, не против проведения новых парламентских выборов и создания
коалиционного правительства, но эти вопросы, по его мнению, нельзя решать
сразу, немедленно, как того требовало руководство КПК, а постепенно, так как
китайское общество не имеет ни малейших демократических традиций, а война с
японцами и гражданская война, с его точки зрения, - не лучшее время для
серьезных реформ. Помимо острых конфликтов между Гоминьданом и КПК
страну раздирают сепаратистские силы генералов-милитаристов. Проведение в
таких условиях демократических выборов повергнет страну в еще более
глубокий хаос. Потому необходимо сначала добиться внутриполитической и
общественной стабилизации в стране. Чан Кайши и другие лидеры Гоминьдана
подчеркивали, что в существовавшей в Китае обстановке может быть диктатура
28 Там же, д. 20, п. 235, л. 99-101.
29 Беседа А.А. Петрова с П. Хэрли 8 июня 1945 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 33, п. 244, д. 14,
л. 130-133.
30 Запись беседы посла А.А. Петрова с послом США Дж. Стюартом 19 сентября 1946 г. - АВП
РФ, ф. 0100, оп. 34, п. 253, д. 21, л. 141.
31 Запись беседы посла СССР А.А. Петрова с Чжан Чжичжуном 27 января 1947 г. - АВП РФ,
ф. 0100, оп. 40а, д. 21, п. 264, л. 57-59.
123
Гоминьдана или КПК, а поэтому считали они, когда Мао Цзэдун й его
окружение выдвигают и требуют немедленной демократизации, они имеют в
виду, по существу, замену одной диктатуры на другую. А на это руководство
Гоминьдана и лично Чан Кайши пойти не могут. В этом один из главных узлов
противоречий между Гоминьданом и КПК.
Приведу в этой связи содержание беседы Петрова с Хэрли 21 мая 1945 г.
Хэрли тогда сказал: "Я могу поделиться с вами одним весьма знаменательным
заявлением, сделанным мне Чан Кайши во время частной беседы. Чан Кайши
сказал, что если он умрет как диктатор, то его имя и все, что он сделал для
Китая, будет забыто. Если же он даст стране демократию, даст народу свободу,
введет конституционный режим, то его имя навеки останется в истории Китая”.
Комментируя это высказывание, Хэрли отметил, что он "придает большое
значение этому зявлению Чан Кайши"32. Можно заметить, что эти высказы¬
вания Чан Кайши и комментарий Хэрли в известной мере соответствуют той
оценке, которую дал Мао Цзэдун в приведенной выше беседе в, нашем по¬
сольстве 10 октября 1945 г., когда он говорил о политических взглядах Чан
Кайши и возможности их эволюции в ту или другую сторону под воздействием
внутриполитических и внешних факторов.
В конце декабря в Чунцин прибыл личный представитель президента Трумэна
генерал Дж. Маршалл. Это была весьма авторитетная личность в американских
военных и политических кругах. Он был начальником штаба армии (т.е.
сухопутных сил США), участвовал в составе делегаций США на Каирской,
Тегеранской, Крымской, Потсдамской и других конференциях. Был сторонником
рузвельтовского курса сотрудничества с СССР. Ему было поручено президентом
выступить посредником между Гоминьданом и КПК на переговорах по вопросам,
служившим тормозом к гражданскому миру в стране.
Перед вылетом из Вашингтона в Китай Маршалл еще раз встретился с
Трумэном, чтобы получить от него последние "установки" для своей миссии. В
дневниковой записи от 14 декабря он отметил, что "помощь Соединенных
Штатов (правительству Чан Кайши. - А.Л.) не будет доходить до военной
интервенции США с целью оказания влияния на курс какой-либо из сторон во
внутренней борьбе в Китае"33.
Чан Кайши согласился на переговоры с участием Маршалла. КПК тоже
прислала делегацию в Чунцин в составе начальника штаба НОА Е Цзяньина и
заместителя командующего Новой 4-й армией Ван Жофэя. Ее главой был
назначен Чжоу Эньлай, но он задержался в Яньани. По прибытии в Чунцин
делегация КПК попросила встречи с Петровым. Мы догадывались о цели
встречи делегации КПК с советским послом. Ввиду нежелания Москвы втяги¬
ваться в указанные переговоры встреча советского посла с представителями
КПК была нецелесообразна. Чтобы избежать ее, пришлось прибегнуть к широко
практикуемому в дипломатической практике приему: "дипломатической болезни".
Принять делегацию КПК было поручено мне, занимавшему тогда должность
первого секретаря посольства. Такая встреча состоялась 1 января 1946 г. Как
мы и предполагали, Е Цзяньин и Ван Жофэй заявили, что пришли за советом:
следует ли соглашаться на участие в переговорах между Гоминьданом и КПК
личного представителя американского президента - генерала Маршалла.
Е Цзяньину и Ван Жофэю было сказано, что существующие внутриполити¬
ческие проблемы в Китае должны, по мнению советского правительства, ре¬
32 АВП РФ, ф. 0100, оп. 33, д. 14, п. 244, л. 140-147.
33 См. Memorandum of Conversation by General Marshall 14 December 1945. Foreign Relations of the
United States (далее - FRUS), v. VII. Far East, China, p. 772. Цит. no: Thornton R. The Struggle for
Power..., p. 186.
124
шаться самим китайским народом, без постороннего вмешательства и что реше¬
ние их лежит на пути объединения всех прогрессивных демократических
сил страны, исходя из общих интересов китайского народа. Было подчеркнуто,
что по поставленному ими вопросу мы не можем давать делегации КПК ка¬
ких-либо советов, что этот вопрос должно решать руководство КПК, по¬
этому делегации следует обратиться за соответствующими инструкциями в
Яньань34.
Сразу после прибытия в Чунцин Маршалл нанес визит в наше посольство, а
через несколько дней от имени посла в честь Маршалла был дан обед.
Состоялись очень дружественные беседы. Маршалл рассказал о целях
своей миссии в Китай: продолжить и попытаться успешно завершить
дело, начатое Хэрли, т.е. добиться, чтобы противоборствующие партии -
Гоминьдан и КПК - в конце концов пришли к взаимному согласию и в Китае
установился гражданский мир. Маршалл подчеркнул, что это отве¬
чает интересам США и СССР. Интересы обеих наших великих держав в
Китае, как он уверен, совпадают, а поэтому он рассчитывает в осуществле¬
нии своей весьма сложной и тяжелой миссии на сотрудничество советского
посла.
С советской стороны было сказано, что мы разделяем мнение, изложенное
Маршаллом, желаем успеха его миссии в деле содействия достижению
внутреннего мира в Китае, основанного на решении Московского совещания
министров иностранных дел и готовы поддерживать дружественные кднтакты с
Маршаллом и его коллегами.
Переговоры делегаций Гоминьдана и КПК с участием Маршалла начались с
тех же вопросов, которые остались нерешенными при Хэрли. Из них в качестве
ключевого был выделен вопрос об объединении и реорганизации вооруженных
сил Гоминьдана и КПК, о чем шла речь на встрече Чан Кайши и Мао Цзэдуна в
Чунцине, когда условились, что войска КПК будут сокращены до 20 дивизий.
Руководство КПК с этим согласилось, имея ввиду, что в эти 20 дивизий удастся
впрессовать всю миллионную армию НОА. И вот теперь предстояло взяться за
распутывание этого туго завязанного узла. Для решения вопроса был создан
Комитет трех в составе Чжоу Эньлая, Маршалла и представителя Гоминьдана.
Другой наиболее важной проблемой было осуществление чунцинского согла¬
шения о прекращении огня через трехсторонний штаб в Бэйпине. Переговоры в
Комитете трех затянулись и в середине 1947 г. закончились безрезультатно. А
без решения этого вопроса оказалось невозможным достичь соглашения по всем
другим проблемам. А главное - не удалось Прекратить огонь. Деятельность
бэйпинского штаба оказалась неэффективной. Схватки между войсками Гоминь¬
дана и КПК вспыхивали то в одном, то в другом месте. Бэйпинский штаб
посылал свои "противопожарные" группы в горячие точки, но все это в конце
концов оказалось бесполезным. Стороны обвиняли в этом друг друга, но
фактически виновны были в той или иной мере и гоминьдановцы, и коммунисты.
Об этом мне лично было хорошо известно от представителей всех трех сторон
Исполнительного штаба, с которыми часто приходилось встречаться во время
моей работы в Бэйпине в качестве генерального консула. Американский
военный атташе в Китае генерал А. Гиллем говорил мне< что заключенное в
Чунцине между Чан Кайши и Мао Цзэдуном соглашение, как и соглашения на
других уровнях, не выполняются: "У обеих сторон нет чувства ответственности
за те обязательства, которые они берут на себя... В Исполнительном штабе они
подписывают документы, которые они заранее не собираются выполнять.
Американской стороне не остается ничего другого, как ставить свои подписи,
34 АВП РФ, ф. 0100, оп. 34, п. 253, д. 22, л. 21.
125
заранее зная, что эти соглашения и документы не имеют никакого практи¬
ческого значения"35.
После подписанного Чан Кайши приказа о прекращении военных действий,
последовавшего за встречей его с Мао Цзэдуном, представлявший КПК в
упомянутом трехстороннем органе начальник штаба НОА генерал Е Цзяньин
сказал мне, что войска КПК не будут выполнять этот приказ и мотивировал это
тем, что под ним не было подписи Чжоу Эньлая. Он заявил также, что "ком¬
мунисты в данный период не заинтересованы в прекращении военных действий,
поскольку они развиваются благоприятно для КПК и неблагоприятно для
Гоминьдана"36.
Гражданская война явилась тяжелейшим ударом по экономике страны и
обрекла миллионы людей на такие испытания, которые они не в состоянии были
выдержать после того, как их жизненные силы отняла восьмилетняя антияпон-
ская война37. В китайской и зарубежной прессе человеческая трагедия граждан¬
ской войны освещалась по-разному: гоминьдановская печать обвиняла в подрыве
экономики коммунистов. Коммунисты возлагали всю ответственность за
состояние экономики на японцев и на гоминьдановцев. В западной же печати
проявлялся плюрализм мнений. Это было характерно и для западных дипломатов
в Китае. Заметно выделялись в этом отношении взгляды англичан на китайские
события. Они критически относились к политике США в Китае, считая их усилия
по примирению Гоминьдана с КПК бесполезными, а поэтому английская дипло¬
матия не проявляла особой заинтересованности в объединении Китая. Черчилль
полагал, что единый Китай нужен больше американцам, а от раздробленности
Китая Англия, по его мнению, мало что потеряет, скорее выиграет. Английский
посол чистосердечно говорил советскому о разрушительных действиях граждан¬
ской войны, а также о том, что экономическая разруха, тяжелое экономическое
положение в стране на руку руководству КПК, которое использует недовольство
народа тяжелым материальным положением в своих политических целях.
Советские дипломаты в Китае, конечно же, видели, что в ходе вооруженных
сражений разрушают страну обе воюющие стороны, но докладывать в Москву в
таком ключе было нельзя, поскольку в нашей пропаганде оправдывались все
действия руководства КПК. Это были наши идеологические союзники, и мы
поддерживали их во всем. Каждый отнятый ими у гоминьдановцев город или
другой важный пункт расценивался нами как революционная победа над гоминь¬
дановскими реакционерами. Учитывая эту установку, посольство пыталось по¬
давать правдивую информацию в героико-революционном ключе. Но этот прием
не всегда нам удавался. Помню, в одной из наших посольских информаций в
Москву было сообщено, что войска НОА в Северном Китае ведут успешную
борьбу с гоминьдановцами: разрушают железные дороги, взрывают мосты,
выводят из строя угольные шахты, электростанции. Это еще больше парализует
промышленность, жизнь городов, еще больше растет армия безработных. А все
это вызывает еще большее недовольство народных масс гоминьдановским
режимом. Из Москвы последовал окрик-запрос в адрес авторов доклада: "Что вы
хотите этим сказать? Что в тяжелом экономическом положении в Китае повинна
КПК?"
Вообще, нашим дипломатам надо было проявлять осторожность в донесениях
высокому начальству о фактах, о которых ему не нравилось читать. На этот
35 Запись беседы Генерального Консула СССР в Бэйпине А.М. Дедовского с генералом
А. Гиллемом 25 ноября 1946 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 40а, п. 264, д. 23, л. 16.
36 Запись беседы Генерального Консула СССР в Бэйпине А.М. Дедовского с Е Цзяньином
11 ноября 1946 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 40а, п. 264, д. 23, л. 10.
37 См. доклад Генерального Консула СССР в Бэйпине А.М. Дедовского от 26 декабря 1946 'г. -
АВП РФ, ф. 0100, оп. 40а, п. 263, д. 12, л. 14-30.
126
счет приведу еще один пример. Во время пребывания Мао Цзэдуна в Москве в
начале 1950 г. он высказал в беседе с заведующим дальневосточным отделом
МИД СССР И.Ф. Курдюковым пожелание, чтобы советское правительство
отозвало из Пекина своего посла Н.В. Рощина и заменило его другим. Сталин
питал большое доверие к Рощину, который много лет был военным атташе в
Китае, послом при гоминьдановском правительстве, хорошо знал Китай,
китайцев, их высших руководителей, включая Мао Цзэдуна и его окружение.
Не буду распространяться о том, почему Мао Цзэдун пожелал "избавиться" от
Н.В. Рощина - это отдельная тема. По понятным соображениям весьма дели¬
катный вопрос он решил поставить перед Сталиным не напрямую, а неофи¬
циальным образом, через Курдюкова. При этом Мао Цзэдун не высказал ни¬
каких мотивов. Курдюков поделился со мной (в то время я был его за¬
местителем) этим неожиданным предложением и пошел докладывать министру -
А.Я. Вышинскому. Министр выслушал его, не проронив ни слова. Но, когда
Курдюков направился из кабинета министра, сказав, что сделает запись указан¬
ной беседы с Мао Цзэдуном и представйт ее "в установленном порядке", министр
вдруг крикнул ему вслед: "Никакой записи не нужно! Такой беседы не было!" И
добавил: "Не Мао Цзэдуну решать, кому быть советским послом в Пекине. Это
дело нашего политбюро и никого другого!" Вот так дело обстояло с фактами при
докладе их высокому начальству.
МАНЬЧЖУРИЯ В СОВЕТСКО-КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
С первых же дней после освобождения Маньчжурии Советской Армией Чан
Кайши пытался установить личные доверительные отношения со Сталиным и
добиться его благосклонного отношения к гоминьдановскому правительству и
лично к себе самому в деле осуществления прежде всего мероприятий по уста¬
новлению контроля китайского Центрального правительства над Маньчжурией.
В связи с отводом оттуда советских войск Чан Кайши попросил Сталина пре¬
доставить советские корабли для переброски в Маньчжурию китайских прави¬
тельственных войск. Правительство СССР ответило отказом. Чан Кайши
сообщил через нашего посла, что он вынужден обратиться за содействием в
транспортировке указанных войск к американцам, и просил разрешить про¬
пустить эти войска через единственно пригодные для этого маньчжурские пор¬
ты - Дальний и Порт-Артур38. Чан Кайши в беседах с советским послом заверял
Сталина, что он и его правительство пойдут на самые широкие и добрососед¬
ские, дружественные отношения с СССР, в особенности в Синьцзяне и в
Маньчжурии. Чан Кайши заверял также, что он не будет преследовать ки¬
тайских коммунистов, сохранит за ними на положении автономии определенные
территории с автономными управленческими структурами и автономными
войсками, но при условии признания руководством КПК верховенства Центра39.
Чан Кайши пытался рассеять подозрения Кремля и всякие обвинения в
"проамериканизме" и "антисоветизме". На неоднократные и настойчивые
обращения Чан Кайши к Сталину тот не отвечал.
Чан Кайши собирался лично посетить Москву и встретиться со Сталиным. Из-
за этого он откладывал намечавшиеся визиты в США, считая их невозможными
без посещения СССР. На зондажи, рассчитанные на получение приглашения в
СССР, Москва не реагировала. В декабре 1945 г. Чан Кайши решил направить в
38 Запись беседы А.А. Петрова с Чан Кайши 18 и 23 октября 1945 г. - АВП РФ, ф. 0100,
оп. 40, п. 248, д. 7.
39 Завись беседы А.А. Петрова с Чан Кайши 31 декабря 1945 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 40,
п. 248, д. 7.
127
Москву в качестве особоуполномоченного правительства и своего личного
представителя как главы государства своего сына Цзян Цзинго, выросшего и
получившего идейно-политическое воспитание и обучение в СССР, а также
работавшего много лет в нашей стране. Цзян Цзинго было поручено встретиться
со Сталиным и другими высшими советскими руководителями, изложить им
упомянутые выше заверения и просьбы.
Однако в Москве его приняли очень сухо. О номере в гостинице и все другие
заботы по обслуживанию Цзян Цзинго пришлось взять на себя китайскому
посольству. Лишь в конце своего пребывания, 30 декабря, Цзян Цзинго удалось
встретиться со Сталиным. Со стороны Сталина беседа носила больше назида¬
тельный характер. Он выразил недовольство по поводу согласия Чан Кайши на
отправку в Китай американских войск, предложив добиваться их немедленного
вывода из страны. Сталин указал также на опасность для Китая американской
политики "открытых дверей", заметив, однако, что в течение какого-то времени
Китаю неизбежно придется с ней мириться. Сталин сказал Цзян Цзинго, что
экономику Китая следует развивать на базе собственной передовой техники40.
Добиться от Сталина согласия изменить свою политику в отношении Китая, в
особенности в Маньчжурии, Цзян Цзинго не удалось.
Однако развитие событий в Маньчжурии заставляло Чан Кайши продолжать
добиваться личной встречи со Сталиным. В августе 1946 г., находясь на отдыхе
в курортном местечке под Гуйлином, Чан Кайши пригласил туда в качестве
своего гостя советского посла Петрова. В одной из бесед с ним (13 августа) Чан
Кайши, говоря о необходимости улучшения отношений между Китаем и СССР,
обратился к Петрову с такой просьбой: "Я прошу вас при первой же возможности
сообщить генералиссимусу Сталину о том, что я хотел бы, как только внутри¬
политическое положение в Китае стабилизируется, повидаться с ним лично"41.
Наш посол ответил, что незамедлительно сообщит об этой просьбе Сталину.
Ссылка на обстановку в Китае имела двоякий смысл: "сохранить лицо", как
говорят китайцы, в случае отказа в просьбе, а также побудить Кремль изменить
свою политику в Маньчжурии й в Синьцзяне и создать таким образом благо¬
приятную обстановку для встречи Сталина и Чан Кайши, если Москва согла¬
сится на такую встречу. Москва на просьбу о визите Чан Кайши в СССР не
ответила.
Одной из главных причин, вызвавших резкое обострение отношений между
Москвой и правительством Чан Кайши, явились бесчинства гоминьдановцев в
отношении советских железнодорожников и других советских граждан, находив¬
шихся в ряде городов и других населенных пунктах Южной Маньчжурии, заня¬
той гоминьдановскими войсками после вывода оттуда советских войск.
Гоминьдановское правительство сваливало вину за эти инциденты на местных
бандитов, так называемых "хунхузов", хотя во многих случаях прямо или косвен¬
но к ним причастны были гоминьдановские власти. Вскоре насилия и зверства,
которые учиняла гоминьдановская военщина над советскими людьми после ухода
советских войск, приобрели более широкие масштабы. Особенно жестокие
расправы произошли в Мукдене, Чанчуне и Тэлине42.
Больше всего притеснениям подверглись постоянно проживавшие в Китае
советские граждане-эмигранты и все русские эмигранты вообще. Но пострадала
также часть советских командированных работников, в том числе специалистов,
работавших на КЧЖД и ее предприятиях.
Наряду с решительными протестами и осуждениями гоминьдановского прави¬
40 АВП РФ, ф. 0100, оп. 34, д. 70.
41 Там же, д. 21, п. 253, л. 98.
42 Там же, оп. 33, д. 7, л. 137-138; оп. 40а, д. 69, п. 269; оп. 34, п. 259.
128
тельства за допущенный им произвол Москва приняла решение отозвать из
Южной Маньчжурии, занятой гоминьдановскими войсками, всех работающих на
КЧЖД, командированных из СССР, железнодорожников. Гоминьдановское пра¬
вительство принесло извинения за происшедшее, объяснило это тем, что на
поведении гоминьдановской армии отразились настроения китайской обществен¬
ности, недовольной политикой СССР в Маньчжурии, в частности, помощью
коммунистам, а также имевшими месте случаями неправильного поведения со¬
ветских военнослужащих и других "русских” по отношению к китайцам, а такие
случаи действительно были. В ответах на наши протесты и представления
представители гоминьдановских властей подчеркивали далее, что гоминьда¬
новские военнослужащие вышли из-под контроля своего командования, но
виновные понесут строгое наказание и со стороны китайского правительства и
местных властей будут приняты все необходимые меры для обеспечения полной
безопасности советских учреждений и граждан в Китае.
Гоминьдановское правительство, руководство китайской части администрации
КЧЖД, председатель правления дороги Чжан Цзяао (он же председатель Эконо¬
мического комитета при Правительственной ставке в Маньчжурии) всячески
добивались от советского правительства отмены своего решения об отзыве
советских Железнодорожников, заверяя при этом, что им будут созданы все
необходимые и самые благоприятные условия для работы и проживания в Китае.
Наряду с обращениями к Москве и советским представителям в Китае, с
просьбами и уговорами гоминьдановские власти прибегли к разного рода мерам,
чтобы воспрепятствовать выезду советских железнодорожников. Но советское ,
правительство осталось непоколебимым в своем решении, и все железнодорож¬
ники из районов, занятых гоминьдановцами, были вывезены. В этой акции
помимо всего прочего проявились общий антигоминьдановский настрой в поли¬
тике советского руководства, резкая антипатия в отношении правительства Чан
Кайши как "классово и идеологически чуждого”. Об этом можно было судить, в
частности, по реакции Москвы на бесчинства и насилия, которым подвергались
советские граждане, включая тех же железнодорожников в районах Маньчжу¬
рии, занятых войсками НОА. На эти бесчинства в Москве закрывали глаза.
Отношения советской стороны с властями КПК, с войсками НОА в районах
Маньчжурии, переданных под их контроль советским командованием при выводе
наших войск, складывались на первом этапе непросто. На высшем уровне они
носили один характер, на среднем и низшем уровнях - совершенно иной. Между
высшим партийным и военно-административным руководством КПК в Маньчжу¬
рии и Москвой с самого начала установились довольно теплые и близкие отно¬
шения, проникнутые общностью идеологических взглядов. Командующий
войсками Народно-Революционной армии (формально она называлась Объеди¬
ненной Демократической Армией Маньчжурии, сокращенно - ОДА) Линь Бяо,
комиссар армид Гао Ган обращались к Москве с многочисленными просьбами о
помощи и содействии в решении целого ряда проблем: о предоставлении оружия,
поставках различного рода промышленных товаров двойного назначения - для
арМии и населения, включая ткани, хлопок, вату для пошива одежды, обмун¬
дирования, перевязочные средства, медикаменты, медицинское оборудование,
автогрузовой транспорт, горючее, средства связи, продовольственные товары и
многое другое. Были заключены торговые соглашения, в которых предусмат¬
ривались взаимные расчеты, носившие бартерный характер: советские поставки
покрывались встречными поставками властями КПК зерна, соевых бобов, неко¬
торый сырьевых товаров. По просьбе Линь Бяо, Гао Гана, других руководящих
партийных и военных работников КПК в Северной Маньчжурии на лечение в
СССР принимались больные и раненые командиры и другие китайские
работники. Москва помогла властям КПК построить в Северной Маньчжурии
5 Новая и новейшая история, № 6
129
радиостанцию, была установлена почтово-телеграфная связь с СССР, а через
СССР - с другими странами. Оказывалось содействие поездкам различных
китайских делегаций, направлявшихся из Маньчжурии и других контролировав¬
шихся КПК районов для участия в различных международных общественно-
политических мероприятиях, проводившихся в европейских и других странах.
При этом они обеспечивались валютой. Все это и многое другое осуществлялось
без ведома гоминьдановских властей. На других же уровнях все было иначе.
После ухода советских войск из Северной Маньчжурии и перехода ее в руки
китайских коммунистов, осуществленного благодаря содействию советского ко¬
мандования, коммунистические власти взяли в свои руки управление Китайско-
чанчунской железной дорогой со всем принадлежащим ей имуществом, распо¬
ложенным на занятой войсками КПК территории. Они отстранили от управления
советскую железнодорожную администрацию, мотивируя это непризнанием со¬
ветско-китайского договора и соглашений от 14 августа 1945 г. Начались
массовые увольнения советских граждан, работавших на КЧЖД и в различных
китайских учреждениях и на предприятиях. В действиях военнослужащих НОА и
многих представителей коммунистических властей нередко сквозили "антирус¬
ские", шовинистические настроения. Получили широкое распространение акты
насилия и произвола. Угрожая оружием, а нередко пуская его в ход, солдаты
воинских частей НОА при попустительстве своих командиров и комиссаров, а
иногда при их непосредственном участии и руководстве врывались в здания и на
предприятия КЧЖД, лечебные учреждения, в помещения советских торговых
организаций, материальные склады, конфисковывали и вывозили товары, здания
отбирали под казармы и для других нужд. Это сопровождалось арестами и
избиениями советских сотрудников. Особенно массовый и грубый характер
носили бесчинства в отношении русской части населения, без различия граж¬
данства. Вооруженные группы вламывались в их квартиры, производили обыски,
нередко избивали и оскорбляли людей и даже грабили. Имели место самосуды
над советскими работниками предприятий КЧЖД. Этими самосудами подчас
дирижировали комиссары некоторых воинских подразделений НОА.
Масса жалоб по поводу упомянутых и многих других притеснений поступала в
советские консульства. Об этом подробно сообщалось, в частности, в докладе
генерального консула СССР в Харбине Г.И. Павлычева на имя заместителя
министра иностранных дел СССР С.А. Лозовского от 12 июня 1946 г. По поводу
этих бесчинств генконсульство СССР в Харбине неоднократно обращалось к
заместителю командующего Объединенной Демократической армии генералу
Гао Гану и главнокомандующему ОДА генералу Линь Бяо43. Таким образом, не
все "гладко" складывалось в наших отношениях в Маньчжурии и с китайскими
коммунистами.
В своих докладах в Москву, в составлении которых и мне лично приходилось
участвовать, советское посольство подвергало резкой критике правительство
Чан Кайши, а его настойчивые призывы к урегулированию и улучшению совет¬
ско-китайских отношений, конкретные практические предложения о широком
сотрудничестве в Синьцзяне, а также о широкой программе экономического
сотрудничества в Маньчжурии и многие другие инициативы, направленные на
развитие добрососедских отношений между Китаем и СССР, как бы вовсе не
замечались или изображались в докладах в Москву как "хитрые уловки",
"лицемерие".
43 АВП РФ, ф. 0100, оп. 40а, д. 69, п. 269, л. 133-135, 140-144; см. также: письмо управляющего
генконсульства СССР в Харбине М.Ф. Лыскова заместителю главнокомандующего ОАД Гао Гану
от 8 апреля 1947 г. - АВП РФ, ф. 0100, оп. 40а, п. 269, д. 69, л. 140-144; письмо генконсульства
главнокомандующему ОДА Линь Бяо от 7 мая 1947 г. - Там же, л. 133-135.
130
Отметим здесь, что приблизительно в таком же ключе, но с резкой критикой в
адрес СССР составлялись многие доклады и другие информационные материалы
работников госдепартамента и американских корреспондентов. Об этом можно
судить по известным документальным сборникам "Форин рилэйшнс оф Юнайтед
Стэйтс". Я не могу судить о всех секретных донесениях американских
дипломатов, работавших в Китае. Но в документах, опубликованных в
сборниках материалов госдепартамента, можно найти немало оценок,
враждебных СССР и сформулированных в духе "холодной войны".
Следует сказать, что при всем пропагандистском шуме в США в отношении
действий СССР в Маньчжурии американские представители в Китае, да и адми¬
нистрация США вплоть до поражения гоминьдановцев занимали сдержанную
позицию в маньчжурском вопросе. Как известно, США отказались от участия в
боевых действиях гоминьдановцев против войск КПК в Маньчжурии, Маршалл
удержал Чан Кайши от наступления в направлении Северной Маньчжурии, что¬
бы избежать серьезного конфликта с СССР44. Американцы вообще советовали
Чан Кайши оставить попытки овладения Маньчжурией, поскольку это - сфера
влияния СССР, который хочет, чтобы Маньчжурия, как и Синьцзян, была для
СССР буферной зоной безопасности, поэтому гоминьдановцам СССР Маньчжу¬
рию не отдаст, а передаст ее коммунистам, к которым Москва питает большее
доверие. Американцы, кроме известных "ястребов", советовали Чан Кайши не
тратить понапрасну силы на Маньчжурию, а сосредоточиться на борьбе с
коммунистами в Северном Китае и таким путем не дать им захватить всю
территорию Китая.
Все это мешало сотрудничеству между СССР и США, в частности, в деле
урегулирования внутрикитайского конфликта, что было в интересах Китая,
СССР, США и мира на Дальнем Востоке и за его пределами. Последняя
попытка к установлению такого сотрудничества была предпринята в начале
1949 г., когда правительство Чан Кайши обратилось к СССР, США,
Великобритании и Франции с просьбой выступить посредниками, чтобы
приостановить гражданскую войну и помочь разрешить конфликт между
Гоминьданом и КПК политическими средствами. Послы западных держав
считали, что такое посредничество могло бы иметь смысл, но при одном
непременном условии - участии СССР. Но Москва заняла резко отрицательную
позицию. Посол СССР в Китае Н.В. Рощин даже не явился в министерство
иностранных дел Китая по приглашению министра и отказался от встречи с
послами указанных стран под предлогом болезни. Попытки же гоминьдановского
правительства договориться с руководством КПК без такого посредничества,
естественно, оказались безрезультатными. К этому времени в. состав
действовавших в Северном Китае войск НОА влилась мощная группировка
войск из Маньчжурии (ОДА), сформированных и хорошо оснащенных боевой
техникой при содействии СССР. Это обеспечило военное превосходство над
гоминьдановцами, и руководство компартии Китая предпочло окончательно
решить внутриполитический конфликт в стране силой оружия. В конце апреля
1949 г. вооруженные силы КПК форсировали реку Янцзы, и это бесповоротно
решило исход гражданской войны, закончившейся провозглашением 1 октября
1949 г. Китайской Народной Республики.
В заключение несколько слов о советском после в Пекине А.А. Петрове. До
своего назначения на пост посла СССР в Китае в 1945 г. он работал сначала
первым секретарем, а затем советником того же посольства, которое возглавлял
Панюшкин. Петров был высокообразованным дипломатом и ученым-востоко¬
ведом, владел китайским и английским языками. Его высоко ценил Молотов,
44 FRUS, 1946, v. 10, Far East, China, р. 89.
5*
131
выдвинувший Петрова на этот пост. В этом сыграла свою роль, разумеется, и
рекомендация его предшественника Панюшкина, который пользовался большим
доверием Сталина. Последний в свою очередь придавал важное значение дип¬
ломатическим кадрам китаистов и профессионализму в советской дипло¬
матической службе вообще. При Сталине не было ни одного посла или другого
ответственного дипломатического работника из партаппаратчиков. Приток
партаппаратчиков в дипломатию начался с приходом к руководству Хрущева и
получил широкое развитие при Брежневе и Громыко. Но вернемся к Петрову.
Обстоятельства складывались так, что его карьера была успешной. И вдруг,
неожиданно и трагически, его жизнь оборвалась в 1948 г. Он скончался от
сердечного приступа в Москве, не выдержав семейной драмы - ареста жены
Юлии Павловны Петровой-Аверкиевой. Эта обаятельная, интеллигентная
женщина, мать троих детей (самый младший родился в тюрьме), впоследствии
доктор исторических наук, главный редактор журнала "Советская этнография",
была по злодейскому доносу обвинена в связях с американской разведкой и в
1947 г. приговорена к пяти годам тюремного заключения. В 1952 г. полностью
реабилитирована.
Я рассказал об одной из многих такого рода трагедий, чтобы показать, в
каких психологических условиях приходилось работать советским дипломатам в
Китае, и не только в Китае.
Я перелистал страницы истории событий, происходивших на одном из хорошо
известных мне театров "холодной войны", привел ранее неизвестные многим
факты не для того, чтобы осудить прошлое, а тем более отречься от него за то,
что в нем было много неприятного и даже уродливого. Но это наша история, и,
какой бы горькой она ни была, отрекаться от нее безнравственно. Вглядываясь
в прошлое, мне хотелось лучше рассмотреть самому и привлечь внимание других
к тому, что в действительности происходило, не столько осудить то, что
делалось, сколько понять, почему так делалось.
132
Документальные очерки
© 1993 г.
А.М. ГАК
О СУДЬБЕ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА РОССИИ (1918-1920 гг.)
Судьба золотого запаса России, вывезенного в 1918 г. из Казани, давно
привлекала внимание историков и исследователей. Еще в 20-е годы в советской
периодической печати и сборниках публиковались отдельные материалы на¬
стоящей темы1. Много интересных сведений о борьбе трудящихся Сибири за
сохранение золотого запаса содержит сборник "Годы огневые, годы боевые",
изданный в 1961 г.2
Первая попытка изложить события в систематизированном виде, правильно
осветить роль трудящихся и политических партий в деле возвращения золотого
запаса, была предпринята в 1960 г.3 Большую роль сыграл журнал "Исто¬
рический архив", который в 1961 г. опубликовал серию документов, значительно
расширившую источниковую базу настоящей темы4. Публикация в "Исто¬
рическом архиве" послужила основой книги "Быль о "золотом эшелоне",
подготовленной теми же авторами5.
Истории золотого запаса России посвящена статья В.Г. Сироткина6. Эта
работа заметно выделяется широтой постановки вопроса и разнообразием
использованных источников. Автор встречался за рубежом с людьми, имеющими
прямое отношение к судьбе золотого запаса. Он сообщает интересные факты,
проливающие свет на судьбу части золотого запаса, разворованного в пути
следования из Омска в Иркутск главным образом чехословацкими легионерами.
Исследователь стремится выяснить местонахождение золота, похищенного
атаманом Семеновым. Проблема золотого запаса России затрагивается в связи с
вопросом о передаче части золота Германид по Брест-Литовскому миру от
3 марта 1918 г.7 В работе В.Г. Сироткина широко использована мемуарная
литература участников белого движения, многие годы находившаяся в спец¬
хранах.
1 Колчаковщина. Екатеринбург, 1924; Партизанское движение в Сибири. М.-Л., 1925; Последние
дни колчаковщины. М.-Л., 1926; Горняки Сибири. Революция и гражданская война. Новосибирск,
1927; Сибирские огни, 1927, № 4 и др.
2 Годы огневые, годы боевые. Иркутск, 1961.
3 Гак А.М., Дворянов В.Н., Папин Л.М. Как был спасен золотой запас России. - История СССР,
1960, № 1, с. 137-143.
4 Кладт А.П., Кондратьев В.А. Быль о "золотом эшелоне". - Советская Россия, 3.XI.1960;
их же. "Золотой эшелон" (возвращение золотого запаса РСФСР. Март-май 1920 г.). - Исторический
архив, 1961, № 1, с. 20-53.
5 Кладт А.П., Кондратьев В.А. Быль о "золотом эшелоне". М., 1962.
6 Сироткин В.Г. Вернет ли Япония 22 ящика российского золота. - Известия, 13.IX.1991, с. 7;
его же. Вернется ли на родину российское золото? - Знамя, 1992, № 8.
7 В хранящихся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) документах значится,
что в 1918 г. в Германию в уплату контрибуции было отправлено золота из Нижнего Новгорода на
124 835 549 руб. 47 коп. (ф. 2324, оп. 16, д. 43, л. 40). В публикации В.Г. Сироткина приводится иная
сумма - 120 799 240 руб. 03 коп. - Сироткин В.Г. Вернется ли на родину российское золото?, с. 194.
133
За последние 30 лет в хранилищах документов были выявлены новые
материалы по теме. Их удалось розыскать в Российском государственном архиве
экономики (РГАЭ) в фондах Госбанка (ф. 2324) и Наркомфина СССР (ф. 7733);
в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории
(РЦХИДНИ) в фондах документов В.И. Ленина (ф. 2, on. 1), Совнаркома
РСФСР (ф. 19, on. 1), Совета Труда и Обороны (ф. 19, оп. 3), Политбюро
ЦК РКП(б) (ф. 17, оп. 3). Интересные материалы были выявлены в Москве в
фондах Музея революции.
Новые архивные документы позволяют значительно полнее, чем раньше,
проследить путь золотого запаса России от Казани до Иркутска и его обратный
рейс до Казани.
Эти документы дают возможность с большей точностью определить, сколько
и когда было израсходовано золота колчаковским правительством.
Настоящей находкой можно считать подлинники инструкций об отношении
Москвы к сохранению золотого запаса и об отношении к Политцентру, выяв¬
ленные в Музее революции.
Много новых фактов о судьбе золота, захваченного атаманом Семеновым и
награбленного чехословацкими легионерами, содержат публикации журналистов
в советской прессе8. Особо следует выделить статьи авторов, ведущих
самостоятельный поиск: Е.А. Черных ’’Злата Прага с русской позолотой"9 и
статью сына генерала П.П. Петрова, бывшего начальника снабжения Даль¬
невосточной армии Колчака10. Приведенные в этих статьях факты позволяют
предполагать, что часть золотого запаса России, вывезенного из Казани, до
настоящего времени хранится в сейфах Японии, США и некоторых других стран.
Истории золотого запаса России были посвящены и отдельные литературные
и кинематографические работы, которые, к сожалению, не во всем были
достоверны11.
Исключением можно считать книгу Ю.П. Власова "Огненный крест"12, в
которой на фоне основных событий борьбы между сторонниками красного и
белого движений широко использованы малоизвестные воспоминания и сви¬
детельства участников.
Документы, использованные в настоящем очерке, не только помогают глубже
изучить тему, но и устраняют неточности прежних публикаций, в частности в
книге "Быль о "золотом эшелоне"". Написанная в 1966 г., она, как было принято
в официальной советской литературе, восхваляла деятельность РКП(б),
преувеличивала роль Ленина в спасении золотого запаса.
Какова же судьба золотого запаса России?
Еще в начале 1915 г., после вступления России в мировую войну, часть
российского золота была перевезена в Казань, где в местном отделении банка
имелись просторные хранилища. После Октября 1917 г. большевики эвакуи¬
ровали в Казань, как в более спокойный район, государственные сокровища из
Петрограда и Москвы13.
8 Овчаренко Е., Цветков Н., Дроздов С. Теперь понятно, почему японцы такие богатые. -
Комсомольская правда, 2.Х.1991; Дроздове. След колчаковского золота ведет в Прагу. -
Комсомольская правда, 22.Х.1991; его же. Два ведра золота остались в России. - Комсомольская
правда, 16.XI.1991; Черных Е. В Японии тоже интересуются золотом Колчака. - Комсомольская
правда, 25.Х. 1991.
9 Черных Е.А. Злата Прага с русской позолотой. - Комсомольская правда, 4.П.1992.
10 Петрофф С.П. Япония должна вернуть России 22 ящика золота. - Известия, 18.11.1992, с. 8.
11 Дмитриев Ю. Золотой поезд. М., 1959; кинофильм "Золотой эшелон", вышедший на экраны в
1959 г.
12 Власов Ю.П. Огненный крест. М., 1991.
13 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 38-39.
134
К лету 1918 г. Советская Россия оказалась в кольце фронтов гражданской
войны. Угроза захвата белой армией и иностранными войсками западных,
северных и южных районов Российского государства заставляла большевистское
руководство эвакуировать имевшиеся там ценности в хранилища городов,
которым в то время опасность не угрожала: Москвы, Ярославля, Нижнего
Новгорода, Владимира, Казани, Царицына, Тамбова, Екатеринбурга, Ново¬
черкасска14. К 1 июня 1918 г. туда были вывезены драгоценности из 39 местных
отделений Народного банка15.
Сложной работой по эвакуации золота, серебра и других драгоценных
металлов в более безопасные районы руководила Всероссийская чрезвычайная
эвакуационная комиссия, созданная декретом Совнаркома от 19 апреля 1918 г.16
Тогда же ее председателем был назначен М.К. Владимиров.
В марте - июне 1918 г. средоточением эвакуируемых ценностей становятся
три центра: Москва, Казань и Нижний Новгород. Эти города в то время были
вдали от боевых действий и в них имелись надежные хранилища. По рас¬
поряжению эвакуационной комиссии весной и летом 1918 г. в Казань поступили
золотые монеты и слитки из Тамбовского отделения Народного банка, Воро¬
нежского, Елецкого, Курского, Козловского, Могилевского, Сызранского и Пен¬
зенского отделений17. В июне туда же дополнительно свезли золото из Самары
и Козлова18.
Таким образом на 1 июня 1918 г. в Казани оказалось сконцентрировано вместе
с завезенными до 1917 г. ценностей в золоте на 600 млн. руб и около
200 млн. руб. серебра19. Это была бблыпая часть всего золотого запаса России.
В то же время в хранилищах Нижнего Новгорода было сконцентрировано золота
на 440 млн. руб., не считая серебра и разменной монеты20.
Обстановка еще более обострилась в связи с тем, что 25 мая чехословацкий
корпус, сформированный в России в годы первой мировой войны для борьбы
против австро-венгерских войск, начал боевые действия против советской
власти21. С помощью чехов и словаков и частей белой гвардии в короткий срок
были заняты основные города Средней Волги, Урала и Сибири.
В непосредственной близости от боевых действий оказалась и Казань. Было
бы несправедливым утверждать, что руководство наркомата финансов Со¬
ветской России не сознавало опасности, нависшей над хранившимися в Казани
сокровищами. 27 июня на запрос из Москвы о положении в районе Казани был
получен ответ, что председатель казанского совдепа сообщил, что положение
там улучшилось, а командующий войсками советского Восточного фронта
М.А. Муравьев просил передать следующее: "Политическое положение пре¬
красное, так как в Казани - я"22.
На это сообщение сотрудники Народного банка в Москве ответили, что
"самохвальством Муравьева обольщаться нельзя", что надо внимательно
следить за изменяющейся обстановкой"23. Новый командующий фронтом
И.И. Вацетис, заменивший убитого Муравьева, тоже не проявил в этом вопросе
14 Там же, д. 43, л. 94. Вскоре к этим городам добавили Симбирск, Александров, Ташкент и др.
15 Там же, on. 1, д. 184, л. 25.
16 Там же, л. 60.
17 Там же.
18 Там же, д. 187, л. 58-59, 60.
19 Там же, л. 69.
20 Там же, л. 70.
21 Идейным руководителем антисоветской агитации среди офицеров и солдат корпуса был
французский посол в России. Ж. Нуланс. - Колчаковщина. Из белых мемуаров. Л., 1930, с. 4.
22 РГАЭ, ф. 2324, on. 1, д. 187, л. 72,
23 Там же, л. 74.
135
необходимой дальновидности. 18 июля Вацетис заверил управляющего
казанским отделением банка, что угроза захвата белыми Казани пробле¬
матична24.
24 июля зав. отделом местных учреждений Народного банка предложил
вывезти все ценности из Казани и Нижнего Новгорода в Москву и хранить их в
подвалах Кремля25. Но это предложение реализовано не было.
Попытка эвакуировать ценности из Казани была все же предпринята в конце
июля, но не в Москву, а в Нижний Новгород. Для этого была создана опе¬
ративная группа из трех авторитетных лиц: сотрудников Народного банка, его
московской конторы и губернского комиссара финансов г. Симбирска. Им
поручалось выполнить задание особой важности: срочно выехать в Нижний
Новгород и, подготовив там несколько буксирных пароходов, катеров и барж,
добраться до Казани и вывезти оттуда золотой запас в хранилища Нижнего
Новгорода26.
Соответствующие распоряжения об этом, подписанные председателем Сов¬
наркома, были даны не только лицам этой группы, но и наркому путей сооб¬
щения, командующему Восточным фронтом, президиуму Казанского и Нижего¬
родского советов27.
26 июля из Казани в Москву поступила шифровка, что там начат частичный
пересчет золота и подготовка мешков для вывоза имеющихся ценностей28. Но,
увы, эвакуировать благородный металл не удалось. 22 июля пал Симбирск, 25 -
Екатеринбург.
В ночь с 6 на 7 августа сводный русско-чешско-сербский отряд под ко¬
мандованием В.О. Каппеля дерзким броском с Волги и суши захватил Казань.
В Казанском отделении банка белогвардейцев и чехословаков ждала огромная
добыча. Общий вес ценностей, захваченных в Казани, составил 30 563 пуда
золота - в монетах, слитках, золотых изделиях29. Кроме золота, в хранилищах
были серебро, платина и ценные бумаги.
Только за один день до оставления большевиками Казани им случайно удалось
вывезти 100 ящиков с золотом на сумму 6 123 796 руб.30.
Захватив золотой запас, белогвардейцы Чехии и Словакии быстро погрузили
его на пароходы и вывезли в Самару. Эвакуация проводилась с преступной
небрежностью. Возможность кражи была очевидной: упаковка монет в ящики и
мешки происходила без составления описей, россыпью, без сортировки. В ка¬
честве тары использовались не только ящики, но и старые солдатские вещевые
мешки.
Из Самары, где уже главенствовал Комуч31, претендовавший на роль
центральной власти, золото по его распоряжению было погружено в пять
эшелонов и торопливо отправлено в восточном направлении. По прибытии в Уфу
один из эшелонов был поспешно разгружен, но затем последовало новое
распоряжение о погрузке, и все ценности повезли дальше на Восток32.
В ноябре 1918 г. эшелоны прибыли в Омск, золотой запас разгрузили и
24 Там же, д. 185, л. 105, 105а, 1056, 105в.
25 Там же, д. 187, л. 105.
26 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 5. М., 1974, с. 672, 673.
27 Там же.
28 РГАЭ, ф. 2324, on. 1, д. 187, л. 72.
29 Гак А.М., Дворянов В.Н., Папин Л.М. Указ, соч., с. 137.
30 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 38-46.
31 Комуч - Комитет членов Учредительного Собрания - эсеровское правительство, созданное в
июне 1918 г.’ в Самаре, после захвата города белочехами. Претендовало на управление всей
территорией, находившейся у противников Советской власти.
52 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 122.
136
перевезли в хранилище Омского отделения Госбанка (так он назывался при
Временном правительстве).
К этому времени и Комуч и сменившая его Директория33 уступили место
военной диктатуре: 18 ноября адмиралу А.В. Колчаку, возглавившему Омское
правительство, был присвоен титул "Верховного правителя". При нем был
образован совет министров. По распоряжению последнего было решено провести
переучет всех ценностей, вывезенных из Казани. Эта процедура, начавша¬
яся в апреле 1919 г., заняла больше месяца. В ходе ее осуществления была
выявлена недостача. Согласно акту от 10 мая 1919 г. недостачу части¬
чно покрыли российской и иностранной золотой монетой на сумму 3 855
золотых рублей34. Невосполненной оказалась сумма в 146 руб. 39 коп.35
Из чего же состоял золотой запас, доставшийся Колчаку? Согласно сохра¬
нившимся документам, это было золото в слитках, в полосах и кружках, само¬
родное золото, серебристое золото, золотистое серебро, а также платина. Золо¬
той запас оценивался в 645 410 610 руб. 79 коп.36 Кроме российских, имелись
золотые монеты из 14 стран мира. Больше всего было золотых германских
рейхсмарок: на 11 202 552 руб. 27 коп.37
Охрану золотого запаса в Омском отделении Госбанка нес отряд особого
назначения, состоявший из вольнонаемных, одетых в специальную форму старой
таможенной стражи. Этот отряд подчинялся не военному ведомству, а ми¬
нистерству финансов. Систему создания отрядов особого назначения из воль-
нонаемых колчаковское правительство практиковало широко. Офицерский
состав в таких отрядах подбирался с особой тщательностью.
Придя к власти, Колчак окружил себя представителями союзных держав.
"Адмирал Колчак никогда бы не отправился в Сибирь, - писал Джон Уорд, -
никогда бы не стал во главе русского конституционного движения и пра¬
вительства, если бы он не был вынужден на это советами и наставлениями
союзников"38.
Возле Колчака постоянно находился генерал М. Жанен, командующий
французским экспедиционным отрядом и всеми вооруженными силами союзников,
за исключением японских. Все приказы военного характера Колчак должен был
согласовывать с генералом Жаненом. Английский генерал А.У. Нокс ведал
снабжением колчаковской армии39. В распоряжении Колчака находился отряд
англичан во главе с полковником Дж. Уордом.
К 15 января 1919 г. численность иностранных войск на Востоке России
составила 120 тыс. человек. Наряду с чехами здесь были американские, англий¬
ские, японские, французские, канадские, итальянские, сербские и даже польские
формирования.
Наивно полагать, что союзники, уговорившие Колчака возглавить борьбу с
коммунистической Россией, всегда помогали ему безвозмездно. США юриди¬
чески, казалось бы, не должны были предоставлять кредиты омскому пра¬
вительству, поскольку они не состояли с этим правительством в официальных
33 Директория - Временное всероссийское правительство, образованное в Уфе в сентябре 1918 г.,
переехавшее затем в Омск. Разогнано Колчаком в ноябре 1918 г.
34 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 35.
35 Там же.
36 Там же, л. 38-46. В литературе приводятся и другие сведения об оценке золотого запаса:
651 532 117 руб. 86 коп. (Ю.адт А.П., Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с. 21). Разницу состав¬
ляет золото, вывезенное за день до сдачи Казани.
37 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 48.
38 Союзная интервенция в Сибири. 1918-1919 гг. (Записки начальника английского экспе¬
диционного отряда полковника Джона Уорда). М.-Пг., 1923, с. 25.
39 А.У. Нокс в 1911-1917 гг. был военным атташе в России.
137
дипломатических отношениях. Финансирование велось через частные фирмы,
получавшие свой процент от сделки. Гарантом всесторонней помощи союзников
было российское золото, которое они внимательно, со знанием дела рассмотрели
в Омске, когда пересчет захваченных ценностей был закончен и была
организована временная выставка для узкого круга лиц, в основном из
представителей стран Антанты. 22 мая 1919 г. генерал Жанен записал в
дневнике: "Мы ходили большой группой в банк по приглашению правительства,
чтобы присутствовать при проверке денежного звонкого наличия, спасенного
чехами в Казани. Над подвалом, где находились ящики с золотыми слитками и
платиновым песком, можно было видеть настоящую выставку золотых и
серебряных вещей"40.
Из опубликованных источников и архивных материалов видно, что Колчак
произвел шесть крупных изъятий золота из Омского отделения госбанка,
отправив ценности за рубеж через Владивосток, где находилось Владивостокское
иностранное отделение особой кредитной канцелярии.
Первая отправка золота из Омска за границу состоялась 10 марта
1919 г. В тот день во Владивосток было отправлено 1236 ящиков с золо¬
тыми слитками, золотистым серебром и серебристым золотом. Перед отправкой
ящики не вскрывались и их содержимое не пересчитывалось и не взвеши¬
валось, поэтому общую сумму отправленных ценностей определить не¬
возможно41.
Вторая отправка была совершена 19 июля. Было вывезено 156 ящиков и
289 мешков с иностранной золотой монетой и 475 ящиков с российской золотой
монетой42. На следующий день, 20 июля, вновь было отправлено во Вла¬
дивосток 93 ящика, 63 двойных мешка и 12 мешков одинарных с иностранной
золотой монетой и 535 ящиков и 396 двойных мешков с российской золотой
монетой43. Общая стоимость золота, отправленного 19 и 20 июля, известна.
Она составила 84 млн. 360 тыс. золотых рублей.44 45
Затем последовала очередная отправка во Владивосток 8 сентября. Было
отгружено 72 ящика золота Монетного двора. В них было и самородное золото
Горного института, и золото Главной палаты мер и весов15. И при этой отгрузке
общая стоимость золота в документах указана не была.
26 сентября по распоряжению Колчака во Владивосток из Омска выдано
9 043 пуда золота на весьма значительную сумму - 190 899 651 руб. 50 коп.46
18 октября состоялась шестая по счету отгрузка золота. Было отправлено
172 ящика с золотыми слитками и 550 ящиков с монетой. При этом стоимость
золотой монеты определена в 33 млн. руб.47 Общая сумма ценностей, отослан¬
ных 18 октября, составила 43 557 744 руб. 05 коп.48
В связи с тем, что в учетных документах, как отмечено выше, на многие
отправления нет сведений о стоимости ценностей, отгруженных во Владивосток,
точный подсчет израсходованного Колчаком золотого запаса установить труд¬
но. Впервые, как мы полагаем, он был приведен в справке Наркомфина РСФСР
от 6 июня 1921 г., где говорилось, что общий расход Колчаком части золо¬
40 Колчаковщина. Из белых мемуаров, с. 118.
41 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 55. См. также Кладт А.П., Кондратьев В.А. Золотой эшелон,
с. 40.
42 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 56.
43 Там же.
44 Там же, л. 123.
45 Кладт А.П., Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с. 42.
46 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 62.
47 Там же, л. 123.
48 Кладт А.П., Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с. 53.
138
того запаса России в 1919- начале 1920 г. составил 235 550 000 золотых
рублей49.
В литературе приводятся данные о том, в какие именно страны и банкирские
дома попало российское золото. Так, советский экономист проф. Н.Н. Любимов,
возглавлявший в 1921 г. работу особой Комиссии по учету народнохозяйственных
последствий войны и блокады, а в 1922 г. участвовавший в работе Генуэзской
конференции, писал, что в последние месяцы существования омское прави¬
тельство Колчака прибегло к активной реализации золотого запаса и к ссудам
под золото на весьма тяжелых условиях. Так, в сентябре 1919 г. было продано
через Индо-Китайский банк 12 тыс. кг золота по 4 280 фр. за 1 кг на сумму
51 300 000 фр., из которых в распоряжение финансового агента колчаковского
правительства в Париже Рафаловича поступила разность между этой суммой и
35 680 000 фр„ т.е. 15 620 000 фр.50
Одновременно было депонировано золота на 1 млн. долл. США в уплату
заказа Угета, финансового агента правительства Колчака в Сан-Франциско, на
приобретение 268 тыс. винтовок и депонировано в обеспечении контракта Угета
с фирмой Ремингтон на 112 945 винтовок на сумму 2 547 558 долл. США51.
В счет этой суммы в октябре 1919 г. было вывезено в Гонконг золота на сумму
2 059 267 долл. США и в апреле 1920 г/(!), когда уже и самого Колчака не было
в живых, еще 500 902 долл. США. Эти суммы также числились за финансовым
агентом Угетом.
Любимов отмечает, что в обеспечение заключенного в октябре 1919 г. в
Иокагамском банке займа на 50 млн. иен было отправлено золота на сумму
30 535 434 иены52. По договору еще одного финансового агента в Лондоне -
Замена с банкирами братьев Берингов и Угета в Америке с Англо-Аме¬
риканским синдикатом Киддер-Пибоди было депонировано золота в Шанхае и
Гонконг-Шанхайском банке на имя братьев Берингов на 3 150 000 долл. США и
на имя Пибоди 23 625 000 долл. США, что составляло около 8 млн. фт.ст.53
Отправлено же было золота в Гонконг на 8 621 171 ф.ст., т.е. на 617 499 фт.ст.
больше условленной суммы. И эта разница также находилась в распоряжении
финансового агента Замена в Лондоне54.
Всего же, по утверждению Любимова и согласно данным кредитной кан¬
целярии в г. Владивостоке, на 8 июля 1920 г. на счетах всех финансовых агентов
Колчака в разных городах мира числилось свыше 60 млн. золотых рублей55.
Любимов полагал, что всего омским правительством Колчака было рас¬
трачено из золотого запаса России не менее 215 млн. золотых рублей56.
49 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 43, л. 42.
50 Любимов Н.Н. Баланс взаимных требований СССР и держав согласия. М.-Л., 1924, с. 39.
51 Там же, с. 38.
52 Там же.
53 Там же, с. 39. В операциях по реализации российского золота и поставках вооружения в армию
Колчака, помимо названных фирм, принимали также участие в США: Сити-банк, Гаранти-трест и
инвестиционный банк магнатов Морганов (см. Исторический архив, 1960, № 6, с. 14).
54 Любимов Н.Н. Указ, соч., с. 39.
55 В архиве сохранилась объяснительная записка к балансу взаимных претензий, подготовленному
Любимовым в декабре 1921 г. накануне Генуэзской конференции. Экземпляр этого документа был
передан В.И. Ленину. В нем сказано, что помимо 60 млн. золотых рублей, переведенных на личные
счета агентов кредитной канцелярии (Миллера, Замена. Угета, Крживицкого), у ряда банков и
частных лиц также имелась российская валюта, которая должна быть возвращена России. Любимов
называет адреса и суммы: в Индо-Китайском банке на 8 июля 1920 г. имелось 15 680 000 фр.; в
Русско-Азиатском банке в Шанхае - 1 170 долл. США, 3 570 ф.ст. и 246 226 ш.даянов, в Лондонском
байке - 9 млн. датских крон, в Спеши и Чосен банке - 818 657 иен, у генерала Подтягина в Японии -
6 255 000 иен. - РЦХИДНИ, ф. 5, on. 1, д. 1953, л. 86.
Любимов Н.Н. Указ. соч. с. 39.
139
Эти сокровища обеспечили армии Колчака бесперебойные поставки оружия,
снаряжения, боеприпасов и медикаментов. В целях свержения большевизма
основные империалистические государства пришли к соглашению о распре¬
делении между собой обязанностей по снабжению белогвардейцев. 19 сентября
1919 г. заместитель государственного секретаря США Филиппе писал президенту
США Вильсону: "В соответствии с результатами переговоров между Вами,
главами других правительств в Париже и адмиралом Колчаком Великобритания
берет на себя снабжение всем необходимым снаряжением армии Деникина.
Франция - чехов и антибольшевистских сил в западных пограничных госу¬
дарствах. США - армии Колчака"57. Выполняя это соглашение, только США в
1919 г. поставили Колчаку около 400 тыс. винтовок, 1 тыс. пулеметов, сотни
миллионов патронов, 2 млн. пар обуви и другие предметы.
Из Англии было получено солдатского обмундирования и снаряжения на
240 тыс. человек, 220 тыс. винтовок, более 350 пулеметов, около 240 млн.
патронов и другого имущества.
Франция передала армии Колчака 400 орудий, 1700 пулеметов и много другой
техники58.
Много вооружения для армии Колчака поступило и из Японии. По заявлению
военного министра Англии У. Черчилля общее количество военных грузов,
доставленных в Сибирь для Колчака, составило около 100 тыс. тонн59.
К сожалению, до настоящего времени никто из историков и экономистов
детально не проанализировал механизм операции по реализации золота,
вывезенного через Владивосток за рубеж, и соответствие сделок, заключенных
правительством Колчака на поставку оружия и боеприпасов, общеевропейским и
мировым ценами того времени. Не было ли здесь косвенных потерь от
неэквивалентных операций?
В октябре 1919 г. в связи с продолжавшимся наступлением Красной Армии,
широким размахом партизанского движения и развалом белогвардейской армии
правительство Колчака перебралось в Иркутск. Министерство финансов, напри¬
мер, было передислоцировано в Иркутск на основании постановления совета
министров от 28 октября 1919 г.60
Колчак и оставшаяся часть золотого запаса двигались в потоке эшелонов,
медленно продвигавшихся на Восток. "Верховный правитель" следовал в поезде
литер "Б", а золотой запас - в поезде литер "Д".
Отправка эшелона с золотым запасом из Омска произошла 7 ноября. Золото и
охрана были размещены в 40 вагонах. При этом в 12 вагонах находилась охрана
и сопровождавший персонал. Охрана золотого запаса из Омска на Восток была
поручена егерскому отряду особого назначения капитана Ермохина.
Эшелон литер "Д" с золотым запасом должен был следовать из Омска во
Владивосток. Правительство Колчака было тогда твердо уверено, что золото
удастся вывезти за рубеж. Еще 4 ноября министерство путей сообщения омского
правительства дало распоряжение по линии Омской, Томской, Забайкальской и
Китайско-Восточной железных дорог о беспрепятственном пропуске эшелона во
Владивосток61. Сотрудникам Госбанка, находившимся в эшелоне с золотом, в
Омске были выданы документы на проезд во Владивосток.
Путь эшелона с золотом к Иркутску сопровождался кровавыми проис¬
57 История гражданской войны в СССР, т. 4. М., 1959, с. 196.
58 СпиринЛ.М. Разгром армии Колчака. М., 1957, с. 89-90. См. также Исторический архив, 1960,
№ 6, с. 6-28.
59 СпиринЛ.М. Указ, соч., с. 89-90.
60 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 53, л. 24.
61 Там же, л. 9.
140
шествиями. 14 ноября в 4 часа 30 минут утра при стоянке перед семафором у
разъезда Кирзинский на 1024 версте Омской дороги в хвост поезда литер "Д"
врезался поезд литер"В", в котором находилась большая часть охраны.
В результате столкновения было разбито девять теплушек поезда литер "Д".
Несколько вагонов были сброшены с пути, а другие сгорели от возникшего
пожара. От крушения пострадало 147 человек, из которых 15 было убито, 8-
сгорели, а 124 - ранены, причем до 30% из них - тяжело. Из лиц, сопро¬
вождавших ценности, пострадал иполнявший обязанности директора Госбанка
Н.С. Казановский. Без вести пропал кондуктор В. Суханов, находившийся на
заднем тормозном тамбуре.
Один из вагонов с золотом слетел со скатов и был развернут поперек пути. По
указанию офицеров охраны вначале спасали золото, а потом уже - постра¬
давших. Паровозом уцелевшие вагоны были оттянуты, а из вагона, сброшенного
со скатов, золото в 260 ящиках было временно вынесено на полотно дороги.
С разъезда Кирзинский был подан новый вагон, в который и перегрузили
260 ящиков. Когда эшелон литер "Д" прибыл на разъезд Кирзинский, оказалось,
что серьезно повреждены еще четыре вагона. Их содержимое пришлось пере¬
грузить в новые вагоны62.
При аварии на 1024 версте Омской железной дороги у солдат и офицеров
егерского отряда особого назначения, кроме жертв, о которых было сказано,
пропало и сгорело личное имущество на общую сумму 385 710 руб.63
Не успела охрана и сопровождавшие прийти в себя от столь серьезного
потрясения, как 18 ноября произошло еще одно событие, не повлекшее, однако,
никаких жертв. Когда поезд литер ”Д” остановился на подъеме у семафора
станции Ново-Николаевск, машинист, получив разрешение на следование, дал
сигнал к отправке и паровоз потянул состав, произошел отрыв соединительного
крюка у третьего вагона от паровоза. Оставшиеся вагоны покатились под уклон
в сторону обского моста, медленно набирая скорость. Солдаты охраны и путейцы
с риском для жизни сумели подложить под колеса подручные средства и
остановить оторвавшуюся часть эшелона у самого спуска к мосту64.
О кражах и загадочных манипуляциях с золотом в пути от Омска до
Иркутска - более подробно. Крупную кражу установили в сентябре 1919 г. при
отправке партии золота из Омска во Владивосток. Тогда один ящик с золотом
бесследно исчез на станции Иркутск.
Выше отмечалось, что 18 октября 1919 г. из Омска была отправлена партия
золота в 722 ящиках на сумму 43 557 744 руб. 06 коп. До Владивостока это
золото не дошло. По пути из Читы в Хабаровск оно было перехвачено японским
ставленником атаманом Семеновым. "Если едет золото - нет времени раз¬
бираться: от красных или белых - рассуждал атаман Семенов и обобрал
колчаковский поезд, шедший во Владивосток для погрузки на японские и
американские корабли"65. Судьба этих ценностей до сих пор неизвестна66. Ясно
одно: золото, захваченное Семеновым, было предназначено для доставки в
62 Там же, д. 47, л. 78.
63 Там же, д. 53, л. 13.
64 Там же, л. 81.
6$ Любимов Н.Н. Наш счет иностранным капиталистам. М., 1925, с. 1.
66 Предпринимаемый в настоящее время по инициативе журналистов поиск пропавшего золота
(см. Комсомольская правда, 26.IX; 22, 25.Х; 16.XI. 1991, и др.) свидетельствует о том, что часть
золотого запаса, захваченного у Колчака атаманом Семеновым, в 1920 г. была передана на хранение
японскому командованию и хранилась затем в Японском кредитном банке. Не исключено, что речь
может идти также и о золоте, награбленном отрядами атамана Семенова в годы гражданской войны
у граждан и организаций Сибири и Дальнего Востока. Действительную картину смогут прояснить
дальнейшие исследования специалистов-историков.
141
г. Осаку в качестве обеспечения заключенного в октябре 1919 г. соглашения на
поставку вооружения колчаковской армии. В российском государственном архиве
экономики сохранился текст телеграфного разговора по прямому проводу между
министром финансов колчаковского правительства Гойером и управляющим
Читинским отделением Госбанка от 20 ноября 1919 г.67 На нем имеется
резолюция Гойера: "Выяснить, какое количество золота захвачено Семеновым.
Направить миссиям акт о захвате и протест по поводу разбойного присвоения
народного достояния"68.
31 октября при перевозке золота из отделения Госбанка на станции Омск
была обнаружена пропажа одного мешка с золотом. Стоимость похищенного -
60 тыс. руб.69
23 декабря по приказу Колчака на станции Иланская в его вагон было
передано 20 ящиков с золотой монетой на сумму 1 млн. 200 тыс. руб.70 3 января
на станции Нижнеудинск их вернули обратно в тот же вагон, но без пересчета71.
Учитывая, что Колчак уже не являлся реальной силой в борьбе с советской
властью, чехословаки в соответствии с указанием союзного командования
24 декабря 1919 г. взяли на себя охрану колчаковского поезда с гарантией от
своего имени и имени союзных держав неприкосновенности как самого Колчака,
так и российского золота. В связи с этим на вагоне Колчака были укреплены
флаги союзных держав - американский, французский, английский, японский,
чешский и др. Колчак, уверенный в полной безопасности, распустил свой отряд
охраны и целиком положился на зарубежных покровителей.
Создалась парадоксальная ситуация. Чехословаки стали главной силой,
определявшей положение отступавших колчаковских частей. Последние вели
бои с частями Красной Армии и в панике отходили вдоль магистрали на восток.
Чехи же и словаки, не участвуя в боях, двигались в поездах под защитой
отступавших колчаковцев и диктовали условия о пропуске эшелонов: вначале
чехи, затем - топливо, а потом - все остальное72.
3 января 1920 г. с явным опозданием было получено телеграфное рас¬
поряжение генерала Жанена о том, что белогвардейская охрана золотого запаса
должна быть заменена чехословацкой73. На следующий день чехи по акту
официально приняли охрану золотого запаса. Было зафиксировано, что в
28 вагонах находятся 5 156 ящиков и 1 678 мешков с золотом74. Начальником
охраны стал чешский капитан Блага. Чехи и словаки предложили местному
населению Нижнеудинска принять участие в процедуре передачи им охраны
золотого запаса. Представители нижнеудинцев ответили, что они согласны
участвовать в созданной комиссии при условии, если будет произведен полный
переучет. Чехи и словаки на это не отреагировали и нижнеудинцы участия в
передаче охраны ценностей не принимали. Тогда же вагон Колчака был
прицеплен к поезду литер "Д".
Утром 12 января, когда поезд литер "Д" прибыл на станцию Тыреть, в одном
из вагонов обнаружили поврежденную пломбу. Вагон вскрыли и при пересчете
ящиков установили кражу золота в количестве 13 ящиков на общую сумму
780 тыс. руб.75 Никаких следов пропажи выявить не удалось. Предпо¬
67 РГАЭ, ф. 2324, on. 1, д. 225, л. 6.
68 Там же.
69 Там же, оп. 16, д. 47, л. 123; Кладт А.П., Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с. 43.
70 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 88.
71 Там же, л. 90.
72 Рябиков В. Центросибирь. Новосибирск, 1949, с. 142.
73 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 91.
74 Там же, л. 94.
75 Там же, л. 97.
142
ложительно кража была совершена или 11 января на станции Зима, откуда поезд
ушел поздно ночью, или на перегоне от станции Зима до Тырети76.
О случившемся телеграфировали генералу Жанену, но последний даже не
ответил. И еще одна любопытная деталь: начальник чехословацкой охраны
категорически отказался подписать составленный акт о краже. Более того,
возглавив охрану, он сразу же произвел перестановку вагонов в эшелоне
литер "Д". Вагон с минами он из середины состава поместил почти в самом
хвосте (47-й вагон из 50, имевшихся к тому времени в эшелоне). Он же ввел
новый порядок проверки вагонов, по которому чины Госбанка, сопровождавшие
поезд литер "Д", не имели возможности самостоятельно проверять вагоны с
золотом без специального разрешения чехословацкой охраны77. Ни капитан
Эмр, ни его солдаты охраны опрошены не были и после сдачи охраны новому
караулу беспрепятственно выехали из Иркутска во Владивосток, не сняв с себя
подозрения о соучастии в этой краже.
В литературе имеются свидетельства, что чехословацкие офицеры, охра¬
нявшие поезд с золотом, разворовали около 40 пудов золота и много различного
имущества78. "Известия" сообщили в 1924 г., что на драгоценности, награблен¬
ные чехами и словаками в Сибири, после возвращения на родину был основан
Легио-банк, наиболее крупный и богатый банк Чехословакии79.
Вопросы об отправке золота из Омска, а также о кражах в пути следования
таят еще много загадок. Предстоит уточнить, были ли переданы Колчаком
суммы из золотого запаса на финансирование армий Юденича и Маннергейма во
время подготовки наступления на Петроград. В секретной телеграмме Колчаку в
июле 1919 г. генерал Юденич писал: "Прошу экстренно ассигновать мне на са¬
мые неотложные нужды на июль и август 5 миллионов рублей сверх ассигнован¬
ных Вами 22 миллионов франков... которые до сих пор еще не получены"80.
Незадолго до падения правительства Колчака министр финансов омского
правительства П.А. Бурышкин распорядился перевести все оставшиеся во
Владивостоке суммы в иностранной валюте за границу. Во Владивостоке,
Харбине и Иокогаме были открыты счета в иностранной валюте на имена
колчаковских министров: на Тальберга, Петрова и Мальцева - в Харбине, а на
министра иностранных дел Сукина - в Иокогаме81.
В 1924 г. в "Нижегородской коммуне" было помещено сообщение, в котором
говорилось: "Колчак внес американскому государственному казначейству в Сан-
Франциско 1 миллион долларов золотом в обеспечение заказов, сделанных у
американского военного департамента"82. Этот факт, по-видимому, имеет
прямое отношение к суммам о депонировании золота за рубежом, о которых мы
сказали ранее.
В частности, генерал-лейтенант М. Дитерихс, начальник штаба главно¬
командующего колчаковской армии, один из ближайших сотрудников Колчака,
76 Там же.
77 Там же, д. 53, л. 34.
78 Годы огневые..., с. 187.
79 Известия, 17.IX.1924. Ведущаяся ныне попытка проверки факта образования Легио-банка и
источников его первоначального капитала пока не внесла ясности в этом вопросе (см. Комсомольская
правда, 22, 25.Х.1991). Объяснение председателя чехословацкого Госбанка в газете "Руде право" о
значительном росте золотого запаса этой страны в 1920-1921 гг., будто бы образовавшегося за счет
продажи сахара и некоторых других товаров на мировом рынке, нельзя признать обоснованными. По
утверждению В.Г. Сироткина, чехами, словаками и белой гвардией было предположительно
похищено около 70 млн. золотых рублей. - Знамя, 1992, № 8, с. 200.
80 Красный архив, 1929, т. 2(33), с. 130.
81 Гак А.М., Дворянов В.Н., Папин А.М. Указ, соч., с. 138.
82 Нижегородская коммуна, 4.1.1924.
143
взял в банке Владивостока ящик с бриллиантами и золотом, оцененный в 11 тыс.
золотых рублей83.
Но были не только кражи и изъятия, но и пополнения. К имевшимся цен¬
ностям присоединяли золото, хранившееся в некоторых городах Сибири. 1 де¬
кабря в Ново-Николаевске в поезд литер "Д" по указанию Колчака было
передано Пермским отделением Госбанка два ящика с золотом в слитках.
Согласно надписям на ящиках, они весили 4 пуда 29 фунтов и 68 долей84.
Были и мелкие неурядицы. Так, между министерством финансов колча¬
ковского правительства и Владивостокским отделением Русско-Азиатского банка
произошел конфликт: последнее отказалось выдать Колчаку хранившийся у них
запас российской серебряной монеты, числящейся на счету русского посла в
США Б.А. Бахметьева. Деньги были выданы только тогда, когда в состав
колчаковского правительства был введен член правления банка, упомянутый
ранее Гойер, ставший в конце существования колчаковского режима (в ноябре
1919 г.) министром финансов.
Кражи золота в пути следования поезда с золотым запасом породили мно¬
гочисленные легенды о возможных сибирских кладах и тайниках85. Если учесть,
что при разгроме каппелевских частей под Иркутском последние, спасаясь от
наступавших революционных частей, бросали награбленные ценности, то
некоторые из легенд могли быть в какой-то мере достоверными.
Понимая, что карта Колчака бита и ему не удержаться у власти, интервенты,
а также чехословаки в конце 1919 г. решили оказать поддержку другой
политической силе, которая могла бы заменить колчаковскую диктатуру. Такой
силой оказался Политический центр в Иркутске. Он был создан 12 ноября 1919 г.
В его состав вошли представители различных политических партий, в том числе
эсеры и меньшевики. Повторилась та же картина, которая наблюдалась в
районах Поволжья и Сибири в 1918 г. после падения советской власти. Про¬
граммная декларация Политцентра преследовала цель завоевания доверия у
трудящихся, поэтому она подкреплялась лозунгом ’’Долой Колчака и его
правительство”. Это обеспечило Политцентру поддержку части населения. Его
руководители надеялись, что ввиду тяжелого положения Советской России им
удастся получить согласие на установление в Восточной Сибири независимого
буферного буржуазно-демократического государства.
Первыми поддержали Политцентр трудящиеся Черемхово. 21 декабря они
свергли колчаковскую администрацию. Их выступление приостановило продви¬
жение белочехов к Иркутску и заставило надолго задержать в Нижнеудинске
эшелон с золотом и Колчаком. Вслед за тем трудящиеся Зимы, Нижнеудинска и
Тулуна последовали примеру черемховцев. В ночь на 22 декабря восстание
против колчаковцев охватило пригород Иркутска, а 27 декабря - весь город86.
После упорных боев с 4 на 5 января 1920 г. рабочие дружинники и восставшие
солдаты гарнизона полностью овладели Иркутском. Омский совет министров был
арестован и колчаковщина свергнута.
5 января 1920 г. Политцентр объявил себя руководящим органом власти.
Фактически образовалось двоевластие: с одной стороны Политцентр, с другой -
местные большевистские комитеты и штабы рабоче-крестьянских дружин, за
которыми стояли партизанские части и значительная часть народа87.
83 Известия ВЦИК, 1923, № 40(1777), с. 3.
84 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 84.
85 См., например, Гуртовой М. Кладоискатель. - Московские новости, 17.III. 1991, с. 16.
86 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1983, с. 464.
87 Подробнее о борьбе с колчаковщиной см.: Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М.,
1983.
144
В борьбе за сохранение золотого запаса России большую роль сыграли
сибирские партизаны. Они составили ядро антиколчаковского массового движе¬
ния, начавшегося во второй половине 1918 г. и особенно развернувшегося в
1919 г. Оно проходило под лозунгом восстановления советской власти.
К концу декабря 1919 г. на всем протяжении железнодорожной магистрали от
Нижнеудинска до Иркутска партизанские части вышли к железной дороге и
серьезно влияли на работу транспорта.
Иркутский большевистский комитет и руководимые им повстанческие
формирования предпринимали неоднократные попытки к остановке поезда "Вер¬
ховного правителя". Первая такая попытка была предпринята трудящимися
Нижнеудинска еще 27 декабря. Назревало реальное столкновение с чехосло¬
ваками, которых было больше и которые были вооружены лучше, чем повстан¬
ческие формирования. Опасаясь разгрома революционных сил, Иркутский губком
РКП(б) и штаб революционных рабоче-крестьянских дружин дали указание
повстанцам пропустить поезд с Колчаком и золотом к Иркутску88.
Планы союзного командования, как и чехословаков, также предусматривали
благополучный переезд во Владивосток. Колчак и российское золото в их руках
являлись той козырной картой, которая могла помочь им в возвращении на
родину. Союзники хорошо понимали, что если возникнет критическая ситуация,
то этой картой придется пожертвовать ради собственного спасения.
На станции Иннокентьевская в конце декабря была перехвачена телеграмма
Колчака в Иркутск на имя генерала Жанена с просьбой принять экстренные
меры для быстрейшего продвижения эшелона.во Владивосток. Узнав об этом,
губком и штаб рабоче-крестьянских дружин приняли решение задержать
Колчака во что бы то ни стало89. В Москве решение о задержании Колчака и
золота в Сибири было принято тогда, когда " Верховный правитель" отбыл из
Омска в сторону Иркутска, и передано за подписью особоуполномоченного
Совета обороны В.М. Свердлова в Иркутск на имя уполномоченного наркомпути
Ю.В. Рудыя.
"Совершенно секретно.
Тов. Рудый
1. Если не будет достигнуто соглашение Политического центра с
Антантой (Америка, Франция, Англия), безусловно гарантирующее
оставление Колчака с золотым запасом в. количестве 29 вагонов не
далее на восток, чем станция Иркутск*, то вам надлежит предъявить
требования чехам передать Колчака и золотой запас Главному
(дорожному) комитету. В случае несогласия на, это чехов, следует
немедленно объявить забастовку и вообще не останавливаться ни
перед какими мерами, которые обеспечивали бы пребывание Колчака
в районе мною указанном.
2. Немедленно организуйте всю поездную бригаду, обслуживаю¬
щую поезд Колчака, из своих надежных и верных людей, выработав
для нее инструкцию и установив для нее условный сигнал.
3. Поездная бригада, обслуживающая поезд Колчака, должна по
приказу вашему или кого-либо из лиц, вами уполномоченных, или
привести в негодное состояние весь подвижной состав, или, наоборот,
быть готовой к отправлению в условленный момент.
88 Годы огневые..., с. 204.
89 Там же, с. 102.
Так в тексте.
145
4. Вся поездная бригада должна быть незаметно вооружена и в
случае необходимости выступить как единая боевая единица, для чего
вам надлежит соответствующим образом ее подготовить и инструк¬
тировать.
Особоуполномоченный Совета Обороны Рабоче-крестьянского пра¬
вительства. За Наркомпуть В. Свердлов"90.
К этому времени по требованию чехословаков большая часть литерных
поездов была расформирована. Кроме поезда литер "Д", в котором находились
Колчак, Пепеляев и золотой запас, охраняемый чехословаками, были литерные
поезда с серебром и ценными бумагами.
На станции Зима в январе 1920 г. активно действовал партизанский
кавалерийский отряд И.М. Новокшонова. Его спор с чехословаками кончился
тем, что в один из вагонов поезда с Колчаком по его категорическому
требованию был посажен партизан по фамилии Соседко в качестве
представителя Зиминского партизанского отряда91. Одновременно Новокшонов
сообщил всем дежурным по станциям до Иркутска, в каком именно вагоне
находится Колчак. Связавшись по телефону с командующим партизанскими
отрядами Северо-Восточного фронта Д.Е. Зверевым, он информировал его о
сложившейся обстановке. Зверев предложил Новокшонову пропустить поезд с
"Верховным правителем" и золотом в направлении к Иркутску, заверив, что все
меры к его задержанию уже приняты.
Шахтеры Черемхово пригрозили чехословакам остановить работу шахт и
прекратить обеспечение их эшелонов углем. Однако Иркутский губком РКП(б)
рекомендовал пропустить поезд, утверждая, что все сделано для задержания в
Иркутске.
Ночью 13 января 1920 г. литерный поезд проследовал в Черемхово. По
тревожному гудку на привокзальную площадь пришли несколько тысяч тру¬
дящихся. На транспарантах выделялось требование: "Не дадим угля, пока не
выдадите Колчака!"92. Чехословаки отказались выполнить это требование.
Тогда под руководством местной организации большевиков была проведена
двухдневная забастовка. Для проведения забастовки были созданы стачечные
комитеты. В ответ чехи и словаки решили припугнуть угольщиков. Они
выкатили на станцию бронепоезд и навели орудия на демонстрантов. Угроза не
подействовала. Тогда чехи и словаки прибегли к мерам экономического
характера: объявили об увеличении зарплаты и повышении нормы выдачи
продуктов тем горнякам и рабочим, которые не будут бастовать. И хотя
трудящиеся испытывали большие материальные трудности, они не сдались93.
Под нажимом революционных сил командование чехословацкого корпуса
вынуждено было удовлетворить часть требований бастовавших. На станции
Половин с разрешения генерала Жанена к охране поезда с Колчаком вместе с
чехословацким караулом были допущены семь человек из местных повстан¬
ческих формирований94.
На станции Иннокентьевская ревком привел в боевую готовность все свои
вооруженные силы. А их вместе с партизанскими отрядами было уже около
90 Музей революции, Главная инвентарная книга (далее - МР, ГИК) 6362, л. 1. Подлинник,
машинопись. Подпись В.М. Свердлова - красным карандашом. Документ имеет две круглые
гербовые печати с текстом: "Уполномоченный Совета Рабоче-Крестьянской Обороны В.М. Сверд¬
лов" и "Народный Комиссариат путей сообщения. Член коллегии." Документ без даты. Но он мог
быть подготовлен к приходу Политцентра к власти, т.е. вскоре после 5 января 1920 г.
91 Годы огневые..., с. 204.
92 Там же, с. 176.
93 Горняки Сибири в революции. 1917-1927 гг. Новосибирск, 1927, с. 130.
94 Годы огневые..., с. 176.
146
2 тыс. бойцов. Они окружили железнодорожный путь, куда должен был прибыть
поезд с Колчаком и золотом. Пулеметная рота заняла указанную ей позицию.
Стрелковые роты тоже приготовились к боевым действиям. Поезд с Колчаком
подошел к Иннокентьевской утром 14 января 1920 г. и был принят на боковой
запасной путь, паровоз сразу отцепили. Однако чехословаки, охранявшие
литерный поезд, подойти к вагонам не разрешили, угрожая немедленно открыть
пулеметный огонь. Тогда начальник штаба рабоче-крестьянских дружин заявил
чешскому офицеру, возглавлявшему охрану: ’’Рабочие сами хотят охранять
Колчака, не согласитесь на переговоры с нами и на наши условия - паровоз не
дадим, путь разрушим и вы не уедете"95.
Иркутский губком РКП(б) заблаговременно, по-видимому после указания
В.М. Свердлова, подготовил группу подрывников, которая была направлена к
Байкалу и ожидала сигнала о взрыве мостов восточнее Иркутска и тоннелей по
Кругобайкальской дороге96. Если бы это было выполнено, то чехам и словакам
пришлось бы двигаться дальше на Восток или пешком, или гужевым транспор¬
том, а так как они везли с собой много награбленного имущества и бросать его
не желали, они были вынуждены идти на переговоры о выдаче Колчака и
золотого запаса. После непродолжительной консультации с генералом Жаненом
чехословаки согласились на допуск к охране Колчака для сопровождения до
Иркутска смешанного караула из чехов, словаков и иннокентьевских дру¬
жинников. Об этом сразу же сообщили в Иркутск. После этого к поезду был
прицеплен маневровый паровоз и группа дружинников была размещена в допол¬
нительном вагоне. В тот же день, 14 января 1920 г. Иркутск покинули пред¬
ставители союзных держав.
Журналист Е.А. Черных пишет о вывозе из России чешскими и словацкими
легионерами ценностей, послуживших затем основой создания Легио-банка97.
Документы об этом хранятся в Пражском военно-историческом архиве. Пе¬
редавая содержание публикации, появившейся в 1925 г. в журнале "Остер-
рейхише корреспондент", Черных, к сожалению, ни словом не обмолвился о том,
что передача легионерами в Иркутске золотого запаса была следствием мас¬
сового размаха партизанского движения. Чехи и словаки опасались, что в случае
попытки вывоза золотого запаса на восток революционные части взорвут
Кругобайкальские тоннели, после чего возвращение легионеров ца родину было
бы крайне затруднено.
По прибытии Колчака и золота в Иркутск команда дружинников в количестве
40 человек, вооруженная винтовками и гранатами, окружила поезд. Почти сутки
он охранялся смешанным караулом (вместе с чехами и словаками). На
следующий день чехословаки частично сняли свой караул и отдали Колчака и
золотой запас в распоряжение Политцентра.
Часов в восемь вечера группа дружинников, подготовленная Политцентром,
подошла к освещенным вагонам. Паровоза уже не было, его угнали желез¬
нодорожники по указанию Сибирского и Иркутского комитетов РКП(б). Первым
в вагон Колчака поднялся чешский офицер. За ним следовали лица, выделенные
Политцентром и Центральным штабом рабоче-крестьянских дружин. "Господин
адмирал, подготовьте ваши вещи. Сейчас вас передаем местным властям", -
объявил офицер98. Колчак удивленно воскликнул: "Как! Неужели союзники
выдают меня? Это предательство! Где же гарантия генерала Жанена?"99.
95 Кладт А., Кондратьев В. Быль о "золотом эшелоне", 2-е изд. М., 1966, с. 77.
96 Годы огневые..., с. 186.
97 Черных Е.А. Злата Прага с русской позолотой, с. 3.
98 Годы огневые..., с. 205.
99 Там же.
147
В здании вокзала был составлен акт на передачу А.В. Колчака и его премьер-
министра В.Н. Пепеляева Политцентру, после этого их сразу же препроводили в
тюрьму.
Эшелон с золотом загнали в тупик, железнодорожный путь впереди и сзади
вагонов был разобран, и для пущей уверенности в том, что эшелон не будет
угнан на восток, были вынуты подшипники из колес вагонов.
По акту передачи золотого запаса от чехословаков к Политцентру было
учтено 678 мешков и 5 143 ящика с золотом, находившемся в 28 вагонах. В семи
вагонах были платина и серебро100. Все эти ценности должны были оставаться
на станции Иркутск под смешанной охраной чехословаков и партизан до ухода из
Иркутска последнего чехословацкого эшелона.
19 января в Иркутске был образован военно-революционный комитет (ВРК), в
то время фактический руководитель борьбы с колчаковщиной. 21 января 1920 г.
Иркутский ВРК устранил Политцентр как неспособный к организации обороны
города и отпора приближавшимся частям белой гварции. Передача власти в руки
ВРК произошла мирным путем по акту.
На следующий день после ликвидации Политцентра председатель Иркутского
ВРК А.А. Ширямов и член ревкома И.В. Сурнов снеслись по телефону с
командованием 30-й стрелковой дивизии, шедшей в авангарде наступавших
частей Красной Армии, и доложили обстановку. Они сообщили, что ревком
предъявил чехословакам следующее требование: невмешательство в дела
ревкома и его военного командования, передачу золотого запаса и желез¬
нодорожной магистрали вместе с тоннелями; невмешательство чехословаков в
организацию заслона против семеновцев в полосе Кругобайкальской дороги;
контроль ревкомом всех поездов, включая и чехословацких, с целью ареста
контрреволюционеров.
В состоявшемся разговоре подтверждалось, что 21 января в кладовые
иркутского Госбанка с вокзала было перевезено семь вагонов серебра101.
Между тем обстановка в Иркутске осложнялась в связи с приближением
каппелевских частей, возглавлявшихся генералом Войцеховским. Он предъявил
ревкому ультиматум, потребовав вывода из города революционных войск,
выдачи Колчака и золотого запаса, грозя в случае отказа разгромить Иркутск.
Ожесточенные бои революционных частей с белой гвардией, в рядах которой
было около 30 тыс. человек, развернулись 6, 7 и 8 февраля. Под селами Олонки
и Усть-Кудой каппелевцы были разбиты и их остатки бежали в нейтральную
полосу, оставляя обозы с больными и ранеными, бросая награбленное иму¬
щество.
6 февраля по линии железной дороги был передан приказ Иркутского ВРК
№ 20. В нем говорилось: "Всем ревкомам, исполкомам, всем революционным
организациям, войскам, партизанам, всему населению по линии Забайкальской
железной дороги. Ни в ком случае не допускать движения по линии За¬
байкальской ж.д. на восток от Иркутска поезда с золотым запасом России, кто
бы его ни сопровождал. Портить путь, взрывать мосты, туннели, уничтожать
средства передвижения, открытым боем вырывать эти ценности из рук шайки
грабителей, кто бы они ни были"102.
7 февраля по приговору Иркутского ВРК, согласованному с Реввоенсоветом
5-й армии, были расстреляны Колчак и Пепеляев.
100 Гак А.М., Дворянов В.Н., Папин Л.М. Указ, соч., с. 141.
101 Российский государственный военный архив ф. 1346, оп. 2, д. 396, л. 470. Стоимость серебра,
имевшегося в Иркутске, оценивалась в то время в 4 121 121 руб. 18 коп. - Кладт В.П.,
Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с. 53.
102 Последние дни колчаковщины, с. 208.
148
23 февраля авангард 30-й Красной стрелковой дивизии вступил в Инно-
кентьевскую, 2 марта из Иркутска выехала на восток последняя чехословацкая
часть. 7 марта 1920 г. Иркутск торжественно встречал части 5-й Красной Армии.
Теперь, когда угроза захвата Иркутска была окончательно устранена, можно
было вплотную заняться дальнейшей судьбой золотого запаса. На его охрану, а
он стоял на 12 пути станции Иркутск, было поставлено подразделение 30-й
стрелковой дивизии103. Предстоял частичный пересчет сохранившихся цен¬
ностей, которых было свяше 20 тыс. пудов. Необходимо было подготовить
счетчиков, упаковочный материал, поскольку многие мешки и ящики пришли в
негодность. Нужны были и хорошие крытые вагоны.
14 февраля в 2 часа ночи из Иркутска в Москву было передано сообщение на
имя особоуполномоченного Совета обороны В.М. Свердлова о том, что чистый
вес золота составляет 21 442 пуда, 29 фунтов, 68 золотников104. Эта цифра
была выведена, по-видимому, по учетным книжным данным, так как за короткое
предшествовавшее время пересчет ценностей не мог быть завершен. В пе¬
реданной из Иркутска информации сообщалось также, что в местном отделении
Госбанка имеется 90 пудов золота105.
Трудности возникали порой самые непредвиденные. Сошлемся на рас¬
поряжение, отданное управлением Забайкальской железной дороги 16 февраля, о
срочной подаче на станцию Иркутск 22 крытых вагонов для перегрузки золотого
запаса106. Поскольку это телеграфное распоряжение было подписано инженером
с одиозной для того времени фамилией - Войцеховский, то уполномоченный
Наркомпути, по-видимому Рудый, дал указание не принимать распоряжение к
исполнению, хотя согласился с необходимостью подготовки вагонов107.
24 февраля был получен приказ № 4 по отделу финансов Иркутского
губревкома, в котором предписывалось образовать особую комиссию из
представителей разных ведомств для пересчета и перегрузки золотого запаса в
новые вагоны108. Эта работа проводилась с 24 февраля по 8 марта.
В новых условиях, когда с колчаковщиной в Иркутске и прилегающих
районах было покончено, предстояло выработать новую линию поведения по
отношению к чехословацким войскам^ Еще 20 февраля уполномоченный нар¬
компути Рудый передал по линии магистрали телефонограмму, в которой
предлагалось установить жесткий контроль за работой железнодорожного
телеграфа, наблюдать, чтобы уголь, предоставлявшийся чехословакам, не
попадал к белогвардейцам. Предписывалось не разрешать чехословакам выво¬
зить железнодорожное имущество. Требовалось воспретить им техническое
управление перевозками. Разрешалось лйшь иметь их представителей на
узловых станциях для наблюдения за продвижением эшелонов, следовавших на
восток. Характерно и указание на очередность перевозок. В первую очередь
надлежало пропускать составы для "боевых заданий коммунистического штаба,
во-вторых - перевозки чехов, в-третьих - топливо и, в-четвертых - все
остальные перевозки"109.
Записка председателя Иркутского губревкома Я. Янсона, адресованная
заведующему Иркутским финансовым отделом, гласила: "Предлагаю сообщить
т. Ягубову, управляющему делами уполномоченного Наркомпутей сообщения,
103 До этого непродолжительное время охрану осуществляла 7-я рота Иркутского караульного
полка под командой Шелепина.
104 МР, ГИК, 6362/4, л. 161.
105 Там же.
106 Там же, л. 33.
107 Там же, л. 31.
108 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 53, л. 130.
109 Там же.
149
требуемые им сведения о количестве отправляемой на запад золотой валю¬
ты"110. Записка датирована 13 марта 1920 г. На обороте записки имеется распо¬
ряжение Рудыго: "Срочно, для передачи в Москву по прямому проводу, и подлин¬
ник возвратить мне"111. Далее шел текст заведующего расчетно-кассовым
отделением Иркутского финансового отдела: "Золота в эшелоне, отправля¬
ющемся на запад, по сведениям центрального управления банком числится:
золота в слитках 619 пуд. 29 фунтов 68 золотников. В монетах - 20 823 пуда.
Всего: 21 442 пуда, 29 фунтов, 68 золотников. На общую сумму, считая по
5 руб. 50 коп. золотник, на 409 060 руб. 23 коп."112
В последующие дни члены Иркутского ВРК, губкома партии и финансового
управления пришли к выводу, что отправлять золотой запас целесообразно не в
22 вагонах, как первоначально планировалось, а в значительно меньшем числе
вагонов, если ящики и мешки укладывать более компактно. На новую пере¬
грузку золота в американские вагоны было получено специальное разрешение
председателя Сибревкома И.Н. Смирнова. Началась перегрузка, в результате
которой ценности были размещены в 13 вагонах.
20 марта в телеграмме начальника иркутского гарнизона И.К. Грязнова,
командира 30-й стрелковой дивизии, в Верхнеудинск на имя уполномоченного
Наркомпути Рудыя, говорилось: "Согласно распоряжения Предсибревкома
тов. Смирнова запас по окончанию подсчета должен быть немедленно отправлен
на ст. Зима. Поезд по отправке задерживается и прошу Вашего срочного
распоряжения об отправке такового на указанную станцию"113.
Однако наиболее сложной оказалась не работа по пересчету ценностей и их
подготовке к отправке, а восстановление железнодорожных мостов через водные
преграды, разрушенных колчаковцами при отступлении.
22 марта, не дожидаясь окончания восстановительных работ, особоуполно¬
моченный наркомпути телеграфировал в Иркутск, Красноярск, Реввоенсовет 5-й
армии и И.К. Грязнову о срочной отправке золотого запаса на станцию Зима "без
малейшей задержки в пути, кроме остановок по технической надобности"114.
Для ускорения следования на станции Половин заблаговременно должен был
быть подготовлен сменный паровоз115.
Выполняя полученное распоряжение, 22 марта в 16 часов эшелон с золотым
запасом покинул станцию Иркутск, направляясь к станции Зима. В поезде
находились 15 ответственных сотрудников, обеспечивавших сохранность и
доставку ценного груза в Европейскую Россию. Иркутский финотдел команди¬
ровал в поезд девять своих сотрудников: Н. Казаковского, назначенного за¬
ведующим поезда, М. Гайского, его заместителя, Б. Челнокова - сотрудника
финотдела, М. Осадчего, С. Неверова, Е. Майорова, А. Ахаимова, П. Вещина,
И. Стеклянникова - счетчиков финотдела.
В поезде находились три представителя Госконтроля - Н. Николький,
А. Новоселов и Н. Брянцев. Здесь же были два представителя от железной
дороги: В. Дидюк - комиссар поезда и П. Шляхетко - начальник поезда, ревизор
первого участка Томской железной дороги.
Пятнадцатым представителем по счету был А.Ф. Косухин, уполномоченный
110 Там же, л. 1.
111 Там же.
112 МР, ГИК 6362/16, л. 1. Подлинник. Данные о количестве золота, отправленного из Иркутска,
в разных источниках различны. Имеются сведения, что было отправлено золото на сумму
381 234 944 руб. 65 коп. Разницу в 27 833 158 руб. 48 коп. отдельные авторы склонны объяснить
путаницей в учетных документах.
113 МР, ГИК, 6362/4, л. 167.
114 Там же, л. 168.
115 Там же.
150
особого отдела ВЧК 5-й армии. Но именно он являлся фактическим руко¬
водителем поезда, контролировавшим действия всех лиц, сопровождавших
эшелон с золотым запасом, и отвечавшим за его сохранность. Ему был под¬
ведомствен и 3-й батальон 262-го Красноуфимского полка, осуществлявший
охрану ценного груза. Еще 14 марта Реввоенсовет 5-й армии и Иркутский
губревком вручили Косухину удостоверение о его чрезвычайных полномочиях в
пути следования эшелона с золотом116.
Как же был сформирован этот эшелон с золотым запасом? Впереди паровоза
имелась открытая площадка для пулеметного расчета. Сзади паровоза находился
вагон караульной службы. Затем следовали 13 вагонов с золотом. Потом снова
вагоны с охраной и вагоны служебного персонала. Всего в "золотом” эшелоне
было 26 вагонов117.
Между паровозом, караульным помещением, дежурным по караулу и всеми
ответственными лицами была установлена постоянная телефонная связь118.
Система охрацы ценного груза гарантировала его благополучную доставку в
центр Европейской России, хотя никто не был застрахован от возможных
нападений банд и контрреволюционных отрядов, боровшихся против советской
власти, скрывавшихся в лесах и населенных пунктах.
На станцию Зима поезд прибыл 23 марта. Вследствие продолжавшихся
ремонтных работ поезд простоял на этой станции 11 дней. 4 апреля, когда
восстановительные работы были закончены, по предложению Шляхетко и
других лиц, Косухин принял решение не рисковать сразу всем эшелоном, а
переправить золотой запас повагонно вручную с помощью бойцов 3-го батальона
и рабочих-ремонтников, восстанавливавших мост. Сильный мороз и большой
подъем профиля пути на противоположной стороне затрудняли эту работу. Она
была закончена в 3 часа ночи на 5 апреля и эшелон двинулся дальше на запад.
Переправа через восстановленные мосты на реках Уда и Бирюса была
произведена тем же перекатным способом повагонно. При этом все вагоны пе¬
рекатывались по обводным путям, заблаговременно укрепленным по льду реки.
12 апреля в Канске поезд был задержан на сутки, так как по приказу
Реввоенсовета 5-й армии там была произведена замена личного состава охраны
эшелона. Вместо 3-го батальона 262-го полка на охрану эшелона с золотым
запасом был поставлен 1-й полк имени III Интернационала, которым командовал
венгерский интернационалист Иштван Варга. Комиссаром полка был венгр
Михали; Мате Залка, впоследствии венгерский писатель, воевавший на стороне
республиканцев в Испании под именем генерала Лукача, был среди бойцов этого
полка, сопровождавших эшелон от Ачинска до Казани. Численность полка, по-
видимому, была несколько меньше численности 3-го батальона, так как в
последующих документах упоминается, что в его составе было 566 бойцов.
В Омск поезд прибыл 16 апреля в 4 часа 30 минут и поступил в распоряжение
Сибревкома119.
В.И. Ленин был информирован о захваченном у колчаковцев россий¬
ском золоте только 20 апреля 1920 г. В адресованной ему телеграмме
Сибирского ревкома от 17 февраля сообщалось, что сокровища, захваченные в
Иркутске от "павшей власти”, оцениваются в 409 068 103 руб. 23 коп.120
116 Кладт В.П., Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с. 25. В книге Ю.П. Власова роль Косухина
в спасении золотого запаса значительно преувеличена. - Власов Ю.П. Указ, соч., с. 581, 585 и др.
117 Кладт В.П., Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с.20-53.
118 Там же.
119 Там же, с. 32.
120 Там же, с. 25. В книге "Быль о "золотом эшелоне"" ошибочно отмечено, что о следовании
поезда часто докладывалось Ленину. Приведенный в книге факт обстрела поезда под Самарой
документально не подтвержден. Также нет подлинных свидетельств о встрече Косухина с Лениным.
151
Однако точных свидетельств о том, что эта телеграмма была доведена до
сведения Ленина, пока нет. То же самое можно сказать и о телеграмме
Сибирского ревкома от 17 апреля, адресованной Ленину по этому же поводу121.
Еще задолго до того, как сведения о сохраненном золотом запасе дошли до
Ленина и других членов политбюро, наркомфин уже заблаговременно определил
место постоянного хранения золотого запаса. Им должна была стать Казань,
хранилища отделения Народного банка которой после освобождения города
частями Красной Армии в 1918 г. пустовали.
Уже в первых числах марта 1920 г. председатель сибирского Ревкома Смир¬
нов получил из Москвы от зам. наркома финансов С.Е. Чуцкаева распоряжение,
в котором указывалось: ’’Все золото, находящееся в Иркутске, без остатка дол¬
жно быть срочно и спешно эвакуировано в Европейскую Россию, пока в Ка¬
зань”122. Более того, тот же Чуцкаев 30 марта телеграфировал управляющему
Казанским отделением Госбанка о том, что в Казань предполагается доставить
из Иркутска золотой запас страны. ’’Примите необходимые, подготовительные
меры, - указывал Чуцкаев, - для его размещения и хранения"123.
Думается, что о перевозке золота из Иркутска в Казань Чуцкаев имел с
Лениным предварительный разговор. И когда утром 20 апреля стало известно,
что эшелон с золотом уже в Омске, Чуцкаев передал телефонограмму на имя
Ленина, который находился на заседании политбюро. "Прошу внести в полит¬
бюро, - говорилось в ней, - вопрос о месте назначения поездов золота"124.
Оценив важность вопроса, Ленин поставил его на обсуждение, а затем на этой
же телефонограмме записал принятое решение: "Казань"125.
Сохранился протокол этого заседания. Присутствовало пять членов полит¬
бюро: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин и Л.П. Серебря¬
ков. Тринадцатым пунктом из 19 рассмотренных отмечен вопрос, сформулиро¬
ванный лаконично: "О золоте"126. В постановительной части также кратко
записано всего одно слово "Казань"127.
Занятый, как и все ответственные работники центрального аппарата,
множеством разных дел, Чуцкаев имел возможность получить ответ на свой
дневной вопрос только вечером, когда он присутствовал на заседании
Совнаркома. Председательствовал Ленин. Улучив момент, не прерывая засе¬
дания, Чуцкаев послал ему записку: "Владимир Ильич, решен ли вопрос, куда
отправлять золото?"128. Ленин тут же прислал ответ: "Чуцкаеву: да, Казань и
особая военная охрана"129.
Чуцкаев посчитал нужным получить дополнительное разъяснение и вновь
обратился к Ленину с запиской: "Я не понимаю, должна ли быть в Казани при
золотой кладовой особая военная охрана, или же такая охрана должна быть при
сопровождении поездов до Казани. Достаточно ли охраны из 566 красно¬
армейцев, которая сопровождала золото из Иркутска до Омска, или нужна
другая, особая’’130.
На этой же записке имеется ответ Ленина: "566. Достаточно". Подчеркнув
121 Исторический архив, 1961, № 1, с. 27.
122 РГАЭ, ф. 7733, on. 1, д. 346, л. 3.
123 Там же.
124 РЦХИДНИ, ф. 2, on. 1, д. 13642, л. 1.
125 Там же.
126 Там же, ф. 17, оп. 3, д. 71, л. 1.
127 Там же.
128 Там же, ф. 2, on. 1, д. 13643, л. 1. Записка написана карандашом.
129 Там Же. Слова "Чуцкаеву", "Казань" и "особая" подчеркнуты Лениным.
130 Там же, д. 13645, л. 1. Речь идет об охране от Ачинска до Омска.
152
написанное, Ленин добавил: "Дайте об этом бумагу Троцкому, НКвоен"131.
После этого Чуцкаев набросал текст телеграммы на имя председателя
Сибревкома Смирнова и заведующего финансового управления132: "Все золото
в двух поездах, прибавив имеющееся в Омске, немедленно отправьте с
безусловно надежной достаточной военной охраной в Казань для передачи на
хранение в кладовых губфинотдела"133.
Затем этот текст был перепечатан на машинке, подписан вначале Чуц-
каевым, а потом Лениным и после зашифровки отдельных слов в
22 часа 20 минут передан в Омск вне очереди, как распоряжение военного
характера134.
На следующий день, 21 апреля, в 20 часов по московскому времени эшелон с
золотым запасом вышел из Омска по направлению к Казани135. Такова была
реакция ответственных за доставку золотого запаса на распоряжение, под¬
писанное главой советского правительства. 22 апреля в Иркутске при перевозке
серебра, ранее находившегося в поезде литер "Е", было обнаружено 17 ящиков с
небольшими слитками золота. Их общий вес составил 14 пудов и 29 фунтов, т.е.
более 230 кг136. Как и когда они попали в вагон с серебром, с какой целью-
остается загадкой. По-видимому, кто-то ранее хотел их присвоить.
12 мая по указанию наркомфина эту "находку" тоже отправили на Запад, но
не в Казань, а в Москву137.
Через семь дней, 27 апреля 1920 г., на очередном заседании Совнаркома под
председательством Ленина среди рассмотренных вопросов была просьба нарком-
внешторга о разрешении ему израсходовать из забронированного фонда
20 млн. руб. золотом на покупку дефицитных товаров за рубежом138. В при¬
нятом решении говорилось, что Совнарком разрешает расход этой суммы с
условием, чтобы такое же количество золота было возмещено из золотого
запаса, который должен прибыть из Сибири139. Когда Ленину представили
проект решения по этому вопросу, он обратил внимание на пункт второй, в
котором было сказано, что наркомфин и наркомпуть обязаны принять дейст¬
венные меры к продвижению золота из Сибири в Европейскую Россию и раз в
пят > дней представлять Ленину письменную информацию о ходе перевозки
золотого запаса. Зная о мерах, уже принятых к возвращению золота в Казань,
Ленин посчитал этот пункт излишним и исключил его из проекта поста¬
новления140.
Таким образом, золотому запасу России еще до его фактического прибытия в
государственные хранилища Казани, отводилась важная роль в решении
социальных проблем. Но не только. Вскоре часть золотого запаса была израс¬
ходована на финансирование зарубежных коммунистических и рабочих партий и
мер по активизации мировой революции.
В архивных документах Госбанка РСФСР сохранились ведомости о выдаче зо¬
лота в 1920 г. различным советским наркоматам, в том числе наркомату внешней
торговли (НКЁТ) и наркомату иностранных дел (НКИД). В них указано не толь¬
131 Там же.
132 Там же, д. 13644, л. 2. См. также Ленинский сборник XXXV. М., 1945, с. 117.-
133 Написано на обороте повестки дня заседания Совнаркома.
134 В книге Ю.П. Власова ошибочно отмечено, что Ленин неоднократно телеграфировал в
Сибирь о спасении золотого запаса. - Власов Ю.П. Указ, соч., с. 581.
135 Кладт А.П., Кондратьев В.А. "Золотой эшелон", с. 28.
136. РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 47, л. 131-132.
137 Там же.
138 РЦХИДНИ, ф. 19, оп. 1, д. 365, л. 51.
139 Там же.
140 Там же.
153
ко точное количество выданного металла, но и приведены конкретные фамилии
лиц, получивших его. В одной из ведомостей значится, что 2 июля, т.е. когда си¬
бирское золото уже было разгружено в Казани, для комиссариата иностранных
дел выдано т. Каменецкому золотых слитков на 501 820 руб., а 10 июля ему же
еще золотых монет на 50 тыс. руб. 17 июля Бородин получил для НКИД
2 млн. руб в золотой монете, а 1 октября через Величковского для НКИД
выдано 1 млн. золотых рублей. Еще 1 млн. 500 тыс. руб. золотом получил некто
Цернес141.
Всего же в 1920 г. наркоминдел получил 6 451 820 руб. золотом142. В этой же
ведомости зафиксировано, что в 1921 г. по состоянию на 14 мая выдано
наркоминделу еще 6 030 293 золотых рублей143.
В другой официальной ведомости отдела денежных и расчетных знаков
перечислены не только получатели золота, но и города, куда оно было
доставлено. Оказывается, что 16 февраля 1921 г. в Ревель для М.М. Литви¬
нова отправлено через т. Жихорева 25 млн. золотых рублей и на
4 998 034 руб. 21 коп. золотых слитков144. 17 февраля Литвинову допол¬
нительно отсылают на 28 640 руб. золотой монеты, а 14 апреля ему через
Бубякина выдано 10 500 000 руб. в русской монете и 9 993 899 английских
соверенов145. На какие цели российский наркомат иностранных дел получал
такие золотые "вливания”? Быть может, на торговые соглашения? Но ведь это
функции НКВТ, которому в это же время переводят не меньше. На содержание
дипломатических представительств РСФСР? Не слишком ли много? Нет, здесь
причины иного рода.
В официальной ведомости за 1921 г. указана организация, получившая эти
деньги: Коминтерн. В ведомости значится, что с 1 октября 1920 г. по 15 мая
1921 г. Коминтерну выдано 2 984 100 золотых рублей146.
После III конгресса Коминтерна (22 июня - 12 июля 1921 г.) была образо¬
вана бюджетная комиссия, через которую финансировались зарубежные ком¬
мунистические и рабочие партии, входящие в Коминтерн. Заведующим ва¬
лютной кассой Исполкома Коминтерна тогда был И.А. Пятницкий147. В
1921 г. среди ряда выдач зарубежным партнерам было передано Итальян¬
ской компартии свыше 500 000 итальянских лир. Несколько сот тысяч чешских
крон получили руководители Чехословацкой компартии148.
Отправка золота за рубеж продолжалась и в последующие годы. Поэтому
траты золота, возвращенного из Сибири в Казань, и золота, хранившегося в
Нижнем Новгороде и Москве, имеют непосредственное отношение к стрем¬
лению большевистского руководства установить советскую форму правления в
ведущих странах мира.
16 апреля 1920 г. поезд с золотом прибыл в Уфу. Начальник военных
сообщений станции Уфа, учитывая большой вес состава (около 60 тыс. пудов),
сложность профиля Бугульминской железной дороги, неисправность отдельных
мостов на ней, предложил Косухину изменить намеченный маршрут движения.
Косухин, получив согласие наркомата финансов, направил эшелон по Самаро-
Златоустовской дороге.
141 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 43, л. 5а.
142 Там же, л. 31. В документах не указано, кому и когда был выдан 1 млн. 400 тыс. руб.
143 Там же, л. 5а.
144 Там же, л. 9.
145 Там же. Соверен - английская золотая монета. С 1816 г. 1 соверен равнялся 1 ф.ст.
146 Там же, л. 31, 37, 38, 40.
147 РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 2, д. 55, л. 58-60.
148 Там же, л. 56.
154
3 мая 1920 г. золотой запас прибыл в Казань и в течение четырех дней был
разгружен и помещен в кладовые народного банка, в те же хранилища, откуда
он был вывезен в 1918 г.
В справке о наличии золота в Российской Федерации по состоянию на 9 ноября
1920 г. значилось 656 196 180 руб. 35 коп., "в том числе з Казани (сибирское
золото) 395 млн. 222 тыс. 772 руб. 81 коп.”149.
Следовательно, колчаковское правительство растратило российский золотой
запас на сумму в 256 309 345 руб. 05 коп.150
Через два года на Генуэзской международной конференции эта сумма была
включена в общую цифру потерь нашей страны от войны и иностранной военной
интервенции и предъявлена союзным державам в качестве советских контр¬
претензий.
В советской исторической литературе расходование Колчаком части золотого
запаса квалифицировалось как разграбление народного достояния, поскольку
советская Россия стала наследницей всех дооктябрьских кайиталов. И эту точку
зрения упорно отстаивали все средства советской пропаганды.
Но, если принять во внимание, что абсолютное большинство золотого запаса
было накоплено в дооктябрьский период и что часть эта была национа¬
лизирована советской властью в частных банках, то упомянутый вывод пред¬
ставляется довольно спорным.
Во всяком случае, с точки зрения адмирала Колчака, стремившегося, как он
полагал, спасти Россию, освободить ее от насилия Советов, расходование
золотого запаса в целях борьбы с коммунизмом, было юридически оправданным.
Другое дело, когда омское правительство накануне полного краха начало
переводить оставшиеся во Владивостоке ценности на счета своих министров в
зарубежные банки, а то золото, которое осталось на руках финансовых агентов
омского правительства, не было возвращено новой России, эти действия с любой
точки зрения можно считать противозаконными и антинародными.
Теперь, когда в научный оборот введены новые документы, мы имеем
возможность несколько шире осветить эту тему. Однако утверждать, что
закончен процесс исследования еще рано. О завершении поиска можно будет
сказать только тогда, когда будут тщательно сопоставлены уже опубликованные
материалы с книгами учета Московской конторы Госбанка, Тамбовского и
Казанских отделений, вывезенных во Владивосток в 1919 г., когда российские
хранилища документов пополнятся новыми сведениями по этому вопросу,
возможно, имеющимися за рубежом151.
О необходимости продолжения исследования настоящей темы, имеющей
особое значение для России, свидетельствует и создание в Москве Акционерной
компании "Российское золото”152.
Как знать, может быть усилиями энтузиастов этой организации удастся
вернуть на родину часть бывшего золотого запаса России?
Во всяком случае, хранилища для него найдутся как в Казани, так и в
Москве.
149 РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 43, л. 10об. В это же время в Иркутском отделении Госбанка
имелось 1430 пудов серебра в слитках.
150 По другим сведениям Колчак израсходовал 235,5 млн. руб. - РГАЭ, ф. 2324, оп. 16, д. 43,
л. 42.
151 См. Сироткин В.Г. Вернется ли на родину российское золото?
152 Там же, с. 213.
155
© 1993 г.
В.А. МАТВЕЕВ
БРИТАНСКАЯ МОНАРХИЯ: ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ
Англия - страна давних гражданских свобод, старейшего парламента и еще
более почтенной по возрасту монархии. В обществе, где ценятся вековые
традиции, монархия является одним из популярных государственных институтов.
Воздвигнутый в Лондоне у здания парламента мемориал должен служить
напоминанием о почти 2000-летней родословной этой монархии: женщина-вои¬
тельница на несущейся в бой колеснице. Надпись на цоколе памятника гласит:
"Боудикке, королеве иценов, поднявшей свой народ против римских завое¬
вателей, погибшей в 61 году".
Она предпочла сжечь тогдашний Лондиниум (Лондон) и умереть, нежели поко¬
риться захватчикам.
Прошло около тысячелетия, прежде чем из раздробленных удельных вла¬
дений на Британских островах сложилась единая держава с относительно центра¬
лизованным управлением во главе с королем. С тех пор ритуал коронации сох¬
ранился до сегодняшнего дня.
В 1265 г. Симон де Монтфорт, один из приближенных короля Генриха III
(1227-1272), поднял против монарха восстание и заставил его созвать нацио¬
нальную ассамблею с участием представителей городских поселений. С того
времени ведет свое начало парламент как учреждение, призванное выступать от
имени королевских подданных, выражать их чаяния, не обязательно совпа¬
давшие с прерогативами короны.
В течение трех-четырех столетий - до буржуазной революции середины XVII
в. - парламент то являлся орудием против всевластия монарха, то использовался
последним в борьбе против стремившихся утвердить свое владычество феода¬
лов. К. Маркс подчеркивал резкий антагонизм между королевской властью и
крупными феодалами1. Последние из-за честолюбивых замыслов не раз доходили
до насильственного устранения неугодных монархов, сажая на трон своих став¬
ленников. Однако монархи пытались и опираться на парламент в борьбе против
властолюбивой знати.
Направленный в Англию государем Всея Руси, царем Московским Алексеем
Михайловичем в середине 70-х годов XVII в. переводчик посольского приказа
Андрей Виниус так описывал правление в этой стране: оно "отчасти монар-
хиально (единовластно), отчасти аристократно (правление первых людей), от¬
части демократно (народоправительно)... Парламент делится на два дома... А
без повеления тех двух домов король не может в великих делах никакого совер¬
шенства учинить"2.
Познакомившись с работой английского парламента в 1689 г., царь Петр I
заметил: "Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю
правду: вот чему надо учиться у англичан"3.
*См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 730.
2Соловьев С.М. История России с древнейших времен, т. 12. М., 1991, с. 518-519.
3Ключевский В.О. Курс русской истории, т. IV. М., 1989, с. 24.
156
Однако переносить подобное на российскую почву царь Петр не стал. Срав¬
нение исторического пути развития монархий двух стран показывает, почему
одна сумела, хотя и не без труда, приспособиться к менявшимся внутренним и
внешним условиям, выжить и вписаться в структуру общества, претерпевшего
большие перемены, а другая рухнула из-за игнорирования реальной действи¬
тельности, слепой приверженности прошлому.
Британская королева Виктория еще в конце XIX столетия высказывала
серьезную озабоченность перспективой развития России. Незадолго до Фев¬
ральской революции 1917 г. английская дипломатия попыталась спасти если не
лично царя Николая II, то институт монархии в России. Посол Дж. Бьюкенен в
Петрограде вынашивал планы поддержки князя Феликса Юсупова как "русского
Луи-Наполеона"4. В Лондоне хотели бы видеть в России конституционную мо¬
нархию по английскому образцу.
К началу XX в., пройдя через многие критические, кризисные ситуации, ин¬
ститут британской монархии обрел ограниченные актами парламента рамки, в
которых он действует в настоящее время.
XVII-XIX столетия - время эволюционного, несмотря на потрясения середины
XVII в., преображения абсолютистской монархии в Англии в конституционную,
что не уменьшило, а прибавило ей популярности.
Даже в лучшие периоды российско-британских отношений Романовы знали,
что немало политических деятелей Англии, да и некоторые представители ее
королевского дома, видят в царизме режим, чуждый тем правам и свободам,
которыми пользовались англичане. Это не помешало завязыванию в конце XIX -
начале XX в. родственных уз между монархиями двух стран.
Семейство Виндзоров резко реагировало на расстрел Николая II и членов его
семьи в Екатеринбурге в 1918 г., хотя Георг V в критический момент оставил
своего кузена Николая II и его семью на произвол судьбы, отказав им в убежище
в Англии. Ничего не было предпринято Лондоном, чтобы Романовы могли найти
пристанище в другой стране. Тем не менее учиненная над Романовым расправа
сделала английскую королевскую семью непримиримым врагом Советской Рос¬
сии.
Теперь это перевернутая страница истории. Находясь в Лондоне с визитом в
ноябре 1992 г., президент России Б.Н. Ельцин передал королеве Елизавете II
приглашение посетить Россию. Оно было с признательностью принято.
ПРАВЛЕНИЕ ТЮДОРОВ И КАРЛ I СТЮАРТ
Англия за свою историю пережила немало ожесточенных внутренних конф¬
ликтов. Ни один, однако, не втянул в свою орбиту столь широкие слои населе¬
ния, как гражданская война середины XVII в. Восстановивший против себя своей
авторитарностью, игнорированием парламента, религиозной нетерпимостью зна¬
чительную часть нации Карл I Стюарт (1600-4649) был казнен в январе 1649 г.,
что положило конец абсолютистским порядкам в стране, укрепившимся в период
правления династии Тюдоров (1485-1603).
Однако в XVI в. такие порядки еще считались нормальными. Кроме того,
Тюдоры в целом правили искуснее Стюартов. При них Англия встала на путь
интенсивного внутреннего развития, в ней стал складываться класс собствен¬
ников, обязанных процветанием своей предприимчивости, а не родовитости. За¬
метно вырос политический, военный вес страны на континенте.
Генрих VIII Тюдор (1491-1547), вступивший на трон в 1509 г., покончил с
4Alexandrov V. The Kremlin. London, 1963, p. 236.
157
Король Карл I в 1649 г. (с портрета Э. Баулера)
засильем в стране католической церкви, возложив на себя обязанности главы
Англиканской церкви.
Елизавета I Тюдор (1533-1603), занявшая престол в 1558 г., стремилась под¬
держивать согласие с парламентом без использования рычагов диктаторской
власти. Елизавета I превратила Англию в ведущее государство в Европе, вы¬
держав долгое противоборство с Испанией и разгромив в 1588 г. ее флот у бе¬
регов Англии.
Окреп парламент: члены палаты общин решались вести диалог с королевой на
равных. В нем все громче звучали голоса представителей крайнего направления
Англиканской церкви - пуритан с их требованиями очищения церкви от всех
атрибутов католицизма и полного отказа от подчинения короне.
Якову ГСтюарту (1566-1625), занявшему престол в 1603 г. после оставшейся
незамужней и бездетной Елизаветы, понадобилось относительно мало времени,
чтобы - помимо, разумеется, своей воли - довести напряженность внутри страны
до точки кипения. Сменивший его в 1625 г. Карл I (1600-1649), следуя по той же
роковой стезе, вверг страну в гражданскую войну.
Младший сын Якова I Карл рос в обстановке распущенности при общем
падении нравов при дворе, что не мешало ему, как и его батюшке, после по¬
лучения короны (старший брат Генрих умер в 1612 г.) говорить о своем "бо¬
158
жественном происхождении”. Яков I окружил себя фаворитами-негодяями, чем
был сильно недоволен парламент.
После того, как один из министров - любимец Якова I был уличен в убийстве,
на его месте появился льстец-карьерист Джордж Вильерс, ставший графом Бе-
кингемом, наживавшийся вместе с королем на продаже лицензий на монополии и
на торговле титулами.
Бекингем обслуживал прихоти и молодого Карла. Их нежные отношения дали
пищу толкам, что речь идет не просто о дружбе. Карл вообще легко подпадал
под влияние втиравшихся к нему в доверие фаворитов, демонстрируя слабоволие
и упрямство.
В мае 1625 г. Карл женился на Генриетте-Марии, сестре французского короля
Людовика XIII - католичке, облеченной наказом своих прелатов продвигать в
Англии "истинную веру".
Вступив на трон в марте 1625 г., Карл I завел при дворе строгие порядки,
выказывая благочестие. Свидетельница таких перемен при дворе Карла I леди
Хатчинсон так описывала их в книге о своем муже: "Шуты и развратники, на¬
смешники и мужчины-любовники были оттуда удалены... Ученые и отличив¬
шиеся в видах искусств получили признание и поощрение короля"5. Личная жизнь
монарха меньше волновала парламент, чем его отношение к распространению в
стране пуританства. Это был главный вопрос на протяжении всех револю¬
ционных потрясений. И именно в этом пункте Карл I показал наибольшую
непримиримость и отсутствие здравомыслия, что объяснялось влиянием на него
Уильяма Лода, возведенного в 1633 г. в сан архиепископа Кентерберийского.
Своим продвижением Лод был обязан Бекингему. На третьем году правления
Карл был вынужден согласиться на импичмент Бекингема, которого вскоре убил
в Портсмуте пуританин Джон Фелтон. При дворе монарха сложился не менее
непопулярный тандем его советников - графа Страффорда и Лода. Первый
вершил дела политические и был назначен лордом-наместником в Ирландии,
второй - установил жесткий режим в духовной сфере.
"Истинная церковь невозможна без епископства" - этот постулат Лода Карл I
усвоил крепко и до конца дней руководствовался им.
"Именно из-за церкви Карл пролил кровь на плахе", - делал вывод
Уильям Гладстон в заметках по вопросу о королевских прерогативах6. "Если бы
Карл был готов оставить церковь и упразднить епископство, он смог бы спасти
трон и себя", - отмечал в конце прошлого столетия епископ Крейтон7.
Историки считают, что у Карла имелось достаточно шансов уладить полю¬
бовно конфликты с парламентом8 9. Половинчатость предпринимавшихся им шагов
навстречу оппонентам объяснялась убеждением в том, что его монарший статус
дает ему возможность не уступать требованиям реформ в клерикальной сфере.
В своей политике Карл рассчитывал и на поддержку со стороны Франции.
Опыт первых пяти лет власти был для него ориентиром. За этот период
король три раза расрускал парламент, отправил в Тауэр девять лидеров парла¬
ментской оппозиции’и, казалось, упрочил трон.
Против взбунтовавшегося парламента Карл I поднял 22 августа 1642 г. вос-
5Hutchinson L. Memoirs of the Life of Colonel Hutchinson. Oxford, 1973, p. 23.
6Gladstone W. Remarks on the Royal Supremacy. London, 1850, p. 57.
7Bishop Creighton. Lectures on Archibishop Laud. London, 1895, p. 25.
8T.A. Павлова в работе о Кромвеле так описывала настроения в лагере его сторонников за
несколько месяцев до казни Карла: "В Лондоне, однако, ни о каком суде (над королем. - В.М.) не
помышляли... К королю обращались с величайшим почтением. Ему были предложены весьма мя1 кие
условия". - Павлова Т.А. Кромвель. М., 1980, с. 165.
9Наиболее влиятельный из репрессированных, Джон Элтон, умер в заточении, а Карл отказался
передать тело покойного его близким для погребения.
159
стание в Ноттингеме. Первоначально Карл контролировал значительную терри¬
торию, справляясь с войсками Кромвеля с помощью призванного из Богемии
принца Руперта, сына своей сестры. Но с лета 1644 г. армия Кромвеля стала
одерживать верх.
Весной 1646 г., после разгрома королевских войск, Карл сдался на милость
шотландцев, а те выдали его Кромвелю. В плену король содержался в ком¬
форте, некоторые соратники Кромвеля даже целовали ему руки.
В сентябре 1647 г. Кромвель начал переговоры с Карлом как главой престола.
Это вызвало гневное осуждение сторонников Левеллера, вожака радикального
крыла армии. Переговоры тянулись безрезультатно, пока, пользуясь вольгот¬
ностью своего режима, Карл не бежал из дворца в Хэмптон-корте под Лондоном
на остров Уайт. Король обратился за помощью к шотландцам в обмен на уступ¬
ки в религиозных вопросах. Кромвель, а особенно большинство в парламенте,
представлявшее пресвитериан, пошел бы на уступки королю, если бы не нажим
со стороны рядовых армии Кромвеля, принявших весной 1648 г. решение о
привлечении Карла к суду.
Обвинения суда в предательстве Карл встретил смехом. Это была реакция
человека, примирившегося с мыслью о неизбежном конце, но не потерявшего
веру в то, что престол перейдет его старшему сыну Карлу.
30 января 1649 г. Карл I прошел пешком от дворца Сент-Джеймс до Уайт¬
холла, беседуя по пути с солдатами. На помосте, сооруженном перед Банкетным
залом, король обратился к собравшимся со словами, прозвучавшими упреком в
адрес подданных. Он сказал, что выступал за свободу народа, а она состоит в
существовании эффективного правительства, и не дело подданных пытаться раз¬
делять ответственность с управителями10. Итак, ни тени раскаяния, на многих
это произвело впечатление: казнь Карла I сравнивали с распятием Христа.
Нация в целом не была готова к радикальным переменам, и это играло на руку
наследнику Карлу, бежавшему на континент.
ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЯ
Ожесточение внутренних распрей в Англии не привело к ее ослаблению на
внешней арене. Военные кампании в Ирландии, Шотландии, войны с Голлан¬
дией, Испанией, захват Ямайки - эти действия кромвелевских армий, большей
частью успешные, заставили считаться с провозглашенной в мае 1649 г. ре¬
спубликой другие страны. Доходы от эксплуатации колоний стали главным
источником для казны, стимулировали развитие капитализма. Важные изменения
произошли в землевладении. Было уменьшено влияние потомственных ленд¬
лордов. Возникла крупнопоместная буржуазия. Ее интересы в парламенте от¬
стаивала сложившаяся к 80-м годам группировка вигов. Ей противостояли тори-
представители мелкопоместного дворянства.
Смерть Кромвеля 3 сентября 1658 г. побудила наследного принца Карла к
сделке с принявшим командование армией полковником Джорджем Монком. С
его подачи Карл обратился в апреле 1660 г. из голландского городка Бреда с
декларацией к англичанам, обещая всем подданным, стоявшим на стороне Кром¬
веля, амнистию, если они "вернутся на стезю лояльности и послушания"11.
Подобное стремление к компромиссу в сложной политической ситуации в
стране, сложившейся после смерти Кромвеля, произвело благоприятное впечат¬
ление. Прибывшего в Лондон 29 мая 1660 г. Карла встретили, в основном,
благожелательно, но даже после коронации в апреле 1661 г. он не стал хозяином
положения. Прибывшим в 1662 г. к нему послам царя Алексея Михайловича он
1 Encyclopedia Britannica (далее - ЕВ), v. 5. London, 1955, р. 270.
HThe Letters, Speeches and Declarations of Charles II. London, 1968, p. 84-85.
160
заявил, что, кроме русского государя, никто ему не оказывал такой милости,
содействия, когда он был в изгнании, и он этого не забудет12. После казни Кар¬
ла I Россия прервала отношения с Кромвелем и материально помогла прин¬
цу Карлу. Послы царя обратились к Карлу II с просьбой об одолжении средств
для Алексея Михайловича. Яков I предоставил первый английский заем отцу
Алексея - Михаилу Федоровичу Романову. Но даже если бы и хотел, Карл II
удовлетворить просьбу своего "брата в Московии" не мог: приходилось в первую
очередь думать об укреплении финансов и экономики самой Англии.
Этими делами занялся разделявший ссылку с Карлом его канцлер Эдуард
Хайд, породнившийся со Стюартами. Его дочь Анна вышла замуж за будущего
короля Якова II (1633-1701), брата Карла II, и родила ему девочек Марию (1650-
1702), вышедшую замуж впоследствии за правителя Нидерландов Вильгель¬
ма Оранского, и Анну (1665-1714), ставшую женой датского принца Георга.
Клятву отомстить убийцам своего отца Карл II выполнил. Были казнены 13 че¬
ловек, причастных к цареубийству. Жестокосердие, однако, не было в характере
нового монарха, и в Совет при короле вошли роялисты и экс-кромвелисты.
Парламент подтвердил все уступки Карла I - суд Звездной палаты и другие
рычаги абсолютизма не были восстановлены, - но финансовую свободу монарха
ограничил: ему полагалась ежегодная субсидия в размере 1200 тыс.ф.ст. Как
правило, она полностью не выплачивалась, но даже если бы Карл II ее и по¬
лучал, такой суммы ему явно было бы недостаточно из-за больших трат на
любовниц13.
Он не усматривал ничего зазорного в получении негласных субсидий от
Людовика XIV, "расплачиваясь" за спиной нации обязательствами, граничившими
с изменой государственным интересам. Таково было содержание подписанного им
в мае 1670 г. с Версальским двором секретного Дуврского договора, противо¬
речившего заключенному правительством в январе того же года Тройственно¬
му союзу Англии с Голландией и Швецией против Франции.
Заметая следы тайного сговора с Парижем, выполнять который Карл II со¬
бирался лишь постольку, поскольку это обеспечивало ему французские субсидии,
он в декабре 1670 г. подписал другой договор с Францией, публичный, не
содержавший пункта Дуврского соглашения о принятии католической веры в
обмен на "финансовую помощь" от Людовика14.
К этому времени религиозные страсти вспыхнули в стране с новой силой.
Хайд, граф Кларендон, не справился с ролью умиротворителя и вызвал недо¬
вольство как многих англичан, так и самого короля. Он провел через парламент
серию мер, направленных против свободы вероисповедания: и граф, и большин¬
ство парламентариев были едины в ревностной поддержке официальной церкви,
что противоречило курсу короля. Кроме того, Хайд досаждал Карлу упреками по
поводу его любовных интриг, отвлекавших монарха от государственных дел.
Английские биографы Карла П расходятся в оценках его как государственного
деятеля. М. Эшли отмечал: "Его ум многое схватывал быстрее его советников,
но он принадлежал к людям, не привыкшим к бумажному труду"15. Прибли¬
женный к Карлу II автор "Дневников" С. Пепис описывал, с каким бесстрашием
король наравне с рядовыми жителями участвовал в тушении "Большого пожара"
в Лондоне в 1666 г.16
п Соловьев С.М. Указ, соч., с. 512-513.
13Лишь в изгнании у Карла II имелось 17 любовниц. Он оставил 14 незаконнорожденных детей - и
ни одного от своей супруги Екатерины Браганцской, с которой вступил в брак в 1662 г. - ЕВ, р. 273.
14О дипломатии Карла II и его министров одновременно с деятельностью разведок Англии и
других держав: см. Черняк Е.Б. Секретная дипломатия Великобритании. М., 1975.
Х5Ashley М. Charles II, the Man and the Statesman. London, 1971, p. 314-315.
16The Diary of Samuel Pepys, v. VII. Cambridge, 1927, p. 72.
6 Новая и новейшая история № 6
161
. Неоспоримо, что во имя личных прихотей этот монарх легко жертвовал
национальными интересами. В последние четыре года его правления обострив¬
шаяся в стране религиозная рознь угрожала перерасти в новую гражданскую
войну. В парламенте разгоралась грызня между оформившимися партиями вигов
и тори. Король был далек еще от того, чтобы играть роль "надпартийной силы".
Он протежировал тори, видя в вигах противников его брата-католика Якова -
наследника престола. Действительные и мнимые "папские заговоры" конца
70-х годов будоражили общество, сопровождаясь казнями и некоторых лордов-
вигов17. Карл II не предпринимал ничего, что могло хоть как-то разрядить
обстановку. "Охота на ведьм", проводимая католичеством и поддерживаемая
торийским парламентом, обеспечила переход престола после смерти Карла II
6 февраля 1685 г. к Якову II (1633-1701). Карл П умер католиком, о чем в пос¬
ледний момент позаботился Яков.
Правление нового короля-карлика и умственно ограниченного человека -
было тяжелым бременем для страны. Отрекшись от протестантства, Яков П еще
яростнее, чем его отец, стремился "окатоличить" Англию, расправляясь с англи¬
канским духовенством, что вызвало в стране недовольство. Следивший из Ни¬
дерландов за положением дел в Англии Вильгельм Оранский вынашивал
честолюбивые замыслы и выжидал благоприятного момента. В 1686-1687 гг.
влиятельные деятели Англии предлагали ему занять престол. Хотя его супруга
Мария и являлась дочерью Якова П, она была протестанткой и к отцу особой
привязанности не питала.
Между тем в Англии складывался такой психологический климат, когда
появление на свет в июне 1687 г. у второй супруги Якова II, католички Марии
Моденской, первенца, названного в честь отца, стало многими, рассматриваться
как обманный трюк: утверждалось, что на самом деле королева не была бере¬
менна, а дитя чужое, взятое для обеспечения католического престолонас-
ледования.
Семь англиканских епископов в это время по распоряжению короля были
брошены в Тауэр за неповиновение. Английский историк П. Эрли писал, что "ко
времени суда над еплскопами Яков преуспел в отчуждении от монарха почти
всего господствующего класса в королевстве"18. Однако до гражданской войны
дело не дошло. К Вильгельму Оранскому были отправлены эмиссары от имени
крупнейших земельных собственников, купцов и банкиров Сити, высшего духо¬
венства с просьбой о вмешательстве с целью избавления Англии от ненави¬
стного монарха. В 1688 г. Вильгельм Оранский во главе 13-тысячной армии
высадился в Англии и был провозглашен королем. Свергнутый Яков II бежал во
Францию. Его попытка с помощью французских войск дать Вильгельму бой в
Ирландии кончилась крахом. Парламент проголосовал за Вилвгельма как нового
монарха, а его супругу провозгласил королевой.
"СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"
Годы правления Вильгельма III Оранского - период исторических реформ.
Однако роль короля-чужеземца в переменах была минимальной. Будучи чело¬
веком умным, Вильгельм Оранский понимал, что навязывать призвавшей его на
помощь нации, натерпевшейся от короля-самодура, свои порядки бессмысленно.
Нужно лишь создать условия, благоприятные для реализации назревших пре¬
образований19. Главным для Вильгельма было привлечение Англии к оборони¬
17 Черняк Е.Б. Указ. соч. с. 225-229.
18Earle Р. The Life and Times of James II. London, 1972, p. 174.
19Ha штандарте своих войск, высадившихся в Англии, Вильгельм начертал девиз: "Я буду
поддерживать протестантскую религию и свободы Англии". - Ibid., р. 187.
162
тельной войне Нидерландов против попыток Людовика распространить француз¬
скую гегемонию на континенте. Это полностью отвечало и интересам Англии.
К концу 1689 г. оставшиеся спорные проблемы взаимоотношений между
королевской властью и парламентом были решены в пользу последнего. В
’’Билле о правах” 1689 г., ставшем основой складывания норм законности в
государстве, монарх лишался прерогатив приостанавливать действие законов,
взимать налоги без разрешения парламента, держать в мирное время постоян¬
ную армию. Предписывалось регулярно созывать парламент, в котором должна
была царить свобода слова. В соответствии с ’’Актом о веротерпимости" была
разрешена свобода публичного богослужения. Судебная власть добилась неза¬
висимости от монарха с подчинением ее парламенту. Упорядочению государст¬
венных финансов способствовало учреждение Английского банка. Согласно при¬
нятому в 1701 г. парламентом "Акту о престолонаследии" трон переходил только
к приверженцам Англиканской церкви, что исключало возврат на престол като¬
ликов-Стюартов.
Со многими этими и другими нововведениями познакомился в Англии в 1698 г.
царь Петр Г. Вильгельм III, с которым царь виделся еще в Амстердаме, оказал
ему пышный прием, но Петр не пожелал жить в отведенной резиденции, а
выбрал скромный дом. Вильгельм удивился равнодушию царя к коллекции живо¬
писи в Лондонском Кенсингтонском дворце и жадному интересу к анемометру -
прибору для измерения скорости ветра. На прощание Вильгельм III, зная, какое
значение Петр I придает флотским делам, подарил царю новенький фрегат, а
тот оставил ему крупный необработанный алмаз, завернутый в клочок грязной
бумаги. На такие мелочи царь не обращал внимания.
Визит царя был омрачен местной актрисой Латицией Кросс, неудовлетво¬
ренной пятью сотнями гиней, врученными ей за неоднократные женские услуги,
оказанные русскому монарху. Она устроила ему бурную сцену.
В дальнейшем сын Якова II Яков Эдуард (1688-1766) тщетно пытался
втянуть Петра в свои попытки свержения с английского трона Георга I, пред¬
лагая царю "вечный альянс" при условии обручения с дочерью царя Елизаветой.
У Петра I был, однако, уже немалый опыт ведения дел с Англией. Он активно
переписывался с королевой Анной еще до Георга I и в авантюры ярого като¬
лика, каким был сын Якова II, царь не ввязывался20.
СТРАДАЛИЦА-АННА
Последняя из Стюартов на троне, королева Анна (1702-1714), страстно
желала продолжения рода, что оказалось не в ее власти. Согласно описаниям, в
Англии еще не было такой пышнотелой королевы-коротышки. Анну мучила
подагра и во время церемонии коронации ее несли в кресле.
Спустя две недели после вступления Анны на престол, Англия объявила
войну Франции в связи с начавшейся на континенте войной за испанское на¬
следство. Людовик XIV заметил по этому поводу: "Видимо, я становлюсь стар,
коли женщины идут походом на меня".
В поход, однако, собирался талантливый полководец Анны герцог Мальборо.
Во главе коалиции, в которую входили также Голландия, Австрия, немецкие
княжества, он прославил свою королеву победами на полях битв, заслужив высо¬
кие награды, но не благодарность августейшей особы. В конце войны Анна не
встала на его защиту, когда тори на волне недовольства в стране затянувшимся
военным конфликтом добились смещения Мальборо с поста командующего
армией, начав переговоры о мире. Это произошло за два года до Утрехтского
20Alexandrov V. Op.<rt., р. 185.
6*
163
мира, принесшего Англии владение Гибралтаром, Ньюфаундлендом и некото¬
рыми другими территориями.
Анна не блистала умом, и желающих влиять на нее хватало. На этой почве
между ее приближенными не прекращалось соперничество. Не обладая, подобно
Елизавете I, качествами государственной правительницы, в личных делах Анна
могла проявлять стойкость. Поражает, с каким упорством она стремилась оста¬
вить после себя единокровного наследника. 17 раз за 25 лет супружества с
Георгом, умершим в 1708 г., она рожала. Выжил лишь один ребенок - мальчик,
да и тот скончался в 11 лет. Остальные дети умирали сразу после рождения. По
распространенному мнению из-за плохой наследственности, доставшейся от отца,
перенесшего сифилис21.
Письма из архива Анны свидетельствуют о ее участии в государственных
делах. Любопытны ее переписка с Петром I, ее инструкции английским эмисса¬
рам, направлявшимся в Московию. Так, 29 сентября 1704 г. она наказывала
Чарлзу Уитворту по прибытии в Россию добиваться дружественного союза с
царем ’’ради взаимной выгоды торговли и коммерции". Предлагалось напомнить
царю о высказанном им во время визита в Англию желании ввозить табак из
английских колоний в Америке22.
1 октября 1709 г., несмотря на то, что Швеция была союзницей Англии в
войне против Франции, Анна направила Петру I поздравление с победой под
Полтавой23.
18 февраля 1711 г. английскому посланнику в Санкт-Петербурге было пору¬
чено напомнить о важности сохранения Россией нейтралитета в связи с военными
операциями Англии и ее союзниц против Франции, подчеркнув заинтересо¬
ванность первой в поддержании торговли с Прибалтикой, где, по выражению
Анны, царь теперь хозяин24.
Длительной и острой была переписка между Петром I и Анной в связи с
инцидентом, произошедшим в Лондоне с русским послом А.А. Матвеевым,
направленным туда в конце 1706 г. для организации английского посредничества
между Россией и Швецией. Миссия Матвеева не увенчалась успехом. Послу
было предложено вернуться в Россию. Перед отъездом на посла было совершено
нападение и он был заключен в тюрьму под предлогом неуплаты незначи¬
тельного долга. Петр I потребовал казни оскорбителей. 19 сентября 1708 г. Анна
принесла письменные извинения царю, что было им сочтено недостаточным.
15 августа 1709 г. королева сообщила о своей готовности возместить причинен¬
ный русскому дипломату ущерб25. Тогда же парламент принял закон об охране
привилегий послов. В грамоте, врученной Уитвортом Петру I во время аудиен¬
ции, Анна именовала его "цесарем", т.е. императором. Инцидент был урегули¬
рован.
В письмах Анны английским политикам немало мелкого, тщеславного, но они
говорят и о ее стремлении стоять над партиями, предвосхищая то, что стало
впоследствии традиционной политической линией британской короны. 30 августа
1706 г. королева писала премьеру Годольфину: "Единственное, о чем я мечтаю,
так это о свободе в поощрении и использовании всех, кто согласен мне верно
служить, независимо от того, называют ли они себя тори или вигами"26.
2показательно, что из 40 английских монархов, царствовавших со времен норманского за¬
воевания XI в., до 50 лет дожили лишь 24. Беспорядочный образ жизни, излишества сильно под¬
рывали их здоровье.
22The Letters and Diplomatic Instructions of Queen Anne. London, 1968, p. 150-152.
23Ibid.. p. 278.
24Ibid., p. 326-328.
25Ibid„ p. 260, 278.
26Ibid., p. 196.
164
Но в проведении этого курса королева была непоследовательна. Ее симпа¬
тии были все же на стороне торийских деятелей. Из них был составлен королев¬
ский Совет. Но предопределить исход парламентских выборов Анна не могла: в
1705 г. большинство мест в парламенте завоевали виги.
.К концу правления Анны обострилась борьба вокруг кандидатуры ее преем¬
ника. Тори были склонны поддерживать королеву в стремлении передать трон
сыну Якова II - католику Якову Эдуарду Стюарту. Не имея детей, Анна хотела
видеть после себя на престоле своего племянника. Все же в конце концов,
учитывая акт 1701 г. и господствовавшие в стране настроения, ей пришлось от¬
казаться от этой идеи.
В результате трон занял монарх-иностранец. Его правление, как и его ди¬
настии в целом, английские историки расценивают к^ак негативное для отечест¬
венной монархии прежде всего из-за резко упавшей морали королевского двора.
ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ
Значительную часть XVIII в. и более трети XIX в. престол в Англии занимали
монархи Ганноверской династии (1714-1837). Началась она с Георга-Люд вига
(1660-1727) - сына Софии, супруги правителя Ганновера Эрнста-Августа. Мать
Софии, Елизавета, была дочерью Якова I, вышедшей замуж за правителя Рейн¬
ского палатината Фредерика V. Согласно акту о престолонаследии 1701 г. про¬
тестантке Софии предстояло вступить на трон в Лондоне после кончины Анны,
но она не дожила двух месяцев до смерти королевы (Эрнст-Август умер в
1698 г.). Таким образом, 54-летний немец Георг-Людвиг очутился на английском
троне, став в 1714 г. королем Георгом I.
Отличительной чертой монархов этой династии, за исключением неуравно¬
вешенного и честолюбивого Георга III (1738-1820), была их готовность предо¬
ставить ведение государственных дел министрам, а самим прожигать жизнь на
отпускавшиеся парламентом субсидии короне, предаваясь сомнительным удо¬
вольствиям. Все рекорды побил в этом отношении Георг IV (1762-1830).
У. Теккерей в очерке о Георгах считал безразличие ганноверцев, особенно
первых двух, к политике положительным явлением для Англии, поскольку при
складывавшейся системе управления, основанной на всесилии главы кабинета
министров, правящие деятели располагали свободой рук в проведении желанного
курса27.
При монархах-ганноверцах Англия принимала участие в шести крупных вой¬
нах, главным образом против Франции. Потеря ею 13 колоний (а также Фло¬
риды) в Северной Америке, добившихся независимости к 1783 г., была компен¬
сирована расширением английских владений в Индии, захватом голландских
колоний в Южной Африке и - еще раньше, по Парижскому миру 1763 г. -
признанием Францией английского суверенитета над Канадой.
Французская революция 1789 г. вызвала в Англии радикализацию части об¬
щества.
В ответ последовало введение репрессивного законодательства против демо¬
кратических клубов. Если бы французские силы высадились в Ирландии, где их
многие ждали, "континентальная блокада" Наполеона нанесла бы Англии
значительно больший ущерб.
К тому времени промышленный переворот набирал силу. Его питали доходы
от заморской торговли. На авансцену выходили предприниматели-заводчики с их
требованиями свободы без всяких ограничений, обращенными уже не к монарху,
27У. Теккерей писал: "Немец-протестант на троне оказался дешевле, добрее и лучше, чем
католик Стюарт, чье место он занял, и был предан Англии хотя бы настолько, чтобы предоставить
ее самой себе". - Теккерей У. Собр. соч., т. 11. М., 1979, с. 519.
165
а к обогатившейся “старой буржуазии", державшейся за свои монопольные
привилегии.
Характерное для первой половины XVII в. засилье в парламенте, в мини¬
стерских кабинетах магнатов-вигов, позволявшее, по свидетельству английского
историка Чарлза Петри, говорить об их олигархии, а не о верховенстве короны,
подходило к концу28. Из-за своей неоднородности (в ней смыкались крупные
землевладельческие фамилии и сколотившие состояния денежно-торговые круги)
эта партия распадалась на враждовавшие фракции.
Тори с их базой в сельском обществе и духовенстве тоже менялись в ре¬
зультате притока в их ряды новых капиталистических собственников. Верх бра¬
ли тори, использовавшие в своих интересах массовые движения и выступавшие
за избирательную реформу.
К концу XVIII в. старого английского крестьянства уже не существовало.
Сельская община исчезла. Нужда гнала безземельных крестьян в города.
Система раздачи синекур “своим людям", подкупы депутатов парламента, к
чему широко прибегал Георг III в попытках укрепления единоличной власти,
шаталась, становясь объектом громкой критики в стране.
Англия превращалась в “мастерскую мира", расширялись гражданские сво¬
боды. Ганноверская монархия приспосабливалась к переменам, правда не всегда
охотно. Историк Ф. Хоуард в своем исследовании замечал, что “современная
монархия не пережила бы, не устояла, имей она автократа, подобного Георгу Ш,
или распутника, как Георг IV"29.
Не лучше были их предшественники на троне. Еще до своего коронования
Георг-Людвиг обрек на пожизненное заключение свою супругу Софию-Доротею
за неверность, хотя у него самого были любовницы. В свите, с которой он по¬
жаловал в Англию в 1714 г., официально числились две его содержанки. В лице
сына, будущего Георга II (1683-1760), занявшего престол в 1727 г., он нажил
себе врага, запретив тому видеться с матерью.
Георг I не знал английскогб языка и не старался им овладеть. Вообще Англия
ему была не по душе. Правительственные бумаги он нередко подписывал, не
знакомясь с их содержанием, что вполне устраивало его министров-вигов.
Вступивший на престол 44-летний Георг П не уступал отцу по части любовных
похождений, что не мешало ему чтить умную, терпимую к увлечениям супруга
жену Каролину, принцессу Брандербург-Ансбахскую.
В первом обращении к подданным Георг II заявил: “В моих жилах нет ни
капли крови, которая не была бы английской".
Над двумя Георгами, занятыми собственными утехами, довлела фигура Ро¬
берта Уолпола - лидера вигов, премьера-циника с его девизом: "У каждого по¬
литика - своя цена". Таким убеждением он руководствовался и в отношении
Георгов, покупая их послушание денежной щедростью.
Отдавая отчет в роли сильной монархии как опоры порядка, Питт Старший,
преемник Уолпола, видел себя посредником между нацией и "королем-патрио¬
том".
В 1745-1746 гг. крупное восстание якобитов, поддержанное Францией, под¬
вергло прочность ганноверского престола серьезному испытанию30.
Нация не очень скорбела, когда в 1760 г. Георг II умер. Вступивший на трон в
возрасте 22 лет Георг III был фигурой противоречивой. Потеряв 13-летним
2iPetpie Ch. The Four Georges. Bath, 1973, p. 20.
29Howard Ph. The British Monarchy. London, 1977, p. 203.
30Ч. Петри писал: "Ганноверцы были монархией меньшинства в стране. В 1715 и 1745 гг.
английский народ доказал, что не пошевельнет и мизинцем ради их сохранения на троне". - Petrie Ch.
Op. cit., р. 112.
166
подростком отца - старшего сына Георга II, Фредерика, погибшего из-за нелепой
травмы на теннисном корте, будущий король попал под жесткую опеку деда,
осуществлявшуюся воспитателями-вигами. Юный Георг помнил, что его отец
симпатизировал тори. Оказавшись на престоле, Георг III пошел против вигов.
В первом обращении к нации он бичевал порок, распущенность, еще не ведая,
в какой степени будут подвержены всему этому его сыновья, и особенно нас¬
ледный принц Уэльский, будущий Георг IV.
Незадолго до занятия трона Георг III женился на столь же приверженной
строгим нравам Шарлотте Мекленбургской. При королевском дворе была зап¬
рещена карточная игра, танцы по воскресеньям. Монарх увлекался садоводством
(отсюда и его прозвище - "Георг-фермер"), любил заходить в дома простых
жителей, беседовать с ними. Остановив как-то своего конюшего в Виндзоре, он
спросил, скоЛько тот получает. "Только одежду и еду", - ответил служака. "Будь
доволен, - заметил король, - у меня не больше".
Георг III был очень властолюбив. Чтобы обеспечить себе поддержку в
парламенте, он подкупал "нужных людей", из коих возникла так называемая
"партия друзей короля".
Примечательно, что писал в декабре 1762 г. в одном из писем Георг III,
объясняя резкое обращение с министром Кавендишем: "Подобным же образом
будут поступать со всеми, кто теряет пыл служить мне"31.
Были приняты законы, шедшие вразрез с "Биллем о правах". На прессу
власти стремились воздействовать пошлинами, удорожавшими ее стоимость -
"налогами на знание".
Между тем мятеж заокеанских колоний стал самым серьезным испытанием
для монарха. 11 сентября 1774 г. король писал премьеру Норту: "Жребий бро¬
шен, колонии должны либо подчиниться, либо взять верх"32. Расчеты на прив¬
лечение других стран к интервенции против колоний не оправдались. Англия
оказалась в изоляции. 3 ноября 1775 г. Георг в послании Норту возмущался
отказом российской императрицы Екатерины П послать части своей армии против
восставших колонистов33.
Дело в том, что еще до того, как Екатерина заняла царский трон, английский
посол в Санкт-Петербурге сэр Чарлз Хэнбери-Уильямс "налаживал с ней от¬
ношения", что кончилось для него высылкой из России, когда Елизавета, терпи¬
мая ко многим вещам, решила, что сэр Чарлз преступил грань дозволенного.
Екатерина при расставании с послом всплакнула, но дала ему письменное
обещание ставить на первое место интересы Англии перед лицом общего врага -
Франции. Ранее посол сообщал своему правительству, что "контролирует" Ека¬
терину34.
При этой императрице российско-британские связи заметно расширились.
Георг П1 принимал у себя во дворе именитых визитеров из России, например, кня¬
гиню Е. Дашкову с сыном, окончившим университет в Эдинбурге. В Шотландии
была напечатана сочиненная Екатериной II "Сказка о царевиче Хлоре". А в
Москве в 1781 г. вышла книга А.А. Самборского "Описание английского земле¬
делия".
Однако не все действия Англии Екатерина II одобряла. Георг III и его ми¬
нистры были вынуждены смириться с провозглашенным российской императрицей
"вооруженным нейтралитетом" в связи с операциями Англии против мятежных
американских колоний.
3IThe Letters of King George III. London, 1968, p. 23.
32Ibid., p. 105.
33Ibid., p. 115.
^Coughlan R. Elizabeth and Catherine. New York, 1974, p. 150.
167
Военные действия шли с переменным успехом. Однажды летом 1777 г. Георг
вбежал утром в спальню своей супруги с криком: "Я побил их! Побил аме¬
риканцев!”. Но радость была преждевременной. Английские войска стали тер¬
петь сокрушительные поражения. Георг дал знать своему окружению, что по¬
думывает об отречении. Ушел, однако, со своего поста премьер Норт, послуш¬
ный воле монарха. У Георга III хватило такта, чтобы на приеме в Лондоне
первого американского посла Джона Адамса заявить: ”Я был последним в согла¬
сии на отделение колоний, но буду первым в выражении дружбы независимому
государству"35.
Еще в середине 60-х годов у Георга был приступ психического расстройства.
Тогда это было выдано за "простуду”. В 1789 г. он заболел гораздо серьезнее.
С самой дурной стороны показали себя тогда два старших сына Георга -
принц Уэльский и герцог Йоркский. Когда их больной отец метался, подобно зве¬
рю в клетке, сыновья с собутыльниками потешались над ним.
Король поправился, но продолжавшиеся выходки принца Уэльского достав¬
ляли ему и его супруге все больше беспокойства; Одной из любовниц принца -
актрисе пришлось заплатить круглую сумму, чтобы она не публиковала писем
наследника. Затем принц Уэльский увлекся респектабельной вдовой Мэри-
Энн Фицгеберт и сочетался с ней тайным браком: Мэри-Энн была католичкой, а
такие браки по акту парламента были запрещены для членов королевской семьи.
Более столетия - до 1905 г. - документы, подтверждающие их брак, хранились в
сейфах одного из банков. Прожив с женой десять лет, принц ее бросил. Ему
понадобились крупные средства для покрытия нового долга, а парламент и преж¬
де с трудом давал согласие на дотации принцу-моту. Отец дал понять сыну, что
искомые деньги будут найдены, если тот выберет себе достойную супругу. Од¬
ной из кандидаток была Каролина, дочь немецкого герцога Брауншвейг-Воль-
фенбюттельского. Георг дал согласие на брак с ней, не видя невесты. Свадьбу
сыграли в Лондоне в 1795 г. Принц явился в церковь пьяным, еле держался на
ногах, заплетающимся языком произнес обет верности36.
Вскоре у Каролины родилась дочь Шарлотта, а в январе 1796 г. принц по¬
кинул супругу, обвинив ее в неверности, но формально с ней не разведясь. Ка¬
ролина повела борьбу за свое достоинство. Она покинула Англию и поселилась в
Италии. Но и там ее преследовали агенты принца, стремясь скомпрометировать
женщину. В 1820 г., когда принц Уэльский ввиду болезни Георга III уже го¬
товился вступить на трон, он задумал добиться развода с Каролиной через суд,
собрав сфабрикованные свидетельства о ее неверности. Суд признал их недо¬
статочными.
Каролина продолжала быть по закону супругой коронованного 19 июля 1821 г.
Георга IV, хотя приглашения на церемонию она не получила. Ее попытки
попасть на коронацию в Вестминстерское аббатство успеха не имели - ее туда
не пустили. Через несколько недель она скончалась.
Георги, поглощенные своими внутренними делами, не могли, да и не пытались
играть заметную роль в событиях, преображавших европейский континент б
период Французской буржуазной революции, а затем наполеоновских войн.
Принц-регент Георг IV вел переписку с монархами других стран. В депеше из
Лондона российского посла Х.А. Ливена от 23 января 1826 г. сообщалось о
восхищении Георга IV Николаем I по случаю быстрого подавления им восстания
декабристов37.
35ЕВ, v. 10. London, 1955, р. 188.
^Hibbert Ch. George IV. London, 1972, p. 145.
37Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского министерства
иностранных дел, серия II, т. XIII. М., 1982, с. 812.
168
Разбитый физически беспорядочным образом жизни, Георг IV умер 26 июня
1830 г. На трон в возрасте 65 лет взошел третий сын Георга III Вильгельм IV
(1765-1837). Правил он семь лет, не оставив ощутимого следа в истории страны.
Почти вся его жизнь прошла на флоте. Он не дискредитировал себя распутством
и разгулом и в этом смысле явился как бы "мостиком" к правлению своей вы¬
дающейся преемницы - королевы Виктории (1819-1901).
ВИНДЗОРСКАЯ ДИНАСТИЯ. ВИКТОРИЯ
Королева Виктория и ее эпоха олицетворяют зенит могущества Англии. И
хотя ковалось оно в кузницах Шеффилда, на верфях Глазго, фабриках Бир¬
мингема, монархия, видевшая свое предназначение в обеспечении порядка внут¬
ри и великодержавности вовне, являвшая образ добропорядочной супруги и
матери, приобрела в глазах нации ореол, какого не было у большинства ее
предшественников.
В эпоху королевы Виктории британская корона засияла во всей своей красе,
очистившись от накопившейся за предыдущие полтора столетия грязи.
Виктория не стала бы королевой, будь пятеро сыновей Георга III более
расположенными к семейной жизни. Но у них либо не было детей, рожденных в
браке, либо они были неженаты. Две замужние дочери Георга III тоже были
бездетными, а остальные четверо - старыми девами. Дочь Георга IV Шарлотта
разрешилась в 1817 г. мертвым младенцем и сама тогда же скончалась. И только
у одного сына Георга IV, герцога Кента, 24 мая 1819 г. родилась дочь Виктория.
Вскоре отец умер. Матушке Виктории, кроме долгов, ничего в наследство не
досталось.
Узнав в 12 лет, что ей предстоит занять престол, Виктория воскликнула:
"Буду хорошей!".
1837-й год, когда она стала королевой, был началом развертывания в стране
массового рабочего движения - чартизма. Проведенная в 1832 г. избирательная
реформа, положив конец политической монополии земельной аристократии,
открыла путь в парламент представителям промышленного предпринима¬
тельства. 20-30-е годы XIX в. были временем невиданных страданий и бедствий
трудящихся масс.
Социальные проблемы не волновали юную королеву, хотя она с увлечением
прочла "Оливера Твиста" Диккенса. Вот составленный в 1839 г. ею то ли в
шутку, то ли в серьез перечень того, что она недолюбливала или страшилась:
"черепаховый суп, насекомые, потеря зрения, обход гостей, политики-тори"38.
После строгого режима, в котором воспитывала ее мать (ей даже не разре¬
шалось спать одной в комнате), она окунулась в суету балов и приемов. При¬
нимая в 1839 г. цесаревича Александра, будущего российского императора, со¬
вершавшего турне по Европе, она сильно им увлеклась. В дневнике она писала:
"Никогда так не веселилась. Я влюбилась в князя"39. Прощаясь, они обменялись
поцелуями. Она даже заговорила о браке с цесаревичем с премьером Мель¬
бурном и услышала в ответ, что об этом не может быть и речи. Виктория не
знала, что Александр уже решил для себя, что его сердце принадлежит Марии
Гессенской. С ней он встретился во время этого турне еще до поездки в Англию.
Виктория поначалу восстановила против себя многих в стране историей с
придворной дамой Флорой Гастингс, доведя последнюю своим бездушием до
болезни и смерти. Мало популярным был и ее брак с принцем Саксен-Кобургской
династии Альбертом в 1840 г. "Еще Один принц без гроша!" - прозвучала
^Longford Е. Victoria. London, 1964, р. 134.
39Ibid., р. 144.
169
Королева Виктория. Фото 1897 г.
реплика в парламенте. Супруг прибрал к рукам хозяйство королевского двора,
стал ближайшим советчиком Виктории. Он ужаснулся, узнав, что она суб¬
сидировала вигов во время выборов 1841 г. "Не становиться на чью-либо
сторону, а быть над партиями" - этот завет мужа Виктория не очень соблюдала.
Виктория и Альберт не выносили министра иностранных дел Генри-Джона
Пальмерстона, хотя он принадлежал к любимой партии королевы - вигам-
либералам. Внешнюю политику Виктория считала традиционной прерогативой
монархии, а Пальмерстон, несмотря на ее настояния, действовал самостоя¬
тельно.
Делавший карьеру в рядах тори Бенджамин Дизраели все более импонировал
королеве и стал в 70-х годах, когда Альберта уже не было в живых, ее главным
советником, добившись поста премьер-министра. Вига-либерала Уильяма Глад¬
стона как главу кабинета она не выносила. "Гладстон обращается с королевой,
как с государственным департаментом, а я обращаюсь с ней как с женщиной", -
говорил Дизраели40.
Смерть Альберта в декабре 1861 г. потрясла Викторию, она подумывала
даже об уходе из жизни. Королева в течение примерно 15 лет вела затвор¬
нический образ жизни. Но свою активность в государственных делах она не
снизила. После кончины супруга, тяготевшего к миролюбию в политике, Вик¬
тория стала сторонницей имперского курса. Заметно повлияла на нее в этом
смысле Крымская война с Россией.
Со второй половины 70-х годов динамичный курс Дизраели вдохнул новые
силы в торийскую партию. Этот политик-романист стал кумиром королевы и
^После смерти Альберта самым близким Виктории стал ее слуга, шотландец Джон Браун,
напивавшийся иногда до бесчувствия, но не терявший благоволения королевы. Она уединялась с ним
на несколько часов в день: он будто бы "связывал" ее в качестве спиритуалиста с покойным
супругом. В руки умершей Виктории, согласно ее завещанию, был вложен портретик мужчины и
прядь волос - но не супруга, а Джона Брауна!
170
экспансионистски настроенной буржуазии. По его рекомендации Виктория
приняла на себя титул императрицы Индии. 28 июля 1879 г. в письме к Дизраели
она писала: "Мы должны вместе с нашей империей в Индии и крупными ко¬
лониями быть постоянно готовы везде к атакам и войнам"41.
Во время русско-турецкой, войны 1877-1878 гг. королева пять раз угрожала
отречением - этим, по мнению Гладстона, самым сильным орудием монархии -
если правительство не займет более воинственной позиции в отношении России.
Дизраели был готов лишь демонстрировать военную силу, но на войну не шел.
Посылка английского флота к Дарданеллам и другие угрожающие жесты поз¬
волили ему на Берлинском конгрессе в 1878 г. нейтрализовать победы России в
войне с Турцией. Англии без выстрела достался Кипр, а еще раньше, опередив
французов с покупкой контрольного пакета акций Суэцкого канала, Дизраели
преподнес своей повелительнице эту водную артерию. Из рук Виктории после
конгресса он получил Орден подвязки и стал графом Биконсфилдом. После
поражения тори на выборах 1880 г. он удалился на покой и вскоре скончался.
Правление либералов было ненавистно королеве прежде всего из-за их лиде¬
ра Гладстона. В его архиве нашли 577 писем и 241 телеграмму от нее - и
4460 писем от него к ней. То была далеко не дружественная переписка. Вик¬
тория чуть ли не ежедневно напоминала Гладстону о своем неудовольствии, ее
выводило из себя отсутствие информации о заседаниях кабинета.
Утешительным для нее стало возвращение в 1886 г. к власти тори-консер¬
ваторов. В следующему году был пышно отмечен полувековой юбилей цар¬
ствования Виктории.
Реформы, осуществленные в Англии за годы правления Виктории, по праву
вошли в историю: избирательное право получили широкие слои населения,
выборы осуществлялись тайным голосованием, были созданы советы графств,
положившие конец архаичной системе приходов и мировых судей, учрежден
муниципальный совет Лондона, стало бесплатным начальное образование, выш¬
ли законы об охране труда женщин и детей на производстве, об ответственности
предпринимателей за увечья на предприятиях, об ограничении продолжитель¬
ности рабочей недели, об упразднении системы продажи и покупки офицерских
патентов и создании армии на территориальной основе. Это далеко не полный
перечень реформ.
В течение всей жизни Виктория выступала против социализма, была против
предоставления избирательных прав женщинам, одобряла казни в России после
убийства в 1881 г. Александра II, хотя и считала, что они не должны были
совершаться публично42.
Виктории не стало 22 января 1901 г. Завершалась англо-бурская война,
прибавившая к владениям в Африке новую территорию. За гробом Виктории
шли практические все европейские монархи, в числе которых были и будущие
противники Англии в войне 1914-1918 гг.
В последние годы жизни Викторию все более тревожил внешнеполитический
курс Германии. Кайзер Вильгельм П, внук королевы, не скрывал враждебности к
Англии. В начале 1899 г. в связи с предстоящей встречей Николая II с Виль¬
гельмом II Виктория писала российскому императору: "Я опасаюсь, что
Вильгельм может высказать что-то против нас, так же как он это делает в
отношении Вас в беседах с нами. Если это так, молю сообщить мне об этом
откровенно и конфиденциально. Очень важно, чтобы мы понималй друг друга и
чтобы этим недостойным и злонамеренным маневрам был положен конец"43.
41The Letters of Queen Victoria, Series 3, v. VI. London, 1984, p. 38.
42Queen Victoria in Her Letters and Journals. London, 1984, p. 269.
43Weintraub S. Biography of a Queen. London, 1987, p. 599.
171
К тому времени Романовы были уже довольно тесно связаны родственными
узами с семейством Виктории, и эти связи впоследствии оказали немалое воз¬
действие на ход европейской истории.
ПОЛИТИК-ЛОВЕЛАС
Старший сын Виктории Альберт (1841-1910) взошел на престол как король
Эдуард VII в 1901 г. Матери он доставлял немало хлопот, просаживая деньги в
рулетку, не прерывал, уже будучи женатым на датской принцессе Александре и
имея детей, своей длившейся не один год связи с красоткой Лилли Лэнгтри, а
затем с Алисой Кеппель, светской дамой, преданной ему, несмотря на свое за¬
мужество, до конца его дней.
Нуждаясь в деньгах, король приблизил к себе ссужавших его средствами
банковских воротил, выступавших за жесткий курс Англии в отношениях с
Германией.
Беспорядочный образ жизни этого человека не помешал ему еще в молодом
возрасте осознать реальности европейского континента, требовавшие от Англии
обеспечения себе союзников перед лицом нараставших экспансионистских на¬
строений немецких политиков.
Вскоре после коронации Эдуард VII приступил к осуществлению давно заду¬
манного замысла сблйжения с Францией. Английский историк Гордон Брук-
Шеперд считал в этом смысле визит Эдуарда в Париж весной 1903 г. "самой
важной политической миссией", предпринятой английской монархией в Совре¬
менной истории. Поездка готовилась втайне от всех, включая и деятелей Уайт¬
холла. "Более антиконституционного акта представить было бы невозможно", -
писал тот же автор44.
Когда во Франции стало известно о предстоящем прибытии Эдуарда VII,
националистские группировки начали антианглийскую кампанию. Обе державы
только что были на грани конфликта из-за колониальных территорий в Африке.
Во Франции по рукам ходила карикатура с изображением Наполеона I, гро¬
зившего кулаком Эдуарду: "Если бы я был жив!". Очутившись в Париже,
Эдуард не скупился на комплименты в адрес французов. Это действовало: на
улицах Парижа стали раздаваться возгласы "Да здравствует король!". Визит
расчистил дорогу к соглашению двух стран в 1904 г. о "Сердечном согласии".
Пять раз Эдуард был в России. В 1866 г. он упросил мать послать его туда в
связи с браком его двоюродной сестры, дочери датского короля принцессы Даг¬
мары с будущим императором Александром III. "Я хотел бы знать, - говорил он
Виктории, - что это за таинственный дом Романовых с его угрозами Британской
империи?"45. У него зрела мысль о желательности улучшения отношений с
Россией, но обсудить этот вопрос тогда в Санкт-Петербурге ему как следует не
удалось. После брачной церемонии Александра и Дагмары, в православии Ма¬
рии Федоровны, Эдуарда пригласили участвовать в охоте на волков.
В дальнейшем он пользовался любой возможностью продвинуть вперед свой
замысел. По его инициативе Александр III во время визита Эдуарда в Санкт-
Петербург в 1881 г. был награжден Орденом подвязки. Новый царь, однако, не
отвечал на английские авансы; более того, при нем отношения России с Англией
осложнились из-за Афганистана. С кончиной царя в ноябре 1894 г. уже кабинет
Розбери настаивал на поездке Эдуарда на похороны Александра III и пере¬
говорах о сотрудничестве. В тот же год наследник Виктории почтил своим
присутствием церемонию бракосочетания великого князя Николая Александ¬
^Brook-Sheperd G. Uncle of Europa. London, 1976, p. 47.
45Ibid„ p. 71.
172
ровича с принцессой Алисой Гессенской, в православии Александрой Федоров¬
ной. Впоследствии царю Николаю II было пожаловано звание адмирала бри¬
танского флота.
В июне 1908 г. британский монарх впервые ступил на российскую землю,
впрочем условно, так как встреча состоялась в гавани Ревеля. Этот визит стал
возможен в результате подписанного 31 августа 1907 г. между Россией и Анг¬
лией соглашения по Афганистану, Ирану, Тибету. В ходе визита Эдуард VII вы¬
полнил просьбу банкира Эрнста Касселя и способствовал размещению его займа
в России, а также исполнил обещание, данное Ротшильду - заступиться за ев¬
реев, подвергавшихся в России погромам.
В Берлине с беспокойством наблюдали за сближением двух стран. В начале
1909 г. Эдуард VII наконец согласился принять приглашение Вильгельма II по¬
сетить Берлин. Визит проходил в обстановке сдержанности. Лишь при прощании
с кайзером король затронул болезненный вопрос - о сокращении военно-морской
программы Германии и, не получив положительно отклика, выразил надежду на
"торжество разума"46.
Здоровье Эдуарда VII стало ухудшаться, но он крепился, работал в саду
поместья в Сандрингеме. "Какой смысл жить, если нельзя трудиться!" - заметил
он своему врачу. Все же недуги вынудили его уединиться в Букингемском двор¬
це. До последней минуты он был оживлен, курил сигару, а, узнав, что его ло¬
шадь пришла на скачках первой, сказал: "Очень рад". С этим словами король
скончался.
ПОРОДНЕНИЕ ДВУХ ДИНАСТИЙ
То, что не удалось Ивану Грозному - породниться с особой английских коро¬
левских кровей, стало реальностью для семейства Романовых в завершающие
десятилетия XIX в.
Почин положила дочь Александра II принцесса Мария. Увидев в замке гер¬
цогов Гессенских под Дармштадтом фото второго сына Виктории Альфреда,
герцога Эдинбургского, она нашла его более привлекательным, нежели кого бы
то ни было из прочившихся ей в спутники жизни немецких принцев. Дочь
королевы Виктории, супруга герцога Гессенского, Алиса, всячески способст¬
вовала такой брачной партии. 28 января 1874 г. она писала матери в Лондон:
"Душка Мария производит на всех одинаковое впечатление. Как я рада, что она
такая, как я думала и надеялась. Такая жена составит счастье Альфи (Альф¬
реда. - В.М.) и доставит радость Вам самой"47.
Свадьба состоялась в Петербурге 3 января 1874 г. после нескольких месяцев
тщетных попыток Виктории и российского императора отговорить первой -
своего сына, а последнего - дочь от этого брака. Еще не были залечены ра¬
ны Крымской войны, на горизонте маячила угроза нового конфликта Англии
с Россией из-за обострения "восточного вопроса". Пожелание Виктории ви¬
деть Марию прежде, чем будет вынесено окончательное решение - годится
ли она в жены Альфреду, Александр II счел оскорбительным. Брачная
партия расстроилась бы, не прояви Мария и Альфред решимости быть
вместе.
Вскоре после свадьбы молодожены прибыли в Лондон. На вокзале их встре¬
чала Виктория, расцеловавшая Марию. Кортеж проехал по празднично укра¬
шенным улицам. Прочтя отчет в "Таймс" об этой встрече, Алиса в письме от
46Подробнее о Вильгельме II и Англии см.: Туполев Б.М. Династия Гогенцоллернов. - Новая и
новейшая история, 1991, № 6.
47Alice. Princess of Great Britain Grand Duchess of Hesse. London, 1897, p. 231.
173
11 марта делилась с Викторией чувствами: ’’Такой теплый прием должен тро¬
нуть Марию и показать, как англичане привязаны к своей самодержце и ее
дому”48.
Алиса ошибалась насчет воздействия на Марию увиденного на английской
земле. Все было там ей не по душе: погода, пища, отношение к ней дочерей
Виктории. Те, например, не скрывали зависти, глядя на сверкавшую алмазами
тиару Марии.
Самый тягостный для Марии период на чужбине наступил во время русско-
турецкой войны 1877-1878 гг., когда Россия, как и в 1856 г., стала для Англии
"врагом номер один”. Она решила не допускать породнения своего потомства с
английским королевским семейством. Между тем ее дочери любовно относились
и к "бабушке-императрице" в Петербурге и к "бабушке-королеве" в Лон¬
доне. Муж не возражал против переезда Марии в Кобург, где заканчивал
учебу младший Альфред. Супруги часто бывали в России. Граф В.Н. Лам-
здорф, советник министерства иностранных дел России в конце XIX в., так
отзывался в своем дневнике о Марии: "Герцогиня положительно умна и с
характером; она заставила своего супруга отказаться от многих уклоне¬
ний с правильного пути и имеет хорошее влияние на государя (Александ¬
ра III. - В.Л/.)"49.
Супруг Марии скончался в 1900 г., опа умерла в 1920 г.
Следующей после нее особой, связавшей правящие династии Англии и Рос¬
сии, была внучка Виктории, дочь Алисы Гессенской Елизавета. Она родилась в
1864 г. и уже ребенком обращала на себя внимание. Со временем расцвела ее
красота. Девочкой увлекся молодой Вильгельм, будущий германский кайзер, ее
двоюродный брат.
Из-за вздорного характера Вильгельма Елизавета отвергла его ухаживания в
пользу великого князя Сергея Александровича, выгодно, как ей представлялось,
отличавшегося от большинства остальных членов царской семьи. Князь тоже
был неравнодушен к Елизавете и вскоре после убийства его отца, императора
Александра П, в 1881 г. сделал ей предложение, которое было принято. Демо¬
ническая внешность Сергея Александровича сочеталась с крутым нравом. Жену
он одаривал драгоценностями, но и был беспощаден, когда усматривал в ее
поведении что-либо ему не нравившееся. Тогда он распекал ее в присутствии
посторонних.
В 1891 г. Сергей Александрович стал генерал-губернатором Москвы. На¬
чальствовал жестко, за что и снискал популярность сторонников "железного
кулака". Елизавета была не очень внимательна к нараставшим политическим
потрясениям. Во время русско-японской войны она много сил отдавала работе в
Красном Кресте, хотя и не пренебрегала удовольствиями светской жизни.
Все изменилось с гибелью Сергея Александровича 4 февраля 1905 г. от
взорвавшейся под ним бомбы. Впоследствии дочь английского посла в Пе¬
тербурге Бьюкенена отзывалась о нем как о "реакционере, автократе, почти
тиране"50.
Находясь в конце 1905 г. в Царском селе, Елизавета с началом вооруженного
восстания в Москве, несмотря на попытки генерал-адъютанта царя Дубасова
удержать ее, поехала в Москву. "Я попросту считаю себя "подлой", оставаясь
здесь, - писала она московскому генерал-губернатору В.Ф. Джунковскому. -
Предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна,
чем сидеть тут сложа руки". Главное, что ее волновало, - это помощь, как она
48Ibid., р. 232.
49Дневник В.Н. Ламздорфа. М.-Л., 1926, с. 263.
50Buchanan М. Queen Victoria's Relations. London, 1954, p. 105.
174
писала, "несчастным жертвам восстания... Не надо бояться смерти, надо бояться
жить"51.
У Елизаветы не было ожесточения к убийце мужа - эсеру И.П. Каляеву. Она
просила царя пощадить его, но тщетно. С тех пор Елизавета резко изменила
образ жизни, стала вегетарианкой, продала на цужды милосердия часть драго¬
ценностей. В светском обществе ее больше не видели. В 1909 г. она основала в
Москве на Большой Ордынке обитель, Марфо-Мариинский монастырь, раздала
все свои наряды и украшения, спала не больше трех часов в сутки, на кровати
без матраца, ухаживала за пациентами ближайшего госпиталя.
Монастырское уединение не помешало Елизавете предвидеть агонию режима,
и в конце 1916 г., пытаясь повлиять на Николая II через свою сестру Алису -
императрицу Александру Федоровну, Елизавета посетила ее в Царском селе. Но
Алиса не пожелала даже выслушать сестру.
Весной 1917 г. Елизавету посетил шведский посланник, передавший ей письмо
Вильгельма II с предложением помощи в возвращении в Германию. Ответ ее
был краток: мое место здесь, с моими сестрами!
В мае 1918 г. поступило распоряжение о высылке Елизаветы в Екатеринбург,
но оттуда она была доставлена с некоторыми другими членами царской семьи
в Алапаевск. Там в окрестностях, на дне старой шахты, осенью 1918 г. были
найдены тела Елизаветы, великого князя Сергея Михайловича, трех сыновей
великого князя Константина Константиновича и сына великого князя Пав¬
ла Александровича. Местный священник ухитрился отправить останки Елизаве¬
ты в Китай. Там, в Шанхае, она была захоронена по православному обряду. В
1921 г. сестра Елизаветы, леди Милфорд-Хевен, перенесла ее останки в Иеру¬
салим, где они покоятся по сию пору.
Не менее необычна была участь внучки Виктории - Виктории-Мелиты,
дочери Марии и Альфреда. Не питая нежных чувств к своему первому супругу
эрцгерцогу Эрнсту Гессенскому, она была вынуждена терпеть постылый брак,
навязанный родителями, сознавая, что бабушка Виктория не простит ей развода.
Сердце Виктории-Мелиты принадлежало сыну великого князй Владимира, Ки¬
риллу, но лишь в 1905 г., когда королевы Виктории уже не было в живых, она
решилась после развода с эрцгерцогом выйти замуж за Кирилла. Шокировано
было и российское светское общество, особенно императрица Александра Федо¬
ровна, заявившая, что не потерпит присутствия Виктории-Мелиты в Петер¬
бурге. Николай П распорядился о высылке Кирилла за пределы России.
Отец Кирилла, приходившийся дядей Николаю II, пользуясь свободным до¬
ступом во дворец, ворвался в кабинет царя и потребовал отменить его решение.
"Вызовите Кирилла к себе, выбраните его как следует, но зачем же лишать его
Родины!" - возмущался Владимир. Царь был непреклонен. Великий князь сорвал
с мундира все свои награды, швырнул их на стол и выбежал из царских покоев,
хлопнув дверью.
Лишь после смерти Владимира, в 1909 г., Кирилл с женой, в православии Вик¬
торией Федоровной, был возвращен в Россию и восстановлен в правах. Викто¬
рия Федоровна стала блиётать в высшем обществе. Ее наряды, убранство особ¬
няка были предметом зависти высшей знати. Это была вершина ее жизненного
благополучения. После революции 1917 г. колесо истории отбросило ее вместе с
мужем на обочину эмигрантского прозябания.
Летом 1917 г. Виктория Федоровна с мужем бежали в Финляндию, а затем
очутились во Франции. Кирилл провозгласил себя наследником российского пре¬
стола. Во Франции в 1936 г. Виктория Федоровна нашла вечный покой. Сын
51 См. Максимова Л. Деятельность Елизаветы Федоровны на ниве милосердия. - Московский
журнал, 1991, № 2.
175
Кирилла, Владимир, до второй мировой войны работал на заводе сельскохозяй¬
ственного оборудования в Англии, после войны стал землевладельцем во
французской Бретани. Владимир Кириллович умер 21 апреля 1992 г. и был
погребен в Санкт-Петербурге в фамильной усыпальнице в Петропавловской кре¬
пости. По акту Владимира Кирилловича наследницей стала его дочь Мария Вла¬
димировна, а следовательно, ее сын от принца Вильгельма Прусского, при¬
нявшего православие и титул великого князя Михаила Павловича (с ним Ма¬
рия Владимировна ныне в разводе), Георгий является вторым в линии наследо¬
вания после матери. Что, однако, признается не всеми родственниками Рома¬
новых.
О российской императрице Александре Федоровне имеется немалая литера¬
тура. В рамках данного очерка коснемся лишь отношения королевы Виктории к
ее браку с Николаем И. Малышкой Алиса Гессенская была любимицей коро¬
левы. Виктория внимательно следила за воспитанием своей внучки после смерти
от дифтерита в 1878 г. ее матери. Тогда Алисе было всего шесть лет. 12-летнёй
девочкой она с отцом побывала в Санкт-Петербурге на свадьбе сестры Елиза¬
веты. Там и увиделась с юным великим князем Николаем Александровичем,
будущим императором Николаем II. Николай чурался новых знакомств и был
робок, но к Алисе проникся симпатией.
Достаточно почитать Дневники Николая, чтобы убедиться в силе его чувств к
Аликс, как он называл Алису. Она относилась к нему сдержаннее, тем более что
Виктория с самого начала противилась этой партии и полагала, что внучку
удастся отговорить. Николая английская монархиня считала человеком слабо¬
вольным и недалеким. Против женитьбы их сына на Алисе Гессенской высту¬
пали Александр III и его супруга, которые видели в ней "чересчур много не¬
мецкого".
Тем не менее Аликс и Николай не отказались друг от друга. В апреле 1894 г.
больной Александр III был вынужден дать согласие на этот брак сына. Изме¬
нилось отношение и Виктории к этому браку. В укреплении связей с Россией она
видела средство сдерживания все более воинственной Германии.
Весной 1894 г. в Кобурге в Германии Викторию-Мелиту выдавали замуж за
эрцгерцога Эрнста Гессенского. На свадебную церемонию прибыла Виктория.
Присутствовавшие там же Аликс и Николай предстали перед ней, держа друг
друга за руки, и объявили о том, что не могут жить друг без друга. Виктория
благословила их.
Она писала об этом: "Меня, поистине, поразило как громом услышанное, так
как, хотя я и знала, насколько Никки желал ее (Аликс. - В.М.), все же я по¬
лагала, что Аликс все еще колеблется"52.
Брачная церемония состоялась в Петербурге 14 (26) ноября 1894 г. В 1896 г.
после своей коронации в Москве Николай П с супругой нанесли визит Виктории в
ее дворце Балморал в Шотландии. У хозяйки остался неприятный осадок от
визита: ее Алиса была неузнаваема. Куда девалась ласковость, застенчивость!
Она не удостоила царственную бабку даже словом благодарности, когда та, соб¬
людая столь принятые в Англии приличия, пропустила ее в дверях вперед.
Главная же причина разочарования Виктории была в ином: Николай II про¬
явил уклончивость во время разговоров о поддержке царем действий Англии по
"усмирению" Судана, о проанглийском влиянии России на Францию.
Расчеты на сближение России и Англии, связанные с браком Николая II,
не оправдывались полностью. Сближение позиций России и Англии, как
уже говорилось, началось при сыне Виктории, Эдуарде VII, но этот про¬
цесс определили не родственные связи двух династий, а военно-полити¬
52Цит. по: Buchanan М. Op. cit., р. 98.
176
ческие и экономические интересы, проявившиеся перед первой мировой вой¬
ной.
Родственные связи династий подверглись решающему испытанию после отре¬
чения Николая II от престола в 1917 г. и не выдержали проверки в самый
критический для семьи Романовых период53.
Временное правительство России вскоре после прихода к власти поставило
перед английским кабинетом вопрос о предоставлении убежища царской семье.
Первая реакция Лондона была положительной. Осложнения, как показали уви¬
девшие свет лишь в начале 70-х годов документы из британских архивов54,
возникли, когда неожиданно для кабинета Ллойд-Джорджа, уже давшего знать
Петрограду о готовности принять Николая II и его семью, король Георг V (1865—
1936), ссылаясь на настроения британской общественности, сообщил, что не счи¬
тает целесообразным нахождение в Англии семейства Романовых55.
С конфиденциальным письмом короля премьер ознакомил весной 1917 г. лишь
нескольких членов своего кабинета. На заседании правительства он представил
дело так, будто ему принадлежала инициатива пересмотра ранее принятого ре¬
шения разрешить царскому семейству прибыть в Англию.
Большинство министров возразило премьеру: как можно брать назад уже дан¬
ное слово? У всех в памяти было, как в начале марта, сразу после отречения
Николая Александровича, Георг V телеграфировал ему: "Я всегда останусь
Твоим верным и преданным другом”56.
Все же премьер и некоторые другие деятели в правительстве, знавшие о
возражениях короля Георга V против предоставления убежища царской семье,
настояли на своем. В результате английскому послу в Петрограде Бьюкенену
были даны инструкции сообщить Временному правительству, что убежище
царской семье следует подыскивать в другой стране, например, в Испании или во
Франции.
Так был упущен один из наиболее реальных шансов на спасение царской
семьи. Другая возможность представилась в связи с переговорами большеви¬
стского правительства с Германией о Брестском мире и после его заключения.
Георг V, видимо, не ошибался, когда утверждал в письме сестре Аликс, леди
Милфорд-Хевен, от 1 сентября 1918 г., что достаточно было Вильгельму II по¬
шевелить мизинцем в защиту царской семьи и она была бы спасена. В Москве не
смогли бы отказать Берлину57.
На Западе долго не утихал спор, кто несет ответственность за оставление
Романовых на произвол судьбы: Англия или Германия? Очевидно, ответствен¬
ность за это следует разделить между Лондоном и Берлином.
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И АНГЛИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ
В течение небольшого исторического периода, измеряемого тремя десяти¬
летиями, институт британской монархии столкнулся с самым серьезным за всю
историю испытанием, за исключением разве что событий середины XVII в. Речь
идет о межвоенном периоде, когда в Европе сошли со сцены многие монархии, в
прошлом выдержавшие кризисы. И только британский престол среди ведущих
династий вышел невредимым из всех испытаний.
53См.: Александрова Т.А. Дом Романовых после 1917 г. - Новая и новейшая история, 1993, № 3,
с. 139-157.
54Summers A., Mangold Т. The File on the Tsar. London, 1976. Подробнее об отношении королевской
семьи и правительства Англии к вопросу об убежище Романовых на английской земле см.: Новая и
новейшая история, 1993, № 4, с. 213-214.
55Summers A., Mangold Т. Op. cit., р. 250.
56Ibid., р. 244.
57Ibid., р. 272.
177
Гибкость, приспособляемость к переменам английской монархии наглядно
воплотил в своей персоне младший сын Эдуарда VII, ставший в 1910 г. королем,
Георг V. Старший сын Эдуарда, герцог Кларенский, умер в 1892 г. и пока
здравствовали Виктория, а затем Эдуард VII Георг делал карьеру на флоте. В
1903 г. он стал вице-адмиралом, а еще раньше, в 1893 г., связал себя прочными
брачными узами с принцессой Викторией-Марией Текской.
Вступив на трон, Георг заметно изменил порядки при дворе. Прежнего блеска,
развлечений, культа женщин не стало. В коронационной речи он удивил многих
своей ортодоксальностью в поддержке протестантской церкви.
Английский историк Ф. Харди считает Георга V "образцовым монархом": хотя
у него имелись твердые личные убеждения по многим вопросам, он приручил
себя подчинять их обязанностям, вытекавшим из статуса конституционного мо¬
нарха58. Король последовательно руководствовался представлением о монархии
как о надпартийной силе. После отставки консервативного кабинета Стенли Бол¬
дуина он обратился к лейбористскому лидеру Рамзею Макдональду с предло¬
жением о формировании правительства. "Что подумала бы об этом Викто¬
рия!" - записал король в дневнике59. Вскоре он убедился, что лидеры
лейбористов относятся к монархии не менее уважительно, чем руководство
старых партий.
Свою задачу Георг V видел в первую очередь в обеспечении порядка при
королевском дворе. Тут проявлялись его тиранические качества, в частности в
отношении к детям: они воспитывались в страхе перед отцом.
17 июня 1917 г. Георг V провозгласил, что его династия впредь будет име¬
новаться Виндзорской, без немецких титулов.
В возникавших в стране в 20-е годы критических ситуациях Георг V дей¬
ствовал примирительно. В условиях обострения социальной напряженности в
стране он добился увеличения пособий безработным. Во время всеобщей за¬
бастовки 1926 г. убедил правительство воздержаться от крайних мер против
рабочих.
1936-й год складывался для английской монархии драматично. Став королем
после кончины Георга V, его сын, 42-летний Эдуард VIII (1894—1972), любовной
связью с замужней американкой Уоллис Симпсон трансформировал личные дела
в общенациональные.
Кабинет Болдуина был исполнен решимости не допустить женитьбы Эдуарда
Vin на Уоллис. Законодательство исключало такие браки для членов королев¬
ской семьи. У. Черчилль советовал Эдуарду и Уоллис не спешить. Коронация
Эдуарда была назначена на 1937 г. Для высшего общества было бы немысли¬
мым, если бы рядом с монархом стояла дважды разведенная женщина. Понимал
это и сам Эдуард. Болдуин напрямик сказал ему, что если он не откажется от
намерения вступить в брак с госпожей Симпсон, кабинет уйдет в отставку и
возникнет конституционный кризис.
Уоллис демонстрировала серьезность намерений в отношении Эдуарда, до¬
бившись развода со своим мужем-американцем. Это еще туже затянуло узел
противоречий. Он был разрублен решением Эдуарда отречься от престола.
Подписав 15 необходимых документов, Эдуард 10 декабря 1936 г. объявил о
своем решении по радио. Оформившие брак Уоллис и Эдуард носили титул
герцогов Виндзорских, вращались в высшем свете, писали мемуары, но все это -
вдали от Англий, где они для королевской семьи стали "персонами нон-грата".
Взошедший на престол брат Эдуарда Альберт (1895-1952), коронованный
Георгом VI, к судьбе монарха себя не готовил. Он был человеком скромным,
5*Hardy F. The Political Influence of the British Monarchy. London, 1970, p. 147.
59Ibid., p. 149.
178
Семейство Георга VI. Слева направо: его супруга Елизавета, старшая дочь - будущая королева Ели¬
завета II, вдова Георга V Виктория-Мария Текская, младшая дочь Георга VI Маргарита, Георг VI.
Фото 1936 г.
даже застенчивым, страдал от заикания. В мае 1916 г. участвовал в Ютландском
морском сражении. Затем был признан негодным к службе на флоте. Отец
послал его учиться на пилота морской авиации, чем он тяготился. Позднее была
учеба в Кембридже, изучение права, причем в этой дисциплине особое его
внимание привлекало все, связанное с полномочиями монархии. Он запомнил три
постулата британского юриста XIX в. Бэ^жета: правительство должно консуль¬
тироваться с монархией по основным вопросам, она вправе поощрять правитель¬
ство в верных его шагах и предостерегать от ошибочных.
В 1905 г. десятилетним подростком Альберт познакомился с дочерью графа
Стратфордского, Елизаветой. Спустя 18 лет состоялась их свадьба.
Уже в качестве монархов в июне 1939 г. они нанесли первый в истории визит
в США, беседовали с президентом Рузвельтом. Присутствовавший на этой
встрече канадский премьер Маккензи Кинг впоследствии свидетельствовал, что
Георг VI отзывался враждебно о Советской России. Кинг во время этой встречи
заявил, что, если Запад не достигнет договоренности с Россией, она может пойти
на соглашение с Германией.
Потрясений второй мировой войны не избежала и королевская чета. На
случай фашистского вторжения был разработан план эвакуации семьи Георга в
Канаду. Сам он намеревался оставаться на родине для участия, в случае
оккупации Англии, в движении Сопротивления. 9 сентября 1940 г. фашистская
бомба упала на Букингемский дворец. Королева записала в дневнике: "Я рада,
что нас бомбили. Теперь могу соЛспокойной совестью смотреть в глаза людям в
Ист-энде”60. Поражение консерваторов на выборах 1945 г. Георг VI воспринял
как трагедию, но вскоре неплохо поладил’ с лейбористскими лидерами, хотя
считал их шаги в национализации ключевых отраслей промышленности ошибоч¬
ными. Такую же позицию он занимал в отношении предоставления независи¬
мости Индии в 1947 г.
^Цит. по: Wheeler-Bennet J. W. George VI. - Daily Telegraph, 28,30.IX.1958.
179
Незадолго до кончины в 1952 г. Георг VI после поражения лейбористов на
выборах с радостью поручил формирование правительства У. Черчиллю. Тому
предстояло стать главным советником молодой королевы Елизаветы II, родив¬
шейся 21 апреля 1926 г.
ЕЛИЗАВЕТА II И ЕЕ СЕМЕЙСТВО
"Ее Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Королева
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее
Царств и Территорий, Глава Содружества, Защитница Веры, Самодержца Ор¬
денов Рыцарства"61. Таков полный официальный титул нынешней английской
монархини, воплощающей в себе тысячелетние традиции и современность.
Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 г. 26-летней женщиной.
Пятью годами ранее сочеталась браком с греческим принцем Филиппом, родив¬
шимся в 1921 г.62.
С ним она познакомилась во время его учебы в привилегированной школе в
Англии. 14 ноября 1948 г. у Елизаветы появился наследник Чарлз, а затем еще
трое детей: Анна, Эндрю и Эдуард.
Наследница Георга VI составила о себе благоприятное впечатление еще во
время второй мировой войны, участвуя в представительских мероприятиях
своего семейства для поддержания боевого духа нации.
Принесенная Елизаветой II клятва отстаивать конституционную форму прав¬
ления неукоснительно соблюдается. Она пожертвовала некоторыми своими тра¬
диционными прерогативами ради политической стабильности. За время ее прав¬
ления в стране не было конституционных кризисов.
Елизавета II проявляет жесткость, когда что-то задевает ее как королеву.
Известно, например, о такой ее реакции на просьбу М. Тэтчер, когда та была
премьером, заранее знать, какой туалет будет у Елизаветы на одном из прие¬
мов: "Не беспокойтесь, королева не обращает внимания, как одеты другие!"63.
Эмоциональные влтышки замечались у нее еще в детстве: во время уроков
французского языка, протестуя против строгостей учительницы, она вылила на
свои кудри склянку с чернилами.
Близкая ко двору Доротти Лэрд отмечала, что родители стремились выра¬
ботать у наследницы характер, исходя из того, что это важнее ореола короны64.
Тренировка памяти, выдержка, спортивная закалка - все это в ее воспитании
имело не меньшее значение^ чем школьная программа.
Она запомнила суматоху дней кризиса 1936 г., связанного с отречением Эдуар¬
да VIII. Тогда ей и младшей сестре Маргарите сообщили о переезде в Букин¬
гемский дворец. В нем она царствует уже более четырех десятилетий.
Каков распорядок дня королевы? Прежде всего - детальное планирование
визитов, приемов, поездок, после чего - чтение правительственных бумаг,
работа над почтовой корреспонденцией. Самый ответственный пост в ее свите -
личный секретарь королевы, связующая инстанция между ней и внешним миром.
Исполнявший в 50-60-х годах такие обязанности Майкл Адейн, чей дед, лорд
Стамфордам, служил в этом качестве у Виктории и Георга V, убедил Елизавету
чаще встречаться с журналистами, появляться - чего не было ранее - в ре
сторанах Вест-Энда, устраивать во дворце ленчи для видных представителей
различных Слоев общества.
Whitaker J. An Almanack. Londo.i, 1958, р. 216.
62Родители полагали, что Филипп не очень подходящая партия для их дочери, но Елизавета
настояла на браке с ним.
63Rose К. Kings, Queens and Courtiers. London, 1986, p. 78.
64Laird D. Queen Elizabeth the Queen Mother. London, 1966, p. 167.
180
Елизавета II и У. Черчилль. Фото 1955 г.
Десять дам следят за гардеробом, туалетами королевы. Финансами ведает
хранитель частной казны. Помимо земельных владений в Лондоне, а также на
западе страны, в Корнуолле, у королевы имеется 52 тыс. акров герцогства Лан¬
кастерского в центре Англии. Она - одна из крупнейших лендлордов.
С начала 90-х годов, когда королевское семейство стали потрясать скандалы,
общественность начала относиться критичнее к размерам средств, выделяемых
для содержания монархии. Больше всего публику раздражало то* что одна из
богатейших женщин в мире и ее семейство не платят налогов. Виктория и ее
предшественники вносили налоги исправно со своих доходов в казну.
В 1992 г. в парламенте и за его пределами множились голоса тех, кто
указывал на ненормальность такого положения. Учитывая эти настроения, коро¬
лева объявила, что она с апреля 1993 г. будет платить налоги. От налогов были
освобождены увеличенные в 1991 г. до 7,9 млн.ф.ст. ежегодные суммы, вы¬
деляемые правительством на содержание королевского двора, а также личное
состояние Елизаветы (поместья, драгоценности, картины и т.п.), размеры
которого не оглашаются. Королеве и ее близким придется платить налоги с
доходов от акций, размещенных в различных компаниях. Что касается упомя¬
нутых 7,9 млн.ф.ст., то свыше 200 тыс. идет на королевскую кухню, 180 тыс. -
на винные погреба, 63 тыс. - на прачечную, 180 тыс. - на мебель, 213 тыс. - на
приемы в саду, 138 тыс. - на канцпринадлежности, 123 тыс. - на компьютерную
службу.
Остальные расходы королевы - такие, как поездки, на почту и другие -
покрываются из специального фонда правительства, что обходится не менее чем
в 50 млн.ф.ст. в год65.
Около тысячи фирм являются поставщиками двора Ее Величества.
65Financial Times, 27.XII.1990.
181
Никто из монархов, занимавших трон раньше, так часто не бывал за пре¬
делами Англии, как Елизавета П со своим супругом. Наибольшее внимание в
этих контактах она уделяет странам и территориям Содружества наций. В
Мальборо-хауз, где находилась одна из королевских резиденций, располагается
сейчас секретариат Содружества. Формула, выработанная на лондонской конфе¬
ренции 1949 г., позволяет сохранять такое объединение, несмотря на отсутствие
у его членов общей политики. Елизавета II провозглашена в качестве главы
"свободной ассоциации независимых членов Содружества". Она председатель¬
ствует на созываемых раз в два года конференциях глав государств и пра¬
вительств Содружества, не принимая, однако, прямого участия в дискуссиях.
В своей работе "Двор в Виндзоре" историк К. Хибберт писал, что недостаток
творческого начала у Елизаветы и сильно развитое чувстве долга делают ее
идеальной для выполнения скучнейших, но необходимых обязанностей монар¬
хини66.
Длительность правления Елизаветы II становится ”опре де ленной проблемой.
"Мы обезглавливали монархов, свергали их, но никогда не отправляли на пен¬
сию", - заметил один депутат парламента - тори67. Такой порядок принимается
все меньшим числом людей в стране. С некоторых пор недовольство выражает
наследный принц Чарлз. Кроме того, широкую огласку получили факты, гово¬
рящие о том, что не все ладно в королевском семействе.
Первой возмутительницей спокойствия стала сестра Елизаветы, Маргарита,
решившая в середине 50-х годов выйти замуж за бывшего придворного Георга
VI Питера Таунсенда, разведенного со своей супругой. За кулисами были моби¬
лизованы силы во главе с премьером Антони Иденом, дабы заставить ее от¬
казаться от такого намерения. Маргарита подчинилась, но горевала недолго. В
1960 г. Она вступила в брак с Антони Армстронгом-Джонсом, фоторепортером.
На этот раз помешать ей не удалось. Стало известно, как однажды отчитала
Маргарита старшую сестру: "Вы занимайтесь своей империей, а я буду следить
за своими перчатками!"68. Брак Маргариты распался в 1978 г. - супруги ра¬
зошлись.
Не радуют королеву и дети: ни один брак ее детей, который благословили
Елизавета и Филипп, не оказался прочным.
15 лет длилось супружество Анны и Марка Филиппса, с которым она позна¬
комилась, когда тот служил рядовым в полку королевских драгунов. Отчуждение
между ними началось с рождения у Анны второго ребенка, когда стали распро¬
страняться слухи, что отец не он, а некий Питер Кросс, служивший в охране
принцессы. Именно тот явился в покои Анны навестить новорожденного.
Затем публика узнала, что у Анны появился новый друг - Тимоти Лоуренс,
флотский офицер, принятый при дворе Елизаветы II. В апреле 1992 г. принцесса
оформила развод с М. Филиппсом и 12 декабря того же года сочеталась браком с
Лоуренсом. Священник благословил их в церкви поблизости от дворца Балморал
в Шотландии, где не действует запрет англиканской церкви на повторные браки.
Церемония была закрыта для прессы и телевидения: ничего похожего на свадьбу
в 1981 г. наследника престола!
750 млн. человек в 74 странах наблюдали тогда по телевидению пышное
зрелище: церемонию бракосочетания Чарлза и Дианы под сводами собора Св.
Павла, следование их в экипаже к Букингемскому дворцу, появление на балконе
перед огромной толпой, под чьи возгласы "Поцелуйтесь!" они исполнили тре¬
буемое. Никто не ведал о том, что накануне бракосочетания Диана узнала, что
^Цит. по: Hibbert Ch. Queenship as the Queen Sees It. - Sunday Telegraph, 15.III. 1964.
67Цит. по: Pymep P. "Пожизненный срок" для королевы. - За рубежом, 1991, № 24.
Morris J. The Two Worlds of Princess Margaret. - Saturday Evening Post, 20.XI.1965.
182
Принц Чарлз и принцесса Диана. Свадебное фото 1981 г.
ее жених связан 20-летней близостью с дамой старше его - Камиллой Паркер-
Боуэлс, приходящейся по капризу судьбы внучкой Алисе Кеппель - любовнице
Эдуарда VII.
В книге журналиста Эндрю Мортона о Диане69, основанной на ее собственных
признаниях автору, рассказывалось, как потрясенная неверностью Чарлза Диана
перед свадьбой пыталась покончить самоубийством. Первая, но не последняя
попытка такого рода70.
Брак с самого начала был обречен на крушение. Чарлз не оставлял Камиллы.
К этому добавилось резкое несоответствие характеров супругов. Родившиеся у
Дианы два мальчика - Уильям (1982 г.) и Гарри (1984 г.) - не сблизили ро¬
дителей.
Обладая эффектной, привлекательной внешностью и безукоризненными мане¬
рами, представляя одну из знатных фамилий, Диана преобразилась в уверенную
в себе женщину, самую популярную, согласно опросам, среди других членов
королевской семьи.
По мнению английской прессы, она исполнена решимости отстаивать свои
права. В то время' как в ноябре 1992 г. Чарлз отмечал свое 44-летие, Диана
совершила триумфальный визит во Францию. В течение двух часов она об¬
суждала с президентом Миттераном гуманитарные и социальные вопросы. Лю¬
бое ее появление на публике в Англии собирает массу симпатизирующих ей
людей, и она умело этим пользуется. Визит во Францию показал, что она
распространяет свою активность за пределы страны, затмевая Чарлза.
Связь с Камиллой авторитета принцу Чарлзу, конечно, не прибавила. Кроме
того, многое указывает на его неудовлетворенность своим положением ввиду
Morton A. Diana. Her True Story. London, 1992.
70Цит. no: Duffy M. A Royal Star Shines on Her Own. - Time, 29.VII.1992.
183
отсутствия ближайших перспектив на занятие трона. Елизавета II в добром
здравии и от короны отказываться, судя по всему, не собирается.
Между тем принц жаждет приложения своих сил. Он - самый высоко¬
образованный из всех предшественников - хозяев Букингемского дворца. Никто
из королевской семьи, кроме него, еще не удостоивался степени бакалавра
исторических наук. В Кембридже Чарлз специализировался по антропологии, не
без успеха занимался музыкой, учась игре на виолончели. Его часто видят в
орере. Он известен и как художник-любитель. Принц служил в морской авиации,
не раз прыгал с парашютом, пилотировал истребители, плавал с аквалангом. Его
друг-горнолыжник погиб под лавиной в Альпах. Чарлз был рядом с ним, но чудом
спасся, после чего в английской прессе раздались голоса о том, что наследник не
вправе подвергать свою жизнь опасности.
Чарлз рассуждает иначе - опасность ему по душе. Однако у него есть и
другое хобби - уединение в своем поместье в сельской глуши. "Сельская жизнь,
- говорит он, - отличнейшая для души. Физический труд - благо. Чистка стойл,
помощь при рождении теленка, доение коров, починка забора - после всего этого
я возвращаюсь в город другим человеком"71.
И еще один штрих к его портрету: забота Чарлза о безработных, которую
видный деятель консервативной партии Норман Теббит объясняет тем, что
принц питает естественные симпатии к людям, лишенным работы, поскольку сам
находится в таком положении.
10 декабря 1992 г., выступая в парламенте, премьер Джон Мейджор заявил,
что Чарлз и Диана расходятся без формального развода, и без каких-либо кон¬
ституционных последствий для их нынешнего статуса. Диана сохраняет право на
то, чтобы стать королевой, когда Чарлз займет трон72.
Заявление вызвало массу толков, в том числе и среди английских правоведов.
Как королевой может быть женщина, не являющаяся фактически супругой
короля? В соответствии со своим "сепаратным статусом" Диана с детьми распо¬
лагается в Кенсингтонском дворце у Гайд-парка в Лондоне, а Чарлз - в своем
поместье Хайгроув в графстве Глостершир. Он там создал подобие "кухонного
кабинета" из своих советников. Оба иногда появляются вместе на публике, но
ведут себя как чужие. Никто в Англии не уверен, что дело не дойдет до их
формального развода с серьезными последствиями для будущего монархии.
Весной 1992 г. разошлись - также пока без формального развода - сын Ели¬
заветы Эндрю и его супруга Сара Фергюсон, женщина незнатного происхож¬
дения, независимого характера, не скрывавшая неприятия многого, связанного с
условностями протокола королевского семейства. Итак, из пщсти внуков и
внучек Елизаветы II - четверо находятся в "разбитых" семьях.
Следующий после Чарлза в линии наследования - его старший сын Уильям
Филипп Артур Луи. Затем следует младший сын Гарри и брат Чарлза принц
Эндрю - четвертый по счету в этой линии. Младший брат Чарлза Эдуард к
началу 90-х годов был не женат и прав на наследование не имел.
Брачные нелады в королевском семействе неблагоприятно сказываются на
институте монархии. Но многовековой опыт подтверждает, что британская мо¬
нархия способна и в трудных ситуациях самосохраняться. Как пойдут дела -
покажет будущее.
Отстаивание "божественных" прав и прерогатив перед лицом феодальных
владык, кончавшееся иногда гибелью самодержцев, затем, с ростом капита¬
листических отношений, ломка порядков, покоившихся на могуществе родовых
71Цит. по: Seelmann-Eggbert R. Charles, the Prince Who Tries to See the World as It Is. - Die Zeit,
6.XI.1987.
72Times, 11.XII. 1992.
184
землевладельческих собственников, позволившее короне прибегнуть к абсолю¬
тистской форме правления, что отвечало и нуждам времени, в дальнейшем -
противостояние между цеплявшейся за старые позиции монархией и притязав¬
шими на верховенство хозяевами промышленных предприятий, банков, торговых
фирм, приведшее к ограничению возможностей института монархии в той сте¬
пени, какая требовалась для. буржуазии, заинтересованной в сохранении монар¬
хии как одной из важных опор существующего строя - таков путь эволюции
находившихся на британском престоле династий.
Думается, что выживаемость монархии в Великобритании объясняется также
национальными чертами английского народа, его “воспитанностью” в духе ком¬
промиссов, социального согласия, выработанного за последние три столетия.
Для массы британцев это - прежде всего декоративный институт, позволяю¬
щий смаковать детали быта королевской семьи, церемониалов, что для рядовых
людей, живущих совсем в иной сфере, представляется чем-то похожим на живой
сюжет из волшебной сказки.
Вот почему королевский двор тщательно заботится о поддержании в не¬
прикосновенности внешних атрибутов своего величия и исключительности.
Одно из важнейших преимуществ английской монархии с точки зрения ста¬
бильности в стране - это изъятие вооруженных сил и других ключевых звеньев
государственной структуры из сферы межпартийной, политической борьбы.
Конституционно эти звенья подчинены короне, а она демонстрирует себя нейт¬
ральной государственной силой, олицетворяющей власть крупной буржуазии.
Проницательный публицист Джордж Оруэлл замечал, что при диктатуре
власть и слава концентрируются у одного человека. В Англии же, по его словам,
реальная власть находится у джентльменов в котелках, а в золоченой карете
восседает символ величия страны, и пока, делал вывод автор, "такое положение
сохраняется, появление Гитлера или Сталина в Англии исключается”73.
Понятно, что это не единственный и не самый надежный способ в сов¬
ременном мире оградить страну от тоталитаризма. Но и с данной точки зрения
история, традиции, опыт английской монархии заслуживают глубокого и вни¬
мательного изучения.
73The Collected Essayes, Journalism and Letters of George Orwell. 1943-1945. New York, 1968, p. 84.
185
Портеты историков
© 1993 г.
Л.И. ГИНЦБЕРГ
АКАДЕМИК
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ХВОСТОВ
(1905-1972)
Все, кому довелось повстречаться с этим человеком, наверняка запомнили его
внешний облик: высокую прямую (и в немолодые годы) фигуру, неулыбчивый,
даже суровый взгляд. В этом облике, несомненно, было что-то аристократи¬
ческое, шедшее от известного дворянского рода, который дал России и госу¬
дарственных деятелей, и выдающихся ученых. К последним принадлежат и отец
Владимира Михайловича - профессор М.М. Хвостов, один из крупнейших знато¬
ков античной истории. Его перу принадлежат также труды по другим разделам
истории. Старший брат отца, Вениамин Михайлович, был не только крупнейшим
в России специалистом по римскому праву, но и автором большого количества
книг по юриспруденции в целом, эстетике, методологии истории и другим гума¬
нитарным дисциплинам. В начале века отец преподавал в Казанском универ¬
ситете, и в Казани В.М. Хвостов, родившийся в 1905 г., получил первоначальное
историческое образование. Владимиру Михайловичу исполнилось 15 лет, когда
он лишился отца, и лишь благодаря самоотверженности матери - Лидии Алек¬
сандровны, которая тоже была преподавателем, человека большой культуры и
высоких нравственных принципов, он сумел в те трудные годы завершить
образование - Закончил Казанский пединститут. Затем он уехал в Москву и в
1926-1929 гг. учился в аспирантуре Института истории Российской ассоциации
научно-исследовательских институтов (РАНИОН). В семинаре крупнейшего в ту
пору специалиста международных отношений конца XIX - начала XX в.
П.Ф. Преображенского определился круг преимущественных научных интересов
молодого ученого: внешнеполитические противоречия великих держав, привед¬
шие к первой мировой войне, и в особенности курс кайзеровской Германии,
развязавшей войну, в предшествовавшие этому десятилетия. Данной проблема¬
тике В.М. Хвостов остался верен на протяжении всего своего творческого пути1.
^.М. Хвостову и его вкладу в историческую науку посвящен ряд работ: Алыпман В.В.
Академик В.М. Хвостов. - История и историки. М., 1966; Поспелов П.Н., Сказкин СД., Остоя -
Овсяный ИД. Академик Владимир Михайлович Хвостов. - Новая и новейшая история, 1970, № 5;
Манфред А.З., Поляков ЮЛ. Крупнейший советский историк Владимир Михайлович Хвостов. -
История СССР, 1972, № 4; Нарочницкий АЛ. Жизненный путь и научная деятельность академика
В.М. Хвостова. - Вопросы истории, 1975, № 12; Вопросы истории внешней политики СССР и
международных отношений. Сборник статей памяти академика Владимира Михайловича Хвостова.
М., 1976; Нарочницкий АЛ., Вознесенский ВД. Академик В.М. Хвостов - ученый, организатор
науки, общественный деятель. - Новая и новейшая история, 1985, № 5; Поляков Ю.А. Штрихи
портрета ученого (о Владимире Михайловиче Хвостове). - Там же^ № 6, и др. Библиографию
научных трудов и статей В.М. Хвостова см. в кн.: Хвостов В.М. Проблемы истории внешней
политики России и международных отношений в конце XIX - начале XX в. Избранные труды. М.,
1977.
186
Уже в аспирантской работе "Конец русско-германского союза (1890)"
В.М. Хвостов обнаружил прекрасное знание предмета; об этом свидетельствовал
отзыв официального оппонента С.Д. Сказкина (будущего академика), работав¬
шего в то время над книгой о распаде Тройственного союза Австро-Венгрии,
Германии и России. А в год окончания В.М. Хвостовым аспирантуры появилась
его первая крупная научная работа - "Ближневосточный кризис 1895-1897 гг.",
посвященная вопросу, до того почти не затронутому ни в отечественной, ни в
зарубежной историографии. В 1930 г. он опубликовал следующую статью, также
посвященную борьбе великих держав за преобладание в Средиземноморском
регионе, - "Проблемы захвата Босфора в 90-х годах XIX в." Тогда историческая
наука еще не подвергалась тотальной идеологизации, которую принесло с собой
опубликованное в 1931 г. письмо Сталина в редакцию журнала "Пролетарская
революция". В упомянутой работе Хвостов еще мог откровенно анализировать
планы царизма, имевшие целью овладение Босфором. Более того, даже в 1933 г.
В.М. Хвостову удалось напечатать статью "Царское правительство о проблеме
проливов в 1898-1911 гг." Но на этом разработка данной темы в отечественной
историографии практически прекратилось: наступили другие времена, не
благоприятствовавшие изучению захватнических замыслов царизма.
Последняя из названных работ была опубликована в журнале "Красный ар¬
хив" - интереснейшем издании 20-30-х годов, помещавшем на своих страницах
как документы, так и исследования. Сотрудничество Хвостова с этим журналом
началось в 1931 г. и касалось преимущественно проблем ближневосточной по¬
литики великих держав и борьбы за черноморские Проливы. Первой в этом ряду
была публикация записки российского дипломата А.И. Нелидова, относящейся к
1882 г., о занятии Проливов. Другая, появившаяся в том же году, касалась
аналогичного проекта, который был составлен в 1896 г. В 1932 г. на страницах
"Красного архива" он поместил письмо А.П. Моренгейма о французской поли¬
тике на Ближнем Востоке. Все эти документы предварялись предисловиями
В.М. Хвостова. В уже упоминавшейся статье 1933 г., завершавшей всю серию,
187
прослеживалась эволюция взглядов царского правительства на проблему Про¬
ливов после 1898 г.
В дальнейшем интересы ученого, оставаясь в тех же хронологических рамках,
сосредоточились на внешней политике Германии с конца 70-х годов XIX в. -
дальней предыстории первой мировой войны. Такова была, например, публи¬
кация "П.А. Шувалов о Берлинском конгрессе 1878 г.”, основанная на архивных
материалах, она давала яркое представление о событии, знаменовавшем первый
серьезный кризис в русско-германских отношениях, который Бисмарк сумел на
время приглушить, но последствия которого уже не удалось ликвидировать. А
следующим звеном в разработке данной проблематики явилась в 1934 г. статья
"Кризис внешней политики Бисмарка". Эта работа во многом не утратила своего
значения и по сей день благодаря глубине анализа не только внешнеполи¬
тических факторов, но и процессов внутренней жизни; последние, как показал
автор, в конечном счете и определили кризис внешней политики кайзеровской
Германии конца 80-х годов и существенные сдвиги в ней после отставки
Бисмарка.
В те годы В.М. Хвостов интенсивно работал над докторской диссертацией,
где ставились упомянутые проблемы. Он тщательно следил за зарубежной ли¬
тературой, некоторые из изданий, наиболее значительные, рецензировал. Тако¬
вы, например, отзывы на широко известный двухтомный труд американского
историка С. Фея "Происхождение мировой войны" и на четырехтомные воспо¬
минания бывшего канцлера Германской империи В. Бюлова, позднее изданные в
сокращенном виде в русском переводе. К этой книге В.М. Хвостов написал
обширное предисловие, которое имело важное значение для выработки адек¬
ватного представления о различных этапах подготовки Германии к первой
мировой войне.
Изыскания Хвостова в этой области были начаты во второй половине 20-х
годов, и непосредственным толчком к ним послужила дискуссия в зарубежной
историографии первой мировой войны между исследователями стран Антанты, с
одной стороны, и Германии, а также Австрии - с другой, по вопросу об от¬
ветственности за ее развязывание. Время, однако, шло, и стимулы для занятия
этой проблематикой изменились. Они перестали быть чисто историографи¬
ческими и приобрели очень серьезный сущностный характер. Причиной был
приход Гитлера к власти.
Агрессивный курс нацистских правителей Германии, очевидная подготовка
ими новой мировой войны побудили отечественных историков более пристально
анализировать недавнее прошлое, тщательнее изучать корни процессов и яв¬
лений, происходивших в 30-е годы, точнее определить социальные силы, кото¬
рые и в начале века, и с приходом фашистов к власти толкали Германию на
кровопролитную борьбу за превосходство в Европе, за мировое господство. Для
В.М. Хвостова, как и для других ученый, разрабатывавших историю Германии в
новое и новейшее время, это был не только научный, но и гражданский долг, ибо
германский фашизм представлял смертельную угрозу всем независимым странам,
в частности СССР, который Гитлер еще на заре своей политической карьеры
объявил важнейшим объектом германской экспансии.
Была и другая причина глубже осмыслить исторический путь Германии после
ее объединения, отмеченный растущим влиянием экспансионистских кругов на
политику страны. То была проходившая в 30-х годах критика исторической кон¬
цепции М.Н. Покровского, во многом диктовавшейся вульгарно-социологичес¬
кими представлениями об историческом процессе. Серьезнейшей ошибкой По¬
кровского в его представлениях о причинах первой мировой войны была не¬
дооценка агрессивности Германии. Это не могло не исказить всю картину, ибо
если верно, что войну готовили все крупные державы, вступившее в нее в
188
августе 1914 г., то историческая ответственность правителей Германии (об этом
уже тогда, а также позднее писали германские исследователи) весомее, чем вина
правящих кругов Англии, Франции, России: именно Германия отвергла все
попытки уладить возникший после убийства австрийского эрцгерцога конфликт
мирными средствами и толкнула Австро-Венгрию на войну с Россией, что сразу
же превратило ее в мировую. Хвостов, не участвуя лично в кампании против
Покровского, развернувшейся по сигналу свыше, видел свою задачу в том, что¬
бы собственными исследованиями воссоздать подлинную картину событий конца
XIX - начала XX в., которая убедительно противостояла бы искаженной их
версии в трудах Покровского.
Важным событием в развитии В.М. Хвостова как ученого была защита им в
1938 г. докторской диссертации на тему "Последние годы канцлерства Бисмарка
(очерки внешней политики германского империализма)". Это - многоплановое
исследование, в котором предметом анализа послужил не только международно¬
политический курс Германии с середины 80-х годов до канцлерства преемника
Бисмарка - Каприви включительно, но и взаимоотношения других европейских
держав в те годы. В.М. Хвостов раскрыл внешнеполитические цели Бисмарка,
постоянно стремившегося ослабить Францию и при первой же возможности вновь
разгромить ее, но не сумевшего сделать это из-за позиции России, не заинте¬
ресованной в столь резком изменении соотношения сил держав и новом стре¬
мительном усилении Германии. Вместе с тем автор на основании архивных
источников, документов многотомной немецкой публикации "Политика евро¬
пейских кабинетов в 1871-1914 гг." и других материалов показал, что Бис¬
марк даже во время обострения отношений с Россией не допускал возможности
войны с нею, ибо для Германии это неминуемо означало бы войну на два
фронта, по мнению "железного канцлера", гибельную для страны. Этим прежде
всего он отличался от своих преемников, которые под .нажймом
экспансионистских кругов утратили здравый смысл и переоценили возможности
Германии.
В диссертации В.М. Хвостова была раскрыта связь внешнеполитических ак¬
ций Германии, в частности расширения колониальных захватов, с упорной
борьбой господствующих классов против рабочего движения. Будучи перво¬
классным знатоком ближневосточных проблем, автор подробно исследовал их
место в системе международных отношений того времени, четко выяснив стрем¬
ление Германии использовать интерес царской России к Ближнему Востоку,
чтобы отвлечь ее от европейских дел, прежде всего от ситуаций во франко¬
германских отношениях.
Ко времени защиты диссертации Хвостов уже являлся научным сотрудником
Института истории АН СССР, созданного в 1936 г. и возглавлявшегося 'ака¬
демиком Н.М. Лукиным. Он вел преподавательскую деятельность - читал лек¬
ции и руководил специализацией студентов сначала в периферийных институтах,
а затем в вузах Москвы, в частности в Институте истории, философии и ли¬
тературы. Во второй половине 30-х годов Хвостов стал преподавать в Мос¬
ковском университете и в 1939 г. получил звание профессора. Его лекции
отличались не только богатым содержанием, но и законченностью формы.
Аудитории особенно импонировало, что он не пользовался записями, и слушать
В.М. Хвостова обычно приходили студенты не только того курса, которому
лекции предназначались, но и других.
Профессором МГУ В.М. Хвостов оставался до конца жизни, воспитав много
историков и подготовив не один десяток кандидатов и докторов наук. Его
ученики, к числу которых принадлежит и автор этих строк, занимались историей
Германии, международными отношениями нового и новейшего времени, внешней
политикой СССР, а также царской России. Исследовательские интересы Хвосто¬
189
ва непосредственно касались России; неслучайно он являлся автором главы о
внешней политике России 1879-1894 гт. во втором томе вузовского учебника по
истории СССР. Обширный очерк на эту же тему в четыре с половиной печатных
листа, практически целиком основанный на архивных документах, при жизни
ученого опубликован не был и впервые появился лишь в 1977 г. в его ’’Избран¬
ных трудах".
Как многолетний преподаватель высших учебных заведений Хвостов лучше
других ощущал неблагополучие, сложившееся в историческом образовании в
связи с отсутствием полноценных учебников по различным периодам прошлого.
Существовавший разнобой в учебных пособиях для исторических факультетов,
засилье в них вульгарно-социологических схем вместо последовательного изло¬
жения важнейших и притом достоверных фактов, на основе которых только и
можно выявить и проследить тенденции происходивших в обществе процессов, -
все это было серьезной помехой для исторического образования. Хвостов стал
активным участником создания учебника для вузов по новой истории, периода,
который он разрабатывал и как исследователь. Работа эта шла параллельно с
окончанием докторской диссертации (учебник вышел в свет в 1939 г.). Перу
Хвостова принадлежали 11 глав из 30, а если учесть и объем созданного им -
15 печатных листов из 38, - становится ясно, что он являлся душой всего
предприятия. К тому же В.М. Хвостов вместе с Е.В. Тарле, А.В. Ефимовым и
Ф.И. Нотовичем был редактором книги.
Написанные им главы отличаются большим географическим диапазоном и
широтой охвата проблем: здесь, естественно, и международные отношения
соответственно 1870-1900 и 1900-1914 гг., и вопросы экономического развития
мира, и раздел, посвященный итогам социально-политического прогресса Запад¬
ной Европы и США этих десятилетий, главы по истории великих держав и ряда
малых стран. Хорошо помнится, с каким удовлетворением мы, тогдашние сту¬
денты, брали в руки эти книги в необычно добротных твердых зеленых пере¬
плетах и радовались логичности и богатству изложения.
Конечно, и на этих работах Хвостова сказались идеологические императивы
того времени, но можно с уверенностью сказать, что здесь они были сравни¬
тельно минимальными. Следует учесть, что учебник новой истории готовился в
то время, когда прогрессивные круги всего мира, и в первых их рядах народы
Советского Союза, выступали против агрессивных действий германского фашиз¬
ма и его союзников; вспомним хотя бы эпопею защиты Испанской республики.
Это заставляло и в историческом преподавании, особенно если речь шла о
недавнем прошлом зарубежных стран, прежде всего Германии, в большей мере
придерживаться исторической истины, которая могла помочь ориентироваться в
современной ситуации. В дальнейшем, к сожалению, оставаться на таком уровне
удавалось не часто.
Вслед за учебником перед В.М. Хвостовым встала еще более сложная задача:
он стал участником коллектива ученых, которым предстояло создать трехтом¬
ную "Историю дипломатии". В число авторов этого издания входили виднейшие
советские ученые, академики (или будущие академики) Е.В. Тарле, В.С. Сер¬
геев, С.Д. Сказкин, И.И. Минц, А.М. Панкратова, А.Л. Нарочницкий и др.
Среди них В.М. Хвостов занял достойное место и nę объему написанных им
разделов, и по уровню изложения. Если в первом томе он выступал как автор
лишь одной главы (о международных отношениях в Европе накануне и во время
франко-прусской войны 1870-1871 гг.), то второй том, хронологические рамки
которого охватывали 1871-1919 гг., был написан, за исключением одной главы,
Хвостовым. Хотя период в общем совпадал с рассматриваемым в учебнике по.
новой истории, о котором шла речь выше, различие в содержании обеих книг
было очень велико. Если в первой внешнеполитические проблемы и дипломатия
190
занимали подчиненное место, то во второй они являлись главным (но не един¬
ственным) предметом изложения.
"История дипломатии" должна была быть написана так, чтобы завоевать у
читателей популярность. Этой цели главы Хвостова отвечали вполне. Одним из
способов, при помощи которых он достигал этого, были живые портретные
характеристики дипломатов и других политических деятелей того времени.
Среди них, конечно, речь шла прежде всего о таких исторических фигурах, как
Бисмарк, Вильгельм П, Бюлов (о нем В.М. Хвостов уже писал во вступительной
статье к русскому переводу мемуаров Бюлова), Бетман-Гольвег, Пуанкаре,
Клемансо, Солсбери, Ллойд Джордж, Горчаков, Ламздорф, Извольский и др.
Описывая действующих лиц событий конца XIX - начала XX в., автор давал
представление не только об их "служебных достоинствах", но и о человеческих
качествах, которые влияли на их профессиональную деятельность: это всегда
обогащает изложение, делая его более красочным, выпуклым. Создатели "Исто¬
рии дипломатии", и в их числе В.М. Хвостов, были удостоены Государственных
премий в 1941 г. за первый, в 1945 г. - за второй и третий тома.
Между этими двумя датами пролегла Великая Отечественная война - тяже¬
лейшее испытание для народов, населявших Советский Союз. Хвостов, ставший
офицером вооруженных сил, отдавал все свои знания и умение делу победы над
германским фашизмом. Он выполнял разные задания, связанные с разоблачением
нацистской идеологии и захватнических планов гитлеровской Германии в от¬
ношении СССР, информацией широких кругов общественности о предыстории
этих экспансионистских замыслов, восходившей ко времени подготовки и про¬
ведения первой мировой войны, когда германский империализм впервые в таком
масштабе Попытался осуществить программу подчинения европейских стран
своему диктату. В годы войны из печати вышел ряд работ Хвостова, в которых
экскурсы в историю Германии излагались максимально популярно. Таковы были
брошюры "Как германские империалисты уже "напобеждались" однажды до
собственной гибели", "Как развивался германский империализм (исторический
очерк)" и др. Основная цель этих работ хорошо сформулирована в названии
первой из них: показать, что военная машина Германии, как она ни была сильна,
уже дала в прошлом роковую осечку, когда ей пришлось действовать против
коалиции превосходящих по силе противников; это должно было вселить в
читателей веру в возможность и теперь справиться с натиском германо-
фашистсиих полчищ, опираясь и на свои силы, и на объединенные усилия тех же
союзников, что были у России в первой мировой войне.
Но этим патриотическая деятельность Хвостова в годы войны не огра¬
ничивалась. Он получал также задания от Военно-исторической комиссии Ге¬
нерального штаба: его перу принадлежит, в частности, очерк "Разгром немцев
под Ростовом в 1941 г." В этой работе Хвостов предстал в новом качестве, ибо
речь щла в цей не столько об историческом, сколько о военном сюжете -
тактическом и оперативном искусстве советского командования и личного
состава подразделения Красной Армии. В военные годы ученый выступал с до¬
кладами и лекциями в частях и соединениях, стремясь при помощи исторических
документов укрепить патриотический дух бойцов.
После победного окончания войны в жизни Хвостова наступил новый этап: в
ней все большее место стала занимать организация науки, прежде всего ис¬
торической, и административная деятельность. В одной из биографических работ
о В.М. Хвостове говорилось, что эти занятия не мешали его научному твор¬
честву. Это заблуждение. И дело не только в том, что они отнимали большую
часть его времени и пришлись на наиболее зрелую для каждого ученого пору.
Еще более неблагоприятным было то обстоятельство, что Хвостову довелось
быть администратором в очень недобрые времена, когда тоталитарный строй
121
подавлял малейшие ростки свободной мысли в науке, особенно в общественной.
Тот, кто стоял у руководства научными учреждениями, вынужден был (конечно,
в разной степени) мириться с засильем со стороны партийных инстанций вплоть
до райкомов КПСС, а подчас с прямым произволом, творившимся на его глазах.
Автор этих строк во время пресловутой борьбы с "космополитизмом" присут¬
ствовал на собрании в Академии общественных наук при ЦК КПСС, на котором
Хвостов в качестве заведующего кафедрой международных отношений в
большом смущении - чувствовалось, что эта процедура глубоко претит ему, -
"каялся" в несуществующих грехах - либерализме по отношению к "кос¬
мополитам".
Может быть, такое публичное самобичевание было единичным, но очевидно,
что закулисные "проработки" в высоких инстанциях со стороны полуневе-
жественных партийных функционеров были нередки - и не только до 1956 г., но
и позже, ибо борьба за "чистоту" марксистско-ленинской идеологии велась
перманентно, а материал для все нового усиления этой борьбы имелся всегда.
На исполнение директив, на реализацию догматических идей "отца народов", а
позднее - тех, кто заменил его, и их приближенных, уходила масса времени и
энергии, которые можно было продуктивно использовать в интересах подлинной
науки.
В 1945 г. Хвостов начал работать в министерстве иностранных дел. Он
возглавил Высшую дипломатическую школу, а позднее стал начальником Ис¬
торико-архивного управления и являлся членом коллегии МИД. Безусловно, это
было близко к его научным интересам, но Хвостов все более переходил к
международным отношениям и внешнеполитическим проблемам новейшего
времени, где все вращалось вокруг СССР. Такова, была, например, работа над
известной справкой "Фальсификаторы истории" (1948 г.), в которой, как в свое
время отмечал Нарочницкий, Хвостов принимал активное участие. Далее по¬
следовали многочисленные журнальные и газетные статьи, разъяснявшие и
обосновывавшие на историческом материале те или иные внешнеполитические
акции советского правительства. Акции эти были разные, некоторые дикто¬
вались стремлением сохранить мир, другие явно противоречили этой цели, но в
такого рода статьях не было никаких "отклонений" от привычной апологетики -
таковые были абсолютно исключены.
Но, к счастью, Хвостов не прекращал разработки своей традиционной
проблематики. Его нечастые публикации второй половины 40-50-х годов были
связаны с темой докторской диссертации, но в то же время представляли собой
вполне самостоятельные работы. Среди них статья "Россия й германская аг¬
рессия в дни европейского кризиса 1887 г. (к предыстории франко-русского
союза)", появившаяся в 1946 г. "Военная тревога" 1887 г., когда угроза ев¬
ропейской войны была предотвращена прежде всего благодаря твердой про-
французской позиции России, в отечественной историографии еще не подвер¬
галась до того детальному изучению. Хвостов обстоятельно проанализировал
общеевропейскую ситуацию второй половины 80-х годов, причины пере¬
ориентации России от дружественных отношений с Германией (при наличии,
однако, "договора перестраховки" с нею) на сближение с Францией и показал,
что решающим фактором, определившим это, были экспансионистские уст¬
ремления правящих кругов кайзеровской Германии.
Эта работа имела продолжение в докладе "Франко-русский союз и его
историческое значение", сделанном В.М. Хвостовым на Международном
конгрессе исторических наук в Риме (1955 г.) и опубликованном отдельным
изданием. Охарактеризовав общественные силы в обеих странах, заинтере¬
сованные в заключении союза, и обстоятельства, в которых он был подписан,
автор провел параллель между союзным договором 1893 г. и франко-советскими
192
договорами 1935 и 1944 гг.; при всем различии конкретных ситуаций конца XIX в.
и 30-40-х годов XX в. и с учетом того, что место царской России занял
Советский Союз, все три соглашения, по мнению Хвостова, объединяла общая
предпосылка - необходимость предотвратить германскую агрессию или сов¬
местными усилиями отразить ее, если избежать военного столкновения не
удается. Хвостова как исследователя истории Германии всегда интересовал и
другой аспект, связанный с пресловутым "Дранг нах остен” - упорным стрем¬
лением Пруссии-Германии колонизовать обширные славянские территории. Эту
проблему Хвостов подверг детальному анализу в работе "Германская агрессия на
Восток, ее история и идеологические корни", опубликованной в 1961 г. в журнале
"Новая и новейшая история".
Когда эта статья вышла в свет, В.М. Хвостов, являвшийся с 1953 г. членом-
корреспондентом Академии наук СССР, находился уже в новой должности - в
1959 г. он был назначен директором Института истории АН СССР, в котором
почти за четверть века до того делал первые шаги как исследователь. На наш
взгляд, годы, когда Хвостов находился во главе института, объединявшего
сотрудников по отечественной истории и специалистов по всеобщей истории,
были наиболее плодотворными в его деятельности. Ученые, занимавшиеся
разработкой истории России и СССР, и исследователи, изучавшие процессы
развития других стран и континентов, не были разобщены, как сейчас, что
умножало возможности их творческого общения и сотрудничества, благодаря
этому существенно обогащались исследования того и другого круга проблем,
облегчались работы сравнительного характера.
В годы, когда Хвостов являлся директором Института истории, автор данного
очерка был научным сотрудником этого учреждения, и имел возможность
оценить Владимира Михайловича в его новом качестве на основании соб¬
ственных наблюдений и встреч с ним. Хвостов, хорошо понимая огромное
значение правильной организации научного труда, постоянно стремился именно
так поставить всю работу в институте. Очень ценил в своих сотрудниках
чувство ответственности за порученное дело; к людям, лишенным этого чувства,
относился неприязненно. То же касалось и такого качества, как обязательность;
его отсутствия у подчиненных не терпел. Не одобрял многоречивости: член-
корреспондент РАН Ю.А. Поляков, часто наблюдавший В.М. Хвостова во
время заседаний Ученого совета и дирекции, собраний, которыми он руководил,
вспоминал, что таких ораторов он не прерывал, но после выступления мог
отпустить ироническую реплику, что к числу достоинств выслушанной речи
краткость, увы, не принадлежит2. Внешне чаще всего был строг и даже сух, но
это далеко не всегда. В памяти сохранились его приход вечером, после работы в
сектор новой истории, где отмечался юбилей его землячки и однокашника
Р.А. Авербух, и разговор о совместных годах учебы в Казани. Совсем другое
воспоминание о тех, уже давних годах: торжественное заседание в институте по
случаю 20-летия победы СССР в Отечественной войне 1941-1945 гг. В пре¬
зидиуме - В.М. Хвостов и маршал Г.К. Жуков; хорошо видно, что Влади¬
мир Михайлович хотя и горд таким соседством, не чувствует себя приниженно:
ведь его значение в исторической науке было, наверняка, не меньшим, чем мар-
щала в армии.
Одним из достоинств В.М. Хвостова как организатора науки было умение
создавать и сплачивать наиболее квалифицированных специалистов для работы
над коллективными трудами (а в те времена им отдавалось предпочтение). Он не
только создавал те или иные коллективы, но и внимательно следил за тем, как
движется подготовка соответствующих книг. Автор этих строк в течение не-
2Поляков Ю.А. Указ, соч., с. 109.
7 Новая и новейшая история, № 6
193
скольких лет занимался под непосредственным руководством Хвостова подго¬
товкой двухтомной истории Германии. Работа началась в 1965 г., и В.М. Хвос¬
тов, выступивший вместе с А.С. Ерусалимским инициатором проекта, поручил
его реализацию последнему. Однако Ерусалимский в том же году внезапно
скончался, и Хвостов взял на себя это дело. До своего ухода из института он
постоянно был в курсе того, как идет работа, курировал и ее научную, и органи¬
зационную стороны.
У Хвостова были свои симпатии и антипатии, одни люди были близки ему и
как ученые, и как личности, другие чужды. Помнится, что, когда речь зашла о
возможном авторе главы о раннебуржуазной революции в Германии, он отверг
кандидатуру Б.Ф. Поршнева (примерно в то же время не без благословения
Хвостова произошла смена заведующего сектором новой истории: вместо Порш¬
нева им стал А.З. Манфред). Хвостов внес много ценного в подготовку двух¬
томника по истории Германии, и было по меньшей мере странно, когда при новом
руководстве (теперь уже Института всеобщей истории, директором которого
стал Е.М. Жуков) его имя напрочь исчезло с титульного листа книги, а она сама
была переименована в "Германскую историю в новое и новейшее время", ибо,
как в дирекции объяснили составителям, единой Германии нет и не будет.
В 1963 г. вышел из печати главный научный труд Хвостова - новое издание
второго тома "Истории дипломатии". Можно только удивляться тому, как он
сумел создать этот огромный - 58 печатных листов! - труд, будучи так загружен
каждодневной работой в институте и многими другими обязанностями. Здесь-то и
сыграли свою роль предельная собранность, деловитость во всем, умение пра¬
вильно построить свой рабочий день и другие качества, столь необходимые
каждому ученому и в высшей степени присущие Хвостову.
Новое издание второго тома "Истории дипломатии" было хронологически
несколько ^же, ибо главу о первой мировой войне перенесли в третий том, но
при этом размеры книги не сократились, а наоборот, увеличились более, чем в
два с половиной раза; ее единоличным автором являлся Хвостов. Рецензенты
отмечали, что практически речь идет о новом труде, настолько были расширены
его географические рамки и тематический охват событий 1870-1914 гг. Помимо
Европы и Африки, которыми преимущественно ограничивалось изложение в
первом издании, во втором много внимания уделено роли Китая, Ирана, Аф¬
ганистана и Турции, стран Латинской Америки, а также Филиппин, ставших
объектами экспансии США. В результате значительно вырос объем материала,
которым оперировал автор. Источниками послужили как архивные документы и
базирующиеся на них собственные исследования, так и данные, почерпнутые в
многочисленных советских и зарубежных публикациях, знакомство с которыми
было неожиданностью для тех, кто представлял себе, каких усилий это стоило
автору.
Хотя книга Хвостова озаглавлена "История дипломатии", по своему содер¬
жанию она далеко выходит за эти формальные рамки. На деле речь идет об
истории международных отношений целой эпохи, которая в марксистско-ле¬
нинской терминологии именовалась эпохой перехода от домонополистического
капитализма к империализму; но если даже не придерживаться такой терми¬
нологии, то значение этого неполного полустолетия в истории международной
политики не уменьшится, ибо как раз в те десятилетия карта мира в результате
крупнейших колониальных захватов коренным образом изменилась, а борьба
вокруг этих завоеваний за "место под солнцем" приобрела еще невиданные до
того масштабы и остроту, что и привело к мировой войне.
Автор сумел детально разобраться в хитросплетениях международной поли¬
тики, не ограничиваясь процессами, происходившими на поверхности и легко
обнаруживаемыми, но добираясь до скрытых экономических и социальных пру¬
194
жин. Без внимания Хвостова не остался ни один узел противоречий великих
держав. Это прежде всего борьба за раздел и передел Африки, соперничество
держав из-за господства на Среднем и Ближнем Востоке, за преобладание на
Балканах. В книге подробно раскрыта динамика обострения этих и других проти¬
воречий, прослежены отдельные фазы, через которые прошла борьба стран
Антанты и государств Тройственного союза на путях к войне. Но еще в большей
степени, чем в первом издании, автор не склонен был превращать историю в
набор социологических формул, он строил изложение преимущественно на дейст¬
виях тех или иных личностей с присущими им человеческими свойствами.
Новым важным моментом, отличавшим второе издание, был анализ влияния
парламентов на дипломатию; значительно шире учитывалось воздействие на нее
национально-освободительных движений. В этом смысле наибольший интерес
представляет характеристика влияния на международные отношения серии ре¬
волюций начала XX в., прежде всего в России, а также в Китае, Турции, Иране.
Подробно рассмотрена роль внешнеполитических ведомств великих держав в
акциях по удушению массовых выступлений, наглядным примером чего была
дипломатическая активность этих держав в период подготовки иностранной
интервенции в Китае в ответ на восстание иэтуаней и в ходе ее. То же касается
вооруженного вмешательства России и Англии в события в Иране и т.п.
Своей книгой Хвостов подвел итог исследованиям отечественных ученых в
области международных отношений конца XIX - начала XX в. В этой области
работали такие видные историки, как С.Д. Сказкин, А.С. Ерусалимский,
Ф.А. Ротштейн, А.З. Манфред и другие, и ими было сделано немало, в част¬
ности в изучении места России в борьбе великих держав. Этот аспект занял одно
из центральных мест и в труде Хвостова. Он подробно раскрыл роль царизма в
международных кризисах рассматриваемого периода, вытекавшую из его экспан¬
сионистских устремлений, но вместе с тем четко охарактеризовал те компоненты
вцешней политики России, которые были связаны с защитой интересов сла¬
вянского населения Османской империи, и другие аналогичные черты российской
дипломатии.
Хвостов был редактором или входил в состав редколлегий многих изданий;
назовем в качестве примера журнал ’’Международная жизнь", который он ос¬
новал в 1954 г. и редактировал в течение ряда лет. Был активным и авто¬
ритетным членом редколлегии журнала "Новая и новейшая история" с момента
его создания в 1957 г. Его детищем являлся "Ежегодник германской истории",
основанный по его инициативе и впервые пЪявившийся в 1968 г. Хвостов ос¬
тавался главным редактором этого издания до конца жизни. То был совместный
ррган Института истории (позднее - Института всеобщей истории) и Комиссии
историков СССР и ГДР, о которой ниже будет сказано особо. "Ежегодник
германской истории" сыграл важную роль в развитии германистики в нашей
стране. Многие статьи, появившиеся в нем, сохранили научную актуальность и
сейчас, и в этом большая заслуга главного редактора, дававшего сотрудникам
’Ежегодника" ценные советы по подбору авторов и содержанию отдельных
трмов. В те годы "Ежегодник германской истории" ввел в практику - шире и
с^стематичнее, чем это делалось в других периодических изданиях, - публи-
Кфцию работ немецких ученых, что существенно обогащало соответствующие
тома.
В работе Комиссии историков СССР и ГДР Хвостов принимал деятельное
участие, когда она была создана, а в 1965 г. возглавил ее советскую секцию.
Комиссия внесла большой вклад в изучение ряда крупных проблем истории обеих
стран. Этой цели служили ежегодные конференции, проводившиеся попеременно
в обеих странах. Обсуждались такие важные научные проблемы, как история
германского фашизма, его агрессивные планы и их бесчеловечная реализация в
i
7*
195
войне против Советского Союза, антифашистская борьба немецких патриотов,
их сотрудничество с советскими борцами против гитлеровской тирании и др.
Довелось не раз видеть Владимира Михайловича на этих конференциях, на
заседаниях Комиссии историков СССР и ГДР - и в Москве, других городах
СССР, и в Берлине - и всегда восхищало его умение сочетать принципиальность
в научных вопросах с гибкостью, необходимой при некотором несовпадении
взглядов на ту или иную проблему советских и немецких ученых. Эту черту
Хвостов выработал в себе благодаря многолетнему участию в различных
международных встречах, где важно было умение добиваться компромиссов. Но
не в меньшей мере здесь проявлялись патриотические чувства Хвостова, для
которого на первом месте всегда были интересы Родины. Что же касается связей
историков СССР и ГДР, то при всей их отягощенности идеологией, особенно в
разработке проблем историографии, оценках трудов ученых ФРГ, было сделано
немало полезного для изучения различных периодов и аспектов истории Гер¬
мании, за что специалисты должны быть благодарны прежде всего Ерусалим-
скому и Хвостову.
В 1964 г. В.М. Хвостов был избран действительным членом АН СССР.
Первые годы его пребывания на посту директора Института истории прошли под
знаком ХХ-ХХП съездов КПСС, когда советская историческая наука находилась
на подъеме. Реабилитировались имена многих ученых, репрессированных в 30-
40-х годах, началась разработка ряда ’’запретных” до того тем, особенно по
отечественной истории. В этом повороте, хотя и проходившем не без рецидивов
старого (вспомним эпизод 1957 г., связанный с деятельностью А.М. Панкратовой
и Э.Н. Бурджалова в журнале ’’Вопросы истории", подвергшейся разносу на
заседании секретариата ЦК КПСС), Институт истории играл ведущую роль.
Выходили из печати многотомники обобщающего характера, в их числе
"Всемирная история", пользовавшаяся популярностью у общественности, "Исто¬
рия СССР с древнейших времен до наших дней" и другие, усилилась разработка
исторического прошлого крупнейших зарубежных стран - так, помимо "Еже¬
годника германской истории", возникли аналогичные издания по Франции, США,
Италии, Англии. Увеличилось количество и повысился научный уровень инди¬
видуальных монографий, принадлежавших перу сотрудников института, среди
которых были многие видные историки.
Вместе с тем имелись и трудности. Одной из них были отношения с От¬
делением истории, где долгие годы академиком-секретарем был Е.М. Жуков.
Руководство человека, во многом являвшегося антиподом Хвостова, не могло
импонировать последнему. В годы "оттепели" с таким неудобством еще можно
было мириться, гораздо труднее стало после 1964 г., когда началась реставрация
прошлого и во главе отдела науки ЦК КПСС появился брежневский ставленник,
скромный провинциальный историк С.П. Трапезников, лично заинтересованный в
том, чтобы покончить со всеми новыми веяниями. Будучи специалистом по
истории коллективизации в СССР - в своих писаниях он рьяно доказывал ее
плодотворность и эффективность, стремился любыми средствами добиться воз¬
вращения "на круги своя" в исследовании и преподавании прошлого.
В отношении к Институту истории это желание вызывалось и дополнитель¬
ным обстоятельством: в 1966 г. здесь был избран партийный комитет, боль¬
шинство которого состояло из убежденных сторонников радикального реформи¬
рования исторической науки, отказа от ее жесткой идеологизации. Это были
В.П. Данилов, А.М. Некрич, К.Н. Тарновский, Я.С. Драбкин, С.И. Якубовская
и др. Генератором же новых идей являлся М.Я. Гефтер. Между парткомом и
директором института возникли трения, создавшие для Хвостова серьезные
трудности. Он оказался между двух огней - цековским начальством, чье мнение
разделял Президиум Академии наук, не говоря уже об Отделении истории, и
196
собственным парткомом, входил в его состав, отдельным его членам, например
Некричу и Якубовскому, симпатизировал, но деятельность которого в целом не
одобрял, считая ее в тех условиях бесперспективной.
В это время у Трапезникова возник план коренного решения вопроса по¬
средством раздела единого организма - Института истории - на два; методика
подобных операций была в советское время опробована не раз, когда возникала
необходимость избавиться от кого-либо или чего-либо. Раздел имел целью резко
ослабить "крамольников", разведя их по разным углам, что и было в общем
достигнуто. Этот план был реализован в 1968 г. Но к тому времени Хвостов уже
вышел из игры: он оставил Институт истории и перешел в систему народного
образования. Шаг, на первый взгляд, неожиданный, но для Хвостова не слу¬
чайный - он в течение десятилетий был тесно связан с преподаванием; при этом
ученого волновали судьбы не только высшего образования, но и среднего, в
первую очередь исторического. Вот почему Хвостов еще на исходе войны нашел
время, чтобы включиться в подготовку школьного учебника по новой истории.
Этот учебник по периоду 1870-1918 гг. впервые появился в 1945 г. под
редакцией В.М. Хвостова и Л.И. Зубока, в дальнейшем совершенствовался и
выходил новыми изданиями. Доходчивость, необходимая любому учебному по¬
собию, в данном случае становилась условием, отсутствие которого обесцени¬
вало проделанный труд. Эта часть учебника по новой истории выделялась
минимальной по сравнению с другими схематичностью изложения и большим
вниманием к событиям и личностям, которые могли вызвать интерес учащихся.
Таким образом, приход В.М. Хвостова в 1967 г. во вновь созданную Ака¬
демию педагогических наук СССР, с которой связывались надежды на улуч¬
шение школьного образования, был вполне закономерным шагом. Хвостов стал
первым президентом нового научного центра, главной задачей которого являлась
координация научных исследований в области педагогики в масштабах страны.
Хвостов последовательно добивался сосредоточения сил на наиболее важных и
актуальных проблемах педагогических наук, придавая особое значение поддер¬
жанию постоянных связей ученых со школой, с учителями, обладавшими бо¬
гатым опытом педагогической работы. С большим интересом относился и к
зарубежному опыту, к его научной основе; знакомился с ним сам во время
поездок в другие страны и поощрял то же, когда за границу ездили сотрудники
академии. В.М. Хвостов стремился также привлечь к участию в ее работе
ученых различных областей знания и деятелей искусства - писателей, худож¬
ников, композиторов; они стали членами Академии педагогических наук, что
выводило ее за узкие специальные пределы.
Но деятельность В.М. Хвостова на поприще научной педагогики оказалась
сравнительно недолгой. Она прервалась в 1971 г. в связи с его возвращением на
постоянную работу в Отделение истории АН СССР; он был избран академиком-
секретарем Отделения. У нас пока нет достоверных данных о том, что вызвало
замену Е.М. Жукова на этом посту, но напрашивается вывод, что причина
заключалась в неблагополучии в деятельности тех или иных институтов. На
заседание Отделения, на котором предстояло избрать академика-секретаря, при¬
был вице-президент АН СССР П.Н. Федосеев, что в кулуарах расценивалось,
как "ЧП".
f Принимая новый пост, Хвостов брал на себя тяжелую ответственность, ибо
ближайшее будущее ничего хорошего не сулило. Шло фронтальное наступление
вд ученых, которые по тем или иным причинам оказались в числе неугодных:
В.П. Данилова, прямого антипода Трапезникова в исследовании истории кол¬
лективизации, П.В. Волобуева, обвиненного во всяческих отступлениях от ге¬
неральной линии в исторической науке, чтобы сместить с поста директора Ин¬
ститута истории СССР, М.Я. Гефтера, возглавлявшего сектор методологии
197
истории Института всеобщей истории, который являлся одним из последних
островков свободной исторической мысли в Москве, а если точнее - в Союзе в
целом. Теперь мы знаем, что впереди были 15 с лишним лет безвременья,
связанного в большей своей части с безраздельным господством Трапезникова,
Поспелова и других догматиков.
Но В.М. Хвостову не суждено было жить и творить в эти тяжелые времена.
Он пробыл в должности академика-секретаря меньше года. Безвременная его
кончина 9 марта 1972 г. прервала огромную научную и организаторскую
деятельность ученого. В числе тех дел, которые он не успел завершить, была
подготовка к печати своей докторской диссертации. А.З. Манфред, принад¬
лежавший к близким к В.М. Хвостову людям, в некрологе сообщил, что Хвостов
до конца дней не прекращал этой работы; он намеревался расширить хро¬
нологические рамки исследования, дополнить его анализом последующих со¬
бытий и процессов вплоть до 1918 г. Соответственно этому автор собирался
озаглавить будущую книгу "Очерки внешней политики Германской империи".
В данной связи вспоминается одна из бесед с В.М. Хвостовым по поводу
рукописи посмертно готовившейся к печати работы А.С. Ерусалимского "Бис¬
марк. Дипломатия и милитаризм". Отношения между двумя учеными, рабо¬
тавшими практически над одной проблематикой, были непростыми. Еруса-
лимский, старше по возрасту, раньше приобрел известность, а в 1940 г. даже
прославился как редактор и автор вступительной статьи к переводу "Мыслей и
воспоминаний" Бисмарка, изданных по указанию Сталина с целью предостеречь
Гитлера от войны на два фронта. В дальнейшем роли переменились, вперед
решительно вышел Хвостов. Специалисты по истории международных отно¬
шений конца XIX - начала XX в. могли заметить расхождения между Хвостовым
и Ерусалимским в некоторых оценках, прежде всего касавшихся роли России в
международной политике того периода. Но это никак не мешало лояльному
научному сотрудничеству (один из примеров тому - работа над двухтомником
"Германская история в новое и новейшее время"). После смерти А.С. Еру¬
салимского В.М. Хвостов не только безоговорочно одобрил издание его не¬
завершенной книги о Бисмарке, но и взял на себя труд прочитать рукопись и
высказать свои соображения, что и сделал. В итоговой беседе он произнес фразу,
свидетельствовавшую о многом: "Я тоже мог бы выпустить книгу на эту тему,
но реальных возможностей сделать это у меня нет". Это было в 1967 г.; в
дальнейшем такие возможности, видимо, появились, но реализовать их автор
уже не успел. Безусловная потеря для исторической науки и еще одно сви¬
детельство того, что научные исследования плохо сочетаются с любой другой
деятельностью, отнимающей силы, время и энергию.
Закончить этот очерк хочется другим воспоминанием, сильно врезавшимся в
память и за 20 с лишним лет не утратившим своей яркости и злободневности.
Речь идет о выступлении В.М. Хвостова на Международном конгрессе исто¬
рических наук в Москве в 1970 г.; он взял слово, чтобы ответить на попытки
некоторых зарубежных участников конгресса оспорить пагубную роль фашизма
в истории Европы, извратить его социальную сущность. Манфред писал о вы¬
ступлении Хвостова: "Стенограмма Московского конгресса историков зафикси¬
ровала его вежливо-ледяную, презрительно-гневную, безупречно аргументиро¬
ванную речь. Она сопровождалась горячими аплодисментами". По словам дочери
Владимира Михайловича, доктора исторических наук К.В. Хвостовой, ее отец в
то время был уже серьезно болен и выступать ему было трудно. Но промолчать
в такой ситуации он не мог. Пишущему эти строки речь Хвостова дорога и
памятна вдвойне, ибо в тот момент он готовился к собственному выступлению в
дискуссии о фашизме и в речи Хвостова получил наглядный урок беском¬
промиссности - в сочетании с адекватной обстоятельствам формой.
198
Академик Владимир Михайлович Хвостов оставил глубокий след в развитии
исторического знания. Его деятельность проходила в разных плоскостях, и в
каждой из них он обеспечил себе благодарную память учеников и почитателей.
Жизнь и творчество В.М. Хвостова проходили в условиях тоталитарного строя,
подчас в опасной близости к его "верхам”, и это, конечно, накладывало оп¬
ределенный отпечаток на сделанное им, но не смогло умалить выдающиеся
научные достижения ученого, его вкд.ад в дело организации исторических
исследований, в совершенствование народного образования, во многое другое,
чем он занимался со свойственными ему энергией и добросовестностью. Для
новых поколений историков деятельность академика Владимира Михайловича
Хвостова - высокий пример служения науке, что составляло смысл всей его
жизни.
199
Рецензии
В.А. ЗОЛОТАРЕВ. ПРОТИВОБОРСТВО ИМПЕРИЙ (война 1877-
1878 гг. - апофеоз восточного кризиса). М.: изд-во " Авиар", 1991,554 с.
Книга действительного члена АЕН РФ,
генерал-майора В.А. Золотарева - весомый и
ценный вклад в библиотеку трудов, посвя¬
щенных русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
Автор поставил перед собой непростую задачу -
дать историко-теоретическое обобщение исто -
риографического и источниковедческого на¬
следия войны, подвести итбги осуществленным
до сих пор исследованиям, определить наиболее
актуальные направления дальнейшего изучения
всего многообразия связанных с ним проблем
(с. 422). Работа структурно распадается на пять
глав: происхождение и события войны, Россия и
война, война в исторических источниках, в
русской историографии, в советской историо¬
графии. Историографический аспект доминирует
в книге, и это логично, поскольку ока нацелена
на подведение итогов проделанного и опреде¬
ление задач на будущее. В заслугу автору
следует поставить приложенный к монографии
детальный список архивных фондов, подробную
библиографию с перечислением документальных
источников, мемуарной литературы (620 пози¬
ций), исследований (более 1 тыс. позиций). В нем
указано свыше 40 органов периодической печа¬
ти, многочисленные цензурные дела. Библио -
графия эта имеет самостоятельное научное
значение, служа для исследователя своего рода
нитью Ариадны в поисках интересующих его
материалов в разбросанных по разным хра¬
нилищам фондах и в изданиях, исчисляемых
тысячами.
Итоги изучения войны 1877-1878 гг. уни¬
кальны в отечественной историографии по
количеству имеющихся документальных публи -
каций: "Сборник материалов по русско-турецкой
войне 1877-1878 гг. на Балканском полуострове"
(СПб, 1898-1911) насчитывает 97 выпусков,
114 томов, по боевым действиям на кавказско -
малоазиатском направлении - четыре. Автор
скрупулезно проанализировал эти материалы под
углом зреция исследования характера войны,
целей ее участников, сопоставил ее итоги с
замыслами, правомерно подчеркнув, что это
далеко не одно и то же. Монография содержит
компетентный, высокопрофессиональный анализ
военных операций как на главном, Дунайском,
так- и на Кавказском фронтах. Давая высокую
оценку таким операциям, как форсирование
Дуная, "сидение на Шипке" и зимний прорыв
через Балканы, В.А. Золотарев не оставляет в
тени и допущенные командованием серьезные
просчеты, приведшие к бессмысленному крово¬
пролитию и затягиванию войны, например, трое¬
кратный неудачный штурм крепости Плевна
(Плевен). Автор уделяет должное внимание
боевым действиям союзной румынской армии.
Особо следует упомянуть страницы книги,
\ посвященные русско-болгарскому боевому содру¬
жеству. Обнаруживая хорошее знание турецкой
i историографии, автор подвергает разбору опе-
I рации османской армии, высоко оценивая их в
ряде случаев. В первую очередь это относится к
упорной защите Плевны под руководством та -
лантливого и отважного Осман-паши. Ценен
параграф, посвященчый значению войны 1877-
1878 гг. в развитии военного искусства.
Работа снабжена многочисленными иллюстра¬
циями, включающими портретную галерею
героев войны. Раздел об отражении войны в
фольклоре на первый взгляд стоит особняком.
На деле его включение в книгу закономерно -
характеристика войны становится полнее с уче¬
том ее преломления в народном сознании.
Книга В.А. Золотарева вышла в свет в
1991 г., в период нелегкого переосмысления
отечественной наукой накопленного ею бага¬
жа, трудного процесса преодоления устоявшихся
стереотипов. В какой-то степени это ощущается
и в рассматриваемой работе. Не вполне четким
представляется определение характера войны;
1877-1878 гг.: "Война была несправедливой по
тем причинам и целям, которые преследовали Bi
ней правительства воюющих стран", т.е. Турции,
и России (с. 143). Тут же отмечается "существ
венная роль момента", заключавшегося в tom«
что Россия поддерживала национальное осво.з
вождение южного славянства. Но возьмем цар¬
ский манифест об объявлении войны: "Всем
нашим любезным верноподданным известно то
200
живое участие, которое мы всегда принимали в
судьбах угнетенного христианского населения
Турции. Желание улучшить и обеспечить поло¬
жение его разделяет с нами и весь русский
народ, ныне выражающий готовность свою на
новые жертвы для облегчения участи христиан
Балканского полуострова (с. 423). Так что же,
освобождение балканских народов - основная
цель войны либо лишь момент, хотя и су¬
щественный, при определении ее характера?
Впрочем, сам автор на с. 215 и 419 пишет об
освободительном характере войны.
Хочется оспорить утверждение (с. 217), что
захват Константинополя и Проливов являлся
целью войны. Ведь канцлер А.М. Горчаков в
депеше от 18(30) мая 1877 г. известил всех, что
овладение Константинополем "не входит в пла¬
ны" России. Вопрос же о Черноморских Проли¬
вах "для сохранения мира и всеобщего спокойст¬
вия" предлагалось урегулировать "с общего
согласия на справедливых и действенно гаранта -
ров энных началах"1. Сама эта формула исклю¬
чала возможность обоснования России в Про -
ливах.
Правда, на с. 418 говорится о "стремлении
поставить под свой контроль Босфор и Дар¬
данеллы или, по крайней мере, обеспечить
благоприятный режим их функционирования" как
о стратегической цели царизма. Последняя фор¬
мула ближе к действительности. Известно, что
даже этой скромной задачи не удалось
осуществить в результате победоносной войны.
Книга В.А. Золотарева читается с возрас¬
тающим интересом, но по ходу знакомства с ней
возникают различные замечания и соображения.
Так, нам представляется, что автор слишком
критичен по отношению к высшему российскому
командованию. Конечно, было много ошибок и
даже провалов, и главный из них, как уже
сказано, три неудачных штурма Плевны. Но
ведь война была выиграна и вписала немало
славных и запоминающихся страниц в историю
русского военного искусства. Ее опыт изучался в
штабах и академиях всех стран.
Да, Александр II по скверному российскому
обыкновению прибыл на театр военных действий
с многочисленной свитой. Но так ли уж он
сковывал операции? Автор утверждает, что лич¬
но Александр был против зимней кампании; но
ведь он ее санкционировал! Кстати, один эпизод,
с этим связанный. Два противника России -
британская королева Виктория и премьер-
министр Бенджамин Дизраели - без ведома
кабинета и Форин оффиса, действуя в духе
"Тайной дипломатии" Людовика XV, поручили
ł Освобождение Болгарии от турецкого ига,
т. 1. М., 1964, с. 80-82.
военному атташе, полковнику Уэлсли, инфор¬
мировать царя, что в случае второй кампа¬
нии, т.е. при продолжении войны весной и летом
1878 г., Британия не гарантирует сохранения
нейтралитета2. Не повлияла ли эта угроза на ре¬
шение штурмовать Балканы в условиях зимних
вьюг?
Не убеждает замечание автора насчет такого
"феноменального аспекта противоборства, как
более высокий уровень политического развитая
Османской империи в годы войны (конститу¬
ционная монархия) по сравнению с российским
абсолютизмом" (с. 5).
Не умаляя заслуг турецких реформаторов,
следует все же сказать, что конституция была
введена в январе 1877 г. поспешно и не без
влияния момента: в Константинополе собралась
конференция держав с целью заставить турец¬
кое правительство провести реформы в восстав -
ших областях. И в это время османский уполно¬
моченный объявил онемевшим от изумления
дипломатам, что никаких особых реформ про¬
водить в Боснии, Герцеговине и Болгарии не
нужно, ибо султан облагодетельствовал поддан -
ных конституцией. "Благодеяние" оказалось не¬
долговечным, ибо через год с небольшим султан
Абдул Хамид II распустил парламент и установил
режим деспотизма.
Вряд ли можно рассматривать "защиту веры"
лишь как повод для утверждения великих дер -
жав на рынках и морских коммуникациях (с. 420).
Защита веры в условиях инонационального и
иноверного господства означала отстаивание на¬
ционального существования народов, их само¬
бытность - коей не чужды были верхние слои
общества! - играла выдающуюся роль в раз¬
витии взаимоотношений между народами, именно
народами, и правительства этим не пре¬
небрегали, разумеется, имея в виду и укрепление
своих позиций. Любопытный штрих: знаменитый
российский посол Н.А. Игнатьев тщательно и
торжественно соблюдал все православйые обря¬
ды, ибо, как он писал, это был единственный
способ восстановить уважение к российской мис¬
сии, подорванное после Крымской войны3.
Таковы отдельные замечания, возникающие
при знакомстве с книгой академика АЕН РФ
В.А. Золотарева. В целом же автору удалось
сделать очень значительный шаг в исследовании
важнейших проблем войны 1877-1878 гг., взятой
в широком аспекте ее предпосылок, связей и
последствий. Прежде всего это относится к
критическому анализу военных операций и об -
2Мопуреппу W.E., Buckle С.Е. The Life of
Benjamin Disraeli, v. 6. London, 1920, p. 174-176.
3Российская дипломатия в портретах. М.,
1992, с. 244.
201
ширного историографического материала. Автор хочется пожелать ему новых успехов на этом
справедливо констатирует сложившееся несоот- многообещающем поприще,
ветствие между количеством накопленного доку¬
ментального материала и степенью его обобще - В-Н. Виноградов,
ния, проникновения в существо закономерностей доктор исторических наук, профессор,
тех далеких событий (с. 422). Автор посвятил заведующий отделом Института
этим исследованиям немало лет своей жизни, и славяноведения и балканистики РАН
А.М. ФИ Л ИТО В. "ХОЛОДНАЯ
ЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА ЗАПАДЕ. М.: изд-во "Наука
Монография ведущего научного сотрудника
Института всеобщей истории РАН, д.и.н. А.М,
Филитова - не первый труд, посвященный ис¬
следованию зарубежной историографии "холод -
ной войны". Это отмечает и сам автор, который
отдает должное своим предшественникам.
Однако следует отметить, что моногра¬
фия А.М. Филитова качественно отличается
от имеющихся аналогов. Во-первых, книга
А.М. Филитова является на сегодняшний день
наиболее обстоятельным научным исследованием
зарубежной историографии "холодной войны".
Во-вторых, монография содержит общую харак¬
теристику всего спектра трудов и концепций
западных авторов по избранной проблематике,
тогда как ранее в центре внимания многих
российских историков была двусторонняя история
советско-американских отношений и соответст¬
венно история американской исторической науки.
В-третьих, и это представляется наиболее су¬
щественным, перед нами работа, в которой
автор впервые при изучении данной темы от¬
казался от идеологизированной, конфронта¬
ционной схемы и в постановке проблем, и в
нахождении ответов на вопросы и использовал в
своем историческом и историографическом
анализе новые, деидеологизированные подходы,
характерные для периода завершения "холодной
войны". В этой связи можно заметить, что тезис
автора о том, что он не собирается заниматься
стандартным для предшественников "разоблаче -
нием фальсификаторов", не остался простой
декларацией, а получил весомое подтверждение.
Монография состоит из введения, трех глав и
заключения. Во введении формулируется общий
подход автора к исследуемой теме. Первая глава
раскрывает основные этапы и направления
западной историографии "холодной войны" от
"ортодоксии" к "реализму", от "ревизионизма" к
"постревизионизму". Во второй - анализируются
"идеологическая" и "традиционалистская" кон¬
цепции "холодной войны", а также освещение
западной историографией роли сталинизма в
"холодной войне". В третьей главе рассмат¬
риваются дискуссии вокруг "модернистских" под¬
ходов к истории послевоенной конфронтации,
бытующие на Западе три конкурирующие
ВОЙНА**: ИСТОРИОГРАФИ-
", 1991, 200 с.
трактовки роли общественности в генезисе
"холодной войны": "организационная модель",
модель "искаженного восприятия" и "европейское
измерение" историографии "холодной войны". В
заключении речь идет об итогах "холодной
войны" и задачах российских и зарубежных
историков и историографов по ее исследованию.
Автор существенно дополнил, уточнил и
диверсифицировал принятую и отработанную
схему классификации в историографии школ и
направлений: "ортодоксы", "ревизионисты" и
"постревизионисты". Речь идет прежде всего о
введении новых критериев классификации не по
признаку отношения того или иного автора к
вопросу "кто виноват?", а по признаку трактовки
проблемы: была ли послевоенная конфронтация
неизбежной и имелись ли возможности ее
предотвращения или смягчения?
Такой подход позволяет А.М. Филитову дать
более сбалансированную трактовку доминирую¬
щего ныне на Западе сложного историогра-
фического феномена "постревизионизма". В ли¬
тературе нашей страны, в работах историков
восточноевропейских государств, в частности
бывшей ГДР, в оценке этого течения имелись
две крайности: его рассматривали либо как
очевидный регресс пр сравнению с "реви¬
зионизмом", четко и однозначно возлагавшим на
США ответственность за "холодную войну",
либо как продолжение, хотя и в ослабленной
форме, традиций "ревизионизма". В книге дается
иной и, на наш взгляд, более верный ответ. Он
заключается в том, что сама по себе идея
разделения между Западом и Востоком от¬
ветственности за развязывание конфронтации -
это не регресс, а скорее прогресс, поскольку
речь идет об отказе от прежней схоластической
схемы и о модифицированных выводах, осно¬
ванных на привлечении новых аутентичных
источников. Кроме того, проблема ответст¬
венности не является самой важной для исто¬
рика. Значительно актуальнее проблема альтер¬
натив "холодной войне", а в этом вопросу
"постревизионисты" пошли гораздо дальше своих
предшественников. А.М. Филитов приводит
данную представителем марбургской школы
западногерманской историографии Г. Фюлъберг
202
том характеристику "постревизионистов" как
"просвещенных консерваторов" (с. 62). Учиты¬
вая, что термин "консерватизм" ныне у нас в
значительной мере потерял негативную эмо¬
циональную окраску, эту характеристику можно,
по-видимому, признать оптимальной.
Не все в историографических оценках автора
равноценно, имеется и некоторый дисбаланс.
При декларированном намерении преодолеть
"американоцентризм" это фактически не удалось
автору книги. Если в первой главе и в последнем
параграфе третьей главы содержится достаточно
обстоятельный анализ значения и роли евро¬
пейской исторической мысли и традиций в
формировании научного подхода к изучению
"холодной войны", то в остальных разделах все-
таки доминирует разбор концепций и аргументов
историков США. Читатель получает менее
полное представление о вкладе в исследование
данной темы французских или немецких исто¬
риков. Последнее тем более удивляет, поскольку
А.М. Филитов известен как специалист и по
историографии ФРГ.
В качестве фигуры, наиболее ярко
отражающей специфику западногерманского
подхода к проблематике "холодной войны",
избран, если судить по частоте цитирования,
Э. Нольте - консервативный немецкий историк,
характеризуемый А.М. Филитовым как "близкий
к правому экстремизму" (с. 18). Выбор его в
качестве ключевой фигуры представляется едва
ли (йтравданным. Автор отмечает, что концепция
Э. Нольте встретила аргументированную крити -
ку со стороны его коллег, однако содержание
этой критики и аргументы его оппонентов не
приводятся. Кстати, в более ранней работе -
обзоре общего состояния историографии ФРГ1
А.М. Филитов справедливо отмечал, что
Э. Нольте потерпел поражение в "споре исто¬
риков", который развернулся в ФРГ в середине
80-х годов. Конечно, проблемы "холодной войны"
не были там в числе главных, но и они при¬
сутствовали в этой дискуссии.
Оценка монографии была бы не полной, если
не упомянуть того, что автор поставил перед
собой задачу чрезвычайной трудности: написать
работу по историографии "холодной войны",
когда еще не написана ее история и российские
историки практически еще даже не приступили к
ее комплексному исследованию на основе перво -
источников. Возможно, известная беглость исто¬
риографического анализа была вызвана потреб -
ностью дать хотя бы общую характеристику и
очертить контуры позитивной концепции истории
послевоенного конфликтного состояния между¬
1 Современная зарубежная немарксистская
историография. Критический анализ. М., 1989.
народных отношений в условиях биполярного
мира.
На наш взгляд, А.М. Филитов в целом спра¬
вился с поставленной задачей и представил
оригинальный, порой спорный, но в целом аргу¬
ментированный анализ по таким проблемам, как
содержание понятия "холодная война", хроно¬
логия ее генезиса, роль в ней сталинистских
эксцессов. Ощутимый дефицит исгочникового
материала помешал автору развить свои мысли
по некоторым актуальным сюжетам, например, о
деятельности спецслужб и об их влиянии на
государственную политику и менталитет госу¬
дарственных деятелей в период "холодной
войны". Однако историографический анализ в
данном случае выполняет важную функцию -
выявляет "белые пятна" в истории и историо¬
графии для будущих исследователей.
В заключение отметим некоторые упущения
в книге. Подробно раскрыв исторические и исто -
риографические сюжеты, относящиеся к "восхо¬
дящей" стадии "холодной войны" в первое пос -
левоенное десятилетие, автор гораздо меньше
внимания уделил ее "нисходящей" - процессам
периода разрядки и конца "холодной войны". В
известной мере это обусловлено тем обстоя¬
тельством, что данные сюжеты в меньшей
степени освещены в трудах западных историков
и автор исходил из имеющегося историогра¬
фического материала.
Правда, А.М. Филитов впоследствии в опре¬
деленной степени восполнил этот пробел в своих
более поздних публикациях в американском
журнале "Дипломатии хистори" и в изданном в
США сборнике по проблемам окончания "холод -
ной войны"2. Очевидно, стоило бы затронуть
упомянутую проблему хотя бы в заключении,
которое выглядит более слабым по сравнению с
другими разделами книги.
В целом монография А.М. Филитова отра¬
жает новую ступень развития отечественной
исторической науки, которая начинает посте¬
пенно очищаться от догматизма и идеологизации.
Учитывая значительную научную значимость
работы, глубокое сожаление вызывает ее малый
тираж.
Ф.И. Новик,
исторических наук,
ведущий научный сотрудник центра
"Россия в международных отношениях"
Института российской истории РАН
2Filitov A. Victory in the Post-War Era: Despite
the Cold War or Because of It? - Diplomatic History,
v. 16, № 1, Winter 1992, p. 54-60; The End of the
Cold War: Its Meaning and Implications. Ed. by
M. Hogan. Cambridge - New York, 1992,
p. 77-86.
203
H. S c h i 11 i n g . CIVIC CALVINISM IN NOARTHWESTERN GERMANY
AND THE NETHERLANDS. SIXTEENTH TO NINETEENTH CENTURIES.
Kirksville: Sixteenth Century Journal Publishers, Inc., 1991,167 p.
X. ШИЛЛИНГ. ГРАЖДАНСКИЙ КАЛЬВИНИЗМ В СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ И НИДЕРЛАНДАХ С XVI ПО XIX в.
Кирксвилл, 1991,167 с.
Главная проблема, исследуемая в монографии
профессора университета в Гиссене (ФРГ)
X. Шиллинга, - соотношение религии и власти в
городах Фрисландии с XVI по начало XIX в.
Исследование проведено на материалах истории
двух городов - Гронингена (Нидерланды) и
Эмдена (Северо-Западная Германия), располо -
женных неподалеку один от другого и в одина -
ковой мере испытавших влияние кальвинизма. В
основу книги положены статьи, ранее опублико -
ванные в различных изданиях ФРГ и объеди¬
ненные в монографию по предложению одного из
крупнейших специалистов по истории Рефор¬
мации Роберта Кингдона (США).
"Гражданский кальвинизм" - так определяет
основной предмет своих исследований X. Шил -
линг. Влияние конфессиональной системы на
общество и политическую жизнь, считает автор,
зависит в первую очередь от исторических
обстоятельств, т.е. от социальной структуры,
юридической и политической организации и, в
конечном счете, культуры и менталитета об¬
щества (с. 1). Поэтому городской кальвинизм
был сильнее в Швейцарии, Франции и Ни¬
дерландах, чем в Германии. В Германии боль¬
шинство городов стали лютеранскими, за исклю¬
чением Эмдена и Бремена. Кальвинизм ут¬
вердился только в нескольких территориальных
княжествах. Отсюда особый интерес автора к
развитию кальвинизма в Эмдене, кальвинист¬
скому контролю за моралью с 50-х годов XVI в.
по 70-х годы XIX в., политическим взглядам
кальвинистов в Эмдене и Гронингене, социаль¬
ному, имущественному и политическому поло¬
жению пресвитеров кальвинистской церкви в
этих городах. Как пишет Шиллинг, его книга -
это книга о революциях: о революции в Ни¬
дерландах и о менее известной, хотя и не менее
динамичной, в Эмдене. Революцию он видит
прежде всего в переходе от средневекового
управления к государству нового времени, ката -
лизатором чего были конфессиональные конф¬
ликты и социальные перемены эпохи Рефор¬
мации. Шиллинг не считает себя последова¬
тельным сторонником взглядов Э. Трельча и
М. Вебера, в известном смысле дистанцируется и
от марксизма, полагая, что в его рассуждениях
больше влияния просопографических* и статис¬
Просопографические методы исследования
тических методов исследования, чем методо¬
логии классового антагонизма и классового
конфликта (с. 7). Скорее он следует взглядам
представителя историко-правового направления
XIX в. Отто фон Гирке и близкого к по -
зитивистам Карла Лампрехта, влияние которых
Шиллинг считает наиболее существенным в
своих исследованиях.
Но, собственно, интерес к работам.Шиллинга
вызывается не какими-либо новыми методо¬
логическими подходами - их, надо сказать,
немного, - а результатами и методикой его
конкретных исследований. Изучая проблему роли
кальвинизма в республиканизации городского
управления, Шиллинг особое значение придает
примеру Эмдена, не имевшего до XVI в. сло¬
жившейся городской конституции и подчиняв -
шегося сеньориальной юрисдикции. Реформация
и утверждение в городе кальвинизма привели к
развитию самоуправляющейся конгрегации и
городского самоуправления в вопросах финансов,
что было важным шагом на пути Эмдена от
предкоммунального города к городу начала ново¬
го времени с политически активными жителями и
коммунальной конституцией (с. 11, 28). Причем,
как подчеркивает немецкий историк, городской
совет в конечном счете уже в конце XVI -
начале XVII в. стал приобретать власть над
кальвинистской церковью (с. 39).
Интересны наблюдения Шиллинга о месте
кальвинизма в формировании и мышлении чело -
века нового времени. Внимательно изучив прак -
тику контроля пресвитеров за верующими, типы
моральных прегрешений и форм наказаний за
них, автор отмечает, что требования морали,
особенно в сексуальной сфере, в XVII-XVIII вв.
были менее строгими, чем в буржуазном об -
ществе XIX - первой половине XX в., и ог¬
раничивались большей частью нравоучениями
(с. 66, 67). Любопытна третья глава книги
Шиллинга, в которой рассматривается вопрос о
месте кальвинизма в формировании политичес¬
кой культуры и городских свобод в Северо-
Западной Германии и Нидерландах. Историк
исходит из того, что Реформация и конфес-
сионализация усилили взаимосвязь и взаимо¬
основаны на анализе биографических и прежде
всего социо-профессиональных характеристик
реальных исторических лиц.
204
влияние между церковью и государством, он
даже говорит о возникновении жанра "полити¬
ческой теологии". В эпоху Реформации трактаты
и памфлеты буквально наводнили Гронинген и
Эмден; их продолжали издавать и позднее.
Примечательной стороной этих произведений
являлось расширение чисто светской проблема¬
тики в противовес религиозной. Если поначалу в
них преобладала эсхатологическая борьба между
силами добра и зла, то затем на первый план
выдвинулся вопрос о праве народа на сопро -
тивление властям и вопрос о наилучшем
устройстве государства (с. 80, 82, 89). Шиллинг
отмечает, что политическая культура каль¬
винизма в Нидерландах и Восточной Фрисландии
отличалась от старой европейской республи¬
канской традиции. Борьба за автономию города
против верховенства правителя была в то же
время борьбой с территориальной церковью за
независимость городской церкви. Это означало
идентификацию политической и религиозной
общности, гражданства и конгрегации. В XVII и
XVIII вв. контраст между многоконфессио¬
нальными и веротерпимыми Нидерландами и
Германией, где большей частью господствовали
абсолютистские режимы, а политика веротер¬
пимости проводилась далеко не везде и к тому
же стала реальностью только к концу XVIII в.
(за исключением Пруссии), сделался еще более
ощутимым. Нидерланды имели менее бюро -
кратическое управление и более открытое
общество (с. 98-99). Цз этого Шиллинг делает
вывод, что влияние кальвинизма на полити¬
ческую теорию или политическую культуру
зависело от политических и социальных условий,
при которых утверждался кальвинизм. Полити¬
ческая же культура Нидерландов отличалась от
политической культуры абсолютистской Европы,
потому что она развивалась в иной интеллек¬
туальной среде, чем та, где возник кальвинизм.
Больше влияния на политическую культуру Ни¬
дерландов оказали гуманистическая традиция
времен Эразма Роттердамского, арминианство и
многочисленные конформистские группы вне ре¬
формационных конфессий (с. 100-103).
Любопытен раздел, посвященный харак¬
теристике связи кальвинизма с формированием
городской элиты в Гронингене. Использовав
просопографический метод, Шиллинг проанали¬
зировал составы городского совета, а также
карьеры и деятельность пресвитеров и ста¬
рейшин кальвинистских общин и пришел к
интересным выводам. Батавская революция в
конце XVIII в. привела к потере кальвинистской
церковью статуса "религиозной церкви". Нидер¬
ланды двинулись по пути развития плюра -
диетического и либерального общества нового
времени (с. 118). Но поскольку пресвитеры и
старейшины зачастую были одновременно члена¬
ми городского совета и входили в политическую
элиту, то, потеряв влияние в церкви, ставшее ни
уже ненужным, они сохранили свое положение
в городском самоуправлении. Мало того,
около трех четвертей пресвитеров между 1820 и
1825 гг. принадлежали к торговой буржуазии.
Таким образом, политическая и религиозная
элиты в Гронингене в XVII-XVIII вв. предста¬
вляли собой практически единое целое, и отде¬
ление церкви от государства не повлекло за
собой потери этой элитой положения в полити -
ческой сфере, тогда как в Германии лютеран¬
ская церковь находилась под контролем город¬
ских властей.
В целом исследование X. Шиллинга, хотя, к
сожалению, лишено анализа противоречий и
отношений верхов и низов в кальвинистских
городах Эмдене и Гронингене, дает достаточно
полное представление о роли кальвинизма в
развитии городского управления и становлении
плюралистического общества нового времени в
Нидерландах и Северо-Западной Германии.
Ю.Е. Ивонину
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой всеобщей истории
Запорожского государственного университета
*Арминианство - религиозное течение внутри нидерландской кальвинистской церкви.
205
RECHERCHES SUR LA REVOLUTION. UN BILAN DES TRAVAUX
SCIENTIFIQUES DUE BICENTENAIRE. Sous la direction de Michel Vovelle.
Paris: La Decourverte, 1991,544 p.
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ НАУЧНЫХ
РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ 200-ЛЕТИЮ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Под ред. Мишеля Вовеля. Париж, 1991,544 с.
"Отмечать великие даты - значит готовить
великие свершения". Эти слова Виктора Гюго с
полным основанием могут быть отнесены к мно -
гочисленным научным мероприятиям - конг -
рессам, коллоквиумам, "круглым столам" (всего
около 700 за пять лет с 1984 по 1989 г.), выходу
в свет огромной специальной литературы (око¬
ло 3 тыс. работ), приуроченным к 200-лет-
ней годовщине Французской революции конца
XVIII в. В ходе юбилейных мероприятий были не
только подведены итоги изучения этого выдаю¬
щегося события, но и определились качественно
новые направления, существенно меняющие сло¬
жившиеся историографические традиции как с
точки зрения научной тематики, так и мето¬
дологии исследований.
Совместный труд коллектива авторов, сос¬
тоявшего из 50 историков под руководством
заведующего кафедрой Французской революции
проф. Мишеля Вовеля, посвящен характерис¬
тике на основе юбилейных материалов совре¬
менного состояния Изучения Французской рево -
люцин, а также обзору перспективных тенденций
ее новейшей историографии.
В соответствии с определившимися научными
приоритетами в книге помимо вводных мето¬
дологических частей, написанных Мишелем Во-
велем и Антуаном де Беком, содержатся четыре
раздела, составленные специалистами разного
профиля, посвященные следующим проблемам:
политической истории революции и новым путям
ее изучения; влиянию Французской революции
на культуру; исследованию французского об¬
щества в революционную эпоху; наконец, в
последнем разделе рассматривается влияние
Французской революции на всемирно-истори¬
ческий процесс, а также отражение этого
события в сознании современников и в историчес¬
кой памяти последующих поколений.
В названных разделах книги общими усилия¬
ми авторов раскрывается смысл принципиальных
изменений в "историографическом пейзаже"
Французской революции, под знаком которых
прошли 70-е и, особенно, 80-е годы.
До этого длительное время - с начала
XX в. - в ее исследовании господствовало
"классическое", по определению французского
историка А. Собуля, направление, пред¬
ставленное именами Ж. Жореса, А. Матьеза,
Ж. Лефевра, М. Ренара, Ж. Годешс, самого
Собуля. Отличительной чертой историков дан¬
ного направления являлся присущий их работам
метод социальной интерпретации событий Фран¬
цузской революции. В их трудах воссоздавалась,
согласно точной формулировке А. де Бека, "со¬
циально-политическая история единой и не¬
делимой революционной реальности" (с. 12).
С конца 50-х и в 60-е годы стали очевидны
признаки кризиса "классической" историографии.
Их возникновение было связано с двумя важ¬
ными явлениями в исторической науке -
распространением методологических идей "вто¬
рого поколения" школы "Анналов" и зарож¬
дением "ревизионистского", или "критического",
направления в исследованиях Французской ре¬
волюции.
С одной стороны, под непосредственным
влиянием школы "Анналов" историки обратились
к изучению длительных исторических процессов;
при этом значительно расширилась проб¬
лематика их работ - от долговременных про¬
цессов в социальной истории и истории мате¬
риальной цивилизации к истории ментальности
("большая длительность", согласно Р. Мандру) и
исторической антропологии ("неподвижная исто¬
рия", по определению Е. Ле Руа Лядюри).
С другой стороны, историки "ревизио¬
нистского", или "критического" направления - Ф.
Фюре, Д. Рише и их многочисленные после¬
дователи - стремились не только вернуть
интерес к "событийной истории", в связи с чем
придавали в своих работах политике самос¬
тоятельный научный статус, но и в отличие от
"классической" интерпретации попытались пред¬
ставить Французскую революцию как чисто
политический процесс.
Названные новые явления в науке и посте -
пенная изоляция адептов "классической" исто¬
риографии, понемногу отрывавшихся от преспек-
тивных направлений исторической мысли, - все
это, как показано в книге, привело к настоящей
эпистемологической революции 70-х - 80-х годов,
в значительной мере затронувшей принципы, на
которых базировалась "классическая"
историография.
Эпистемологическая революция развора ¬
чивалась в два этапа. 70-е годы были отмечены
обновлением научной тематики. В поле зрения
206
историков-"классиков" оказались проблемы мен¬
тальности, исторической антропологии, социо -
логии. В то же время новые проблемы изучались
ими по традиционным канонам социальной
истории.
В отличие от 70-х годов 80-е внесли су¬
щественные изменения в '’классическую” мето¬
дологию. Именно тогда сильной модификации
подверглись две ее важные парадигмы. Это, во-
первых, положение о том, что социально-клас¬
совые группы определяются по их отношению к
средствам производства, и, во-вторых, идея о
том, что индивидуальные или коллективные
политические действия непосредственно отра¬
жают специфические классовые интересы (с. 17).
Уделяя основное внимание личности и сложности
ее взаимосвязи с обществом в революционную
эпоху, современные историки, как это следует из
материалов 200-летнего юбилея Революции,
анализируемых в книге, видят конституирующее
начало социальных образований не в объек¬
тивных классовых интересах участников рево¬
люционных событий, а в общем для этих людей
определении своего собственного места в
обществе и самоидентификации с теми или
иными социальными группами, причем границы
последних зависят от меняющихся представ¬
лений современников изучаемых событий. В
результате ключом к пониманию революционной
действительности становится категория "со¬
циально-воображаемого”.
Поскольку представления людей револю¬
ционной эпохи об их месте в обществе и оценка
ими происходящих собы гий исключительной
исторической важности относятся прежде всего к
области политики, то последней отводится
гораздо более важная роль в организации об -
щества, чем экономике. Общество, таким обра¬
зом, рассматривается сквозь призму политики.
Отсюда - резко возросший интерес к поли¬
тической истории революции, а также много¬
численные попытки объяснить через собствен¬
ную логику политической истории развитие
революционного процесса в целом, которые
Ф. Брюнель и Ж. Гийому называют "полити¬
ческим синтезом” (с. 45).
Новое явление в историографии М. Вовель
определяет как "возвращение к политике",
сопровождающееся "относительным ослаблением
позиций социальной истории" (с. 9). На первый
план выдвигается работа с "текстами рево -
люции" - материалами политических дебатов,
законодательными актами, прессой, памфлетами,
художественными изображениями. Широко ис¬
пользуя приемы герменевзйки при анализе ис¬
точников, современные исследователи ставят
перед собой задачу выявить присущие изучаемой
эпохе формы политической жизни и об¬
щественного сознания, то содержание, которое
непосредственно участники событий вкладывали
в провозглашенные революцией принципы, в
политические лозунги и символы, а также цели и
мотивы их действий. В центре внимания спе¬
циалистов вновь оказались такие важные темы,
как политическая природа якобинизма (с. 58-62),
насилие и террор в ходе революции (с. 87-110),
права человека и гражданина (с. 115-139), рево¬
люционный менталитет (с. 149-163), революция
и контрреволюция (с. 62-66; 111-114), револю¬
ция и религия (с. 177-219).
Вместе с тем, несмотря на перспективность
нового подхода, следует присоединиться к
мнению М. Вовеля, считавшего, что в нем
скрыта определенная опасность абсолютизации
автономии политики и революционного сознания,
ведущей к чрезмерной "политизации" и "психоло¬
гизации" истории. Поэтому новый подход имеет
научную значимость лишь в том случае, когда он
соотносится с политической и культурной прак¬
тикой изучаемого времени, а также когда учи -
тывается социальная заданность политических
процессов (с. 19). Изучать исторические явления
в контексте диалектического единства полити¬
ческих, социальных и экономических процессов
справедливо призывает и другой авторитетный
французский историк К. Мазорик (с. 66).
Изменения методов и объектов исследований
Французской революции привели к резкому сни¬
жению удельного веса исследований по ее со¬
циальной и экономической истории. Так, по под¬
счетам Э. Дюкудре, социальной истории посвя¬
щено около десяти процентов от общего числа
работ, приуроченных к юбилею революции
(с. 257). Еще ниже доля экономической истории,
которая была представлена, по данным Ф. Анке¬
ра, только 18 работами (с. 331-332), т.е. менее
одного процента.
Специалисты в области социальной и эко¬
номической истории сосредоточились на раз¬
работке микрообъектов. В поле их интересов
попал отдельный человек, локальная местность,
изолированный процесс социального или эконо¬
мического порядка. Ведутся, главным образом,
биографические, социо-профессиональные и со¬
цио-региональные изыскания, изучаются демо¬
графия и финансовая политика Революции
(с. 258, 263, 328). Вместе с тем сохраняется
некоторый интерес и к макропроблемам, в
частности и к такой традиционной в "класси¬
ческой" историо графин, как Французская рево¬
люция и развитие капитализма (с. 333). Ей был
посвящен специальный коллоквиум в г. Лилле в
ноябре 1987 г.
Таким образом, "классическое" направление в
историографии Французской революции пре -
терпело серьезные изменения как с точки зрения
207
методов, так и проблематики исследований. В
значительной мере стерлись границы между
"классическим” и "ревизионистским” направле¬
ниями, что, однако, не означает утраты каждым
из них своей специфики (с. 22). Неоспорим и тот
факт, что в настоящее время уже не существует
доминирующих интерпретаций событий Фран¬
цузской революции. Более того, появилось мно -
жество исследователей без определенной ориен¬
тации, которые, исходя из новых подходов,
продолжают разработку ее истории.
По замыслу авторов, представляемая книга
является лишь попыткой подвести промежу -
точный итог многочисленным исследованиям,
вызванным к жизни 200-летним юбилеем Фран -
цузской революции конца XVIII в. Тем не менее
специалисты получили надежный путеводитель
по ее новейшей историографии.
А.В. Тырсенко,
кандидат исторических наук,
редактор отдела журнала "Новая и новейшая
история”
208
Факты. События. Люди
ВАНДЕЯ
Отечественная историография долго хранила
молчание о Вандее, ограничиваясь резким
эпитетом "контрреволюционный мятеж"1. Впер¬
вые за многие годы Вандея предстала перед
нами в "Документах истории Великой фран -
цузской революции’’2, среди материалов,
объединенных заголовком "Антиреволюционное
крестьянское движение на западе Франции" 3.
Однако и в этой подборке документов голос
самой Вандеи звучит еще очень робко, заглу¬
шаемый дружным хором ее политических про -
тивников.
"Вандея" имеет несколько значений. В узком
смысле это слово обозначает всего лишь одну из
страниц истории Французской революции
XVIII в., весьма краткую, хотя наиболее дра¬
матическую и кровавую - гражданскую войну,
развернувшуюся в марте-декабре 1793 г. в че¬
тырех департаментах на западе Франции, один
из которых и дал этим событиям свое имя.
В более широком смысле понятие "Вандея" уже
давно отделилось от своего конкретного исто¬
рико-географического содержания и прочно
вошло в современную политическую лексику как
синоним контрреволюции низов. Именно контр¬
революции, ибо якобинская, а затем и марксистс¬
кая концепция революционного процесса долгое
время слишком категорично наделяла пристав¬
кой "контр" любые движения, не совпадающие с
восходящей линией революции. Впрочем, многие
участники тех движений не видели в этой
приставке ничего зазорного и с готовностью
подписывались под ней, чтобы отмежеваться от
своих противников. Сегодня, глядя издалека, мы
уже готовы признать, что контрреволюция
является неизбежной составной частью рево¬
люции, что именно последняя и порождает пер¬
вую и что разделить их весьма трудно, а порой
просто невозможно4 *.
1 Манфред А .3. Великая французская рево -
люция. М., 1983.
2 Документы истории Великой французской
революции, т. 1-2. М., 1990-1992.
3 Там же, т. 2, с. 229-259.
4 См. Les resistances a la Revolution. Actes du
Во Франции в 1789-1799 гг. революционные
преобразования на протяжении всего десяти¬
летия наталкивались на более или менее явные
всплески сопротивления, которые можно было
бы назвать встречными течениями революции.
Верхушечное сопротивление, осуществлявшееся
в первую очередь представителями старой дво -
рянской аристократии, проявлялось в деятель¬
ности разного рода роялистских группировок и в
эмиграционном движении. Сопротивление низов
в форме различных народных выступлений было
очень неодинаковым по своему характеру и
лозунгам: в городах это движение санкюлотов, в
сельских районах - "жакерии" и "шуаннерии",
традиционные для Франции "полуфеодальные"
типы крестьянских войн.
Совершенно особое значение в масштабе
Французской революции и в масштабе всей
последующей истории Франции имела вспых¬
нувшая весной 1793 г. в нижнем течении Луары
борьба крестьянства, а также части городского
ремесленничества, представителей провинциаль -
ной знати и духовенства против революционных
преобразований, вылившаяся в кровопролитную
гражданскую войну, названную современниками
"Вандеей"5.
В начале 1793 г. молодая французская рес¬
публика, и без того раздираемая внутренними
распрями, оказалась перед лицом возросшей
внешней опасности: ее армии потеряли чис¬
ленное превосходство над силами антифран-
цузской коалиции. Воровство, процветавшее
среди поставщиков, которым покрови¬
тельствовал генерал Дюмурье, вело к скверному
снабжению республиканских войск. Полу¬
голодные, плохо одетые добровольцы все чаще
пользовались предоставленным им законом
правом и покидали свои части, возвращаясь к
родным очагам. К февралю 1793 г. рес¬
публиканские армии насчитывали всего 228 тыс.
человек против 400 тыс. в декабре 1792 г.
colloque de Rennes. 17-21 septembre 1985. Re-
cueillis et presentes par Francois Lebrun et Roger
Dupuy. Paris, 1987.
5 Tilly Ch. La Vendee. Paris, 1970.
209
Ставка на революционную сознательность и
патриотизм не оправдывалась, и 24 февраля
1793 г. Конвент принял декрет о принудительном
рекрутировании дополнительных 300 тыс. чело¬
век. Конскрипция распределялась между депар -
таментами, куда для контроля за исполнением
декрета были направлены наблюдатели Кон¬
вента. Набор солдат производился в коммунах
путем жеребьевки среди холостых мужчин.
В отличие от предыдущих армейских наборов
1791 и 1792 гг., осуществлявшихся в обстановке
известного энтузиазма населения, декрет 1793 г.
почти повсеместно вызвал глухое сопротивление.
Кое-где возникали даже попытки мятежа, кото -
рые, впрочем, легко подавлялись. Особый обо¬
рот дело приняло, однако, на западе Франции,
в Вандее. В действительности за этим сло¬
вом стоят четыре департамента, расположенных
вдоль нижнего течения Луары и к югу от него:
собственно Вандея, Нижняя Луара, Мэн и Луара
и наконец Де Севр.
Было бы неправильно утверждать, что
причиной народного восстания в Вандее стал
рекрутский набор. Он послужил лишь толчком,
предлогом к открытому выражению недо¬
вольства, уже давно накапливавшегося в серд¬
цах французов из глубинки, гораздо менее поли¬
тизированных, чем жители крупных городов, по-
крестьянски склонных к традиционализму и
настороженно встречающих любые ново¬
введения. Они многого ждали от Нового порядка
в 1789 г., но революционные преобразования,
как это всегда бывает, прежде всего повлекли за
собой нарушение привычного уклада их жизни.
Фискальные нововведения не облегчили, но
усугубили налоговые тяготы, обременявшие
крестьян. Распродажа национальных имуществ
обошла их стороной. Реформы местного управ -
ления перемешали привычные границы прежних
церковных приходов, карта департаментов не
была издана. Особенно болезненно отозвались в
душах глубоко религиозных жителей западной
части Франции декреты о гражданском устройст¬
ве духовенства, последовавшие за ними пресле¬
дования неприсягнувших священников -
"своих" - и их замена "пришлыми", "чужими".
Все это в целом породило не столько ностальгию
по недавнему прошлому, сколько глубокий
протест против настоящего. И этот протест,
естественно, не мог найти лучшего лозунга,
кроме как "За короля и веру". Уже летом 1792 г.
Вандея забурлила, однако тогда попытки вос¬
стания были подавлены. Принудительный набор
в армию 1793 г. (а не казнь короля, как можно
было бы ожидать) стал последней каплей, пере¬
полнившей чашу крестьянского терпения.
Волнения начались в первых числах марта: в
городке Шоле молодежь расправилась с коман¬
диром местной национальной гвардии. Спустя
неделю противники рекрутского набора столкну -
лись с "истинными патриотами" в Машекуле:
счет жертв среди последних пошел на сотни.
На берегах Луары возник отряд повстанцев,
возглавили который каретник Ж. Кателино и
лесничий Ж.-Н. Стоффле. Вскоре, в середине
марта, в стычке с ним была разбита небольшая
республиканская армия в 3 тыс. человек. Кон¬
вент, обеспокоенный таким неблагоприятным
развитием событий, в тот же день издал декрет,
согласно которому ношение оружия или белой
кокарды, символа "королевской" Франции, при¬
нятого вандейцами, каралось смертной казнью.
Ответной мерой "белых" стало массовое воору¬
жение крестьян и части горожан. Восстав¬
шие быстро находили себе вожаков среди
местных дворян, знавших военное дело, таких
как, например, Шаретт или Ларошжаклен. Отря¬
ды вандейцев выбрали себе пышное название:
"Католическая королевская армия". На деле это
было довольно аморфное объединение разроз¬
ненных полупартизанских, полурегулярных фор¬
мирований. Постоянное соперничество вожаков,
особенно обострившееся после гибели наиболее
признанного из них, Кателино, весьма затруд¬
няло совместные действия и серьезно ослабляло
вандейцев. Все же в моменты наивысшего
единства Католическая армия объединяла до
40 тыс. человек и представляла серьезную опас¬
ность для правительственных войск. Отря¬
ды восставших были спаяны кровными узами:
это были родственники, друзья, соседи, все они
прекрасно знали местность, имели отлично нала¬
женную цепь связи, с пристрастием, а потому
безошибочно, выбирали себе "капитанов".
Подобные преимущества вполне уравно -
вешивали и отсутствие полноценной медицинской
и интендантской службы в Католической армии,
и слабости ее вооружения. Нехватка ружей
компенсировалась, особенно поначалу, вилами,
косами, дубинами. Собранные по замкам ста¬
ринные пищали заменили восставшим пушки.
Настоящее же оружие приходилось брать в
боях, и оно успешно добывалось. Со временем
вандейцы неплохо вооружились и даже создали
постоянные военные формирования из числа рес¬
публиканцев-дезертиров или иностранных наем -
ников (немцев, швейцарцев). Это было немало¬
важно, поскольку Католическая армия, состояв¬
шая более чем на две трети из крестьян, зна -
чительно редела в период сельских работ.
Всего за три недели марта повстанцы зах -
ватили весь край, почти не встретив сопро¬
тивления. В мае вандейский штаб, объеди¬
нивший командиров и вожаков разных отрядов,
создал Высший совет, орган, призванный управ -
лять "завоеванной страной" во имя "законного
210
монарха" Людовика XVII, юного сына каз¬
ненного короля. Обосновавшийся в Шатийон-
сюр-Севр Совет стал чем-то вроде анти -
правительства и занимался изданием декретов,
прямо противоположных по содержанию декре¬
там Конвента. В июне войска вандейцев заняли
город Сомюр, открыв себе дорогу на Париж, но
идти на столицу не осмелились. Напротив, они
повернули на запад, вошли в Анжер, покинутый
властями и защитниками, и в конце июня пред¬
приняли осаду Нанта, рассчитывая на помощь
англичан. Город отчаянно защищался, а среди
атаковавших не доставало единства. Избранный
генералиссимусом Кателино был смертельно
ранен, и, проиграв уличные бои, демора¬
лизованные вандейцы сняли осаду. Летом 1793 г.
в Вандее наступило затишье. Перевес сил
оставался на стороне повстанцев. Мятежные
крестьяне вернулись на свои поля, но по первому
же сигналу были готовы вновь взяться за ору -
жие. Республиканские власти никак не могли
отважиться на решительные меры. Наконец,
1 августа, заслушав доклад Б. Барера, Конвент
решил "уничтожить" Вандею, направив туда
армию под командованием генералов Клебера и
Марсо. Однако 19 сентября республиканские
силы были наголову разбиты. Барер вновь
добился направления в непокорные депар¬
таменты новых частей, на этот раз Западной
армии, требуя "к 20 октября покончить с гнусной
Вандейской войной". В середине октября у
Шёле, в самом сердце восстания, отряды мя¬
тежников потерпели сокрушительное поражение.
Разгромленные "белые" во главе с Ларош-
жакленом стремительно отступали к Луаре,
увлекая за собой свои семьи, которым грозило
"революционное возмездие". Переправившись на
другой берег, они начали тяжкий поход на север,
в Нормандию, в надежде встретить там обе¬
щанную англичанами помощь. Огромная толпа
беженцев в 80 тыс. человек - женщин, детей и
стариков, дворян и простолюдинов, - охра¬
нявшихся 30-40 тыс. солдат, растянулась на
многие километры, грабя по дороге города и
деревни в поисках хоть какой-нибудь пищи.
Но дойдя до Гранвиля, вандейцы убедились, что
город на берегах Ла-Манша неприступен, а
английского флота нет и в помине. Изнуренные
беженцы потребовали, чтобы командиры вер¬
нули их к дрмашним очагам. Толпа с трудом
двинулась обратно по уже опустошенному
пути, оставив на нем 10 тыс. мертвых: голод,
дизентерия, осенние дожди и заморозки добивали
ослабевших людей. В декабре республиканцы
захватили их, уже не способных сопротивляться,
в Ле Мане и устроили резню. Остатки Като¬
лической королевской армии бежали вдоль
Луары, отчаянно пытаясь прорваться на юг, и
накануне Рождества 1793 г. погибли оконча -
тельно под ударами правительственных войск.
В результате этой бойни уцелели лишь
несколько отрядов, не участвовавших в этом
трагическом походе в Нормандию, в частности,
отряды Шаретта и Стоффле. Они продолжали
действовать еще довольно долго, но "большая
война" в Вандее практически уже закончилась.
В начале 1794 г. командующий Западной
армией генерал Тюрро приступил к исполнению
страшного декрета от 1 августа 1793 г., решив
покарать мирное население, поддерживавшее
повстанцев. "Вандея должна стать национальным
кладбищем", - заявил он. Тюрро разделил свои
войска на две армии, по 12 колонн в каждой,
которым было предписано двигаться навстречу
друг другу с запада и с востока. "Адские
колонны", как их тут же окрестили вандейцы, с
января до мая жгли дома и посевы, разрушали
изгороди, грабили, насиловали, убивали во имя
республики. Счет жертв пошел на многие
тысячи. Особый размах экзекуции приняли в
Нанте, где организацией террора занимался член
Конвента Каррье6. Около 10 тыс. человек, час¬
то никогда не державших оружия в руках, а
просто сочувствовавших повстанцам - их жены,
дети, родители, были казнены по его прямому
приказу. Однако гильотины и расстрелов было
недостаточно для воплощения его грандиозных
карательных замыслов. Половина "осужденных",
так и не дождавшись суда, погибла в Луаре:
людей, надеявшихся на обещанную было амнис -
тию. усаживали в большие лодки, которые за¬
тапливались на середине реки, или просто сбра -
сывали в воду, связав руки. С супругов срывали
одежду и связывали их попарно, прежде чем
утопить. Беременных женщин обнаженными свя -
зывали лицом к лицу с дряхлыми стариками,
мальчиков со старухами, священников с юными
девушками. Каррье называл такой способ казни
"республиканскими свадьбами". Экзекуции часто
проводились по ночам, при мерцающем свете
факелов. Сам "нантский палач" любил наблю¬
дать за их ходом: купив себе изящное суде¬
нышко, под предлогом надзора за берегами он
раскатывал на нем по Луаре вместе со своими
подручными и куртизанками...
Так за свою непокорность Вандея была
потоплена в крови. Расправа длилась не один
месяц. Лишь после термидорианского переворота
(июль 1794 г.) политика репрессий была
пересмотрена и начались поиски компромисса.
В начале 1795 г. Стоффле, Сапино и ряд других
6 Одной из редких попыток "политической
реабилитации" Каррье, прозванного "нантским
палачом", была книга: Gaston-Martin. Carrier et sa
mission a Nantes. Paris, 1924.
211
лидеров уцелевших вандейских отрядов подпи¬
сали с "представителями народа" мирный договор
в Ла Жонэ. Соглашение подтверждало, что
Вандея признавала республику, республика же в
свою очередь обещала освободить непокорные
департаменты на 10 лет от рекрутского набора и
налогов, приостановить преследование неприсяг¬
нувших священников. Но высадка эмигрантов на
Кибероне в середине лета вновь подтолкнула
мятежных взяться за оружие и сорвала хрупкий
мир. Республика направила против Вандеи
генерала Л. Гоша. К весне 1796 г., после казней
Стоффле и Шаретта, Вандея была окончательно
обезглавлена.
Вандея была побеждена, но до конца не
смирилась и не перестала бурлить, сохранив в
себе ферменты политического брожения на
протяжении всего XIX в. Возможно, в известной
степени, она сохраняет их и до сих пор.7
Невероятная ожесточенность столкновения двух
встречных течений революционного процесса,
небывалый масштаб репрессий, обрушив¬
шийся на непокорные департаменты в конце
XVIII столетия, глубочайшим образом воздейст¬
вовали на психологию людей и придали пос¬
ледующим поколениям вандейцев совершенно
особые черты. Сформировалось специфическое
региональное сознание, "особое лицо" Вандеи.
Мятежный дух еще не раз давал о себе знать в
особенно трудные моменты истории: в 1814 и в
1815 гг. Вандея поднималась против Наполеона;
в 1832 г. - в поддержку легитимного монарха.
Впоследствии на всех выборах она исправно
отдавала свои голоса, как отдает их и сегодня,
наиболее консервативным политическим партиям
и течениям.
Н.Ю. Плавинская
7 Martin J.-C. Une guerre interminable. La Vendee deux cents ans apres. Nantes, 1985; idem. La Vendee et
la France. Paris, 1987; idem. La Vendee et la Me'moire. Paris, 1989.
212
Научная жизнь
ОБ АРХИВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Редакция журнала ’’Новая и новейшая исто¬
рия" обратилась к директору Архива Президента
Российской Федерации А.В. Короткову с
просьбой проинформировать научную общест¬
венность о возможности использования иссле¬
дователями документов, хранящихся в архиве.
Публикуем ответ директора архива, представ¬
ляющий интерес для широкого круга российских
историков.
Главному редактору журнала
"Новая и новейшая история"
Академику СЕВОСТЬЯНОВУ Г.Н.
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации в целях уточнения соста¬
ва документов и фондов Архива Президента
Российской Федерации (АПРФ) и эффективного
использования архивных документов в 1993 г.
начата передача отдельных комплексов доку¬
ментов и фондов бывшего архива Политбюро
ЦК КПСС на хранение в систему Государствен¬
ной архивной службы России.
В апреле-июне текущего года Архив Пре¬
зидента передал в Российский центр хране¬
ния и изучения документов новейшей истории
(РЦХИДНИ) и Центр хранения современной
документации (ЦХСД) Росархива более
3000 дел, в том числе протоколы заседаний
Политбюро ЦК КПСС за 1941-1990 гг.,
материалы XIX партийной конференции, тор¬
жественных заседаний ЦК КПСС, Верхов¬
ных. Советов СССР и РСФСР, Избирательной
комиссии по выборам народных депутатов СССР
от КПСС. До конца 1993 г. в эти же центры
будет передано еще более 6000 дел, среди
которых протоколы заседаний Политбюро
ЦК КПСС за 1919-1990 гг., в том числе
протоколы "Особая папка" за 1919-1952 гг.,
рабочие записи заседаний Секретариата
ЦК КПСС за 1964-1990 гг., материалы
международных встреч, совещаний и конфе¬
ренций, документы Учредительной конференции
и съезда РКП за 1990 г. и некоторые другие.
Передача документов из Архива Президента
Российской Федерации в государственные архивы
позволит ввести в научный и общественный
оборот значительный комплекс ценных и ранее
неизвестных исследователям архивных доку¬
ментов.
Работу по передаче документов из Архива
Президента в государственные архивы предпо¬
лагается проводить и в дальнейшем.
Директор Архива Президента
Российской Федерации А. Коротков
21 июля 1993 г.
ПАМЯТИ М.И. КУТУЗОВА
28-29 апреля 1993 г. в Военно-историческом
музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи (ВИМАИВиВС) состоялась научная кон¬
ференция, посвященная 180-летию со дня кон¬
чины прославленного русского полководца гене-
рал-фельдмаршала светлейшего князя М.И. Го-
ленищева-Кутузова-Смоленского.
В работе конференции приняли участие
потомки Михаила Илларионовича, историки,
музейные работники, сотрудники архивов, госу¬
дарственных учреждений из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Пскова, Новгорода и
других городов России.
В качестве гостей на конференции при¬
сутствовали народный художник Российской Фе¬
дерации, действительный член Российской ака¬
демии художеств, скульптор, проф. М.И. Ани¬
кушин, д.т.н., проф. полковник В.С. Гонча-
ревский из Военной инженерно-космической
Краснознаменной академии им. А.Ф. Можайско¬
го, преподаватели и курсанты этого учебного
заведения. На территории его размещалась в
прошлом Артиллерийско-инженерная школа, в
которой учился и преподавал Голенищев-
Кутузов.
Перед открытием конференции прошло тор¬
213
жественное возложение венка и цветов к могиле
и памятнику Кутузову у Казанского собора с
участием потомков полководца, представителей
мэрии Санкт-Петербурга, духовенства, общест¬
венности города, военно-патриотических клубов,
роты почетного караула и оркестра Ленинград¬
ского военного округа.
В течение двух дней под председательст¬
вом начальника ВИМАИВиВС полковника
В.М. Крылова, докторов исторических наук,
профессоров заслуженного деятеля науки РФ
Б.С. Абалихина и В.А. Дунаевского обсуж¬
дались новые и малоизвестные факты жизни и
деятельности великого соотечественника, а так¬
же планируемые мероприятия к 250-летию со
дня рождения Кутузова в 1995 г.
С сообщениями выступили 23 участника кон¬
ференции.
Основным мероприятиям к 250-летию со дня
рождения Кутузова, которые предполагается
осуществить в Санкт-Петербурге, Москве и
Московской области, были посвящены выступ -
ления начальника отдела истории Отечественной
войны 1812 г., полководческой и государственной
деятельности Кутузова ВИМАИВиВС, заслу¬
женного работника культуры РФ полковника
А.А. Шишкина и заведующего научно-экспо -
зиционным отделом Государственного Боро¬
динского военно-исторического музея-запо¬
ведника В.Е. Анфилатова.
Центральное место в многочисленном комп¬
лексе планируемых мероприятий, утвержденном
правительством Российской Федерации в декабре
1992 г., безусловно, занимает вопрос об откры¬
тии в Санкт-Петербурге и в Москве музеев
Кутузова.
В Санкт-Петербурге для этой цели пред¬
ложено создать мемориальный Дом-музей Куту¬
зова как филиал ВИМАИВиВС в доме № 30 на
Кутузовской набережной, в котором с 1801 г.
жил полководец и откуда в августе 1812 г. он
выехал в действующую армию. Основой такого
музея должна стать экспозиция "М.И. Кутузов.
Отечественная война 1812 г.”, созданная в
ВИМАИВиВС в июне 1992 г. на базе мемо¬
риальных экспонатов Дома-музея фельдмаршала
Кутузова, присланных из Республики Польши.
В выступлениях было сообщено новое о
жизни и деятельности Кутузова: установление на
основе сведений из архивных документов факта
родства по материнской линии М.И. Голе¬
нищева-Кутузова и Д.М. Пожарского; разве¬
дывательная деятельность Кутузова под Измаи¬
лом; медицинское заключение о ранениях и
причине смерти полководца; деятельность Куту -
зова на посту военного губернатора Санкт-
Петербурга и Киева, а также начальника Санкт-
Петербургского ополчения; Кутузов и донское
казачество; неизвестные страницы войны 1812 г.
по материалам неопубликованных сочинений
А.И. Михайловского-Данилевского; 1813 г. в
жизни полководца и др.
Научная конференция завершилась обра¬
щением ее участников к министру культуры и
туризма РФ Е.Ю. Сидорову по поводу небла¬
гополучного состояния дел в Бородинском музее-
заповеднике, от территории которого продол -
жается отторжение земель под дачные и
сельскохозяйственные постройки, и в музее
"Бородинская панорама", где коммерческая дея¬
тельность ее директора зачастую идет вразрез с
насущными проблемами музейной работы.
Участники конференции выразили надежду на
всемирную поддержку со стороны правительства
РФ намеченных мероприятий к 250-летию со дня
рождения Кутузова.
Материалы научной конференции публи¬
куются в отдельном сборнике.
Ю.Н. Гуляев
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
28-29 января 1993 г. в Уральском госу¬
дарственном университете им. А.М. Горького
состоялся международный научный семинар
"Демократия и тоталитаризм: европейский опыт
XX в." В его организации приняли участие Центр
германских исторических исследований Инсти¬
тута всеобщей истории РАН, Московское пред¬
ставительство Фонда Фридриха Эберта (ФРГ),
Институт культуры при посольстве Италии в
Москве.
На пленарном заседании были заслушаны
доклады докторов исторических наук В.И. Ми¬
214
хайленко (Екатеринбург) "К дискуссии о на¬
циональном, имперском и интернациональном в
русском большевизме", А.Б. Цфасмана (Челя¬
бинск) "Демократические и тоталитарные пути
общественного развития в новейшее время",
профессора В. Страда (посольство Италии в
Москве) "Культура тоталитарная и культура де¬
мократическая", д.э.н. Ю.А. Борко (Москва)
"Европейский опыт: демократия и тота¬
литаризм", д-ра П. Шульце (Московское пред¬
ставительство Фонда Ф. Эберта) "Европа на
пути к политическому союзу".
В ходе дискуссии рассматривались возможные
пути сравнительного изучения тоталитарных
режимов, уточнялись возможности и границы
сравнения гитлеризма и сталинизма, сущест¬
вовавших в один и тот же исторический период.
В послании, адресованном участникам семинара,
к.и.н. М.Я. Гефтер (Москва) обратил внимание
на то, что под понятием "тоталитаризм” под¬
разумевается не какая-то конкретная исто -
рическая реальность, а общие черты различных
процессов и явлений, у каждого из которых "своя
родословная, не совпадающий по времени, да и
по сути генезис".
Эта мысль получила логическое продолжение
в выступлении к.и.н. Н.С. Черкасова (Томск),
отметившего сходство методов, но вместе с тем
и противоположность как первоначальных
ориентиров, так и целей сталинского и гит¬
леровского режимов. Отклонение от посту¬
пательного развития стран и народов, по мнению
к.и.н. М.Б. Корчагиной (Москва), можно
объяснить глубокими изменениями, происхо¬
дившими в социальной структуре общества,
поиском различными группами своеобразных
"ниш", не изведанных ранее.
П. Шульце подчеркнул двойственный ха¬
рактер фашистских режимов. С одной стороны,
они препятствовали объективно-планомерному
развитию той или иной страны, с другой - спо¬
собствовали модернизации экономики. Вместе с
тем даже серьезный промышленный скачок,
характерный для отдельно взятого государства,
заключил П. Шульце, не идет на пользу со¬
циальному развитию всего общества и история
развития стран с тоталитарной системой - тому
подтверждение.
Об исторических корнях германского фа¬
шизма, связанных с кризисом веймарской
демократии, говорили на семинаре к.и.н.
М.П. Лаптева (Пермь) и А.Л. Булдаков
(Тюмень). Характеризуя пути выхода из тота¬
литарных тупиков, д.и.н. Н.Н. Попов (Ека¬
теринбург) отметил необходимость внима¬
тельного изучения результатов послевоенного
развития Германии, Италии и Японии. К.и.н.
В.И. Шихов (Екатеринбург) выступил против
широко распространенных суждений о тота¬
литарной основе российского менталитета в
прошлом и настоящем, считая что основой
сознания в нашем обществе традиционно явля¬
ется авторитарность.
Данные о политической ориентации рос¬
сийских граждан, и в частности, жителей
Урала, были представлены екатеринбургскими
исследователями кандидатами исторических
наук С.В. Корниловой и А.Д Кирилло¬
вым. Д.и.н. А. Г. Чевтаев (Екатеринбург)
говорил о неоднозначном характере процесса
"социализации масс" в XX в.
Подводя итоги дискуссии, Ю.А. Борко отме¬
тил ее актуальность в условиях перехода от
тоталитаризма к демократии в ряде стран.
Глубокое, всестороннее осмысление истории
нынешнего столетия позволяет глубже понять
эволюцию и тех общественно-политических
процессов, современниками которых мы являем¬
ся сегодня.
А.И. Борозняк, Д. Л. Стровский
215
ПАМЯТИ ВИКТОРА МИХАИЛОВИЧА ХОЛОДКОВСКОГО
24 июня 1993 г. на 75-м году ушел из жизни
Виктор Михайлович Холодковский. Историк по
призванию, оригинальный исследователь, полу¬
чивший признание у отечественных и зарубеж¬
ных коллег. Однако, к сожалению, его талант и
научный потенциал в общем оказались невостре -
бованными.
Родился Виктор Михайлович 13 февраля
1919 г. на Смоленщине в семье сельского учи¬
теля. Учился в начальной школе, работал счето -
водом леспромхоза, затем продолжил учебу в
электротехникуме и школе-десятилетке, кото¬
рую окончил с отличием в 1938 г. и стал сту¬
дентом факультета русского языка и литературы
Смоленского педагогического института.
С началом Великой Отечественной войны
Виктор Михайлович был мобилизован на строи -
тельство противотанковых рвов. С приближе¬
нием фронта его отозвали и отправили на
восток, где с группой смоленских студентов он
продолжил учебу в Саратовском педагогическом
институте.
По окончании института в марте 1942 г.
Виктор Михайлович работал учителем средней
школы в г. Черемхове Иркутской области.
В июне того же года его призвали в Красную
Армию. По окончании танкового училища в
г. Горьком он в звании младшего лейтенанта
поступил в распоряжение Главного броне¬
танкового управления.
Еще в институте Виктор Михайлович уси¬
ленно изучал иностранные языки, склонность к
которым с годами только возрастала. Он хорошо
владел английским, немецким, французским,
испанским, итальянским, венгерским, финским,
шведским, норвежским, датским, голландским
языками. Это был полиглот, легко преодо¬
левавший языковой барьер.
Виктор Михайлович был направлен на
научно-испытательный бронетанковый полигон,
где занимался военно-техническим переводом с
английского, немецкого и французского.
После демобилизации Виктор Михайлович
работал в отделе технической информации
Главного бронетанкового управления Советс¬
кой Армии, а в 1947-1949 гг. учился в Выс¬
шей дипломатической школе МИД СССР,
куда поступил по направлению Киевского РК
г. Москвы.
Далее последовала служба в различных
государственных, партийных и научных учреж¬
дениях: Архивном управлении МИД СССР
(1949-1951 гг.), Особом секторе и Общем отделе
ЦК КПСС (1951-1959 гг.), Центральном
партийном архиве Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС (1950 г.), Прави¬
тельственной библиотеке Управления делами
Совета Министров СССР (1959-1960 гг.).
Кандидатскую диссертацию по теме "Рево¬
люция 1918 г. в Финляндии и германская
интервенция" Виктор Михайлович защитил в
1959 г.
В следующем году он стал научным сот¬
рудником Института истории (после 1968 г. -
Института всеобщей истории) АН СССР. Его
давняя страсть к изучению истории, безгра¬
ничная любознательность исследователя, каза¬
лось, получили долгожданный выход. Но твор¬
ческий путь Виктора Михайловича как историка
оказался тернистым. Конец "хрущевской отте -
пели" для исследователей, дороживших каждым
историческим фактом, каждым историческим
документом и не желавших поступиться научной
истиной, оказался рубежом, когда несогласие с
партийными директивами оборачивалось твор¬
ческими потерями.
Виктор Михайлович, как активная твор¬
ческая натура и совестливый человек, выступил,
подобно некоторым сотрудникам института, в
защиту А.М. Некрича, исключенного из партии
решением КПК при ЦК КПСС за книгу
"22 июня 1941 г.", в которой ответственность за
неподготовленность страны к гитлеровскому
нападению возлагалась на И.В. Сталина.
Акция исключения была частью общей поли¬
тико-пропагандистской кампании с целью
реабилитации "отца народов", Виктор Михай¬
лович обратился с письмом в редакцию ‘ Военно-
исторического журнала", опубликовавшего
разгромную статью о книге А.М. Некрича.
"Объяснение" с редактором журнала закончилось
для Виктора Михайловича инсультом.
Круг научных интересов В.М. Холод-
ковского был широк и разнообразен. Основными
темами его творчества являлись международные
отношения и советская внешняя политика в
первые послеоктябрьские годы, советско-
финляндские отношения, история Финляндии,;
история второй мировой войны.
Многочисленные отклики в отечественной и
зарубежной (в Финляндии, ФРГ) научной печати
получили его главные опубликованные труды -
216
две тематически взаимосвязанные книги: "Рево -
люция 1918 года в Финляндии и германская
интервенция" (М., 1967) и "Финляндия и
Советская Россия. 1918-1920" (М., 1975). Пер¬
вая из них в переработанном и расширенном
виде была издана на финском языке изда -
тельством "Пршресс" в 1978 г. Тогда же вторая
книга вышла в переводе в Финляндии, где были
изданы и некоторые другие работы Вик¬
тора Михайловича, в частности его последняя
прижизненная статья в сборнике "Зимняя война.
Финляндия и Россия" (Хельсинки, 1991).
Обе книги выходили в свет тяжело, прошли
цензуру только после того, как в них пришлось
сделать многочисленные купюры. В аппарате
ЦК КПСС были "оппоненты" Виктора Ми¬
хайловича - референты, занимавшиеся Фин¬
ляндией, "телефонное право" которых, судя по
всему, не раз имело решающее значение.
Виктор Михайлович оказался "невыездным",
доклады, подготовленные им для научных
конференций за рубежом, зачитывались в его
отсутствии.
Виктор Михайлович был непременным участ¬
ником коллективных трудов, включавших те или
иные вопросы истории Финляндии начиная с
конца XIX в. Среди них "Всемирная история"
(т. 8-10), "История второго Интернационала"
(т. 1-2), учебник для вузов "Новейшая история.
1918-1939". Он активно участвовал во всех
мероприятиях институтской группы по истории
стран Скандинавии и Финляндии; пользовался
репутацией ведущего отечественного специа -
листа по истории Финляндии.
Это был предельно честный историк,
превыше всего ценивший научную объек¬
тивность, не допускавший и мысли о воз¬
можности какого-либо, даже самого незначи¬
тельного отступления от исторической правды.
Он не желел ни времени, ни усилий, добиваясь
постижения истины. Малейшее сомнение слу -
жило ему основанием во что бы то ни стало
докопаться до сути дела, до первоисточника.
Так, прослеживая сообщения о подготовке в
начале 30-х годов антисоветской интервенции
силами Польши и Румынии при тайном содей¬
ствии французского генштаба, Виктор Михай¬
лович в конце концов обнаружил источник таких
сообщений. Им оказался некий журналист,
обещавший представить необходимые доказа¬
тельства, но так и не сделавший этого. А тем
временем пропагандистская утка о готовящейся
интервенции оказалась подхваченной и размно¬
женной, перекочевав и в некоторые научные
работы.
В другом случае Виктор Михайлович, пере¬
проверив документальный источник на фрак -
цузском, обнаружил, что заключение одного из
отечественных историков о поджоге Москвы
французами в 1812 г. всего лишь следствие
неточного перевода. Его статья на эту тему,
направленная в редакцию исторического жур¬
нала, увидела свет нс скоро, а только в связи с
визитом в 1966 г. в СССР генерала де Голля.
Известен также случай, когда Виктор Михай¬
лович внес поправку в публикацию ленинского
наследия, о которой он сообщил в Институт
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в письме
"Ленин ли автор документа?"
Преданность избранной профессии, огромное
трудолюбие, умение работать с источниками на
разных языках, редкая пунктуальность и науч¬
ная строгость изложения делами Виктора Михай¬
ловича незаменимым при подготовке научных
трудов по большим темам. В 60-е годы, когда
директором Института истории АН СССР был
В.М. Хвостов, знавший трудолюбие в спо¬
собности Виктора Михайловича еще со времени
его работы в Архивном управлении МИД СССР,
Виктор Михайлович часто был занят, иногда
длительное время выполнением заданий ди¬
рекции. Например, подробный критический
разбор присланной из Агентства печати
"Новости" рукописи о советско-финляндских
отношениях составил 75 страниц. "Это же инте -
ресно", - говорил он, принимаясь за очередное
задание, которое под его пером вырастало в
значительный и полноценный научный труд. Из -
за поразительной скромности Виктора Михай¬
ловича (и не только по этой причине) немалая
часть его научной работы так и осталась
"за кадром".
Показательны обстоятельства, при которых
В.М. Холодковский вынужден был подать
заявление об уходе на пенсию в январе 1982 г.
Этому предшествовало его выступление на
очередном симпозиуме советских и финлянд¬
ских историков в Петрозаводске в октябре
1981 г. Выступая в прениях, он возложил
ответственность за советско-финляндскую войну
1939-1940 гг. на политику И.В. Сталина и
В.М. Молотова. По команде из Отдела науки
ЦК КПСС дело раздули, сделав предметом
разбирательства в партбюро Института всеоб¬
щей истории АН СССР. В объяснительной
записке Виктор Михайлович писал: "Политика
Сталина-Молотова в отношении Финлян¬
дии в конце 1939 г. являлась антиленинской,
противоречащей ленинским принципам уже
потому, что представляла собой нарушение тех
самых международных норм, которые до этого
сам же Советский Союз предлагал принять и
отстаивал".
Такая оценка, сегодня подтвержденная
многими советскими архивными документами, и в
то время, за несколько лет до перестройки и
217
гласности, была самоочевидной. Однако эта
оценка была объявлена "ненаучной", "анти¬
исторической". Лишь выход на пенсию избавил
Виктора Михайловича от дальнейшего "раз¬
бирательства".
Научный архив В.М. Холодковского еще
предстоит разобрать. Его коллегам по институту
известно, что он много трудился над рукописью о
советско-финляндских отношениях между двумя
мировыми войнами, написал несколько глав для
коллективного труда по истории Финляндии,
работал над некоторыми другими историческими
сюжетами. Можно предполагать, что неопубли¬
кованные труды Виктора Михайловича не усту¬
пают по объему опубликованным.
Виктор Михайлович Холодковский занимался
своим любимым делом - исследованием
прошлого около 20 лет, что немного для исто¬
рика-профессионала. Тем не менее результаты
его труда впечатляющи, весомы. Но они могли
быть еще более значительными, не будь искус¬
ственных препятствий на его творческом пути.
Все, кто ценил и уважал Виктора Михайловича,
сохранят светлую память об этом бесконечно
преданном профессии ученом, чья скромность со -
перничала только с его мужеством.
Д.Г. Наджафов,
доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН
218
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ"
в 1993 г.
АРХИВЫ - ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
Основы законодательства Российской
Федерации об Архивном фонде Рос¬
сийской Федерации и архивах № 6
Козлов В.П. Принципы "Основ законо¬
дательства Российской Федерации об
Архивном фонде Российской Федера¬
ции и архивах" №6
СТАТЬИ
Альперович М.С. Завершение испанской
колонизации Америки в XVIII в №5
Барг М.А. Юм как методолог истории № 1
Ватлин А.Ю. Взаимоотношения трех
Интернационалов в 1919-1922 гг. Не¬
известные документы №4
Виноградов В.Н. Об исторических корнях
"горячих точек" на Балканах № 4 .
Вишлев О.В. О подлинности "постанов¬
ления политбюро ВКП(б)", хранящихся
в зарубежных архивах № 6
Гаджиев К.С. Американский протестан¬
тизм: история и современность № 1
Горлов С.А. Советско-германский диалог
накануне пакта Молотова-Риббентро¬
па в 1939 г № 4
Генерал-полковник Горьков Ю.А. Гото¬
вил ли Сталин упреждающий удар
против Гитлера в .1941 г № 3
Гуревич АЛ. Медиевистика XX в. в изоб¬
ражении американского историка
И. Кантора №6
Евзеров РЛ. Современная историография
II Интернационала. Переосмысление
\ прошлого № 1
Ковальский Н.А. Социальные проблемы в
христианстве. Исчерпала ли себя хрис¬
тианская социальная мысль? № 6
аЛафибер У. (США). Американская ис¬
ториография внешней политики США № 1
Мещеряков М.Т. Судьба интербригад в
Испании по Новым документам № 5
Могнльницкий Б.Г. (Томск). Некоторые
итоги и перспективы методологических
исследований в отечественной исто¬
риографии z № 3
Могнльницкий Б.Г. (Томск). Между объ¬
ективизмом и релятивизмом. Дискуссии
в американской историографии № 5
Мусатов ВЛ. СССР и венгерские со¬
бытия 1956 г.: новые архивные мате¬
риалы № 1
Мэттьюз М. (Великобритания). Есть ли
будущее у советологии? Размышления
бывшего участника "холодной войны".
Послесловие Г.И. Вайнштейна № 2
йНаринскнй М.М. СССР и план Маршалла.
По материалам Архива Президен¬
та РФ ... №2
Патрушев А.И. Ренессанс Макса Вебера:
истоки, дискуссии» тенденции № 1
Академик Писарев Ю.А. Российская
контрразведка и тайная сербская орга -
низация "Черная рука" № 1
Академик Писарев Ю.А. Новые подходы
к изучению истории первой мировой
войны № 3
Пихоя Р.Г. Современное состояние ар¬
хивов России № 2
Академик Севостьянов Г.И. Послы вру¬
чают верительные грамоты. Уста¬
новление советско-американских дип¬
ломатических отношений в свете
новых документов №6
Смоленский Н.И. О разработке теорети -
ческих проблем исторической науки.... № 3
Хвостова К.В. К вопросу об историческом
познании №3
Чеканцева З.С. О новом подходе к исто¬
рии народных движений: Франция
XVI-XVIIIbb №4
Черкасов П.П. Россия и Франция в
XVIII в. Итоги и перспективы исследо¬
вания № 3
Чернышева О.В., Комаров Ю.Д. Церковь
стран Северной Европы на пороге
XXI в №2
Черняк Е.Б. Цивилизации и революции.... № 4
Шацнлло В.К. Президент Вильсон: от по -
средничества к войне. 1914-1917 гг № 6
СЛОВО ИСТОРИКА
Данилов В.П. Современная российская
историография: в чем выход из кри¬
зиса № б
Член-корр. РАН Сахаров А.Н. Новая
политизация истории или научный плю¬
рализм? О некоторых тенденциях в
мировой историографии истории России
XX в №6
Академик Тодоров Н. (Болгария). Бал¬
канский узел противоречий. История и
современность №3
219
В ПРЕЗИДИУМЕ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Обсуждение работы Отделения истории
РАН № 2
Постановление "О состоянии и перспек¬
тивах фундаментальных исследований
в области исторических наук" № 2
В НАЦИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
российских историков ран
Чубарьян А.О. К. XVIII Международному
конгрессу исторических наук №4
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Ответы профессора исторического
факультета Московского государст¬
венного университета им. М.В. Ломо¬
носова В.П. Смирнова на вопросы
редакции журнала "Новая и новейшая
история" № 3
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
Козенко Б.Д., Садовая Г.М. О перио¬
дизации новой и новейшей истории в
свете современных трактовок №4
ПУБЛИКАЦИИ
Варшавское восстание 1944 г. Документы
из рассекреченных архивов № 3
Поездка В.М. Молотова в Берлин в
ноябре 1940 г. Предисловие академика
Т.Н. Севостьянова № 5
Советско-германские документы 1939-
1941 гг. Из Архива ЦК КПСС № 1
Сталин, Берия и судьба армии Андерса в
1941-1942 гг. (Из рассекреченных ар-
хивов)...*. № 2
Тайна "Кента": судьба советского развед¬
чика А.М. Гуревича № 5
Уроки войны с Финляндией. Неопубли¬
кованный доклад наркома обороны
СССР К.Е. Ворошилова на пленуме
ЦК ВКП(б) 28 марта 1940 г.
Предисловие генерал-полковника
Ю.А. Горькова № 4
ВОСПОМИНАНИЯ
КорниенкоТ.М. Как принимались реше¬
ния о вводе советских войск в Аф¬
ганистан и их выводе № 3
Ледовский А.М. На дипломатической
работе в Китае в 1942-1952 гг № 6
Солдатов А.А. Ю.А. Гагарин в Англии.
Июль 1961 г № 5
Член-корр. РАН Федоренко Н.Т. Век Го
Можо № 4
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Александрова Т.А. Дом Романовых после
1917 г № 3
Виноградов К.Б. (Санкт-Петербург),
Лихарев Д.В. (Уссурийск). Адмирал
Фишер и борьба Великобритании за
господство на морях в начале XX в. .. № 3
Гак А.М. О судьбе золотого запаса Рос¬
сии (1918-1920 гг.) №6
Гибианский Л.Я. Как возник Коминформ.
По новым архивным материалам № 4
Емец В.А. А.П. Извольский: министр -
неудачник или реформатор? № 1
Кимболл У.Ф. (США). Франклин Руз¬
вельт - главнокомандующий. 1941-
1945 гг № 1
Кудрявцева Е.П. Российский дипломат
Г.А. Строганов (1770-1857) № 4
Матвеев В.А. Британская монархия: ис¬
кусство выживания №6
Олано-Эренья А. (Испания). Испанский
король и попытки спасения семьи
Николая II №5
Пальчиков П.А. История генерала Вла¬
сова №2
Патрушев А.И. Жизнь и драма Фридриха
Ницше №5
Пожарская С.П. Бурбоны в Испании № 1
Рогинский В.В. Династия Глюксбургов в
Норвегии № 4
Сиполс В.Я. Тайные документы "странной
войны" №23
Троицкий Н.А. Маршалы Наполеона № 5
СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
Новиков Г.Н. (Иркутск). Об архиве
А.Ф. Керенского в Техасе № 1
Шкундин-Николаев Г.Д. Болгарское фиас¬
ко П.Н. Милюкова в 1917 г №5
ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ
Борисов Ю.В. А.З. Манфред. Штрихи к
портрету №5
Гинцберг Л.И. Академик Владимир Ми¬
хайлович Хвостов (1905-1972) № 6
Гутнова Е.В. Академик Сергей Дани¬
лович Сказкин (1890-1973) № 2
Золотарев В.П. Яков Михайлович Захер
(1893-1963) № 4
Панеях В.М. (Санкт-Петербург). Борис
Александрович Романов (1889-1957).
Трудная судьба ученого № 1
Попов Б.С. Эдуард Гиббон - историк,
писатель и мыслитель эпохи Про¬
свещения (1737-1794) № 3
220
ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ
Аникеев А.А. (Ставрополь). Поиск новой
системы исторического образования .... № 3
Борисов В.М. Некоторые аспекты препо¬
давания социально-политических дис¬
циплин в педвузах России № 1
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ
Блон Ж. PQ-17, истребленный конвой.
Из истории союзнических отношений.
1942 г. Предисловие В.Н. Воронова.... № 3
Гайдук И.В. По материалам книги Р.
Уилльямса "Русское искусство и амери¬
канские деньги. 1900-1940" <№ 1
Де Голль Ш. Мемуары надежд. Обнов¬
ление. 1958-1962 гг. Институты фран¬
цузского государства. Предисловие
В.И. Антюхиной-Московченко №5
Генерал-фельдмаршал фон Манштейн Э.
Сталинградская трагедия. (Главы из
ме муаров "Утерянные победы") № 2
ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ
Дунаевский В.А. Необходимое уточ¬
нение № 3
РЕЦЕНЗИИ
Багно В.Е. (Санкт-Петербург). Россия и
Испания. Документы и материалы.
1667-1917. Т. 1. 1667-1799. М., 1991 .. №2
Блуменау С.Ф. (Брянск). Документы ис¬
тории Великой французской рево¬
люции, т.2. М., 1992 №2
Бурин С.Н. Н.Э. С о л . Далекие друзья:
США и Россия, 1763-1867. Лоуренс,
1991 №3
Виноградов В.Н. Лабиринт национализма.
Хитросплетения дипломатии. Очерки в
честь Чарлза и Барбары Елавичей.
Коламбия (Огайо), 1992 № 3
Виноградов В.Н. В.А. Золотарев.
Противоборство империй (война 1877-
1878 гг. - апофеоз восточного
кризиса). М., 1991 №6
Гиленсен В.М. Ю. 3 а р у с к и. Гер¬
манские социал-демократы и советская
модель. Идеологические разногласия и
внешнеполитические концепции 1917-
1933. Мюнхен, 1992 №4
Иванов Р.Ф. Ф.Д. Волков. Взлет и
падение Сталина. М., 1992 № 2
Ивонин Ю.Е. (Запорожье). Обозрение
Германии Очерки по ранней новой
истории Германии в честь Д. Страусса.
Кирксвилл, 1992 № 1
Ивонин Ю.Е. (Запорожье). X. Шил¬
линг. Гражданский кальвинизм в
Северо-Западной Германии и Нидер¬
ландах с XVI по XIX в. Кирксвилл,
1991 №6
Кузьмичева Л. В. Е.П. Кудряв¬
цева. Россия и образование
автономного сербского государства
(1812-1833 гг). М., 1992 №3
Маныкин А.С. Становление американс -
кого государства. СПб., 1992 № 1
Матвеев В.А. Г.З. И о ф ф е. Революция
и семейство Романовых. М., 1992 № 4
Нежинский Л.Н. В.А. Шишкин. Цена
признания. СССР и страны Запада в
поисках* компромисса (1924-1929 гг.).
СПб., 1991 №4
Новик Ф.И. А.М. Ф и л и т о в. "Холод¬
ная война": историографические дис¬
куссии на Западе. М., 1991 №6
Орлик И.И. И. Валента. Советское
вторжение в Чехословакию. 1968. М.,
1992 №3
Орлов А.С. М.И. Семиряга. Тайны
сталинской дипломатии. 1939-1941 гг.
М., 1992 №5
Смирнов В.П. А. Руссо. Синдром
Виши. С 1944 г. до наших дней.
Париж, 1990 № 1
Строганов А.И. А.А. М а т л и н а.
Латинская Америка в меняющемся
мире. М., 1992 . № 5
Академик Тихвинский С.Л. Л ю Д а -
нянь. Избранные статьи по проб¬
лемам исторической науки. М., 1992... № 3
Туполев Б.М. Натиск на Африку: гер¬
манская колониальная экспансионисте -
кая политика и господство в Африке
от истоков до потери колоний. 2-е изд.
Берлин, 1991 №5
Тырсенко А.В. Исследование революции.
Некоторые итоги научных работ,
посвященных 200-летию Французской
революции. Париж, 1991 №6
Федосова Е.И. Е. Николе, М. В о -
в е л ь, Р. Юар, Р. Мартелли.
Приверженность республике. Париж,
1992 №5
Хевролнна В.М. Внешняя политика Рос¬
сии XIX и начала XX века. Документы
Российского министерства иностранных
дел. Т. VII(XV). Январь 1827 г. -
октябрь 1828 г. М., 1992 № 4
Цвсрава Г.К. (Бокситогорск). Н.Н. Бол¬
ховитинов. Россия открывает
Америку. 1732-1799. М., 1991 №5
Чернявский Г.И. (Харьков). С. Мо¬
ша н о в. Моя миссия в Каире.
221
София, 1991; К. Муравиев. Со¬
бытия и люди. Воспоминания. София,
1991 №2
Шепилов Д.Т. В.А. К у м а н е в. 30-е
годы в судьбах отечественной интел¬
лигенции. М., 1991 № 2
Шнеерсон Л.М. (Минск). К.Б. Виног¬
радов. Мировая политика 60-80-х
годов XIX века: события и люди. Л.,
1991 №1
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
Додолев М.А. Записка графа Аранды № 3
Ивонина Л.И. (Запорожье). Джордж
Вилльерс, герцог Бекингем № 1
Карлов Л.П. Колумб - великий морепла -
ватель № 5
Плавинская Н.Ю. Вандея №6
Пономарев М.В. Несо^рвявшийся ’’Рус¬
ский брак" Наполеона Бонапарта № 3
Чудинов А.ВЯНарлотта Корде й смерть
Марата № 5
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Борозняк А.И., Стровскнй Д.Л. (Ека¬
теринбург). Международный научный
семинар в Екатеринбурге №6
Выборы в Академию естественных наук
Российской Федерации № 1
Георгиев Л. Обсуждение проблем истории
фашизма и послевоенного устройства.. № 2
Гинцберг Л.И. Российско-германский кол¬
локвиум историков №5
Гуляев Ю.Н. (Санкт-Петербург). Памяти \
М.И. Кутузова №6
Забалуев В.Г. Международная конфе¬
ренция "Христианство - XX век" №5
Константинов В. Научно-исследова тель-
ская работа кафедры всеобщей исто¬
рии Российского государственного пе -
дагогического университета им.
А.И. Герцена № 1
Коротков А.В. Об Архиве Президента
РФ № 6
Лихоткин Г.А. (Санкт-Петербург), Лабу¬
тина Т.Л. Международная конфе¬
ренция по истории "Века Про¬
свещения" № 3
Маныкин А.С., Смирнов В.П. Новые
специальности на кафедре новой и
новейшей истории исторического фа -
культета МГУ : № 2
Милюкова В.И. В Научном совете РАН
"История международных отношений и
внешней политики России" № 3
Модель Д.А. Создание ассоциации рос¬
сийских англоведов № 1
Москаль Е.Н. Военная история: проблемы
и перспективы изучения № 5
Никифоров Е.А. Общее собрание Отде¬
ления истории РАН № 4
Петелин Б.В. (Вологда), Кретинин С.В.
(Воронеж). Германская социал-демо¬
кратия: уроки истории № 3
Позняков В.В., Гобарев В.М. Взаимо¬
отношения СССР и США в годы вто -
рой мировой войны №1
Яковлев И. Научная работа кафедры
новой и новейшей истории Иванов -
ского государственного университета.. № 2
Памяти В.М. Холодковского №6
Памяти академика Ю.А. Писарева № 4
Памяти А.Ф. Шульговского № 2
Е.В. Гутнова | № 1
Б.И. Марушкин | № 3
Д.Е. Меламид (Мельников) | № 3
М.Т. Мещеряков | № 3
З.С. Шейнис] № 3
222
CONTENTS
Archives to Historians. Articles. Academician Sevostyanov G.N. Ambassadors
Present Credentials. The Establishment of the Soviet-American Diplomatic Relations in the Light of the New
Documents. Kovalsky N.A. Social Problems in Christianity. Is the Christian Social Thought Exhausted?
Vishiev O.V. On the Authenticity of the Resolutions of the CPSU(B) Politburo Which Are Kept in Archives
Abroad. Aron Gurevich-State Prize Laureate1 of the Russian Federation. Gurevich A.Ya. Mediaevalism of the
20th Century As Depicted by N. Kantor, American Historian. Shatsillo V.K. President Wilson: from
Mediation to War. 1914-1917. Historians Take the Floor. Corr. Mem., RAS, Sakharov
A.N. A New Politicization of History or Pluralism in Science? On Some Trends in the World Historiography
of the Russian History of the 20th Century. Danilov V.P. Russian Historiography Today: Where is the Way
out of Crisis? Notes of a Diplomat Ledovsky A.M. Diplomatic Activity in China in
1942-1952. Documentary Essays. Gak A.M. On the Fate of the Gold Reserves of Russia
(1918-1920). Matveev V. A. The British Monarchy. The Art of Surviving. Profiles of
Hi storians. Gintsberg L.I. Academician Vladimir Mikhailovich Khvostov (1905-1972). Book
Reviews. Facts, Events, People. Scientific Life. Index of
the articles and materials published in the journal
"N о v a у a i noveishaya istoriya" in 1993.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ВИШЛЕВ Олег Викторович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, автор ряда работ по германской истории.
ГАК Александр Михайлович, кандидат исторических наук, автор ряда работ по отечественной
истории 20-х годов XX в.
ГИНЦБЕРГ Лев Израилевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института
проблем рабочего движения и сравнительной политологии РАН, специалист по германской истории и
истории международного рабочего движения, автор книг "Немецкие антифашисты в борьбе против
гитле ювской диктатуры (1933-1945)" (в соавторстве, М., 1961), "На пути в имперскую канцелярию"
(М., 1Q72) и ряда других работ.
ДАНИЛОВ Виктор Петрович, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института российской истории РАН. Основные работы посвящены аграрной истории России от
революции 1917 г. до коллективизации, в том числе: "Советская доколхозная деревня: население,
землепользование, хозяйство" (М., 1977); "Советская докол хозная деревня: социальная структура,
социальные огношения" (М., 1979); "Община и коллективизация в России" (1977, на японском языке);
"Rural Russia under New Regime" (London-Bloomington, 1988).
КОВАЛЬСКИЙ Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института Европы РАН. Автор монографий "Ватикан* и мировая политика"
(М., 1964), "Католицизм и международные отношения". (М., 1989) и других работ по проблемам
религии, ее влияния на социальное развитие и внешнюю политику.
КОЗЛОВ Владимир Петрович, доктор исторических наук, специалист по историографии и
источниковедению истории России XVIII - первой половины XIX в., автор монографий : "Колумбы
российских древностей" (М., 1981), "Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве"" (М.,
1988), "Полемика вокруг "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина" (М., 1989)," Древно¬
стелюбивые проказы" или "Обманутая, но торжествующая Клио" (М., 1993).
МАТВЕЕВ Викентий Александрович, кандидат исторических наук, журналист-международник,
специалист по Великобритании, автор ряда научных работ, политический обозреватель "Известий" в
1962-1992 гг.
ПЛАВИНСКАЯ Надежда Юрьевна, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник
Института всеобщей исторьи РАН, специалист по истории Франции XVIII в., автор ряда работ по
данной тематике.
САХАРОВ Андрей Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор,
директор Института российской истории РАН, автор монографий "Русская деревня XVII в." (М.,
1966), "Дипломатия Древней Руси. IX - первая половина X в." (М., 1980), "Степан Разин" (М., 1987),
223
"История СССР под пером советологов" (М., 1988), "Владимир Мономах" (М., 1989), "Дипломатия
Святослава" (М., 1991), "Александр I: Человек на троне" (М., 1992).
СЕВОСТЬЯНОВ Григорий Николаевич, действительный член РАН, лауреат Государственной
премии, профессор, доктор исторических наук, главный редактор журнала "Новая и новейшая
история", главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Автор монографий
"Политика великих держав на Дальнем Востоке накануне второй мировой войны" (М., 1961),
"Подготовка войны на Тихом океане" (М., 1962), "Дипломатическая история войны на Тихом океане
от Пирл-Харбора до Каира" (М., 1969), "Томас Джефферсон" (в соавторстве) (М., 1976),
"Европейский кризис и политика США, 1938-1939" (М., 1992) и др. Ответственный редактор многих
книг по истории США и международных отношений.
ШАЦИЛЛО Вячеслав Корнелиевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН, автор ряда публикаций по истории США нового и новейшего времени.
ЧИТАЙТЕ В № 1 1994 г. НАШЕГО ЖУРНАЛА
Генерал армии М.А. Гареев. О неудачных наступательных операциях советских войск
в Великой Отечественной войне. По неопубликованным документам ГКО
Материалы "комиссии Суслова". События в Польше в 1981 г.
Член-корр. РАН Н.Т. Федоренко. Курильский архипелаг. Из японских мемуаров.
Политическая драма Г.В. Плеханова
Трагедия Имре Надя
Французская компартия и Коминтерн в 1939-1940 гг. Новые архивные материалы
Братья Тургеневы и Франция
Династия Саксен-Кобург-Гота в Бельгии
Состояние архивных дел в новой России глазами американского историка
Технический редактор Е.Н. Ларкина
Сдано в набор 01.09.93 Подписано к печати 18.10.93 Формат бумаги 70x100 V16
Печать офсетная Усл.печ.л. 18,2 Усл.кр.-отг. 182,6 тыс. Уч.изд.л. 21,5 Бум. 7,0
Тираж 9902 экз. Зак. 255 Цена 20 р.
Адрес редакции: Москва ГСП 103717, Подсосенский пер., 21. Тел. 227-19-93, 227-04-45
Московская типография № 2 ВО "Наука", 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
224
20 р.
Индекс 70620
ISSN 0130-3864 Новая и новейшая история, № 6,1993