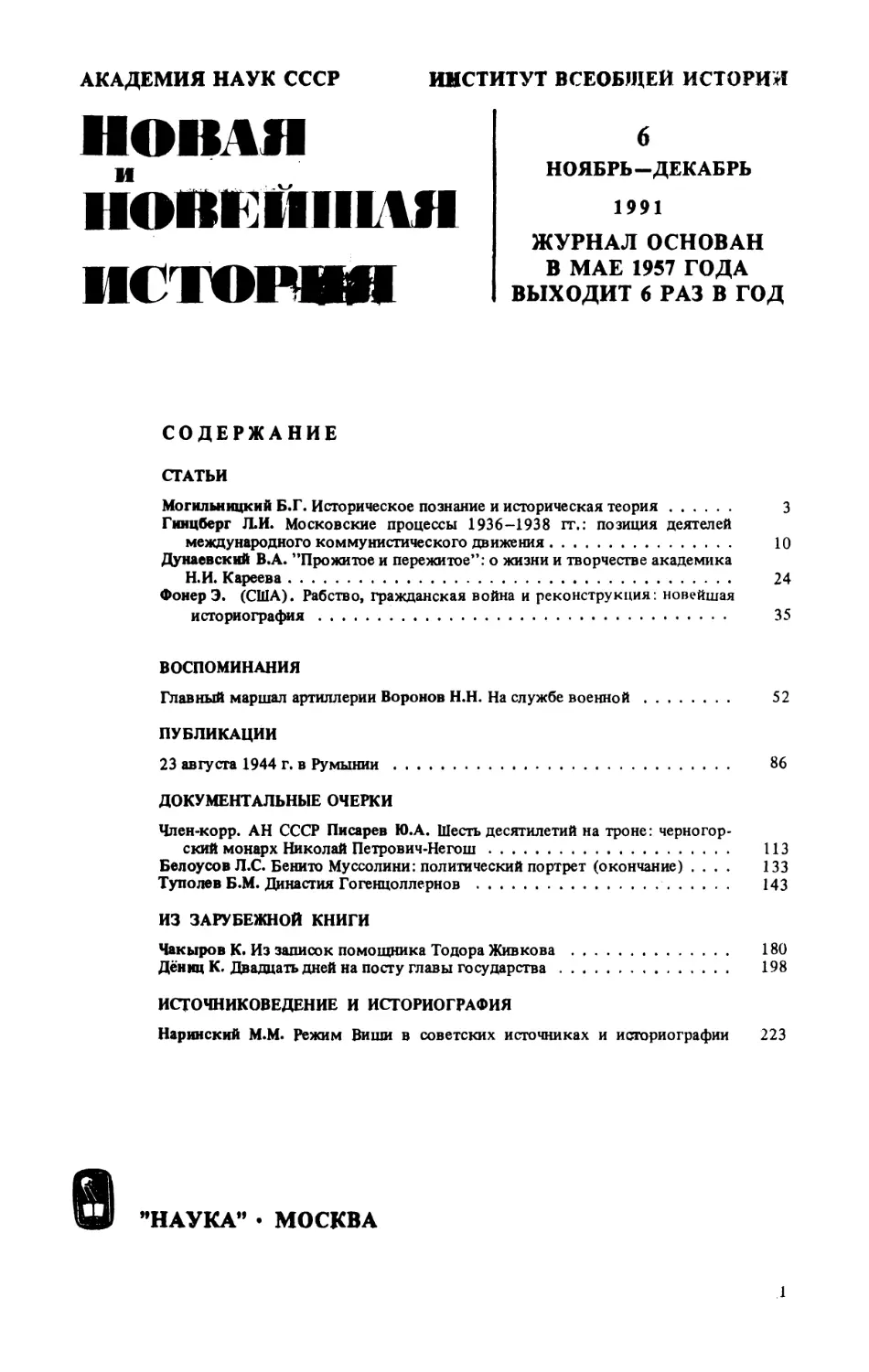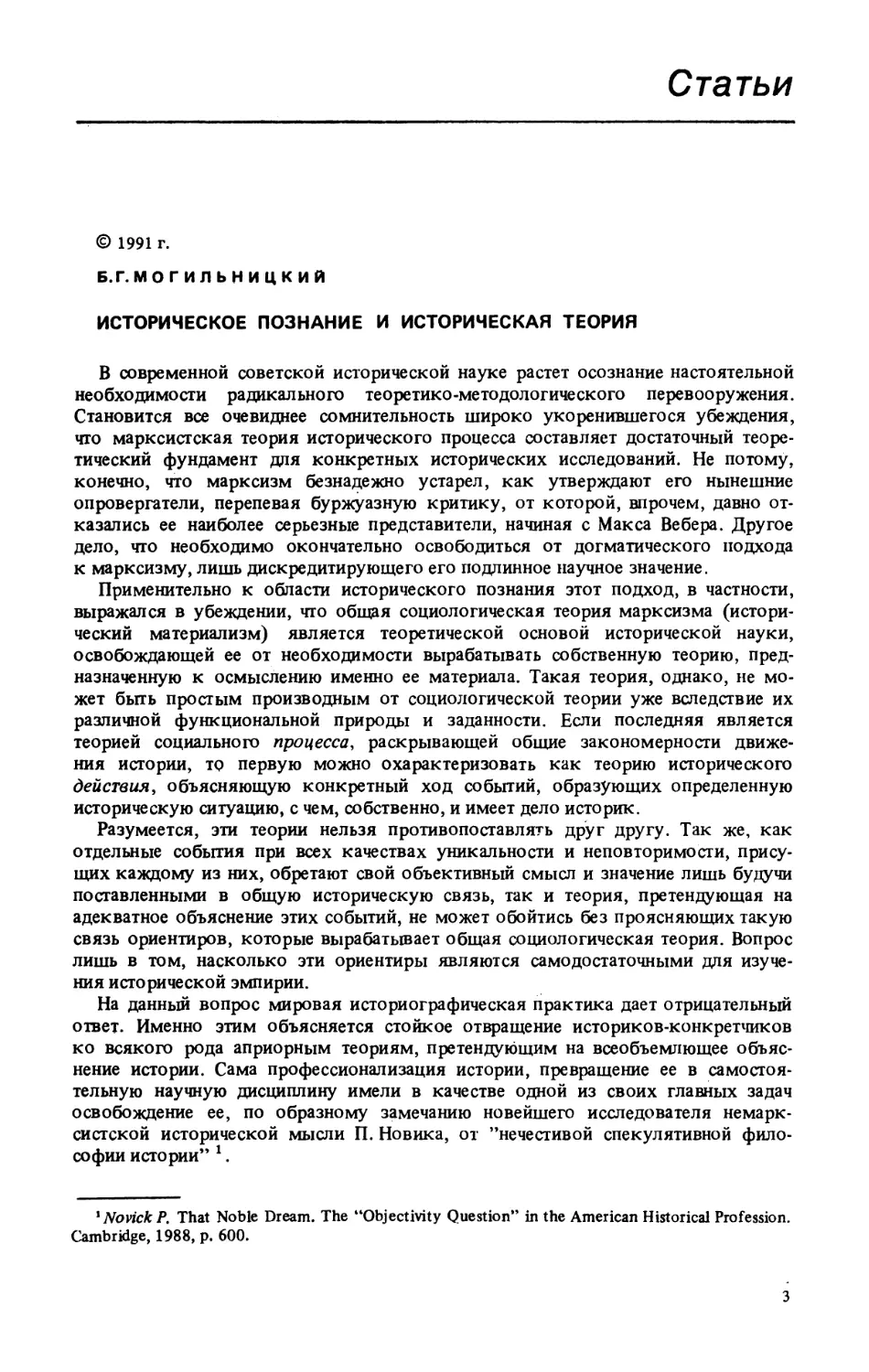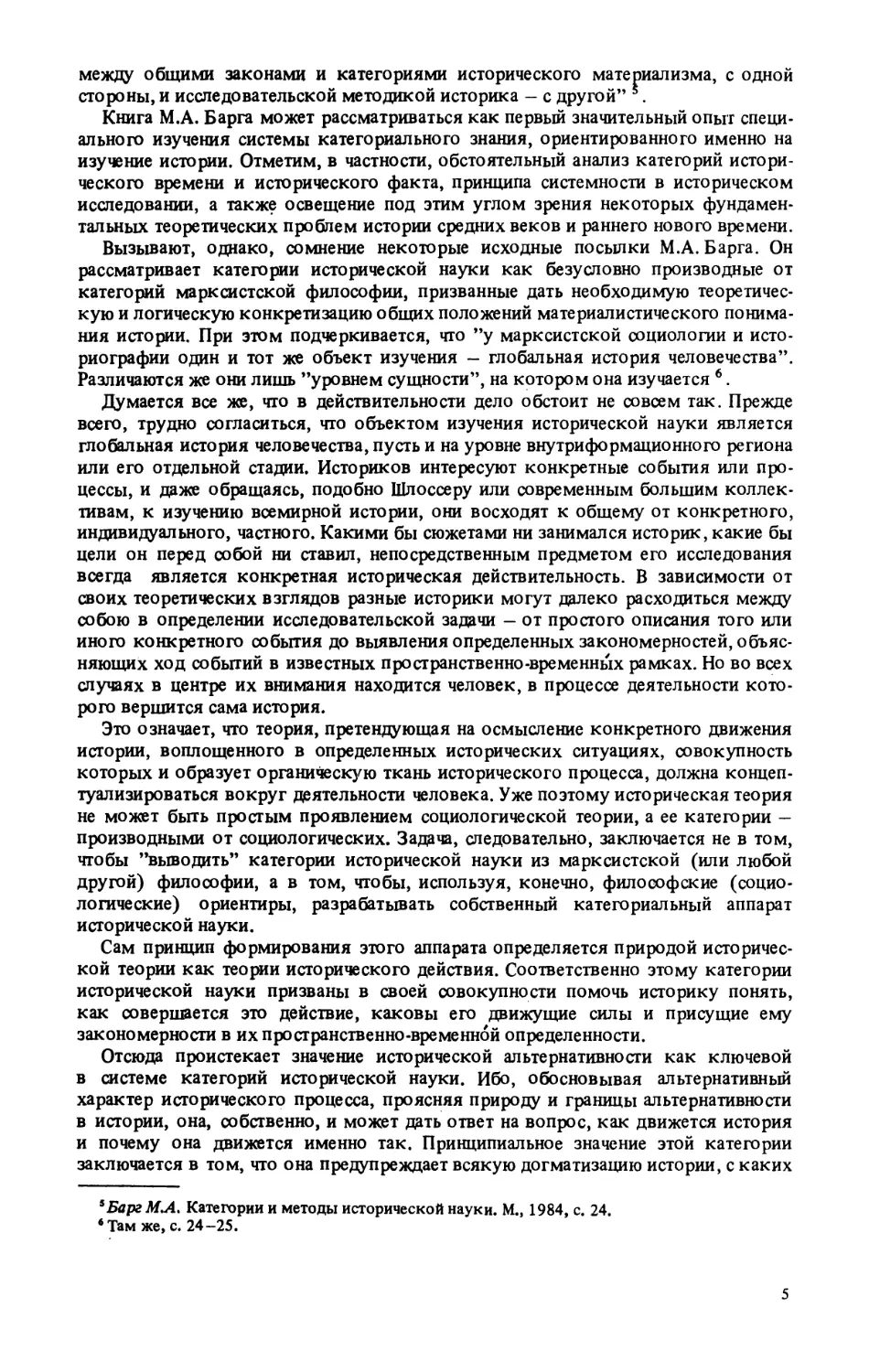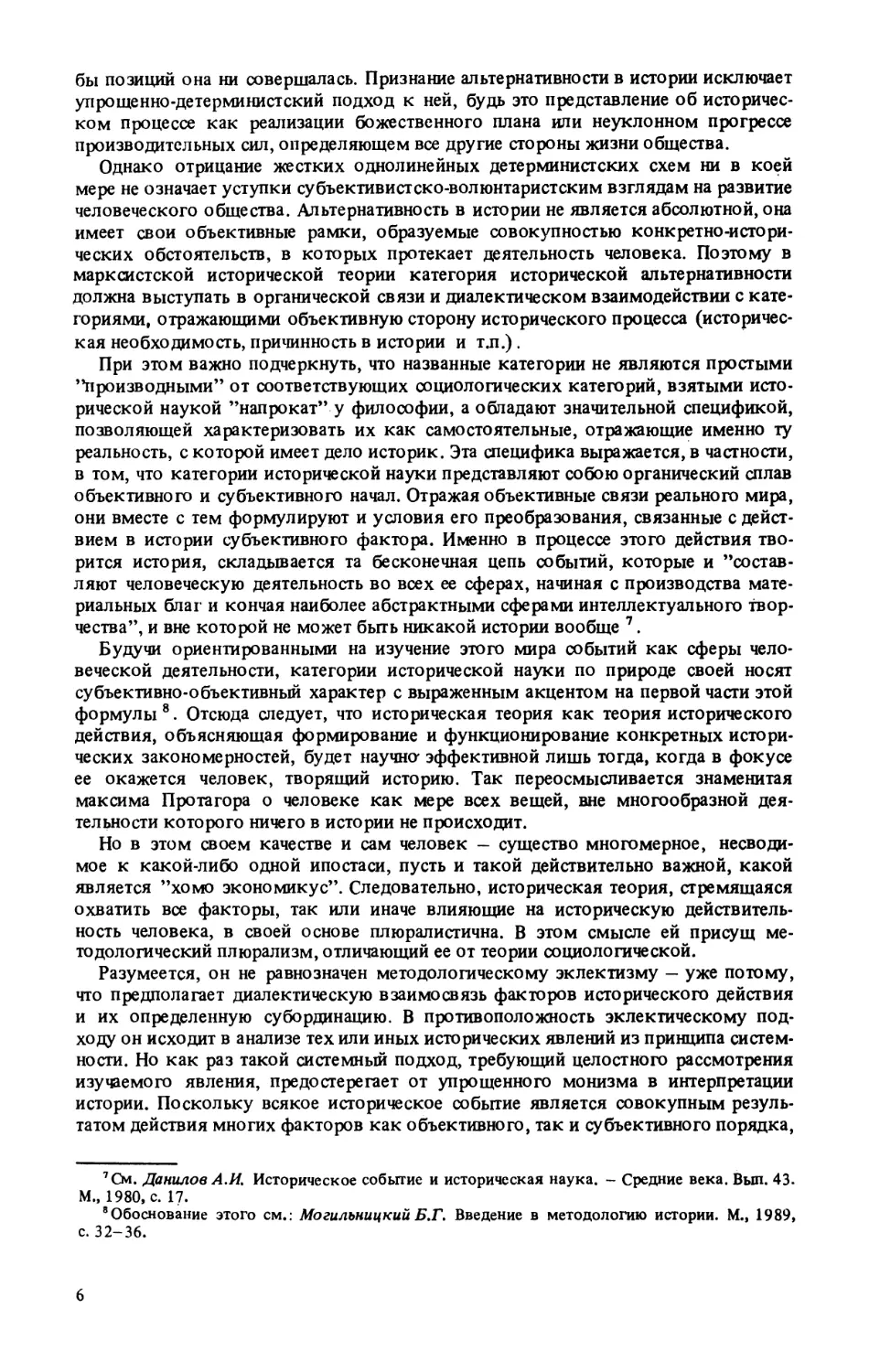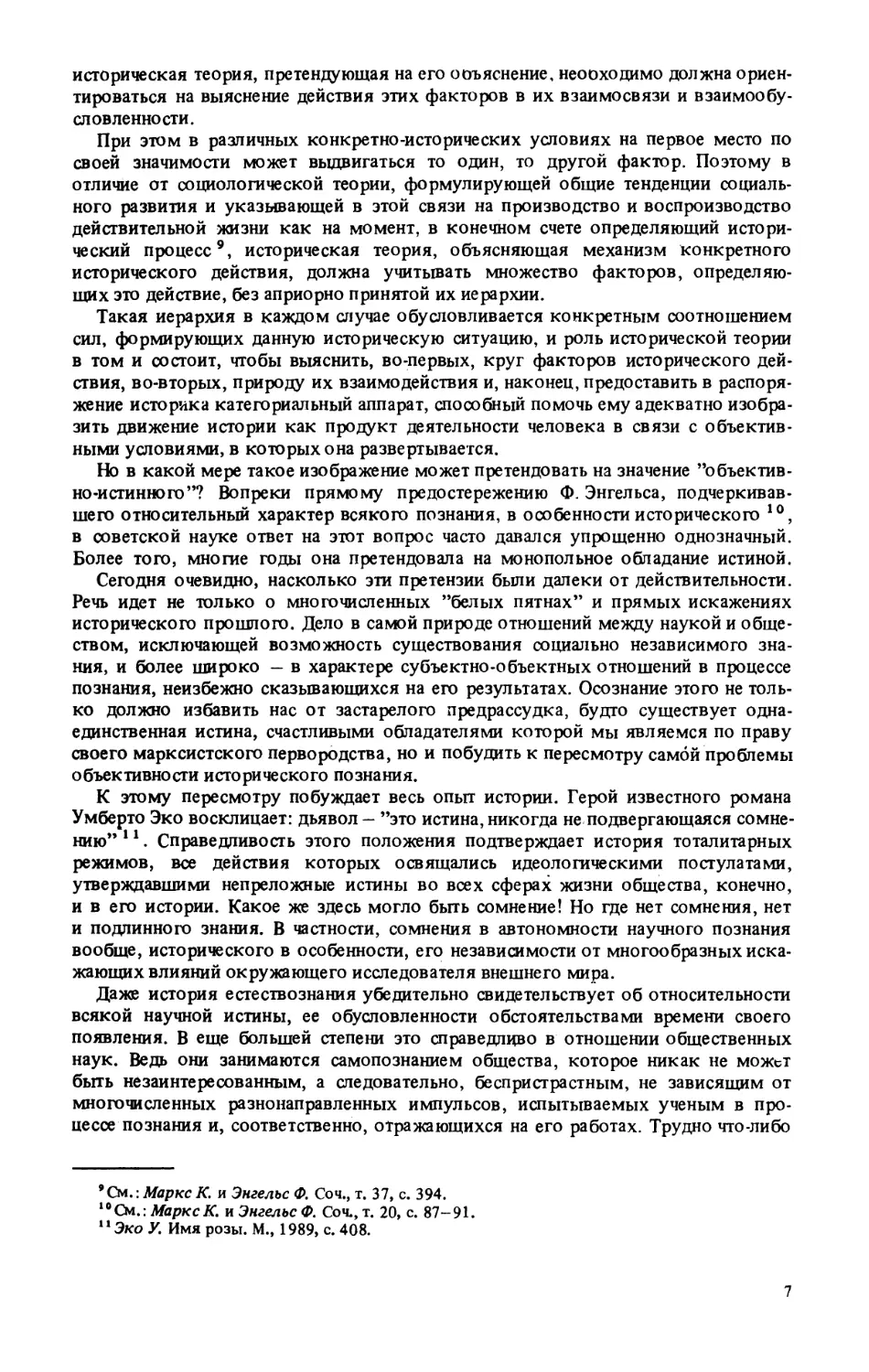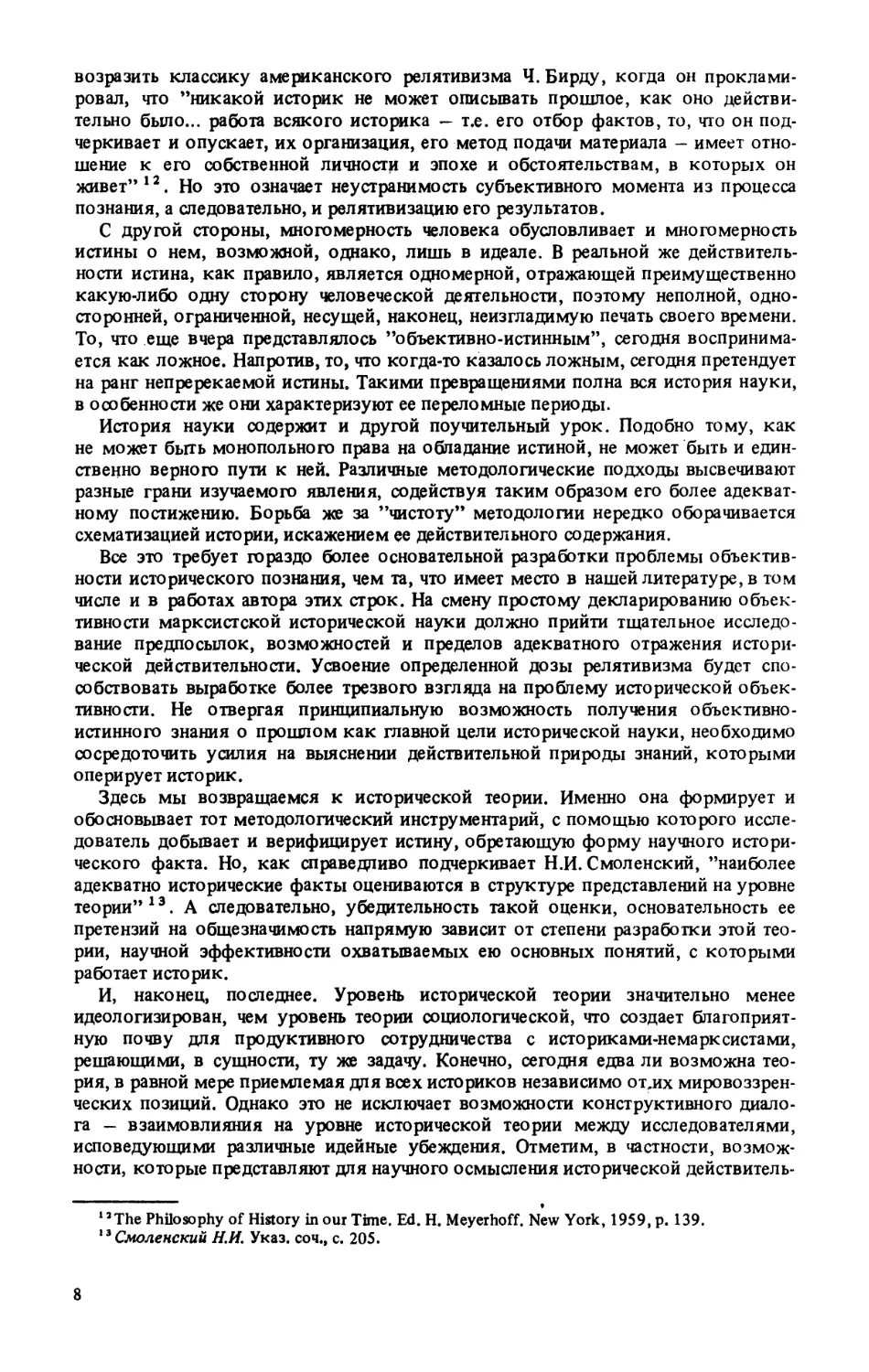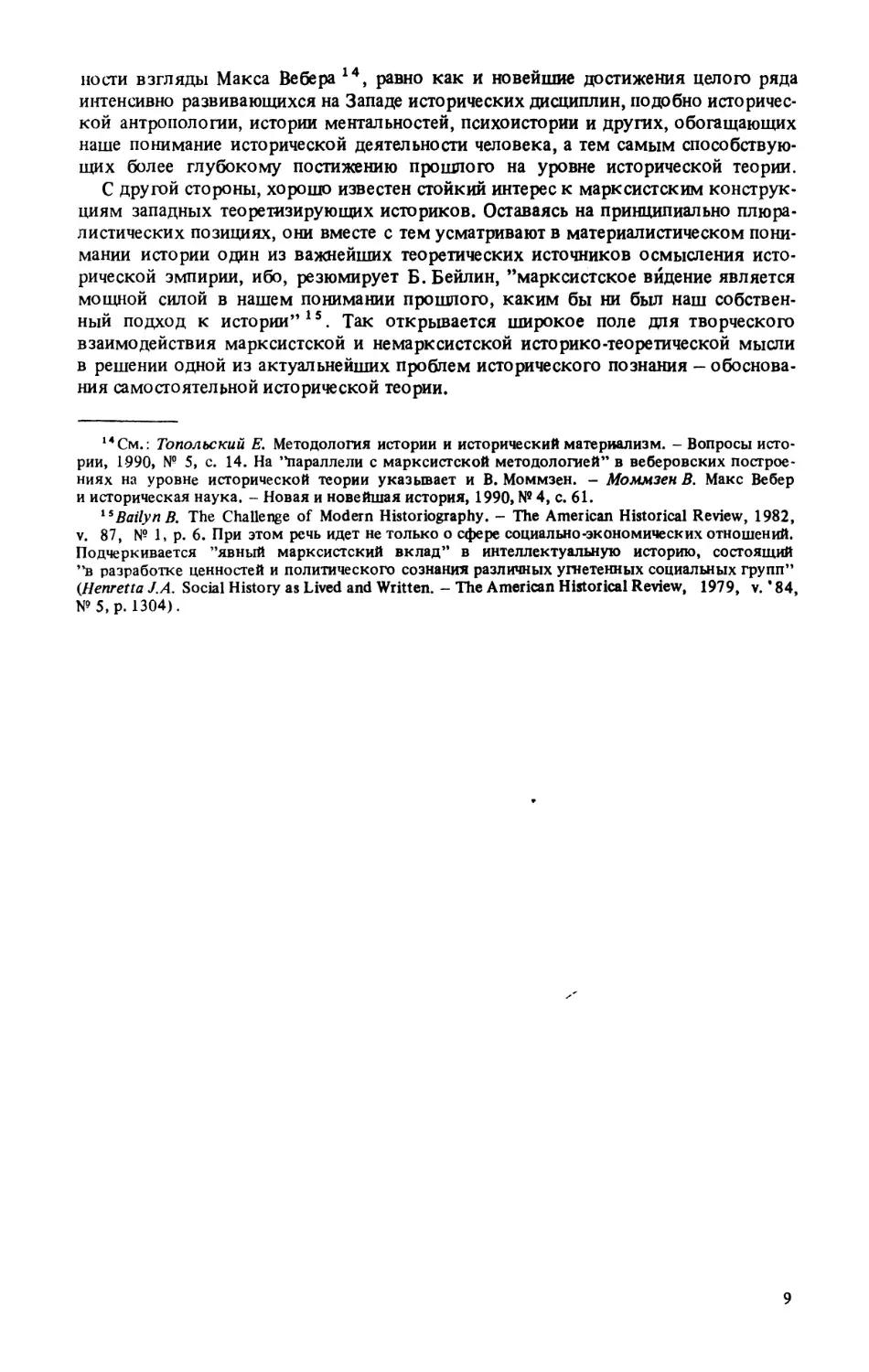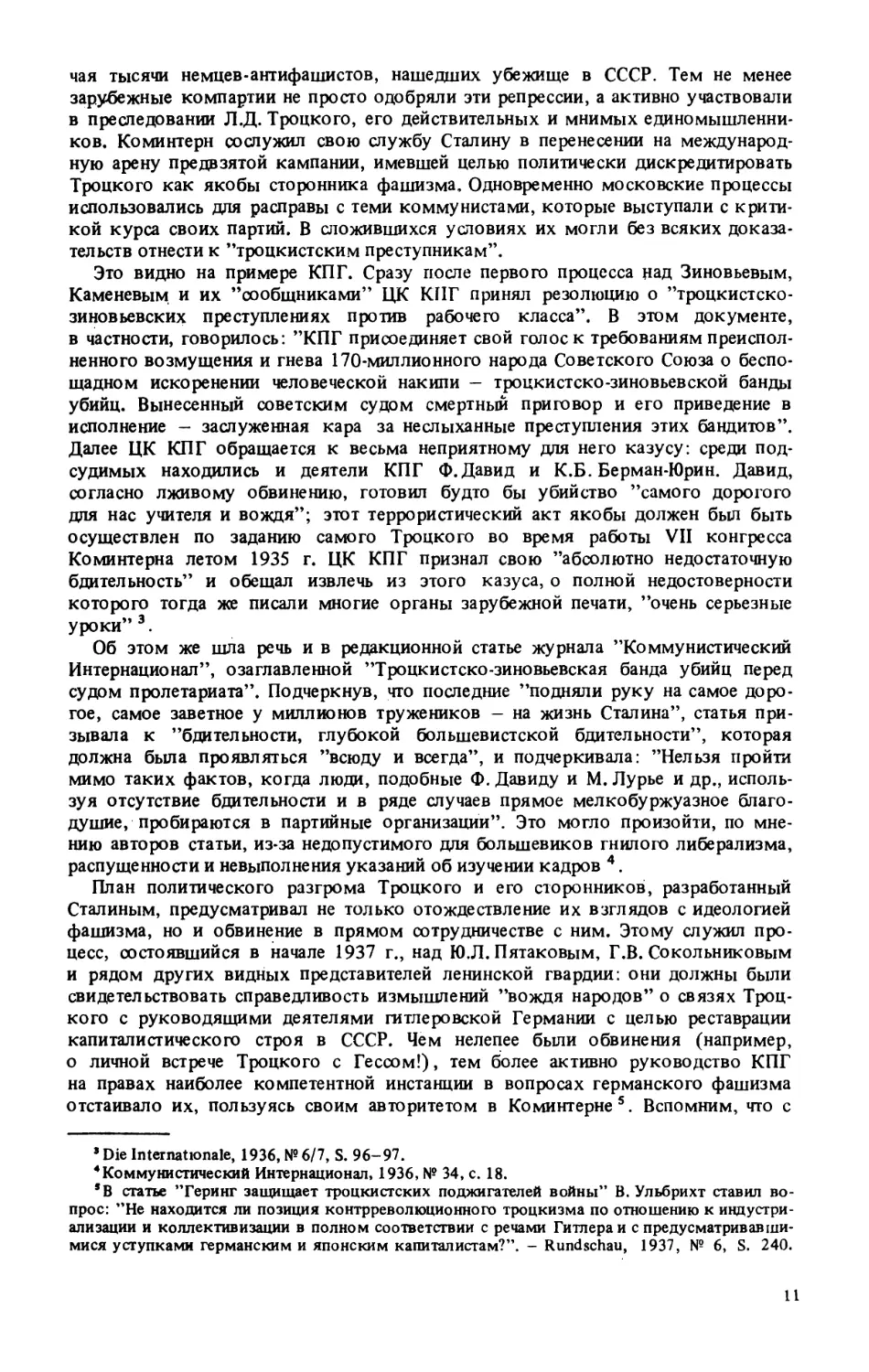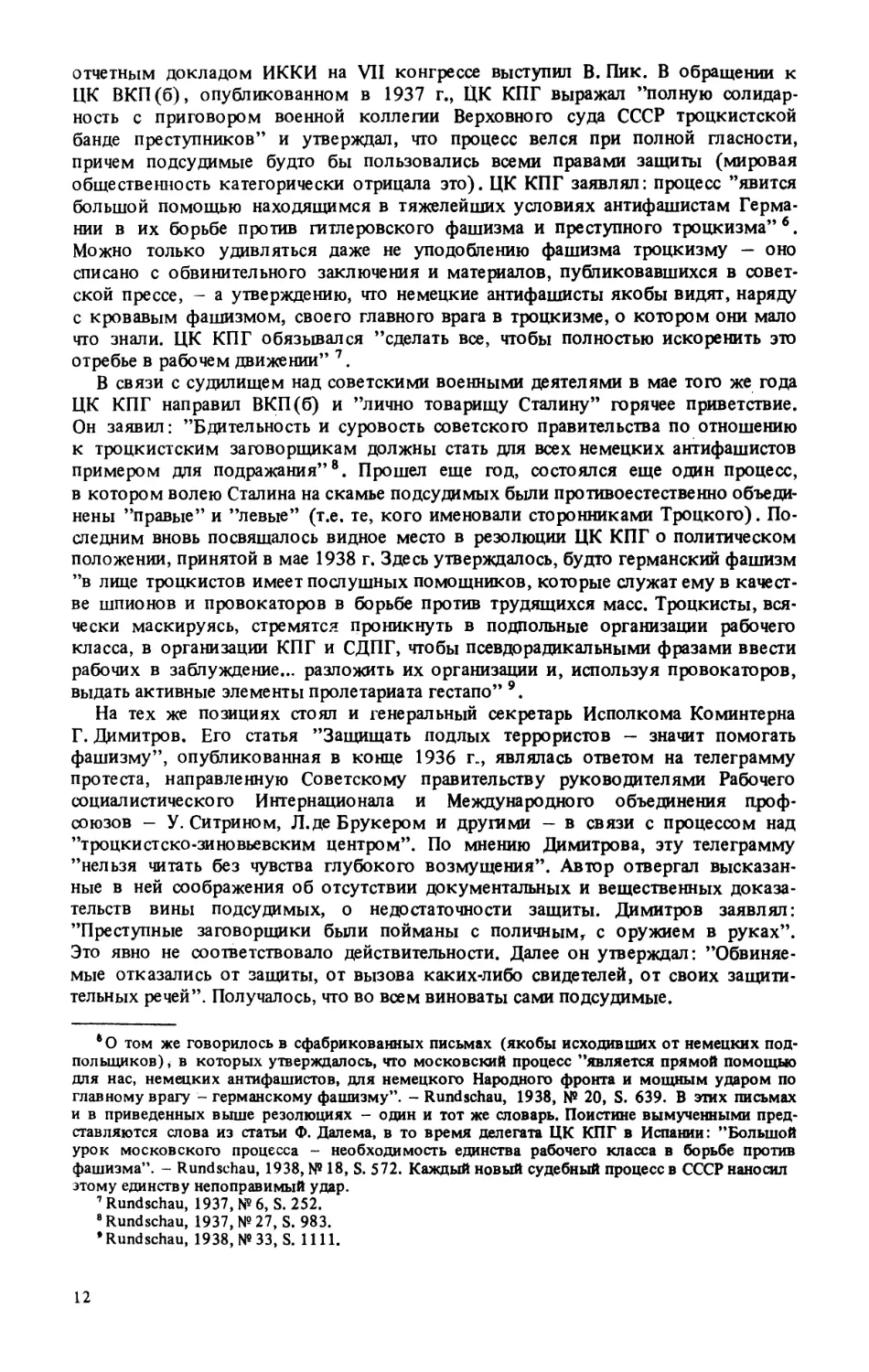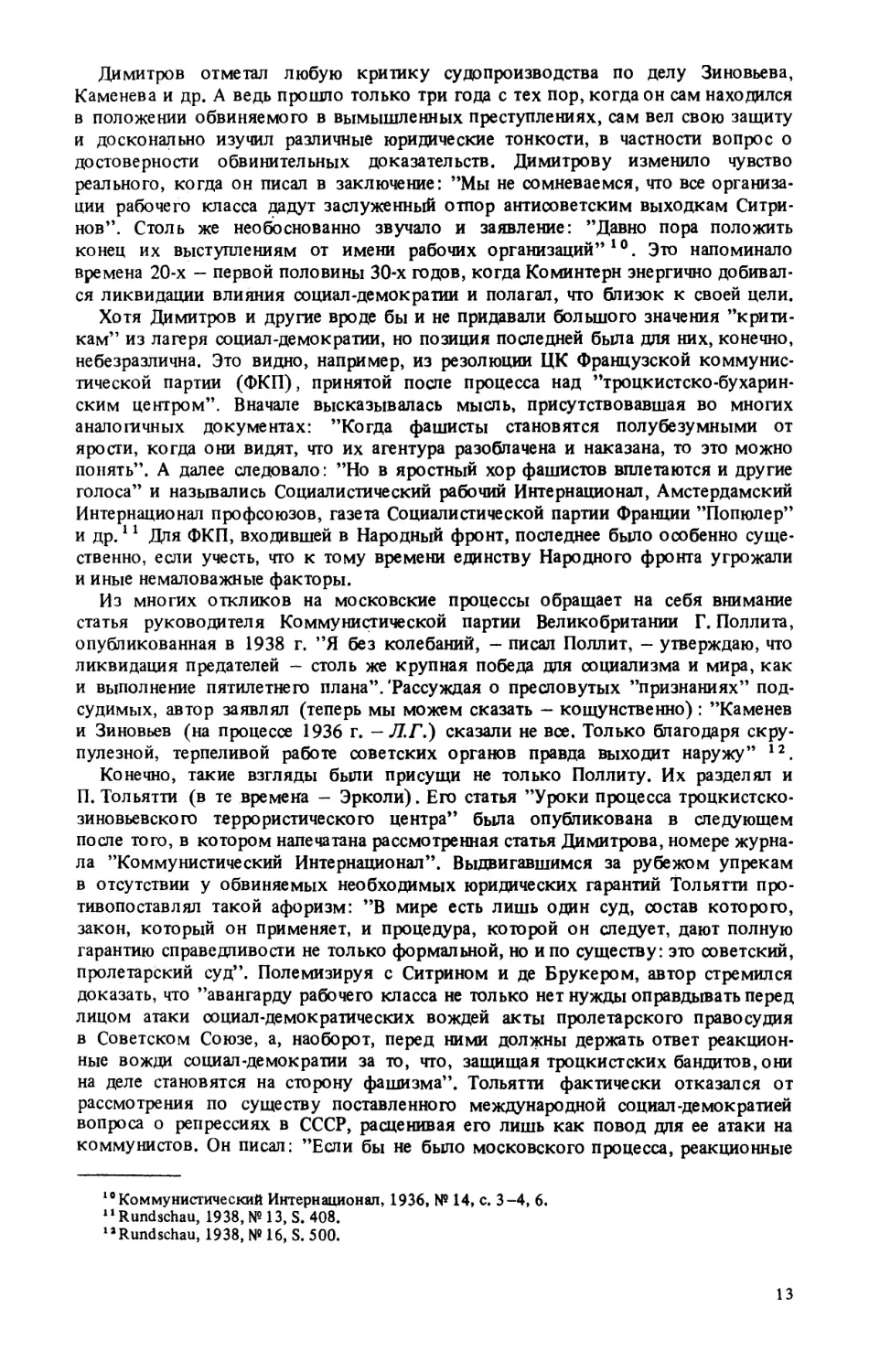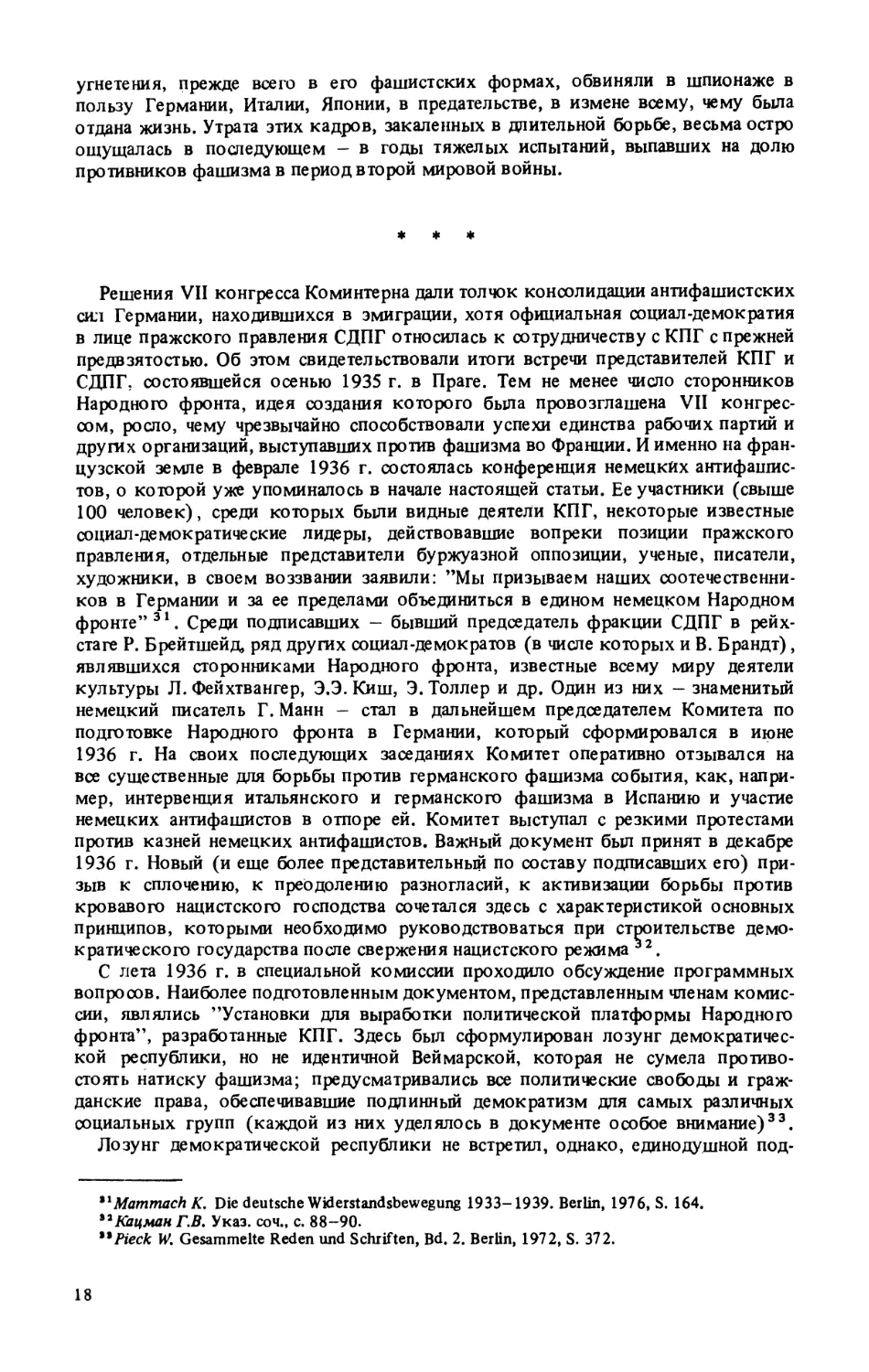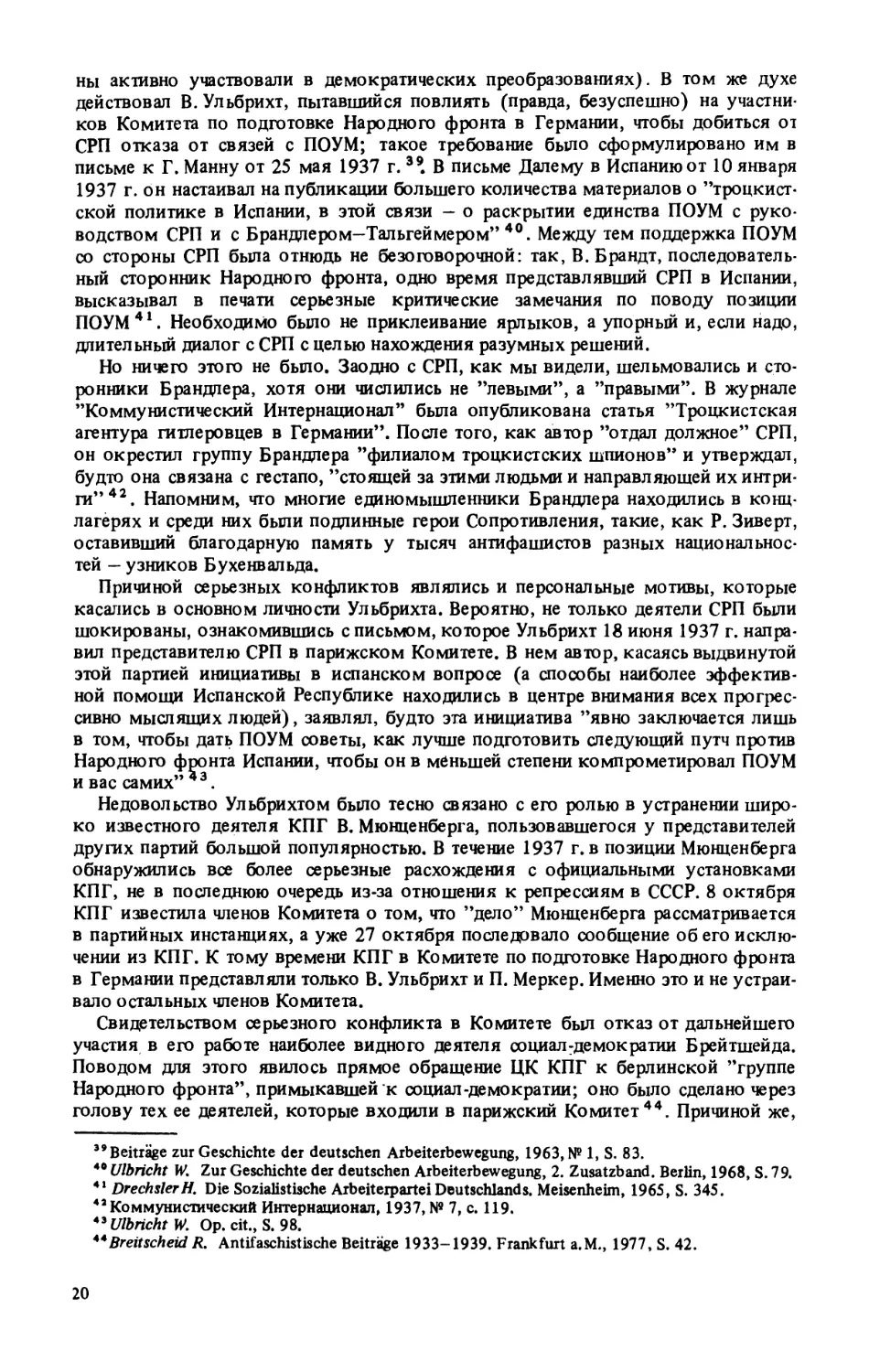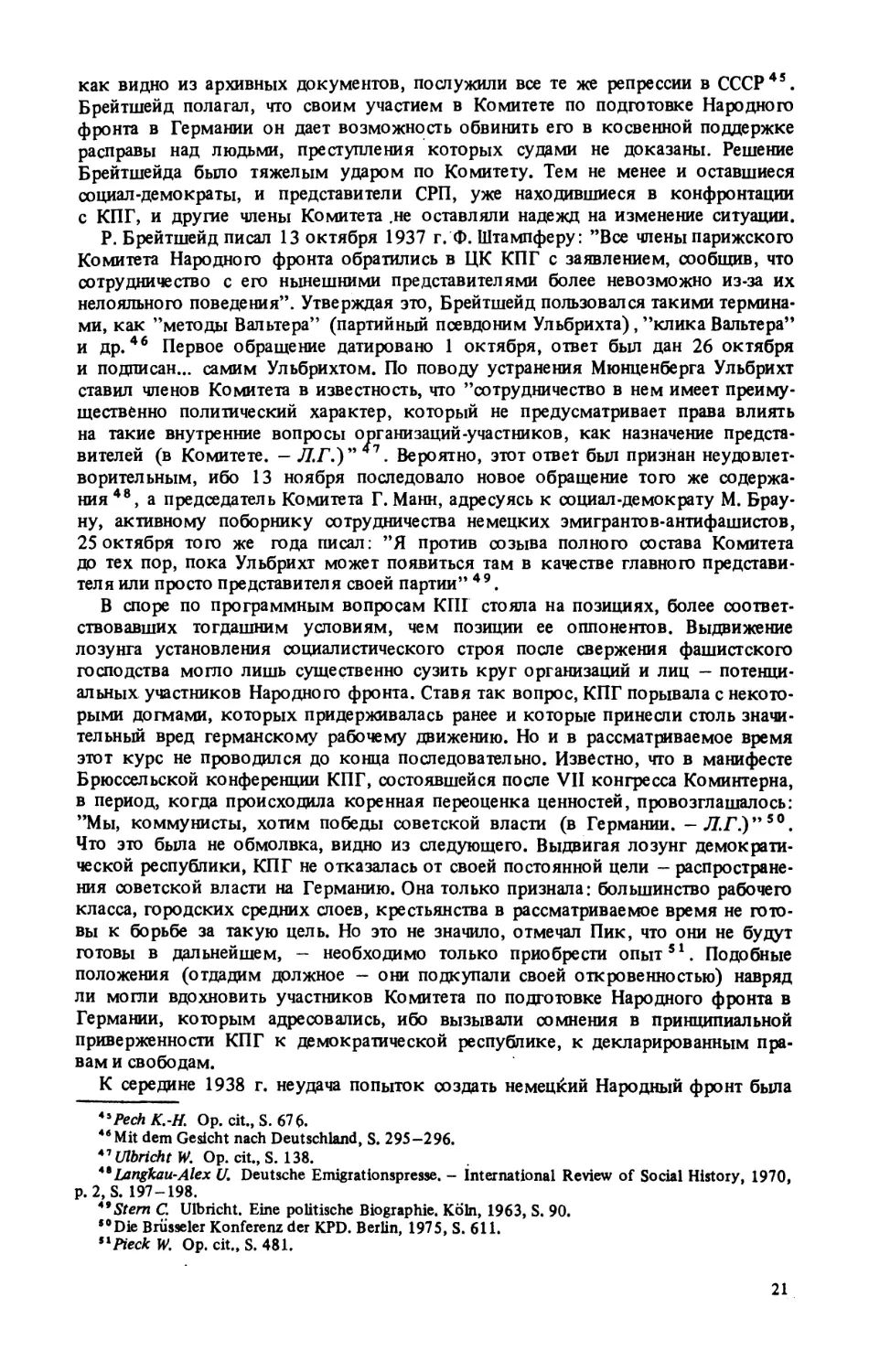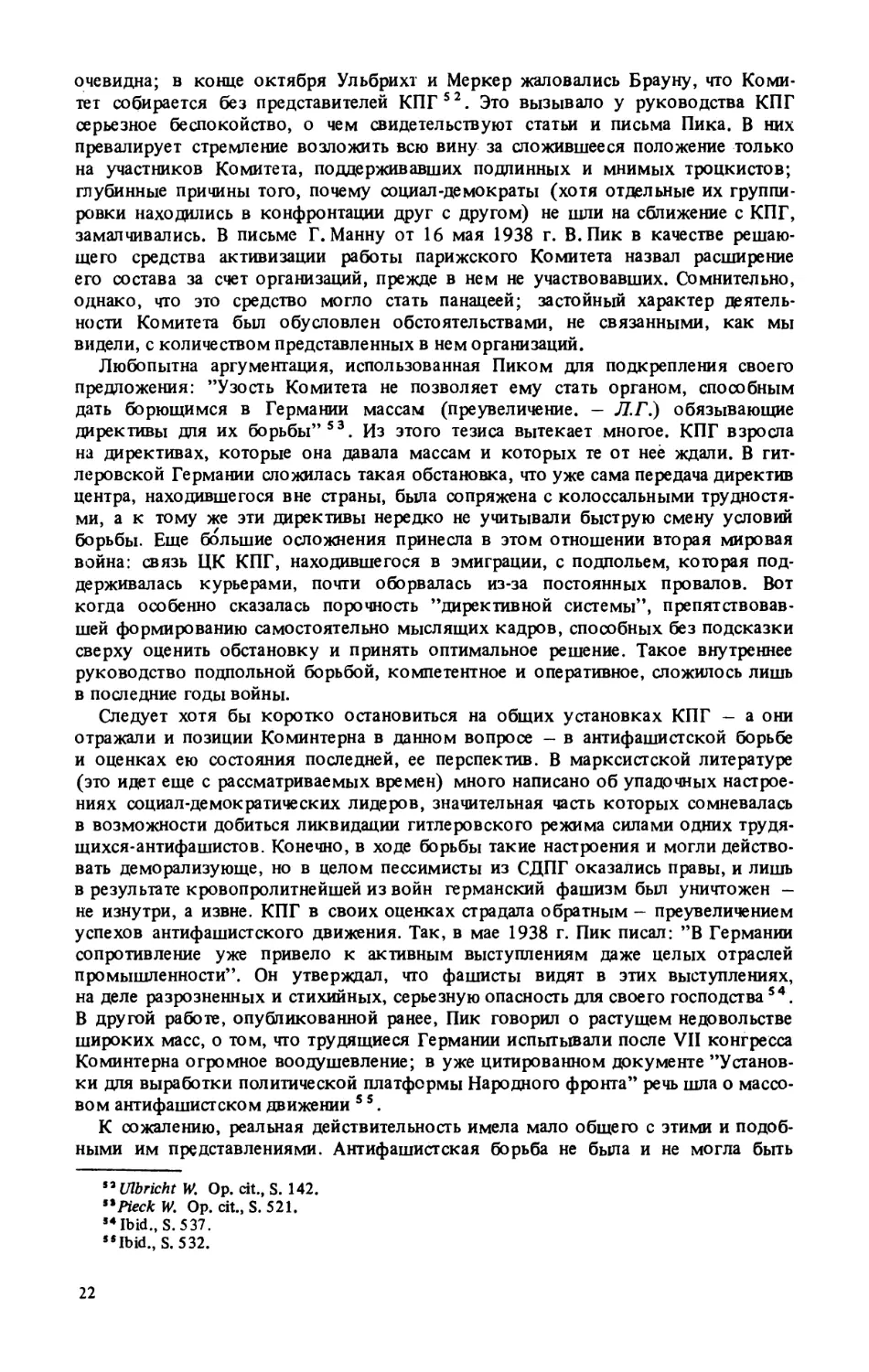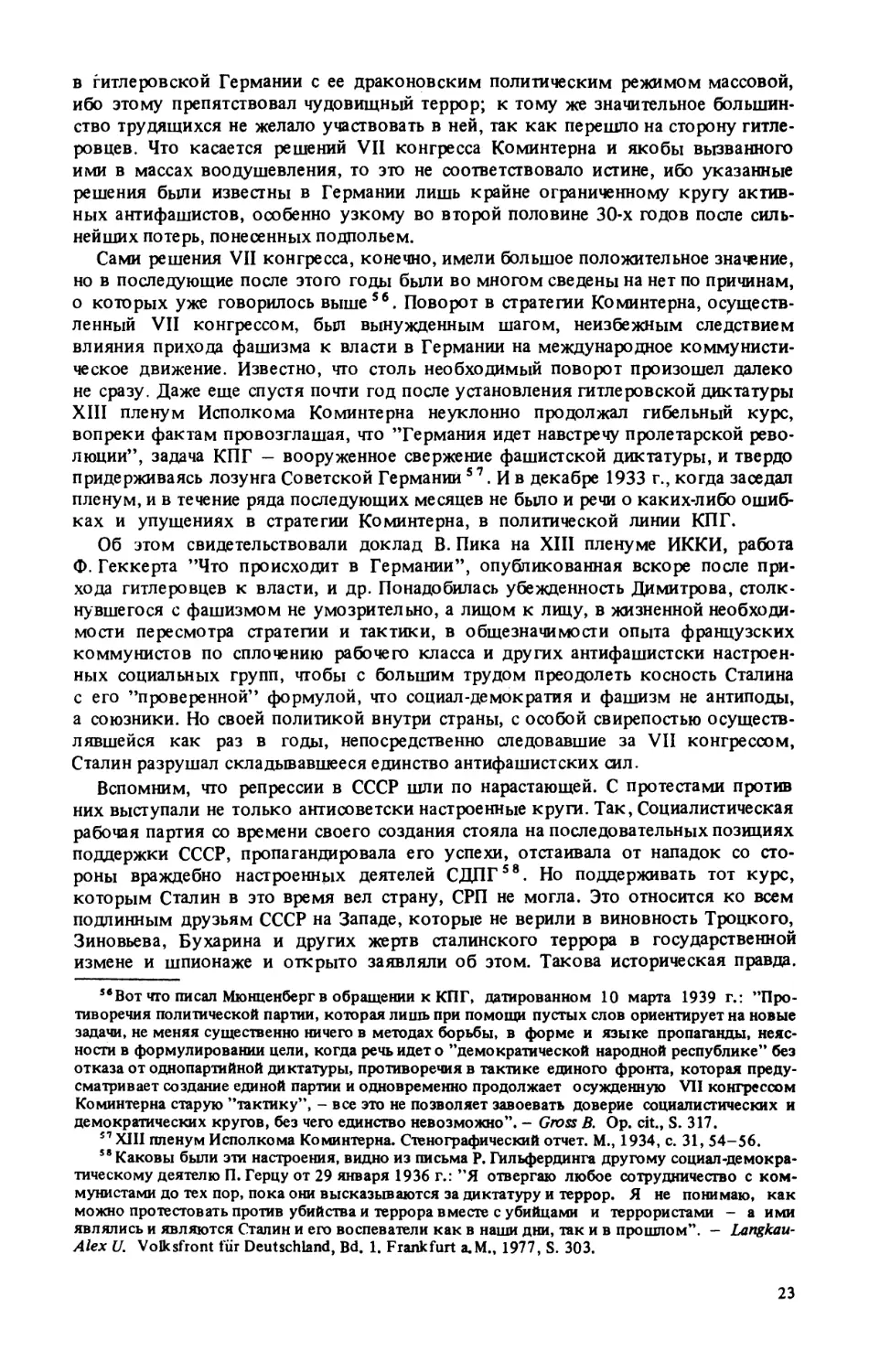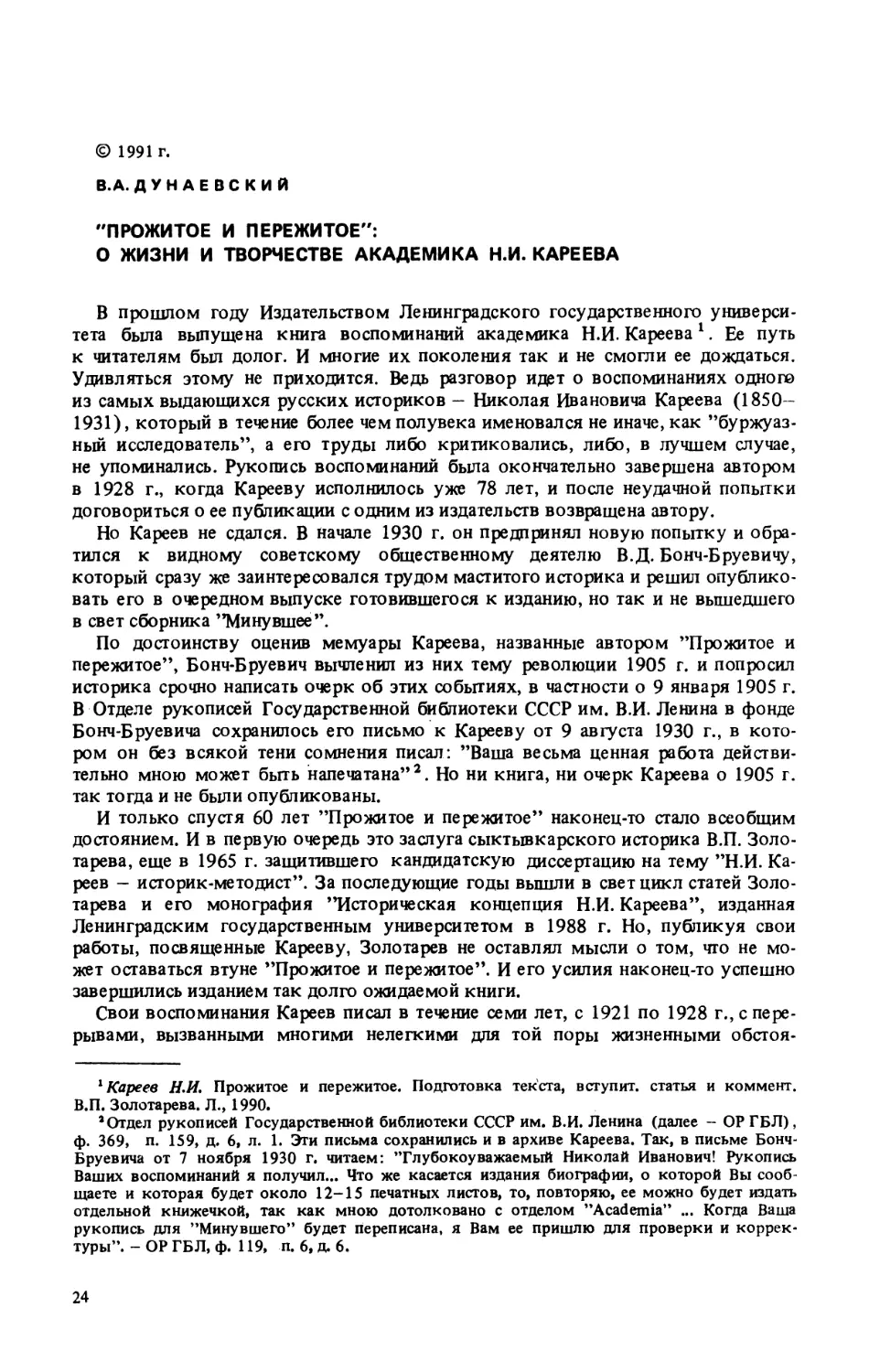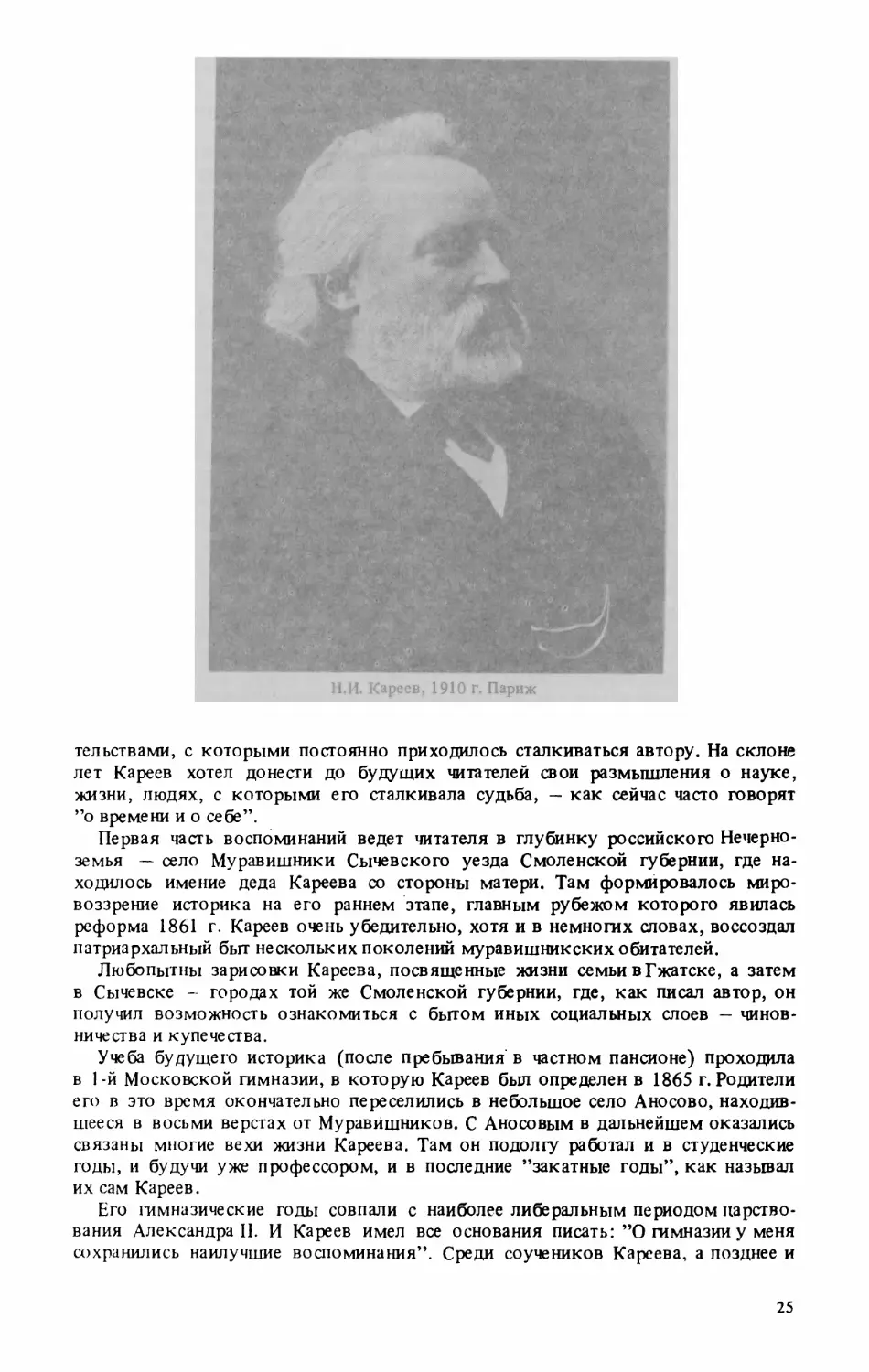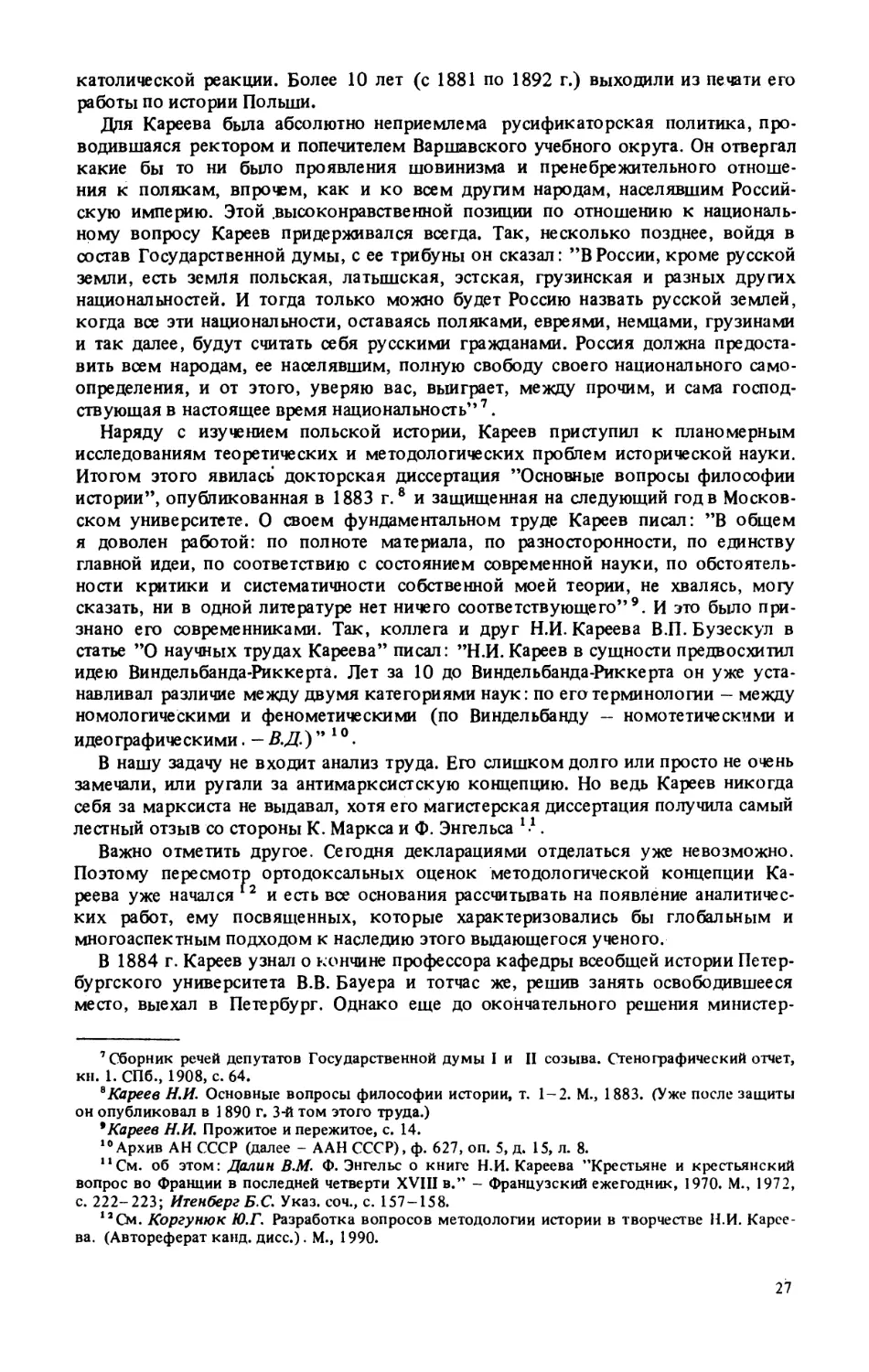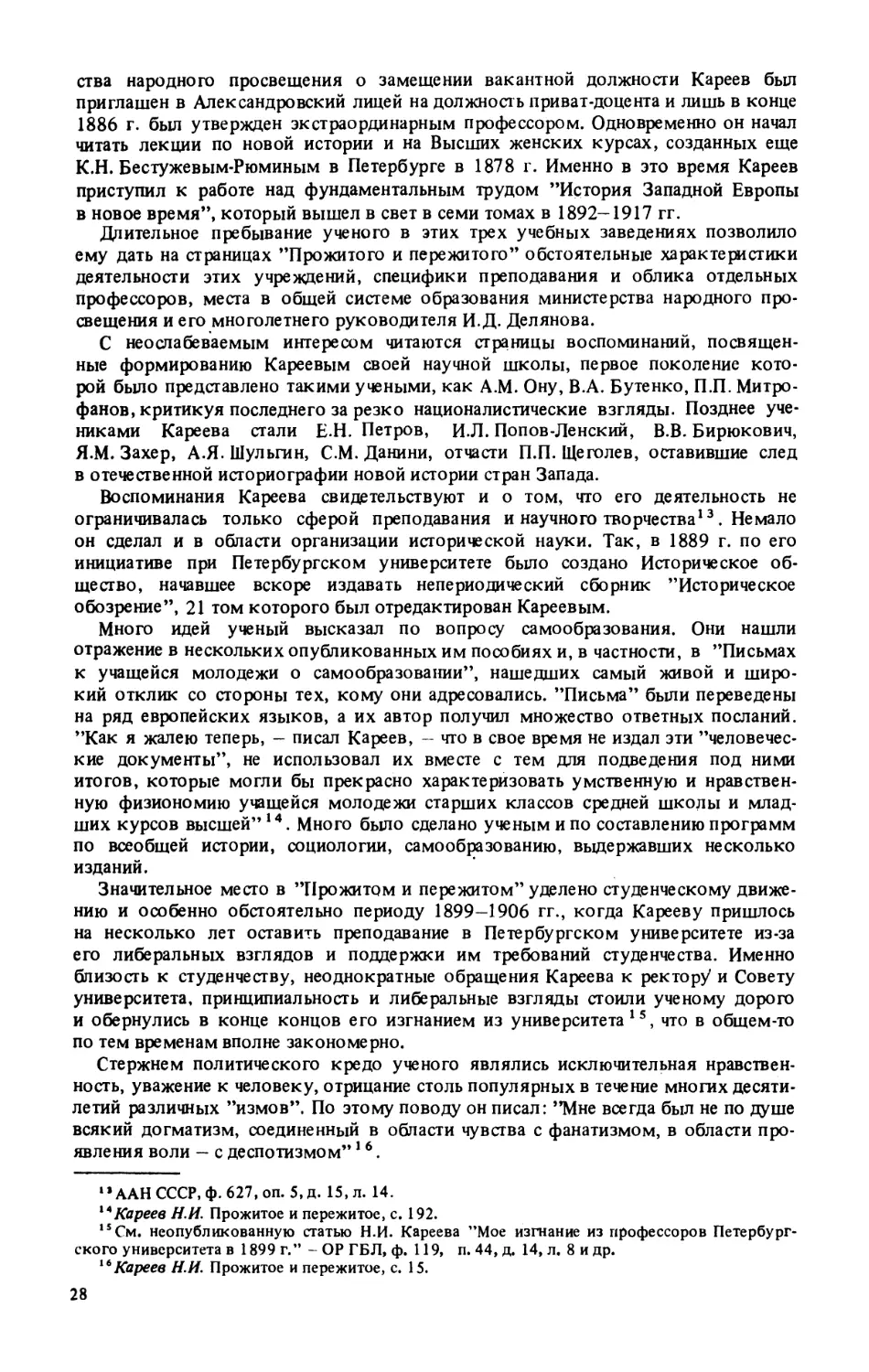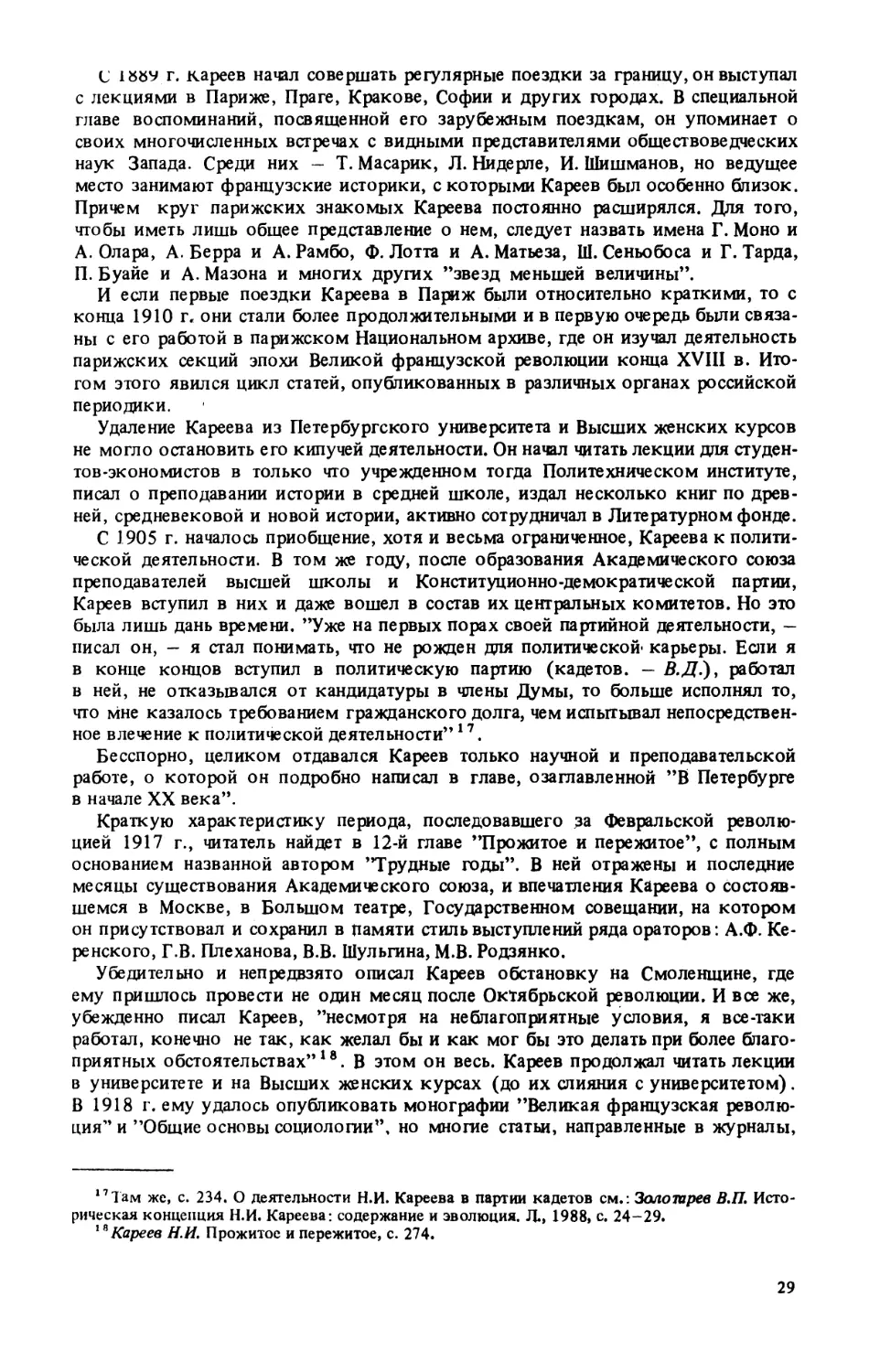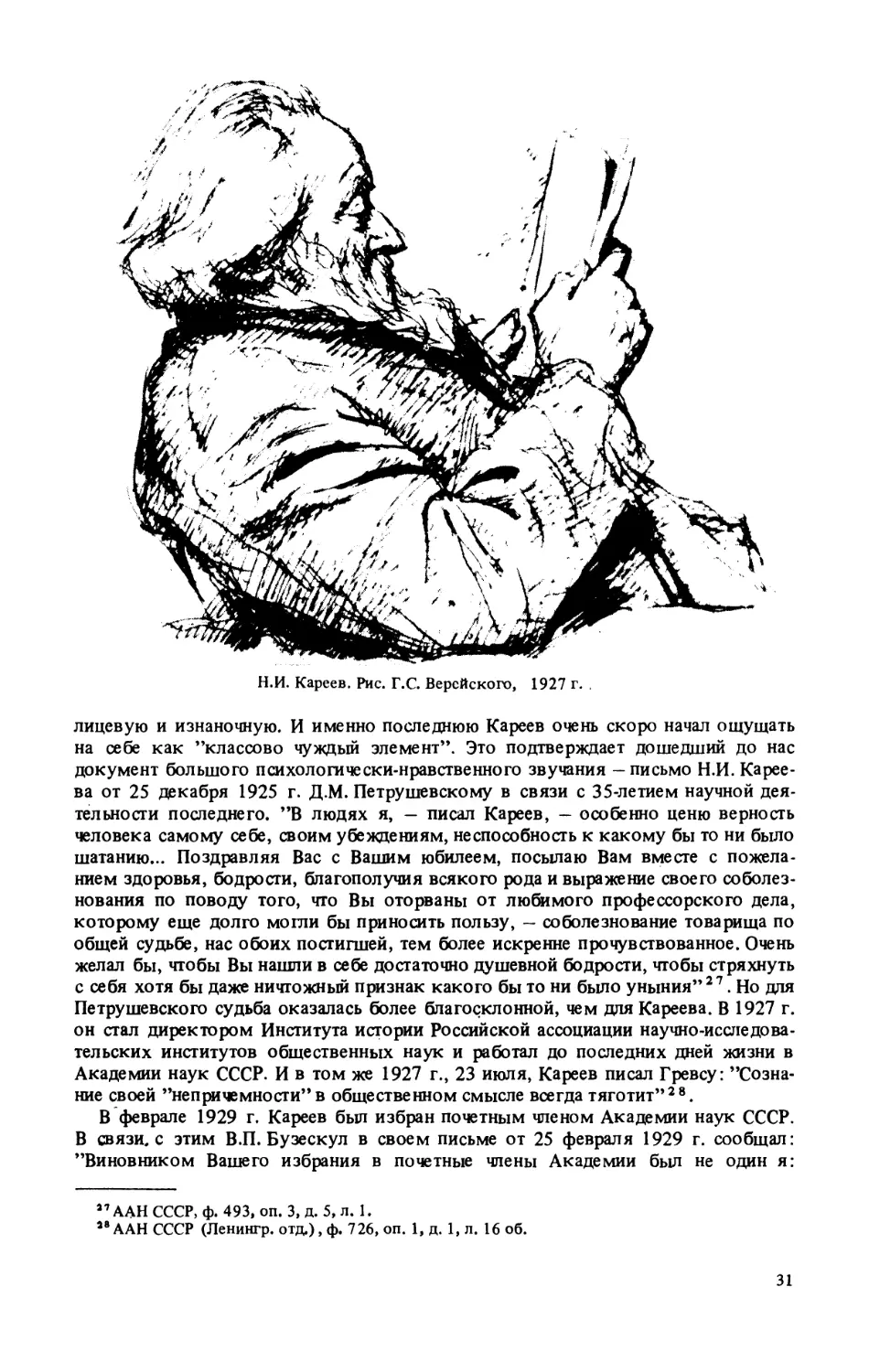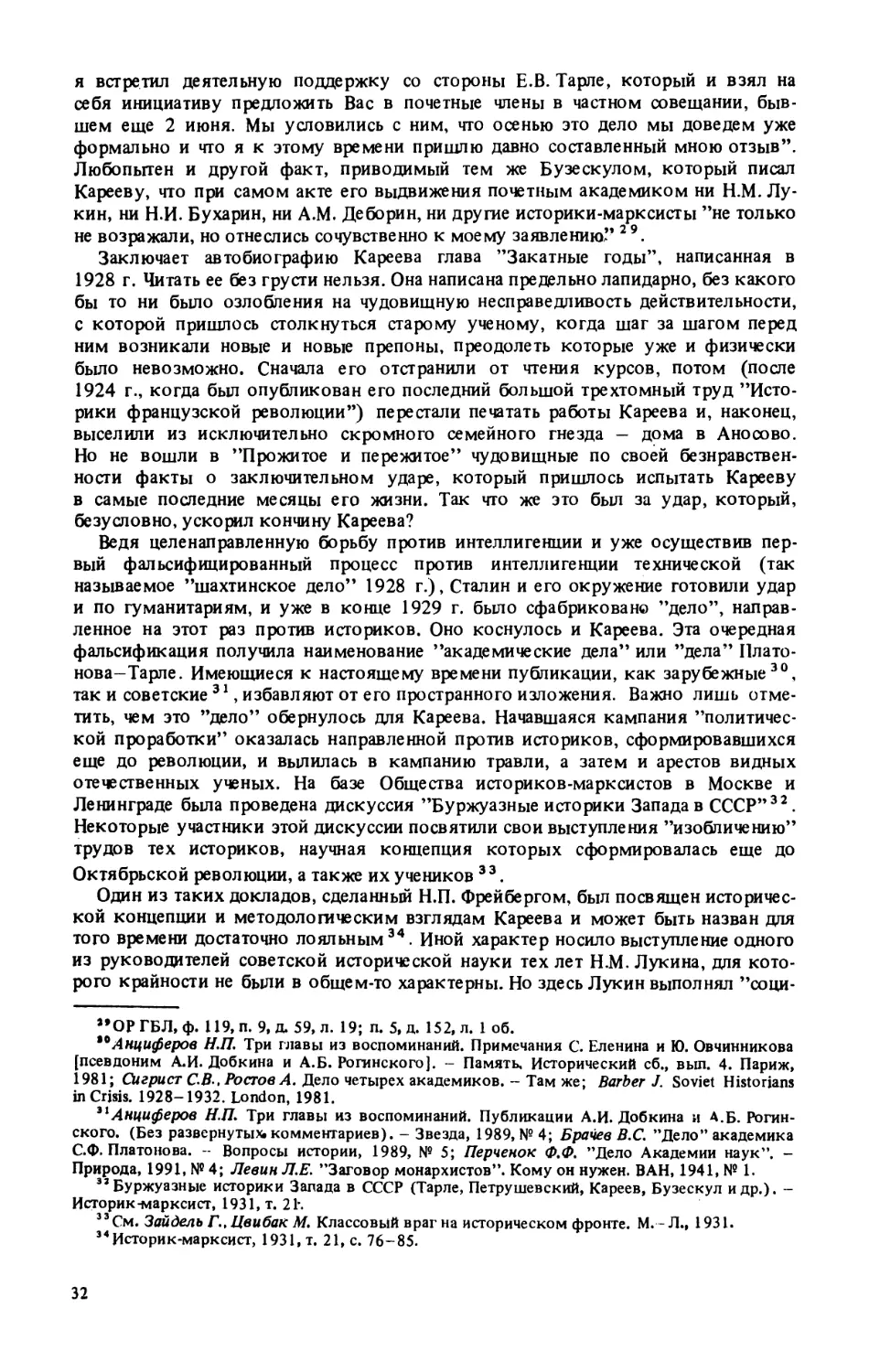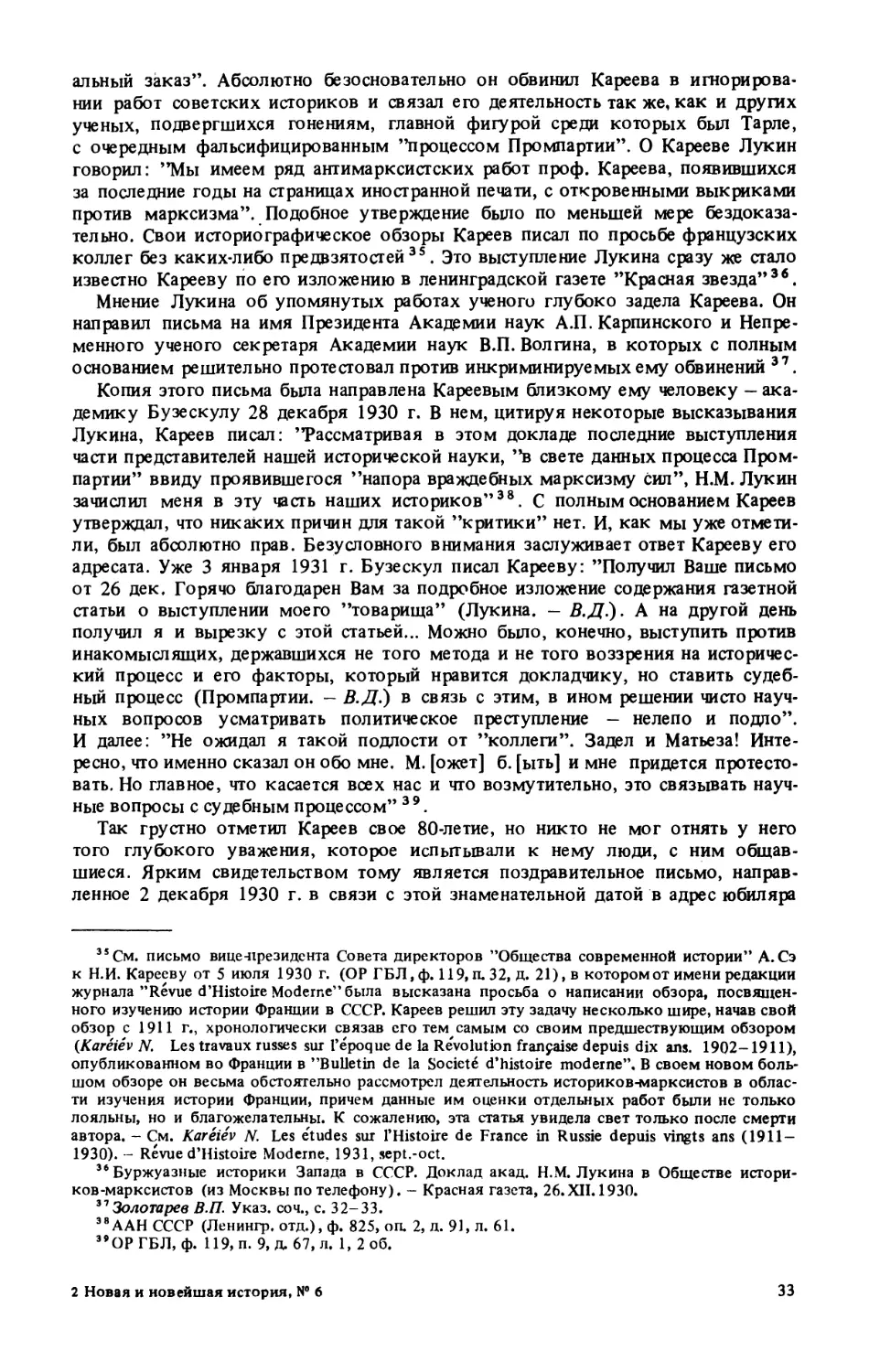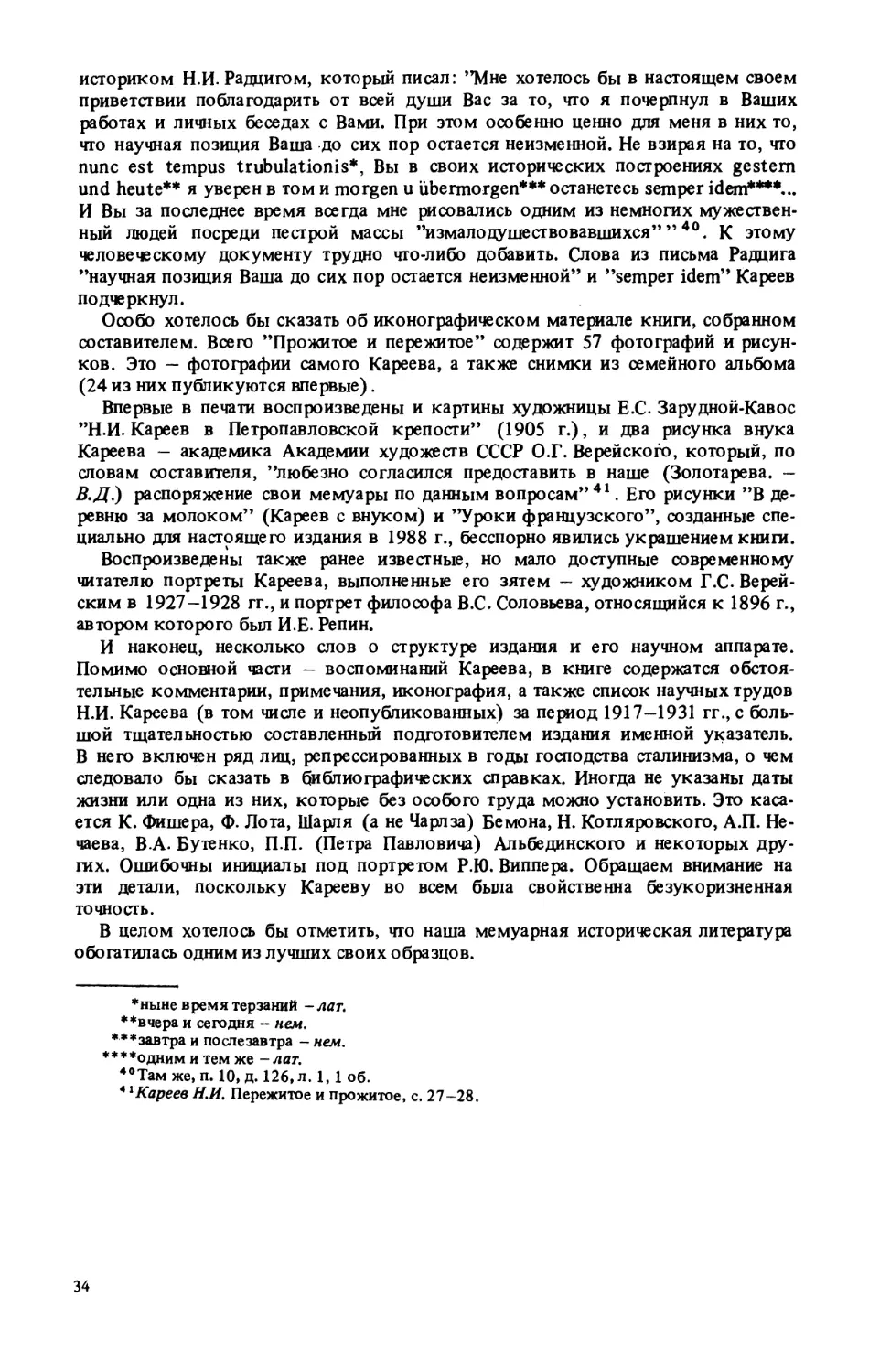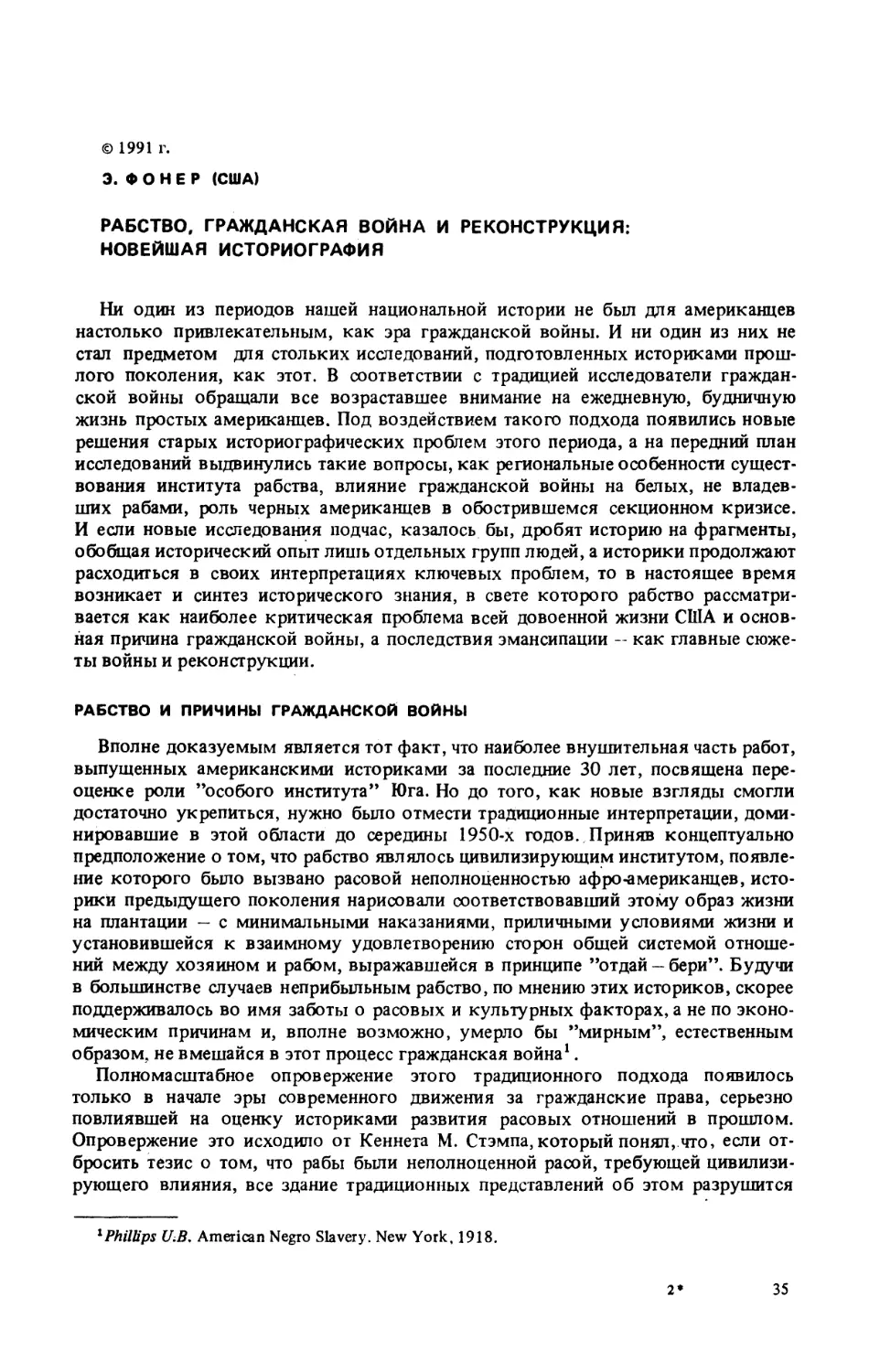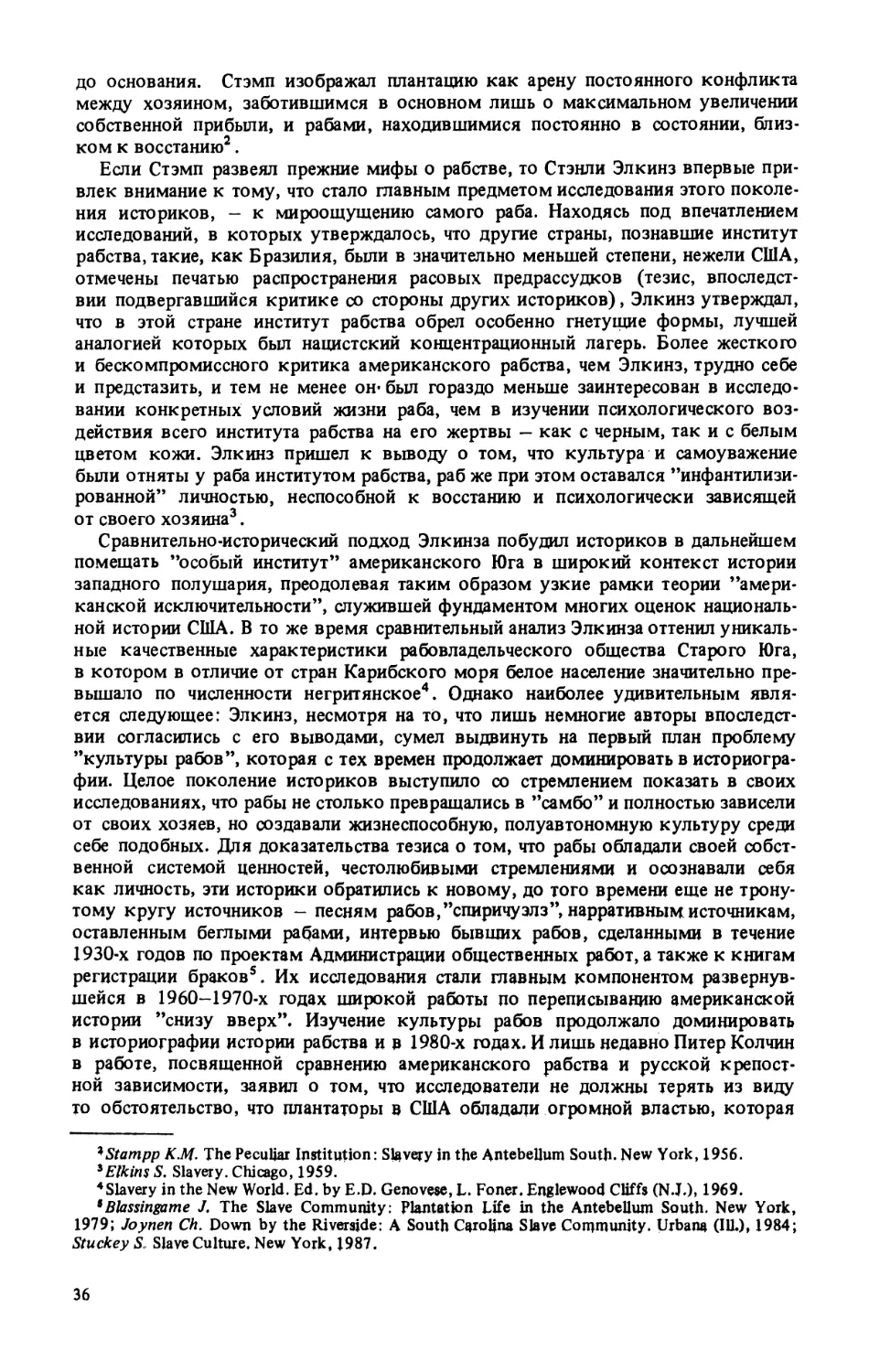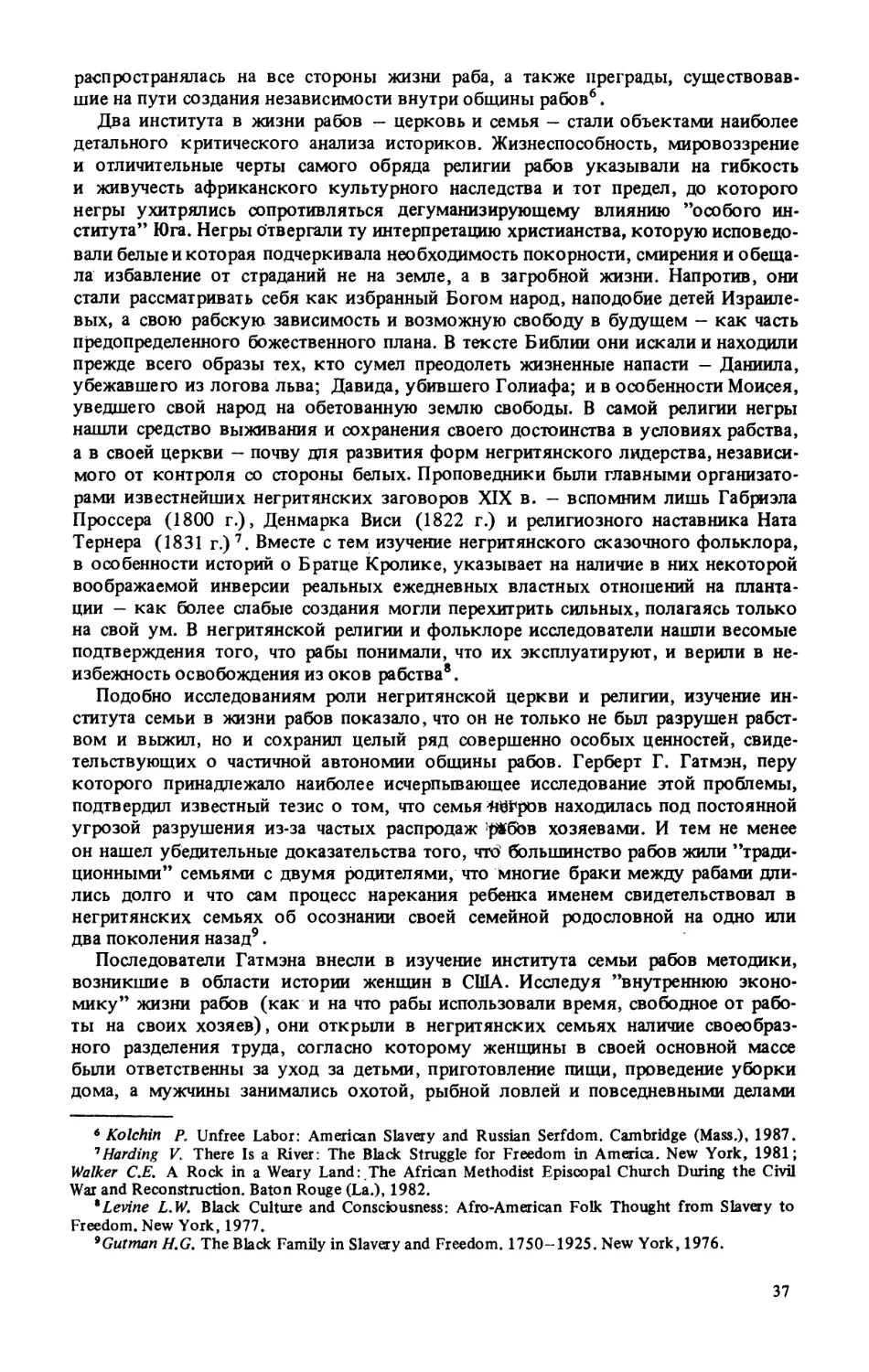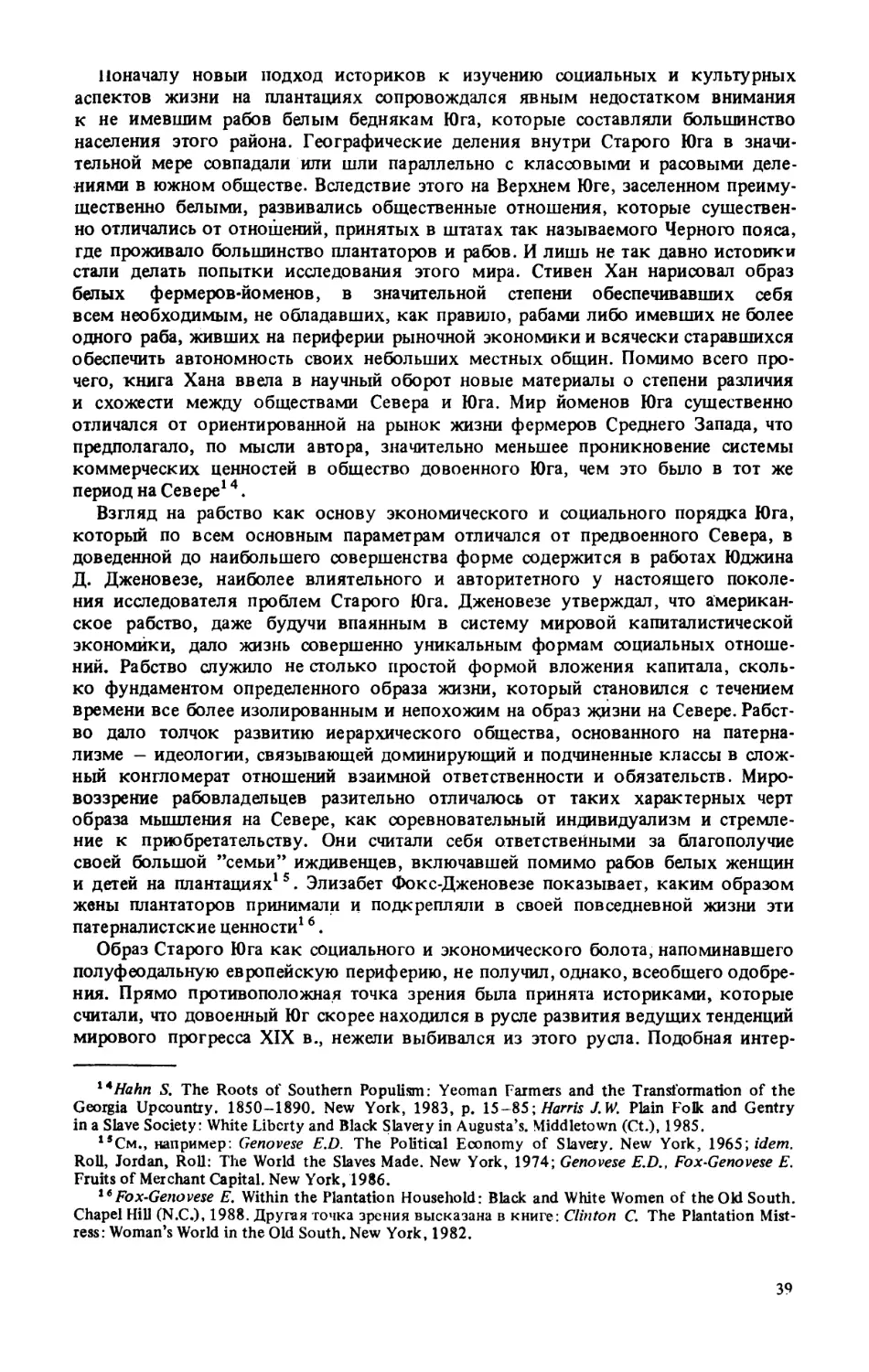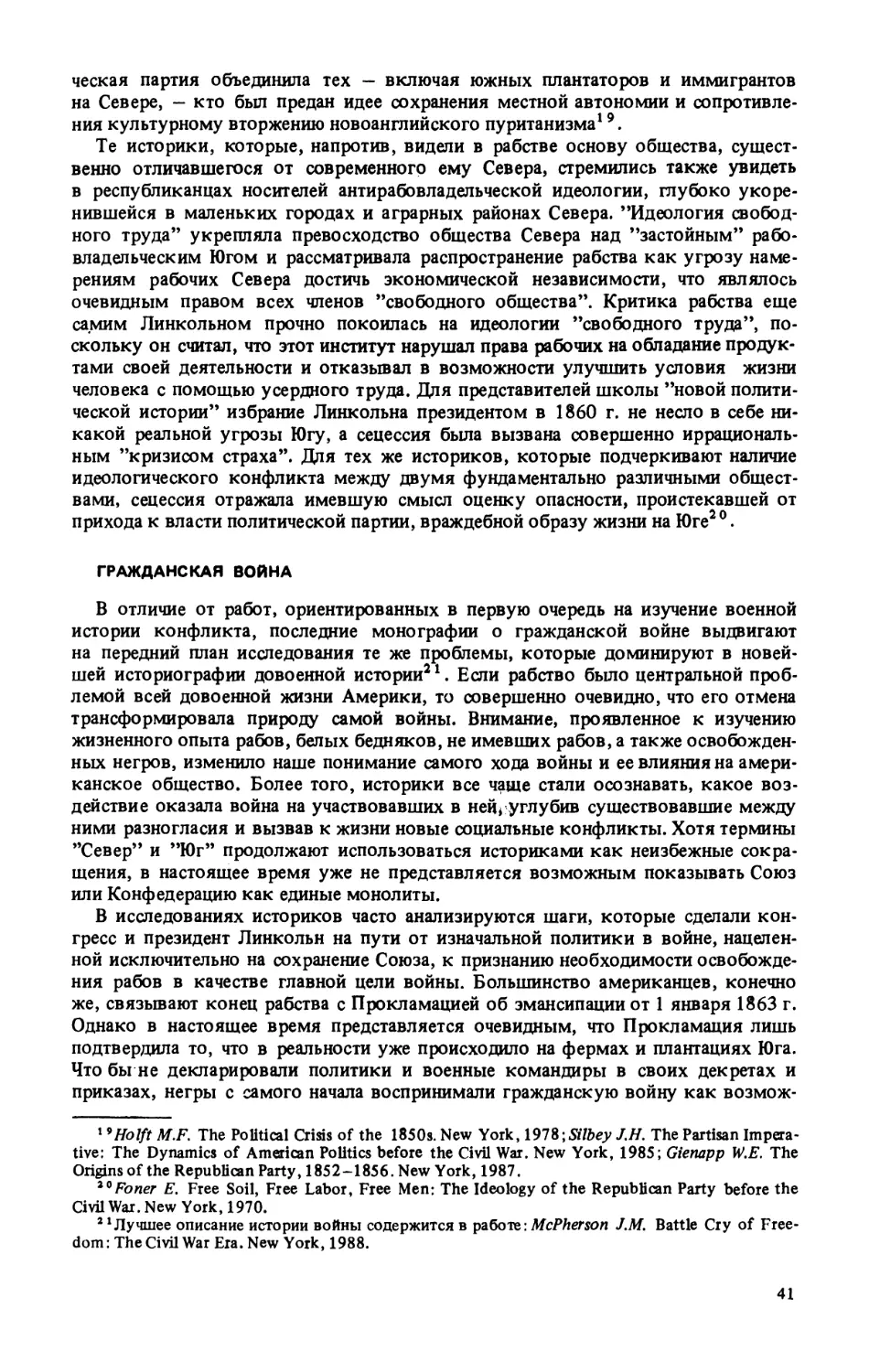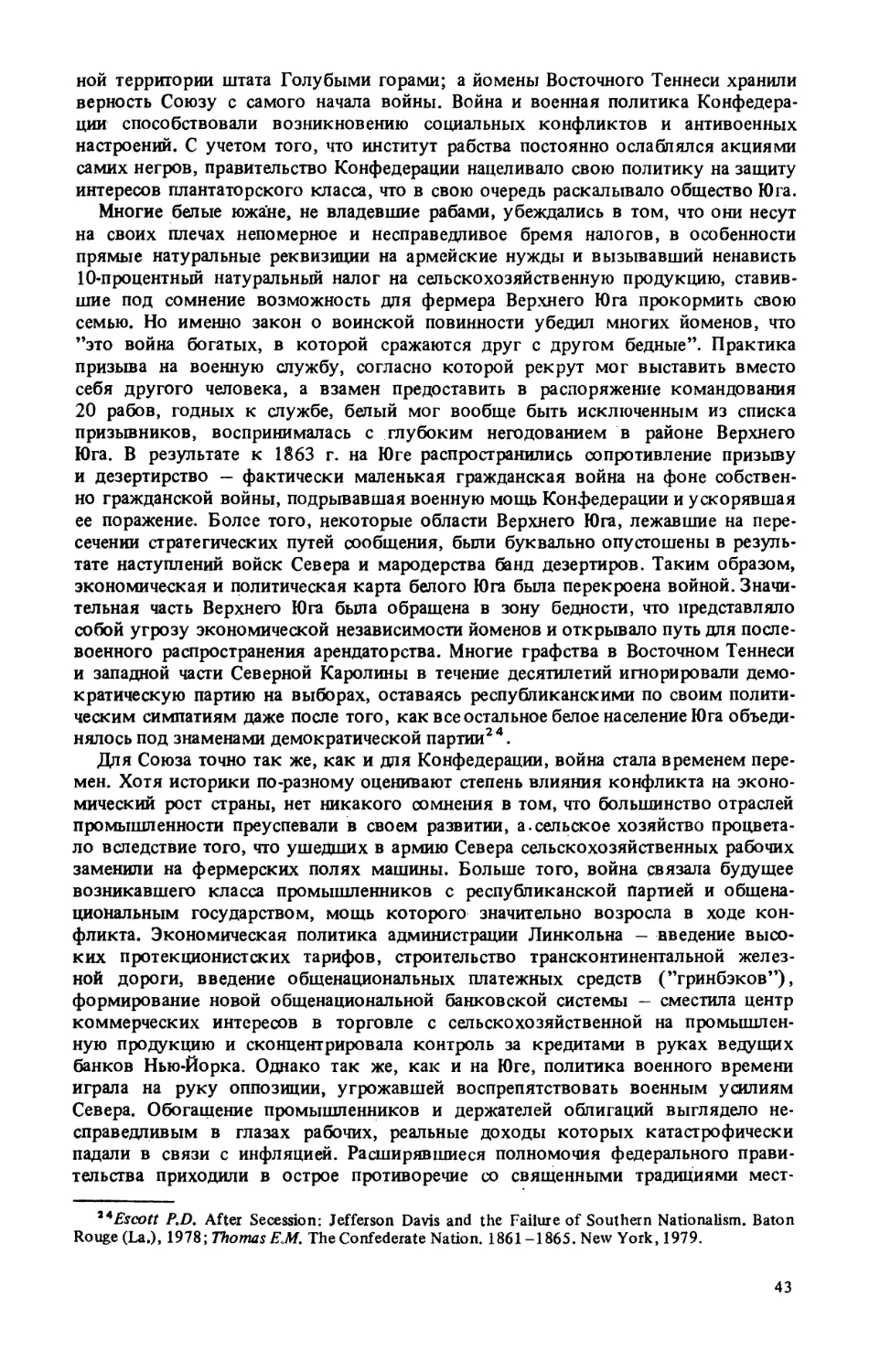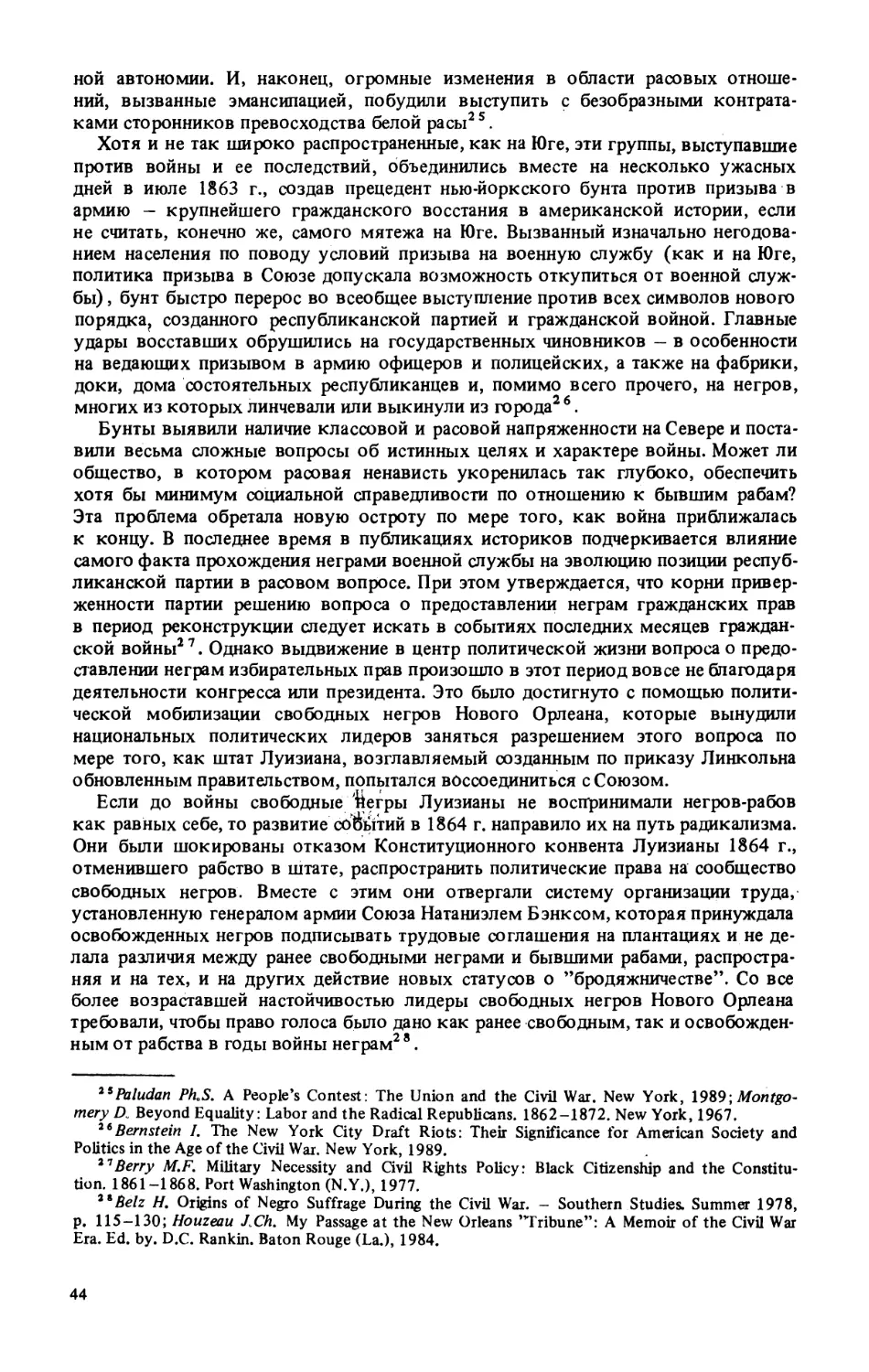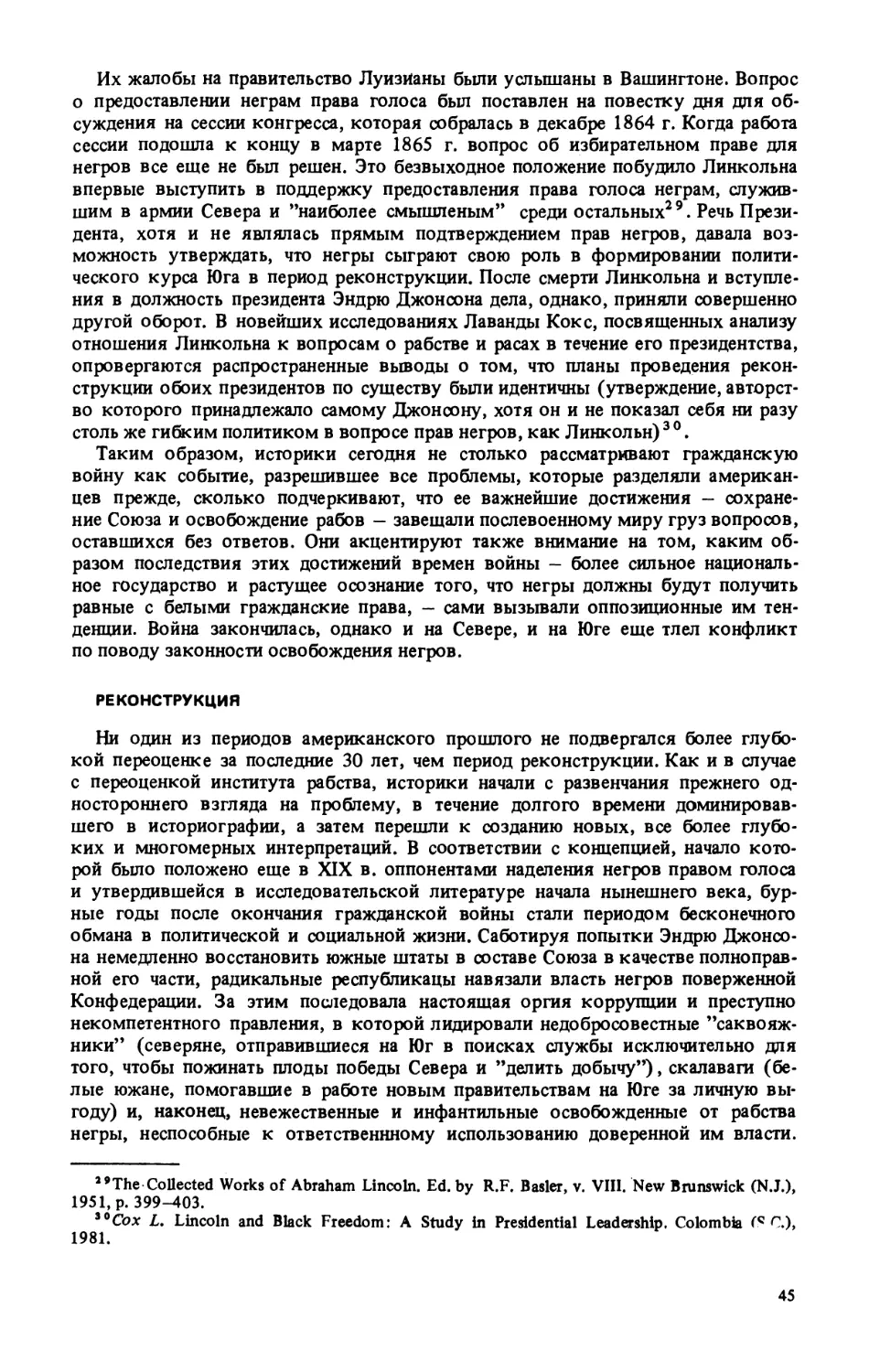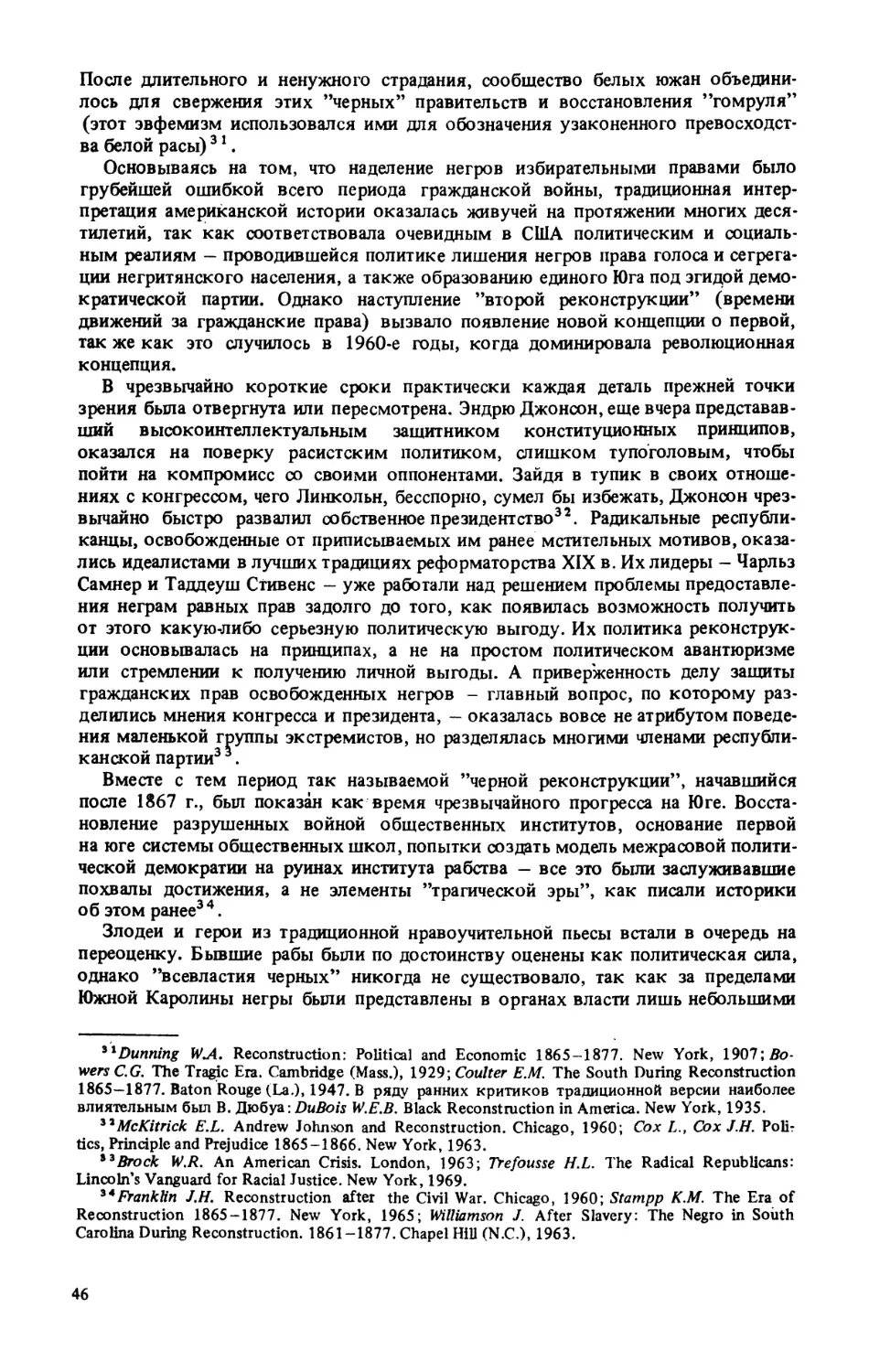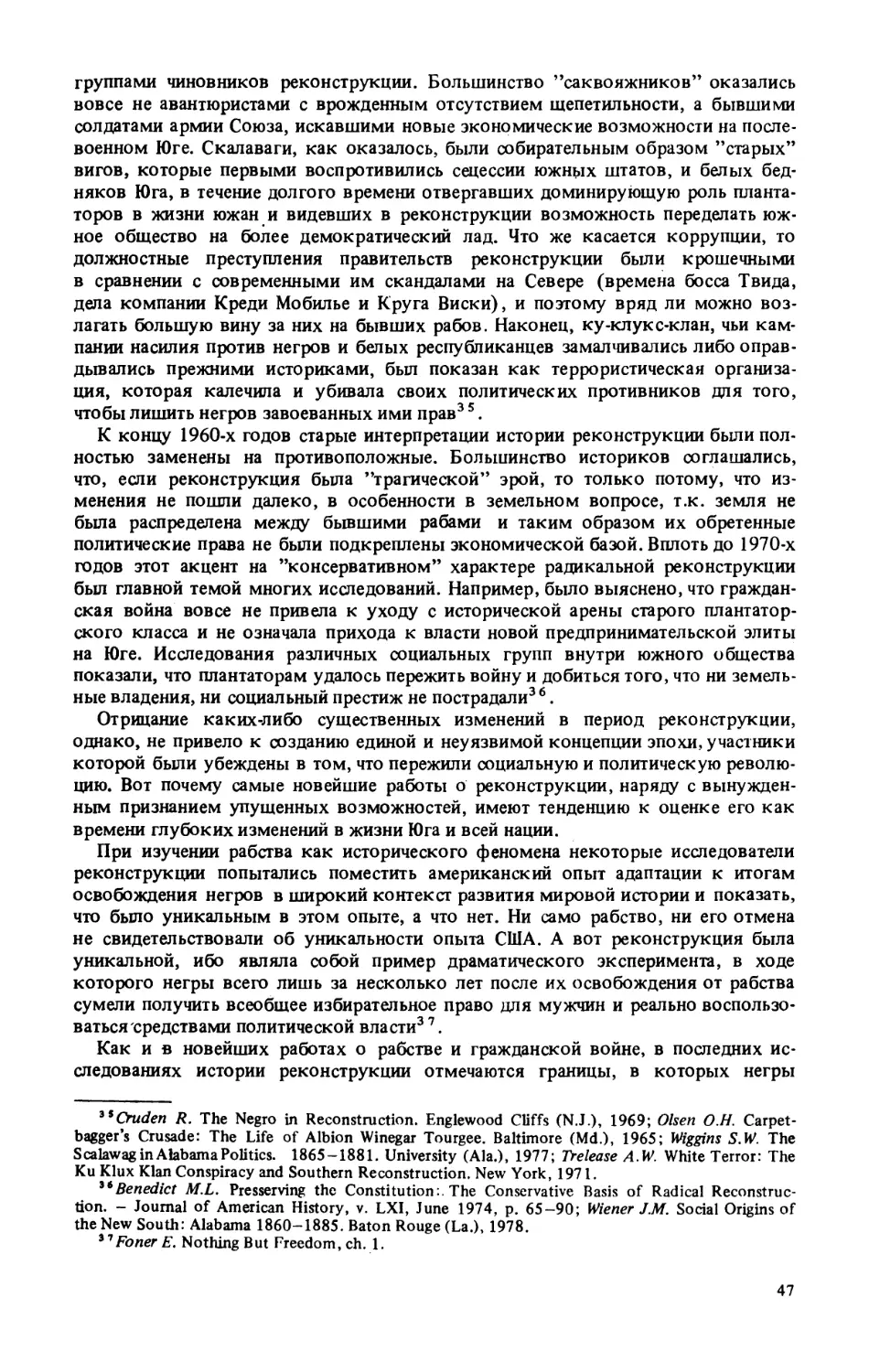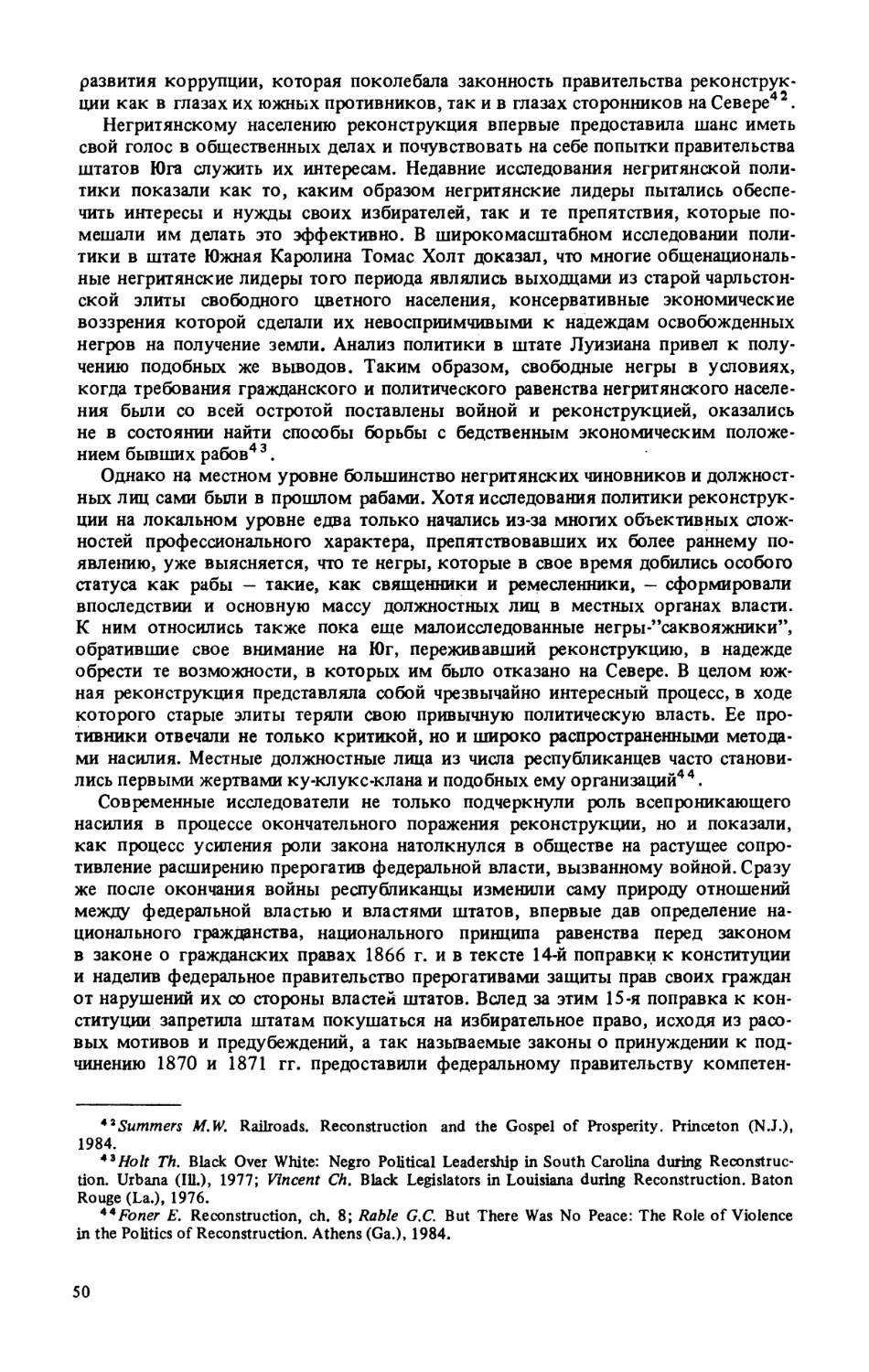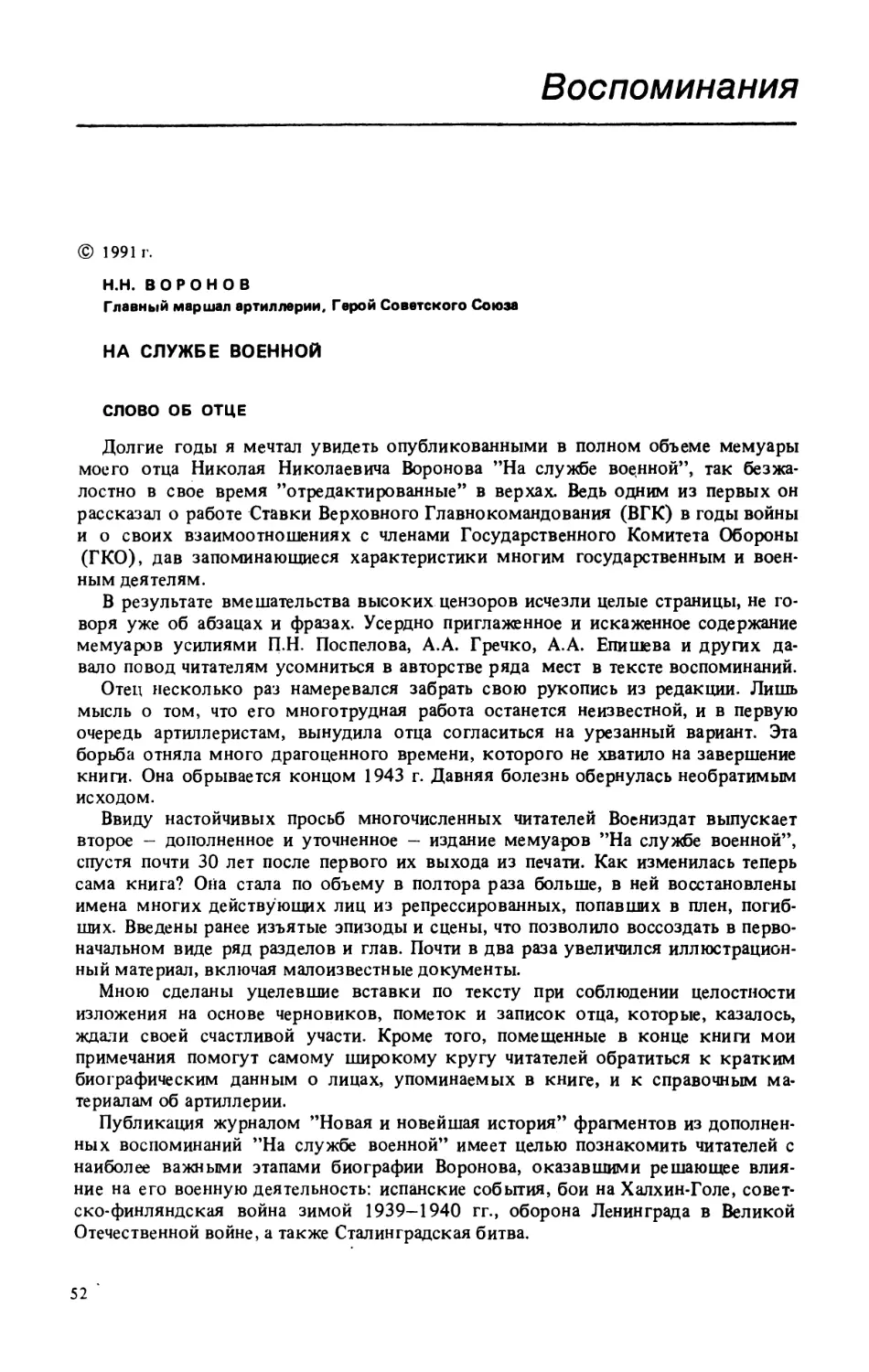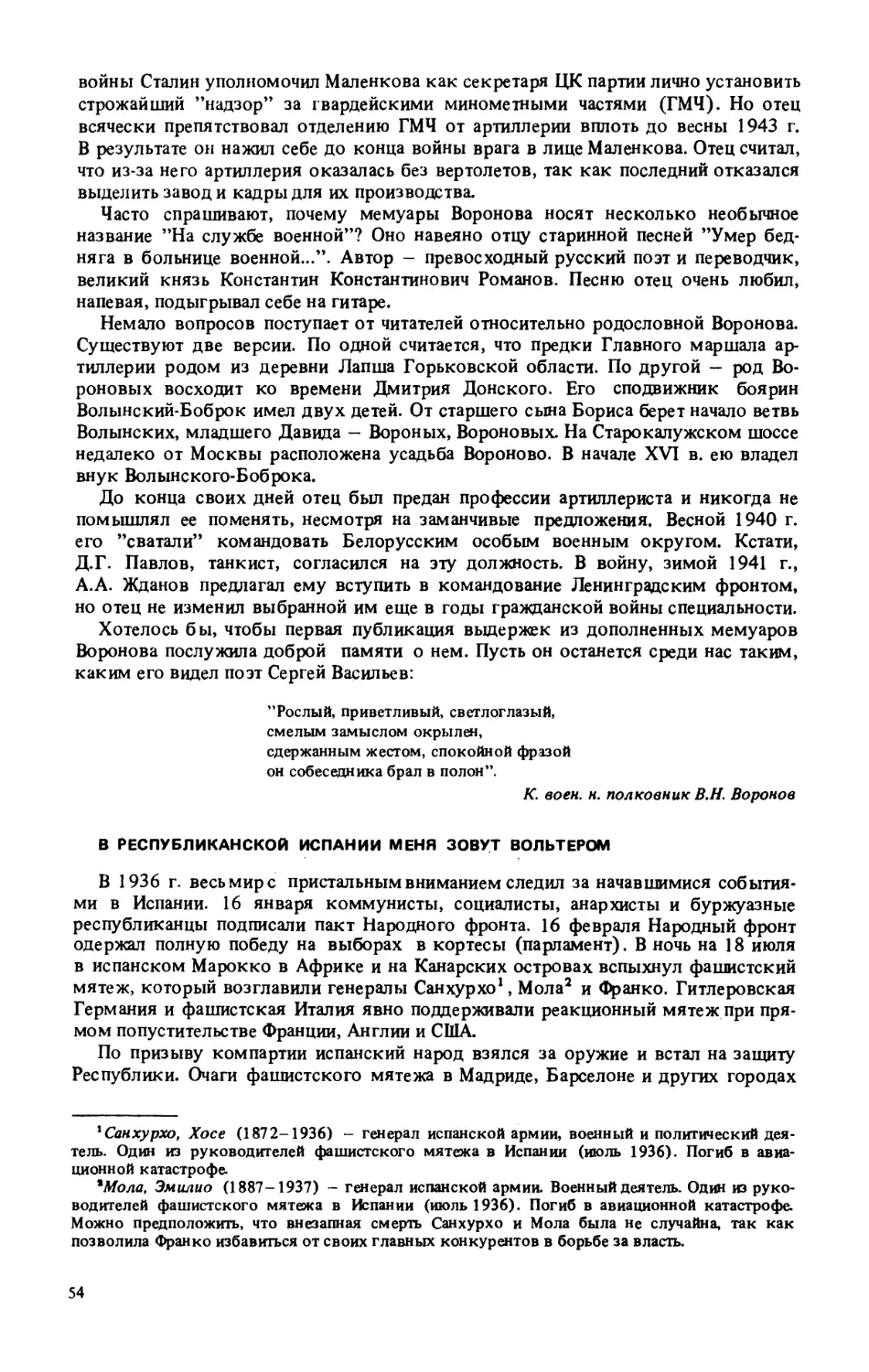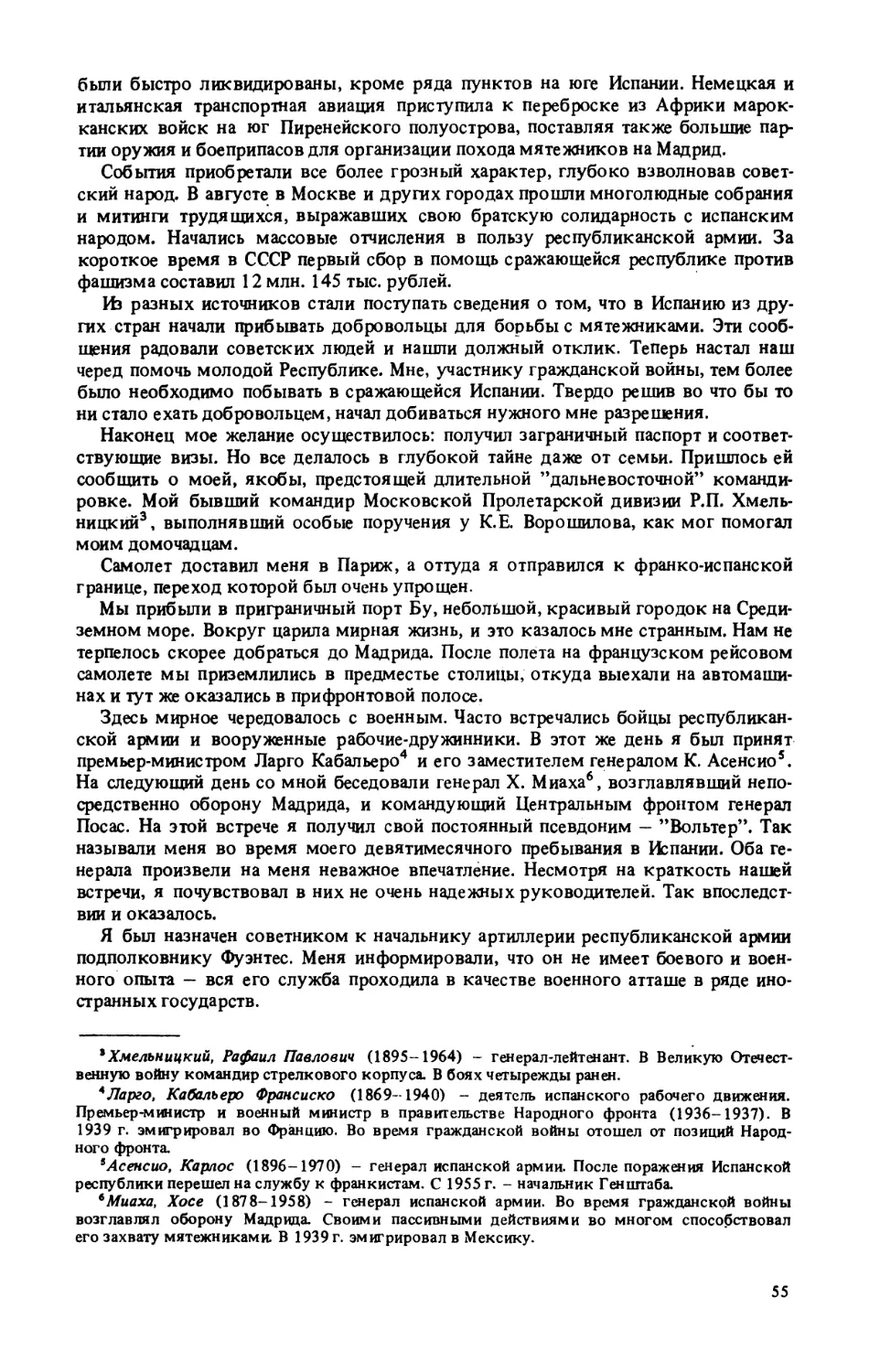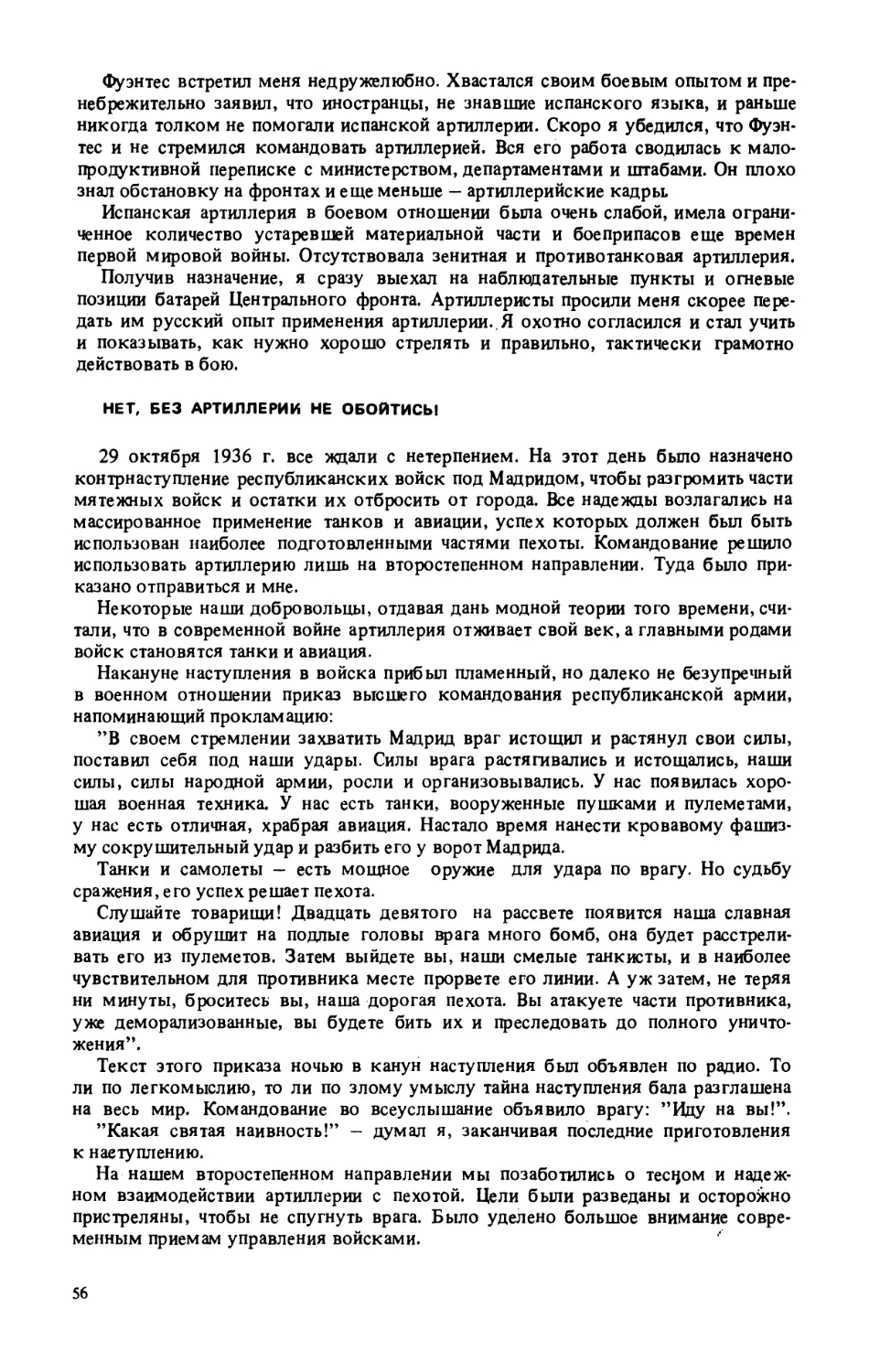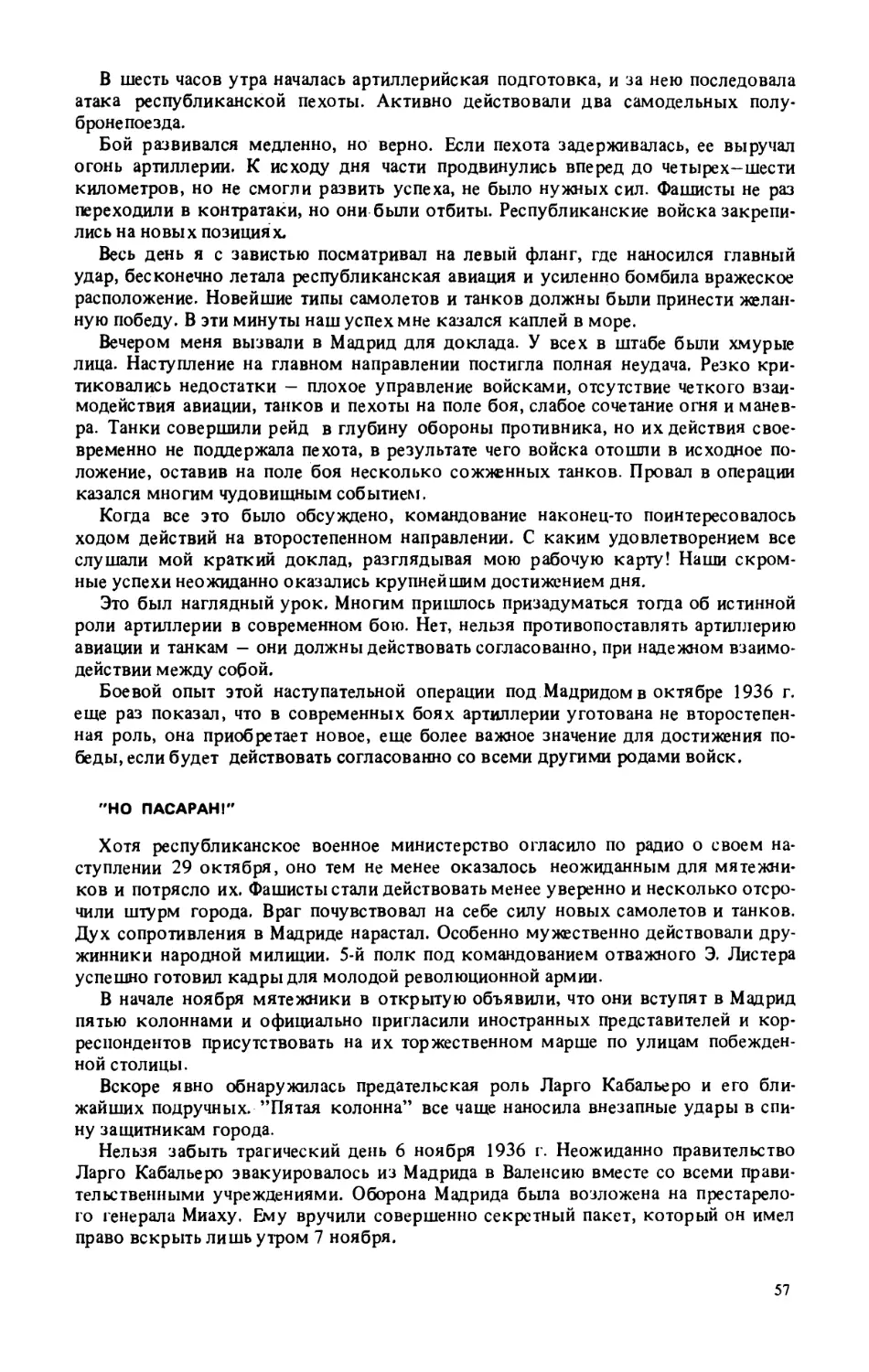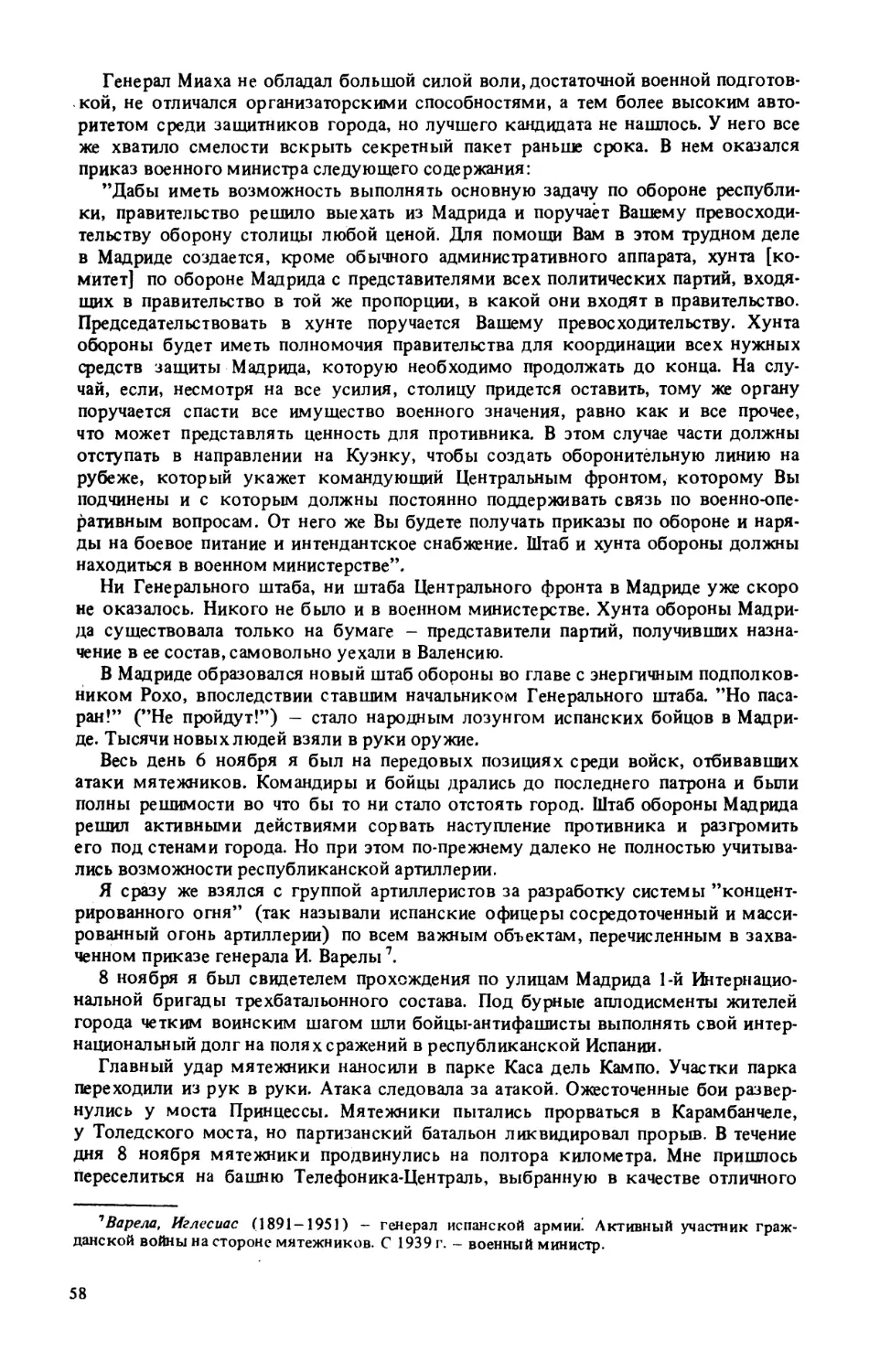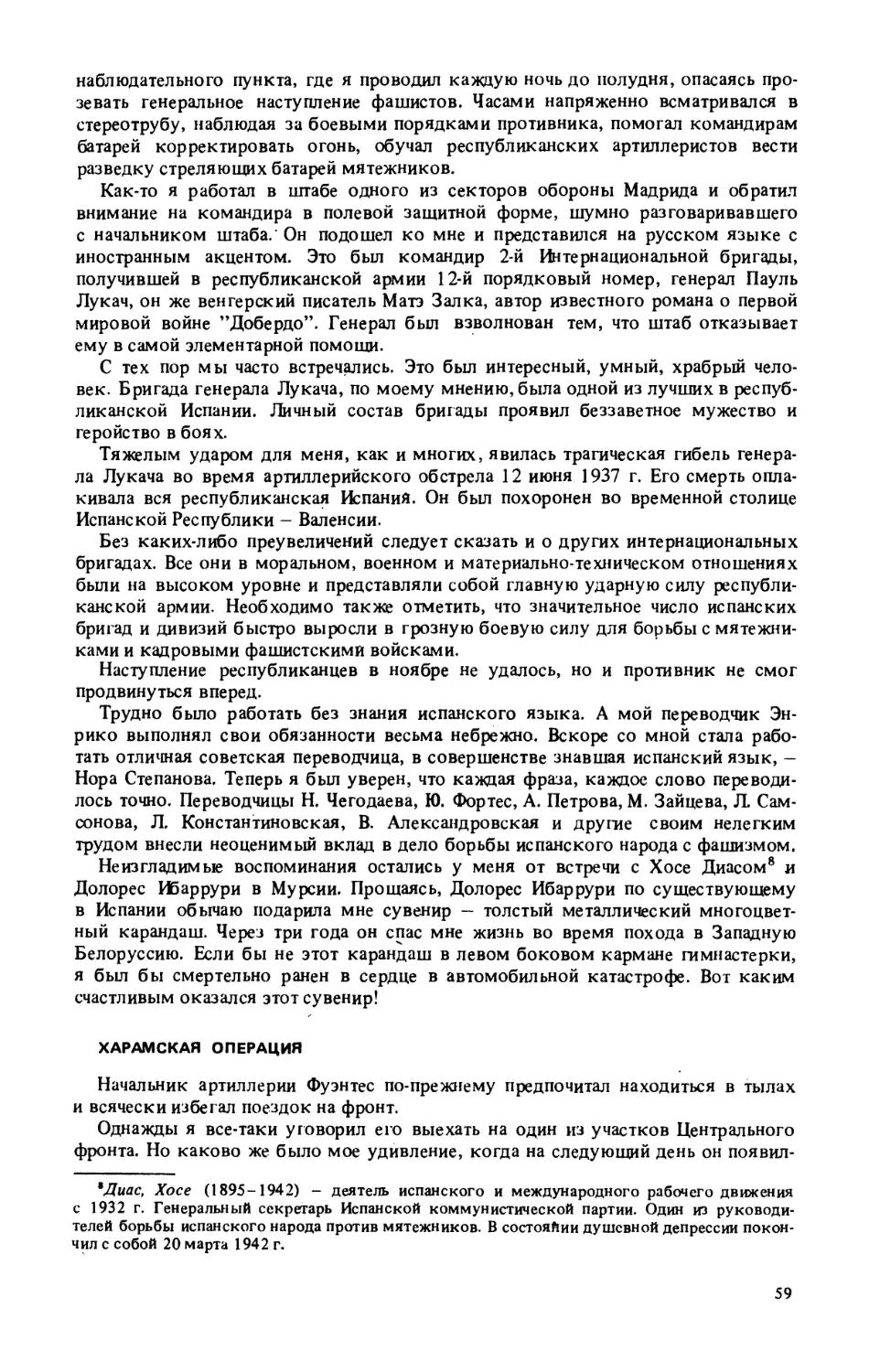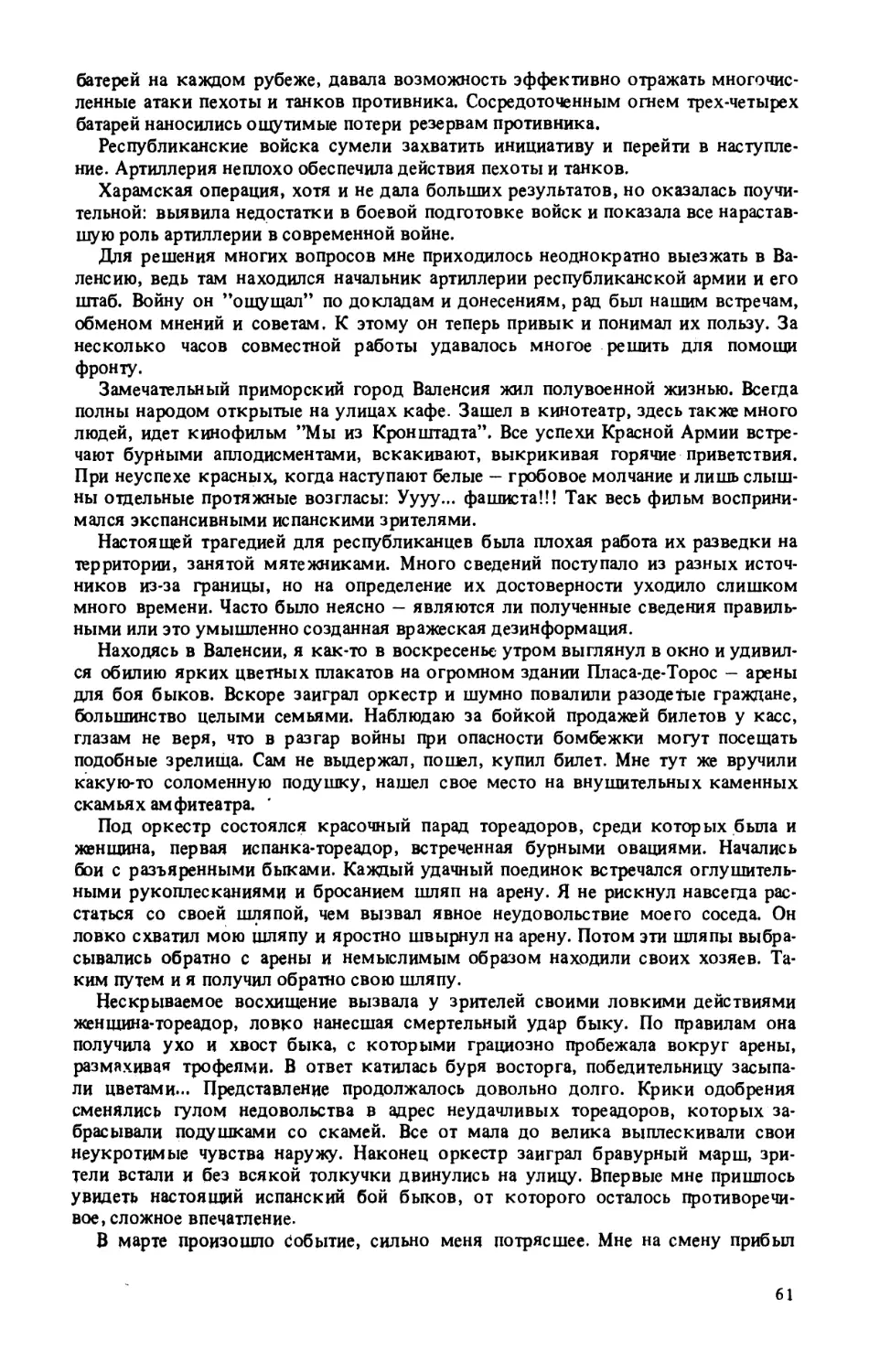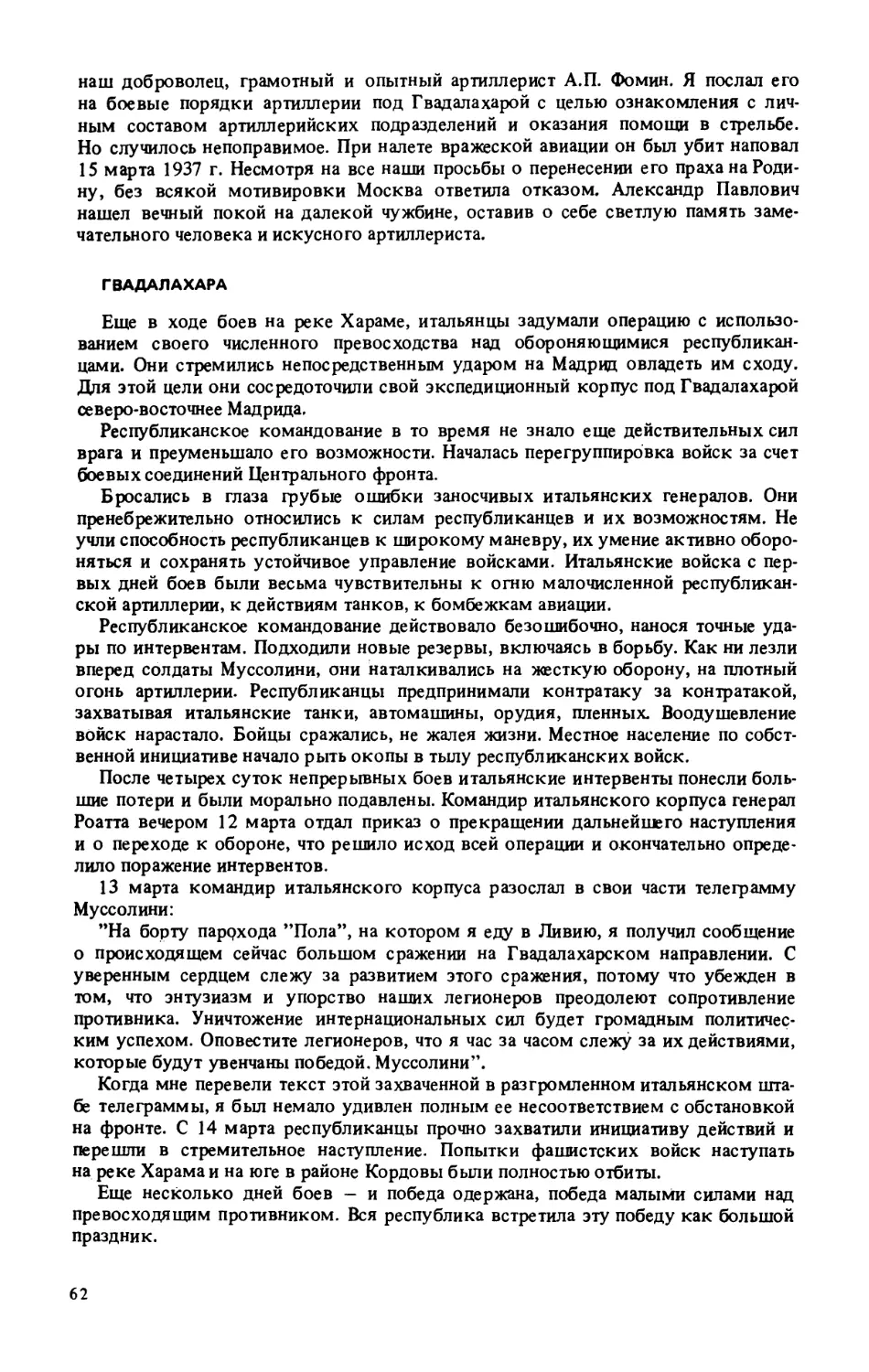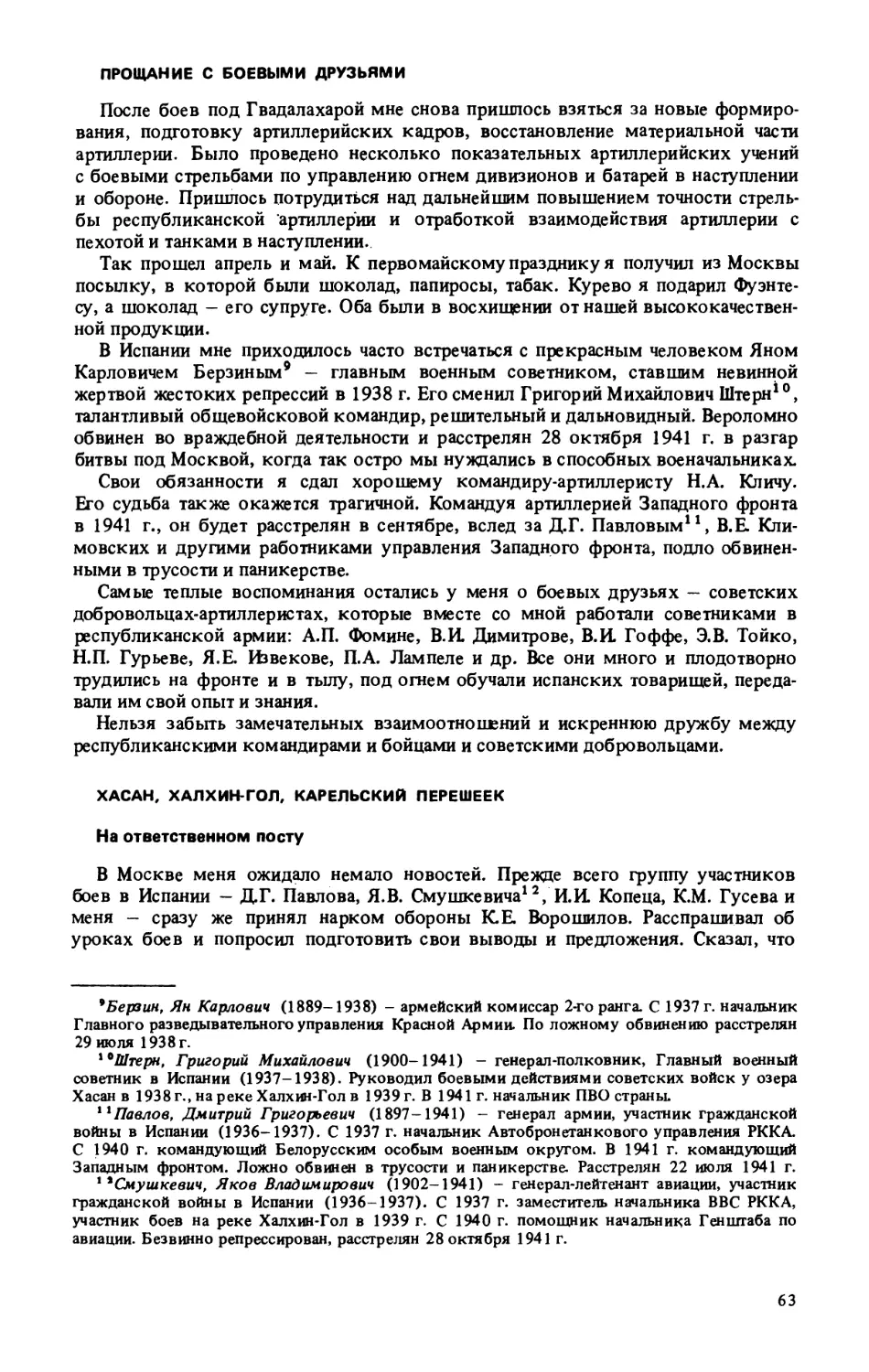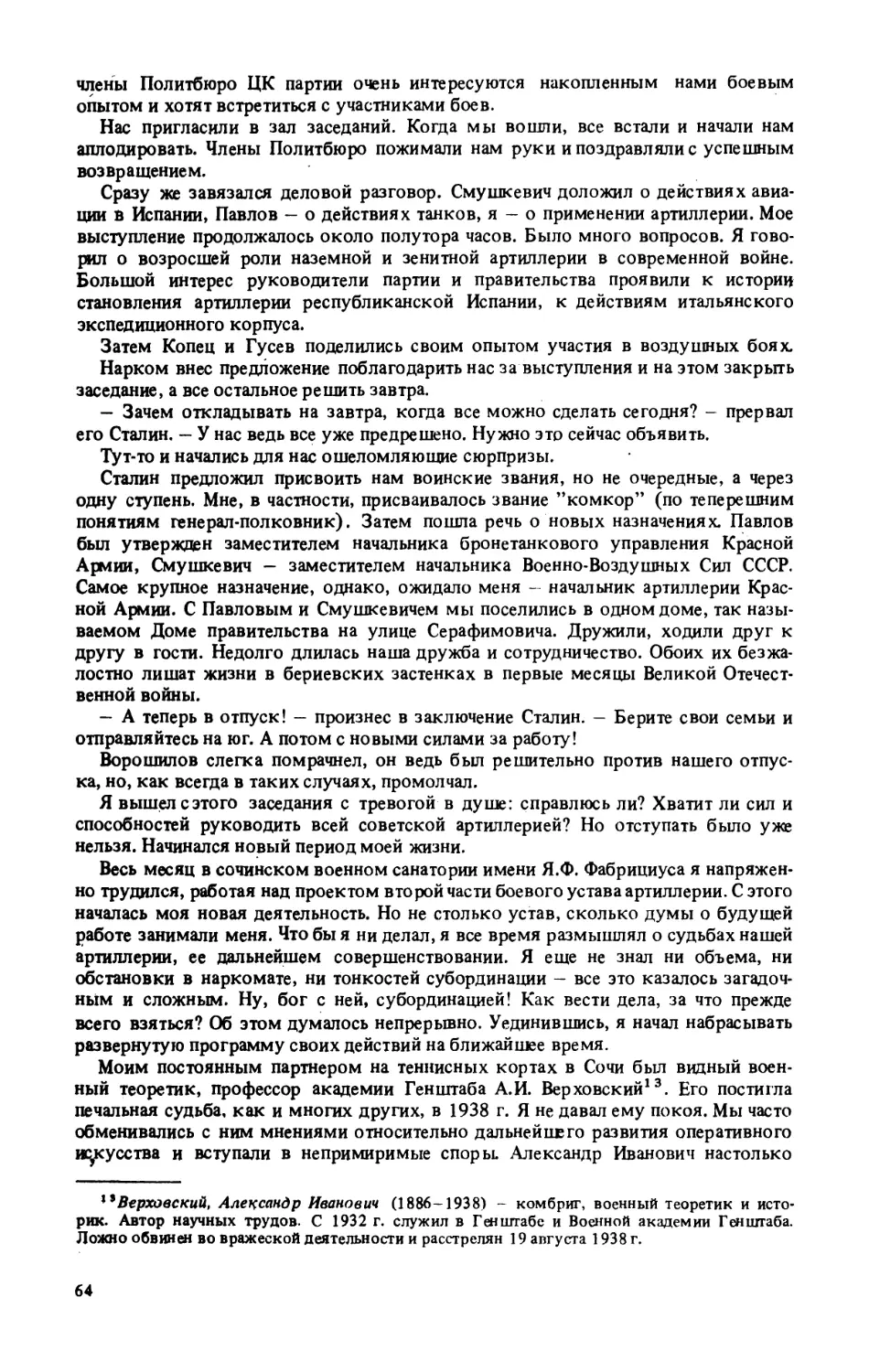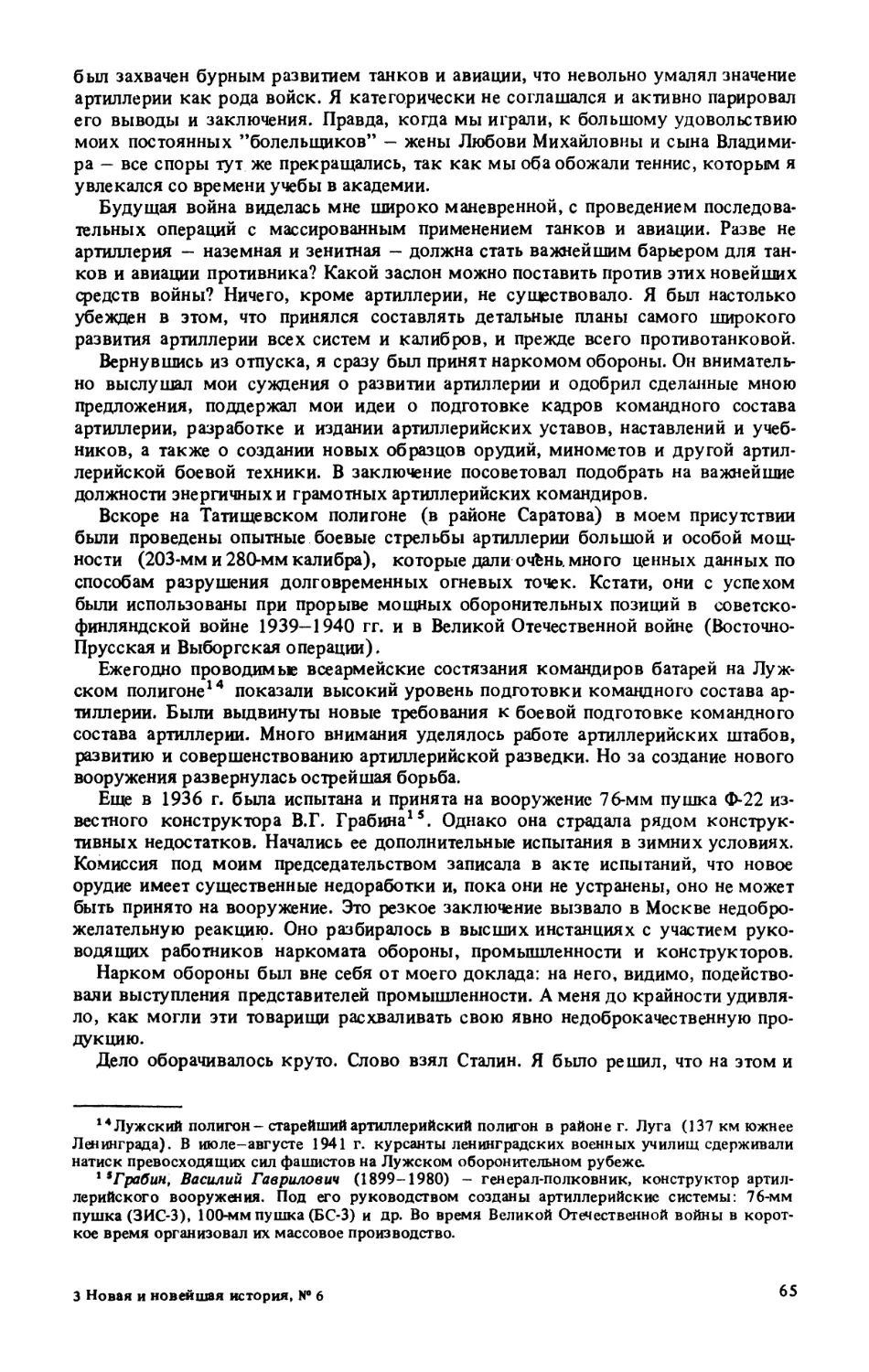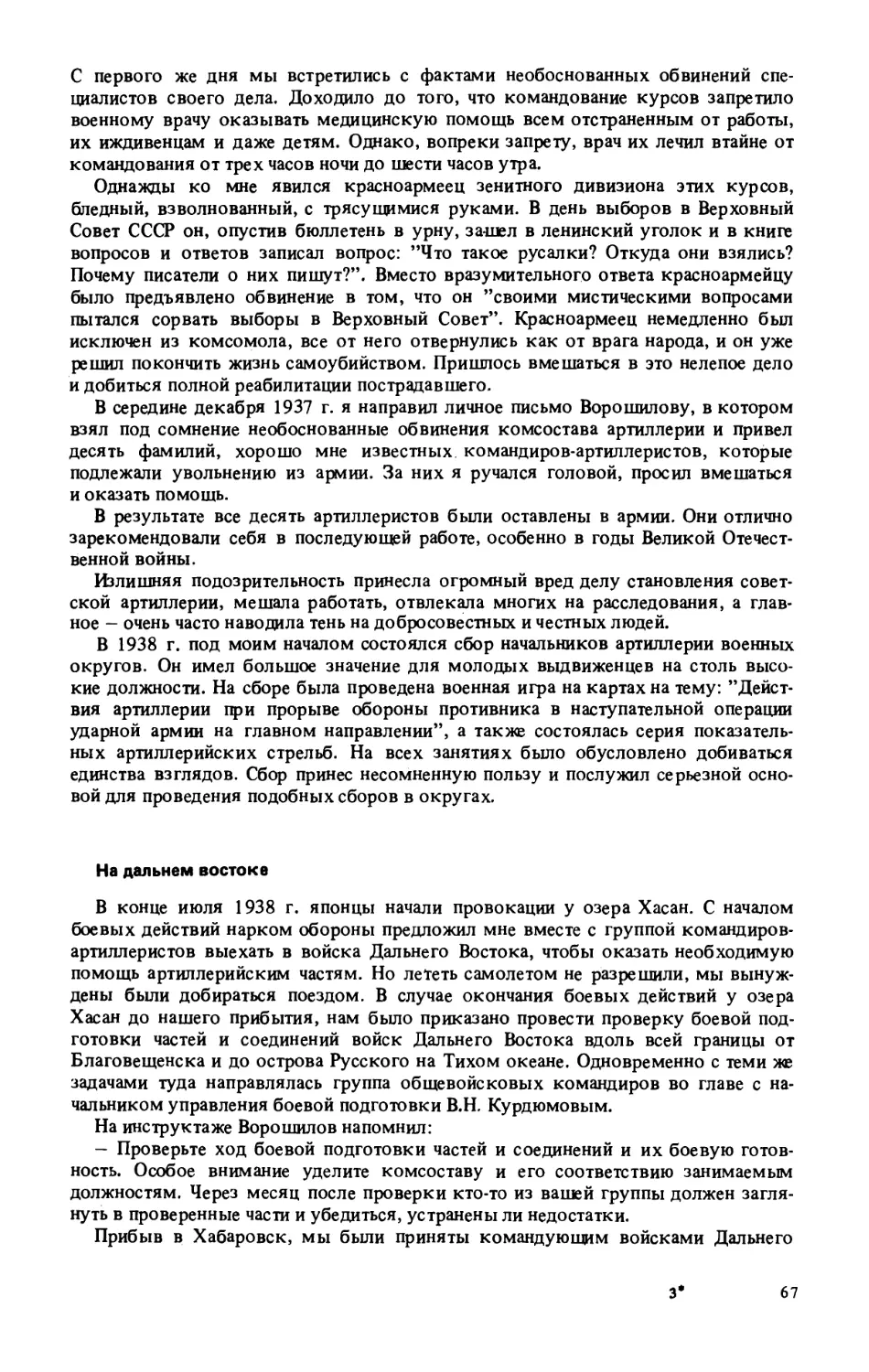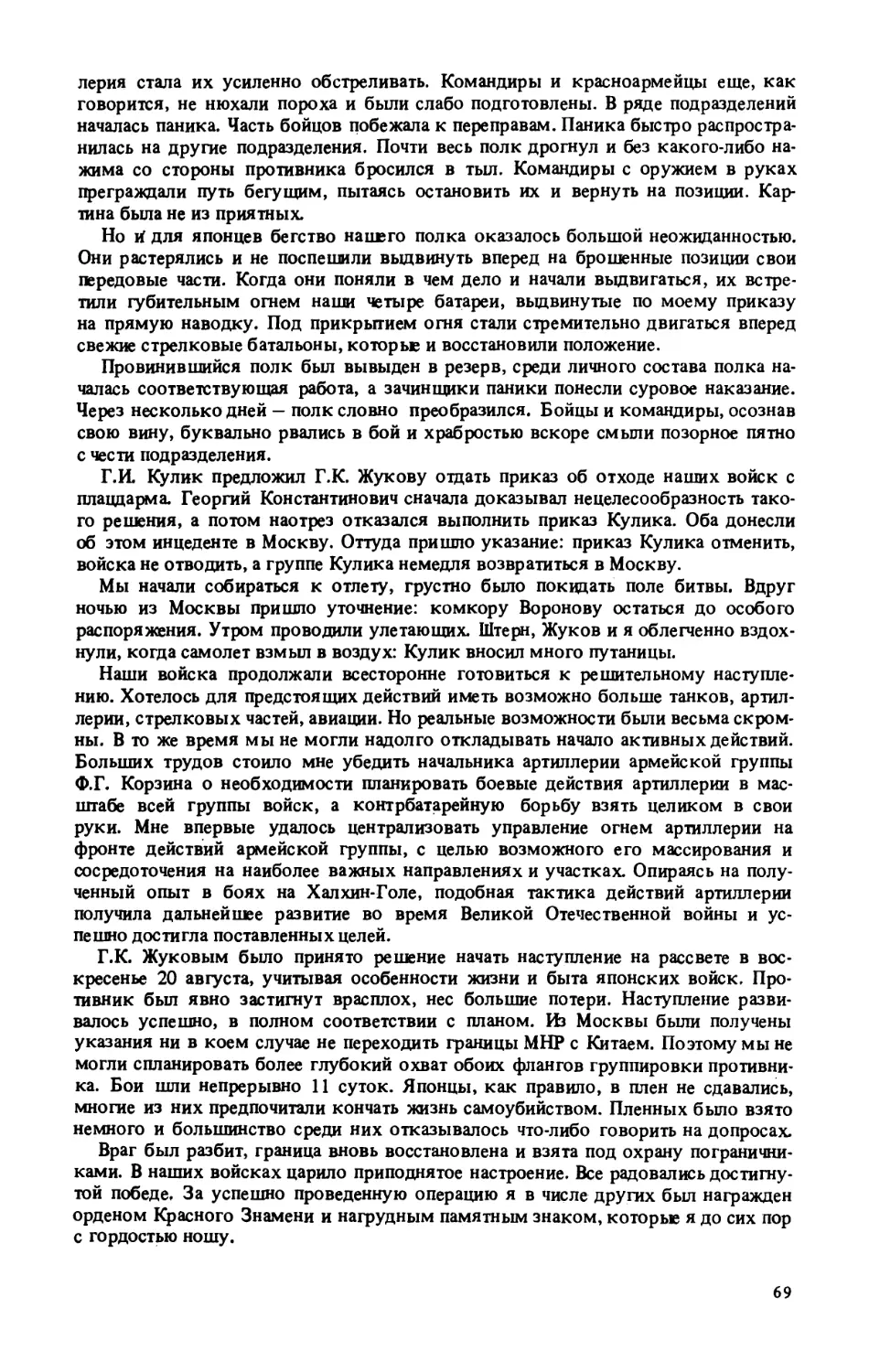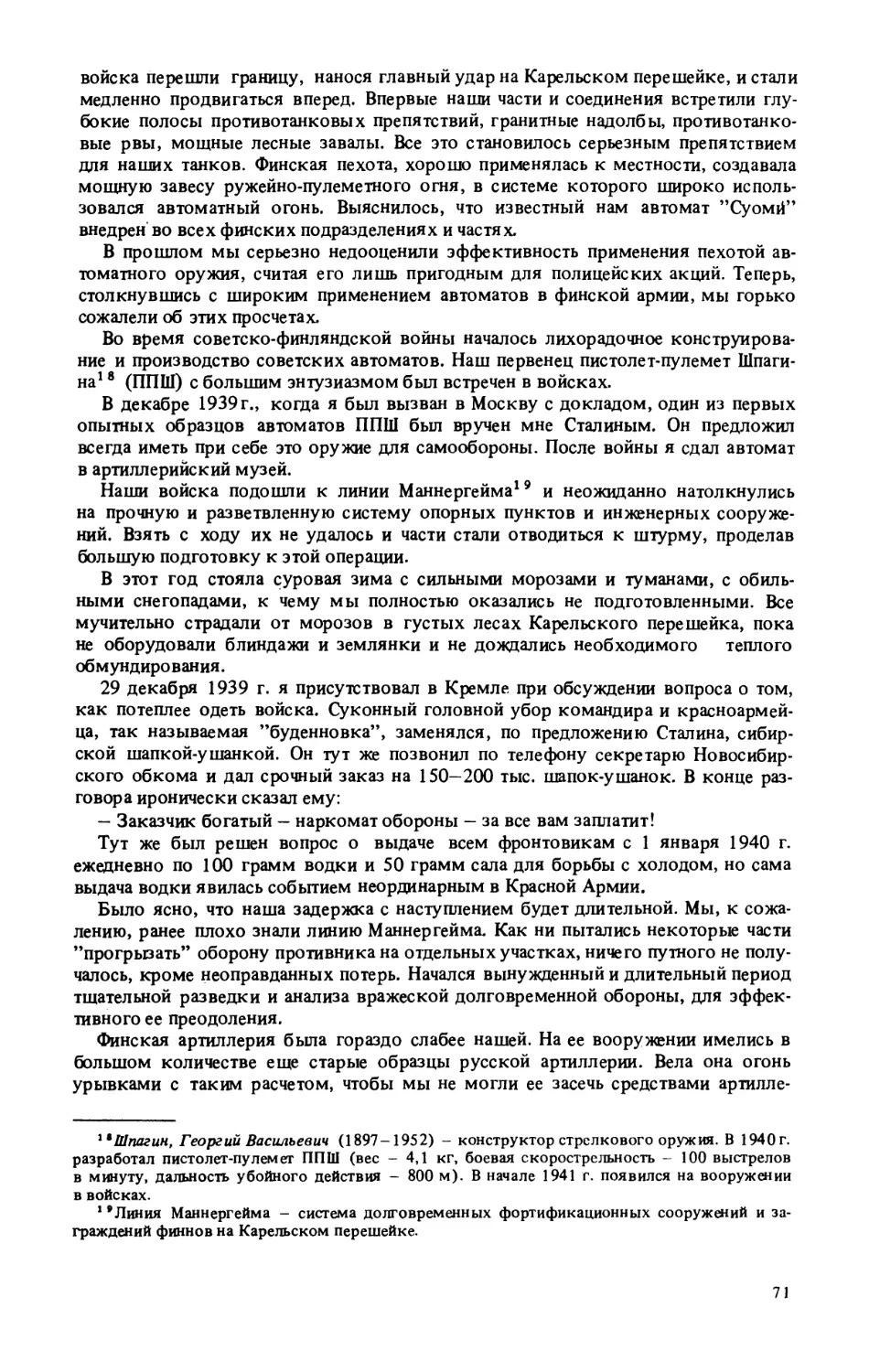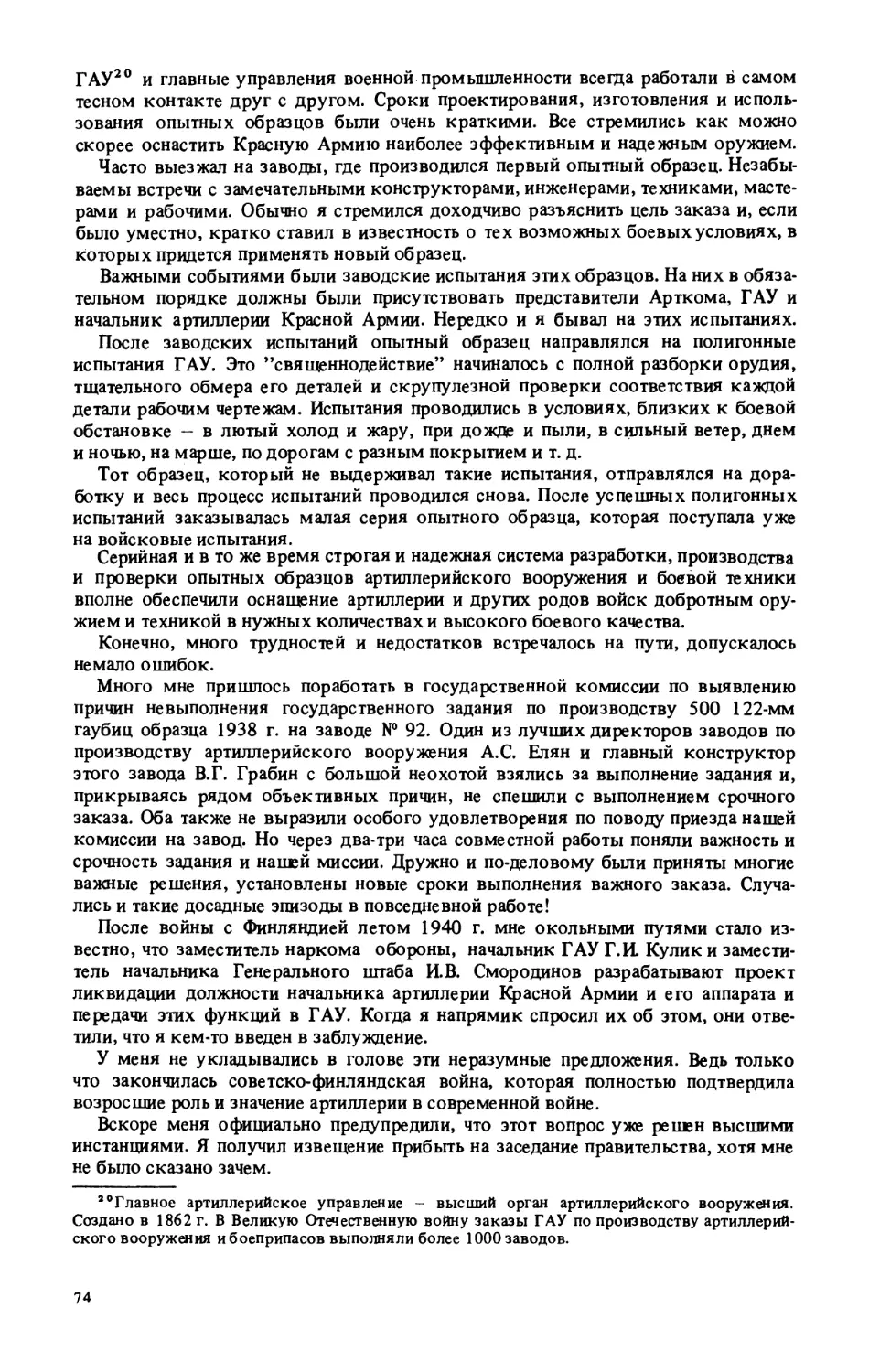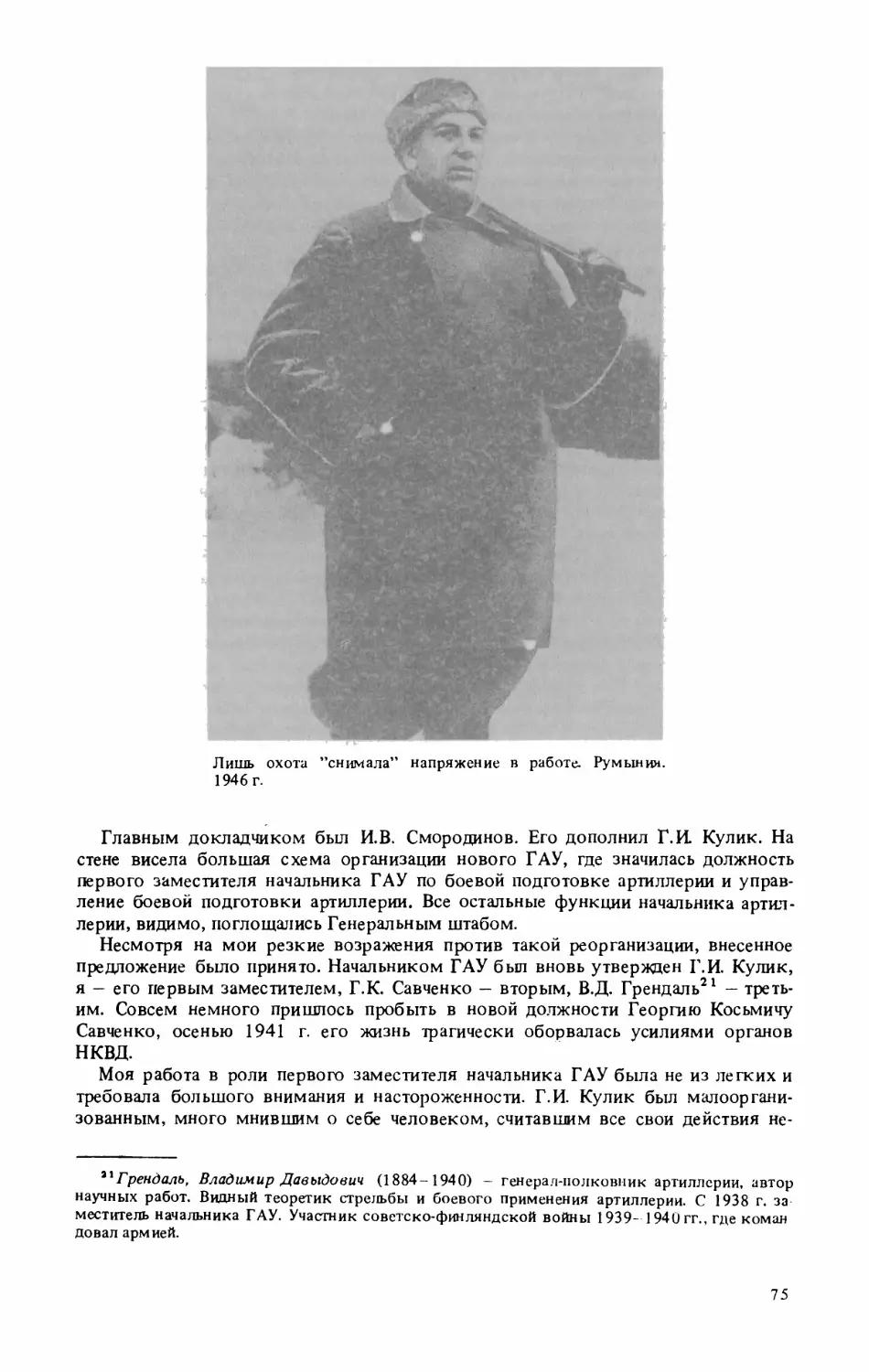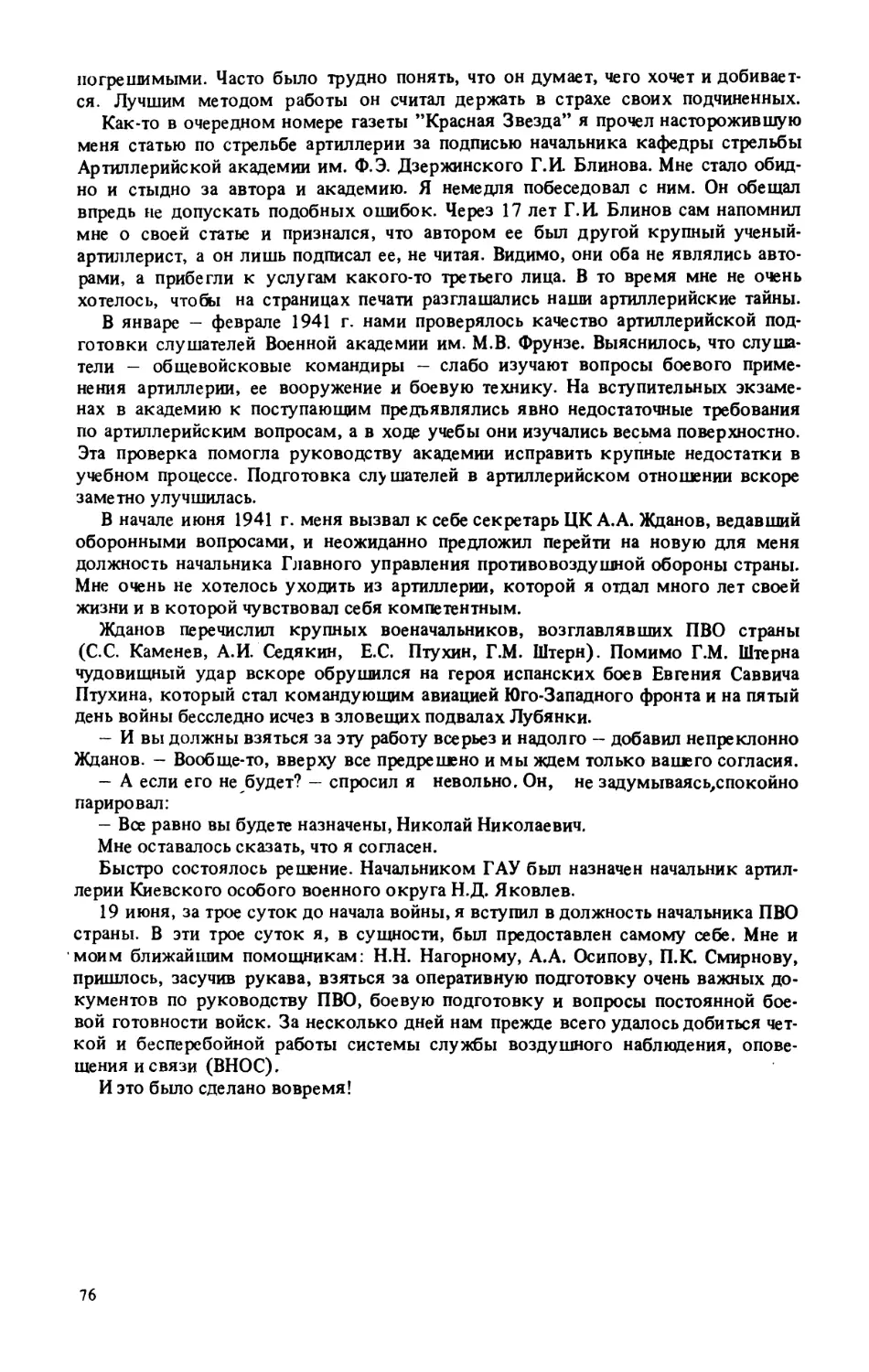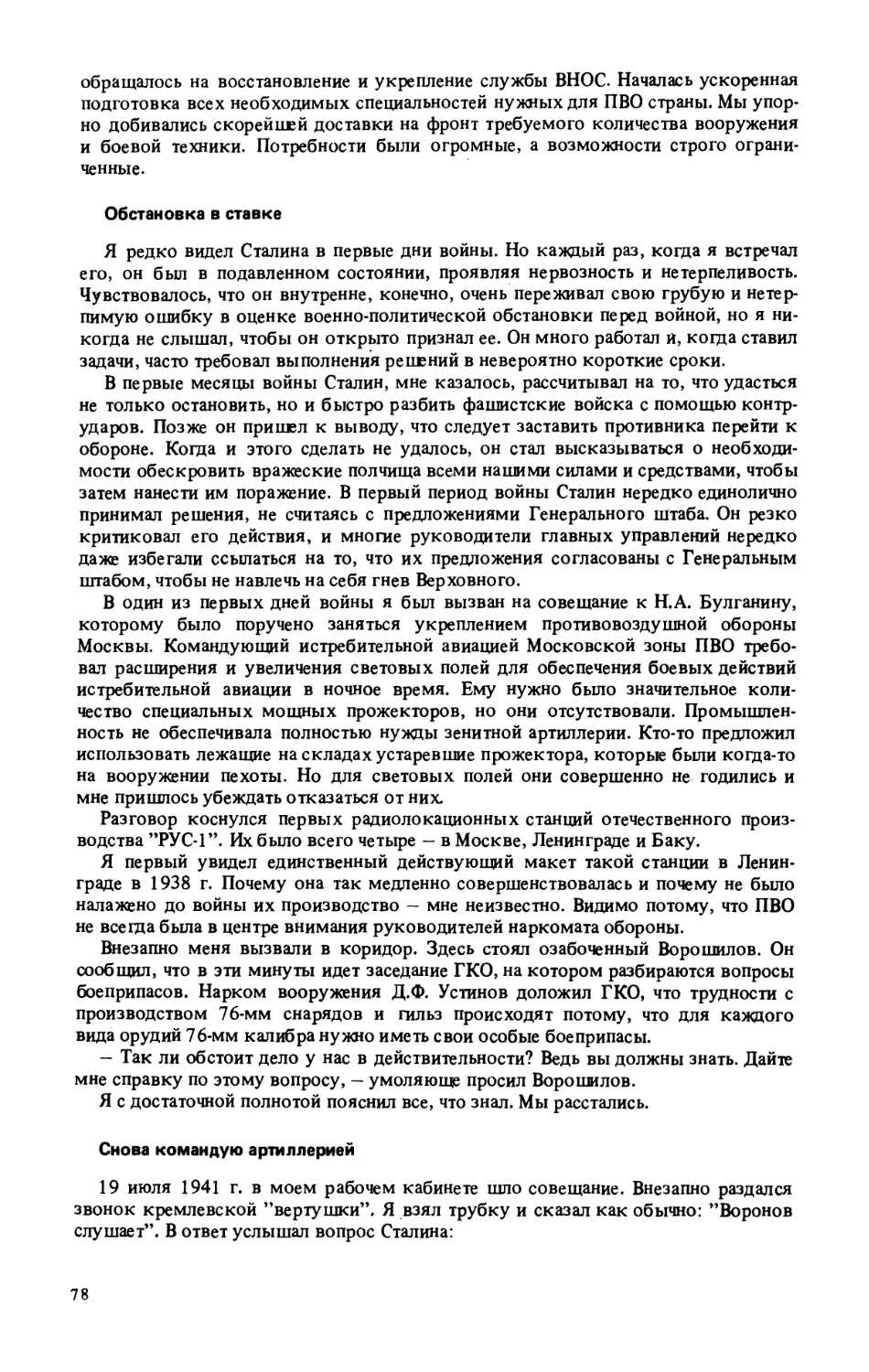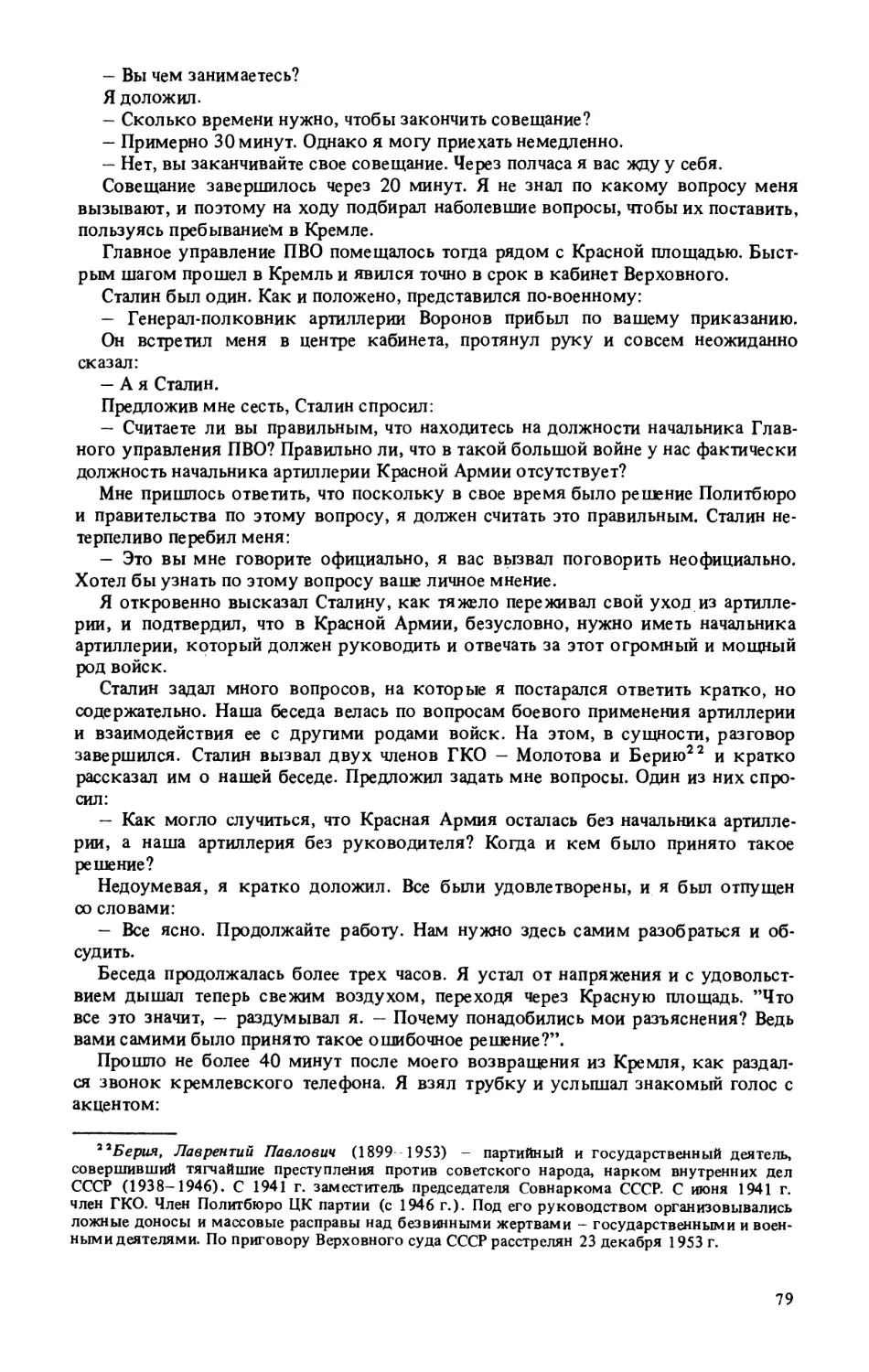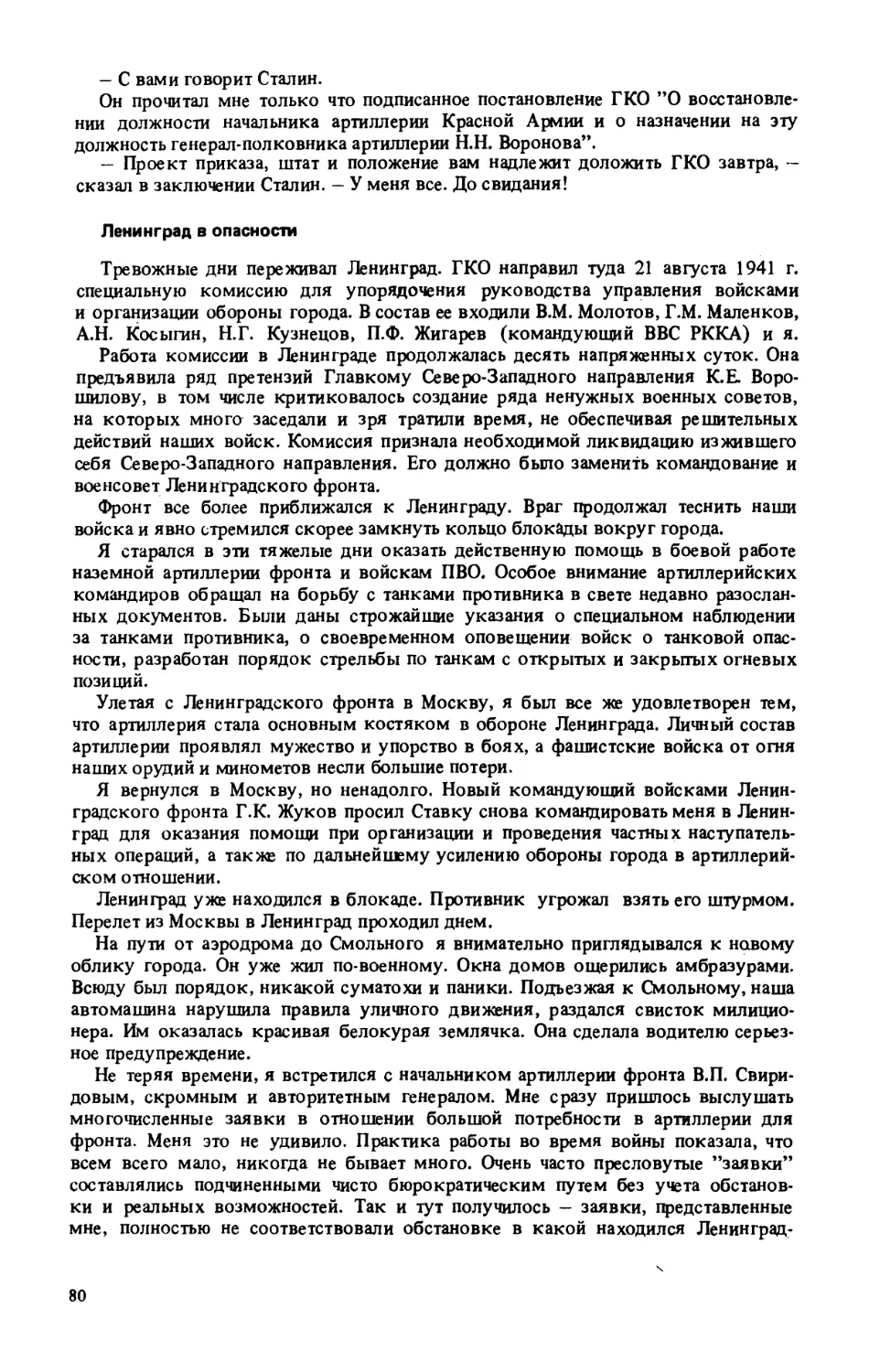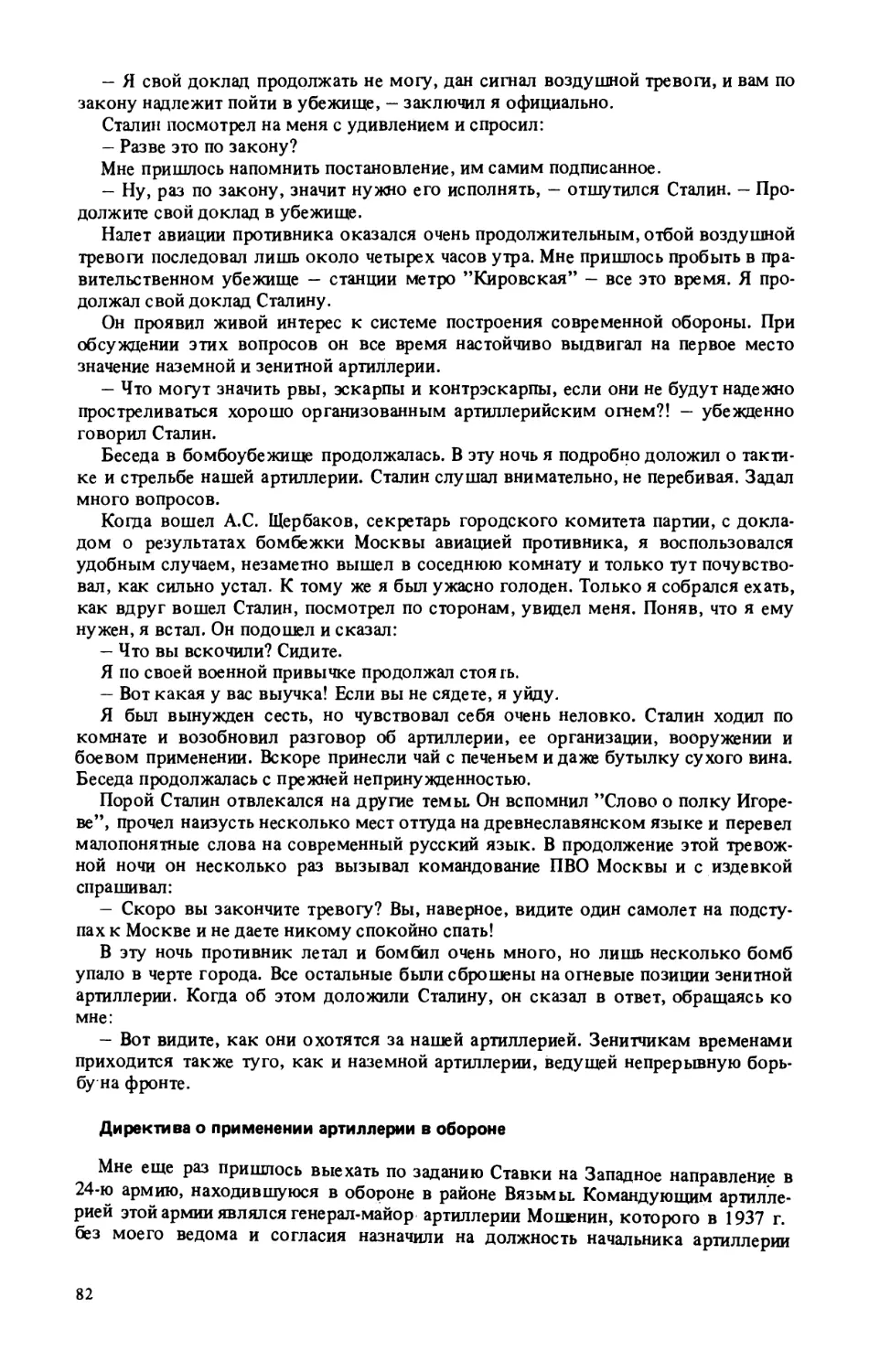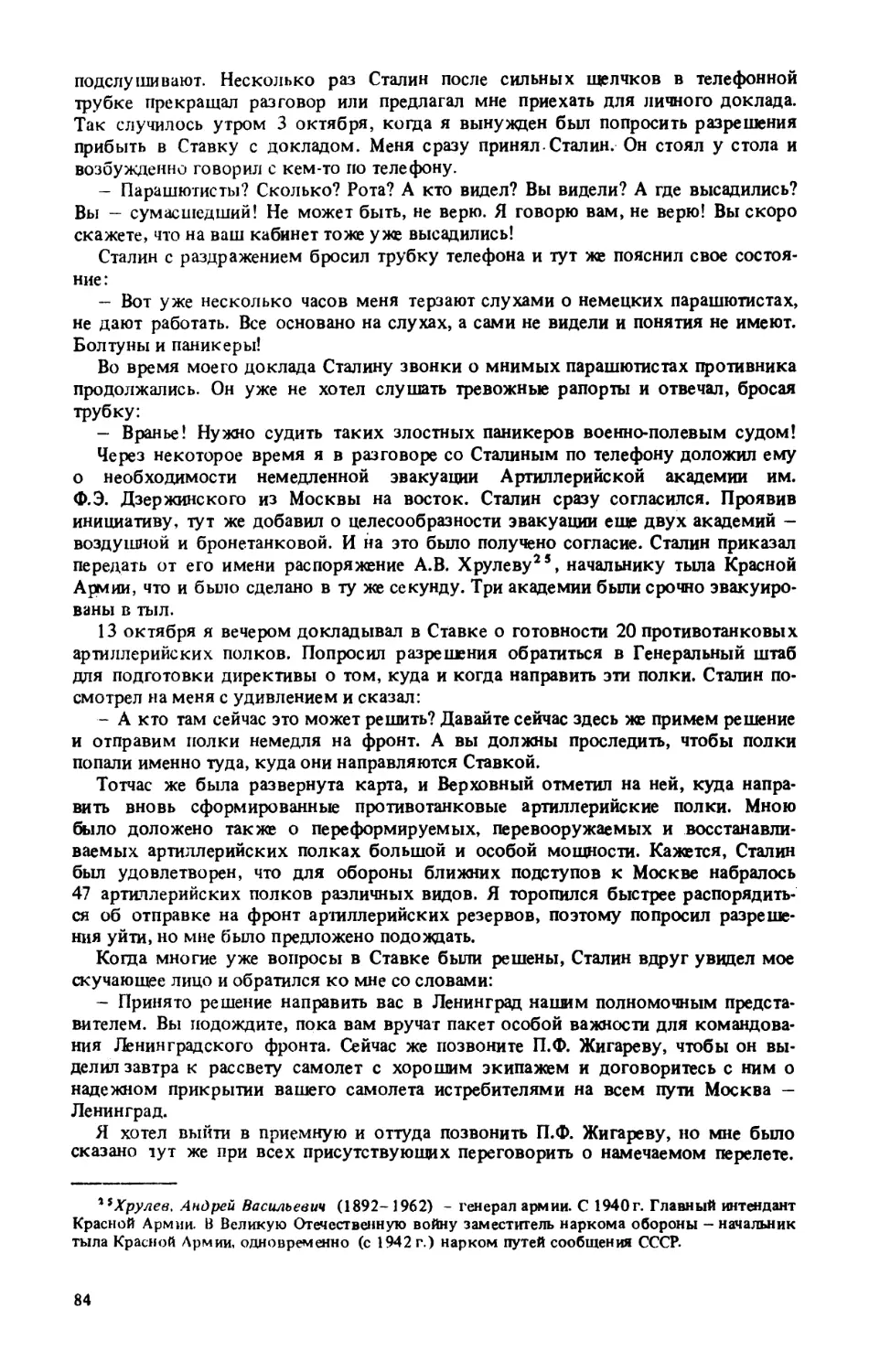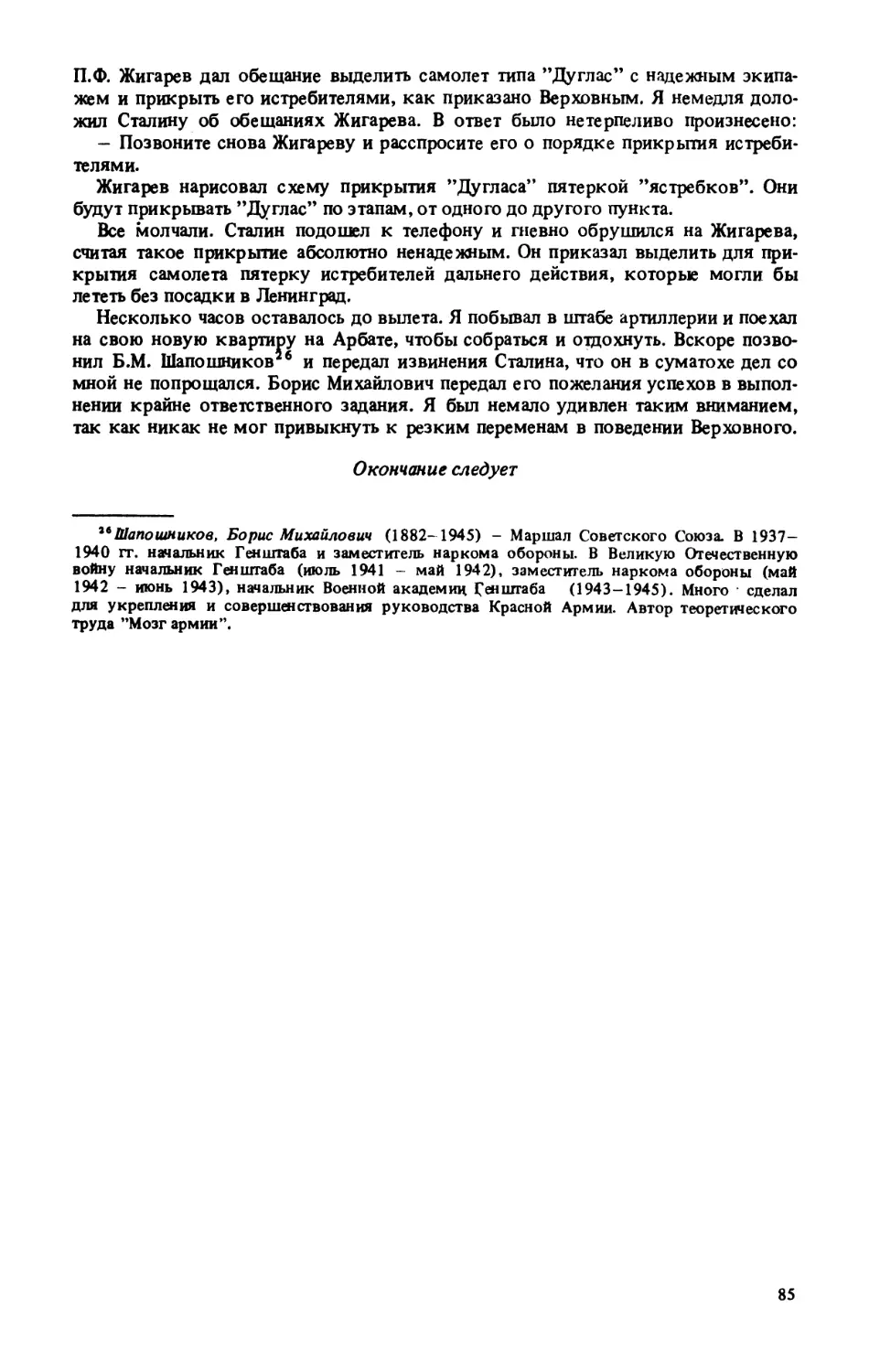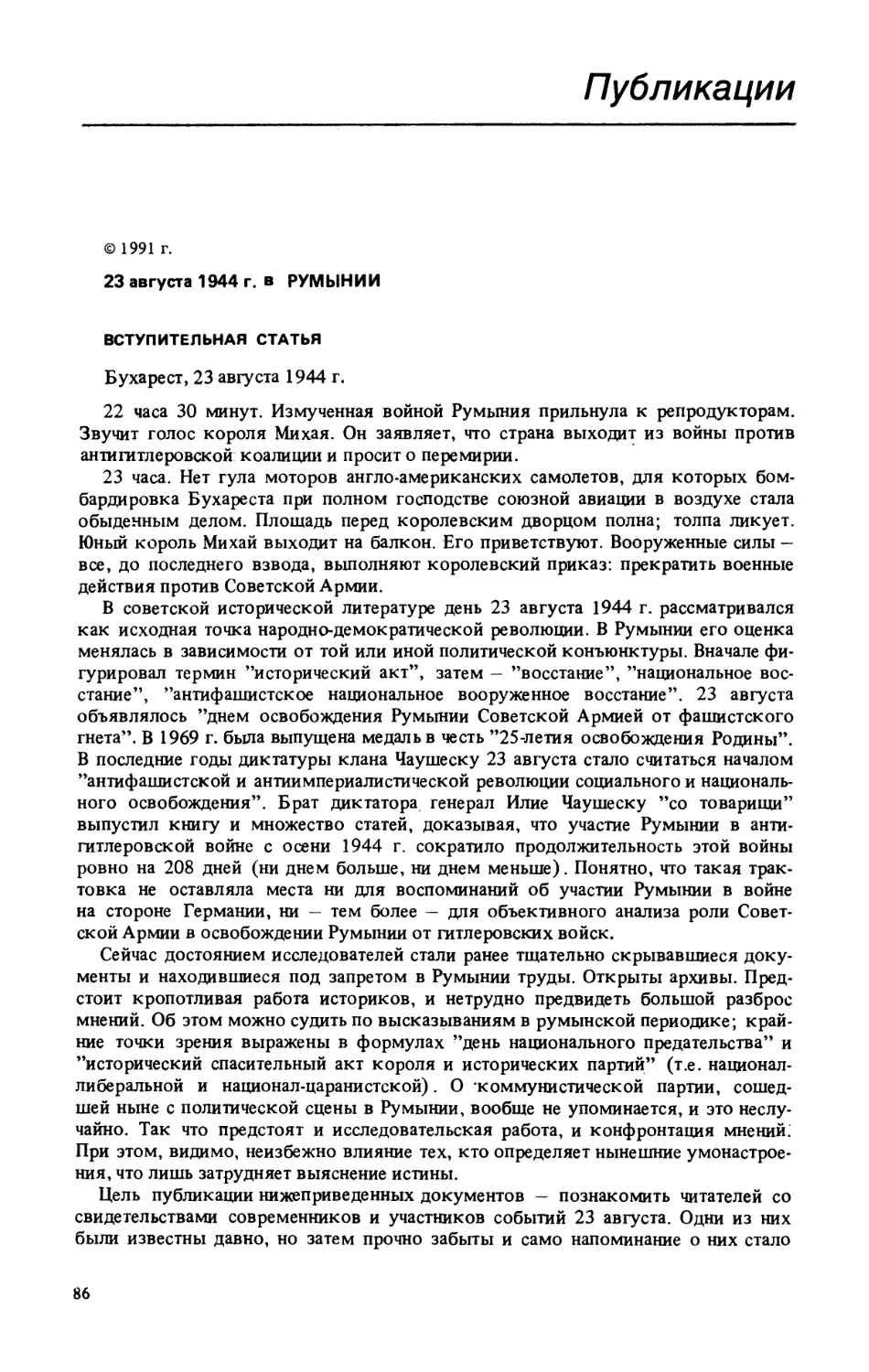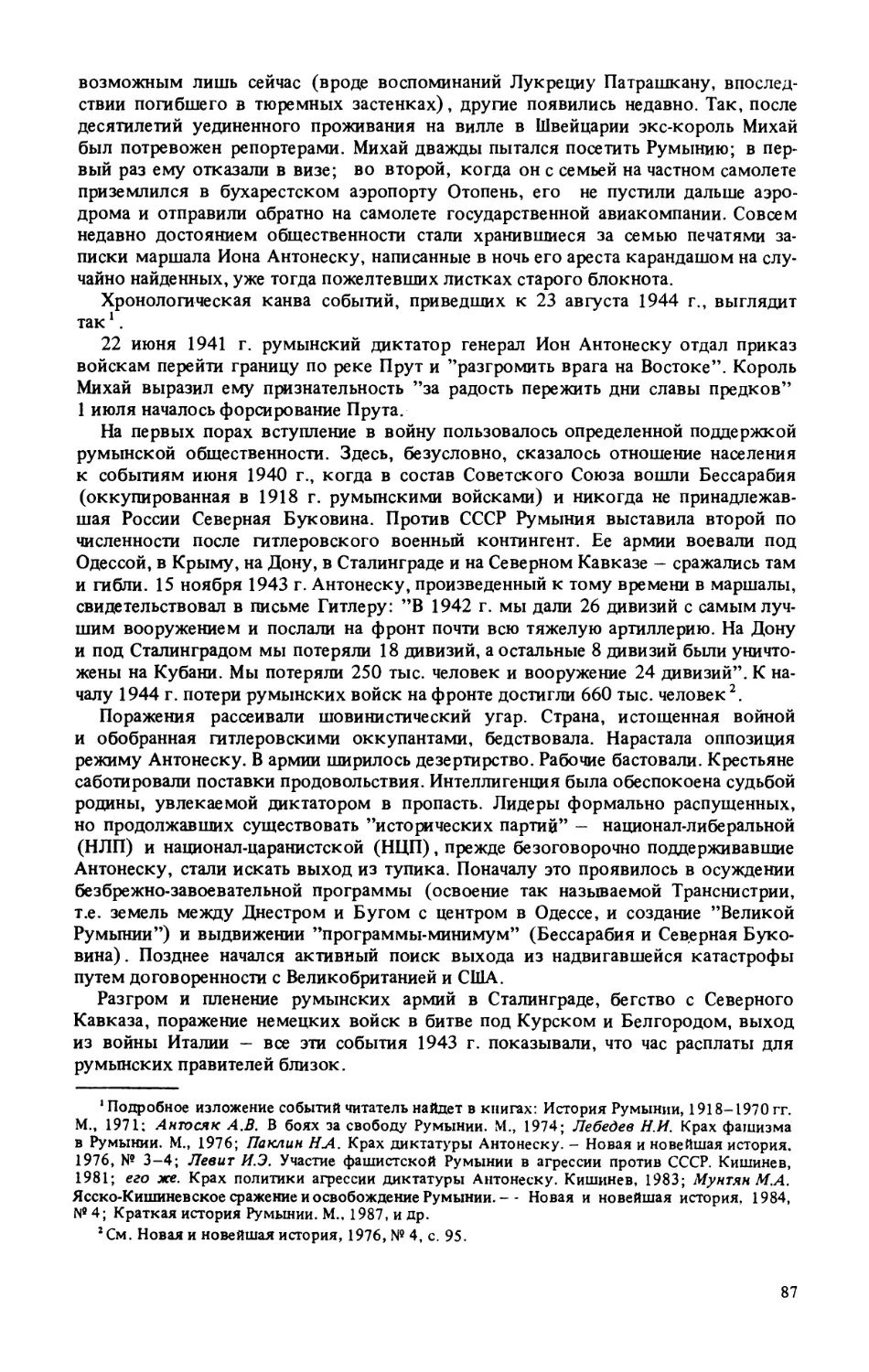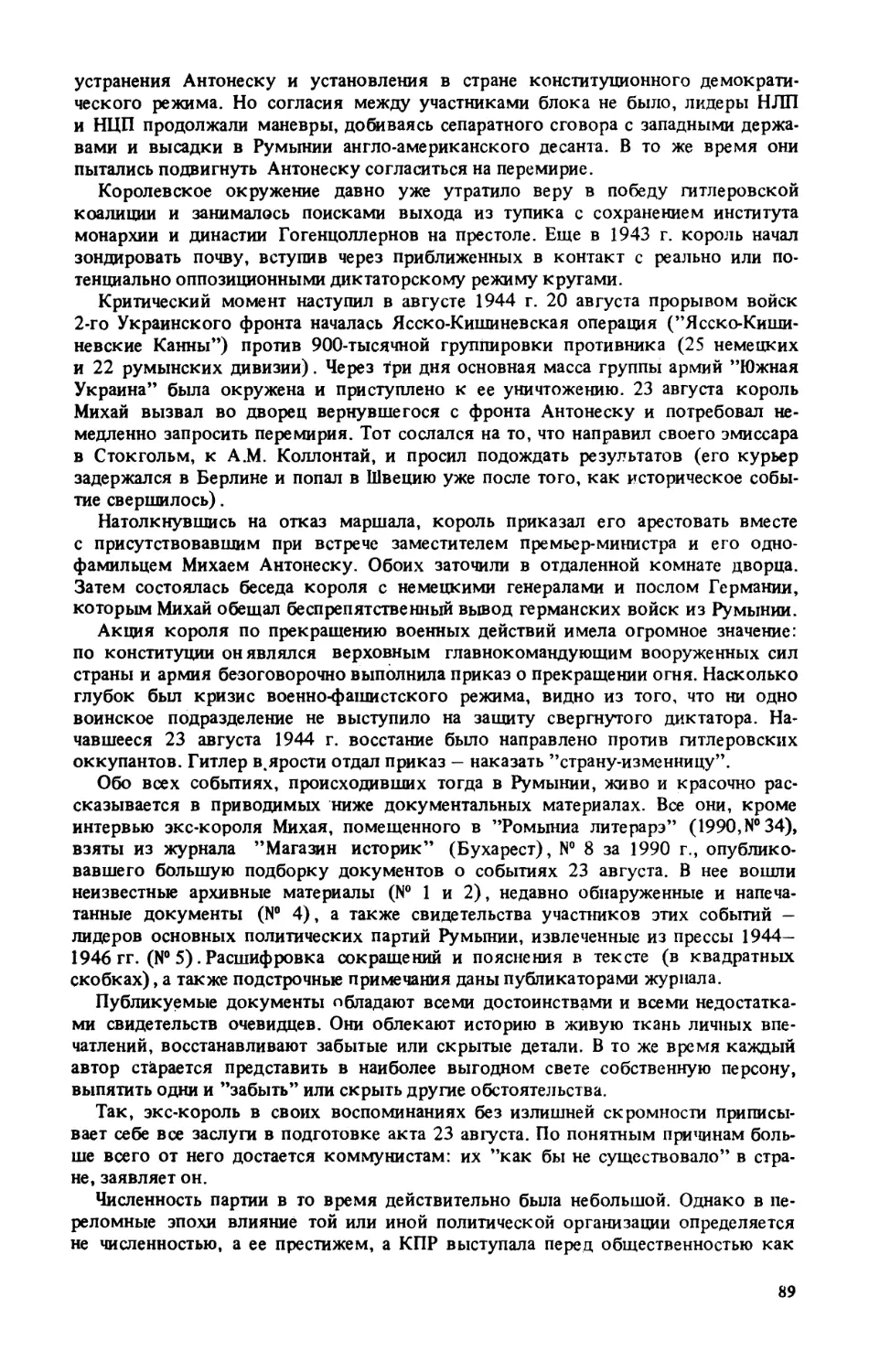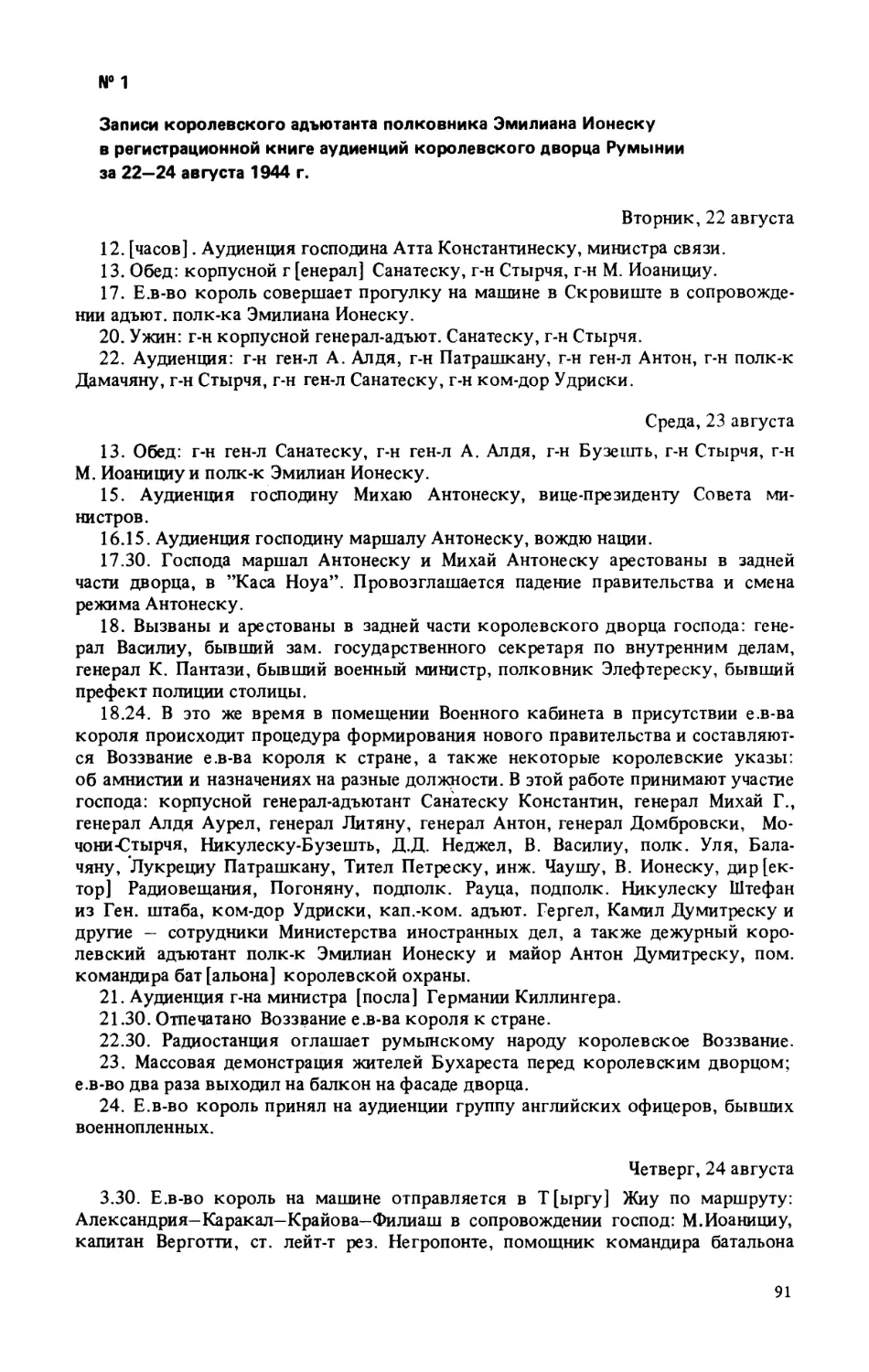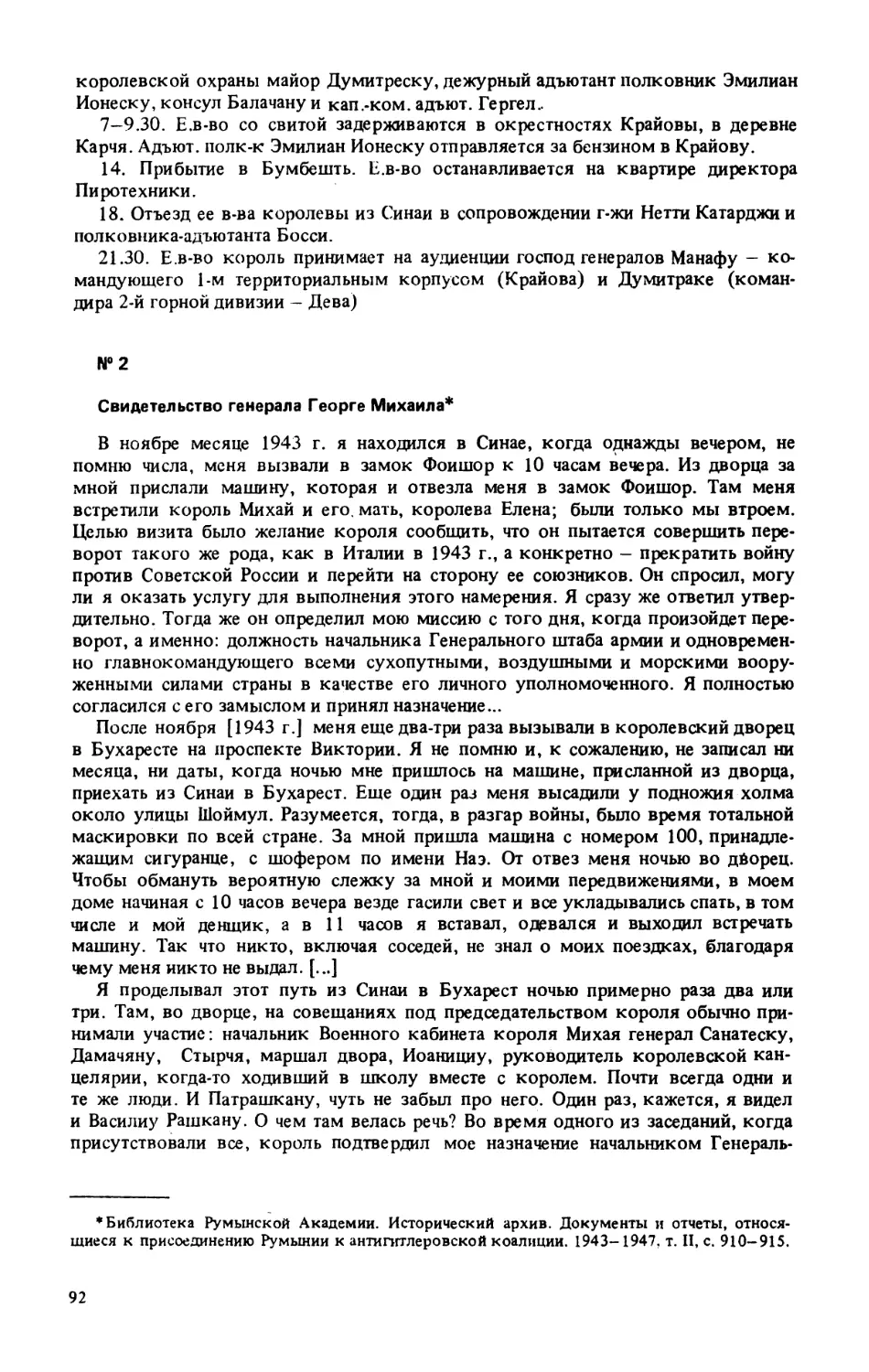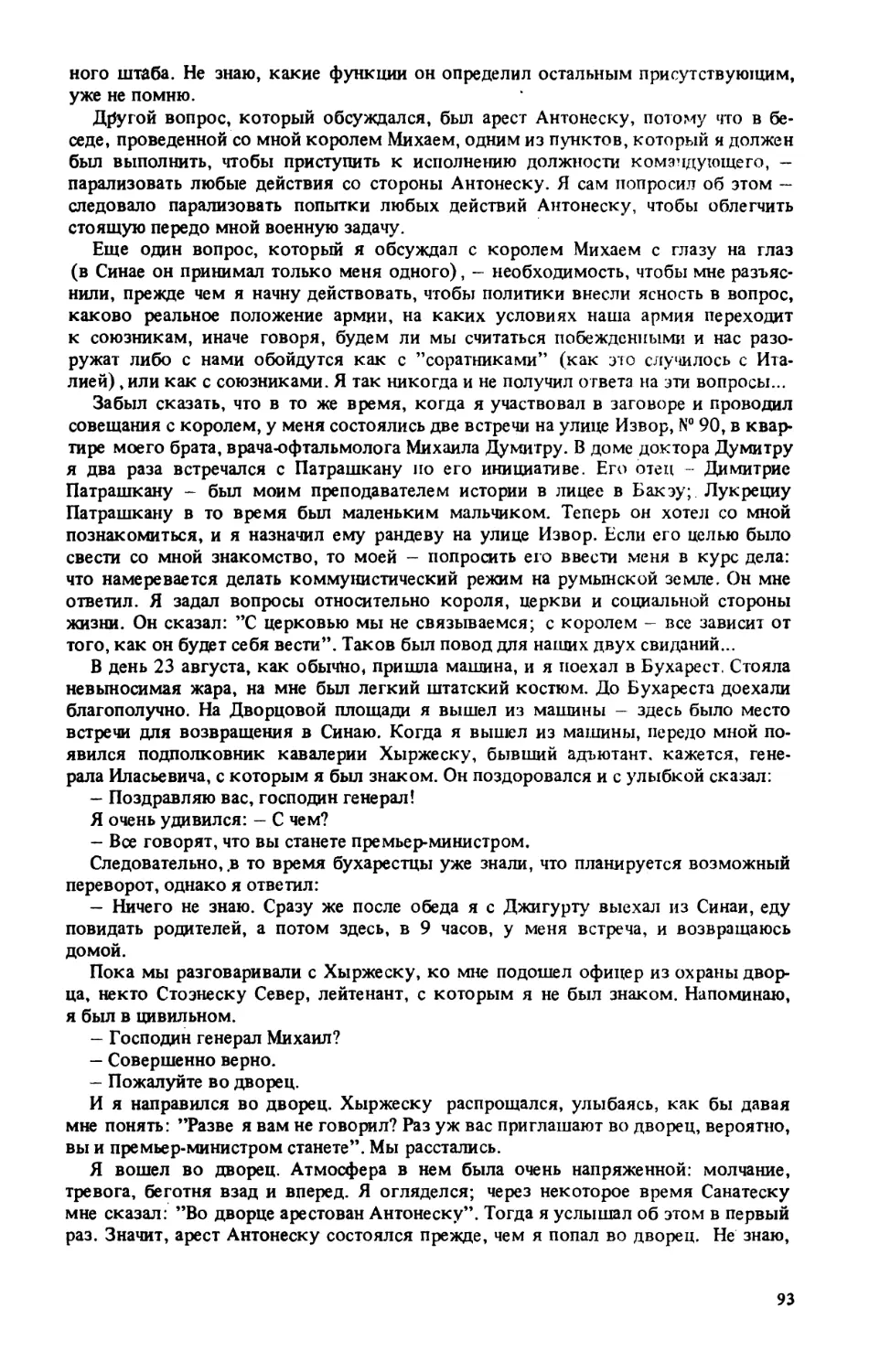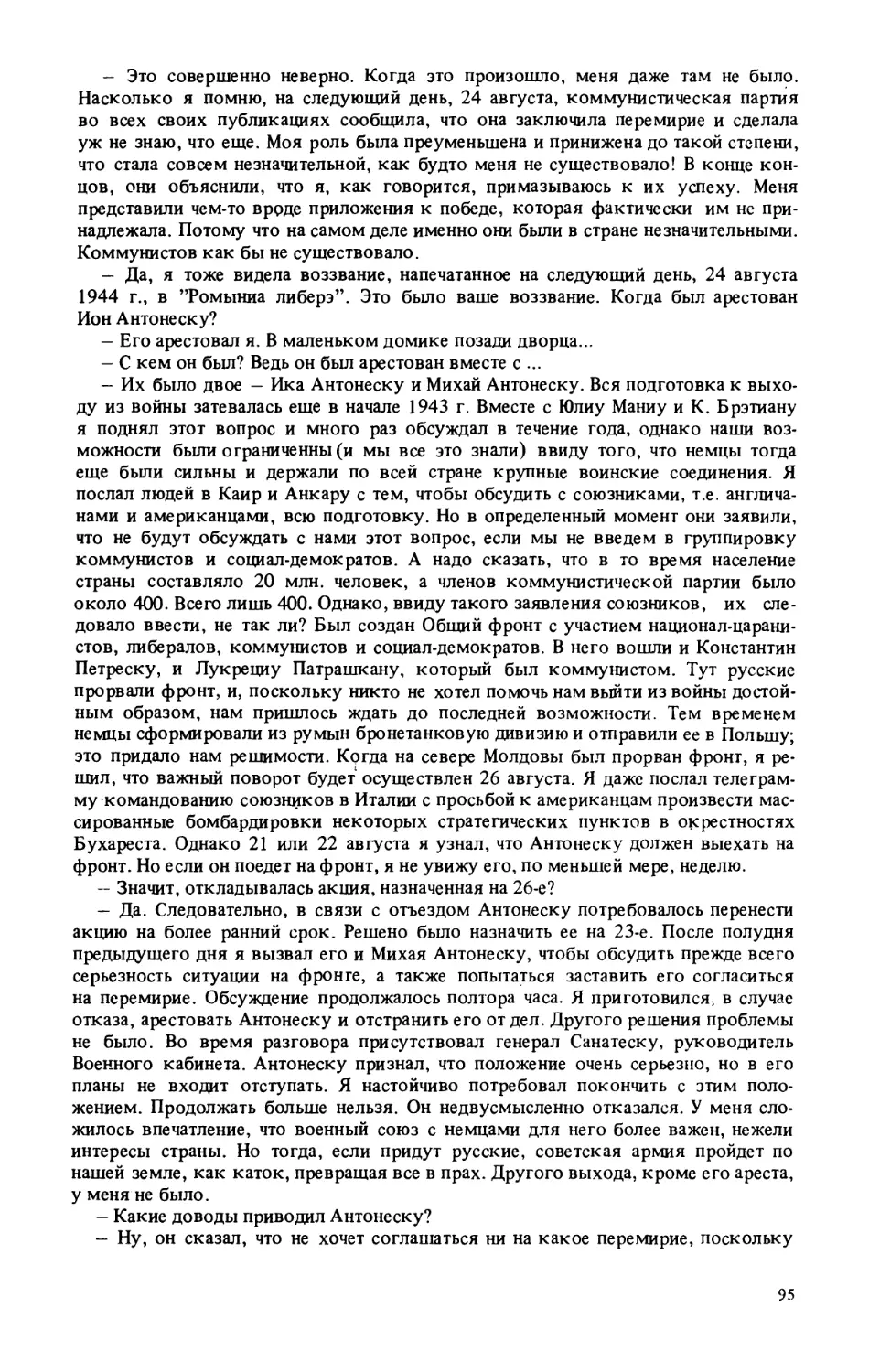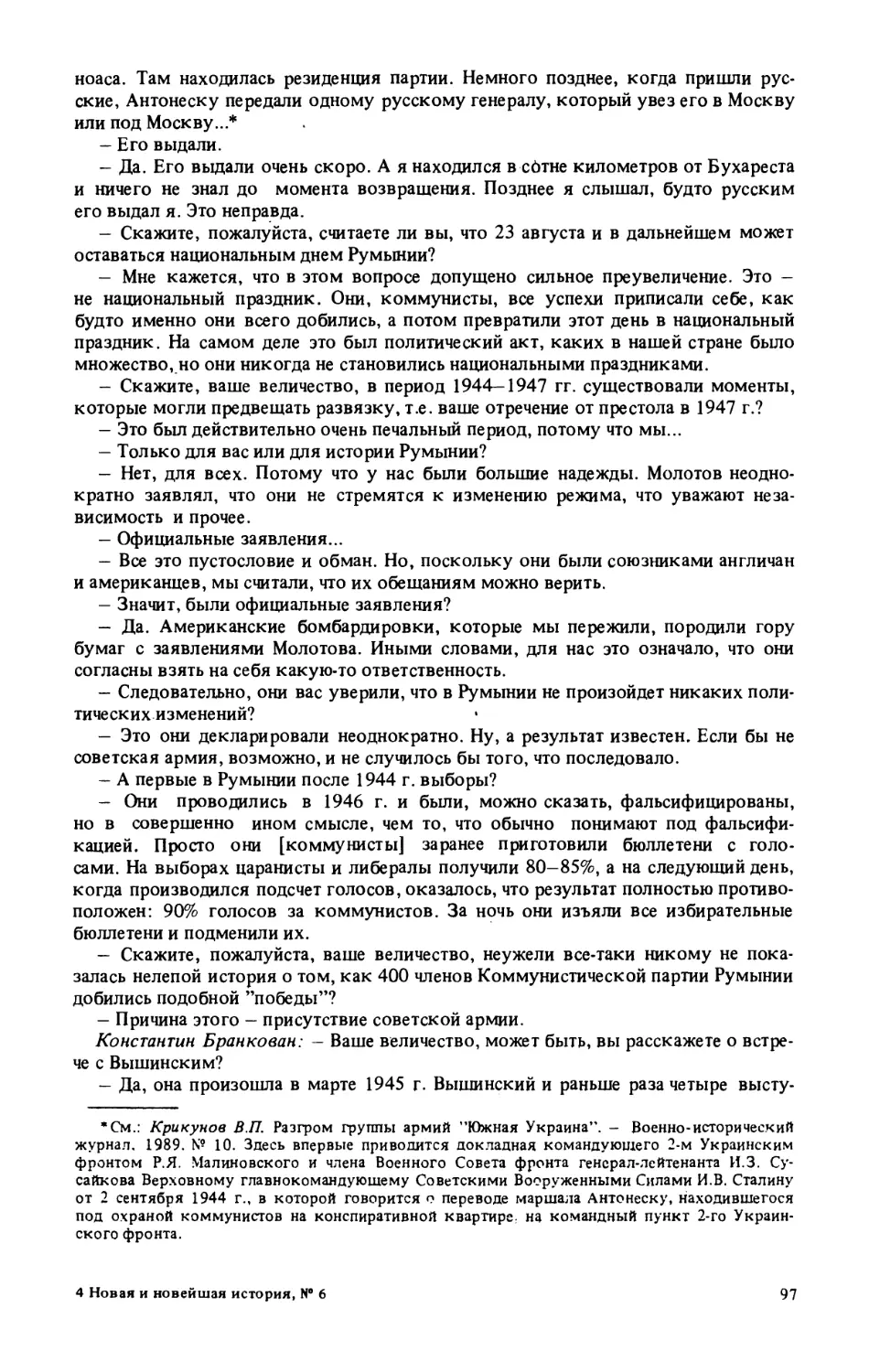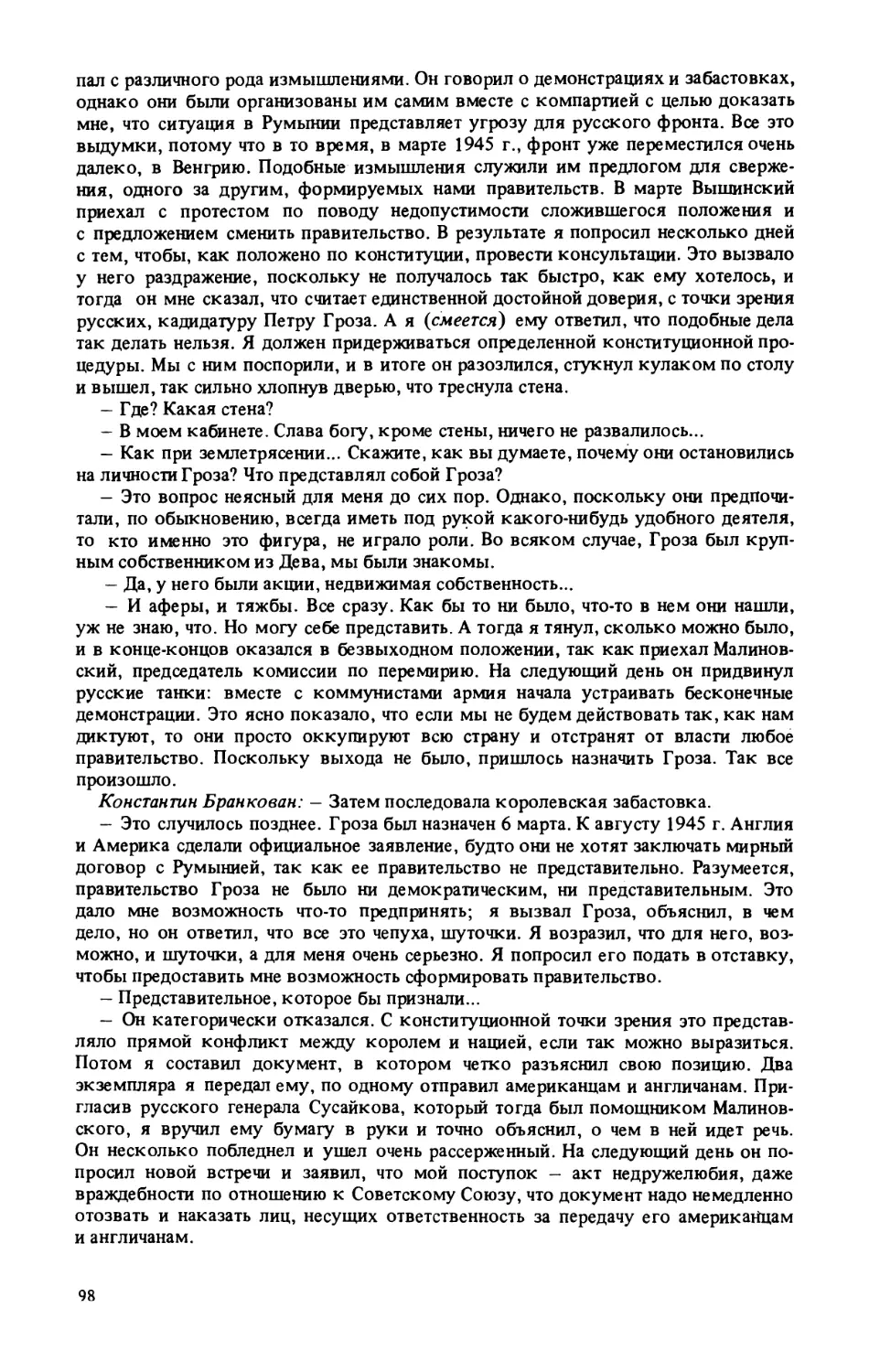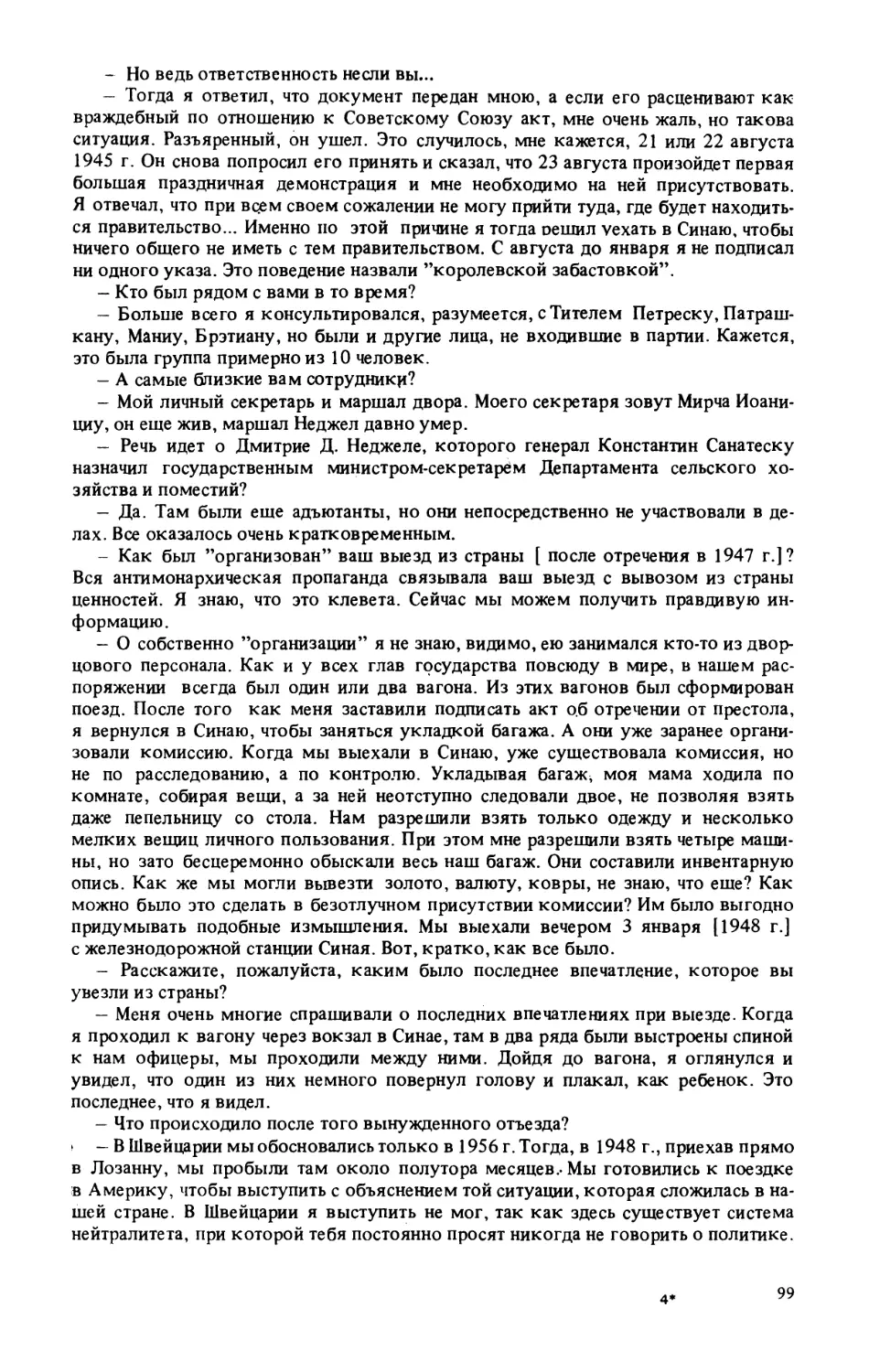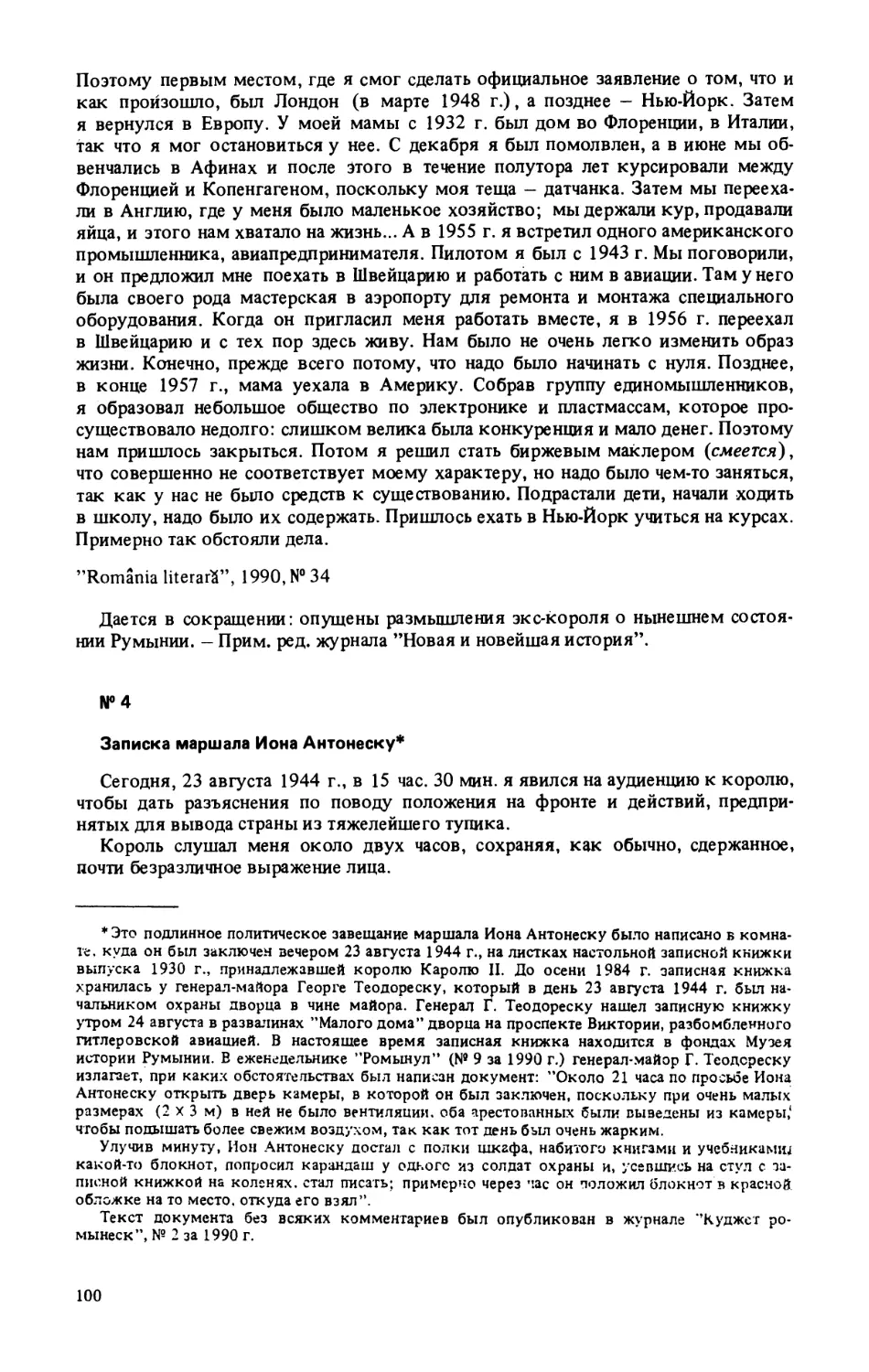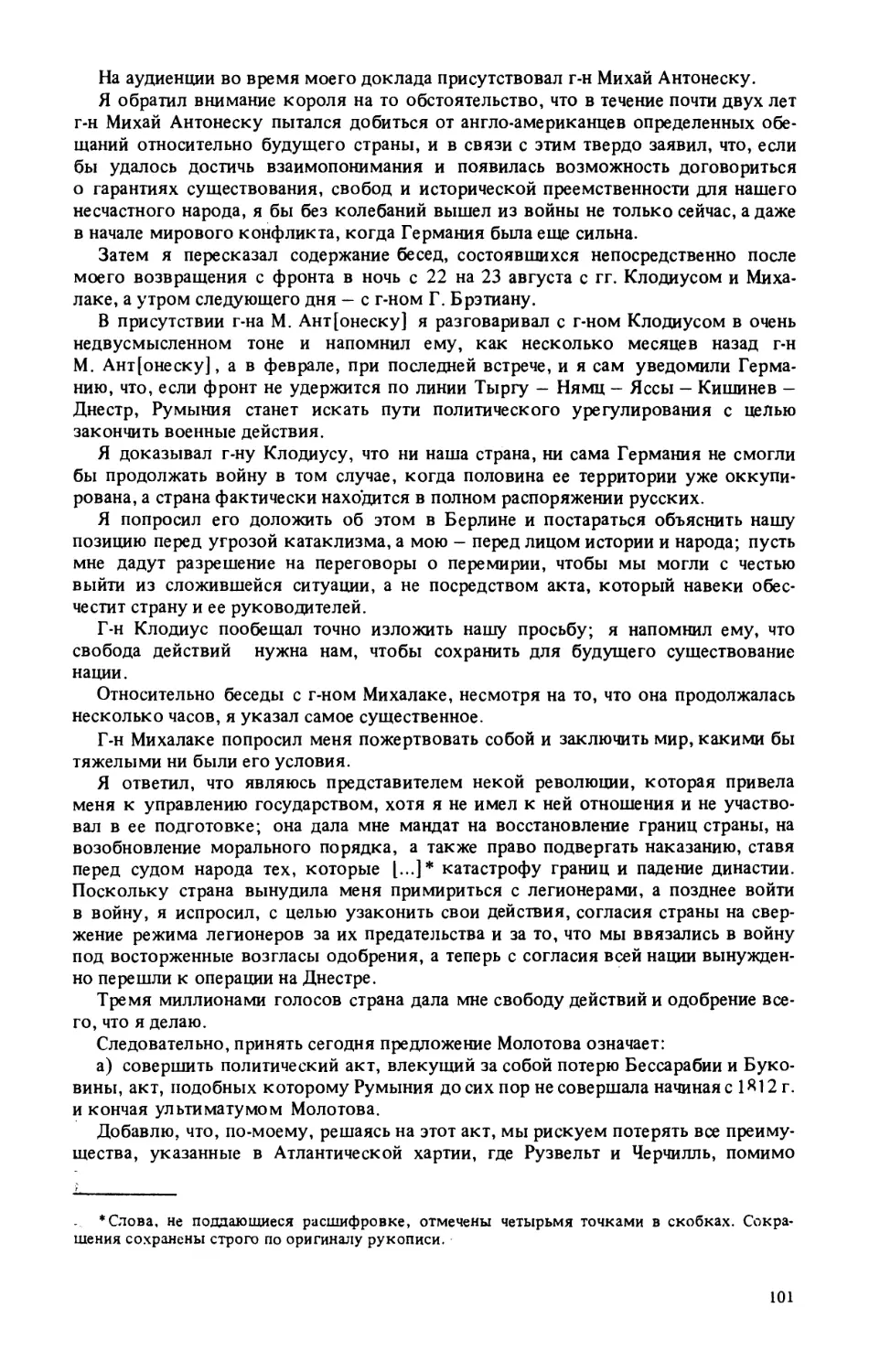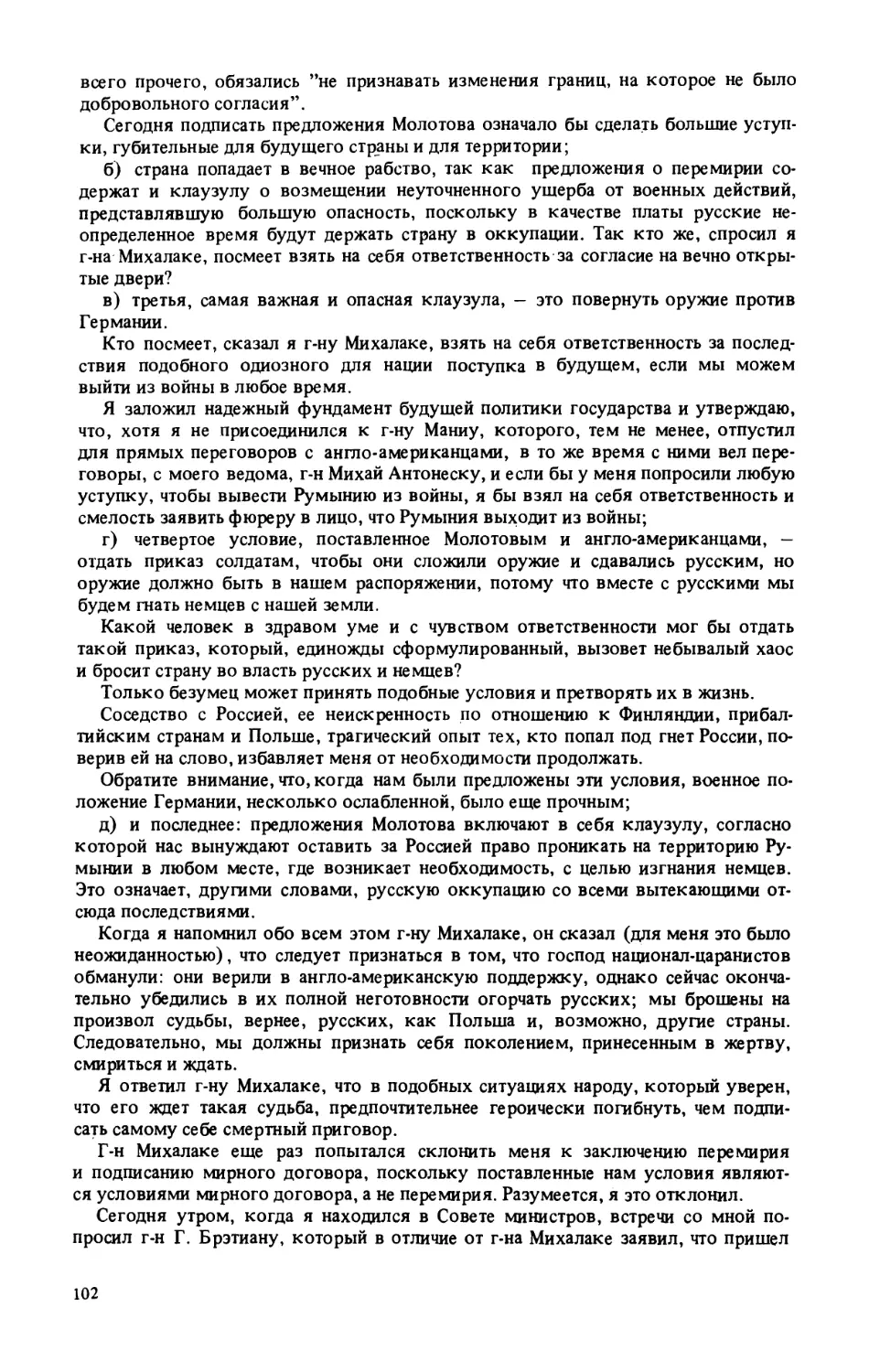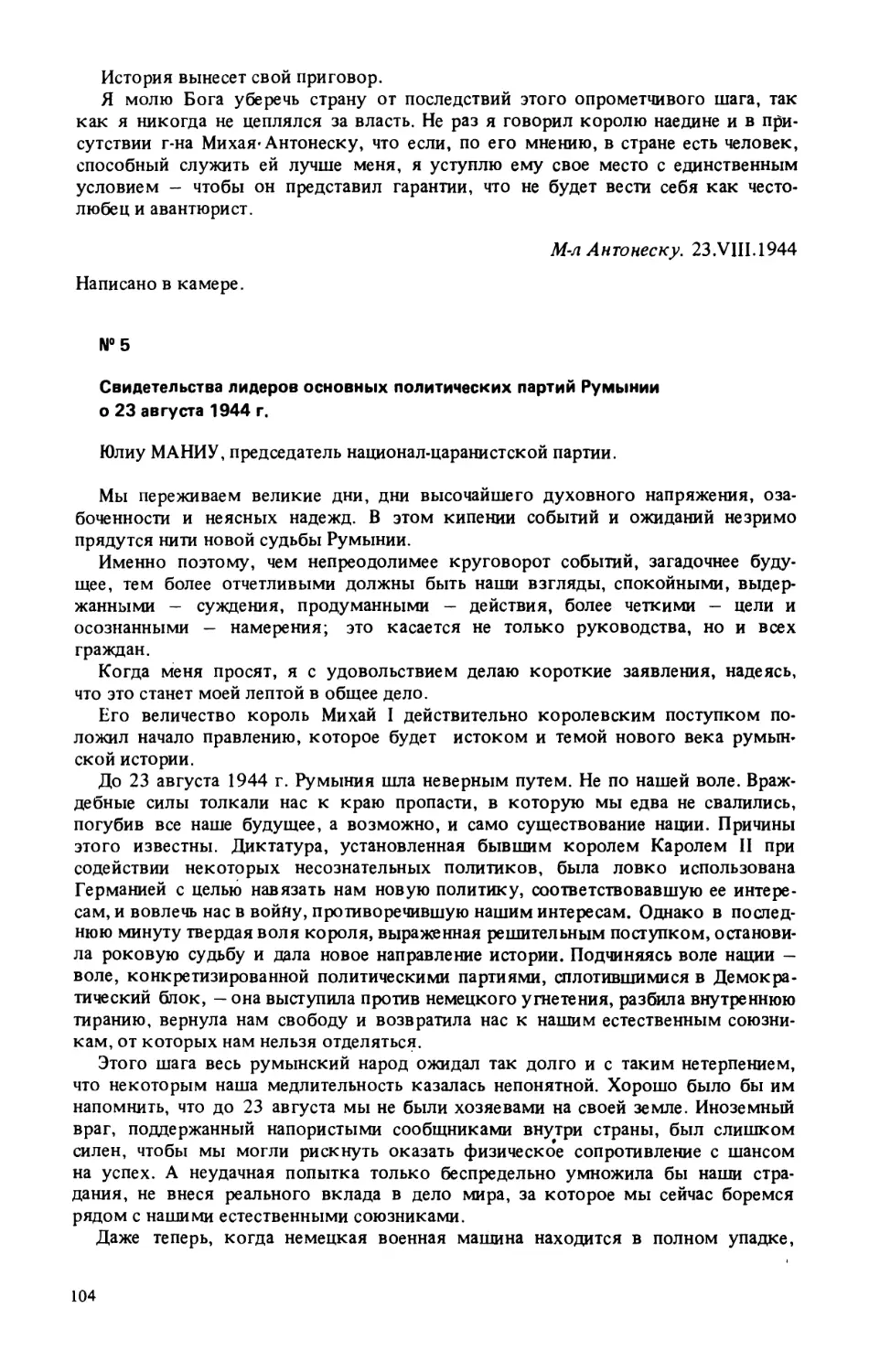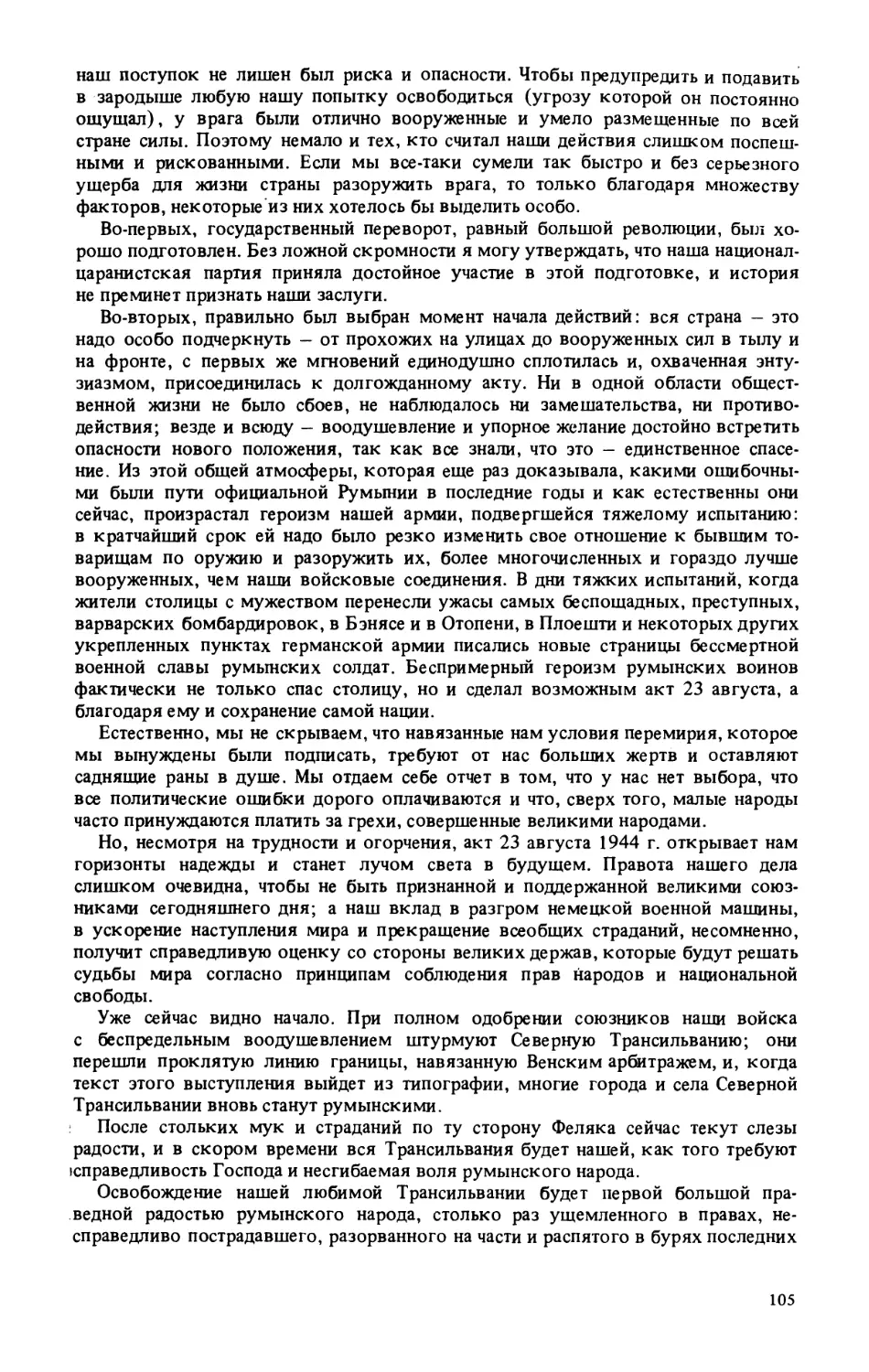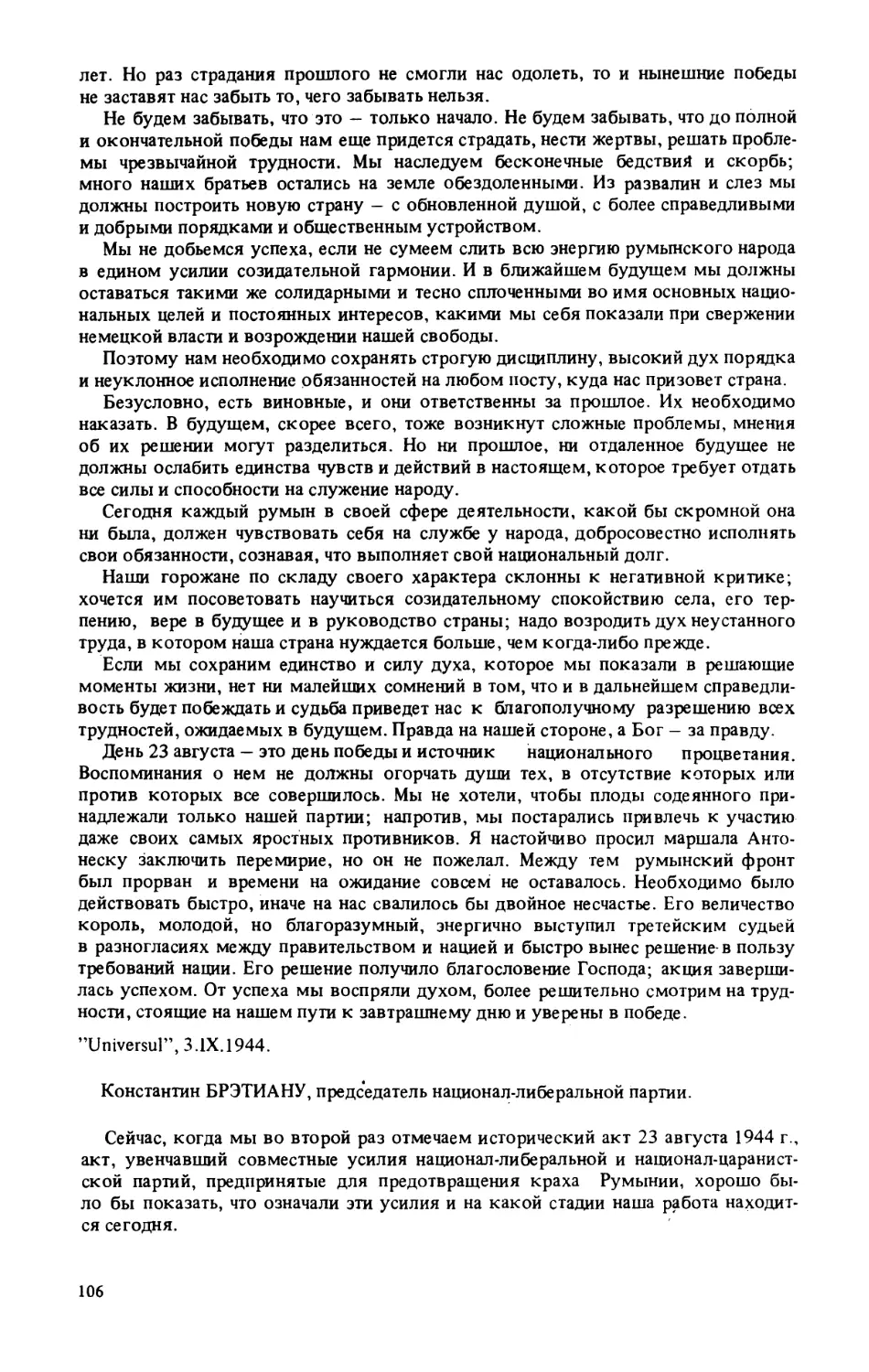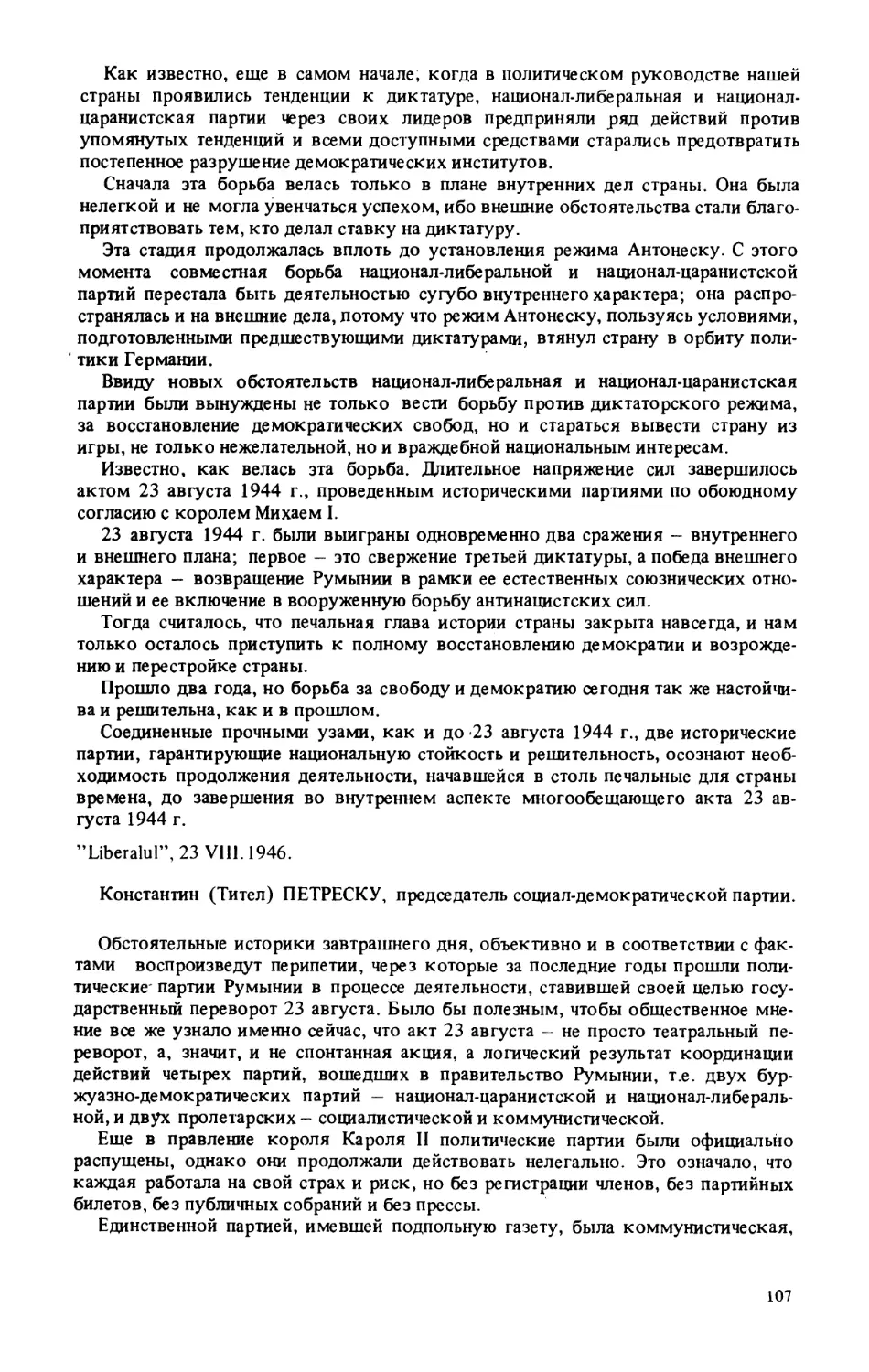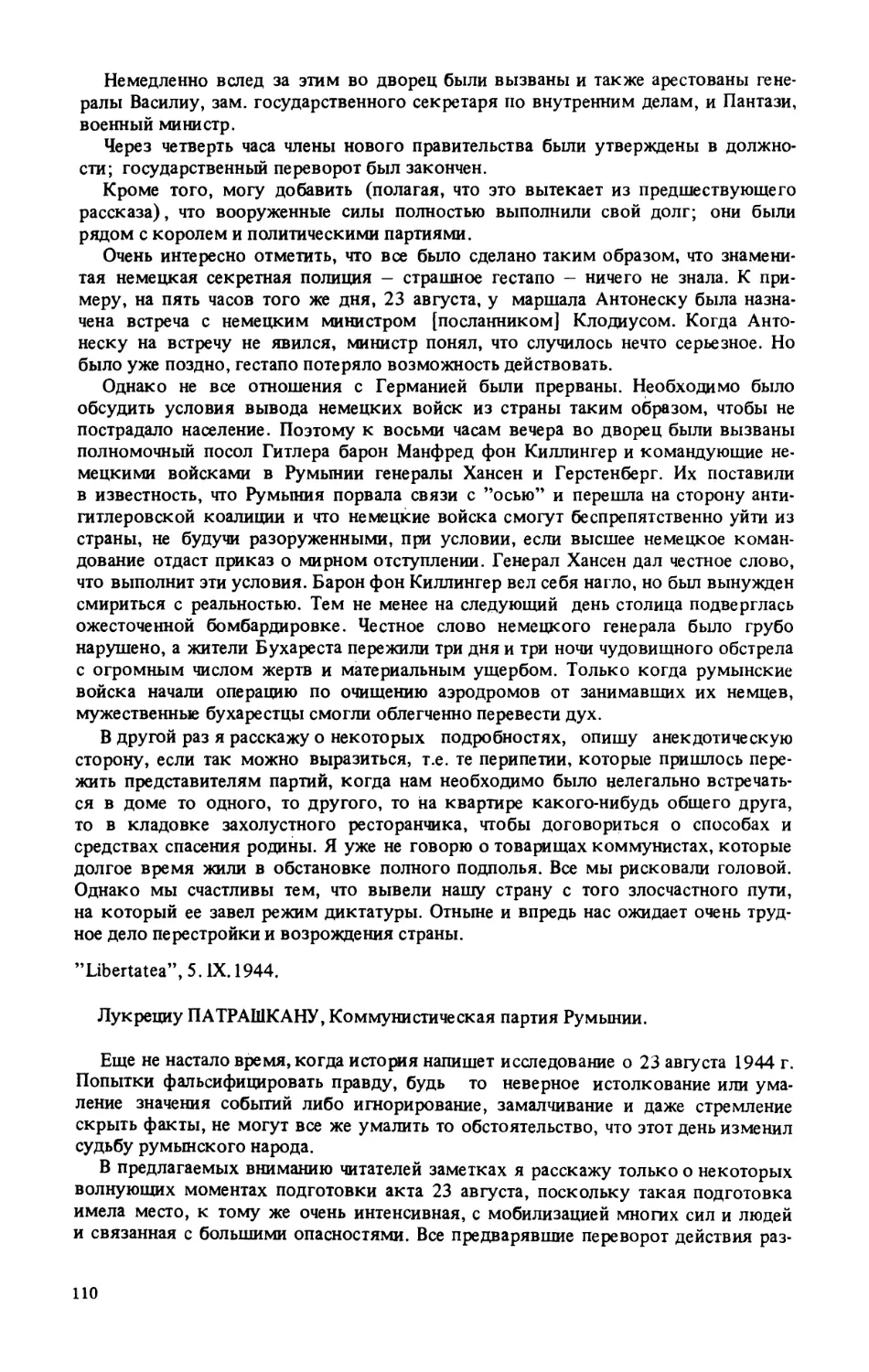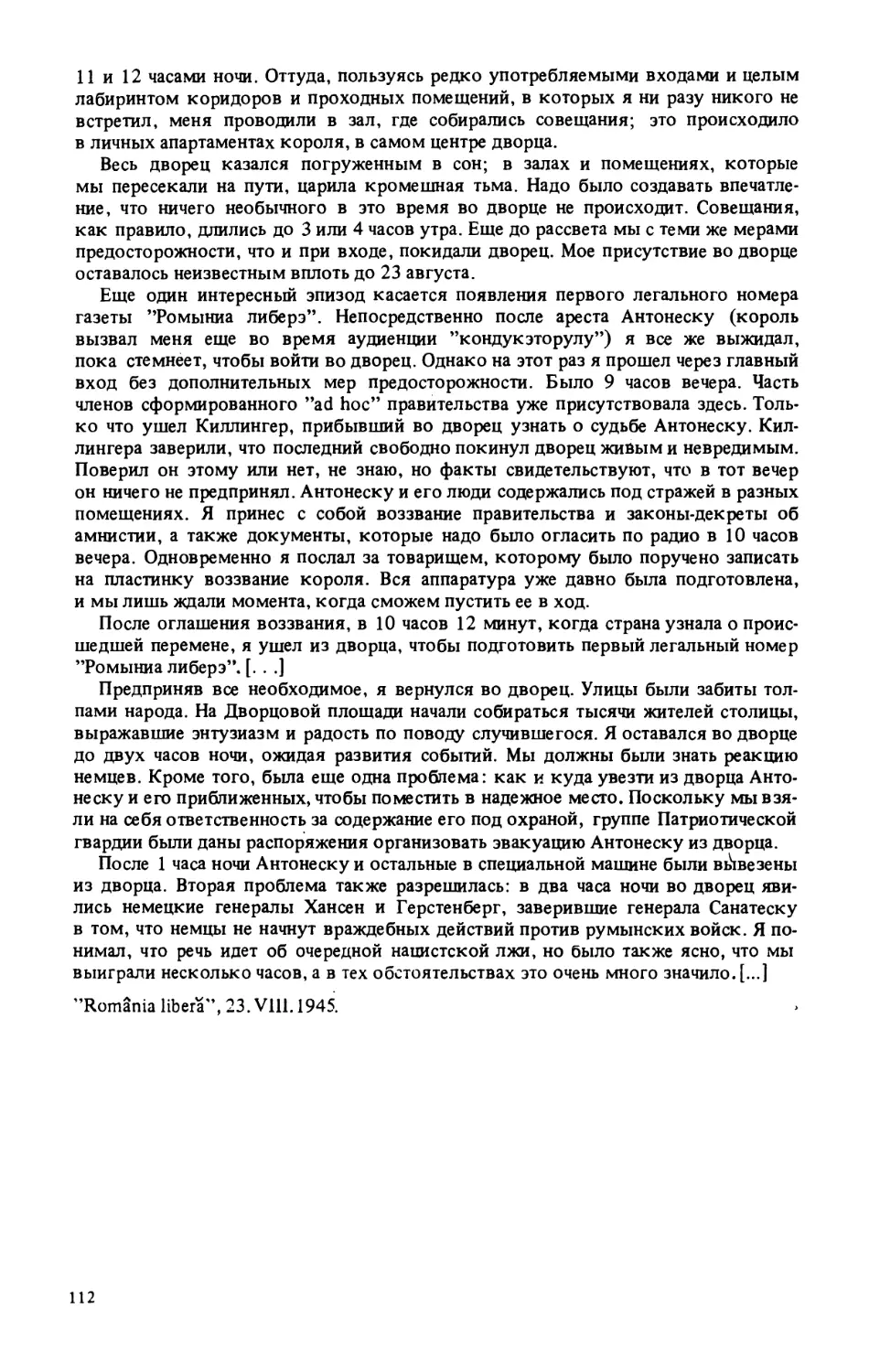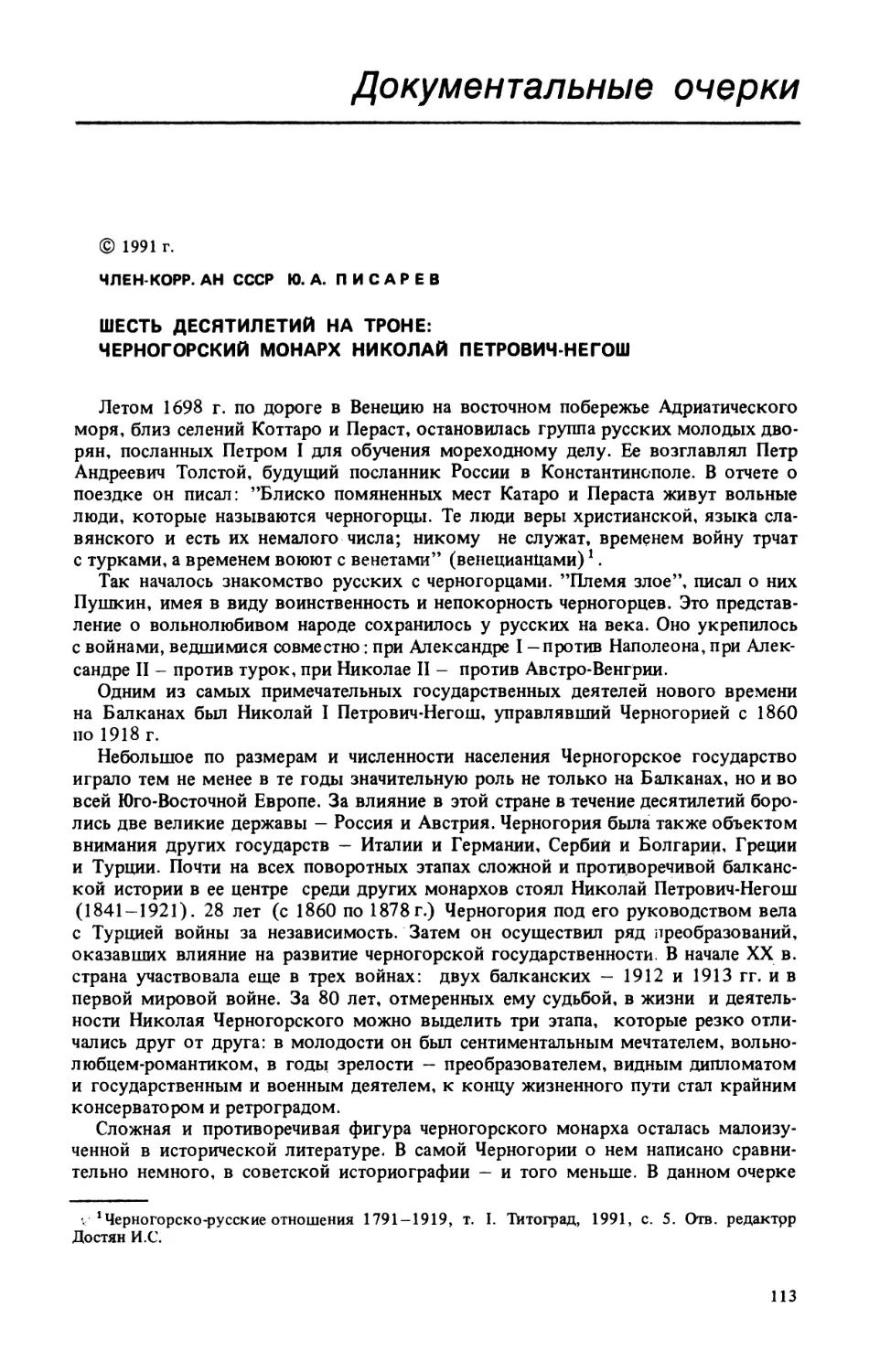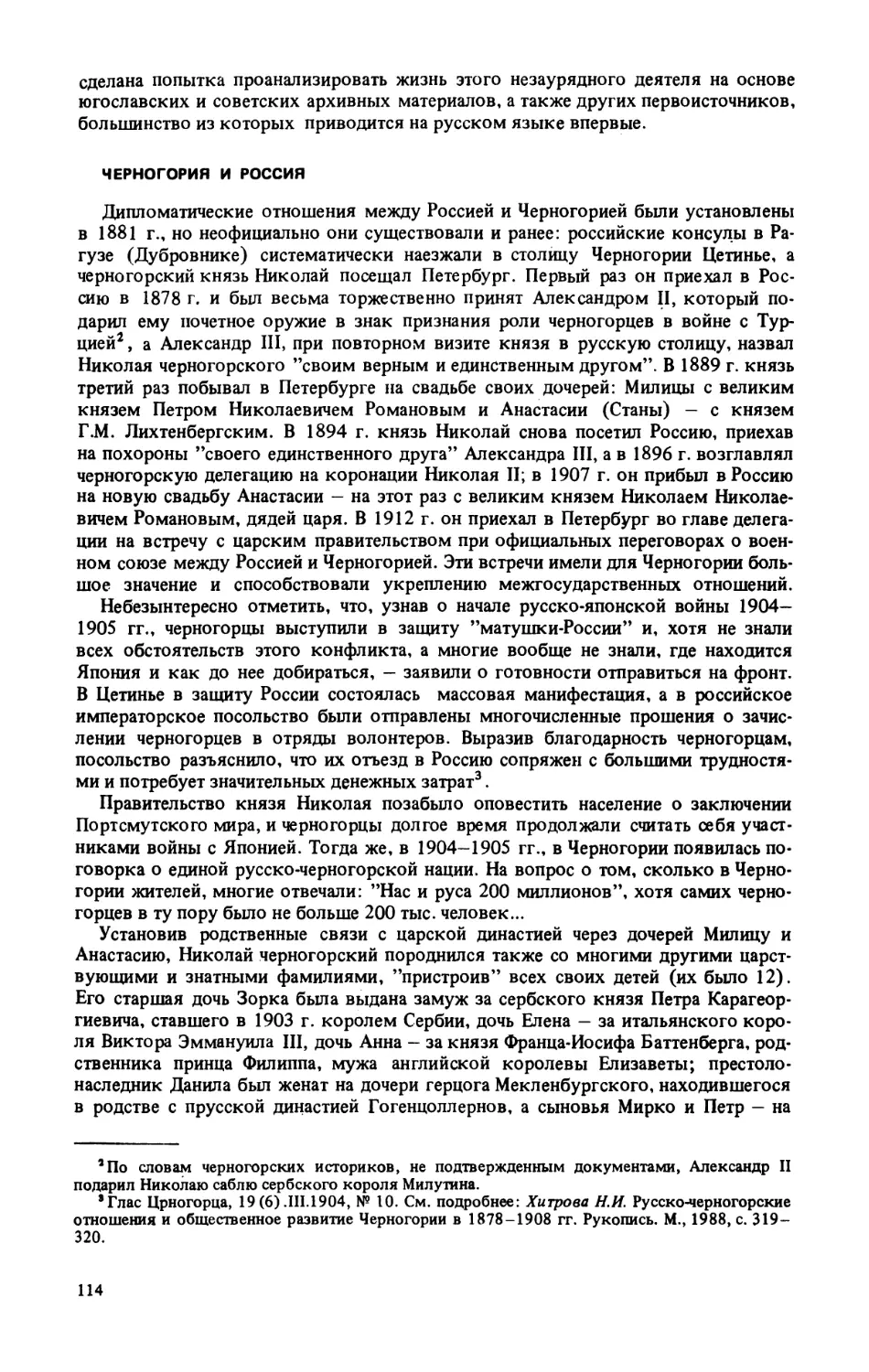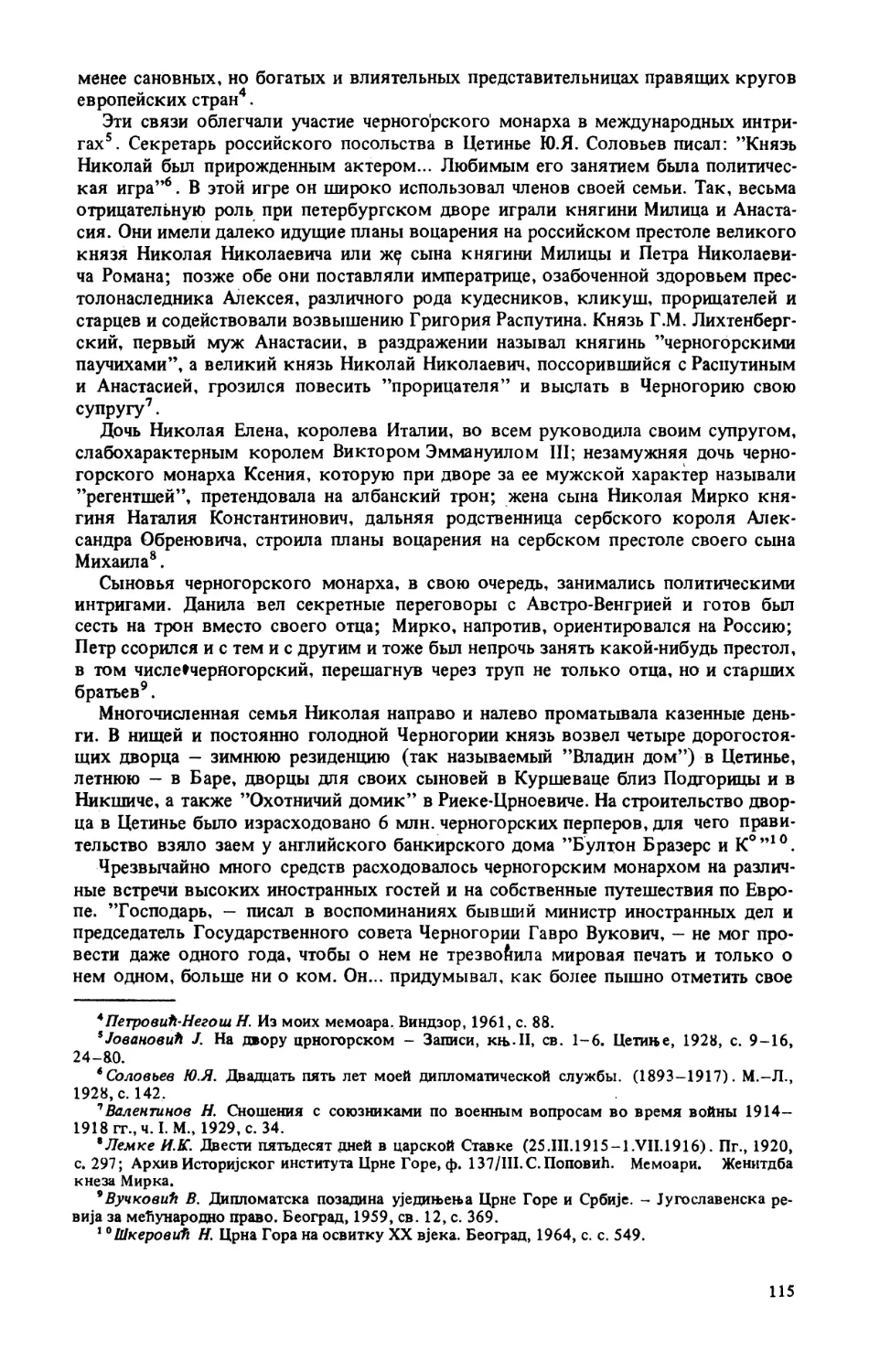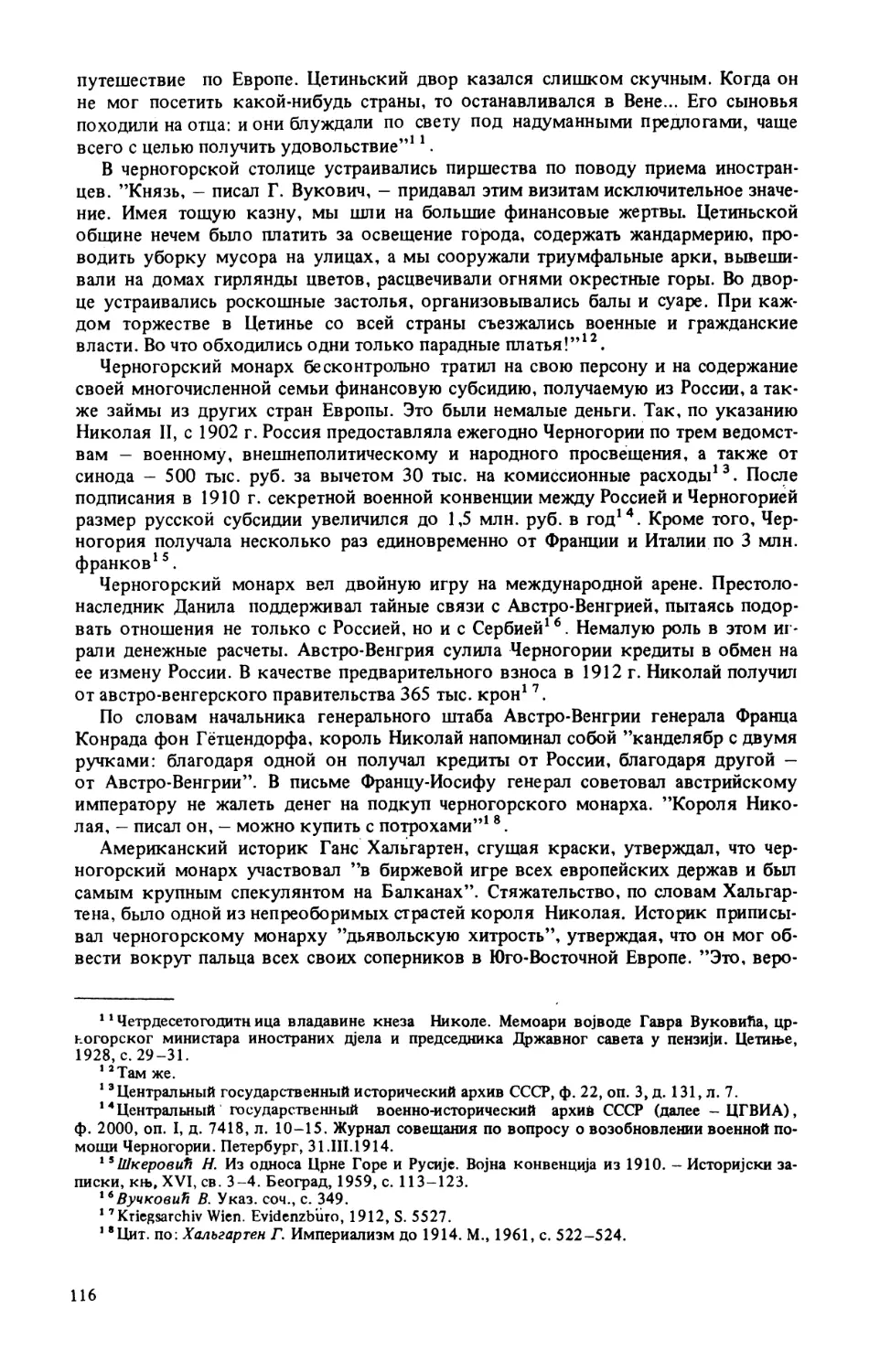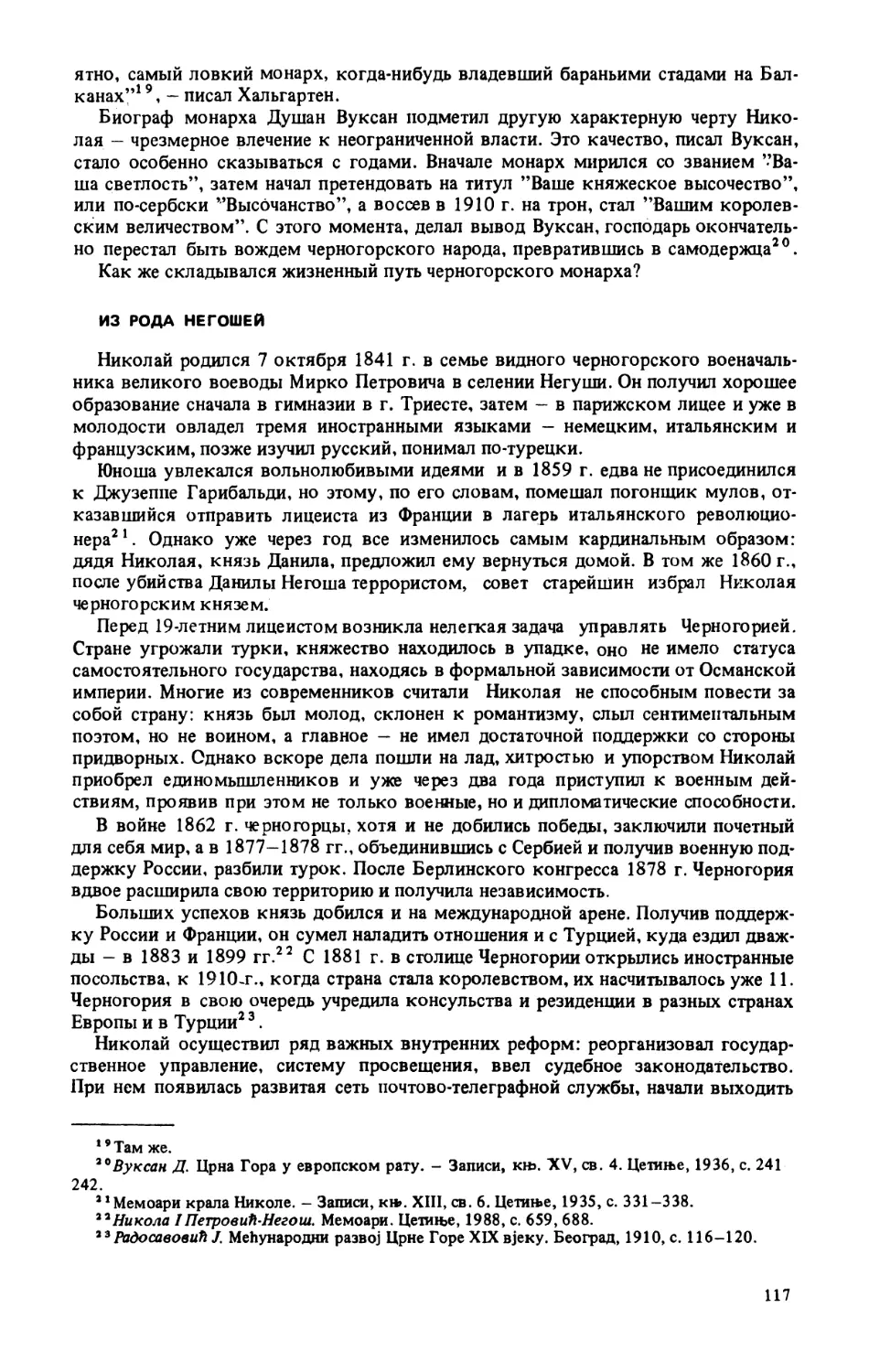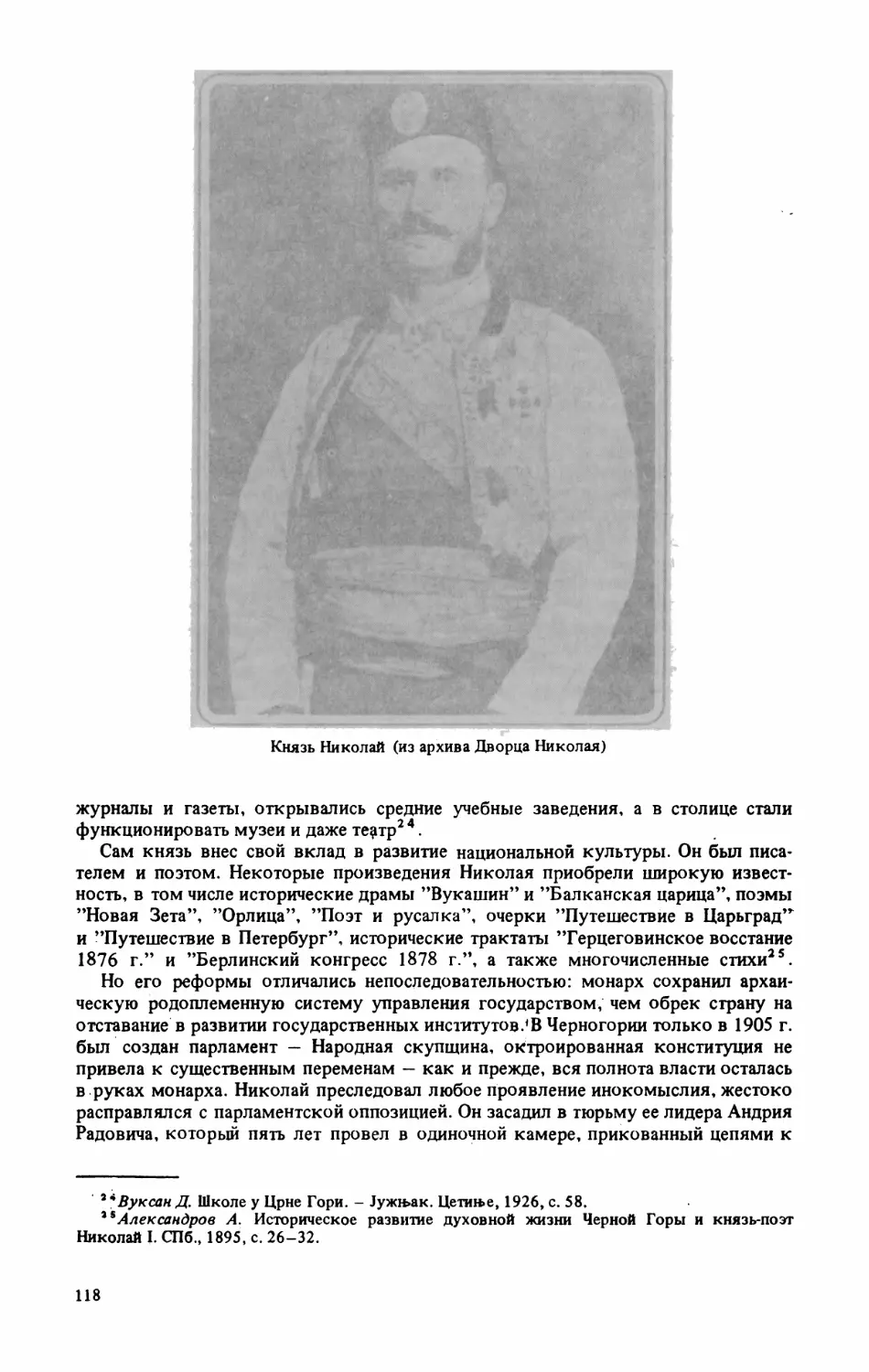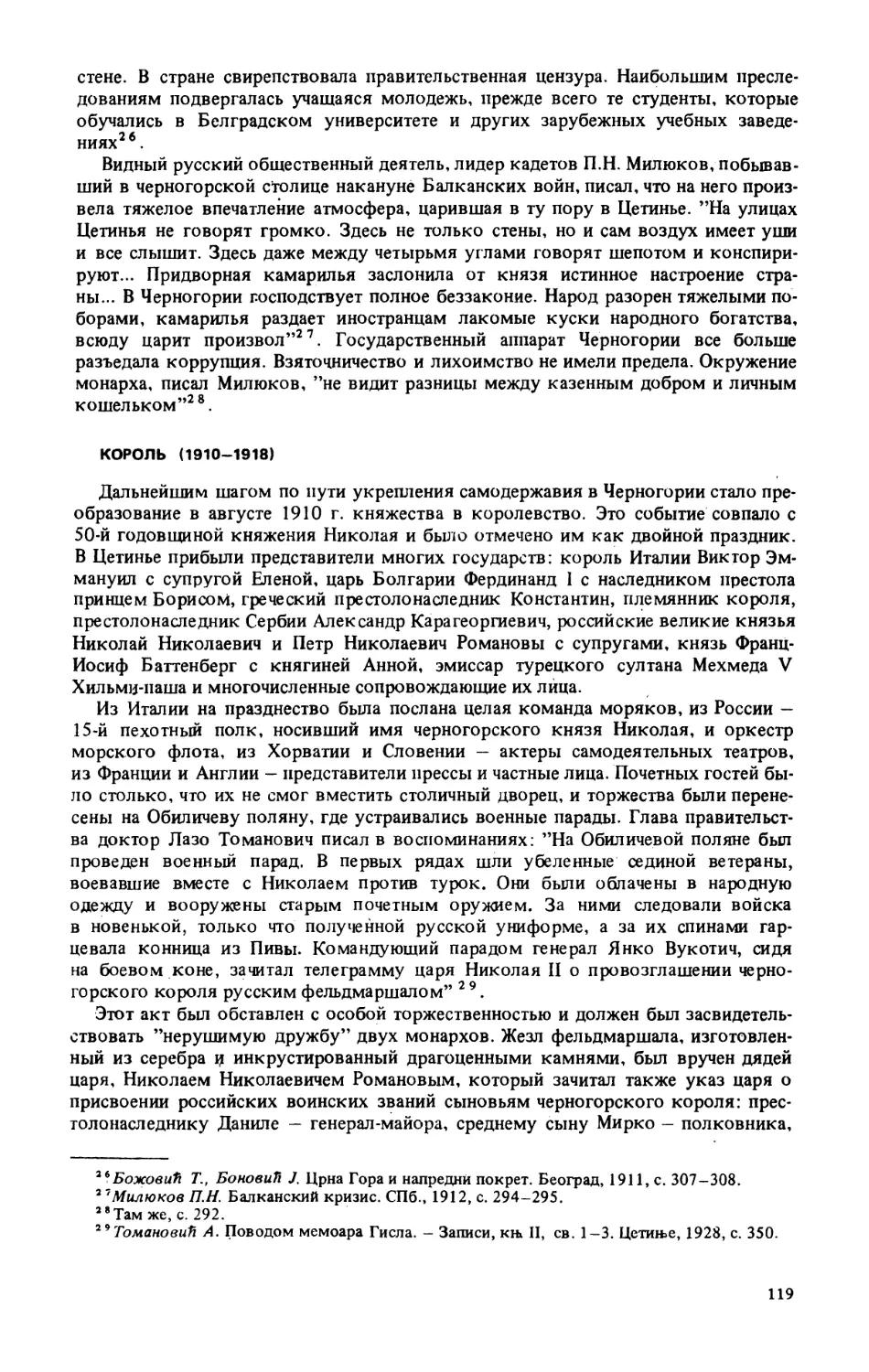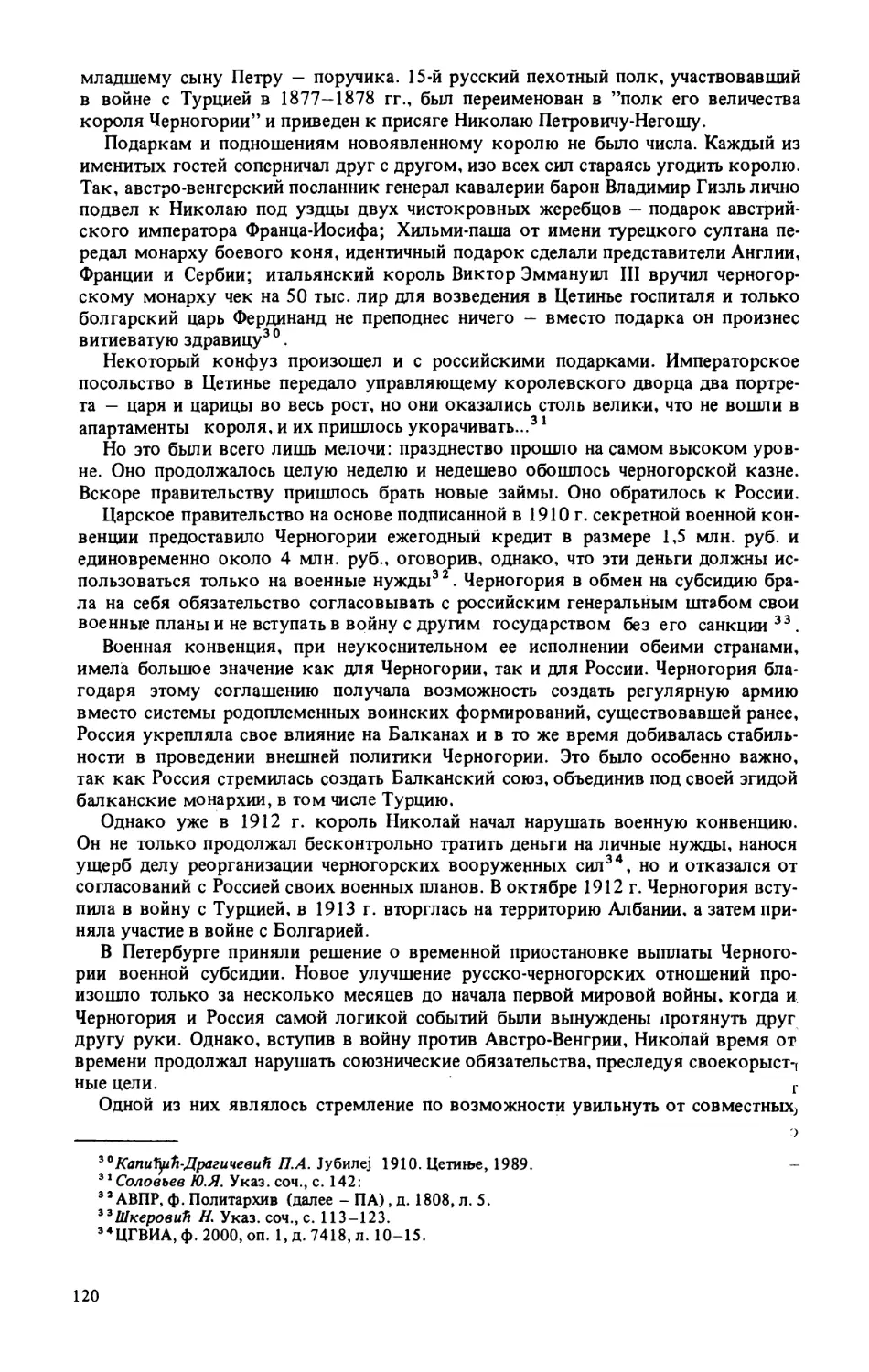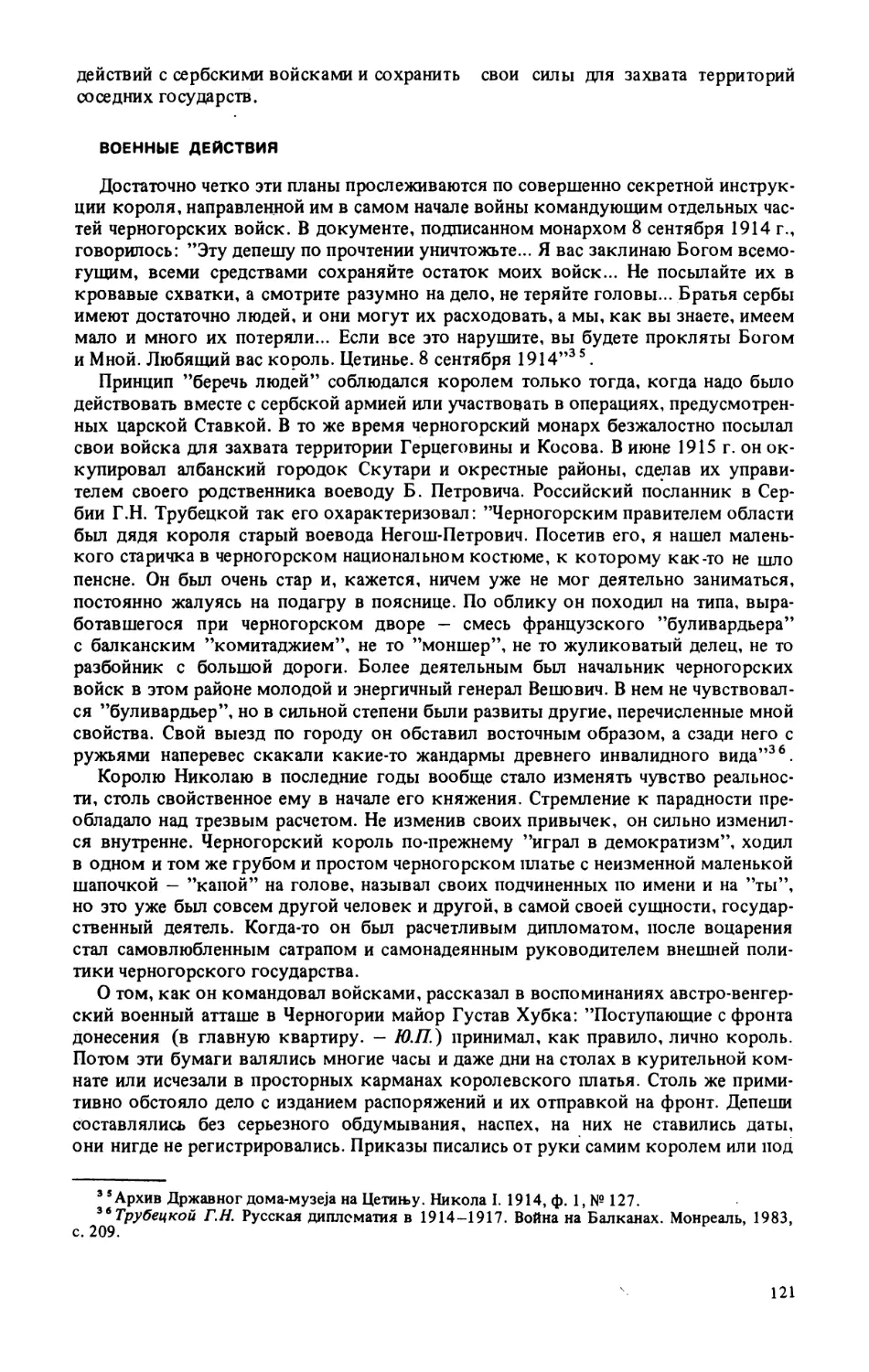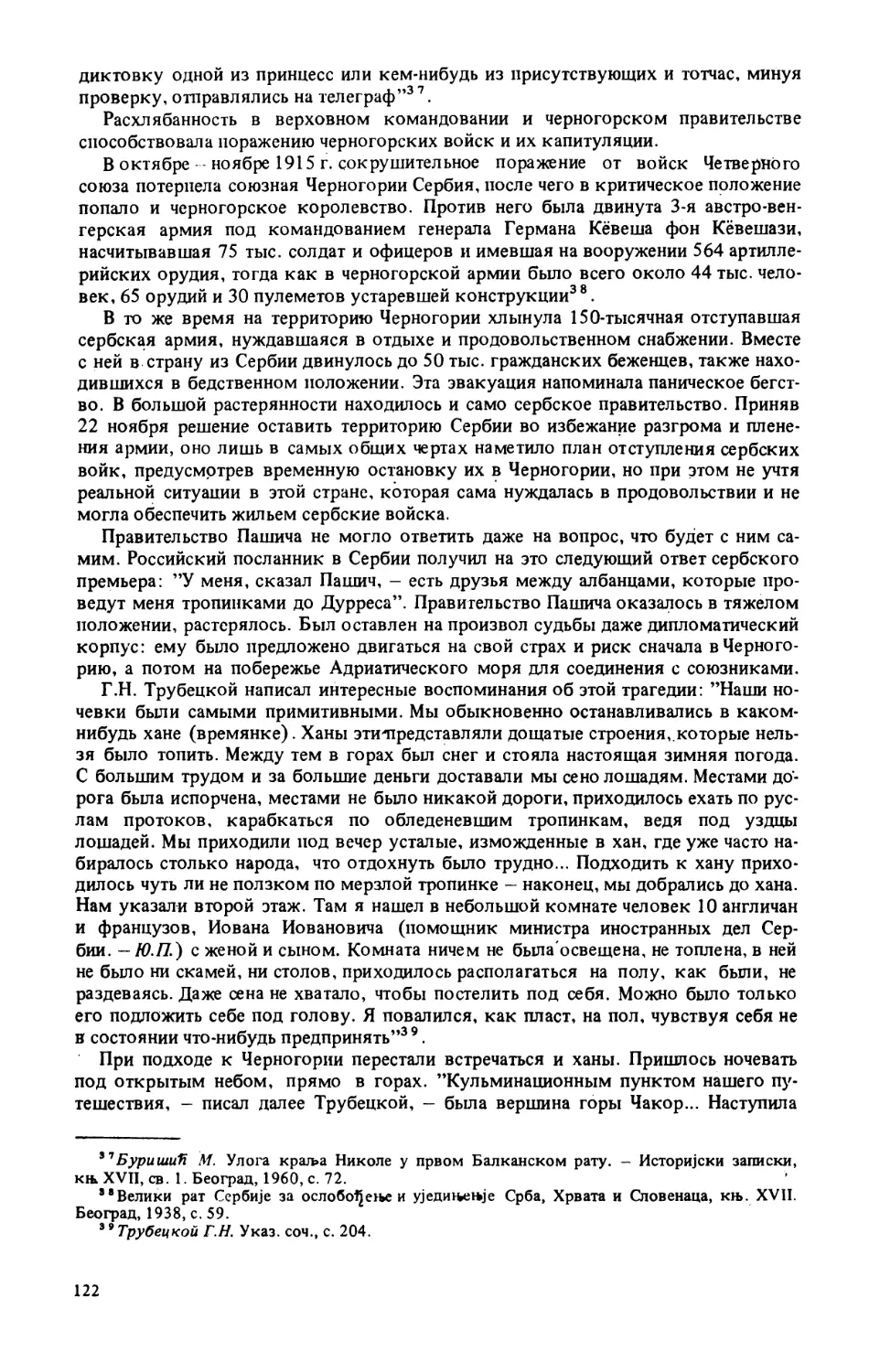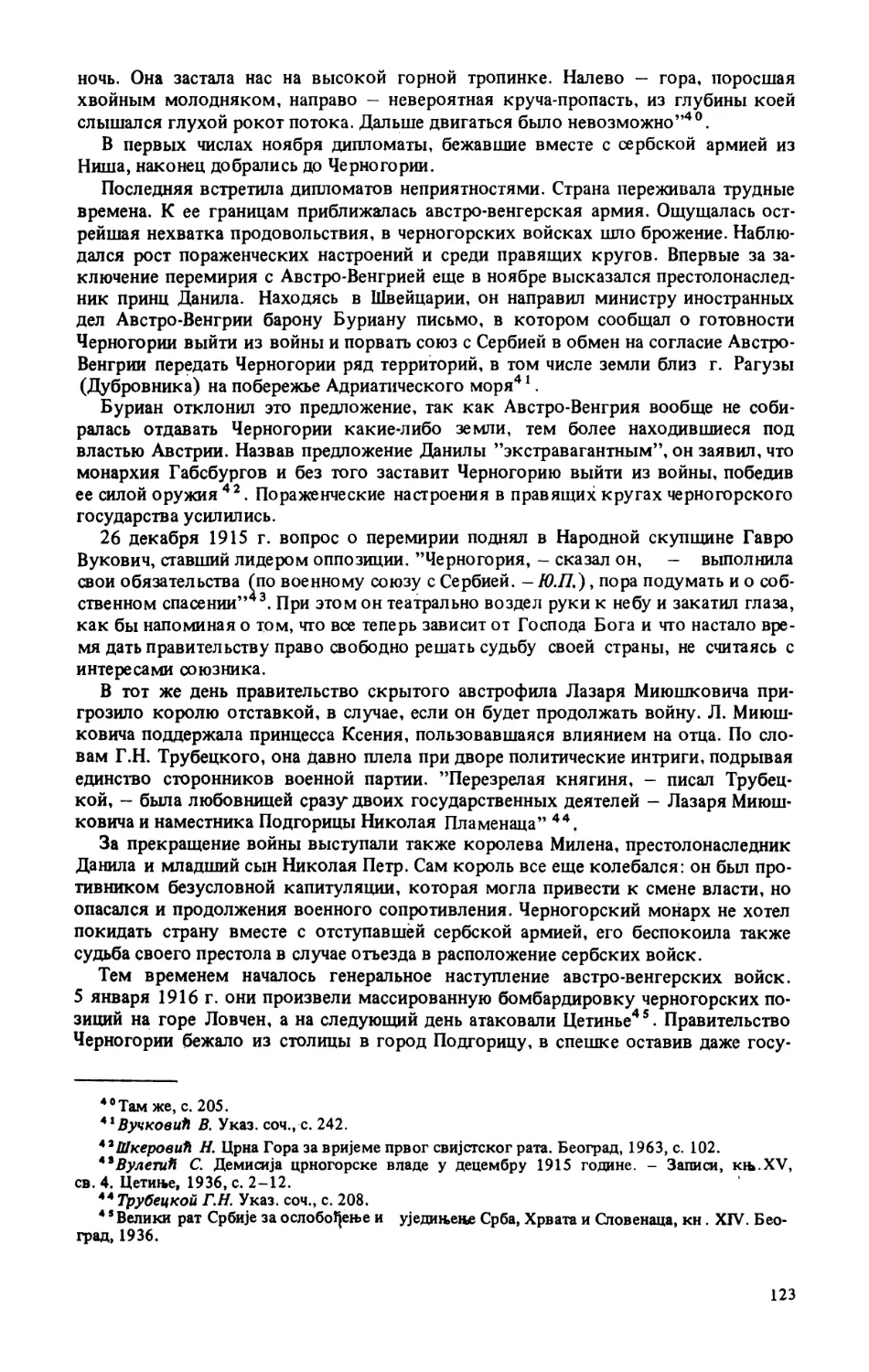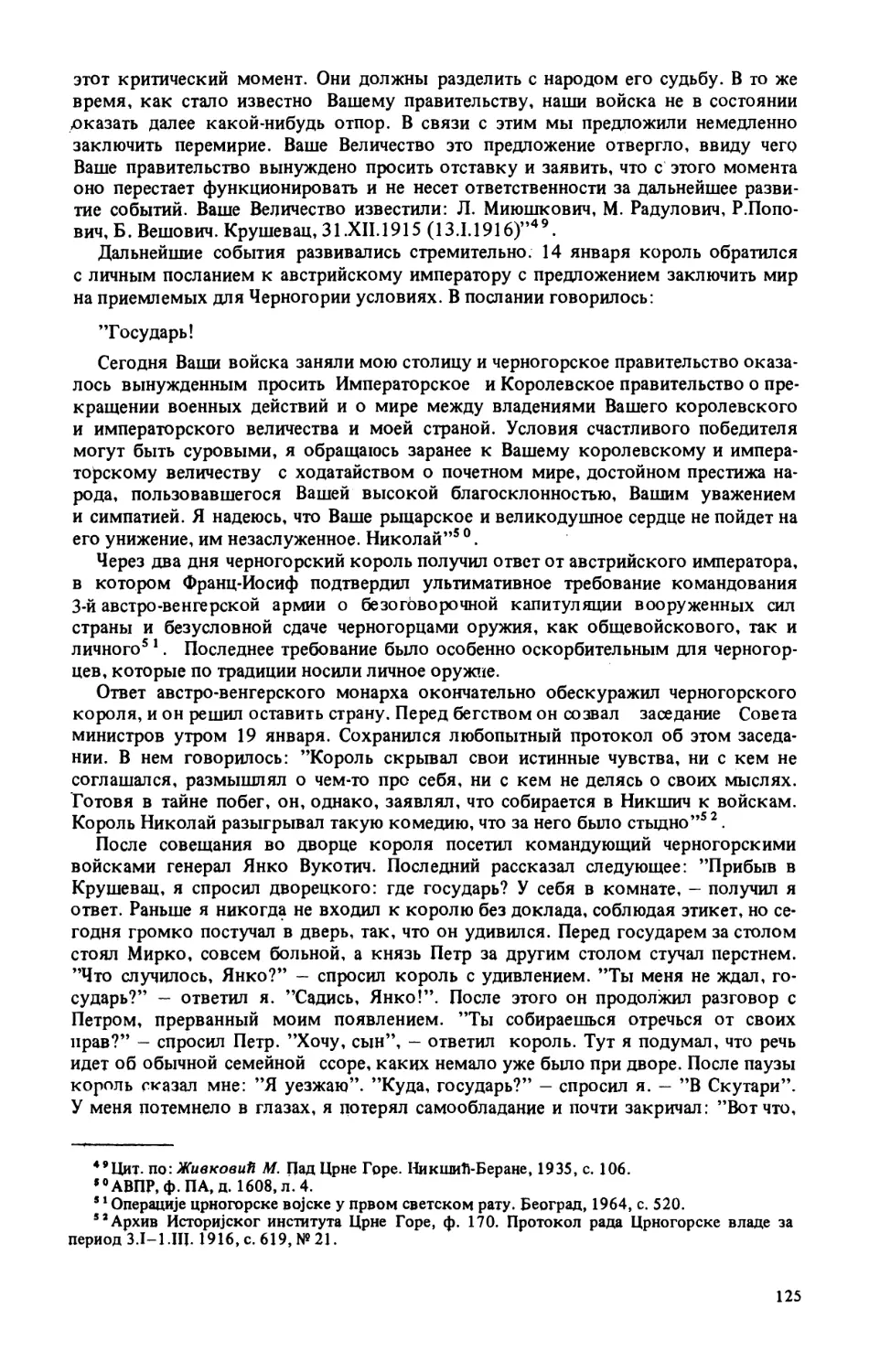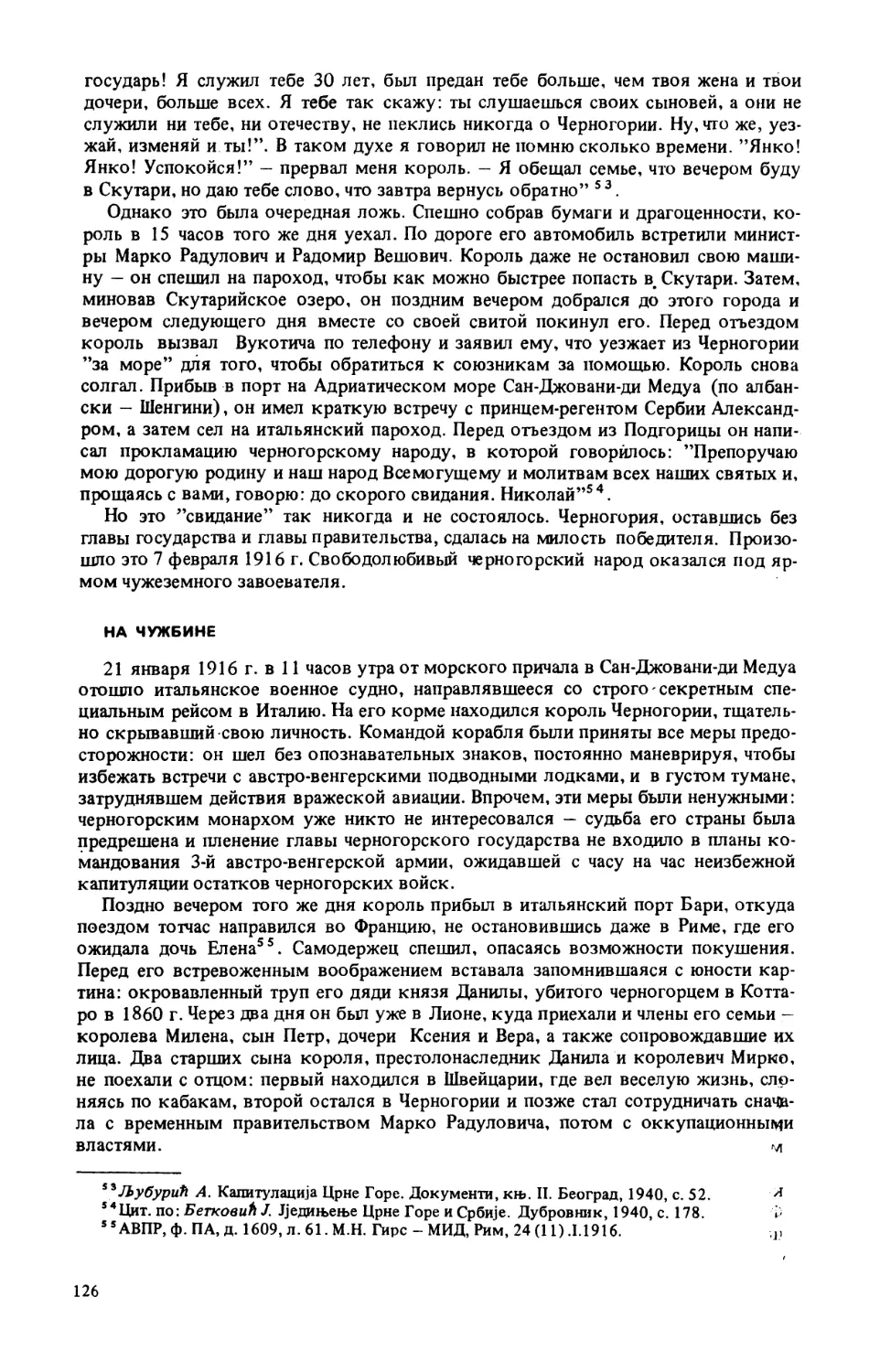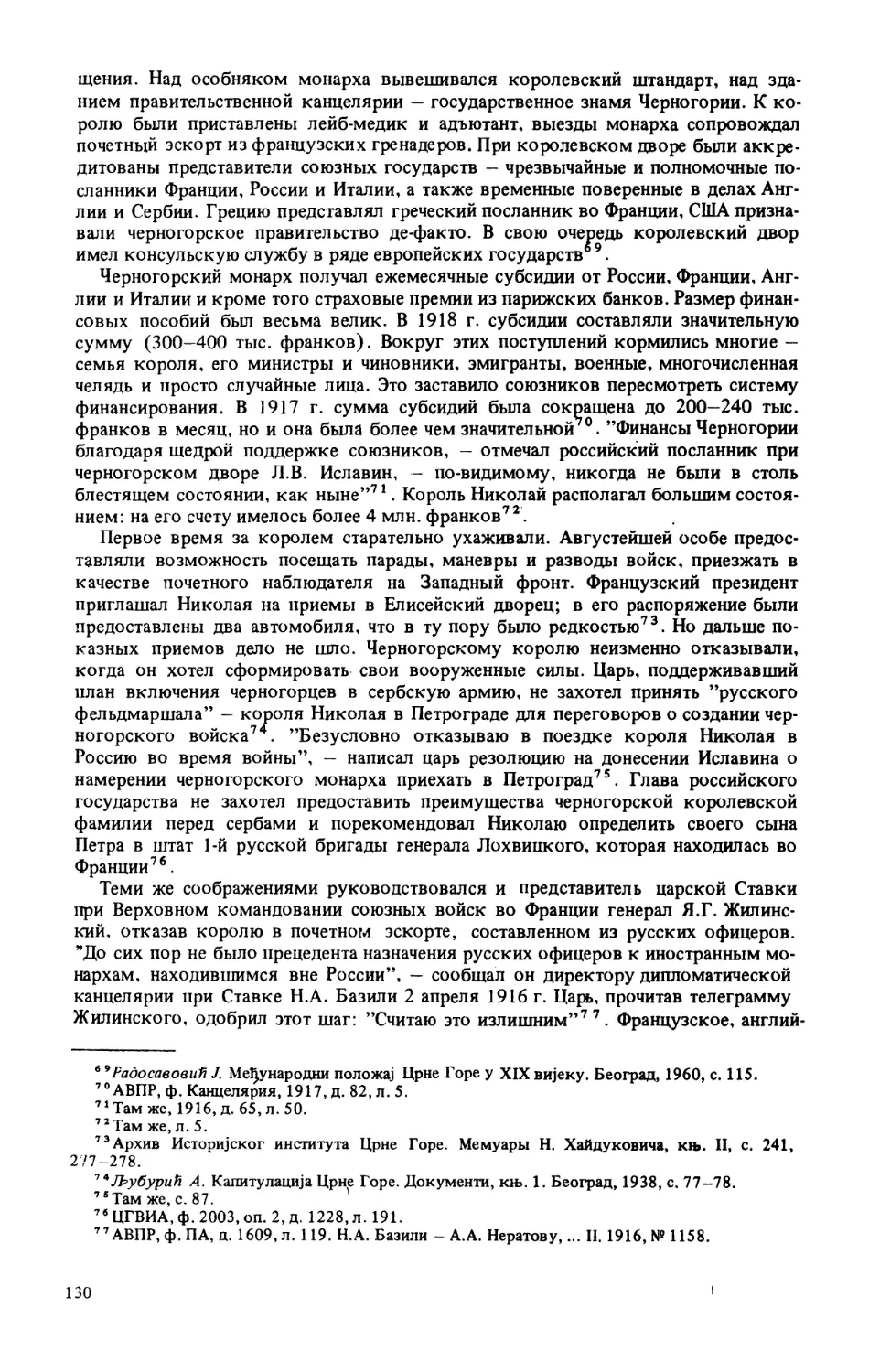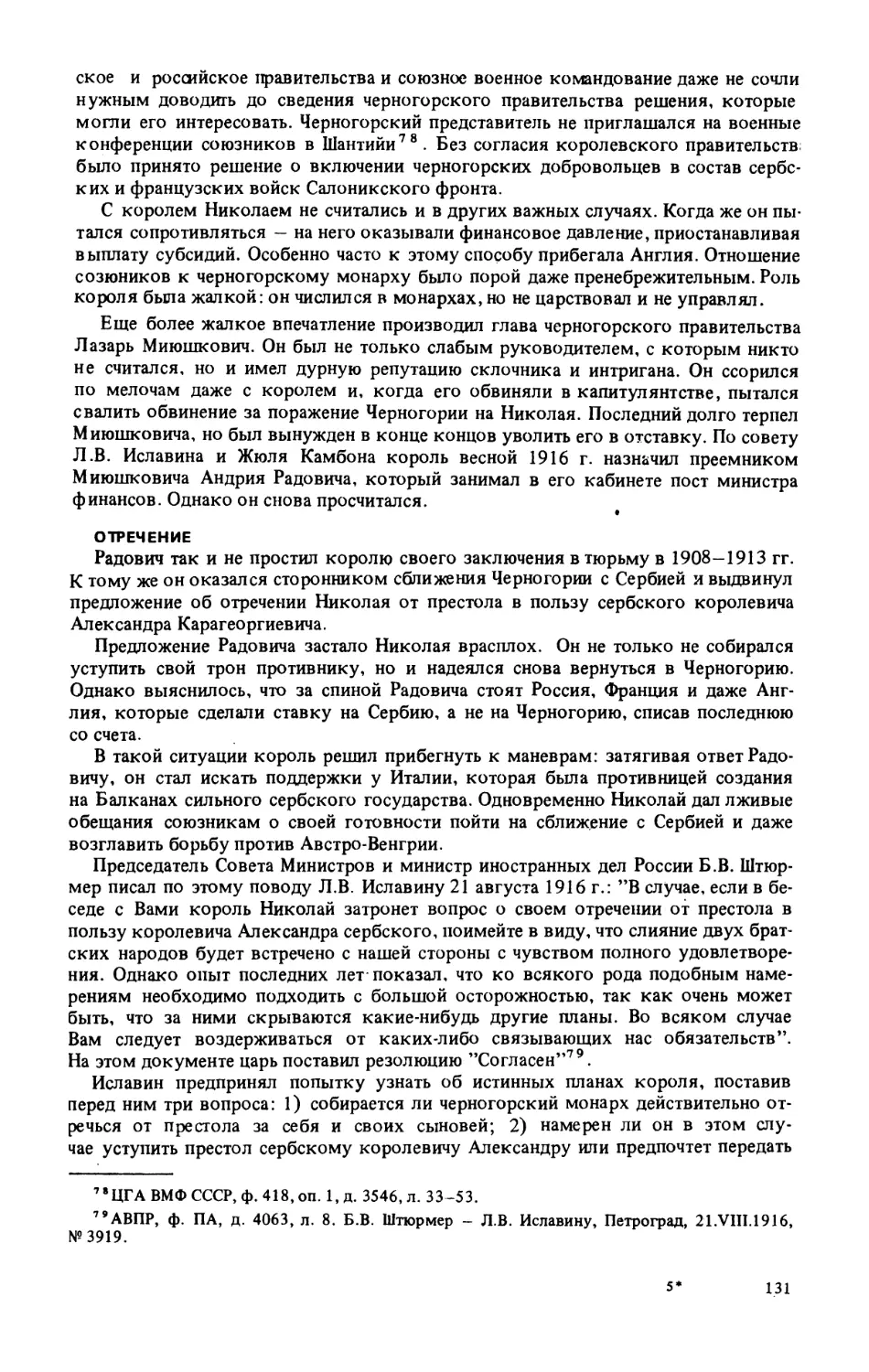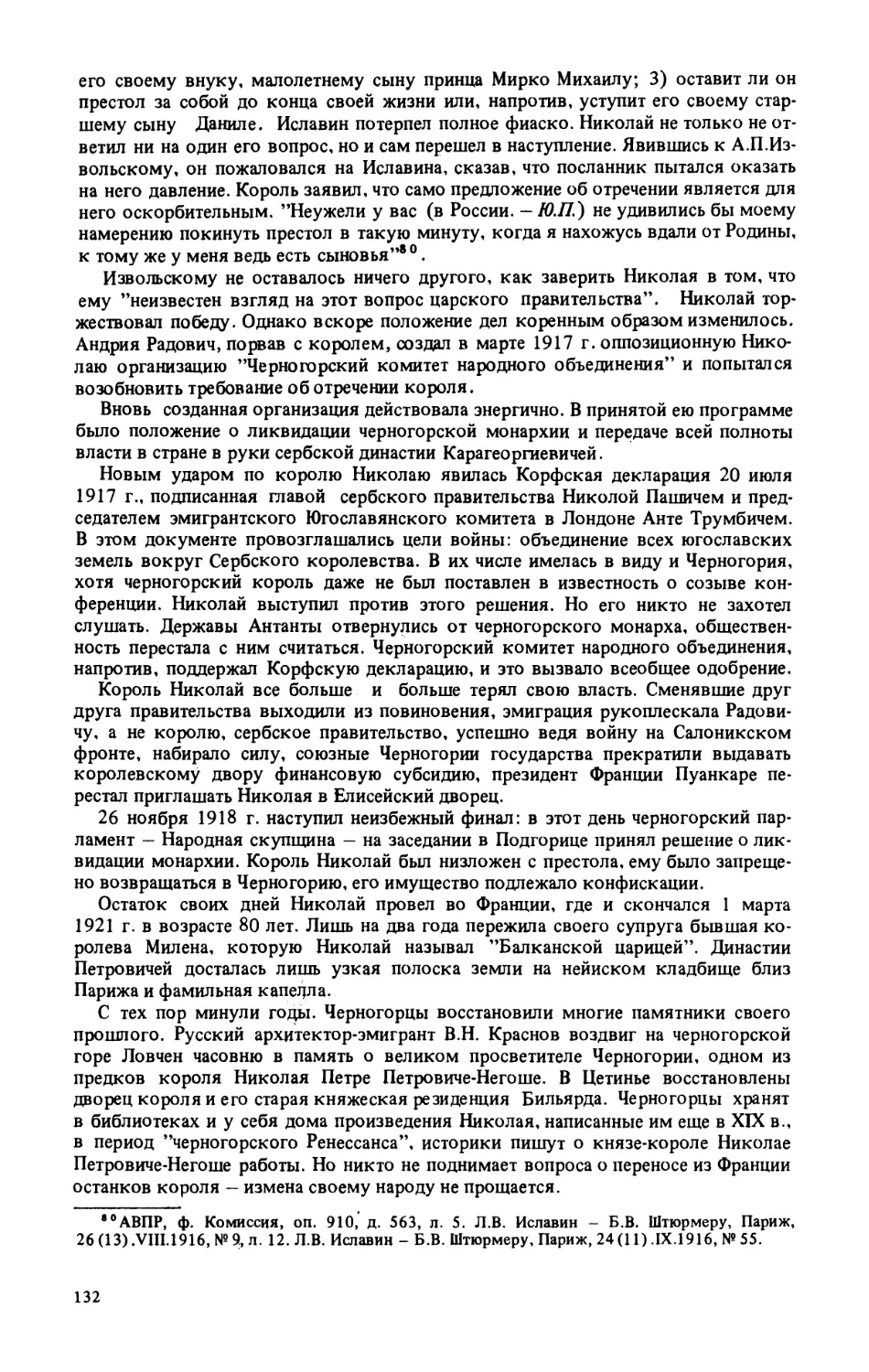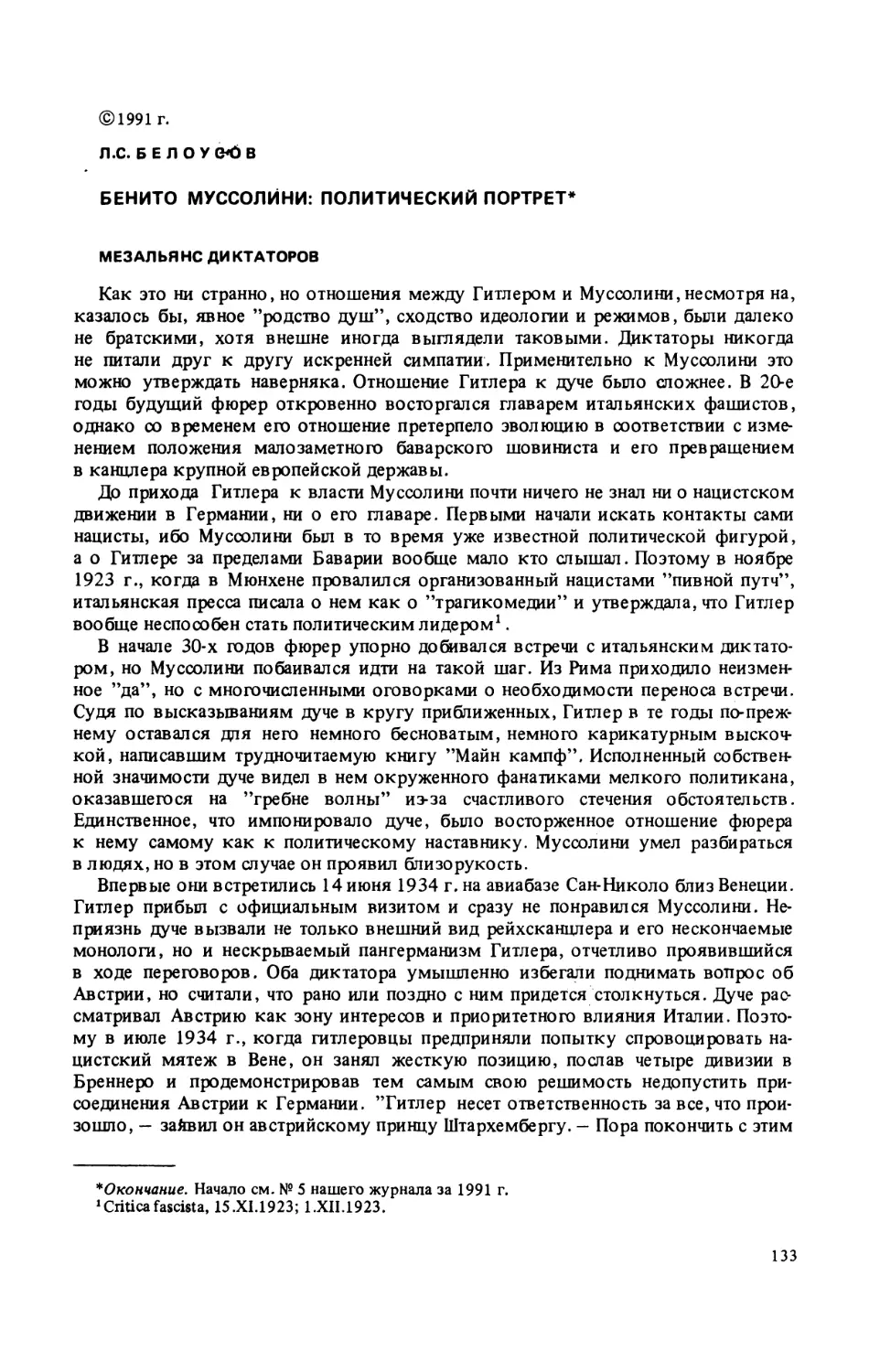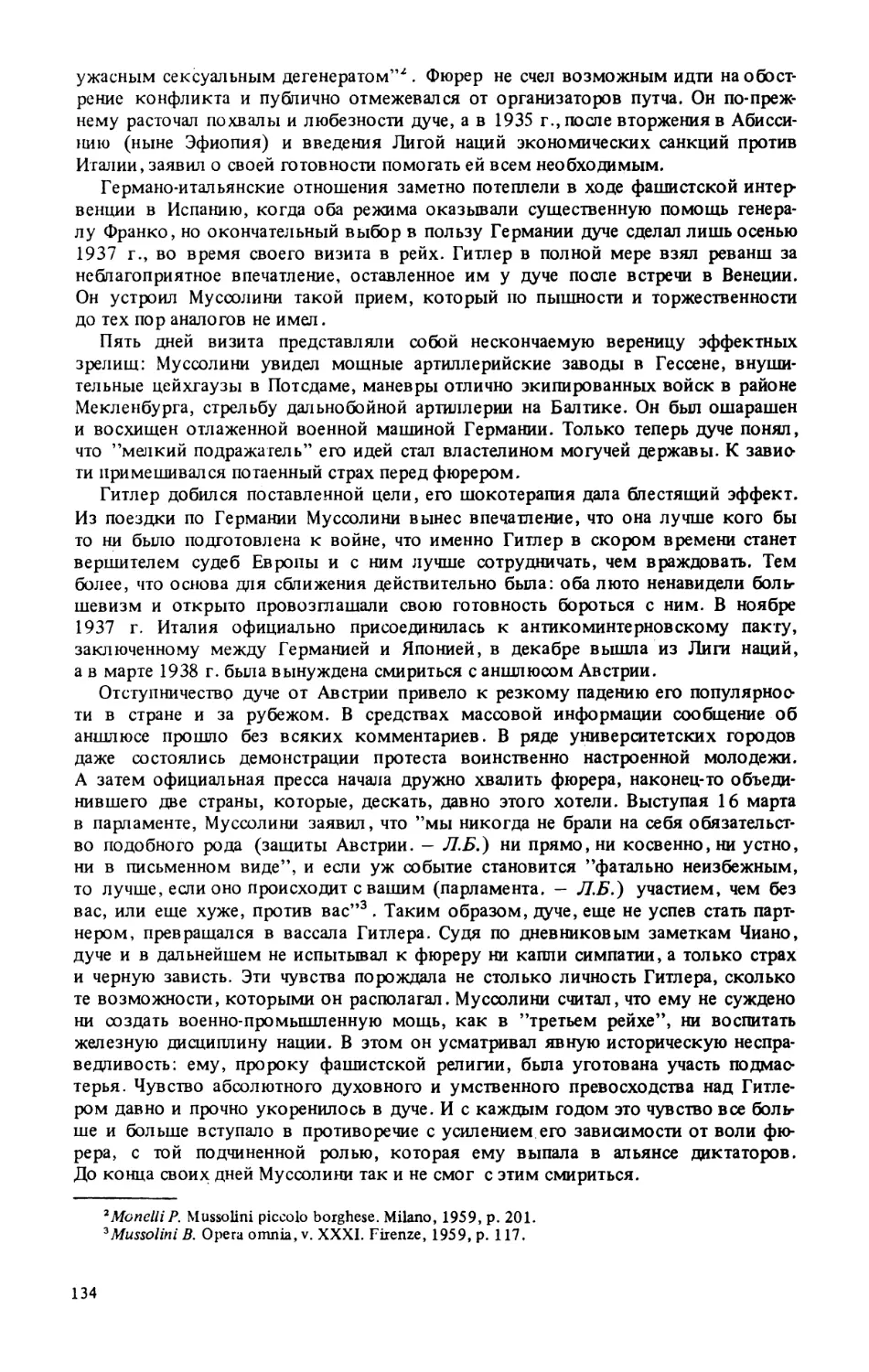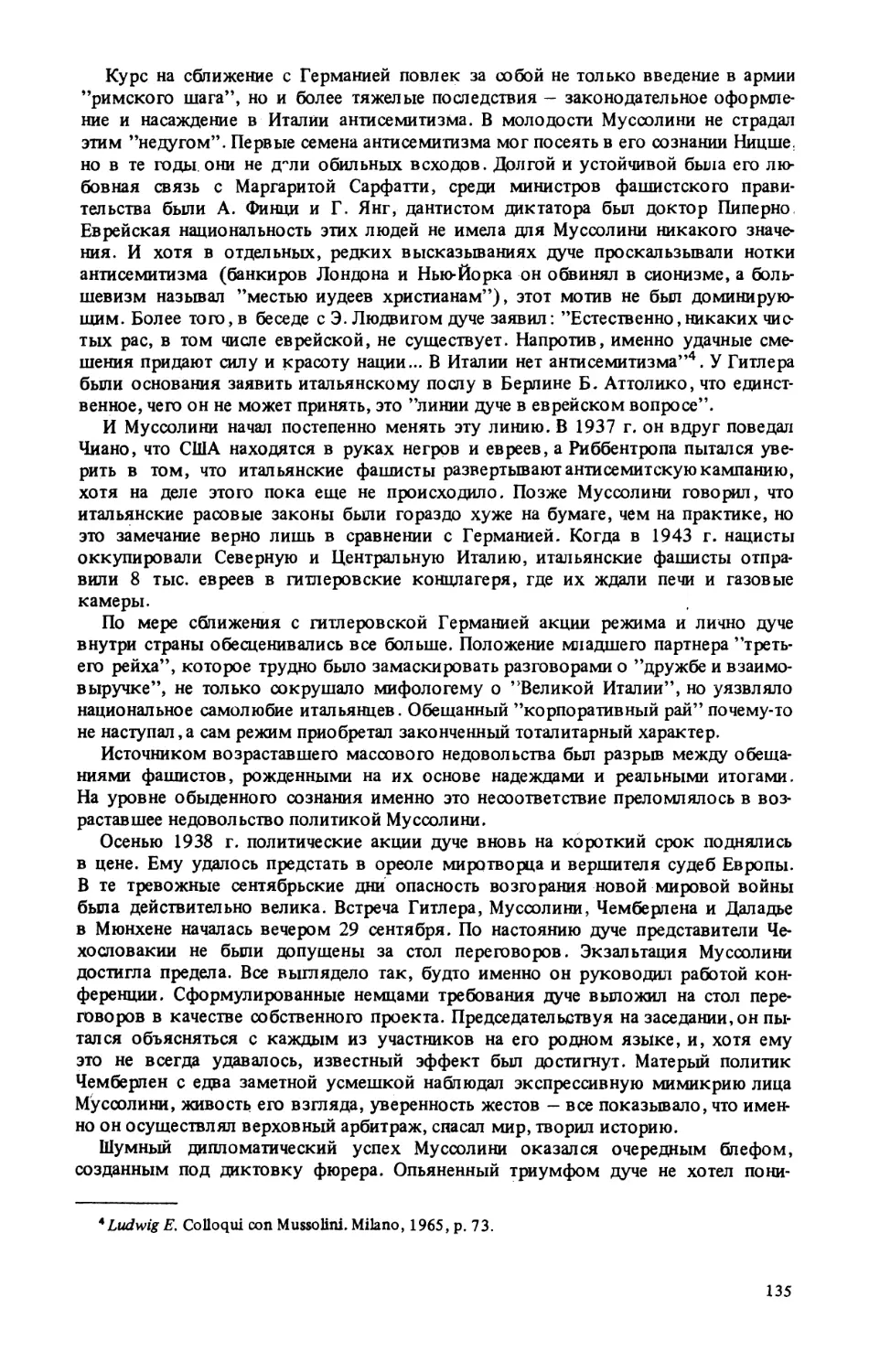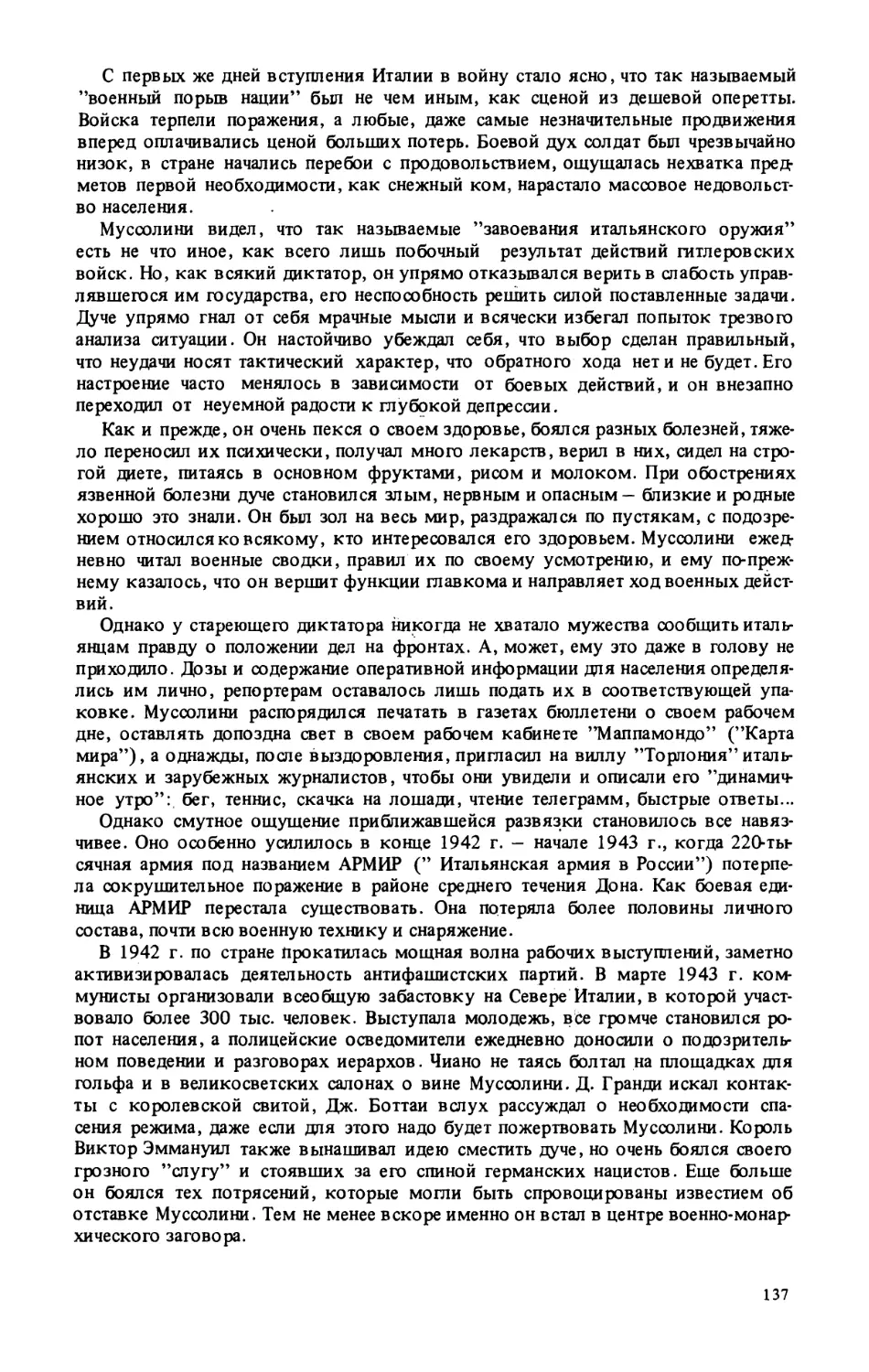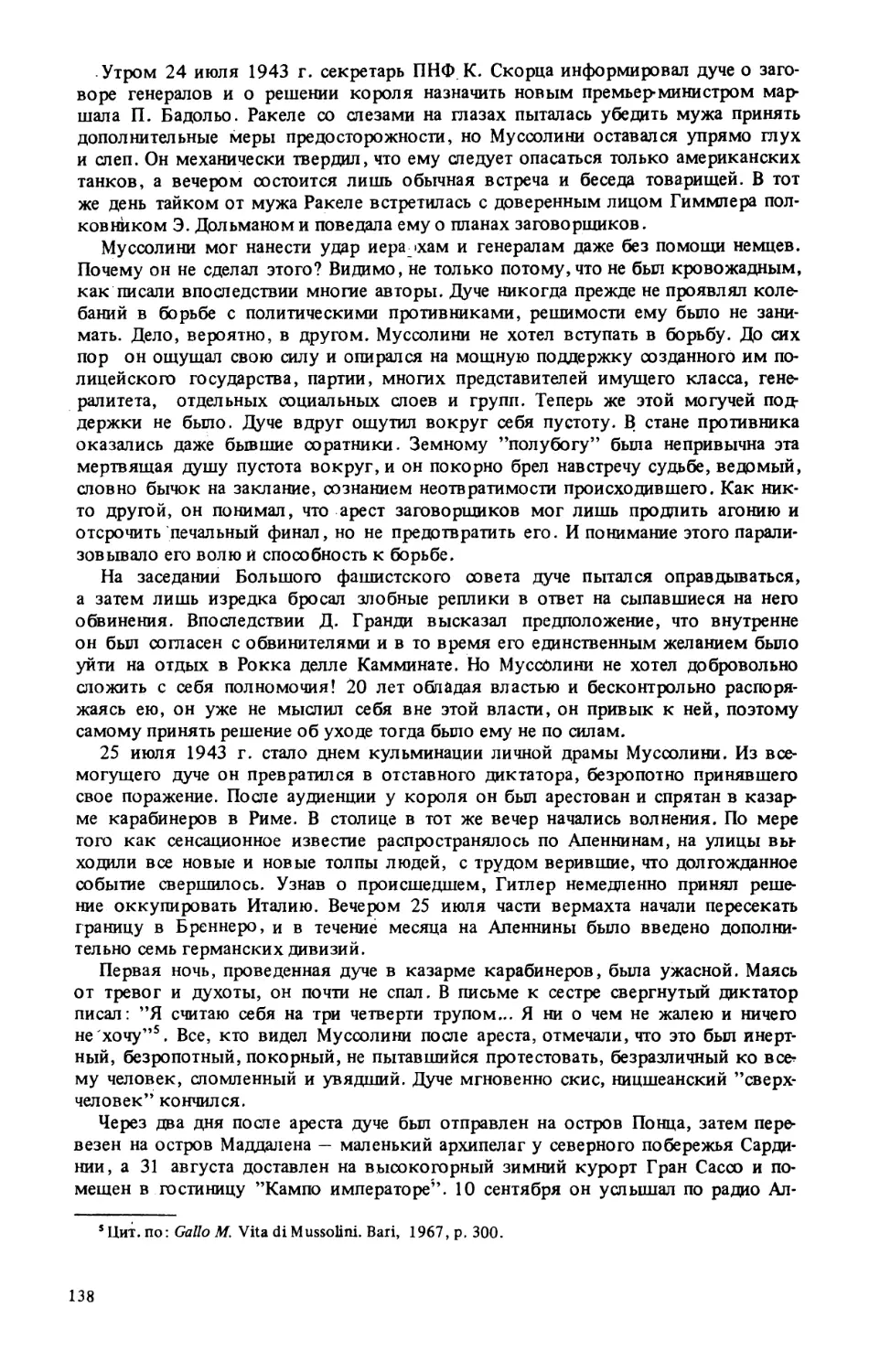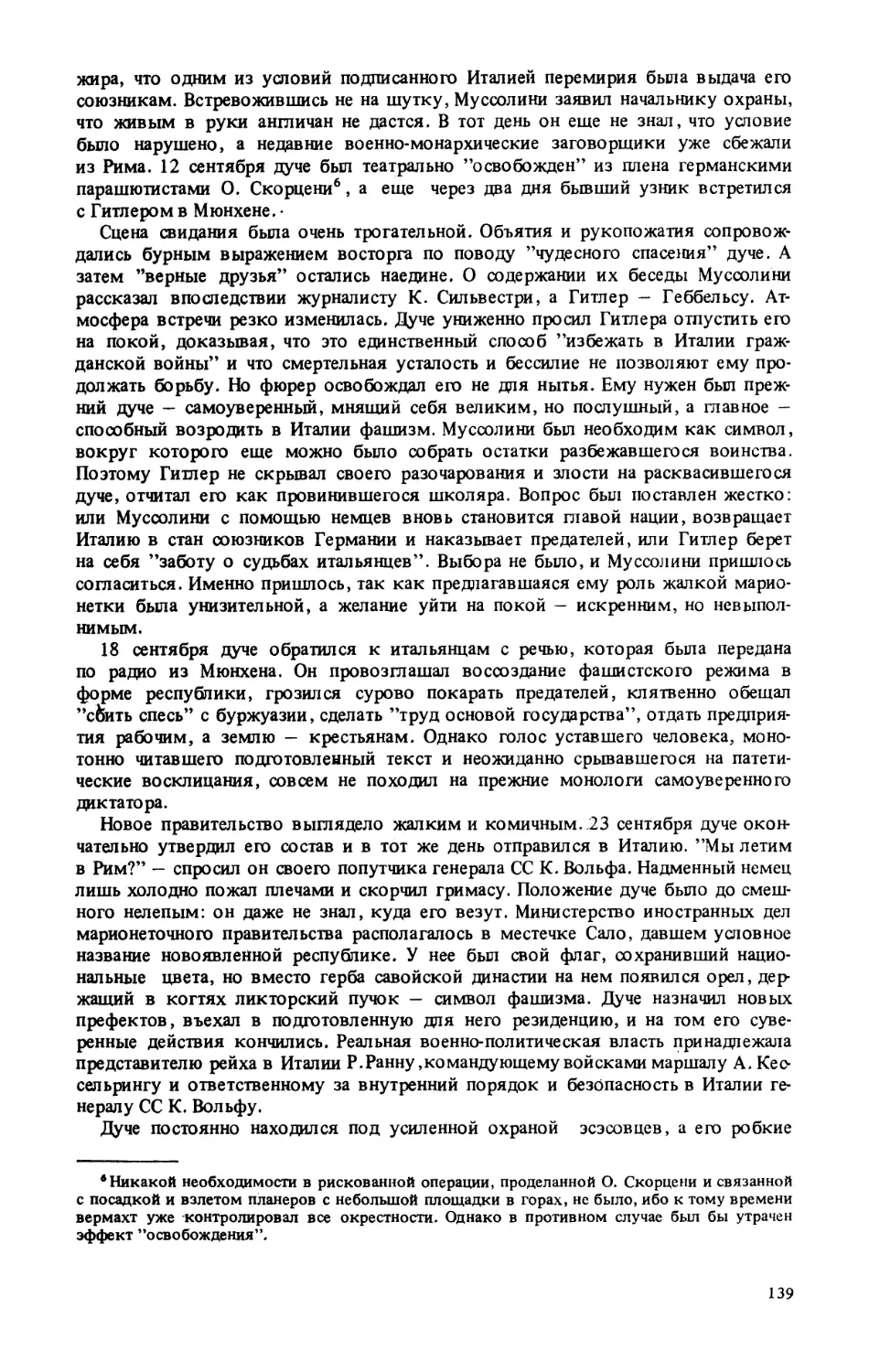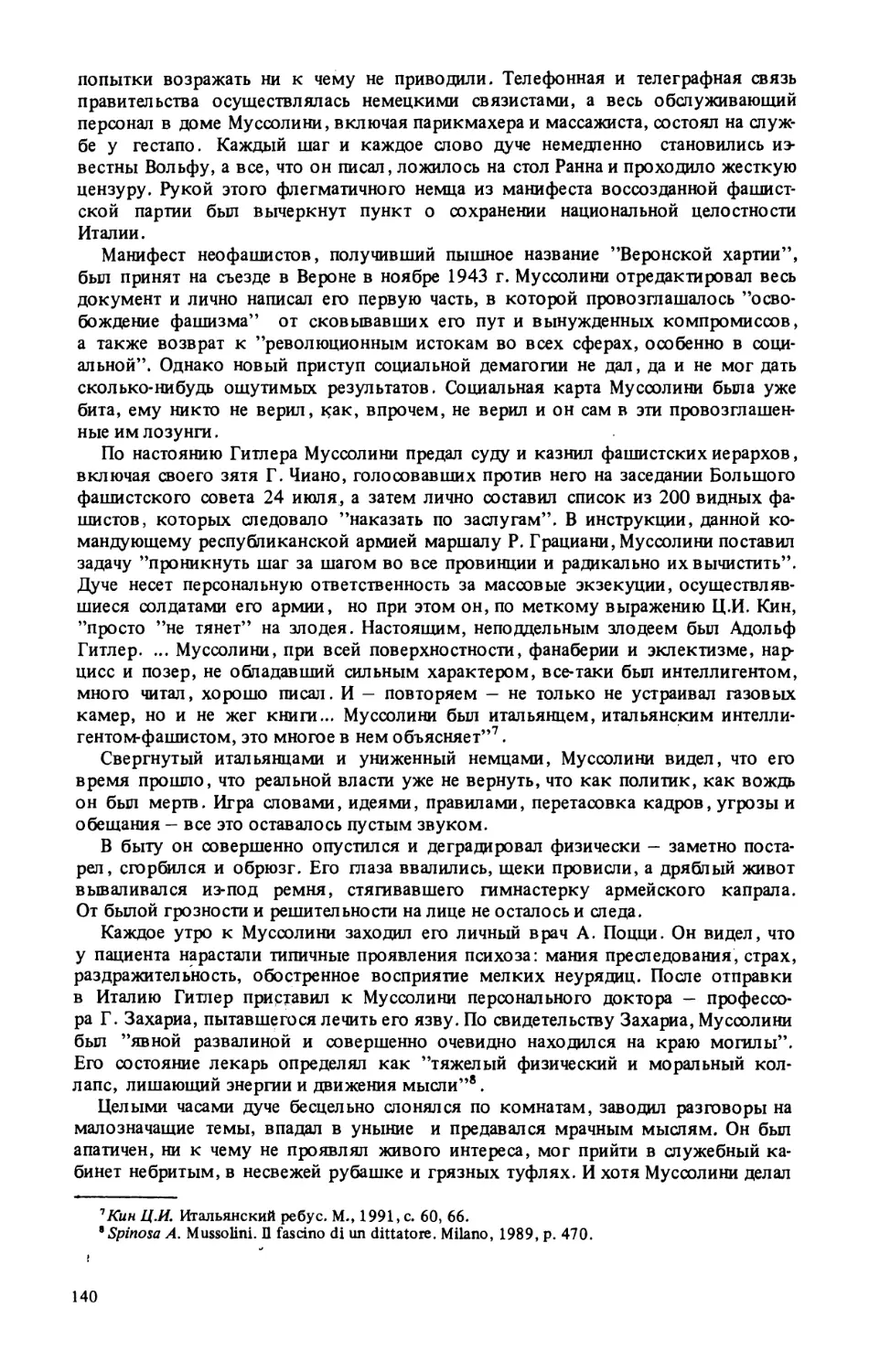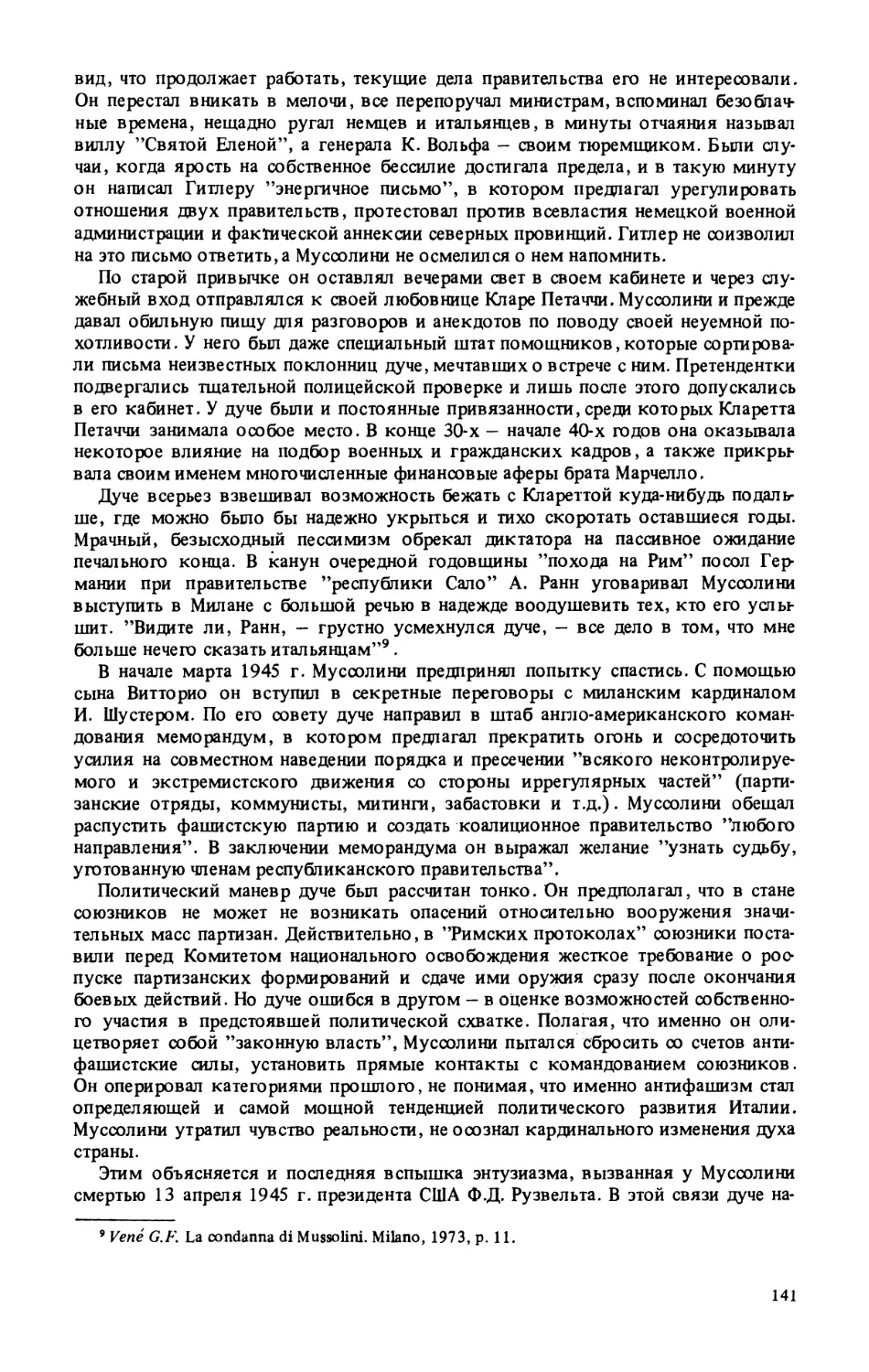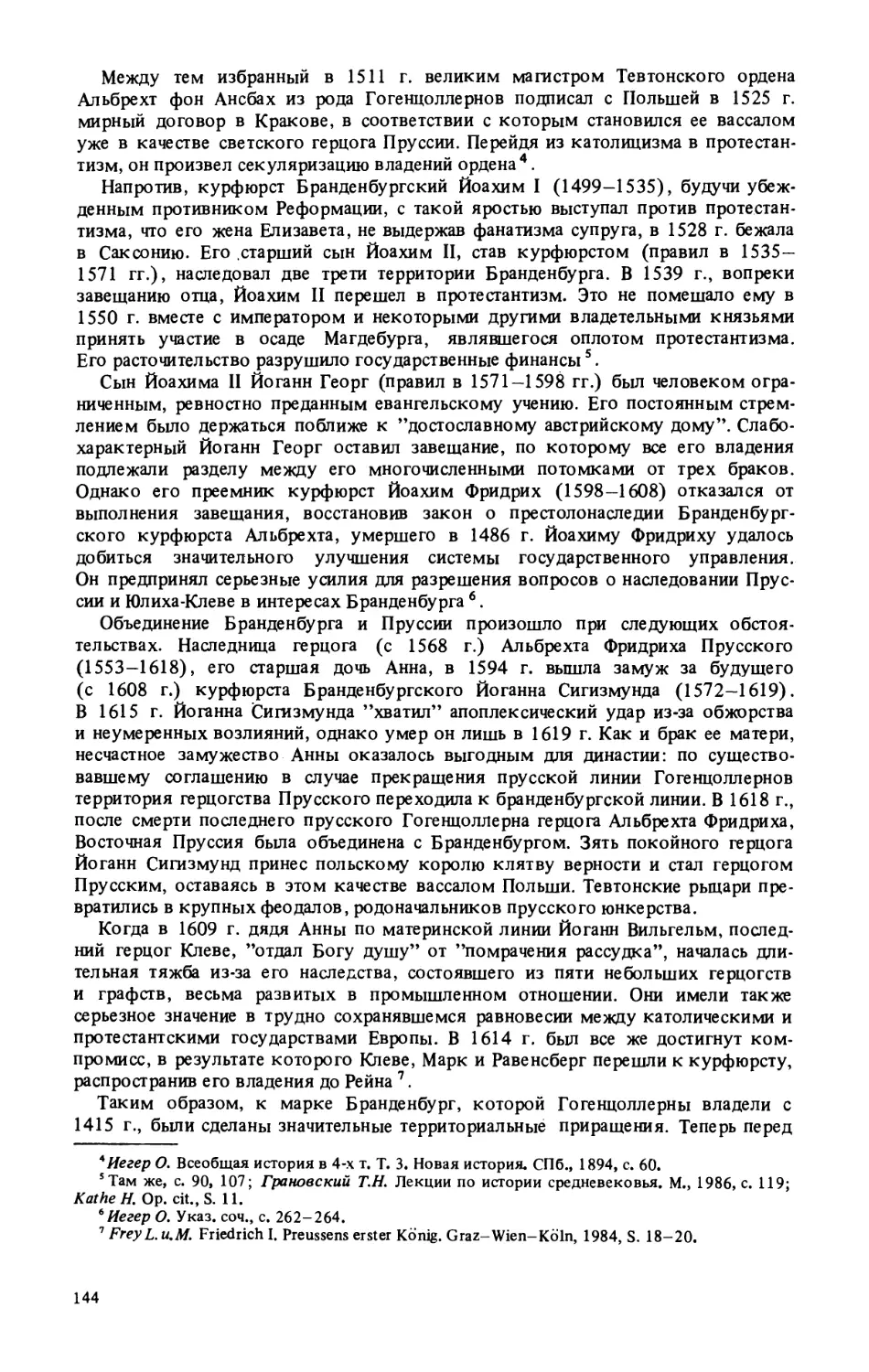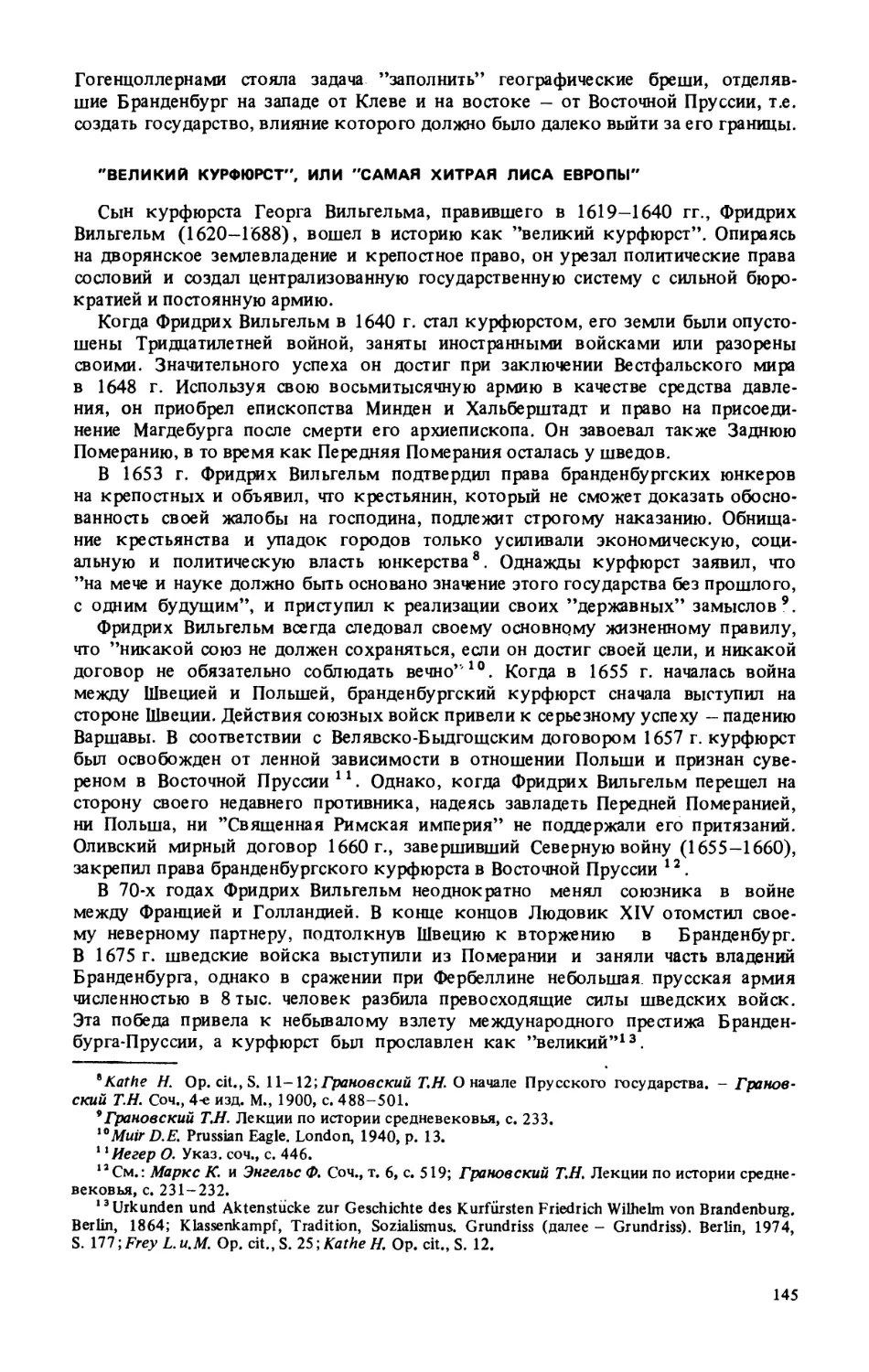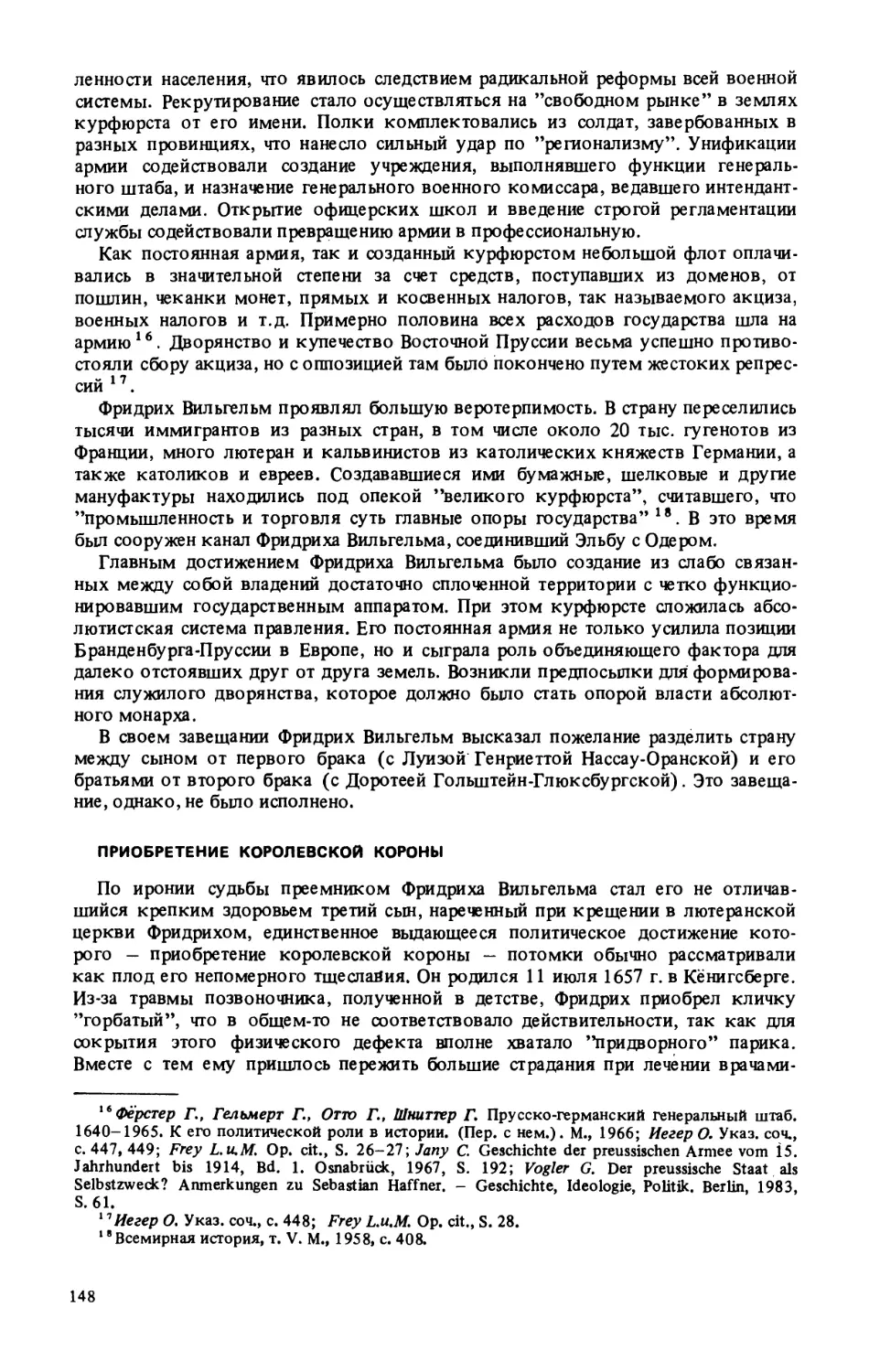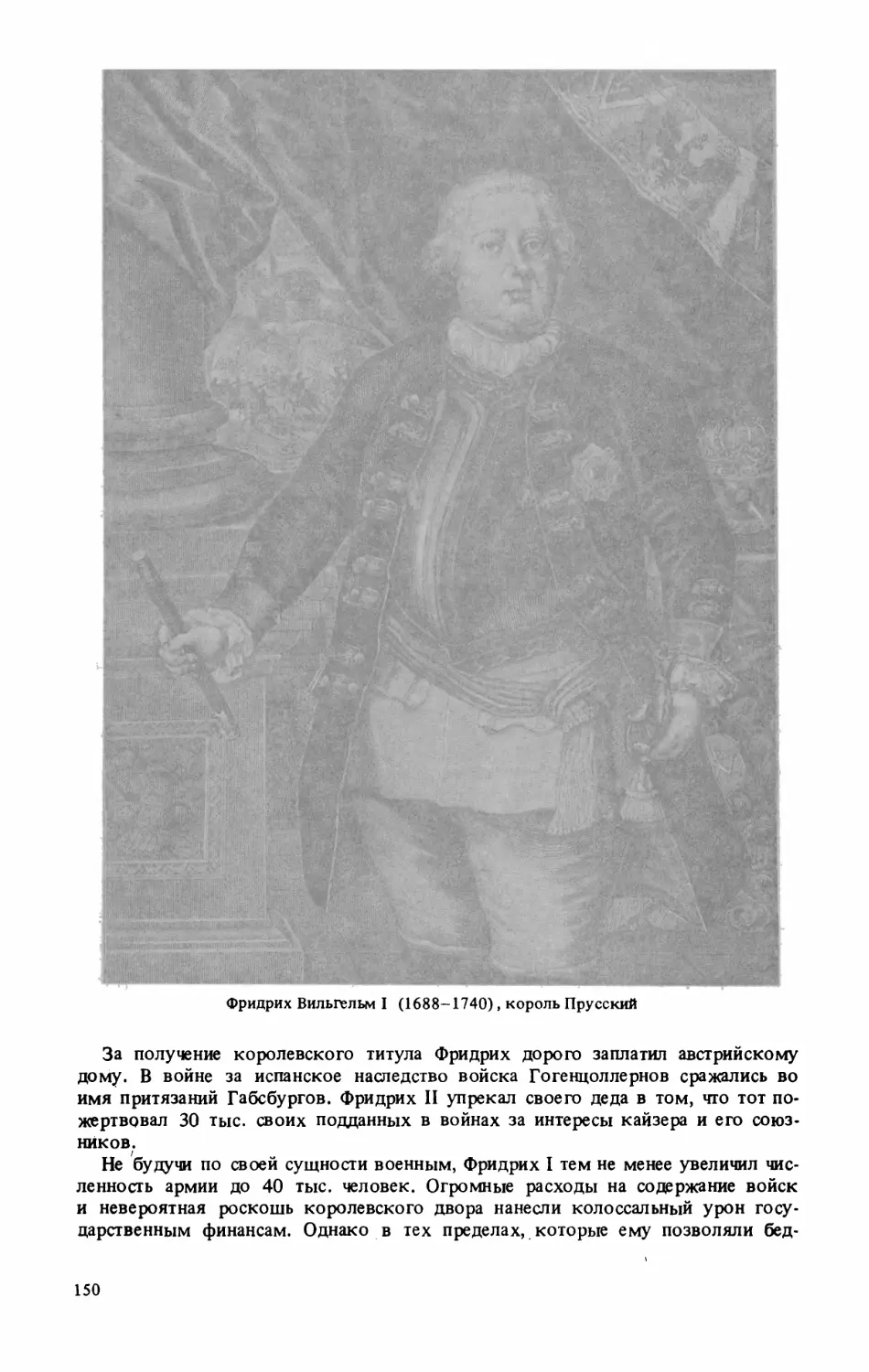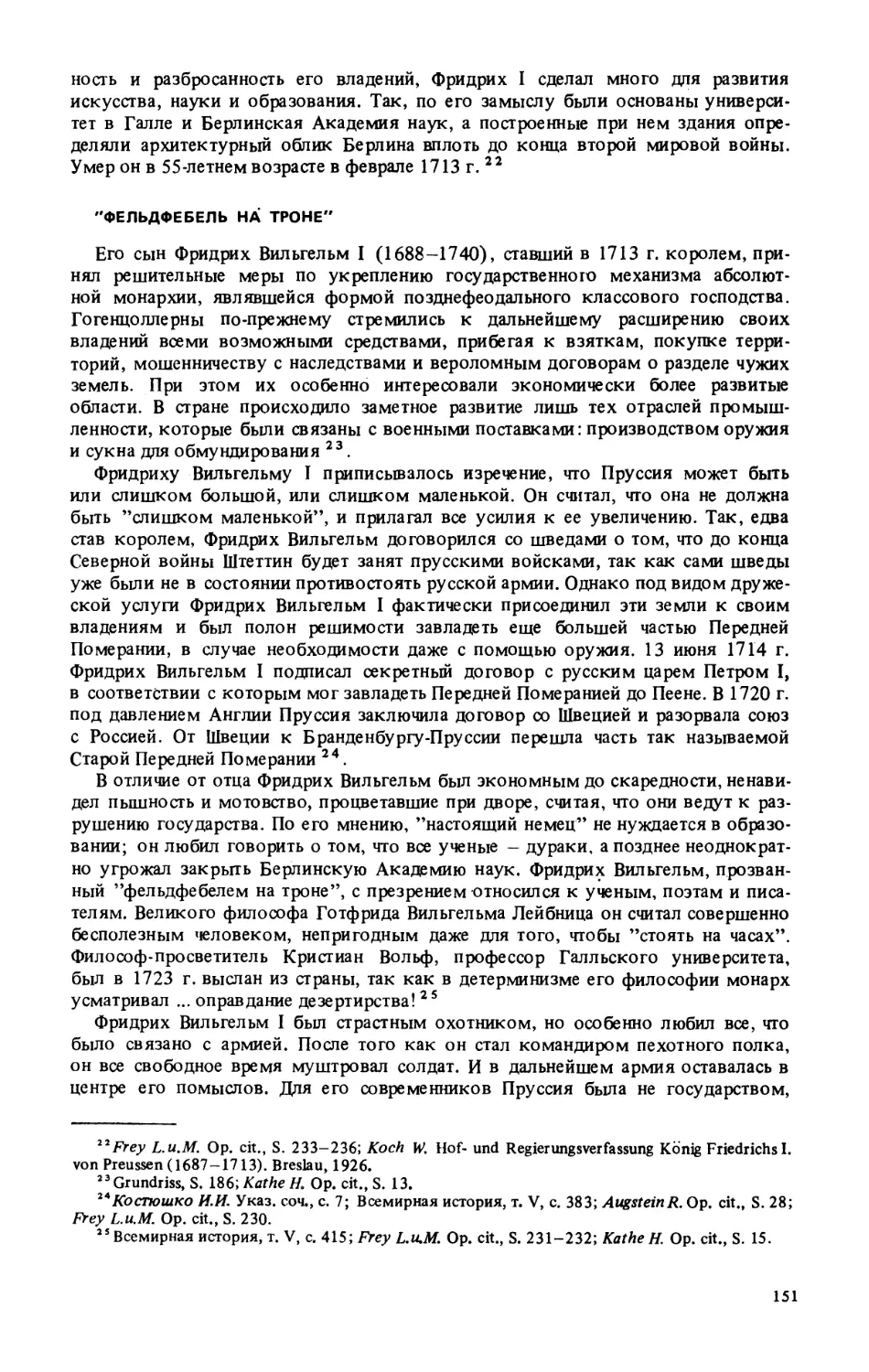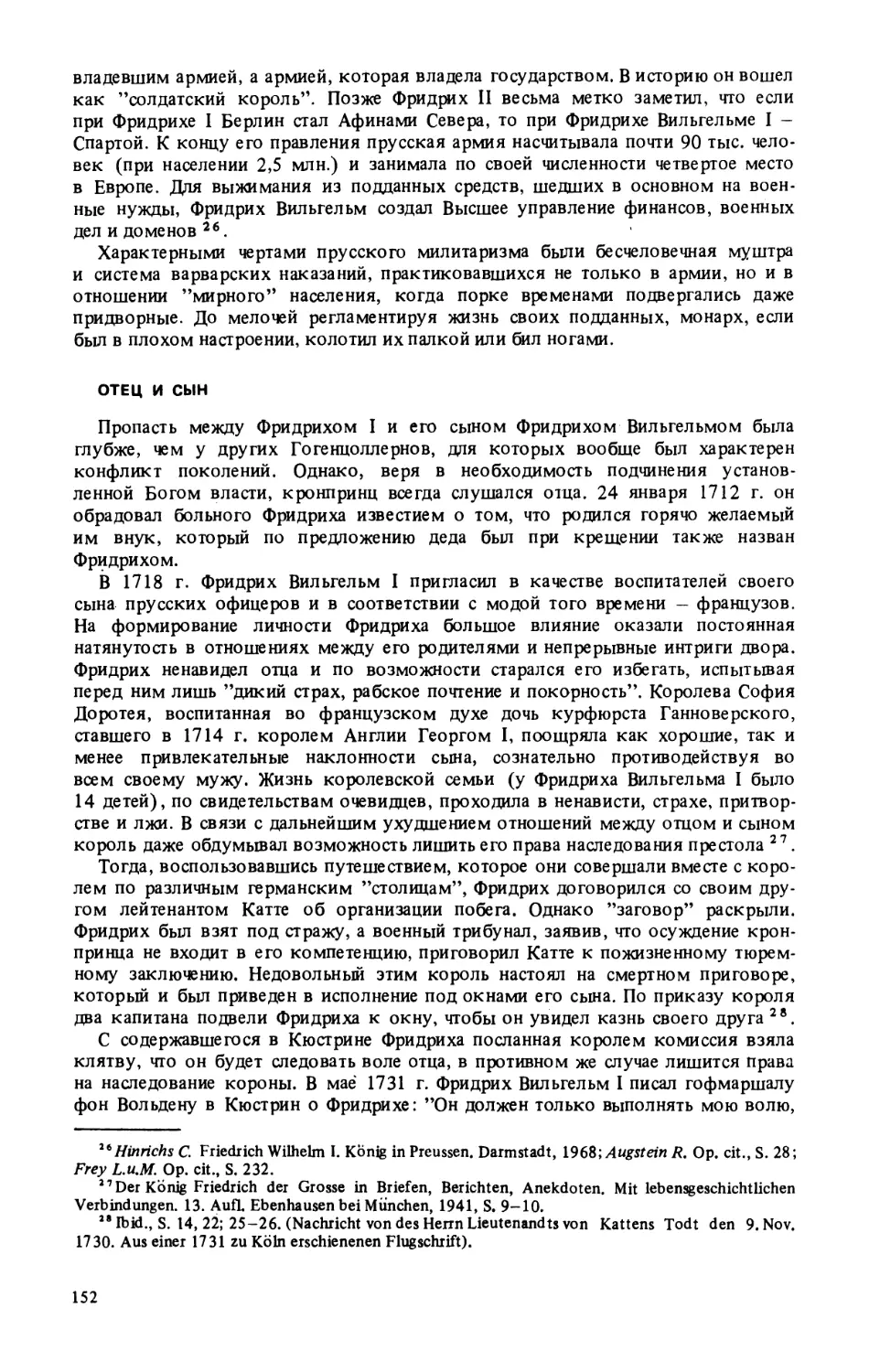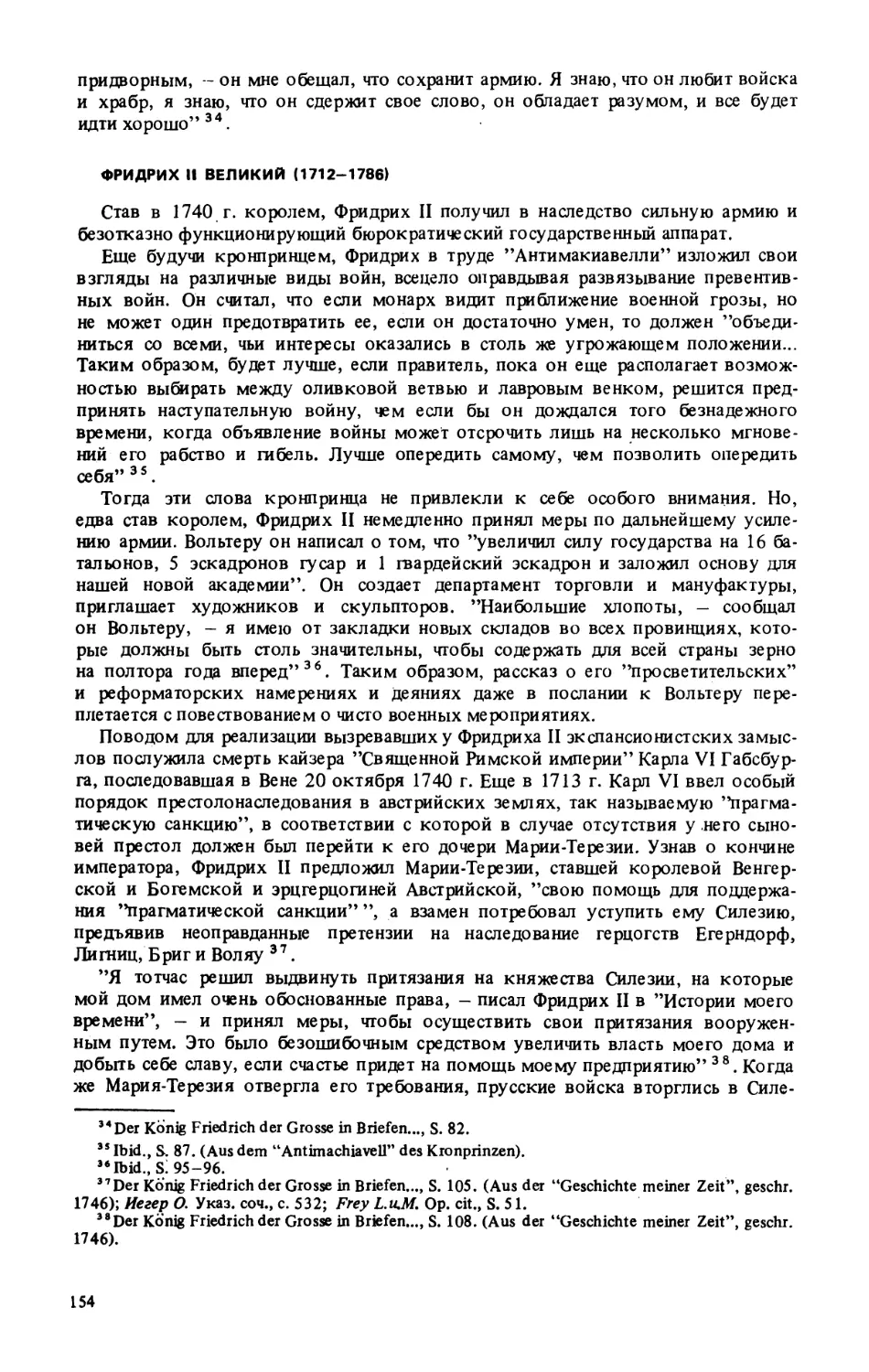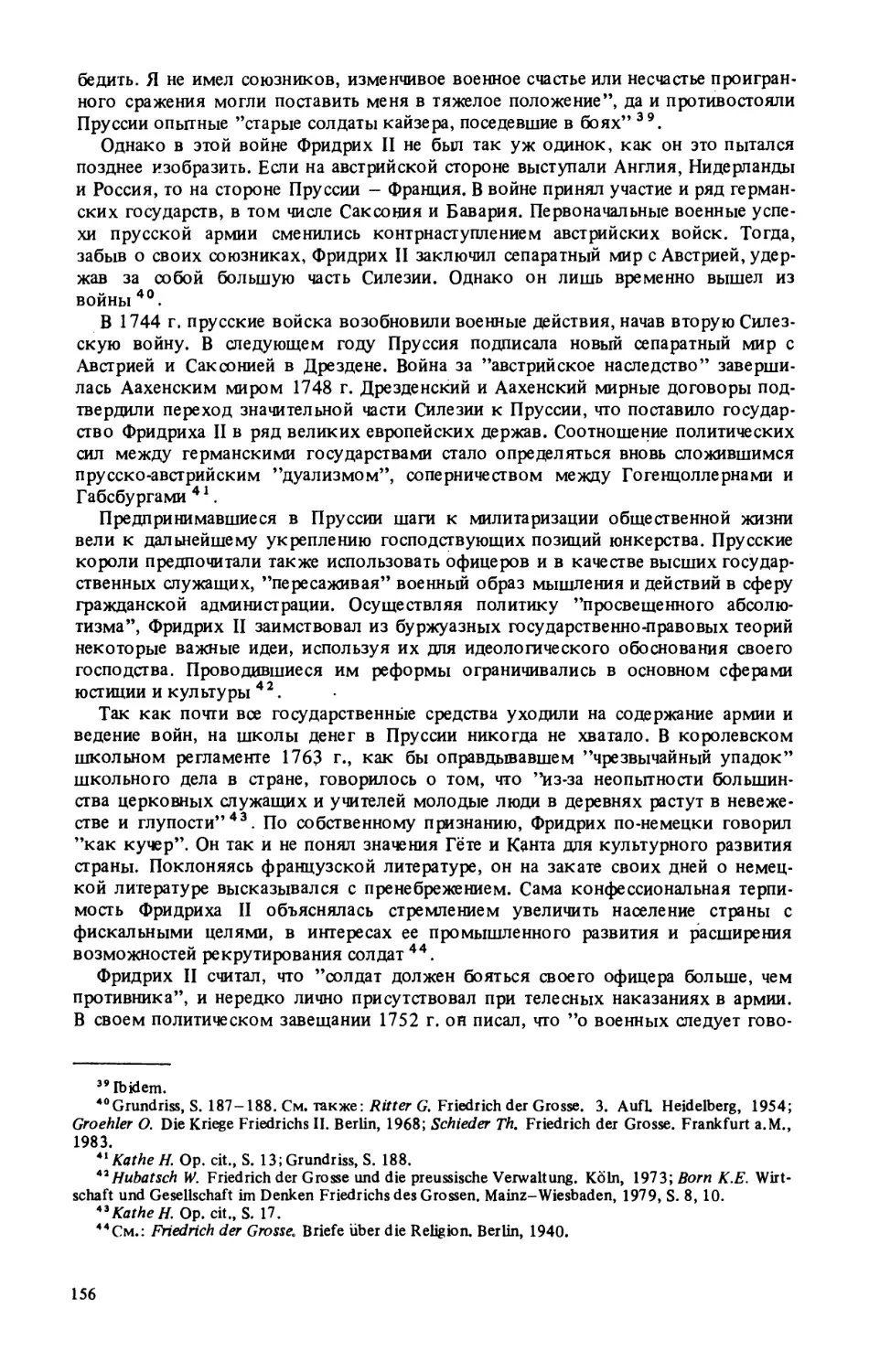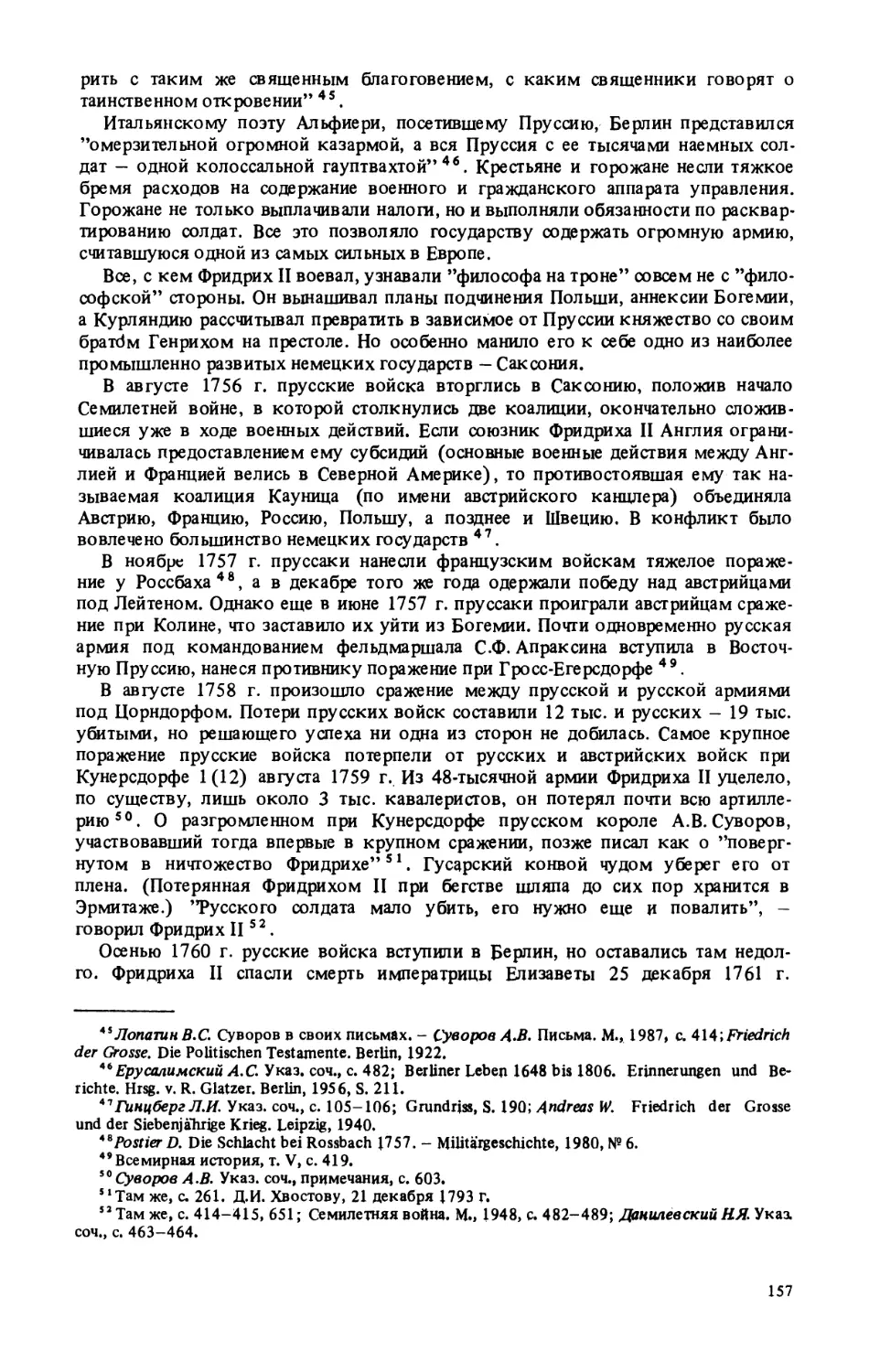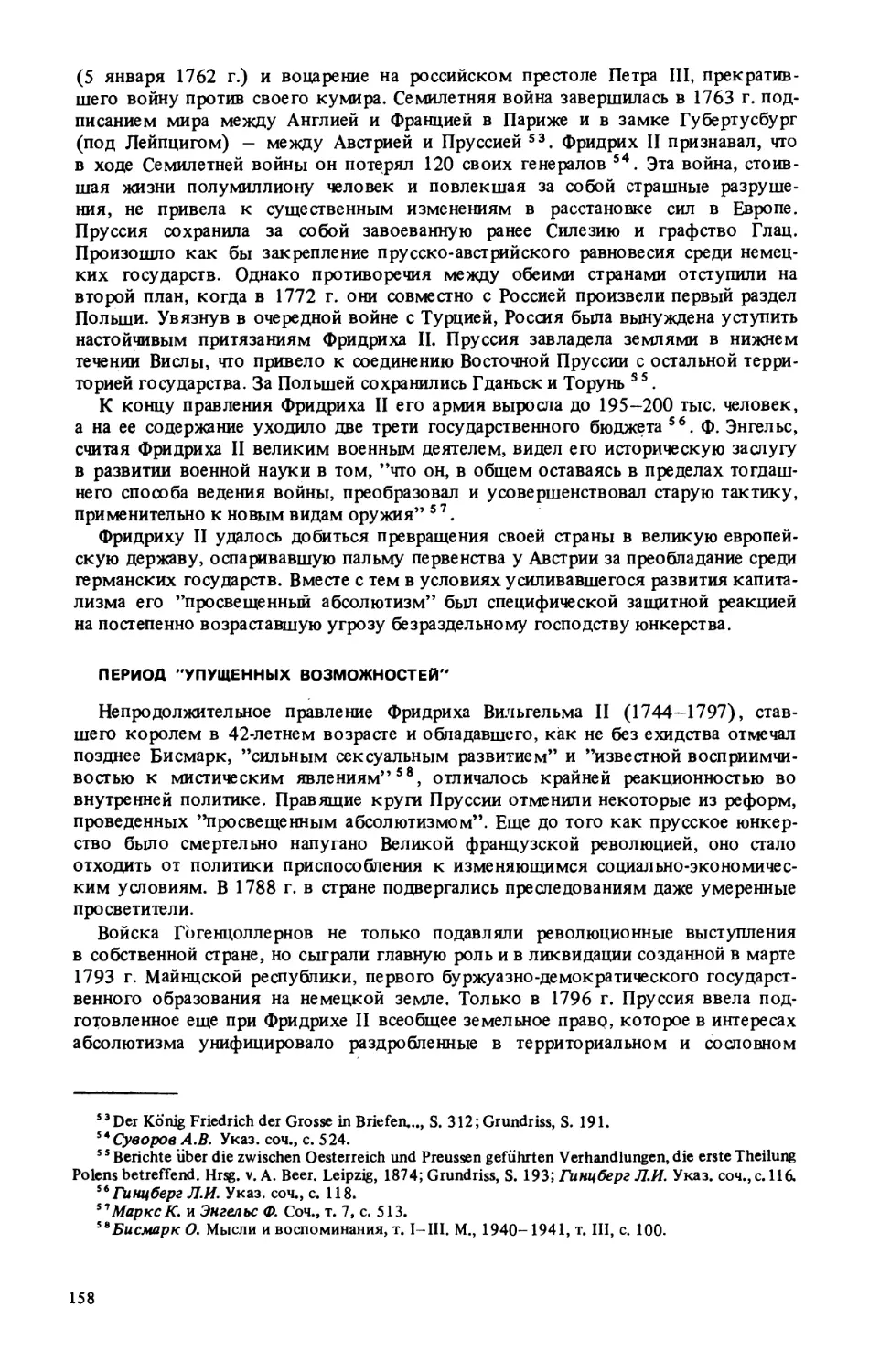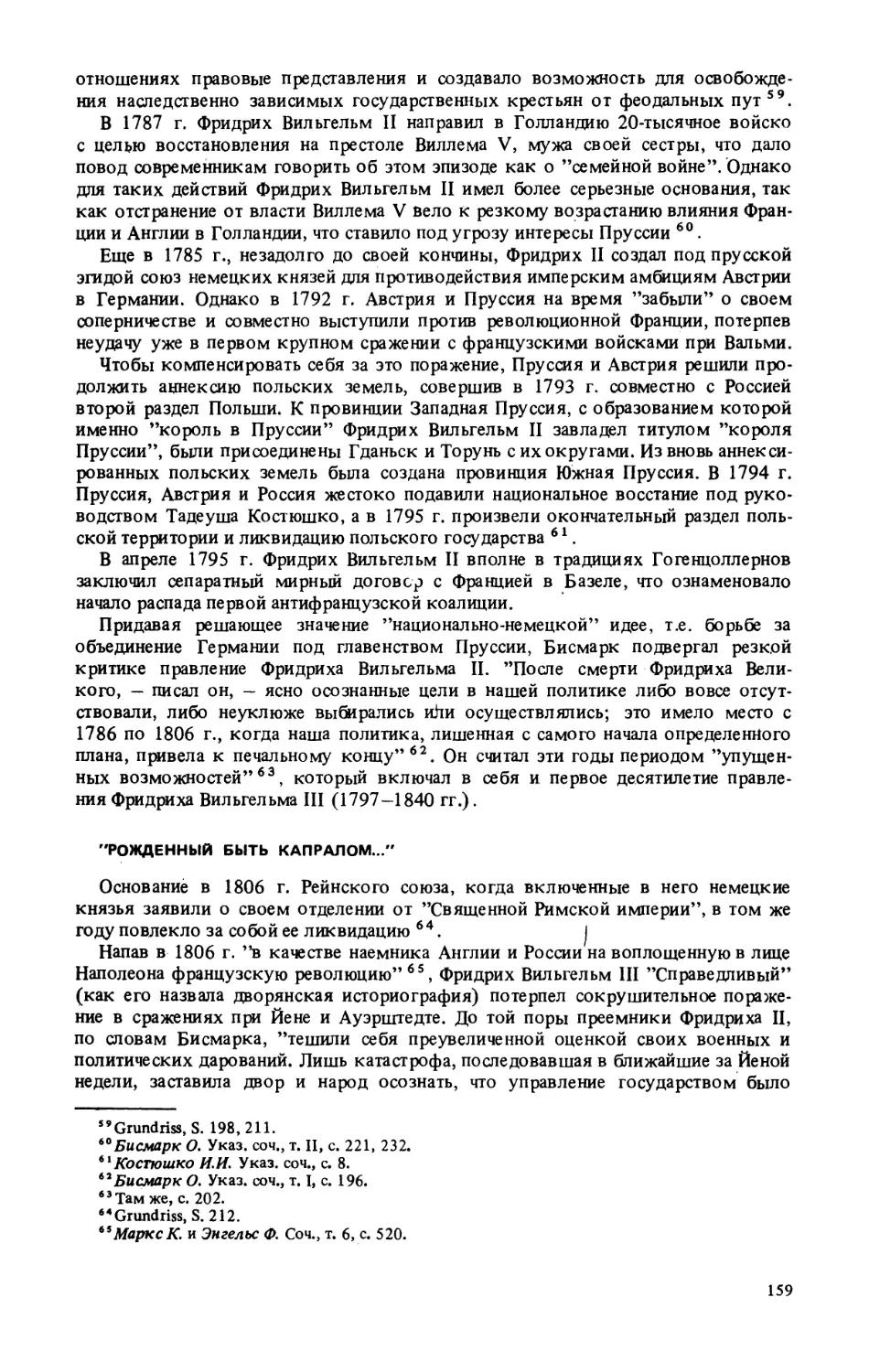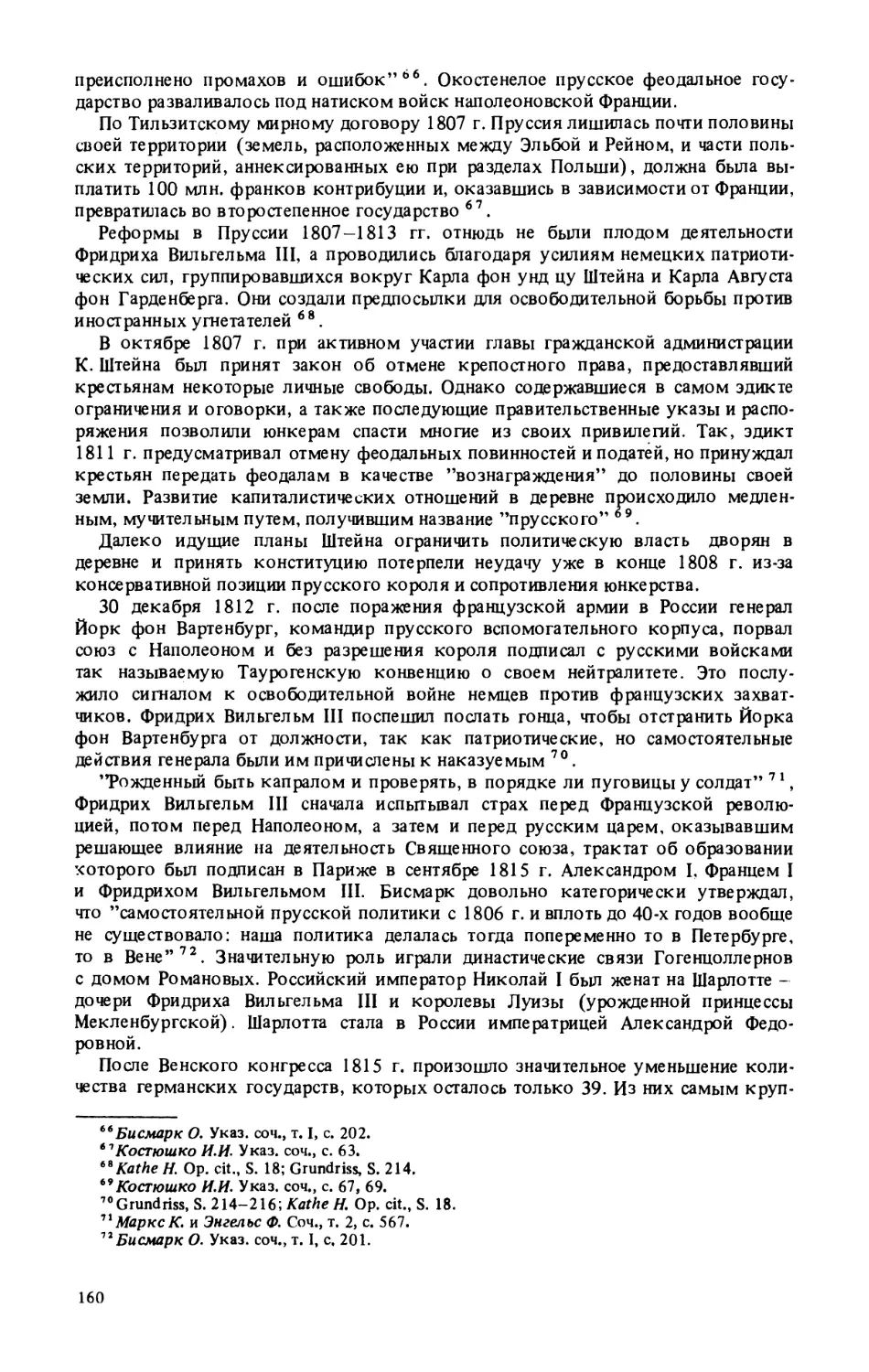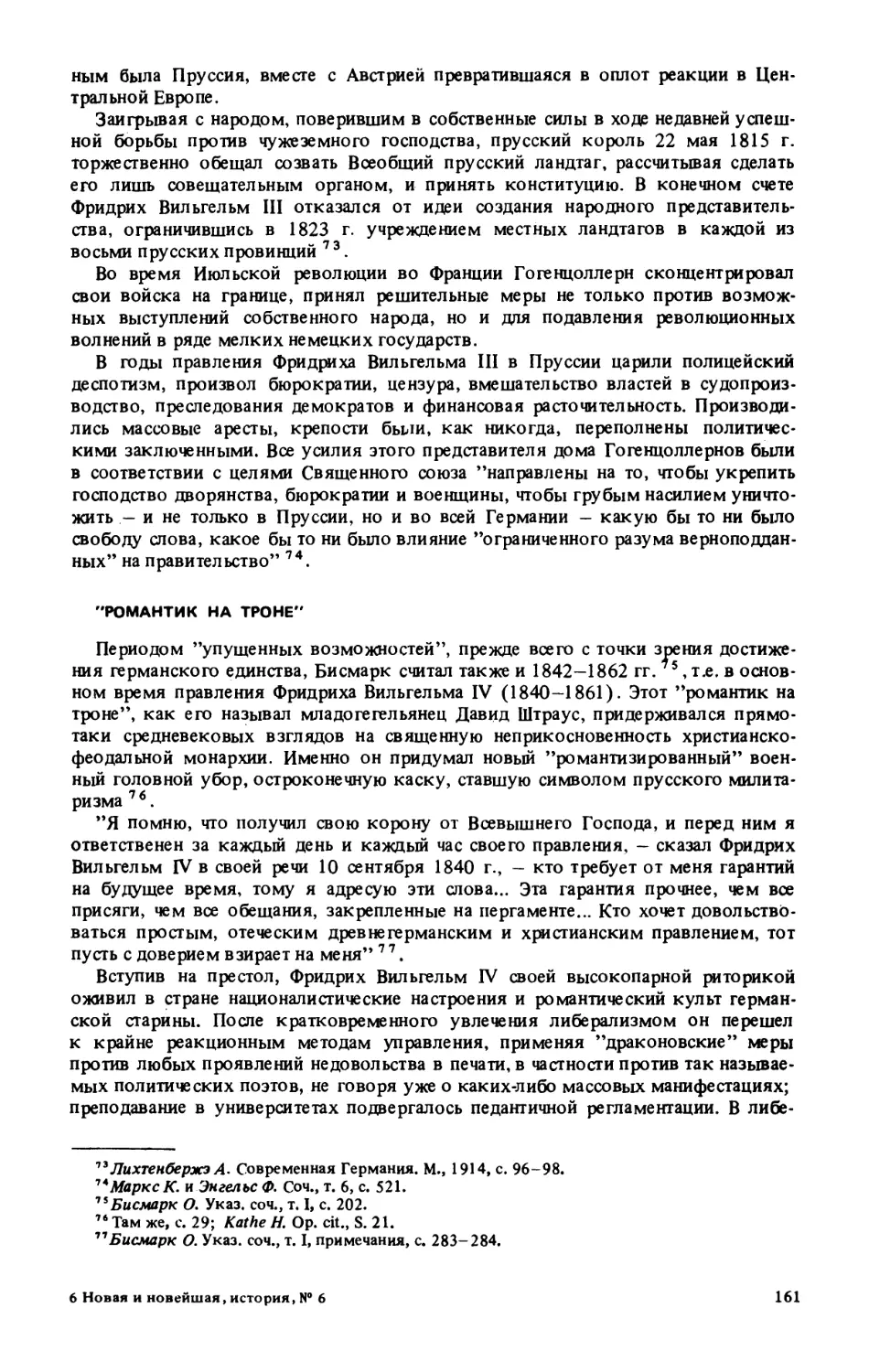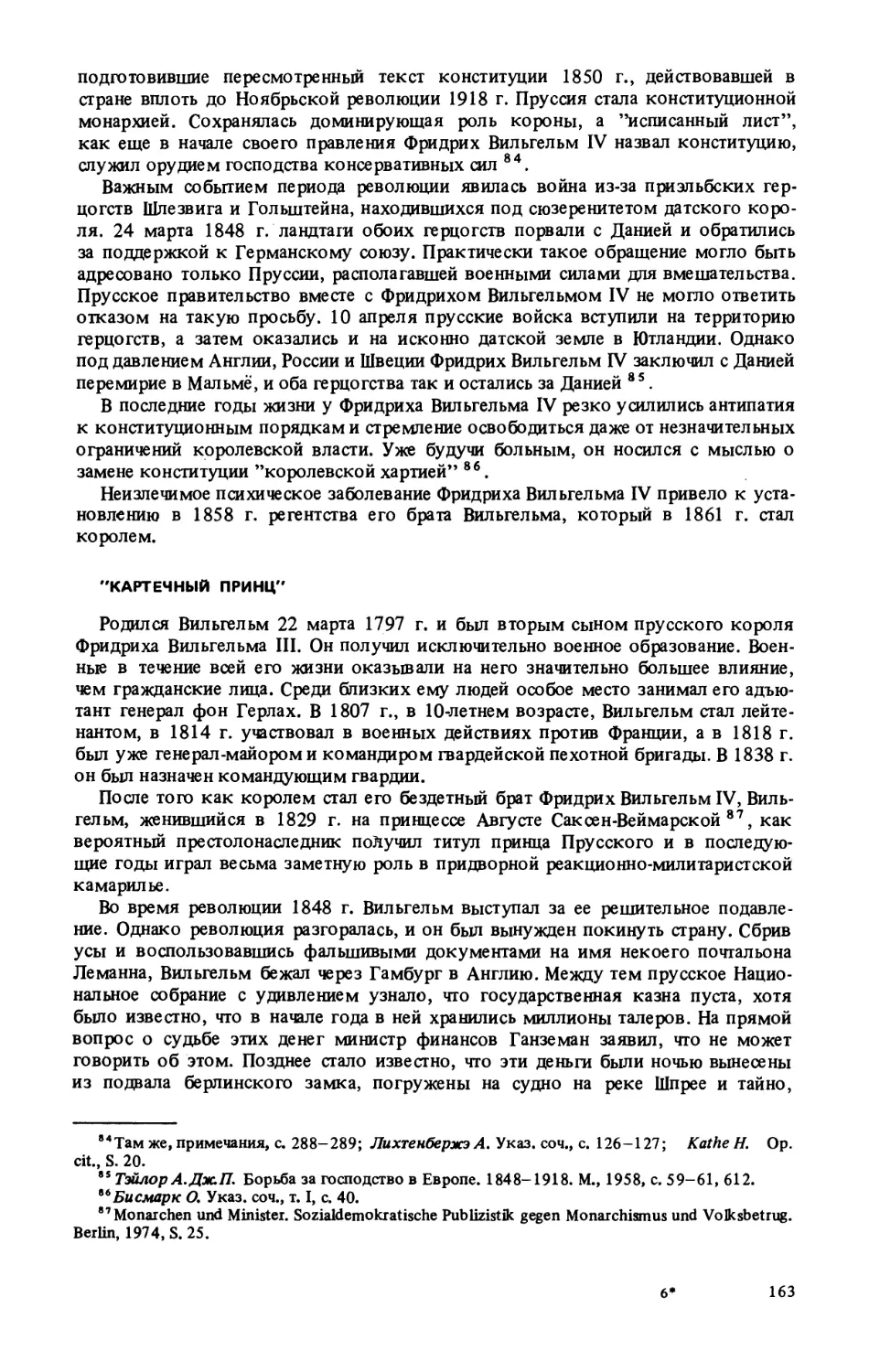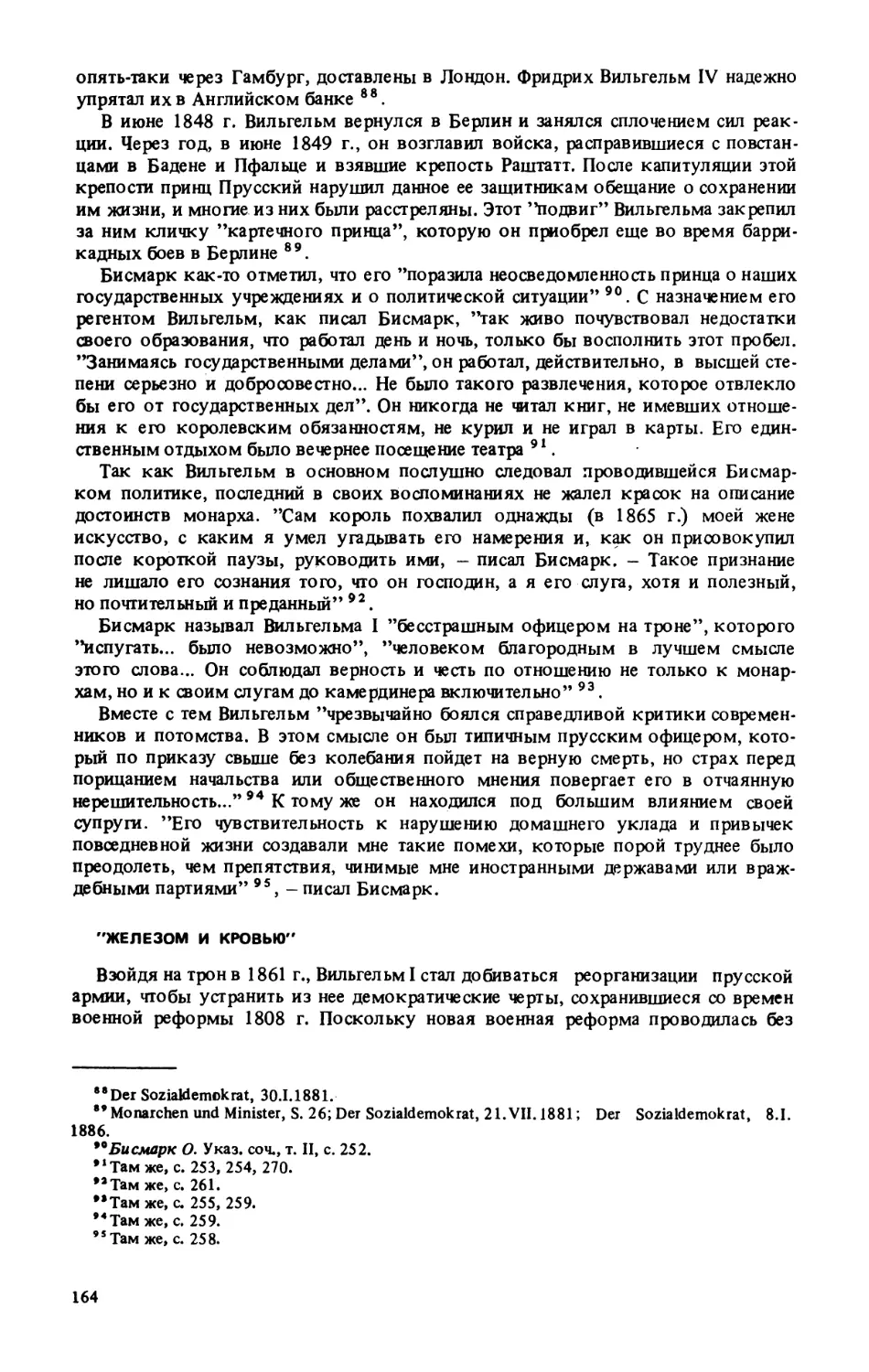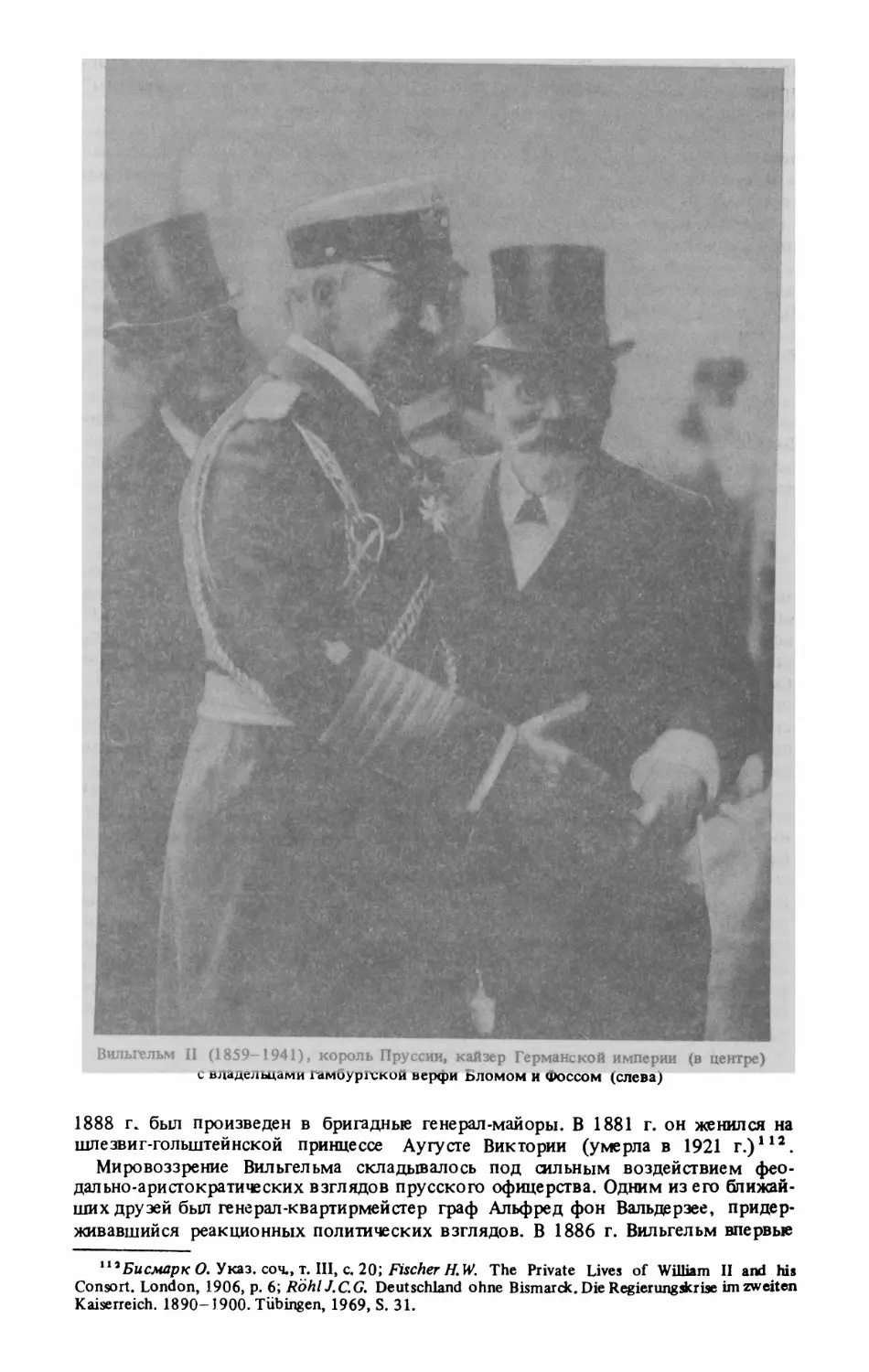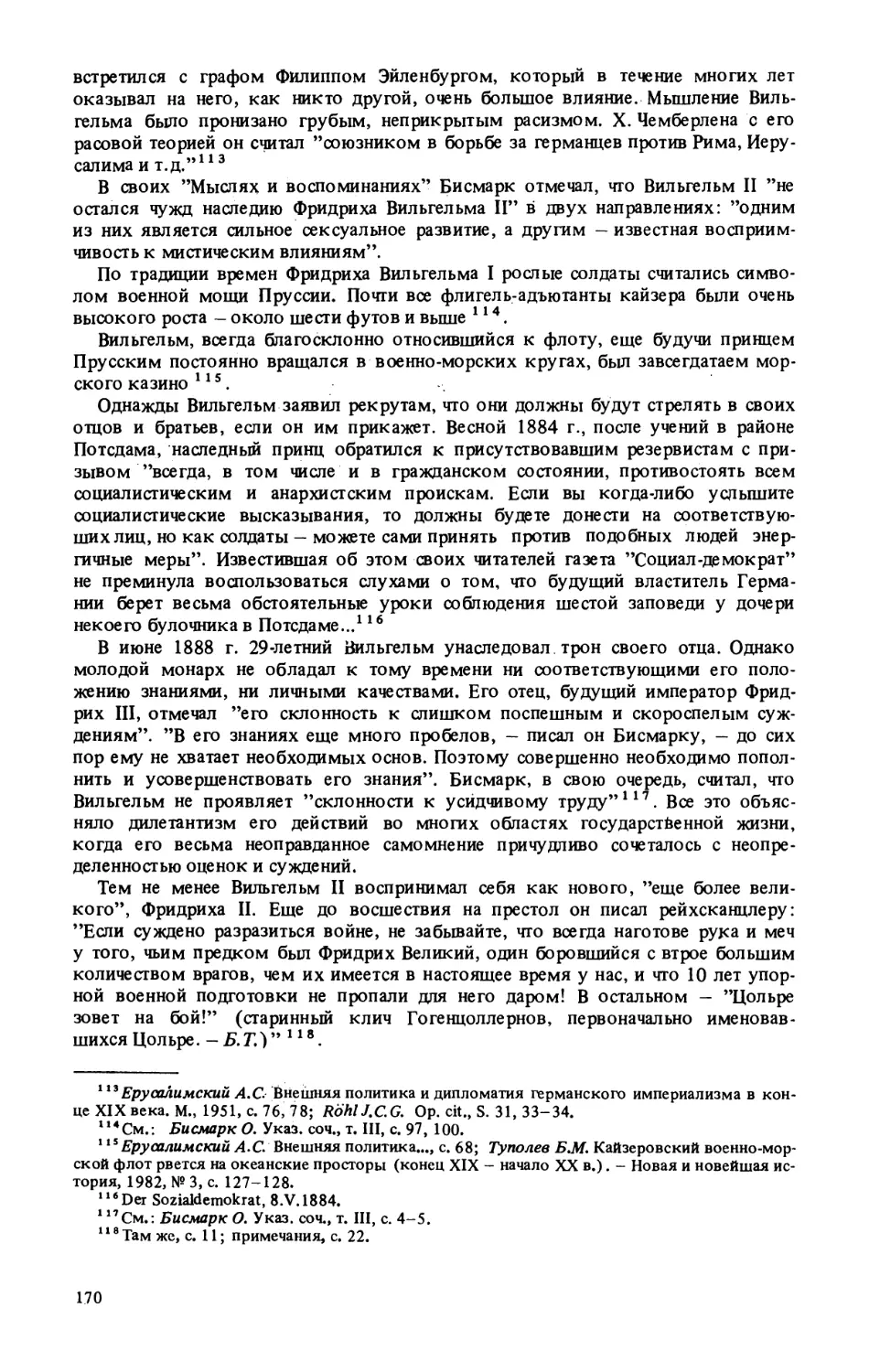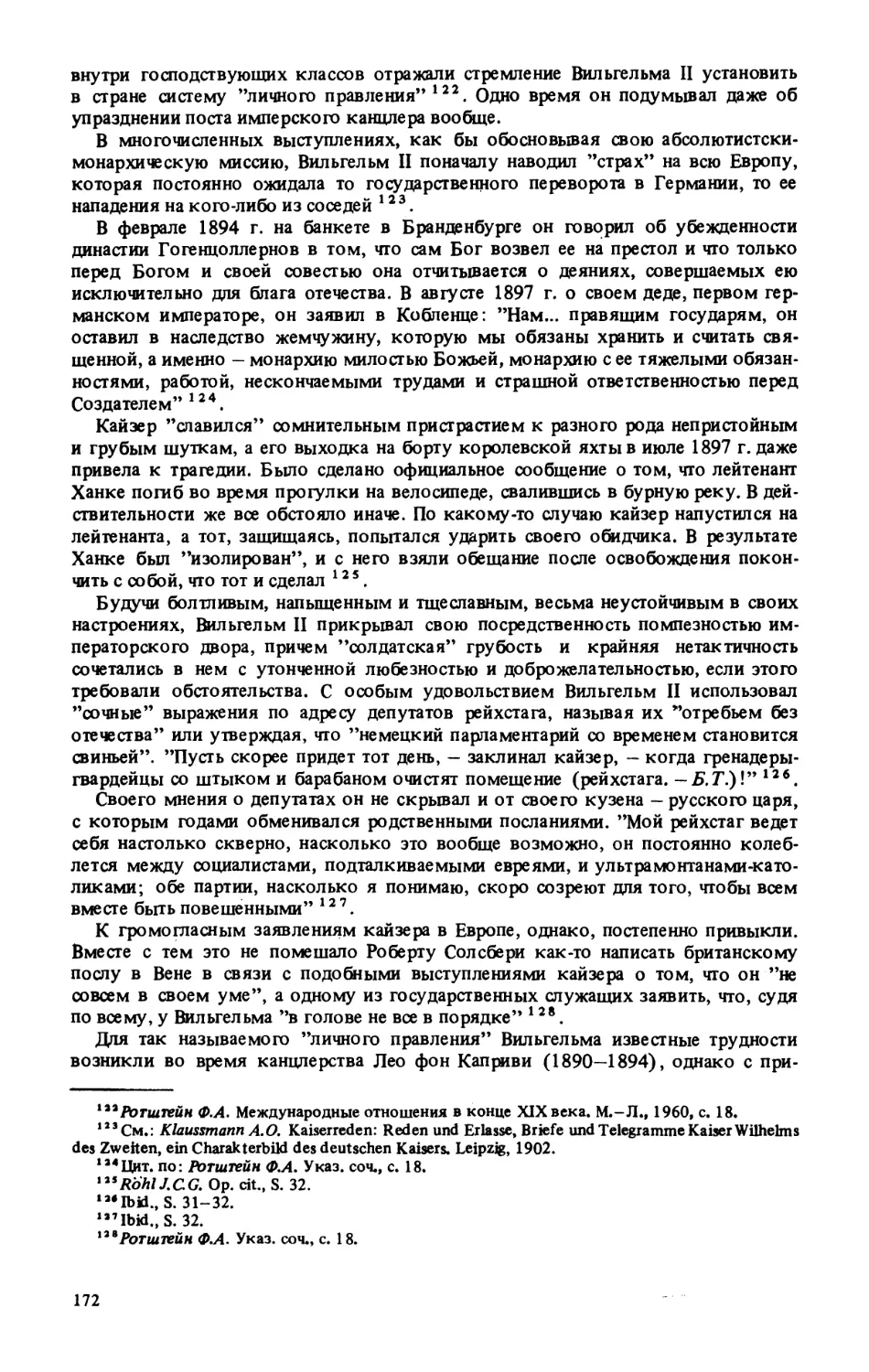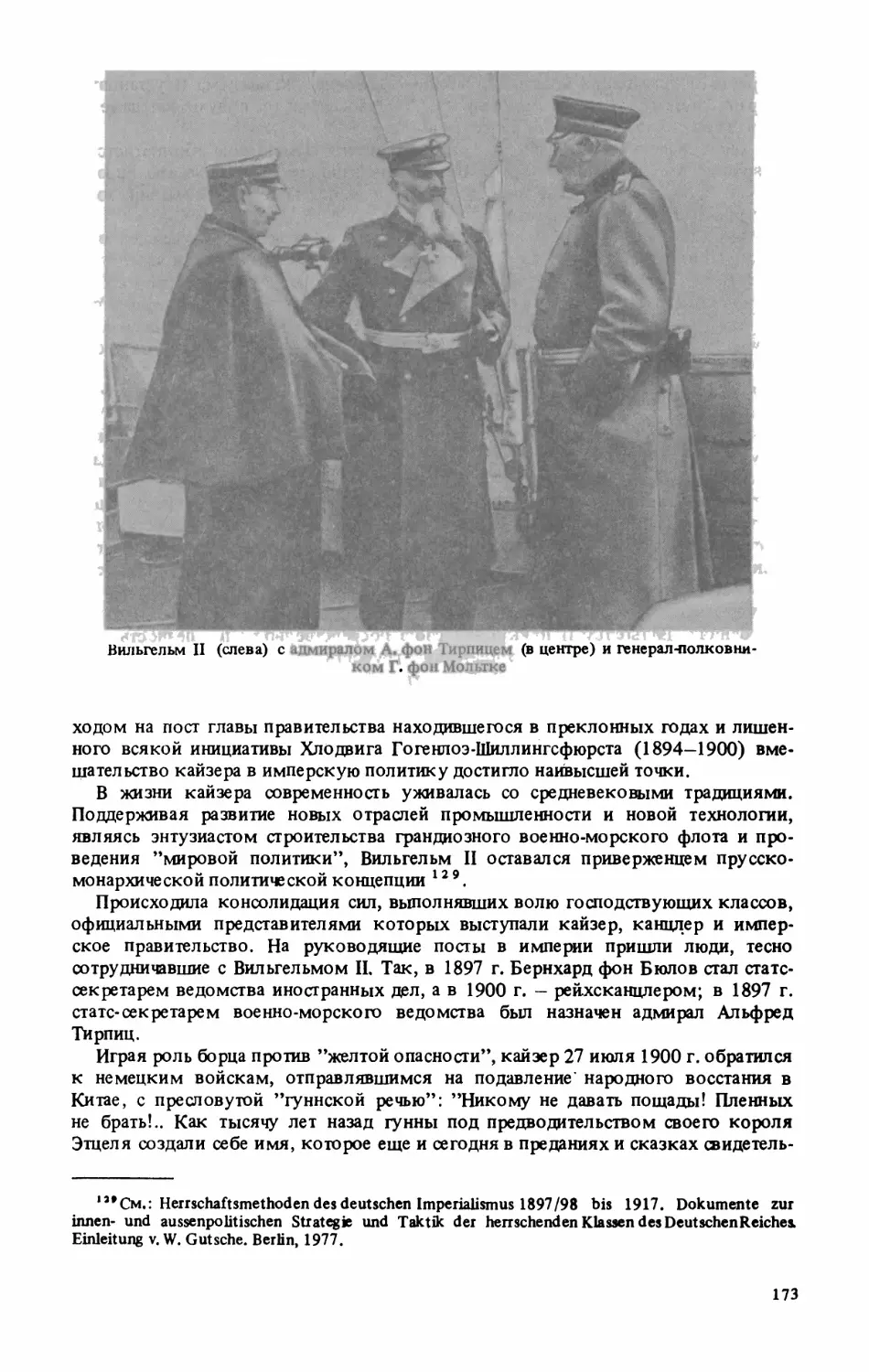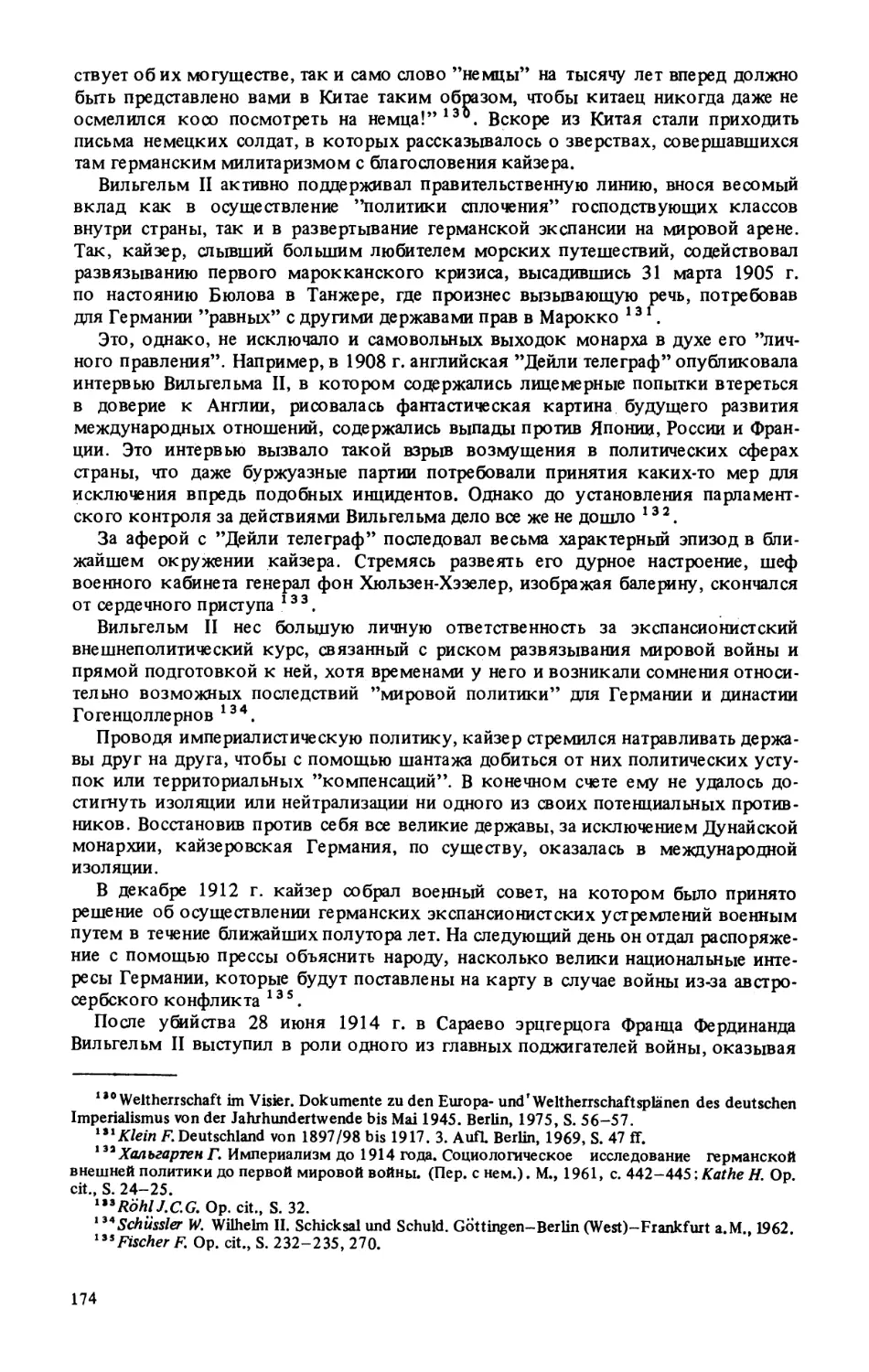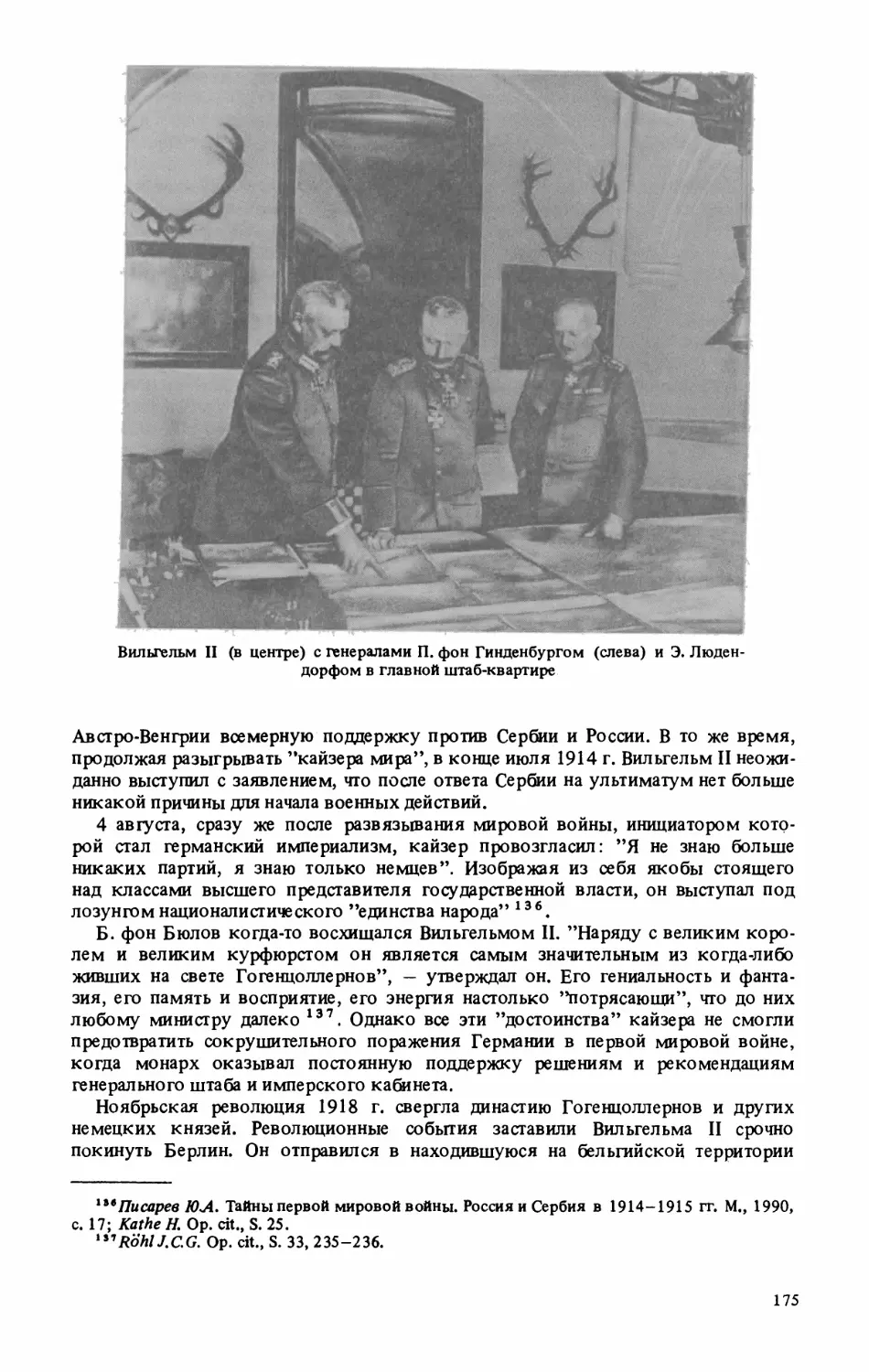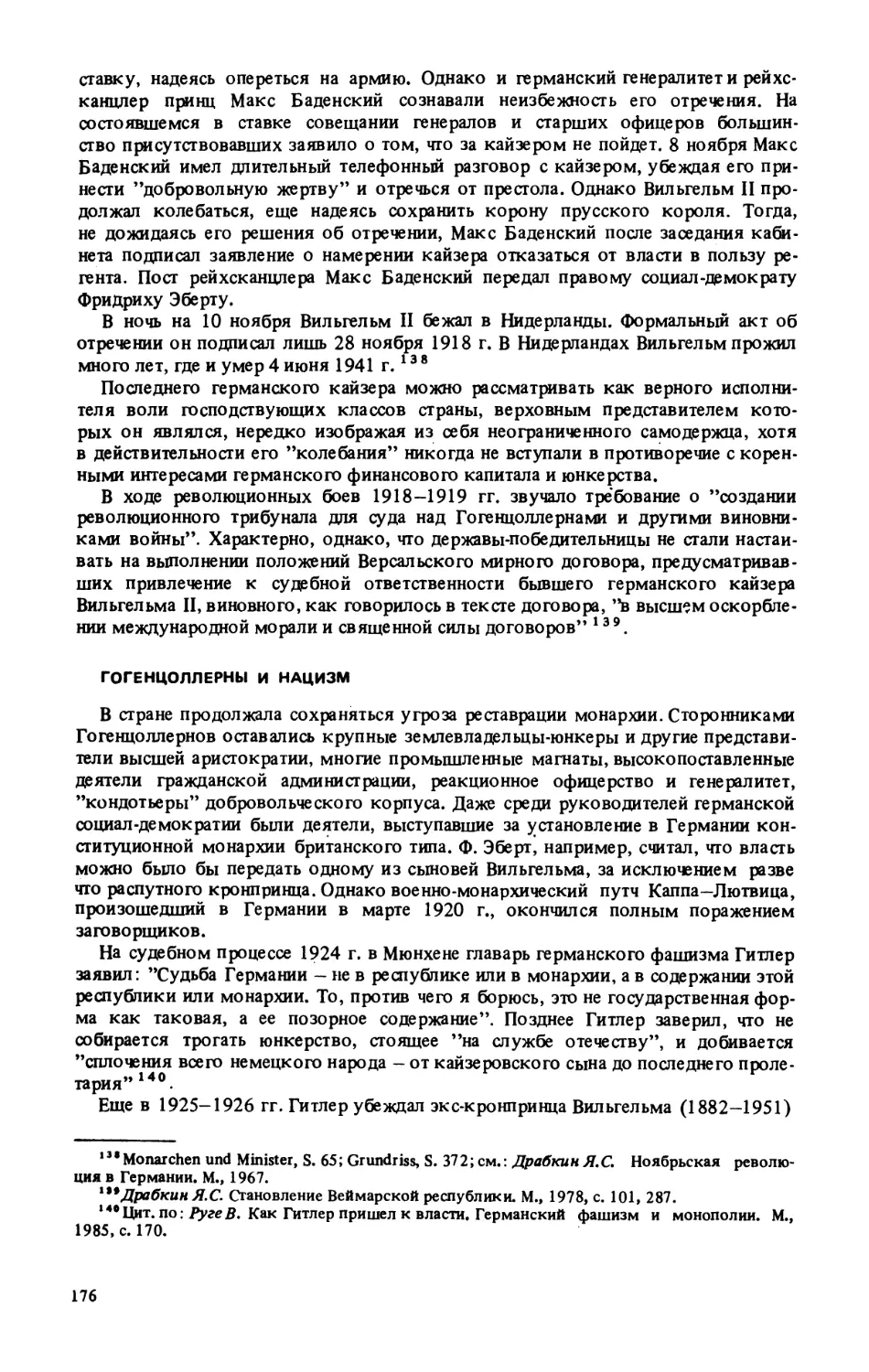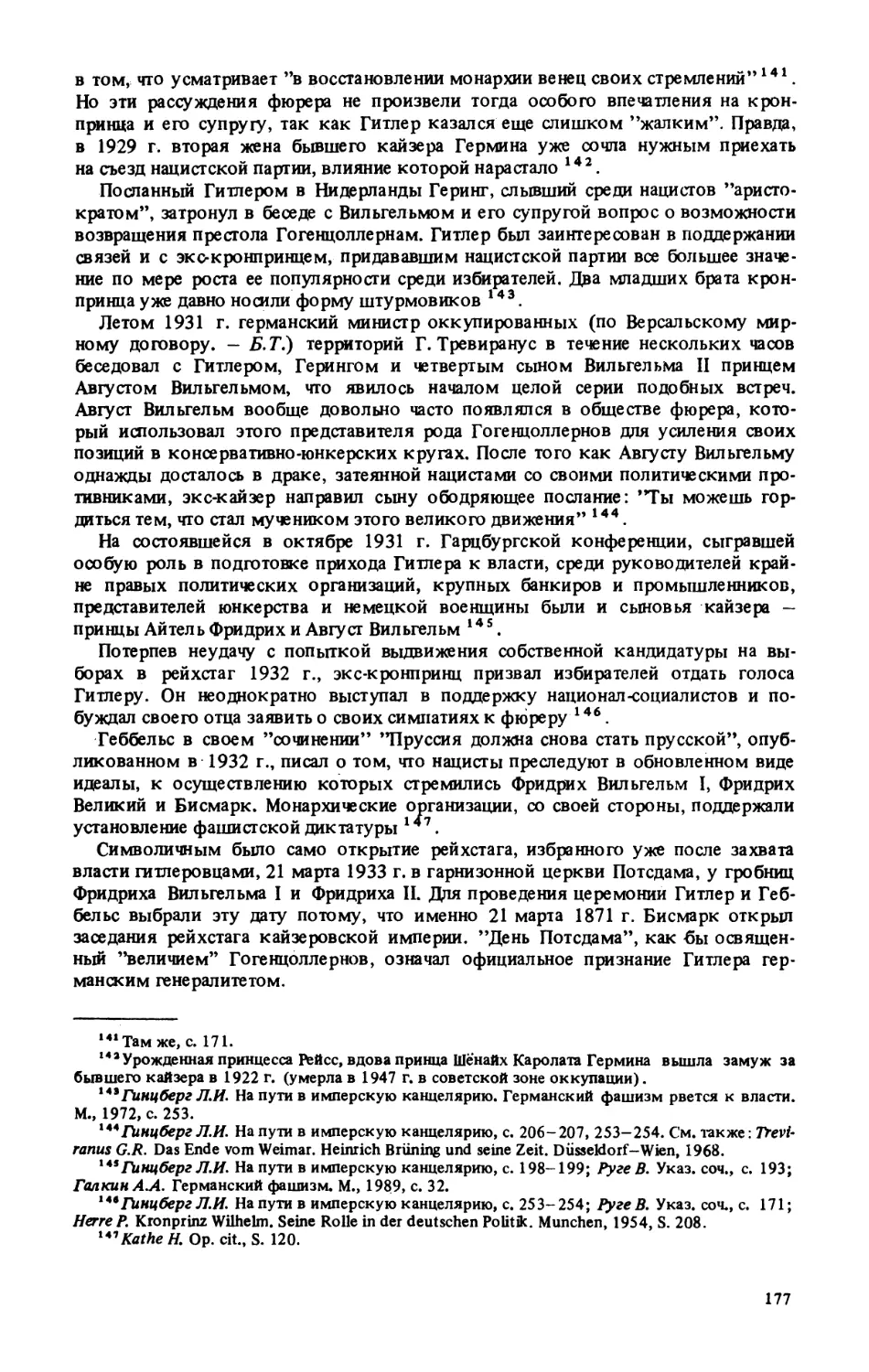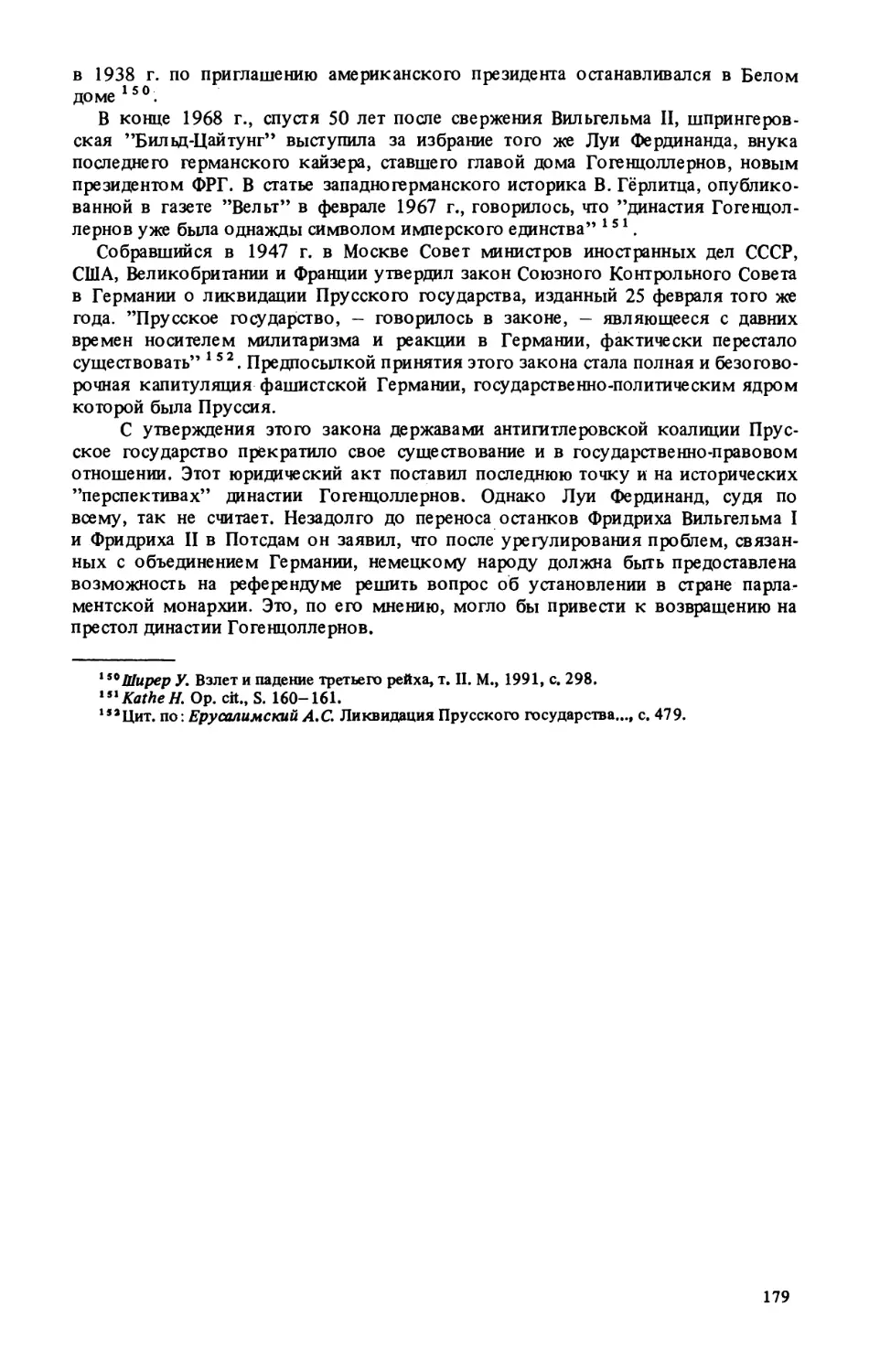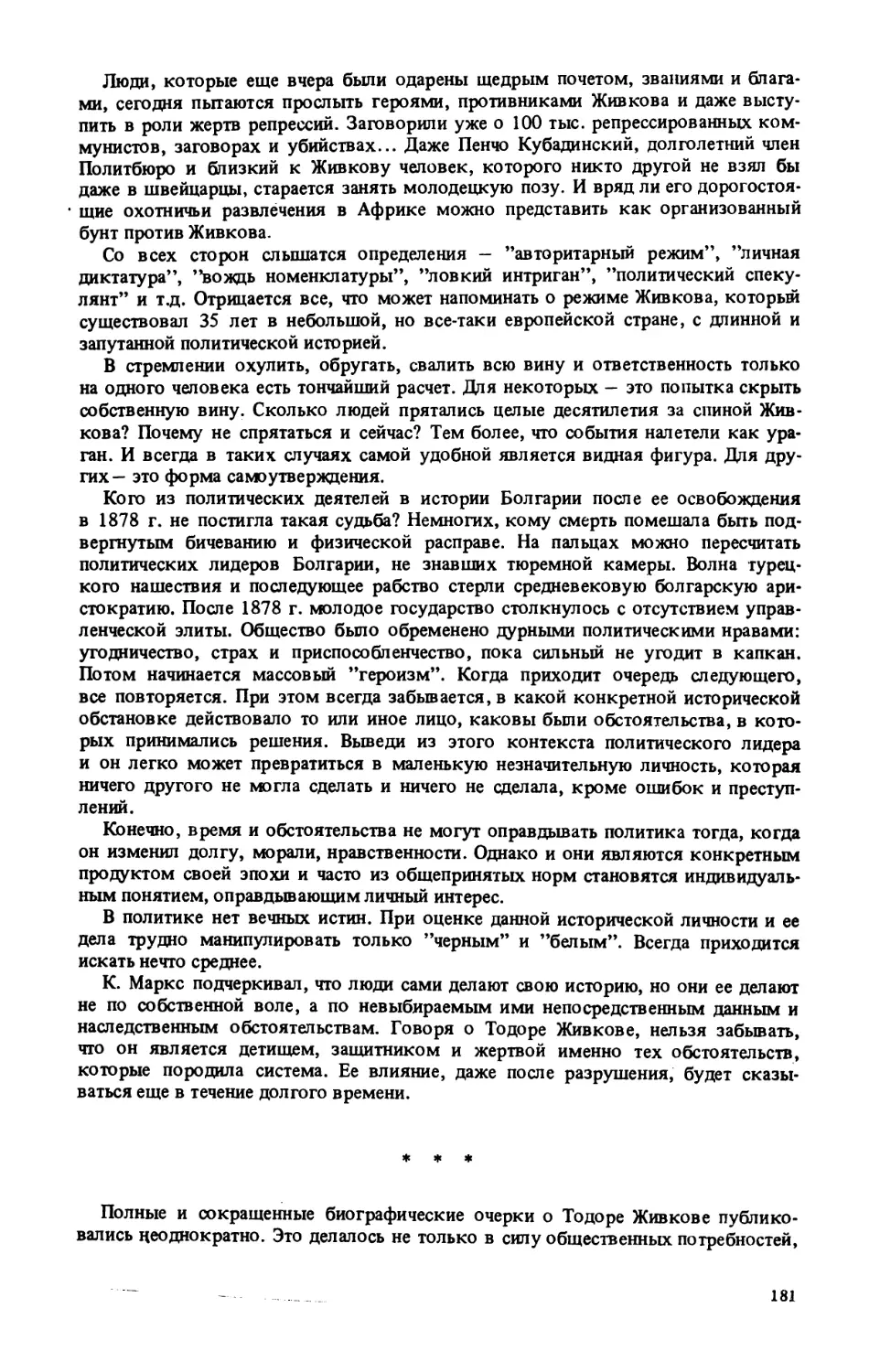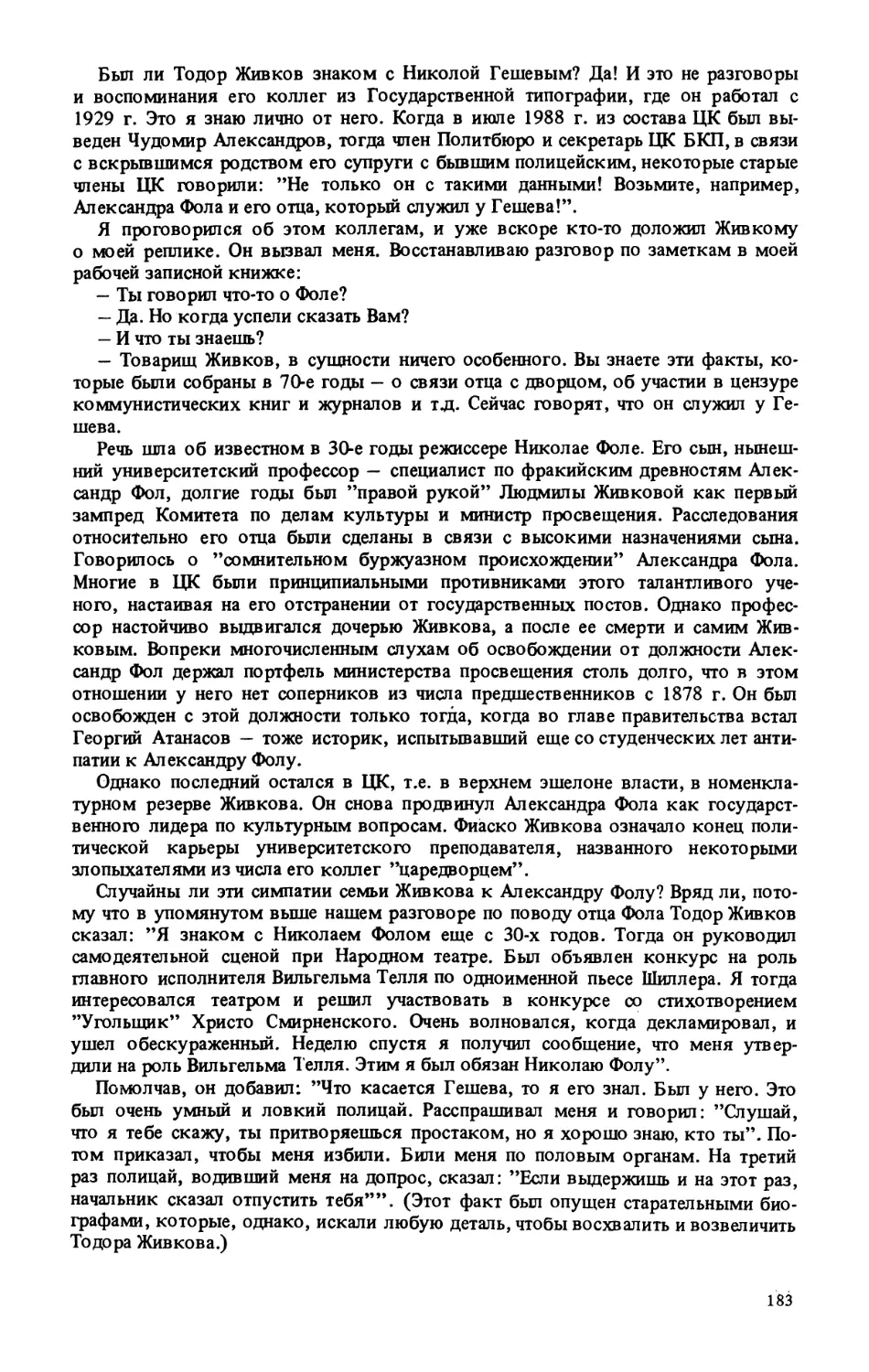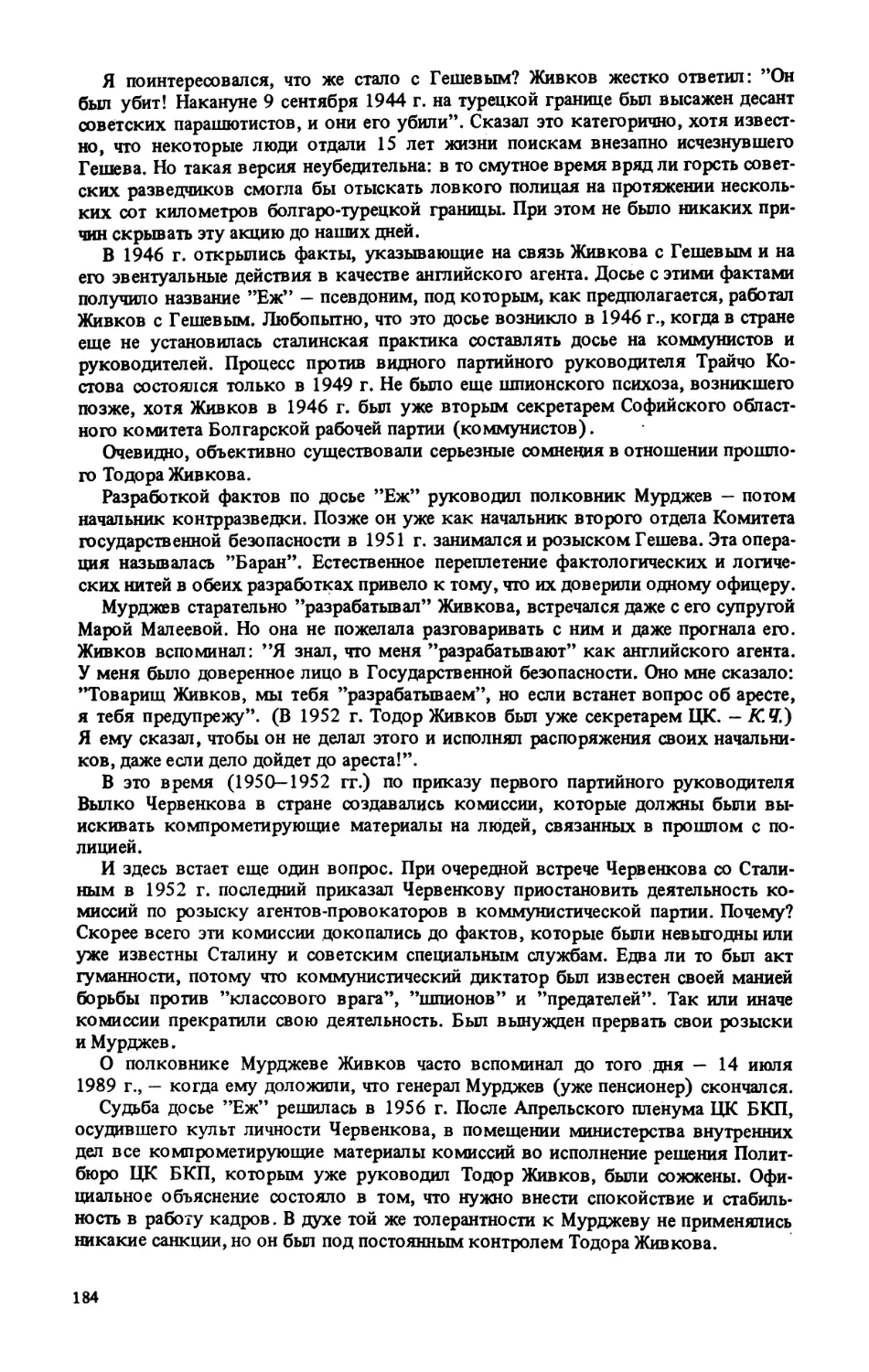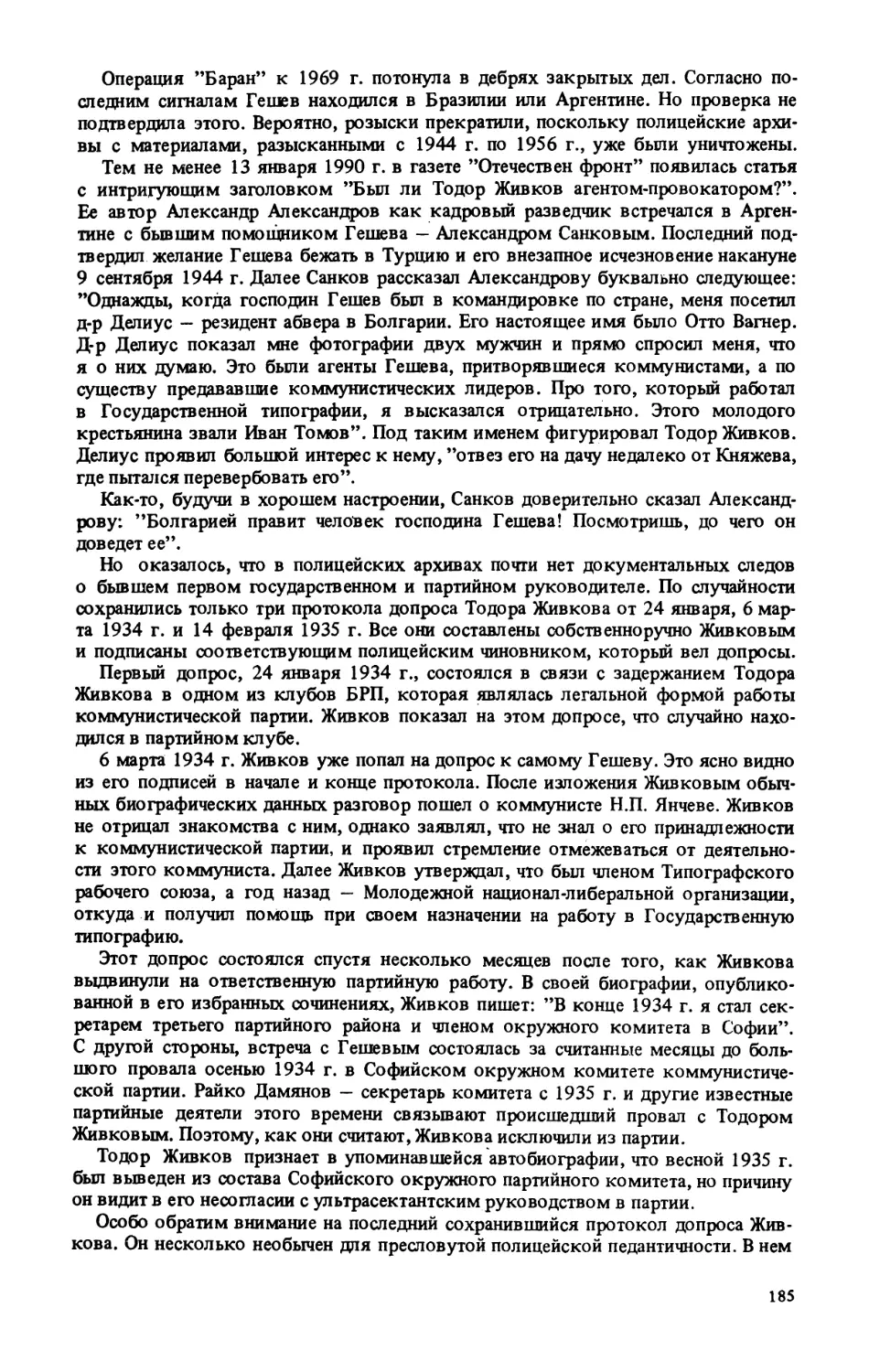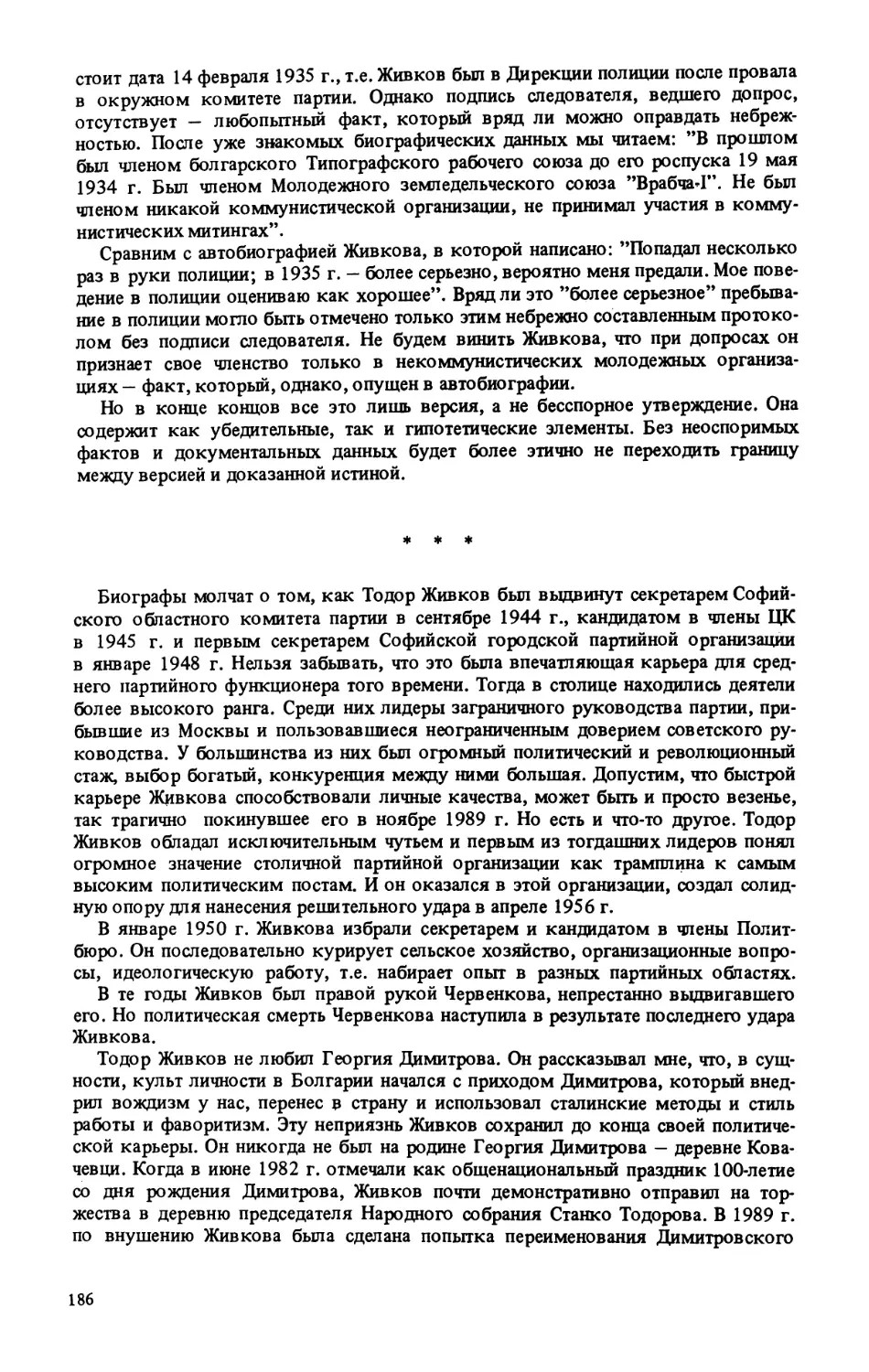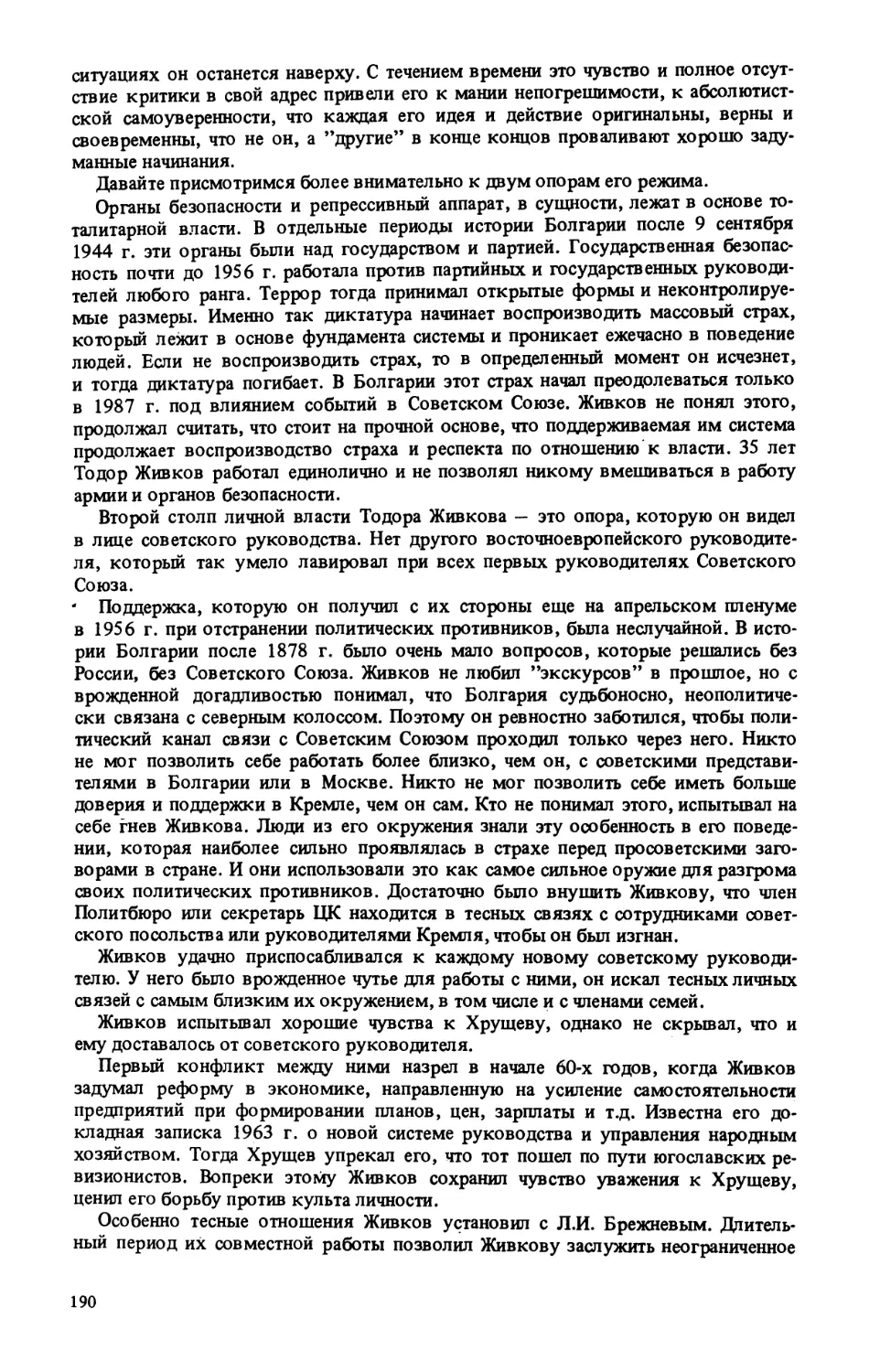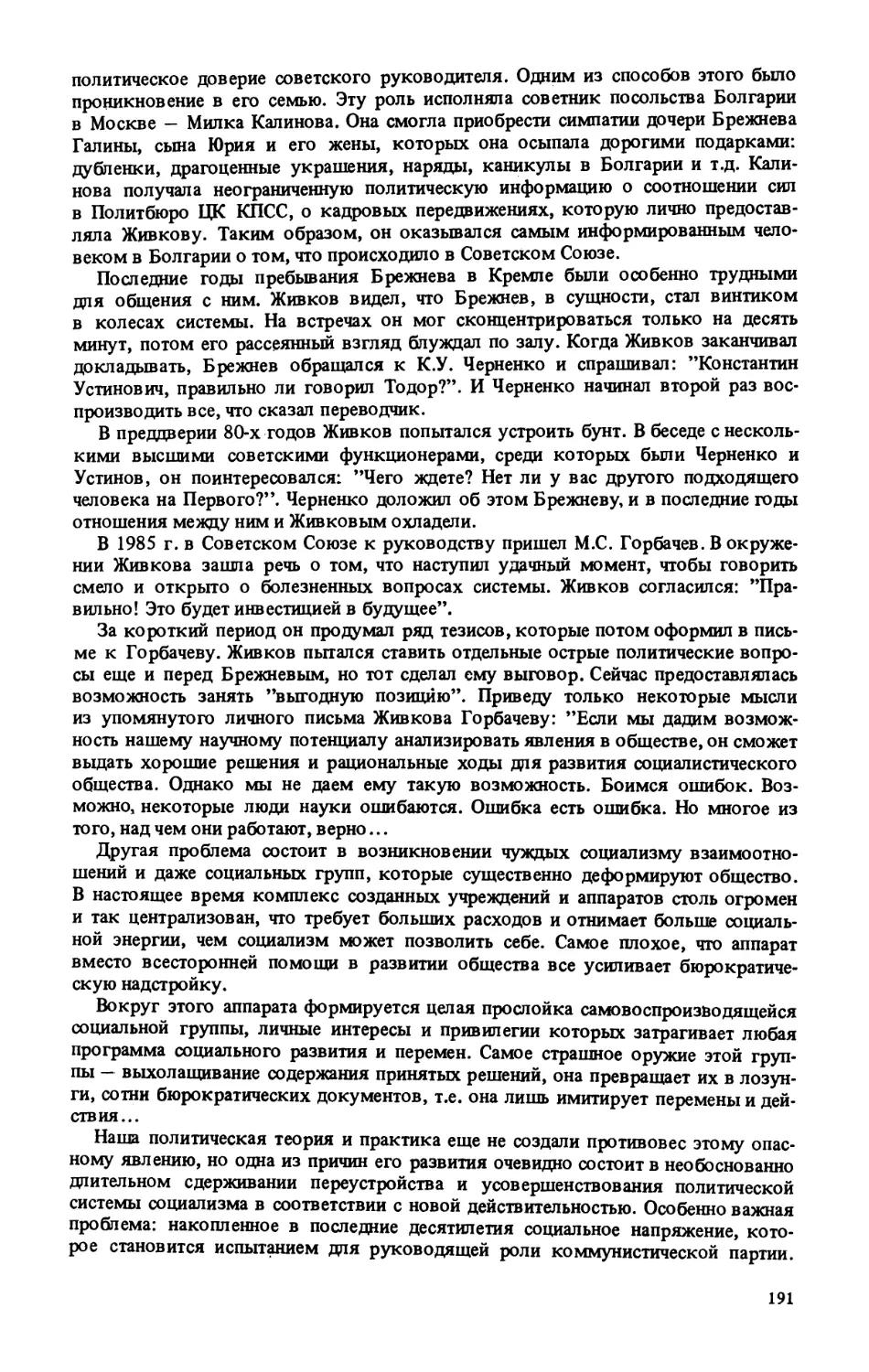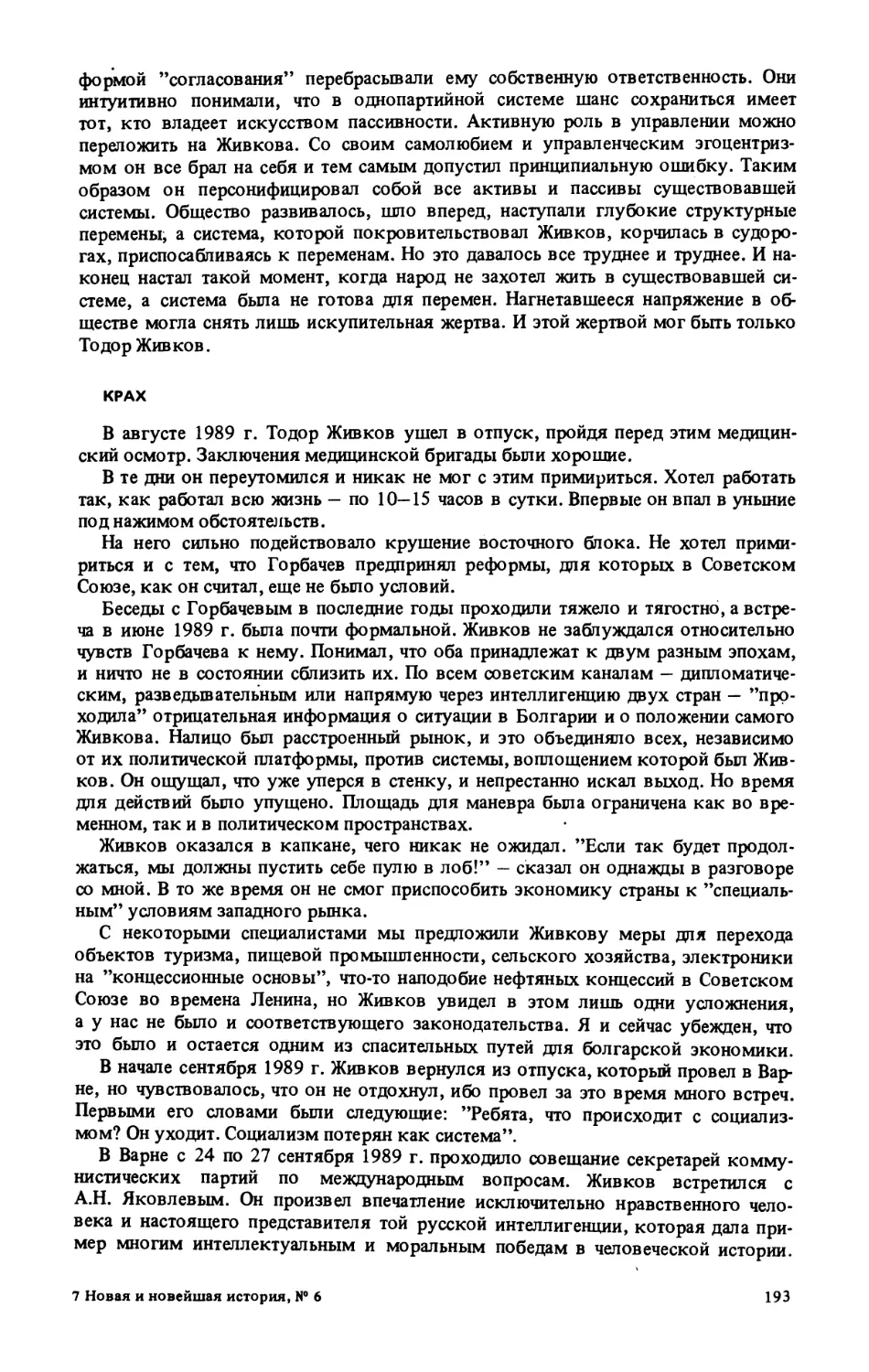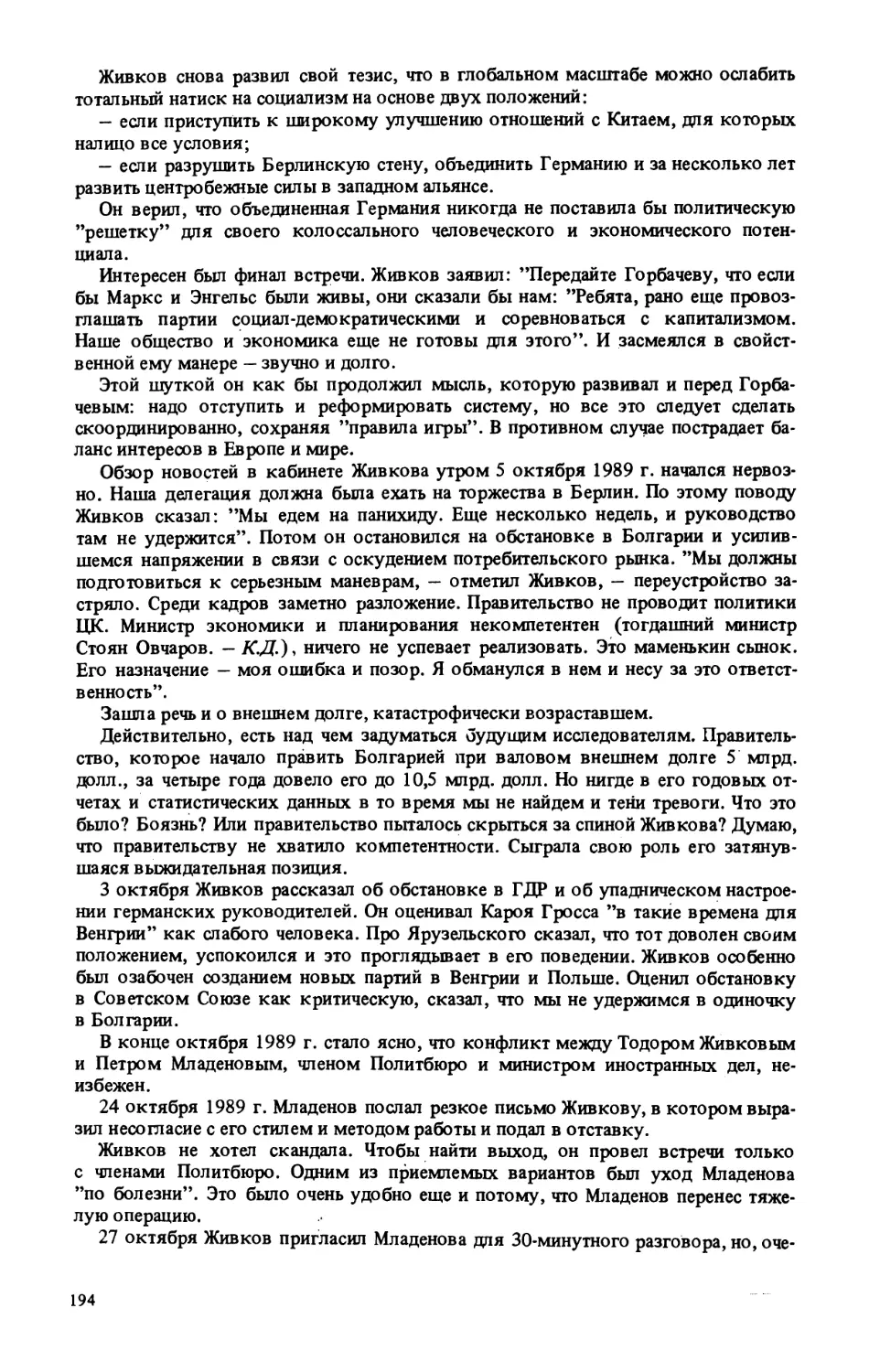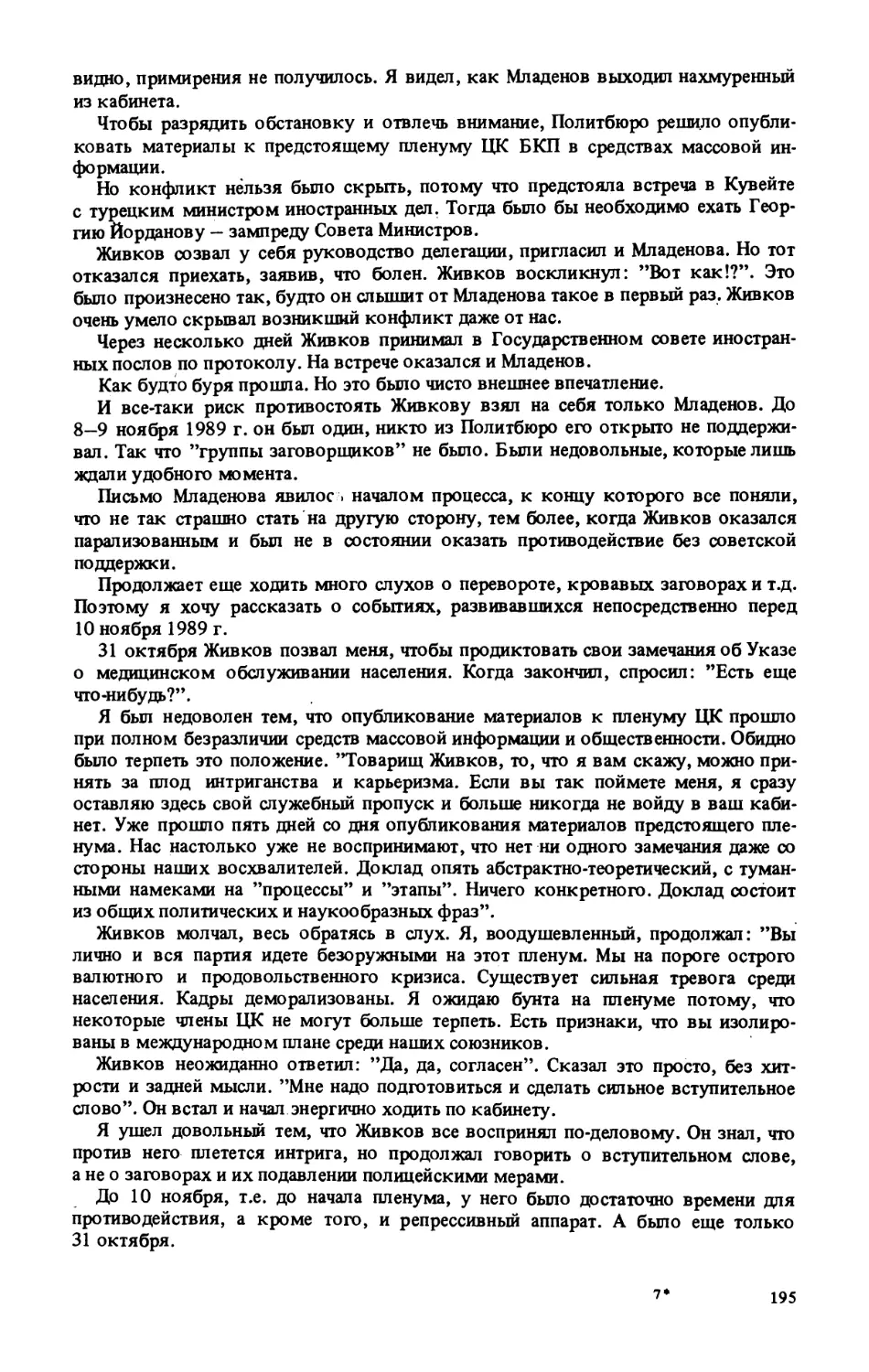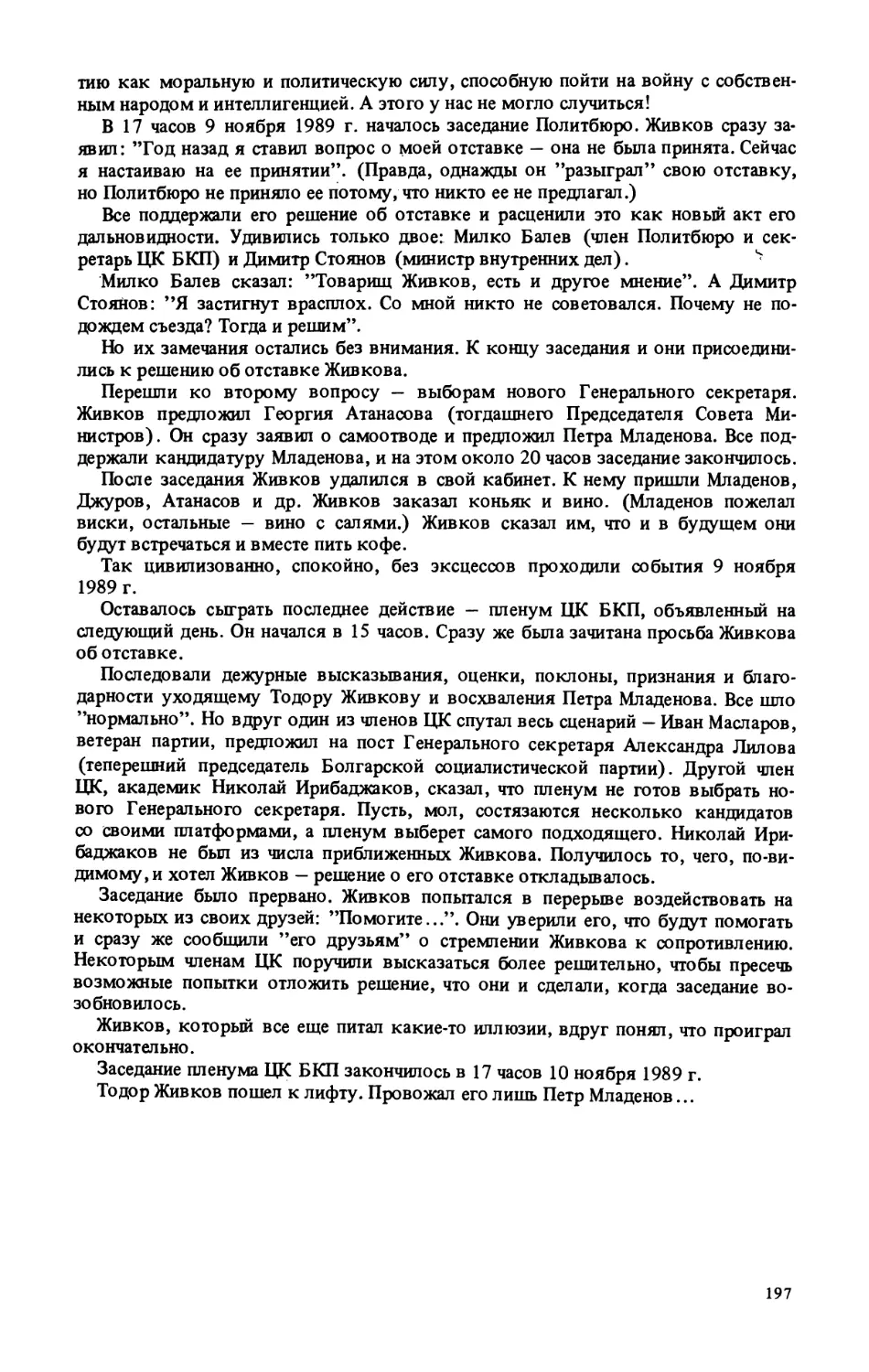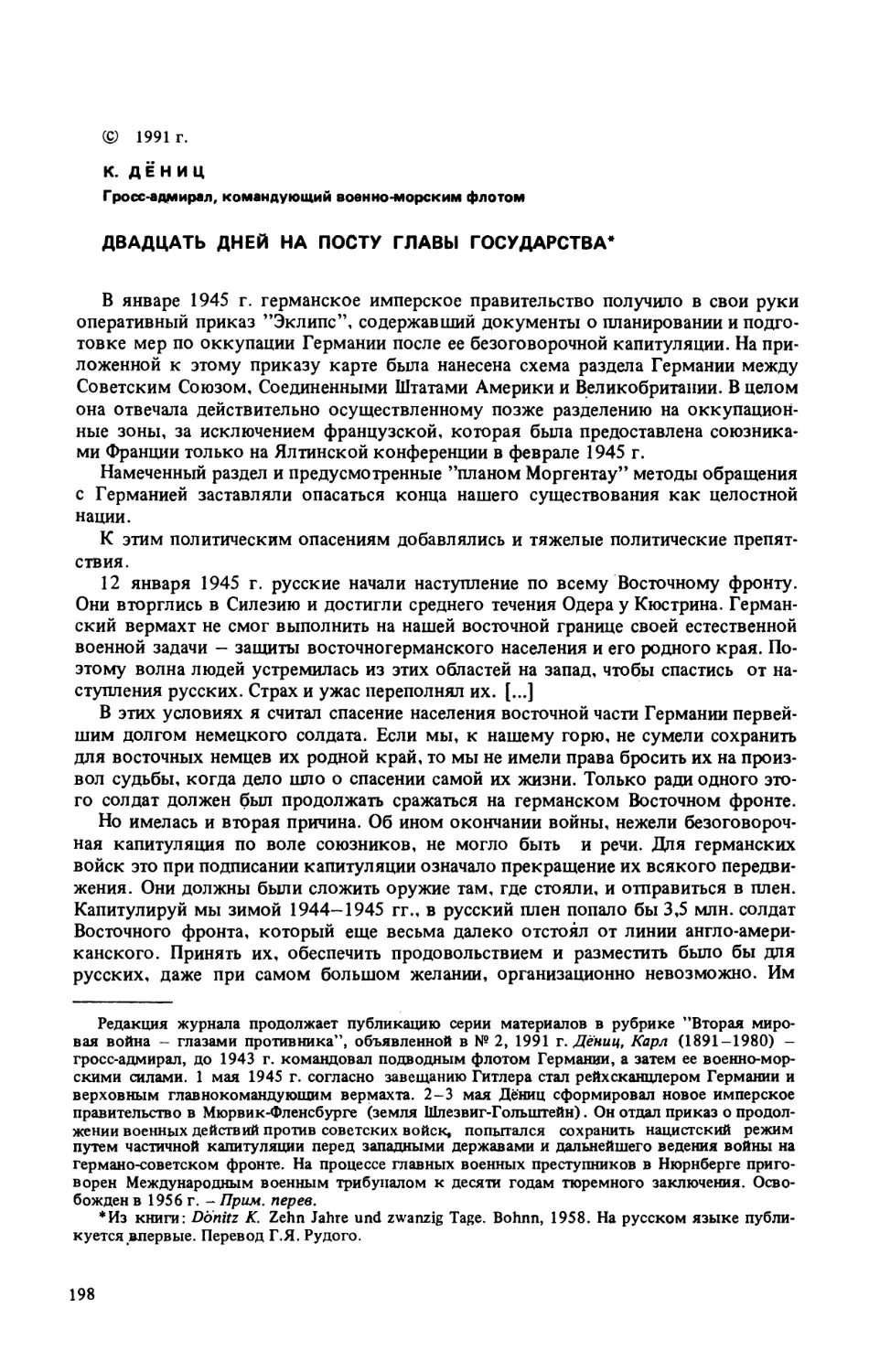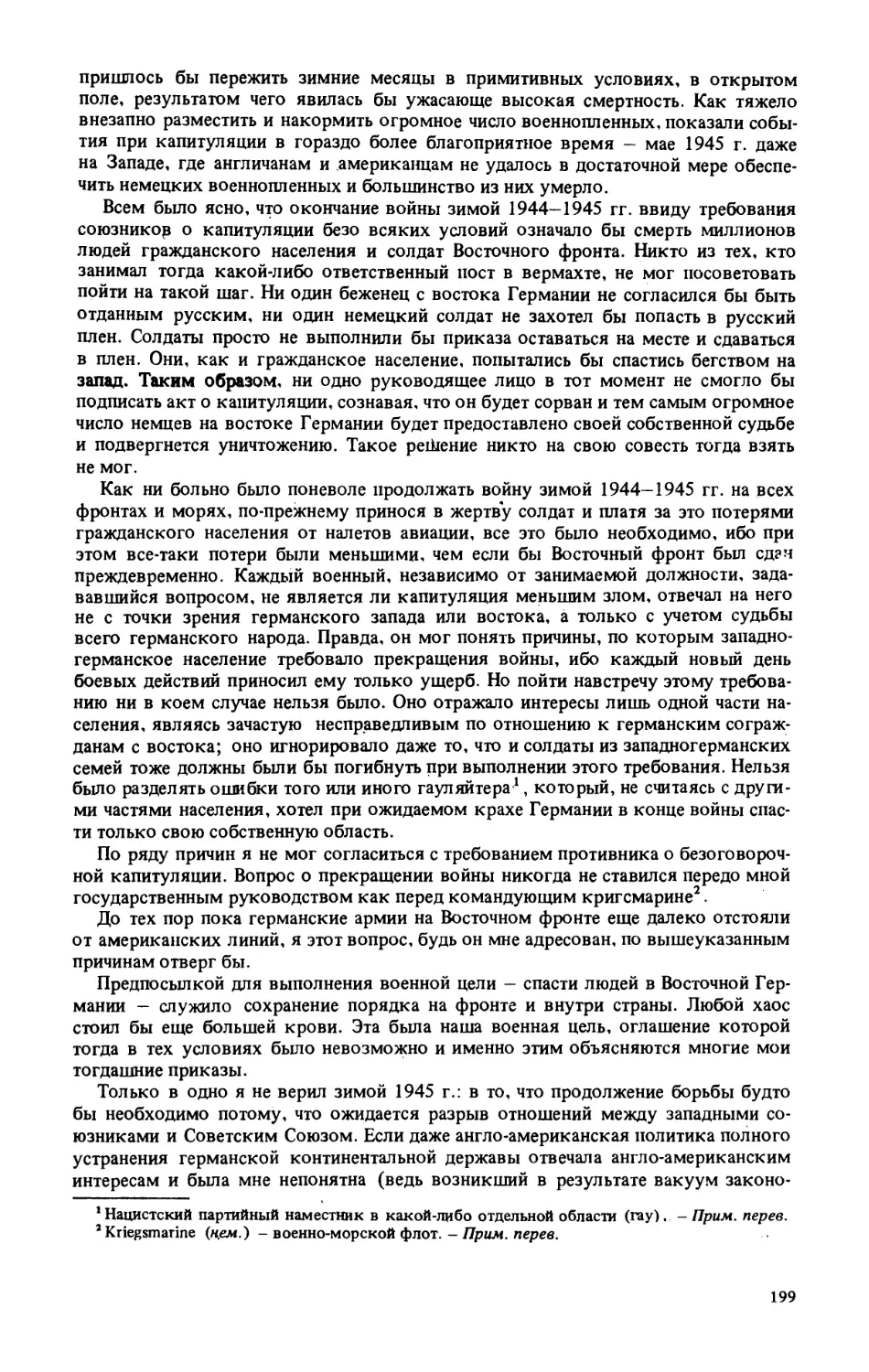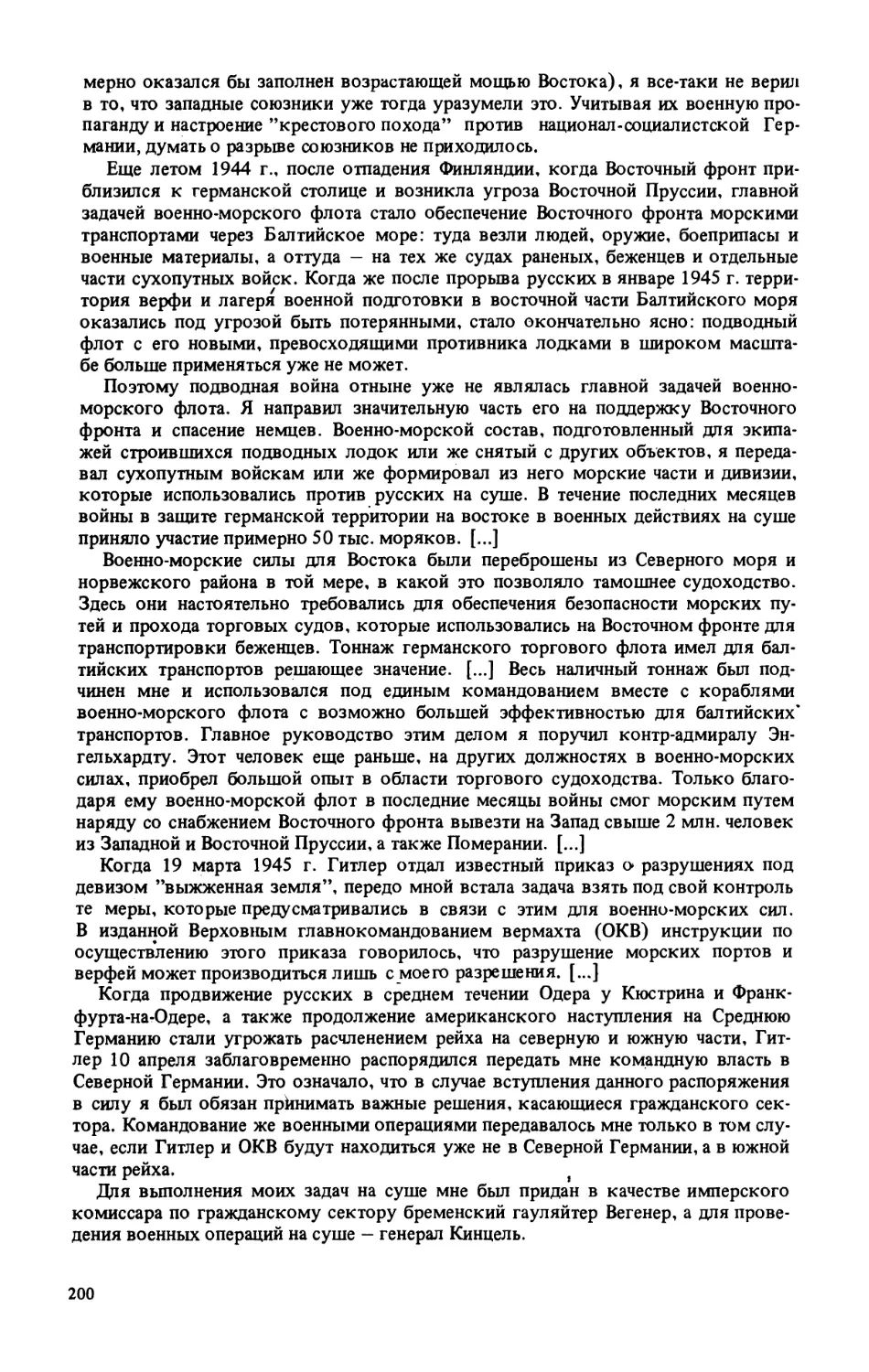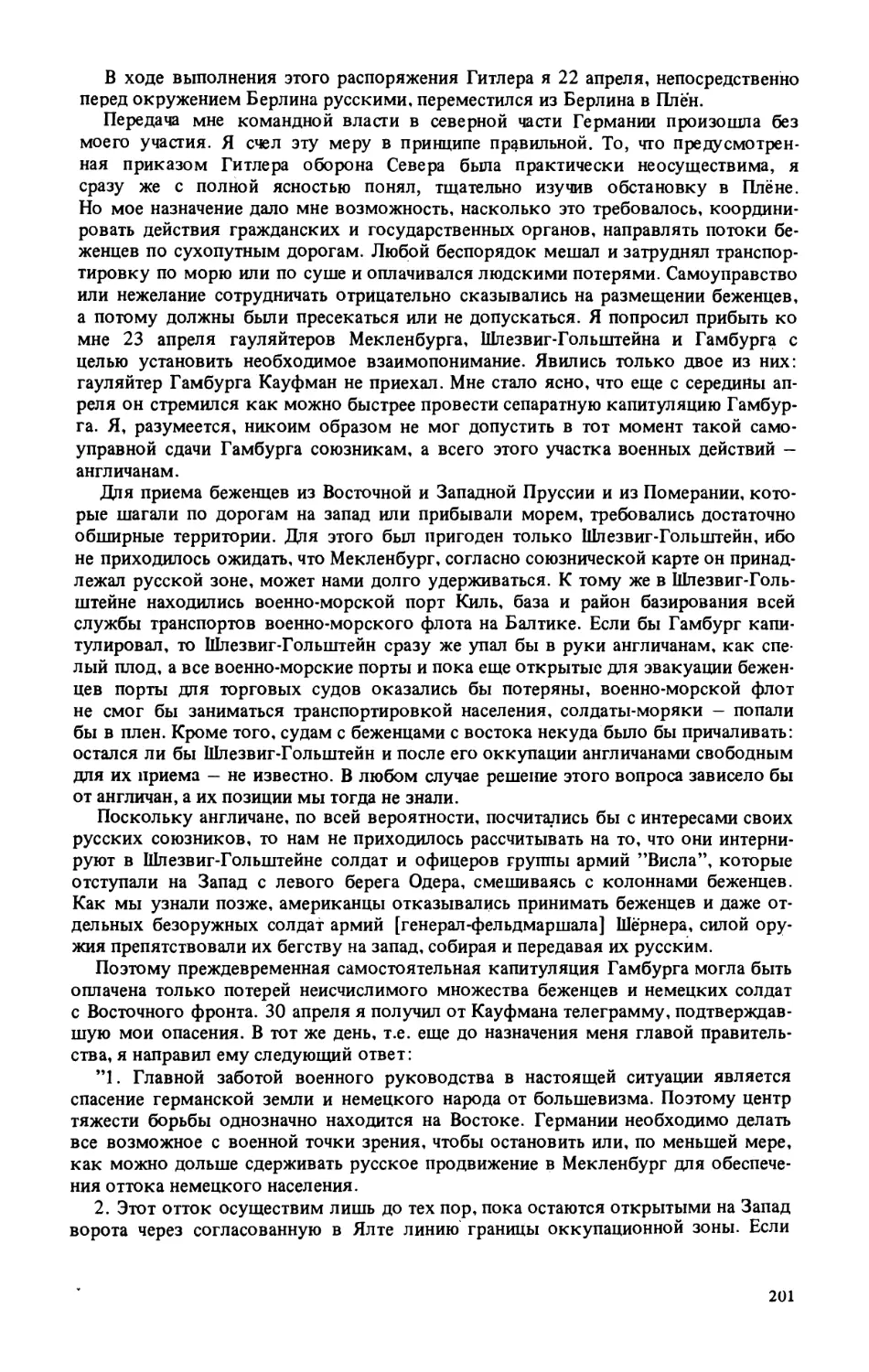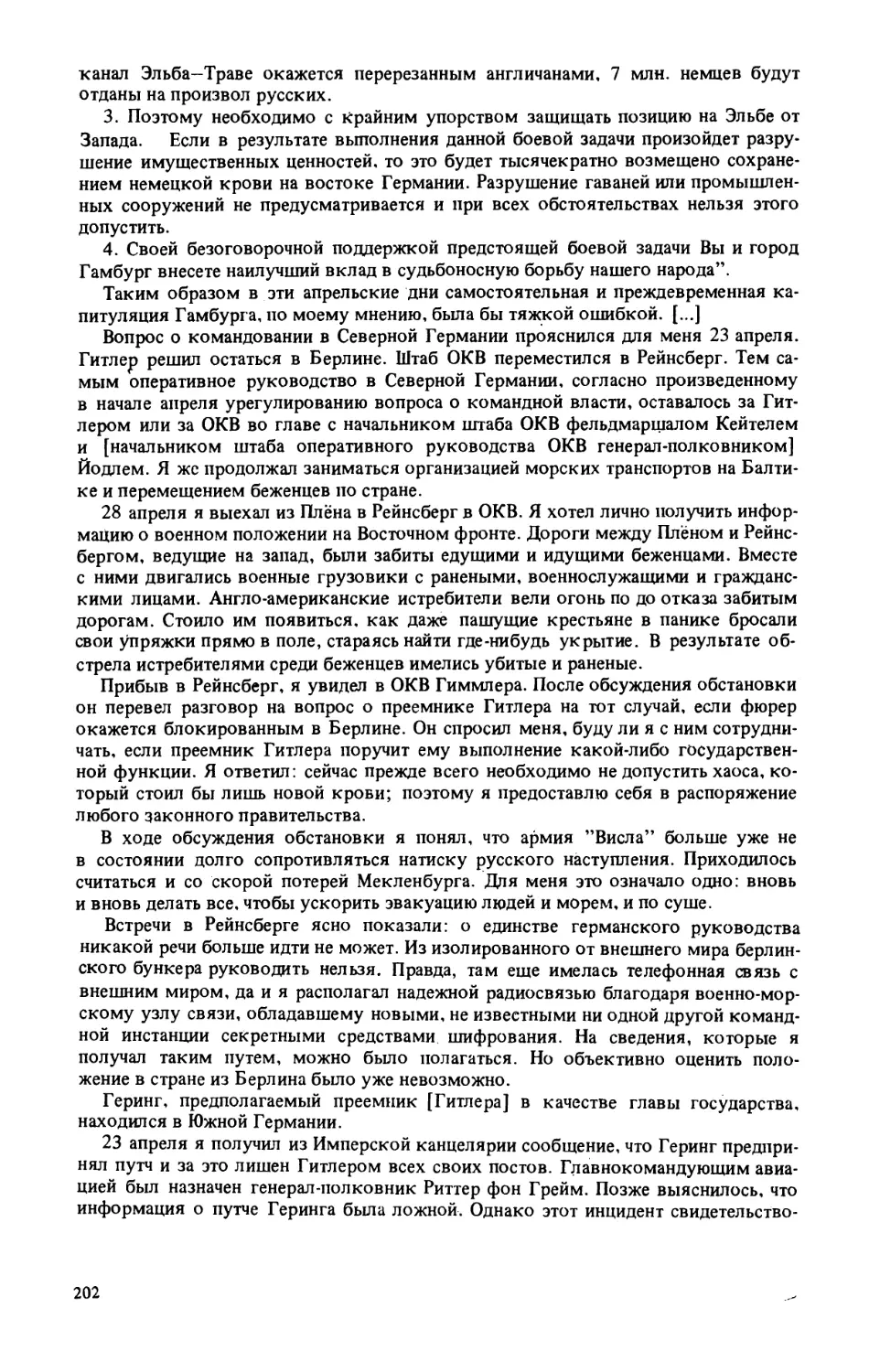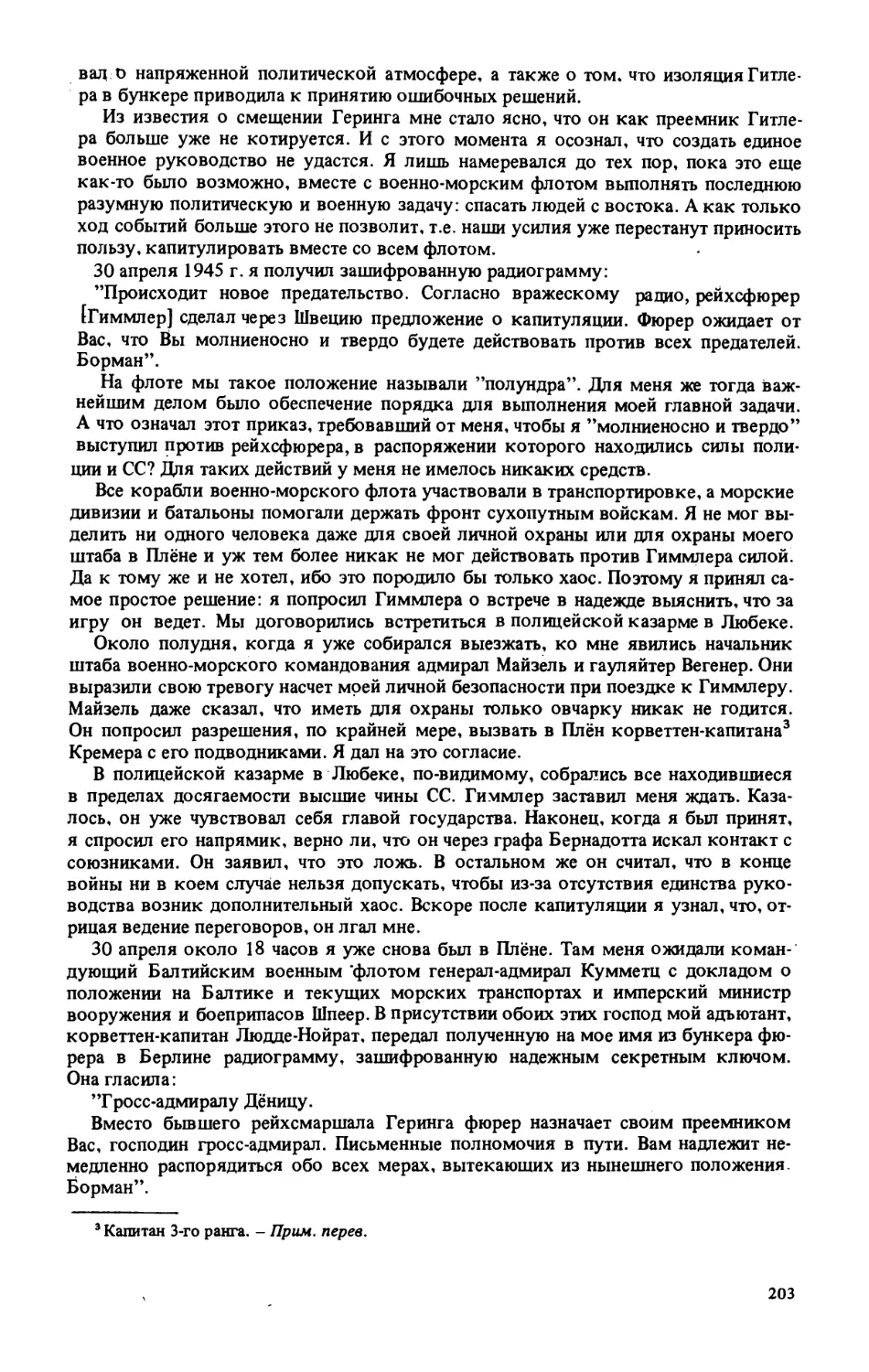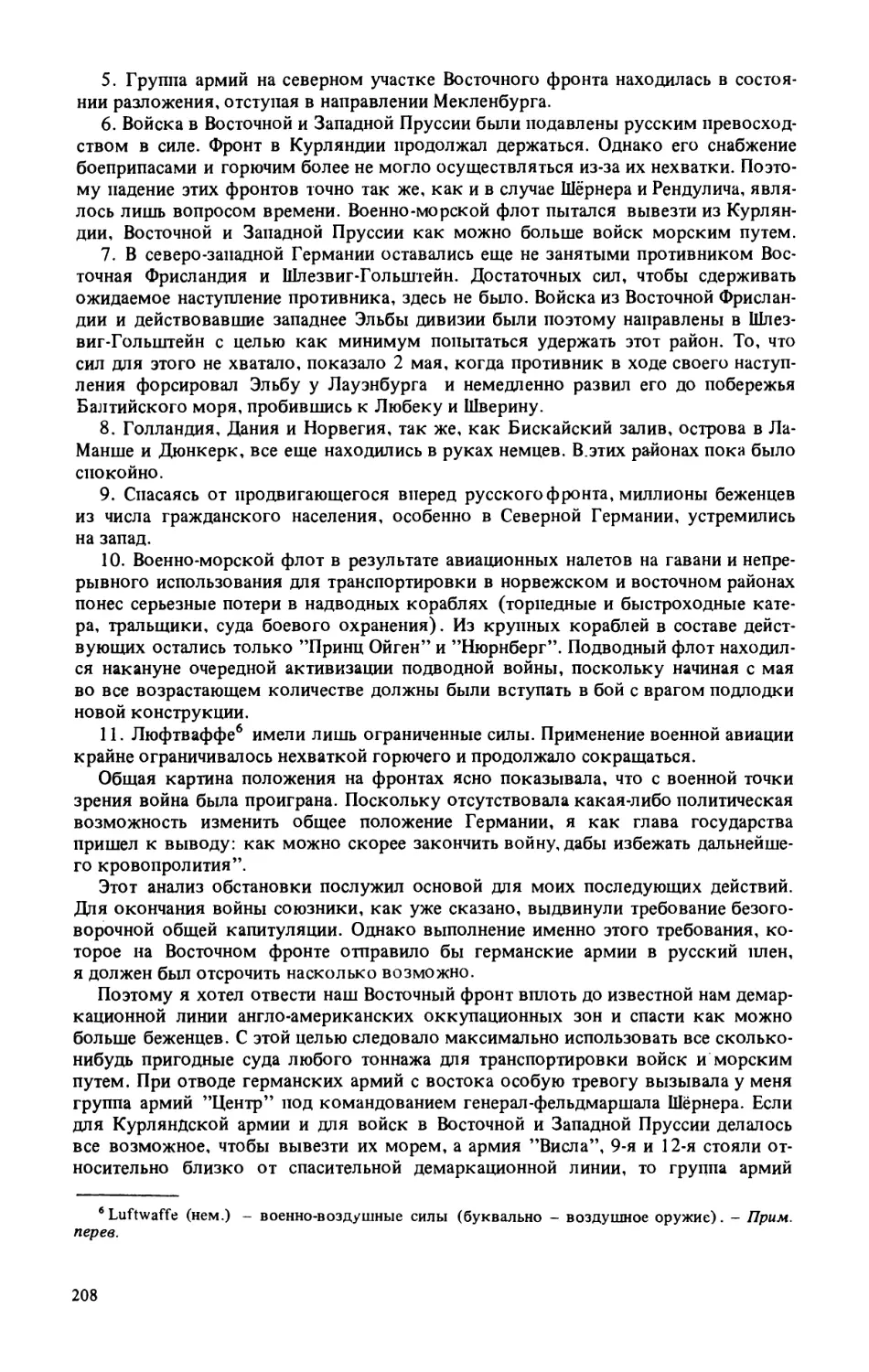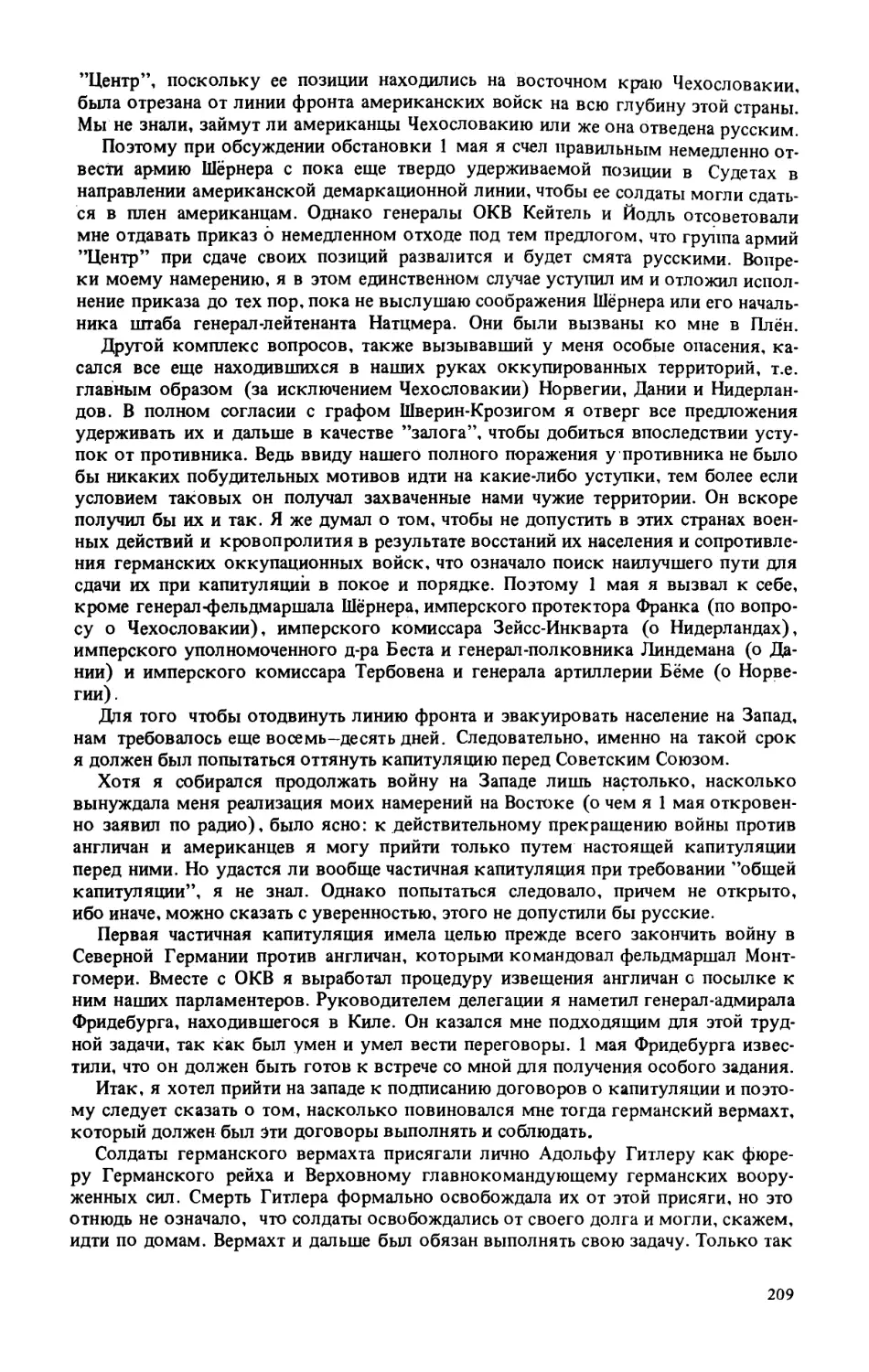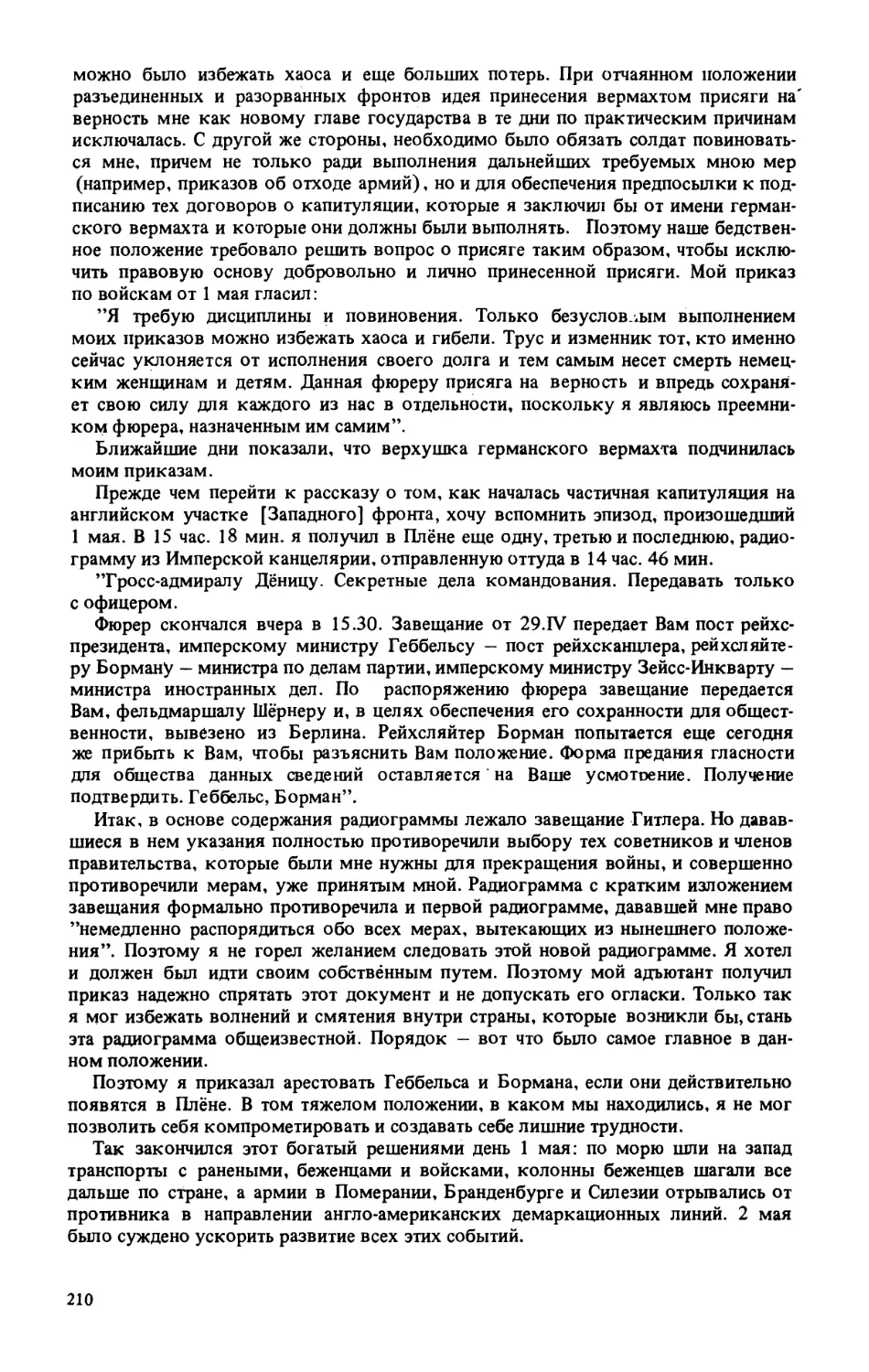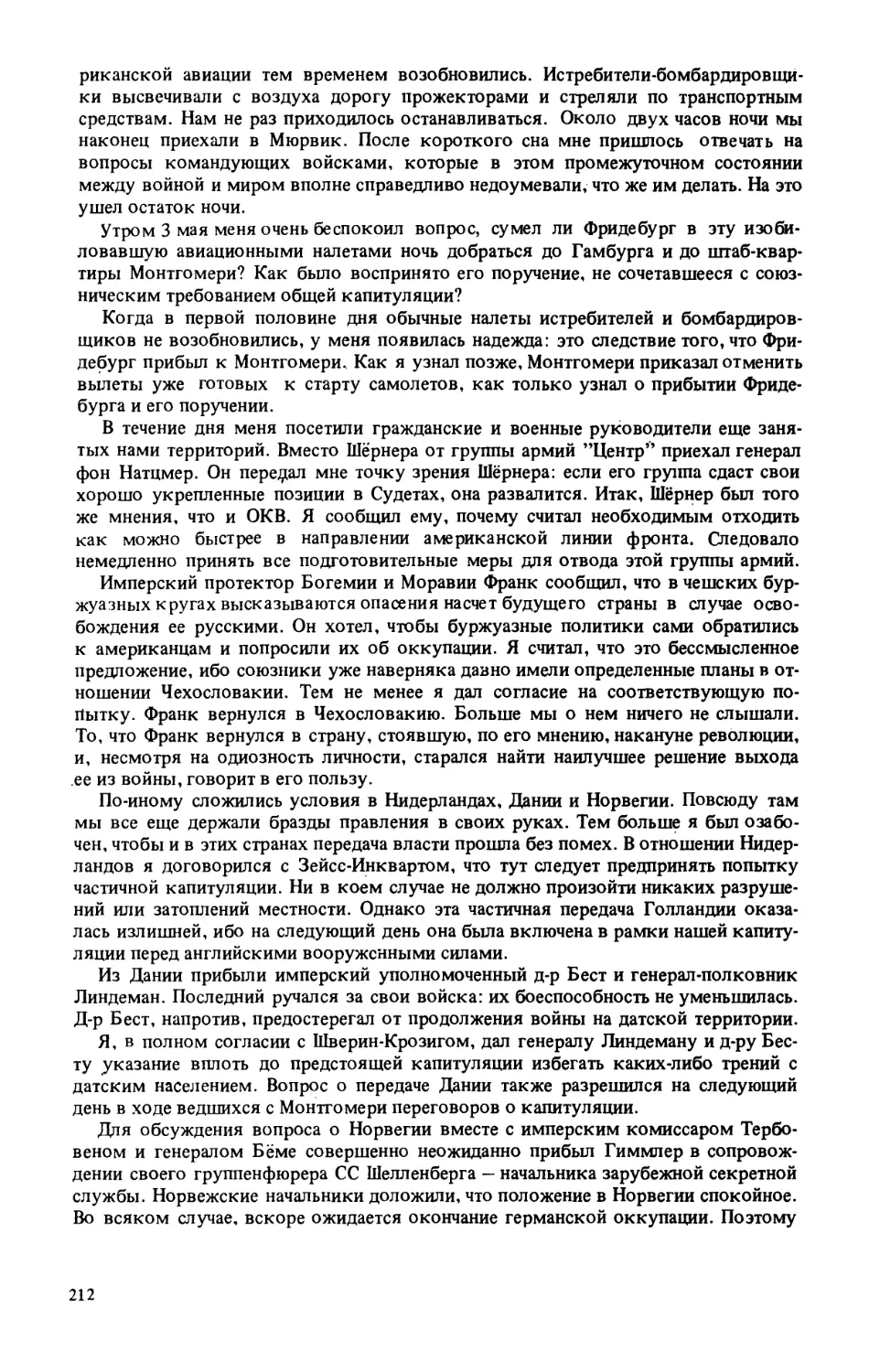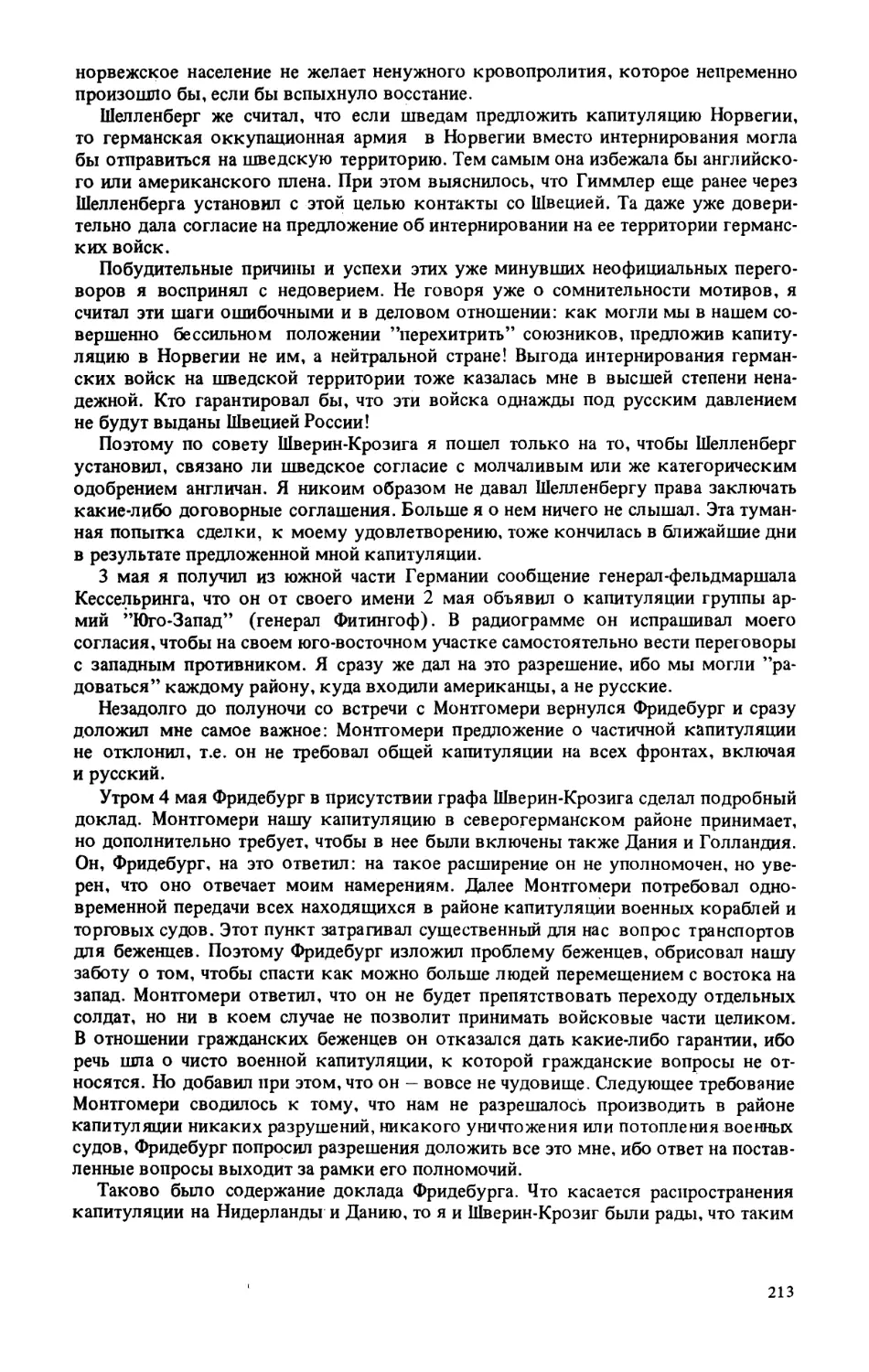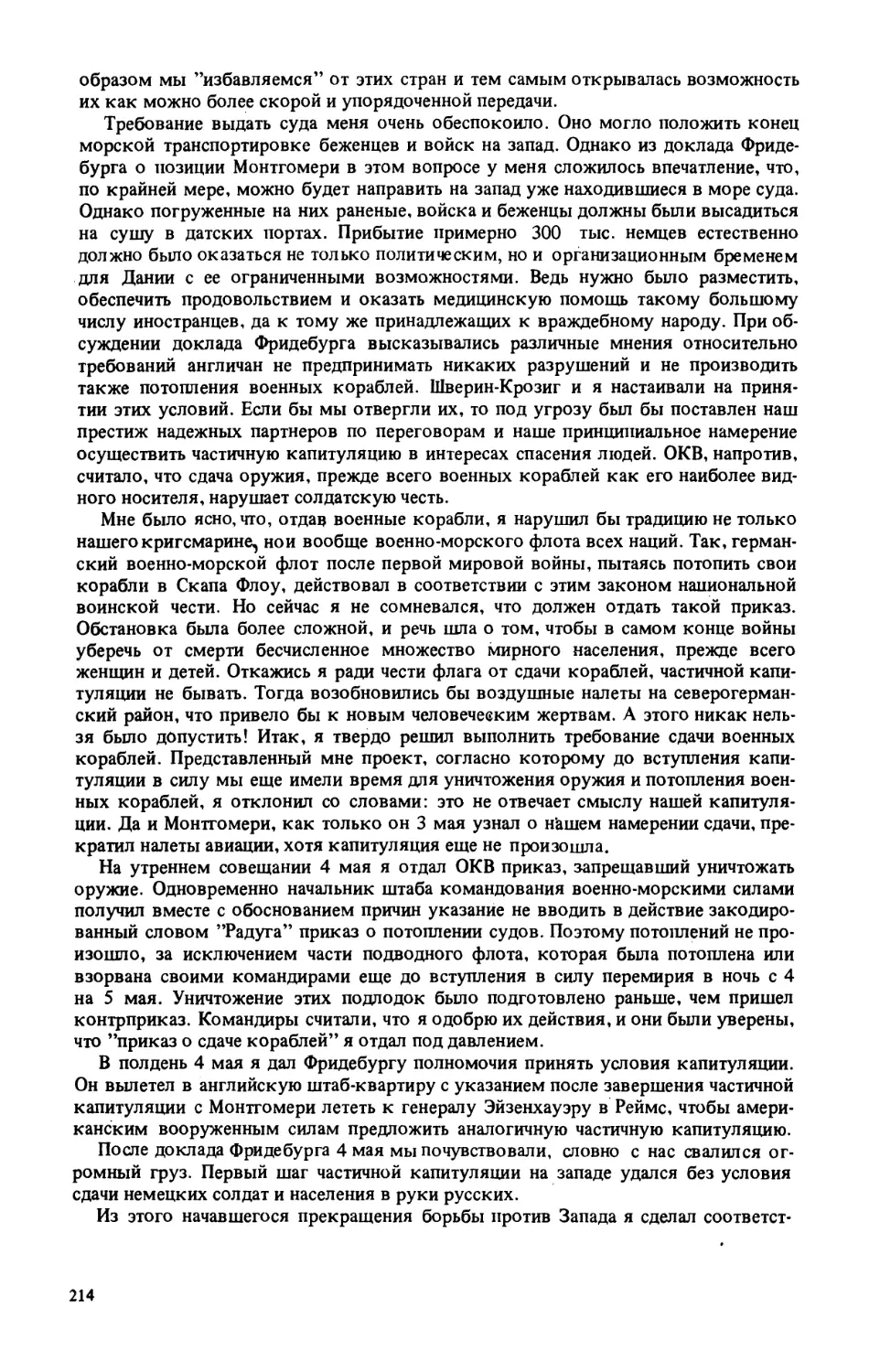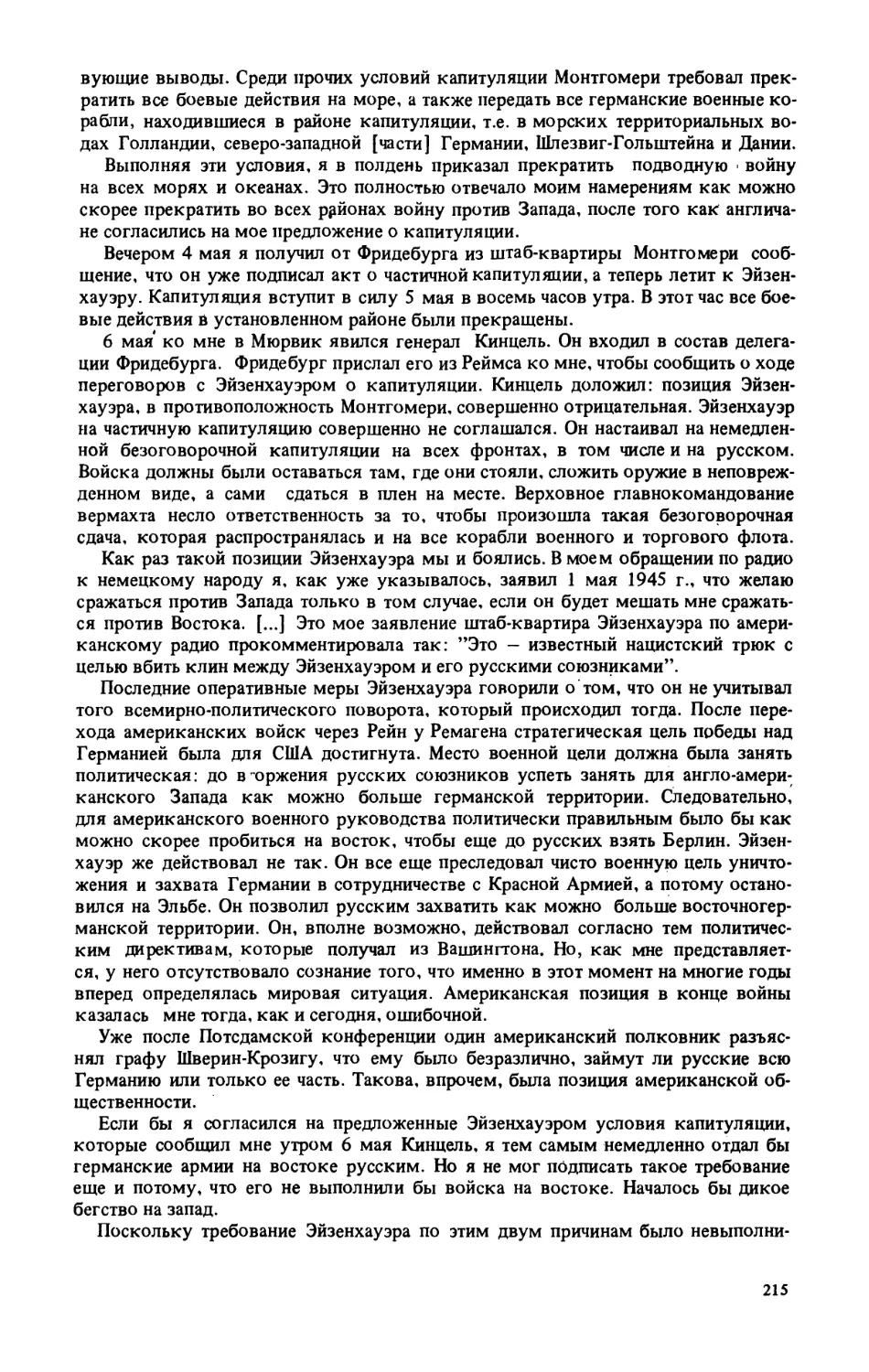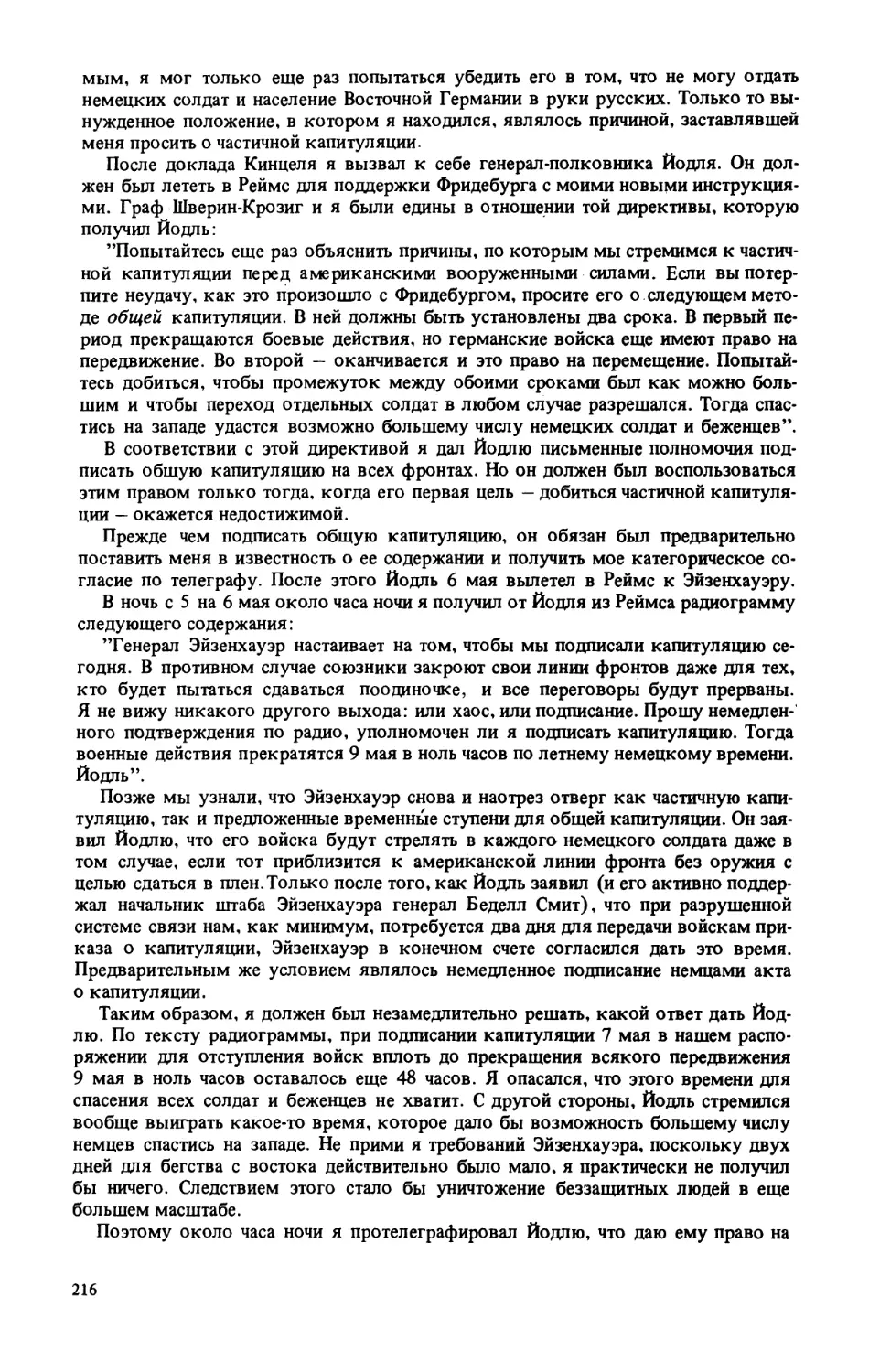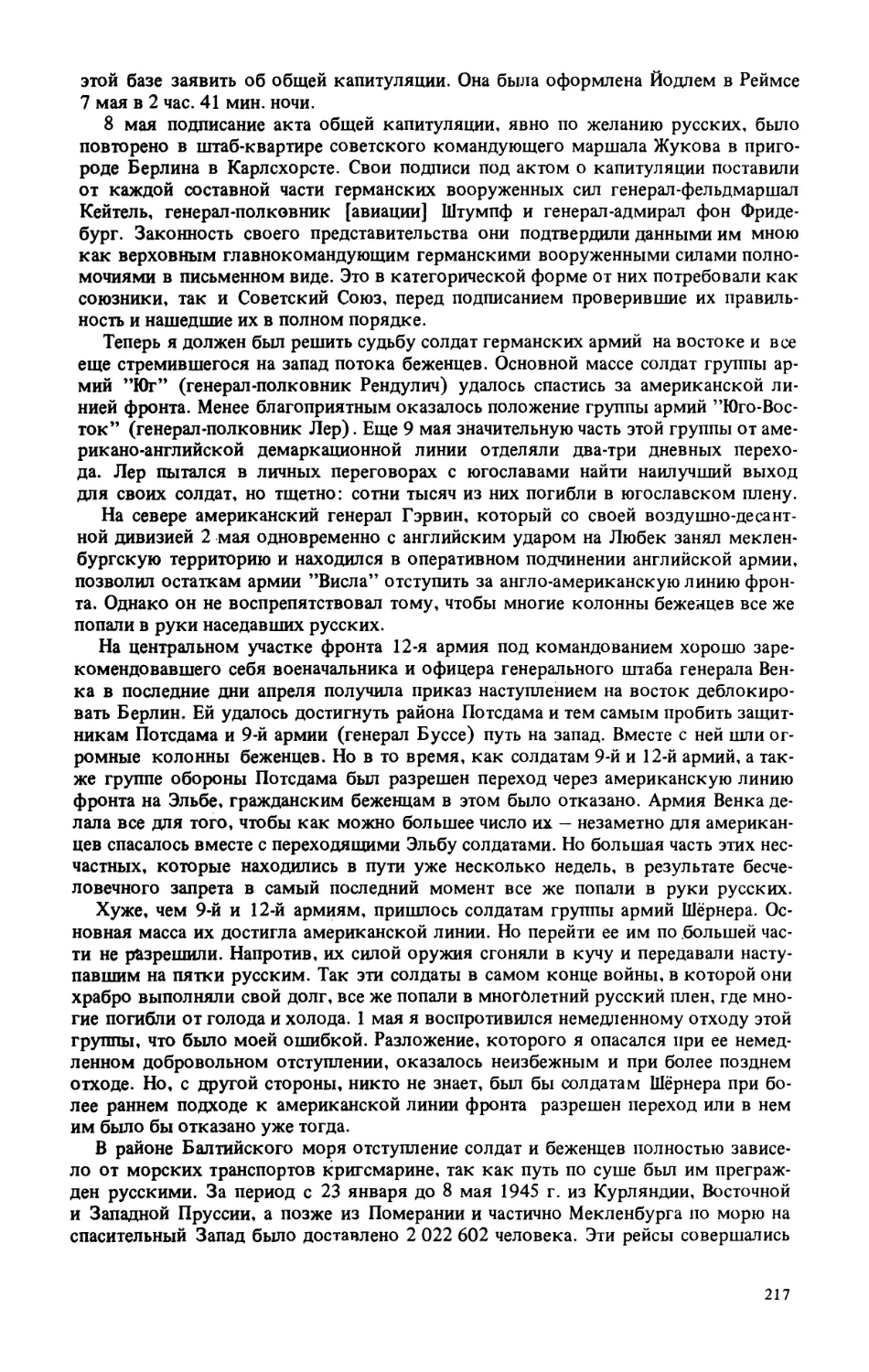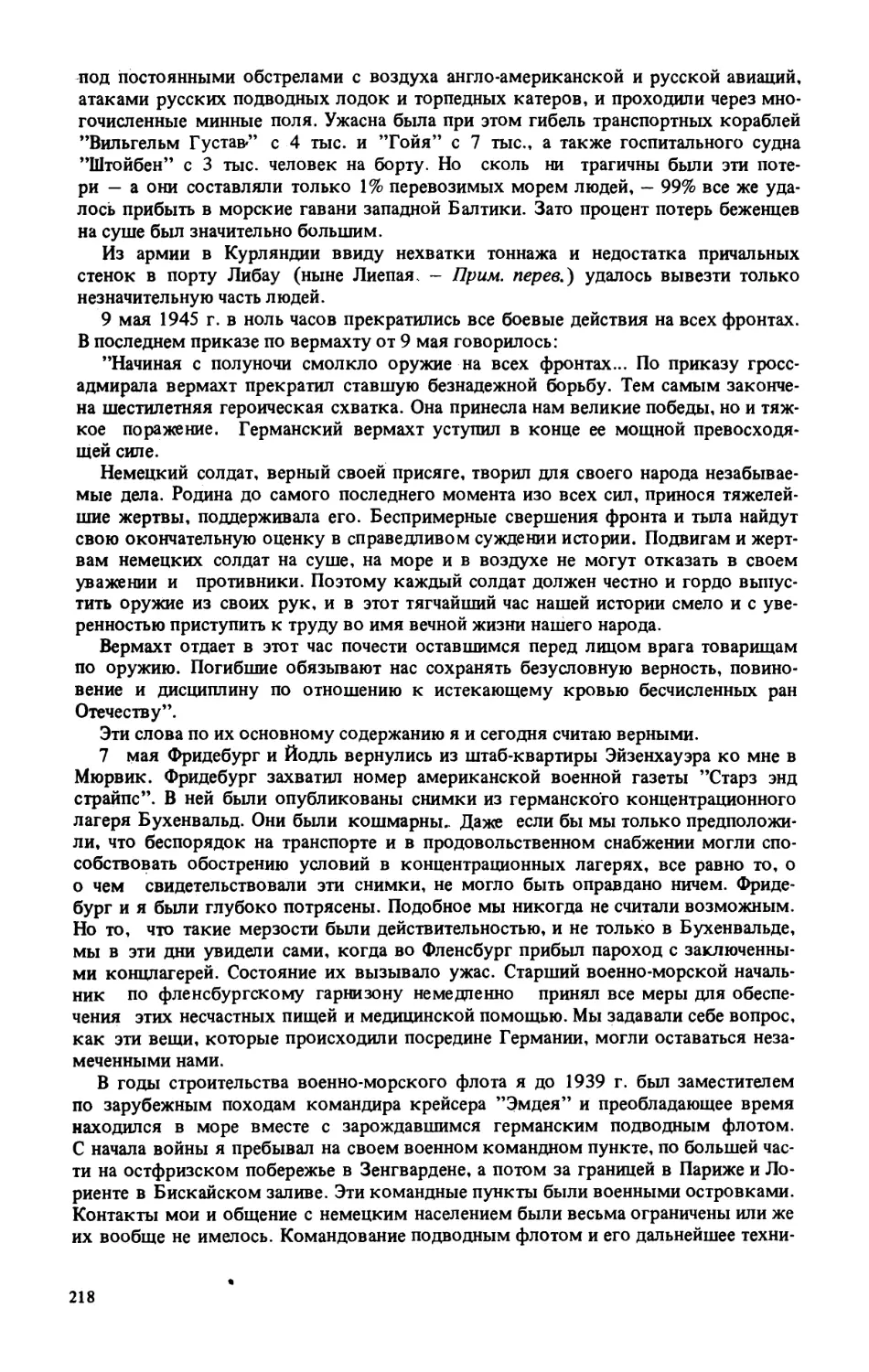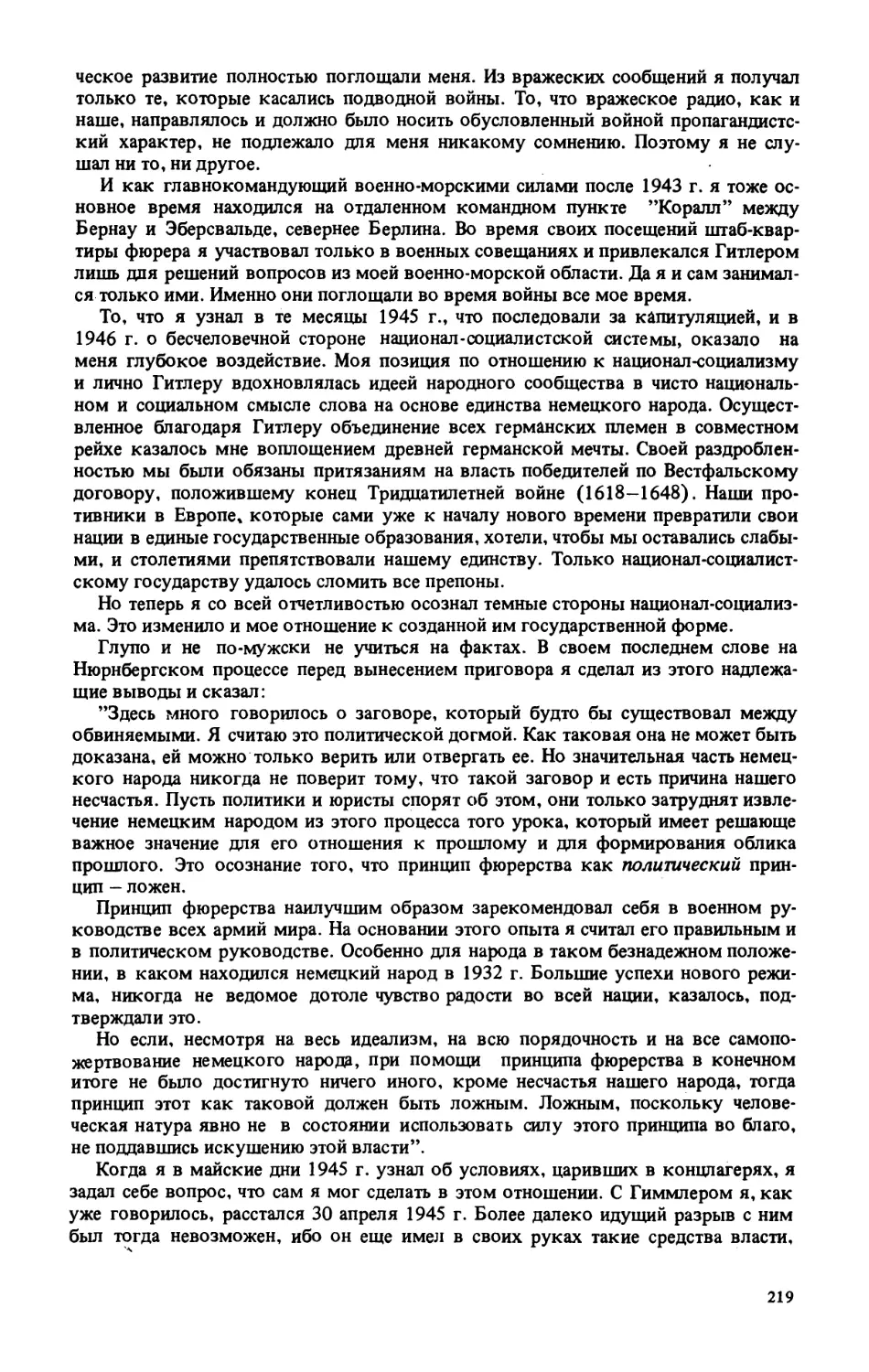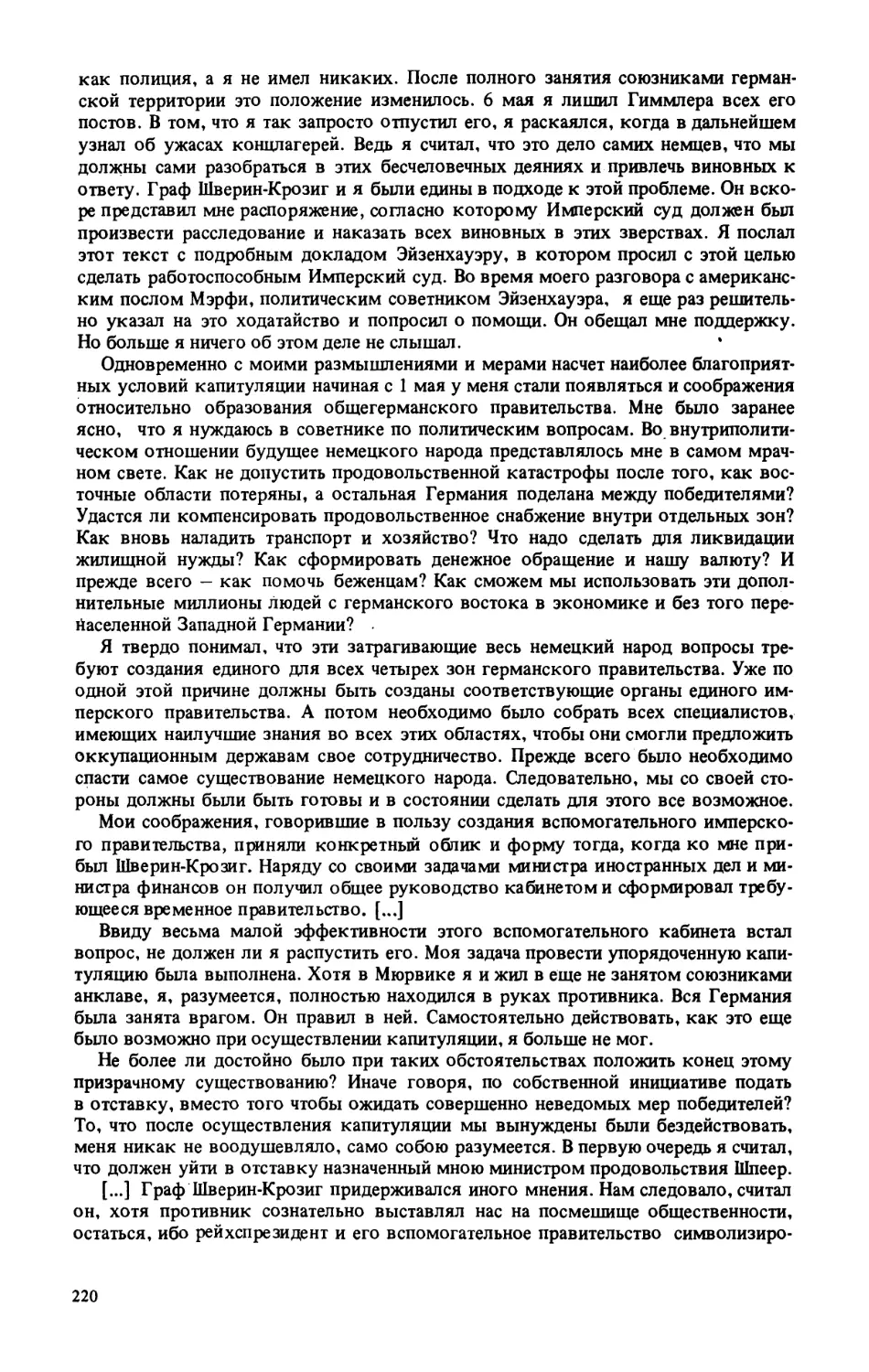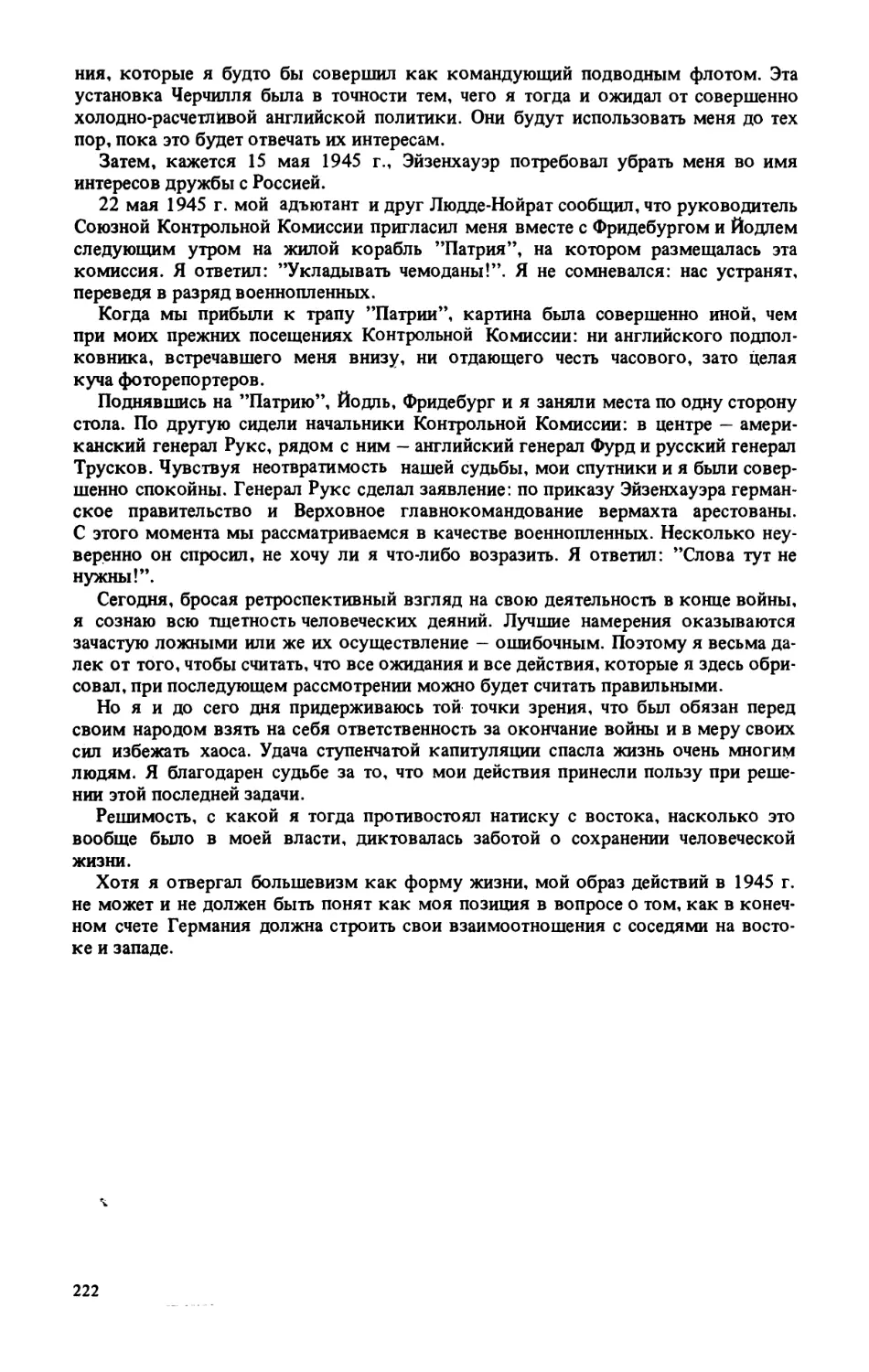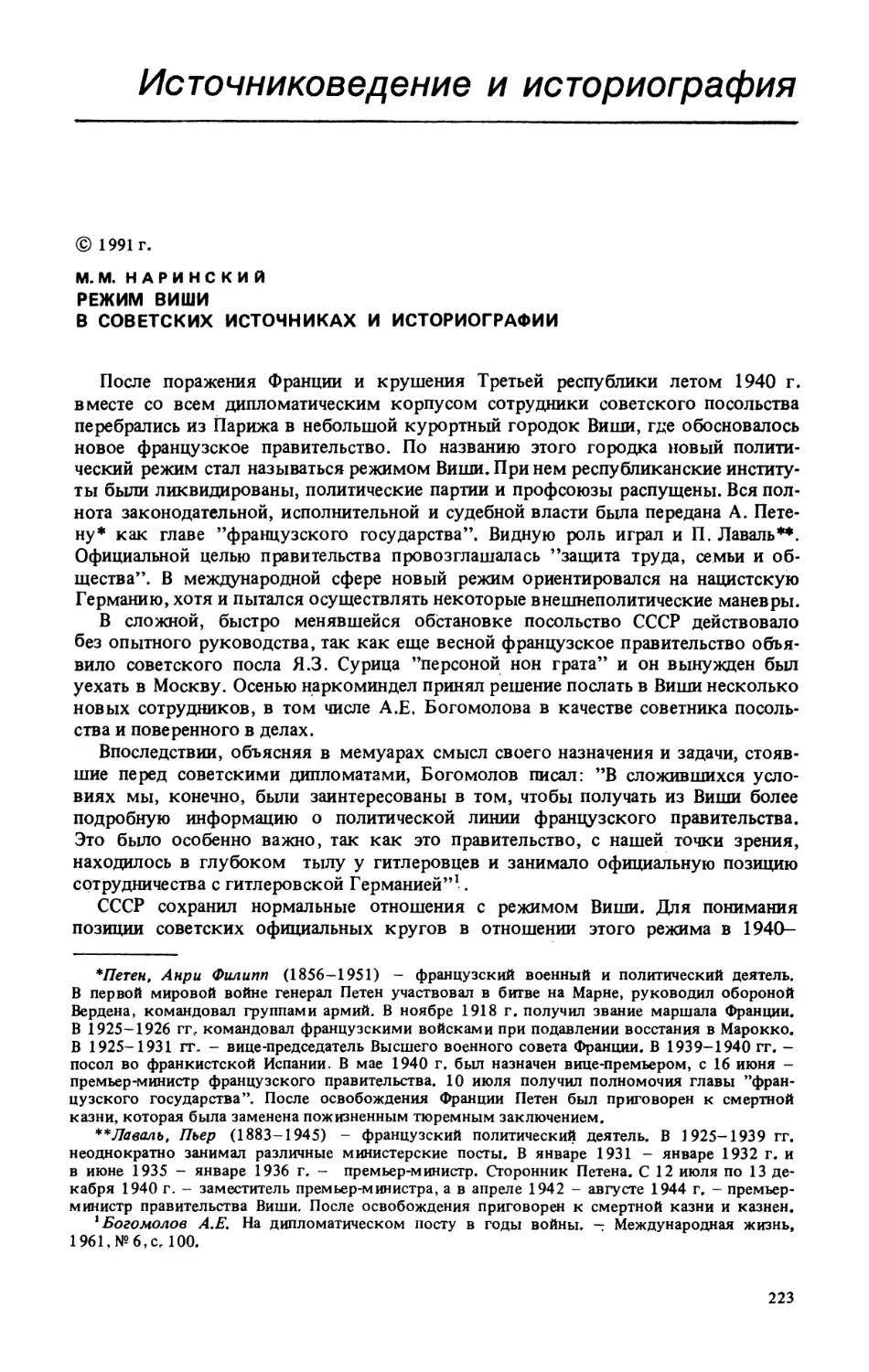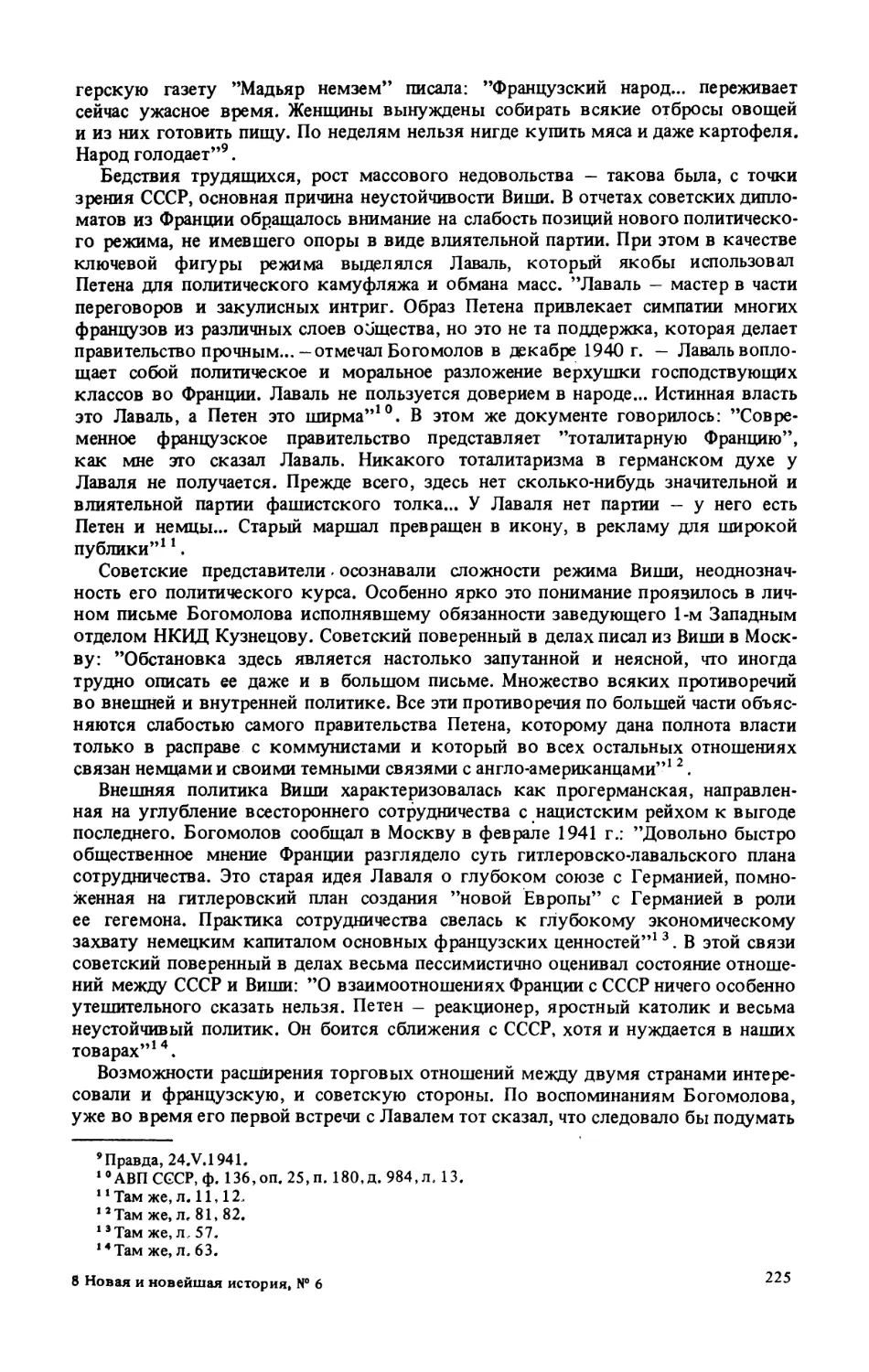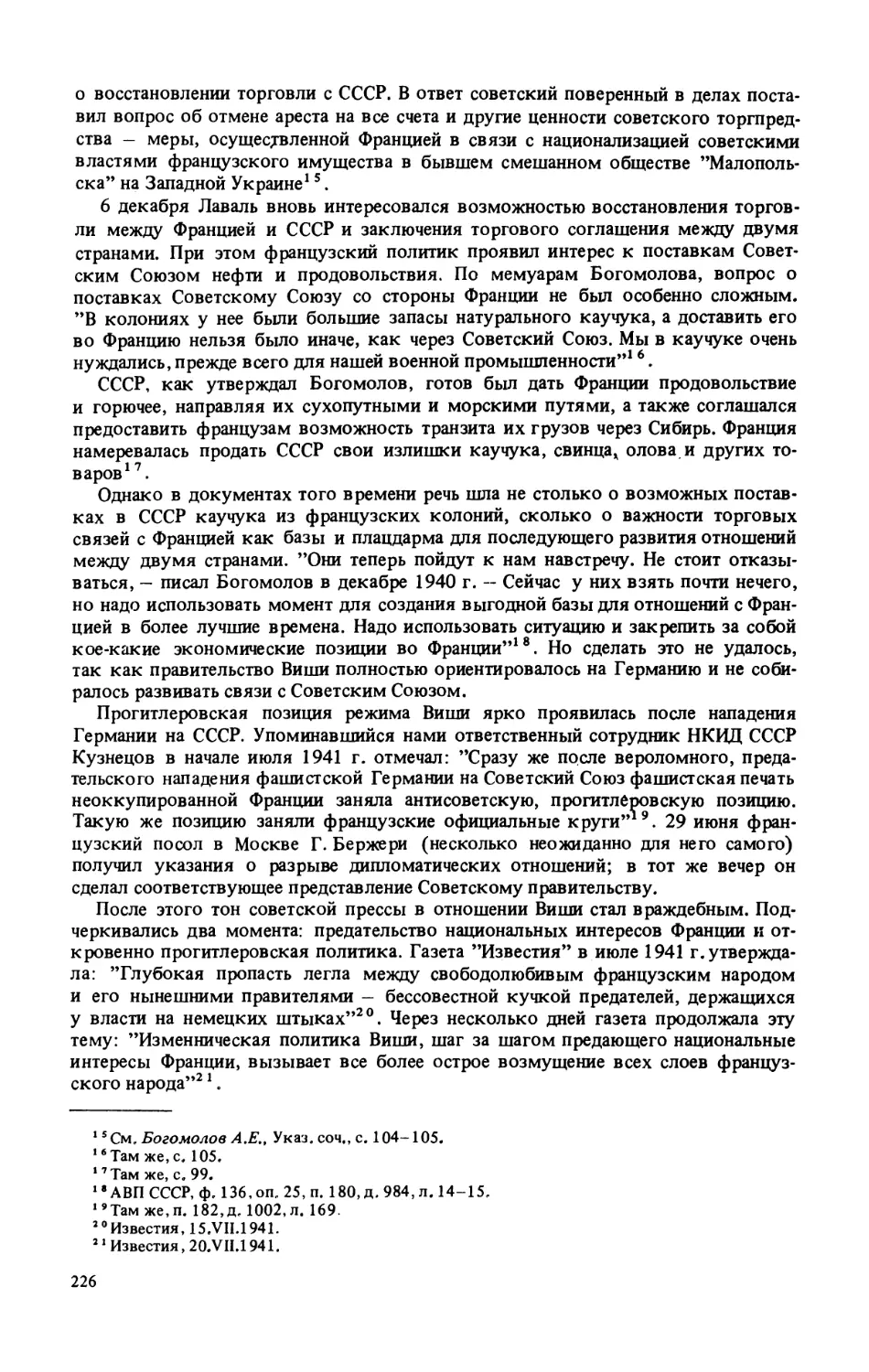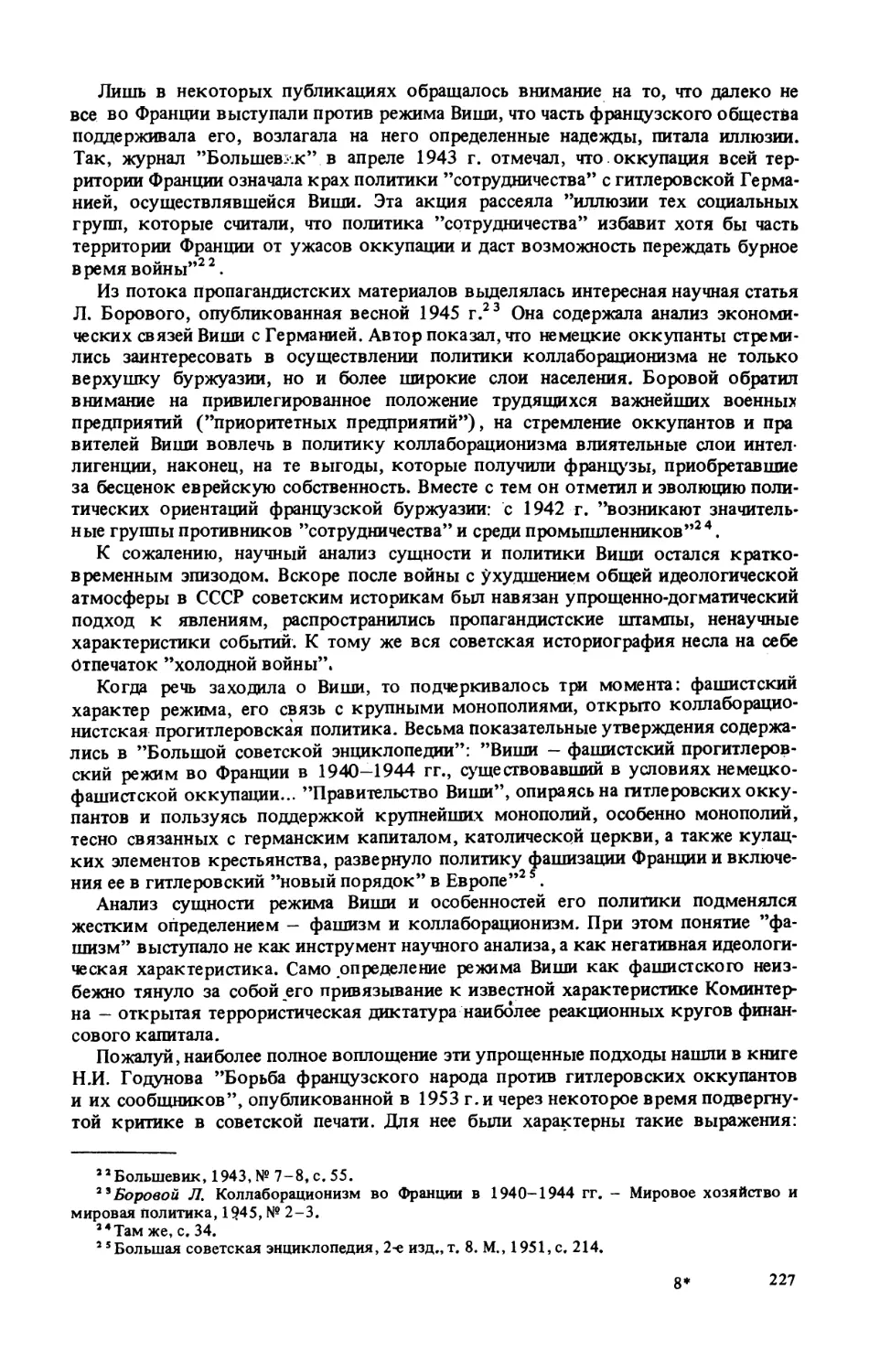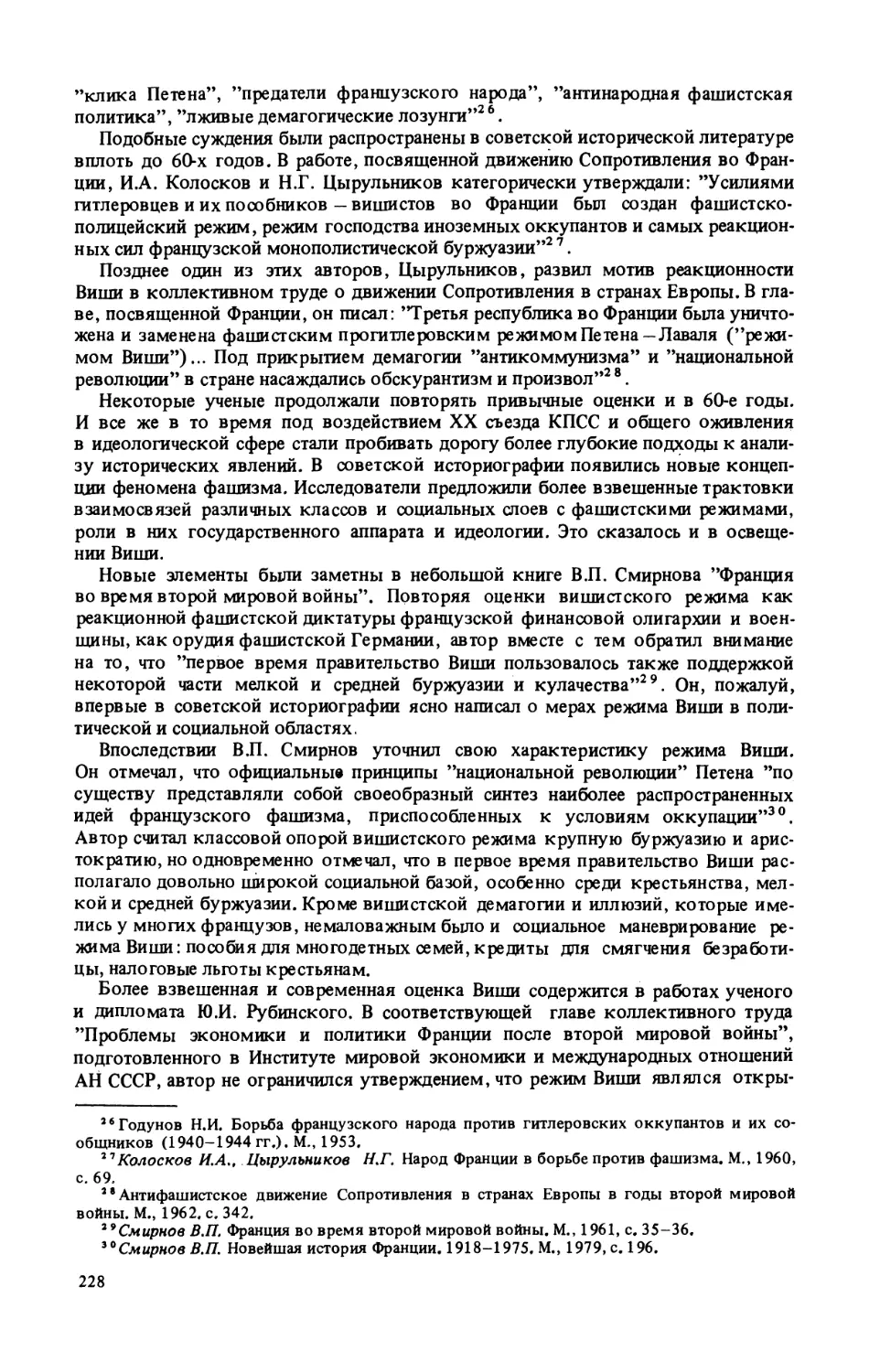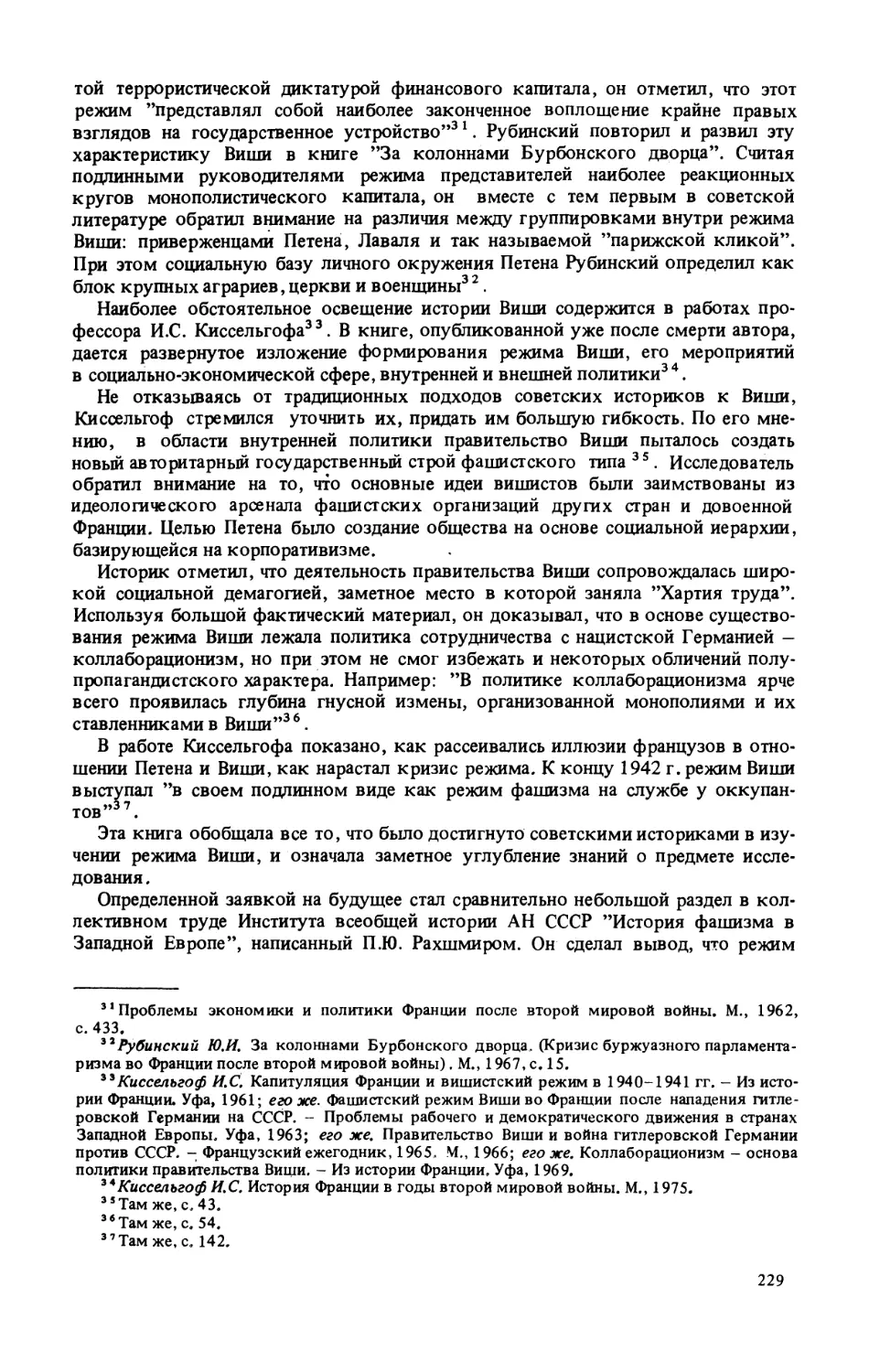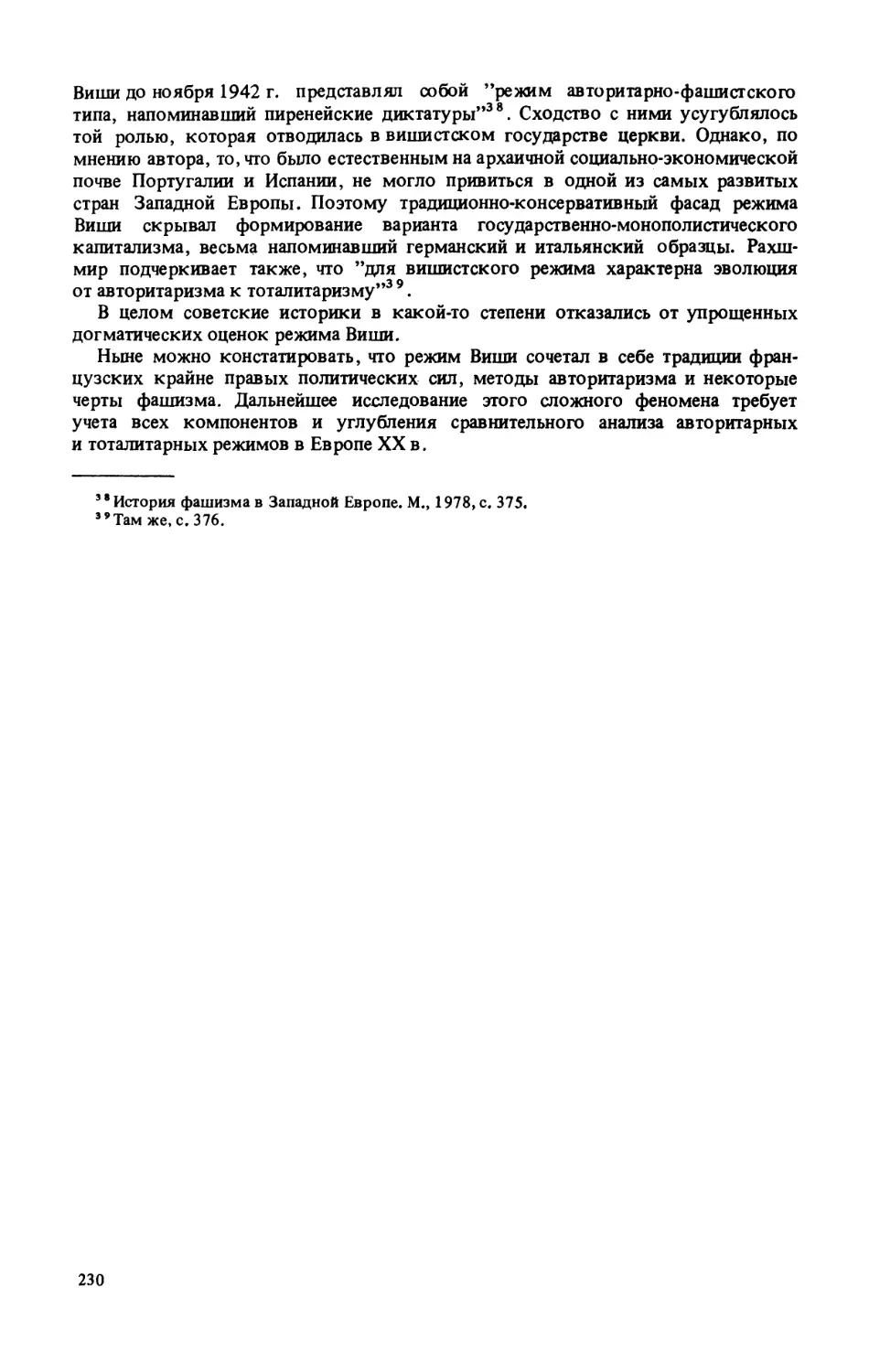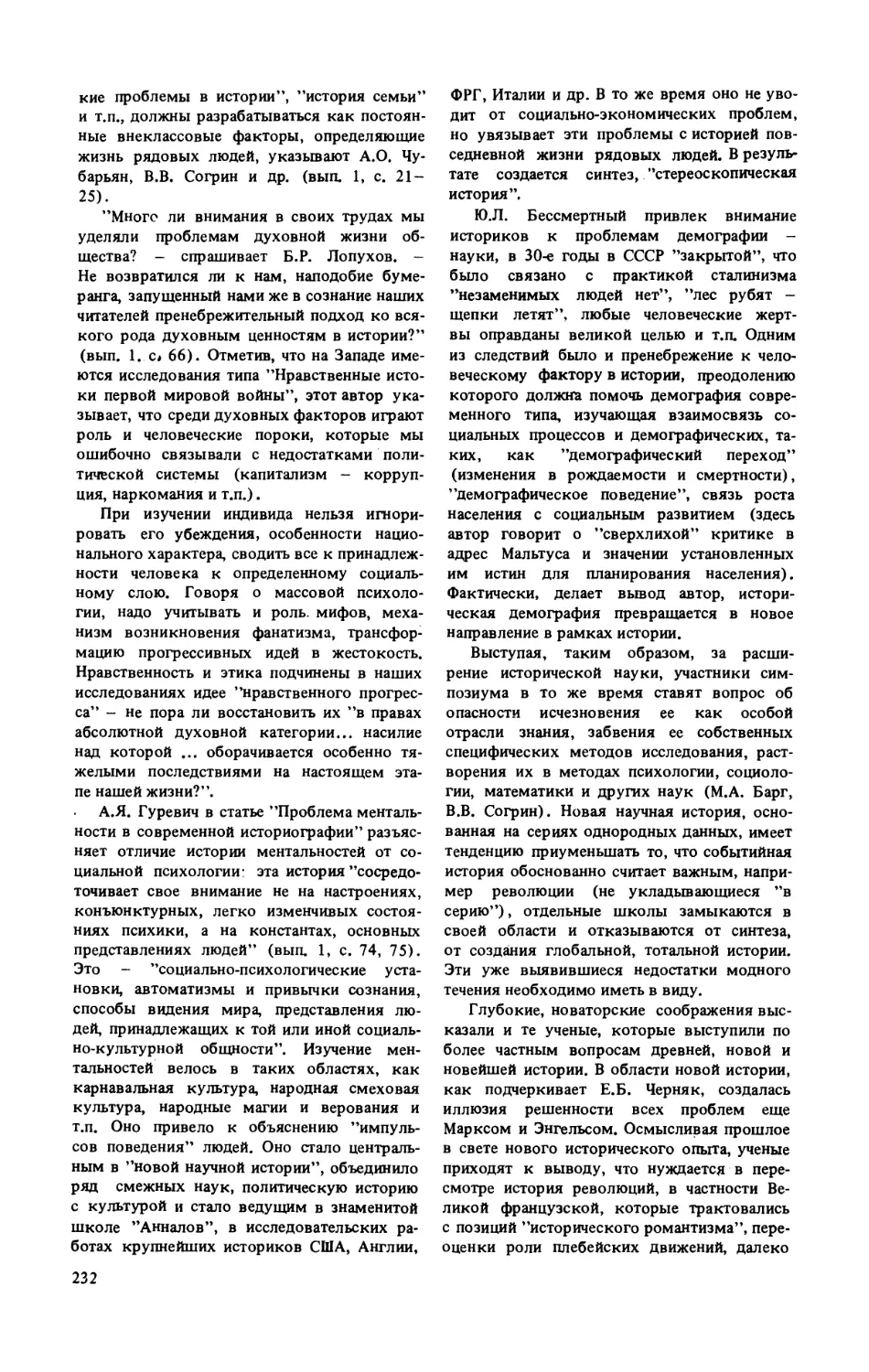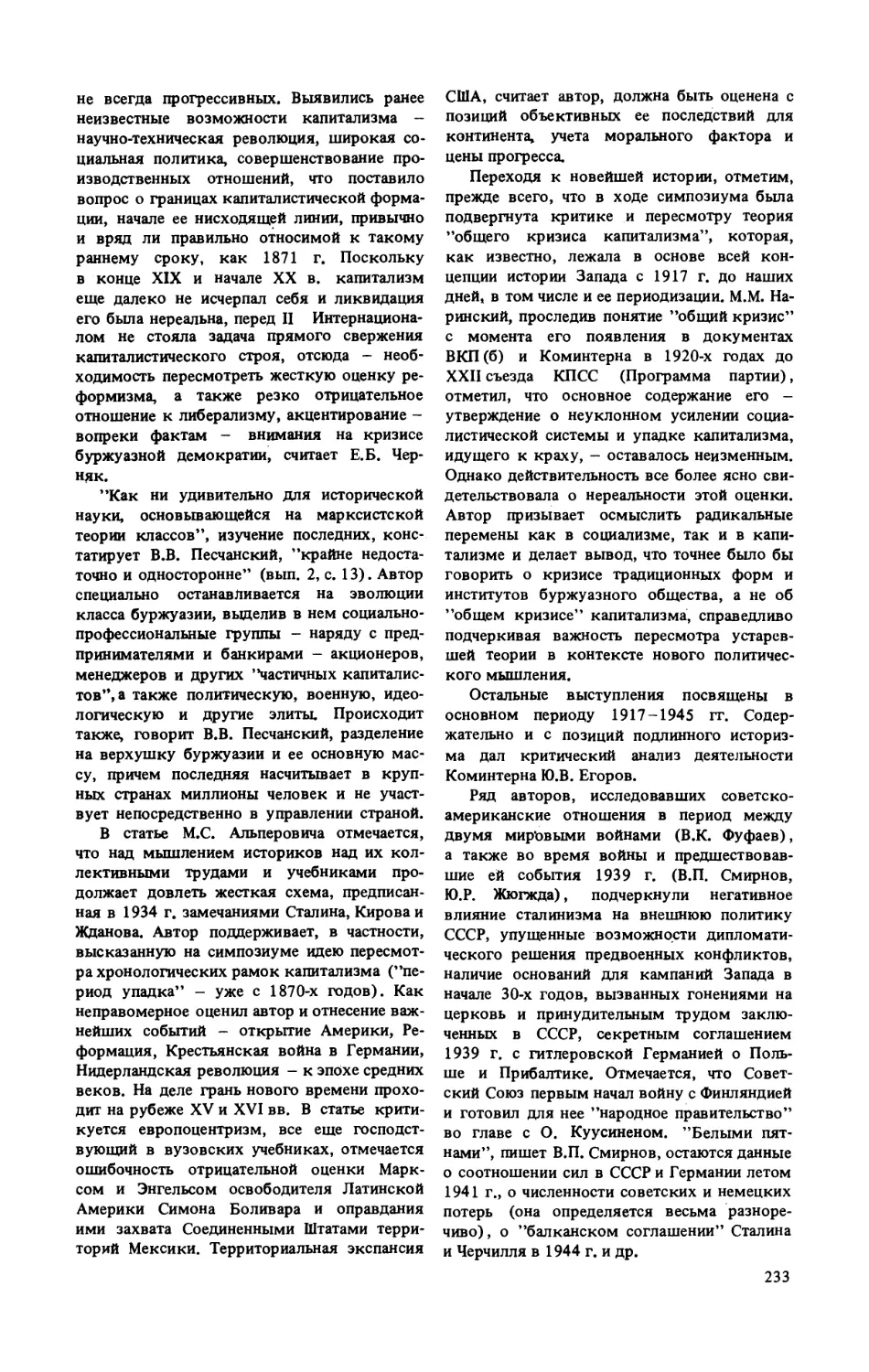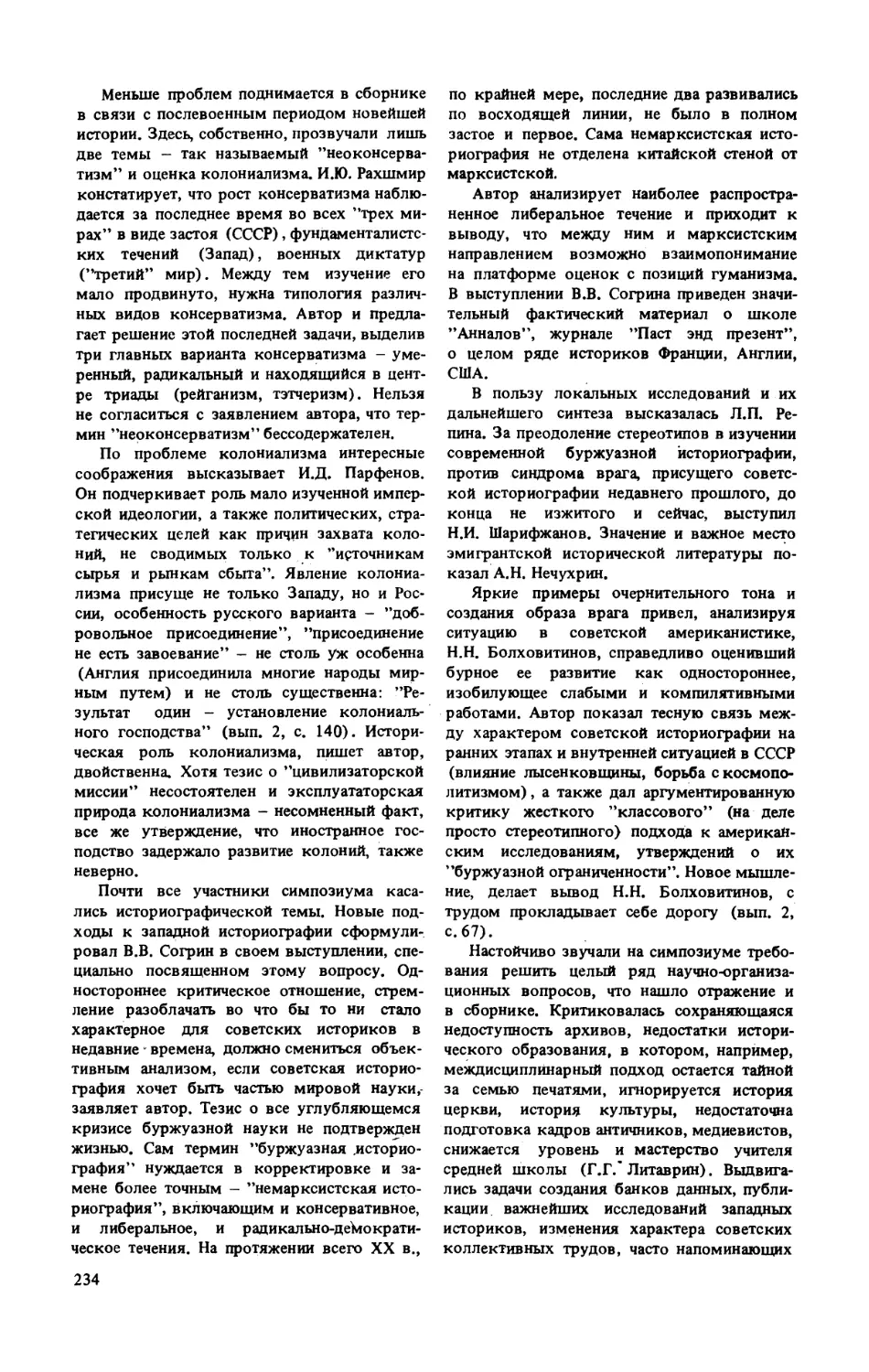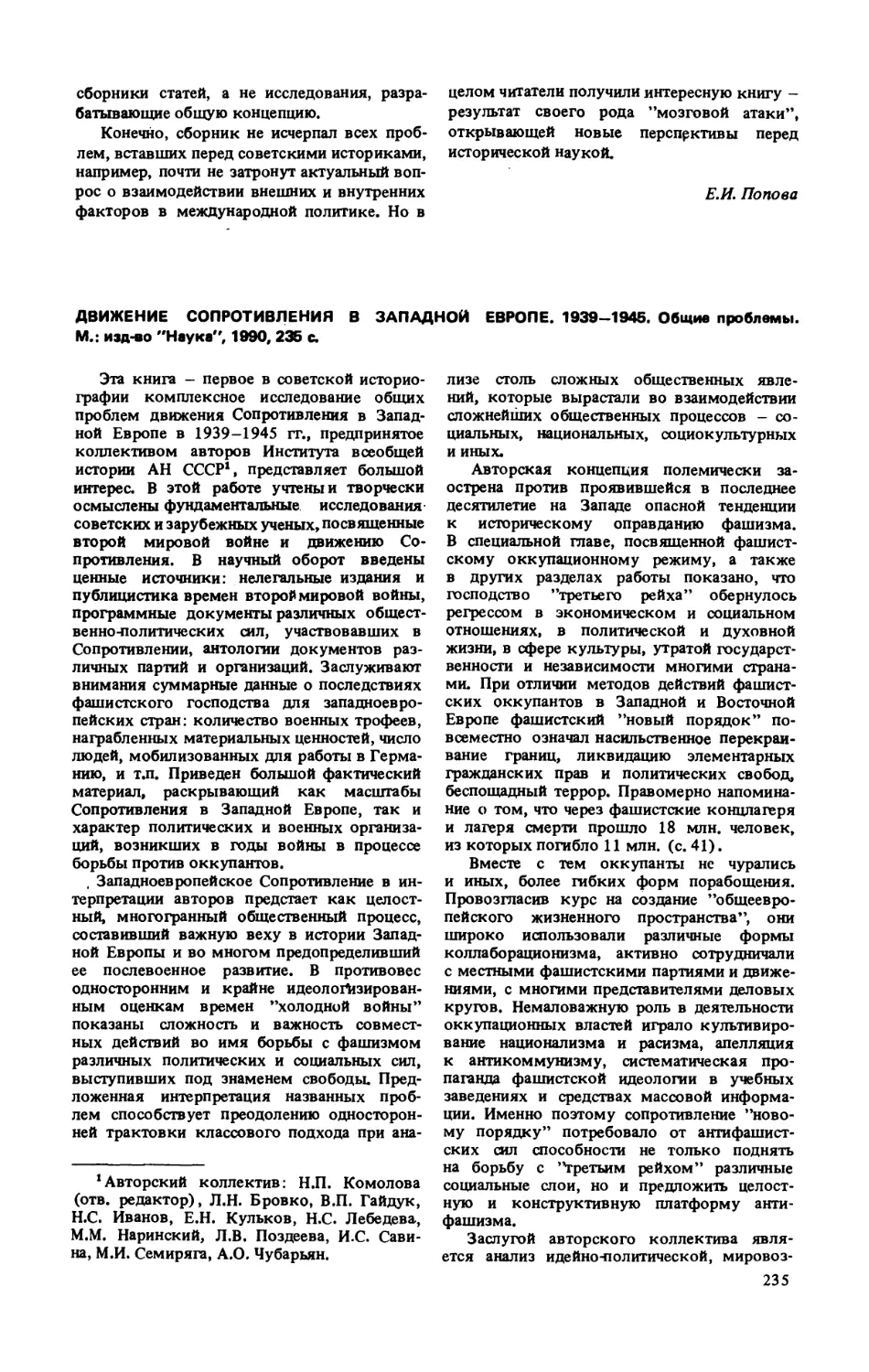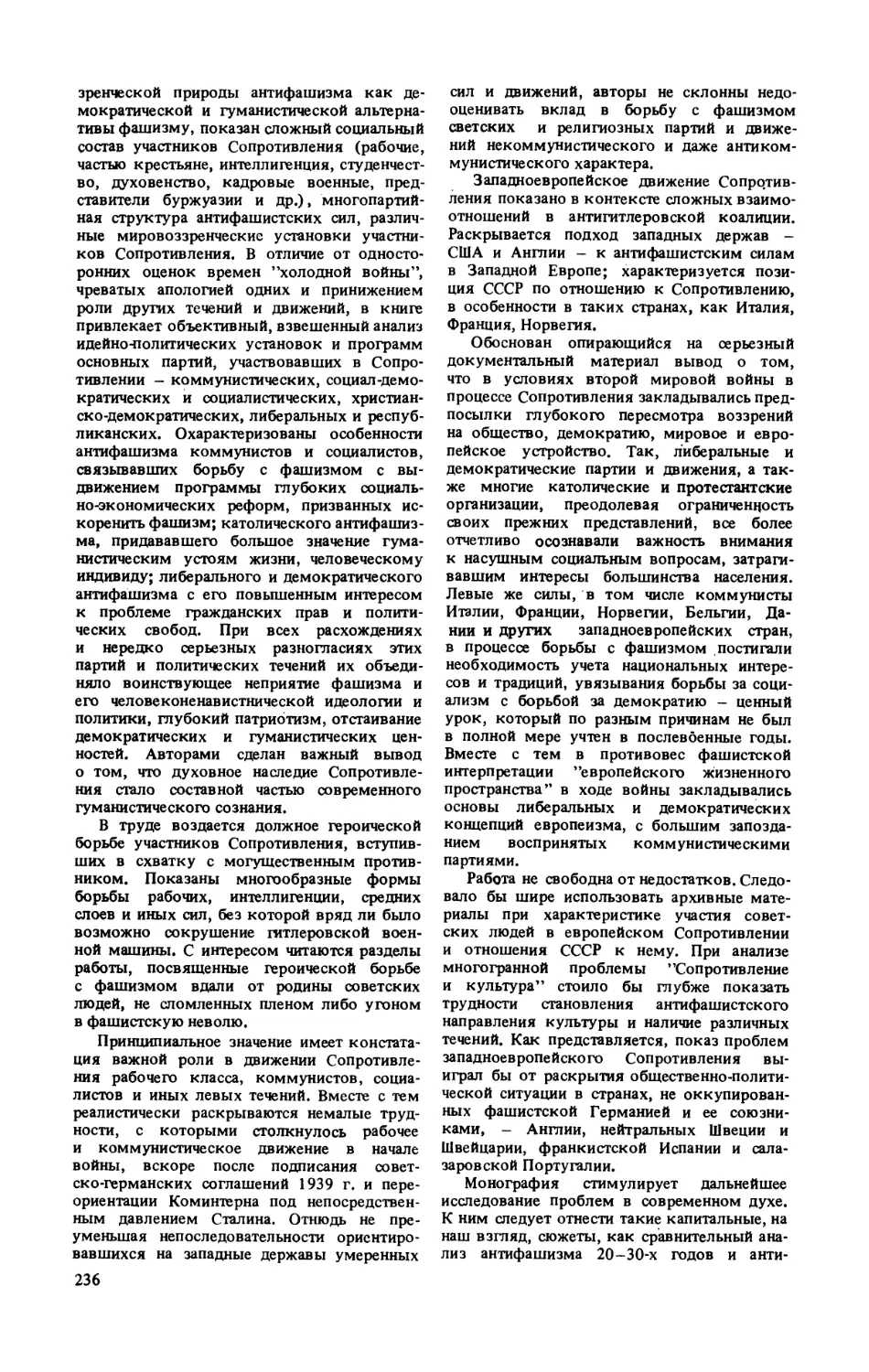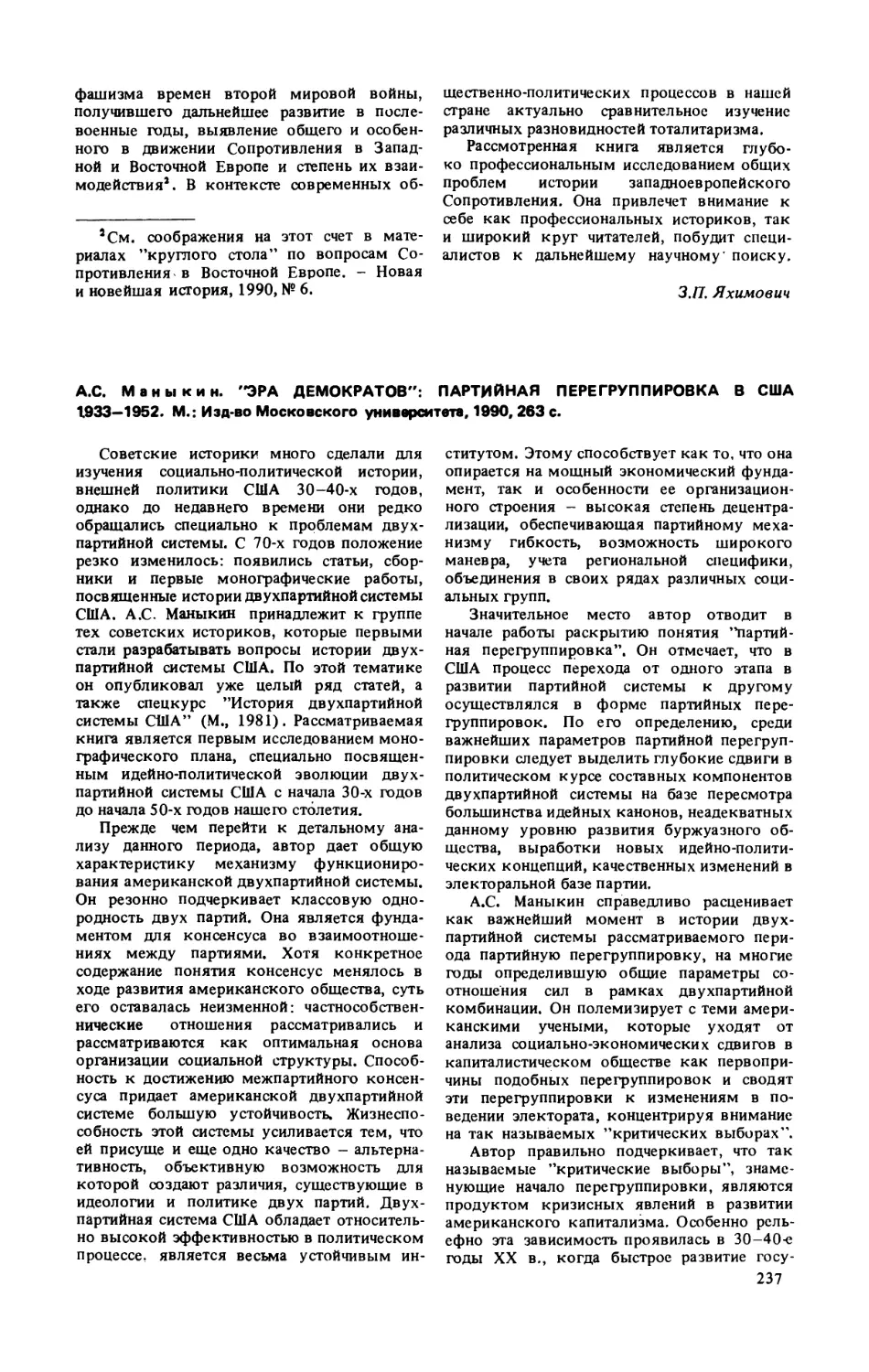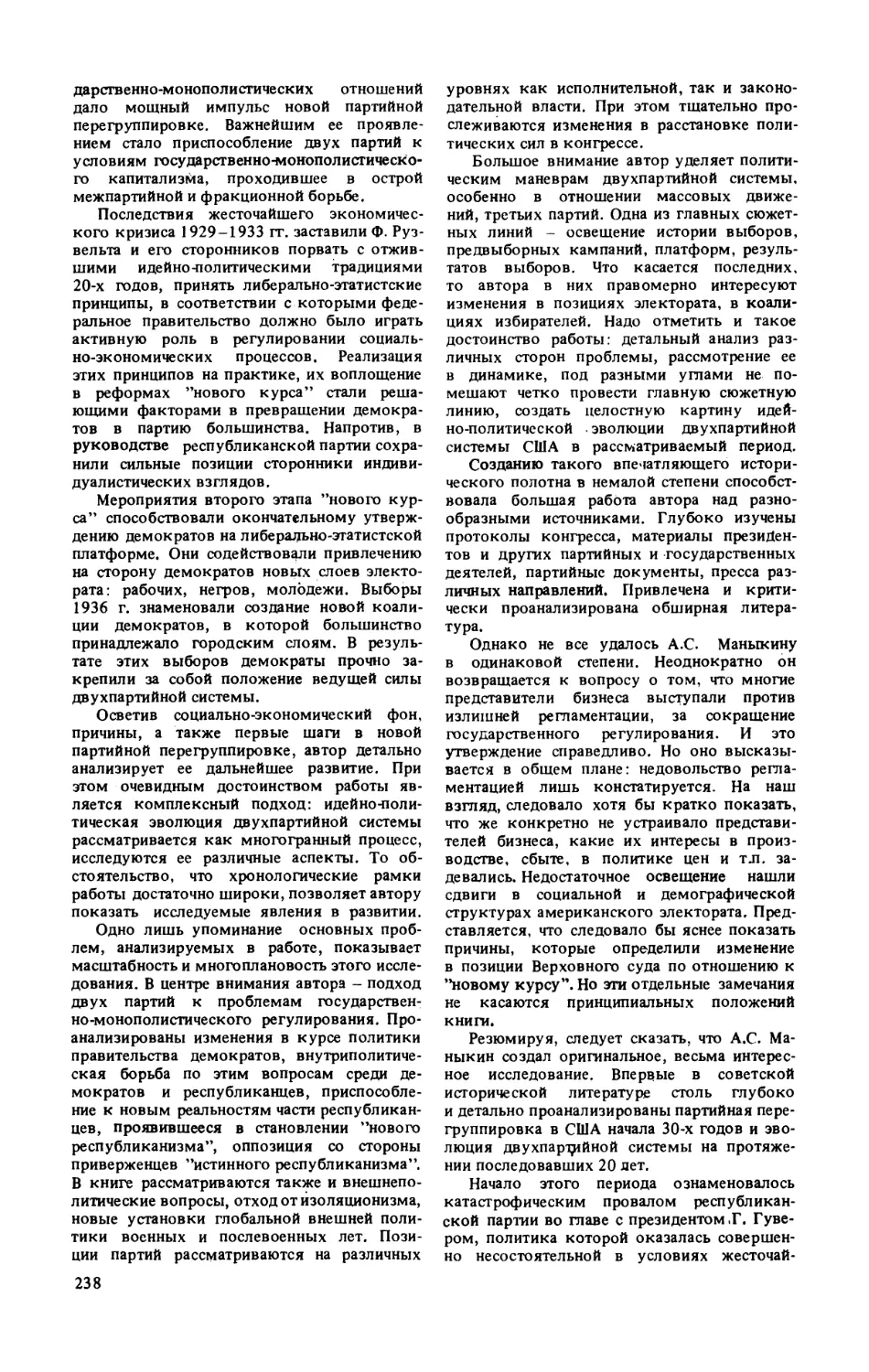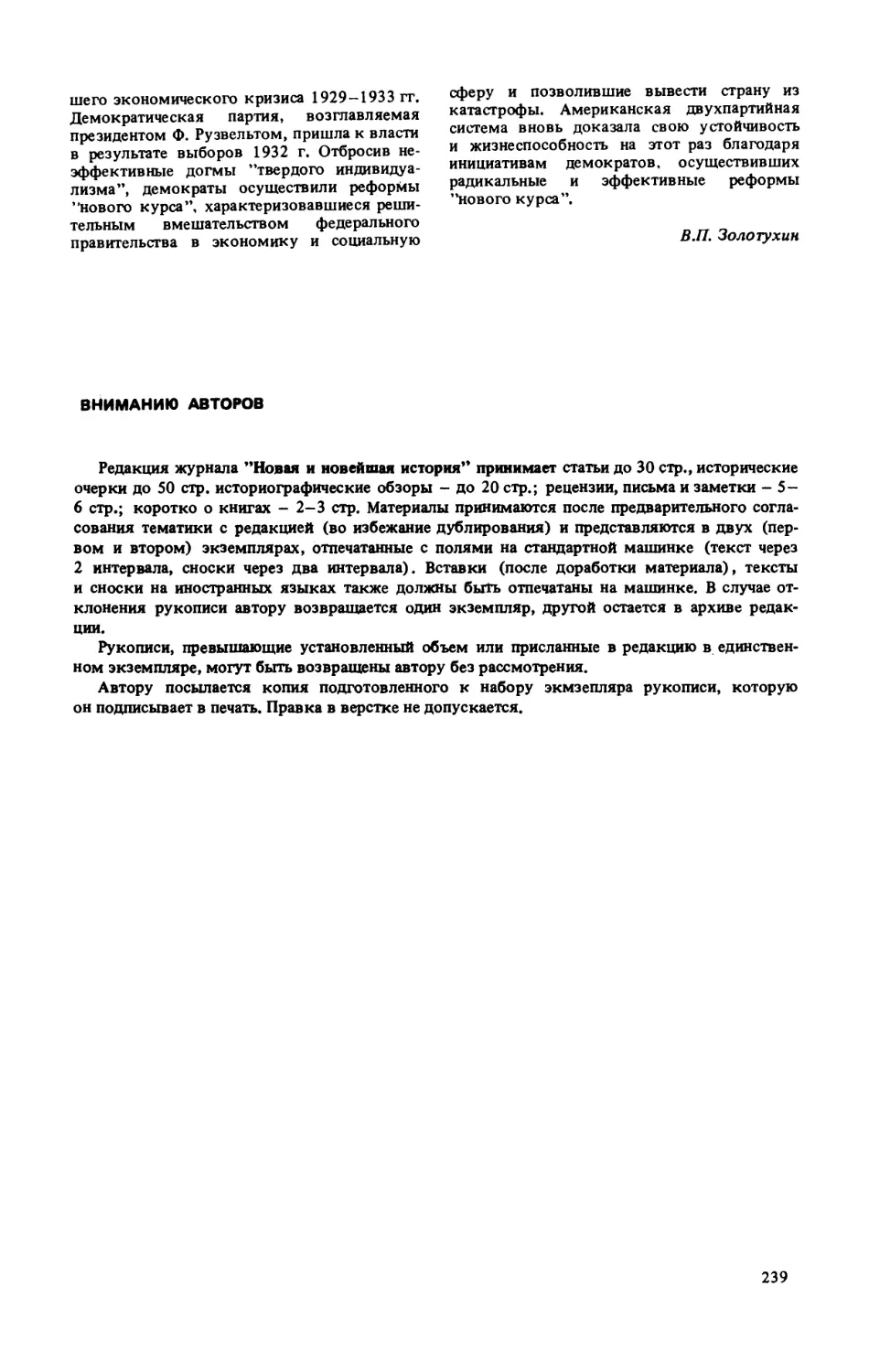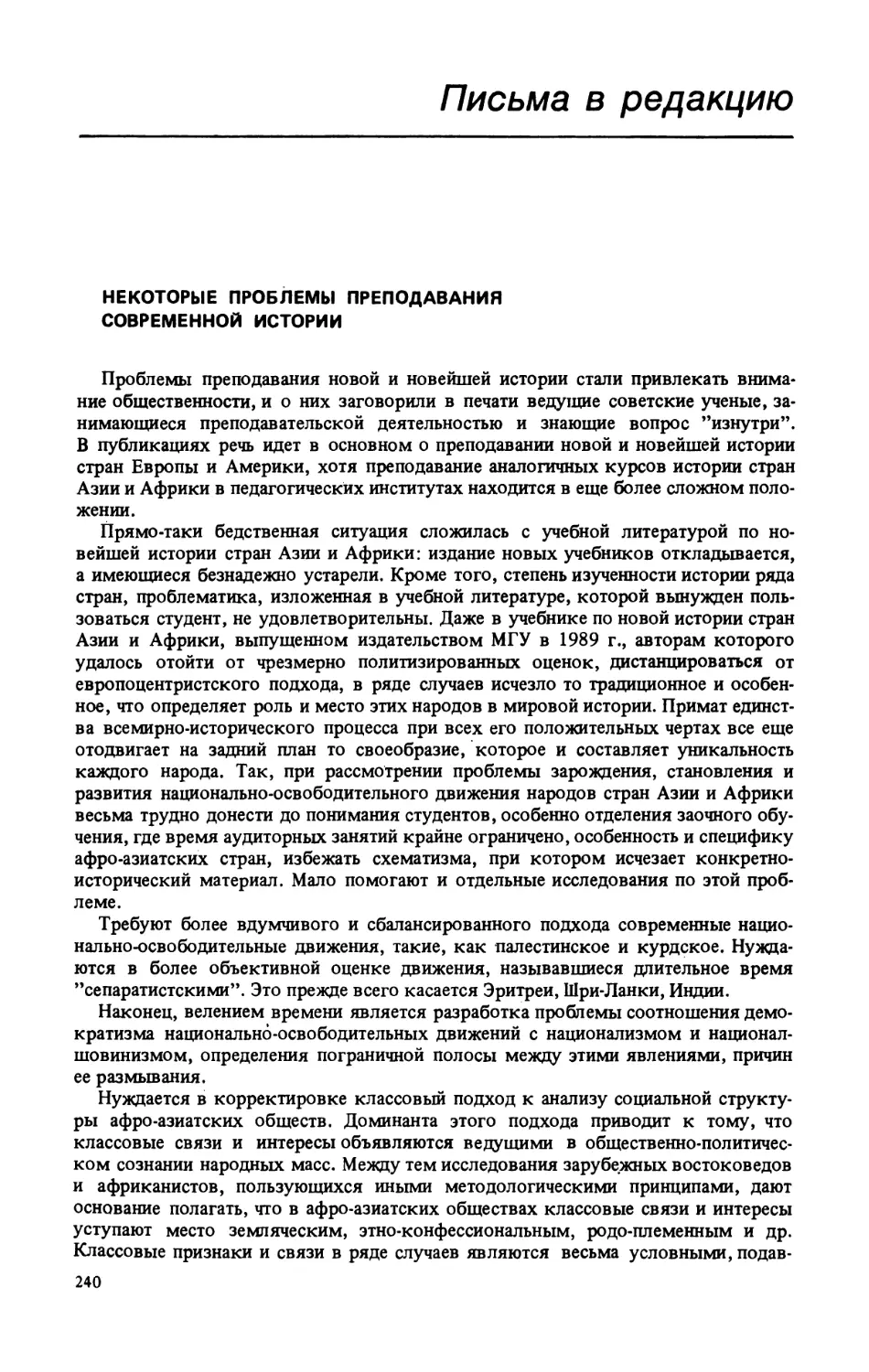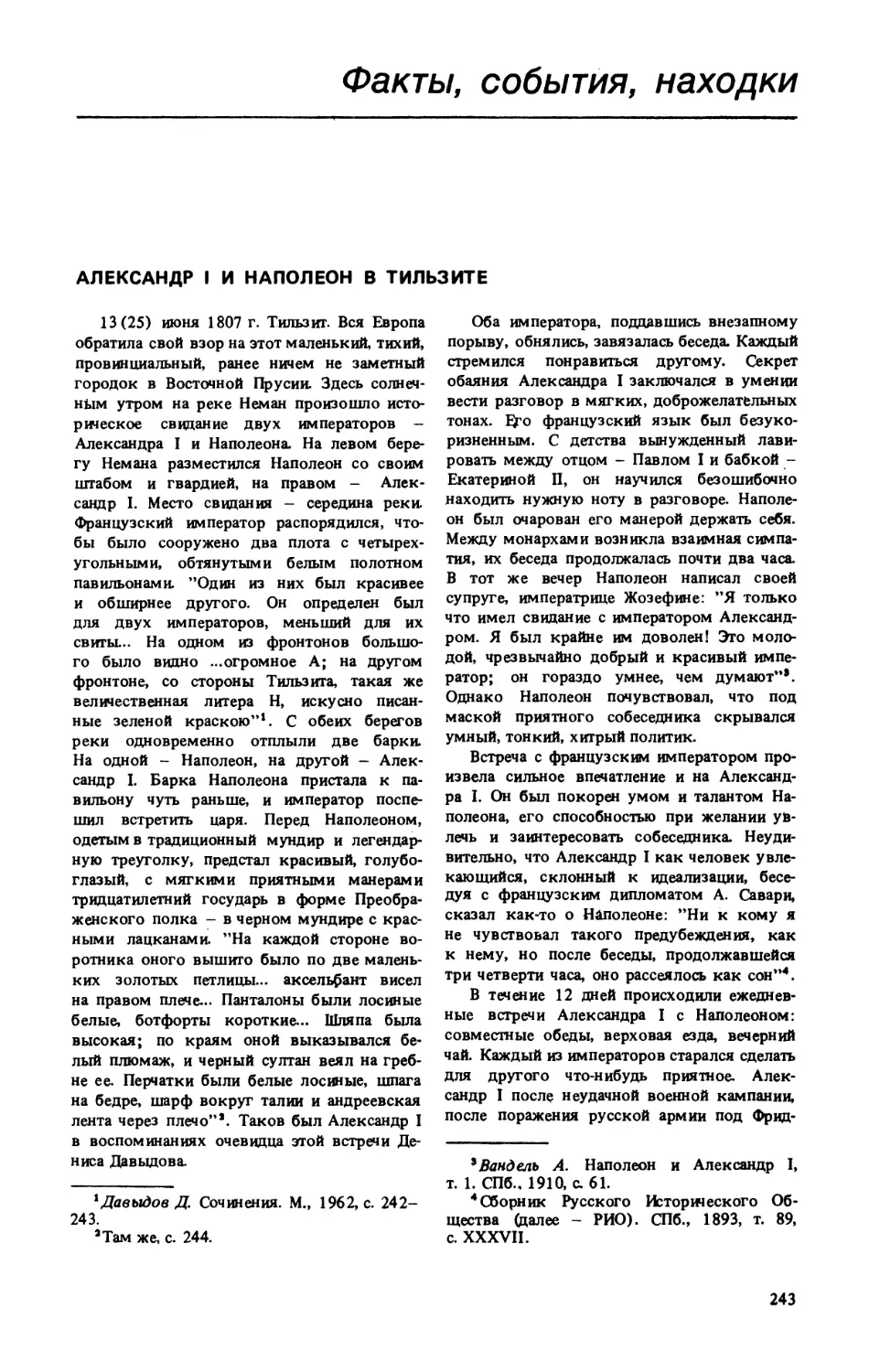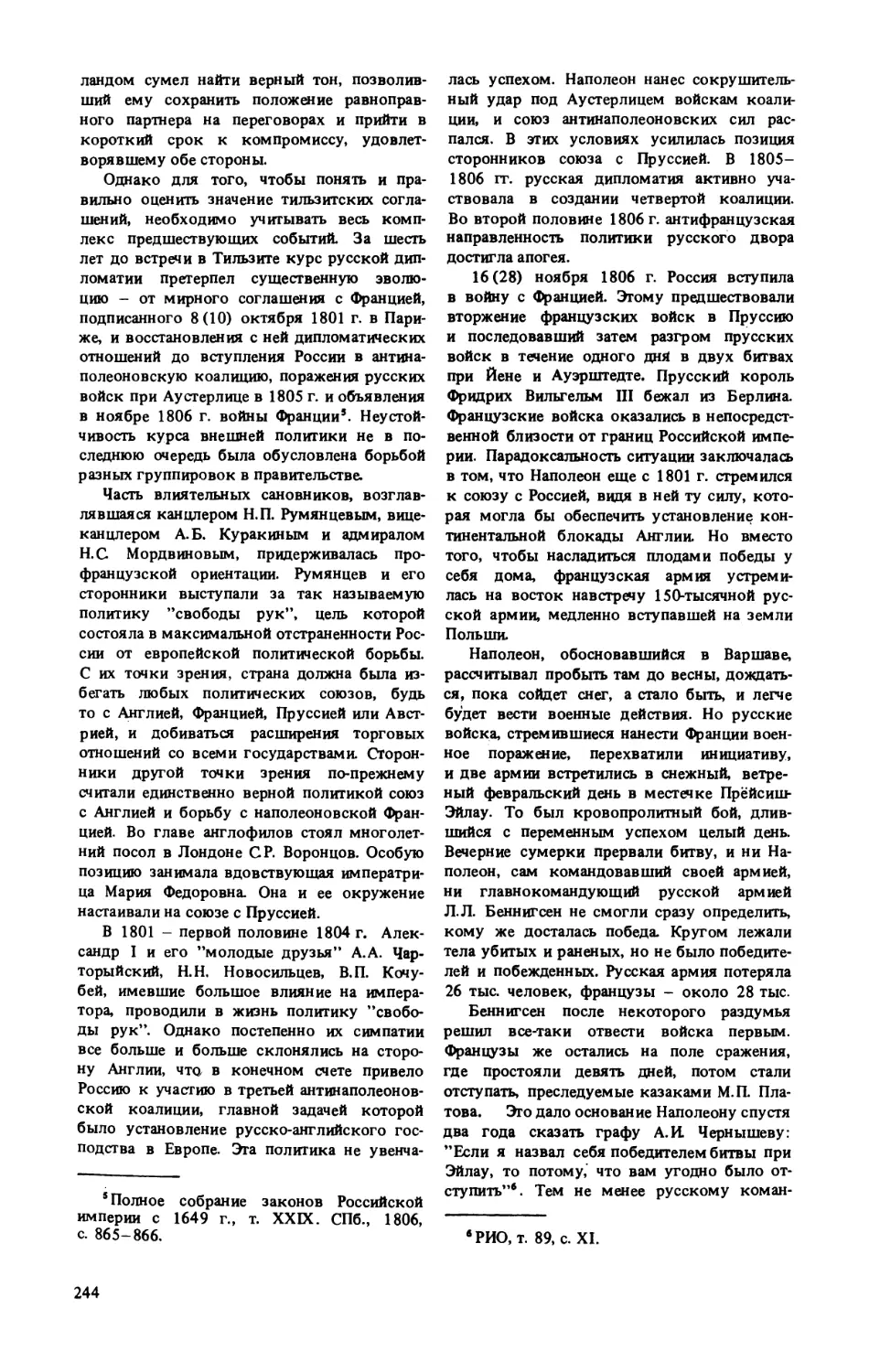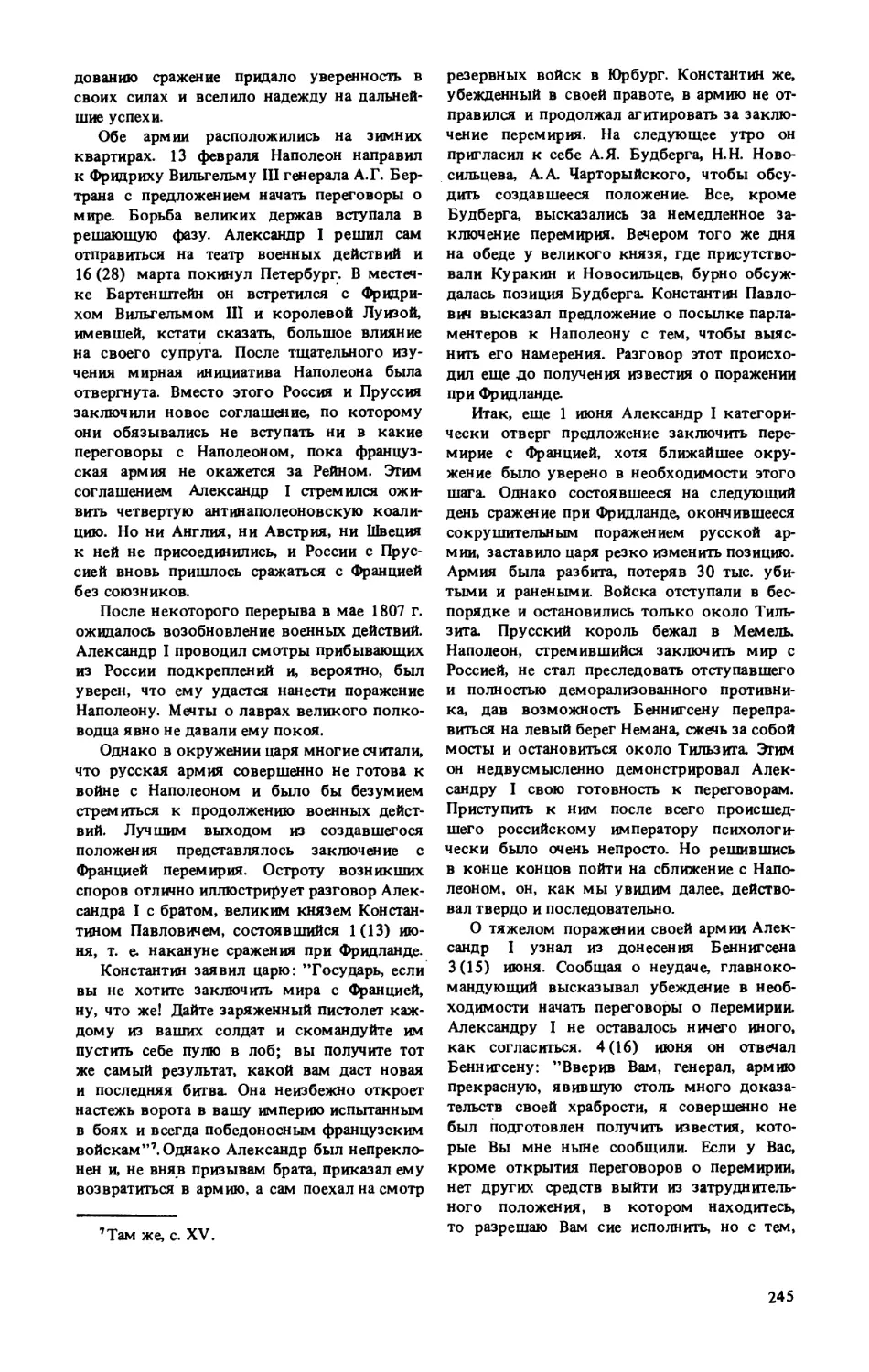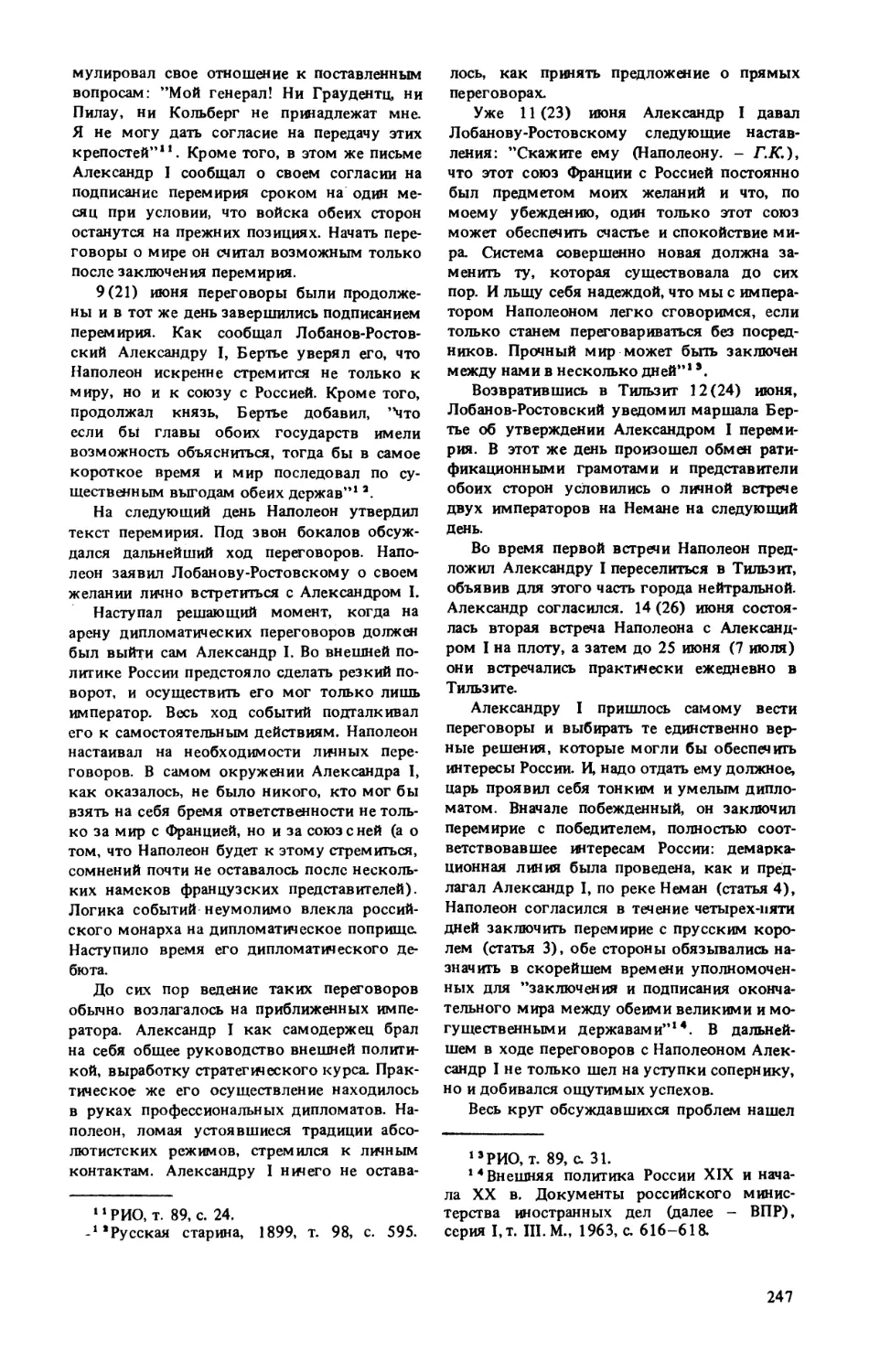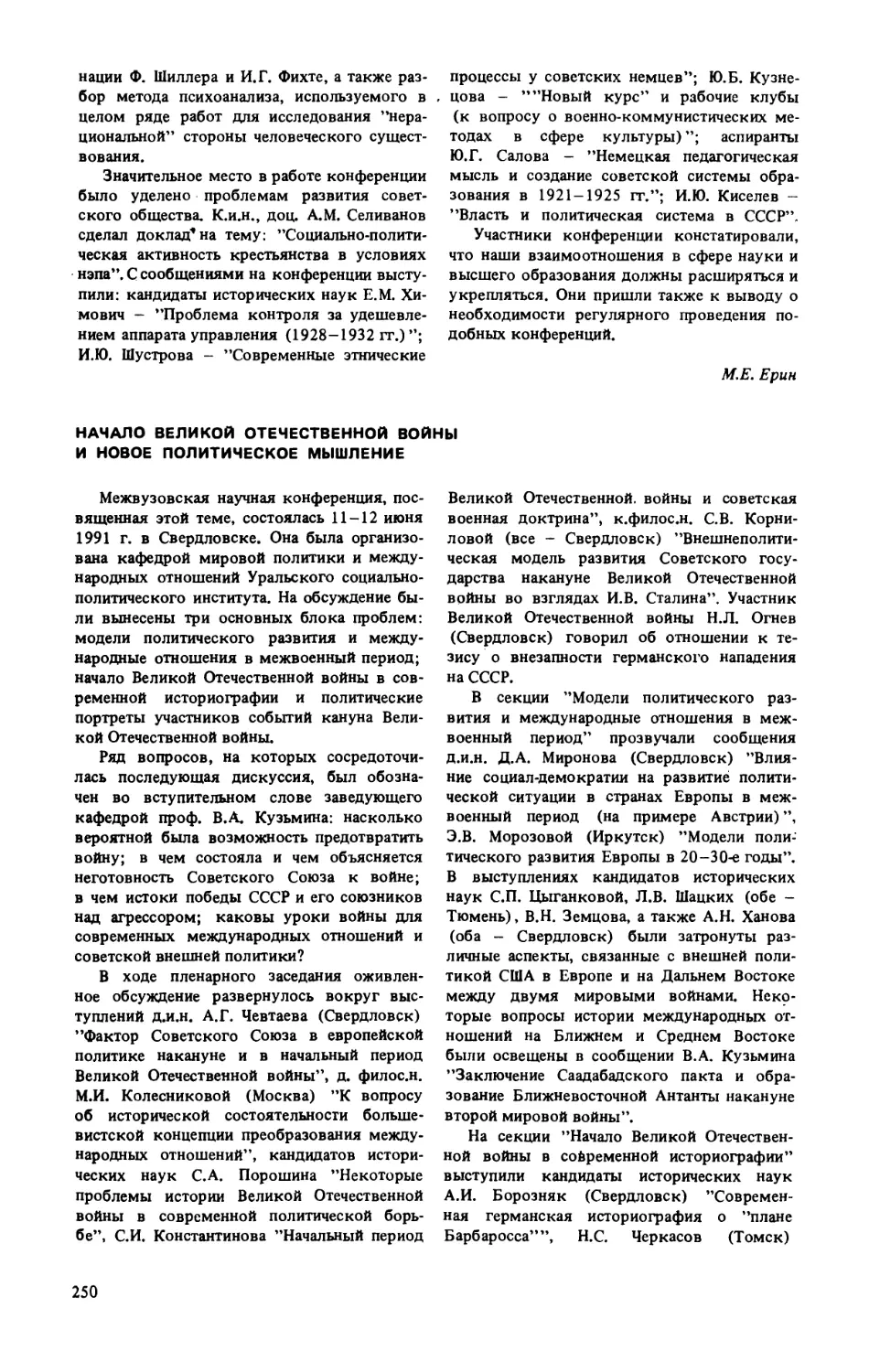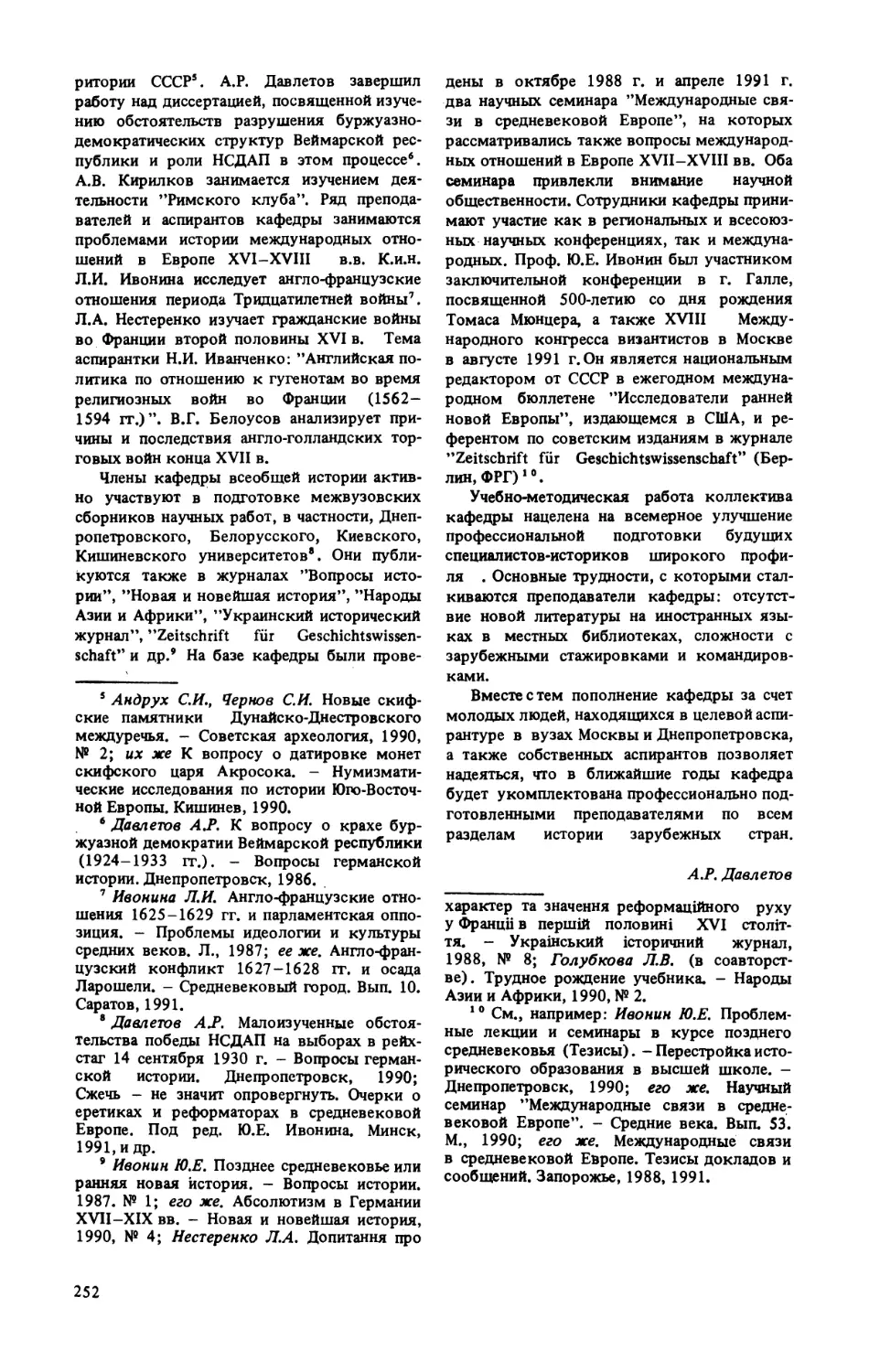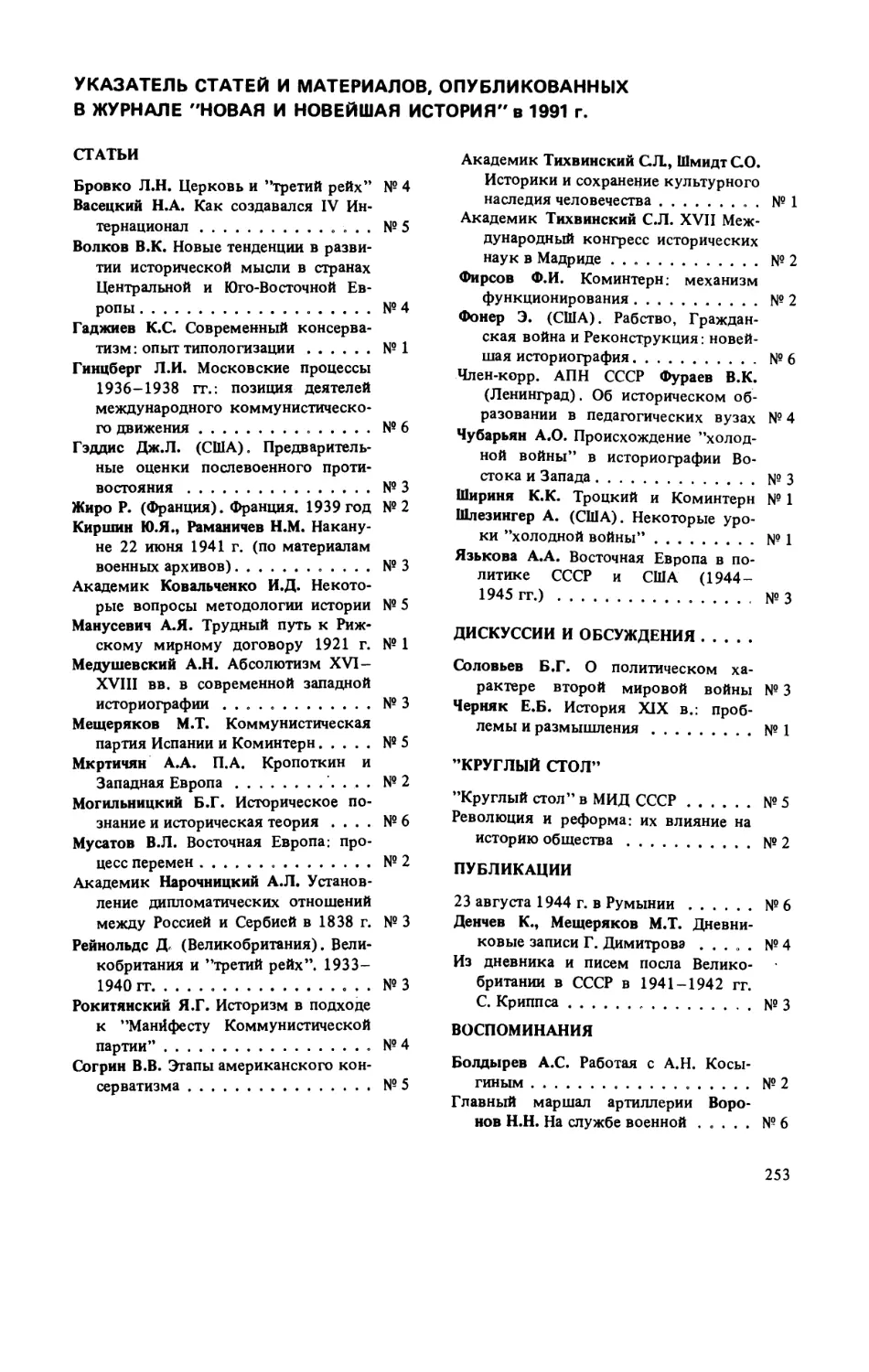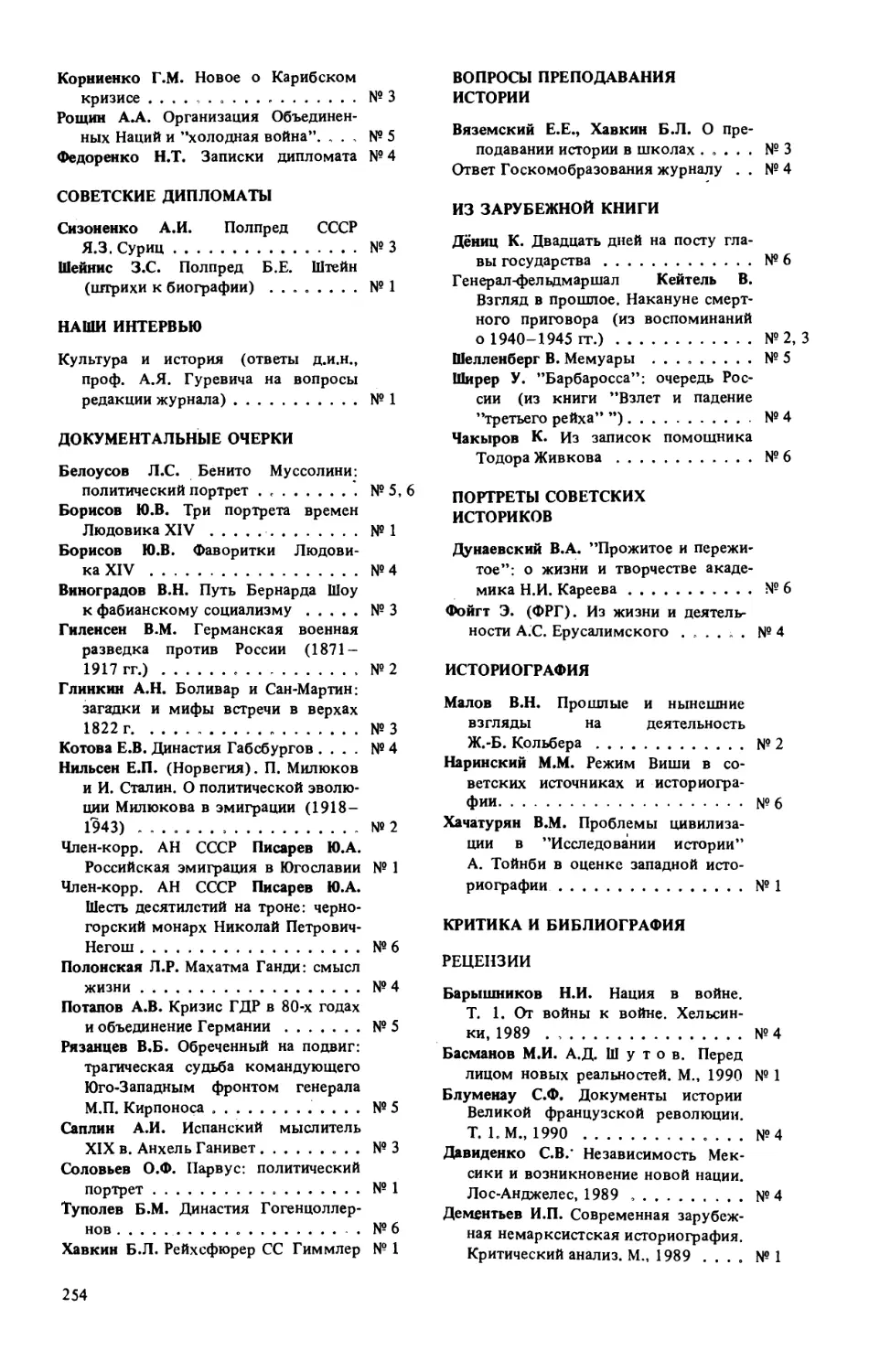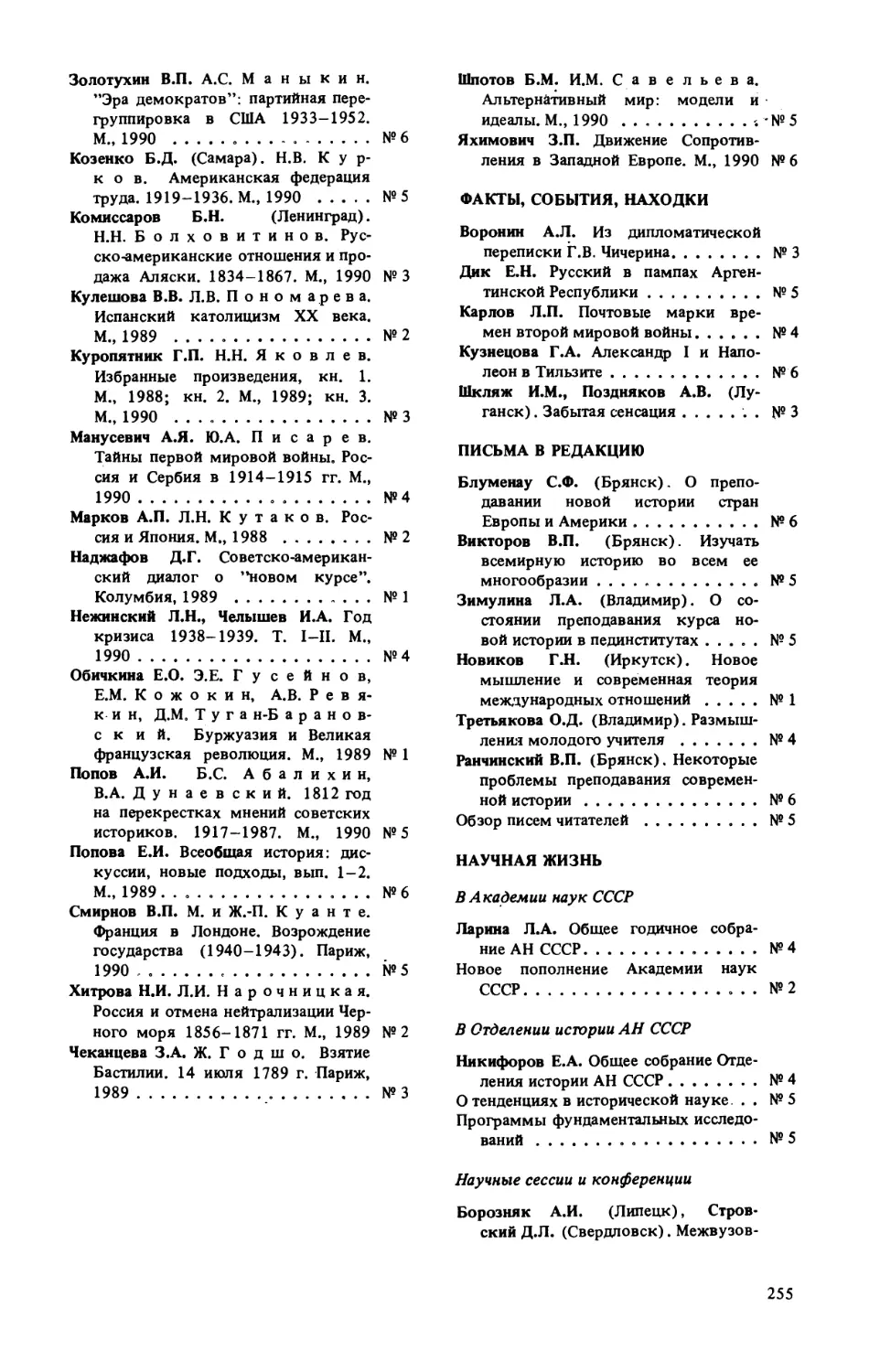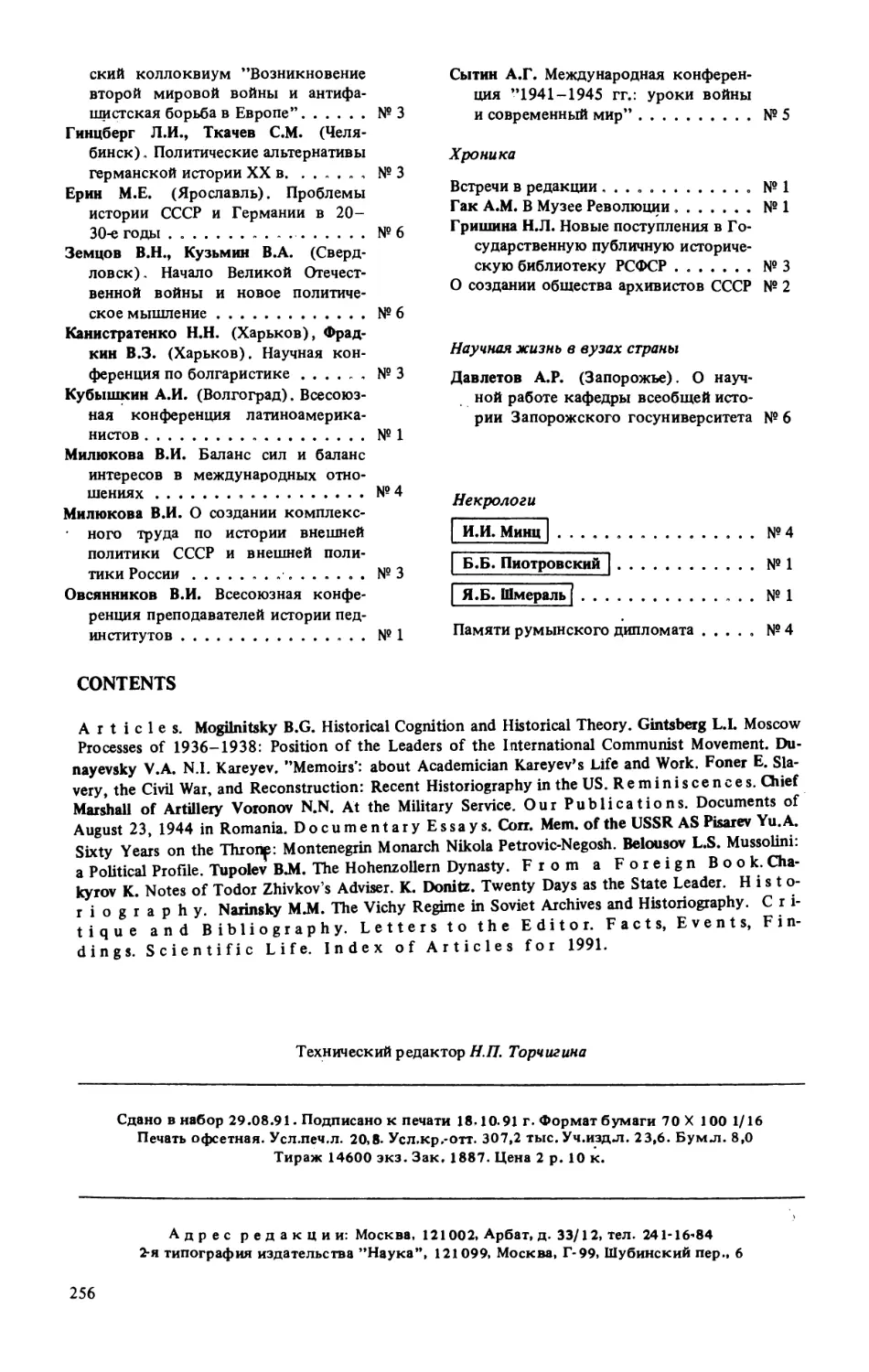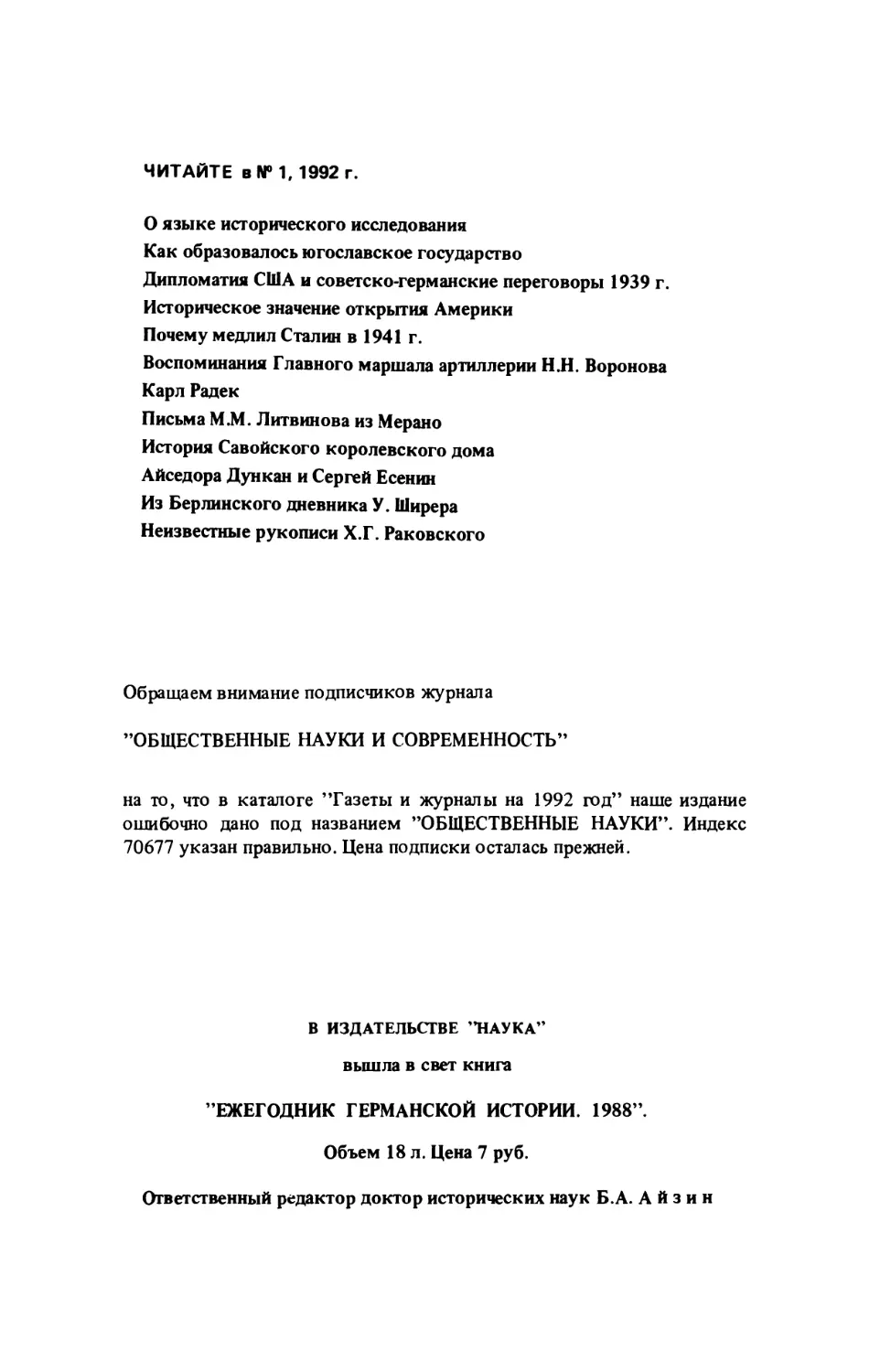Text
ISSN 0130-3864
НОВАЯ
НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ истории
НОВАЯ
НОВКШ11ЛЯ
ИСТОРИЯ
6
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
1991
ЖУРНАЛ ОСНОВАН
В МАЕ 1957 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬИ
Могилъницкий Б.Г. Историческое познание и историческая теория 3
Гинцберг Л.И. Московские процессы 1936-1938 гг.: позиция деятелей
международного коммунистического движения 10
Дунаевский В.А. ’’Прожитое и пережитое”: о жизни и творчестве академика
Н.И. Кареева 24
Фонер Э. (США). Рабство, гражданская война и реконструкция: новейшая
историография 35
ВОСПОМИНАНИЯ
Главный маршал артиллерии Воронов Н.Н. На службе военной 52
ПУБЛИКАЦИИ
23 августа 1944 г. в Румынии 86
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Член-корр. АН СССР Писарев Ю.А. Шесть десятилетий на троне: черногор¬
ский монарх Николай Петрович-Негош 113
Белоусов Л.С. Бенито Муссолини: политический портрет (окончание) .... 133
Туполев Б.М. Династия Гогенцоллернов 143
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ
Чакыров К. Из записок помощника Тодора Живкова 180
Дёниц К. Двадцать дней на посту главы государства 198
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ
Наринскнй М.М. Режим Виши в советских источниках и историографии 223
в ’’НАУКА” • МОСКВА
1
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЦЕНЗИИ
Попова Е.И. Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 1-2. М., 1989 231
Яхимович З.П. Движение Сопротивления в Западной Европе. М., 1990 235
Золотухин В.П. А.С. Маны к ин. ’’Эра демократов”: партийная перегруппировка в
США 1933-1952. М., 1990 237
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Ранчинский В.П. (Брянск). Некоторые проблемы ПР*ШММ№ современной истории 240
Блуменау С.Ф. (Брянск). О преподавании новой Европы и Америки 241
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, НАХОДКИ
Кузнецова Г.А. Александр 1 и Наполеон в Тильзите 243
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Научные сессии и конференции
Ерин М.Е. (Ярославль). Проблемы истории СССР и Германии в 20-30-е годы 249
Земцов В.Н., Кузьмин В.А. (Свердловск). Начало Великой Отечественной войны и
новое политическое мышление 250
Научная жизнь в вузах страны
Давлетов А.Р. (Запорожье). О научной работе кафедры всеобщей истории Запорож¬
ского госуниверситета • • • • 251
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале ’’Новая и новейшая исто¬
рия” в 1991 г 253
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)
А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, В.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь),
Т.М. ИСЛАМОВ, Н.П. КАЛМЫКОВ, Ф.Н. КОВАЛЕВ, И.И. ОРЛИК, Ю.А. ПИСАРЕВ,
В.С.РЫКИН, Н.И. СМОЛЕНСКИЙ, В.В.СОГРИН, Е.И. ТРЯПИЦЫН (зам. главного редактора),
Л.Я. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК, А.О. ЧУБАРЬЯН, Е.Ф. ЯЗЬКОВ
Адрес редакции: Москва, 121002, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84
© Отделение истории АН СССР, 1991 г.
© Институт всеобщей истории АН СССР, 1991 г.
© Издательство ’’Наука”, 1991 Г.
2
Статьи
© 1991 г.
Б.Г. МОГИЛ ЬНИЦКИЙ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
В современной советской исторической науке растет осознание настоятельной
необходимости радикального теоретико-методологического перевооружения.
Становится все очевиднее сомнительность широко укоренившегося убеждения,
что марксистская теория исторического процесса составляет достаточный теоре¬
тический фундамент для конкретных исторических исследований. Не потому,
конечно, что марксизм безнадежно устарел, как утверждают его нынешние
опровергатели, перепевая буржуазную критику, от которой, впрочем, давно от¬
казались ее наиболее серьезные представители, начиная с Макса Вебера. Другое
дело, что необходимо окончательно освободиться от догматического подхода
к марксизму, лишь дискредитирующего его подлинное научное значение.
Применительно к области исторического познания этот подход, в частности,
выражался в убеждении, что общая социологическая теория марксизма (истори¬
ческий материализм) является теоретической основой исторической науки,
освобождающей ее от необходимости вырабатывать собственную теорию, пред¬
назначенную к осмыслению именно ее материала. Такая теория, однако, не мо¬
жет быть простым производным от социологической теории уже вследствие их
различной функциональной природы и заданности. Если последняя является
теорией социального процесса, раскрывающей общие закономерности движе¬
ния истории, то первую можно охарактеризовать как теорию исторического
действия, объясняющую конкретный ход событий, образующих определенную
историческую ситуацию, с чем, собственно, и имеет дело историк.
Разумеется, эти теории нельзя противопоставлять друг другу. Так же, как
отдельные события при всех качествах уникальности и неповторимости, прису¬
щих каждому из них, обретают свой объективный смысл и значение лишь будучи
поставленными в общую историческую связь, так и теория, претендующая на
адекватное объяснение этих событий, не может обойтись без проясняющих такую
связь ориентиров, которые вырабатывает общая социологическая теория. Вопрос
лишь в том, насколько эти ориентиры являются самодостаточными для изуче¬
ния исторической эмпирии.
На данный вопрос мировая историографическая практика дает отрицательный
ответ. Именно этим объясняется стойкое отвращение историков-конкретчиков
ко всякого рода априорным теориям, претендующим на всеобъемлющее объяс¬
нение истории. Сама профессионализация истории, превращение ее в самостоя¬
тельную научную дисциплину имели в качестве одной из своих главных задач
освобождение ее, по образному замечанию новейшего исследователя немарк¬
систской исторической мысли П. Новика, от ’’нечестивой спекулятивной фило¬
софии истории” 1 *.
1 Novick Р. That Noble Dream. The “Objectivity Question’’ in the American Historical Profession.
Cambridge, 1988, p. 600.
3
Однако такое освобождение никак не может отменить потребность нашей
науки в собственно исторической теории. Не случайно осознание этой потреб¬
ности и жалобы на ’’дефицит теории” давно уже стали общим местом в запад¬
ной историко-теоретической мысли. В условиях прогрессирующей фрагментари-
зации исторического познания, сопровождающейся утратой историками веры
в способность их дисциплины достичь широкого взгляда на прошлое, провозгла
шается настоятельная необходимость создания ’’собственно синтетической тео¬
рии истории”, которая бы ’’сбалансировала разросшуюся специализацию и широ¬
кий аналитический подход” 2. Едва ли будет преувеличением сказать, что уси¬
лия создать такую синтетическую (и синтезирующую) теорию составляют основ¬
ное содержание интенсивных поисков, характеризующих современное состояние
западной историко-теоретической мысли.
По существу, перед аналогичной задачей стоит и советская историческая
наука. Хотя следует признать, что размах и уровень разработки в ней теоретико¬
методологических вопросов явно не соответствуют их действительному значению.
Между тем существенная разносторонняя модернизация теоретико-методологи¬
ческого аппарата советской историографии является важнейшей предпосылкой
коренного повышения ее научной и социальной эффективности. Справедливое
всегда, это положение приобретает особое значение сегодня, когда в историчес¬
кую науку хлынул целый поток ранее замалчивавшихся или искажавшихся
знаний. Связанное с этим переосмысление больших разделов отечественной и
всемирной истории необходимо предполагает в качестве своей предпосылки
обретение исторической наукой нового теоретического уровня, позволяющего
раскрывать мир исторических событий в их конкретной взаимосвязи и взаимо¬
обусловленности.
Вот почему представляется весьма своевременным прозвучавший со страниц
журнала ’’Новая и новейшая история” призыв к интенсификации изучения теоре¬
тико-методологических проблем исторической науки3. Нельзя не согласиться
с Н.И. Смоленским, связывающим с таким изучением дальнейший прогресс исто¬
рической науки, как и с формулируемым им перечнем вопросов, настоятельно
нуждающихся в тщательном исследовании, хотя, разумеется, этот перечень и не
является исчерпывающим.
Вместе с тем полагаю, что это исследование будет особенно плодотворным в
том случае, если мы сумеем найти стержень, объединяющий изучение отдельных
теоретико-методологических проблем в нечто цельное. Таким стержнем может
стать обоснование целостной исторической теории как теории ’’среднего уровня”,
имеющей дело непосредственно с деятельностью человека в истории.
В советской литературе уже имеется аналогичная постановка вопроса. Весьма
категорично мысль о том, что ’’историческая наука должна обладать своим собст¬
венным уровнем теории”, выражает M.A.JSapr4. ’’Если нет сомнений в том, -
развивает он эту мысль в специальном исследовании, - что история как наука
включает специфический для нее уровень теоретического знания, то из этого
следует, что нет для нее в настоящее время задачи более актуальной, чем необ¬
ходимость, опираясь на марксистскую философию, разработать соответствую¬
щую этому уровню систему категориального знания, находящуюся на ’’полпути”
3 Curtin Ph. Dept, Span and Relevance. - The American Historical Review, 1934, v. 89, № 1,
p. 2. Ср. констатируемые В. Моммзеном жалобы, что в ФРГ отсутствуют современные синтети¬
ческие исследования среднего уровня, не говоря уже о больших ’’универсально-исторических
трудах”. - Mommsen W.J. GegenwUrtige Tendenzen in der Geschichtsschreibung der Bundesrepublik
Deutschland. - Historjsmus und moderno Geschichtswissenschaft. Stuttgart-Wiesbaden, 1977, S. 110.
3См. Смоленский Н.И О состоянии изучения теоретических проблем исторической науки. -
Новая и новейшая история, 1990» № 4.
*БаргМ.А, О двух уровнях исторического познания. - Вопросы философии, 1984, № 8.
4
между общими законами и категориями исторического материализма, с одной
стороны, и исследовательской методикой историка - с другой” s.
Книга М.А. Барга может рассматриваться как первый значительный опыт специ¬
ального изучения системы категориального знания, ориентированного именно на
изучение истории. Отметим, в частности, обстоятельный анализ категорий истори¬
ческого времени и исторического факта, принципа системности в историческом
исследовании, а также освещение под этим углом зрения некоторых фундамен¬
тальных теоретических проблем истории средних веков и раннего нового времени.
Вызывают, однако, сомнение некоторые исходные посылки М.А. Барга. Он
рассматривает категории исторической науки как безусловно производные от
категорий марксистской философии, призванные дать необходимую теоретичес¬
кую и логическую конкретизацию общих положений материалистического понима¬
ния истории. При этом подчеркивается, что ”у марксистской социологии и исто¬
риографии один и тот же объект изучения — глобальная история человечества”.
Различаются же они лишь ’’уровнем сущности”, на котором она изучается 6.
Думается все же, что в действительности дело обстоит не совсем так. Прежде
всего, трудно согласиться, что объектом изучения исторической науки является
глобальная история человечества, пусть и на уровне внутриформационного региона
или его отдельной стадии. Историков интересуют конкретные события или про¬
цессы, и даже обращаясь, подобно Шлоссеру или современным большим коллек¬
тивам, к изучению всемирной истории, они восходят к общему от конкретного,
индивидуального, частного. Какими бы сюжетами ни занимался историк, какие бы
цели он перед собой ни ставил, непосредственным предметом его исследования
всегда является конкретная историческая действительность. В зависимости от
своих теоретических взглядов разные историки могут далеко расходиться между
собою в определении исследовательской задачи - от простого описания того или
иного конкретного события до выявления определенных закономерностей, объяс¬
няющих ход событий в известных пространственно-временных рамках. Но во всех
случаях в центре их внимания находится человек, в процессе деятельности кото¬
рого вершится сама история.
Это означает, что теория, претендующая на осмысление конкретного движения
истории, воплощенного в определенных исторических ситуациях, совокупность
которых и образует органическую ткань исторического процесса, должна концеп¬
туализироваться вокруг деятельности человека. Уже поэтому историческая теория
не может быть простым проявлением социологической теории, а ее категории -
производными от социологических. Задача, следовательно, заключается не в том,
чтобы ’’выводить” категории исторической науки из марксистской (или любой
другой) философии, а в том, чтобы, используя, конечно, философские (социо¬
логические) ориентиры, разрабатывать собственный категориальный аппарат
исторической науки.
Сам принцип формирования этого аппарата определяется природой историчес¬
кой теории как теории исторического действия. Соответственно этому категории
исторической науки призваны в своей совокупности помочь историку понять,
как совершается это действие, каковы его движущие силы и присущие ему
закономерности в их пространственно-временной определенности.
Отсюда проистекает значение исторической альтернативности как ключевой
в системе категорий исторической науки. Ибо, обосновывая альтернативный
характер исторического процесса, проясняя природу и границы альтернативности
в истории, она, собственно, и может дать ответ на вопрос, как движется история
и почему она движется именно так. Принципиальное значение этой категории
заключается в том, что она предупреждает всякую догматизацию истории, с каких
* Барг МЛ. Категории и методы исторической науки. М., 1984, с. 24.
6 Там же, с. 24-25.
5
бы позиций она ни совершалась. Признание альтернативности в истории исключает
упрощенно-детерминистский подход к ней, будь это представление об историчес¬
ком процессе как реализации божественного плана или неуклонном прогрессе
производительных сил, определяющем все другие стороны жизни общества.
Однако отрицание жестких однолинейных детерминистских схем ни в коей
мере не означает уступки субъективистско-волюнтаристским взглядам на развитие
человеческого общества. Альтернативность в истории не является абсолютной, она
имеет свои объективные рамки, образуемые совокупностью конкретно-истори¬
ческих обстоятельств, в которых протекает деятельность человека. Поэтому в
марксистской исторической теории категория исторической альтернативности
должна выступать в органической связи и диалектическом взаимодействии с кате¬
гориями, отражающими объективную сторону исторического процесса (историчес¬
кая необходимость, причинность в истории и т.п.) .
При этом важно подчеркнуть, что названные категории не являются простыми
”производными” от соответствующих социологических категорий, взятыми исто¬
рической наукой ’’напрокат” у философии, а обладают значительной спецификой,
позволяющей характеризовать их как самостоятельные, отражающие именно ту
реальность, с которой имеет дело историк. Эта специфика выражается, в частности,
в том, что категории исторической науки представляют собою органический сплав
объективного и субъективного начал. Отражая объективные связи реального мира,
они вместе с тем формулируют и условия его преобразования, связанные с дейст¬
вием в истории субъективного фактора. Именно в процессе этого действия тво¬
рится история, складывается та бесконечная цепь событий, которые и ’’состав¬
ляют человеческую деятельность во всех ее сферах, начиная с производства мате¬
риальных благ и кончая наиболее абстрактными сферами интеллектуального твор¬
чества”, и вне которой не может быть никакой истории вообще 7.
Будучи ориентированными на изучение этого мира событий как сферы чело¬
веческой деятельности, категории исторической науки по природе своей носят
субъективно-объективный характер с выраженным акцентом на первой части этой
формулы8. Отсюда следует, что историческая теория как теория исторического
действия, объясняющая формирование и функционирование конкретных истори¬
ческих закономерностей, будет научно' эффективной лишь тогда, когда в фокусе
ее окажется человек, творящий историю. Так переосмысливается знаменитая
максима Протагора о человеке как мере всех вещей, вне многообразной дея¬
тельности которого ничего в истории не происходит.
Но в этом своем качестве и сам человек — существо многомерное, несводи¬
мое к какой-либо одной ипостаси, пусть и такой действительно важной, какой
является ”хомо экономикус”. Следовательно, историческая теория, стремящаяся
охватить все факторы, так или иначе влияющие на историческую действитель¬
ность человека, в своей основе плюралистична. В этом смысле ей присущ ме¬
тодологический плюрализм, отличающий ее от теории социологической.
Разумеется, он не равнозначен методологическому эклектизму — уже потому,
что предполагает диалектическую взаимосвязь факторов исторического действия
и их определенную субординацию. В противоположность эклектическому под¬
ходу он исходит в анализе тех или иных исторических явлений из принципа систем¬
ности. Но как раз такой системный подход, требующий целостного рассмотрения
изучаемого явления, предостерегает от упрощенного монизма в интерпретации
истории. Поскольку всякое историческое событие является совокупным резуль¬
татом действия многих факторов как объективного, так и субъективного порядка,
7 См. Данилов А.И. Историческое событие и историческая наука. - Средние века. Выл. 43.
М., 1980, с. Г.
8Обоснование этого см.: Могилъницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989,
с. 32-36.
6
историческая теория, претендующая на его ооъяснение, неооходимо должна ориен¬
тироваться на выяснение действия этих факторов в их взаимосвязи и взаимообу¬
словленности.
При этом в различных конкретно-исторических условиях на первое место по
своей значимости может выдвигаться то один, то другой фактор. Поэтому в
отличие от социологической теории, формулирующей общие тенденции социаль¬
ного развития и указывающей в этой связи на производство и воспроизводство
действительной жизни как на момент, в конечном счете определяющий истори¬
ческий процесс9, историческая теория, объясняющая механизм конкретного
исторического действия, должна учитывать множество факторов, определяю¬
щих это действие, без априорно принятой их иерархии.
Такая иерархия в каждом случае обусловливается конкретным соотношением
сил, формирующих данную историческую ситуацию, и роль исторической теории
в том и состоит, чтобы выяснить, во-первых, круг факторов исторического дей¬
ствия, во-вторых, природу их взаимодействия и, наконец, предоставить в распоря¬
жение историка категориальный аппарат, способный помочь ему адекватно изобра¬
зить движение истории как продукт деятельности человека в связи с объектив¬
ными условиями, в которых она развертывается.
Но в какой мере такое изображение может претендовать на значение ’’объектив¬
но-истинного”? Вопреки прямому предостережению Ф. Энгельса, подчеркивав¬
шего относительный характер всякого познания, в особенности исторического 10,
в советской науке ответ на этот вопрос часто давался упрощенно однозначный.
Более того, многие годы она претендовала на монопольное обладание истиной.
Сегодня очевидно, насколько эти претензии были далеки от действительности.
Речь идет не только о многочисленных ’’белых пятнах” и прямых искажениях
исторического прошлого. Дело в самой природе отношений между наукой и обще¬
ством, исключающей возможность существования социально независимого зна¬
ния, и более широко — в характере субъектно-объектных отношений в процессе
познания, неизбежно сказывающихся на его результатах. Осознание этого не толь¬
ко должно избавить нас от застарелого предрассудка, будто существует одна-
единственная истина, счастливыми обладателями которой мы являемся по праву
своего марксистского первородства, но и побудить к пересмотру самой проблемы
объективности исторического познания.
К этому пересмотру побуждает весь опыт истории. Герой известного романа
Умберто Эко восклицает: дьявол — ’’это истина, никогда не подвергающаяся сомне¬
нию” 11. Справедливость этого положения подтверждает история тоталитарных
режимов, все действия которых освящались идеологическими постулатами,
утверждавшими непреложные истины во всех сферах жизни общества, конечно,
и в его истории. Какое же здесь могло быть сомнение! Но где нет сомнения, нет
и подлинного знания. В частности, сомнения в автономности научного познания
вообще, исторического в особенности, его независимости от многообразных иска¬
жающих влияний окружающего исследователя внешнего мира.
Даже история естествознания убедительно свидетельствует об относительности
всякой научной истины, ее обусловленности обстоятельствами времени своего
появления. В еще большей степени это справедливо в отношении общественных
наук. Ведь они занимаются самопознанием общества, которое никак не может
быть незаинтересованным, а следовательно, беспристрастным, не зависящим от
многочисленных разнонаправленных импульсов, испытываемых ученым в про¬
цессе познания и, соответственно, отражающихся на его работах. Трудно что-либо
’См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 394.
10 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 87-91.
11 Эко У. Имя розы. М., 1989, с. 408.
7
возразить классику американского релятивизма Ч. Бирду, когда он проклами¬
ровал, что ’’никакой историк не может описывать прошлое, как оно действи¬
тельно было... работа всякого историка — т.е. его отбор фактов, то, что он под¬
черкивает и опускает, их организация, его метод подачи материала - имеет отно¬
шение к его собственной личности и эпохе и обстоятельствам, в которых он
живет”12. Но это означает неустранимость субъективного момента из процесса
познания, а следовательно, и релятивизацию его результатов.
С другой стороны, многомерность человека обусловливает и многомерность
истины о нем, возможной, однако, лишь в идеале. В реальной же действитель¬
ности истина, как правило, является одномерной, отражающей преимущественно
какую-либо одну сторону человеческой деятельности, поэтому неполной, одно¬
сторонней, ограниченной, несущей, наконец, неизгладимую печать своего времени.
То, что еще вчера представлялось ’’объективно-истинным”, сегодня воспринима¬
ется как ложное. Напротив, то, что когда-то казалось ложным, сегодня претендует
на ранг непререкаемой истины. Такими превращениями полна вся история науки,
в особенности же они характеризуют ее переломные периоды.
История науки содержит и другой поучительный урок. Подобно тому, как
не может быть монопольного права на обладание истиной, не может быть и един¬
ственно верного пути к ней. Различные методологические подходы высвечивают
разные грани изучаемого явления, содействуя таким образом его более адекват¬
ному постижению. Борьба же за ’’чистоту” методологии нередко оборачивается
схематизацией истории, искажением ее действительного содержания.
Все это требует гораздо более основательной разработки проблемы объектив¬
ности исторического познания, чем та, что имеет место в нашей литературе, в том
числе и в работах автора этих строк. На смену простому декларированию объек¬
тивности марксистской исторической науки должно прийти тщательное исследо¬
вание предпосылок, возможностей и пределов адекватного отражения истори¬
ческой действительности. Усвоение определенной дозы релятивизма будет спо¬
собствовать выработке более трезвого взгляда на проблему исторической объек¬
тивности. Не отвергая принципиальную возможность получения объективно¬
истинного знания о прошлом как главной цели исторической науки, необходимо
сосредоточить усилия на выяснении действительной природы знаний, которыми
оперирует историк.
Здесь мы возвращаемся к исторической теории. Именно она формирует и
обосновывает тот методологический инструментарий, с помощью которого иссле¬
дователь добывает и верифицирует истину, обретающую форму научного истори¬
ческого факта. Но, как справедливо подчеркивает Н.И. Смоленский, ’’наиболее
адекватно исторические факты оцениваются в структуре представлений на уровне
теории” 13. А следовательно, убедительность такой оценки, основательность ее
претензий на общезначимость напрямую зависит от степени разработки этой тео¬
рии, научной эффективности охватываемых ею основных понятий, с которыми
работает историк.
И, наконец, последнее. Уровень исторической теории значительно менее
идеологизирован, чем уровень теории социологической, что создает благоприят¬
ную почву для продуктивного сотрудничества с историками-немарксистами,
решающими, в сущности, ту же задачу. Конечно, сегодня едва ли возможна тео¬
рия, в равной мере приемлемая для всех историков независимо от,их мировоззрен¬
ческих позиций. Однако это не исключает возможности конструктивного диало¬
га — взаимовлияния на уровне исторической теории между исследователями,
исповедующими различные идейные убелодения. Отметим, в частности, возмож¬
ности, которые представляют для научного осмысления исторической действитель¬
12The Philosophy of History in our Time. Ed. H. Meyerhoff. New York, 1959, p. 139.
13 Смоленский Н.И, Указ, соч., с. 205.
8
ности взгляды Макса Вебера 14, равно как и новейшие достижения целого ряда
интенсивно развивающихся на Западе исторических дисциплин, подобно историчес¬
кой антропологии, истории ментальностей, психоистории и других, обогащающих
наше понимание исторической деятельности человека, а тем самым способствую¬
щих более глубокому постижению прошлого на уровне исторической теории.
С другой стороны, хорошо известен стойкий интерес к марксистским конструк¬
циям западных теоретизирующих историков. Оставаясь на принципиально плюра¬
листических позициях, они вместе с тем усматривают в материалистическом пони¬
мании истории один из важнейших теоретических источников осмысления исто¬
рической эмпирии, ибо, резюмирует Б. Бейлин, ’’марксистское вйдение является
мощной силой в нашем понимании прошлого, каким бы ни был наш собствен¬
ный подход к истории”15. Так открывается широкое поле для творческого
взаимодействия марксистской и немарксистской историко-теоретической мысли
в решении одной из актуальнейших проблем исторического познания - обоснова¬
ния самостоятельной исторической теории.
14См.: Тополъский Е. Методология истории и исторический материализм. - Вопросы исто¬
рии, 1990, № 5, с. 14. На ”параллели с марксистской методологией” в веберовских построе¬
ниях на уровне исторической теории указывает и В. Моммзен. - Моммзен В. Макс Вебер
и историческая наука. - Новая и новейшая история, 1990, № 4, с. 61.
**Bailyn В. The Challenge of Modern Historiography. - The American Historical Review, 1982,
v. 87, № 1, p. 6. При этом речь идет не только о сфере социально-экономических отношений.
Подчеркивается ’’явный марксистский вклад” в интеллектуальную историю, состоящий
”в разработке ценностей и политического сознания различных угнетенных социальных групп”
(Henretta J.A. Social History as Lived and Written. - The American Historical Review, 1979, v. ’ 84,
№5,p. 1304).
9
(£> 1991 г. г
Л.И. ГИНЦБЕРГ
МОСКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1936-1938 гг.:
ПОЗИЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Настоящая статья была первоначально посвящена частному вопросу -причинам
неудачи Комитета по подготовке Народного фронта в Германии, созданного в
Париже в 1936 г. Перспективы его во время формирования казались весьма радуж¬
ными, ибо впервые удалось добиться того, что представители самых различных
течений антифашистского лагеря, которых разделяла многолетняя политическая
борьба, сели за стол и договорились о совместных действиях, настоятельно дикто¬
вавшихся обстановкой. Но надежды на то, что это сотрудничество будет постоян¬
но крепнуть и приведет к прочной консолидации всех противников фашизма в
Народном фронте, который проявил бы свою силу и в эмиграции, и в германском
подполье, не оправдались.
В марксистской литературе причины этой неудачи излагались очень туманно;
на первом месте, как обычно, фигурировала враждебная по отношению к Комму¬
нистической партии Германии (КПГ) политика ее партнеров по Комитету, прежде
всего социал-демократов. Что касается враждебности партнеров (если вообще
можно говорить о враждебности к КПГ всех деятелей антифашистской оппози¬
ции, входивших в состав Комитета), то это фактор постоянный; он действовал
и во время создания Комитета по подготовке Народного фронта в Германии,
что не помешало и социал-демократам (причем различных течений), и представи¬
телям буржуазных группировок, являвшихся противниками фашизма, пойти
на соглашение с КПГ. Следовательно, в течение 1936—1937 гг. должно было что-то
произойти, чтобы позиция партнеров КПГ изменилась к худшему и их готовность
к сотрудничеству с нею резко уменьшилась.
Причиной тому явились массовые репрессии в СССР, точнее - судебные процес¬
сы над Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым, Ю.Л. Пятаковым, Н.И. Бухариным,
А.И. Рыковым и другими, первый из которых состоялся летом 1936 г. В совет¬
ской литературе, в работах историков ГДР связи между этими шоу-процессами
и неудачей парижского Комитета не проводилось; в лучшем случае (как, напри¬
мер, в статье К.-Х. Пеха1) репрессии фигурировали в качестве повода для
обструкции со стороны партнеров КПГ по Комитету, в частности, в ходе раз¬
работки его программы. Лишь в недавней монографии Г.В. Кацмана об анти¬
фашистской борьбе КПГ в 1935 -1939 гг. говорится о репрессиях как факторе,
обусловившем неэффективность парижского Комитета 2.
Изучение поставленного вопроса привело нас к периодическим изданиям
Коммунистического Интернационала, где публиковались различные материалы
КПГ. При этом во всем объеме раскрылась реакция Коминтерна, его секций
на то, что происходило в СССР. Репрессии затронули не только видных деяте¬
лей партии большевиков и множество других людей, представлявших все слои
советского общества, но и немалое количество выходцев из других стран, вклю-
'PechK-H. KPD und antifaschistische Volksfront im franzósischem Exit - Beitrage zur
Geschichte der Arbeit erbewegung, 1981, №5.
2Кацман Г.В. Коммунистическая партия Германии в борьбе за единство антифашистских
сил (1935 -1939). М., 1988, с. 97.
10
чая тысячи немцев-антифашистов, нашедших убежище в СССР. Тем не менее
зарубежные компартии не просто одобряли эти репрессии, а активно участвовали
в преследовании Л.Д. Троцкого, его действительных и мнимых единомышленни¬
ков. Коминтерн сослужил свою службу Сталину в перенесении на международ¬
ную арену предвзятой кампании, имевшей целью политически дискредитировать
Троцкого как якобы сторонника фашизма. Одновременно московские процессы
использовались для расправы с теми коммунистами, которые выступали с крити¬
кой курса своих партий. В сложившихся условиях их могли без всяких доказа¬
тельств отнести к ’’троцкистским преступникам”.
Это видно на примере КПГ. Сразу после первого процесса над Зиновьевым,
Каменевым и их ’’сообщниками” ЦК КПГ принял резолюцию о ’’троцкистско-
зиновьевских преступлениях против рабочего класса”. В этом документе,
в частности, говорилось: ”КПГ присоединяет свой голос к требованиям преиспол¬
ненного возмущения и гнева 170-миллионного народа Советского Союза о беспо¬
щадном искоренении человеческой накипи - троцкистско-зиновьевской банды
убийц. Вынесенный советским судом смертный приговор и его приведение в
исполнение - заслуженная кара за неслыханные преступления этих бандитов”.
Далее ЦК КПГ обращается к весьма неприятному для него казусу: среди под¬
судимых находились и деятели КПГ Ф. Давид и К.Б. Берман-Юрин. Давид,
согласно лживому обвинению, готовил будто бы убийство ’’самого дорогого
для нас учителя и вождя”; этот террористический акт якобы должен был быть
осуществлен по заданию самого Троцкого во время работы VII конгресса
Коминтерна летом 1935 г. ЦК КПГ признал свою ’’абсолютно недостаточную
бдительность” и обещал извлечь из этого казуса, о полной недостоверности
которого тогда же писали многие органы зарубежной печати, ’’очень серьезные
уроки”3.
Об этом же шла речь и в редакционной статье журнала ’’Коммунистический
Интернационал”, озаглавленной ’’Троцкистско-зиновьевская банда убийц перед
судом пролетариата”. Подчеркнув, что последние ’’подняли руку на самое доро¬
гое, самое заветное у миллионов тружеников - на жизнь Сталина”, статья при¬
зывала к ’’бдительности, глубокой большевистской бдительности”, которая
должна была проявляться ’’всюду и всегда”, и подчеркивала: ’’Нельзя пройти
мимо таких фактов, когда люди, подобные Ф. Давиду и М. Лурье и др., исполь¬
зуя отсутствие бдительности и в ряде случаев прямое мелкобуржуазное благо¬
душие, пробираются в партийные организации”. Это могло произойти, по мне¬
нию авторов статьи, из-за недопустимого для большевиков гнилого либерализма,
распущенности и невыполнения указаний об изучении кадров 4.
План политического разгрома Троцкого и его сторонников, разработанный
Сталиным, предусматривал не только отождествление их взглядов с идеологией
фашизма, но и обвинение в прямом сотрудничестве с ним. Этому служил про¬
цесс, состоявшийся в начале 1937 г., над Ю.Л. Пятаковым, Г.В. Сокольниковым
и рядом других видных представителей ленинской гвардии: они должны были
свидетельствовать справедливость измышлений ’’вождя народов” о связях Троц¬
кого с руководящими деятелями гитлеровской Германии с целью реставрации
капиталистического строя в СССР. Чем нелепее были обвинения (например,
о личной встрече Троцкого с Гессом!), тем более активно руководство КПГ
на правах наиболее компетентной инстанции в вопросах германского фашизма
отстаивало их, пользуясь своим авторитетом в Коминтерне5. Вспомним, что с
’Die Internationale, 1936, №6/7, S. 96-97.
4Коммунистический Интернационал, 1936, № 34, с. 18.
’В статье ’’Геринг защищает троцкистских поджигателей войны” В. Ульбрихт ставил во¬
прос: ”Не находится ли позиция контрреволюционного троцкизма по отношению к индустри¬
ализации и коллективизации в полном соответствии с речами Гитлера и с предусматривавши¬
мися уступками германским и японским капиталистам?”. - Rundschau, 1937, № 6, S. 240.
11
отчетным докладом ИККИ на VII конгрессе выступил В. Пик. В обращении к
ЦК ВКП(б), опубликованном в 1937 г., ЦК КПГ выражал ’’полную солидар¬
ность с приговором военной коллегии Верховного суда СССР троцкистской
банде преступников” и утверждал, что процесс велся при полной гласности,
причем подсудимые будто бы пользовались всеми правами защиты (мировая
общественность категорически отрицала это). ЦК КПГ заявлял: процесс ’’явится
большой помощью находящимся в тяжелейших условиях антифашистам Герма¬
нии в их борьбе против гитлеровского фашизма и преступного троцкизма”6.
Можно только удивляться даже не уподоблению фашизма троцкизму — оно
списано с обвинительного заключения и материалов, публиковавшихся в совет¬
ской прессе, - а утверждению, что немецкие антифашисты якобы видят, наряду
с кровавым фашизмом, своего главного врага в троцкизме, о котором они мало
что знали. ЦК КПГ обязывался ’’сделать все, чтобы полностью искоренить это
отребье в рабочем движении” 7.
В связи с судилищем над советскими военными деятелями в мае того же года
ЦК КПГ направил ВКП(б) и ’’лично товарищу Сталину” горячее приветствие.
Он заявил: ’’Бдительность и суровость советского правительства по отношению
к троцкистским заговорщикам должны стать для всех немецких антифашистов
примером для подражания”8. Прошел еще год, состоялся еще один процесс,
в котором волею Сталина на скамье подсудимых были противоестественно объеди¬
нены ’’правые” и ’’левые” (т.е. те, кого именовали сторонниками Троцкого). По¬
следним вновь посвящалось видное место в резолюции ЦК КПГ о политическом
положении, принятой в мае 1938 г. Здесь утверждалось, будто германский фашизм
”в лице троцкистов имеет послушных помощников, которые служат ему в качест¬
ве шпионов и провокаторов в борьбе против трудящихся масс. Троцкисты, вся¬
чески маскируясь, стремятся проникнуть в подпольные организации рабочего
класса, в организации КПГ и СДПГ, чтобы псевдорадикальными фразами ввести
рабочих в заблуждение... разложить их организации и, используя провокаторов,
выдать активные элементы пролетариата гестапо” 9.
На тех же позициях стоял и генеральный секретарь Исполкома Коминтерна
Г. Димитров. Его статья ’’Защищать подлых террористов — значит помогать
фашизму”, опубликованная в конце 1936 г„, являлась ответом на телеграмму
протеста, направленную Советскому правительству руководителями Рабочего
социалистического Интернационала и Международного объединения проф¬
союзов - У. Ситрином, Л.де Брукером и другими - в связи с процессом над
’’троцкистско-зиновьевским центром”. По мнению Димитрова, эту телеграмму
’’нельзя читать без чувства глубокого возмущения”. Автор отвергал высказан¬
ные в ней соображения об отсутствии документальных и вещественных доказа¬
тельств вины подсудимых, о недостаточности защиты. Димитров заявлял:
’’Преступные заговорщики были пойманы с поличным, с оружием в руках”.
Это явно не соответствовало действительности. Далее он утверждал: ’’Обвиняе¬
мые отказались от защиты, от вызова каких-либо свидетелей, от своих защити¬
тельных речей”. Получалось, что во всем виноваты сами подсудимые.
* О том же говорилось в сфабрикованных письмах (якобы исходивших от немецких под¬
польщиков) , в которых утверждалось, что московский процесс ’'является прямой помощью
для нас, немецких антифашистов, для немецкого Народного фронта и мощным ударом по
главному врагу - германскому фашизму”. - Rundschau, 1938, № 20, S. 639. В этих письмах
и в приведенных выше резолюциях - один и тот же словарь. Поистине вымученными пред¬
ставляются слова из статьи Ф. Далема, в то время делегата ЦК КПГ в Испании: ’’Большой
урок московского процесса - необходимость единства рабочего класса в борьбе против
фашизма”. - Rundschau, 1938, № 18, S. 572. Каждый новый судебный процесс в СССР наносил
этому единству непоправимый удар.
7 Rundschau, 1937, № 6, S. 252.
8 Rundschau, 1937, № 27, S. 983.
’Rundschau, 1938, №33, S. 1111.
12
Димитров отметал любую критику судопроизводства по делу Зиновьева,
Каменева и др. А ведь прошло только три года с тех пор, когда он сам находился
в положении обвиняемого в вымышленных преступлениях, сам вел свою защиту
и досконально изучил различные юридические тонкости, в частности вопрос о
достоверности обвинительных доказательств. Димитрову изменило чувство
реального, когда он писал в заключение: ”Мы не сомневаемся, что все организа¬
ции рабочего класса дадут заслуженный отпор антисоветским выходкам Ситри-
нов”. Столь же необоснованно звучало и заявление: ’’Давно пора положить
конец их выступлениям от имени рабочих организаций”10. Это напоминало
времена 20-х - первой половины 30-х годов, когда Коминтерн энергично добивал¬
ся ликвидации влияния социал-демократии и полагал, что близок к своей цели.
Хотя Димитров и другие вроде бы и не придавали большого значения ’’крити¬
кам” из лагеря социал-демократии, но позиция последней была для них, конечно,
небезразлична. Это видно, например, из резолюции ЦК Французской коммунис¬
тической партии (ФКП), принятой после процесса над ’’троцкистско-бухарин¬
ским центром”. Вначале высказывалась мысль, присутствовавшая во многих
аналогичных документах: ’’Когда фашисты становятся полубезумными от
ярости, когда они видят, что их агентура разоблачена и наказана, то это можно
попять”. А далее следовало: ”Но в яростный хор фашистов вплетаются и другие
голоса” и назывались Социалистический рабочий Интернационал, Амстердамский
Интернационал профсоюзов, газета Социалистической партии Франции ’’Попюлер”
и др.11 Для ФКП, входившей в Народный фронт, последнее было особенно суще¬
ственно, если учесть, что к тому времени единству Народного фронта угрожали
и иные немаловажные факторы.
Из многих откликов на московские процессы обращает на себя внимание
статья руководителя Коммунистической партии Великобритании Г. Поллита,
опубликованная в 1938 г. ”Я без колебаний, - писал Поллит, - утверждаю, что
ликвидация предателей — столь же крупная победа для социализма и мира, как
и выполнение пятилетнего плана”.'Рассуждая о пресловутых ’’признаниях” под¬
судимых, автор заявлял (теперь мы можем сказать - кощунственно) : ’’Каменев
и Зиновьев (на процессе 1936 г. - Л.Г.) сказали не все. Только благодаря скру¬
пулезной, терпеливой работе советских органов правда выходит наружу” 12.
Конечно, такие взгляды были присущи не только Поллиту. Их разделял и
П. Тольятти (в те времена - Эрколи). Его статья ’’Уроки процесса троцкистско-
зиновьевского террористического центра” была опубликована в следующем
после того, в котором напечатана рассмотренная статья Димитрова, номере журна¬
ла ’’Коммунистический Интернационал”. Выдвигавшимся за рубежом упрекам
в отсутствии у обвиняемых необходимых юридических гарантий Тольятти про¬
тивопоставлял такой афоризм: ”В мире есть лишь один суд, состав которого,
закон, который он применяет, и процедура, которой он следует, дают полную
гарантию справедливости не только формальной, но и по существу: это советский,
пролетарский суд”. Полемизируя с Ситрином и де Брукером, автор стремился
доказать, что ’’авангарду рабочего класса не только нет нужды оправдывать перед
лицом атаки социал-демократических вождей акты пролетарского правосудия
в Советском Союзе, а, наоборот, перед ними должны держать ответ реакцион¬
ные вожди социал-демократии за то, что, защищая троцкистских бандитов, они
на деле становятся на сторону фашизма”. Тольятти фактически отказался от
рассмотрения по существу поставленного международной социал-демократией
вопроса о репрессиях в СССР, расценивая его лишь как повод для ее атаки на
коммунистов. Он писал: ’’Если бы не было московского процесса, реакционные
10 Коммунистический Интернационал, 1936, № 14, с. 3-4, 6.
11 Rundschau, 1938, №13, S. 408.
iaRundschau, 1938, № 16, S. 500.
13
вожди социал-демократии искали бы и нашли бы какой-нибудь другой предлог
для развития этой кампании”.
Не касаясь некоторых утверждений, содержавшихся в этой статье, в част¬
ности о том, что О. Бауэр якобы ’’всегда готов в решительных вопросах стать
на сторону реакционного крыла социал-демократии”, в то время, как на деле
Бауэр издавна был лидером левого крыла Социалистической партии Австрии,
а в рассматриваемые годы занимал особенно прогрессивные позиции, или о том,
что Р. Фишер является ближайшей сотрудницей ренегата Ж. Дорио, примкнув¬
шего к фашистам, отметим еще следующее положение статьи Тольятти: ’’Борьба
между нами и реакционной социал-демократией по поводу московского про¬
цесса является составной частью борьбы, которую ведет авангард рабочего класса
против фашизма” 13. Получалось, что социал-демократия равнозначна фашизму.
Формула очень знакомая, сталинская, но с 1935 г. Коминтерн в общем отказал¬
ся от нее. Следует, однако, иметь в виду, что уже первый московский процесс
серьезно обострил отношения между двумя главными течениями рабочего дви¬
жения 14. В обеих цитированных статьях часто встречается оборот ’’реакционные
вожди социал-демократии”, который в течение некоторого времени уже не
употреблялся. А ведь сталинские репрессии в СССР только разворачивались,
еще предстоял 1937 год, и надежды Димитрова и Тольятти на то, что между¬
народный рабочий класс поверит вымыслам о ’’троцкистско-зиновьевской банде
убийц”, не имели под собой серьезных оснований.
По мере развития событий, расширения репрессий и соответственно умножения
протестов против них, в первую очередь со стороны социал-демократии, росла
неприязнь, а то и озлобленность против нее. В статье, посвященной 20-летию
Октябрьской революции, Димитров уже утверждал, что ’’тысячу раз прав
товарищ Сталин, когда десять лет назад писал: ’’Невозможно покончить с капита¬
лизмом, не покончив с социал-демократизмом в рабочем движении” ” 15.
Это высказывание не осталось незамеченным; оно вызвало негодующие откли¬
ки из среды социал-демократов. В 12-м номере ’’Коммунистического Интернацио¬
нала” за 1937 г. пришлось поместить две статьи (автором одной из них был
Э. Фишер, чрезвычайно активный по части ’’троцкистоедства”), целью которых
было доказать, что социал-демократизм не идентичен социал-демократии как
организации. Вывод Фишера выглядел более чем ’’оригинально”. Он гласил:
’’Для того, чтобы покончить с капитализмом и ожесточенной формой его господ¬
ства — фашизмом, необходимо покончить с социал-демократизмом в рабочем
движении” 16. Если пренебречь стилистическим различием между словами
’’социал-демократия” и ’’социал-демократизм”, то приведенная формула практи¬
чески возвращала к ультралевым установкам КПГ начала 30-х годов, проложив¬
шим путь к 30 января 1933 г,
В истории сталинских репрессий особое место занимает фев рал ьско-мартов¬
ский пленум ЦК ВКП(б) 1937 г., давший ’’теоретическое” обоснование уничто¬
жению миллионов людей. Журнал ’’Коммунистический Интернационал” (немецкое
издание) опубликовал доклад Сталина ”0 недостатках партийной работы и мерах
ликвидации троцкистских и иных двурушников” и посвятил пленуму передовую
статью. ’’Все коммунистические партии, — декларировалось здесь, - обязаны
серьезнейшим образом изучать уроки февральского пленума... Пусть уроки
последнего пленума ЦК ВКП(б) способствуют новому подъему международного
^Коммунистический Интернационал, 1936, № 15, с. 34-36.
14Вот что писал Р. Гильфердинг Ф. Штампферу уже 28 августа 1936 г.: ’’Московский про¬
цесс подействовал катастрофически и страшно скомпрометировал политику Народного фрон¬
та”. - Mit dem Gesicht nach Deutschland. Dusseldorf, 1968, S. 285.
^Коммунистический Интернационал, 1937, № 10-11, с. 21.
16 Коммунистический Интернационал, 1937, № 12, с. 40.
14
коммунистического движения”17. Такое предположение можно было сделать,
лишь полностью игнорируя реальность: нараставшие в СССР репрессии вносили
в рабочую среду, в частности и в ряды коммунистов, сильнейший разлад. О реше¬
ниях печально знаменитого пленума ЦК ВКП(б) в передовой говорилось, будто
они ’’содержат подлинный клад идей, опирающийся на ценнейший опыт
ВКП(б)”1®.
В середине 1937 г. после неправедного суда над М.Н. Тухачевским, И.Э. Яки-
ром и другими военачальниками президиум ИККИ принял пространную резолю¬
цию, в которой предусматривался ряд мер по усилению чистки последователей
Троцкого (а вернее, тех лиц, которых объявили таковыми) из входивших в
Коминтерн организаций. Секциям предлагалось как на собраниях, так и в печати
развернуть систематическую борьбу против троцкизма как агентуры фашизма,
используя для этого итоги судебных процессов над ’’троцкистско-зиновьевским”
и ’’параллельным троцкистским” антисоветскими центрами; включить в програм¬
мы партийных школ специальный курс, в котором должны были излагаться
методы борьбы против фашизма и его троцкистской агентуры. Но этим дело не
ограничилось. В резолюции подчеркивалась необходимость ’’мобилизации партий¬
ных организаций на разоблачение троцкистских элементов, которые облекают
свои разногласия с политикой партии и Коминтерна в форму различных оговорок
относительно теоретических установок партии”. Предлагалось также провести
чистку парторганизаций от ’’двурушнических троцкистских элементов” 19.
Обращают на себя внимание знакомый лексикон, заимствованный из совет¬
ских источников, и почерпнутый оттуда же прием, когда неприятие тех или иных
тактических установок уподоблялось принципиальному несогласию с политикой
партии в целом, а такие коммунисты рассматривались как троцкистские элемен¬
ты. Усилиями Сталина и его пособников Троцкий был превращен в жупел, совер¬
шенно оторванный от реальной действительности и предназначенный для запугива¬
ния тех, кто даже по отдельным, частным вопросам имел свое мнение.
Важным полем борьбы на уничтожение, которую Сталин вел против Троц¬
кого, стала Испания периода национально-революционной войны против фашизма.
Правдивая история последней еще не написана, но ее единовременность с массо¬
выми репрессиями в СССР не прошла бесследно для развития событий в Испании.
Отрицательное влияние репрессий на исход борьбы испанского народа определя¬
лось среди прочих факторов отозванием многих военных советников и других
советских участников антифашистской войны на родину, где они затем уничто¬
жались. В самой Испании антитроцкистский психоз, на службу которому был
поставлен и карательный аппарат, требовал жертв, в том числе и в рядах интер¬
национальных бригад20. К тому же среди республиканцев возник раскол, вы¬
званный преследованием ПОУМ - организации, придерживавшейся левацких
взглядов и находившейся под влиянием некоторых идей Троцкого (или обвинен¬
ной в этом - убедительные доказательства тогда не требовались). Если бы
не кампания, развернувшаяся по указанию Сталина и в республиканской Испа¬
нии, против всего, что было связано с Троцким, то отношения правительствен¬
ных партий с ПОУМ скорей всего были бы урегулированы мирным путем и
известное выступление последней весной 1937 г. в Барселоне, вероятно, стало бы
излишним.
В течение всех этих лет печатные органы Коминтерна широко освещали мос¬
ковские процессы. Журнал ’’Рундшау” помещал полный текст протоколов каж¬
дого из них, в некоторых случаях посвящая этому целиком один-два номера
17 Kommunistische Internationale, 1937, №4, S. 9.
18 Ibid., S. 2.
18Коммунистический Интернационал, 1937, № 6, с. 100-101.
™ZurMiihlen Р, Spanien war ihre Hoffnung. Bonn, 1983, S. 150 ff.
15
или давая специальные приложения. Публиковалось также много откликов,
но только таких, в которых признания подсудимых не подвергались сомне¬
ниям. Конечно, для коммунистов разных стран убедительно звучало мнение
М. Каше на о процессе над ’’параллельным троцкистским центром”: ’’Нельзя
более говорить об этом процессе как о заранее подготовленной комедии.
Стали известны слишком серьезные вещи о людях, еще вчера занимавших
важные посты”21. Старый революционер ”не заметил”, что, кроме признаний
подсудимых, обвинение сколько-нибудь существенными объективными доказа¬
тельствами не располагало.
В отличие от Кашена анонимный автор статьи в ’’Рундшау” хорошо знал, в чем
состоит слабость обвинения на московских процессах. В ней говорилось: ’’Письмо
Троцкого Радеку (о нем шла речь на процессе над ’’параллельным троцкистским
центром”. - ЛГ.} уничтожено, отсутствует также заверенный подписями прото¬
кол беседы Троцкого с Пятаковым. Нет и письменных указаний об актах террора
и саботажа. И тем не менее мы располагаем ’’заверенным документом”, заменяю¬
щим и письмо Радеку, и протокол беседы с Пятаковым, и рекомендации относи¬
тельно актов террора и саботажа: им является книга Троцкого ’’Преданная рево¬
люция”, законченная перед первым процессом в августе 1936 г.”22 Эта версия
максимально выпукло показывает, что главной целью данного процесса, да и
остальных, было шельмование Троцкого, а обвиняемые играли при этом лишь
служебную роль. Поэтому коминтерновские издания выступали против тех,
кто, защищая ’’троцкистско-бухаринских заговорщиков”, ’’прибегает к юриди¬
ческим ухищрениям” и ’’психологическим соображениям” - ведь именно это
было самым уязвимым местом всех шоу-процессов, к тому времени уже имев¬
ших достаточно длительную историю 23.
Упоминавшемуся процессу над Тухачевским и другими журнал ’’Коммунис¬
тический Интернационал” (немецкое издание) посвятил передовую статью, в кото¬
рой утверждалось, что ’’ничтожная кучка предателей социалистического отечества
по поручению злейшего врага СССР пыталась нанести удар в спину”. В заключение
говорилось, будто ’’после очищения от презренных предателей, троцкистских и
иных агентов фашизма, Советский Союз стал еще сильнее и мощнее. Могучая
рабоче-крестьянская Красная Армия под водительством железного наркома
маршала Ворошилова готова уничтожить любого врага, который рискнул бы
напасть на страну социализма” 24.
Мы хорошо знаем истинную цену заявлениям подобного рода, но и в те годы
трезвым наблюдателям были ясны огромные масштабы урона, нанесенного
репрессиями вооруженным силам СССР, что привело к значительному ослабле¬
нию военного потенциала страны, а следовательно, к серьезному падению ее
международного престижа. Однако и спустя год, после следующего процесса,
в изданиях Коминтерна звучали те же мотивы: ’’Открытые и скрытые враги социа¬
лизма, адвокаты право-троцкистской агентуры фашизма пытаются изобразить
дело так, будто процесс против этих бандитов и их уничтожение означают
ослабление внутренней и внешнеполитической мощи СССР. Здравый смысл под¬
сказывает каждому обратное”25. О том, что действительно подсказывал здра¬
вый смысл, ныне хорошо известно; в любом случае это соображение нельзя при¬
знать весомым аргументом, а иные отсутствовали начисто. Утверждалось также,
что процесс над Бухариным, Рыковым и другими ’’имеет исключительно важное
международное значение”. Но то и дело проскальзывало раздражение, вызван-
31 Rundschau, 1937, №5, S. 221.
33 Rundschau, 1937, №6, S. 228.
33Kommunistische Internationale, 1937, №2, S. 10.
34Kommunistische Internationale, 1937, №7, S. 5.
35 Коммунистический Интернационал, 1938, № 3, с. 8.
16
ное широко распространенным недоверием к обвинениям: ’’Поистине нужна
злостная предвзятость, чтобы не признать, что советский суд, покончив с троц¬
кистско-фашистскими заговорщиками, охраняет интересы антифашистов и
друзей мира во всем мире” 26.
Сталин сочетал уничтожение миллионов людей с шумихой вокруг проекта
новой Конституции СССР, а после его утверждения - вокруг первых выборов
в Верховный Совет. И в это дело Коминтерн внес свою лепту, прославляя сталин¬
ский Основной закон, красивые слова которого никак не вязались с действи¬
тельностью. Страницы различных изданий Коминтерна пестрели возгласами насчет
’’могучего развития социалистической демократии в СССР”, ’’расцвета социа¬
листического демократизма”, расцвета, ’’подобного которому еще не знала исто¬
рия”, ’’силы большевистской правды” и т.д. Причем такого рода восторги имели
место и на стадии обсуждения проекта Конституции, когда еще можно было,
теоретически, конечно, ожидать реализации ее заманчивых положений, и уже после
выборов, когда каждому непредвзятому наблюдателю стало ясно, что между
словом и делом не существует ровно никакой связи 27.
Что касается пропагандистских штампов насчет уничтожения в СССР мнимых
предателей и убийц, то в комментариях Коминтерна и его секций, посвященных
процессу над ’’троцкистско-бухаринским центром”, проходившему в начале 1938 г.,
появился новый момент. Он определялся усилившейся военной угрозой со сто¬
роны фашистских держав и призван был сыграть на заинтересованности народов
в сохранении мира. Вот почему в первомайском воззвании Коммунистического
Интернационала содержалось следующее положение: ’’Разгромом троцкистско-
бухаринской шпионской банды поджигателей войны, подлых наймитов япон¬
ского и германского фашизма советский народ оказал неоценимую услугу делу
мира”28. Деятельности ’’троцкистов” придавалось едва ли не глобальное значе¬
ние. Их обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, перенося на между¬
народную почву все те несусветные измышления, при помощи которых сталин¬
ская клика пыталась натравливать советских людей на ’’врагов народа”. Вот что
писал некий Ж. Дешамп в статье ’’Подрывная работа троцкистов во Франции”:
’’Троцкисты помогали подготовить мюнхенское предательство... Троцкистско-
фашистские шпионы сделали все возможное, чтобы облегчить Гитлеру путь к
разделу Чехословакии” 29. В уже цитированном первомайском воззвании 1938 г.
утверждалось, что троцкисты ”по заданию японской разведки ведут шпионскую
и диверсионную работу в Китае” 30.
В этих инсинуациях не было меры и смысла. Сталин и его пособники исходили
из того, что все будет принято за чистую монету. Немало людей на Западе, однако,
ощутило бездоказательность обвинений против Троцкого и его единомышленни¬
ков. Сомнительно также, что в такие чудовищные вымыслы, порожденные боль¬
ным воображением, могли всерьез поверить и многие коммунисты; здесь подчас
не помогала даже строгая партийная дисциплина.
В преддверии второй мировой войны Сталин и под его нажимом Коминтерн,
много сделавший в предшествующие годы для активизации антивоенной борьбы,
вносили в международное коммунистическое движение разлад, отвлекали его
на мифические опасности вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на реаль¬
но существовавших. В то самое время, когда публиковались все эти призывы и
инвективы, Коминтерн терял множество лучших своих сынов, которые гибли
в сталинских застенках. Убежденных антифашистов, многими годами борьбы
и лишений доказавших свою преданность делу освобождения трудящихся от
а< Там же, с. 4.
37Коммунистический Интернационал, 1938, № 7, с. 9; Rundschau, 1938, № 33, S. 537.
18Коммунистический Интернационал, 1938, № 5, с. 111,
29 Коммунистический Интернационал, 1938, № 12, с. 101.
’•Коммунистический Интернационал, 1938, № 5, с. 111.
17
угнетения, прежде всего в его фашистских формах, обвиняли в шпионаже в
пользу Германии, Италии, Японии, в предательстве, в измене всему, чему была
отдана жизнь. Утрата этих кадров, закаленных в длительной борьбе, весьма остро
ощущалась в последующем — в годы тяжелых испытаний, выпавших на долю
противников фашизма в период второй мировой войны.
♦ * ♦
Решения VII конгресса Коминтерна дали толчок консолидации антифашистских
сил Германии, находившихся в эмиграции, хотя официальная социал-демократия
в лице пражского правления СДПГ относилась к сотрудничеству с КПГ с прежней
предвзятостью. Об этом свидетельствовали итоги встречи представителей КПГ и
СДПГ, состоявшейся осенью 1935 г. в Праге. Тем не менее число сторонников
Народного фронта, идея создания которого была провозглашена VII конгрес¬
сом, росло, чему чрезвычайно способствовали успехи единства рабочих партий и
других организаций, выступавших против фашизма во Франции. И именно на фран¬
цузской земле в феврале 1936 г. состоялась конференция немецких антифашис¬
тов, о которой уже упоминалось в начале настоящей статьи. Ее участники (свыше
100 человек), среди которых были видные деятели КПГ, некоторые известные
социал-демократические лидеры, действовавшие вопреки позиции пражского
правления, отдельные представители буржуазной оппозиции, ученые, писатели,
художники, в своем воззвании заявили: ”Мы призываем наших соотечественни¬
ков в Германии и за ее пределами объединиться в едином немецком Народном
фронте”31. Среди подписавших - бывший председатель фракции СДПГ в рейх¬
стаге Р. Брейтшейд, ряд других социал-демократов (в числе которых и В. Брандт),
являвшихся сторонниками Народного фронта, известные всему миру деятели
культуры Л. Фейхтвангер, Э.Э. Киш, Э. Толлер и др. Один из них - знаменитый
немецкий писатель Г. Манн - стал в дальнейшем председателем Комитета по
подготовке Народного фронта в Германии, который сформировался в июне
1936 г. На своих последующих заседаниях Комитет оперативно отзывался на
все существенные для борьбы против германского фашизма события, как, напри¬
мер, интервенция итальянского и германского фашизма в Испанию и участие
немецких антифашистов в отпоре ей. Комитет выступал с резкими протестами
против казней немецких антифашистов. Важный документ был принят в декабре
1936 г. Новый (и еще более представительный по составу подписавших его) при¬
зыв к сплочению, к преодолению разногласий, к активизации борьбы против
кровавого нацистского господства сочетался здесь с характеристикой основных
принципов, которыми необходимо руководствоваться при строительстве демо¬
кратического государства после свержения нацистского режима .
С лета 1936 г. в специальной комиссии проходило обсуждение программных
вопросов. Наиболее подготовленным документом, представленным членам комис¬
сии, являлись ’’Установки для выработки политической платформы Народного
фронта”, разработанные КПГ. Здесь был сформулирован лозунг демократичес¬
кой республики, но не идентичной Веймарской, которая не сумела противо¬
стоять натиску фашизма; предусматривались все политические свободы и граж¬
данские права, обеспечивавшие подлинный демократизм для самых различных
социальных групп (каждой из них уделялось в документе особое внимание)33.
Лозунг демократической республики не встретил, однако, единодушной под-
11 Mammach К. Die deutsche Widerstandsbewegung 1933-1939. Berlin, 1976, S. 164.
22 Кацман Г.В, Указ, соч., с. 88-90.
•• Pieck W, Gesammelte Reden und Schriften, Bd. 2. Berlin, 1972, S. 372.
18
держки: против него активно выступили представители Социалистической рабо¬
чей партии (СРП), выделившейся из СДПГ в 1931 г., которая с левацких пози¬
ций высказывалась за то, чтобы в по еле гитлеровской Германии был установлен
социалистический строй. Ситуация парадоксальная: КПГ отказалась - хотя,
как мы увидим, не полностью - от ультралевых установок, а СРП, в начале
30-х годов не имевшая ничего общего с экстремизмом, ныне прониклась им.
С этими принципиальными разногласиями был связан и серьезный конфликт
между делегатами указанных партий в парижском Комитете по вопросу об
отношении к тому течению в международном рабочем движении, которое было
связано с именем Троцкого, а также, как уже отмечалось выше, к событиям
того времени в СССР.
КПГ выдвигала резкие обвинения против тех, кто распространял ’’клевету
на Советский Союз”, и рассчитывала привлечь к борьбе против Троцкого и его
сторонников остальных участников парижского Комитета, но натолкнулась
на недвусмысленный отказ; наиболее последовательно в этом духе высказыва¬
лась СРП. На конференции Комитета в апреле 1937 г. ее представители выразили
возмущение московскими процессами и уничтожением многих виднейших дея¬
телей ВКП(б)34, что было поддержано большинством Комитета. В одном из
печатных органов СРП (это было уже позднее, в связи с процессом над ’’троц¬
кистско-бухаринским центром”) говорилось: ’’Смесь лжи и абсурдности в такой
концентрации... что абсолютно бессмысленно на основании подобных обвинений
размышлять над вопросом, действительно ли Бухарин в свое время намеревался
убить Ленина”. В телеграмме, направленной тогда СРП в Москву, подчеркива¬
лось, что московские процессы представляют собой ’’тяжелейшую компромета¬
цию идеи диктатуры пролетариата” 35.
Обострению разногласий способствовали противоположные позиции КПГ и
СРП по отношению к испанской ПОУМ, придерживавшейся, как принято считать,
троцкистских взглядов. СРП рассматривала ПОУМ как ’’наиболее активный и
революционный отряд барселонских рабочих”, а КПГ словами В, Пика (статья
’’Проблемы Народного фронта в Германии”, лето 1937 г.) квалифицировала
участников ПОУМ как ’’троцкистских бандитов”36. Пик обвинил СРП в саботи¬
ровании Народного фронта и призвал к ’’разоблачению их игры”. Общий вывод,
сделанный им, гласил: ’’Ясно, что подобная политика льет воду на мельницу
фашизма”37. А ЦК КПГ в своей резолюции от 14 мая 1938 г. утверждал, что
враждебная деятельность троцкистов ’’проявлялась особенно в борьбе троцкист¬
ских групп внутри СРП против Народного фронта” 38.
В число реакционеров и пособников фашизма зачислялись убежденные соци¬
алисты и демократы (некоторые из них в дальнейшем влились в КПГ и после вой¬
34 Gross В. Willi Munzenberg. Eine politische Biographie. Stuttgart, 1967, S. 306.
35Bremer J, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Untergrund und Exil 1933-1945.
Frankfurt a.M., 1978, S. 199-200.
36 Этот курс сохранялся все последующие годы. Так, уже тогда, когда Испанская Республи¬
ка переживала агонию, теоретический орган КПГ, издававшийся в эмиграции, напечатал статью
под названием ’’Доля троцкизма в победе Франко в Каталонии”. Автор, скрывшийся за ини¬
циалами А.К., утверждал, будто каталонские троцкисты.в течение целого года препятствовали
использованию богатых промышленных и человеческих ресурсов Каталонии в войне против
франкистов. Столь же необоснованны были и другие подобные обвинения, например в том, что
троцкисты, являвшиеся офицерами республиканской милиции, не раз оказывали фашистам
прямую помощь в качестве шпионов. - Die Internationale, 1939, № 3-4, S. 93-94. О многом го¬
ворит сам факт публикации такого рода материала в журнале КПГ весной 1939 г., незадолго
до начала второй мировой войны, когда перед партией встали жизненно важные задачи, связан¬
ные с резко возросшей военной опасностью и сформулированные на состоявшейся в начале
1939 г. Бернской конференции КПГ.
37Pieck W. Op. cit., S. 479.
30 Rundschau, 1938, №33, S. 1112.
19
ны активно участвовали в демократических преобразованиях). В том же духе
действовал В. Ульбрихт, пытавшийся повлиять (правда, безуспешно) на участни¬
ков Комитета по подготовке Народного фронта в Германии, чтобы добиться от
СРП отказа от связей с ПОУМ; такое требование было сформулировано им в
письме к Г. Манну от 25 мая 1937 г. 39 В письме Далему в Испанию от 10 января
1937 г. он настаивал на публикации большего количества материалов о ’’троцкист¬
ской политике в Испании, в этой связи - о раскрытии единства ПОУМ с руко¬
водством СРП и с Брандлером-Тальгеймером” 40. Между тем поддержка ПОУМ
со стороны СРП была отнюдь не безоговорочной: так, В. Брандт, последователь¬
ный сторонник Народного фронта, одно время представлявший СРП в Испании,
высказывал в печати серьезные критические замечания по поводу позиции
ПОУМ41. Необходимо было не приклеивание ярлыков, а упорный и, если надо,
длительный диалог с СРП с целью нахождения разумных решений.
Но ничего этого не было. Заодно с СРП, как мы видели, шельмовались и сто¬
ронники Брандлера, хотя они числились не ’’левыми”, а ’’правыми”. В журнале
’’Коммунистический Интернационал” была опубликована статья ’’Троцкистская
агентура гитлеровцев в Германии”. После того, как автор ’’отдал должное” СРП,
он окрестил группу Брандлера ’’филиалом троцкистских шпионов” и утверждал,
будто она связана с гестапо, ’’стоящей за этими людьми и направляющей их интри¬
ги”42. Напомним, что многие единомышленники Брандлера находились в конц¬
лагерях и среди них были подлинные герои Сопротивления, такие, как Р. Зиверт,
оставивший благодарную память у тысяч антифашистов разных национальнос¬
тей — узников Бухенвальда.
Причиной серьезных конфликтов являлись и персональные мотивы, которые
касались в основном личности Ульбрихта. Вероятно, не только деятели СРП были
шокированы, ознакомившись с письмом, которое Ульбрихт 18 июня 1937 г. напра¬
вил представителю СРП в парижском Комитете. В нем автор, касаясь выдвинутой
этой партией инициативы в испанском вопросе (а способы наиболее эффектив¬
ной помощи Испанской Республике находились в центре внимания всех прогрес¬
сивно мыслящих людей), заявлял, будто эта инициатива ’’явно заключается лишь
в том, чтобы дать ПОУМ советы, как лучше подготовить следующий путч против
Народного фронта Испании, чтобы он в меньшей степени компрометировал ПОУМ
и вас самих” 43.
Недовольство Ульбрихтом было тесно связано с его ролью в устранении широ¬
ко известного деятеля КПГ В. Мюнценберга, пользовавшегося у представителей
других партий большой популярностью. В течение 1937 г. в позиции Мюнценберга
обнаружились все более серьезные расхождения с официальными установками
КПГ, не в последнюю очередь из-за отношения к репрессиям в СССР. 8 октября
КПГ известила членов Комитета о том, что ’’дело” Мюнценберга рассматривается
в партийных инстанциях, а уже 27 октября последовало сообщение об его исклю¬
чении из КПГ. К тому времени КПГ в Комитете по подготовке Народного фронта
в Германии представляли только В. Ульбрихт и П. Меркер. Именно это и не устраи¬
вало остальных членов Комитета.
Свидетельством серьезного конфликта в Комитете был отказ от дальнейшего
участия в его работе наиболее видного деятеля социал-демократии Брейтшейда.
Поводом для этого явилось прямое обращение ЦК КПГ к берлинской ’’группе
Народного фронта”, примыкавшей к социал-демократии; оно было сделано через
голову тех ее деятелей, которые входили в парижский Комитет44. Причиной же,
39Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1963, № 1, S. 83.
40 Ulbricht И4 Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 2. Zusatzband. Berlin, 1968, S. 79.
41 DrechslerH. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschland s. Meisenheim, 1965, S. 345.
43 Коммунистический Интернационал, 1937, № 7, с. 119.
43 Ulbricht W. Op. cit., S. 98.
44Breitscheid R. Antifaschistische Beitrage 1933-1939. Frankfurt a.M., 1977, S. 42.
20
как видно из архивных документов, послужили все те же репрессии в СССР45.
Брейтшейд полагал, что своим участием в Комитете по подготовке Народного
фронта в Германии он дает возможность обвинить его в косвенной поддержке
расправы над людьми, преступления которых судами не доказаны. Решение
Брейтшейда было тяжелым ударом по Комитету. Тем не менее и оставшиеся
социал-демократы, и представители СРП, уже находившиеся в конфронтации
с КПГ, и другие члены Комитета .не оставляли надежд на изменение ситуации.
Р. Брейтшейд писал 13 октября 1937 г. Ф. Штампферу: ’’Все члены парижского
Комитета Народного фронта обратились в ЦК КПГ с заявлением, сообщив, что
сотрудничество с его нынешними представителями более невозможно из-за их
нелояльного поведения”. Утверждая это, Брейтшейд пользовался такими термина¬
ми, как ’’методы Вальтера” (партийный псевдоним Ульбрихта),’’клика Вальтера”
и др.46 Первое обращение датировано 1 октября, ответ был дан 26 октября
и подписан... самим Ульбрихтом. По поводу устранения Мюнценберга Ульбрихт
ставил членов Комитета в известность, что ’’сотрудничество в нем имеет преиму¬
щественно политический характер, который не предусматривает права влиять
на такие внутренние вопросы организаций-участников, как назначение предста¬
вителей (в Комитете. - Вероятно, этот ответ был признан неудовлет¬
ворительным, ибо 13 ноября последовало новое обращение того же содержа¬
ния 48, а председатель Комитета Г. Манн, адресуясь к социал-демократу М. Брау¬
ну, активному поборнику сотрудничества немецких эмигрантов-антифашистов,
25 октября того же года писал: ”Я против созыва полного состава Комитета
до тех пор, пока Ульбрихт может появиться там в качестве главного представи¬
теля или просто представителя своей партии” 49.
В споре по программным вопросам КПГ стояла на позициях, более соответ¬
ствовавших тогдашним условиям, чем позиции ее оппонентов. Выдвижение
лозунга установления социалистического строя после свержения фашистского
господства могло лишь существенно сузить круг организаций и лиц - потенци¬
альных участников Народного фронта. Ставя так вопрос, КПГ порывала с некото¬
рыми догмами, которых придерживалась ранее и которые принесли столь значи¬
тельный вред германскому рабочему движению. Но и в рассматриваемое время
этот курс не проводался до конца последовательно. Известно, что в манифесте
Брюссельской конференции КПГ, состоявшейся после VII конгресса Коминтерна,
в период, когда происходила коренная переоценка ценностей, провозглашалось:
”Мы, коммунисты, хотим победы советской власти (в Германии. — Л.Г)”**.
Что это была не обмолвка, видно из следующего. Выдвигая лозунг демократи¬
ческой республики, КПГ не отказалась от своей постоянной цели - распростране¬
ния советской власти на Германию. Она только признала: большинство рабочего
класса, городских средних слоев, крестьянства в рассматриваемое время не гото¬
вы к борьбе за такую цель. Но это не значило, отмечал Пик, что они не будут
готовы в дальнейшем, — необходимо только приобрести опыт51. Подобные
положения (отдадим должное - они подкупали своей откровенностью) навряд
ли могли вдохновить участников Комитета по подготовке Народного фронта в
Германии, которым адресовались, ибо вызывали сомнения в принципиальной
приверженности КПГ к демократической республике, к декларированным пра¬
вам и свободам.
К середине 1938 г. неудача попыток создать немецкий Народный фронт была
“Pech К.-Н. Op. cit., S. 676.
46 Mit dem Gesicht nach Deutschland, S. 295—296.
Ą1 Ulbricht W, Op. cit., S. 138.
“ Langkau-Alex U. Deutsche Emigrationspresse. - International Review of Social History, 1970,
p. 2, S. 197-198.
“Stem C. Ulbricht. Eine politische Biographic. Koln, 1963, S. 90.
80Die Brusseler Konferenz der KPD. Berlin, 1975, S. 611.
“Pieck W. Op. cit., S. 481.
21
очевидна; в конце октября Ульбрихт и Меркер жаловались Брауну, что Коми¬
тет собирается без представителей КПГ52. Это вызывало у руководства КПГ
серьезное беспокойство, о чем свидетельствуют статьи и письма Пика. В них
превалирует стремление возложить всю вину за сложившееся положение только
на участников Комитета, поддерживавших подлинных и мнимых троцкистов;
глубинные причины того, почему социал-демократы (хотя отдельные их группи¬
ровки находились в конфронтации друг с другом) не шли на сближение с КПГ,
замалчивались. В письме Г. Манну от 16 мая 1938 г. В. Пик в качестве решаю¬
щего средства активизации работы парижского Комитета назвал расширение
его состава за счет организаций, прежде в нем не участвовавших. Сомнительно,
однако, что это средство могло стать панацеей; застойный характер деятель¬
ности Комитета был обусловлен обстоятельствами, не связанными, как мы
видели, с количеством представленных в нем организаций.
Любопытна аргументация, использованная Пиком для подкрепления своего
предложения: ’’Узость Комитета не позволяет ему стать органом, способным
дать борющимся в Германии массам (преувеличение. - Л.Г.) обязывающие
директивы для их борьбы”53. Из этого тезиса вытекает многое. КПГ взросла
на директивах, которые она давала массам и которых те от неё ждали. В гит¬
леровской Германии сложилась такая обстановка, что уже сама передача директив
центра, находившегося вне страны, была сопряжена с колоссальными трудностя¬
ми, а к тому же эти директивы нередко не учитывали быструю смену условий
борьбы. Еще большие осложнения принесла в этом отношении вторая мировая
война: связь ЦК КПГ, находившегося в эмиграции, с подпольем, которая под¬
держивалась курьерами, почти оборвалась из-за постоянных провалов. Вот
когда особенно сказалась порочность ’’директивной системы”, препятствовав¬
шей формированию самостоятельно мыслящих кадров, способных без подсказки
сверху оценить обстановку и принять оптимальное решение. Такое внутреннее
руководство подпольной борьбой, компетентное и оперативное, сложилось лишь
в последние годы войны.
Следует хотя бы коротко остановиться на общих установках КПГ - а они
отражали и позиции Коминтерна в данном вопросе — в антифашистской борьбе
и оценках ею состояния последней, ее перспектив. В марксистской литературе
(это идет еще с рассматриваемых времен) много написано об упадочных настрое¬
ниях социал-демократических лидеров, значительная часть которых сомневалась
в возможности добиться ликвидации гитлеровского режима силами одних трудя¬
щихся-антифашистов. Конечно, в ходе борьбы такие настроения и могли действо¬
вать деморализующе, но в целом пессимисты из СДПГ оказались правы, и лишь
в результате кровопролитнейшей из войн германский фашизм был уничтожен —
не изнутри, а извне. КПГ в своих оценках страдала обратным - преувеличением
успехов антифашистского движения. Так, в мае 1938 г. Пик писал: ”В Германии
сопротивление уже привело к активным выступлениям даже целых отраслей
промышленности”. Он утверждал, что фашисты видят в этих выступлениях,
на деле разрозненных и стихийных, серьезную опасность для своего господства54.
В другой работе, опубликованной ранее, Пик говорил о растущем недовольстве
широких масс, о том, что трудящиеся Германии испытывали после VII конгресса
Коминтерна огромное воодушевление; в уже цитированном документе ’’Установ¬
ки для выработки политической платформы Народного фронта” речь шла о массо¬
вом антифашистском движении 5 5.
К сожалению, реальная действительность имела мало общего с этими и подоб¬
ными им представлениями. Антифашистская борьба не была и не могла быть
“Ulbricht W. Op. cit., S. 142.
“Pieck W. Op. cit., S. 521.
54 Ibid., S.537.
5 s Ibid., S.532.
22
в гитлеровской Германии с ее драконовским политическим режимом массовой,
ибо этому препятствовал чудовищный террор; к тому же значительное большин¬
ство трудящихся не желало участвовать в ней, так как перешло на сторону гитле¬
ровцев. Что касается решений VII конгресса Коминтерна и якобы вызванного
ими в массах воодушевления, то это не соответствовало истине, ибо указанные
решения были известны в Германии лишь крайне ограниченному кругу актив¬
ных антифашистов, особенно узкому во второй половине 30-х годов после силь¬
нейших потерь, понесенных подпольем.
Сами решения VII конгресса, конечно, имели большое положительное значение,
но в последующие после этого годы были во многом сведены на нет по причинам,
о которых уже говорилось выше56. Поворот в стратегии Коминтерна, осуществ¬
ленный VII конгрессом, был вынужденным шагом, неизбежным следствием
влияния прихода фашизма к власти в Германии на международное коммунисти¬
ческое движение. Известно, что столь необходимый поворот произошел далеко
не сразу. Даже еще спустя почти год после установления гитлеровской диктатуры
XIII пленум Исполкома Коминтерна неуклонно продолжал гибельный курс,
вопреки фактам провозглашая, что ’’Германия идет навстречу пролетарской рево¬
люции”, задача КПГ - вооруженное свержение фашистской диктатуры, и твердо
придерживаясь лозунга Советской Германии57. И в декабре 1933 г., когда заседал
пленум, и в течение ряда последующих месяцев не было и речи о каких-либо ошиб¬
ках и упущениях в стратегии Коминтерна, в политической линии КПГ.
Об этом свидетельствовали доклад В. Пика на XIII пленуме ИККИ, работа
Ф. Геккерта ’’Что происходит в Германии”, опубликованная вскоре после при¬
хода гитлеровцев к власти, и др. Понадобилась убежденность Димитрова, столк¬
нувшегося с фашизмом не умозрительно, а лицом к лицу, в жизненной необходи¬
мости пересмотра стратегии и тактики, в общезначимости опыта французских
коммунистов по сплочению рабочего класса и других антифашистски настроен¬
ных социальных групп, чтобы с большим трудом преодолеть косность Сталина
с его ’’проверенной” формулой, что социал-демократия и фашизм не антиподы,
а союзники. Но своей политикой внутри страны, с особой свирепостью осуществ¬
лявшейся как раз в годы, непосредственно следовавшие за VII конгрессом,
Сталин разрушал складывавшееся единство антифашистских сил.
Вспомним, что репрессии в СССР шли по нарастающей. С протестами против
них выступали не только антисоветски настроенные круги. Так, Социалистическая
рабочая партия со времени своего создания стояла на последовательных позициях
поддержки СССР, пропагандировала его успехи, отстаивала от нападок со сто¬
роны враждебно настроенных деятелей СДПГ58. Но поддерживать тот курс,
которым Сталин в это время вел страну, СРП не могла. Это относится ко всем
подлинным друзьям СССР на Западе, которые не верили в виновность Троцкого,
Зиновьева, Бухарина и других жертв сталинского террора в государственной
измене и шпионаже и открыто заявляли об этом. Такова историческая правда.
58 Вот что писал Мюнценберг в обращении к КПГ, датированном 10 марта 1939 г.: ’’Про¬
тиворечия политической партии, которая лишь при помощи пустых слов ориентирует на новые
задачи, не меняя существенно ничего в методах борьбы, в форме и языке пропаганды, неяс¬
ности в формулировании цели, когда речь идет о ’’демократической народной республике” без
отказа от однопартийной диктатуры, противоречия в тактике единого фронта, которая преду¬
сматривает создание единой партии и одновременно продолжает осужденную VII конгрессом
Коминтерна старую ’’тактику”, - все это не позволяет завоевать доверие социалистических и
демократических кругов, без чего единство невозможно”. - Gross В. Op. cit., S. 317.
57 XIII пленум Исполкома Коминтерна. Стенографический отчет. М., 1934, с. 31, 54-56.
58 Каковы были эти настроения, видно из письма Р. Гильфердинга другому социал-демокра¬
тическому деятелю П. Герцу от 29 января 1936 г.: ”Я отвергаю любое сотрудничество с ком¬
мунистами до тех пор, пока они высказываются за диктатуру и террор. Я не понимаю, как
можно протестовать против убийства и террора вместе с убийцами и террористами - а ими
являлись и являются Сталин и его воспеватели как в наши дни, так и в прошлом”. - Langkau-
Alex U, Volksfront fur Deutschland, Bd. 1. Frankfurt a.M., 1977, S. 303.
23
© 1991 г.
В. А. ДУН А Е ВС КИЙ
"ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ":
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ АКАДЕМИКА Н.И. КАРЕЕВА
В прошлом году Издательством Ленинградского государственного универси¬
тета была выпущена книга воспоминаний академика Н.И. Кареева1. Ее путь
к читателям был долог. И многие их поколения так и не смогли ее дождаться.
Удавляться этому не приходится. Ведь разговор идет о воспоминаниях одного
из самых выдающихся русских историков - Николая Ивановича Кареева (1850-
1931), который в течение более чем полувека именовался не иначе, как ’’буржуаз¬
ный исследователь”, а его труды либо критиковались, либо, в лучшем случае,
не упоминались. Рукопись воспоминаний была окончательно завершена автором
в 1928 г., когда Карееву исполнилось уже 78 лет, и после неудачной попытки
договориться о ее публикации с одним из издательств возвращена автору.
Но Кареев не сдался. В начале 1930 г. он предпринял новую попытку и обра¬
тился к видному советскому общественному деятелю В.Д. Бонч-Бруевичу,
который сразу же заинтересовался трудом маститого историка и решил опублико¬
вать его в очередном выпуске готовившегося к изданию, но так и не вышедшего
в свет сборника ”Минувшее”.
По достоинству оценив мемуары Кареева, названные автором ’’Прожитое и
пережитое”, Бонч-Бруевич вычленил из них тему революции 1905 г. и попросил
историка срочно написать очерк об этих событиях, в частности о 9 января 1905 г.
В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина в фонде
Бонч-Бруевича сохранилось его письмо к Карееву от 9 августа 1930 г., в кото¬
ром он без всякой тени сомнения писал: ’’Ваша весьма ценная работа действи¬
тельно мною может быть напечатана”2. Но ни книга, ни очерк Кареева о 1905 г.
так тогда и не были опубликованы.
И только спустя 60 лет ’’Прожитое и пережитое” наконец-то стало всеобщим
достоянием. И в первую очередь это заслуга сыктывкарского историка В.П. Золо¬
тарева, еще в 1965 г. защитившего кандидатскую диссертацию на тему ”Н.И. Ка¬
реев — историк-методист”. За последующие годы вышли в свет цикл статей Золо¬
тарева и его монография ”Историческая концепция Н.И. Кареева”, изданная
Ленинградским государственным университетом в 1988 г. Но, публикуя свои
работы, посвященные Карееву, Золотарев не оставлял мысли о том, что не мо¬
жет оставаться втуне ’’Прожитое и пережитое”. И его усилия наконец-то успешно
завершились изданием так долго ожидаемой книги.
Свои воспоминания Кареев писал в течение семи лет, с 1921 по 1928 г., с пере¬
рывами, вызванными многими нелегкими для той поры жизненными обстоя-
1 Кареве Н.И, Прожитое и пережитое. Подготовка текста, вступит, статья и коммент.
В.П. Золотарева. Л., 1990.
’Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (далее - ОР ГБЛ),
ф. 369, п. 159, д. 6, л. 1. Зги письма сохранились и в архиве Кареева. Так, в письме Бонч-
Бруевича от 7 ноября 1930 г. читаем: ’’Глубокоуважаемый Николай Иванович! Рукопись
Ваших воспоминаний я получил... Что же касается издания биографии, о которой Вы сооб¬
щаете и которая будет около 12-15 печатных листов, то, повторяю, ее можно будет издать
отдельной книжечкой, так как мною дотолковано с отделом ’’Academia” ... Когда Ваша
рукопись для ’’Минувшего” будет переписана, я Вам ее пришлю для проверки и коррек¬
туры”. - ОР ГБЛ, ф. 119, п. 6, д. 6.
24
тельствами, с которыми постоянно приходилось сталкиваться автору. На склоне
лет Кареев хотел донести до будущих читателей свои размышления о науке,
жизни, людях, с которыми его сталкивала судьба, — как сейчас часто говорят
”о времени и о себе”.
Первая часть воспоминаний ведет читателя в глубинку российского Нечерно¬
земья — село Муравишники Сычевского уезда Смоленской губернии, где на¬
ходилось имение деда Кареева со стороны матери. Там формировалось миро¬
воззрение историка на его раннем этапе, главным рубежом которого явилась
реформа 1861 г. Кареев очень убедительно, хотя и в немногих словах, воссоздал
патриархальный быт нескольких поколений муравишникских обитателей.
Любопытны зарисовки Кареева, посвященные жизни семьи в Гжатске, а затем
в Сычевске - городах той же Смоленской губернии, где, как писал автор, он
получил возможность ознакомиться с бытом иных социальных слоев - чинов¬
ничества и купечества.
Учеба будущего историка (после пребывания в частном пансионе) проходила
в 1-й Московской гимназии, в которую Кареев был определен в 1865 г. Родители
его в это время окончательно переселились в небольшое село Аносово, находив¬
шееся в восьми верстах от Муравишников. С Аносовым в дальнейшем оказались
связаны многие вехи жизни Кареева. Там он подолгу работал и в студенческие
годы, и будучи уже профессором, и в последние ’’закатные годы”, как называл
их сам Кареев.
Его гимназические годы совпали с наиболее либеральным периодом царство¬
вания Александра II. И Кареев имел все основания писать: ”0 гимназии у меня
сохранились наилучшие воспоминания”. Среди соучеников Кареева, а позднее и
25
сокурсников по университету был ставший впоследствии выдающимся филосо¬
фом В.С. Соловьев - сын историка С Л4. Соловьева, с которым Кареев очень
близко сошелся в последние годы учебы. После окончания гимназии Кареев
поступил на филологический факультет Московского университета.
С третьего курса произошло разделение студентов на специальности, и Каре¬
ев решительно выбрал историческое отделение. Это пребывание на двух отделе¬
ниях позволило ему создать целый ряд весьма образных зарисовок преподава¬
телей обоих факультетов, например, С.М. Соловьева, М.С. Ку торги, Н.И. Сторо¬
женко, В.И. Герье, ставшего научным руководителем Кареева, и ряда других
ученых факультета, избежав при этом предвзятых, личностных оценок, столь
часто присутствующих в мемуарной литературе.
Память Кареева сохранила имена многих людей, в той или иной степени при¬
частных к студенческой братии, в частности участников кружков, в которые
входил и Кареев. Об этом времени он писал: ”В студенческие годы я был очень
общительным, отдавая друзьям, товарищам, знакомым много времени, часть
которого уходила и на давание уроков, но потерянное на занятия время я
наверстывал ночной работой”1 * 3. О широте интересов Кареева свидетельствует
и приведенный им перечень имен авторов, труды которых он изучал. Спектр их
был весьма широк. Среди них названы Ч. Дарвин, Э. Тейлор, П.Л. Лавров, Н.К. Ми¬
хайловский, В.В. Лесевич, С.Н. Южаков и др. В конечном счете блестящая под¬
готовка молодого выпускника Московского университета дала основание Герье
поставить вопрос о его оставлении в университете для подготовки к профессор¬
скому званию. В это же время Кареев принял приглашение занять место препо¬
давателя истории в 3-й Московской гимназии, где он и проработал в общей слож¬
ности более пяти лет. Одновременно он успешно готовился к магистерским экза¬
менам, собирал материал для будущей диссертации, не расставаясь со школой,
о плодотворной работе в которой он с удовольствием вспоминал: ’’Ученики
были мною довольны, хотя я был очень требователен, да и я был доволен ими,
я старался сделать историю для них интересной”4.
В 1879 г., после поездки во Францию и работы в архивах, Кареев защитил свою
магистерскую диссертацию на тему: ’’Крестьяне и крестьянский вопрос во Фран¬
ции в последней четверти XVIII в.” (краткое изложение ее было тогда опублико¬
вано в одном из французских журналов) — труд, ставший поистине классическим
и до настоящего времени не потерявщий своей научной ценности5.
Со свойственной для него скромностью Кареев слишком скупо пишет о диспу¬
те, развернувшемся при защите, хотя и с полным основанием замечает, что ’’публи¬
ки собралось великое множество и проводили меня аплодисментами” 6.
По возвращению из-за границы, где Кареев установил первые контакты с фран¬
цузскими историками Ф. де Кулянжем, А. Мори, Л. Леже, он в течение года читал
в Московском университете курс истории XIX в.
После того, как в 1879 г. получить доцентуру в Московском университете
Карееву не удалось, он был приглашен в Варшавский университет на должность
экстраординарного профессора. Начался новый этап жизни, во время которого
Карееву предстояло пройти испытание не только как ученому, но и как чело¬
веку, чья нравственность подвергалась немалым испытаниям. И с тем, и с дру¬
гим он блестяще справился. Оказавшись в Польше, Кареев счел необходимым
приступить к изучению польской истории, обратившись к темам реформации и
1 Кареев Н.И. Прожитое и пережитое, с. 131.
4Там же, с. 135.
5 См. Вебер Б.Г. Первое русское исследование Французской буржуазной революции
XVIII в. Из истории социально-политических идей. М., 1955; Итенберг Б.С. Россия и Вели¬
кая французская революция. М., 1988, с. 157-172.
4Кареев Н.И. Прожитое и пережитое, с. 139.
26
католической реакции. Более 10 лет (с 1881 по 1892 г.) выходили из печати его
работы по истории Польши.
Для Кареева была абсолютно неприемлема русификаторская политика, про¬
водившаяся ректором и попечителем Варшавского учебного округа. Он отвергал
какие бы то ни было проявления шовинизма и пренебрежительного отноше¬
ния к полякам, впрочем, как и ко всем другим народам, населявшим Россий¬
скую империю. Этой .высоконравственной позиции по отношению к националь¬
ному вопросу Кареев придерживался всегда. Так, несколько позднее, войдя в
состав Государственной думы, с ее трибуны он сказал: ”ВРоссии, кроме русской
земли, есть земля польская, латышская, эстская, грузинская и разных других
национальностей. И тогда только можно будет Россию назвать русской землей,
когда все эти национальности, оставаясь поляками, евреями, немцами, грузинами
и так далее, будут считать себя русскими гражданами. Россия должна предоста¬
вить всем народам, ее населявшим, полную свободу своего национального само¬
определения, и от этого, уверяю вас, выиграет, между прочим, и сама господ¬
ствующая в настоящее время национальность”7.
Наряду с изучением польской истории, Кареев приступил к планомерным
исследованиям теоретических и методологических проблем исторической науки.
Итогом этого явилась докторская диссертация ’’Основные вопросы философии
истории”, опубликованная в 1883 г.8 и защищенная на следующий год в Москов¬
ском университете. О своем фундаментальном труде Кареев писал: ”В общем
я доволен работой: по полноте материала, по разносторонности, по единству
главной идеи, по соответствию с состоянием современной науки, по обстоятель¬
ности критики и систематичности собственной моей теории, не хвалясь, могу
сказать, ни в одной литературе нет ничего соответствующего”9. И это было при¬
знано его современниками. Так, коллега и друг Н.И. Кареева В.П.Бузескул в
статье ”0 научных трудах Кареева” писал: ”Н.И. Кареев в сущности предвосхитил
идею Виндельбанда-Риккерта. Лет за 10 до Виндельбанда-Риккерта он уже уста¬
навливал различие между двумя категориями наук: по его терминологии - между
помологическими и фенометическими (по Виндельбанду - номотетическими и
идеографическими. -В.Д.)” 10.
В нашу задачу не входит анализ труда. Его слишком долго или просто не очень
замечали, или ругали за антимарксистскую концепцию. Но ведь Кареев никогда
себя за марксиста не выдавал, хотя его магистерская диссертация получила самый
лестный отзыв со стороны К. Маркса и Ф. Энгельса 11 * 13.
Важно отметить другое. Сегодня декларациями отделаться уже невозможно.
Поэтому пересмотр ортодоксальных оценок методологической концепции Ка¬
реева уже начался *2 и есть все основания рассчитывать на появление аналитичес¬
ких работ, ему посвященных, которые характеризовались бы глобальным и
многоаспектным подходом к наследию этого выдающегося ученого.
В 1884 г. Кареев узнал о кончине профессора кафедры всеобщей истории Петер¬
бургского университета В.В. Бауера и тотчас же, решив занять освободившееся
место, выехал в Петербург. Однако еще до окончательного решения министер¬
7 Сборник речей депутатов Государственной думы I и II созыва. Стенографический отчет,
кн. 1. СПб., 1908, с. 64.
8Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории, т. 1-2. М., 1883. (Уже после защиты
он опубликовал в 1890 г. 3-й том этого труда.)
• Кареев Н.И. Прожитое и пережитое, с. 14.
10Архив АН СССР (далее - ААН СССР), ф. 627, оп. 5, д. 15, л. 8.
11 См. об этом: Далин В.М. Ф. Энгельс о книге Н.И. Кареева ’’Крестьяне и крестьянский
вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.” - французский ежегодник, 1970. М., 1972,
с. 222-223; Итенберг Б.С. Указ, соч., с. 157-158.
13См. Коргунюк Ю.Г. Разработка вопросов методологии истории в творчестве Н.И. Карее¬
ва. (Автореферат канд. дисс.). М., 1990.
27
ства народного просвещения о замещении вакантной должности Кареев был
приглашен в Александровский лицей на должность приват-доцента и лишь в конце
1886 г. был утвержден экстраординарным профессором. Одновременно он начал
читать лекции по новой истории и на Высших женских курсах, созданных еще
К.Н. Бестужевым-Рюминым в Петербурге в 1878 г. Именно в это время Кареев
приступил к работе над фундаментальным трудом ’’История Западной Европы
в новое время”, который вышел в свет в семи томах в 1892—1917 гг.
Длительное пребывание ученого в этих трех учебных заведениях позволило
ему дать на страницах ’’Прожитого и пережитого” обстоятельные ха рак те pi стик и
деятельности этих учреждений, специфики преподавания и облика отдельных
профессоров, места в общей системе образования министерства народного про¬
свещения и его многолетнего руководителя И. Д. Делянова.
С неослабеваемым интересом читаются страницы воспоминаний, посвящен¬
ные формированию Кареевым своей научной школы, первое поколение кото¬
рой было представлено такими учеными, как А.М. Ону, В.А. Бутенко, П.П. Митро¬
фанов, критикуя последнего за резко националистические взгляды. Позднее уче¬
никами Кареева стали Е.Н. Петров, И.Л. Попов-Ленекий, В.В. Бирюкович,
Я.М. Захер, А.Я. Шульгин, С.М. Данини, отчасти П.П. Щеголев, оставившие след
в отечественной историографии новой истории стран Запада.
Воспоминания Кареева свидетельствуют и о том, что его деятельность не
ограничивалась только сферой преподавания и научного творчества13. Немало
он сделал и в области организации исторической науки. Так, в 1889 г. по его
инициативе при Петербургском университете было создано Историческое об¬
щество, начавшее вскоре издавать непериодический сборник ’’Историческое
обозрение”, 21 том которого был отредактирован Кареевым.
Много идей ученый высказал по вопросу самообразования. Они нашли
отражение в нескольких опубликованных им пособиях и, в частности, в ’’Письмах
к учащейся молодежи о самообразовании”, нашедших самый живой и широ¬
кий отклик со стороны тех, кому они адресовались. ’’Письма” были переведены
на ряд европейских языков, а их автор получил множество ответных посланий.
’’Как я жалею теперь, — писал Кареев, - что в свое время не издал эти ’’человечес¬
кие документы”, не использовал их вместе с тем для подведения под ними
итогов, которые могли бы прекрасно характеризовать умственную и нравствен¬
ную физиономию учащейся молодежи старших классов средней школы и млад¬
ших курсов высшей”1 14. Много было сделано ученым и по составлению программ
по всеобщей истории, социологии, самообразованию, выдержавших несколько
изданий.
Значительное место в ’’Прожитом и пережитом” уделено студенческому движе¬
нию и особенно обстоятельно периоду 1899-1906 гг., когда Карееву пришлось
на несколько лет оставить преподавание в Петербургском университете из-за
его либеральных взглядов и поддержки им требований студенчества. Именно
близость к студенчеству, неоднократные обращения Кареева к ректорУ и Совету
университета, принципиальность и либеральные взгляды стоили ученому дорого
и обернулись в конце концов его изгнанием из университета15, что в общем-то
по тем временам вполне закономерно.
Стержнем политического кредо ученого являлись исключительная нравствен¬
ность, уважение к человеку, отрицание столь популярных в течение многих десяти¬
летий различных ’’измов”. По этому поводу он писал: ”Мне всегда был не по душе
всякий догматизм, соединенный в области чувства с фанатизмом, в области про¬
явления воли - с деспотизмом”16.
1ЭААН СССР, ф. 627, оп. 5,д. 15, л. 14.
14Кареев Н.И. Прожитое и пережитое, с. 192.
15 См. неопубликованную статью Н.И. Кареева ’’Мое изгнание из профессоров Петербург¬
ского университета в 1899 г." - ОР ГБ Л, ф. 119, п. 44, д. 14, л. 8 и др.
16 Кареев Н.И. Прожитое и пережитое, с. 15.
28
С г. кареев начал совершать регулярные поездки за границу, он выступал
с лекциями в Париже, Праге, Кракове, Софии и других городах. В специальной
главе воспоминаний, посвященной его зарубежным поездкам, он упоминает о
своих многочисленных встречах с видными представителями обществоведческих
наук Запада. Среди них - Т. Масарик, Л. Нидерле, И. Шишманов, но ведущее
место занимают французские историки, с которыми Кареев был особенно близок.
Причем круг парижских знакомых Кареева постоянно расширялся. Для того,
чтобы иметь лишь общее представление о нем, следует назвать имена Г. Моно и
А. Олара, А. Берра и А. Рамбо, ф. Лотта и А. Матьеза, Ш. Сеньобоса и Г. Тарда,
П. Буайе и А. Мазона и многих других ’’звезд меньшей величины”.
И если первые поездки Кареева в Париж были относительно краткими, то с
конца 1910 г, они стали более продолжительными и в первую очередь были связа¬
ны с его работой в парижском Национальном архиве, где он изучал деятельность
парижских секций эпохи Великой французской революции конца XVIII в. Ито¬
гом этого явился цикл статей, опубликованных в различных органах российской
периодаки.
Удаление Кареева из Петербургского университета и Высших женских курсов
не могло остановить его кипучей деятельности. Он начал читать лекции для студен¬
тов-экономистов в только что учрежденном тогда Политехническом институте,
писал о преподавании истории в средней школе, издал несколько книг по древ¬
ней, средневековой и новой истории, активно сотрудничал в Литературном фонде.
С 1905 г. началось приобщение, хотя и весьма ограниченное, Кареева к полити¬
ческой деятельности. В том же году, после образования Академического союза
преподавателей высшей школы и Конституционно-демократической партии,
Кареев вступил в них и даже вошел в состав их центральных комитетов. Но это
была лишь дань времени. ’’Уже на первых порах своей партийной деятельности, —
писал он, - я стал понимать, что не рожден для политической- карьеры. Если я
в конце концов вступил в политическую партию (кадетов. — В.Д.), работал
в ней, не отказывался от кандидатуры в члены Думы, то больше исполнял то,
что мне казалось требованием гражданского долга, чем испытывал непосредствен¬
ное влечение к политической деятельности”17.
Бесспорно, целиком отдавался Кареев только научной и преподавательской
работе, о которой он подробно написал в главе, озаглавленной ”В Петербурге
в начале XX века”.
Краткую характеристику периода, последовавшего за Февральской револю¬
цией 1917 г., читатель найдет в 12-й главе ’’Прожитое и пережитое”, с полным
основанием названной автором ”Трудные годы”. В ней отражены и последние
месяцы существования Академического союза, и впечатления Кареева о состояв¬
шемся в Москве, в Большом театре, Государственном совещании, на котором
он присутствовал и сохранил в Памяти стиль выступлений ряда ораторов : А.Ф. Ке¬
ренского, Г.В. Плеханова, В.В. Шульгина, М.В. Родзянко.
Убедительно и непредвзято описал Кареев обстановку на Смоленщине, где
ему пришлось провести не один месяц после Октябрьской революции, И все же,
убежденно писал Кареев, ’’несмотря на неблагоприятные условия, я все-таки
работал, конечно не так, как желал бы и как мог бы это делать при более благо¬
приятных обстоятельствах”18. В этом он весь. Кареев продолжал читать лекции
в университете и на Высших женских курсах (до их слияния с университетом).
В 1918 г. ему удалось опубликовать монографии ’’Великая французская револю¬
ция” и ’’Общие основы социологии”, но многие статьи, направленные в журналы,
17Там же, с. 234. О деятельности Н.И. Кареева в партии кадетов см.: Золотарев В.П. Исто¬
рическая концепция Н.И. Кареева: содержание и эволюция. Д, 1988, с. 24-29.
18 Кареев Н.И, Прожитое и пережитое, с. 274.
29
не увидели света. Более благоприятным в этом плане оказался для Кареева
1922 г., когда ему удалось издать более 20 своих печатных работ.
Немало было и житейских невзгод, но относился к ним ученый философски,
да и к тому же взаимоотношения с местными жителями были самыми благожела¬
тельными. ”С добрым чувством вспоминаю, — писал Кареев, — что крестьяне
из соседней деревни Игнатихи, когда-то арендовавшие у моей матери землю на
очень сходных для них условиях, узнав, что у нас нет для детей молока, постанови¬
ли им нас снабжать некоторое время без всякой платы”19.
После возвращения в Петроград в 1920 г. возобновил работу руководимый
им семинарий повышенного типа, включивший как учеников самого Кареева,
так и учеников некоторых других профессоров. ’’Общение с этой молодежью
доставляло мне истинное удовольствие”, - резюмировал маститый ученый.
Радовало его и то, что ’’общее оживление научной работы, несмотря на все раз¬
ные невзгоды, ее постигшие, поддерживало во мне бодрость духа” 20.
И когда Кареев отмечал свой 70-летний юбилей, прошедший весьма торжествен¬
но с выступлениями Е.В. Тарле, С.Ф. Ольденбурга, О.А. Добиаш-Рождественской,
И.М. Гревса и других, и подводил итоги своей деятельности, он выделял одну
из характерных ее особенностей — большая ее часть ’’рассчитана была скорее на
широкие круги читателей, нежели на тесные круги специалистов, что сказывалось
часто и на выборе мною тем для исследования. Некоторые мои книги или прямо
имеют учебный характер, или возникли из читавшихся мною курсов” 21.
Завершая свои воспоминания в июле 1923 г., Кареев как всегда был честен,
говоря, что из своей автобиографии он менее всего стремился сделать исповедь.
’’Место для изложения своего отношения к вечным вопросам жизни и к злобам
текущего дня не в автобиографии, особенно последнее может не соответствовать
обстоятельствам времени” 2 2.
И, видимо, обстоятельства времени заставили Кареева вновь вернуться к своей
автобиографии и написать еще две главы. Первая получила название ’’Вставная
глава о революции”. И сегодня, когда эта тема вновь становится предельно злобо¬
дневной и актуальной, мысли одного из крупнейших исследователей Французской
буржуазной революции конца XVIII в. и свидетеля революции, выступившей под
знаменем, на котором были начертаны социалистические лозунги, приобретают
двойной интерес. И читатель должен будет согласиться со словами автора:
’’Как книжный человек, и чисто кабинетный ученый я, однако, совершенно от
жизни не отрывался. Недаром одним из главных предметов моих исторических за¬
нятий сделалась Великая французская революция со всеми другими революциями,
следовавшими за нею и наполнившими прошлое столетие”23. Это на Западе.
А в России? Кареев писал, что ’’русская политическая, интеллектуальная и эконо¬
мическая жизнь развивается в направлении все более и более назревавшей револю¬
ции. Пришествие ее было естественным и необходимым”24. И, признавая далее
’’широкий размах и глубокий сдвиг, характеризующий русскую революцию”,
он, сопоставляя ее с французской, видит две ее стороны.
У каждой революции ’’была своя проза, свои будни, своя изнанка рядом с геро¬
измом, своя патология”25. С этих позиций ученый подходил и к оценке револю¬
ции в России, которая для него не представляла ’’ничего нового, ничего, что было
раньше неизвестного”26. Каждая революция, утверждает он, имеет две стороны:
19Там же, с. 283.
30 Там же, с. 286.
31 Там же, с. 287.
33 Там же.
31 Там же, с. 289.
34Там же, с. 289.
35 Там же, с. 292.
34 Там же, с. 292-293.
30
Н.И. Кареев. Рис. Г.С. Верейского, 1927 г. .
лицевую и изнаночную. И именно последнюю Кареев очень скоро начал ощущать
на себе как ’’классово чувдый элемент”. Это подтверждает дошедший до нас
документ большого психологически-нравственно го звучания — письмо Н.И. Карее¬
ва от 25 декабря 1925 г. Д.М. Петрушевскому в связи с 35-летием научной дея¬
тельности последнего. ”В людях я, — писал Кареев, - особенно ценю верность
человека самому себе, своим убеждениям, неспособность к какому бы то ни было
шатанию... Поздравляя Вас с Вашим юбилеем, посылаю Вам вместе с пожела¬
нием здоровья, бодрости, благополучия всякого рода и выражение своего соболез¬
нования по поводу того, что Вы оторваны от любимого профессорского дела,
которому еще долго могли бы приносить пользу, — соболезнование товарища по
общей судьбе, нас обоих постигшей, тем более искренне прочувствованное. Очень
желал бы, чтобы Вы нашли в себе достаточно душевной бодрости, чтобы стряхнуть
с себя хотя бы даже ничтожный признак какого бы то ни было уныния”27. Но для
Петрушевского судьба оказалась более благосклонной, чем для Кареева. В 1927 г.
он стал директором Института истории Российской ассоциации научно-исследова¬
тельских институтов общественных наук и работал до последних дней жизни в
Академии наук СССР. И в том же 1927 г., 23 июля, Кареев писал Гревсу: ’’Созна¬
ние своей ’’непричемности”в общественном смысле всегда тяготит”28.
В феврале 1929 г. Кареев был избран почетным членом Академии наук СССР.
В связи, с этим В.П. Бузескул в своем письме от 25 февраля 1929 г. сообщал:
’’Виновником Вашего избрания в почетные члены Академии был не один я:
37 AĄH СССР, ф. 493, оп. 3, д. 5, л. 1.
38 ААН СССР (Ленингр. отд.), ф. 726, on. 1, д. 1, л. 16 об.
31
я встретил деятельную поддержку со стороны Б.В. Тарле, который и взял на
себя инициативу предложить Вас в почетные члены в частном совещании, быв¬
шем еще 2 июня. Мы условились с ним, что осенью это дело мы доведем уже
формально и что я к этому времени пришлю давно составленный мною отзыв”.
Любопытен и другой факт, приводимый тем же Бузескулом, который писал
Карееву, что при самом акте его выдвижения почетным академиком ни Н.М. Лу¬
кин, ни Н.И. Бухарин, ни А.М. Деборин, ни другие историки-марксисты ”не только
не возражали, но отнеслись сочувственно к моему заявлению” 29.
Заключает автобиографию Кареева глава ’’Закатные годы”, написанная в
1928 г. Читать ее без грусти нельзя. Она написана предельно лапидарно, без какого
бы то ни было озлобления на чудовищную несправедливость действительности,
с которой пришлось столкнуться старому ученому, когда шаг за шагом перед
ним возникали новые и новые препоны, преодолеть которые уже и физически
было невозможно. Сначала его отстранили от чтения курсов, потом (после
1924 г., когда был опубликован его последний большой трехтомный труд ’’Исто¬
рики французской революции”) перестали печатать работы Кареева и, наконец,
выселили из исключительно скромного семейного гнезда - дома в Аносово.
Но не вошли в ’’Прожитое и пережитое” чудовищные по своей безнравствен¬
ности факты о заключительном ударе, который пришлось испытать Карееву
в самые последние месяцы его жизни. Так что же это был за удар, который,
безусловно, ускорил кончину Кареева?
Ведя целенаправленную борьбу против интеллигенции и уже осуществив пер¬
вый фальсифицированный процесс против интеллигенции технической (так
называемое ’’шахтинское дело” 1928 г.), Сталин и его окружение готовили удар
и по гуманитариям, и уже в конце 1929 г. было сфабриковано ’’дело”, направ¬
ленное на этот раз против историков. Оно коснулось и Кареева. Эта очередная
фальсификация получила наименование ’’академические дела” или ’’дела” Плато-
нова-Тарле. Имеющиеся к настоящему времени публикации, как зарубежные30,
так и советские 31, избавляют от его пространного изложения. Важно лишь отме¬
тить, чем это ’’дело” обернулось для Кареева. Начавшаяся кампания ’’политичес¬
кой проработки” оказалась направленной против историков, сформировавшихся
еще до революции, и вылилась в кампанию травли, а затем и арестов видных
отечественных ученых. На базе Общества историков-марксистов в Москве и
Ленинграде была проведена дискуссия ’’Буржуазные историки Западав СССР”32.
Некоторые участники этой дискуссии посвятили свои выступления ’’изобличению”
трудов тех историков, научная концепция которых сформировалась еще до
Октябрьской революции, а также их учеников 33.
Один из таких докладов, сделанный Н.П. Фрейбергом, был посвящен историчес¬
кой концепции и методологическим взглядам Кареева и может быть назван для
того времени достаточно лояльным34. Иной характер носило выступление одного
из руководителей советской исторической науки тех лет Н.М. Лукина, для кото¬
рого крайности не были в общем-то характерны. Но здесь Лукин выполнял ”соци-
**ОРГБЛ, ф. 119, п. 9, д. 59, л. 19; п. 5, д. 152, л. 1 об.
™ Анциферов Н.П. Три главы из воспоминаний. Примечания С. Еленина и Ю. Овчинникова
[псевдоним А.И. Добкина и А.Б. Рогинского]. - Память. Исторический сб., вып. 4. Париж,
1981; Сигрист С.В.. Ростов А. Дело четырех академиков. - Там же; Barber J. Soviet Historians
in Crisis. 1928-1932. London, 1981.
31 Анциферов Н.П. Три главы из воспоминаний. Публикации А.И. Добкина и А.Б. Рогин¬
ского. (Без развернутых, комментариев). - Звезда, 1989, № 4; Брачев В.С. "Дело” академика
С.ф. Платонова. - Вопросы истории, 1989, № 5; Перченок Ф,Ф. "Дело Академии наук". -
Природа, 1991, № 4; Левин Л.Е. "Заговор монархистов". Кому он нужен. ВАН, 1941, № 1.
33 Буржуазные историки Запада в СССР (Тарле, Петрушевский, Кареев, Бузескул и др.). -
Историк-марксист, 1931, т. 2 h
33 См. Зайдель Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте. М.~ Л., 1931.
34 Историк-марксист, 1931, т. 21, с. 76-85.
32
альный заказ”. Абсолютно безосновательно он обвинил Кареева в игнорирова¬
нии работ советских историков и связал его деятельность так же, как и других
ученых, подвергшихся гонениям, главной фигурой среди которых был Тарле,
с очередным фальсифицированным ”процессом Промпартии”. О Карееве Лукин
говорил: ”Мы имеем ряд антимарксистских работ проф. Кареева, появившихся
за последние годы на страницах иностранной печати, с откровенными выкриками
против марксизма”. Подобное утверждение было по меньшей мере бездоказа¬
тельно. Свои историографическое обзоры Кареев писал по просьбе французских
коллег без каких-либо предвзятостей35. Это выступление Лукина сразу же стало
известно Карееву по его изложению в ленинградской газете ’’Красная звезда”36.
Мнение Лукина об упомянутых работах ученого глубоко задела Кареева. Он
направил письма на имя Президента Академии наук А.П. Карпинского и Непре¬
менного ученого секретаря Академии наук В.П. Волгина, в которых с полным
основанием решительно протестовал против инкриминируемых ему обвинений 37.
Копия этого письма была направлена Кареевым близкому ему человеку — ака¬
демику Бузескулу 28 декабря 1930 г. В нем, цитируя некоторые высказывания
Лукина, Кареев писал: ’Тассматривая в этом докладе последние выступления
части представителей нашей исторической науки, ”в свете данных процесса Пром¬
партии” ввиду проявившегося ’’напора враждебных марксизму сил”, Н.М. Лукин
зачислил меня в эту часть наших историков”38. С полным основанием Кареев
утверждал, что никаких причин для такой ’’критики” нет. И, как мы уже отмети¬
ли, был абсолютно прав. Безусловного внимания заслуживает ответ Карееву его
адресата. Уже 3 января 1931 г. Бузескул писал Карееву: ’’Получил Ваше письмо
от 26 дек. Горячо благодарен Вам за подробное изложение содержания газетной
статьи о выступлении моего ’’товарища” (Лукина. — В.Д). А на другой день
получил я и вырезку с этой статьей... Можно было, конечно, выступить против
инакомыслящих, державшихся не того метода и не того воззрения на историчес¬
кий процесс и его факторы, который нравится докладчику, но ставить судеб¬
ный процесс (Промпартии. - В.Д.) в связь с этим, в ином решении чисто науч¬
ных вопросов усматривать политическое преступление — нелепо и подло”.
И далее: ”Не ожидал я такой подлости от ’’коллеги”. Задел и Матьеза! Инте¬
ресно, что именно сказал он обо мне. М. [ожет] б. [ыть] и мне придется протесто¬
вать. Но главное, что касается всех нас и что возмутительно, это связывать науч¬
ные вопросы с судебным процессом” 3 9.
Так грустно отметил Кареев свое 80-летие, но никто не мог отнять у него
того глубокого уважения, которое испытывали к нему люди, с ним общав¬
шиеся. Ярким свидетельством тому является поздравительное письмо, направ¬
ленное 2 декабря 1930 г. в связи с этой знаменательной датой в адрес юбиляра
35См. письмо вицечтрезидснта Совета директоров ’’Общества современной истории” А.Сэ
к Н.И. Карееву от 5 июля 1930 г. (ОР ГБЛ,ф. 119,п. 32, д. 21), в котором от имени редакции
журнала ’’Revue d’Histoire Moderne” была высказана просьба о написании обзора, посвящен¬
ного изучению истории Франции в СССР. Кареев решил эту задачу несколько шире, начав свой
обзор с 1911 г., хронологически связав его тем самым со своим предшествующим обзором
(Kareiev N. Les travaux russes sur 1’epoque de la Revolution franęaise depuis dix ans. 1902-1911),
опубликованном во Франции в ’’Bulletin de la Societe d’histoire moderne”. В своем новом боль¬
шом обзоре он весьма обстоятельно рассмотрел деятельность историков-марксистов в облас¬
ти изучения истории Франции, причем данные им оценки отдельных работ были не только
лояльны, но и благожелательны. К сожалению, эта статья увидела свет только после смерти
автора. - См. Kareiev N. Les etudes sur FHistoire de France in Russie depuis vingts ans (1911-
1930). - Revue d’Histoire Moderne, 1931, sept.-oct.
36 Буржуазные историки Запада в СССР. Доклад акад. Н.М. Лукина в Обществе истори¬
ков-марксистов (из Москвы по телефону). - Красная газета, 26.XII. 1930.
31 Золотарев В.П. Указ, соч., с. 32-33.
38ААН СССР (Ленингр, отд.), ф. 825, оп. 2, д. 91, л. 61.
39ОР ГБЛ, ф. 119, п. 9, д. 67, л. 1,2 об.
2 Новая и новейшая история, № б
33
историком Н.И. Радцигом, который писал: ”Мне хотелось бы в настоящем своем
приветствии поблагодарить от всей души Вас за то, что я почерпнул в Ваших
работах и личных беседах с Вами. При этом особенно ценно для меня в них то,
что научная позиция Ваша до сих пор остается неизменной. Не взирая на то, что
nunc est tempus trubulationis*, Вы в своих исторических построениях gestem
und heute** я уверен в том и morgen u ubermorgen*** останетесь semper idem****...
И Вы за последнее время всегда мне рисовались одним из немногих мужествен¬
ный людей посреди пестрой массы ’’измалодушествовавшихся””40. К этому
человеческому документу трудно что-либо добавить. Слова из письма Радцига
’’научная позиция Ваша до сих пор остается неизменной” и ’’semper idem” Кареев
подчеркнул.
Особо хотелось бы сказать об иконографическом материале книги, собранном
составителем. Всего ’’Прожитое и пережитое” содержит 57 фотографий и рисун¬
ков. Это — фотографии самого Кареева, а также снимки из семейного альбома
(24 из них публикуются впервые).
Впервые в печати воспроизведены и картины художницы Е.С. Зарудной-Кавос
”Н.И. Кареев в Петропавловской крепости” (1905 г.), и два рисунка внука
Кареева — академика Академии художеств СССР О.Г. Верейского, который, по
словам составителя, ’’любезно согласился предоставить в наше (Золотарева. —
В.Д) распоряжение свои мемуары по данным вопросам”41. Его рисунки ”В де¬
ревню за молоком” (Кареев с внуком) и ”Уроки французского”, созданные спе¬
циально для настоящего издания в 1988 г., бесспорно явились украшением книги.
Воспроизведены также ранее известные, но мало доступные современному
читателю портреты Кареева, выполненные его зятем - художником Г.С. Верей¬
ским в 1927-1928 гг., и портрет философа В.С. Соловьева, относящийся к 1896 г.,
автором которого был И.Е. Репин.
И наконец, несколько слов о структуре издания и его научном аппарате.
Помимо основной части — воспоминаний Кареева, в книге содержатся обстоя¬
тельные комментарии, примечания, иконография, а также список научных трудов
Н.И. Кареева (в том числе и неопубликованных) за период 1917—1931 гг., с боль¬
шой тщательностью составленный подготовителем издания именной указатель.
В него включен ряд лиц, репрессированных в годы господства сталинизма, о чем
следовало бы сказать в библиографических справках. Иногда не указаны даты
жизни или одна из них, которые без особого труда можно установить. Это каса¬
ется К. Фишера, Ф. Лота, Шарля (а не Чарлза) Бемона, Н. Котляровского, А.П. Не¬
чаева, В.А. Бутенко, П.П. (Петра Павловича) Альбединского и некоторых дру¬
гих. Ошибочны инициалы под портретом Р.Ю. Виппера. Обращаем внимание на
эти детали, поскольку Карееву во всем была свойственна безукоризненная
точность.
В целом хотелось бы отметить, что наша мемуарная историческая литература
обогатилась одним из лучших своих образцов.
♦ныне время терзаний -лат.
♦♦вчера и сегодня - нем.
♦ ♦♦завтра и послезавтра — нем.
♦♦♦♦одним и тем же - лат.
40Там же, п. 10, д. 126, л. 1,1 об.
41 Кареев Н.И. Пережитое и прожитое, с. 27-28.
34
© 1991 г.
Э. Ф О Н Е Р (США)
РАБСТВО, ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ:
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
Ни один из периодов нашей национальной истории не был для американцев
настолько привлекательным, как эра гражданской войны. И ни один из них не
стал предметом для стольких исследований, подготовленных историками прош¬
лого поколения, как этот. В соответствии с традицией исследователи граждан¬
ской войны обращали все возраставшее внимание на ежедневную, будничную
жизнь простых американцев. Под воздействием такого подхода появились новые
решения старых историографических проблем этого периода, а на передний план
исследований выдвинулись такие вопросы, как региональные особенности сущест¬
вования института рабства, влияние гражданской войны на белых, не владев¬
ших рабами, роль черных американцев в обострившемся секционном кризисе.
И если новые исследования подчас, казалось бы, дробят историю на фрагменты,
обобщая исторический опыт лишь отдельных групп людей, а историки продолжают
расходиться в своих интерпретациях ключевых проблем, то в настоящее время
возникает и синтез исторического знания, в свете которого рабство рассматри¬
вается как наиболее критическая проблема всей довоенной жизни США и основ¬
ная причина гражданской войны, а последствия эмансипации - как главные сюже¬
ты войны и реконструкции.
РАБСТВО И ПРИЧИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Вполне доказуемым является тот факт, что наиболее внушительная часть работ,
выпущенных американскими историками за последние 30 лет, посвящена пере¬
оценке роли ’’особого института” Юга. Но до того, как новые взгляды смогли
достаточно укрепиться, нужно было отмести традиционные интерпретации, доми¬
нировавшие в этой области до середины 1950-х годов. Приняв концептуально
предположение о том, что рабство являлось цивилизирующим институтом, появле¬
ние которого было вызвано расовой неполноценностью афро-американцев, исто¬
рики предыдущего поколения нарисовали соответствовавший этому образ жизни
на плантации — с минимальными наказаниями, приличными условиями жизни и
установившейся к взаимному удовлетворению сторон общей системой отноше¬
ний между хозяином и рабом, выражавшейся в принципе ’’отдай - бери”. Будучи
в большинстве случаев неприбыльным рабство, по мнению этих историков, скорее
поддерживалось во имя заботы о расовых и культурных факторах, а не по эконо¬
мическим причинам и, вполне возможно, умерло бы ’’мирным”, естественным
образом, не вмешайся в этот процесс гражданская война1.
Полномасштабное опровержение этого традиционного подхода появилось
только в начале эры современного движения за гражданские права, серьезно
повлиявшей на оценку историками развития расовых отношений в прошлом.
Опровержение это исходило от Кеннета М. Стэмпа, который понял, что, если от¬
бросить тезис о том, что рабы были неполноценной расой, требующей цивилизи-
рующего влияния, все здание традиционных представлений об этом разрушится
lPhillips U.B. American Negro Slavery. New York, 1918.
2*
35
до основания. Стэмп изображал плантацию как арену постоянного конфликта
между хозяином, заботившимся в основном лишь о максимальном увеличении
собственной прибыли, и рабами, находившимися постоянно в состоянии, близ¬
ком к восстанию2.
Если Стэмп развеял прежние мифы о рабстве, то Стэнли Элкинз впервые при¬
влек внимание к тому, что стало главным предметом исследования этого поколе¬
ния историков, - к мироощущению самого раба. Находясь под впечатлением
исследований, в которых утверждалось, что другие страны, познавшие институт
рабства, такие, как Бразилия, были в значительно меньшей степени, нежели США,
отмечены печатью распространения расовых предрассудков (тезис, впоследст¬
вии подвергавшийся критике со стороны других историков), Элкинз утверждал,
что в этой стране институт рабства обрел особенно гнетущие формы, лучшей
аналогией которых был нацистский концентрационный лагерь. Более жесткого
и бескомпромиссного критика американского рабства, чем Элкинз, трудно себе
и представить, и тем не менее он* был гораздо меньше заинтересован в исследо¬
вании конкретных условий жизни раба, чем в изучении психологического воз¬
действия всего института рабства на его жертвы — как с черным, так и с белым
цветом кожи. Элкинз пришел к выводу о том, что культура и самоуважение
были отняты у раба институтом рабства, раб же при этом оставался ’’инфантилизи-
рованной” личностью, неспособной к восстанию и психологически зависящей
з
от своего хозяина .
Сравнительно-исторический подход Элкинза побудил историков в дальнейшем
помещать ’’особый институт” американского Юга в широкий контекст истории
западного полушария, преодолевая таким образом узкие рамки теории ’’амери¬
канской исключительности”, служившей фундаментом многих оценок националь¬
ной истории США. В то же время сравнительный анализ Элкинза оттенил уникаль¬
ные качественные характеристики рабовладельческого общества Старого Юга,
в котором в отличие от стран Карибского моря белое население значительно пре¬
вышало по численности негритянское3 4. Однако наиболее удивительным явля¬
ется следующее: Элкинз, несмотря на то, что лишь немногие авторы впоследст¬
вии согласились с его выводами, сумел выдвинуть на первый план проблему
’’культуры рабов”, которая с тех времен продолжает доминировать в историогра¬
фии. Целое поколение историков выступило со стремлением показать в своих
исследованиях, что рабы не столько превращались в ’’самбо” и полностью зависели
от своих хозяев, но создавали жизнеспособную, полуавтономную культуру среди
себе подобных. Для доказательства тезиса о том, что рабы обладали своей собст¬
венной системой ценностей, честолюбивыми стремлениями и осознавали себя
как личность, эти историки обратились к новому, до того времени еще не трону¬
тому кругу источников - песням рабов,’’спиричуэлз”, нарративным источникам,
оставленным беглыми рабами, интервью бывших рабов, сделанными в течение
1930-х годов по проектам Администрации общественных работ, а также к книгам
регистрации браков5. Их исследования стали главным компонентом развернув¬
шейся в 1960—1970-х годах широкой работы по переписыванию американской
истории ’’снизу вверх”. Изучение культуры рабов продолжало доминировать
в историографии истории рабства и в 1980-х годах. И лишь недавно Питер Колчин
в работе, посвященной сравнению американского рабства и русской крепост¬
ной зависимости, заявил о том, что исследователи не должны терять из виду
то обстоятельство, что плантаторы в США обладали огромной властью, которая
3Stampp К.М. The Peculiar Institution: Slavery in the Antebellum South. New York, 1956.
3Elkins S. Slavery. Chicago, 1959.
4Slavery in the New World. Ed. by E.D. Genovese, L. Foner. Englewood Cliffs (N.J.), 1969.
8Blassingame J. The Slave Community: Plantation Life in the Antebellum South. New York,
1979; Joynen Ch. Down by the Riverside: A South Carolina Slave Community. Urbana (11L), 1984;
Stuckey S. Slave Culture. New York, 1987.
36
распространялась на все стороны жизни раба, а также преграды, существовав¬
шие на пути создания независимости внутри общины рабов6.
Два института в жизни рабов — церковь и семья - стали объектами наиболее
детального критического анализа историков. Жизнеспособность, мировоззрение
и отличительные черты самого обряда религии рабов указывали на гибкость
и живучесть африканского культурного наследства и тот предел, до которого
негры ухитрялись сопротивляться дегуманизирующему влиянию ’’особого ин¬
ститута” Юга. Негры отвергали ту интерпретацию христианства, которую исповедо¬
вали белые и которая подчеркивала необходимость покорности, смирения и обеща¬
ла избавление от страданий не на земле, а в загробной жизни. Напротив, они
стали рассматривать себя как избранный Богом народ, наподобие детей Израиле¬
вых, а свою рабскую зависимость и возможную свободу в будущем - как часть
предопределенного божественного плана. В тексте Библии они искали и находили
прежде всего образы тех, кто сумел преодолеть жизненные напасти - Даниила,
убежавшего из логова льва; Давида, убившего Голиафа; и в особенности Моисея,
уведшего свой народ на обетованную землю свободы. В самой религии негры
нашли средство выживания и сохранения своего достоинства в условиях рабства,
а в своей церкви — почву для развития форм негритянского лидерства, независи¬
мого от контроля со стороны белых. Проповедники были главными организато¬
рами известнейших негритянских заговоров XIX в. — вспомним лишь Габриэла
Проссера (1800 г.), Денмарка Виси (1822 г.) и религиозного наставника Ната
Тернера (1831 г.) 7. Вместе с тем изучение негритянского сказочного фольклора,
в особенности историй о Братце Кролике, указывает на наличие в них некоторой
воображаемой инверсии реальных ежедневных властных отношений на планта¬
ции — как более слабые создания могли перехитрить сильных, полагаясь только
на свой ум. В негритянской религии и фольклоре исследователи нашли весомые
подтверждения того, что рабы понимали, что их эксплуатируют, и верили в не¬
избежность освобождения из оков рабства8.
Подобно исследованиям роли негритянской церкви и религии, изучение ин¬
ститута семьи в жизни рабов показало, что он не только не был разрушен рабст¬
вом и выжил, но и сохранил целый ряд совершенно особых ценностей, свиде¬
тельствующих о частичной автономии общины рабов. Герберт Г. Гатмэн, перу
которого принадлежало наиболее исчерпывающее исследование этой проблемы,
подтвердил известный тезис о том, что семья ЗДГров находилась под постоянной
угрозой разрушения из-за частых распродаж ф£бЬв хозяевами. И тем не менее
он нашел убедительные доказательства того, что большинство рабов жили ’’тради¬
ционными” семьями с двумя родителями, что многие браки между рабами дли¬
лись долго и что сам процесс нарекания ребенка именем свидетельствовал в
негритянских семьях об осознании своей семейной родословной на одно или
два поколения назад9.
Последователи Гатмэна внесли в изучение института семьи рабов методики,
возникшие в области истории женщин в США. Исследуя ’’внутреннюю эконо¬
мику” жизни рабов (как и на что рабы использовали время, свободное от рабо¬
ты на своих хозяев), они открыли в негритянских семьях наличие своеобраз¬
ного разделения труда, согласно которому женщины в своей основной массе
были ответственны за уход за детьми, приготовление пищи, проведение уборки
дома, а мужчины занимались охотой, рыбной ловлей и повседневными делами
6 Kolchin РР Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge (Mass.), 1987.
7Harding К There Is a River: The Black Struggle for Freedom in America. New York, 1981;
Walker C.E. A Rock in a Weary Land: The African Methodist Episcopal Church During the Civil
War and Reconstruction. Baton Rouge (La.), 1982.
8Levine L.W, Black Culture and Consciousness: Afro-American Folk Thought from Slavery to
Freedom. New York, 1977.
9 Gutman H.G. The Black Family in Slavery and Freedom. 1750-1925. New York, 1976.
37
вне дома. Семья рабов испытывала в своем развитии скорее не влияние черт
’’матриархата”, описанных в традиционной литературе, а тенденции к утвержде¬
нию мужского превосходства, как и в семьях белых, которые ее окружали10.
Совсем недавно историки предприняли попытку пойти дальше широких обоб¬
щений в изучении всего Юга как целого — к исследованию различных региональ¬
ных особенностей, обеспечивших появление отличительных черт довоенного
рабства. В течение длительного времени считалось общепризнанным, что в городах,
где многие рабы работали в качестве квалифицированных ремесленников и были
в значительной степени независимыми от хозяев, институт рабства существен¬
но отличался от того, каким он был в аграрных областях. Но лишь недавно ис¬
следователи на основе детального анализа выяснили, что рабство в аграрных
регионах, не входящих в зону ’’Королевства хлопка”, породило совершенно
особые формы организации труда, влиявшие на жизнь как черного, так и белого
населения. В районах, где производился сахар и рис, где требовались огромные
инвестиции капитала для поддержания на должном уровне ирригационных
систем, а также молотильного и мельничного оборудования, возникли планта¬
торские элиты, чье богатство ставило их на самый верх социальной лестницы
в довоенном обществе. В этих районах рабы пользовались некоторым минимумом
возможной ежедневной автономии — работавшие на рисовых полях сами устанав¬
ливали собственный трудовой ритм в рамках системы скорее индивидуальных,
нежели групповых заданий; тогда как в сахаропроизводящих областях, как и в
странах Вест-Индии, семьи негров были прикреплены к индивидуальным наделам
земли. В обоих случаях рабы использовали свое свободное время для произ¬
водства и продажи своих собственных сельскохозяйственных продуктов и имели
возможность накопления собственности, развивая таким образом осведомлен¬
ность в делах рынка в несравненно большей степени, чем их собратья в районах
производства хлопка11. На Верхнем Юге, более того, переход от производства
табака к выращиванию пшеницы уменьшил прежнюю потребность в круглогодич¬
ном использовании рабочей силы, что вело к увеличению числа рабов, получив¬
ших вольную от хозяев (в Мэриленде к 1860 г. половина негритянского населе¬
ния уже была свободной)12.
Внимание, проявленное исследователями к региональным особенностям ин¬
ститута рабства, обогатило и наши представления о свободных неграх на Юге.
Те из них, которые проживали на Верхнем Юге, работали в качестве сельско¬
хозяйственных рабочих либо неквалифицированных наемных работников на
производстве в городах и часто были связаны семейными узами с теми неграми,
которые еще находились в рабстве, ощущали себя теснейшим образом сопричаст¬
ными с общиной рабов. Совершенно другой была ситуация в портовых городах
Глубокого Юга, в особенности в Чарльстоне и Новом Орлеане. Здесь возникла
процветавшая группа свободных от рабства цветных с более светлой, чем у негров
кожей; заполнив лакуну в социальной иерархии, которая существовала между
рабами и свободными, а также черными и белыми, они создали для себя доволь¬
но широкую сеть процветавших школ, церквей и других институтов, стараясь
не иметь ничего общего с рабами, жившими рядом с ними. Однако эта свобод¬
ная цветная элита вскоре начала играть заглавную роль в вихре политики времен
гражданской войны и реконструкции13.
10Jones J. Labor of Love, Labor of Sorrow: Black Women. Work and the Family, from Slavery
to the Present. New York, 1985; White D.G, Ain’t I a Woman? Female Slaves in the Plantation South.
New York, 1985.
1 'Foner E, Nothing But Freedom: Emancipation and Its Legacy. Baton Rouge (La.), 1983, ch. 3.
12Fields B.J. Slavery and Freedom on the Middle Ground: Maryland During the Nineteenth
Century. New Haven, 1985.
13Bertini, Slaves without Masters: The Free Negro in the Antebellum South. New York, 1974.
tR
Поначалу новый подход историков к изучению социальных и культурных
аспектов жизни на плантациях сопровождался явным недостатком внимания
к не имевшим рабов белым беднякам Юга, которые составляли большинство
населения этого района. Географические деления внутри Старого Юга в значи¬
тельной мере совпадали или шли параллельно с классовыми и расовыми деле¬
ниями в южном обществе. Вследствие этого на Верхнем Юге, заселенном преиму¬
щественно белыми, развивались общественные отношения, которые существен¬
но отличались от отношений, принятых в штатах так называемого Черного пояса,
где проживало большинство плантаторов и рабов. И лишь не так давно истопики
стали делать попытки исследования этого мира. Стивен Хан нарисовал образ
белых фермеров-йоменов, в значительной степени обеспечивавших себя
всем необходимым, не обладавших, как правило, рабами либо имевших не более
одного раба, живших на периферии рыночной экономики и всячески старавшихся
обеспечить автономность своих небольших местных общин. Помимо всего про¬
чего, книга Хана ввела в научный оборот новые материалы о степени различия
и схожести между обществами Севера и Юга. Мир йоменов Юга существенно
отличался от ориентированной на рынок жизни фермеров Среднего Запада, что
предполагало, по мысли автора, значительно меньшее проникновение системы
коммерческих ценностей в общество довоенного Юга, чем это было в тот же
период на Севере14.
Взгляд на рабство как основу экономического и социального порядка Юга,
который по всем основным параметрам отличался от предвоенного Севера, в
доведенной до наибольшего совершенства форме содержится в работах Юджина
Д. Дженовезе, наиболее влиятельного и авторитетного у настоящего поколе¬
ния исследователя проблем Старого Юга. Дженовезе утверждал, что американ¬
ское рабство, даже будучи впаянным в систему мировой капиталистической
экономики, дало жизнь совершенно уникальным формам социальных отноше¬
ний. Рабство служило не столько простой формой вложения капитала, сколь¬
ко фундаментом определенного образа жизни, который становился с течением
времени все более изолированным и непохожим на образ ждезни на Севере. Рабст¬
во дало толчок развитию иерархического общества, основанного на патерна¬
лизме — идеологии, связывающей доминирующий и подчиненные классы в слож¬
ный конгломерат отношений взаимной ответственности и обязательств. Миро¬
воззрение рабовладельцев разительно отличалось от таких характерных черт
образа мышления на Севере, как соревновательный индивидуализм и стремле¬
ние к приобретательству. Они считали себя ответственными за благополучие
своей большой ’’семьи” иждивенцев, включавшей помимо рабов белых женщин
и детей на плантациях15. Элизабет Фокс-Дженовезе показывает, каким образом
жены плантаторов принимали и подкрепляли в своей повседневной жизни эти
патерналистские ценности16.
Образ Старого Юга как социального и экономического болота, напоминавшего
полуфеодальную европейскую периферию, не получил, однако, всеобщего одобре¬
ния. Прямо противоположная точка зрения была принята историками, которые
считали, что довоенный Юг скорее находился в русле развития ведущих тенденций
мирового прогресса XIX в., нежели выбивался из этого русла. Подобная интер-
lĄHahn S. The Roots of Southern Populism: Yeoman Farmers and the Transformation of the
Georgia Upcountry. 1850-1890. New York, 1983, p. 15-85; Harris J.W. Plain Folk and Gentry
in a Slave Society: White Liberty and Black Slavery in Augusta’s. Middletown (Ct.), 1985.
15См., например: Genovese E.D. The Political Economy of Slavery. New York, 1965; idem.
Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made. New York, 1974; Genovese E.D., Fox-Genovese E.
Fruits of Merchant Capital. New York, 1986.
16Fox-Genovese E. Within the Plantation Household: Black and White Women of the Old South.
Chapel Hill (N.C.), 1988. Другая точка зрения высказана в книге: Clinton С. The Plantation Mist¬
ress: Woman’s World in the Old South. New York, 1982.
39
претация наиболее тесно ассоциировалась с исследованиями ’’клиометристов” -
Роберта Фогеля и Стенли Энгермана, которые базировались на двух новых мето¬
дах: математическом анализе количественных источников с помощью ЭВМ и при¬
менении современной неоклассической экономической теории в изучении истори¬
ческих проблем. Первый их них значительно расширил возможности отыскания
четких и ясных ответов на вопросы статистического порядка (к примеру, Фогель
и Энгерман показали, что рабство было прибыльным институтом, который вовсе
не собирался исчезать самопроизвольно по экономическим мотивам). Второй
же сводил на нет само существование проблемы особенности развития Старого
Юга, поскольку допускал, что рабовладельческое общество функционировало
в соответствии с теми же закономерностями рыночной экономики, что и общест¬
во Севера.
Выводя систему ценностей и мотиваций как белых, так и негров из анализа
собранного статистического материала экономического характера, Фогель и
Энгерман приходят к выводу, что плантаторы и рабы вели себя по отношению
друг к другу с позиций рационального учета своих интересов. Первые были за¬
интересованы прежде всего в увеличении производства, повышении его эффектив¬
ности и прибыльности, тогда как вторые, в равной с плантаторами мере вдох¬
новленные капиталистической этикой, стремились к осуществлению собственных
честолюбивых планов в надежде на социальную мобильность внутри самой сис¬
темы рабства (например, получить возможность сменить работу в поле на работу
кучера). Другие историки утверждают, что довоенные Север и Юг не только раз¬
деляли общую систему ценностей, но и обладали общим опытом территориальной
экспансии и политической демократизации (для белых). Этот акцент на общие
ценности делает сложной задачу объяснения причин гражданской войны. Однако
реальный уровень довоенного развития Юга оставался почвой для продолжав-
1 7
шихся споров .
Еще ни одному историку не удалось соединить появившиеся новые методики
в изучении рабства с последовательным изложением всей эволюции американ¬
ского рабства с начала колониального периода до наступления эры ”Короля
хлопка”. Исследователи истории рабства были первыми, бросившими вызов
изложению американской истории с позиций теории ’’консенсуса”, которая до¬
минировала в историографии в 1950-х годах; как позднее признал Ричардс Хоф-
стедтер, ее ведущий стороннику она не смогла объяснить совершенно очевид¬
ную реальность гражданской войны17 18. В настоящее время уже более не возможно
рассматривать особый институт как какую-то разновидность отклонения, су¬
ществующую вне магистральных путей развития Америки. Скорее рабство было
тесно связано со становлением западной цивилизации, экономическим развитием
нации в довоенный период и структурой национальной политики. Приверженцы
школы ’’новой политической истории” в американской историографии, такие,
как Майкл Холт, утверждали, что столкновения в сфере культуры между сопер¬
ничавшими этническими и религиозными группами в большей степени, чем раз¬
личные идеологические позиции по вопросам национальной политики, форми¬
ровали основы поведения блоков избирателей на Севере. С этой точки зрения
республиканская партия возникла как средство, с помощью которого реформа¬
торы Новой Англии пытались распространить свои культурные нормы, включая
воздержание от алкоголя, неприятие иммиграции и католицизма, равно как и
антирабовладельческую идеологию, на всю американскую нацию, а демократи¬
17Fogel R., Engerman S. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery. Boston,
1974. Положения предыдущей книги критикуются в работе: David Р. Reckoning with Slavery.
New York, 1976. Фогель отстаивает свою концепцию в книге: Fogel R, Without Consent or
Contract. New York, 1990.
1 'Hofstadter R. The Progressive Historians. New York, 1968.
40
ческая партия объединила тех — включая южных плантаторов и иммигрантов
на Севере, - кто был предан идее сохранения местной автономии и сопротивле¬
ния культурному вторжению новоанглийского пуританизма19.
Те историки, которые, напротив, видели в рабстве основу общества, сущест¬
венно отличавшегося от современного ему Севера, стремились также увидеть
в республиканцах носителей антирабовладельческой идеологии, глубоко укоре¬
нившейся в маленьких городах и аграрных районах Севера. ’’Идеология свобод¬
ного труда” укрепляла превосходство общества Севера над ’’застойным” рабо¬
владельческим Югом и рассматривала распространение рабства как угрозу наме¬
рениям рабочих Севера достичь экономической независимости, что являлось
очевидным правом всех членов ’’свободного общества”. Критика рабства еще
самим Линкольном прочно покоилась на идеологии ’’свободного труда”, по¬
скольку он считал, что этот институт нарушал права рабочих на обладание продук¬
тами своей деятельности и отказывал в возможности улучшить условия жизни
человека с помощью усердного труда. Для представителей школы ’’новой полити¬
ческой истории” избрание Линкольна президентом в 1860 г. не несло в себе ни¬
какой реальной угрозы Югу, а сецессия была вызвана совершенно иррациональ¬
ным ’’кризисом страха”. Для тех же историков, которые подчеркивают наличие
идеологического конфликта между двумя фундаментально различными общест¬
вами, сецессия отражала имевшую смысл оценку опасности, проистекавшей от
прихода к власти политической партии, враждебной образу жизни на Юге20.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В отличие от работ, ориентированных в первую очередь на изучение военной
истории конфликта, последние монографии о гражданской войне выдвигают
на передний план исследования те же проблемы, которые доминируют в новей¬
шей историографии довоенной истории21. Если рабство было центральной проб¬
лемой всей довоенной жизни Америки, то совершенно очевидно, что его отмена
трансформировала природу самой войны. Внимание, проявленное к изучению
жизненного опыта рабов, белых бедняков, не имевших рабов, а также освобожден¬
ных негров, изменило наше понимание самого хода войны и ее влияния на амери¬
канское общество. Более того, историки все чаще стали осознавать, какое воз¬
действие оказала война на участвовавших в ней* углубив существовавшие между
ними разногласия и вызвав к жизни новые социальные конфликты. Хотя термины
’’Север” и ”Юг” продолжают использоваться историками как неизбежные сокра¬
щения, в настоящее время уже не представляется возможным показывать Союз
или Конфедерацию как единые монолиты.
В исследованиях историков часто анализируются шаги, которые сделали кон¬
гресс и президент Линкольн на пути от изначальной политики в войне, нацелен¬
ной исключительно на сохранение Союза, к признанию необходимости освобожде¬
ния рабов в качестве главной цели войны. Большинство американцев, конечно
же, связывают конец рабства с Прокламацией об эмансипации от 1 января 1863 г.
Однако в настоящее время представляется очевидным, что Прокламация лишь
подтвердила то, что в реальности уже происходило на фермах и плантациях Юга.
Что бы не декларировали политики и военные командиры в своих декретах и
приказах, негры с самого начала воспринимали гражданскую войну как возмож¬
19Holft M.F. The Political Crisis of the 1850s. New York, 1978;&7Z>ey J.H. The Partisan Impera¬
tive: The Dynamics of American Politics before the Civil War. New York, 1985; Gienapp W.E. The
Origins of the Republican Party, 1852-1856. New York, 1987.
20Foner E. Free Soil, Free Labor, Free Men: The Ideology of the Republican Party before the
Civil War. New York, 1970.
21 Лучшее описание истории войны содержится в работе: McPherson J.M. Battle Cry of Free¬
dom : The Civil War Era. New York, 1988.
41
ность положить конец их рабской зависимости, и сила их сообщества, выкован¬
ная в условиях гнета рабства, дала им возможность отыскать пути к свободе,
появившиеся в ходе войны. По мере того как союзная армия занимала
территорию сначала на периферии Конфедерации, а затем и в ее центре, тысячи
рабов бежали от своих хозяев на Север, пересекая линию фронта. Некоторые из
них затем совершали опаснейшие путешествия ’’домой” для того, чтобы увести
с собой членов своей семьи. Множились донесения о ’’деморализирующем” и
’’непокорном” поведении рабов на плантациях, в особенности после появления
где-нибудь вблизи союзных войск. Как писал один из северян - очевидец собы¬
тий ноября 1862 г., рабство ’’уничтожено навсегда и ничего уже более не стоит,
что бы там ни говорил об этом мистер Линкольн или кто-либо еще”2 2.
И тем не менее по многим причинам именно Прокламация об освобождении,
а не битвы при Геттисберге и Виксберге ознаменовала собой поворотный пункт
в войне, ибо она превратила войну армий в борьбу двух обществ, укрепляя в мыс¬
лях тех, кто считал, что победа Союза в войне приведет к социальной революции
на Юге. В такой борьбе компромисс был невозможен: война должна была про¬
должаться вплоть до безусловной капитуляции одной из сторон. Более того,
Прокламация впервые разрешала призыв негров в армии северян в больших
масштабах. К концу войны в армиях служило уже около 180 тыс. негров — свыше
1/5 всего негритянского населения Соединенных Штатов в возрасте от 18 до
45 лет. Как явствует из издания сборника документов того времени, осуществлен¬
ного группой исследователей во главе с Ирой Берлин, набор негритянских форми¬
рований в армии вдохнул новую жизнь в обещание эмансипации рабов. Особен¬
но заметным это было в Мэриленде, Кентукки и Миссури, которые остались
в Союзе и поэтому не включались в сферу действия Прокламации об освобожде¬
нии. В этих штатах мобилизация на службу в армию на определенный срок яв¬
лялась единственным путем к освобождению от рабства.
В самой армии негры были кем угодно, но только не равными людям с белым
цветом кожи. Они служили в отдельных подразделениях, с самого начала полу¬
чали меньшую плату за службу, чем белые рекруты, в основном были приписаны
к выполнению самых утомительных и неприятных обязанностей и терпели
оскорбления со стороны белых офицеров. И все же к концу войны служба негров
в армии изменила отношение к ним всей нации, а также их собственное самосоз¬
нание. В первый раз в американской истории большие по численности группы
негров рассматривались в качестве равных с белыми перед законом — пусть
только лишь законом военного времени, — а бывшие рабы впервые почувство¬
вали, как безличная сила закона заменяет персональную власть их хозяев. Имен¬
но на военной службе значительные массы освобожденных негров впервые учи¬
лись читать и писать, и из них затем вышли многие способные лидеры периода
реконструкции2 3.
Война, разорвав те узы, которые ранее связывали хозяина и его раба, углубила
противоречия, существовавшие среди белого населения Юга. Так же, как и в слу¬
чае с довоенным Югом, детальные исследования жизни белых фермеров Юга
проведены были лишь недавно. Как бы то ни было, остается мало сомнений в том,
что все возраставшее недовольство среди йоменов Верхнего Юга фатальным
образом сказалось на военных усилиях Конфедерации. С самого начала войны
нелояльность курсу Конфедерации была широко распространена в горных районах
Юга. В 1861 г. от штата Вирджиния отделилась Западная Вирджиния - район,
населенный экономически независимыми фермерами и отрезанный от осталь-
23Freedom: A Documentary History of Emancipation. Ed. by I. Berlin. New York, 1982, Series 1:
The Destruction of Slavery. См. также: Messner W.F Freedmen and the Ideology of Free Labor-
Louisiana 1862-1865. Lafayette (La.), 1978. p. 35.
23Berlin I. Freedom: A Documentary History of Emancipation, Series 2: The Black Military
Experience.
42
ной территории штата Голубыми горами; а йомены Восточного Теннеси хранили
верность Союзу с самого начала войны. Война и военная политика Конфедера¬
ции способствовали возникновению социальных конфликтов и антивоенных
настроений. С учетом того, что институт рабства постоянно ослаблялся акциями
самих негров, правительство Конфедерации нацеливало свою политику на защиту
интересов плантаторского класса, что в свою очередь раскалывало общество Юга.
Многие белые южане, не владевшие рабами, убеждались в том, что они несут
на своих плечах непомерное и несправедливое бремя налогов, в особенности
прямые натуральные реквизиции на армейские нужды и вызывавший ненависть
10-процентный натуральный налог на сельскохозяйственную продукцию, ставив¬
шие под сомнение возможность для фермера Верхнего Юга прокормить свою
семью. Но именно закон о воинской повинности убедил многих йоменов, что
’’это война богатых, в которой сражаются друг с другом бедные”. Практика
призыва на военную службу, согласно которой рекрут мог выставить вместо
себя другого человека, а взамен предоставить в распоряжение командования
20 рабов, годных к службе, белый мог вообще быть исключенным из списка
призывников, воспринималась с глубоким негодованием в районе Верхнего
Юга. В результате к 1863 г. на Юге распространились сопротивление призыву
и дезертирство - фактически маленькая гражданская война на фоне собствен¬
но гражданской войны, подрывавшая военную мощь Конфедерации и ускорявшая
ее поражение. Более того, некоторые области Верхнего Юга, лежавшие на пере¬
сечении стратегических путей сообщения, были буквально опустошены в резуль¬
тате наступлений войск Севера и мародерства банд дезертиров. Таким образом,
экономическая и политическая карта белого Юга была перекроена войной. Значи¬
тельная часть Верхнего Юга была обращена в зону бедности, что представляло
собой угрозу экономической независимости йоменов и открывало путь для после¬
военного распространения арендаторства. Многие графства в Восточном Теннеси
и западной части Северной Каролины в течение десятилетий игнорировали демо¬
кратическую партию на выборах, оставаясь республиканскими по своим полити¬
ческим симпатиям даже после того, как все остальное белое население Юга объеди¬
нялось под знаменами демократической партии24.
Для Союза точно так же, как и для Конфедерации, война стала временем пере¬
мен. Хотя историки по-разному оценивают степень влияния конфликта на эконо¬
мический рост страны, нет никакого сомнения в том, что большинство отраслей
промышленности преуспевали в своем развитии, а.сельское хозяйство процвета¬
ло вследствие того, что ушедших в армию Севера сельскохозяйственных рабочих
заменили на фермерских полях машины. Больше того, война связала будущее
возникавшего класса промышленников с республиканской партией и общена¬
циональным государством, мощь которого значительно возросла в ходе кон¬
фликта. Экономическая политика администрации Линкольна - введение высо¬
ких протекционистских тарифов, строительство трансконтинентальной желез¬
ной дороги, введение общенациональных платежных средств (’’гринбэков”),
формирование новой общенациональной банковской системы — сместила центр
коммерческих интересов в торговле с сельскохозяйственной на промышлен¬
ную продукцию и сконцентрировала контроль за кредитами в руках ведущих
банков Нью-Йорка. Однако так же, как и на Юге, политика военного времени
играла на руку оппозиции, угрожавшей воспрепятствовать военным усилиям
Севера. Обогащение промышленников и держателей облигаций выглядело не¬
справедливым в глазах рабочих, реальные доходы которых катастрофически
падали в связи с инфляцией. Расширявшиеся полномочия федерального прави¬
тельства приходили в острое противоречие со священными традициями мест-
34Escott P.D. After Secession: Jefferson Davis and the Failure of Southern Nationalism. Baton
Rouge (La.), 1978; Thomas EM. The Confederate Nation. 1861 -1865. New York, 1979.
43
ной автономии. И, наконец, огромные изменения в области расовых отноше¬
ний, вызванные эмансипацией, побудили выступить с безобразными контрата¬
ками сторонников превосходства белой расы2 5.
Хотя и не так широко распространенные, как на Юге, эти группы, выступавшие
против войны и ее последствий, объединились вместе на несколько ужасных
дней в июле 1863 г., создав прецедент нью-йоркского бунта против призыва в
армию — крупнейшего гражданского восстания в американской истории, если
не считать, конечно же, самого мятежа на Юге. Вызванный изначально негодова¬
нием населения по поводу условий призыва на военную службу (как и на Юге,
политика призыва в Союзе допускала возможность откупиться от военной служ¬
бы) , бунт быстро перерос во всеобщее выступление против всех символов нового
порядка? созданного республиканской партией и гражданской войной. Главные
удары восставших обрушились на государственных чиновников — в особенности
на ведающих призывом в армию офицеров и полицейских, а также на фабрики,
доки, дома состоятельных республиканцев и, помимо всего прочего, на негров,
многих из которых линчевали или выкинули из города2 6.
Бунты выявили наличие классовой и расовой напряженности на Севере и поста¬
вили весьма сложные вопросы об истинных целях и характере войны. Может ли
общество, в котором расовая ненависть укоренилась так глубоко, обеспечить
хотя бы минимум социальной справедливости по отношению к бывшим рабам?
Эта проблема обретала новую остроту по мере того, как война приближалась
к концу. В последнее время в публикациях историков подчеркивается влияние
самого факта прохождения неграми военной службы на эволюцию позиции респуб¬
ликанской партии в расовом вопросе. При этом утверждается, что корни привер¬
женности партии решению вопроса о предоставлении неграм гражданских прав
в период реконструкции следует искать в событиях последних месяцев граждан¬
ской войны2 * * * * * 27. Однако выдвижение в центр политической жизни вопроса о предо¬
ставлении неграм избирательных прав произошло в этот период вовсе не благодаря
деятельности конгресса или президента. Это было достигнуто с помощью полити¬
ческой мобилизации свободных негров Нового Орлеана, которые вынудили
национальных политических лидеров заняться разрешением этого вопроса по
мере того, как штат Луизиана, возглавляемый созданным по приказу Линкольна
обновленным правительством, попытался воссоединиться с Союзом.
Если до войны свободные Негры Луизианы не воспринимали негров-рабов
как равных себе, то развитие событий в 1864 г. направило их на путь радикализма.
Они были шокированы отказом Конституционного конвента Луизианы 1864 г.,
отменившего рабство в штате, распространить политические права на сообщество
свободных негров. Вместе с этим они отвергали систему организации труда,
установленную генералом армии Союза Натаниэлем Бэнксом, которая принуждала
освобожденных негров подписывать трудовые соглашения на плантациях и не де¬
лала различия между ранее свободными неграми и бывшими рабами, распростра¬
няя и на тех, и на других действие новых статусов о ’’бродяжничестве”. Со все
более возраставшей настойчивостью лидеры свободных негров Нового Орлеана
требовали, чтобы право голоса было дано как ранее свободным, так и освобожден¬
ным от рабства в годы войны неграм2 8.
2iPaludan PhoS. A People’s Contest: The Union and the Civil War. New York, 1989; Montgo¬
mery D. Beyond Equality: Labor and the Radical Republicans. 1862-1872. New York, 1967.
26Bernstein I. The New York City Draft Riots: Their Significance for American Society and
Politics in the Age of the Civil War. New York, 1989.
27Berry M.F. Military Necessity and Civil Rights Policy: Black Citizenship and the Constitu¬
tion. 1861-1868. Port Washington (N.Y.), 1977.
2 8 Bełz H. Origins of Negro Suffrage During the Civil War. - Southern Studies. Summer 1978,
p. 115-130; Houzeau J. Ch. My Passage at the New Orleans ’’'Tribune”: A Memoir of the Civil War
Era. Ed. by. D.C. Rankin. Baton Rouge (La.), 1984.
44
Их жалобы на правительство Луизианы были услышаны в Вашингтоне. Вопрос
о предоставлении неграм права голоса был поставлен на повестку дня для об¬
суждения на сессии конгресса, которая собралась в декабре 1864 г. Когда работа
сессии подошла к концу в марте 1865 г. вопрос об избирательном праве для
негров все еще не был решен. Это безвыходное положение побудило Линкольна
впервые выступить в поддержку предоставления права голоса неграм, служив¬
шим в армии Севера и ’’наиболее смышленым” среди остальных29. Речь Прези¬
дента, хотя и не являлась прямым подтверждением прав негров, давала воз¬
можность утверждать, что негры сыграют свою роль в формировании полити¬
ческого курса Юга в период реконструкции. После смерти Линкольна и вступле¬
ния в должность президента Эндрю Джонсона дела, однако, приняли совершенно
другой оборот. В новейших исследованиях Лаванды Кокс, посвященных анализу
отношения Линкольна к вопросам о рабстве и расах в течение его президентства,
опровергаются распространенные выводы о том, что планы проведения рекон¬
струкции обоих президентов по существу были идентичны (утверждение, авторст¬
во которого принадлежало самому Джонсону, хотя он и не показал себя ни разу
столь же гибким политиком в вопросе прав негров, как Линкольн)30.
Таким образом, историки сегодня не столько рассматривают гражданскую
войну как событие, разрешившее все проблемы, которые разделяли американ¬
цев прежде, сколько подчеркивают, что ее важнейшие достижения — сохране¬
ние Союза и освобождение рабов — завещали послевоенному миру груз вопросов,
оставшихся без ответов. Они акцентируют также внимание на том, каким об¬
разом последствия этих достижений времен войны - более сильное националь¬
ное государство и растущее осознание того, что негры должны будут получить
равные с белыми гражданские права, — сами вызывали оппозиционные им тен¬
денции. Война закончилась, однако и на Севере, и на Юге еще тлел конфликт
по поводу законности освобождения негров.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Ни один из периодов американского прошлого не подвергался более глубо¬
кой переоценке за последние 30 лет, чем период реконструкции. Как и в случае
с переоценкой института рабства, историки начали с развенчания прежнего од¬
ностороннего взгляда на проблему, в течение долгого времени доминировав¬
шего в историографии, а затем перешли к созданию новых, все более глубо¬
ких и многомерных интерпретаций. В соответствии с концепцией, начало кото¬
рой было положено еще в XIX в. оппонентами наделения негров правом голоса
и утвердившейся в исследовательской литературе начала нынешнего века, бур¬
ные годы после окончания гражданской войны стали периодом бесконечного
обмана в политической и социальной жизни. Саботируя попытки Эндрю Джонсо¬
на немедленно восстановить южные штаты в составе Союза в качестве полноправ¬
ной его части, радикальные республикацы навязали власть негров поверженной
Конфедерации. За этим последовала настоящая оргия коррупции и преступно
некомпетентного правления, в которой лидировали недобросовестные ’’саквояж-
ники” (северяне, отправившиеся на Юг в поисках службы исключительно для
того, чтобы пожинать плоды победы Севера и ’’делить добычу”), скалаваги (бе¬
лые южане, помогавшие в работе новым правительствам на Юге за личную вы¬
году) и, наконец, невежественные и инфантильные освобожденные от рабства
негры, неспособные к ответственнному использованию доверенной им власти.
2 ’The Collected Works of Abraham Lincoln. Ed. by R.F. Basler, v. VIII. New Brunswick (N.J.),
1951, p. 399-403.
30Cox L. Lincoln and Black Freedom: A Study in Presidential Leadership. Colombia C.),
1981.
45
После длительного и ненужного страдания, сообщество белых южан объедини¬
лось для свержения этих ’’черных” правительств и восстановления ’’гомруля”
(этот эвфемизм использовался ими для обозначения узаконенного превосходст¬
ва белой расы)31.
Основываясь на том, что наделение негров избирательными правами было
грубейшей ошибкой всего периода гражданской войны, традиционная интер¬
претация американской истории оказалась живучей на протяжении многих деся¬
тилетий, так как соответствовала очевидным в США политическим и социаль¬
ным реалиям — проводившейся политике лишения негров права голоса и сегрега¬
ции негритянского населения, а также образованию единого Юга под эгидой демо¬
кратической партии. Однако наступление ’’второй реконструкции” (времени
движений за гражданские права) вызвало появление новой концепции о первой,
так же как это случилось в 1960-е годы, когда доминировала революционная
концепция.
В чрезвычайно короткие сроки практически каждая деталь прежней точки
зрения была отвергнута или пересмотрена. Эндрю Джонсон, еще вчера представав¬
ший высокоинтеллектуальным защитником конституционных принципов,
оказался на поверку расистским политиком, слишком тупоголовым, чтобы
пойти на компромисс со своими оппонентами. Зайдя в тупик в своих отноше¬
ниях с конгрессом, чего Линкольн, бесспорно, сумел бы избежать, Джонсон чрез¬
вычайно быстро развалил собственное президентство32. Радикальные республи¬
канцы, освобожденные от приписываемых им ранее мстительных мотивов, оказа¬
лись идеалистами в лучших традициях реформаторства XIX в. Их лидеры - Чарльз
Самнер и Таддеуш Стивенс — уже работали над решением проблемы предоставле¬
ния неграм равных прав задолго до того, как появилась возможность получить
от этого какую-либо серьезную политическую выгоду. Их политика реконструк¬
ции основывалась на принципах, а не на простом политическом авантюризме
или стремлении к получению личной выгоды. А приверженность делу защиты
гражданских прав освобожденных негров - главный вопрос, по которому раз¬
делились мнения конгресса и президента, — оказалась вовсе не атрибутом поведе¬
ния маленькой группы экстремистов, но разделялась многими членами республи¬
канской партии3 3.
Вместе с тем период так называемой ’’черной реконструкции”, начавшийся
после 1867 г., был показан как время чрезвычайного прогресса на Юге. Восста¬
новление разрушенных войной общественных институтов, основание первой
на юге системы общественных школ, попытки создать модель межрасовой полити¬
ческой демократии на руинах института рабства — все это были заслуживавшие
похвалы достижения, а не элементы ’’трагической эры”, как писали историки
об этом ранее34.
Злодеи и герои из традиционной нравоучительной пьесы встали в очередь на
переоценку. Бывшие рабы были по достоинству оценены как политическая сила,
однако ’’всевластия черных” никогда не существовало, так как за пределами
Южной Каролины негры были представлены в органах власти лишь небольшими
33 Dunning W.A. Reconstruction: Political and Economic 1865-1877. New York, 1907;/to¬
wers C.G. The Tragic Era. Cambridge (Mass.), 1929; Coulter E.M. The South During Reconstruction
1865—1877. Baton Rouge (La.), 1947. В ряду ранних критиков традиционной версии наиболее
влиятельным был В. Дюбуа: DuBois W.E.B. Black Reconstruction in America. New York, 1935.
33McKitrick E.L. Andrew Johnson and Reconstruction. Chicago, 1960; Cox L., Cox J.H. Poli?
tics, Principle and Prejudice 1865-1866. New York, 1963.
33 Brock W.R. An American Crisis. London, 1963; Trefousse H.L. The Radical Republicans:
Lincoln’s Vanguard for Racial Justice. New York, 1969.
34Franklin J.H. Reconstruction after the Civil War. Chicago, 1960; Stampp K.M. The Era of
Reconstruction 1865-1877. New York, 1965; Williamson J. After Slavery: The Negro in South
Carolina During Reconstruction. 1861-1877. Chapel Hill (N.C.), 1963.
46
группами чиновников реконструкции. Большинство ’’саквояжников” оказались
вовсе не авантюристами с врожденным отсутствием щепетильности, а бывшими
солдатами армии Союза, искавшими новые экономические возможности на после¬
военном Юге. Скалаваги, как оказалось, были собирательным образом ’’старых”
вигов, которые первыми воспротивились сецессии южных штатов, и белых бед¬
няков Юга, в течение долгого времени отвергавших доминирующую роль планта¬
торов в жизни южан и видевших в реконструкции возможность переделать юж¬
ное общество на более демократический лад. Что же касается коррупции, то
должностные преступления правительств реконструкции были крошечными
в сравнении с современными им скандалами на Севере (времена босса Твида,
дела компании Креди Мобилье и Круга Виски), и поэтому вряд ли можно воз¬
лагать большую вину за них на бывших рабов. Наконец, ку-клукс-клан, чьи кам¬
пании насилия против негров и белых республиканцев замалчивались либо оправ¬
дывались прежними историками, был показан как террористическая организа¬
ция, которая калечила и убивала своих политических противников для того,
чтобы лишить негров завоеванных ими прав3 5.
К концу 1960-х годов старые интерпретации истории реконструкции были пол¬
ностью заменены на противоположные. Большинство историков соглашались,
что, если реконструкция была ’’трагической” эрой, то только потому, что из¬
менения не пошли далеко, в особенности в земельном вопросе, т.к. земля не
была распределена между бывшими рабами и таким образом их обретенные
политические права не были подкреплены экономической базой. Вплоть до 1970-х
годов этот акцент на ’’консервативном” характере радикальной реконструкции
был главной темой многих исследований. Например, было выяснено, что граждан¬
ская война вовсе не привела к уходу с исторической арены старого плантатор¬
ского класса и не означала прихода к власти новой предпринимательской элиты
на Юге. Исследования различных социальных групп внутри южного общества
показали, что плантаторам удалось пережить войну и добиться того, что ни земель¬
ные владения, ни социальный престиж не пострадали3 6.
Отрицание каких-либо существенных изменений в период реконструкции,
однако, не привело к созданию единой и неуязвимой концепции эпохи, участники
которой были убеждены в том, что пережили социальную и политическую револю¬
цию. Вот почему самые новейшие работы о реконструкции, наряду с вынужден¬
ным признанием упущенных возможностей, имеют тенденцию к оценке его как
времени глубоких изменений в жизни Юга и всей нации.
При изучении рабства как исторического феномена некоторые исследователи
реконструкции попытались поместить американский опыт адаптации к итогам
освобождения негров в широкий контекст развития мировой истории и показать,
что было уникальным в этом опыте, а что нет. Ни само рабство, ни его отмена
не свидетельствовали об уникальности опыта США. А вот реконструкция была
уникальной, ибо являла собой пример драматического эксперимента, в ходе
которого негры всего лишь за несколько лет после их освобождения от рабства
сумели получить всеобщее избирательное право для мужчин и реально воспользо¬
ваться средствами политической власти3 7.
Как и в новейших работах о рабстве и гражданской войне, в последних ис¬
следованиях истории реконструкции отмечаются границы, в которых негры
3SCruden R. The Negro in Reconstruction. Englewood Cliffs (N.J.), 1969; Olsen O.H. Carpet¬
bagger’s Crusade: The Life of Albion Winegar Tourgee. Baltimore (Md.), 1965; Wiggins S.W. The
Scalawag in Alabama Politics. 1865 — 1881. University (Ala.), 1977; Trelease A. W. White Terror: The
Ku Klux Klan Conspiracy and Southern Reconstruction. New York, 1971.
36Benedict M.L. Presserving the Constitution:. The Conservative Basis of Radical Reconstruc¬
tion. - Journal of American History, v. LXI, June 1974, p. 65-90; Wiener J.M. Social Origins of
the New South: Alabama 1860—1885. Baton Rouge (La.), 1978.
37Foner E, Nothing But Freedom, ch. 1.
47
сами помогали формировать контуры грядущих в стране преобразований. Леон
Литвак в исследовании, проливающем свет на многочисленные калейдоскопи¬
ческие отклики самих негров на отмену рабства, показал, что во всех сферах
бывшие рабы стремились добиться как можно более полной независимости в
своей ежедневной жизни. Такие социальные институты, как церковь и семья,
существовавшие и при рабстве, в новых условиях еще более укрепились, при
этом одновременно обретали рождение все новые и новые институты подоб¬
ного рода. Освобожденные негры прилагали огромные усилия для того, чтобы
разыскать своих родных и близких, с которыми их разлучило рабство. Многие
негритянки, предпочитая уделять больше внимания своим семьям, отказыва¬
лись от работы на хлопковых полях, внося таким образом свой вклад в образо¬
вание послевоенного ’’дефицита рабочей силы”. Продолжавшееся сопротивле¬
ние всем попыткам плантаторов привязать несовершеннолетних негров исполняв¬
шимися в судебном порядке контрактами об ’’ученичестве” к работе на долго¬
срочных принудительных условиях показало, что главной заботой освобожден¬
ных негров оставалась собственная семейная жизнь. Негры почти повсеместно
вышли из приходов церквей, контролировавшихся белыми, основывая собст¬
венные независимые религиозные организации. Помимо последних везде возни¬
кали также самые различные братские, благотворительные общества и организа¬
ции взаимопомощи. Несмотря на помощь, оказываемую реформаторскими орга¬
низациями Севера и федеральным правительством, именно сами негры часто
брали на себя инициативу в основании новых школ. Неверным по существу оказа¬
лись и прежние убеждения историков в том, что избирательное право было не¬
заслуженно дано индифферентному к политике негритянскому населению. Как
показали исследования, в 1865 и 1866 гг. повсеместно на Юге прокатилась волна
негритянских конвентов, требовавших для негров гражданского равенства перед
законом и права голоса3 8.
Как и в любой другой стране, покончившей с рабством, в США вслед за осво¬
бождением негров развернулась ожесточенная борьба вокруг создания новой
системы труда, которая должна была заменить институт рабства. Конфликт между
бывшими хозяевами, стремившимися воссоздать дисциплинированную рабочую
силу, и неграми, желавшими обретения возможно более полной экономической
самостоятельности, в огромной степени определил экономические, политиче¬
ские и расовые отношения на Юге в период реконструкции. Плантаторы были
уверены, что их собственное выживание и будущее процветание всего Юга на¬
прямую зависели от способности возобновить производство продукции с по¬
мощью использования дисциплинированного бригадного труда, как это было
в условиях рабства. Для достижения этих целей правительства, основанные прези¬
дентом Эндрю Джонсоном в 1865 г., создали всеохватывающую систему законов
о бродяжничестве, ввели уголовные наказания за нарушение контракта, равно
как и другие меры, в общем известные под названием ’’черных кодексов” и
направленные на то, чтобы возвратить освобожденных негров к работе на план¬
тациях. Как показал Дэн Т. Картер в работе, посвященной изучению периода
президентской реконструкции, неспособность лидеров ’’самореконструкции”
белого Юга согласиться с итогами освобождения негров вызвала негодование
на Севере, фатальным образом ослабила поддержку президентской политики
и сделала радикальную реконструкцию неизбежной3 9.
Из конкретных условий разрешения конфликтов на плантациях в различ¬
ных частях Юга возникли свои новые системы труда. В местах, где производился
хлопок, стало доминировать кропперство (издольщина). В рамках компромисса
38Litwack L.F. Been in the Storm So Long. New York, 1979.
39 Carter B.T. When the War Was Over: The Failure of Self-Reconstruction in the South. 1865-
1867. Baton Rouge (La.), 1985.
48
между интересами негров, желавших земли, и плантаторов, заинтересованных
в дисциплинированной рабочей силе, каждая негритянская семья в этих местах
обрабатывала свой участок земли, а урожай в конце года делился между планта¬
тором и работником. В областях, в которых выращивался рис в условиях, когда
плантаторы оказались неспособны привлечь внешний капитал, необходимый для
ликвидации военной разрухи, а негры заявили о твердом намерении держаться
за землю, захваченную в 1865 г., крупные плантации развалились на куски и нег¬
ры получили возможность и право приобретать небольшие участки земли для
ведения самостоятельного фермерского хозяйства. В областях производства
сахара групповые работы на полях выжили, несмотря на отмену рабства. Как
бы то ни было, во всех этих областях экономические возможности негров были
ограничены тем, что рычаги кредита находились в руках белых, а также каприза¬
ми мирового рынка, переживавшего длительный период падения цен на сельско¬
хозяйственную продукцию. Важно подчеркнуть, однако, что степень контроля
плантаторов за ежедневной жизнью работников радикально изменилась с отменой
рабства4 0.
Коренные социальные преобразования, последовавшие после завершения
гражданской войны, были отмечены также историками, исследовавшими жизнь
белых фермеров Юга. Разорение и опустошение, которые несла с собой война,
породили цепь событий, постоянно изменявших характер полунатурального
хозяйства фермеров и их образ жизни. Перед лицом этой экономической катастро¬
фы йомены изо всех сил цеплялись за собственные фермы. Однако, нуждаясь
в денежных займах на покупку семян, инвентаря и тяглового скота, необходи¬
мых для восстановления хозяйства, многие из них залезали в долги и были вы¬
нуждены отказаться от своей экономической самостоятельности и заняться произ¬
водством хлопка. Область, где большинство белых фермеров когда-то имели
свою собственную землю, все более вовлекалась в систему арендных отноше¬
ний, испытывая при перепроизводстве хлопка недостаток продуктов питания40 41
Экономические преобразования на послевоенном Юге коренным образом
повлияли на ход политики реконструкции. Как показала практика принятия
’’черных кодексов”, правительства штатов могли играть жизненно важную роль
в определении прав собственности и ограничении договорных прав плантаторов
и работников. Не удивительно, что, когда республиканцы пришли к власти на
волне поддержки негритянских избирателей, они уничтожили все законодатель¬
ные акты, нацеленные на поддержание дисциплины на плантациях, и добились
повышения статуса издольщиков (кропперов), предоставив им право перво¬
очередности при разделе урожая. Они начали также осуществление амбициозной
программы строительства железных дорог, надеясь превратить Юг в часть страны
с многоотраслевым развивающимся хозяйством, которое предоставило бы более
широкие экономические возможности и белым, и неграм. Однако, как показал
Марк Саммерс, она не только не достигла поставленных экономических целей,
но и вызвала резкое повышение налогов, еще более усугубив и без того бедст¬
венное положение йоменов (поддерживавших реконструкцию на начальном
этапе из-за обещанного списания всех их долгов), и сократила расширение массо¬
вой базы республиканской партии за счет голосов белых на Юге. Осуществле¬
ние программы помощи железнодорожному строительству стало основой для
40 Jaynes G. Branches without Roots: Genesis of the Black Working Class in the American South.
1862-1882. New York, 1986; Ransom R.L., Sutch R. One Kind of Freedom: The Economic Conse¬
quences of Emancipation. New York, 1977.
Ą1Hahn 5. Op. dt., p. 141-151, 186-193; McDonald R, McWhiney G. The South from Self-
Suffidence to Peonage: An Interpretation. - American Historical Review, v. LXXXV, December
1980, p. 1095-1118.
49
развития коррупции, которая поколебала законность правительства реконструк¬
ции как в глазах их южных противников, так и в глазах сторонников на Севере42.
Негритянскому населению реконструкция впервые предоставила шанс иметь
свой голос в общественных делах и почувствовать на себе попытки правительства
штатов Юга служить их интересам. Недавние исследования негритянской поли¬
тики показали как то, каким образом негритянские лидеры пытались обеспе¬
чить интересы и нужды своих избирателей, так и те препятствия, которые по¬
мешали им делать это эффективно. В широкомасштабном исследовании поли¬
тики в штате Южная Каролина Томас Холт доказал, что многие общенациональ¬
ные негритянские лидеры того периода являлись выходцами из старой чарльстон¬
ской элиты свободного цветного населения, консервативные экономические
воззрения которой сделали их невосприимчивыми к надеждам освобожденных
негров на получение земли. Анализ политики в штате Луизиана привел к полу¬
чению подобных же выводов. Таким образом, свободные негры в условиях,
когда требования гражданского и политического равенства негритянского населе¬
ния были со всей остротой поставлены войной и реконструкцией, оказались
не в состоянии найти способы борьбы с бедственным экономическим положе¬
нием бывших рабов4 3.
Однако на местном уровне большинство негритянских чиновников и должност¬
ных лиц сами были в прошлом рабами. Хотя исследования политики реконструк¬
ции на локальном уровне едва только начались из-за многих объективных слож¬
ностей профессионального характера, препятствовавших их более раннему по¬
явлению, уже выясняется, что те негры, которые в свое время добились особого
статуса как рабы — такие, как священники и ремесленники, — сформировали
впоследствии и основную массу должностных лиц в местных органах власти.
К ним относились также пока еще малоисследованные негры-”саквояжники”,
обратившие свое внимание на Юг, переживавший реконструкцию, в надежде
обрести те возможности, в которых им было отказано на Севере. В целом юж¬
ная реконструкция представляла собой чрезвычайно интересный процесс, в ходе
которого старые элиты теряли свою привычную политическую власть. Ее про¬
тивники отвечали не только критикой, но и широко распространенными метода¬
ми насилия. Местные должностные лица из числа республиканцев часто станови¬
лись первыми жертвами ку-клукс-клана и подобных ему организаций44.
Современные исследователи не только подчеркнули роль всепроникающего
насилия в процессе окончательного поражения реконструкции, но и показали,
как процесс усиления роли закона натолкнулся в обществе на растущее сопро¬
тивление расширению прерогатив федеральной власти, вызванному войной. Сразу
же после окончания войны республиканцы изменили саму природу отношений
между федеральной властью и властями штатов, впервые дав определение на¬
ционального гражданства, национального принципа равенства перед законом
в законе о гражданских правах 1866 г. и в тексте 14-й поправки к конституции
и наделив федеральное правительство прерогативами защиты прав своих граждан
от нарушений их со стороны властей штатов. Вслед за этим 15-я поправка к кон¬
ституции запретила штатам покушаться на избирательное право, исходя из расо¬
вых мотивов и предубеждений, а так называемые законы о принуждении к под¬
чинению 1870 и 1871 гг. предоставили федеральному правительству компетен¬
42Summers M.W. Railroads. Reconstruction and the Gospel of Prosperity. Princeton (N.J.),
1984.
43 Holt Th. Black Over White: Negro Political Leadership in South Carolina during Reconstruc¬
tion. Urbana (Ill.), 1977; Vincent Ch. Black Legislators in Louisiana during Reconstruction. Baton
Rouge (La.), 1976.
44Foner E. Reconstruction, ch. 8; Rabie G.C. But There Was No Peace: The Role of Violence
in the Politics of Reconstruction. Athens (Ga.), 1984.
50
цию защиты гражданских и политических прав бывших рабов от проявления
насилия по отношению к ним4 5.
Все это свидетельствовало о колоссальных изменениях в системе федерализма,
в рамках которой именно штаты традиционно определяли и защищали права
граждан. И все же реконструкции не удалось создать эффективного механизма
осуществления своих возвышенных предписаний. Груз реализации на практике
новой концепции равенства перед законом был возложен на плечи федеральных
судов. Однако было бы нереалистичным полагать, что суды, даже в тех случаях,
когда их власть была дополнена властью начальников федеральной полиции и ар¬
мии, могли справиться с этой ношей и подавить взрыв насилия на Юге. Более
того, к 1870-м годам многие республиканцы стали отходить от расового эгалита¬
ризма и поддержки необходимости широких полномочий федеральных властей,
выросших за время гражданской войны. В то время как провинционализм, попу¬
стительство и расизм - постоянные спутники американской истории XIX в. —
вновь утверждались в обществе, федеральное правительство шаг за шагом от¬
казывалось от попыток обеспечения гражданских прав на Юге45 46.
Таким образом, сложная диалектика непрерывности и перемен повлияла на то,
каким образом американцы — как черные так и белые — отзывались на глубочай¬
ший в истории страны кризис. К концу этого периода рабство было похоронено,
союз спасен, а Север и Юг - преобразованы. Социальная структура общества,
состоявшая из хозяев, рабов и экономически независимых йоменов со временем
продолжала трансформироваться в мир, населенный лендлордами, купцами и
издольщиками-кропперами, белыми и темнокожими. По мере того как на Севере
быстрыми темпами шла индустриализация экономики, уходила в прошлое Амери¬
ка Линкольна - страна мелких торговых лавочек, ремесленных мастерских и
свободных фермеров. Стремление очистить общество от расовой несправедли¬
вости, порожденное гражданской войной, все еще не было реализовано на прак¬
тике. Конец реконструкции вытолкнул бывших рабов на ’’ничейную территорию”
между рабством и свободой и сделал посмешищем идеалы гражданского равен¬
ства47. И в самом деле, историкам еще только предстоит в полном объеме оценить
значение того, что реконструкция потерпела поражение. То, что это явилось
катастрофой для черной Америки, ясно уже сейчас. Однако поражение рекон¬
струкции повлияло и на всю структуру американской политики, ибо оно создало
феномен единого Юга под флагами демократической партии, чьи представители
все чаще объединялись с консерваторами Севера для сопротивления всем попыт¬
кам социальных преобразований.
Вряд ли будет верным считать, что последнее слово о рабстве, гражданской
войне и реконструкции уже сказано новейшей плеядой историков. И прежде
всего потому, что эта эпоха подняла решающие для всего американского истори¬
ческого опыта вопросы — о взаимоотношениях национального и местного уров¬
ней власти, об определении статуса гражданства, о смысле равенства й свободы.
До тех пор, пока эти вопросы остаются центральными в жизни страны,-исследо¬
ватели, конечно же, будут возвращаться к периоду гражданской войны, используя
постоянно совершенствующиеся методы и концепции изучения истории.
45KaczorowskiR. The Politics of Judicial Interpretation: The Federal Courts. Department of
Justice and Civil Rights. 1866-1876. New York, 1985;Яутяи H.M., Wiecek W.M. Equal Justice
Under Law: Constitutional Development 1835-1875. New York, 1982.
46Gillette W. Retreat from Reconstruction 1869-1879. Baton Rouge (La.), 1979; Sproat J.C.
The Best Men: Liberal Reformers in the Gilded Age. New York, 1968.
Ą1 Woodward C.V. Origins of the New South. 1877-1913. Baton Rouge (La.), 195Rabino¬
witz H.N. Race Relations in the Urban South 1865-1890. New York, 1978.
-51
Воспоминания
© 1991 г.
Н.Н. ВОРОНОВ
Главный маршал артиллерии. Герой Советского Союза
НА СЛУЖБЕ ВОЕННОЙ
СЛОВО ОБ ОТЦЕ
Долгие годы я мечтал увидеть опубликованными в полном объеме мемуары
моего отца Николая Николаевича Воронова ”На службе военной”, так безжа¬
лостно в свое время ’’отредактированные” в верхах. Ведь одним из первых он
рассказал о работе Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) в годы войны
и о своих взаимоотношениях с членами Государственного Комитета Обороны
(ГКО), дав запоминающиеся характеристики многим государственным и воен¬
ным деятелям.
В результате вмешательства высоких цензоров исчезли целые страницы, не го¬
воря уже об абзацах и фразах. Усердно приглаженное и искаженное содержание
мемуаров усилиями П.Н. Поспелова, А.А. Гречко, А.А. Епишева и других да¬
вало повод читателям усомниться в авторстве ряда мест в тексте воспоминаний.
Отец несколько раз намеревался забрать свою рукопись из редакции. Лишь
мысль о том, что его многотрудная работа останется неизвестной, и в первую
очередь артиллеристам, вынудила отца согласиться на урезанный вариант. Эта
борьба отняла много драгоценного времени, которого не хватило на завершение
книги. Она обрывается концом 1943 г. Давняя болезнь обернулась необратимым
исходом.
Ввиду настойчивых просьб многочисленных читателей Воениздат выпускает
второе - дополненное и уточненное - издание мемуаров ”На службе военной”,
спустя почти 30 лет после первого их выхода из печати. Как изменилась теперь
сама книга? Она стала по объему в полтора раза больше, в ней восстановлены
имена многих действующих лиц из репрессированных, попавших в плен, погиб¬
ших. Введены ранее изъятые эпизоды и сцены, что позволило воссоздать в перво¬
начальном виде ряд разделов и глав. Почти в два раза увеличился иллюстрацион¬
ный материал, включая малоизвестные документы.
Мною сделаны уцелевшие вставки по тексту при соблюдении целостности
изложения на основе черновиков, пометок и записок отца, которые, казалось,
ждали своей счастливой участи. Кроме того, помещенные в конце книги мои
примечания помогут самому широкому кругу читателей обратиться к кратким
биографическим данным о лицах, упоминаемых в книге, и к справочным ма¬
териалам об артиллерии.
Публикация журналом ’’Новая и новейшая история” фрагментов из дополнен¬
ных воспоминаний ”На службе военной” имеет целью познакомить читателей с
наиболее важными этапами биографии Воронова, оказавшими решающее влия¬
ние на его военную деятельность: испанские события, бои на Халхин-Голе, совет¬
ско-финляндская война зимой 1939-1940 гг., оборона Ленинграда в Великой
Отечественной войне, а также Сталинградская битва.
52
Первые генеральские звания в Красной Армии.
Генерал-полковник артиллерии НН. Воронов.
Май 1940 г.
Хочу заранее предупредить чита¬
телей журнала, что им встретится
и уже известный текст воспомина¬
ний Н.Н. Воронова, без которого
нельзя было ’’связать” восстанов¬
ленные места в рукописи.
Особого внимания заслуживает
Сталинградская битва, в этом сра¬
жении отец продолжительное вре¬
мя представлял Ставку, здесь же
в наибольшей степени раскрылся
его полководческий талант. Впер¬
вые он написал о проявленной нере¬
шительности Сталина, когда наши
главные силы продолжали наступ¬
ление на юг (Ростов) после их
успешного прорыва под Сталин¬
градом, тогда Верховный хотел ог¬
раничиться лишь уничтожением
окруженной группировки Паулюса.
Также впервые рассказывается о
том, как Воронов, К.К. Рокоссов¬
ский (командующийДонскимфрон-
том) без ведома Москвы выполня¬
ли свой план разгрома окруженных
вражеских войск, не считаясь с ошибочным и нереальным замыслом Ставки. Толь¬
ко достигнутый полный успех в этой операции спас их обоих от неминуемой кары
Сталина. » -
Теперь стали более понятными взаимоотношения Н.Н. Воронова и Л.П* Бе¬
рии, курировавшего (как член ГКО) артиллерийское производство и деятель¬
ность Главного артиллерийского управления (ГАУ). Отец вынужден был выслу¬
шивать нудные наставления и нравоучения, Пересыпанные откровенными угро¬
зами, всесильного владыки НКВД. Конечно, Берия догадывался, что его давно
раскусили как совершенно некомпетентного в военных вопросах, тем более в
специальных, человека. Его бесило то, что Воронов игнорировал своего ’’патро¬
на” и зачастую напрямую докладывал Верховному. Бёрия это крепко запомнил
и в конце концов коварно отомстил отцу, когда по его настоянию Сталин отстра¬
нил Воронова от должности.
Непросто складывались отношения Воронова со Сталиным после возвращения
отца из Испании в 1937 г., когда его назначили начальником артиллерии Красной
Армии. Этому уделено много внимания в мемуарах. По рассказам отца, Сталин
понимал значение артиллерии в современной войне и ту роль, которая ей отво¬
дилась в выполнении боевых задач. Но когда доходило до дела, отцу всегда при¬
ходилось выдерживать нелегкие испытания. Сталин был непредсказуем. Главен¬
ствующим в его поведении являлось настроение: хорошее — подписывал любую
бумагу, плохое — лучше не пытаться докладывать, все равно не переубедить.
Упрямство Сталина не знало границ. Что стоило Воронову настоять на пере¬
носе сроков уничтожения окруженной группировки противника под Сталингра¬
дом, когда он был обвинен Верховным во всех тяжких грехах! Почему Сталин
поначалу воздержался от присвоения звания маршала артиллерии опытному
артиллеристу М.Н. Чистякову? Лишь потому, что тот лишь в общих чертах докла¬
дывал Сталину о действиях артиллерии в битве за Москву.
Воронову часто приходилось иметь дело с еще одним грозным членом ГКО -
Г.М. Маленковым, никогда не терпевшим ни малейших возражений. В начале
53
войны Сталин уполномочил Маленкова как секретаря ЦК партии лично установить
строжайший ’’надзор” за гвардейскими минометными частями (ГМЧ). Но отец
всячески препятствовал отделению ГМЧ от артиллерии вплоть до весны 1943 г.
В результате он нажил себе до конца войны врага в лице Маленкова. Отец считал,
что из-за него артиллерия оказалась без вертолетов, так как последний отказался
выделить завод и кадры для их производства.
Часто спрашивают, почему мемуары Воронова носят несколько необычное
название ”На службе военной”? Оно навеяно отцу старинной песней ’’Умер бед¬
няга в больнице военной...”. Автор - превосходный русский поэт и переводчик,
великий князь Константин Константинович Романов. Песню отец очень любил,
напевая, подыгрывал себе на гитаре.
Немало вопросов поступает от читателей относительно родословной Воронова.
Существуют две версии. По одной считается, что предки Главного маршала ар¬
тиллерии родом из деревни Лапша Горьковской области. По другой — род Во¬
роновых восходит ко времени Дмитрия Донского. Его сподвижник боярин
Волынский-Боброк имел двух детей. От старшего сына Бориса берет начало ветвь
Волынских, младшего Давида — Вороных, Вороновых. На Старо калужском шоссе
недалеко от Москвы расположена усадьба Вороново. В начале XVI в. ею владел
внук Волынского-Боб рока.
До конца своих дней отец был предан профессии артиллериста и никогда не
помышлял ее поменять, несмотря на заманчивые предложения. Весной 1940 г.
его ’’сватали” командовать Белорусским особым военным округом. Кстати,
Д.Г. Павлов, танкист, согласился на эту должность. В войну, зимой 1941 г.,
А.А. Жданов предлагал ему вступить в командование Ленинградским фронтом,
но отец не изменил выбранной им еще в годы гражданской войны специальности.
Хотелось бы, чтобы первая публикация выдержек из дополненных мемуаров
Воронова послужила доброй памяти о нем. Пусть он останется среди нас таким,
каким его видел поэт Сергей Васильев:
’’Рослый, приветливый, светлоглазый,
смелым замыслом окрылен,
сдержанным жестом, спокойной фразой
он собеседника брал в полон”.
К. воен. н. полковник В.Н. Воронов
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ МЕНЯ ЗОВУТ ВОЛЬТЕРОМ
В 1936 г. весь мир с пристальным вниманием следил за начавшимися события¬
ми в Испании. 16 января коммунисты, социалисты, анархисты и буржуазные
республиканцы подписали пакт Народного фронта. 16 февраля Народный фронт
одержал полную победу на выборах в кортесы (парламент). В ночь на 18 июля
в испанском Марокко в Африке и на Канарских островах вспыхнул фашистский
мятеж, который возглавили генералы Санхурхо1, Мола2 и Франко. Гитлеровская
Германия и фашистская Италия явно поддерживали реакционный мятеж при пря¬
мом попустительстве Франции, Англии и США.
По призыву компартии испанский народ взялся за оружие и встал на защиту
Республики. Очаги фашистского мятежа в Мадриде, Барселоне и других городах
'Санхурхо, Хосе (1872-1936) - генерал испанской армии, военный и политический дея¬
тель. Один из руководителей фашистского мятежа в Испании (июль 1936). Погиб в авиа¬
ционной катастрофе.
'Мола, Эмилио (1887-1937) - генерал испанской армии. Военный деятель. Один из руко¬
водителей фашистского мятежа в Испании (июль 1936). Погиб в авиационной катастрофе.
Можно предположить, что внезапная смерть Санхурхо и Мола была не случайна, так как
позволила Франко избавиться от своих главных конкурентов в борьбе за власть.
54
были быстро ликвидированы, кроме ряда пунктов на юге Испании. Немецкая и
итальянская транспортная авиация приступила к переброске из Африки марок¬
канских войск на юг Пиренейского полуострова, поставляя также большие пар¬
тии оружия и боеприпасов для организации похода мятежников на Мадрид.
События приобретали все более грозный характер, глубоко взволновав совет¬
ский народ. В августе в Москве и других городах прошли многолюдные собрания
и митинги трудящихся, выражавших свою братскую солидарность с испанским
народом. Начались массовые отчисления в пользу республиканской армии. За
короткое время в СССР первый сбор в помощь сражающейся республике против
фашизма составил 12 млн. 145 тыс. рублей.
Из разных источников стали поступать сведения о том, что в Испанию из дру¬
гих стран начали прибывать добровольцы для борьбы с мятежниками. Эти сооб¬
щения радовали советских людей и нашли должный отклик. Теперь настал наш
черед помочь молодой Республике. Мне, участнику гражданской войны, тем более
было необходимо побывать в сражающейся Испании. Твердо решив во что бы то
ни стало ехать добровольцем, начал добиваться нужного мне разрешения.
Наконец мое желание осуществилось: получил заграничный паспорт и соответ¬
ствующие визы. Но все делалось в глубокой тайне даже от семьи. Пришлось ей
сообщить о моей, якобы, предстоящей длительной ’’дальневосточной” команди¬
ровке. Мой бывший командир Московской Пролетарской дивизии Р.П. Хмель¬
ницкий3, выполнявший особые поручения у К.Е. Ворошилова, как мог помогал
моим домочадцам.
Самолет доставил меня в Париж, а оттуда я отправился к франко-испанской
границе, переход которой был очень упрощен.
Мы прибыли в приграничный порт Бу, небольшой, красивый городок на Среди¬
земном море. Вокруг царила мирная жизнь, и это казалось мне странным. Нам не
терпелось скорее добраться до Мадрида. После полета на французском рейсовом
самолете мы приземлились в предместье столицы, откуда выехали на автомаши¬
нах и тут же оказались в прифронтовой полосе.
Здесь мирное чередовалось с военным. Часто встречались бойцы республикан¬
ской армии и вооруженные рабочие-дружинники. В этот же день я был принят
премьер-министром Ларго Кабальеро4 и его заместителем генералом К. Асенсио5.
На следующий день со мной беседовали генерал X. Миаха6, возглавлявший непо¬
средственно оборону Мадрида, и командующий Центральным фронтом генерал
Посас. На этой встрече я получил свой постоянный псевдоним — ’’Вольтер”. Так
называли меня во время моего девятимесячного пребывания в Испании. Оба ге¬
нерала произвели на меня неважное впечатление. Несмотря на краткость нашей
встречи, я почувствовал в них не очень надежных руководителей. Так впоследст¬
вии и оказалось.
Я был назначен советником к начальнику артиллерии республиканской армии
подполковнику Фуэнтес. Меня информировали, что он не имеет боевого и воен¬
ного опыта — вся его служба проходила в качестве военного атташе в ряде ино¬
странных государств.
3 Хмельницкий, Рафаил Павлович (1895-1964) - генерал-лейтенант. В Великую Отечест¬
венную войну командир стрелкового корпуса. В боях четырежды ранен.
4Ларго, Кабальеро Франсиско (1869- 1940) - деятель испанского рабочего движения.
Премьер-министр и военный министр в правительстве Народного фронта (1936-1937). В
1939 г. эмигрировал во Францию. Во время гражданской войны отошел от позиций Народ¬
ного фронта.
8Асенсио, Карлос (1896-1970) - генерал испанской армии. После поражения Испанской
республики перешел на службу к франкистам. С 1955 г. - начальник Генштаба.
6Миаха, Хосе (1878-1958) - генерал испанской армии. Во время гражданской войны
возглавлял оборону Мадрида. Своими пассивными действиями во многом способствовал
его захвату мятежниками. В 1939 г. эмигрировал в Мексику.
55
Фуэнтес встретил меня недружелюбно. Хвастался своим боевым опытом и пре¬
небрежительно заявил, что иностранцы, не знавшие испанского языка, и раньше
никогда толком не помогали испанской артиллерии. Скоро я убедился, что Фуэн¬
тес и не стремился командовать артиллерией. Вся его работа сводилась к мало¬
продуктивной переписке с министерством, департаментами и штабами. Он плохо
знал обстановку на фронтах и еще меньше - артиллерийские кадры.
Испанская артиллерия в боевом отношении была очень слабой, имела ограни¬
ченное количество устаревшей материальной части и боеприпасов еще времен
первой мировой войны. Отсутствовала зенитная и противотанковая артиллерия.
Получив назначение, я сразу выехал на наблюдательные пункты и огневые
позиции батарей Центрального фронта. Артиллеристы просили меня скорее пере¬
дать им русский опыт применения артиллерии., Я охотно согласился и стал учить
и показывать, как нужно хорошо стрелять и правильно, тактически грамотно
действовать в бою.
НЕТ. БЕЗ АРТИЛЛЕРИИ НЕ ОБОЙТИСЬ!
29 октября 1936 г. все ждали с нетерпением. На этот день было назначено
контрнаступление республиканских войск под Мадридом, чтобы разгромить части
мятежных войск и остатки их отбросить от города. Все надежды возлагались на
массированное применение танков и авиации, успех которых должен был быть
использован наиболее подготовленными частями пехоты. Командование решило
использовать артиллерию лишь на второстепенном направлении. Туда было при¬
казано отправиться и мне.
Некоторые наши добровольцы, отдавая дань модной теории того времени, счи¬
тали, что в современной войне артиллерия отживает свой век, а главными родами
войск становятся танки и авиация.
Накануне наступления в войска прибыл пламенный, но далеко не безупречный
в военном отношении приказ высшего командования республиканской армии,
напоминающий прокламацию:
”В своем стремлении захватить Мадрид враг истощил и растянул свои силы,
поставил себя под наши удары. Силы врага растягивались и истощались, наши
силы, силы народной армии, росли и организовывались. У нас появилась хоро¬
шая военная техника. У нас есть танки, вооруженные пушками и пулеметами,
у нас есть отличная, храбрая авиация. Настало время нанести кровавому фашиз¬
му сокрушительный удар и разбить его у ворот Мадрида.
Танки и самолеты — есть мощное оружие для удара по врагу. Но судьбу
сражения, его успех решает пехота.
Слушайте товарищи! Двадцать девятого на рассвете появится наша славная
авиация и обрушит на подлые головы врага много бомб, она будет расстрели¬
вать его из пулеметов. Затем выйдете вы, наши смелые танкисты, и в наиболее
чувствительном для противника месте прорвете его линии. А уж затем, не теряя
ни минуты, броситесь вы, наша дорогая пехота. Вы атакуете части противника,
уже деморализованные, вы будете бить их и преследовать до полного уничто¬
жения”.
Текст этого приказа ночью в канун наступления был объявлен по радио. То
ли по легкомыслию, то ли по злому умыслу тайна наступления бала разглашена
на весь мир. Командование во всеуслышание объявило врагу: ’’Иду на вы!”.
’’Какая святая наивность!” — думал я, заканчивая последние приготовления
к наступлению.
На нашем второстепенном направлении мы позаботились о теслом и надеж¬
ном взаимодействии артиллерии с пехотой. Цели были разведаны и осторожно
пристреляны, чтобы не спугнуть врага. Было уделено большое внимание совре¬
менным приемам управления войсками.
56
В шесть часов утра началась артиллерийская подготовка, и за нею последовала
атака республиканской пехоты. Активно действовали два самодельных полу¬
бронепоезда.
Бой развивался медленно, но верно. Если пехота задерживалась, ее выручал
огонь артиллерии. К исходу дня части продвинулись вперед до четырех-шести
километров, но не смогли развить успеха, не было нужных сил. Фашисты не раз
переходили в контратаки, но они были отбиты. Республиканские войска закрепи¬
лись на новых позициях.
Весь день я с завистью посматривал на левый фланг, где наносился главный
удар, бесконечно летала республиканская авиация и усиленно бомбила вражеское
расположение. Новейшие типы самолетов и танков должны были принести желан¬
ную победу. В эти минуты наш успех мне казался каплей в море.
Вечером меня вызвали в Мадрид для доклада. У всех в штабе были хмурые
лица. Наступление на главном направлении постигла полная неудача. Резко кри¬
тиковались недостатки — плохое управление войсками, отсутствие четкого взаи¬
модействия авиации, танков и пехоты на поле боя, слабое сочетание огня и манев¬
ра. Танки совершили рейд в глубину обороны противника, но их действия свое¬
временно не поддержала пехота, в результате чего войска отошли в исходное по¬
ложение, оставив на поле боя несколько сожжгнных танков. Провал в операции
казался многим чудовищным событием.
Когда все это было обсуждено, командование наконец-то поинтересовалось
ходом действий на второстепенном направлении. С каким удовлетворением все
слушали мой краткий доклад, разглядывая мою рабочую карту! Наши скром¬
ные успехи неожиданно оказались крупнейшим достижением дня.
Это был наглядный урок. Многим пришлось призадуматься тогда об истинной
роли артиллерии в современном бою. Нет, нельзя противопоставлять артиллерию
авиации и танкам — они должны действовать согласованно, при надежном взаимо¬
действии между собой.
Боевой опыт этой наступательной операции под Мадридом в октябре 1936 г.
еще раз показал, что в современных боях артиллерии уготована не второстепен¬
ная роль, она приобретает новое, еще более важное значение для достижения по¬
беды, если будет действовать согласованно со всеми другими родами войск.
"НО ПАСАРАН!"
Хотя республиканское военное министерство огласило по радио о своем на¬
ступлении 29 октября, оно тем не менее оказалось неожиданным для мятежни¬
ков и потрясло их. Фашисты стали действовать менее уверенно и несколько отсро¬
чили штурм города. Враг почувствовал на себе силу новых самолетов и танков.
Дух сопротивления в Мадриде нарастал. Особенно мужественно действовали дру¬
жинники народной милиции. 5-й полк под командованием отважного Э. Листера
успешно готовил кадры для молодой революционной армии.
В начале ноября мятежники в открытую объявили, что они вступят в Мадрид
пятью колоннами и официально пригласили иностранных представителей и кор¬
респондентов присутствовать на их торжественном марше по улицам побежден¬
ной столицы.
Вскоре явно обнаружилась предательская роль Ларго Кабальеро и его бли¬
жайших подручных. ’’Пятая колонна” все чаще наносила внезапные удары в спи¬
ну защитникам города.
Нельзя забыть трагический день 6 ноября 1936 г. Неожиданно правительство
Ларго Кабальеро эвакуировалось из Мадрида в Валенсию вместе со всеми прави¬
тельственными учреждениями. Оборона Мадрида была возложена на престарело¬
го генерала Миаху. Ему вручили совершенно секретный пакет, который он имел
право вскрыть лишь утром 7 ноября.
57
Генерал Миаха не обладал большой силой воли, достаточной военной подготов¬
кой, не отличался организаторскими способностями, а тем более высоким авто¬
ритетом среди защитников города, но лучшего кандидата не нашлось. У него все
же хватило смелости вскрыть секретный пакет раньше срока. В нем оказался
приказ военного министра следующего содержания:
’’Дабы иметь возможность выполнять основную задачу по обороне республи¬
ки, правительство решило выехать из Мадрида и поручает Вашему превосходи¬
тельству оборону столицы любой ценой. Для помощи Вам в этом трудном деле
в Мадриде создается, кроме обычного административного аппарата, хунта [ко¬
митет] по обороне Мадрида с представителями всех политических партий, входя¬
щих в правительство в той же пропорции, в какой они входят в правительство.
Председательствовать в хунте поручается Вашему превосходительству. Хунта
обороны будет иметь полномочия правительства для координации всех нужных
средств защиты Мадрида, которую необходимо продолжать до конца. На слу¬
чай, если, несмотря на все усилия, столицу придется оставить, тому же органу
поручается спасти все имущество военного значения, равно как и все прочее,
что может представлять ценность для противника. В этом случае части должны
отступать в направлении на Куэнку, чтобы создать оборонительную линию на
рубеже, который укажет командующий Центральным фронтом, которому Вы
подчинены и с которым должны постоянно поддерживать связь по военно-опе¬
ративным вопросам. От него же Вы будете получать приказы по обороне и наря¬
ды на боевое питание и интендантское снабжение. Штаб и хунта обороны должны
находиться в военном министерстве”.
Ни Генерального штаба, ни штаба Центрального фронта в Мадриде уже скоро
не оказалось. Никого не было и в военном министерстве. Хунта обороны Мадри¬
да существовала только на бумаге - представители партий, получивших назна¬
чение в ее состав, самовольно уехали в Валенсию.
В Мадриде образовался новый штаб обороны во главе с энергичным подполков¬
ником Рохо, впоследствии ставшим начальником Генерального штаба. ”Но паса-
ран!” (”Не пройдут!”) — стало народным лозунгом испанских бойцов в Мадри¬
де. Тысячи новых людей взяли в руки оружие.
Весь день 6 ноября я был на передовых позициях среди войск, отбивавших
атаки мятежников. Командиры и бойцы дрались до последнего патрона и были
полны решимости во что бы то ни стало отстоять город. Штаб обороны Мадрида
решил активными действиями сорвать наступление противника и разгромить
его под стенами города. Но при этом по-прежнему далеко не полностью учитыва¬
лись возможности республиканской артиллерии.
Я сразу же взялся с группой артиллеристов за разработку системы ’’концент¬
рированного огня” (так называли испанские офицеры сосредоточенный и масси¬
рованный огонь артиллерии) по всем важным объектам, перечисленным в захва¬
ченном приказе генерала И. Варелы7.
8 ноября я был свидетелем прохождения по улицам Мадрида 1-й Интернацио¬
нальной бригады трехбатальонного состава. Под бурные аплодисменты жителей
города четким воинским шагом шли бойцы-антифашисты выполнять свой интер¬
национальный долг на полях сражений в республиканской Испании.
Главный удар мятежники наносили в парке Каса дель Кампо. Участки парка
переходили из рук в руки. Атака следовала за атакой. Ожесточенные бои развер¬
нулись у моста Принцессы. Мятежники пытались прорваться в Карамбанчеле,
у Толедского моста, но партизанский батальон ликвидировал прорыв. В течение
дня 8 ноября мятежники продвинулись на полтора километра. Мне пришлось
переселиться на башню Телефоника-Централь, выбранную в качестве отличного
7Варела, Иглесиас (1891 — 1951) - генерал испанской армигг Активный участник граж¬
данской войны на стороне мятежников. С 1939 г. - военный министр.
58
наблюдательного пункта, где я проводил каждую ночь до полудня, опасаясь про¬
зевать генеральное наступление фашистов. Часами напряженно всматривался в
стереотрубу, наблюдая за боевыми порядками противника, помогал командирам
батарей корректировать огонь, обучал республиканских артиллеристов вести
разведку стреляющих батарей мятежников.
Как-то я работал в штабе одного из секторов обороны Мадрида и обратил
внимание на командира в полевой защитной форме, шумно разговаривавшего
с начальником штаба/ Он подошел ко мне и представился на русском языке с
иностранным акцентом. Это был командир 2-й Интернациональной бригады,
получившей в республиканской армии 12-й порядковый номер, генерал Пауль
Лукач, он же венгерский писатель Матэ Залка, автор известного романа о первой
мировой войне ’’Добердо”. Генерал был взволнован тем, что штаб отказывает
ему в самой элементарной помощи.
С тех пор мы часто встречались. Это был интересный, умный, храбрый чело¬
век. Бригада генерала Лукача, по моему мнению, была одной из лучших в респуб¬
ликанской Испании. Личный состав бригады проявил беззаветное мужество и
геройство в боях.
Тяжелым ударом для меня, как и многих, явилась трагическая гибель генера¬
ла Лукача во время артиллерийского обстрела 12 июня 1937 г. Его смерть опла¬
кивала вся республиканская Испания. Он был похоронен во временной столице
Испанской Республики - Валенсии.
Без каких-либо преувеличений следует сказать и о других интернациональных
бригадах. Все они в моральном, военном и материально-техническом отношениях
были на высоком уровне и представляли собой главную ударную силу республи¬
канской армии. Необходимо также отметить, что значительное число испанских
бригад и дивизий быстро выросли в грозную боевую силу для борьбы с мятежни¬
ками и кадровыми фашистскими войсками.
Наступление республиканцев в ноябре не удалось, но и противник не смог
продвинуться вперед.
Трудно было работать без знания испанского языка. А мой переводчик Эн¬
рико выполнял свои обязанности весьма небрежно. Вскоре со мной стала рабо¬
тать отличная советская переводчица, в совершенстве знавшая испанский язык, —
Нора Степанова, Теперь я был уверен, что каждая фраза, каждое слово переводи¬
лось точно. Переводчицы Н. Чегодаева, Ю. Фортес, А. Петрова, М. Зайцева, Л Сам¬
сонова, Л. Константиновская, В. Александровская и другие своим нелегким
трудом внесли неоценимый вклад в дело борьбы испанского народа с фашизмом.
Неизгладимые воспоминания остались у меня от встречи с Хосе Диасом8 и
Долорес Иэаррури в Мурсии. Прощаясь, Долорес Ибаррури по существующему
в Испании обычаю подарила мне сувенир — толстый металлический многоцвет¬
ный карандаш. Через три года он спас мне жизнь во время похода в Западную
Белоруссию. Если бы не этот карандаш в левом боковом кармане гимнастерки,
я был бы смертельно ранен в сердце в автомобильной катастрофе. Вот каким
счастливым оказался этот сувенир!
ХАРАМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Начальник артиллерии Фуэнтес по-прежнему предпочитал находиться в тылах
и всячески избегал поездок на фронт.
Однажды я все-таки уговорил его выехать на один из участков Центрального
фронта. Но каково же было мое удивление, когда на следующий день он появил-
*Диас, Хосе (1895-1942) - деятель испанского и международного рабочего движения
с 1932 г. Генеральный секретарь Испанской коммунистической партии. Один из руководи¬
телей борьбы испанского народа против мятежников. В состояйии душевной депрессии покон¬
чил с собой 20 марта 1942 г.
59
Вручение только что учрежденных маршальских звезд после Сталинградской битвы. Н.Н. Во¬
ронов М.И. Калинин, А.М. Василевский. Апрель 1943 г.
ся в штабе вместе с женой, тоже собравшейся ехать на фронт вместе с ним. Когда
Фуэнтес вышел в другую комнату, я стал уговаривать его жену не бросать детей
и отказаться от этой поездки. Она согласилась, что ей решительно нечего делать
на фронте, но для общей пользы обязана поехать с мужем. Она высказала опасе¬
ния, что ее легкомысленный супруг сразу пойдет в публичный дом, закутит с
женщинами, забудет свои служебные обязанности и дело кончится для него пла¬
чевно. Зачем рисковать репутацией мужа! Сколько я ни заверял, что буду удержи¬
вать Фуэнтеса от всех соблазнов, ничего не помогало. Но на этот раз поездка не
состоялась — у него нашлись какие-то ’’неотложные дела”.
В начале 1937 г. мне пришлось принимать активное участие в известной Харам-
ской операции, основной целью которой было нанесение внезапного удара с вос¬
точного берега реки Харама по правому флангу вражеских войск, наступавших на
Мадрид. Вспомогательный удар планировался из района северо-западнее Мадрида,
чтобы взять в клещи основную группировку мятежных войск в этом районе.
К сожалению, противник заранее узнал о подготовке нашего наступления с
восточного берега реки Харама и решил упредить готовившийся штурм. Мятеж¬
ники начали внезапные действия 6 февраля, когда республиканские войска еще
не были готовы к наступлению и не обеспечили себя прочной обороной. В распо¬
ряжении фашистов на этом участке находилось не более 10 батальонов пехоты и
40 орудий разного калибра. А республиканские войска к этому времени сосре¬
доточили здесь до 70 орудий и не были застигнуты врасплох.
Завязались упорные и кровопролитные бои, которые продолжались целую
неделю. Врагу удалось выбить республиканские войска с западного берега Хара¬
мы и захватить переправы. Мятежники все время наращивали свои усилия све¬
жими силами пехоты, артиллерии и танков.
По моему настоянию дивизионная артиллерия была сведена в группы по не¬
сколько батарей. Управление ими с большим трудом удалось централизовать.
Постановка заградительного огня, в котором принимали участие до шести—восьми
60
батерей на каждом рубеже, давала возможность эффективно отражать многочис¬
ленные атаки пехоты и танков противника. Сосредоточенным огнем трех-четырех
батарей наносились ощутимые потери резервам противника.
Республиканские войска сумели захватить инициативу и перейти в наступле¬
ние. Артиллерия неплохо обеспечила действия пехоты и танков.
Харамская операция, хотя и не дала больших результатов, но оказалась поучи¬
тельной: выявила недостатки в боевой подготовке войск и показала все нарастав¬
шую роль артиллерии в современной войне.
Для решения многих вопросов мне приходилось неоднократно выезжать в Ва¬
ленсию, ведь там находился начальник артиллерии республиканской армии и его
штаб. Войну он ’’ощущал” по докладам и донесениям, рад был нашим встречам,
обменом мнений и советам. К этому он теперь привык и понимал их пользу. За
несколько часов совместной работы удавалось многое решить для помощи
фронту.
Замечательный приморский город Валенсия жил полувоенной жизнью. Всегда
полны народом открытые на улицах кафе. Зашел в кинотеатр, здесь также много
людей, идет кинофильм ”Мы из Кронштадта”. Все успехи Красной Армии встре¬
чают бурными аплодисментами, вскакивают, выкрикивая горячие приветствия.
При неуспехе красных, когда наступают белые — гробовое молчание и лишь слыш¬
ны отдельные протяжные возгласы: Уууу... фашиста!!! Так весь фильм восприни¬
мался экспансивными испанскими зрителями.
Настоящей трагедией для республиканцев была плохая работа их разведки на
территории, занятой мятежниками. Много сведений поступало из разных источ¬
ников из-за границы, но на определение их достоверности уходило слишком
много времени. Часто было неясно — являются ли полученные сведения правиль¬
ными или это умышленно созданная вражеская дезинформация.
Находясь в Валенсии, я как-то в воскресенье утром выглянул в окно и удивил¬
ся обилию ярких цветных плакатов на огромном здании Пласа-де-Торос - арены
для боя быков. Вскоре заиграл оркестр и шумно повалили разодетые граждане,
большинство целыми семьями. Наблюдаю за бойкой продажей билетов у касс,
глазам не веря, что в разгар войны при опасности бомбежки могут посещать
подобные зрелища. Сам не выдержал, пошел, купил билет. Мне тут же вручили
какую-то соломенную подушку, нашел свое место на внушительных каменных
скамьях амфитеатра. '
Под оркестр состоялся красочный парад тореадоров, среди которых была и
женщина, первая испанка-тореадор, встреченная бурными овациями. Начались
бои с разъяренными быками. Каждый удачный поединок встречался оглушитель¬
ными рукоплесканиями и бросанием шляп на арену. Я не рискнул навсегда рас¬
статься со своей шляпой, чем вызвал явное неудовольствие моего соседа. Он
ловко схватил мою шляпу и яростно швырнул на арену. Потом эти шляпы выбра¬
сывались обратно с арены и немыслимым образом находили своих хозяев. Та¬
ким путем и я получил обратно свою шляпу.
Нескрываемое восхищение вызвала у зрителей своими ловкими действиями
женщина-тореадор, ловко нанесшая смертельный удар быку. По правилам она
получила ухо и хвост быка, с которыми грациозно пробежала вокруг арены,
размахивая трофеями. В ответ катилась буря восторга, победительницу засыпа¬
ли цветами... Представление продолжалось довольно долго. Крики одобрения
сменялись гулом недовольства в адрес неудачливых тореадоров, которых за¬
брасывали подушками со скамей. Все от мала до велика выплескивали свои
неукротимые чувства наружу. Наконец оркестр заиграл бравурный марш, зри¬
тели встали и без всякой толкучки двинулись на улицу. Впервые мне пришлось
увидеть настоящий испанский бой быков, от которого осталось противоречи¬
вое, сложное впечатление.
В марте произошло Событие, сильно меня потрясшее. Мне на смену прибыл
61
наш доброволец, грамотный и опытный артиллерист А.П. Фомин. Я послал его
на боевые порядки артиллерии под Гвадалахарой с целью ознакомления с лич¬
ным составом артиллерийских подразделений и оказания помощи в стрельбе.
Но случилось непоправимое. При налете вражеской авиации он был убит наповал
15 марта 1937 г. Несмотря на все наши просьбы о перенесении его праха на Роди¬
ну, без всякой мотивировки Москва ответила отказом. Александр Павлович
нашел вечный покой на далекой чужбине, оставив о себе светлую память заме¬
чательного человека и искусного артиллериста.
ГВАДАЛАХАРА
Еще в ходе боев на реке Хараме, итальянцы задумали операцию с использо¬
ванием своего численного превосходства над обороняющимися республикан¬
цами. Они стремились непосредственным ударом на Мадрид овладеть им сходу.
Для этой цели они сосредоточили свой экспедиционный корпус под Гвадалахарой
северо-восточнее Мадрида.
Республиканское командование в то время не знало еще действительных сил
врага и преуменьшало его возможности. Началась перегруппировка войск за счет
боевых соединений Центрального фронта.
Бросались в глаза грубые ошибки заносчивых итальянских генералов. Они
пренебрежительно относились к силам республиканцев и их возможностям. Не
учли способность республиканцев к широкому маневру, их умение активно оборо¬
няться и сохранять устойчивое управление войсками. Итальянские войска с пер¬
вых дней боев были весьма чувствительны к огню малочисленной республикан¬
ской артиллерии, к действиям танков, к бомбежкам авиации.
Республиканское командование действовало безошибочно, нанося точные уда¬
ры по интервентам. Подходили новые резервы, включаясь в борьбу. Как ни лезли
вперед солдаты Муссолини, они наталкивались на жесткую оборону, на плотный
огонь артиллерии. Республиканцы предпринимали контратаку за контратакой,
захватывая итальянские танки, автомашины, орудия, пленных. Воодушевление
войск нарастало. Бойцы сражались, не жалея жизни. Местное население по собст¬
венной инициативе начало рыть окопы в тылу республиканских войск.
После четырех суток непрерывных боев итальянские интервенты понесли боль¬
шие потери и были морально подавлены. Командир итальянского корпуса генерал
Роатта вечером 12 марта отдал приказ о прекращении дальнейшего наступления
и о переходе к обороне, что решило исход всей операции и окончательно опреде¬
лило поражение интервентов.
13 марта командир итальянского корпуса разослал в свои части телеграмму
Муссолини:
”На борту паррхода ’’Пола”, на котором я еду в Ливию, я получил сообщение
о происходящем сейчас большом сражении на Гвадалахарском направлении. С
уверенным сердцем слежу за развитием этого сражения, потому что убежден в
том, что энтузиазм и упорство наших легионеров преодолеют сопротивление
противника. Уничтожение интернациональных сил будет громадным политичес¬
ким успехом. Оповестите легионеров, что я час за часом слежу за их действиями,
которые будут увенчаны победой, Муссолини”.
Когда мне перевели текст этой захваченной в разгромленном итальянском шта¬
бе телеграммы, я был немало удивлен полным ее несоответствием с обстановкой
на фронте. С 14 марта республиканцы прочно захватили инициативу действий и
перешли в стремительное наступление. Попытки фашистских войск наступать
на реке Харама и на юге в районе Кордовы были полностью отбиты.
Еще несколько дней боев — и победа одержана, победа малыми силами над
превосходящим противником. Вся республика встретила эту победу как большой
праздник.
62
ПРОЩАНИЕ С БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ
После боев под Гвадалахарой мне снова пришлось взяться за новые формиро¬
вания, подготовку артиллерийских кадров, восстановление материальной части
артиллерии. Было проведено несколько показательных артиллерийских учений
с боевыми стрельбами по управлению огнем дивизионов и батарей в наступлении
и обороне. Пришлось потрудиться над дальнейшим повышением точности стрель¬
бы республиканской артиллерии и отработкой взаимодействия артиллерии с
пехотой и танками в наступлении.
Так прошел апрель и май. К первомайскому празднику я получил из Москвы
посылку, в которой были шоколад, папиросы, табак. Курево я подарил Фуэнте¬
су, а шоколад — его супруге. Оба были в восхищении от нашей высококачествен¬
ной продукции.
В Испании мне приходилось часто встречаться с прекрасным человеком Яном
Карловичем Берзиным9 - главным военным советником, ставшим невинной
жертвой жестоких репрессий в 1938 г. Его сменил Григорий Михайлович Штерн10,
талантливый общевойсковой командир, решительный и дальновидный. Вероломно
обвинен во враждебной деятельности и расстрелян 28 октября 1941 г. в разгар
битвы под Москвой, когда так остро мы нуждались в способных военачальниках.
Свои обязанности я сдал хорошему командиру-артиллеристу Н.А. Кличу.
Его судьба также окажется трагичной. Командуя артиллерией Западного фронта
в 1941 г., он будет расстрелян в сентябре, вслед за Д.Г. Павловым11, В.Е. Кли¬
мовских и другими работниками управления Западного фронта, подло обвинен¬
ными в трусости и паникерстве.
Самые теплые воспоминания остались у меня о боевых друзьях — советских
добровольцах-артиллеристах, которые вместе со мной работали советниками в
республиканской армии: А.П. Фомине, В.И Димитрове, В.И Гоффе, Э.В. Тойко,
Н.П. Гурьеве, Я.Е. Извекове, П.А. Лампеле и др. Все они много и плодотворно
трудились на фронте и в тылу, под огнем обучали испанских товарищей, переда¬
вали им свой опыт и знания.
Нельзя забыть замечательных взаимоотношений и искреннюю дружбу между
республиканскими командирами и бойцами и советскими добровольцами.
ХАСАН, ХАЛХИН-ГОЛ, КАРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕШЕЕК
На ответственном посту
В Москве меня ожидало немало новостей. Прежде всего группу участников
боев в Испании - ДГ. Павлова, Я.В. Смушкевича12, И.И. Копеца, К.М. Гусева и
меня — сразу же принял нарком обороны ICE Ворошилов. Расспрашивал об
уроках боев и попросил подготовить свои выводы и предложения. Сказал, что
*Берзин, Ян Карлович (1889-1938) - армейский комиссар 2-го ранга. С 1937 г. начальник
Главного разведывательного управления Красной Армии. По ложному обвинению расстрелян
29 июля 1938 г.
10Штерн, Григорий Михайлович (1900-1941) - генерал-полковник, Главный военный
советник в Испании (1937-1938). Руководил боевыми действиями советских войск у озера
Хасан в 1938г., на реке Халхин-Гол в 1939 г. В 1941г. начальник ПВО страны.
11 Павлов, Дмитрий Григорьевич (1897-1941) - генерал армии, участник гражданской
войны в Испании (1936-1937). С 1937 г. начальник Автобронетанкового управления РККА.
С 1940 г. командующий Белорусским особым военным округом. В 1941 г. командующий
Западным фронтом. Ложно обвинен в трусости и паникерстве. Расстрелян 22 июля 1941 г.
1 *Смушкевич, Яков Владимирович (1902-1941) - генерал-лейтенант авиации, участник
гражданской войны в Испании (1936-1937). С 1937 г. заместитель начальника ВВС РККА,
участник боев на реке Халхин-Гол в 1939 г. С 1940 г. помощник начальника Генштаба по
авиации. Безвинно репрессирован, расстрелян 28 октября 1941 г.
63
члены Политбюро ЦК партии очень интересуются накопленным нами боевым
опытом и хотят встретиться с участниками боев.
Нас пригласили в зал заседаний. Когда мы вошли, все встали и начали нам
аплодировать. Члены Политбюро пожимали нам руки и поздравляли с успешным
возвращением.
Сразу же завязался деловой разговор. Смушкевич доложил о действиях авиа¬
ции в Испании, Павлов — о действиях танков, я — о применении артиллерии. Мое
выступление продолжалось около полутора часов. Было много вопросов. Я гово¬
рил о возросшей роли наземной и зенитной артиллерии в современной войне.
Большой интерес руководители партии и правительства проявили к истории
становления артиллерии республиканской Испании, к действиям итальянского
экспедиционного корпуса.
Затем Копец и Гусев поделились своим опытом участия в воздушных боях.
Нарком внес предложение поблагодарить нас за выступления и на этом закрыть
заседание, а все остальное решить завтра.
— Зачем откладывать на завтра, когда все можно сделать сегодня? - прервал
его Сталин. — У нас ведь все уже предрешено. Нужно это сейчас объявить.
Тут-то и начались для нас ошеломляющие сюрпризы.
Сталин предложил присвоить нам воинские звания, но не очередные, а через
одну ступень. Мне, в частности, присваивалось звание ’’комкор” (по теперешним
понятиям генерал-полковник). Затем пошла речь о новых назначениях. Павлов
был утвержден заместителем начальника бронетанкового управления Красной
Армии, Смушкевич — заместителем начальника Военно-Воздушных Сил СССР.
Самое крупное назначение, однако, ожидало меня - начальник артиллерии Крас¬
ной Армии. С Павловым и Смушкевичем мы поселились в одном доме, так назы¬
ваемом Доме правительства на улице Серафимовича. Дружили, ходили друг к
другу в гости. Недолго длилась наша дружба и сотрудничество. Обоих их безжа¬
лостно лишат жизни в бериевских застенках в первые месяцы Великой Отечест¬
венной войны.
— А теперь в отпуск! — произнес в заключение Сталин. — Берите свои семьи и
отправляйтесь на юг. А потом с новыми силами за работу!
Ворошилов слегка помрачнел, он ведь был решительно против нашего отпус¬
ка, но, как всегда в таких случаях, промолчал.
Я вышел сэтого заседания с тревогой в душе: справлюсь ли? Хватит ли сил и
способностей руководить всей советской артиллерией? Но отступать было уже
нельзя. Начинался новый период моей жизни.
Весь месяц в сочинском военном санатории имени Я.Ф. Фабрициуса я напряжен¬
но трудился, работая над проектом второй части боевого устава артиллерии. С этого
началась моя новая деятельность. Но не столько устав, сколько думы о будущей
работе занимали меня. Что бы я ни делал, я все время размышлял о судьбах нашей
артиллерии, ее дальнейшем совершенствовании. Я еще не знал ни объема, ни
обстановки в наркомате, ни тонкостей субординации - все это казалось загадоч¬
ным и сложным. Ну, бог с ней, субординацией! Как вести дела, за что прежде
всего взяться? Об этом думалось непрерывно. Уединившись, я начал набрасывать
развернутую программу своих действий на ближайшее время.
Моим постоянным партнером на теннисных кортах в Сочи был видный воен¬
ный теоретик, профессор академии Генштаба А.Й. Верховский13. Его постигла
печальная судьба, как и многих других, в 1938 г. Я не давал ему покоя. Мы часто
обменивались с ним мнениями относительно дальнейшего развития оперативного
искусства и вступали в непримиримые споры. .Александр Иванович настолько
19 Верховский, Александр Иванович (1886-1938) - комбриг, военный теоретик и исто¬
рик. Автор научных трудов. С 1932 г. служил в Генштабе и Военной академии Генштаба.
Ложно обвинен во вражеской деятельности и расстрелян 19 августа 1938 г.
64
был захвачен бурным развитием танков и авиации, что невольно умалял значение
артиллерии как рода войск. Я категорически не соглашался и активно парировал
его выводы и заключения. Правда, когда мы играли, к большому удовольствию
моих постоянных ’’болельщиков” — жены Любови Михайловны и сына Владими¬
ра — все споры тут же прекращались, так как мы оба обожали теннис, которым я
увлекался со времени учебы в академии.
Будущая война виделась мне широко маневренной, с проведением последова¬
тельных операций с массированным применением танков и авиации. Разве не
артиллерия — наземная и зенитная — должна стать важнейшим барьером для тан¬
ков и авиации противника? Какой заслон можно поставить против этих новейших
средств войны? Ничего, кроме артиллерии, не существовало. Я был настолько
убежден в этом, что принялся составлять детальные планы самого широкого
развития артиллерии всех систем и калибров, и прежде всего противотанковой.
Вернувшись из отпуска, я сразу был принят наркомом обороны. Он вниматель¬
но выслушал мои суждения о развитии артиллерии и одобрил сделанные мною
предложения, поддержал мои идеи о подготовке кадров командного состава
артиллерии, разработке и издании артиллерийских уставов, наставлений и учеб¬
ников, а также о создании новых образцов орудий, минометов и другой артил¬
лерийской боевой техники. В заключение посоветовал подобрать на важнейшие
должности энергичных и грамотных артиллерийских командиров.
Вскоре на Татищевском полигоне (в районе Саратова) в моем присутствии
были проведены опытные боевые стрельбы артиллерии большой и особой мощ¬
ности (203-мм и 280-мм калибра), которые дали очЬнь. много ценных данных по
способам разрушения долговременных огневых точек. Кстати, они с успехом
были использованы при прорыве мощных оборонительных позиций в советско-
финляндской войне 1939—1940 гг. и в Великой Отечественной войне (Восточно-
Прусская и Выборгская операции).
Ежегодно проводимые всеармейские состязания командиров батарей на Луж¬
ском полигоне14 показали высокий уровень подготовки командного состава ар¬
тиллерии. Были выдвинуты новые требования к боевой подготовке командного
состава артиллерии. Много внимания уделялось работе артиллерийских штабов,
развитию и совершенствованию артиллерийской разведки. Но за создание нового
вооружения развернулась острейшая борьба.
Еще в 1936 г. была испытана и принята на вооружение 76-мм пушка Ф-22 из¬
вестного конструктора В.Г. Грабина15. Однако она страдала рядом конструк¬
тивных недостатков. Начались ее дополнительные испытания в зимних условиях.
Комиссия под моим председательством записала в акте испытаний, что новое
орудие имеет существенные недоработки и, пока они не устранены, оно не может
быть принято на вооружение. Это резкое заключение вызвало в Москве недобро¬
желательную реакцию. Оно разбиралось в высших инстанциях с участием руко¬
водящих работников наркомата обороны, промышленности и конструкторов.
Нарком обороны был вне себя от моего доклада: на него, видимо, подейство¬
вали выступления представителей промышленности. А меня до крайности удивля¬
ло, как могли эти товарищи расхваливать свою явно недоброкачественную про¬
дукцию.
Дело оборачивалось круто. Слово взял Сталин. Я было решил, что на этом и
14 Лужский полигон - старейший артиллерийский полигон в районе г. Луга (137 км южнее
Ленинграда). В июле-августе 1941 г. курсанты ленинградских военных училищ сдерживали
натиск превосходящих сил фашистов на Лужском оборонительном рубеже.
**Грабин, Василий Гаврилович (1899-1980) - генерал-полковник, конструктор артил¬
лерийского вооружения. Под его руководством созданы артиллерийские системы: 76-мм
пушка (ЗИС-З), 100-мм пушка (БС-3) и др. Во время Великой Отечественной войны в корот¬
кое время организовал их массовое производство.
3 Новая и новейшая история, № 6
65
закончится моя работа в центральном
аппарате наркомата обороны. Но все
произошло совсем иначе.
- Я слушал внимательно всех выс¬
тупающих и пришел к выводу, что у
нас выросли кадры хороших ораторов.
Но, несмотря на блестящие ваши речи,
все же должен выступить в защиту ос¬
новного докладчика Воронова по всем
выдвинутым им вопросам, кроме одно¬
го. Он не прав лишь в том, что считает
пушку Ф-22 негодной для Красной Ар¬
мии. Всем должно быть ясно и понятно,
что производство пушек — не производ¬
ство мыла! Нужно научиться хорошо их
производить, устраняя все обнаруженные
недостатки у пушки с тем, чтобы она
стала боеспособной.
Сталин закончил свое выступление
предложение создать комиссию, в сос¬
тав которой должен войти начальник ар¬
тиллерии Воронов. Ей поручалось разра¬
ботать проект решения. Я • облегченно
вздохнул: была одержана трудная победа
в борьбе за качество продукции.
Весной 1938 г. я вместе с наркомом
обороны направился на подмосковный
артиллерийский полигон Софрино, где
Герои советского Союза, главный маршал
артиллерии Ник.Ник. Воронов. 1965 г.
впервые увидел опытные образцы реактивной артиллерии. На этих стрельбах при¬
сутствовали также начальник Главного артиллерийского управления Г.К. Кулик16
и военком ГАУ Г.К. Савченко. Новое залповое оружие произвело сильное впечат¬
ление, но были видны и его недостатки - значительное рассеивание снарядов,
наличие только одного специального снаряда и трудность маскировки огневой
позиции во время стрельбы. Несмотря на это, мы положительно оценили новое
оружие.
Ворошилов приказал держать этот вид оружия в строгом секрете, быстро
совершенствовать его, но массовое производство поставить лишь в предвидении
войны. Здесь же было предложено заняться конструированием осколочно-фугас¬
ного снаряда. Как сожалели мы потом, что своевременно не приступили к произ¬
водству реактивной артиллерии, не сформировали необходимые части и подраз¬
деления и не подготовили для нее квалифицированные кадры!
В 1937 г. мы понесли в артиллерии большие потери в кадрах командного
состава. Много опытнейших командиров различных категорий было репресси¬
ровано, дискредитировано и уволено из рядов Красной Армии. Появилось самое
страшное для военного организма — недоверие к командному составу. У коман¬
диров возникла неуверенность в завтрашнем дне. Это, конечно, незамедлитель¬
но сказалось на качестве их повседневной работы, боевой активности частей и
подразделений.
Я проверял как-то работу курсов усовершенствования зенитной артиллерии.
'6 Кулик, Григорий Иванович (1890-1950) - Маршал Советского Союза. С 1939 г. за¬
меститель наркома обороны, начальник ГАУ. В 1941 г. командующий армией. За допущен¬
ные просчеты в командовании войсками понижен в звании до генерал-майора. Ложно обви¬
нен в антисоветской деятельности и расстрелян 24 августа 1950 г.
66
С первого же дня мы встретились с фактами необоснованных обвинений спе¬
циалистов своего дела. Доходило до того, что командование курсов запретило
военному врачу оказывать медицинскую помощь всем отстраненным от работы,
их иждивенцам и даже детям. Однако, вопреки запрету, врач их лечил втайне от
командования от трех часов ночи до шести часов утра.
Однажды ко мне явился красноармеец зенитного дивизиона этих курсов,
бледный, взволнованный, с трясущимися руками. В день выборов в Верховный
Совет СССР он, опустив бюллетень в урну, зашел в ленинский уголок и в книге
вопросов и ответов записал вопрос: ’’Что такое русалки? Откуда они взялись?
Почему писатели о них пишут?”. Вместо вразумительного ответа красноармейцу
было предъявлено обвинение в том, что он ’’своими мистическими вопросами
пытался сорвать выборы в Верховный Совет”. Красноармеец немедленно был
исключен из комсомола, все от него отвернулись как от врага народа, и он уже
решил покончить жизнь самоубийством. Пришлось вмешаться в это нелепое дело
и добиться полной реабилитации пострадавшего.
В середине декабря 1937 г. я направил личное письмо Ворошилову, в котором
взял под сомнение необоснованные обвинения комсостава артиллерии и привел
десять фамилий, хорошо мне известных командиров-артиллеристов, которые
подлежали увольнению из армии. За них я ручался головой, просил вмешаться
и оказать помощь.
В результате все десять артиллеристов были оставлены в армии. Они отлично
зарекомендовали себя в последующей работе, особенно в годы Великой Отечест¬
венной войны.
Излишняя подозрительность принесла огромный вред делу становления совет¬
ской артиллерии, мешала работать, отвлекала многих на расследования, а глав¬
ное — очень часто наводила тень на добросовестных и честных людей.
В 1938 г. под моим началом состоялся сбор начальников артиллерии военных
округов. Он имел большое значение для молодых выдвиженцев на столь высо¬
кие должности. На сборе была проведена военная игра на картах на тему: ’’Дейст¬
вия артиллерии при прорыве обороны противника в наступательной операции
ударной армии на главном направлении”, а также состоялась серия показатель¬
ных артиллерийских стрельб. На всех занятиях было обусловлено добиваться
единства взглядов. Сбор принес несомненную пользу и послужил серьезной осно¬
вой для проведения подобных сборов в округах.
На дальнем востоке
В конце июля 1938 г. японцы начали провокации у озера Хасан. С началом
боевых действий нарком обороны предложил мне вместе с группой командиров-
артиллеристов выехать в войска Дальнего Востока, чтобы оказать необходимую
помощь артиллерийским частям. Но лететь самолетом не разрешили, мы вынуж¬
дены были добираться поездом. В случае окончания боевых действий у озера
Хасан до нашего прибытия, нам было приказано провести проверку боевой под¬
готовки частей и соединений войск Дальнего Востока вдоль всей границы от
Благовещенска и до острова Русского на Тихом океане. Одновременно с теми же
задачами туда направлялась группа общевойсковых командиров во главе с на¬
чальником управления боевой подготовки В.Н, Курдюмовым.
На инструктаже Ворошилов напомнил:
— Проверьте ход боевой подготовки частей и соединений и их боевую готов¬
ность. Особое внимание уделите комсоставу и его соответствию занимаемым
должностям. Через месяц после проверки кто-то из вашей группы должен загля¬
нуть в проверенные части и убедиться, устранены ли недостатки.
Прибыв в Хабаровск, мы были приняты командующим войсками Дальнего
3
67
Востока маршалом В.К. Блюхером1 7. Несмотря на успешное окончанир боев в
районе озера Хасан, он выглядел мрачным, озабоченным.
— Японские войска, — поведал он, — начиная провокации в районе озера Ха¬
сан, грамотно выбрали плацдарм для военных действий. Стоило сосредоточить
наши войска в этом районе, как мы были бы поставлены под угрозу окружения
и перехвата коммуникаций. Тем не менее этот замысел японцев был разгадан и
провокация их ликвидирована.
События у озера Хасан показали беспримерные образцы героизма наших вои¬
нов, но наряду с этим вскрыли и ряд существенных недостатков. Прежде всего
мобилизационная готовность наших войск на Дальнем Востоке оказалась недоста¬
точно высокой. Действия войск не были молниеносными и четкими. Неорганизо¬
ванно работали штабы. В боевой подготовке войск допускалось много условнос¬
тей. Много было ошибок в применении артиллерии: слабая организация взаимо¬
действия с пехотой и танками, частая потеря управления частями и подразделе¬
ниями.
Все-таки было очень приятно узнать, что среди отличившихся в боях называл¬
ся командир огневого взвода противотанковой артиллерии лейтенант ИР. Лаза¬
рев. Ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза - первому среди
артиллеристов в нашей стране.
Со следующего дня началась наша напряженная работа по проверке пригранич¬
ных войск Дальнего Востока. На автомашинах, поездах, верхом на лошадях,
на полуглиссерах, лодках, пешком добирались мы до самых отдаленных гарни¬
зонов. Комиссия побывала в таких местах, где представители центра никогда
не были. Проверяли строго, но вместе с тем и помогали в устранении недочетов.
В 1937 г. и начале 1938 г. в частях произошло большое перемещение комсоста¬
ва. Значительное число опытных командиров было удалено из армии и уничто¬
жено по сфабрикованным обвинениям. Довольно неприглядную роль в этом
сыграли начальник Главного политического управления РККА Л.З. Мехлис и
тогдашний заместитель наркома внутренних дел М.П. Фриновский. Они безот¬
ветственно расправились с командными кадрами и поставили наши войска на
Дальнем Востоке в очень трудное положение. Многие новые командиры были
весьма слабы по своей подготовке и не соответствовали занимаемым должностям.
Бои у Халхин-Гола
В июне 1939 г. империалистическая Япония вероломно напала на дружествен¬
ную нам Монгольскую Народную Республику. Группа ответственных работников
наркомата обороны во главе с заместителем наркома обороны Г.И. Куликом
была направлена в район Халхин-Гола. В состав этой группы входил и я.
Обстановка в этом районе была не из легких. Противник сосредоточил здесь
отборные части Квантунской армии, хорошо оснащенные для боевых действий
в пустынных степях.
На командном пункте нас встретил командующий группой войск комкор
Г.К. Жуков, с которым я познакомился впервые и с тех пор наши пути-дороги
не расходились.
Выдвинутые передовые части армейской группы находились за рекой Халхин-
Гол и занимали там значительный по размеру плацдарм. Под прикрытием ночи
туда был введен стрелковый полк только что прибывшей дивизии. Утром про¬
тивник обнаружил плохо замаскированные боевые порядки полка и его артил-
17Блюхер, Василий Константинович (1890-1938) - Маршал Советского Союза, Главный
военный советник в Китае (1924-1927). В 1938г. командующий Дальневосточным фронтом.
Участник боев у озера Хасан, где умело руководил действиями войск. Безвинно репрессиро¬
ван 9 ноября 1938 г.
68
лерия стала их усиленно обстреливать. Командиры и красноармейцы еще, как
говорится, не нюхали пороха и были слабо подготовлены. В ряде подразделений
началась паника. Часть бойцов побежала к переправам. Паника быстро распростра¬
нилась на другие подразделения. Почти весь полк дрогнул и без какого-либо на¬
жима со стороны противника бросился в тыл. Командиры с оружием в руках
преграждали путь бегущим, пытаясь остановить их и вернуть на позиции. Кар¬
тина была не из приятных.
Но rf для японцев бегство нашего полка оказалось большой неожиданностью.
Они растерялись и не поспешили выдвинуть вперед на брошенные позиции свои
передовые части. Когда они поняли в чем дело и начали выдвигаться, их встре¬
тили губительным огнем наши четыре батареи, выдвинутые по моему приказу
на прямую наводку. Под прикрытием огня стали стремительно двигаться вперед
свежие стрелковые батальоны, которые и восстановили положение.
Провинившийся полк был вывыден в резерв, среди личного состава полка на¬
чалась соответствующая работа, а зачинщики паники понесли суровое наказание.
Через несколько дней — полк словно преобразился. Бойцы и командиры, осознав
свою вину, буквально рвались в бой и храбростью вскоре смыли позорное пятно
с чести подразделения.
Г.И. Кулик предложил Г.К. Жукову отдать приказ об отходе наших войск с
плацдарма. Георгий Константинович сначала доказывал нецелесообразность тако¬
го решения, а потом наотрез отказался выполнить приказ Кулика. Оба донесли
об этом инцеденте в Москву. Оттуда пришло указание: приказ Кулика отменить,
войска не отводить, а группе Кулика немедля возвратиться в Москву.
Мы начали собираться к отлету, грустно было покидать поле битвы. Вдруг
ночью из Москвы пришло уточнение: комкору Воронову остаться до особого
распоряжения. Утром проводили улетающих. Штерн, Жуков и я облегченно вздох¬
нули, когда самолет взмыл в воздух: Кулик вносил много путаницы.
Наши войска продолжали всесторонне готовиться к решительному наступле¬
нию. Хотелось для предстоящих действий иметь возможно больше танков, артил¬
лерии, стрелковых частей, авиации. Но реальные возможности были весьма скром¬
ны. В то же время мы не могли надолго откладывать начало активных действий.
Больших трудов стоило мне убедить начальника артиллерии армейской группы
Ф.Г. Корзина о необходимости планировать боевые действия артиллерии в мас¬
штабе всей группы войск, а контрбатарейную борьбу взять целиком в свои
руки. Мне впервые удалось централизовать управление огнем артиллерии на
фронте действий армейской группы, с целью возможного его массирования и
сосредоточения на наиболее важных направлениях и участках. Опираясь на полу¬
ченный опыт в боях на Хал хин-Голе, подобная тактика действий артиллерии
получила дальнейшее развитие во время Великой Отечественной войны и ус¬
пешно достигла поставленных целей.
Г.К. Жуковым было принято решение начать наступление на рассвете в вос¬
кресенье 20 августа, учитывая особенности жизни и быта японских войск. Про¬
тивник был явно застигнут врасплох, нес большие потери. Наступление разви¬
валось успешно, в полном соответствии с планом. Из Москвы были получены
указания ни в коем случае не переходить границы МНР с Китаем. Поэтому мы не
могли спланировать более глубокий охват обоих флангов группировки противни¬
ка. Бои шли непрерывно 11 суток. Японцы, как правило, в плен не сдавались,
многие из них предпочитали кончать жизнь самоубийством. Пленных было взято
немного и большинство среди них отказывалось что-либо говорить на допросах.
Враг был разбит, граница вновь восстановлена и взята под охрану погранични¬
ками. В наших войсках царило приподнятое настроение. Все радовались достигну¬
той победе. За успешно проведенную операцию я в числе других был награжден
орденом Красного Знамени и нагрудным памятным знаком, которые я до сих пор
с гордостью ношу.
69
Бои в районе Халхин-Гола были серьезной боевой проверкой для нашей артил¬
лерии, как и для других родов войск. Оказалось, что советская артиллерия пре¬
восходит японскую во всех отношениях. Многие японские образцы артиллерий¬
ского вооружения значительно уступали по своим качественным показателям
нашим артиллерийским системам. Снова, как и в боях в Испании, подтвердились
важнейшие положения советской военной доктрины о применении всех родов
войск в современных операциях. Несмотря на бурное развитие авиации и танков,
роль наземной и зенитной артиллерии не только не умалилась, а еще более воз¬
росла.
Сразу после возвращения меня вызвал нарком обороны по итогам работы на
Халхин-Голе. Я доложил о силах противника, действиях наших частей, новых
способах ведения огня артиллерией. Неожиданно последовал вопрос:
— По донесениям, за время боев наши истребители сбили около 450 японских
самолетов. Правда это или нет?
Я оказался в затруднительном положении. Находясь все время на Хамар-Дабе,
господствующей высоте, я не раз видел как наши истребители сбивали японские
самолеты, но точных данных в моем распоряжении не было.
Ворошилов, видимо, понял мое замешательство и заключил:
— Можно быть удовлетворенными, если наша авиация сбила хотя бы половину
из этого числа.
Во время доклада в кабинет вошел управляющий делами наркомата Снегов
с какой-то срочной бумагой и, не обращая на меня внимания, попытался доло¬
жить наркому содержание документа. Ворошилов резко перебил вошедшего:
— Вы бы поздоровались с комкором Вороновым! Вы же хорошо знаете отку¬
да он прилетел! Нам не зазорно в ноги им поклониться по русскому обычаю за
победу, которую они одержали.
Снегов смущенно извинился, поздоровался и поздравил с победой. Мне и в
голову не могло прийти, сколь большое значение придавали в Москве победе
под Халхин-Голом!
Снова загремели пушки
В ноябре 1939 г. нарком обороны предложил мне выехать в войска Ленин¬
градского военного округа во главе большой комиссии в составе 30—40 специа¬
листов различных родов войск и служб для всесторонней проверки частей и
соединений с далеко идущими намерениями нашего командования.
Повсюду шли заинтересованные разговоры с личным составом по вопросам
боевого применения артиллерии в современной войне, об уроках боев в Испании
и на Халхин-Голе. Мы убеждали бойцов и командиров хорошо знать своего ве¬
роятного противника, объективно оценивать его силы, не зазнаваться, меньше
допускать условностей в боевой подготовке. Конечно, все понимали о каком
противнике идет речь. В одной из дивизий после беседы ко мне подошли нес¬
колько командиров и политработников. Они были не согласны с оценкой сил
наших вероятных противников. Но я вновь подтвердил свои слова и предложил
учесть их в практической работе.
Трагической явилась для этой дивизии недооценка сил противостоящего про¬
тивника: когда начались бои, она попала в окружение в лесах Карелии и понесла
большие потери. Среди погибших были отличные командиры артиллерийских
полков - Лукьянов и Яковлев.
Обстановка на советско-финляндской границе в эти дни становилась все более
напряженной, угрожающей. Шло сосредоточение войск с обеих сторон, участились
пограничные инциденты. Взаимные угрозы начали перерастать в открытый воен¬
ный конфликт. События развивались все стремительней.
30 ноября, после короткой артиллерийской подготовки, наши изготовившиеся
70
войска перешли границу, нанося главный удар на Карельском перешейке, и стали
медленно продвигаться вперед. Впервые наши части и соединения встретили глу¬
бокие полосы противотанковых препятствий, гранитные надолбы, противотанко¬
вые рвы, мощные лесные завалы. Все это становилось серьезным препятствием
для наших танков. Финская пехота, хорошо применялась к местности, создавала
мощную завесу ружейно-пулеметного огня, в системе которого широко исполь¬
зовался автоматный огонь. Выяснилось, что известный нам автомат ’’Суомй”
внедрен во всех финских подразделениях и частях.
В прошлом мы серьезно недооценили эффективность применения пехотой ав¬
томатного оружия, считая его лишь пригодным для полицейских акций. Теперь,
столкнувшись с широким применением автоматов в финской армии, мы горько
сожалели об этих просчетах.
Во время советско-финляндской войны началось лихорадочное конструирова¬
ние и производство советских автоматов. Наш первенец пистолет-пулемет Шпаги¬
на1 * * * * * 8 (ППШ) с большим энтузиазмом был встречен в войсках.
В декабре 1939г., когда я был вызван в Москву с докладом, один из первых
опытных образцов автоматов ППШ был вручен мне Сталиным. Он предложил
всегда иметь при себе это оружие для самообороны. После войны я сдал автомат
в артиллерийский музей.
Наши войска подошли к линии Маннергейма19 и неожиданно натолкнулись
на прочную и разветвленную систему опорных пунктов и инженерных сооруже¬
ний. Взять с ходу их не удалось и части стали отводиться к штурму, проделав
большую подготовку к этой операции.
В этот год стояла суровая зима с сильными морозами и туманами, с обиль¬
ными снегопадами, к чему мы полностью оказались не подготовленными. Все
мучительно страдали от морозов в густых лесах Карельского перешейка, пока
не оборудовали блиндажи и землянки и не дождались необходимого теплого
обмундирования.
29 декабря 1939 г. я присутствовал в Кремле при обсуждении вопроса о том,
как потеплее одеть войска. Суконный головной убор командира и красноармей¬
ца, так называемая ’’буденновка”, заменялся, по предложению Сталина, сибир¬
ской шапкой-ушанкой. Он тут же позвонил по телефону секретарю Новосибир¬
ского обкома и дал срочный заказ на 150-200 тыс. шапок-ушанок. В конце раз¬
говора иронически сказал ему:
— Заказчик богатый — наркомат обороны — за все вам заплатит!
Тут же был решен вопрос о выдаче всем фронтовикам с 1 января 1940 г.
ежедневно по 100 грамм водки и 50 грамм сала для борьбы с холодом, но сама
выдача водки явилась событием неординарным в Красной Армии.
Было ясно, что наша задержка с наступлением будет длительной. Мы, к сожа¬
лению, ранее плохо знали линию Маннергейма. Как ни пытались некоторые части
’’прогрызать” оборону противника на отдельных участках, ничего путного не полу¬
чалось, кроме неоправданных потерь. Начался вынужденный и длительный период
тщательной разведки и анализа вражеской долговременной обороны, для эффек¬
тивного ее преодоления.
Финская артиллерия была гораздо слабее нашей. На ее вооружении имелись в
большом количестве еще старые образцы русской артиллерии. Вела она огонь
урывками с таким расчетом, чтобы мы не могли ее засечь средствами артилле¬
1*Шпагин, Георгий Васильевич (1897-1952) - конструктор стрелкового оружия. В 1940г.
разработал пистолет-пулемет ППШ (вес - 4,1 кг, боевая скорострельность - 100 выстрелов
в минуту, дальность убойного действия - 800 м). В начале 1941 г. появился на вооружении
в войсках.
1 ’Линия Маннергейма - система долговременных фортификационных сооружений и за¬
граждений финнов на Карельском перешейке.
71
рийской разведки. Наши войска почти не имели потерь от огня финской артил¬
лерии.
На этот раз кропотливо разрабатывался план прорыва линии Маннергейма.
Большое внимание уделялось стрельбе прямой наводкой отдельных орудий тя¬
желой артиллерии по железобетонным и дерево-земляным сооружениям. Артилле¬
ристы настойчиво овладевали приемами стрельбы прямой наводкой по амбразу¬
рам противника.
Важное значение придавалось боевому применению артиллерии большой и осо¬
бой мощности. Этот вид артиллерии впервые получал боевое крещение. Разрабо¬
танная теория стрельбы на разрушение, а также тактика действий этой артилле¬
рии должны были теперь пройти боевую практику в тяжелейших зимних условиях.
В те дни я представлял наркому обороны свой детально разработанный доклад
с конкретными предложениями по прорыву линии Маннергейма. Доклад был
одобрен и рекомендован командованию для практического использования. В нем,
в частности, говорилось:
’’Для правильного руководства артиллерийскими массами нужны старшие и
высшие артиллерийские начальники - командиры (а не выдуманные Генштабом
бесправные ’’инспекторы” с помощниками) с полнокровными артиллерийскими
штабами... Нужны командиры-начальники, которые должны быть правой рукой
у общевойскового командира. ’’Инспектор” в бою сродни в глазах подчиненных
’’интенданту” ”.
Я отмечал также, что молодые командиры-артиллеристы, окончившие училища
в 1938—1939 гг., действуют в боях уверенно. Младшим командирам надо дать
больше прав, их следует тщательно готовить, воспитывать своего рода ’’фейер¬
веркеров” (унтер-офицерское звание в артиллерии русской армии).
Перед штурмом линии Маннергейма мы не применяли дымовых снарядов с
нейтральными дымами, боясь, как бы противник не принял их за химические. Я
предложил широко их использовать. Однако это не было сделано. Снаряды с ней¬
тральными дымами стали применяться лишь в боях с немецко-фашистскими за¬
хватчиками.
Через несколько дней я получил пакет от Ворошилова, в котором оказалось
личное письмо на его имя от бывшего инспектора артиллерии Красной Армии из¬
вестного артиллерийского теоретика Ю.М. Шейдемана, находившегося в отстав¬
ке. Он в начале ЗО-х годов всесторонне разработал теорию контрбатарейной борь¬
бы, которая успешно практиковалась в боевой подготовке артиллерийских под¬
разделений и частей. Шейдеман был обеспокоен замедленными темпами наступле¬
ния на Карельском перешейке и решил поделиться своим боевым опытом по про¬
рыву укрепленных полос на русско-германском фронте в первой мировой войне.
На письме была резолюция наркома: ’’Учесть предложения Ю.М. Шейдемана в прак¬
тической работе”.
Я созвал совещание старших артиллерийских начальников. Письмо Шейдемана
было внимательно обсуждено. Все рекомендации автора уже были учтены в нашей
боевой работе по подготовке прорыва. Тем не менее мы решили тепло поблагода¬
рить уважаемого нами автора письма за его добрые советы.
11 февраля 1939 г. началась мощная и продолжительная артиллерийская и авиа¬
ционная подготовка с большим периодом для разрушения долговременных соору¬
жений, проделывания проходов в препятствиях и минных полях Противник
понес значительный урон. Медленно, но верно войска взламывали главную полосу
обороны финнов, преодолевая их упорное сопротивление. В течение 12 и 13 февра¬
ля оборона противника была, наконец, прорвана, особенно тяжелые бои развер¬
нулись в районе Суммы. Для чего потребовалась повторная артиллерийская и авиа¬
ционная подготовка на этом участке фронта. В передовых частях пехоты нахо¬
дились наши артиллерийские наблюдатели, которые были надежно связаны с на¬
ступающей пехотой и со своими батареями.
72
После эффективного огня артиллерии и ударов авиации, пехота и танки стали
успешно продвигаться в глубину обороны. Противник начал отход - его фланги
оказались под угрозой окружения.
На следующий день рано утром я поехал осматривать захваченный опорный
пункт и его сооружения. Вокруг было оставлено противником много мин. На
моих глазах подорвалось несколько наших автомашин. Мне очень хотелось осмот¬
реть два наших опытных танка новейшего образца, застрявших в расположении
противника во время проведения операции. Использование этих единственных
образцов было серьезной ошибкой начальника бронетанковых войск комкора
Павлова.
К исходу 1 марта наступающие войска, успешно преодолев всю глубину оборо¬
ны противника, вышли к Выборгскому укрепленному району. 11 марта после
артиллерийской подготовки и авиационных ударов войска перешли в решитель¬
ное наступление, овладели Выборгом и подошли к Сайменскому каналу.
12 марта в Москве был подписан мирный договор с Финляндией. В конце марта,
после Пленума ЦК партии, на котором обсуждались итоги войны с Финляндией,
состоялось заседание Главного Военного Совета с участием командующих армий,
командиров корпусов и дивизий. Резвернулась острая критика недостатков,
обнаружившихся в ходе боев. Все с огорчением признавали, что завоевание победы
стоило нам больших жертв. Войска еще не научились гибко и умело использовать
новую технику и вооружение. Явно не хватало минометов и автоматов - ближний
огонь пехоты оказался слабым. Резко критиковалась лыяатая подготовка войск,
громоздкая организация дивизий, нечеткая работа была и автомобильно-дорожной
службы. Войска были плохо обучены действиям в лесах в условиях сильных мо¬
розов и бездорожья.
Главный Военный Совет предложил всесторонне учесть боевой опыт, накоплен¬
ный на Хасане, Халхин-Голе и Карельском перешейке. Совершенствовать воору¬
жение, улучшать организацию и обучение войск, переработать уставы и наставле¬
ния в соответствии с требованиями современной войны.
На этом заседании выступил Сталин, где он впервые назвал советскую артилле¬
рию богом войны. Во время перерыва он подошел ко мне и Павлову со словами:
— Почему вы оба не выступаете?
Мы ответили, что записались в список ораторов, но слова нам никак не дают.
Вскоре Ворошилов назвал мою фамилию. Я говорил о путях дальнейшего разви¬
тия артиллерии.
После этого заседания мы, артиллеристы, еще настойчивее взялись за совер¬
шенствование воинского мастерства, лучшее оперативно-тактическое применение
всех видов и калибров артиллерии, повышение точности стрельбы, подготовку
артиллерийских кадров.
Особенно много забот возникло с улучшением материальной части артиллерии.
Ряд образцов орудий подверглись значительному усовершенствованию, которое
себя полностью оправдало, что подтвердилось в Великой Отечественной войне.
Суровое испытание прошла материальная часть артиллерии большой и особой
мощности, показав себя с самой хорошей стороны. Начался период разработки
нового полевого устава, основанного на боевом опыте последнего времени.
Правительство высоко оценило мою работу во время войны — я был награжден
орденом Ленина и мне было присвоено очередное воинское звание командарм
2-го ранга, которое считалось общевойсковым и представителям других родов
войск присваивалось крайне редко.
В КАНУН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
После завершения советско-финляндской войны артиллерия стала пополнять¬
ся новыми видами вооружения и боевой техники. Артиллерийский комитет,
73
ГАУ20 и главные управления военной промышленности всегда работали в самом
тесном контакте друг с другом. Сроки проектирования, изготовления и исполь¬
зования опытных образцов были очень краткими. Все стремились как можно
скорее оснастить Красную Армию наиболее эффективным и надежным оружием.
Часто выезжал на заводы, где производился первый опытный образец. Незабы¬
ваемы встречи с замечательными конструкторами, инженерами, техниками, масте¬
рами и рабочими. Обычно я стремился доходчиво разъяснить цель заказа и, если
было уместно, кратко ставил в известность о тех возможных боевых условиях, в
которых придется применять новый образец.
Важными событиями были заводские испытания этих образцов. На них в обяза¬
тельном порядке должны были присутствовать представители Арткома, ГАУ и
начальник артиллерии Красной Армии. Нередко и я бывал на этих испытаниях.
После заводских испытаний опытный образец направлялся на полигонные
испытания ГАУ. Это ’’священнодействие” начиналось с полной разборки орудия,
тщательного обмера его деталей и скрупулезной проверки соответствия каждой
детали рабочим чертежам. Испытания проводились в условиях, близких к боевой
обстановке — в лютый холод и жару, при дожде и пыли, в сильный ветер, днем
и ночью, на марше, по дорогам с разным покрытием и т. д.
Тот образец, который не выдерживал такие испытания, отправлялся на дора¬
ботку и весь процесс испытаний проводился снова. После успешных полигонных
испытаний заказывалась малая серия опытного образца, которая поступала уже
на войсковые испытания.
Серийная и в то же время строгая и надежная система разработки, производства
и проверки опытных образцов артиллерийского вооружения и боевой техники
вполне обеспечили оснащение артиллерии и других родов войск добротным ору¬
жием и техникой в нужных количествах и высокого боевого качества.
Конечно, много трудностей и недостатков встречалось на пути, допускалось
немало ошибок.
Много мне пришлось поработать в государственной комиссии по выявлению
причин невыполнения государственного задания по производству 500 122-мм
гаубиц образца 1938 г. на заводе № 92. Один из лучших директоров заводов по
производству артиллерийского вооружения А.С. Елян и главный конструктор
этого завода В.Г. Грабин с большой неохотой взялись за выполнение задания и,
прикрываясь рядом объективных причин, не спешили с выполнением срочного
заказа. Оба также не выразили особого удовлетворения по поводу приезда нашей
комиссии на завод. Но через два-три часа совместной работы поняли важность и
срочность задания и нашей миссии. Дружно и по-деловому были приняты многие
важные решения, установлены новые сроки выполнения важного заказа. Случа¬
лись и такие досадные эпизоды в повседневной работе!
После войны с Финляндией летом 1940 г. мне окольными путями стало из¬
вестно, что заместитель наркома обороны, начальник ГАУ Г.И Кулик и замести¬
тель начальника Генерального штаба И.В. Смородинов разрабатывают проект
ликвидации должности начальника артиллерии Красной Армии и его аппарата и
передачи этих функций в ГАУ. Когда я напрямик спросил их об этом, они отве¬
тили, что я кем-то введен в заблуждение.
У меня не укладывались в голове эти неразумные предложения. Ведь только
что закончилась советско-финляндская война, которая полностью подтвердила
возросшие роль и значение артиллерии в современной войне.
Вскоре меня официально предупредили, что этот вопрос уже решен высшими
инстанциями. Я получил извещение прибыть на заседание правительства, хотя мне
не было сказано зачем.
20Главное артиллерийское управление - высший орган артиллерийского вооружения.
Создано в 1862 г. В Великую Отечественную войну заказы ГАУ по производству артиллерий¬
ского вооружения и боеприпасов выполняли более 1000 заводов.
74
Лишь охота ’’снимала” напряжение в работе. Румынии.
1946 г.
Главным докладчиком был И.В. Смородинов. Его дополнил Г.И. Кулик. На
стене висела большая схема организации нового ГАУ, где значилась должность
первого заместителя начальника ГАУ по боевой подготовке артиллерии и управ¬
ление боевой подготовки артиллерии. Все остальные функции начальника артил¬
лерии, видимо, поглощались Генеральным штабом.
Несмотря на мои резкие возражения против такой реорганизации, внесенное
предложение было принято. Начальником ГАУ был вновь утвержден Г.И. Кулик,
я — его первым заместителем, Г.К. Савченко — вторым, В.Д. Грендаль21 — треть¬
им. Совсем немного пришлось пробыть в новой должности Георгию Косьмичу
Савченко, осенью 1941 г. его жизнь трагически оборвалась усилиями органов
НКВД.
Моя работа в роли первого заместителя начальника ГАУ была не из легких и
требовала большого внимания и настороженности. Г.И. Кулик был малооргани¬
зованным, много мнившим о себе человеком, считавшим все свои действия не-
31 Грендаль, Владимир Давыдович (1884-1940) — генерал-полковник артиллерии, автор
научных работ. Видный теоретик стрельбы и боевого применения артиллерии. С 1938 г. за
меститель начальника ГАУ. Участник советско-финляндской войны 1939- 1940 гг., где коман
довал армией.
75
погрешимыми. Часто было трудно понять, что он думает, чего хочет и добивает¬
ся. Лучшим методом работы он считал держать в страхе своих подчиненных.
Как-то в очередном номере газеты ’’Красная Звезда” я прочел насторожившую
меня статью по стрельбе артиллерии за подписью начальника кафедры стрельбы
Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского Г.И. Блинова. Мне стало обид¬
но и стыдно за автора и академию. Я немедля побеседовал с ним. Он обещал
впредь не допускать подобных ошибок. Через 17 лет Г.И. Блинов сам напомнил
мне о своей статье и признался, что автором ее был другой крупный ученый-
артиллерист, а он лишь подписал ее, не читая. Видимо, они оба не являлись авто¬
рами, а прибегли к услугам какого-то третьего лица. В то время мне не очень
хотелось, чтобы на страницах печати разглашались наши артиллерийские тайны.
В январе - феврале 1941 г. нами проверялось качество артиллерийской под¬
готовки слушателей Военной академии им. М.В. Фрунзе. Выяснилось, что слуша¬
тели — общевойсковые командиры - слабо изучают вопросы боевого приме¬
нения артиллерии, ее вооружение и боевую технику. На вступительных экзаме¬
нах в академию к поступающим предъявлялись явно недостаточные требования
по артиллерийским вопросам, а в ходе учебы они изучались весьма поверхностно.
Эта проверка помогла руководству академии исправить крупные недостатки в
учебном процессе. Подготовка слушателей в артиллерийском отношении вскоре
заметно улучшилась.
В начале июня 1941 г. меня вызвал к себе секретарь ЦК А.А. Жданов, ведавший
оборонными вопросами, и неожиданно предложил перейти на новую для меня
должность начальника Главного управления противовоздушной обороны страны.
Мне очень не хотелось уходить из артиллерии, которой я отдал много лет своей
жизни и в которой чувствовал себя компетентным.
Жданов перечислил крупных военачальников, возглавлявших ПВО страны
(С.С. Каменев, А.И. Седякин, Е.С. Птухин, Г.М. Штерн). Помимо Г.М. Штерна
чудовищный удар вскоре обрушился на героя испанских боев Евгения Саввича
Птухина, который стал командующим авиацией Юго-Западного фронта и на пятый
день войны бесследно исчез в зловещих подвалах Лубянки.
— И вы должны взяться за эту работу всерьез и надолго — добавил непреклонно
Жданов. - Вообще-то, вверху все предрешено и мы ждем только вашего согласия.
- А если его не будет? — спросил я невольно. Он, не задумываясь,спокойно
парировал:
— Все равно вы будете назначены, Николай Николаевич.
Мне оставалось сказать, что я согласен.
Быстро состоялось решение. Начальником ГАУ был назначен начальник артил¬
лерии Киевского особого военного округа Н.Д. Яковлев.
19 июня, за трое суток до начала войны, я вступил в должность начальника ПВО
страны. В эти трое суток я, в сущности, был предоставлен самому себе. Мне и
моим ближайшим помощникам: Н.Н. Нагорному, А.А. Осипову, П.К. Смирнову,
пришлось, засучив рукава, взяться за оперативную подготовку очень важных до¬
кументов по руководству ПВО, боевую подготовку и вопросы постоянной бое¬
вой готовности войск. За несколько дней нам прежде всего удалось добиться чет¬
кой и бесперебойной работы системы службы воздушного наблюдения, опове¬
щения и связи (ВНОС).
И это было сделано вовремя!
76
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ
Роковые просчеты
Война надвигалась... На душе в эти дни было очень тревожно. Множество объек¬
тивных данных свидетельствовало о том, что мы переживаем сложное и опасное
время. Война надвигалась с каждым часом — об этом сигнализировали донесения
с границы, сводки ВНОС, сообщения о перелетах немецких самолетов и т. д. А
в наркомате обороны мало обращали внимания на эти угрожающие симптомы
войны.
Важное значение имели полученные нашим правительством данные в декабре
1941 г. о передислокации 12-й немецкой армии в Румынии. Мне кажется, что наше
высшее военное командование должно было особо насторожить переданное нам
немецкое разъяснение, что передислокация этой армии будто бы вызвана высад¬
кой англичан в Греции!
Этот достоверный факт в сопоставлении с многими другими факторами, харак¬
теризовавшими лихорадочную подготовку в первые месяцы 1941 г. фашистской
Германии к войне с Советским Союзом, должен был обострить бдительность на¬
шего руководства, помочь правильно оценить военно-политическую обстановку
и внести конкретные предложения правительству о незамедлительных мерах по
усилению обороны советских западных границ.
Итак, Сталин и руководители наркомата обороны владели очень многими убе¬
дительными данными, полученными из разных источников, о грозящей Советско¬
му Союзу реальной опасности войны с фашистской Германией.
Но Сталин упорно и даже упрямо верил в заключенный с фашистской Герма¬
нией пакт о ненападении. Он слепо считал, что у фашистской Германии нет воз¬
можности начать против нас войну в 1941 г. Он предполагал, что война между
фашистской Германией и Советским Союзом может возникнуть только в резуль¬
тате провокаций со стороны фашистских военных реваншистов и более всего
боялся этих провокаций. Сталин, безусловно, совершил тогда тягчайшую ошиб¬
ку в оценке военно-политической обстановки, и по его вине наша страна оказалась
в смертельной опасности.
Немалая вина ложится и на руководство наркомата обороны, которое вовремя
не приняло ответственных решений и не проявило смелости, чтобы убедить Стали¬
на в реальности угрозы войны.
Я не могу себе представить, чтобы народный комиссар обороны, два его замес¬
тителя и начальник Генерального штаба (С.К. Тимошенко, Л.З. Мехлис, Г.Н Ку¬
лик и Г.К. Жуков) не смогли бы доложить и доказать Сталину о необходимости
немедленного принятия ряда экстремальных мероприятий, обеспечивающих высо¬
кую боевую готовность Советских Вооруженных Сил.
В первые часы войны началась лихорадочная работа. Были приняты чрезвы¬
чайные меры для противовоздушной обороны важнейших объектов, для разверты¬
вания резервных частей. Наркомат обороны отдал распоряжение о всеобщей мо¬
билизации.
В полдень по радио выступил В.М. Молотов, объявив о нападении фашистской
Германии на СССР: это был словно гром среди ясного неба. Вся страна мгновен¬
но пришла в движение, перестраиваясь на военный лад. Москва сразу стала до пре¬
дела возбужденной: толпы около уличных репродукторов, тысячи людей возвра¬
щающихся с загородных дач, переполненный транспорт. Многие ринулись на свои
фабрики, заводы, учреждения и институты, чтобы занять место в военном строю.
Выходной день, начавшись спокойствием безоблачного утра, превратился в тяж¬
кие часы всеобщей тревоги.
В войсках ПВО велись новые формирования, части и подразделения, понесшие
потери в первых боях, пополнялись и переформировывались. Особое внимание
77
обращалось на восстановление и укрепление службы ВНОС. Началась ускоренная
подготовка всех необходимых специальностей нужных для ПВО страны. Мы упор¬
но добивались скорейшей доставки на фронт требуемого количества вооружения
и боевой техники. Потребности были огромные, а возможности строго ограни¬
ченные.
Обстановка в ставке
Я редко видел Сталина в первые дни войны. Но каждый раз, когда я встречал
его, он был в подавленном состоянии, проявляя нервозность и нетерпеливость.
Чувствовалось, что он внутренне, конечно, очень переживал свою грубую и нетер¬
пимую ошибку в оценке военно-политической обстановки перед войной, но я ни¬
когда не слышал, чтобы он открыто признал ее. Он много работал й, когда ставил
задачи, часто требовал выполнения решений в невероятно короткие сроки.
В первые месяцы войны Сталин, мне казалось, рассчитывал на то, что удасться
не только остановить, но и быстро разбить фашистские войска с помощью контр¬
ударов. Позже он пришел к выводу, что следует заставить противника перейти к
обороне. Когда и этого сделать не удалось, он стал высказываться о необходи¬
мости обескровить вражеские полчища всеми нашими силами и средствами, чтобы
затем нанести им поражение. В первый период войны Сталин нередко единолично
принимал решения, не считаясь с предложениями Генерального штаба. Он резко
критиковал его действия, и многие руководители главных управлений нередко
даже избегали ссылаться на то, что их предложения согласованы с Генеральным
штабом, чтобы не навлечь на себя гнев Верховного.
В один из первых дней войны я был вызван на совещание к Н.А. Булганину,
которому было поручено заняться укреплением противовоздушной обороны
Москвы. Командующий истребительной авиацией Московской зоны ПВО требо¬
вал расширения и увеличения световых полей для обеспечения боевых действий
истребительной авиации в ночное время. Ему нужно было значительное коли¬
чество специальных мощных прожекторов, но они отсутствовали. Промышлен¬
ность не обеспечивала полностью нужды зенитной артиллерии. Кто-то предложил
использовать лежащие на складах устаревшие прожектора, которые были когда-то
на вооружении пехоты. Но для световых полей они совершенно не годились и
мне пришлось убеждать отказаться от них.
Разговор коснулся первых радиолокационных станций отечественного произ¬
водства ”РУС-1”. Их было всего четыре — в Москве, Ленинграде и Баку.
Я первый увидел единственный действующий макет такой станции в Ленин¬
граде в 1938 г. Почему она так медленно совершенствовалась и почему не было
налажено до войны их производство — мне неизвестно. Видимо потому, что ПВО
не всегда была в центре внимания руководителей наркомата обороны.
Внезапно меня вызвали в коридор. Здесь стоял озабоченный Ворошилов. Он
сообщил, что в эти минуты идет заседание ГКО, на котором разбираются вопросы
боеприпасов. Нарком вооружения Д.Ф. Устинов доложил ГКО, что трудности с
производством 76-мм снарядов и гильз происходят потому, что для каждого
вида орудий 76-мм калибра нужно иметь свои особые боеприпасы.
- Так ли обстоит дело у нас в действительности? Ведь вы должны знать. Дайте
мне справку по этому вопросу, — умоляюще просил Ворошилов.
Я с достаточной полнотой пояснил все, что знал. Мы расстались.
Снова командую артиллерией
19 июля 1941 г. в моем рабочем кабинете шло совещание. Внезапно раздался
звонок кремлевской ’’вертушки”. Я взял трубку и сказал как обычно: ’’Воронов
слушает”. В ответ услышал вопрос Сталина:
78
— Вы чем занимаетесь?
Я доложил.
— Сколько времени нужно, чтобы закончить совещание?
— Примерно 30 минут. Однако я могу приехать немедленно.
— Нет, вы заканчивайте свое совещание. Через полчаса я вас жду у себя.
Совещание завершилось через 20 минут. Я не знал по какому вопросу меня
вызывают, и поэтому на ходу подбирал наболевшие вопросы, чтобы их поставить,
пользуясь пребыванием в Кремле.
Главное управление ПВО помещалось тогда рядом с Красной площадью. Быст¬
рым шагом прошел в Кремль и явился точно в срок в кабинет Верховного.
Сталин был один. Как и положено, представился по-военному:
— Генерал-полковник артиллерии Воронов прибыл по вашему приказанию.
Он встретил меня в центре кабинета, протянул руку и совсем неожиданно
сказал:
— А я Сталин.
Предложив мне сесть, Сталин спросил:
— Считаете ли вы правильным, что находитесь на должности начальника Глав¬
ного управления ПВО? Правильно ли, что в такой большой войне у нас фактически
должность начальника артиллерии Красной Армии отсутствует?
Мне пришлось ответить, что поскольку в свое время было решение Политбюро
и правительства по этому вопросу, я должен считать это правильным. Сталин не¬
терпеливо перебил меня:
— Это вы мне говорите официально, я вас вызвал поговорить неофициально.
Хотел бы узнать по этому вопросу ваше личное мнение.
Я откровенно высказал Сталину, как тяжело переживал свой уход из артилле¬
рии, и подтвердил, что в Красной Армии, безусловно, нужно иметь начальника
артиллерии, который должен руководить и отвечать за этот огромный и мощный
род войск.
Сталин задал много вопросов, на которые я постарался ответить кратко, но
содержательно. Наша беседа велась по вопросам боевого применения артиллерии
и взаимодействия ее с другими родами войск. На этом, в сущности, разговор
завершился. Сталин вызвал двух членов ГКО - Молотова и Берию22 и кратко
рассказал им о нашей беседе. Предложил задать мне вопросы. Один из них спро¬
сил:
— Как могло случиться, что Красная Армия осталась без начальника артилле¬
рии, а наша артиллерия без руководителя? Когда и кем было принято такое
решение?
Недоумевая, я кратко доложил. Все были удовлетворены, и я был отпущен
со словами:
— Все ясно. Продолжайте работу. Нам нужно здесь самим разобраться и об¬
судить.
Беседа продолжалась более трех часов. Я устал от напряжения и с удовольст¬
вием дышал теперь свежим воздухом, переходя через Красную площадь. ’’Что
все это значит, - раздумывал я. — Почему понадобились мои разъяснения? Ведь
вами самими было принято такое ошибочное решение?”.
Прошло не более 40 минут после моего возвращения из Кремля, как раздал¬
ся звонок кремлевского телефона. Я взял трубку и услышал знакомый голос с
акцентом:
22Берия, Лаврентий Павлович (1899 1953) - партийный и государственный деятель,
совершивший тягчайшие преступления против советского народа, нарком внутренних дел
СССР (1938-1946). С 1941 г. заместитель председателя Совнаркома СССР. С июня 1941 г.
член ГКО. Член Политбюро ЦК партии (с 1946 г.). Под его руководством организовывались
ложные доносы и массовые расправы над безвинными жертвами - государственными и воен¬
ными деятелями. По приговору Верховного суда СССР расстрелян 23 декабря 1953 г.
79
- С вами говорит Сталин.
Он прочитал мне только что подписанное постановление ГКО ”0 восстановле¬
нии должности начальника артиллерии Красной Армии и о назначении на эту
должность генерал-полковника артиллерии Н.Н. Воронова”.
— Проект приказа, штат и положение вам надлежит доложить ГКО завтра, --
сказал в заключении Сталин. - У меня все. До свидания!
Ленинград в опасности
Тревожные дни переживал Ленинград. ГКО направил туда 21 августа 1941 г.
специальную комиссию для упорядочения руководства управления войсками
и организации обороны города. В состав ее входили В.М. Молотов, Г.М. Маленков,
А.Н. Косыгин, Н.Г. Кузнецов, П.Ф. Жигарев (командующий ВВС РККА) и я.
Работа комиссии в Ленинграде продолжалась десять напряженных суток. Она
предъявила ряд претензий Главкому Северо-Западного направления К.Е Воро¬
шилову, в том числе критиковалось создание ряда ненужных военных советов,
на которых много заседали и зря тратили время, не обеспечивая решительных
действий наших войск. Комиссия признала необходимой ликвидацию изжившего
себя Северо-Западного направления. Его должно было заменить командование и
военсовет Ленинградского фронта.
Фронт все более приближался к Ленинграду. Враг продолжал теснить наши
войска и явно стремился скорее замкнуть кольцо блокады вокруг города.
Я старался в эти тяжелые дни оказать действенную помощь в боевой работе
наземной артиллерии фронта и войскам ПВО. Особое внимание артиллерийских
командиров обращал на борьбу с танками противника в свете недавно разослан¬
ных документов. Были даны строжайшие указания о специальном наблюдении
за танками противника, о своевременном оповещении войск о танковой опас¬
ности, разработан порядок стрельбы по танкам с открытых и закрытых огневых
позиций.
Улетая с Ленинградского фронта в Москву, я был все же удовлетворен тем,
что артиллерия стала основным костяком в обороне Ленинграда. Личный состав
артиллерии проявлял мужество и упорство в боях, а фашистские войска от огня
наших орудий и минометов несли большие потери.
Я вернулся в Москву, но ненадолго. Новый командующий войсками Ленин¬
градского фронта Г.К. Жуков просил Ставку снова командировать меня в Ленин¬
град для оказания помощи при организации и проведения частных наступатель¬
ных операций, а также по дальнейшему усилению обороны города в артиллерий¬
ском отношении.
Ленинград уже находился в блокаде. Противник угрожал взять его штурмом.
Перелет из Москвы в Ленинград проходил днем.
На пути от аэродрома до Смольного я внимательно приглядывался к новому
облику города. Он уже жил по-военному. Окна домов ощерились амбразурами.
Всюду был порядок, никакой суматохи и паники. Подъезжая к Смольному, наша
автомашина нарушила правила уличного движения, раздался свисток милицио¬
нера. Им оказалась красивая белокурая землячка. Она сделала водителю серьез¬
ное предупреждение.
Не теряя времени, я встретился с начальником артиллерии фронта В.П. Свири¬
довым, скромным и авторитетным генералом. Мне сразу пришлось выслушать
многочисленные заявки в отношении большой потребности в артиллерии для
фронта. Меня это не удивило. Практика работы во время войны показала, что
всем всего мало, никогда не бывает много. Очень часто пресловутые ’’заявки”
составлялись подчиненными чисто бюрократическим путем без учета обстанов¬
ки и реальных возможностей. Так и тут получилось — заявки, представленные
мне, полностью не соответствовали обстановке в какой находился Ленинград¬
80
ский фронт уже потому, что подвоз тяжелых и многочисленных артиллерийских
грузов строго лимитировался ограниченными средствами доставки через беспо¬
койное Ладожское озеро.
Все эти просьбы и заявки начальника артиллерии я просил рассмотреть на Воен¬
ном совете фронта* который взял под строгий контроль Ладожскую военную ма¬
гистраль.
Были приняты решения на перевозки через Ладогу снарядов определенных ка¬
либров, взрывчатых веществ и порохов для производимых в Ленинграде боепри¬
пасов, а также конкретные виды артиллерийского вооружения для войск фронта.
Войска Ленинградского фронта предприняли в сентябре ряд частных наступа¬
тельных операций, но особых успехов не имели: сказывалось недостаточное уме¬
ние наступать с ограниченными целями, четко организовать взаимодействие в
бою основных родов войск, сочетать огонь и маневр. Эти операции тем не менее
сыграли немалое значение: во-первых, враг нес потери, наши активные действия
не давали немцам возможности снимать войска с Ленинградского фронта и пере¬
брасывать их на другие фронты; во-вторых, эти боевые действия послужили
хорошей школой для будущих крупных наступательных операций.
Враг прекратил попытки взять город штурмом, стал глубже зарываться в зем¬
лю, укреплять свои позиции дальнобойной артиллерией. Началась длительная,
затяжная контрбатарейная борьба, в которой ленинградские артиллеристы завое¬
вали славу незаурядных мастеров.
В Ленинграде я повидался с отцом, Николаем Терентьевичем, жившим на
улице Батенина на Выборгской стороне, где он учительствовал в школе, препода¬
вая русский язык. Он проявил кипучую энергию по эвакуации детей на ’’боль¬
шую землю”, но сам категорически отказался выехать в тыл страны.
В этот раз я провел 20 суток в осажденном городе.
Ночной разговор
В эти дни я в одной из дивизий случайно встретился с Г.К. Жуковым, коман¬
дующим Московским фронтом обороны, и теперь объезжающим боевые порядки
частей фронта. Он обратился ко мне с просьбой порекомендовать опытного коман¬
дира-артиллериста на должность начальника артиллерии фронта. Я назвал началь¬
ника Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского23 Л.А. Говорова24. Мое
предложение тут же приняли в Ставке и без промедления оформили приказом.
Внезапна я был вызван в Ставку для доклада о ходе проверки Московского
фронта обороны. Моя автомашина, ведомая водителем Каратаевым, стрелой по¬
летела в Москву. Вечером в тот же день я был в приемной Сталина в маленьком,
еле заметном особняке на улице Кирова. В приемной встретил А.И Микояна.
Он сказал, что Сталин меня ждет. Я вошел, поздоровался. Сталин был один. По
его указанию я начал свой краткий доклад о состоянии и боевой готовности час¬
тей и соединений, где я был.
Вдруг раздался заунывный сигнал воздушной тревоги. Я невольно остановился
и вопросительно посмотрел на Верховного. Он невозмутимо произнес:
- Продолжайте.
”Артиллерийская академия им. Ф.Э. Дзержинского образована в 1885 г. (Михайловская
артиллерийская академия). В советское время академия начала функционировать в 1919 г.
и стала важнейшим учебным и научным центром наземной артиллерии.
*4Говоров, Леонид Александрович (1897-1955) - Маршал Советского Союза. Во время
советско-финляндской войны 1939-1940 гг. возглавлял штаб артиллерии армии. В 1941 г.
начальник Артиллерийской академии. В Великую Отечественную войну командовал войска¬
ми Ленинградского фронта(1942-1945 гг.), талантливо осуществляя операции фронта. С
1948 г. командующий войсками ПВО страны.
81
- Я свой доклад продолжать не могу, дан сигнал воздушной тревоги, и вам по
закону надлежит пойти в убежище, - заключил я официально.
Сталин посмотрел на меня с удивлением и спросил:
- Разве это по закону?
Мне пришлось напомнить постановление, им самим подписанное.
— Ну, раз по закону, значит нужно его исполнять, — отшутился Сталин. — Про¬
должите свой доклад в убежище.
Налет авиации противника оказался очень продолжительным, отбой воздушной
тревоги последовал лишь около четырех часов утра. Мне пришлось пробыть в пра¬
вительственном убежище — станции метро ’’Кировская” — все это время. Я про¬
должал свой доклад Сталину.
Он проявил живой интерес к системе построения современной обороны. При
обсуждении этих вопросов он все время настойчиво выдвигал на первое место
значение наземной и зенитной артиллерии.
— Что могут значить рвы, эскарпы и контрэскарпы, если они не будут надежно
простреливаться хорошо организованным артиллерийским огнем?! - убежденно
говорил Сталин.
Беседа в бомбоубежище продолжалась. В эту ночь я подробно доложил о такти¬
ке и стрельбе нашей артиллерии. Сталин слушал внимательно, не перебивая. Задал
много вопросов.
Когда вошел А.С. Щербаков, секретарь городского комитета партии, с докла¬
дом о результатах бомбежки Москвы авиацией противника, я воспользовался
удобным случаем, незаметно вышел в соседнюю комнату и только тут почувство¬
вал, как сильно устал. К тому же я был ужасно голоден. Только я собрался ехать,
как вдруг вошел Сталин, посмотрел по сторонам, увидел меня. Поняв, что я ему
нужен, я встал. Он подошел и сказал:
— Что вы вскочили? Сидите.
Я по своей военной привычке продолжал стоять.
— Вот какая у вас выучка! Если вы не сядете, я уйду.
Я был вынужден сесть, но чувствовал себя очень неловко. Сталин ходил по
комнате и возобновил разговор об артиллерии, ее организации, вооружении и
боевом применении. Вскоре принесли чай с печеньем и даже бутылку сухого вина.
Беседа продолжалась с прежней непринужденностью.
Порой Сталин отвлекался на другие темы. Он вспомнил ’’Слово о полку Игоре-
ве”, прочел наизусть несколько мест оттуда на древнеславянском языке и перевел
малопонятные слова на современный русский язык. В продолжение этой тревож¬
ной ночи он несколько раз вызывал командование ПВО Москвы и с издевкой
спрашивал:
— Скоро вы закончите тревогу? Вы, наверное, видите один самолет на подсту¬
пах к Москве и не даете никому спокойно спать!
В эту ночь противник летал и бомбил очень много, но лишь несколько бомб
упало в черте города. Все остальные были сброшены на огневые позиции зенитной
артиллерии. Когда об этом доложили Сталину, он сказал в ответ, обращаясь ко
мне:
- Вот видите, как они охотятся за нашей артиллерией. Зенитчикам временами
приходится также туго, как и наземной артиллерии, ведущей непрерывную борь¬
бу на фронте.
Директива о применении артиллерии в обороне
Мне еще раз пришлось выехать по заданию Ставки на Западное направление в
24-ю армию, находившуюся в обороне в районе Вязьмы. Командующим артилле¬
рией этой армии являлся генерал-майор артиллерии Мошенин, которого в 1937 г.
без моего ведома и согласия назначили на должность начальника артиллерии
82
внутреннего округа. Он произвел на меня удручающее впечатление. Человек
заурядных знаний и способностей, суетливый и нервный, плохо руководил свои¬
ми подчиненными, неумело использовал свой штаб.
Я обратил внимание на множество недостатков в боевой работе артиллерии
армии и приказал генералу заняться их устранением.
Мог ли я тогда подумать, что начальник артиллерии армии Мошенин вскоре
потеряет честь генерала Красной Армии, окажется неслыханным трусом и преда¬
телем нашей Родины. Он докатился до того, что в критический момент боя сорвал
с себя генеральский китель, перекрестился и очутился в глубоких немецких
тылах в роли простого сапожника, хотя имел все возможности стать партизаном.
В этом качестве он и пробыл до прихода наших войск. Советские артиллеристы
никогда не смогут простить такое подлое предательство!
В конце июля 1941 г. по войскам была разослана директива Ставки по органи¬
зации боевого применения артиллерии в обороне, в основу которой был положен
ряд высказанных ранее мною соображений по данному вопросу. В ней содержа¬
лись указания по боевому применению артиллерии в борьбе с танковыми и мото¬
ризованными частями, артиллерией и авиацией противника. От артиллерийских
частей и подразделений требовалась постоянная готовность к открытию огня
как по атакующим танкам и мотопехоте противника прямой наводкой — с откры¬
тых позиций, так и по маршрутам движения танков, местах их сосредоточения,
рубежам развертывания — с закрытых позиций.
Директива Ставки требовала постоянной готовности всей артиллерии к стрель¬
бе по батареям и наблюдательным пунктам противника. Указывалось, что успех
борьбы с артиллерией противника в значительной мере зависит от устойчивости
боевых порядков нашей артиллерии. Это может быть достигнуто хорошим инже¬
нерным оборудованием и маскировкой, созданием большого количества запас¬
ных и ложных огневых позиций и наблюдательных пунктов.
Эта директива Ставки сыграла немаловажную организующую роль в оборони¬
тельных боях и операциях начального периода войны.
В июльские дни 1941 г., когда начали создаваться дивизии народного ополче¬
ния, я очень сомневался в их целесообразности. Ведь мы имели регулярную Крас¬
ную Армию с достаточными возможностями формирования стрелковых, танко¬
вых, кавалерийских, а затем и артиллерийских дивизий. Надо ли было скоропали¬
тельно создавать необученные и неподготовленные дивизии? Ополченцев следо¬
вало готовить в резервных частях, сделать кадровыми солдатами, а потом уже
направлять на фронт. Возникал и другой вопрос: стоило ли сосредоточивать в этих
необученных дивизиях столько ценнейших хозяйственных кадров, крупнейших
инженеров, деятелей науки и искусства?
Мое отрицательное отношение к формированию дивизий народного ополчения
ни у кого не нашло поддержки. Дальнейший ход войны показал, что мы потеряли
в этих дивизиях в 1941 г. лучшие кадры народного хозяйства, которые были край¬
не необходимы в последующие годы войны.
Враг приближается к Москве
На дальних подступах к Москве развернулись упорные бои. Наши войска под
сильным напором врага медленно отходили на Можайскую линию обороны. Фа¬
шистские войска удалось с трудом пока остановить на рубеже восточнее Волоко¬
ламска, Можайска, Малоярославца и Калуги.
Столица представляла в эти дни вооруженный лагерь. Все ненужное для оборо¬
ны было эвакуировано на восток. В штабе артиллерии шла напряженная работа
по новым формированиям артиллерии, восстановлению частей, потерявших бое¬
способность.
Мною было замечено во время разговоров по телефону с Верховным, что нас
83
подслушивают. Несколько раз Сталин после сильных щелчков в телефонной
трубке прекращал разговор или предлагал мне приехать для личного доклада.
Так случилось утром 3 октября, когда я вынужден был попросить разрешения
прибыть в Ставку с докладом. Меня сразу принял-Стал ин. Он стоял у стола и
возбужденно говорил с кем-то по телефону.
- Парашютисты? Сколько? Рота? А кто видел? Вы видели? А где высадились?
Вы - сумасшедший! Не может быть, не верю. Я говорю вам, не верю! Вы скоро
скажете, что на ваш кабинет тоже уже высадились!
Сталин с раздражением бросил трубку телефона и тут же пояснил свое состоя¬
ние:
- Вот уже несколько часов меня терзают слухами о немецких парашютистах,
не дают работать. Все основано на слухах, а сами не видели и понятия не имеют.
Болтуны и паникеры!
Во время моего доклада Сталину звонки о мнимых парашютистах противника
продолжались. Он уже не хотел слушать тревожные рапорты и отвечал, бросая
трубку:
- Вранье! Нужно судить таких злостных паникеров военно-полевым судом!
Через некоторое время я в разговоре со Сталиным по телефону доложил ему
о необходимости немедленной эвакуации Артиллерийской академии им.
Ф.Э. Дзержинского из Москвы на восток. Сталин сразу согласился. Проявив
инициативу, тут же добавил о целесообразности эвакуации еще двух академий -
воздушной и бронетанковой. И на это было получено согласие. Сталин приказал
передать от его имени распоряжение А.В. Хрулеву25, начальнику тыла Красной
Армии, что и было сделано в ту же секунду. Три академии были срочно эвакуиро¬
ваны в тыл.
13 октября я вечером докладывал в Ставке о готовности 20 противотанковых
артиллерийских полков. Попросил разрешения обратиться в Генеральный штаб
для подготовки директивы о том, куда и когда направить эти полки. Сталин по¬
смотрел на меня с удивлением и сказал:
- А кто там сейчас это может решить? Давайте сейчас здесь же примем решение
и отправим полки немедля на фронт. А вы должны проследить, чтобы полки
попали именно туда, куда они направляются Ставкой.
Тотчас же была развернута карта, и Верховный отметил на ней, куда напра¬
вить вновь сформированные противотанковые артиллерийские полки. Мною
было доложено также о переформируем ых, перевооружаемых и восстанавли¬
ваемых артиллерийских полках большой и особой мощности. Кажется, Сталин
был удовлетворен, что для обороны ближних подступов к Москве набралось
47 артиллерийских полков различных видов. Я торопился быстрее распорядить¬
ся об отправке на фронт артиллерийских резервов, поэтому попросил разреше¬
ния уйти, но мне было предложено подождать.
Когда многие уже вопросы в Ставке были решены, Сталин вдруг увидел мое
скучающее лицо и обратился ко мне со словами:
- Принято решение направить вас в Ленинград нашим полномочным предста¬
вителем. Вы подождите, пока вам вручат пакет особой важности для командова¬
ния Ленинградского фронта. Сейчас же позвоните П.Ф. Жигареву, чтобы он вы¬
делил завтра к рассвету самолет с хорошим экипажем и договоритесь с ним о
надежном прикрытии вашего самолета истребителями на всем пути Москва —
Ленинград.
Я хотел выйти в приемную и оттуда позвонить П.Ф. Жигареву, но мне было
сказано тут же при всех присутствующих переговорить о намечаемом перелете.
** Хрулев, Андрей Васильевич (1892-1962) - генерал армии. С 1940г. Главный интендант
Красной Армии. В Великую Отечественную войну заместитель наркома обороны - начальник
тыла Красной Армии, одновременно (с 1942 г.) нарком путей сообщения СССР.
84
П.Ф. Жигарев дал обещание выделить самолет типа ’’Дуглас” с надежным экипа¬
жем и прикрыть его истребителями, как приказано Верховным. Я немедля доло¬
жил Сталину об обещаниях Жигарева. В ответ было нетерпеливо произнесено:
- Позвоните снова Жигареву и расспросите его о порядке прикрытия истреби¬
телями.
Жигарев нарисовал схему прикрытия ’’Дугласа” пятеркой ’’ястребков”. Они
будут прикрывать ’’Дуглас” по этапам, от одного до другого пункта.
Все молчали. Сталин подошел к телефону и гневно обрушился на Жигарева,
считая такое прикрытие абсолютно ненадежным. Он приказал выделить для при¬
крытия самолета пятерку истребителей дальнего действия, которые могли бы
лететь без посадки в Ленинград.
Несколько часов оставалось до вылета. Я побывал в штабе артиллерии и поехал
на свою новую квартиру на Арбате, чтобы собраться и отдохнуть. Вскоре позво¬
нил Б.М. Шапошников26 и передал извинения Сталина, что он в суматохе дел со
мной не попрощался. Борис Михайлович передал его пожелания успехов в выпол¬
нении крайне ответственного задания. Я был немало удивлен таким вниманием,
так как никак не мог привыкнуть к резким переменам в поведении Верховного.
Окончание следует
авШапошников, Борис Михайлович (1882-1945) - Маршал Советского Союза. В 1937-
1940 гг. начальник Генштаба и заместитель наркома обороны. В Великую Отечественную
войну начальник Генштаба (июль 1941 - май 1942), заместитель наркома обороны (май
1942 - июнь 1943), начальник Военной академии Генштаба (1943-1945). Много сделал
для укрепления и совершенствования руководства Красной Армии. Автор теоретического
труда "Мозг армии".
85
Публикации
© 1991 г.
23 августа 1944 г. в РУМЫНИИ
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Бухарест, 23 августа 1944 г.
22 часа 30 минут. Измученная войной Румыния прильнула к репродукторам.
Звучит голос короля Михая. Он заявляет, что страна выходит из войны против
антигитлеровской коалиции и просит о перемирии.
23 часа. Нет гула моторов англо-американских самолетов, для которых бом¬
бардировка Бухареста при полном господстве союзной авиации в воздухе стала
обыденным делом. Площадь перед королевским дворцом полна; толпа ликует.
Юный король Михай выходит на балкон. Его приветствуют. Вооруженные силы -
все, до последнего взвода, выполняют королевский приказ: прекратить военные
действия против Советской Армии.
В советской исторической литературе день 23 августа 1944 г. рассматривался
как исходная точка народно-демократической революции. В Румынии его оценка
менялась в зависимости от той или иной политической конъюнктуры. Вначале фи¬
гурировал термин ’’исторический акт”, затем — ’’восстание”, ’’национальное вос¬
стание”, ’’антифашистское национальное вооруженное восстание”. 23 августа
объявлялось ’’днем освобождения Румынии Советской Армией от фашистского
гнета”. В 1969 г. была выпущена медаль в честь ”25-летия освобождения Родины”.
В последние годы диктатуры клана Чаушеску 23 августа стало считаться началом
’’антифашистской и антиимпериалистической революции социального и националь¬
ного освобождения”. Брат диктатора генерал Илие Чаушеску ”со товарищи”
выпустил книгу и множество статей, доказывая, что участие Румынии в анти¬
гитлеровской войне с осени 1944 г. сократило продолжительность этой войны
ровно на 208 дней (ни днем больше, ни днем меньше). Понятно, что такая трак¬
товка не оставляла места ни для воспоминаний об участии Румынии в войне
на стороне Германии, ни - тем более — для объективного анализа роли Совет¬
ской Армии в освобождении Румынии от гитлеровских войск.
Сейчас достоянием исследователей стали ранее тщательно скрывавшиеся доку¬
менты и находившиеся под запретом в Румынии труды. Открыты архивы. Пред¬
стоит кропотливая работа историков, и нетрудно предвидеть большой разброс
мнений. Об этом можно судить по высказываниям в румынской периодике; край¬
ние точки зрения выражены в формулах ’’день национального предательства” и
’’исторический спасительный акт короля и исторических партий” (т.е. национал-
либеральной и национал-царанистской). О коммунистической партии, сошед¬
шей ныне с политической сцены в Румынии, вообще не упоминается, и это неслу¬
чайно. Так что предстоят и исследовательская работа, и конфронтация мнений.
При этом, видимо, неизбежно влияние тех, кто определяет нынешние умонастрое¬
ния, что лишь затрудняет выяснение истины.
Цель публикации нижеприведенных документов - познакомить читателей со
свидетельствами современников и участников событий 23 августа. Одни из них
были известны давно, но затем прочно забыты и само напоминание о них стало
86
возможным лишь сейчас (вроде воспоминаний Лукрециу Патрашкану, впослед¬
ствии погибшего в тюремных застенках), другие появились недавно. Так, после
десятилетий уединенного проживания на вилле в Швейцарии экс-король Михай
был потревожен репортерами. Михай дважды пытался посетить Румынию; в пер¬
вый раз ему отказали в визе; во второй, когда он с семьей на частном самолете
приземлился в бухарестском аэропорту Отопень, его не пустили дальше аэро¬
дрома и отправили обратно на самолете государственной авиакомпании. Совсем
недавно достоянием общественности стали хранившиеся за семью печатями за¬
писки маршала Иона Антонеску, написанные в ночь его ареста карандашом на слу¬
чайно найденных, уже тогда пожелтевших листках старого блокнота.
Хронологическая канва событий, приведших к 23 августа 1944 г., выглядит
так1.
22 июня 1941 г. румынский диктатор генерал Ион Антонеску отдал приказ
войскам перейти границу по реке Прут и ’’разгромить врага на Востоке”. Король
Михай выразил ему признательность ”за радость пережить дни славы предков”
1 июля началось форсирование Прута.
На первых порах вступление в войну пользовалось определенной поддержкой
румынской общественности. Здесь, безусловно, сказалось отношение населения
к событиям июня 1940 г., когда в состав Советского Союза вошли Бессарабия
(оккупированная в 1918 г. румынскими войсками) и никогда не принадлежав¬
шая России Северная Буковина. Против СССР Румыния выставила второй по
численности после гитлеровского военный контингент. Ее армии воевали под
Одессой, в Крыму, на Дону, в Сталинграде и на Северном Кавказе — сражались там
и гибли. 15 ноября 1943 г. Антонеску, произведенный к тому времени в маршалы,
свидетельствовал в письме Гитлеру: ”В 1942 г. мы дали 26 дивизий с самым луч¬
шим вооружением и послали на фронт почти всю тяжелую артиллерию. На Дону
и под Сталинградом мы потеряли 18 дивизий, а остальные 8 дивизий были уничто¬
жены на Кубани. Мы потеряли 250 тыс. человек и вооружение 24 дивизий”. К на¬
чалу 1944 г. потери румынских войск на фронте достигли 660 тыс. человек2.
Поражения рассеивали шовинистический угар. Страна, истощенная войной
и обобранная гитлеровскими оккупантами, бедствовала. Нарастала оппозиция
режиму Антонеску. В армии ширилось дезертирство. Рабочие бастовали. Крестьяне
саботировали поставки продовольствия. Интеллигенция была обеспокоена судьбой
родины, увлекаемой диктатором в пропасть. Лидеры формально распущенных,
но продолжавших существовать ’’исторических партий” — национал-либеральной
(НЛП) и национал-царанистской (НЦП), прежде безоговорочно поддерживавшие
Антонеску, стали искать выход из тупика. Поначалу это проявилось в осуждении
безбрежно-завоевательной программы (освоение так называемой Транснистрии,
т.е. земель между Днестром и Бугом с центром в Одессе, и создание ’’Великой
Румынии”) и выдвижении ’’программы-минимум” (Бессарабия и Северная Буко¬
вина) . Позднее начался активный поиск выхода из надвигавшейся катастрофы
путем договоренности с Великобританией и США.
Разгром и пленение румынских армий в Сталинграде, бегство с Северного
Кавказа, поражение немецких войск в битве под Курском и Белгородом, выход
из войны Италии — все эти события 1943 г. показывали, что час расплаты для
румынских правителей близок.
1 Подробное изложение событий читатель найдет в книгах: История Румынии, 1918-1970 гг.
М., 1971; Антосяк А.В. В боях за свободу Румынии. М., 1974; Лебедев Н.И. Крах фашизма
в Румынии. М., 1976; Паклин НА. Крах диктатуры Антонеску. - Новая и новейшая история.
1976, № 3-4; Левит И.Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР. Кишинев,
1981; его же. Крах политики агрессии диктатуры Антонеску. Кишинев, 1983; Мунтян М.А.
Ясско-Кишиневское сражение и освобождение Румынии. - - Новая и новейшая история. 1984,
№4; Краткая история Румынии. М., 1987, и др.
2См. Новая и новейшая история, 1976, № 4, с. 95.
87
В грудах советских историков, опиравшихся на имевшиеся в их распоряже¬
нии материалы, организатором сопротивления режиму Антонеску неизменно пред¬
ставала Коммунистическая партия Румынии (КПР), находившаяся в подполье.
Видимо, ознакомление с новыми документами внесет уточнение в эти оценки
и расставит по местам все оппозиционные режиму Антонеску силы. Однако за¬
слуги коммунистов в патриотическом движении несомненны. КПР являлась
единственной политической силой, с самого начала выступавшей против союза
с гитлеризмом. Во второй половине 1943 г. по инициативе КПР возник Патриоти¬
ческий антигитлеровский фронт с участием нескольких демократических орга¬
низаций. Лидеры национал-либеральной и национал-царанистской партий в него
не вошли. Они уповали на то, что из войны удастся выйти с помощью Велико¬
британии и США, возлагая при этом надежды на так называемый балканский
вариант, выдвигавшийся английским премьер-министром Черчиллем. Послед¬
ний выступил с идеей удара в ’’мягкое подбрюшье Европы”, коим он считал
Балканы, рассчитывая, что силы западных держав, врезавшись клином в конти¬
нент, тем самым преградят Советской Армии путь как на Запад, так и на Балка¬
ны. Но этот план не был реализован. Успехи советских войск летом — осенью
1943 г. были так велики, а вероятность для англо-американской экспедиции
застрять на Балканах столь реальна, что возникла иная ’’угроза”: как бы ’’кра¬
сные” не добрались до Ла-Манша, пока англо-американцы распутывают балкан¬
ские узлы. На союзной конференции в Тегеране (конец 1943 г.) были согласова¬
ны сроки открытия второго фронта во Франции.
Лидеры румынских ’’исторических партий” развернули лихорадочную актив¬
ность по установлению контактов с западными союзниками СССР. Они направи¬
ли своих эмиссаров в Анкару и Каир, производили зондажи в Мадриде и Сток¬
гольме. Антонеску им не мешал и даже пытался подключиться к этим контактам.
Соблюдая союзническую лояльность, дипломаты Англии и США советовали в от¬
вет вступить в переговоры с правительством СССР.
27 марта 1944 г. Советская Армия перешла румынскую границу. 2 апреля Со¬
ветское правительство заявило: ’’Вступление советских войск в пределы Румынии
диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопро¬
тивлением войск противника” и ”не преследует цели приобретения какой-либо
части румынской территории или изменения существующего общественного
строя”3. 12 апреля В.М. Молотов предал гласности следующие условия пере¬
мирия с Румынией, воспринятые в мире как великодушные: разрыв с гитлеров¬
ской Германией и совместная с антигитлеровской коалицией борьба против нее;
восстановление довоенной советско-румынской границы; возмещение СССР
убытков, причиненных ему действиями румынских войск и оккупацией; осво¬
бождение союзных военнопленных; обеспечение союзным войскам свободы
передвижения по Румынии в соответствии с потребностями войны. В советском
заявлении говорилось о возвращении Румынии Северной Трансильвании, кото¬
рая осенью 1940 г. по решению Гитлера и Муссолини была передана Венгрии
(так называемый второй Венский арбитраж) .
Антонеску отверг эги предложения и объявил, что переходит к тотальной
войне. Но он уже не был хозяином положения в стране. В апреле 1944 г. комму¬
нисты и социал-демократы достигли соглашения о создании Единого рабочего
фронта. Тогда же 66 видных ученых, членов Академии и профессоров Бухарест¬
ского университета обратились к Антонеску с открытым письмом, призывая
немедленно прекратить войну. В июне был образован Национально-демократиче¬
ский блок (коммунисты, социалисты, царанисты, либералы), ставивший целью
добиться выхода Румынии из войны и присоединения ее к Объединенным Нациям,
3См. Краткая история Румынии, с. 395.
88
устранения Антонеску и установления в стране конституционного демократи¬
ческого режима. Но согласия между участниками блока не было, лидеры НЛП
и НЦП продолжали маневры, добиваясь сепаратного сговора с западными держа¬
вами и высадки в Румынии англо-американского десанта. В то же время они
пытались подвигнуть Антонеску согласиться на перемирие.
Королевское окружение давно уже утратило веру в победу гитлеровской
коалиции и занималось поисками выхода из тупика с сохранением института
монархии и династии Гогенцоллернов на престоле. Еще в 1943 г. король начал
зондировать почву, вступив через приближенных в контакт с реально или по¬
тенциально оппозиционными диктаторскому режиму кругами.
Критический момент наступил в августе 1944 г. 20 августа прорывом войск
2-го Украинского фронта началась Ясско-Кишиневская операция (’’Ясско-Киши¬
невские Канны”) против 900-тысячной группировки противника (25 немецких
и 22 румынских дивизии). Через три дня основная масса группы армий ’’Южная
Украина” была окружена и приступлено к ее уничтожению. 23 августа король
Михай вызвал во дворец вернувшегося с фронта Антонеску и потребовал не¬
медленно запросить перемирия. Тот сослался на то, что направил своего эмиссара
в Стокгольм, к А.М. Коллонтай, и просил подождать результатов (его курьер
задержался в Берлине и попал в Швецию уже после того, как историческое собы¬
тие свершилось).
Натолкнувшись на отказ маршала, король приказал его арестовать вместе
с присутствовавшим при встрече заместителем премьер-министра и его одно¬
фамильцем Михаем Антонеску. Обоих заточили в отдаленной комнате дворца.
Затем состоялась беседа короля с немецкими генералами и послом Германии,
которым Михай обещал беспрепятственный вывод германских войск из Румынии.
Акция короля по прекращению военных действий имела огромное значение:
по конституции он являлся верховным главнокомандующим вооруженных сил
страны и армия безоговорочно выполнила приказ о прекращении огня. Насколько
глубок был кризис военно-фашистского режима, видно из того, что ни одно
воинское подразделение не выступило на защиту свергнутого диктатора. На¬
чавшееся 23 августа 1944 г. восстание было направлено против гитлеровских
оккупантов. Гитлер в^ярости отдал приказ — наказать ’’страну-изменницу”.
Обо всех событиях, происходивших тогда в Румынии, живо и красочно рас¬
сказывается в приводимых ниже документальных материалах. Все они, кроме
интервью экс-короля Михая, помещенного в ’’Ромыниа литерарэ” (1990,№34),
взяты из журнала ’’Магазин историк” (Бухарест), № 8 за 1990 г., опублико¬
вавшего большую подборку документов о событиях 23 августа. В нее вошли
неизвестные архивные материалы (№ 1 и 2), недавно обнаруженные и напеча¬
танные документы (№ 4), а также свидетельства участников этих событий -
лидеров основных политических партий Румынии, извлеченные из прессы 1944-
1946 гг. (№ 5). Расшифровка сокращений и пояснения в тексте (в квадратных
скобках), а также подстрочные примечания даны публикаторами журнала.
Публикуемые документы обладают всеми достоинствами и всеми недостатка¬
ми свидетельств очевидцев. Они облекают историю в живую ткань личных впе¬
чатлений, восстанавливают забытые или скрытые детали. В то же время каждый
автор стирается представить в наиболее выгодном свете собственную персону,
выпятить одни и ’’забыть” или скрыть другие обстоятельства.
Так, экс-король в своих воспоминаниях без излишней скромности приписы¬
вает себе все заслуги в подготовке акта 23 августа. По понятным причинам боль¬
ше всего от него достается коммунистам: их ’’как бы не существовало” в стра¬
не, заявляет он.
Численность партии в то время действительно была небольшой. Однако в пе¬
реломные эпохи влияние той или иной политической организации определяется
не численностью, а ее престижем, а КПР выступала перед общественностью как
89
наиболее последовательный и бескомпромиссный борец против гитлеризма и
диктатуры Антонеску; она представлялась естественным связующим звеном
с Советским Союзом, окруженным ореолом победителя и освободителя. Поэтому
вхождение представителей КПР в Военный комитет для непосредственной под¬
готовки восстания являлось естественным и закономерным. ’’Забывчивость”
Михай проявил и в том, что касается участия в событиях Национально-демокра¬
тического блока: его представителей якобы ’’нигде нельзя было найти, потому
что они разъехались, затерялись... Я оставался один”. Поденные записи королев¬
ского адъютанта свидетельствуют совсем об ином. В них фигурируют как активно
действующие лица руководители коммунистов (Л. Патрашкану, Э. Боднараш),
социал-демократов (К. Петреску).
Составленная Ионом Антонеску в ночь ареста записка — документ уникальный.
Он написан явно для ’’истории”, а не для выяснения истины. Эк с-маршал, человек,
подведший страну к пропасти национальной катастрофы, характеризует себя
как патриота, страдальца за родную землю и миролюбца. Правда, отстаиваемые им
условия мира — даже не ’’статус-кво анте беллум”, а такие, которые могут на¬
вязываться лишь побежденному врагу.
Итак, главные действующие лица событий 23 августа 1944 г.:
Король Михай. В свои 22 года он во второй раз занимал престол. В первый
раз — в 1927 г. пятилетним ребенком после изгнания из страны его отца Кароля.
В 1930 г. Кароль вернулся на родину и Михай стал престолонаследником с ти¬
тулом великого воеводы. Осенью 1940 г., после того как Северная Трансильвания
решением Гитлера была передана Венгрии, Кароль вторично удалился в эмигра¬
цию. 18-летний Михай стал монархической ширмой для военно-фашистской дикта¬
туры Антонеску.
Маршал Ион Антонеску. 62 года. Осенью 1940 г. стал премьер-министром
по форме и диктатором страны по существу. Королевским указом ему был
присвоен титул ’’кондук это рула” — фюрера, вождя нации. Активно способствовал
вовлечению Румынии в союз с гитлеровской Германией и войну против СССР.
Михай Антонеску, вице-премьер и министр иностранных дел.
Лукрециу Патрашкану и Эмил Боднараш (’’инженер Чаушу”) - члены руко¬
водства Коммунистической партии Румынии.
Константин (Дину) Брэтиану и Георге (Джордже) Брэтиану - лидеры офи¬
циально распущенной, но продолжавшей существовать национал-либеральной
партии, представители могущественного семейства Брэтиану.
Константин (Тител) Петреску — руководитель социал-демократической партии.
Юлиу Маниу - лидер национал-царанистской партии.
Румынский народ и румынская армия.
Советская Армия.
Все нижеприводимые документальные материалы переданы в редакцию послом
Румынии в СССР господином Василе Шандру. В СССР публикуются впервые.
Перевод на русский язык С.Е. Субботиной.
В.Н. Виноградов
90
№ 1
Записи королевского адъютанта полковника Эмилиана Ионеску
в регистрационной книге аудиенций королевского дворца Румынии
за 22—24 августа 1944 г.
Вторник, 22 августа
12. [часов]. Аудиенция господина Атта Константинеску, министра связи.
13. Обед: корпусной г [енерал] Санатеску, г-н Стырчя, г-н М. Иоанициу.
17. Е.в-во король совершает прогулку на машине в Скровиште в сопровожде¬
нии адъют. полк-ка Эмилиана Ионеску.
20. Ужин: г-н корпусной генерал-адъют. Санатеску, г-н Стырчя.
22. Аудиенция: г-н ген-л А. Алдя, г-н Патрашкану, г-н ген-л Антон, г-н полк-к
Дамачяну, г-н Стырчя, г-н ген-л Санатеску, г-н ком-дор Удриски.
Среда, 23 августа
13. Обед: г-н ген-л Санатеску, г-н ген-л А. Алдя, г-н Бузешть, г-н Стырчя, г-н
М. Иоанициу и полк-к Эмилиан Ионеску.
15. Аудиенция господину Михаю Антонеску, вице-президенту Совета ми¬
нистров.
16.15. Аудиенция господину маршалу Антонеску, вождю нации.
17.30. Господа маршал Антонеску и Михай Антонеску арестованы в задней
части дворца, в ’’Каса Ноуа”. Провозглашается падение правительства и смена
режима Антонеску.
18. Вызваны и арестованы в задней части королевского дворца господа: гене¬
рал Василиу, бывший зам. государственного секретаря по внутренним делам,
генерал К. Пантази, бывший военный министр, полковник Элефтереску, бывший
префект полиции столицы.
18.24. В это же время в помещении Военного кабинета в присутствии е.в-ва
короля происходит процедура формирования нового правительства и составляют¬
ся Воззвание е.в-ва короля к стране, а также некоторые королевские указы:
об амнистии и назначениях на разные должности. В этой работе принимают участие
господа: корпусной генерал-адъютант Санатеску Константин, генерал Михай Г.,
генерал Алдя Аурел, генерал Литяну, генерал Антон, генерал Домбровски, Мо-
чони-Стырчя, Никулеску-Бузешть, Д.Д. Неджел, В. Василиу, полк. Уля, Бала-
чяну, Лукрециу Патрашкану, Тител Петреску, инж. Чаушу, В. Ионеску, дирек¬
тор] Радиовещания, Погоняну, подполк. Рауца, подполк. Никулеску Штефан
из Ген. штаба, ком-дор Удриски, кап.-ком. адъют. Гергел, Камил Думитреску и
другие — сотрудники Министерства иностранных дел, а также дежурный коро¬
левский адъютант полк-к Эмилиан Ионеску и майор Антон Думитреску, пом.
командира бат [альона] королевской охраны.
21. Аудиенция г-на министра [посла] Германии Киллингера.
21.30. Отпечатано Воззвание е.в-ва короля к стране.
22.30. Радиостанция оглашает румынскому народу королевское Воззвание.
23. Массовая демонстрация жителей Бухареста перед королевским дворцом;
е.в-во два раза выходил на балкон на фасаде дворца.
24. Е.в-во король принял на аудиенции группу английских офицеров, бывших
военнопленных.
Четверг, 24 августа
3.30. Е.в-во король на машине отправляется в Т[ыргу] Жиу по маршруту:
Александрия—Каракал—Крайова—Филиаш в сопровождении господ: М.Иоанициу,
капитан Верготти, ст. лейт-т рез. Негропонте, помощник командира батальона
91
королевской охраны майор Думитреску, дежурный адъютант полковник Эмилиан
Ионеску, консул Балачану и кап .-ком. адъют. Гергел,
7—9.30. Е.в-во со свитой задерживаются в окрестностях Крайовы, в деревне
Карчя. Адъют. полк-к Эмилиан Ионеску отправляется за бензином в Крайову.
14. Прибытие в Бумбешть. Е.в-во останавливается на квартире директора
Пиротехники.
18. Отъезд ее в-ва королевы из Синаи в сопровождении г-жи Нетти Катарджи и
полковника-адъютанта Босси.
21.30. Е.в-во король принимает на аудиенции господ генералов Манафу - ко¬
мандующего 1-м территориальным корпусом (Крайова) и Думитраке (коман¬
дира 2-й горной дивизии - Дева)
№2
Свидетельство генерала Георге Михаила*
В ноябре месяце 1943 г. я находился в Синае, когда однажды вечером, не
помню числа, меня вызвали в замок Фоишор к 10 часам вечера. Из дворца за
мной прислали машину, которая и отвезла меня в замок Фоишор. Там меня
встретили король Михай и его. мать, королева Елена; были только мы втроем.
Целью визита было желание короля сообщить, что он пытается совершить пере¬
ворот такого же рода, как в Италии в 1943 г., а конкретно — прекратить войну
против Советской России и перейти на сторону ее союзников. Он спросил, могу
ли я оказать услугу для выполнения этого намерения. Я сразу же ответил утвер¬
дительно. Тогда же он определил мою миссию с того дня, когда произойдет пере¬
ворот, а именно: должность начальника Генерального штаба армии и одновремен¬
но главнокомандующего всеми сухопутными, воздушными и морскими воору¬
женными силами страны в качестве его личного уполномоченного. Я полностью
согласился с его замыслом и принял назначение...
После ноября [1943 г.] меня еще два-три раза вызывали в королевский дворец
в Бухаресте на проспекте Виктории. Я не помню и, к сожалению, не записал ни
месяца, ни даты, когда ночью мне пришлось на машине, присланной из дворца,
приехать из Синаи в Бухарест. Еще один раз меня высадили у подножия холма
около улицы Шоймул. Разумеется, тогда, в разгар войны, было время тотальной
маскировки по всей стране. За мной пришла машина с номером 100, принадле¬
жащим сигуранце, с шофером по имени Наэ. От отвез меня ночью во дворец.
Чтобы обмануть вероятную слежку за мной и моими передвижениями, в моем
доме начиная с 10 часов вечера везде гасили свет и все укладывались спать, в том
числе и мой денщик, а в 11 часов я вставал, одевался и выходил встречать
машину. Так что никто, включая соседей, не знал о моих поездках, благодаря
чему меня никто не выдал. [...]
Я проделывал этот путь из Синаи в Бухарест ночью примерно раза два или
три. Там, во дворце, на совещаниях под председательством короля обычно при¬
нимали участие: начальник Военного кабинета короля Михая генерал Санатеску,
Дамачяну, Стырчя, маршал двора, Иоанициу, руководитель королевской кан¬
целярии, когда-то ходивший в школу вместе с королем. Почти всегда одни и
те же люди. И Патрашкану, чуть не забыл про него. Один раз, кажется, я видел
и Василиу Рашка ну. О чем там велась речь? Во время одного из заседаний, когда
присутствовали все, король подтвердил мое назначение начальником Генераль¬
* Библиотека Румынской Академии. Исторический архив. Документы и отчеты, относя¬
щиеся к присоединению Румынии к антигитлеровской коалиции. 1943-1947. т. II, с. 910-915.
92
ного штаба. Не знаю, какие функции он определил остальным присутствующим,
уже не помню.
Другой вопрос, который обсуждался, был арест Антонеску, потому что в бе¬
седе, проведенной со мной королем Михаем, одним из пунктов, который я должен
был выполнить, чтобы приступить к исполнению должности командующего, -
парализовать любые действия со стороны Антонеску. Я сам попросил об этом ~
следовало парализовать попытки любых действий Антонеску, чтобы облегчить
стоящую передо мной военную задачу.
Еще один вопрос, который я обсуждал с королем Михаем с глазу на глаз
(в Синае он принимал только меня одного), - необходимость, чтобы мне разъяс¬
нили, прежде чем я начну действовать, чтобы политики внесли ясность в вопрос,
каково реальное положение армии, на каких условиях наша армия переходит
к союзникам, иначе говоря, будем ли мы считаться побежденными и нас разо¬
ружат либо с нами обойдутся как с ’’соратниками” (как это слу1*илось с Ита¬
лией) , или как с союзниками. Я так никогда и не получил ответа на эти вопросы...
Забыл сказать, что в то же время, когда я участвовал в заговоре и проводил
совещания с королем, у меня состоялись две встречи на улице Извор, № 90, в квар¬
тире моего брата, врача-офтальмолога Михаила Думигру. В доме доктора Думитру
я два раза встречался с Патрашкану по его инициативе. Его отец - Димитрие
Патрашкану - был моим преподавателем истории в лицее в Бакэу; Лукрециу
Патрашкану в то время был маленьким мальчиком. Теперь он хотел со мной
познакомиться, и я назначил ему рандеву на улице Извор. Если его целью было
свести со мной знакомство, то моей - попросить его ввести меня в курс дела:
что намеревается делать коммунистический режим на румынской земле. Он мне
ответил. Я задал вопросы относительно короля, церкви и социальной стороны
жизни. Он сказал: ”С церковью мы не связываемся; с королем - все зависит от
того, как он будет себя вести”. Таков был повод для наших двух свиданий...
В день 23 августа, как обычно, пришла машина, и я поехал в Бухарест. Стояла
невыносимая жара, на мне был легкий штатский костюм. До Бухареста доехали
благополучно. На Дворцовой площади я вышел из машины — здесь было место
встречи для возвращения в Синаю. Когда я вышел из машины, передо мной по¬
явился подполковник кавалерии Хыржеску, бывший адъютант, кажется, гене¬
рала Иласьевича, с которым я был знаком. Он поздоровался и с улыбкой сказал:
- Поздравляю вас, господин генерал!
Я очень удивился: - С чем?
- Все говорят, что вы станете премьер-министром.
Следовательно, .в то время бухарестцы уже знали, что планируется возможный
переворот, однако я ответил:
— Ничего не знаю. Сразу же после обеда я с Джигурту выехал из Синаи, еду
повидать родителей, а потом здесь, в 9 часов, у меня встреча, и возвращаюсь
домой.
Пока мы разговаривали с Хыржеску, ко мне подошел офицер из охраны двор¬
ца, некто Стоэнеску Север, лейтенант, с которым я не был знаком. Напоминаю,
я был в цивильном.
— Господин генерал Михаил?
— Совершенно верно.
- Пожалуйте во дворец.
И я направился во дворец. Хыржеску распрощался, улыбаясь, как бы давая
мне понять: ’’Разве я вам не говорил? Раз уж вас приглашают во дворец, вероятно,
вы и премьер-министром станете”. Мы расстались.
Я вошел во дворец. Атмосфера в нем была очень напряженной: молчание,
тревога, беготня взад и вперед. Я огляделся; через некоторое время Санатеску
мне сказал: ”Во дворце арестован Антонеску”. Тогда я услышал об этом в первый
раз. Значит, арест Антонеску состоялся прежде, чем я попал во дворец. Не знаю,
93
ни кто это сделал, ни как это происходило. Меня это не интересовало. Поскольку
в аресте Антонеску я участия не принимал, это сделали другие, я не беру на себя
ничего из акции, проводившейся во дворце.
Как я уже говорил, атмосфера там была весьма накаленной. Только по про¬
шествии некоторого времени я смог спокойно переговорить с королем, и тогда
он отдал приказ по ведомству за № 1, который буквально гласил следующее
(я запомнил его так хорошо, что, кажется, вижу текст перед собой): ”Вы назна¬
чаетесь начальником Генерального штаба вооруженных сил (о чем я уже знал
из предшествовавших заседаний). Одновременно вам поручается от моего имени
руководить операциями всех сухопутных, воздушных и морских вооруженных
сил страны. Выдан в Бухаресте 23 августа 1944 г. Подписан: Михай, вторая под¬
пись — Санатеску, премьер-министр”. Тогда я и узнал, что премьер-министром
страны стал Санатеску.[...]
№3
Интервью бывшего короля Михая
журналистке Дойне Урикариу (газета "Ромыниа литерарэ")
Суббота, 4 мая 1990 г., 20 часов. Звоню у дверей дома в Версуа — населенном
пункте, расположенном в нескольких километрах от Женевы. Я не предупреждала
о своем визите. Звоню и несколько секунд жду. Со мной хороший знакомый,
румын Адриан Барбу, поселившийся в Швейцарии уже много лет назад. Он спра¬
шивает: ”Ты предварительно договорилась по телефону о встрече?” — ”Нет. Я не
знала, смогу ли приехать и, поскольку сегодня суббота, будет ли кто-нибудь дома.
Посмотрим”.
Дверь отворяется, и мы знакомимся с господином Константином Бранкованом,
который работает в Департаменте истории Манчестерского университета. Я пред¬
ставляюсь и сообщаю о своем намерении встретиться на следующий день, если
возможно, с его величеством королем Михаем. Мне хотелось бы взять у него
интервью для газеты ’’Ромыниа литерарэ”. Для ответа я оставляю номер теле¬
фона Адриана Барбу, он живет через несколько домов отсюда, на улице Тьерри.
На следующий день, 5 мая, нам сообщают, что мы можем прийти в 10 часов.
Приходим вовремя. Дверь широко распахнута. Нас принимает Константин Бран-
кован. Входим во двор, утопающий в зелени. Проходим в дом без сложного
протокола. Хозяева — его величество король Михай и его супруга Анна де Бурбон.
Константин Бранкован остается в комнате, где протекает беседа, время от вре¬
мени он вмешивается в разговор. На стенах — портреты членов семьи, на столе —
множество книг и журналов, семейные фотографии. Помещение полно света.
Часы с маятником показывают 10.20, завязывается оживленная беседа. Кофе.
Сок. Все очень непринужденно. Через какое-то время я прерываю разговор, чтобы
сфотографировать ряд документов. Анна де Бурбон помогает мне чувствовать
себя как дома. Иногда раздается щелчок зажигалки — кто-то прикуривает - или
звук от падения в чашку с кофе кусочка сахара. Обычный дом, люди, манеры и
поведение которых ничем особым не отличаются. Но для того, кто знает о про¬
шлом его хозяев, беседа 5 мая 1990 г. представляет собой документ, благодаря
которому можно лучше узнать историю Румынии.
Д.У.
— Ваше величество, прошу вас рассказать, как разворачивалось восстание 23 ав¬
густа 1944 г. О подписании конвенции о перемирии между Румынией и антигитле¬
ровской коалицией. Некоторые говорят, что это вы выдали Антонеску русским ...
советским ...
94
- Это совершенно неверно. Когда это произошло, меня даже там не было.
Насколько я помню, на следующий день, 24 августа, коммунистическая партия
во всех своих публикациях сообщила, что она заключила перемирие и сделала
уж не знаю, что еще. Моя роль была преуменьшена и принижена до такой степени,
что стала совсем незначительной, как будто меня не существовало! В конце кон¬
цов, они объяснили, что я, как говорится, примазываюсь к их успеху. Меня
представили чем-то вроде приложения к победе, которая фактически им не при¬
надлежала. Потому что на самом деле именно они были в стране незначительными.
Коммунистов как бы не существовало.
— Да, я тоже видела воззвание, напечатанное на следующий день, 24 августа
1944 г., в ’’Ромыниа либерэ”. Это было ваше воззвание. Когда был арестован
Ион Антонеску?
— Его арестовал я. В маленьком домике позади дворца...
— С кем он был? Ведь он был арестован вместе с ...
— Их было двое — Ика Антонеску и Михай Антонеску. Вся подготовка к выхо¬
ду из войны затевалась еще в начале 1943 г. Вместе с Юлиу Маниу и К. Брэтиану
я поднял этот вопрос и много раз обсуждал в течение года, однако наши воз¬
можности были ограниченны (и мы все это знали) ввиду того, что немцы тогда
еще были сильны и держали по всей стране крупные воинские соединения. Я
послал людей в Каир и Анкару с тем, чтобы обсудить с союзниками, т.е. англича¬
нами и американцами, всю подготовку. Но в определенный момент они заявили,
что не будут обсуждать с нами этот вопрос, если мы не введем в группировку
коммунистов и социал-демократов. А надо сказать, что в то время население
страны составляло 20 млн. человек, а членов коммунистической партии было
около 400. Всего лишь 400. Однако, ввиду такого заявления союзников, их сле¬
довало ввести, не так ли? Был создан Общий фронт с участием национал-царани-
стов, либералов, коммунистов и социал-демократов. В него вошли и Константин
Петреску, и Лукрециу Патрашкану, который был коммунистом. Тут русские
прорвали фронт, и, поскольку никто не хотел помочь нам выйти из войны достой¬
ным образом, нам пришлось ждать до последней возможности. Тем временем
немцы сформировали из румын бронетанковую дивизию и отправили ее в Польшу;
это придало нам решимости. Когда на севере Молдовы был прорван фронт, я ре¬
шил, что важный поворот будет осуществлен 26 августа. Я даже послал телеграм¬
му командованию союзников в Италии с просьбой к американцам произвести мас¬
сированные бомбардировки некоторых стратегических пунктов в окрестностях
Бухареста. Однако 21 или 22 августа я узнал, что Антонеску должен выехать на
фронт. Но если он поедет на фронт, я не увижу его, по меньшей мере, неделю.
-- Значит, откладывалась акция, назначенная на 26-е?
— Да. Следовательно, в связи с отъездом Антонеску потребовалось перенести
акцию на более ранний срок. Решено было назначить ее на 23-е. После полудня
предыдущего дня я вызвал его и Михая Антонеску, чтобы обсудить прежде всего
серьезность ситуации на фронте, а также попытаться заставить его согласиться
на перемирие. Обсуждение продолжалось полтора часа. Я приготовился, в случае
отказа, арестовать Антонеску и отстранить его от дел. Другого решения проблемы
не было. Во время разговора присутствовал генерал Санатеску, руководитель
Военного кабинета. Антонеску признал, что положение очень серьезно, но в его
планы не входит отступать. Я настойчиво потребовал покончить с этим поло¬
жением. Продолжать больше нельзя. Он недвусмысленно отказался. У меня сло¬
жилось впечатление, что военный союз с немцами для него более важен, нежели
интересы страны. Но тогда, если придут русские, советская армия пройдет по
нашей земле, как каток, превращая все в прах. Другого выхода, кроме его ареста,
у меня не было.
— Какие доводы приводил Антонеску?
— Ну, он сказал, что не хочет соглашаться ни на какое перемирие, поскольку
95
нет гарантий. Для него гарантиями было то, что Бессарабия остается нашей, а рус¬
ские не оккупируют страну. Он настаивал на обоих условиях. Так обстояло дело,
и исправить его, к сожалению, было нельзя. Поэтому необходимо было арестовать
его и отстранить от управления государством, причем арестовать обоих — и-за¬
местителя премьера тоже. Было сформировано правительство ’’специалистов”.
Следует добавить, что, поскольку пресловутая акция была перенесена на три дня
раньше, тех четверых, которые образовали группу, называемую демократиче¬
ской, т.е. Национально-демократический блок, нигде нельзя было найти, потому
что они разъехались, затерялись... Я оставался один. Кроме того, в условленное
время не было и бомбардировки. В конце концов, я все же сумел застать нем¬
цев врасплох: выступив по радио в 10 часов вечера с воззванием, я оповестил
о том, что произошло. Почти мгновенно Дворцовая площадь была заполнена
народом.
- Речь идет о королевском Воззвании, в котором вы говорили об освобожде¬
нии Трансильвании от чужеземной оккупации.
- После этого явился немецкий посол Киллингер, очень бесцеремонный и
наглый. Я сказал ему, чтоб он оставил нас в покое, так как это наши внутрен¬
ние дела.
- Я слышала, что он угрожал тем, что ’’Румыния будет превращена в лужу
крови”...
— Прибыл немецкий командующий, с которым я был знаком раньше. Я его
предупредил, что, если он тем или иным образом попытается предпринять что-либо
против нас, мы этого так не оставим, посему он должен забрать свои войска
и уйти. Между тем с некоторыми трудностями формировалось правительство,
так как непросто было собрать разбросанных по разным местам людей.
— Пользуясь своими прерогативами, вы назначили королевским указом Кон¬
стантина Санатеску на пост председателя Совета министров. Затем генерал своим
декретом назначил членов правительства.
- Они скорее были ’’техниками”... После моего заявления по радио во дворец
все-таки пришел Патрашкану и привел с собой одного человека, которого он
тогда называл инженером Чаушу, на самом деле его звали Боднараш. Когда Пат¬
рашкану вошел в дверь моего кабинета (мне кажется, я вижу его, как будто это
было вчера), он посмотрел на меня и воскликнул: ’’Что вы наделали, вы обрекли
нас на несчастья!” Буквально так! Тогда я не очень хорошо понял, что он хотел
этим сказать. Вот таким был день 23 августа. Вслед за тем некоторые офицеры
Генерального штаба очень настойчиво стали уговаривать меня уехать из Буха¬
реста, так как уже назавтра немцы наверняка начнут действовать. Так и случилось:
они бомбили дворец, разрушив ту его часть, где мы жили...
- Где вы жили?
— В небольшом доме из нескольких комнат в задней части дворца. Мне ка¬
жется, что теперь гам устроили что-то вроде большого конференц-центра. Там же,
рядом с домом, был маленький парк и церковь. Мы уехали в горы за Крайову
переждать в местечке под названием Добрица.
— Кто именно? С кем вы туда уехали?
— Кажется, вчетвером: мой адъютант, мой секретарь и еще двое или трое...
- А ваша семья?
- Мама находилась в Синае. Она приехала из Синаи прямо в Добрицу другой
дорогой. Следует добавить, что в любом случае предполагалось организовать
отряд охраны Антонеску. Однако, опять-таки из-за сдвига на три дня, Юлиу Маниу
и К. Брэтиану, которые должны были вместе с остальными это обеспечить, не
имели в своем распоряжении никого подходящего. Единственными, кто сумел
быстро организоваться, оказались, разумеется, люди из коммунистической партии.
Я узнал это, вернувшись в Бухарест недели через две. Боднараш со своей груп¬
пой захватил Антонеску и вывез под стражей в район, называемый Ватра Луми-
96
ноаса. Там находилась резиденция партии. Немного позднее, когда пришли рус¬
ские, Антонеску передали одному русскому генералу, который увез его в Москву
или под Москву...*
- Его выдали.
- Да. Его выдали очень скоро. А я находился в сбтне километров от Бухареста
и ничего не знал до момента возвращения. Позднее я слышал, будто русским
его выдал я. Это неправда.
— Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что 23 августа и в дальнейшем может
оставаться национальным днем Румынии?
— Мне кажется, что в этом вопросе допущено сильное преувеличение. Это —
не национальный праздник. Они, коммунисты, все успехи приписали себе, как
будто именно они всего добились, а потом превратили этот день в национальный
праздник. На самом деле это был политический акт, каких в нашей стране было
множество, но они никогда не становились национальными праздниками.
- Скажите, ваше величество, в период 1944-1947 гг. существовали моменты,
которые могли предвещать развязку, т.е. ваше отречение от престола в 1947 г.?
— Это был действительно очень печальный период, потому что мы...
— Только для вас или для истории Румынии?
— Нет, для всех. Потому что у нас были большие надежды. Молотов неодно¬
кратно заявлял, что они не стремятся к изменению режима, что уважают неза¬
висимость и прочее.
— Официальные заявления...
- Все это пустословие и обман. Но, поскольку они были союзниками англичан
и американцев, мы считали, что их обещаниям можно верить.
— Значит, были официальные заявления?
— Да. Американские бомбардировки, которые мы пережили, породили гору
бумаг с заявлениями Молотова. Иными словами, для нас это означало, что они
согласны взять на себя какую-то ответственность.
— Следовательно, они вас уверили, что в Румынии не произойдет никаких поли¬
тических изменений?
— Это они декларировали неоднократно. Ну, а результат известен. Если бы не
советская армия, возможно, и не случилось бы того, что последовало.
- А первые в Румынии после 1944 г. выборы?
- Они проводились в 1946 г. и были, можно сказать, фальсифицированы,
но в совершенно ином смысле, чем то, что обычно понимают под фальсифи¬
кацией. Просто они [коммунисты] заранее приготовили бюллетени с голо¬
сами. На выборах царанисты и либералы получили 80-85%, а на следующий день,
когда производился подсчет голосов, оказалось, что результат полностью противо¬
положен: 90% голосов за коммунистов. За ночь они изъяли все избирательные
бюллетени и подменили их.
- Скажите, пожалуйста, ваше величество, неужели все-таки никому не пока¬
залась нелепой история о том, как 400 членов Коммунистической партии Румынии
добились подобной ’’победы”?
— Причина этого - присутствие советской армии.
Константин Бранкован: — Ваше величество, может быть, вы расскажете о встре¬
че с Вышинским?
- Да, она произошла в марте 1945 г. Вышинский и раньше раза четыре высту-
*См.: Крикунов В.П. Разгром группы армий ’’Южная Украина”. - Военно-исторический
журнал. 1989. № 10. Здесь впервые приводится докладная командующего 2-м Украинским
фронтом Р.Я. Малиновского и члена Военного Совета фронта генерал-лейтенанта И.З. Су-
сайкова Верховному главнокомандующему Советскими Вооруженными Силами И.В. Сталину
от 2 сентября 1944 г., в которой говорится о переводе маршала Антонеску, находившегося
под охраной коммунистов на конспиративной квартире; на командный пункт 2-го Украин¬
ского фронта.
4 Новая и новейшая история, № 6
97
пал с различного рода измышлениями. Он говорил о демонстрациях и забастовках,
однако они были организованы им самим вместе с компартией с целью доказать
мне, что ситуация в Румынии представляет угрозу для русского фронта. Все это
выдумки, потому что в то время, в марте 1945 г., фронт уже переместился очень
далеко, в Венгрию. Подобные измышления служили им предлогом для сверже¬
ния, одного за другим, формируемых нами правительств. В марте Вышинский
приехал с протестом по поводу недопустимости сложившегося положения и
с предложением сменить правительство. В результате я попросил несколько дней
с тем, чтобы, как положено по конституции, провести консультации. Это вызвало
у него раздражение, поскольку не получалось так быстро, как ему хотелось, и
тогда он мне сказал, что считает единственной достойной доверия, с точки зрения
русских, кадидатуру Петру Гроза. А я (смеется) ему ответил, что подобные дела
так делать нельзя. Я должен придерживаться определенной конституционной про¬
цедуры. Мы с ним поспорили, и в итоге он разозлился, стукнул кулаком по столу
и вышел, так сильно хлопнув дверью, что треснула стена.
— Где? Какая стена?
- В моем кабинете. Слава богу, кроме стены, ничего не развалилось...
— Как при землетрясении... Скажите, как вы думаете, почему они остановились
на личности Гроза? Что представлял собой Гроза?
— Это вопрос неясный для меня до сих пор. Однако, поскольку они предпочи¬
тали, по обыкновению, всегда иметь под рукой какого-нибудь удобного деятеля,
то кто именно это фигура, не играло роли. Во всяком случае, Гроза был круп¬
ным собственником из Дева, мы были знакомы.
— Да, у него были акции, недвижимая собственность...
— И аферы, и тяжбы. Все сразу. Как бы то ни было, что-то в нем они нашли,
уж не знаю, что. Но могу себе представить. А тогда я тянул, сколько можно было,
и в конце-концов оказался в безвыходном положении, так как приехал Малинов¬
ский, председатель комиссии по перемирию. На следующий день он придвинул
русские танки: вместе с коммунистами армия начала устраивать бесконечные
демонстрации. Это ясно показало, что если мы не будем действовать так, как нам
диктуют, то они просто оккупируют всю страну и отстранят от власти любое
правительство. Поскольку выхода не было, пришлось назначить Гроза. Так все
произошло.
Константин Бранкован: — Затем последовала королевская забастовка.
— Это случилось позднее. Гроза был назначен 6 марта. К августу 1945 г. Англия
и Америка сделали официальное заявление, будто они не хотят заключать мирный
договор с Румынией, так как ее правительство не представительно. Разумеется,
правительство Гроза не было ни демократическим, ни представительным. Это
дало мне возможность что-то предпринять; я вызвал Гроза, объяснил, в чем
дело, но он ответил, что все это чепуха, шуточки. Я возразил, что для него, воз¬
можно, и шуточки, а для меня очень серьезно. Я попросил его подать в отставку,
чтобы предоставить мне возможность сформировать правительство.
— Представительное, которое бы признали...
— Он категорически отказался. С конституционной точки зрения это представ¬
ляло прямой конфликт между королем и нацией, если так можно выразиться.
Потом я составил документ, в котором четко разъяснил свою позицию. Два
экземпляра я передал ему, по одному отправил американцам и англичанам. При¬
гласив русского генерала Сусайкова, который тогда был помощником Малинов¬
ского, я вручил ему бумагу в руки и точно объяснил, о чем в ней идет речь.
Он несколько побледнел и ушел очень рассерженный. На следующий день он по¬
просил новой встречи и заявил, что мой поступок — акт недружелюбия, даже
враждебности по отношению к Советскому Союзу, что документ надо немедленно
отозвать и наказать лиц, несущих ответственность за передачу его американцам
и англичанам.
98
- Но ведь ответственность несли вы...
— Тогда я ответил, что документ передан мною, а если его расценивают как
враждебный по отношению к Советскому Союзу акт, мне очень жаль, но такова
ситуация. Разъяренный, он ушел. Это случилось, мне кажется, 21 или 22 августа
1945 г. Он снова попросил его принять и сказал, что 23 августа произойдет первая
большая праздничная демонстрация и мне необходимо на ней присутствовать.
Я отвечал, что при всем своем сожалении не могу прийти туда, где будет находить¬
ся правительство... Именно по этой причине я тогда оешил уехать в Синаю, чтобы
ничего общего не иметь с тем правительством. С августа до января я не подписал
ни одного указа. Это поведение назвали ’’королевской забастовкой”.
— Кто был рядом с вами в то время?
- Больше всего я консультировался, разумеется, с Тителем Петреску, Патраш-
кану, Маниу, Брэтиану, но были и другие лица, не входившие в партии. Кажется,
это была группа примерно из 10 человек.
- А самые близкие вам сотруднику?
- Мой личный секретарь и маршал двора. Моего секретаря зовут Мирча Иоани-
циу, он еще жив, маршал Неджел давно умер.
— Речь идет о Дмитрие Д. Неджеле, которого генерал Константин Санатеску
назначил государственным министром-секретарём Департамента сельского хо¬
зяйства и поместий?
— Да. Там были еще адъютанты, но они непосредственно не участвовали в де¬
лах. Все оказалось очень кратковременным.
- Как был ’’организован” ваш выезд из страны [ после отречения в 1947 г.]?
Вся антимонархическая пропаганда связывала ваш выезд с вывозом из страны
ценностей. Я знаю, что это клевета. Сейчас мы можем получить правдивую ин¬
формацию.
- О собственно ’’организации” я не знаю, видимо, ею занимался кто-то из двор¬
цового персонала. Как и у всех глав государства повсюду в мире, в нашем рас¬
поряжении всегда был один или два вагона. Из этих вагонов был сформирован
поезд. После того как меня заставили подписать акт об отречении от престола,
я вернулся в Синаю, чтобы заняться укладкой багажа. А они уже заранее органи¬
зовали комиссию. Когда мы выехали в Синаю, уже существовала комиссия, но
не по расследованию, а по контролю. Укладывая багаж■, моя мама ходила по
комнате, собирая вещи, а за ней неотступно следовали двое, не позволяя взять
даже пепельницу со стола. Нам разрешили взять только одежду и несколько
мелких вещиц личного пользования. При этом мне разрешили взять четыре маши¬
ны, но зато бесцеремонно обыскали весь наш багаж. Они составили инвентарную
опись. Как же мы могли вывезти золото, валюту, ковры, не знаю, что еще? Как
можно было это сделать в безотлучном присутствии комиссии? Им было выгодно
придумывать подобные измышления. Мы выехали вечером 3 января [1948 г.]
с железнодорожной станции Синая. Вот, кратко, как все было.
- Расскажите, пожалуйста, каким было последнее впечатление, которое вы
увезли из страны?
— Меня очень многие спрашивали о последних впечатлениях при выезде. Когда
я проходил к вагону через вокзал в Синае, там в два ряда были выстроены спиной
к нам офицеры, мы проходили между ними. Дойдя до вагона, я оглянулся и
увидел, что один из них немного повернул голову и плакал, как ребенок. Это
последнее, что я видел.
— Что происходило после того вынужденного отъезда?
> — В Швейцарии мы обосновались только в 1956 г. Тогда, в 1948 г., приехав прямо
в Лозанну, мы пробыли там около полутора месяцев.-Мы готовились к поездке
в Америку, чтобы выступить с объяснением той ситуации, которая сложилась в на¬
шей стране. В Швейцарии я выступить не мог, так как здесь существует система
нейтралитета, при которой тебя постоянно просят никогда не говорить о политике.
4*
99
Поэтому первым местом, где я смог сделать официальное заявление о том, что и
как произошло, был Лондон (в марте 1948 г.), а позднее — Нью-Йорк. Затем
я вернулся в Европу. У моей мамы с 1932 г. был дом во Флоренции, в Италии,
так что я мог остановиться у нее. С декабря я был помолвлен, а в июне мы об¬
венчались в Афинах и после Этого в течение полутора лет курсировали между
Флоренцией и Копенгагеном, поскольку моя теща - датчанка. Затем мы перееха¬
ли в Англию, где у меня было маленькое хозяйство; мы держали кур, продавали
яйца, и этого нам хватало на жизнь... А в 1955 г. я встретил одного американского
промышленника, авиапредпринимателя. Пилотом я был с 1943 г. Мы поговорили,
и он предложил мне поехать в Швейцарию и работать с ним в авиации. Там у него
была своего рода мастерская в аэропорту для ремонта и монтажа специального
оборудования. Когда он пригласил меня работать вместе, я в 1956 г. переехал
в Швейцарию и с тех пор здесь живу. Нам было не очень легко изменить образ
жизни. Конечно, прежде всего потому, что надо было начинать с нуля. Позднее,
в конце 1957 г., мама уехала в Америку. Собрав группу единомышленников,
я образовал небольшое общество по электронике и пластмассам, которое про¬
существовало недолго: слишком велика была конкуренция и мало денег. Поэтому
нам пришлось закрыться. Потом я решил стать биржевым маклером (смеется),
что совершенно не соответствует моему характеру, но надо было чем-то заняться,
так как у нас не было средств к существованию. Подрастали дети, начали ходить
в школу, надо было их содержать. Пришлось ехать в Нью-Йорк учиться на курсах.
Примерно так обстояли дела.
’’Romania literal”, 1990, № 34
Дается в сокращении: опущены размышления экс-короля о нынешнем состоя¬
нии Румынии. - Прим. ред. журнала ’’Новая и новейшая история”.
№4
Записка маршала Иона Антонеску*
Сегодня, 23 августа 1944 г., в 15 час. 30 мин. я явился на аудиенцию к королю,
чтобы дать разъяснения по поводу положения на фронте и действий, предпри¬
нятых для вывода страны из тяжелейшего тупика.
Король слушал меня около двух часов, сохраняя, как обычно, сдержанное,
почти безразличное выражение лица.
* Это подлинное политическое завещание маршала Иона Антонеску было написано в комна¬
те. куда он был заключен вечером 23 августа 1944 г., на листках настольной записной книжки
выпуска 1930 г., принадлежавшей королю Каролю II. До осени 1984 г. записная книжка
хранилась у генерал-майора Георге Теодореску, который в день 23 августа 1944 г. был на¬
чальником охраны дворца в чине майора. Генерал Г. Теодореску нашел записную книжку
утром 24 августа в развалинах ’’Малого дома” дворца на проспекте Виктории, разбомбленного
гитлеровской авиацией. В настоящее время записная книжка находится в фондах Музея
истории Румынии. В еженедельнике ’’Ромынул” (№ 9 за 1990 г.) генерал-майор Г. Теодореску
излагает, при каких обстоятельствах был написан документ: ’’Около 21 часа по просьбе Иона
Антонеску открыть дверь камеры, в которой он был заключен, поскольку при очень малых
размерах (2x3 м) в ней не было вентиляции, оба арестованных были выведены из камеры,1
чтобы подышать более свежим воздугсом, так как тот день был очень жарким.
Улучив минуту, Ион Антонеску достал с полки шкафа, набитого книгами и учебниками^
какой-то блокнот, попросил карандаш у одного из солдат охраны и, усевшись на стул с за¬
писной книжкой на коленях, стал писать; примерно через час он положил блокнот в красной,
обложке на то место, откуда его взял”.
Текст документа без всяких комментариев был опубликован в журнале ’Куджет ро-
мынеск”, № 2 за 1990 г.
100
На аудиенции во время моего доклада присутствовал г-н Михай Антонеску.
Я обратил внимание короля на то обстоятельство, что в течение почти двух лет
г-н Михай Антонеску пытался добиться от англо-американцев определенных обе¬
щаний относительно будущего страны, и в связи с этим твердо заявил, что, если
бы удалось достичь взаимопонимания и появилась возможность договориться
о гарантиях существования, свобод и исторической преемственности для нашего
несчастного народа, я бы без колебаний вышел из войны не только сейчас, а даже
в начале мирового конфликта, когда Германия была еще сильна.
Затем я пересказал содержание бесед, состоявшихся непосредственно после
моего возвращения с фронта в ночь с 22 на 23 августа с гг. Клодиусом и Миха¬
лаке, а утром следующего дня - с г-ном Г. Брэтиану.
В присутствии г-на М. Ант[онеску] я разговаривал с г-ном Клодиусом в очень
недвусмысленном тоне и напомнил ему, как несколько месяцев назад г-н
М. Ант[онеску], а в феврале, при последней встрече, и я сам уведомили Герма¬
нию, что, если фронт не удержится по линии Тыргу - Нямц - Яссы - Кишинев -
Днестр, Румыния станет искать пути политического урегулирования с целью
закончить военные действия.
Я доказывал г-ну Клодиусу, что ни наша страна, ни сама Германия не смогли
бы продолжать войну в том случае, когда половина ее территории уже оккупи¬
рована, а страна фактически находится в полном распоряжении русских.
Я попросил его доложить об этом в Берлине и постараться объяснить нашу
позицию перед угрозой катаклизма, а мою - перед лицом истории и народа; пусть
мне дадут разрешение на переговоры о перемирии, чтобы мы могли с честью
выйти из сложившейся ситуации, а не посредством акта, который навеки обес¬
честит страну и ее руководителей.
Г-н Клодиус пообещал точно изложить нашу просьбу; я напомнил ему, что
свобода действий нужна нам, чтобы сохранить для будущего существование
нации.
Относительно беседы с г-ном Михалаке, несмотря на то, что она продолжалась
несколько часов, я указал самое существенное.
Г-н Михалаке попросил меня пожертвовать собой и заключить мир, какими бы
тяжелыми ни были его условия.
Я ответил, что являюсь представителем некой революции, которая привела
меня к управлению государством, хотя я не имел к ней отношения и не участво¬
вал в ее подготовке; она дала мне мандат на восстановление границ страны, на
возобновление морального порядка, а также право подвергать наказанию, ставя
перед судом народа тех, которые [...]* катастрофу границ и падение династии.
Поскольку страна вынудила меня примириться с легионерами, а позднее войти
в войну, я испросил, с целью узаконить свои действия, согласия страны на свер¬
жение режима легионеров за их предательства и за то, что мы ввязались в войну
под восторженные возгласы одобрения, а теперь с согласия всей нации вынужден¬
но перешли к операции на Днестре.
Тремя миллионами голосов страна дала мне свободу действий и одобрение все¬
го, что я делаю.
Следовательно, принять сегодня предложение Молотова означает:
а) совершить политический акт, влекущий за собой потерю Бессарабии и Буко¬
вины, акт, подобных которому Румыния до сих пор не совершала начиная с 1Я12 г.
и кончая ультиматумом Молотова.
Добавлю, что, по-моему, решаясь на этот акт, мы рискуем потерять все преиму¬
щества, указанные в Атлантической хартии, где Рузвельт и Черчилль, помимо
* Слова, не поддающиеся расшифровке, отмечены четырьмя точками в скобках. Сокра¬
щения сохранены строго по оригиналу рукописи.
101
всего прочего, обязались ”не признавать изменения границ, на которое не было
добровольного согласия”.
Сегодня подписать предложения Молотова означало бы сделать большие уступ¬
ки, губительные для будущего страны и для территории;
б) страна попадает в вечное рабство, так как предложения о перемирии со¬
держат и клаузулу о возмещении неуточненного ущерба от военных действий,
представлявшую большую опасность, поскольку в качестве платы русские не¬
определенное время будут держать страну в оккупации. Так кто же, спросил я
г-на Михалаке, посмеет взять на себя ответственность за согласие на вечно откры¬
тые двери?
в) третья, самая важная и опасная клаузула, — это повернуть оружие против
Германии.
Кто посмеет, сказал я г-ну Михалаке, взять на себя ответственность за послед¬
ствия подобного одиозного для нации поступка в будущем, если мы можем
выйти из войны в любое время.
Я заложил надежный фундамент будущей политики государства и утверждаю,
что, хотя я не присоединился к г-ну Маниу, которого, тем не менее, отпустил
для прямых переговоров с англо-американцами, в то же время с ними вел пере¬
говоры, с моего ведома, г-н Михай Антонеску, и если бы у меня попросили любую
уступку, чтобы вывести Румынию из войны, я бы взял на себя ответственность и
смелость заявить фюреру в лицо, что Румыния выходит из войны;
г) четвертое условие, поставленное Молотовым и англо-американцами, —
отдать приказ солдатам, чтобы они сложили оружие и сдавались русским, но
оружие должно быть в нашем распоряжении, потому что вместе с русскими мы
будем гнать немцев с нашей земли.
Какой человек в здравом уме и с чувством ответственности мог бы отдать
такой приказ, который, единожды сформулированный, вызовет небывалый хаос
и бросит страну во власть русских и немцев?
Только безумец может принять подобные условия и претворять их в жизнь.
Соседство с Россией, ее неискренность по отношению к Финляндии, прибал¬
тийским странам и Польше, трагический опыт тех, кто попал под гнет России, по¬
верив ей на слово, избавляет меня от необходимости продолжать.
Обратите внимание, что, когда нам были предложены эти условия, военное по¬
ложение Германии, несколько ослабленной, было еще прочным;
д) и последнее: предложения Молотова включают в себя клаузулу, согласно
которой нас вынуждают оставить за Россией право проникать на территорию Ру¬
мынии в любом месте, где возникает необходимость, с целью изгнания немцев.
Это означает, другими словами, русскую оккупацию со всеми вытекающими от¬
сюда последствиями.
Когда я напомнил обо всем этом г-ну Михалаке, он сказал (для меня это было
неожиданностью), что следует признаться в том, что господ национал-царанистов
обманули: они верили в англо-американскую поддержку, однако сейчас оконча¬
тельно убедились в их полной неготовности огорчать русских; мы брошены на
произвол судьбы, вернее, русских, как Польша и, возможно, другие страны.
Следовательно, мы должны признать себя поколением, принесенным в жертву,
смириться и ждать.
Я ответил г-ну Михалаке, что в подобных ситуациях народу, который уверен,
что его ждет такая судьба, предпочтительнее героически погибнуть, чем подпи¬
сать самому себе смертный приговор.
Г-н Михалаке еще раз попытался склонить меня к заключению перемирия
и подписанию мирного договора, поскольку поставленные нам условия являют¬
ся условиями мирного договора, а не перемирия. Разумеется, я это отклонил.
Сегодня утром, когда я находился в Совете министров, встречи со мной по¬
просил г-н Г. Брэтиану, который в отличие от г-на Михалаке заявил, что пришел
102
после встречи с гг. Маниу и Дину Брэтиану с полномочиями от обоих передать,
что, в случае моего согласия вести переговоры о мире, они обязуются нести ответ¬
ственность наряду со мной.
Я ответил, что соглашусь при условии, если это обязательство мне передадут
в письменном виде с целью его публикации: пусть народ знает, что достигнуто
внутреннее единение, а заграница - как союзники, так и противники - в свою
очередь больше не сможет [....] из-за нашего раскола.
Г-н Брэтиану отправился за письменным согласием, чтобы вручить мне его
перед аудиенцией у короля, так как я хотел прийти на нее с готовым решением,
т.е. иметь возможность утверждать, что внутреннее политическое единение достиг¬
нуто и мне могут поручить начать переговоры. Два раза в разговор вмешивался
генерал Санатеску и, хотя его никто не просил, предлагал свои услуги для до¬
ставки письменного обязательства, за что я его поблагодарил.
Поскольку король считал, что переговоры надо начинать немедленно, г-н Ми¬
хай Антонеску возразил, что ждет ответа из Анкары и Берна, дадут ли Англия
и Америка согласие на переговоры о русскими. Потому что Черчилль в своей
недавней речи, говоря о Румынии, выразился следующим образом: ’’Эта страна
скоро окажется в полном распоряжении России”; это могло быть предупрежде¬
нием, что на нас будут давить, когда мы останемся всецело во власти русских и
должны будем с ними общаться более тесно.
Это ’’более тесно”, связанное с другими соображениями серьезного характера,
заставило г-на Михая Антонеску указать королю, что есть необходимость по¬
дождать еще 24 часа, получить нужные ответы, а после этого продолжить пере¬
говоры.
Я подтвердил свое согласие с такими условиями, в том числе с поездкой г-на
Мих. Антонеску в Анкару и Каир с целью вести прямые переговоры.
В эту минуту король, извинившись передо мной, вышел из комнаты, и некото¬
рое время обсуждение продолжалось с генералом Санатеску, который опять
предложил привезти письменное обязательство гг. Маниу, Брэтиану и Тителя
Петреску.
Когда я уже начал скучать, ожидая возвращения короля, чтобы попрощаться,
он вошел в сопровождении майора из дворцовой охраны и шести или семи сол¬
дат с пистолетами в руках.
Король прошел у меня за спиной вместе с солдатами, один из которых схва¬
тил меня сзади за руку, а генерал Санатеску сказал: ’’Господин маршал, вы аресто¬
ваны за то, что не пожелали заключить перемирие без промедления”.
Я посмотрел на солдата, державшего меня за руку, и сказал ему, чтобы он ее
отпустил, а потом повернулся к генералу Санатеску и, обращаясь к нему и коро¬
лю, который, заложив руки за спину, ходил по соседней комнате, произнес:
’’Стыдитесь! Такие действия позорят генерала!” Пристально глядя ему в глаза,
я несколько раз повторил эту фразу.
Затем меня грубо вытолкали из комнаты в коридор, где скотина унтер-офи¬
цер приказал мне вынуть руку из кармана, а я не подчинился. Потом меня вместе
с г-ном Михаем Антонеску в 17 часов засадили в комнату-”сейф” и закрыли
на ключ.
В каморке площадью три метра на два не было ни окна, ни вентиляции. К то¬
му же, видимо, никогда никто не сделал даже попытки навести в ней чистоту:
она была полна пыли и брошенных бесполезных вещей.
Вот чего добился человек, который в течение 40 лет трудился, как подвижник,
для своей страны и два или три раза спасал ее от падения в пропасть; человек,
избавивший от ужасной мести членов династии, принимавший присягу молодо¬
го короля под крики толпы, требовавшей выдачи всех из дворца для линчевания,
и, наконец, четыре года самоотверженно и мученически прослуживший разгром¬
ленной ныне армии, стране и королю.
103
История вынесет свой приговор.
Я молю Бога уберечь страну от последствий этого опрометчивого шага, так
как я никогда не цеплялся за власть. Не раз я говорил королю наедине и в при¬
сутствии г-на Михая, Антонеску, что если, по его мнению, в стране есть человек,
способный служить ей лучше меня, я уступлю ему свое место с единственным
условием - чтобы он представил гарантии, что не будет вести себя как често¬
любец и авантюрист.
М-л Антонеску. 23.VIII.1944
Написано в камере.
№5
Свидетельства лидеров основных политических партий Румынии
о 23 августа 1944 г.
Юлиу МАННУ, председатель национал-царанистской партии.
Мы переживаем великие дни, дни высочайшего духовного напряжения, оза¬
боченности и неясных надежд. В этом кипении событий и ожиданий незримо
прядутся нити новой судьбы Румынии.
Именно поэтому, чем непреодолимее круговорот событий, загадочнее буду¬
щее, тем более отчетливыми должны быть наши взгляды, спокойными, выдер¬
жанными - суждения, продуманными — действия, более четкими — цели и
осознанными — намерения; это касается не только руководства, но и всех
граждан.
Когда меня просят, я с удовольствием делаю короткие заявления, надеясь,
что это станет моей лептой в общее дело.
Его величество король Михай I действительно королевским поступком по¬
ложил начало правлению, которое будет истоком и темой нового века румын¬
ской истории.
До 23 августа 1944 г. Румыния шла неверным путем. Не по нашей воле. Враж¬
дебные силы толкали нас к краю пропасти, в которую мы едва не свалились,
погубив все наше будущее, а возможно, и само существование нации. Причины
этого известны. Диктатура, установленная бывшим королем Каролем II при
содействии некоторых несознательных политиков, была ловко использована
Германией с целью навязать нам новую политику, соответствовавшую ее интере¬
сам, и вовлечь нас в войну, противоречившую нашим интересам. Однако в послед¬
нюю минуту твердая воля короля, выраженная решительным поступком, останови¬
ла роковую судьбу и дала новое направление истории. Подчиняясь воле нации -
воле, конкретизированной политическими партиями, сплотившимися в Демокра¬
тический блок, — она выступила против немецкого угнетения, разбила внутреннюю
тиранию, вернула нам свободу и возвратила нас к нашим естественным союзни¬
кам, от которых нам нельзя отделяться.
Этого шага весь румынский народ ожидал так долго и с таким нетерпением,
что некоторым наша медлительность казалась непонятной. Хорошо было бы им
напомнить, что до 23 августа мы не были хозяевами на своей земле. Иноземный
враг, поддержанный напористыми сообщниками внутри страны, был слишком
силен, чтобы мы могли рискнуть оказать физическое сопротивление с шансом
на успех. А неудачная попытка только беспредельно умножила бы наши стра¬
дания, не внеся реального вклада в дело мира, за которое мы сейчас боремся
рядом с нашими естественными союзниками.
Даже теперь, когда немецкая военная машина находится в полном упадке,
104
наш поступок не лишен был риска и опасности. Чтобы предупредить и подавить
в зародыше любую нашу попытку освободиться (угрозу которой он постоянно
ощущал), у врага были отлично вооруженные и умело размещенные по всей
стране силы. Поэтому немало и тех, кто считал наши действия слишком поспеш¬
ными и рискованными. Если мы все-таки сумели так быстро и без серьезного
ущерба для жизни страны разоружить врага, то только благодаря множеству
факторов, некоторые из них хотелось бы выделить особо.
Во-первых, государственный переворот, равный большой революции, был хо¬
рошо подготовлен. Без ложной скромности я могу утверждать, что наша национал-
царанистская партия приняла достойное участие в этой подготовке, и история
не преминет признать наши заслуги.
Во-вторых, правильно был выбран момент начала действий: вся страна - это
надо особо подчеркнуть — от прохожих на улицах до вооруженных сил в тылу и
на фронте, с первых же мгновений единодушно сплотилась и, охваченная энту¬
зиазмом, присоединилась к долгожданному акту. Ни в одной области общест¬
венной жизни не было сбоев, не наблюдалось ни замешательства, ни противо¬
действия; везде и всюду — воодушевление и упорное желание достойно встретить
опасности нового положения, так как все знали, что это — единственное спасе¬
ние. Из этой общей атмосферы, которая еще раз доказывала, какими ошибочны¬
ми были пути официальной Румынии в последние годы и как естественны они
сейчас, произрастал героизм нашей армии, подвергшейся тяжелому испытанию:
в кратчайший срок ей надо было резко изменить свое отношение к бывшим то¬
варищам по оружию и разоружить их, более многочисленных и гораздо лучше
вооруженных, чем наши войсковые соединения. В дни тяжких испытаний, когда
жители столицы с мужеством перенесли ужасы самых беспощадных, преступных,
варварских бомбардировок, в Бэнясе и в Отопени, в Плоешти и некоторых других
укрепленных пунктах германской армии писались новые страницы бессмертной
военной славы румынских солдат. Беспримерный героизм румынских воинов
фактически не только спас столицу, но и сделал возможным акт 23 августа, а
благодаря ему и сохранение самой нации.
Естественно, мы не скрываем, что навязанные нам условия перемирия, которое
мы вынуждены были подписать, требуют от нас больших жертв и оставляют
саднящие раны в душе. Мы отдаем себе отчет в том, что у нас нет выбора, что
все политические ошибки дорого оплачиваются и что, сверх того, малые народы
часто принуждаются платить за грехи, совершенные великими народами.
Но, несмотря на трудности и огорчения, акт 23 августа 1944 г. открывает нам
горизонты надежды и станет лучом света в будущем. Правота нашего дела
слишком очевидна, чтобы не быть признанной и поддержанной великими союз¬
никами сегодняшнего дня; а наш вклад в разгром немецкой военной машины,
в ускорение наступления мира и прекращение всеобщих страданий, несомненно,
получит справедливую оценку со стороны великих держав, которые будут решать
судьбы мира согласно принципам соблюдения прав народов и национальной
свободы.
Уже сейчас видно начало. При полном одобрении союзников наши войска
с беспредельным воодушевлением штурмуют Северную Трансильванию; они
перешли проклятую линию границы, навязанную Венским арбитражем, и, когда
текст этого выступления выйдет из типографии, многие города и села Северной
Трансильвании вновь станут румынскими.
После стольких мук и страданий по ту сторону Феляка сейчас текут слезы
радости, и в скором времени вся Трансильвания будет нашей, как того требуют
^справедливость Господа и несгибаемая воля румынского народа.
Освобождение нашей любимой Трансильвании будет первой большой пра¬
ведной радостью румынского народа, столько раз ущемленного в правах, не¬
справедливо пострадавшего, разорванного на части и распятого в бурях последних
105
лет. Но раз страдания прошлого не смогли нас одолеть, то и нынешние победы
не заставят нас забыть то, чего забывать нельзя.
Не будем забывать, что это — только начало. Не будем забывать, что до полной
и окончательной победы нам еще придется страдать, нести жертвы, решать пробле¬
мы чрезвычайной трудности. Мы наследуем бесконечные бедствий и скорбь;
много наших братьев остались на земле обездоленными. Из развалин и слез мы
должны построить новую страну - с обновленной душой, с более справедливыми
и добрыми порядками и общественным устройством.
Мы не добьемся успеха, если не сумеем слить всю энергию румынского народа
в едином усилии созидательной гармонии. И в ближайшем будущем мы должны
оставаться такими же солидарными и тесно сплоченными во имя основных нацио¬
нальных целей и постоянных интересов, какими мы себя показали при свержении
немецкой власти и возрождении нашей свободы.
Поэтому нам необходимо сохранять строгую дисциплину, высокий дух порядка
и неуклонное исполнение обязанностей на любом посту, куда нас призовет страна.
Безусловно, есть виновные, и они ответственны за прошлое. Их необходимо
наказать. В будущем, скорее всего, тоже возникнут сложные проблемы, мнения
об их решении могут разделиться. Но ни прошлое, ни отдаленное будущее не
должны ослабить единства чувств и действий в настоящем, которое требует отдать
все силы и способности на служение народу.
Сегодня каждый румын в своей сфере деятельности, какой бы скромной она
ни была, должен чувствовать себя на службе у народа, добросовестно исполнять
свои обязанности, сознавая, что выполняет свой национальный долг.
Наши горожане по складу своего характера склонны к негативной критике;
хочется им посоветовать научиться созидательному спокойствию села, его тер¬
пению, вере в будущее и в руководство страны; надо возродить дух неустанного
труда, в котором наша страна нуждается больше, чем когда-либо прежде.
Если мы сохраним единство и силу духа, которое мы показали в решающие
моменты жизни, нет ни малейших сомнений в том, что и в дальнейшем справедли¬
вость будет побеждать и судьба приведет нас к благополучному разрешению всех
трудностей, ожидаемых в будущем. Правда на нашей стороне, а Бог - за правду.
День 23 августа — это день победы и источник национального процветания.
Воспоминания о нем не должны огорчать души тех, в отсутствие которых или
против которых все совершилось. Мы не хотели, чтобы плоды содеянного при¬
надлежали только нашей партии; напротив, мы постарались привлечь к участию
даже своих самых яростных противников. Я настойчиво просил маршала Анто¬
неску заключить перемирие, но он не пожелал. Между тем румынский фронт
был прорван и времени на ожидание совсем не оставалось. Необходимо было
действовать быстро, иначе на нас свалилось бы двойное несчастье. Его величество
король, молодой, но благоразумный, энергично выступил третейским судьей
в разногласиях между правительством и нацией и быстро вынес решение в пользу
требований нации. Его решение получило благословение Господа; акция заверши¬
лась успехом. От успеха мы воспряли духом, более решительно смотрим на труд¬
ности, стоящие на нашем пути к завтрашнему дню и уверены в победе.
’’Universul”, 3.IX. 1944.
Константин БРЭТИАНУ, председатель национал-ли бе рал ьной партии.
Сейчас, когда мы во второй раз отмечаем исторический акт 23 августа 1944 г.,
акт, увенчавший совместные усилия национал-либеральной и национал-царанист¬
екой партий, предпринятые для предотвращения краха Румынии, хорошо бы¬
ло бы показать, что означали эти усилия и на какой стадии наша работа находит¬
ся сегодня.
106
Как известно, еще в самом начале, когда в политическом руководстве нашей
страны проявились тенденции к диктатуре, национал-либеральная и национал-
царанистекая партии через своих лидеров предприняли ряд действий против
упомянутых тенденций и всеми доступными средствами старались предотвратить
постепенное разрушение демократических институтов.
Сначала эта борьба велась только в плане внутренних дел страны. Она была
нелегкой и не могла увенчаться успехом, ибо внешние обстоятельства стали благо¬
приятствовать тем, кто делал ставку на диктатуру.
Эта стадия продолжалась вплоть до установления режима Антонеску. С этого
момента совместная борьба национал-либеральной и национал-царанистской
партий перестала быть деятельностью сугубо внутреннего характера; она распро¬
странялась и на внешние дела, потому что режим Антонеску, пользуясь условиями,
подготовленными предшествующими диктатурами, втянул страну в орбиту поли¬
тики Германии.
Ввиду новых обстоятельств национал-либеральная и национал-царанистская
партии были вынуждены не только вести борьбу против диктаторского режима,
за восстановление демократических свобод, но и стараться вывести страну из
игры, не только нежелательной, но и враждебной национальным интересам.
Известно, как велась эта борьба. Длительное напряжение сил завершилось
актом 23 августа 1944 г., проведенным историческими партиями по обоюдному
согласию с королем Михаем I.
23 августа 1944 г. были выиграны одновременно два сражения - внутреннего
и внешнего плана; первое — это свержение третьей диктатуры, а победа внешнего
характера — возвращение Румынии в рамки ее естественных союзнических отно¬
шений и ее включение в вооруженную борьбу антинацистских сил.
Тогда считалось, что печальная глава истории страны закрыта навсегда, и нам
только осталось приступить к полному восстановлению демократии и возрожде¬
нию и перестройке страны.
Прошло два года, но борьба за свободу и демократию сегодня так же настойчи¬
ва и решительна, как и в прошлом.
Соединенные прочными узами, как и до-23 августа 1944 г., две исторические
партии, гарантирующие национальную стойкость и решительность, осознают необ¬
ходимость продолжения деятельности, начавшейся в столь печальные для страны
времена, до завершения во внутреннем аспекте многообещающего акта 23 ав¬
густа 1944 г.
’’Liberalni”, 23 VIII.1946.
Константин (Тител) ПЕТРЕСКУ, председатель социал-демократической партии.
Обстоятельные историки завтрашнего дня, объективно и в соответствии с фак¬
тами воспроизведут перипетии, через которые за последние годы прошли поли¬
тические' партии Румынии в процессе деятельности, ставившей своей целью госу¬
дарственный переворот 23 августа. Было бы полезным, чтобы общественное мне¬
ние все же узнало именно сейчас, что акт 23 августа - не просто театральный пе¬
реворот, а, значит, и не спонтанная акция, а логический результат координации
действий четырех партий, вошедших в правительство Румынии, т.е. двух бур¬
жуазно-демократических партий — национал-царанистской и национал-либераль¬
ной, и двух пролетарских - социалистической и коммунистической.
Еще в правление короля Кароля II политические партии были официально
распущены, однако они продолжали действовать нелегально. Это означало, что
каждая работала на свой страх и риск, но без регистрации членов, без партийных
билетов, без публичных собраний и без прессы.
Единственной партией, имевшей подпольную газету, была коммунистическая,
107
обладавшая богатым опытом, приобретенным за 22 года нелегальной деятель¬
ности.
Четыре упомянутые партии, представлявшие всю гамму общественного мне¬
ния страны, действовали по собственному усмотрению для свержения режима
маршала Антонеску, но они сумели установить между собой связи, которые
позднее привели к упорядоченному согласованию их действий, так как, несмотря
на различия в доктринах, эти четыре партии объединились в совместной борьбе
за национальные интересы: освобождение Румынии из когтей гитлеризма и прекра¬
щение злополучной войны.
Социал-демократическая партия, руководство которой мне доверили товарищи
по борьбе, возобновила упорядоченную деятельность два года назад, после того
как слилась с Единой социалистической партией. Нашей первой задачей стало
наведение чистоты в собственных рядах. Правда, в нашей партии никогда не было
аферистов, но в прошлом руководстве были определенные элементы, которые
своим чрезмерным оппортунизмом дискредитировали доброе имя социалисти¬
ческой теории. Лишь около полугода назад мы закончили чистку партии от по¬
добных элементов.
Итак, наряду с другими политическими партиями мы с воодушевлением при¬
ступили к акции по спасению страны. Был учрежден исполнительный комитет
партии, установивший контакты с товарищами из организаций социалистов в про¬
винции, чтобы конечный результат - который мы наметили и которого добива¬
лись — был выражением воли всех трудящихся-социалистов страны, а не только
руководства партии в столице.
Несколько месяцев назад в наши ряды влилась также бывшая царанистско-
радикальная партия, принявшая нашу программу и умножившая наши силы
новыми борцами.
Исполком нашей партии, состоящий из молодых, способных, энергичных,
решительных людей, проверенных в процессе работы, поручил мне еще в прошлом
году установить контакт с руководством коммунистической партии, а также
с господами Юлиу Маниу и Дину Брэтиану.
В принципе мы все были согласны с тем, что Германия войну проиграла, а
Румыния, вступив в войну рядом с фашистской Германией против великого со¬
циалистического соседа, ввязалась в обреченную авантюру, поэтому необходимо,
невзирая на риск, устранить злополучный режим еще до рокового исхода.
С начала года связи между четырьмя партиями становились все более тесными.
В частности, между нашей партией и товарищами коммунистами был предвари¬
тельно заключен союз, названный Единым рабочим фронтом с теми же целями,
что и указанные выше. Немедленно вслед за этим благодаря установлению взаимо¬
понимания с господами Юлиу Маниу и Дину Брэтиану мы смогли три месяца
назад создать Национально-демократический блок всех четырех партий.
Нельзя не принять во внимание огромную роль, исполненную в этой патриоти¬
ческой акции его величеством королем Михаем I, чувства и убеждения которого
нам хорошо известны; однако мы, насколько это возможно, стараемся держать
его подальше от всяких политических треволнений. В то же время интересно
отметить, что параллельно, хотя и независимо от действий партий, его величество
предпринимает меры в том же направлении, поддерживаемый частью командного
состава крупных воинских соединений и вообще представителями генералитета,
обладающими авторитетом в армии, людьми, отдающими себе отчет в том, что
страна приближается к непоправимой катастрофе.
Я не могу углубляться в подробности, но думаю, что сегодня можно рассказать,
как в последние два месяца руководители четырех партий установили контакт
с его величеством королем, которому помогали в военном плане г-н генерал К.Са-
натеску, маршал Двора генерал Аурел Алдя, нынешний министр иностранных дел
генерал Михаил Раковица, нынешний военный министр генерал Дэмэчану и дру¬
108
гие, а также такие выдающиеся личности, как г-н Барбу Штирбей, К. Вишояну,
Стырчя-Мочони.
Одновременно мы поддерживали отношения с СССР в целях подписания пере¬
мирия через г-на Штирбея в Каире и посла Советов в Стокгольме Александру
Коллонтай.
Несколько ранее переворота 23 августа было решено, что г-н генерал Аурел
Алдя поедет в Москву с полномочиями от короля и Национально-демократи¬
ческого блока с целью заключить перемирие. Однако возникшие трудности воен¬
ного и технического характера воспрепятствовали выполнению миссии г-на гене¬
рала Алдя. Тем не менее по специальным дипломатическим каналам союзники
были проинформированы о состоянии духа румын, о решении партий, его вели¬
чества короля и вооруженных сил.
И все-таки выход из числа сателлитов ’’оси” и присоединение к коалиции за¬
держивались, поскольку маршал Антонеску почувствовал: что-то готовится.
Хотя партии умели хранить тайну и действовали в обстановке секретности, тем
не менее вся страна знала, что события стремительно приближаются к роковой
развязке. Диктатор начал предпринимать всяческие меры противодействия тому,
что, как он подозревал, должно произойти.
Только для того чтобы помешать ему принять решительные меры, которые
могли бы привести к полной ликвидации нашей акции по спасению страны, мы
поспешили ускорить государственный переворот, намеченный на вторую поло¬
вину августа.
После того как мы договорились о дате и способах совершения государствен¬
ного переворота, мы сделали последнюю попытку склонить маршала Антонеску
самого заключить перемирие, которое бы сняло угрозу катастрофы. Вечером
22 августа мы от имени блока четырех партий попросили г-на Иона Михалаке,
поддерживавшего личные отношения с генералом Антонеску, отправиться в Сна-
гов и постараться убедить маршала в том, что интересы страны требуют прекра¬
щения всяких отношений с гитлеровской Германией, вывода с нашей земли не¬
мецких воинских Соединений и заключения мира. С этой целью маршалу пред¬
лагалось попросить перемирия. Пусть не покажется странным, что мы предложили
ему так поступить, это было логичным. Страна находилась в трагическом поло¬
жении, подготовленный государственный переворот не допускал промедления,
активизировались народные массы и, кроме того, маршал должен был загладить
свою вину, сам исправить ошибки.
Через г-на Михалаке Ион Антонеску передал, что понимает сложность ситуа¬
ции, но попросил один день отсрочки на размышения. Позднее мы установили,
что он хотел испросить... разрешения немцев.
Поэтому на следующий день, в среду 23 августа, утром, собравшись в доме
г-на Дину Брэтиану, все представители партий, за исключением нашего друга
Лукрециу Патрашкану, которого свирепо преследовала сигуранца, мы попросили
г-на Джордже Брэтиану сделать последнюю попытку договориться с маршалом
от имени блока четырех партий: срочно поехать в Снагов и потребовать ясного
ответа на предложение, переданное г-ном Ионом Михалаке, — либо ”да”, либо
’’нет”.
Маршал колебался. От имени лидеров четырех партий г-н Джордже Брэтиану
навел его на мысль немедленно явиться во дворец для обсуждения всей совокуп¬
ности вопросов с его величеством королем.
Ион Антонеску согласился. После полудня, примерно к четырем часам, вместе
с Михаем Антонеску он явился к королю, и там у них произошел весьма бурный
разговор. Маршал настаивал на том, чтобы испросить согласия немцев на заклю¬
чение Румынией перемирия. Это уже был абсурд. Перед лицом такого слепого
упрямства его величество объявил обоих Антонеску арестованными. Разумеется,
это произошло с предварительного согласия Демократического блока.
109
Немедленно вслед за этим во дворец были вызваны и также арестованы гене¬
ралы Василиу, зам. государственного секретаря по внутренним делам, и Пантази,
военный министр.
Через четверть часа члены нового правительства были утверждены в должно¬
сти; государственный переворот был закончен.
Кроме того, могу добавить (полагая, что это вытекает из предшествующего
рассказа), что вооруженные силы полностью выполнили свой долг; они были
рядом с королем и политическими партиями.
Очень интересно отметить, что все было сделано таким образом, что знамени¬
тая немецкая секретная полиция - страшное гестапо - ничего не знала. К при¬
меру, на пять часов того же дня, 23 августа, у маршала Антонеску была назна¬
чена встреча с немецким министром [посланником] Клодиусом. Когда Анто¬
неску на встречу не явился, министр понял, что случилось нечто серьезное. Но
было уже поздно, гестапо потеряло возможность действовать.
Однако не все отношения с Германией были прерваны. Необходимо было
обсудить условия вывода немецких войск из страны таким образом, чтобы не
пострадало население. Поэтому к восьми часам вечера во дворец были вызваны
полномочный посол Гитлера барон Манфред фон Киллингер и командующие не¬
мецкими войсками в Румынии генералы Хансен и Герстенберг. Их поставили
в известность, что Румыния порвала связи с ’’осью” и перешла на сторону анти¬
гитлеровской коалиции и что немецкие войска смогут беспрепятственно уйти из
страны, не будучи разоруженными, при условии, если высшее немецкое коман¬
дование отдаст приказ о мирном отступлении. Генерал Хансен дал честное слово,
что выполнит эти условия. Барон фон Киллингер вел себя нагло, но был вынужден
смириться с реальностью. Тем не менее на следующий день столица подверглась
ожесточенной бомбардировке. Честное слово немецкого генерала было грубо
нарушено, а жители Бухареста пережили три дня и три ночи чудовищного обстрела
с огромным числом жертв и материальным ущербом. Только когда румынские
войска начали операцию по очищению аэродромов от занимавших их немцев,
мужественные бухарестцы смогли облегченно перевести дух.
В другой раз я расскажу о некоторых подробностях, опишу анекдотическую
сторону, если так можно выразиться, т.е. те перипетии, которые пришлось пере¬
жить представителям партий, когда нам необходимо было нелегально встречать¬
ся в доме то одного, то другого, то на квартире какого-нибудь общего друга,
то в кладовке захолустного ресторанчика, чтобы договориться о способах и
средствах спасения родины. Я уже не говорю о товарищах коммунистах, которые
долгое время жили в обстановке полного подполья. Все мы рисковали головой.
Однако мы счастливы тем, что вывели нашу страну с того злосчастного пути,
на который ее завел режим диктатуры. Отныне и впредь нас ожидает очень труд¬
ное дело перестройки и возрождения страны.
’’Libertatea”, 5. IX. 1944.
Лукрециу ПАТРАШКАНУ, Коммунистическая партия Румынии.
Еще не настало время, когда история напишет исследование о 23 августа 1944 г.
Попытки фальсифицировать правду, будь то неверное истолкование или ума¬
ление значения событий либо игнорирование, замалчивание и даже стремление
скрыть факты, не могут все же умалить то обстоятельство, что этот день изменил
судьбу румынского народа.
В предлагаемых вниманию читателей заметках я расскажу только о некоторых
волнующих моментах подготовки акта 23 августа, поскольку такая подготовка
имела место, к тому же очень интенсивная, с мобилизацией многих сил и людей
и связанная с большими опасностями. Все предварявшие переворот действия раз¬
но
ворачивались на фоне ужасающих авиабомбардировок и под угрозой преследо¬
ваний со стороны гестапо и сигуранцы.
Некоторые из упомянутых моментов носили поистине драматический харак¬
тер. В связи с бомбардировками хотелось бы вспомнить лишь два случая.
Подготовка к перевороту 23 августа закончилась еще в конце июня. Оставался
на обсуждении лишь вопрос политического урегулирования, и в поисках решения
мы натолкнулись на сопротивление со стороны некоторых лидеров оппозиции.
С целью не допустить, чтобы события застали нас врасплох, было принято решение
все-таки подготовить воззвание правительства и все прочие документы, которые
должны были появиться в первый же момент переворота. Я немедленно присту¬
пил к составлению воззвания. Вместе с другими участниками заговора, пред¬
ставлявшими короля (нас было трое), мы собрались на конспиративной квартире
на улице Арменяска после 11 часов ночи. Подготовленный нами текст был принят
полностью после короткого обсуждения. В ту минуту, когда я перешел к оконча¬
тельному редактированию воззвания, было объявлено о приближении к Бухаресту
английских бомбардировщиков. Вскоре они появились, но, поскольку за мной
следили как гестапо, так и сигуранца, я не мог во время бомбардировок, будь
они днем или ночью, укрываться в бомбоубежище и был вынужден оставаться
в том помещении, где меня застала воздушная тревога. И в этот раз, продолжая
редактировать воззвание, я остался в маленькой комнате в глубине квартиры,
откуда наружу не проникал ни один луч света.
Между тем грохот бомбардировок все приближался. Вскоре бомбы начади
падать в нескольких сотнях метров: в здание Социального страхования, на ули¬
цах Василе Ласкэр и Негустори. Всем троим нам неожиданно пришло в голову
выражение ’’бомбовый ковер”. На минуту мы оторвались от работы, но затем
продолжили ее. стараясь не обращать внимания на происходящее.
Когда сирены оповестили об отбое воздушной тревоги, воззвание было готово.
Второй случай, связанный с бомбардировками, относится к встрече с предста¬
вителями Блока. Поскольку из-за слежки мне нельзя было ходить днем, я был
вынужден приходить, как правило, ночью, но заранее, в дом, где затем про¬
ходило совещание. В этот раз мы также решили собраться в доме, расположенном
на пересечении улиц Масарика и Василе Ласкэр. После окончания совещания и
ухода его участников я ждал наступления темноты, чтобы покинуть дом. Пробило
девять часов, половина десятого, десять, а машина, которая должна была за мной
приехать, задерживалась. Я начинал нервничать. И вдруг сирены оповестили о
воздушной тревоге. Я приготовился и в этот раз переждать в квартире, где про¬
ходило совещание, хотя это означало явное нарушение правил конспирации. На¬
конец, в последнюю минуту машина пришла: она опоздала из-за поломки дви¬
гателя. Я немедленно выехал и укрылся на боковой улочке в окраинном квартале
столицы. Через 10 минут началась бомбардировка. Три многоэтажных дома, в том
числе тот, где находилась квартира, в которой проходило совещание, были
сильно разрушены авиабомбой. В ту ночь в этом квартале погибло около 300 че¬
ловек .
В процессе подготовки к перевороту три совещания были проведены под
председательством короля во дворце. Однако все входы и выходы дворца геста¬
по и сигуранца держали под неусыпным наблюдением. Как представитель ком¬
мунистической партии и как единственный фактически представитель всей оппо¬
зиции, я принимал участие во всех совещаниях. Самой трудной задачей было
проникнуть во дворец, миновав не только наружную охрану, но и избежав глаз
всевозможных шпиков и соглядатаев, нанятых гестапо и сигуранцей: именно
внутри дворцовых покоев ожидала главная опасность. Значит, надо было преодо¬
леть двойную бдительность охранки. Добравшись до дворца на машине с шо¬
фером, заслуживавшим полного доверия, я проходил первый кордон охраны и
оказывался во внешнем дворе главных покоев. Обычно это происходило между
111
И и 12 часами ночи. Оттуда, пользуясь редко употребляемыми входами и целым
лабиринтом коридоров и проходных помещений, в которых я ни разу никого не
встретил, меня проводили в зал, где собирались совещания; это происходило
в личных апартаментах короля, в самом центре дворца.
Весь дворец казался погруженным в сон; в залах и помещениях, которые
мы пересекали на пути, царила кромешная тьма. Надо было создавать впечатле¬
ние, что ничего необычного в это время во дворце не происходит. Совещания,
как правило, длились до 3 или 4 часов утра. Еще до рассвета мы с теми же мерами
предосторожности, что и при входе, покидали дворец. Мое присутствие во дворце
оставалось неизвестным вплоть до 23 августа.
Еще один интересный эпизод касается появления первого легального номера
газеты ’’Ромыниа либерэ”. Непосредственно после ареста Антонеску (король
вызвал меня еще во время аудиенции ’’кондук эторулу”) я все же выжидал,
пока стемнеет, чтобы войти во дворец. Однако на этот раз я прошел через главный
вход без дополнительных мер предосторожности. Было 9 часов вечера. Часть
членов сформированного ”ad hoc” правительства уже присутствовала здесь. Толь¬
ко что ушел Киллингер, прибывший во дворец узнать о судьбе Антонеску. Кил-
лингера заверили, что последний свободно покинул дворец живыми невредимым.
Поверил он этому или нет, не знаю, но факты свидетельствуют, что в тот вечер
он ничего не предпринял. Антонеску и его люди содержались под стражей в разных
помещениях. Я принес с собой воззвание правительства и законы-декреты об
амнистии, а также документы, которые надо было огласить по радио в 10 часов
вечера. Одновременно я послал за товарищем, которому было поручено записать
на пластинку воззвание короля. Вся аппаратура уже давно была подготовлена,
и мы лишь ждали момента, когда сможем пустить ее в ход.
После оглашения воззвания, в 10 часов 12 минут, когда страна узнала о проис¬
шедшей перемене, я ушел из дворца, чтобы подготовить первый легальный номер
’’Ромыниа либерэ”. [. . .]
Предприняв все необходимое, я вернулся во дворец. Улицы были забиты тол¬
пами народа. На Дворцовой площади начали собираться тысячи жителей столицы,
выражавшие энтузиазм и радость по поводу случившегося. Я оставался во дворце
до двух часов ночи, ожидая развития событий. Мы должны были знать реакцию
немцев. Кроме того, была еще одна проблема: как и куда увезти из дворца Анто¬
неску и его приближенных, чтобы поместить в надежное место. Поскольку мы взя¬
ли на себя ответственность за содержание его под охраной, группе Патриотической
гвардии были даны распоряжения организовать эвакуацию Антонеску из дворца.
После 1 часа ночи Антонеску и остальные в специальной машине были вывезены
из дворца. Вторая проблема также разрешилась: в два часа ночи во дворец яви¬
лись немецкие генералы Хансен и Герстенберг, заверившие генерала Санатеску
в том, что немцы не начнут враждебных действий против румынских войск. Я по¬
нимал, что речь идет об очередной нацистской лжи, но было также ясно, что мы
выиграли несколько часов, а в тех обстоятельствах это очень много значило. [...]
’’Romania libera”, 23. Vlll. 1945.
112
Документальные очерки
© 1991 г.
ЧЛЕН-КОРР. АН СССР Ю. А. ПИСАРЕВ
ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НА ТРОНЕ:
ЧЕРНОГОРСКИЙ МОНАРХ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ-НЕГОШ
Летом 1698 г. по дороге в Венецию на восточном побережье Адриатического
моря, близ селений Коттаро и Пераст, остановилась группа русских молодых дво¬
рян, посланных Петром I для обучения мореходному делу. Ее возглавлял Петр
Андреевич Толстой, будущий посланник России в Константинополе. В отчете о
поездке он писал: ’’Блиско помяненных мест Катаро и Пераста живут вольные
люди, которые называются черногорцы. Те люди веры христианской, языка сла¬
вянского и есть их немалого числа; никому не служат, временем войну трчат
с турками, а временем воюют с венетами” (венецианцами)1.
Так началось знакомство русских с черногорцами. ’’Племя злое”, писал о них
Пушкин, имея в виду воинственность и непокорность черногорцев. Это представ¬
ление о вольнолюбивом народе сохранилось у русских на века. Оно укрепилось
с войнами, ведшимися совместно: при Александре I — против Наполеона, при Алек¬
сандре II - против турок, при Николае II - против Австро-Венгрии.
Одним из самых примечательных государственных деятелей нового времени
на Балканах был Николай I Петрович-Негош, управлявший Черногорией с 1860
по 1918 г.
Небольшое по размерам и численности населения Черногорское государство
играло тем не менее в те годы значительную роль не только на Балканах, но и во
всей Юго-Восточной Европе. За влияние в этой стране в течение десятилетий боро¬
лись две великие державы — Россия и Австрия. Черногория была также объектом
внимания других государств - Италии и Германии, Сербии и Болгарии, Греции
и Турции. Почти на всех поворотных этапах сложной и противоречивой балканс¬
кой истории в ее центре среди других монархов стоял Николай Петрович-Негош
(1841-1921). 28 лет (с 1860 по 1878 г.) Черногория под его руководством вела
с Турцией войны за независимость. Затем он осуществил ряд преобразований,
оказавших влияние на развитие черногорской государственности. В начале XX в.
страна участвовала еще в трех войнах: двух балканских - 1912 и 1913 гг. ив
первой мировой войне. За 80 лет, отмеренных ему судьбой, в жизни и деятель¬
ности Николая Черногорского можно выделить три этапа, которые резко отли¬
чались друг от друга: в молодости он был сентиментальным мечтателем, вольно-
любцем-романтиком, в годы зрелости - преобразователем, видным дипломатом
и государственным и военным деятелем, к концу жизненного пути стал крайним
консерватором и ретроградом.
Сложная и противоречивая фигура черногорского монарха осталась малоизу¬
ченной в исторической литературе. В самой Черногории о нем написано сравни¬
тельно немного, в советской историографии - и того меньше. В данном очерке
-л1 Черногорско-русские отношения 1791-1919, т. I. Титоград, 1991, с. 5. Отв. редактрр
Достян И.С.
113
сделана попытка проанализировать жизнь этого незаурядного деятеля на основе
югославских и советских архивных материалов, а также других первоисточников,
большинство из которых приводится на русском языке впервые.
ЧЕРНОГОРИЯ И РОССИЯ
Дипломатические отношения между Россией и Черногорией были установлены
в 1881 г., но неофициально они существовали и ранее: российские консулы в Ра¬
гу зе (Дубровнике) систематически наезжали в столицу Черногории Цетинье, а
черногорский князь Николай посещал Петербург. Первый раз он приехал в Рос¬
сию в 1878 г. и был весьма торжественно принят Александром II, который по¬
дарил ему почетное оружие в знак признания роли черногорцев в войне с Тур¬
цией2 , а Александр III, при повторном визите князя в русскую столицу, назвал
Николая черногорского ’’своим верным и единственным другом”. В 1889 г. князь
третий раз побывал в Петербурге на свадьбе своих дочерей: Милицы с великим
князем Петром Николаевичем Романовым и Анастасии (Станы) — с князем
Г.М. Лихтенбергским. В 1894 г. князь Николай снова посетил Россию, приехав
на похороны ’’своего единственного друга” Александра III, а в 1896 г. возглавлял
черногорскую делегацию на коронации Николая II; в 1907 г. он прибыл в Россию
на новую свадьбу Анастасии - на этот раз с великим князем Николаем Николае¬
вичем Романовым, дядей царя. В 1912 г. он приехал в Петербург во главе делега¬
ции на встречу с царским правительством при официальных переговорах о воен¬
ном союзе между Россией и Черногорией. Эти встречи имели для Черногории боль¬
шое значение и способствовали укреплению межгосударственных отношений.
Небезынтересно отметить, что, узнав о начале русско-японской войны 1904—
1905 гг., черногорцы выступили в защиту ’’матушки-России” и, хотя не знали
всех обстоятельств этого конфликта, а многие вообще не знали, где находится
Япония и как до нее добираться, — заявили о готовности отправиться на фронт.
В Цетинье в защиту России состоялась массовая манифестация, а в российское
императорское посольство были отправлены многочисленные прошения о зачис¬
лении черногорцев в отряды волонтеров. Выразив благодарность черногорцам,
посольство разъяснило, что их отъезд в Россию сопряжен с большими трудностя¬
ми и потребует значительных денежных затрат3.
Правительство князя Николая позабыло оповестить население о заключении
Портсмутского мира, и черногорцы долгое время продолжали считать себя участ¬
никами войны с Японией. Тогда же, в 1904-1905 гг., в Черногории появилась по¬
говорка о единой русско-черногорской нации. На вопрос о том, сколько в Черно¬
гории жителей, многие отвечали: ’’Нас и руса 200 миллионов”, хотя самих черно¬
горцев в ту пору было не больше 200 тыс. человек...
Установив родственные связи с царской династией через дочерей Милицу и
Анастасию, Николай черногорский породнился также со многими другими царст¬
вующими и знатными фамилиями, ’’пристроив” всех своих детей (их было 12).
Его старшая дочь Зорка была выдана замуж за сербского князя Петра Карагеор-
гиевича, ставшего в 1903 г. королем Сербии, дочь Елена - за итальянского коро¬
ля Виктора Эммануила III, дочь Анна - за князя Франца-Иосифа Баттенберга, род¬
ственника принца Филиппа, мужа английской королевы Елизаветы; престоло¬
наследник Данила был женат на дочери герцога Мекленбургского, находившегося
в родстве с прусской династией Гогенцоллернов, а сыновья Мирко и Петр - на
’По словам черногорских историков, не подтвержденным документами, Александр II
подарил Николаю саблю сербского короля Милутана.
’Глас Црногорца, 19(6).111.1904, № 10. См. подробнее: Хитрова Н.И. Русско-черногорские
отношения и общественное развитие Черногории в 1878-1908 гг. Рукопись. М., 1988, с. 319-
320.
114
менее сановных, но богатых и влиятельных представительницах правящих кругов
европейских стран4.
Эти связи облегчали участие черногорского монарха в международных интри¬
гах5. Секретарь российского посольства в Цетинье Ю.Я. Соловьев писал: ’’Князь
Николай был прирожденным актером... Любимым его занятием была политичес¬
кая игра”6. В этой игре он широко использовал членов своей семьи. Так, весьма
отрицательную роль при петербургском дворе играли княгини Милица и Анаста¬
сия. Они имели далеко идущие планы воцарения на российском престоле великого
князя Николая Николаевича или сына княгини Милицы и Петра Николаеви¬
ча Романа; позже обе они поставляли императрице, озабоченной здоровьем прес¬
толонаследника Алексея, различного рода кудесников, кликуш, прорицателей и
старцев и содействовали возвышению Григория Распутина. Князь Г.М. Лихтенберг-
ский, первый муж Анастасии, в раздражении называл княгинь ’’черногорскими
паучихами”, а великий князь Николай Николаевич, поссорившийся с Распутиным
и Анастасией, грозился повесить ’’прорицателя” и выслать в Черногорию свою
супругу7.
Дочь Николая Елена, королева Италии, во всем руководила своим супругом,
слабохарактерным королем Виктором Эммануилом III; незамужняя дочь черно¬
горского монарха Ксения, которую при дворе за ее мужской характер называли
’’регентшей”, претендовала на албанский трон; жена сына Николая Мирко кня¬
гиня Наталия Константинович, дальняя родственница сербского короля Алек¬
сандра Обреновича, строила планы воцарения на сербском престоле своего сына
Михаила8.
Сыновья черногорского монарха, в свою очередь, занимались политическими
интригами. Данила вел секретные переговоры с Австро-Венгрией и готов был
сесть на трон вместо своего отца; Мирко, напротив, ориентировался на Россию;
Петр ссорился и с тем и с другим и тоже был непрочь занять какой-нибудь престол,
в том числе*черногорский, перешагнув через труп не только отца, но и старших
братьев9.
Многочисленная семья Николая направо и налево проматывала казенные день¬
ги. В нищей и постоянно голодной Черногории князь возвел четыре дорогостоя¬
щих дворца - зимнюю резиденцию (так называемый ’’Владин дом”) в Цетинье,
летнюю - в Баре, дворцы для своих сыновей в Куршеваце близ Подгорицы и в
Никшиче, а также ’’Охотничий домик” в Риеке-Црноевиче. На строительство двор¬
ца в Цетинье было израсходовано 6 млн. черногорских перперов, для чего прави¬
тельство взяло заем у английского банкирского дома ’’Бултон Бразерс и К0”10.
Чрезвычайно много средств расходовалось черногорским монархом на различ¬
ные встречи высоких иностранных гостей и на собственные путешествия по Евро¬
пе. ’’Господарь, — писал в воспоминаниях бывший министр иностранных дел и
председатель Государственного совета Черногории Тавро Вукович, - не мог про¬
вести даже одного года, чтобы о нем не трезвойила мировая печать и только о
нем одном, больше ни о ком. Он... придумывал, как более пышно отметить свое
4ПетровиЪ-Негош Н. Из моих мемоара. Виндзор, 1961, с. 88.
*JoeaHoeuh J. На двору црногорском - Записи, юь.П, св. 1-6. Цетине, 1928, с. 9-16,
24-80.
4 Соловьев Ю.Я. Двадцать пять лет моей дипломатической службы. (1893-1917). М.-Л.,
1928, с. 142.
''Валентинов Н. Сношения с союзниками по военным вопросам во время войны 1914—
1918 гг., ч.1. М., 1929, с. 34.
8Лемке И.К. Двести пятьдесят дней в царской Ставке (25.III.1915-1.VII.1916). Пг., 1920,
с. 297; Архив Исторщског института Црне Горе, ф. 137/Ш.С.ПоповиЬ. Мемоари. Женитдба
кнеза Мирка.
9 ВучковиЪ В. Дипломатска позадина у]един>ен>а Црне Горе и Србще. - 1угославенска ре-
BHja за международно право. Београд, 1959, св. 12, с. 369.
19Шкеровйй Н. Црна Гора на освитку XX в)ека. Београд, 1964, с. с. 549.
115
путешествие по Европе. Цетиньский двор казался слишком скучным. Когда он
не мог посетить какой-нибудь страны, то останавливался в Вене... Его сыновья
походили на отца: и они блуждали по свету под надуманными предлогами, чаще
всего с целью получить удовольствие”11.
В черногорской столице устраивались пиршества по поводу приема иностран¬
цев. ’’Князь, - писал Г. Вукович, - придавал этим визитам исключительное значе¬
ние. Имея тощую казну, мы шли на большие финансовые жертвы. Цетиньской
общине нечем было платить за освещение города, содержать жандармерию, про¬
водить уборку мусора на улицах, а мы сооружали триумфальные арки, вывеши¬
вали на домах гирлянды цветов, расцвечивали огнями окрестные горы. Во двор¬
це устраивались роскошные застолья, организовывались балы и суаре. При каж¬
дом торжестве в Цетинье со всей страны съезжались военные и гражданские
власти. Во что обходились одни только парадные платья!”12.
Черногорский монарх бесконтрольно тратил на свою персону и на содержание
своей многочисленной семьи финансовую субсидию, получаемую из России, а так¬
же займы из других стран Европы. Это были немалые деньги. Так, по указанию
Николая II, с 1902 г. Россия предоставляла ежегодно Черногории по трем ведомст¬
вам - военному, внешнеполитическому и народного просвещения, а также от
синода - 500 тыс. руб. за вычетом 30 тыс. на комиссионные расходы13. После
подписания в 1910 г. секретной военной конвенции между Россией и Черногорией
размер русской субсидии увеличился до 1,5 млн. руб. в год14. Кроме того, Чер¬
ногория получала несколько раз единовременно от Франции и Италии по 3 млн.
франков15.
Черногорский монарх вел двойную игру на международной арене. Престоло¬
наследник Данила поддерживал тайные связи с Австро-Венгрией, пытаясь подор¬
вать отношения не только с Россией, но и с Сербией16. Немалую роль в этом иг¬
рали денежные расчеты. Австро-Венгрия сулила Черногории кредиты в обмен на
ее измену России. В качестве предварительного взноса в 1912 г. Николай получил
от австро-венгерского правительства 365 тыс. крон1 7.
По словам начальника генерального штаба Австро-Венгрии генерала Франца
Конрада фон Гётцендорфа, король Николай напоминал собой ’’канделябр с двумя
ручками: благодаря одной он получал кредиты от России, благодаря другой -
от Австро-Венгрии”. В письме Францу-Иосифу генерал советовал австрийскому
императору не жалеть денег на подкуп черногорского монарха. ’’Короля Нико¬
лая, - писал он, - можно купить с потрохами”18.
Американский историк Ганс Хальгартен, сгущая краски, утверждал, что чер¬
ногорский монарх участвовал ”в биржевой игре всех европейских держав и был
самым крупным спекулянтом на Балканах”. Стяжательство, по словам Хальгар-
тена, было одной из непреоборимых страстей короля Николая. Историк приписы¬
вал черногорскому монарху ’’дьявольскую хитрость”, утверждая, что он мог об¬
вести вокруг пальца всех своих соперников в Юго-Восточной Европе. ’’Это, веро¬
11 Четрдесетогодитн ица владавине кнеза Николе. Мемоари в oj в о де Гавра ВуковиЙа, цр-
Еогорског мини стара иностраних д |ела и председника Државног савета у пензщи. Цетин>е,
1928, с. 29-31.
12 Там же.
1 3Центральный государственный исторический архив СССР, ф. 22, оп. 3, д. 131, л. 7.
14 Центральный государственный военно-исторический архив СССР (далее - ЦГВИА),
ф. 2000, on. I, д. 7418, л. 10-15. Журнал совещания по вопросу о возобновлении военной по¬
мощи Черногории. Петербург, 31.111.1914.
15 ШкеровиЪ Н. Из односа Црне Горе и Pycnje. Bojna конвенци]а из 1910. - Истори]ски за¬
писки, кн», XVI, св. 3-4. Београд, 1959, с. 113-123.
ВучковиП В. Указ, соч., с. 349.
1 7 Kriegsarchiv Wien. Evidenzbiiro, 1912, S. 5527.
1 *Цит. по: Хальгартен Г. Империализм до 1914. М., 1961, с. 522-524.
116
ятно, самый ловкий монарх, когда-нибудь владевший бараньими стадами на Бал¬
канах”19, - писал Хальгартен.
Биограф монарха Душан Вуксан подметил другую характерную черту Нико¬
лая — чрезмерное влечение к неограниченной власти. Это качество, писал Вуксан,
стало особенно сказываться с годами. Вначале монарх мирился со званием ’’Ва¬
ша светлость”, затем начал претендовать на титул ’’Ваше княжеское высочество”,
или по-сербски ’’Высочанство”, а воссев в 1910 г. на трон, стал ’’Вашим королев¬
ским величеством”. С этого момента, делал вывод Вуксан, господарь окончатель¬
но перестал быть вождем черногорского народа, превратившись в самодержца20.
Как же складывался жизненный путь черногорского монарха?
ИЗ РОДА НЕГОШЕЙ
Николай родился 7 октября 1841 г. в семье видного черногорского военачаль¬
ника великого воеводы Мирко Петровича в селении Негу ши. Он получил хорошее
образование сначала в гимназии в г. Триесте, затем - в парижском лицее и уже в
молодости овладел тремя иностранными языками - немецким, итальянским и
французским, позже изучил русский, понимал по-турецки.
Юноша увлекался вольнолюбивыми идеями и в 1859 г. едва не присоединился
к Джузеппе Гарибальди, но этому, по его словам, помешал погонщик мулов, от¬
казавшийся отправить лицеиста из Франции в лагерь итальянского революцио¬
нера21. Однако уже через год все изменилось самым кардинальным образом:
дядя Николая, князь Данила, предложил ему вернуться домой. В том же 1860 г.,
после убийства Данилы Негоша террористом, совет старейшин избрал Николая
черногорским князем.
Перед 19-летним лицеистом возникла нелегкая задача управлять Черногорией.
Стране угрожали турки, княжество находилось в упадке, оно не имело статуса
самостоятельного государства, находясь в формальной зависимости от Османской
империи. Многие из современников считали Николая не способным повести за
собой страну: князь был молод, склонен к романтизму, слыл сентиментальным
поэтом, но не воином, а главное — не имел достаточной поддержки со стороны
придворных. Однако вскоре дела пошли на лад, хитростью и упорством Николай
приобрел единомышленников и уже через два года приступил к военным дей¬
ствиям, проявив при этом не только военные, но и дипломатические способности.
В войне 1862 г. черногорцы, хотя и не добились победы, заключили почетный
для себя мир, а в 1877-1878 гг., объединившись с Сербией и получив военную под¬
держку России, разбили турок. После Берлинского конгресса 1878 г. Черногория
вдвое расширила свою территорию и получила независимость.
Больших успехов князь добился и на международной арене. Получив поддерж¬
ку России и Франции, он сумел наладить отношения и с Турцией, куда ездил дваж¬
ды - в 1883 и 1899 гг.22 23 С 1881 г. в столице Черногории открылись иностранные
посольства, к 1910~г., когда страна стала королевством, их насчитывалось уже 11.
Черногория в свою очередь учредила консульства и резиденции в разных странах
Европы и в Турции2 3.
Николай осуществил ряд важных внутренних реформ: реорганизовал государ¬
ственное управление, систему просвещения, ввел судебное законодательство.
При нем появилась развитая сеть почтово-телеграфной службы, начали выходить
19 Там же.
2 ° Вуксан Д. Црна Гора у европском рату. - Записи, кнэ. XV, св. 4. Цетин>е, 1936, с. 241
242.
2,Мемоари крала Николе. - Записи, кн>. XIII, св. 6. Цетин»е, 1935, с. 331-338.
23Никола IПетровиЪ-Негош. Мемоари. Цеппье, 1988, с. 659, 688.
2 3 Padocaeoeufi J. МеЪународни разво] Црне Горе XIX ejeKy. Београд, 1910, с. 116-120.
117
Князь Николай (из архива Дворца Николая)
журналы и газеты, открывались средние учебные заведения, а в столице стали
функционировать музеи и даже те^тр2 4.
Сам князь внес свой вклад в развитие национальной культуры. Он был писа¬
телем и поэтом. Некоторые произведения Николая приобрели широкую извест¬
ность, в том числе исторические драмы ’’Вукашин” и ’’Балканская царица”, поэмы
’’Новая Зета”, ’’Орлица”, ’’Поэт и русалка”, очерки ’’Путешествие в Царьград”
и ’’Путешествие в Петербург”, исторические трактаты ’’Герцеговинское восстание
1876 г.” и ’’Берлинский конгресс 1878 г.”, а также многочисленные стихи25.
Но его реформы отличались непоследовательностью: монарх сохранил архаи¬
ческую родоплеменную систему управления государством, чем обрек страну на
отставание в развитии государственных институтов J В Черногории только в 1905 г.
был создан парламент - Народная скупщина, октроированная конституция не
привела к существенным переменам — как и прежде, вся полнота власти осталась
в руках монарха. Николай преследовал любое проявление инокомыслия, жестоко
расправлялся с парламентской оппозицией. Он засадил в тюрьму ее лидера Андрия
Радовича, который пять лет провел в одиночной камере, прикованный цепями к
а *Вуксан Д. Школе у Црне Гори. - Лужках. Цетин»е, 1926, с. 58.
15Александров А. Историческое развитие духовной жизни Черной Горы и князь-поэт
Николай I. СПб., 1895, с. 26-32.
118
стене. В стране свирепствовала правительственная цензура. Наибольшим пресле¬
дованиям подвергалась учащаяся молодежь, прежде всего те студенты, которые
обучались в Белградском университете и других зарубежных учебных заведе¬
ниях26.
Видный русский общественный деятель, лидер кадетов П.Н. Милюков, побывав¬
ший в черногорской столице накануне Балканских войн, писал, что на него произ¬
вела тяжелое впечатление атмосфера, царившая в ту пору в Цетинье. ”На улицах
Цетинья не говорят громко. Здесь не только стены, но и сам воздух имеет уши
и все слышит. Здесь даже между четырьмя углами говорят шепотом и конспири¬
руют... Придворная камарилья заслонила от князя истинное настроение стра¬
ны... В Черногории господствует полное беззаконие. Народ разорен тяжелыми по¬
борами, камарилья раздает иностранцам лакомые куски народного богатства,
всюду царит произвол”27. Государственный аппарат Черногории все больше
разъедала коррупция. Взяточничество и лихоимство не имели предела. Окружение
монарха, писал Милюков, ”не видит разницы между казенным добром и личным
кошельком”28 29.
КОРОЛЬ (1910-1918)
Дальнейшим шагом по пути укрепления самодержавия в Черногории стало пре¬
образование в августе 1910 г. княжества в королевство. Это событие совпало с
50-й годовщиной княжения Николая и было отмечено им как двойной праздник.
В Цетинье прибыли представители многих государств: король Италии Виктор Эм¬
мануил с супругой Еленой, царь Болгарии Фердинанд 1 с наследником престола
принцем Борисом, греческий престолонаследник Константин, племянник короля,
престолонаследник Сербии Александр Кара Георгиевич, российские великие князья
Николай Николаевич и Петр Николаевич Романовы с супругами, князь Франц-
Иосиф Баттенберг с княгиней Анной, эмиссар турецкого султана Мехмеда V
Хильмц-паша и многочисленные сопровождающие их лица.
Из Италии на празднество была послана целая команда моряков, из России —
15-й пехотный полк, носивший имя черногорского князя Николая, и оркестр
морского флота, из Хорватии и Словении — актеры самодеятельных театров,
из Франции и Англии — представители прессы и частные лица. Почетных гостей бы¬
ло столько, что их не смог вместить столичный дворец, и торжества были перене¬
сены на Обиличеву поляну, где устраивались военные парады. Глава правительст¬
ва доктор Лазо Томанович писал в воспоминаниях: ”На Обиличевой поляне был
проведен военный парад. В первых рядах шли убеленные сединой ветераны,
воевавшие вместе с Николаем против турок. Они были облачены в народную
одежду и вооружены старым почетным оружием. За ними следовали войска
в новенькой, только что полученной русской униформе, а за их спинами гар¬
цевала конница из Пивы. Командующий парадом генерал Янко Вукотич, сидя
на боевом коне, зачитал телеграмму царя Николая II о провозглашении черно¬
горского короля русским фельдмаршалом” 2 9.
Этот акт был обставлен с особой торжественностью и должен был засвидетель¬
ствовать ’’нерушимую дружбу” двух монархов. Жезл фельдмаршала, изготовлен¬
ный из серебра ц инкрустированный драгоценными камнями, был вручен дядей
царя, Николаем Николаевичем Романовым, который зачитал также указ царя о
присвоении российских воинских званий сыновьям черногорского короля: прес¬
толонаследнику Даниле — генерал-майора, среднему сыну Мирко — полковника,
26 Бажов ufi Т., БоновиП J. Црна Гора и напредни покрет. Београд, 1911, с. 307-308.
2 'Милюков П.Н. Балканский кризис. СПб., 1912, с. 294-295.
2 8Там же, с. 292.
29 ТомановиЪ А. Поводом мемоара Гисла. - Записи, кни И, св. 1-3. Цетшье, 1928, с. 350.
119
младшему сыну Петру - поручика. 15-й русский пехотный полк, участвовавший
в войне с Турцией в 1877-1878 гг., был переименован в ’’полк его величества
короля Черногории” и приведен к присяге Николаю Петровичу-Негошу.
Подаркам и подношениям новоявленному королю не было числа. Каждый из
именитых гостей соперничал друг с другом, изо всех сил стараясь угодить королю.
Так, австро-венгерский посланник генерал кавалерии барон Владимир Гизль лично
подвел к Николаю под уздцы двух чистокровных жеребцов — подарок австрий¬
ского императора Франца-Иосифа; Хильми-паша от имени турецкого султана пе¬
редал монарху боевого коня, идентичный подарок сделали представители Англии,
Франции и Сербии; итальянский король Виктор Эммануил III вручил черногор¬
скому монарху чек на 50 тыс. лир для возведения в Цетинье госпиталя и только
болгарский царь Фердинанд не преподнес ничего - вместо подарка он произнес
витиеватую здравицу30.
Некоторый конфуз произошел и с российскими подарками. Императорское
посольство в Цетинье передало управляющему королевского дворца два портре¬
та - царя и царицы во весь рост, но они оказались столь велики, что не вошли в
апартаменты короля, и их пришлось укорачивать...31
Но это были всего лишь мелочи: празднество прошло на самом высоком уров¬
не. Оно продолжалось целую неделю и недешево обошлось черногорской казне.
Вскоре правительству пришлось брать новые займы. Оно обратилось к России.
Царское правительство на основе подписанной в 1910 г. секретной военной кон¬
венции предоставило Черногории ежегодный кредит в размере 1,5 млн. руб. и
единовременно около 4 млн. руб., оговорив, однако, что эти деньги должны ис¬
пользоваться только на военные нужды32. Черногория в обмен на субсидию бра¬
ла на себя обязательство согласовывать с российским генеральным штабом свои
военные планы и не вступать в войну с другим государством без его санкции 33.
Военная конвенция, при неукоснительном ее исполнении обеими странами,
имела большое значение как для Черногории, так и для России. Черногория бла¬
годаря этому соглашению получала возможность создать регулярную армию
вместо системы родоплеменных воинских формирований, существовавшей ранее,
Россия укрепляла свое влияние на Балканах и в то же время добивалась стабиль¬
ности в проведении внешней политики Черногории. Это было особенно важно,
так как Россия стремилась создать Балканский союз, объединив под своей эгидой
балканские монархии, в том числе Турцию.
Однако уже в 1912 г. король Николай начал нарушать военную конвенцию.
Он не только продолжал бесконтрольно тратить деньги на личные нужды, нанося
ущерб делу реорганизации черногорских вооруженных сил34, но и отказался от
согласований с Россией своих военных планов. В октябре 1912 г. Черногория всту¬
пила в войну с Турцией, в 1913 г. вторглась на территорию Албании, а затем при¬
няла участие в войне с Болгарией.
В Петербурге приняли решение о временной приостановке выплаты Черного¬
рии военной субсидии. Новое улучшение русско-черногорских отношений про¬
изошло только за несколько месяцев до начала первой мировой войны, когда и
Черногория и Россия самой логикой событий были вынуждены протянуть друг
другу руки. Однако, вступив в войну против Австро-Венгрии, Николай время от
времени продолжал нарушать союзнические обязательства, преследуя своекорыст-{
ные цели. г
Одной из них являлось стремление по возможности увильнуть от совместных^
3 ° Kanutyih-Драгичевик П.А. Зубиле] 1910. Цетинье, 1989.
31 Соловьев Ю.Я, Указ, соч., с. 142:
32 АВПР, ф. Политархив (далее - ПА), д. 1808, л. 5.
33Шкеровик Н, Указ, соч., с. 113-123.
34ЦГВИА, ф. 2000, on. 1, д. 7418, л. 10-15.
120
действий с сербскими войсками и сохранить свои силы для захвата территорий
соседних государств.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Достаточно четко эти планы прослеживаются по совершенно секретной инструк¬
ции короля, направленной им в самом начале войны командующим отдельных час¬
тей черногорских войск. В документе, подписанном монархом 8 сентября 1914 г.,
говорилось: ’’Эту депешу по прочтении уничтожьте... Я вас заклинаю Богом всемо¬
гущим, всеми средствами сохраняйте остаток моих войск... Не посылайте их в
кровавые схватки, а смотрите разумно на дело, не теряйте головы... Братья сербы
имеют достаточно людей, и они могут их расходовать, а мы, как вы знаете, имеем
мало и много их потеряли... Если все это нарушите, вы будете прокляты Богом
и Мной. Любящий вас король. Цетинье. 8 сентября 1914”35.
Принцип ’’беречь людей” соблюдался королем только тогда, когда надо было
действовать вместе с сербской армией или участвовать в операциях, предусмотрен¬
ных царской Ставкой. В то же время черногорский монарх безжалостно посылал
свои войска для захвата территории Герцеговины и Косова. В июне 1915 г. он ок¬
купировал албанский городок Скутари и окрестные районы, сделав их управи¬
телем своего родственника воеводу Б. Петровича. Российский посланник в Сер¬
бии Г.Н. Трубецкой так его охарактеризовал: ’’Черногорским правителем области
был дядя короля старый воевода Негош-Петрович. Посетив его, я нашел малень¬
кого старичка в черногорском национальном костюме, к которому как-то не шло
пенсне. Он был очень стар и, кажется, ничем уже не мог деятельно заниматься,
постоянно жалуясь на подагру в пояснице. По облику он походил на типа, выра¬
ботавшегося при черногорском дворе — смесь французского ’’буливардьера”
с балканским ’’комитаджием”, не то ’’монтер”, не то жуликоватый делец, не то
разбойник с большой дороги. Более деятельным был начальник черногорских
войск в этом районе молодой и энергичный генерал Вешович. В нем не чувствовал¬
ся ’’буливардьер”, но в сильной степени были развиты другие, перечисленные мной
свойства. Свой выезд по городу он обставил восточным образом, а сзади него с
ружьями наперевес скакали какие-то жандармы древнего инвалидного вида”36.
Королю Николаю в последние годы вообще стало изменять чувство реальнос¬
ти, столь свойственное ему в начале его княжения. Стремление к парадности пре¬
обладало над трезвым расчетом. Не изменив своих привычек, он сильно изменил¬
ся внутренне. Черногорский король по-прежнему ’’играл в демократизм”, ходил
в одном и том же грубом и простом черногорском платье с неизменной маленькой
шапочкой — ’’капой” на голове, называл своих подчиненных по имени и на ”ты”,
но это уже был совсем другой человек и другой, в самой своей сущности, государ¬
ственный деятель. Когда-то он был расчетливым дипломатом, после воцарения
стал самовлюбленным сатрапом и самонадеянным руководителем внешней поли¬
тики черногорского государства.
О том, как он командовал войсками, рассказал в воспоминаниях австро-венгер¬
ский военный атташе в Черногории майор Густав Хубка: ’’Поступающие с фронта
донесения (в главную квартиру. — Ю.П.} принимал, как правило, лично король.
Потом эти бумаги валялись многие часы и даже дни на столах в курительной ком¬
нате или исчезали в просторных карманах королевского платья. Столь же прими¬
тивно обстояло дело с изданием распоряжений и их отправкой на фронт. Депеши
составлялись без серьезного обдумывания, наспех, на них не ставились даты,
они нигде не регистрировались. Приказы писались от руки самим королем или под
3 5 Архив Државног дома-музе]а на Цетин.у. Никола I. 1914, ф. 1, № 127.
звТдубечкон Г.Н. Русская дипломатия в 1914-1917. Война на Балканах. Монреаль, 1983,
с. 209.
121
диктовку одной из принцесс или кем-нибудь из присутствующих и тотчас, минуя
проверку, отправлялись на телеграф”37.
Расхлябанность в верховном командовании и черногорском правительстве
способствовала поражению черногорских войск и их капитуляции.
В октябре ноябре 1915 г. сокрушительное поражение от войск Четверного
союза потерпела союзная Черногории Сербия, после чего в критическое положение
попало и черногорское королевство. Против него была двинута 3-я австро-вен¬
герская армия под командованием генерала Германа Кёвеша фон Кёвешази,
насчитывавшая 75 тыс. солдат и офицеров и имевшая на вооружении 564 артилле¬
рийских орудия, тогда как в черногорской армии было всего около 44 тыс. чело¬
век, 65 орудий и 30 пулеметов устаревшей конструкции38 39.
В то же время на территорию Черногории хлынула 150-тысячная отступавшая
сербская армия, нуждавшаяся в отдыхе и продовольственном снабжении. Вместе
с ней в страну из Сербии двинулось до 50 тыс. гражданских беженцев, также нахо¬
дившихся в бедственном положении. Эта эвакуация напоминала паническое бегст¬
во. В большой растерянности находилось и само сербское правительство. Приняв
22 ноября решение оставить территорию Сербии во избежание разгрома и плене¬
ния армии, оно лишь в самых общих чертах наметило план отступления сербских
войк, предусмотрев временную остановку их в Черногории, но при этом не учтя
реальной ситуации в этой стране, которая сама нуждалась в продовольствии и не
могла обеспечить жильем сербские войска.
Правительство Пашича не могло ответить даже на вопрос, что будет с ним са¬
мим. Российский посланник в Сербии получил на это следующий ответ сербского
премьера: ”У меня, сказал Пашич, - есть друзья между албанцами, которые про¬
ведут меня тропинками до Дурреса”. Правительство Пашича оказалось в тяжелом
положении, растерялось. Был оставлен на произвол судьбы даже дипломатический
корпус: ему было предложено двигаться на свой страх и риск сначала в Черного¬
рию, а потом на побережье Адриатического моря для соединения с союзниками.
Г.Н. Трубецкой написал интересные воспоминания об этой трагедии: ’’Наши но¬
чевки были самыми примитивными. Мы обыкновенно останавливались в каком-
нибудь хане (времянке). Ханы этииредставляли дощатые строения,.которые нель¬
зя было топить. Между тем в горах был снег и стояла настоящая зимняя погода.
С большим трудом и за большие деньги доставали мы сено лошадям. Местами до¬
рога была испорчена, местами не было никакой дороги, приходилось ехать по рус¬
лам протоков, карабкаться по обледеневшим тропинкам, ведя под уздцы
лошадей. Мы приходили под вечер усталые, изможденные в хан, где уже часто на¬
биралось столько народа, что отдохнуть было трудно... Подходить к хану прихо¬
дилось чуть ли не ползком по мерзлой тропинке — наконец, мы добрались до хана.
Нам указали второй этаж. Там я нашел в небольшой комнате человек 10 англичан
и французов, Иована Иовановича (помощник министра иностранных дел Сер¬
бии. - Ю.П.} с женой и сыном. Комната ничем не была'освещена, не топлена, в ней
не было ни скамей, ни столов, приходилось располагаться на полу, как были, не
раздеваясь. Даже сена не хватало, чтобы постелить под себя. Можно было только
его подложить себе под голову. Я повалился, как пласт, на пол, чувствуя себя не
в состоянии что-нибудь предпринять”3 9.
При подходе к Черногории перестали встречаться и ханы. Пришлось ночевать
под открытым небом, прямо в горах. ’’Кульминационным пунктом нашего пу¬
тешествия, - писал далее Трубецкой, - была вершина горы Чакор... Наступила
37БуришиЪ М. Улога крал»а Николе у првом Балканском рату. - Исторщски записки,
khl XVII, св. 1. Београд, 1960, с. 72.
38Велики рат Серби]е за ослобо^еьье и yjenwibeibje Срба, Хрвата и Словенаца, к».. XVII.
Београд, 1938, с. 59.
39 Трубецкой Г.Н. Указ, соч., с. 204.
122
ночь. Она застала нас на высокой горной тропинке. Налево — гора, поросшая
хвойным молодняком, направо - невероятная круча-пропасть, из глубины коей
слышался глухой рокот потока. Дальше двигаться было невозможно”40.
В первых числах ноября дипломаты, бежавшие вместе с сербской армией из
Ниша, наконец добрались до Черногории.
Последняя встретила дипломатов неприятностями. Страна переживала трудные
времена. К ее границам приближалась австро-венгерская армия. Ощущалась ост¬
рейшая нехватка продовольствия, в черногорских войсках шло брожение. Наблю¬
дался рост пораженческих настроений и среди правящих кругов. Впервые за за¬
ключение перемирия с Австро-Венгрией еще в ноябре высказался престолонаслед¬
ник принц Данила. Находясь в Швейцарии, он направил министру иностранных
дел Австро-Венгрии барону Буриану письмо, в котором сообщал о готовности
Черногории выйти из войны и порвать союз с Сербией в обмен на согласие Австро-
Венгрии передать Черногории ряд территорий, в том числе земли близ г. Рагузы
(Дубровника) на побережье Адриатического моря41.
Буриан отклонил это предложение, так как Австро-Венгрия вообще не соби¬
ралась отдавать Черногории какие-либо земли, тем более находившиеся под
властью Австрии. Назвав предложение Данилы ’’экстравагантным”, он заявил, что
монархия Габсбургов и без того заставит Черногорию выйти из войны, победив
ее силой оружия 42. Пораженческие настроения в правящих кругах черногорского
государства усилились.
26 декабря 1915 г. вопрос о перемирии поднял в Народной скупщине Гавро
Вукович, ставший лидером оппозиции. ’’Черногория, - сказал он, — выполнила
свои обязательства (по военному союзу с Сербией. - Ю.П.), пора подумать и о соб¬
ственном спасении”43. При этом он театрально воздел руки к небу и закатил глаза,
как бы напоминая о том, что все теперь зависит от Господа Бога и что настало вре¬
мя дать правительству право свободно решать судьбу своей страны, не считаясь с
интересами союзника.
В тот же день правительство скрытого австрофила Лазаря Миюшковича при¬
грозило королю отставкой, в случае, если он будет продолжать войну. Л. Миюш¬
ковича поддержала принцесса Ксения, пользовавшаяся влиянием на отца. По сло¬
вам Г.Н. Трубецкого, она давно плела при дворе политические интриги, подрывая
единство сторонников военной партии. ’’Перезрелая княгиня, - писал Трубец¬
кой, - была любовницей сразу двоих государственных деятелей - Лазаря Миюш¬
ковича и наместника Подгорицы Николая Пламенаца” 44.
За прекращение войны выступали также королева Милена, престолонаследник
Данила и младший сын Николая Петр. Сам король все еще колебался: он был про¬
тивником безусловной капитуляции, которая могла привести к смене власти, но
опасался и продолжения военного сопротивления. Черногорский монарх не хотел
покидать страну вместе с отступавшей сербской армией, его беспокоила также
судьба своего престола в случае отъезда в расположение сербских войск.
Тем временем началось генеральное наступление австро-венгерских войск.
5 января 1916 г. они произвели массированную бомбардировку черногорских по¬
зиций на горе Ловчен, а на следующий день атаковали Цетинье45. Правительство
Черногории бежало из столицы в город Подгорицу, в спешке оставив даже госу¬
40 Там же, с. 205.
41 ВучковиЪ В. Указ, соч., с. 242.
4*ШкеровиЪ Н. Црна Гора за врюеме првог свщстског рата. Београд, 1963, с. 102.
4*ВулетиЯ С. Демисща црногорске владе у децембру 1915 године. - Записи, юь.ХУ,
св. 4. Цетиле, 1936, с. 2-12.
44 Трубецкой Г.Н. Указ, соч., с. 208.
4 ’ Велики рат Србще за ослобо!|енэе и у|един»ен£ Срба, Хрвата и Словенаца, кн. XIV. Бео¬
град, 1936.
123
дарственные печати. Туда же переехал и дипломатический корпус. Король размес¬
тился во дворце Крушевац, принадлежавшем принцу Мирко, дипломатам были
предоставлены скромные и неблагоустроенные помещения в простых домах
горожан. ’’Все дни, что мы пробыли в Подгорице,- вспоминал Трубецкой, - мы
очень страдали от холода. Помещения не были приспособлены к условиям зимы,
они были без печей, во всем городе нельзя был найти железной печи” 46.
О содержании дипломатического корпуса в Подгорице никто не заботился.
Чтобы не попасть в плен, дипломатический корпус отправился в г. Скутари, куда
из Черногории отступили и сербские войска. При эвакуации российского посоль¬
ства был уничтожен архив. ”Я сжигаю бумаги”, - телеграфировал в Петроград
временный поверенный в делах России в Черногории Н.А. Обнорский.
Вслед за дипломатами, но уже скрытно 17 января в Скутари уехал глава черно¬
горского правительства Лазарь Миюшкович, после чего в Подгорице остались толь¬
ко король и несколько министров.
КАПИТУЛЯЦИЯ ЧЕРНОГОРИИ
В эти последние дни перед капитуляцией король Николай находился в простра¬
ции. Он не знал, что делать, метался из стороны в сторону, то созывая экстренные
ночные заседания правительства, на которых выдвигал сумасбродные планы ор¬
ганизации военного отпора противнику, то впадал в полное отчаяние. Вспоминая
о том времени, депутат Народной скупщины Янко Тошкович писал: ’’Вместо об¬
суждения государственных и военных вопросов, король разглагольствовал о бы¬
лых победах черногорского оружия, выслушивал льстивые речи и несбыточные
планы царедворцев. Генерал Митар Мартинович уверял присутствующих в скорой
помощи со стороны союзников и хотя все знали, что помощи ждать неоткуда, ему
вторили, боясь прогневать короля” 47.
Черногорский монарх хотел также свалить ответственность за поражение на
союзников. Французский посланник в Цетинье Деларош-Верне писал: ’’Король
вызвал меня поздно ночью, подняв с постели, и потребовал немедленной присыл¬
ки морской эскадры, когда же я посоветовал послать об этом телеграмму непос¬
редственно командующему союзным флотом в Адриатическое море герцогу
Авруцкому, король заявил: ”Я лучше умру, чем обращусь за чем-нибудь к этим
изменникам””. Резюмируя полученное от посланника донесение, президент Фран¬
ции Р. Пуанкаре записал: ”У нашего посланника создалось впечатление, что эта
ночная тревога должна служить ширмой для подготовки капитуляции Черного¬
рии”48.
12 января в Подгорице состоялось заседание правительства для обсуждения
ультиматума противника. Оно закончилось безрезультатно, а правительство пода¬
ло заявление о коллективной отставке. Секретарь личной канцелярии короля Ми- ,
лош Живкович писал в воспоминаниях об этих событиях: ’’Вчера (в ночь с 12 на
13 января. - Ю.П.). в 2 часа 30 минут ночи, король позвал меня в свой-кабинет. -
Перед ним на столе горело несколько свечей, а большая пепельница была заполне- 0
на целой горой недокуренных сигарет - доказательство его необычайной нервоз-1
ности. Предложив сесть, он передал письмо. ’’Читай”, - сказал король. Вскрыв и
конверт, я прочитал: N
’’Ваше Величество! *
V
Правительство Вашего Величества считает, что не было бы оправдано ни с ка¬
кой точки зрения, если Ваше Величество и Ваше правительство оставят страну в-
46 Трубецкой Г.Н. Указ, соч., с. 208-209.
ToiuKoetfh J. Истина о капитулаци) и Црне Горе. Цетин>е, 1957, с. 15-17.
48Пуанкаре Р. На службе Франции, т. II. М„ 1936, с. 224.
124
этот критический момент. Они должны разделить с народом его судьбу. В то же
время, как стало известно Вашему правительству, наши войска не в состоянии
^оказать далее какой-нибудь отпор. В связи с этим мы предложили немедленно
заключить перемирие. Ваше Величество это предложение отвергло, ввиду чего
Ваше правительство вынуждено просить отставку и заявить, что с этого момента
оно перестает функционировать и не несет ответственности за дальнейшее разви¬
тие событий. Ваше Величество известили: Л. Миюшкович, М. Радулович, Р.Попо-
вич, Б. Вешович. Крушевац, 31.XII. 1915 (13.I.1916)”49.
Дальнейшие события развивались стремительно. 14 января король обратился
с личным посланием к австрийскому императору с предложением заключить мир
на приемлемых для Черногории условиях. В послании говорилось:
’’Государь!
Сегодня Ваши войска заняли мою столицу и черногорское правительство оказа¬
лось вынужденным просить Императорское и Королевское правительство о пре¬
кращении военных действий и о мире между владениями Вашего королевского
и императорского величества и моей страной. Условия счастливого победителя
могут быть суровыми, я обращаюсь заранее к Вашему королевскому и импера¬
торскому величеству с ходатайством о почетном мире, достойном престижа на¬
рода, пользовавшегося Вашей высокой благосклонностью, Вашим уважением
и симпатией. Я надеюсь, что Ваше рыцарское и великодушное сердце не пойдет на
его унижение, им незаслуженное. Николай”5 0.
Через два дня черногорский король получил ответ от австрийского императора,
в котором Франц-Иосиф подтвердил ультимативное требование командования
3-й австро-венгерской армии о безоговорочной капитуляции вооруженных сил
страны и безусловной сдаче черногорцами оружия, как общевойскового, так и
личного51. Последнее требование было особенно оскорбительным для черногор¬
цев, которые по традиции носили личное оружие.
Ответ австро-венгерского монарха окончательно обескуражил черногорского
короля, и он решил оставить страну. Перед бегством он созвал заседание Совета
министров утром 19 января. Сохранился любопытный протокол об этом заседа¬
нии. В нем говорилось: ’’Король скрывал свои истинные чувства, ни с кем не
соглашался, размышлял о чем-то про себя, ни с кем не делясь о своих мыслях.
Готовя в тайне побег, он, однако, заявлял, что собирается в Никшич к войскам.
Король Николай разыгрывал такую комедию, что за него было стыдно”52.
После совещания во дворце короля посетил командующий черногорскими
войсками генерал Янко Вукотич. Последний рассказал следующее: ’’Прибыв в
Крушевац, я спросил дворецкого: где государь? У себя в комнате, — получил я
ответ. Раньше я никогда не входил к королю без доклада, соблюдая этикет, но се¬
годня громко постучал в дверь, так, что он удивился. Перед государем за столом
стоял Мирко, совсем больной, а князь Петр за другим столом стучал перстнем.
’’Что случилось, Янко?” - спросил король с удивлением. ”Ты меня не ждал, го¬
сударь?” - ответил я. ’’Садись, Янко!”. После этого он продолжил разговор с
Петром, прерванный моим появлением. ”Ты собираешься отречься от своих
прав?” - спросил Петр. ’’Хочу, сын”, - ответил король. Тут я подумал, что речь
идет об обычной семейной ссоре, каких немало уже было при дворе. После паузы
король сказал мне: ”Я уезжаю”. ’’Куда, государь?” - спросил я. - ”В Скутари”.
У меня потемнело в глазах, я потерял самообладание и почти закричал: ’’Вот что,
49Цит. по: ЖивковиИ М. Пад Црне Горе. НикшиЙ-Беране, 1935, с. 106.
’° АВПР, ф.ПА, д. 1608, л. 4.
51 Операщце црногорске eojcKe у првом светском рату. Београд, 1964, с. 520.
52 Архив Исторщског института Црне Горе, ф. 170. Протокол рада Црногорске владе за
период 3.1-1.Ш. 1916, с. 619, № 21.
125
государь! Я служил тебе 30 лет, был предан тебе больше, чем твоя жена и твои
дочери, больше всех. Я тебе так скажу: ты слушаешься своих сыновей, а они не
служили ни тебе, ни отечеству, не пеклись никогда о Черногории. Ну, что же, уез¬
жай, изменяй и ты!”. В таком духе я говорил не помню сколько времени. ’’Янко!
Янко! Успокойся!” — прервал меня король. — Я обещал семье, что вечером буду
в Скутари, но даю тебе слово, что завтра вернусь обратно” 5 3.
Однако это была очередная ложь. Спешно собрав бумаги и драгоценности, ко¬
роль в 15 часов того же дня уехал. По дороге его автомобиль встретили минист¬
ры Марко Радулович и Радомир Вешович. Король даже не остановил свою маши¬
ну — он спешил на пароход, чтобы как можно быстрее попасть в. Скутари. Затем,
миновав Скутарийское озеро, он поздним вечером добрался до этого города и
вечером следующего дня вместе со своей свитой покинул его. Перед отъездом
король вызвал Вукотича по телефону и заявил ему, что уезжает из Черногории
”за море” для того, чтобы обратиться к союзникам за помощью. Король снова
солгал. Прибыв в порт на Адриатическом море Сан-Джовани-ди Медуа (по албан¬
ски — Шенгини), он имел краткую встречу с принцем-регентом Сербии Александ¬
ром, а затем сел на итальянский пароход. Перед отъездом из Подгорицы он напи¬
сал прокламацию черногорскому народу, в которой говорилось: ’’Препоручаю
мою дорогую родину и наш народ Всемогущему и молитвам всех наших святых и,
прощаясь с вами, говорю: до скорого свидания. Николай”54.
Но это ’’свидание” так никогда и не состоялось. Черногория, оставшись без
главы государства и главы правительства, сдалась на милость победителя. Произо¬
шло это 7 февраля 1916 г. Свободолюбивый черногорский народ оказался под яр¬
мом чужеземного завоевателя.
НА ЧУЖБИНЕ
21 января 1916 г. в 11 часов утра от морского причала в Сан-Джовани-ди Медуа
отошло итальянское военное судно, направлявшееся со строго-секретным спе¬
циальным рейсом в Италию. На его корме находился король Черногории, тщатель¬
но скрывавший свою личность. Командой корабля были приняты все меры предо¬
сторожности: он шел без опознавательных знаков, постоянно маневрируя, чтобы
избежать встречи с австро-венгерскими подводными лодками, и в густом тумане,
затруднявшем действия вражеской авиации. Впрочем, эти меры были ненужными:
черногорским монархом уже никто не интересовался — судьба его страны была
предрешена и пленение главы черногорского государства не входило в планы ко¬
мандования 3-й австро-венгерской армии, ожидавшей с часу на час неизбежной
капитуляции остатков черногорских войск.
Поздно вечером того же дня король прибыл в итальянский порт Бари, откуда
поездом тотчас направился во Францию, не остановившись даже в Риме, где его
ожидала дочь Елена55. Самодержец спешил, опасаясь возможности покушения.
Перед его встревоженным воображением вставала запомнившаяся с юности кар¬
тина: окровавленный труп его дяди князя Данилы, убитого черногорцем в Котта -
ро в 1860 г. Через два дня он был уже в Лионе, куда приехали и члены его семьи —
королева Милена, сын Петр, дочери Ксения и Вера, а также сопровождавшие их
лица. Два старших сына короля, престолонаследник Данила и королевич Мирко,
не поехали с отцом: первый находился в Швейцарии, где вел веселую жизнь, сло¬
няясь по кабакам, второй остался в Черногории и позже стал сотрудничать снача¬
ла с временным правительством Марко Радуловича, потом с оккупационными
властями. м
**Л>убуриЪ А. Капитулашца Црне Горе. Документа, кн?. II. Београд, 1940, с. 52. А
54Цит. по: БетковиЬ J. Чедин>ен>е Црне Горе и Срби]е. Дубровник, 1940, с. 178. Ф
5 5 АВПР, ф. ПА, д. 1609, л. 61. М.Н. Гире - МИД, Рим, 24 (11) .1.1916. .Р
126
Король Николай, королева J
1916 г. (из семейного архива)
Здесь же, во Франции, оказались председатель Совета министров Черногории
Лазарь Миюшкович, еще ранее бежавший из страны, эмиссар Николая Андрия Ра-
дович, которого Николай после освобождения из тюрьмы снова приблизил к
себе, и ряд других государственных деятелей. Из них королем было сформирова¬
но эмигрантское правительство во главе с Л. Миюшковичем. Оно, однако, не сра¬
зу было признано союзниками, которые не знали, что делать с беглым королем.
Одни руководители великих держав считали короля предателем черногорского
народа, другие относились к его бегству более терпимо, третьи полагали, что его
можно еще использовать в борьбе с Австро-Венгрией.
Особенно остро военное поражение Сербии и Черногории и бегство короля Ни¬
колая восприняли при императорском дворе в Петрограде. Царица Александра
Федоровна, разочаровавшись в правителях Сербии и Черногории, писала с прису¬
щей ей экспрессией в письме царю: ’’Бедной Сербии пришел конец, но такова,
127
по видимому, ее судьба, ничего не поделаешь. Вероятно, это - наказание стране
за то, что они убили своего короля и королеву”56.
В том же духе царица объяснила причину поражения Черногории. Король Нико¬
лай, отмечала она, ’’расплачивается за свои грехи перед Богом и Тобой... Господь
мстит за себя. Только мне жаль народа - это все такие герои”. Во всех бедах ца¬
рица обвиняла также дипломатов России и союзников, которые, по ее словам,
’’упустили” балканские государства, позволив Болгарии присоединиться к Цент¬
ральной коалиции, а Греции и Румынии изменить союзному договору 1913 г. с
Сербией. ’’Черт побери эти балканские государства! Россия всегда была для них
любящей матерью, а они изменили ей и сражаются с ней”. И вопрошала: ’’Погиб¬
ла ли Черногория или ей поможет Италия?” Говоря о союзниках, царица обруши¬
лась на Италию, обвинив ее в полном игнорировании просьб Сербии и Черногории
оказать им военную поддержку. ’’Итальянцы — эгоистичные скоты покинули их
в беде, трусы!” - негодовала она5 7.
Тот же вывод об отсутствии содействия Черногории и Сербии со стороны за¬
падных союзников сделала и влиятельная английская газета ’’Таймс”. ’’Капитуля¬
ция Черногории, - писала она, — является фактом, к которому нельзя относиться
с пренебрежением. Она служит напоминанием того, что для победы в войне союз¬
никам надо проявлять и больше сил и больше предусмотрительности, чем они
это делали до сих пор”5 8.
Еще более определенно высказался министр финансов Англии Дэвид Ллойд
Джордж: ’’Политика союзников на Балканах в течение всего начального периода
войны, - констатировал он, - отмечена удивительным отсутствием дальновиднос¬
ти и здравого смысла... Мы в самом начале отказались поддержать Сербию, хотя
мы тогда могли спасти эту страну”5 9.
Во Франции, Италии и России ряд государственных деятелей выступал за под¬
держку короля Николая. На этой позиции стояли российский посол в Париже
А.П. Извольский, министр иностранных дел Франции Аристид Бриан, его итальян¬
ский коллега Сидней Соннино, генеральный секретарь Министерства иностранных
дел Франции Жюль Камбон, король Италии Виктор Эммануил и государственный
секретарь США Роберт Лансинг.
В Австро-Венгрии и Германии реакция на бегство короля Николая и военное
поражение Сербии и Черногории была двоякой. Правящие круги держав Централь¬
ной коалиции в подавляющем большинстве выразили удовлетворение этими собы¬
тиями, считая, что они знаменовали собой упрочение позиций германского блока
на Балканах и явились предвестником успешного для него окончания войны. Так,
австрийский официоз газета ’’Нойе фрайе прессе” в передовой от 14 января 1916 г.
писала: ’’Конечно, Черногория не Бог весть какая обширная страна, но завоева¬
ние ее Австрией и Германией имеет огромное политическое значение... Теперь твер¬
дыня сербской независимости подпала под нашу власть. Уничтожено последнее^
прибежище поборников сербской смуты”60.
Венгерская газета ’’Пештер Ллойд”, злословя по поводу постигшей короля*
Николая неудачи, отмечала: ”55 лет сидел в своем орлином гнезде лукавый Нико-*
ла, хищным взором глядя на страны Европы... Теперь он превратился в бездомно*-
го бродягу”61.
Начальник генерального штаба Австро-Венгрии генерал Франц Конрад фон Гет-'
цендорф настаивал на лишении короля Николая престола и ратовал за ликвидации*
независимого черногорского государства и за включение его территории в состав^
58 Цит. по: Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире. Париж, 1923, с. 84.
5 7 Там же.
5 8ЦГВИА, ф. 2000, on. 1, д. 5114, л. 82.
5 9Ллойд Джордж Д. Военные мемуары, т. VI. М., 1937, с. 101.
eoNeue Freie Presse, 14.1.1916.
61 Pester Lloyd, 14.1.1916.
128
монархии Габсбургов. На той же позиции стояли австрийский военный министр
Александр Кробатин, министр-президент Австрии граф Карл Штюргк и многие
другие государственные деятели дунайской монархии62.
Но среди них были и противники аннексии Сербии и Черногории. Наиболее от¬
четливо эту точку зрения высказал министр-президент Венгрии граф Иштван
Тиса. Еще 7 января 1914 г. на заседании объединенного австро-венгерского пра¬
вительства он заявил: ”В настоящее время нелегко решить сербскую проблему в
рамках монархии. Уже сейчас в Австро-Венгрии мы имеем более трех миллионов
сербов. С присоединением еще нескольких миллионов ситуация заметно ухудшит¬
ся”63.
К его взглядам был близок ряд австро-венгерских дипломатов. Во внешнеполи¬
тическом ведомстве Австро-Венгрии на Балльхаузплатце был разработан план про¬
ведения тайных переговоров с королем Николаем и премьер-министром его пра¬
вительства Миюшковичем о возможности заключения с Черногорией сепаратного
мира, а посланнику в Мадриде князю Фюрстенбергу было поручено передать ко¬
ролю предложение переехать в нейтральную Испанию64. Германия в свою очередь
возобновила контакты с черногорским престолонаследником королевичем Дани¬
лой. Внешнеполитическое ведомство на Вильгельмштрассе использовало с этой
целью знакомство своего агента графа Бернсдорфа с супругой Данилы Ютой
(Милицей), урожденной герцогиней Мекленбург-Нойсфелиц, дальней родствен¬
ницей прусских Гогенцоллернов. Берлином были предприняты и другие попытки
установить связи с черногорской королевской фамилией6 5.
Все это вызвало беспокойство во Франции и России. На Кэ д’Орсэ было принято
решение изолировать короля Николая от внешнего мира, переселив его из частной
гостиницы в Лионе в более надежное место, подальше от швейцарской границы.
На этом особенно настаивал руководитель Кэ д’Орсэ Жюль Камбон, с которым
были согласны А.П. Извольский и российский посол в Италии М.Н. Гире. ’’Впол¬
не разделяю мнение Камбона о желательности удаления черногорского короля и
его правительства от Швейцарской границы”, - извещал царского министра ино¬
странных дел С.Д. Сазонова М.Н. Гире в телеграмме от 24(11) января 1916 г.66
Сначала черногорскому монарху была предоставлена вилла близ Лиона, кото¬
рая находилась под охраной французских солдат и за которой бдительно следили
детективы, затем возник план переселения его в Фонтенбло или Сен-Жермен, в
конце концов остановились на таком варианте: правительство короля переезжа¬
ет в г. Бордо, король в пригород Парижа Нейи. (В мае правительство тоже пе¬
реехало в Нейи.).
Великие державы еще не отказались окончательно от планов возвращения коро¬
ля на престол в Черногорию. Такой вариант имели США и Англия, особенно
Италия67. Россия стояла за объединение Черногории с Сербией68, Франция колеба¬
лась. Она поддерживала Сербию, но не хотела упустить из-под своего влияния и
черногорского короля.
Николай и его двор находились на содержании держав Антанты. В Нейи эми¬
грантскому правительству и семье короля были предоставлены солидные поме-
4aProtokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Ósterreichisch-Ungarischen Monarchie (1914—
1918). Budapest. 1966, S. 352-381.
63 Ibid., S. 350.
64 АВПР, ф. ПА, д. 1609, л. 86-88. Л.В. Иславин - МИД, Бордо, 20.11.1916, № 16.
взАВПР, ф. Комиссия, оп. 910, д. 561, л. 9. Весьма доверительная телеграмма русского
посла в Риме М.Н. Гирса Б.В. Штюрмеру от 19 (6) .IX.1916, № 644. Помета Л.В. Иславина:
’’Эти сведения в общем мне подтверждены”. - Там же. Л.В. Иславин - МИД, 24 (11) .IX.1916,
№53.
66 АВПР, ф. ПА, д. 1609, л. 58.
6 7 Архив Зугославще, ф. Архив J. 1овановиЬа. Й. Йованович - Н. Пашичу, Лондон,
25.IX.1916.
63 АВПР, ф. Канцелярия, 1916, оп. 470, д. 65, л. 44.
5 Новая и новейшая история, № 6
129
щения. Над особняком монарха вывешивался королевский штандарт, над зда¬
нием правительственной канцелярии - государственное знамя Черногории. К ко¬
ролю были приставлены лейб-медик и адъютант, выезды монарха сопровождал
почетный эскорт из французских гренадеров. При королевском дворе были аккре¬
дитованы представители союзных государств — чрезвычайные и полномочные по¬
сланники Франции, России и Италии, а также временные поверенные в делах Анг¬
лии и Сербии. Грецию представлял греческий посланник во Франции, США призна¬
вали черногорское правительство де-факто. В свою очередь королевский двор
имел консульскую службу в ряде европейских государств69.
Черногорский монарх получал ежемесячные субсидии от России, Франции, Анг¬
лии и Италии и кроме того страховые премии из парижских банков. Размер финан¬
совых пособий был весьма велик. В 1918 г. субсидии составляли значительную
сумму (300-400 тыс. франков). Вокруг этих поступлений кормились многие —
семья короля, его министры и чиновники, эмигранты, военные, многочисленная
челядь и просто случайные лица. Это заставило союзников пересмотреть систему
финансирования. В 1917 г. сумма субсидий была сокращена до 200—240 тыс.
франков в месяц, но и она была более чем значительной70. ’’Финансы Черногории
благодаря щедрой поддержке союзников, - отмечал российский посланник при
черногорском дворе Л.В. Иславин, - по-видимому, никогда не были в столь
блестящем состоянии, как ныне”71. Король Николай располагал большим состоя¬
нием : на его счету имелось более 4 млн. франков7 2.
Первое время за королем старательно ухаживали. Августейшей особе предос¬
тавляли возможность посещать парады, маневры и разводы войск, приезжать в
качестве почетного наблюдателя на Западный фронт. Французский президент
приглашал Николая на приемы в Елисейский дворец; в его распоряжение были
предоставлены два автомобиля, что в ту пору было редкостью73. Но дальше по¬
казных приемов дело не шло. Черногорскому королю неизменно отказывали,
когда он хотел сформировать свои вооруженные силы. Царь, поддерживавший
план включения черногорцев в сербскую армию, не захотел принять ’’русского
фельдмаршала” — короля Николая в Петрограде для переговоров о создании чер¬
ногорского войска74. ’’Безусловно отказываю в поездке короля Николая в
Россию во время войны”, — написал царь резолюцию на донесении Иславина о
намерении черногорского монарха приехать в Петроград75. Глава российского
государства не захотел предоставить преимущества черногорской королевской
фамилии перед сербами и порекомендовал Николаю определить своего сына
Петра в штат 1-й русской бригады генерала Лохвицкого, которая находилась во
Франции76.
Теми же соображениями руководствовался и представитель царской Ставки
при Верховном командовании союзных войск во Франции генерал Я.Г. Жилинс-
кий, отказав королю в почетном эскорте, составленном из русских офицеров.
"До сих пор не было прецедента назначения русских офицеров к иностранным мо¬
нархам, находившимся вне России”, — сообщал он директору дипломатической
канцелярии при Ставке Н.А. Базили 2 апреля 1916 г. Царь, прочитав телеграмму
Жилинского, одобрил этот шаг: ’’Считаю это излишним”77. Французское, англий¬
6 6 7 * 9 РадосавовиЪ J. Ме^ународни положа] Црне Горе у XIX ви]еку. Београд, 1960, с. 115.
70 АВПР, ф. Канцелярия, 1917, д. 82, л. 5.
71 Там же, 1916, д. 65, л. 50.
72Там же, л. 5.
73 Архив Истори]ског института Црне Горе. Мемуары Н. Хайдуковича, юь. II, с. 241,
277-278.
1ĄJPy6ypuh А. Капитулащца Црне Горе. Документа, кн>. 1. Београд, 1938, с. 77-78.
7 5Там же, с. 87.
76 ЦГВИА, ф. 2003, оп. 2, д. 1228, л. 191.
77 АВПР, ф. ПА, д. 1609, л. 119. Н.А. Базили - А.А. Нератову,... II. 1916, № 1158.
130
ское и российское правительства и союзное военное командование даже не сочли
нужным доводить до сведения черногорского правительства решения, которые
могли его интересовать. Черногорский представитель не приглашался на военные
конференции союзников в Шантийи78 . Без согласия королевского правительств:
было принято решение о включении черногорских добровольцев в состав сербс¬
ких и французских войск Салоникского фронта.
С королем Николаем не считались и в других важных случаях. Когда же он пы¬
тался сопротивляться — на него оказывали финансовое давление, приостанавливая
выплату субсидий. Особенно часто к этому способу прибегала Англия. Отношение
созюников к черногорскому монарху было порой даже пренебрежительным. Роль
короля была жалкой: он числился в монархах, но не царствовал и не управлял.
Еще более жалкое впечатление производил глава черногорского правительства
Лазарь Миюшкович. Он был не только слабым руководителем, с которым никто
не считался, но и имел дурную репутацию склочника и интригана. Он ссорился
по мелочам даже с королем и, когда его обвиняли в капитулянтстве, пытался
свалить обвинение за поражение Черногории на Николая. Последний долго терпел
Миюшковича, но был вынужден в конце концов уволить его в отставку. По совету
Л.В. Иславина и Жюля Камбона король весной 1916 г. назначил преемником
Миюшковича Андрия Радовича, который занимал в его кабинете пост министра
финансов. Однако он снова просчитался.
ОТРЕЧЕНИЕ
Радович так и не простил королю своего заключения в тюрьму в 1908—1913 гг.
К тому же он оказался сторонником сближения Черногории с Сербией и выдвинул
предложение об отречении Николая от престола в пользу сербского королевича
Александра Карагеоргиевича.
Предложение Радовича застало Николая врасплох. Он не только не собирался
уступить свой трон противнику, но и надеялся снова вернуться в Черногорию.
Однако выяснилось, что за спиной Радовича стоят Россия, Франция и даже Анг¬
лия, которые сделали ставку на Сербию, а не на Черногорию, списав последнюю
со счета.
В такой ситуации король решил прибегнуть к маневрам: затягивая ответ Радо-
вичу, он стал искать поддержки у Италии, которая была противницей создания
на Балканах сильного сербского государства. Одновременно Николай дал лживые
обещания союзникам о своей готовности пойти на сближение с Сербией и даже
возглавить борьбу против Австро-Венгрии.
Председатель Совета Министров и министр иностранных дел России Б.В. Штюр-
мер писал по этому поводу Л.В. Иславину 21 августа 1916 г.: ”В случае, если в бе¬
седе с Вами король Николай затронет вопрос о своем отречении от престола в
пользу королевича Александра сербского, поимейте в виду, что слияние двух брат¬
ских народов будет встречено с нашей стороны с чувством полного удовлетворе¬
ния. Однако опыт последних лет показал, что ко всякого рода подобным наме¬
рениям необходимо подходить с большой осторожностью, так как очень может
быть, что за ними скрываются какие-нибудь другие планы. Во всяком случае
Вам следует воздерживаться от каких-либо связывающих нас обязательств”.
На этом документе царь поставил резолюцию ’’Согласен”79.
Иславин предпринял попытку узнать об истинных планах короля, поставив
перед ним три вопроса: 1) собирается ли черногорский монарх действительно от¬
речься от престола за себя и своих сыновей; 2) намерен ли он в этом слу¬
чае уступить престол сербскому королевичу Александру или предпочтет передать
78ЦГА ВМФ СССР, ф. 418, on. 1, д. 3546, л. 33-53.
79АВПР, ф. ПА, д. 4063, л. 8. Б.В. Штюрмер - Л.В. Иславину, Петроград, 21.VIII.1916,
№3919.
5Ф
131
его своему внуку, малолетнему сыну принца Мирко Михаилу; 3) оставит ли он
престол за собой до конца своей жизни или, напротив, уступит его своему стар¬
шему сыну Даниле. Иславин потерпел полное фиаско. Николай не только не от¬
ветил ни на один его вопрос, но и сам перешел в наступление. Явившись к А.П.Из¬
вольскому, он пожаловался на Иславина, сказав, что посланник пытался оказать
на него давление. Король заявил, что само предложение об отречении является для
него оскорбительным. ’’Неужели у вас (в России. — Ю.П.) не удивились бы моему
намерению покинуть престол в такую минуту, когда я нахожусь вдали от Родины,
к тому же у меня ведь есть сыновья”80.
Извольскому не оставалось ничего другого, как заверить Николая в том, что
ему ’’неизвестен взгляд на этот вопрос царского правительства”. Николай тор¬
жествовал победу. Однако вскоре положение дел коренным образом изменилось.
Андрия Радович, порвав с королем, создал в марте 1917 г. оппозиционную Нико¬
лаю организацию ’’Черногорский комитет народного объединения” и попытался
возобновить требование об отречении короля.
Вновь созданная организация действовала энергично. В принятой ею программе
было положение о ликвидации черногорской монархии и передаче всей полноты
власти в стране в руки сербской династии Карагеоргиевичей.
Новым ударом по королю Николаю явилась Корфская декларация 20 июля
1917 г., подписанная главой сербского правительства Николой Пашичем и пред¬
седателем эмигрантского Югославянского комитета в Лондоне Анте Трумбичем.
В этом документе провозглашались цели войны: объединение всех югославских
земель вокруг Сербского королевства. В их числе имелась в виду и Черногория,
хотя черногорский король даже не был поставлен в известность о созыве кон¬
ференции. Николай выступил против этого решения. Но его никто не захотел
слушать. Державы Антанты отвернулись от черногорского монарха, обществен¬
ность перестала с ним считаться. Черногорский комитет народного объединения,
напротив, поддержал Корфскую декларацию, и это вызвало всеобщее одобрение.
Король Николай все больше и больше терял свою власть. Сменявшие друг
друга правительства выходили из повиновения, эмиграция рукоплескала Радови-
чу, а не королю, сербское правительство, успешно ведя войну на Салоникском
фронте, набирало силу, союзные Черногории государства прекратили выдавать
королевскому двору финансовую субсидию, президент Франции Пуанкаре пе¬
рестал приглашать Николая в Елисейский дворец.
26 ноября 1918 г. наступил неизбежный финал: в этот день черногорский пар¬
ламент - Народная скупщина - на заседании в Подгорице принял решение о лик¬
видации монархии. Король Николай был низложен с престола, ему было запреще¬
но возвращаться в Черногорию, его имущество подлежало конфискации.
Остаток своих дней Николай провел во Франции, где и скончался 1 марта
1921 г. в возрасте 80 лет. Лишь на два года пережила своего супруга бывшая ко¬
ролева Милена, которую Николай называл ’’Балканской царицей”. Династии
Петровичей досталась лишь узкая полоска земли на нейиском кладбище близ
Парижа и фамильная капецла.
С тех пор минули годы. Черногорцы восстановили многие памятники своего
прошлого. Русский архитектор-эмигрант В.Н. Краснов воздвиг на черногорской
горе Ловчен часовню в память о великом просветителе Черногории, одном из
предков короля Николая Петре Петровиче-Негоше. В Цетинье восстановлены
дворец короля и его старая княжеская резиденция Бильярда. Черногорцы хранят
в библиотеках и у себя дома произведения Николая, написанные им еще в XIX в.,
в период ’’черногорского Ренессанса”, историки пишут о князе-короле Николае
Петровиче-Негоше работы. Но никто не поднимает вопроса о переносе из Франции
останков короля — измена своему народу не прощается.
80АВПР, ф. Комиссия, оп. 910, д. 563, л. 5. Л.В. Иславин - Б.В. Штюрмеру, Париж,
26 (13) .VIII. 1916, № 9, л. 12. Л.В. Иславин - Б.В. Штюрмеру, Париж, 24 (11) .IX.1916, № 55.
132
©1991 г.
Л.С.БЕЛОУСОВ
БЕНИТО МУССОЛИНИ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ*
МЕЗАЛЬЯНС ДИКТАТОРОВ
Как это ни странно, но отношения между Гитлером и Муссолини,несмотря на,
казалось бы, явное ’’родство душ”, сходство идеологии и режимов, были далеко
не братскими, хотя внешне иногда выглядели таковыми. Диктаторы никогда
не питали друг к другу искренней симпатии. Применительно к Муссолини это
можно утверждать наверняка. Отношение Гитлера к дуче было сложнее. В 20-е
годы будущий фюрер откровенно восторгался главарем итальянских фашистов,
однако со временем его отношение претерпело эволюцию в соответствии с изме¬
нением положения малозаметного баварского шовиниста и его превращением
в канцлера крупной европейской державы.
До прихода Гитлера к власти Муссолини почти ничего не знал ни о нацистском
движении в Германии, ни о его главаре. Первыми начали искать контакты сами
нацисты, ибо Муссолини был в то время уже известной политической фигурой,
а о Гитлере за пределами Баварии вообще мало кто слышал. Поэтому в ноябре
1923 г., когда в Мюнхене провалился организованный нацистами ’’пивной путч”,
итальянская пресса писала о нем как о ’’трагикомедии” и утверждала, что Гитлер
вообще неспособен стать политическим лидером1.
В начале 30-х годов фюрер упорно добивался встречи с итальянским диктато¬
ром, но Муссолини побаивался идти на такой шаг. Из Рима приходило неизмен¬
ное ”да”, но с многочисленными оговорками о необходимости переноса встречи.
Судя по высказываниям дуче в кругу приближенных, Гитлер в те годы по-преж¬
нему оставался для него немного бесноватым, немного карикатурным выскоч¬
кой, написавшим трудночитаемую книгу ’’Майн кампф”. Исполненный собствен¬
ной значимости дуче видел в нем окруженного фанатиками мелкого политикана,
оказавшегося на ’’гребне волны” из-за счастливого стечения обстоятельств.
Единственное, что импонировало дуче, было восторженное отношение фюрера
к нему самому как к политическому наставнику. Муссолини умел разбираться
в людях, но в этом случае он проявил близорукость.
Впервые они встретились 14 июня 1934 г. на авиабазе Сан-Николо близ Венеции.
Гитлер прибыл с официальным визитом и сразу не понравился Муссолини. Не¬
приязнь дуче вызвали не только внешний вид рейхсканцлера и его нескончаемые
монологи, но и нескрываемый пангерманизм Гитлера, отчетливо проявившийся
в ходе переговоров. Оба диктатора умышленно избегали поднимать вопрос об
Австрии, но считали, что рано или поздно с ним придется столкнуться. Дуче рас¬
сматривал Австрию как зону интересов и приоритетного влияния Италии. Поэто¬
му в июле 1934 г., когда гитлеровцы предприняли попытку спровоцировать на¬
цистский мятеж в Вене, он занял жесткую позицию, послав четыре дивизии в
Бреннеро и продемонстрировав тем самым свою решимость недопустить при¬
соединения Австрии к Германии. ’’Гитлер несет ответственность за все, что прои¬
зошло, — зайвил он австрийскому принцу Штархембергу. — Пора покончить с этим
★Окончание. Начало см. № 5 нашего журнала за 1991 г.
1 Critica fascista, 15.XI.1923; 1 .XII.1923.
133
ужасным сексуальным дегенератом”2. Фюрер не счел возможным идти на обост¬
рение конфликта и публично отмежевался от организаторов путча. Он по-преж¬
нему расточал похвалы и любезности дуче, а в 1935 г., после вторжения в Абисси¬
нию (ныне Эфиопия) и введения Лигой наций экономических санкций против
Италии, заявил о своей готовности помогать ей всем необходимым.
Германо-итальянские отношения заметно потеплели в ходе фашистской интер¬
венции в Испанию, когда оба режима оказывали существенную помощь генера¬
лу Франко, но окончательный выбор в пользу Германии дуче сделал лишь осенью
1937 г., во время своего визита в рейх. Гитлер в полной мере взял реванш за
неблагоприятное впечатление, оставленное им у дуче после встречи в Венеции.
Он устроил Муссолини такой прием, который по пышности и торжественности
до тех пор аналогов не имел.
Пять дней визита представляли собой нескончаемую вереницу эффектных
зрелищ: Муссолини увидел мощные артиллерийские заводы в Гессене, внуши¬
тельные цейхгаузы в Потсдаме, маневры отлично экипированных войск в районе
Мекленбурга, стрельбу дальнобойной артиллерии на Балтике. Он был ошарашен
и восхищен отлаженной военной машиной Германии. Только теперь дуче понял,
что ’’мелкий подражатель” его идей стал властелином могучей державы. К завис¬
ти примешивался потаенный страх перед фюрером.
Гитлер добился поставленной цели, его шокотерапия дала блестящий эффект.
Из поездки по Германии Муссолини вынес впечатление, что она лучше кого бы
то ни было подготовлена к войне, что именно Гитлер в скором времени станет
вершителем судеб Европы и с ним лучше сотрудничать, чем враждовать. Тем
более, что основа для сближения действительно была: оба люто ненавидели больг
шевизм и открыто провозглашали свою готовность бороться с ним. В ноябре
1937 г. Италия официально присоединилась к антикоминтерновскому пакту,
заключенному между Германией и Японией, в декабре вышла из Лиги наций,
а в марте 1938 г. была вынуждена смириться с аншлюсом Австрии.
Отступничество дуче от Австрии привело к резкому падению его популярнос¬
ти в стране и за рубежом. В средствах массовой информации сообщение об
аншлюсе прошло без всяких комментариев. В ряде университетских городов
даже состоялись демонстрации протеста воинственно настроенной молодежи.
А затем официальная пресса начала дружно хвалить фюрера, наконец-то объеди¬
нившего две страны, которые, дескать, давно этого хотели. Выступая 16 марта
в парламенте, Муссолини заявил, что ”мы никогда не брали на себя обязательст¬
во подобного рода (защиты Австрии. — Л.Б.) ни прямо, ни косвенно, ни устно,
ни в письменном виде”, и если уж событие становится ’’фатально неизбежным,
то лучше, если оно происходит с вашим (парламента. — Л.Б.) участием, чем без
вас, или еще хуже, против вас”3. Таким образом, дуче, еще не успев стать парт¬
нером, превращался в вассала Гитлера. Судя по дневниковым заметкам Чиано,
дуче и в дальнейшем не испытывал к фюреру ни капли симпатии, а только страх
и черную зависть. Эти чувства порождала не столько личность Гитлера, сколько
те возможности, которыми он располагал. Муссолини считал, что ему не суждено
ни создать военно-промышленную мощь, как в ’’третьем рейхе”, ни воспитать
железную дисциплину нации. В этом он усматривал явную историческую неспра¬
ведливость: ему, пророку фашистской религии, была уготована участь подмас¬
терья. Чувство абсолютного духовного и умственного превосходства над Гитле¬
ром давно и прочно укоренилось в дуче. И с каждым годом это чувство все боль¬
ше и больше вступало в противоречие с усилением его зависимости от воли фю¬
рера, с той подчиненной ролью, которая ему выпала в альянсе диктаторов.
До конца своих дней Муссолини так и не смог с этим смириться.
2MendliР. Mussolini piccolo borghese. Milano, 1959, p. 201.
3Mussolini B. Opera omnia, v. XXXI. Firenze, 1959, p. 117.
134
Курс на сближение с Германией повлек за собой не только введение в армии
’’римского шага”, но и более тяжелые последствия — законодательное оформле¬
ние и насаждение в Италии антисемитизма. В молодости Муссолини не страдал
этим ’’недугом”. Первые семена антисемитизма мог посеять в его сознании Ницше,
но в те годы они не д”ли обильных всходов. Долгой и устойчивой была его лю¬
бовная связь с Маргаритой Сарфатти, среди министров фашистского прави¬
тельства были А. Финци и Г. Янг, дантистом диктатора был доктор Пиперно
Еврейская национальность этих людей не имела для Муссолини никакого значе¬
ния. И хотя в отдельных, редких высказываниях дуче проскальзывали нотки
антисемитизма (банкиров Лондона и Нью-Йорка он обвинял в сионизме, а боль¬
шевизм называл ’’местью иудеев христианам”), этот мотив не был доминирую¬
щим. Более того, в беседе с Э. Людвигом дуче заявил: ’’Естественно, никаких чис¬
тых рас, в том числе еврейской, не существует. Напротив, именно удачные сме¬
шения придают силу и красоту нации... В Италии нет антисемитизма”4. У Гитлера
были основания заявить итальянскому послу в Берлине Б. Аттолико, что единст¬
венное, чего он не может принять, это ’’линии дуче в еврейском вопросе”.
И Муссолини начал постепенно менять эту линию. В 1937 г. он вдруг поведал
Чиано, что США находятся в руках негров и евреев, а Риббентропа пытался уве¬
рить в том, что итальянские фашисты развертывают антисемитскую кампанию,
хотя на деле этого пока еще не происходило. Позже Муссолини говорил, что
итальянские расовые законы были гораздо хуже на бумаге, чем на практике, но
это замечание верно лишь в сравнении с Германией. Когда в 1943 г. нацисты
оккупировали Северную и Центральную Италию, итальянские фашисты отпра¬
вили 8 тыс. евреев в гитлеровские концлагеря, где их ждали печи и газовые
камеры.
По мере сближения с гитлеровской Германией акции режима и лично дуче
внутри страны обесценивались все больше. Положение младшего партнера ’’треть¬
его рейха”, которое трудно было замаскировать разговорами о ’’дружбе и взаимо¬
выручке”, не только сокрушало мифологему о ’’Великой Италии”, но уязвляло
национальное самолюбие итальянцев. Обещанный ’’корпоративный рай” почему-то
не наступал, а сам режим приобретал законченный тоталитарный характер.
Источником возраставшего массового недовольства был разрыв между обеща¬
ниями фашистов, рожденными на их основе надеждами и реальными итогами.
На уровне обыденного сознания именно это несоответствие преломлялось в воз¬
раставшее недовольство политикой Муссолини.
Осенью 1938 г. политические акции дуче вновь на короткий срок поднялись
в цене. Ему удалось предстать в ореоле миротворца и вершителя судеб Европы.
В те тревожные сентябрьские дни опасность возгорания новой мировой войны
была действительно велика. Встреча Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье
в Мюнхене началась вечером 29 сентября. По настоянию дуче представители Че¬
хословакии не были допущены за стол переговоров. Экзальтация Муссолини
достигла предела. Все выглядело так, будто именно он руководил работой кон¬
ференции. Сформулированные немцами требования дуче выложил на стол пере¬
говоров в качестве собственного проекта. Председательствуя на заседании, он пы¬
тался объясняться с каждым из участников на его родном языке, и, хотя ему
это не всегда удавалось, известный эффект был достигнут. Матерый политик
Чемберлен с едва заметной усмешкой наблюдал экспрессивную мимикрию лица
Муссолини, живость его взгляда, уверенность жестов — все показывало, что имен¬
но он осуществлял верховный арбитраж, спасал мир, творил историю.
Шумный дипломатический успех Муссолини оказался очередным блефом,
созданным под диктовку фюрера. Опьяненный триумфом дуче не хотел пони¬
4LudwigЕ. Colloqui con Mussolini. Milano, 1965, p. 73.
135
мать, что ’’великая поступь” римского диктатора все больше превращается в мел¬
кий, семенящий шаг в тени тщедушного австрийца. Как должное воспринял он
при возвращении из Мюнхена и приветствие короля, внезапно прервавшего свой
отдых и появившегося на вокзале во Флоренции,и бурные рукоплескания фашис¬
тов на запруженной ими улице Национале в Риме, и крики о его величии в Бо¬
лонье и других городах, где останавливался поезд.
Казалось, Муссолини должен был быть доволен общим положением дел. Но его
ни на минуту не покидало досадное чувство беспокойства, и все время казалось,
и не без оснований, что фюрер неискренен в своей дружбе, что он утаивает под¬
линные намерения и водит его за нос. Однако сюрприз, который Гитлер вскоре
преподнес ’’дорогому Муссолини”, превзошел все самые худшие опасения дуче.
В марте 1939 г. без какого-либо повода войска вермахта оккупировали остав¬
шуюся часть Чехословакии. Официальные объяснения Берлина, что чехи, мол,
не выполняли условий Мюнхенского договора и плохо обращались с немцами
на своей территории, выглядели смешными и нелепыми. Но еще более смешным
и нелепым выглядел теперь дуче: Гитлер не только не посвятил его в свои замыс¬
лы, но даже не счел нужным дать письменные объяснения постфактум. Как и при
захвате Австрии, он лишь прислал с устным уведомлением ó содеянном прин¬
ца Филиппо. Дуче был взбешен и глубоко уязвлен поведением партнера. Он
даже запретил сообщать в печати о способе, которым его проинформировал
фюрер.
Задетое честолюбие диктатора требовало каких-то ответных шагов, и по нау¬
щению Чиано Муссолини бросил войска на завоевание небольшой Албании. В мае
1939 г. между Италией и Германией был подписан разработанный в гер¬
манском министерстве иностранных дел договор, получивший название ’’Сталь¬
ного пакта”. Оба государства брали на себя обязательство выступить на стороне
друг друга в случае любого вооруженного конфликта. Для Италии этот пакт был
ловушкой, так как Гитлер уже был готов привести в действие ’’План Вайс”
(Белый план) — атаку на Польшу. Дуче, считавший себя хитрым и дальновид¬
ным политиком и надеявшийся с помощью договора быть в курсе намерений
Гитлера, вновь крупно просчитался. В коварстве и хитрости ему было далеко
до Гитлера. Сказанное вовсе не означает, что летом 1939 г. дуче пытался удержать
Гитлера от агрессии. Просто он не предполагал, что война уже действительно
стояла на пороге, а когда понял,идти на попятный было уже поздно.
Дуче заметался. Он бросался из одной крайности в другую и тянул время.
Его душа переполнялась противоречивыми порывами: злоба на Гитлера уступала
место решимости выступить на его стороне, страх за возможные последствия
авантюры чередовался с боязнью выглядеть трусом и предателем, жажда не упус¬
тить свое, особенно в Хорватии и Далмации, отступала перед пониманием сла¬
бости итальянской военной машины. Муссолини сознавал, что оказался в слож¬
ном и унизительном положении. В его советах не нуждались, с его интересами
не считались. Больше всего он боялся оказаться на задворках событий миро¬
вого масштаба и остаться ни с чем во время дележа победного пирога.И,чтобы
избежать этого, вновь приводилось унижаться.
Начав войну против Польши, фюрер не настаивал на немедленном выступле¬
нии Италии на его стороне. Дуче воспользовался предоставленным ему шансом
и даже выдумал специальный термин ’’неучастие”, желая тем самым подчерк¬
нуть, что Италия занимает не пассивную позицию, а лишь ждет своего часа. Это
’’ожидание” продлилось до весны 1940 г., когда молниеносная оккупация Бель¬
гии и вторжение гитлеровцев на французскую территорию развеяли последние
сомнения итальянских правящих кругов. Блеск чужих побед заслонил реалии
итальянской действительности, ибо страна к войне не была готова: армия не рас¬
полагала не только передовой техникой, но и достаточным обмундированием для
солдат. Однако для Муссолини это уже не имело значения.
136
С первых же дней вступления Италии в войну стало ясно, что так называемый
’’военный порыв нации” был не чем иным, как сценой из дешевой оперетты.
Войска терпели поражения, а любые, даже самые незначительные продвижения
вперед оплачивались ценой больших потерь. Боевой дух солдат был чрезвычайно
низок, в стране начались перебои с продовольствием, ощущалась нехватка пред¬
метов первой необходимости, как снежный ком, нарастало массовое недовольст¬
во населения.
Муссолини видел, что так называемые ’’завоевания итальянского оружия”
есть не что иное, как всего лишь побочный результат действий гитлеровских
войск. Но, как всякий диктатор, он упрямо отказывался верить в слабость управ¬
лявшегося им государства, его неспособность решить силой поставленные задачи.
Дуче упрямо гнал от себя мрачные мысли и всячески избегал попыток трезвого
анализа ситуации. Он настойчиво убеждал себя, что выбор сделан правильный,
что неудачи носят тактический характер, что обратного хода нети не будет. Его
настроение часто менялось в зависимости от боевых действий, и он внезапно
переходил от неуемной радости к глубокой депрессии.
Как и прежде, он очень пекся о своем здоровье, боялся разных болезней, тяже¬
ло переносил их психически, получал много лекарств, верил в них, сидел на стро¬
гой даете, питаясь в основном фруктами, рисом и молоком. При обострениях
язвенной болезни дуче становился злым, нервным и опасным - близкие и родные
хорошо это знали. Он был зол на весь мир, раздражался по пустякам, с подозре¬
нием относился ко всякому, кто интересовался его здоровьем. Муссолини ежед¬
невно читал военные сводки, правил их по своему усмотрению, и ему по-преж¬
нему казалось, что он вершит функции главкома и направляет ход военных дейст¬
вий.
Однако у стареющего диктатора никогда не хватало мужества сообщить италь¬
янцам правду о положении дел на фронтах. А, может, ему это даже в голову не
приходило. Дозы и содержание оперативной информации для населения определя¬
лись им лично, репортерам оставалось лишь подать их в соответствующей упа¬
ковке. Муссолини распорядился печатать в газетах бюллетени о своем рабочем
дне, оставлять допоздна свет в своем рабочем кабинете ”Маппамондо” (’’Карта
мира”), а однажды, после выздоровления, пригласил на виллу ’’Торлония”италь¬
янских и зарубежных журналистов, чтобы они увидели и описали его ’’динамич¬
ное утро”: бег, теннис, скачка на лошади, чтение телеграмм, быстрые ответы...
Однако смутное ощущение приближавшейся развязки становилось все навяз¬
чивее. Оно особенно усилилось в конце 1942 г. — начале 1943 г., когда 220-ты¬
сячная армия под названием АРМИР (” Итальянская армия в России”) потерпе¬
ла сокрушительное поражение в районе среднего течения Дона. Как боевая еди¬
ница АРМИР перестала существовать. Она потеряла более половины личного
состава, почти всю военную технику и снаряжение.
В 1942 г. по стране Прокатилась мощная волна рабочих выступлений, заметно
активизировалась деятельность антифашистских партий. В марте 1943 г. ком¬
мунисты организовали всеобщую забастовку на Севере Италии, в которой участ¬
вовало более 300 тыс. человек. Выступала молодежь, все громче становился ро¬
пот населения, а полицейские осведомители ежедневно доносили о подозритель¬
ном поведении и разговорах иерархов. Чиано не таясь болтал на площадках для
гольфа и в великосветских салонах о вине Муссолини. Д. Гранда искал контак¬
ты с королевской свитой, Дж. Боттаи вслух рассуждал о необходимости спа¬
сения режима, даже если для этого надо будет пожертвовать Муссолини. Король
Виктор Эммануил также вынашивал идею сместить дуче, но очень боялся своего
грозного ’’слугу” и стоявших за его спиной германских нацистов. Еще больше
он боялся тех потрясений, которые могли быть спровоцированы известием об
отставке Муссолини. Тем не менее вскоре именно он встал в центре военно-монар¬
хического заговора.
137
Утром 24 июля 1943 г. секретарь ПНФ К. Скорца информировал дуче о заго¬
воре генералов и о решении короля назначить новым премьер-министром мар¬
шала П. Бадольо. Ракеле со слезами на глазах пыталась убедить мужа принять
дополнительные меры предосторожности, но Муссолини оставался упрямо глух
и слеп. Он механически твердил, что ему следует опасаться только американских
танков, а вечером состоится лишь обычная встреча и беседа товарищей. В тот
же день тайком от мужа Ракеле встретилась с доверенным лицом Гиммлера пол¬
ковником Э. Дольманом и поведала ему о планах заговорщиков.
Муссолини мог нанести удар иерархам и генералам даже без помощи немцев.
Почему он не сделал этого? Видимо, не только потому, что не был кровожадным,
как писали впоследствии многие авторы. Дуче никогда прежде не проявлял коле¬
баний в борьбе с политическими противниками, решимости ему было не зани¬
мать. Дело, вероятно, в другом. Муссолини не хотел вступать в борьбу. До сих
пор он ощущал свою силу и опирался на мощную поддержку созданного им по¬
лицейского государства, партии, многих представителей имущего класса, гене¬
ралитета, отдельных социальных слоев и групп. Теперь же этой могучей под¬
держки не было. Дуче вдруг ощутил вокруг себя пустоту. В стане противника
оказались даже бывшие соратники. Земному ’’полубогу” была непривычна эта
мертвящая душу пустота вокруг, и он покорно брел навстречу судьбе, ведомый,
словно бычок на заклание, сознанием неотвратимости происходившего. Как ник¬
то другой, он понимал, что арест заговорщиков мог лишь продлить агонию и
отсрочить печальный финал, но не предотвратить его. И понимание этого парали¬
зов ывало его волю й способность к борьбе.
На заседании Большого фашистского совета дуче пытался оправдываться,
а затем лишь изредка бросал злобные реплики в ответ на сыпавшиеся на него
обвинения. Впоследствии Д. Гранди высказал предположение, что внутренне
он был согласен с обвинителями и в то время его единственным желанием было
уйти на отдых в Рокка делле Камминате. Но Муссолини не хотел добровольно
сложить с себя полномочия! 20 лет обладая властью и бесконтрольно распоря¬
жаясь ею, он уже не мыслил себя вне этой власти, он привык к ней, поэтому
самому принять решение об уходе тогда было ему не по силам.
25 июля 1943 г. стало днем кульминации личной драмы Муссолини. Из все¬
могущего дуче он превратился в отставного диктатора, безропотно принявшего
свое поражение. После аудиенции у короля он был арестован и спрятан в казар¬
ме карабинеров в Риме. В столице в тот же вечер начались волнения. По мере
того как сенсационное известие распространялось по Апеннинам, на улицы вы¬
ходили все новые и новые толпы людей, с трудом верившие, что долгожданное
событие свершилось. Узнав о происшедшем, Гитлер немедленно принял реше¬
ние оккупировать Италию. Вечером 25 июля части вермахта начали пересекать
границу в Бреннеро, и в течение месяца на Апеннины было введено дополни¬
тельно семь германских дивизий.
Первая ночь, проведенная дуче в казарме карабинеров, была ужасной. Маясь
от тревог и духоты, он почти не спал. В письме к сестре свергнутый диктатор
писал: ”Я считаю себя на три четверти трупом... Я ни о чем не жалею и ничего
не хочу”5. Все, кто видел Муссолини после ареста, отмечали, что это был инерт¬
ный, безропотный, покорный, не пытавшийся протестовать, безразличный ко веет
му человек, сломленный и увядший. Дуче мгновенно скис, ницшеанский ’’сверх¬
человек” кончился.
Через два дня после ареста дуче был отправлен на остров Понца, затем пере¬
везен на остров Маддалена — маленький архипелаг у северного побережья Сарди¬
нии, а 31 августа доставлен на высокогорный зимний курорт Гран Сассо и по¬
мещен в гостиницу ’’Кампо императоре”. 10 сентября он услышал по радио Ал¬
5 Цит. по: Gallo М. Vita di Mussolini. Bari, 1967, p. 300.
138
жира, что одним из условий подписанного Италией перемирия была выдача его
союзникам. Встревожившись не на шутку, Муссолини заявил начальнику охраны,
что живым в руки англичан не дастся. В тот день он еще не знал, что условие
было нарушено, а недавние военно-монархические заговорщики уже сбежали
из Рима. 12 сентября дуче был театрально ’’освобожден” из плена германскими
парашютистами О. Скорцени6, а еще через два дня бывший узник встретился
с Гитлером в Мюнхене. •
Сцена свидания была очень трогательной. Объятия и рукопожатия сопровож¬
дались бурным выражением восторга по поводу ’’чудесного спасения” дуче. А
затем ’’верные друзья” остались наедине. О содержании их беседы Муссолини
рассказал впоследствии журналисту К. Сильвестри, а Гитлер - Геббельсу. Ат¬
мосфера встречи резко изменилась. Дуче униженно просил Гитлера отпустить его
на покой, доказывая, что это единственный способ ’’избежать в Италии граж¬
данской войны” и что смертельная усталость и бессилие не позволяют ему про¬
должать борьбу. Но фюрер освобождал его не для нытья. Ему нужен был преж¬
ний дуче — самоуверенный, мнящий себя великим, но послушный, а главное -
способный возродить в Италии фашизм. Муссолини был необходим как символ,
вокруг которого еще можно было собрать остатки разбежавшегося воинства.
Поэтому Гитлер не скрывал своего разочарования и злости на расквасившегося
дуче, отчитал его как провинившегося школяра. Вопрос был поставлен жестко:
или Муссолини с помощью немцев вновь становится главой нации, возвращает
Италию в стан союзников Германии и наказывает предателей, или Гитлер берет
на себя ’’заботу о судьбах итальянцев”. Выбора не было, и Муссолини пришлось
согласиться. Именно пришлось, так как предлагавшаяся ему роль жалкой марио¬
нетки была унизительной, а желание уйти на покой - искренним, но невыпол¬
нимым.
18 сентября дуче обратился к итальянцам с речью, которая была передана
по радио из Мюнхена. Он провозглашал воссоздание фашистского режима в
форме республики, грозился сурово покарать предателей, клятвенно обещал
’’сбить спесь” с буржуазии, сделать ’’труд основой государства”, отдать предприя¬
тия рабочим, а землю — крестьянам. Однако голос уставшего человека, моно¬
тонно читавшего подготовленный текст и неожиданно срывавшегося на патети¬
ческие восклицания, совсем не походил на прежние монологи самоуверенного
диктатора.
Новое правительство выглядело жалким и комичным. 23 сентября дуче окон¬
чательно утвердил его состав и в тот же день отправился в Италию. ”Мы летим
в Рим?” — спросил он своего попутчика генерала СС К. Вольфа. Надменный немец
лишь холодно пожал плечами и скорчил гримасу. Положение дуче было до смеш¬
ного нелепым: он даже не знал, куда его везут. Министерство иностранных дел
марионеточного правительства располагалось в местечке Сало, давшем условное
название новоявленной республике. У нее был свой флаг, сохранивший нацио¬
нальные цвета, но вместо герба савойской династии на нем появился орел, дер¬
жащий в когтях ликторский пучок — символ фашизма. Дуче назначил новых
префектов, въехал в подготовленную для него резиденцию, и на том его суве¬
ренные действия кончились. Реальная военно-политическая власть принадлежала
представителю рейха в Италии Р.Ранну командующему войсками маршалу А. Кес¬
сельрингу и ответственному за внутренний порядок и безопасность в Италии ге¬
нералу СС К. Вольфу.
Дуче постоянно находился под усиленной охраной эсэсовцев, а его робкие
6Никакой необходимости в рискованной операции, проделанной О. Скорцени и связанной
с посадкой и взлетом планеров с небольшой площадки в горах, не было, ибо к тому времени
вермахт уже контролировал все окрестности. Однако в противном случае был бы утрачен
эффект ’’освобождения*’.
139
попытки возражать ни к чему не приводили. Телефонная и телеграфная связь
правительства осуществлялась немецкими связистами, а весь обслуживающий
персонал в доме Муссолини, включая парикмахера и массажиста, состоял на служ¬
бе у гестапо. Каждый шаг и каждое слово дуче немедленно становились из¬
вестны Вольфу, а все, что он писал, ложилось на стол Ранна и проходило жесткую
цензуру. Рукой этого флегматичного немца из манифеста воссозданной фашист¬
ской партии был вычеркнут пункт о сохранении национальной целостности
Италии.
Манифест неофашистов, получивший пышное название ’’Веронской хартии”,
был принят на съезде в Вероне в ноябре 1943 г. Муссолини отредактировал весь
документ и лично написал его первую часть, в которой провозглашалось ’’осво¬
бождение фашизма” от сковывавших его пут и вынужденных компромиссов,
а также возврат к ’’революционным истокам во всех сферах, особенно в соци¬
альной”. Однако новый приступ социальной демагогии не дал, да и не мог дать
сколько-нибудь ощутимых результатов. Социальная карта Муссолини была уже
бита, ему никто не верил, как, впрочем, не верил и он сам в эти провозглашен¬
ные им лозунги.
По настоянию Гитлера Муссолини предал суду и казнил фашистских иерархов,
включая своего зятя Г. Чиано, голосовавших против него на заседании Большого
фашистского совета 24 июля, а затем лично составил список из 200 видных фа¬
шистов, которых следовало ’’наказать по заслугам”. В инструкции, данной ко¬
мандующему республиканской армией маршалу Р. Грациани, Муссолини поставил
задачу ’’проникнуть шаг за шагом во все провинции и радикально их вычистить”.
Дуче несет персональную ответственность за массовые экзекуции, осуществляв¬
шиеся солдатами его армии, но при этом он, по меткому выражению Ц.И. Кин,
’’просто ”не тянет” на злодея. Настоящим, неподдельным злодеем был Адольф
Гитлер. ... Муссолини, при всей поверхностности, фанаберии и эклектизме, нар¬
цисс и позер, не обладавший сильным характером, все-таки был интеллигентом,
много читал, хорошо писал. И - повторяем — не только не устраивал газовых
камер, но и не жег книги... Муссолини был итальянцем, итальянским интелли¬
гентом-фашистом, это многое в нем объясняет”7.
Свергнутый итальянцами и униженный немцами, Муссолини видел, что его
время прошло, что реальной власти уже не вернуть, что как политик, как вождь
он был мертв. Игра словами, идеями, правилами, перетасовка кадров, угрозы и
обещания — все это оставалось пустым звуком.
В быту он совершенно опустился и деградировал физически — заметно поста¬
рел, сгорбился и обрюзг. Его глаза ввалились, щеки провисли, а дряблый живот
вываливался из-под ремня, стягивавшего гимнастерку армейского капрала.
От былой грозности и решительности на лице не осталось и следа.
Каждое утро к Муссолини заходил его личный врач А. Поцци. Он видел, что
у пациента нарастали типичные проявления психоза: мания преследования, страх,
раздражительность, обостренное восприятие мелких неурядиц. После отправки
в Италию Гитлер приставил к Муссолини персонального доктора — профессо¬
ра Г. Захариа, пытавшегося лечить его язву. По свидетельству Захариа, Муссолини
был ’’явной развалиной и совершенно очевидно находился на краю могилы”.
Его состояние лекарь определял как ’’тяжелый физический и моральный кол¬
лапс, лишающий энергии и движения мысли”8.
Целыми часами дуче бесцельно слонялся по комнатам, заводил разговоры на
малозначащие темы, впадал в уныние и предавался мрачным мыслям. Он был
апатичен, ни к чему не проявлял живого интереса, мог прийти в служебный ка¬
бинет небритым, в несвежей рубашке и грязных туфлях. И хотя Муссолини делал
’’Кин Ц.И. Итальянский ребус. М., 1991, с. 60, 66.
8 Spinosa A. Mussolini. П fascino di un dittatore. Milano, 1989, p. 470.
»
140
вид, что продолжает работать, текущие дела правительства его не интересовали.
Он перестал вникать в мелочи, все перепоручал министрам, вспоминал безоблач¬
ные времена, нещадно ругал немцев и итальянцев, в минуты отчаяния называл
виллу ’’Святой Еленой”, а генерала К. Вольфа — своим тюремщиком. Были слу¬
чаи, когда ярость на собственное бессилие достигала предела, и в такую минуту
он написал Гитлеру ’’энергичное письмо”, в котором предлагал урегулировать
отношения двух правительств, протестовал против всевластия немецкой военной
администрации и фактической аннексии северных провинций. Гитлер не соизволил
на это письмо ответить, а Муссолини не осмелился о нем напомнить.
По старой привычке он оставлял вечерами свет в своем кабинете и через слу¬
жебный вход отправлялся к своей любовнице Кларе Петаччи. Муссолини и прежде
давал обильную пищу для разговоров и анекдотов по поводу своей неуемной по¬
хотливости. У него был даже специальный штат помощников, которые сортирова¬
ли письма неизвестных поклонниц дуче, мечтавших о встрече с ним. Претендентки
подвергались тщательной полицейской проверке и лишь после этого допускались
в его кабинет. У дуче были и постоянные привязанности, среди которых Кларетта
Петаччи занимала особое место. В конце 30-х — начале 40-х годов она оказывала
некоторое влияние на подбор военных и гражданских кадров, а также прикры¬
вала своим именем многочисленные финансовые аферы брата Марчелло.
Дуче всерьез взвешивал возможность бежать с Клареттой куда-нибудь подаль¬
ше, где можно было бы надежно укрыться и тихо скоротать оставшиеся годы.
Мрачный, безысходный пессимизм обрекал диктатора на пассивное ожидание
печального конца. В канун очередной годовщины ’’похода на Рим” посол Гер¬
мании при правительстве ’’республики Сало” А. Ранн уговаривал Муссолини
выступить в Милане с большой речью в надежде воодушевить тех, кто его услы¬
шит. ’’Видите ли, Ранн, — грустно усмехнулся дуче, — все дело в том, что мне
больше нечего сказать итальянцам”9 .
В начале марта 1945 г. Муссолини предпринял попытку спастись. С помощью
сына Витторио он вступил в секретные переговоры с миланским кардиналом
И. Шустером. По его совету дуче направил в штаб англо-американского коман¬
дования меморандум, в котором предлагал прекратить огонь и сосредоточить
усилия на совместном наведении порядка и пресечении ’’всякого неконтролируе¬
мого и экстремистского движения со стороны иррегулярных частей” (парти¬
занские отряды, коммунисты, митинги, забастовки и т.д.). Муссолини обещал
распустить фашистскую партию и создать коалиционное правительство ’’любого
направления”. В заключении меморандума он выражал желание ’’узнать судьбу,
уготованную членам республиканского правительства”.
Политический маневр дуче был рассчитан тонко. Он предполагал, что в стане
союзников не может не возникать опасений относительно вооружения значи¬
тельных масс партизан. Действительно^ ’’Римских протоколах” союзники поста¬
вили перед Комитетом национального освобождения жесткое требование о рос¬
пуске партизанских формирований и сдаче ими оружия сразу после окончания
боевых действий. Но дуче ошибся в другом — в оценке возможностей собственно¬
го участия в предстоявшей политической схватке. Полагая, что именно он оли¬
цетворяет собой ’’законную власть”, Муссолини пытался сбросить со счетов анти¬
фашистские силы, установить прямые контакты с командованием союзников.
Он оперировал категориями прошлого, не понимая, что именно антифашизм стал
определяющей и самой мощной тенденцией политического развития Италии.
Муссолини утратил чувство реальности, не осознал кардинального изменения духа
страны.
Этим объясняется и последняя вспышка энтузиазма, вызванная у Муссолини
смертью 13 апреля 1945 г. президента США Ф.Д. Рузвельта. В этой связи дуче на¬
9 Vene G.F. La oondanna di Mussolini. Milano, 1973, p. 11.
141
деялся на резкое обострение англо-советских отношений, открывавшее, как ему
казалось, возможность поиска новых подходов как к русским, так и к англича¬
нам, используя антисоветский настрой Черчилля. А в том, что британский премьер
испытывал откровенный страх перед вторжением коммунистов в Восточную Ев¬
ропу, дуче не сомневался. Однако смерть Рузвельта не повлияла на решимость
союзников завершить разгром Германии ее полной капитуляцией.
В последние дни перед национальным восстанием дуче вновь предпринял
отчаянную попытку спасти свою жизнь: написал письмо руководителям социалис¬
тической партии, предлагая капитуляцию республиканской армии и передачу влас¬
ти социалистам. Текст был составлен таким образом, будто Муссолини обращался
к старым товарищам по партии, ę которыми его не разделяли мрачные годы дикта¬
туры. Социалисты ответили категорическим отказом. Тогда Муссолини пустил
в ход последний козырь. Он позвонил кардиналу Шустеру и заявил, что хотел бы
любым путем прекратить кровопролитие. На следующий день кардинал пригласил
дуче на встречу с руководителями Комитета национального освобождения,в ходе
которой Муссолини узнал о предательстве гитлеровцев, втайне от своих итальян¬
ских союзников ведших переговоры с Комитетом национального освобождения
Северной Италии. Дуче немедленно бежал из Милана в направлении швейцарской
границы, но был пойман партизанами и 28 апреля 1945 г. расстрелян по приказу
Главного командования Корпуса добровольцев свободы10.
Утром 29 апреля миланцы увидели на площади Лорето тела Муссолини, Петаччи
и других казненных фашистских иерархов, подвешенных за ноги к металлическим
опорам бензоколонки. Горожане бурно выражали ненависть к человеку, который
всю жизнь с глубоким презрением относился к людям, используя их для удов¬
летворения своих честолюбивых замыслов и жажды власти. Дуче поощрял не доб¬
родетели, а пороки, унижал человеческое достоинство, пытаясь лишить индивиду¬
альности каждого и заставить всех верить в обман. Он так и не понял, что общест¬
во, состоящее из массы одинаково мыслящих людей, не имеет будущего.
Взобравшись на крутую вершину пирамиды власти, Муссолини, как и прочие
диктаторы, стал рабом своей личной власти - она определяла его жизнь, была
мерилом и критерием поступков, той призмой, сквозь которую он взирал на ок¬
ружающий мир. Жить иначе Муссолини не мог, поэтому не мог быть иным и его
бесславный конец.
1 0Подробный рассказ об этом см. Аудизио В, Именем итальянского народа. М., 1982.
142
© 1991 г.
Б.М. ТУПОЛЕВ
ДИНАСТИЯ ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ
Бранденбургская марка - феодальное владение, ставшее основой Бранден-
бург-Прусского государства, возникла как военная колония. С укрепленной
заставы, расположенной на берегу Эльбы, немецкие феодалы развернули ’’натиск
на Восток” в направлении Одера и за него, уничтожая, закабаляя или оттесняя
славянские племена.
Уже в середине XIV в. правители Бранденбурга входили в число семи наи¬
более значительных князей-курфюрстов, участвовавших в избрании императора
’’Священной Римской империи германской нации”, охватывавшей более 1700 фео¬
дальных государств разной величины1.
Франконская линия Гогенцоллернов, которой суждено было править в госу¬
дарстве Бранденбург-Пруссия, выделилась в 1227 г. Владея бу ргграф ст во м Нюрн¬
берг, она приобрела позднее Байрёйт и Ансбах.
Примерно в это же время созданный в конце XII в. духовно-рыцарский ’’Орден
дома святой девы Марии Тевтонской”, так называемый Тевтонский, или Немец¬
кий, орден, захватив часть польских земель, развернул экспансию против язычни¬
ков-пруссов в Прибалтике. Подчинив себе Орден меченосцев, Тевтонский орден
распространил свои владения по южному и восточному побережью Балтийского
моря.
В 1415 г. бургграф Нюрнбергский Фридрих VI получил от кайзера Сигизмунда
марку Бранденбург, став курфюрстом Фридрихом I (правил в 1417-1440 гг.).
Воспользовавшись внутренними противоречиями, его преемник Фридрих II (пра¬
вил в 1440-1470 гг.) в 1442 г. подчинил себе Берлин (основан в 1240 г.), лишив
его городской автономии 2.
К концу XV в. Германия становилась все более раздробленной. Вместе с тем
естественное развитие торговли, насильственная германизация покоренных сла¬
вянских племен, а также утрата Италии и французских областей ’’Священной
Римской империи” создавали предпосылки для образования централизован¬
ного национального германского государства 3.
"СЧАСТЛИВЫЕ БРАКИ" ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ
Когда Гогенцоллерны появились в Бранденбурге, на побережье Балтийского
моря уже существовало государство Тевтонского ордена, покорившего или
истребившего литовское племя пруссов. Еще в 1455 г. Фридрих II приобрел у
Тевтонского ордена Неймарк. В 1466 г. Пруссия раскололась, причем ее западная
часть была присоединена к Польше, а у великого магистра ордена осталась восточ¬
ная часть, называвшаяся ’’герцогской Пруссией”.
‘См.: Ерусалимский А.С. Ликвидация Прусского государства и исторические традиции
милитаризма. - Ерусалимский А.С, Германский империализм: история и современность
(исследования, публицистика). М., 1964, с. 480-481; Данилевский Н.Я. Россия и Европа.
М., 1991, с. 439.
2 Spenle J.E. L’Allemagne des Hohenzollern. 1415-1918... Nancy-Paris-etc., 1919; Kathe H.
Die Hohenzollernlegende. Berlin, 1978, S. 10-11.
’ См.: Маркс К, и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 571- 57 2.
143
Между тем избранный в 1511 г. великим магистром Тевтонского ордена
Альбрехт фон Ансбах из рода Гогенцоллернов подписал с Польшей в 1525 г.
мирный договор в Кракове, в соответствии с которым становился ее вассалом
уже в качестве светского герцога Пруссии. Перейдя из католицизма в протестан¬
тизм, он произвел секуляризацию владений ордена4.
Напротив, курфюрст Бранденбургский Йоахим I (1499-1535), будучи убеж¬
денным противником Реформации, с такой яростью выступал против протестан¬
тизма, что его жена Елизавета, не выдержав фанатизма супруга, в 1528 г. бежала
в Саксонию. Его старший сын Йоахим II, став курфюрстом (правил в 1535—
1571 гг.), наследовал две трети территории Бранденбурга. В 1539 г., вопреки
завещанию отца, Йоахим II перешел в протестантизм. Это не помешало ему в
1550 г. вместе с императором и некоторыми другими владетельными князьями
принять участие в осаде Магдебурга, являвшегося оплотом протестантизма.
Его расточительство разрушило государственные финансы5.
Сын Йоахима II Йоганн Георг (правил в 1571-1598 гг.) был человеком огра¬
ниченным, ревностно преданным евангельскому учению. Его постоянным стрем¬
лением было держаться поближе к ’’достославному австрийскому дому”. Слабо¬
характерный Йоганн Георг оставил завещание, по которому все его владения
подлежали разделу между его многочисленными потомками от трех браков.
Однако его преемник курфюрст Йоахим Фридрих (1598—1608) отказался от
выполнения завещания, восстановив закон о престолонаследии Бранденбург¬
ского курфюрста Альбрехта, умершего в 1486 г. Йоахиму Фридриху удалось
добиться значительного улучшения системы государственного управления.
Он предпринял серьезные усилия для разрешения вопросов о наследовании Прус¬
сии и Юлиха-Клеве в интересах Бранденбурга 6.
Объединение Бранденбурга и Пруссии произошло при следующих обстоя¬
тельствах. Наследница герцога (с 1568 г.) Альбрехта Фридриха Прусского
(1553—1618), его старшая дочь Анна, в 1594 г. вышла замуж за будущего
(с 1608 г.) курфюрста Бранденбургского Йоганна Сигизмунда (1572—1619).
В 1615 г. Йоганна Сигизмунда ’’хватил” апоплексический удар из-за обжорства
и неумеренных возлияний, однако умер он лишь в 1619 г. Как и брак ее матери,
несчастное замужество Анны оказалось выгодным для династии: по существо¬
вавшему соглашению в случае прекращения прусской линии Гогенцоллернов
территория герцогства Прусского переходила к бранденбургской линии. В 1618 г.,
после смерти последнего прусского Гогенцоллерна герцога Альбрехта Фридриха,
Восточная Пруссия была объединена с Бранденбургом. Зять покойного герцога
Йоганн Сигизмунд принес польскому королю клятву верности и стал герцогом
Прусским, оставаясь в этом качестве вассалом Польши. Тевтонские рыцари пре¬
вратились в крупных феодалов, родоначальников прусского юнкерства.
Когда в 1609 г. дядя Анны по материнской линии Йоганн Вильгельм, послед¬
ний герцог Клеве, ’’отдал Богу душу” от ’’помрачения рассудка”, началась дли¬
тельная тяжба из-за его наследства, состоявшего из пяти небольших герцогств
и графств, весьма развитых в промышленном отношении. Они имели также
серьезное значение в трудно сохранявшемся равновесии между католическими и
протестантскими государствами Европы. В 1614 г. был все же достигнут ком¬
промисс, в результате которого Клеве, Марк и Равенсберг перешли к курфюрсту,
распространив его владения до Рейна7.
Таким образом, к марке Бранденбург, которой Гогенцоллерны владели с
1415 г., были сделаны значительные территориальные приращения. Теперь перед
4Иегер О. Всеобщая история в 4-х т. Т. 3. Новая история. СПб., 1894, с. 60.
5 Там же, с. 90, 107; Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986, с. 119;
Кat he Н. Op. cit., S. 11.
6 Иегер О. Указ, соч., с. 262-264.
7 FreyL.u,M. Friedrich I. Preussens erster Konig. Graz-Wien-Koln, 1984, S. 18-20.
144
Гогенцоллернами стояла задача ’’заполнить” географические бреши, отделяв¬
шие Бранденбург на западе от Клеве и на востоке - от Восточной Пруссии, т.е.
создать государство, влияние которого должно было далеко выйти за его границы.
"ВЕЛИКИЙ КУРФЮРСТ", ИЛИ "САМАЯ ХИТРАЯ ЛИСА ЕВРОПЫ"
Сын курфюрста Георга Вильгельма, правившего в 1619—1640 гг., Фридрих
Вильгельм (1620-1688), вошел в историю как ’’великий курфюрст”. Опираясь
на дворянское землевладение и крепостное право, он урезал политические права
сословий и создал централизованную государственную систему с сильной бюро¬
кратией и постоянную армию.
Когда Фридрих Вильгельм в 1640 г. стал курфюрстом, его земли были опусто¬
шены Тридцатилетней войной, заняты иностранными войсками или разорены
своими. Значительного успеха он достиг при заключении Вестфальского мира
в 1648 г. Используя свою восьмитысячную армию в качестве средства давле¬
ния, он приобрел епископства Минден и Хальберштадт и право на присоеди¬
нение Магдебурга после смерти его архиепископа. Он завоевал также Заднюю
Померанию, в то время как Передняя Померания осталась у шведов.
В 1653 г. Фридрих Вильгельм подтвердил права бранденбургских юнкеров
на крепостных и объявил, что крестьянин, который не сможет доказать обосно¬
ванность своей жалобы на господина, подлежит строгому наказанию. Обнища¬
ние крестьянства и упадок городов только усиливали экономическую, соци¬
альную и политическую власть юнкерства8. Однажды курфюрст заявил, что
”на мече и науке должно быть основано значение этого государства без прошлого,
с одним будущим”, и приступил к реализации своих ’’державных” замыслов9.
Фридрих Вильгельм всегда следовал своему основному жизненному правилу,
что ’’никакой союз не должен сохраняться, если он достиг своей цели, и никакой
договор не обязательно соблюдать вечно’10. Когда в 1655 г. началась война
между Швецией и Польшей, бранденбургский курфюрст сначала выступил на
стороне Швеции. Действия союзных войск привели к серьезному успеху — падению
Варшавы. В соответствии с Велявско-Быдгощским договором 1657 г. курфюрст
был освобожден от ленной зависимости в отношении Польши и признан суве¬
реном в Восточной Пруссии11. Однако, когда Фридрих Вильгельм перешел на
сторону своего недавнего противника, надеясь завладеть Передней Померанией,
ни Польша, ни ’’Священная Римская империя” не поддержали его притязаний.
Оливский мирный договор 1660 г., завершивший Северную войну (1655—1660),
закрепил права бранденбургского курфюрста в Восточной Пруссии 12.
В 70-х годах Фридрих Вильгельм неоднократно менял союзника в войне
между Францией и Голландией. В конце концов Людовик XIV отомстил свое¬
му неверному партнеру, подтолкнув Швецию к вторжению в Бранденбург.
В 1675 г. шведские войска выступили из Померании и заняли часть владений
Бранденбурга, однако в сражении при Фербеллине небольшая прусская армия
численностью в 8 тыс. человек разбила превосходящие силы шведских войск.
Эта победа привела к небывалому взлету международного престижа Бранден¬
бурга-Пруссии, а курфюрст был прославлен как ’’великий”13.
8 Kat he Н. Op. cit., S. 11-12Грановский ГН. О начале Прусского государства. - Гранов¬
ский Т.Н. Соч., 4-е изд. М., 1900, с. 488-501.
9Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья, с. 233.
™ Muir D.E. Prussian Eagle. London, 1940, p. 13.
1 'Иегер О. Указ, соч., с. 446.
12 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 519; Грановский Т.Н. Лекции по истории средне¬
вековья, с. 231-232.
13Urkunden und Aktenstucke zur Geschichte des Kurfiirsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.
Berlin, 1864; Klassenkampf, Tradition, Sozialismus. Grundriss (далее - Grundriss). Berlin, 1974,
S. 177; Frey L. u.M. Op. cit., S. 25; Kathe H. Op. cit., S. 12.
145
Фридрих Вильгельм (1620-1688), курфюрст Бранденбургский
Фридриху Вильгельму удалось изгнать шведов из Бранденбурга и завладеть
Передней Померанией и Штеттином, однако по Нимвегенскому мирному дого¬
вору 1679 г. он вынужден был возвратить Швеции Переднюю Померанию и
часть устья реки Одер.
Перед смертью он вознамерился вновь сменить союзников и вместе с кайзе¬
ром, англичанами и голландцами выступить против Франции, хотя незадолго до
того был готов поддержать кандидатуру, которую предложит Франция на импера¬
торский престол ’’Священной Римской империи”. Примечательно, что пароль
для караула в день смерти курфюрста звучал: ’’Лондон и Амстердам”. Из-за
постоянных нарушений им своих союзнических обязательств Людовик XIV назвал
146
Фридрих I (1657-1713), король Прусский
его ’’самым вероломным из всех неверных вассалов”, а один из французских
дипломатов — ’’самой хитрой лисой Европы” 14.
Основную ставку ’’великий курфюрст” делал на армию. В своем завещании он
писал: ’’Хотя союзы и могут быть достаточно хороши для обеспечения безопас¬
ности, однако собственная армия — лучше” 15. К концу правления он имел 38-ты-
сячную дисциплинированную армию, составлявшую примерно 3% от общей чис¬
14 Eulenberg Н. The Hohenzollerna. London, 1929, р. 123; Augstein R. Preussens Friedrich und
die Deutschen. Frankfurt a.M., 1968, S. 27.
Иегер О. Указ, соч., с. 448; Caemmerer H.v. Testamente der Kurfursten von Brandenburg
und der beiden ersten Kónige yon Preussen. Berlin, 1915; Die politischen Testamente der Hohen¬
zollern. Bearb. v. R. Dietrich. Koln-Wien-Bóhlau, 1986.
147
ленности населения, что явилось следствием радикальной реформы всей военной
системы. Рекрутирование стало осуществляться на ’’свободном рынке” в землях
курфюрста от его имени. Полки комплектовались из солдат, завербованных в
разных провинциях, что нанесло сильный удар по ’’регионализму”. Унификации
армии содействовали создание учреждения, выполнявшего функции генераль¬
ного штаба, и назначение генерального военного комиссара, ведавшего интендант¬
скими делами. Открытие офицерских школ и введение строгой регламентации
службы содействовали превращению армии в профессиональную.
Как постоянная армия, так и созданный курфюрстом небольшой флот оплачи¬
вались в значительной степени за счет средств, поступавших из доменов, от
пошлин, чеканки монет, прямых и косвенных налогов, так называемого акциза,
военных налогов и т.д. Примерно половина всех расходов государства шла на
армию16 17. Дворянство и купечество Восточной Пруссии весьма успешно противо¬
стояли сбору акциза, но с оппозицией там было покончено путем жестоких репрес-
“17
СИИ
Фридрих Вильгельм проявлял большую веротерпимость. В страну переселились
тысячи иммигрантов из разных стран, в том числе около 20 тыс. гугенотов из
Франции, много лютеран и кальвинистов из католических княжеств Германии, а
также католиков и евреев. Создававшиеся ими бумажные, шелковые и другие
мануфактуры находились под опекой ’’великого курфюрста”, считавшего, что
’’промышленность и торговля суть главные опоры государства” 18. В это время
был сооружен канал Фридриха Вильгельма, соединивший Эльбу с Одером.
Главным достижением Фридриха Вильгельма было создание из слабо связан¬
ных между собой владений достаточно сплоченной территории с четко функцио¬
нировавшим государственным аппаратом. При этом курфюрсте сложилась абсо¬
лютистская система правления. Его постоянная армия не только усилила позиции
Бранденбурга-Пруссии в Европе, но и сыграла роль объединяющего фактора для
далеко отстоявших друг от друга земель. Возникли предпосылки для формирова¬
ния служилого дворянства, которое должно было стать опорой власти абсолют¬
ного монарха.
В своем завещании Фридрих Вильгельм высказал пожелание разделить страну
между сыном от первого брака (с Луизой Генриеттой Нассау-Оранской) и его
братьями от второго брака (с Доротеей Гольштейн-Глюксбургской). Это завеща¬
ние, однако, не было исполнено.
ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ КОРОНЫ
По иронии судьбы преемником Фридриха Вильгельма стал его не отличав¬
шийся крепким здоровьем третий сын, нареченный при крещении в лютеранской
церкви Фридрихом, единственное выдающееся политическое достижение кото¬
рого — приобретение королевской короны — потомки обычно рассматривали
как плод его непомерного тщеславия. Он родился 11 июля 1657 г. в Кёнигсберге.
Из-за травмы позвоночника, полученной в детстве, Фридрих приобрел кличку
’’горбатый”, что в общем-то не соответствовало действительности, так как для
сокрытия этого физического дефекта вполне хватало ”придворного” парика.
Вместе с тем ему пришлось пережить большие страдания при лечении врачами-
16 Фёрстер Г,, Гелъмерт Г., Отто Г., Шниттер Г. Прусско-германский генеральный штаб.
1640-1965. К его политической роли в истории. (Пер. с нем.). М., 1966; Иегер О. Указ, соч.,
с. 447, 449; Frey L.U.M. Op. cit., S. 26-27; J any C. Geschichte der preussischen Armee vom 15.
Jahrhundert bis 1914, Bd. 1. Osnabriick, 1967, S. 192; Vogler G, Der preussische Staatals
Selbstzweck? Anmerkungen zu Sebastian Haffner. - Geschichte, Ideologie, Politik. Berlin, 1983,
S.61.
17Иегер О. Указ, соч., с. 448; Frey L.u.M. Op. cit., S. 28.
18 Всемирная история, т. V. M., 1958, с. 408.
148
ортопедами, использовавшими всевозможные корсеты и костыли. По специаль¬
ной программе, составленной курфюрстом, его обучали не только немецкому,
но и иностранным языкам, географии и истории, игре на флейте и клавикордах.
После кончины матери Луизы Генриетты Нассау-Оранской отношения Фридриха
с отцом быстро ухудшились, а курфюрстом под именем Фридриха III он стал
в 1688 г. лишь благодаря смерти своих старших братьев: Вильгельм Генрих умер
младенцем, а Карл Эмиль — в 18-летнем возрасте.
Подчинявшийся обычно воле отца, Фридрих преодолел сопротивление родителя
и добился его согласия на брак с Елизаветой Генриеттой Гессен-Кассельской,
который был заключен в 1679 г. Впоследствии он женился еще дважды: на Софии
Шарлотте Ганноверской, сестре будущего английского короля Георга!, и Софии
Луизе Мекленбургской. Когда здоровье отца серьезно ухудшилось, Фридрих
стал принимать все большее участие в государственных делах и присутствовал
на заседаниях правительственного совета 19.
Так как владения Фридриха III простирались от Балтики до Рейна, он был
вовлечен в международные конфликты и на Востоке, и на Западе. Его экспан¬
сионистские устремления неизбежно вели к усилению напряженности в отноше¬
ниях со Швецией из-за Передней Померании, с Польшей и Россией - из-за Запад¬
ной Пруссии и Эрмланда, а владения на Рейне побуждали его противостоять терри¬
ториальным притязаниям Франции.
Географическое положение Бранденбурга-Пруссии и сила армии Фридриха III
сулили его соседям или важного союзника, или опасного противника. Он при¬
шел к выводу, что если при Фридрихе I Гогенцоллерны стали курфюрстами, то
он, Фридрих III, должен добыть для них королевскую корону. Однако, несмотря
на поддержку некоторых имперских министров, получивших от курфюрста взят¬
ки на общую сумму в 300 тыс. талеров, кайзер ’’Священной Римской империи”
Леопольд I Габсбург (король Венгрии в 1655-1705 гг., эрцгерцог Австрийский
и император в 1657-1705 гг., король Богемии в 1658-1705 гг.) упорно укло¬
нялся от положительного ответа на его просьбы, опасаясь дальнейшего усиления
Бранденбурга-Пруссии и считая, что Вена все равно ничего не выиграет от появле¬
ния нового ’’короля вандалов на Балтике” 2 0.
Согласия императора на получение Гогенцоллернами королевского титула
Фридрих III добился, взяв обязательство оказать Габсбургскому дому поддержку
в защите его прав на испанский престол. Император обещал не только признать
Фридриха ’’королем в Пруссии”, но и убедить другие державы поддержать это
решение. Однако не ’’королями в Пруссии”, а прусскими королями Гогенцоллер¬
ны стали лишь в 1772 г., когда приобрели Западную Пруссию при разделе Поль¬
ши21. В свою очередь Фридрих обязался в случае войны предоставить кайзеру
восьмитысячное войско и поддержать Габсбургов при следующих выборах импе¬
ратора. Так как Пруссия не входила в состав ’’Священной Римской империи”,
Фридрих имел возможность предоставлять воинские контингенты как в распо¬
ряжение кайзера, так и его противников.
Коронация Фридриха состоялась 18 января 1701 г. в его родном Кёнигсберге.
Он увенчал себя короной и стал королем Фридрихом I Прусским. Королевский
титул наконец-то принес Пруссии полную йезависимость от Польши. Однако
Западная Пруссия оставалась под польским суверенитетом и разделяла владения
Фридриха I на две части.
19Frey L.U.M. Op. cit., S. 33-34, 36, 41; Ktintzel G., Hass M. Die politischen Testamenterder
Hohenzollern nebst erganzenden Aktenstucken, Bd. 1, 2. Aufl. Leipzig-Berlin, 1919.
i0Droysen J,G. Geschichte der preussischen Politik, Bd. 4, T. I. Leipzig, 1872, S. 138ff;
Frey L.u.M, Op. cit., S. 68.
Костю шко Й.И. Прусская аграрная реформа. К проблеме буржуазной аграрной эволю¬
ции прусского типа. М., 1989, с. 7. См. также Berney A. KÓnig Friedrich I. und das Haus Habsburg.
Munchen, 1927.
149
Фридрих Вильгельм I (1688-1740), король Прусский
За получение королевского титула Фридрих дорого заплатил австрийскому
дому. В войне за испанское наследство войска Гогенцоллернов сражались во
имя притязаний Габсбургов. Фридрих II упрекал своего деда в том, что тот по¬
жертвовал 30 тыс. своих подданных в войнах за интересы кайзера и его союз¬
ников.
Не будучи по своей сущности военным, Фридрих I тем не менее увеличил чис¬
ленность армии до 40 тыс. человек. Огромные расходы на содержание войск
и невероятная роскошь королевского двора нанесли колоссальный урон госу¬
дарственным финансам. Однако в тех пределах, которые ему позволяли бед¬
150
ность и разбросанность его владений, Фридрих I сделал много для развития
искусства, науки и образования. Так, по его замыслу были основаны универси¬
тет в Галле и Берлинская Академия наук, а построенные при нем здания опре¬
деляли архитектурный облик Берлина вплоть до конца второй мировой войны.
Умер он в 55-летнем возрасте в феврале 1713 г. 22
"ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ НА ТРОНЕ"
Его сын Фридрих Вильгельм I (1688-1740), ставший в 1713 г. королем, при¬
нял решительные меры по укреплению государственного механизма абсолют¬
ной монархии, являвшейся формой позднефеодального классового господства.
Гогенцоллерны по-прежнему стремились к дальнейшему расширению своих
владений всеми возможными средствами, прибегая к взяткам, покупке терри¬
торий, мошенничеству с наследствами и вероломным договорам о разделе чужих
земель. При этом их особенно интересовали экономически более развитые
области. В стране происходило заметное развитие лишь тех отраслей промыш¬
ленности, которые были связаны с военными поставками: производством оружия
и сукна для обмундирования 2 3.
Фридриху Вильгельму I приписывалось изречение, что Пруссия может быть
или слишком большой, или слишком маленькой. Он считал, что она не должна
быть ’’слишком маленькой”, и прилагал все усилия к ее увеличению. Так, едва
став королем, Фридрих Вильгельм договорился со шведами о том, что до конца
Северной войны Штеттин будет занят прусскими войсками, так как сами шведы
уже были не в состоянии противостоять русской армии. Однако под видом друже¬
ской услуги Фридрих Вильгельм I фактически присоединил эти земли к своим
владениям и был полон решимости завладеть еще большей частью Передней
Померании, в случае необходимости даже с помощью оружия. 13 июня 1714 г.
Фридрих Вильгельм I подписал секретный договор с русским царем Петром I,
в соответствии с которым мог завладеть Передней Померанией до Пеене. В 1720 г.
под давлением Англии Пруссия заключила договор со Швецией и разорвала союз
с Россией. От Швеции к Бранденбургу-Пруссии перешла часть так называемой
Старой Передней Померании 24.
В отличие от отца Фридрих Вильгельм был экономным до скаредности, ненави¬
дел пышность и мотовство, процветавшие при дворе, считая, что они ведут к раз¬
рушению государства. По его мнению, ’’настоящий немец” не нуждается в образо¬
вании; он любил говорить о том, что все ученые — дураки, а позднее неоднократ¬
но угрожал закрыть Берлинскую Академию наук. Фридрих Вильгельм, прозван¬
ный ’’фельдфебелем на троне”, с презрением относился к ученым, поэтам и писа¬
телям. Великого философа Готфрида Вильгельма Лейбница он считал совершенно
бесполезным человеком, непригодным даже для того, чтобы ’’стоять на часах”.
Философ-просветитель Кристиан Вольф, профессор Галльского университета,
был в 1723 г. выслан из страны, так как в детерминизме его философии монарх
усматривал ... оправдание дезертирства! 25
Фридрих Вильгельм I был страстным охотником, но особенно любил все, что
было связано с армией. После того как он стал командиром пехотного полка,
он все свободное время муштровал солдат. И в дальнейшем армия оставалась в
центре его помыслов. Для его современников Пруссия была не государством,
22Frey L.u.M. Op. cit., S. 233-236; Koch W. Hof- und Regierungsverfassung Konig Friedrichs I.
von Preussen (1687-1713). Breslau, 1926.
23Grundriss, S. 186; Kathe H. Op. cit., S. 13.
2АКостюшко И.И. Указ, соч., с. 7; Всемирная история, т. V, с. 383; Augstein R. Op. cit., S. 28;
Frey L.u.M. Op. cit., S. 230.
25 Всемирная история, т. V, с. 415; Frey L.U.M. Op. cit., S. 231-232; Kathe H. Op. cit., S. 15.
151
владевшим армией, а армией, которая владела государством, В историю он вошел
как ’’солдатский король”. Позже Фридрих II весьма метко заметил, что если
при Фридрихе I Берлин стал Афинами Севера, то при Фридрихе Вильгельме I -
Спартой. К концу его правления прусская армия насчитывала почти 90 тыс. чело¬
век (при населении 2,5 млн.) и занимала по своей численности четвертое место
в Европе. Для выжимания из подданных средств, шедших в основном на воен¬
ные нужды, Фридрих Вильгельм создал Высшее управление финансов, военных
дел и доменов 26.
Характерными чертами прусского милитаризма были бесчеловечная муштра
и система варварских наказаний, практиковавшихся не только в армии, но и в
отношении ’’мирного” населения, когда порке временами подвергались даже
придворные. До мелочей регламентируя жизнь своих подданных, монарх, если
был в плохом настроении, колотил их палкой или бил ногами.
ОТЕЦ И СЫН
Пропасть между Фридрихом I и его сыном Фридрихом Вильгельмом была
глубже, чем у других Гогенцоллернов, для которых вообще был характерен
конфликт поколений. Однако, веря в необходимость подчинения установ¬
ленной Богом власти, кронпринц всегда слушался отца. 24 января 1712 г. он
обрадовал больного Фридриха известием о том, что родился горячо желаемый
им внук, который по предложению деда был при крещении также назван
Фридрихом.
В 1718 г. Фридрих Вильгельм I пригласил в качестве воспитателей своего
сына прусских офицеров и в соответствии с модой того времени — французов.
На формирование личности Фридриха большое влияние оказали постоянная
натянутость в отношениях между его родителями и непрерывные интриги двора.
Фридрих ненавидел отца и по возможности старался его избегать, испытывая
перед ним лишь ’’дикий страх, рабское почтение и покорность”. Королева София
Доротея, воспитанная во французском духе дочь курфюрста Ганноверского,
ставшего в 1714 г. королем Англии Георгом I, поощряла как хорошие, так и
менее привлекательные наклонности сына, сознательно противодействуя во
всем своему мужу. Жизнь королевской семьи (у Фридриха Вильгельма I было
14 детей), по свидетельствам очевидцев, проходила в ненависти, страхе, притвор¬
стве и лжи. В связи с дальнейшим ухудшением отношений между отцом и сыном
король даже обдумывал возможность лишить его права наследования престола 27.
Тогда, воспользовавшись путешествием, которое они совершали вместе с коро¬
лем по различным германским ’’столицам”, Фридрих договорился со своим дру¬
гом лейтенантом Катте об организации побега. Однако ’’заговор” раскрыли.
Фридрих был взят под стражу, а военный трибунал, заявив, что осуждение крон¬
принца не входит в его компетенцию, приговорил Катте к пожизненному тюрем¬
ному заключению. Недовольный этим король настоял на смертном приговоре,
который и был приведен в исполнение под окнами его сына. По приказу короля
два капитана подвели Фридриха к окну, чтобы он увидел казнь своего друга 28.
С содержавшегося в Кюстрине Фридриха посланная королем комиссия взяла
клятву, что он будет следовать воле отца, в противном же случае лишится права
на наследование короны. В мае 1731 г. Фридрих Вильгельм I писал гофмаршалу
фон Вольдену в Кюстрин о Фридрихе: ”Он должен только выполнять мою волю,
Hinrichs С. Friedrich Wilhelm I. Kbnig in Preussen. Darmstadt, 1968; Augstein R, Op. cit., S. 28;
Frey L.u.M. Op. cit., S. 232.
27DerKonig Friedrich der Grosse in Briefen, Berichten, Anekdoten. Mit lebensgeschichtlichen
Verbindungen. 13. Aufl. Ebenhausen bei Munchen, 1941, S. 9-10.
28 Ibid., S. 14, 22; 25-26. (Nachricht von des Henn Lieutenandts von Kattens Todt den 9. Nov.
1730. Aus einer 1731 zu Koln erschienenen Flugschrift).
152
выбросить из головы все французское и английское, сохранив в себе лишь прус¬
ское, быть верным своему господину и отцу, иметь немецкое сердце, выбросить
из него все франтовство, проклятую французскую политическую фальшивость
и усердно просить у Бога милости” 29.
В июне 1733 г., после возвращения Фридриха из Кюстрина, Фридрих Виль¬
гельм I, не спрашивая согласия сына, женил его на принцессе Элизабет Кристине
фон Брауншвейг-Беверн (брак оказался бездетным). После свадьбы Фридрих
отправился в свой ’’любимый гарнизон” в Руппин, в который ранее был назначен
командиром полка. Однако вскоре в связи с форсированием французскими
войсками Рейна кронпринц летом 1734 г. ’’как волонтер” отправился в главную
квартиру принца Евгения, самого крупного полководца того времени. Хотя воен¬
ные действия велись вяло, все же пребывание в армии оказалось для него полез¬
ным. Теперь он знал, ’’какой должна быть обувь мушкетеров, как долго солдат
может ее носить и сколь долго он должен обходиться его во время кампании,
а также все мелочи, относящиеся к солдатской жизни, от стофунтовой пушки
и вплоть до высших должностей” 30.
Отец приобрел для него возле Руппина замок Райнсберг, причем кронпринц
лично руководил его перестройкой. По его замыслу, замок'должен был стать
’’святилищем дружбы”. Основными его занятиями были служба, чтение и
музыка 31.
В 1738 г. под псевдонимом вышла первая политическая ’’прокламация” Фридри¬
ха ’’Соображения о современном политическом состоянии Европы”, в которой
он излагал ’’просветительские” взгляды на проблемы международных отноше¬
ний. ’’Вместо того чтобы беспрестанно вынашивать планы завоеваний, — писал
он о князьях, — пусть эти земные боги приложат все старания к тому, чтобы
обеспечить счастье своего народа”32. Правда, став королем, он отбросил эти
благие пожелания.
В отношении интеллектуальных интересов Фридрих был на голову выше дру¬
гих европейских монархов. Занимаясь литературой, философией и музыкой,
по существу, профессионально, он написал много специальных исследований
(’’Генеральные принципы ведения войны”, ”0 немецкой литературе”, ’’Критика
’’Системы природы”” (Гольбаха. - Б.Т}> ’’История Семилетней войны” и др.).
Его политическая и личная переписка составляет десятки томов. Проявляя
большую веротерпимость и даже приближаясь к атеизму, он в 1736 г. вступил
в переписку с Вольтером, продолжавшуюся всю жизнь, а с 1750 по 1753 г.
Вольтер жил в Потсдаме в качестве гостя короля Фридриха II. В 1745-1747 гг.
по рисунку короля архитектор Георг Кнобельсдорф построил в Потсдаме
дворец Сан-Суси, ставший любимой резиденцией монарха. Фридрих прекрасно
играл на флейте и сочинял музыку. Он не скрывал своих симпатий к француз¬
скому Просвещению, и современники, и потомки считали его представителем
’’просвещенного абсолютизма” 33.
Ко времени последней болезни Фридриха Вильгельма I отношения между
отцом и сыном значительно смягчились. ”Я оставляю после себя своего сына,
который имеет все способности к тому, чтобы хорошо править, - заявил король
29 Ibid., S. 29. (Friedrich Wilhelm I. an den Kronprinzlichen Hofmarschall von Wolden zu Kustrin.
25. Mai 1731).
30Ibid., S. 48,49,54,55.
31 Ibid., S. 61, 64.
32 Ibid., S. 77. (Aus den Betrachtungen iiber den gegenwartigen politischen Zustand Europas. April
1738).
33Гинцберг Л.И. Фридрих II. - Вопросы истории, 1988, № 11, с. 98-99; Politische Correspon-
denz Friedrichs des Grossen, Bd. 1-37. Berlin, 1879-1918; Die Werke Friedrichs des Grossen, Bd. 1-
10. Berlin, 1913-1914; Friedrich der Grosse. Die Politischen Testamente, 3. Aufl. Munchen, 1941.
153
придворным, -- он мне обещал, что сохранит армию. Я знаю, что он любит войска
и храбр, я знаю, что он сдержит свое слово, он обладает разумом, и все будет
идти хорошо” 34.
ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ (1712-1786)
Став в 1740 г. королем, Фридрих II получил в наследство сильную армию и
безотказно функционирующий бюрократический государственный аппарат.
Еще будучи кронпринцем, Фридрих в труде ’’Антимакиавелли” изложил свои
взгляды на различные виды войн, всецело оправдывая развязывание превентив¬
ных войн. Он считал, что если монарх видит приближение военной грозы, но
не может один предотвратить ее, если он достаточно умен, то должен ’’объеди¬
ниться со всеми, чьи интересы оказались в столь же угрожающем положении...
Таким образом, будет лучше, если правитель, пока он еще располагает возмож¬
ностью выбирать между оливковой ветвью и лавровым венком, решится пред¬
принять наступательную войну, чем если бы он дождался того безнадежного
времени, когда объявление войны может отсрочить лишь на несколько мгнове¬
ний его рабство и гибель. Лучше опередить самому, чем позволить опередить
себя” 35.
Тогда эти слова кронпринца не привлекли к себе особого внимания. Но,
едва став королем, Фридрих II немедленно принял меры по дальнейшему усиле¬
нию армии. Вольтеру он написал о том, что ’’увеличил силу государства на 16 ба¬
тальонов, 5 эскадронов гусар и 1 гвардейский эскадрон и заложил основу для
нашей новой академии”. Он создает департамент торговли и мануфактуры,
приглашает художников и скульпторов. ’’Наибольшие хлопоты, — сообщал
он Вольтеру, - я имею от закладки новых складов во всех провинциях, кото¬
рые должны быть столь значительны, чтобы содержать для всей страны зерно
на полтора года вперед”36. Таким образом, рассказ о его ’’просветительских”
и реформаторских намерениях и деяниях даже в послании к Вольтеру пере¬
плетается с повествованием о чисто военных мероприятиях.
Поводом для реализации вызревавших у Фридриха II экспансионистских замыс¬
лов послужила смерть кайзера ’’Священной Римской империи” Карла VI Габсбур¬
га, последовавшая в Вене 20 октября 1740 г. Еще в 1713 г. Карл VI ввел особый
порядок пре сто ло наследования в австрийских землях, так называемую ’’прагма¬
тическую санкцию”, в соответствии с которой в случае отсутствия у него сыно¬
вей престол должен был перейти к его дочери Марии-Терезии. Узнав о кончине
императора, Фридрих II предложил Марии-Терезии, ставшей королевой Венгер¬
ской и Богемской и эрцгерцогиней Австрийской, ’’свою помощь для поддержа¬
ния ”прагматической санкции” ”, а взамен потребовал уступить ему Силезию,
предъявив неоправданные претензии на наследование герцогств Егерндорф,
Лигниц, Бриги Волну 37.
”Я тотчас решил выдвинуть притязания на княжества Силезии, на которые
мой дом имел очень обоснованные права, - писал Фридрих II в ’’Истории моего
времени”, — и принял меры, чтобы осуществить свои притязания вооружен¬
ным путем. Это было безошибочным средством увеличить власть моего дома и
добыть себе славу, если счастье придет на помощь моему предприятию” 38. Когда
же Мария-Терезия отвергла его требования, прусские войска вторглись в Силе-
34Der KÓnig Friedrich der Grosse in Briefen..., S. 82.
35 Ibid., S. 87. (Aus dem “Antimachiavell” des Kronprinzen).
36 Ibid., s: 95-96.
37Der К6nig Friedrich der Grosse in Briefen..., S. 105. (Aus der “Geschichte meiner Zeit”, geschr.
1746); Иегер О. Указ, соч., с. 532; Frey L.U.M. Op. cit., S. 51.
38Der Konig Friedrich der Grosse in Briefen..., S. 108. (Aus der “Geschichte meiner Zeit”, geschr.
1746).
154
Фридрих II Великий (1712-1786), король Прусский
зию. Так началась борьба за ’’австрийское наследство” — первая Силезская война
1740—1742 гг.
Уже в этой войне, развязанной Фридрихом II с целью захвата плодородной и
промышленно развитой Силезии, проявился его авантюризм, ибо Мария-Терезия
не имела тогда недостатка в союзниках. Король Англии, Голландия, другие евро¬
пейские государства и сама ’’Священная Римская империя” гарантировали вы¬
полнение ”прагматической санкции”. Как признавал Фридрих II, риск ’’был
велик как в отношении числа, так и характера врагов, которых надо было по¬
155
бедить. Я не имел союзников, изменчивое военное счастье или несчастье проигран¬
ного сражения могли поставить меня в тяжелое положение”, да и противостояли
Пруссии опытные ’’старые солдаты кайзера, поседевшие в боях” 39.
Однако в этой войне Фридрих II не был так уж одинок, как он это пытался
позднее изобразить. Если на австрийской стороне выступали Англия, Нидерланды
и Россия, то на стороне Пруссии - Франция. В войне принял участие и ряд герман¬
ских государств, в том числе Саксония и Бавария. Первоначальные военные успе¬
хи прусской армии сменились контрнаступлением австрийских войск. Тогда,
забыв о своих союзниках, Фридрих II заключил сепаратный мир с Австрией, удер¬
жав за собой большую часть Силезии. Однако он лишь временно вышел из
войны 40.
В 1744 г. прусские войска возобновили военные действия, начав вторую Силез¬
скую войну. В следующем году Пруссия подписала новый сепаратный мир с
Австрией и Саксонией в Дрездене. Война за ’’австрийское наследство” заверши¬
лась Аахенским миром 1748 г. Дрезденский и Аахенский мирные договоры под¬
твердили переход значительной части Силезии к Пруссии, что поставило государ¬
ство Фридриха II в ряд великих европейских держав. Соотношение политических
сил между германскими государствами стало определяться вновь сложившимся
прусско-австрийским ’’дуализмом”, соперничеством между Гогенцоллернами и
Габсбургами 41.
Предпринимавшиеся в Пруссии шаги к милитаризации общественной жизни
вели к дальнейшему укреплению господствующих позиций юнкерства. Прусские
короли предпочитали также использовать офицеров и в качестве высших государ¬
ственных служащих, ’’пересаживая” военный образ мышления и действий в сферу
гражданской администрации. Осуществляя политику ’’просвещенного абсолю¬
тизма”, Фридрих II заимствовал из буржуазных государственно-правовых теорий
некоторые важные идеи, используя их для идеологического обоснования своего
господства. Проводившиеся им реформы ограничивались в основном сферами
юстиции и культуры 42.
Так как почти вое государственные средства уходили на содержание армии и
ведение войн, на школы денег в Пруссии никогда не хватало. В королевском
школьном регламенте 1763 г., как бы оправдывавшем ’’чрезвычайный упадок”
школьного дела в стране, говорилось о том, что ”из-за неопытности большин¬
ства церковных служащих и учителей молодые люди в деревнях растут в невеже¬
стве и глупости”43. По собственному признанию, Фридрих по-немецки говорил
’’как кучер”. Он так и не понял значения Гёте и Канта для культурного развития
страны. Поклоняясь французской литературе, он на закате своих дней о немец¬
кой литературе высказывался с пренебрежением. Сама конфессиональная терпи¬
мость Фридриха II объяснялась стремлением увеличить население страны с
фискальными целями, в интересах ее промышленного развития и расширения
возможностей рекрутирования солдат 44.
Фридрих II считал, что ’’солдат должен бояться своего офицера больше, чем
противника”, и нередко лично присутствовал при телесных наказаниях в армии.
В своем политическом завещании 1752 г. он писал, что ”о военных следует гово¬
39 Ibidem.
40Grundriss, S. 187-188. См. также: Ritter G. Friedrich der Grosse. 3. AufL Heidelberg, 1954;
Groehler O. Die Kriege Friedrichs II. Berlin, 1968; Schieder Th. Friedrich der Grosse. Frankfurt a.M.,
1983.
41 Kathe H. Op. cit., S. 13; Grundriss, S. 188.
42Hubatsch W. Friedrich der Grosse und die preussische Verwaltung. Koln, 1973; Born K.E. Wirt-
schaft und Gesellschaft im Denken Friedrichs des Grossen. Mainz-Wiesbaden, 1979, S. 8, 10.
43Kathe H. Op. cit., S. 17.
44Cm.: Friedrich der Grosse. Briefe liber die Religion. Berlin, 1940.
156
рить с таким же священным благоговением, с каким священники говорят о
таинственном откровении” 45.
Итальянскому поэту Альфиери, посетившему Пруссию, Берлин представился
’’омерзительной огромной казармой, а вся Пруссия с ее тысячами наемных сол¬
дат - одной колоссальной гауптвахтой”46. Крестьяне и горожане несли тяжкое
бремя расходов на содержание военного и гражданского аппарата управления.
Горожане не только выплачивали налоги, но и выполняли обязанности по расквар¬
тированию солдат. Все это позволяло государству содержать огромную армию,
считавшуюся одной из самых сильных в Европе.
Все, с кем Фридрих II воевал, узнавали ’’философа на троне” совсем не с ’’фило¬
софской” стороны. Он вынашивал планы подчинения Польши, аннексии Богемии,
а Курляндию рассчитывал превратить в зависимое от Пруссии княжество со своим
братдм Генрихом на престоле. Но особенно манило его к себе одно из наиболее
промышленно развитых немецких государств — Саксония.
В августе 1756 г. прусские войска вторглись в Саксонию, положив начало
Семилетней войне, в которой столкнулись две коалиции, окончательно сложив¬
шиеся уже в ходе военных действий. Если союзник Фридриха II Англия ограни¬
чивалась предоставлением ему субсидий (основные военные действия между Анг¬
лией и Францией велись в Северной Америке), то противостоявшая ему так на¬
зываемая коалиция Кауница (по имени австрийского канцлера) объединяла
Австрию, Францию, Россию, Польшу, а позднее и Швецию. В конфликт было
вовлечено большинство немецких государств 47.
В ноябре 1757 г. пруссаки нанесли французским войскам тяжелое пораже¬
ние у Россбаха48, а в декабре того же года одержали победу над австрийцами
под Лейтеном. Однако еще в июне 1757 г. пруссаки проиграли австрийцам сраже¬
ние при Колине, что заставило их уйти из Богемии. Почти одновременно русская
армия под командованием фельдмаршала С.Ф. Апраксина вступила в Восточ¬
ную Пруссию, нанеся противнику поражение при Гросс-Егерсдорфе 49.
В августе 1758 г. произошло сражение между прусской и русской армиями
под Цорндорфом. Потери прусских войск составили 12 тыс. и русских - 19 тыс.
убитыми, но решающего успеха ни одна из сторон не добилась. Самое крупное
поражение прусские войска потерпели от русских и австрийских войск при
Кунерсдорфе 1(12) августа 1759 г. Из 48-тысячной армии Фридриха II уцелело,
по существу, лишь около 3 тыс. кавалеристов, он потерял почти всю артилле¬
рию50. О разгромленном при Кунерсдорфе прусском короле А.В. Суворов,
участвовавший тогда впервые в крупном сражении, позже писал как о ’’поверг¬
нутом в ничтожество Фридрихе”51. Гусарский конвой чудом уберег его от
плена. (Потерянная Фридрихом II при бегстве шляпа до сих пор хранится в
Эрмитаже.) ’Тусского солдата мало убить, его нужно еще и повалить”, -
говорил Фридрих II52.
Осенью 1760 г. русские войска вступили в Берлин, но оставались там недол¬
го. Фридриха II спасли смерть императрицы Елизаветы 25 декабря 1761 г.
**Лопатин В.С. Суворов в своих письмах. - Суворов А.В, Письма. М., 1987, с. 4\A\Friedrich
der Grosse. Die Politischen Testamente. Berlin, 1922.
46Ерусалимский А.С. Указ, соч., с. 482; Berliner Leben 1648 bis 1806. Erinnerungen und Be-
richte. Hrsg. v. R. Glatzer. Berlin, 1956, S. 211.
47ГинцбергЛ.И. Указ, соч., с. 105-106; Grundriss, S. 190; Ąndreas W. Friedrich der Grosse
und der Siebenjahrige Krieg. Leipzig, 1940.
**Postier D. Die Schlacht bei Rossbach 1757. - Militargeschichte, 1980, № 6.
49 Всемирная история, т. V, с. 419.
Суворов А.В. Указ, соч., примечания, с. 603.
51 Там же, с. 261. Д.И. Хвостову, 21 декабря 1793 г.
52 Там же, с. 414-415, 651; Семилетняя война. М., 1948, с. 482-489; Данилевский НЯ. Указ,
соч., с. 463-464.
157
(5 января 1762 г.) и воцарение на российском престоле Петра III, прекратив¬
шего войну против своего кумира. Семилетняя война завершилась в 1763 г. под¬
писанием мира между Англией и Францией в Париже и в замке Губертусбург
(под Лейпцигом) - между Австрией и Пруссией 53. Фридрих II признавал, что
в ходе Семилетней войны он потерял 120 своих генералов 54. Эта война, стоив¬
шая жизни полумиллиону человек и повлекшая за собой страшные разруше¬
ния, не привела к существенным изменениям в расстановке сил в Европе.
Пруссия сохранила за собой завоеванную ранее Силезию и графство Глац.
Произошло как бы закрепление пру секо-австрийского равновесия среди немец¬
ких государств. Однако противоречия между обеими странами отступили на
второй план, когда в 1772 г. они совместно с Россией произвели первый раздел
Польши. Увязнув в очередной войне с Турцией, Россия была вынуждена уступить
настойчивым притязаниям Фридриха II. Пруссия завладела землями в нижнем
течении Вислы, что привело к соединению Восточной Пруссии с остальной терри¬
торией государства. За Польшей сохранились Гданьск и Торунь 5 5.
К концу правления Фридриха II его армия выросла до 195—200 тыс. человек,
а на ее содержание уходило две трети государственного бюджета 56. ф. Энгельс,
считая Фридриха II великим военным деятелем, видел его историческую заслугу
в развитии военной науки в том, ’’что он, в общем оставаясь в пределах тогдаш¬
него способа ведения войны, преобразовал и усовершенствовал старую тактику,
применительно к новым видам оружия” 5 7.
Фридриху II удалось добиться превращения своей страны в великую европей¬
скую державу, оспаривавшую пальму первенства у Австрии за преобладание среди
германских государств. Вместе с тем в условиях усиливавшегося развития капита¬
лизма его ’’просвещенный абсолютизм” был специфической защитной реакцией
на постепенно возраставшую угрозу безраздельному господству юнкерства.
ПЕРИОД "УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
Непродолжительное правление Фридриха Вильгельма II (1744—1797), став¬
шего королем в 42-летнем возрасте и обладавшего, как не без ехидства отмечал
позднее Бисмарк, ’’сильным сексуальным развитием” и ’’известной восприимчи¬
востью к мистическим явлениям”58, отличалось крайней реакционностью во
внутренней политике. Правящие круги Пруссии отменили некоторые из реформ,
проведенных ”просвещенным абсолютизмом”. Еще до того как прусское юнкер¬
ство было смертельно напугано Великой французской революцией, оно стало
отходить от политики приспособления к изменяющимся социально-экономичес¬
ким условиям. В 1788 г. в стране подвергались преследованиям даже умеренные
просветители.
Войска Гогенцоллернов не только подавляли революционные выступления
в собственной стране, но сыграли главную роль и в ликвидации созданной в марте
1793 г. Майнцской республики, первого буржуазно-демократического государст¬
венного образования на немецкой земле. Только в 1796 г. Пруссия ввела под¬
готовленное еще при Фридрихе II всеобщее земельное правр, которое в интересах
абсолютизма унифицировало раздробленные в территориальном и сословном
53Der KÓnig Friedrich der Grosse in Briefen..., S. 312;Grundriss, S. 191.
54 Суворов A.B. Указ, соч., с. 524.
5 5 Berichte iiber die zwischen Oesterreich und Preussen gefiihrten Verhandlungen, die erste Theilung
Polens betreffend. Hrsg. v. A. Beer. Leipzig, 1874; Grundriss, S. 193; Гинцберг Л.И. Указ, соч., с. 116.
56Гинцберг Л.И. Указ, соч., с. 118.
57Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 513.
** Бисмарк О. Мысли и воспоминания, т. I—III. М., 1940-1941, т. III, с. 100.
158
отношениях правовые представления и создавало возможность для освобожде¬
ния наследственно зависимых государственных крестьян от феодальных пут59.
В 1787 г. Фридрих Вильгельм II направил в Голландию 20-тысячное войско
с целью восстановления на престоле Виллема V, мужа своей сестры, что дало
повод современникам говорить об этом эпизоде как о ’’семейной войне”. Однако
для таких действий Фридрих Вильгельм II имел более серьезные основания, так
как отстранение от власти Виллема V вело к резкому возрастанию влияния Фран¬
ции и Англии в Голландии, что ставило под угрозу интересы Пруссии 60.
Еще в 1785 г., незадолго до своей кончины, Фридрих II создал под прусской
эгидой союз немецких князей для противодействия имперским амбициям Австрии
в Германии. Однако в 1792 г. Австрия и Пруссия на время ’’забыли” о своем
соперничестве и совместно выступили против революционной Франции, потерпев
неудачу уже в первом крупном сражении с французскими войсками при Вальми.
Чтобы компенсировать себя за это поражение, Пруссия и Австрия решили про¬
должить аннексию польских земель, совершив в 1793 г. совместно с Россией
второй раздел Польши. К провинции Западная Пруссия, с образованием которой
именно ’’король в Пруссии” Фридрих Вильгельм II завладел титулом ’’короля
Пруссии”, были присоединены Гданьск и Торунь с их округами. Из вновь аннекси¬
рованных польских земель была создана провинция Южная Пруссия. В 1794 г.
Пруссия, Австрия и Россия жестоко подавили национальное восстание под руко¬
водством Тадеуша Костюшко, а в 1795 г. произвели окончательный раздел поль¬
ской территории и ликвидацию польского государства 61.
В апреле 1795 г. Фридрих Вильгельм II вполне в традициях Гогенцоллернов
заключил сепаратный мирный договор с Францией в Базеле, что ознаменовало
начало распада первой антифранцузской коалиции.
Придавая решающее значение ’’национально-немецкой” идее, т.е. борьбе за
объединение Германии под главенством Пруссии, Бисмарк подвергал резкой
критике правление Фридриха Вильгельма II. ’’После смерти Фридриха Вели¬
кого, - писал он, - ясно осознанные цели в нашей политике либо вовсе отсут¬
ствовали, либо неуклюже выбирались иЬи осуществлялись; это имело место с
1786 по 1806 г., когда наша политика, лишенная с самого начала определенного
плана, привела к печальному концу” 62. Он считал эти годы периодом ’’упущен¬
ных возможностей”63, который включал в себя и первое десятилетие правле¬
ния Фридриха Вильгельма III (1797-1840 гг.).
"РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ КАПРАЛОМ..."
Основание в 1806 г. Рейнского союза, когда включенные в него немецкие
князья заявили о своем отделении от ’’Священной Римской империи”, в том же
году повлекло за собой ее ликвидацию 64. |
Напав в 1806 г. ”в качестве наемника Англии и России на воплощенную в лице
Наполеона французскую революцию”65, Фридрих Вильгельм III ’’Справедливый”
(как его назвала дворянская историография) потерпел сокрушительное пораже¬
ние в сражениях при Йене и Ауэрштедте. До той поры преемники Фридриха II,
по словам Бисмарка, ’’тешили себя преувеличенной оценкой своих военных и
политических дарований. Лишь катастрофа, последовавшая в ближайшие за Йеной
недели, заставила двор и народ осознать, что управление государством было
S9Grundriss, S. 198,211.
60 Бисмарк О, Указ, соч., т. II, с. 221, 232.
61 Костюшко И.И. Указ, соч., с. 8.
6 2Бисмарк О, Указ, соч., т. I, с. 196.
63 Там же, с. 202.
64Grundriss, S. 212.
65Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 520.
159
преисполнено промахов и ошибок”06. Окостенелое прусское феодальное госу¬
дарство разваливалось под натиском войск наполеоновской Франции.
По Тильзитскому мирному договору 1807 г. Пруссия лишилась почти половины
своей территории (земель, расположенных между Эльбой и Рейном, и части поль¬
ских территорий, аннексированных ею при разделах Польши), должна была вы¬
платить 100 млн. франков контрибуции и, оказавшись в зависимости от Франции,
превратилась во второстепенное государство 66 67.
Реформы в Пруссии 1807-1813 гг. отнюдь не были плодом деятельности
Фридриха Вильгельма III, а проводились благодаря усилиям немецких патриоти¬
ческих сил, группировавшихся вокруг Карла фон унд цу Штейна и Карла Августа
фон Гарденберга. Они создали предпосылки для освободительной борьбы против
иностранных угнетателей 68 69.
В октябре 1807 г. при активном участии главы гражданской администрации
К. Штейна был принят закон об отмене крепостного права, предоставлявший
крестьянам некоторые личные свободы. Однако содержавшиеся в самом эдикте
ограничения и оговорки, а также последующие правительственные указы и распо¬
ряжения позволили юнкерам спасти многие из своих привилегий. Так, эдикт
1811 г. предусматривал отмену феодальных повинностей и податей, но принуждал
крестьян передать феодалам в качестве ’’вознаграждения” до половины своей
земли. Развитие капиталистических отношений в деревне происходило медлен¬
ным, мучительным путем, получившим название ’’прусского” .
Далеко идущие планы Штейна ограничить политическую власть дворян в
деревне и принять конституцию потерпели неудачу уже в конце 1808 г. из-за
консервативной позиции прусского короля и сопротивления юнкерства.
30 декабря 1812 г. после поражения французской армии в России генерал
Йорк фон Вартенбург, командир прусского вспомогательного корпуса, порвал
союз с Наполеоном и без разрешения короля подписал с русскими войсками
так называемую Таурогенскую конвенцию о своем нейтралитете. Это послу¬
жило сигналом к освободительной войне немцев против французских захват¬
чиков. Фридрих Вильгельм III поспешил послать гонца, чтобы отстранить Йорка
фон Вартенбурга от должности, так как патриотические, но самостоятельные
действия генерала были им причислены к наказуемым 70.
”Рожденный быть капралом и проверять, в порядке ли пуговицы у солдат” 71,
Фридрих Вильгельм III сначала испытывал страх перед французской револю¬
цией, потом перед Наполеоном, а затем и перед русским царем, оказывавшим
решающее влияние на деятельность Священного союза, трактат об образовании
которого был подписан в Париже в сентябре 1815 г. Александром I, Францем I
и Фридрихом Вильгельмом III. Бисмарк довольно категорически утверждал,
что ’’самостоятельной прусской политики с 1806 г. и вплоть до 40-х годов вообще
не существовало: наша политика делалась тогда попеременно то в Петербурге,
то в Вене”72. Значительную роль играли династические связи Гогенцоллернов
с домом Романовых. Российский император Николай I был женат на Шарлотте -
дочери Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы (урожденной принцессы
Мекленбургской). Шарлотта стала в России императрицей Александрой Федо¬
ровной.
После Венского конгресса 1815 г. произошло значительное уменьшение коли¬
чества германских государств, которых осталось только 39. Из них самым круп¬
66Бисмарк О. Указ, соч., т. I, с. 202.
61 Костюшко И.И Указ, соч., с. 63.
66Kathe Н. Op. cit., S. 18; Grundriss, S. 214.
69 Костюшко И.И. Указ, соч., с. 67, 69.
70 Grundriss, S. 214-216; Kathe И. Op. cit., S. 18.
71 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 567.
22 Бисмарк О. Указ, соч., т. I, с, 201.
160
ным была Пруссия, вместе с Австрией превратившаяся в оплот реакции в Цен¬
тральной Европе.
Заигрывая с народом, поверившим в собственные силы в ходе недавней успеш¬
ной борьбы против чужеземного господства, прусский король 22 мая 1815 г.
торжественно обещал созвать Всеобщий прусский ландтаг, рассчитывая сделать
его лишь совещательным органом, и принять конституцию. В конечном счете
Фридрих Вильгельм III отказался от идеи создания народного представитель¬
ства, ограничившись в 1823 г. учреждением местных ландтагов в каждой из
восьми прусских провинций 7 3.
Во время Июльской революции во Франции Гогенцоллерн сконцентрировал
свои войска на границе, принял решительные меры не только против возмож¬
ных выступлений собственного народа, но и для подавления революционных
волнений в ряде мелких немецких государств.
В годы правления Фридриха Вильгельма III в Пруссии царили полицейский
деспотизм, произвол бюрократии, цензура, вмешательство властей в судопроиз¬
водство, преследования демократов и финансовая расточительность. Производи¬
лись массовые аресты, крепости были, как никогда, переполнены политичес¬
кими заключенными. Все усилия этого представителя дома Гогенцоллернов были
в соответствии с целями Священного союза ’’направлены на то, чтобы укрепить
господство дворянства, бюрократии и военщины, чтобы грубым насилием уничто¬
жить - и не только в Пруссии, но и во всей Германии - какую бы то ни было
свободу слова, какое бы то ни было влияние ’’ограниченного разума верноподдан¬
ных” на правительство” 74.
"РОМАНТИК НА ТРОНЕ"
Периодом ’’упущенных возможностей”, прежде всего с точки зрения достиже¬
ния германского единства, Бисмарк считал также и 1842-1862 гг. 5, т.е. в основ¬
ном время правления Фридриха Вильгельма IV (1840-1861). Этот ’’романтик на
троне”, как его называл младогегельянец Давид Штраус, придерживался прямо-
таки средневековых взглядов на священную неприкосновенность христианско-
феодальной монархии. Именно он придумал новый ’’романтизированный” воен¬
ный головной убор, остроконечную каску, ставшую символом прусского милита¬
ризма 7 6.
”Я помню, что получил свою корону от Всевышнего Господа, и перед ним я
ответственен за каждый день и каждый час своего правления, — сказал Фридрих
Вильгельм IV в своей речи 10 сентября 1840 г., - кто требует от меня гарантий
на будущее время, тому я адресую эти слова... Эта гарантия прочнее, чем все
присяги, чем все обещания, закрепленные на пергаменте... Кто хочет довольство¬
ваться простым, отеческим древ не германским и христианским правлением, тот
пусть с доверием взирает на меня” 7 7.
Вступив на престол, Фридрих Вильгельм IV своей высокопарной риторикой
оживил в стране националистические настроения и романтический культ герман¬
ской старины. После кратковременного увлечения либерализмом он перешел
к крайне реакционным методам управления, применяя ’’драконовские” меры
против любых проявлений недовольства в печати, в частности против так называе¬
мых политических поэтов, не говоря уже о каких-либо массовых манифестациях;
преподавание в университетах подвергалось педантичной регламентации. В либе-
13 Лихтенбержэ А. Современная Германия. М., 1914, с. 96-98.
74Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 521.
75Бисмарк О. Указ, соч., т. I, с. 202.
76 Там же, с. 29; Kathe Н. Op. cit., S. 21.
и Бисмарк О. Указ, соч., т. I, примечания, с. 283-284.
6 Новая и новейшая, история, № 6
161
рально-демократических кругах сама личность короля вызывала нараставшую
враждебность. Дело дошло даже до покушения на его жизнь.
В 1847 г. Фридрих Вильгельм IV созвал в Берлине провинциальные ландтаги
в качестве Соединенного ландтага, на котором отверг саму идею конституции.
Он заявил, что никогда не допустит ее введения, ибо этот исписанный лист бума¬
ги (вспомним уже упоминавшийся в его речи 1840 г. ’’пергамент”) ’’вторгается
словно второе провидение” между страной и ’’нашим Господом Богом на
небе” 78.
Когда в Берлине произошло восстание, явившееся началом революции 1848 г.
в Пруссии, в ночь с 18 на 19 марта Фридрих Вильгельм IV подписал обращение
”К моим дорогим берлинцам”, в котором возлагал ответственность за репрессии
против восставших на ’’шайку злодеев, по большей части иностранцев”, подтал¬
кивающих население к бунту. ’Тада всего святого” он просил берлинцев разобрать
баррикады и разойтись по домам, обещая немедленно убрать все войска с улиц
и площадей 79. Дрожавший от страха Гогенцоллерн был вынужден оказать почести
павшим революционерам во дворе замка.
Через три дня после начала мартовских событий Фридрих Вильгельм IV с черно-
красно-золотой лентой (эти цвета служили символом объединённой Германии)
’’под знаменами студенческих корпораций” предпринял театрализованную поездку
по Берлину, чтобы продемонстрировать свое ’’единение с народом”. Перед город¬
ской ратушей и университетом он провозгласил, что Пруссия отныне ’’растворя¬
ется” в Германии, что он желает спасти немецкое единство и свободу и стать во
главе конституционного государства80. Даже всегда лояльный в отношении
своего монарха Бисмарк назвал эту поездку ’’недостойным шествием”, когда
’’король оказался уже во главе не своих войск, а во главе... тех непокорных
масс, перед угрозами которых (германские) князья несколько дней
назад искали у него защиты”. По мнению Бисмарка, излишняя ’’мягкость” Фрид¬
риха Вильгельма IV нанесла вред политике Пруссии тем, что ’’была упущена благо¬
приятная возможность” для решения вопроса об объединении Германии 81.
франкфуртское Национальное собрание, созванное во время революции 1848-
1849 гг., в подавляющем большинстве состояло из представителей либеральной
и мелкой буржуазии,не способных, к решению коренных вопросов революции.
Франкфуртский парламент ограничился обсуждением проекта конституции буду¬
щей объединенной Германии, которая так и не была признана правительствами
германских государств.
Исходя из того, что единство страны может быть достигнуто лишь под главен¬
ством Пруссии, Франкфуртское Национальное собрание от имени немецкого
народа 28 марта 1849 г. предложило императорскую корону Фридриху Виль¬
гельму IV. Однако уже 3 апреля он отверг эту корону под предлогом ее ’’незакон¬
ного происхождения”. В личной беседе прусский король назвал ее слепленной из
грязи и слов ’’булыжной короной”, пораженной ’’тлетворным запахом револю¬
ции”82. Это, правда, не помешало ему заявить, что решение Франкфуртского
парламента ’’дает ему ’’право притязания”, значение которого он умеет ценить” 83.
5 декабря 1848 г., в тот день, когда в Берлине было распущено прусское Нацио¬
нальное собрание, Фридрих Вильгельм IV октроировал (’’даровал”) более чем
умеренную конституцию. Для того чтобы придать ей вполне ’’законный” харак¬
тер, на основе трехклассной избирательной системы были избраны две палаты,
78Grundriss, S. 239; Kat he Я. Op. cit., S. 19.
79Бисмарк О. Указ, соч., т. I, примечания, с. 281.
80 Там же, с. 30—31; примечания, с. 283; Kathe Н. Op. cit., S. 20.
"Бисмарк О. Указ, соч., т. I, с. 30-31.
62Лихтенбержэ А. Указ, соч., с. 111, 112, 121, 124; Kathe Н, Op. cit., S. 20.
83Бисмарк О, Указ, соч., т. I, с. 41.
162
подготовившие пересмотренный текст конституции 1850 г., действовавшей в
стране вплоть до Ноябрьской революции 1918 г. Пруссия стала конституционной
монархией. Сохранялась доминирующая роль короны, а ’’исписанный лист”,
как еще в начале своего правления Фридрих Вильгельм IV назвал конституцию,
служил орудием господства консервативных сил 84.
Важным событием периода революции явилась война из-за приэльбских гер¬
цогств Шлезвига и Гольштейна, находившихся под сюзеренитетом датского коро¬
ля. 24 марта 1848 г. ландтаги обоих герцогств порвали с Данией и обратились
за поддержкой к Германскому союзу. Практически такое обращение могло быть
адресовано только Пруссии, располагавшей военными силами для вмешательства.
Прусское правительство вместе с Фридрихом Вильгельмом IV не могло ответить
отказом на такую просьбу. 10 апреля прусские войска вступили на территорию
герцогств, а затем оказались и на исконно датской земле в Ютландии. Однако
под давлением Англии, России и Швеции Фридрих Вильгельм IV заключил с Данией
перемирие в Мальмё, и оба герцогства так и остались за Данией 85.
В последние годы жизни у Фридриха Вильгельма IV резко усилились антипатия
к конституционным порядками стремление освободиться даже от незначительных
ограничений королевской власти. Уже будучи больным, он носился с мыслью о
замене конституции ’’королевской хартией” 86.
Неизлечимое психическое заболевание Фридриха Вильгельма IV привело к уста¬
новлению в 1858 г. регентства его брата Вильгельма, который в 1861 г. стал
королем.
"КАРТЕЧНЫЙ ПРИНЦ"
Родился Вильгельм 22 марта 1797 г. и был вторым сыном прусского короля
Фридриха Вильгельма III. Он получил исключительно военное образование. Воен¬
ные в течение всей его жизни оказывали на него значительно большее влияние,
чем гражданские лица. Среди близких ему людей особое место занимал его адъю¬
тант генерал фон Герлах. В 1807 г., в 10-летнем возрасте, Вильгельм стал лейте¬
нантом, в 1814 г. участвовал в военных действиях против франции, а в 1818 г.
был уже генерал-майором и командиром гвардейской пехотной бригады. В 1838 г.
он был назначен командующим гвардии.
После того как королем стал его бездетный брат Фридрих Вильгельм IV, Виль¬
гельм, женившийся в 1829 г. на принцессе Августе Саксен-Веймарской 87, как
вероятный престолонаследник поручил титул принца Прусского и в последую¬
щие годы играл весьма заметную роль в придворной реакционно-милитаристской
камарилье.
Во время революции 1848 г. Вильгельм выступал за ее решительное подавле¬
ние. Однако революция разгоралась, и он был вынужден покинуть страну. Сбрив
усы и воспользовавшись фальшивыми документами на имя некоего почтальона
Леманна, Вильгельм бежал через Гамбург в Англию. Между тем прусское Нацио¬
нальное собрание с удивлением узнало, что государственная казна пуста, хотя
было известно, что в начале года в ней хранились миллионы талеров. На прямой
вопрос о судьбе этих денег министр финансов Ганземан заявил, что не может
говорить об этом. Позднее стало известно, что эти деньги были ночью вынесены
из подвала берлинского замка, погружены на судно на реке Шпрее и тайно,
84Там же, примечания, с. 288-289; Лихтенбержэ А. Указ, соч., с. 126-127; Kathe Н. Ор.
cit., S. 20.
85 Тэйлор А.Дж.П. Борьба за господство в Европе. 1848-1918. М., 1958, с. 59-61, 612.
86Бисмарк О. Указ, соч., т. I, с. 40.
87 Monarchen und Minister. Sozialdemokratische Publizistik gegen Monarchismus und Volksbetrug.
Berlin, 1974, S. 25.
6
163
опять-таки через Гамбург, доставлены в Лондон. Фридрих Вильгельм IV надежно
упрятал их в Английском банке 88.
В июне 1848 г. Вильгельм вернулся в Берлин и занялся сплочением сил реак¬
ции. Через год, в июне 1849 г., он возглавил войска, расправившиеся с повстан¬
цами в Бадене и Пфальце и взявшие крепость Раштатт. После капитуляции этой
крепости принц Прусский нарушил данное ее защитникам обещание о сохранении
им жизни, и многие из них были расстреляны. Этот ”подвиг” Вильгельма закрепил
за ним кличку ’’картечного принца”, которую он приобрел еще во время барри¬
кадных боев в Берлине 89.
Бисмарк как-то отметил, что его ’’поразила неосведомленность принца о наших
государственных учреждениях и о политической ситуации” 90. С назначением его
регентом Вильгельм, как писал Бисмарк, ’’так живо почувствовал недостатки
своего образования, что работал день и ночь, только бы восполнить этот пробел.
’’Занимаясь государственными делами”, он работал, действительно, в высшей сте¬
пени серьезно и добросовестно... Не было такого развлечения, которое отвлекло
бы его от государственных дел”. Он никогда не читал книг, не имевших отноше¬
ния к его королевским обязанностям, не курил и не играл в карты. Его един¬
ственным отдыхом было вечернее посещение театра 91.
Так как Вильгельм в основном послушно следовал проводившейся Бисмар¬
ком политике, последний в своих воспоминаниях не жалел красок на описание
достоинств монарха. ’’Сам король похвалил однажды (в 1865 г.) моей жене
искусство, с каким я умел угадывать его намерения и, как он присовокупил
после короткой паузы, руководить ими, - писал Бисмарк. - Такое признание
не лишало его сознания того, что он господин, а я его слуга, хотя и полезный,
но почтительный и преданный” 92.
Бисмарк называл Вильгельма I ’’бесстрашным офицером на троне”, которого
”испугать... было невозможно”, ’’человеком благородным в лучшем смысле
этого слова... Он соблюдал верность и честь по отношению не только к монар¬
хам, но и к своим слугам до камердинера включительно” 93.
Вместе с тем Вильгельм ’’чрезвычайно боялся справедливой критики современ¬
ников и потомства. В этом смысле он был типичным прусским офицером, кото¬
рый по приказу свыше без колебания пойдет на верную смерть, но страх перед
порицанием начальства или общественного мнения повергает его в отчаянную
нерешительность...” 94 К тому же он находился под большим влиянием своей
супруги. ’’Его чувствительность к нарушению домашнего уклада и привычек
повседневной жизни создавали мне такие помехи, которые порой труднее было
преодолеть, чем препятствия, чинимые мне иностранными державами или враж¬
дебными партиями” 95, - писал Бисмарк.
"ЖЕЛЕЗОМ И КРОВЬЮ"
Взойдя на трон в 1861 г., Вильгельм I стал добиваться реорганизации прусской
армии, чтобы устранить из нее демократические черты, сохранившиеся со времен
военной реформы 1808 г. Поскольку новая военная реформа проводилась без
8 8 9 Der Sozialdemokrat, 30.1.1881.
89 Monarchen und Minister, S. 26; Der Sozialdemokrat, 21. VII. 1881; Der Sozialdemokrat, 8.1.
1886.
"Бисмарк О. Указ, соч., т. II, с. 252.
91 Там же, с. 253, 254, 270.
93 Там же, с. 261.
"Там же, с. 255, 259.
9 4 Там же, с. 259.
"Там же, с. 258.
164
Вильгельм I (1797-1888), король Пруссии, кайзер Германской империи
вотирования парламентом необходимых для этого средств, дело дошло до ’’кон¬
ституционного конфликта” с палатой депутатов 96.
Еще в те дни, когда Вильгельм ’’считался с возможностью” уже в ближайшее
время занять королевский трон, Бисмарк посоветовал ему не нарушать спокой¬
ствия в стране хотя бы условным отклонением конституции 1850 г. Принц Прус¬
ский с пониманием отнесся к его словам о том, что ’’конституционные вопросы
имеют второстепенное значение сравнительно с нуждами страны и с ее политичес¬
ким положением в Германии” и что ’’теперь важнее всего проблема силы и наша
внутренняя сплоченность”97. Будучи в 1862 г. назначен прусским министром-
президентом, Бисмарк приступил к осуществлению активной политики, направ¬
ленной на достижение объединения Германии.
В годы правления Вильгельма I (1861—1888) войны Пруссии с Данией в
"Grundriss, S. 265; KatheН. Op. dt., S. 21.
91 Бисмарк О. Указ, соч., т. I, с. 143-144.
165
1864 г., с Австрией в 1866 г. и с Францией в 1870-1871 гг. привели к объеди¬
нению Германии ’’железом и кровью”.
18 января 1871 г. в Зеркальном зале Версальского дворца состоялась офици¬
альная церемония провозглашения Германской империи. После проповеди свя¬
щенника прусского королевского двора Рогге, краткого обращения Вильгельма I
к немецким князьям, в котором он заявил о принятии предложенной ему импера¬
торской короны, и оглашения Бисмарком воззвания к немецкому народу с
обещанием добиваться процветания Германской империи не путем завоеваний,
а мирными средствами в области благосостояния, свободы и культуры великий
герцог Баденский провозгласил здравицу в честь кайзера Вильгельма 98.
Для проведения церемонии день 18 января был выбран не случайно. Ровно
170 лет назад бранденбургский курфюрст Фридрих III овладел короной короля
Пруссии. Избрание именно этого дня было призвано продемонстрировать господ¬
ство Пруссии во вновь созданной Германской империи. Юнкерство являлось
главной опорой прусского государства, задавало тон в административно-бюрокра¬
тическом аппарате, в дипломатии и прежде всего в армии, определяя антидемокра¬
тический характер объединенной Германии. Во внутренней политике оно придер¬
живалось принципа: ’’Против демократов помогают лишь солдаты”. Хотя в эко¬
номическом отношении позиции юнкерства уже теснила крупная буржуазия,
оно всегда могло рассчитывать на постоянную и действенную поддержку со
стороны монархии, гарантировавшей его преобладание в сфере политики99.
В Версальском дворце во время провозглашения Германской империи присут¬
ствовали монархи и князья, министры и генералы, но, разумеется, не было пред¬
ставителей народа. Даже делегация прусского ландтага, направленная в Версаль
для того, чтобы просить своего короля принять императорскую корону, должна
была ждать, пока Вильгельм не получил сочиненное Бисмарком письмо от бавар¬
ского короля, содержавшее такую же просьбу.
В последующие годы Вильгельм I в еще большей степени, чем прежде, под¬
чинялся политическому курсу Бисмарка, в наиболее ответственные моменты
уступая воле ’’железного канцлера”, который, в сущности, всегда и во всем отстаи¬
вал коренные интересы прусской монархии и Германской империи.
В связи с открытием первого после образования Германской империи рейх¬
стага Вильгельм писал Бисмарку, что Пруссия стала во главе объединенной Герма¬
нии не столько благодаря ’’размерам своей территории и своему могуществу,
хотя и то и другое одинаково возросли, сколько своему духовному развитию
и организации своей армии”. Письмо завершалось сообщением о возведении
Бисмарка в прусское княжеское достоинство 100.
После неудачного покушения Макса Геделя, подмастерья-жестянщика, на
Вильгельма И мая 1878 г. Бисмарк внес в рейхстаг проект исключительного
закона против социал-демократии, однако лишь после ранения кайзера служа¬
щим статистического бюро Дрездена, анархистом Карлом-Эдуардом Нобилингом
2 июня 1878 г. ему удалось добиться одобрения законопроекта рейхстагом.
Этот закон послужил основанием для развертывания широких репрессий против
участников рабочего движения. Наряду с Берлинским конгрессом 1878 г. Виль¬
гельм считал принятие ’’Закона против общественно опасных стремлений социал-
демократии” всемирно-историческим событием. По его мнению, этот акт позво¬
лил ’’законным путем выступить против врага, который угрожал гибелью всему
государственному порядку” 101.
9*Seeber G., Wolter Н. Mit Eisen und Blut. Die preussisch-deutsche Reichsgrundung von 1870/71.
Berlin, 1981, S.5-8.
** Monarchen und Minister, S. 11.
100 Бисмарк О. Указ, соч., т. II, с. 263.
101 Там же, с. 265;. Grundriss, S. 292.
166
В конце своей жизни, в день 70-летия Бисмарка, Вильгельм послал канцлеру
картину Антона Вернера ’’Провозглашение империи в Версале”, на которой цен¬
тральной фигурой был Бисмарк. Выражая ему чувства признательности, кайзер
писал, что эта картина ”изображает один из величайших моментов в истории
дома Гогенцоллернов, о котором нельзя и думать, не вспомнив одновременно
и о Ваших заслугах” 10 2.
Все правление Вильгельма I, находившегося во власти проникнутого духом
милитаризма реакционного пруссачества и ортодоксального лютеранства, по
существу, не обладавшего четко выраженной политической позицией, прошло
”в лучах славы” такого крупного государственного деятеля, каким являлся
князь О. фон Бисмарк, в решающей мере благодаря которому кайзер слыл
как бы символом верного своему долгу, истинно ’’солдатского” пруссачества.
99 ДНЕЙ
Сын Вильгельма I Фридрих Вильгельм родился 18 октября 1831 г. и по тради¬
ции Гогенцоллернов пошел по военной линии, что, однако, не помешало ему с
1849 по 1851 г. учиться в Боннском университете. В 1858 г. он вступил в брак
с принцессой Викторией, старшей дочерью английской королевы Виктории, что
оказало большое влияние на формирование его политических взглядов 10 .
С Фридрихом Вильгельмом Бисмарк впервые встретился летом 1848 г., когда
тому было всего 17 лет. Во время войн с Данией 1864 г., а затем с Австрией и
Францией он занимал высокие должности в армии. В частности, в ходе военных
действий против Франции он командовал 3-й армией, принимавшей участие в сра¬
жении при Седане 102 103 104.
Между Бисмарком и кронпринцем установились весьма напряженные отноше¬
ния, причем сам Бисмарк придавал значение лишь так называемому ’’данциг¬
скому эпизоду”. Когда в разгар ’’конституционного конфликта”, 1 июня 1863 г.,
был издан указ о прессе, в соответствии с которым Правительство могло после
двух предупреждений запретить издание любой оппозиционной газеты, крон¬
принц, выступая на приеме в ратуше Данцига, подверг этот указ резкой крити¬
ке105. Затем Фридрих Вильгельм направил Бисмарку письмо, в котором
”в сильных выражениях” осудил всю его политику, обвинив в недоброжела¬
тельном отношении к народу и весьма сомнительном толковании конституции.
Он не скрывал при этом своей враждебности к государственному министер¬
ству. Ę конечном счете кронпринц вынужден был извиниться перед отцом за
свое выступление и просил освободить его от всех занимаемых должностей 106 107.
Бисмарк объяснял либеральные взгляды Фридриха Вильгельма влиянием
его матери и жены, которые, по его мнению, ”не признавали своеобразия прус¬
ского государства и невозможности управлять им при помощи сменяющихся
парламентских групп” 10 7.
Хотя мир между отцом и сыном был восстановлен, с 60-х годов кронпринц
почти не участвовал в прусской и имперской политической жизни, ограничиваясь
выполнением представительских функций.
Несмотря на враждебность, проявленную Фридрихом Вильгельмом в отноше¬
нии Бисмарка в 60-х годах, в 1885 г., когда здоровье Вильгельма I пошатнулось,
кронпринц обратился к рейхсканцлеру с вопросом, останется ли он на службе
в случае смены монарха. Бисмарк ответил, что согласится на это при двух
102 Бисмарк О. Указ, соч., т. II, с. 266.
103 Monarchen und Minister, S. 49.
104 Ibidem.
Бисмарк О. Указ, соч., т. II, с. 277.
106 Там же, т. I, с. 232-233, 320.
107 Там же, с. 234.
167
условиях: ’’Никакого парламентского правительства и никаких иностранных
влияний в политике”. ”06 этом не может быть и речи!” — воскликнул крон¬
принц, сопровождая эти слова выразительным жестом 108. Так что ’’либерализм”
Фридриха Вильгельма к этому времени заметно поубавился.
Еще при жизни Вильгельма I у Фридриха Вильгельма началось серьезное забо¬
левание, оказавшееся раком горла. В связи с диагнозом и возможной операцией
в правящих кругах развернулась скрытая борьба, связанная со стремлением
определенных сил не допустить его прихода к власти.
Уже смертельно больным вступив на престол 9 марта 1888 г. под именем Фрид¬
риха III, 67-летний монарх заверил своих недоброжелателей в том, что в управ¬
лении страной будет следовать отцовской линии, и предложил Бисмарку про¬
должить свою деятельность на посту рейхсканцлера и министра-президента
Пруссии. Как писала газета ’’Социал-демократ”, миллионы людей облегченно
вздохнули, когда пришло известие о смерти Вильгельма I, так как его правление
было для них господством беспримерного подавления и преследований 10 9.
Однако во время продолжавшегося всего 99 дней правления Фридриха III
его либерализм не пошел дальше известных разногласий с канцлером и отстране¬
ния от должности реакционного министра внутренних дел Р. фон Путткамера.
Вместе с тем после смерти Фридриха III, последовавшей 15 июня 1888 г., ’’Социал-
демократ” отмечал, что, когда он взошел на трон, то не совершил ни одного
враждебного акта против кого-либо из людей или какой-либо партии 110.
ПОСЛЕДНИЙ ГОГЕНЦОЛЛЕРН НА ТРОНЕ
Переход от феодализма к капитализму и вступление Германии в империалис¬
тическую стадию сопровождались глубокими сдвигами в классовой структуре
общества. Интенсивное капиталистическое развитие не только в промышленности,
но и в сельском хозяйстве оказало значительное влияние на положение юнкер¬
ства, все шире прибегавшего к методам капиталистического хозяйствования.
Связи юнкерства с буржуазией становились все более тесными. Династия Го¬
генцоллернов уже не могла ориентироваться исключительно на прусское юнкер¬
ство, хотя и использовала все возможности для дальнейшего укрепления его
позиций111. В стране сложился классовый компромисс между крупными агра¬
риями и буржуазией.
Последний германский кайзер Вильгельм II, являвшийся высшим представи¬
телем монархической системы господства германского юнкерско-буржуазно го
империализма, родился 27 января 1859 г. в Потсдаме и был старшим сыном
Фридриха Вильгельма (будущего кайзера Фридриха III) и принцессы Виктории,
дочери английской королевы. С рождения он не мог пользоваться левой рукой, ко¬
торая была на 15 см короче правой. И вообще левая половина его тела была
развита слабее правой. Камердинеры, помогавшие ему не менее пяти раз в день
переодеваться, постоянно опасались, что он упадет во время этой процедуры.
Воспитатель-кальвинист держал его в строгости. Вильгельм ненавидел свою либе¬
рально настроенную мать и презирал отца, находившегося под ее влиянием.
Внутренне неуверенный в себе, Вильгельм всегда держался вызывающе не только
при обсуждении военных и политических вопросов, но и при разговорах о
живописи, музыке, театре и даже кораблестроении.
После окончания университета в Бонне в 1879 г. Вильгельм проходил военную
службу в Потсдаме. В июне 1885 г. он стал полковником гусарского полка, а в
108Там же, т. П, с. 272.
letDer Sozialdemokrat, 19.V.1888.
110 Monarchen und Minister, S. 50, 62.
liiKatheH. Op. cit., S. 23-24.
168
II (1859—1941), король Пруссии, кайзер Германской империи (в центре)
с владельцами гамбургской верфи Бломом и Фоссом (слева)
1888 г. был произведен в бригадные генерал-майоры. В 1881 г. он женился на
шлезвиг-гольштейнской принцессе Аугусте Виктории (умерла в 1921 г.)112.
Мировоззрение Вильгельма складывалось под сильным воздействием фео¬
дально-аристократических взглядов прусского офицерства. Одним из его ближай¬
ших друзей был генерал-квартирмейстер граф Альфред фон Вальдерзее, придер¬
живавшийся реакционных политических взглядов. В 1886 г. Вильгельм впервые
" 2 Бисмарк О. Указ, соч., т. III, с. 20; Fischer H.W, The Private Lives of William II and his
Consort. London, 1906, p. 6; Róhl J.C.G. Deutschland ohne Bismarck. Die Regierungskrise imzweiten
Kaiserreich. 1890-1900. Tubingen, 1969, S. 31.
встретился с графом Филиппом Эйленбургом, который в течение многих лет
оказывал на него, как никто другой, очень большое влияние. Мышление Виль¬
гельма было пронизано грубым, неприкрытым расизмом. X. Чемберлена с его
расовой теорией он считал ’’союзником в борьбе за германцев против Рима, Иеру¬
салима и т.д.”113
В своих ’’Мыслях и воспоминаниях” Бисмарк отмечал, что Вильгельм II ”не
остался чужд наследию Фридриха Вильгельма II” в двух направлениях: ’’одним
из них является сильное сексуальное развитие, а другим - известная восприим¬
чивость к мистическим влияниям”.
По традиции времен Фридриха Вильгельма I рослые солдаты считались симво¬
лом военной мощи Пруссии. Почти все флигель-адъютанты кайзера были очень
высокого роста — около шести футов и выше 114.
Вильгельм, всегда благосклонно относившийся к флоту, еще будучи принцем
Прусским постоянно вращался в военно-морских кругах, был завсегдатаем мор¬
ского казино 115.
Однажды Вильгельм заявил рекрутам, что они должны будут стрелять в своих
отцов и братьев, если он им прикажет. Весной 1884 г., после учений в районе
Потсдама, наследный принц обратился к присутствовавшим резервистам с при¬
зывом ’’всегда, в том числе и в гражданском состоянии, противостоять всем
социалистическим и анархистским проискам. Если вы когда-либо услышите
социалистические высказывания, то должны будете донести на соответствую¬
щих лиц, но как солдаты — можете сами принять против подобных людей энер¬
гичные меры”. Известившая об этом своих читателей газета ’’Социал-демократ”
не преминула воспользоваться слухами о том, что будущий властитель Герма¬
нии берет весьма обстоятельные уроки соблюдения шестой заповеди у дочери
некоего булочника в Потсдаме...116
В июне 1888 г. 29-летний Вильгельм унаследовал трон своего отца. Однако
молодой монарх не обладал к тому времени ни соответствующими его поло¬
жению знаниями, ни личными качествами. Его отец, будущий император Фрид¬
рих III, отмечал ’’его склонность к слишком поспешным и скороспелым суж¬
дениям”. ”В его знаниях еще много пробелов, - писал он Бисмарку, — до сих
пор ему не хватает необходимых основ. Поэтому совершенно необходимо попол¬
нить и усовершенствовать его знания”. Бисмарк, в свою очередь, считал, что
Вильгельм не проявляет ’’склонности к усидчивому труду”117. Все это объяс¬
няло дилетантизм его действий во многих областях государственной жизни,
когда его весьма неоправданное самомнение причудливо сочеталось с неопре¬
деленностью оценок и суждений.
Тем не менее Вильгельм II воспринимал себя как нового, ’’еще более вели¬
кого”, Фридриха II. Еще до восшествия на престол он писал рейхсканцлеру:
’’Если суждено разразиться войне, не забывайте, что всегда наготове рука и меч
у того, чьим предком был Фридрих Великий, один боровшийся с втрое большим
количеством врагов, чем их имеется в настоящее время у нас, и что 10 лет упор¬
ной военной подготовки не пропали для него даром! В остальном — ’’Цольре
зовет на бой!” (старинный клич Гогенцоллернов, первоначально именовав¬
шихся Цольре. -КТ.)”118.
113Ерусалимский А.С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в кон¬
це XIX века. М., 1951, с. 76, 78; RóhlJ.C.G. Op. cit., S. 31, 33-34.
114См.: Бисмарк О. Указ, соч., т. III, с. 97, 100.
115 Ерусалимский А.С. Внешняя политика..., с. 68; Туполев Б.М. Кайзеровский военно-мор¬
ской флот рвется на океанские просторы (конец XIX - начало XX в.). - Новая и новейшая ис¬
тория, 1982, № 3, с. 127-128.
116 Der Sozialdemokrat, 8.V.1884.
117См.: Бисмарк О. Указ, соч., т. III, с. 4-5.
118 Там же, с. 11; примечания, с. 22.
170
Свои особенно тесные связи с офицерским корпусом Вильгельм II объяснял
той значительной ролью, которую сыграл в подборе императорского окруже¬
ния его бывший начальник генерал фон Ферзен. К ближайшим ’’соратникам”
кайзера принадлежали, в частности, Г. фон Лукану с — новый шеф гражданско¬
го кабинета и генерал В. фон Ханке — шеф военного кабинета. Своего друга
Вальдерзее Вильгельм уже 14 августа 1888 г. назначил начальником генерального
штаба армии 119.
Верхушка немецкого бюргерства, особенно разбогатевшие промышленники,
в своем образе жизни подражали офицерам-дворянам и стремились сами стать
дворянами. Бисмарк и в еще большей степени Вильгельм II поддерживали эти
устремления. Кайзер приближал ко двору магнатов индустрии, банковского и
торгового капитала. В его окружение входили такие крупные промышленники,
как Крупп, братья Штумм, Хенкель-Доннерсмарк, банкиры Гвиннер и Гельфферих
от ’’Дойче банк”, и происходившие обычно из прусских юнкерских фамилий офи¬
церы и рредставитеяидеысшей .бюрократий. К ним относилось и значительное число
богатых еврейских семей, большей частью перешедших в христианство до получе¬
ния дворянства. Однако тот факт, что кайзер принимал и прислушивался к сове¬
там Баллина, Эмиля и Вальтера Ратенау, Фюрстенберга, Заломонзона или Макса
Варбурга и других, отнюдь не исключал того, что в высших кругах германского
общества процветал скрытый антисемитизм. Вместе с тем Вильгельм II вполне
может быть причислен к тем представителям юнкерства, которые не имели каких-
либо кастовых предубеждений против буржуазных’’выскочек” 120.
Как никакой другой конституционный монарх того времени, Вильгельм II
верил в то, что является государем ’’милостью Божьей”. Для него было поистине
невыносимо, что Бисмарк как бы ’’препятствовал” неограниченному осуществ¬
лению им своих императорских прерогатив. Уважая старого канцлера, кайзер
с самого начала собирался в будущем править единолично. Когда его дед и отец
еще были живы, он в 1887 г. дал понять одному из особенно близких к рейхс¬
канцлеру министров, что Бисмарк еще будет некоторое время сохранен на своем
посту, но позднее монарх ”возложит” бремя власти на себя. Как среди статс-
секретарей, так и прусских министров были люди, поддерживавшие замысел Виль¬
гельма постепенно лишить Бисмарка власти. Усиление господства крупного капи¬
тала, появление монополистической буржуазии и рост ее экспансионистских
устремлений, безуспешность политики подавления революционного рабочего дви¬
жения сделали правительственный курс Бисмарка неустойчивым и в конечном
счете привели к его отставке в 1890 г.
Отходя еще со времени стачки рурских горняков 1889 г. от бисмарковской
политики открытых репрессий против рабочего класса, кайзер после ряда
безуспешных попыток ”поймать на удочку” рабочее движение посредством неко¬
торых мнимо либеральных и социально-политических уступок стал занимать в
отношении него все более жесткую позицию121. В значительной мере личную
волю кайзера отражали законопроекты об усилении армии 1892-1893 гг., о госу¬
дарственном перевороте 1894—1895 гг., направленном против социал-демокра¬
тии, проект закона о каторжных тюрьмах 1898-1899 гг. Его заявление на банкете
в мае 1891 г.: ”В стране лишь один господин — это я, и другого я не потерплю”,
или сделанная им в сентябре того же года в ’’Золотой книге” ратуши в Мюнхене
запись ’’Воля монарха — высший закон” в условиях обострения противоречий
119 Kaiser Wilhelm II, Ereignisse und Gestalten ausden Jahren 1878-1918. Leipzig-Berlin, 1922,
S. 19; Bismarcks Sturz. Zur Rolle der Klassen in der Endphase des preussisch-deutśchen Bonapartismus
1884/85 bis 1890. Berlin, 1977, S. 222.
120Fischer F Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. Dusseldorf, 1978,
S. 41-42.
131Monarchen und Minister, S. 64-65.
171
внутри господствующих классов отражали стремление Вильгельма II установить
в стране систему ’’личного правления” 122. Одно время он подумывал даже об
упразднении поста имперского канцлера вообще.
В многочисленных выступлениях, как бы обосновывая свою абсолютистски-
монархическую миссию, Вильгельм II поначалу наводил ’’страх” на всю Европу,
которая постоянно ожидала то государственного переворота в Германии, то ее
нападения на кого-либо из соседей 123.
В феврале 1894 г. на банкете в Бранденбурге он говорил об убежденности
династии Гогенцоллернов в том, что сам Бог возвел ее на престол и что только
перед Богом и своей совестью она отчитывается о деяниях, совершаемых ею
исключительно для блага отечества. В августе 1897 г. о своем деде, первом гер¬
манском императоре, он заявил в Кобленце: ’’Нам... правящим государям, он
оставил в наследство жемчужину, которую мы обязаны хранить и считать свя¬
щенной, а именно — монархию милостью Божьей, монархию с ее тяжелыми обязан¬
ностями, работой, нескончаемыми трудами и страшной ответственностью перед
Создателем” 124.
Кайзер ’’славился” сомнительным пристрастием к разного рода непристойным
и грубым шуткам, а его выходка на борту королевской яхты в июле 1897 г. даже
привела к трагедии. Было сделано официальное сообщение о том, что лейтенант
Ханке погиб во время прогулки на велосипеде, свалившись в бурную реку. В дей¬
ствительности же все обстояло иначе. По какому-то случаю кайзер напустился на
лейтенанта, а тот, защищаясь, попытался ударить своего обидчика. В результате
Ханке был ’’изолирован”, и с него взяли обещание после освобождения покон¬
чить с собой, что тот и сделал 12 5.
Будучи болтливым, напыщенным и тщеславным, весьма неустойчивым в своих
настроениях, Вильгельм II прикрывал свою посредственность помпезностью им¬
ператорского двора, причем ’’солдатская” грубость и крайняя нетактичность
сочетались в нем с утонченной любезностью и доброжелательностью, если этого
требовали обстоятельства. С особым удовольствием Вильгельм II использовал
’’сочные” выражения по адресу депутатов рейхстага, называя их ’’отребьем без
отечества” или утверждая, что ’’немецкий парламентарий со временем становится
свиньей”. ’’Пусть скорее придет тот день, — заклинал кайзер, — когда гренадеры-
гвардейцы со штыком и барабаном очистят помещение (рейхстага. — Б.Г.)!” 126.
Своего мнения о депутатах он не скрывал и от своего кузена — русского царя,
с которым годами обменивался родственными посланиями. ’’Мой рейхстаг ведет
себя настолько скверно, насколько это вообще возможно, он постоянно колеб¬
лется между социалистами, подталкиваемыми евреями, и ультрамонтанами-като-
ликами; обе партии, насколько я понимаю, скоро созреют для того, чтобы всем
вместе быть повешенными” 12 7.
К громогласным заявлениям кайзера в Европе, однако, постепенно привыкли.
Вместе с тем это не помешало Роберту Солсбери как-то написать британскому
послу в Вене в связи с подобными выступлениями кайзера о том, что он ”не
совсем в своем уме”, а одному из государственных служащих заявить, что, судя
по всему, у Вильгельма ”в голове не все в порядке” 128.
Для так называемого ’’личного правления” Вильгельма известные трудности
возникли во время канцлерства Лео фон Каприви (1890—1894), однако с при-
Х22Ротштейн Ф.А. Международные отношения в конце XIXвека. М.-Л., 1960, с. 18.
123 См.: Klaussmann А. О. Kaiserreden: Reden und Erlasse, Briefe und Telegramme Kaiser Wilhelms
des Zweiten, ein Charakterbild des deutschen Kaisers. Leipzig, 1902.
134Цит. по: Ротштейн Ф.А. Указ, соч., с. 18.
l2S Rohl J.C.G. Op. cit., S. 32.
136Ibid., S. 31-32.
137 Ibid., S. 32.
12Л Ротштейн Ф.А. Указ, соч., с. 18.
172
Вильгельм II (слева) с адмиралом А. фон Тирпицем (в центре) и генерал-полковни¬
ком Г. фон Мольтке
ходом на пост главы правительства находившегося в преклонных годах и лишен¬
ного всякой инициативы Хлодвига Гогенлоэ-Шиллингсфюрста (1894—1900) вме¬
шательство кайзера в имперскую политику достигло наивысшей точки.
В жизни кайзера современность уживалась со средневековыми традициями.
Поддерживая развитие новых отраслей промышленности и новой технологии,
являясь энтузиастом строительства грандиозного военно-морского флота и про¬
ведения ’’мировой политики”, Вильгельм II оставался приверженцем прусско-
w w 1 О О
монархической политической концепции .
Происходила консолидация сил, выполнявших волю господствующих классов,
официальными представителями которых выступали кайзер, канцлер и импер¬
ское правительство. На руководящие посты в империи пришли люди, тесно
сотрудничавшие с Вильгельмом IL Так, в 1897 г. Бернхард фон Бюлов стал статс-
секретарем ведомства иностранных дел, а в 1900 г. - рейхсканцлером; в 1897 г.
статс-секретарем военно-морского ведомства был назначен адмирал Альфред
Тирпиц.
Играя роль борца против ’’желтой опасности”, кайзер 27 июля 1900 г. обратился
к немецким войскам, отправлявшимся на подавление” народного восстания в
Китае, с пресловутой ’’гуннской речью”: ’’Никому не давать пощады! Пленных
не брать!.. Как тысячу лет назад гунны под предводительством своего короля
Этцеля создали себе имя, которое еще и сегодня в преданиях и сказках свидетель-
1 atСм.: Herrschaftsmethoden des deutschen Imperialismus 1897/98 bis 1917. Dokumente zur
innen- und aussenpolitischen Strategie und Tak tik der herrschenden Klassen des Deutschen Reichel
Einleitung v. W. Gutsche. Berlin, 1977.
173
ствует об их могуществе, так и само слово ’’немцы” на тысячу лет вперед должно
быть представлено вами в Китае таким образом, чтобы китаец никогда даже не
осмелился косо посмотреть на немца!”13®. Вскоре из Китая стали приходить
письма немецких солдат, в которых рассказывалось о зверствах, совершавшихся
там германским милитаризмом с благословения кайзера.
Вильгельм II активно поддерживал правительственную линию, внося весомый
вклад как в осуществление ’’политики сплочения” господствующих классов
внутри страны, так и в развертывание германской экспансии на мировой арене.
Так, кайзер, слывший большим любителем морских путешествий, содействовал
развязыванию первого марокканского кризиса, высадившись 31 марта 1905 г.
по настоянию Бюлова в Танжере, где произнес вызывающую речь, потребовав
для Германии ’’равных” с другими державами прав в Марокко 130 131 * 133 * 13.
Это, однако, не исключало и самовольных выходок монарха в духе его ’’лич¬
ного правления”. Например, в 1908 г. английская ’’Дейли телеграф” опубликовала
интервью Вильгельма II, в котором содержались лицемерные попытки втереться
в доверие к Англии, рисовалась фантастическая картина будущего развития
международных отношений, содержались выпады против Японии, России и Фран¬
ции. Это интервью вызвало такой взрыв возмущения в политических сферах
страны, что даже буржуазные партии потребовали принятия каких-то мер для
исключения впредь подобных инцидентов. Однако до установления парламент¬
ского контроля за действиями Вильгельма дело все же не дошло 13 2.
За аферой с ’’Дейли телеграф” последовал весьма характерный эпизоде бли¬
жайшем окружении кайзера. Стремясь развеять его дурное настроение, шеф
военного кабинета генерал фон Хюльзен-Хэзелер, изображая балерину, скончался
от сердечного приступа 13 3.
Вильгельм II нес большую личную ответственность за экспансионистский
внешнеполитический курс, связанный с риском развязывания мировой войны и
прямой подготовкой к ней, хотя временами у него и возникали сомнения относи¬
тельно возможных последствий ’’мировой политики” для Германии и династии
Гогенцоллернов 13 4.
Проводя империалистическую политику, кайзер стремился натравливать держа¬
вы друг на друга, чтобы с помощью шантажа добиться от них политических усту¬
пок или территориальных ’’компенсаций”. В конечном счете ему не удалось до¬
стигнуть изоляции или нейтрализации ни одного из своих потенциальных против¬
ников. Восстановив против себя все великие державы, за исключением Дунайской
монархии, кайзеровская Германия, по существу, оказалась в международной
изоляции.
В декабре 1912 г. кайзер собрал военный совет, на котором было принято
решение об осуществлении германских экспансионистских устремлений военным
путем в течение ближайших полутора лет. На следующий день он отдал распоряже¬
ние с помощью прессы объяснить народу, насколько велики национальные инте¬
ресы Германии, которые будут поставлены на карту в случае войны из-за австро¬
сербского конфликта 13 5.
После убийства 28 июня 1914 г. в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда
Вильгельм II выступил в роли одного из главных поджигателей войны, оказывая
130 Weltherrschaft im Visier. Dokumente zu den Europa- und'Weltherrschaftsplanen des deutschen
Imperialismus von der Jahrhundertwende bis Mai 1945. Berlin, 1975, S. 56-57.
131 Klein F. Deutschland von 1897/98 bis 1917. 3. Aufl. Berlin, 1969, S. 47 ff.
133Халъгартен Г. Империализм до 1914 года. Социологическое исследование германской
внешней политики до первой мировой войны. (Пер. с нем.). М., 1961, с. 442-445: Kathe Н. Ор.
cit., S. 24-25.
133 Rohl J.C.G. Op. cit., S. 32.
i3ĄSchussler W. Wilhelm II. Schicksal und Schuld. Gottingen-Berlin (West)-Frankfurt a.M., 1962
13sFischer F Op. cit., S. 232-235, 270.
174
Вильгельм II (в центре) с генералами П. фон Гинденбургом (слева) и Э. Люден¬
дорфом в главной штаб-квартире
Австро-Венгрии всемерную поддержку против Сербии и России. В то же время,
продолжая разыгрывать ’’кайзера мира”, в конце июля 1914 г. Вильгельм II неожи¬
данно выступил с заявлением, что после ответа Сербии на ультиматум нет больше
никакой причины для начала военных действий.
4 августа, сразу же после развязывания мировой войны, инициатором кото¬
рой стал германский империализм, кайзер провозгласил: ”Я не знаю больше
никаких партий, я знаю только немцев”. Изображая из себя якобы стоящего
над классами высшего представителя государственной власти, он выступал под
лозунгом националистического ’’единства народа” 1Эб.
Б. фон Бюлов когда-то восхищался Вильгельмом II. ’’Наряду с великим коро¬
лем и великим курфюрстом он является самым значительным из когда-либо
живших на свете Гогенцоллернов”, — утверждал он. Его гениальность и фанта¬
зия, его память и восприятие, его энергия настолько ”потрясающи”, что до них
любому министру далеко 137. Однако все эти ’’достоинства” кайзера не смогли
предотвратить сокрушительного поражения Германии в первой мировой войне,
когда монарх оказывал постоянную поддержку решениям и рекомендациям
генерального штаба и имперского кабинета.
Ноябрьская революция 1918 г. свергла династию Гогенцоллернов и других
немецких князей. Революционные события заставили Вильгельма II срочно
покинуть Берлин. Он отправился в находившуюся на бельгийской территории
Писарев ЮЛ. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. М., 1990,
с. 17; Kathe Н. Op. cit., S. 25.
Rohl J.C.G. Op. cit., S. 33, 235-236.
175
ставку, надеясь опереться на армию. Однако и германский генералитет и рейхс¬
канцлер принц Макс Баденский сознавали неизбежность его отречения. На
состоявшемся в ставке совещании генералов и старших офицеров большин¬
ство присутствовавших заявило о том, что за кайзером не пойдет. 8 ноября Макс
Баденский имел длительный телефонный разговор с кайзером, убеждая его при¬
нести ’’добровольную жертву” и отречься от престола. Однако Вильгельм II про¬
должал колебаться, еще надеясь сохранить корону прусского короля. Тогда,
не дожидаясь его решения об отречении, Макс Баденский после заседания каби¬
нета подписал заявление о намерении кайзера отказаться от власти в пользу ре¬
гента. Пост рейхсканцлера Макс Баденский передал правому социал-демократу
Фридриху Эберту.
В ночь на 10 ноября Вильгельм II бежал в Нидерланды. Формальный акт об
отречении он подписал лишь 28 ноября 1918 г. В Нидерландах Вильгельм прожил
много лет, где и умер 4 июня 1941 г.13 8
Последнего германского кайзера можно рассматривать как верного исполни¬
теля воли господствующих классов страны, верховным представителем кото¬
рых он являлся, нередко изображая из себя неограниченного самодержца, хотя
в действительности его ’’колебания” никогда не вступали в противоречие с корен¬
ными интересами германского финансового капитала и юнкерства.
В ходе революционных боев 1918-1919 гг. звучало требование о ’’создании
революционного трибунала для суда над Гогенцоллернами и другими виновни¬
ками войны”. Характерно, однако, что державы-победительницы не стали настаи¬
вать на выполнении положений Версальского мирного договора, предусматривав¬
ших привлечение к судебной ответственности бывшего германского кайзера
Вильгельма II, виновного, как говорилось в тексте договора, ”в высшем оскорбле¬
нии международной морали и священной силы договоров” 138 139.
ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ И НАЦИЗМ
В стране продолжала сохраняться угроза реставрации монархии. Сторонниками
Гогенцоллернов оставались крупные землевладельцы-юнкеры и другие представи¬
тели высшей аристократии, многие промышленные магнаты, высокопоставленные
деятели гражданской администрации, реакционное офицерство и генералитет,
’’кондотьеры” добровольческого корпуса. Даже среди руководителей германской
социал-демократии были деятели, выступавшие за установление в Германии кон¬
ституционной монархии британского типа. ф. Эберт, например, считал, что власть
можно было бы передать одному из сыновей Вильгельма, за исключением разве
что распутного кронпринца. Однако военно-монархический путч Каппа—Лютвица,
произошедший в Германии в марте 1920 г., окончился полным поражением
заговорщиков.
На судебном процессе 1924 г. в Мюнхене главарь германского фашизма Гитлер
заявил: ’’Судьба Германии - не в республике или в монархии, а в содержании этой
республики или монархии. То, против чего я борюсь, это не государственная фор¬
ма как таковая, а ее позорное содержание”. Позднее Гитлер заверил, что не
собирается трогать юнкерство, стоящее ”на службе отечеству”, и добивается
’’сплочения всего немецкого народа - от кайзеровского сына до последнего проле¬
тария” 140.
Еще в 1925-1926 гг. Гитлер убеждал экс-кронпринца Вильгельма (1882-1951)
138 Monarchen und Minister, S. 65; Grundriss, S. 372; см.: Драбкин Я,С, Ноябрьская револю¬
ция в Германии. М., 1967.
1,8Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. М., 1978, с. 101, 287.
148 Цит. по: Руге В. Как Гитлер пришел к власти. Германский фашизм и монополии. М.,
1985, с. 170.
176
в том, что усматривает ”в восстановлении монархии венец своих стремлений”141.
Но эти рассуждения фюрера не произвели тогда особого впечатления на крон¬
принца и его супругу, так как Гитлер казался еще слишком ’’жалким”. Правда,
в 1929 г. вторая жена бывшего кайзера Гермина уже сочла нужным приехать
на съезд нацистской партии, влияние которой нарастало 142.
Посланный Гитлером в Нидерланды Геринг, слывший среди нацистов ’’аристо¬
кратом”, затронул в беседе с Вильгельмом и его супругой вопрос о возможности
возвращения престола Гогенцоллернам. Гитлер был заинтересован в поддержании
связей и с эк с-кронпринцем, придававшим нацистской партии все большее значе¬
ние по мере роста ее популярности среди избирателей. Два младших брата крон¬
принца уже давно носили форму штурмовиков 143.
Летом 1931 г. германский министр оккупированных (по Версальскому мир¬
ному договору. - Б.Т.) территорий Г. Тревиранус в течение нескольких часов
беседовал с Гитлером, Герингом и четвертым сыном Вильгельма II принцем
Августом Вильгельмом, что явилось началом целой серии подобных встреч.
Август Вильгельм вообще довольно часто появлялся в обществе фюрера, кото¬
рый использовал этого представителя рода Гогенцоллернов для усиления своих
позиций в консервативно-юнкерских кругах. После того как Августу Вильгельму
однажды досталось в драке, затеянной нацистами со своими политическими про¬
тивниками, экс-кайзер направил сыну ободряющее послание: ”Ты можешь гор¬
диться тем, что стал мучеником этого великого движения” 144.
На состоявшейся в октябре 1931 г. Гарцбургской конференции, сыгравшей
особую роль в подготовке прихода Гитлера к власти, среди руководителей край¬
не правых политических организаций, крупных банкиров и промышленников,
представителей юнкерства и немецкой военщины были и сыновья кайзера —
принцы Айтель Фридрих и Август Вильгельм 145.
Потерпев неудачу с попыткой выдвижения собственной кандидатуры на вы¬
борах в рейхстаг 1932 г., экс-кронпринц призвал избирателей отдать голоса
Гитлеру. Он неоднократно выступал в поддержку национал-социалистов и по¬
буждал своего отца заявить о своих симпатиях к фюреру 146.
Геббельс в своем ’’сочинении” ”Пруссия должна снова стать прусской”, опуб¬
ликованном в 1932 г., писал о том, что нацисты преследуют в обновленном виде
идеалы, к осуществлению которых стремились Фридрих Вильгельм I, Фридрих
Великий и Бисмарк. Монархические организации, со своей стороны, поддержали
установление фашистской диктатуры 147.
Символичным было само открытие рейхстага, избранного уже после захвата
власти гитлеровцами, 21 марта 1933 г. в гарнизонной церкви Потсдама, у гробниц
Фридриха Вильгельма I и Фридриха II. Для проведения церемонии Гитлер и Геб¬
бельс выбрали эту дату потому, что именно 21 марта 1871 г. Бисмарк открыл
заседания рейхстага кайзеровской империи. ’’День Потсдама”, как бы освящен¬
ный ”величием” Гогенцоллернов, означал официальное признание Гитлера гер¬
манским генералитетом.
141 Там же, с. 171.
14’Урожденная принцесса Рейсс, вдова принца Шенайх Каролата Гермина вышла замуж за
бывшего кайзера в 1922 г. (умерла в 1947 г. в советской зоне оккупации).
149Гинцберг Л.И. На пути в имперскую канцелярию. Германский фашизм рвется к власти.
М., 1972, с. 253.
144ГинцбергЛ.И. На пути в имперскую канцелярию, с. 206-207, 253-254. См. также: Trevi-
ranus G.R. Das Ende vom Weimar. Heinrich Bruning und seine Zeit. Diisseldorf-Wien, 1968.
145Гинцберг Л.И. На пути в имперскую канцелярию, с. 198-199; Руге В. Указ, соч., с. 193;
Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1989, с. 32.
144Гинцберг Л.И. На пути в имперскую канцелярию, с. 253-254; Руге В. Указ, соч., с. 171;
HerreP. Kronprinz Wilhelm. Seine Rolle in der deutschen Politik. Munchen, 1954, S. 208.
147Kathe H. Op. cit., S. 120.
177
27 января 1934 г. потсдамский регирунгспрезидент санкционировал проведе¬
ние торжеств по случаю 75-летия Вильгельма II. Когда же двумя неделями
позже, 11 февраля, было принято решение о запрете монархических объедине¬
ний, гестапо мотивировало его отнюдь не характером или сущностью этих
организаций, а лишь возможностью их использования ”в антигосударственных
целях”. При реализации этого постановления местным органам было предписа¬
но избегать даже самой ”видамости ненужной строгости”.
Развязав вторую мировую войну, Гитлер оправдывал свою агрессию ссыл¬
ками на Фридриха II. ”Я должен выбирать между победой и уничтожением, -
высокопарно заявил он своим приближенным 23 ноября 1939 г. — Я выбираю
победу. Величайшее историческое решение, сравнимое с решением Фридриха Ве¬
ликого перед первой Силезской войной. Пруссия обязана своим возвышением
героизму одного человека. Тогда ближайшие советчики также были склонны к
капитуляции. Все зависело от Фридриха Великого” 148.
В гитлеровской Германии большое значение придавалось традициям прусско-
германского милитаризма и легенде о Гогенцоллернах, превозносившей воен¬
ные доблести и культуртрегерскую миссию курфюрстов и королей из этой динас¬
тии. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 1945 г. в связи с усилением бом¬
бардировок Берлина останки Фридриха Вильгельма I и Фридриха II, кумира
немецких милитаристов, были вывезены из Потсдама в более безопасное место
в Тюрингии. Впоследствии американцы перевезли их в Марбург, а в 1952 г. внук
Вильгельма II Луи Фердинанд поместил саркофаги Фридриха Вильгельма I и
Фридриха II в часовне замка Гогенцоллернов вблизи Хехингена (Баден-Вюртем¬
берг). 17 августа 1991 г. останки Фридриха Вильгельма I и Фридриха II были
торжественно возвращены в Потсдам.
Семья Гогенцоллернов извлекла из экспансионистской политики гитлеров¬
цев колоссальные прибыли. Значительная часть ее капиталов была вложена в
военные отрасли германской промышленности, прежде всего в фирмы ИГ
фарбениндустри, Ферайнигте Штальверке, АЭГ и др. 149
Это отнюдь не помешало участникам буржуазно-юнкерской оппозиции против
Гитлера активно обсуждать вопрос о возможности передачи власти Гогенцоллер-
нам. Так, один из главных заговорщиков из гражданских лиц Попитц желал
видеть на германском троне кронпринца, но эту кандидатуру отвергало боль¬
шинство его единомышленников. Гёрделер высказывался в пользу младшего
сына Вильгельма II, принца Оскара Прусского, а Шахт выступал за старшего
сына кронпринца — принца Вильгельма. Все были единодушны в том, что из
круга вероятных претендентов на престол, безусловно, должен быть исключен
четвертый сын кайзера принц Август Вильгельм, являвшийся фанатичным при¬
верженцем Гитлера, группенфюрером СС.
После смерти Вильгельма, старшего сына кронпринца, последовавшей 26 мая
1940 г. от ран, полученных в бою во Франции, большинство заговорщиков к
лету 1941 г. признало наиболее подходящей кандидатурой на германский трон
Луи Фердинанда, второго сына кронпринца. 33-летний Луи Фердинанд, пять лет
проработавший на фабрике Форда в Дирборне (вблизи Детройта, США) и являв¬
шийся служащим немецкой авиакомпании Люфтганза, сочувствовал оппозицио¬
нерам. Из всех Гогенцоллернов он выделялся своей демократичностью и интелли¬
гентностью. Он был женат на бывшей русской великой княжне Кире и считался
личным другом Рузвельта, поскольку во время своего свадебного путешествия
148Ibid., S. 121, 123.
149 Zbomlski D. Quellenfunde zur neuesten Geschichte des Hohenzollernhauses. - Zeitschrift fur
Geschichtswissenschaft, Jg. 3 (1955), S. 774.
178
в 1938 г. по приглашению американского президента останавливался в Белом
доме150.
В конце 1968 г., спустя 50 лет после свержения Вильгельма И, шпрингеров-
ская ’’Бильд-Цайтунг” выступила за избрание того же Луи Фердинанда, внука
последнего германского кайзера, ставшего главой дома Гогенцоллернов, новым
президентом ФРГ. В статье западногерманского историка В. Гёрлитца, опублико¬
ванной в газете ’’Вельт” в феврале 1967 г., говорилось, что ’’династия Гогенцол¬
лернов уже была однажды символом имперского единства” 151.
Собравшийся в 1947 г. в Москве Совет министров иностранных дел СССР,
США, Великобритании и Франции утвердил закон Союзного Контрольного Совета
в Германии о ликвидации Прусского государства, изданный 25 февраля того же
года. ’’Прусское государство, — говорилось в законе, — являющееся с давних
времен носителем милитаризма и реакции в Германии, фактически перестало
существовать” 152. Предпосылкой принятия этого закона стала полная и безогово¬
рочная капитуляция фашистской Германии, государственно-политическим ядром
которой была Пруссия.
С утверждения этого закона державами антигитлеровской коалиции Прус¬
ское государство прекратило свое существование и в государственно-правовом
отношении. Этот юридический акт поставил последнюю точку и на исторических
’’перспективах” династии Гогенцоллернов. Однако Луи Фердинанд, судя по
всему, так не считает. Незадолго до переноса останков Фридриха Вильгельма I
и Фридриха II в Потсдам он заявил, что после урегулирования проблем, связан¬
ных с объединением Германии, немецкому народу должна быть предоставлена
возможность на референдуме решить вопрос об установлении в стране парла¬
ментской монархии. Это, по его мнению, могло бы привести к возвращению на
престол династии Гогенцоллернов.
150Ширер У. Взлет и падение третьего рейха, т. II. М., 1991, с. 298.
'“KatheH. Op. cit., S. 160-161.
15аЦит. по: Ерусалимский А.С. Ликвидация Прусского государства..., с. 479.
179
Из зарубежной книги
©1991 г.
К. Ч А К Ы Р О В
ИЗ ЗАПИСОК ПОМОЩНИКА ТОДОРА ЖИВКОВА
ОТ РЕДАКЦИИ
Отрывки из опубликованной в 1990 г. книги ’’Второй этаж” болгарского авто¬
ра Костадина Чакырова раскрывают ’’политическую кухню” самого высшего эше¬
лона в политической системе Болгарии. В центре повествования — бывший поли¬
тический и государственный руководитель Тодор Живков, который был первым
лицом в государстве в течение 35 лет.
Автор настоящей книги работал два года политическим помощником Тодора
Живкова вплоть до его снятия с поста Генерального секретаря Болгарской ком¬
мунистической партии (БКП) 10 ноября 1989 г. Он был также политическим по¬
мощником председателя Комитета по делам культуры и члена Политбюро Людми¬
лы Живковой, дочери Тодора Живкова, в течение двух последних лет ее жизни
до 20 июля 1981 г.
Костадин Чакыров в предисловии к книге пишет: ”Я назвал свои записки
’’Второй этаж” потому, что 15 лет мой кабинет был на втором этаже в Государст¬
венном совете и в Центральном комитете партии, где находились кабинеты и гла¬
вы государства, и генерального секретаря. Здесь не только располагались мозго¬
вые тресты государства, но ц плелись интриги, ставились капканы и засады, реша¬
лись человеческие судьбы. Этот этаж — свидетелей участник, и память новейшей
истории Болгарии”.
Костадин Чакыров родился в 1947 г. в Пловдиве, у него юридическое образова¬
ние. Женат, имеет троих детей. Его судьба переплелась с личной жизнью тех, кто
творил историю Болгарии в последние десятилетия. Автор, насколько это возмож¬
но, стремится объективно описывать происходившие в стране события.
Отрывки из книги Костадина Чакырова впервые публикуются на русском
языке в переводе с болгарского Камена Денчева.
ПУТЬ НАВЕРХ
Трудно писать о Тодоре Живкове спустя всего несколько месяцев после того,
как его сняли. Каждое мнение о нем сегодня будет в той или иной мере пристра¬
стным и уязвимым.
Думаю, что надо писать о Живкове и его времени, во-первых, пока время не
изгладило впечатления о людях и обстоятельствах, которым я был свидетель.
А во-вторых, сейчас бесцеремонность и неэтичность по отношению к бывшему
руководителю приобрели такие размеры, что трудно остаться к этому безучаст¬
ным, особенно если ты был на ’’кухне” больших событий, в штабе отстраненного
ныне партийного руководства. В противном случае разгулявшаяся в Болгарии
после 10 ноября 1989 г. ярмарка лицемерия, подлости и хамелеонства совсем
поглотит нас.
180
Люди, которые еще вчера были одарены щедрым почетом, званиями и блага¬
ми, сегодня пытаются прослыть героями, противниками Живкова и даже высту¬
пить в роли жертв репрессий. Заговорили уже о 100 тыс. репрессированных ком¬
мунистов, заговорах и убийствах... Даже Пенчо Кубадинский, долголетний член
Политбюро и близкий к Живкову человек, которого никто другой не взял бы
даже в швейцарцы, старается занять молодецкую позу. И вряд ли его дорогостоя¬
щие охотничьи развлечения в Африке можно представить как организованный
бунт против Живкова.
Со всех сторон слышатся определения - ’’авторитарный режим”, ’’личная
диктатура”, ”воэвдь номенклатуры”, ’’ловкий интриган”, ’’политический спеку¬
лянт” и т.д. Отрицается все, что может напоминать о режиме Живкова, которьш
существовал 35 лет в небольшой, но все-таки европейской стране, с длинной и
запутанной политической историей.
В стремлении охулить, обругать, свалить всю вину и ответственность только
на одного человека есть тончайший расчет. Для некоторых — это попытка скрыть
собственную вину. Сколько людей прятались целые десятилетия за спиной Жив¬
кова? Почему не спрятаться и сейчас? Тем более, что события налетели как ура¬
ган. И всегда в таких случаях самой удобной является видная фигура. Для дру¬
гих— это форма самоутверждения.
Кого из политических деятелей в истории Болгарии после ее освобождения
в 1878 г. не постигла такая судьба? Немногих, кому смерть помешала быть под¬
вергнутым бичеванию и физической расправе. На пальцах можно пересчитать
политических лидеров Болгарии, не знавших тюремной камеры. Волна турец¬
кого нашествия и последующее рабство стерли средневековую болгарскую ари¬
стократию. После 1878 г. молодое государство столкнулось с отсутствием управ¬
ленческой элиты. Общество было обременено дурными политическими нравами:
угодничество, страх и приспособленчество, пока сильный не угодит в капкан.
Потом начинается массовый ’’героизм”. Когда приходит очередь следующего,
все повторяется. При этом всегда забывается, в какой конкретной исторической
обстановке действовало то или иное лицо, каковы были обстоятельства, в кото¬
рых принимались решения. Выведи из этого контекста политического лидера
и он легко может превратиться в маленькую незначительную личность, которая
ничего другого не могла сделать и ничего не сделала, кроме ошибок и преступ¬
лений.
Конечно, время и обстоятельства не могут оправдывать политика тогда, когда
он изменил долгу, морали, нравственности. Однако и они являются конкретным
продуктом своей эпохи и часто из общепринятых норм становятся индивидуаль¬
ным понятием, оправдывающим личный интерес.
В политике нет вечных истин. При оценке данной исторической личности и ее
дела трудно манипулировать только ’’черным” и ’’белым”. Всегда приходится
искать нечто среднее.
К. Маркс подчеркивал, что люди сами делают свою историю, но они ее делают
не по собственной воле, а по невыбираемым ими непосредственным данным и
наследственным обстоятельствам. Говоря о Тодоре Живкове, нельзя забывать,
что он является детищем, защитником и жертвой именно тех обстоятельств,
которые породила система. Ее влияние, даже после разрушения, будет сказы¬
ваться еще в течение долгого времени.
* * ♦
Полные и сокращенные биографические очерки о Тодоре Живкове публико¬
вались неоднократно. Это делалось не только в силу общественных потребностей,
181
но и для того, чтобы поменять акценты в жизнеописании этого человека. Я оста¬
новлюсь лишь на некоторых ключевых фактах биографии Живкова.
Живков родился 7 сентября 1911 г. в городе Правец, неподалеку от Софии.
В некоторых более старых биографических справках указывается год рождения
1909. Однако в таких случаях даже и мужчина пойдет на компромисс с истиной,
предпочитая более позднюю дату. Живков родился под знаком ’’Девы”. По этому
поводу Живков шутил, что не хочет мириться со своим пассивным предназначе¬
нием и будет всегда активным.
Тодор Живков унаследовал от своих родителей крепкое здоровье и стабиль¬
ную психику потомственного горца. До последних лет активной деятельности
он имел кровяное давление 130 на 70, пульс редко превышал 64 удара в минуту
даже при физической нагрузке.
Он очень любил говорить о своем роде, особенно о дедушке Владо, который
дожил до 105 лет. От него мужчины рода унаследовали раннее облысение. Жив¬
ков пробовал прикрывать фамильную плешивость особой формой прически,
как только волосы поседели, он стал регулярно красить их хной. Когда в 1987 г.
ему приподнесли книгу о его дочери ’’Людмила Живкова. Жизнь и дело (1942—
1981). Летопись”, где на фотографии он был запечатлен 30-летним мужчиной,
посадившим годовалую Людмилу на плечи, Живков воскликнул с ностальгиче¬
ской улыбкой: ’’Видите, какой я красавец был!”.
В судьбе Живкова нет ничего необычного и отличного от судьбы нашего народа.
Крестьянский труд, арендованная земля, ремесленничество. Как и все болгары,
его родители хотели выучить своих детей, чтобы они избежали этого проклятия —
земли, с которой каждый день надо бороться.
Тодор Живков не отличался успехами в учебе. По воспоминаниям его родствен¬
ников он получил среднее образование частным образом в городе Павликени.
Но откуда тогда появился опубликованный в некоторых газетах после 10 ноября
1989 г. диплом об окончании средней мужской гимназии в Софии? Живков по¬
ступил на факультет права в Софийский университет, но не проучился в нем ни
одного семестра, остался только документ о поступлении.
Живков был призван на военную службу поздно (1936-1937 гг.) рядовым
в строительные части. Он часто вспоминал, как однажды солдаты отказались при¬
нимать пищу и принудили совсем молоденького повара-цыгана выбросить ее.
Тот сделал это, но сказал: ’’Если меня будут бить, знайте, я предам вас”. И Жив¬
ков добавлял: ’’Если нас побьют, будем признаваться”, желая подчеркнуть, что
человек всегда может согнуться в результате физического насилия.
Известно, что Живков вступил в коммунистическую партию в 1932 г., работал
в Государственной типографии, участвовал в комиссии по защите Георгия Ди¬
митрова во время Лейпцигского процесса, боролся с левосектантским курсом
партии в 30-е годы. Революционные акции, в которых он принимал участие в то
время, преподнесены в розовых тонах в отрыве от реальной ситуации, и это ха¬
рактерно для описания всей его биографии до 1944 г. Много говорится об актив¬
ных действиях Живкова, но они протекали как бы сами по себе без реальной
связи и целенаправленности. Поэтому в течение периода руководства Живкова
ходили слухи, что его биография выдумана, сфабрикована и что он был агентом
Николы Гешева*. Отсюда выводили и близость Живкова с Мирчо Спасовым**.
*Никола Гешев - крупный полицейский чиновник в царской Болгарии, начальник отделе¬
ния ”А” - отдела государственной безопасности при Дирекции полиции, который занимался
борьбой против коммунизма в Болгарии. - Прим, перев.
**Мирчо Спасов долгие годы после 9 сентября 1944 г. (до 1983 г.) был основной фигурой
в органах безопасности, заместителем, а позже и первым заместителем министра внутренних
дел. - Прим, перев.
182
Был ли Тодор Живков знаком с Николой Гешевым? Да! И это не разговоры
и воспоминания его коллег из Государственной типографии, где он работал с
1929 г. Это я знаю лично от него. Когда в июле 1988 г. из состава ЦК был вы¬
веден Чудомир Александров, тогда член Политбюро и секретарь ЦК БКП, в связи
с вскрывшимся родством его супруги с бывшим полицейским, некоторые старые
члены ЦК говорили: ”Не только он с такими данными! Возьмите, например,
Александра Фола и его отца, который служил у Гешева!”.
Я проговорился об этом коллегам, и уже вскоре кто-то доложил Живкому
о моей реплике. Он вызвал меня. Восстанавливаю разговор по заметкам в моей
рабочей записной книжке:
— Ты говорил что-то о Фоле?
— Да. Но когда успели сказать Вам?
— И что ты знаешь?
— Товарищ Живков, в сущности ничего особенного. Вы знаете эти факты, ко¬
торые были собраны в 70-е годы — о связи отца с дворцом, об участии в цензуре
коммунистических книг и журналов и тщ. Сейчас говорят, что он служил у Ге¬
шева.
Речь шла об известном в 30-е годы режиссере Николае Фоле. Его сын, нынеш¬
ний университетский профессор — специалист по фракийским древностям Алек¬
сандр Фол, долгие годы был ’’правой рукой” Людмилы Живковой как первый
зампред Комитета по делам культуры и министр просвещения. Расследования
относительно его отца были сделаны в связи с высокими назначениями сына.
Говорилось о ’’сомнительном буржуазном происхождении” Александра Фола.
Многие в ЦК были принципиальными противниками этого талантливого уче¬
ного, настаивая на его отстранении от государственных постов. Однако профес¬
сор настойчиво выдвигался дочерью Живкова, а после ее смерти и самим Жив¬
ковым. Вопреки многочисленным слухам об освобождении от должности Алек¬
сандр Фол держал портфель министерства просвещения столь долго, что в этом
отношении у него нет соперников из числа предшественников с 1878 г. Он был
освобожден с этой должности только тогда, когда во главе правительства встал
Георгий Атанасов — тоже историк, испытывавший еще со студенческих лет анти¬
патии к Александру Фолу.
Однако последний остался в ЦК, т.е. в верхнем эшелоне власти, в номенкла¬
турном резерве Живкова. Он снова продвинул Александра Фола как государст¬
венного лидера по культурным вопросам. Фиаско Живкова означало конец поли¬
тической карьеры университетского преподавателя, названного некоторыми
злопыхателями из числа его коллег ’’царедворцем”.
Случайны ли эти симпатии семьи Живкова к Александру Фолу? Вряд ли, пото¬
му что в упомянутом выше нашем разговоре по поводу отца Фола Тодор Живков
сказал: ”Я знаком с Николаем Фолом еще с 30-х годов. Тогда он руководил
самодеятельной сценой при Народном театре. Был объявлен конкурс на роль
главного исполнителя Вильгельма Телля по одноименной пьесе Шиллера. Я тогда
интересовался театром и решил участвовать в конкурсе со стихотворением
’’Угольщик” Христо Смирненского. Очень волновался, когда декламировал, и
ушел обескураженный. Неделю спустя я получил сообщение, что меня утвер¬
дили на роль Вильгельма Телля. Этим я был обязан Николаю Фолу”.
Помолчав, он добавил: ’’Что касается Гешева, то я его знал. Был у него. Это
был очень умный и ловкий полицай. Расспрашивал меня и говорил: ’’Слушай,
что я тебе скажу, ты притворяешься простаком, но я хорошо знаю, кто ты”. По¬
том приказал, чтобы меня избили. Били меня по половым органам. На третий
раз полицай, водивший меня на допрос, сказал: ’’Если выдержишь и на этот раз,
начальник сказал отпустить тебя””. (Этот факт был опущен старательными био¬
графами, которые, однако, искали любую деталь, чтобы восхвалить и возвеличить
Тодора Живкова.)
183
Я поинтересовался, что же стало с Гешевым? Живков жестко ответил: ”Он
был убит! Накануне 9 сентября 1944 г. на турецкой границе был высажен десант
советских парашютистов, и они его убили”. Сказал это категорично, хотя извест¬
но, что некоторые люди отдали 15 лет жизни поискам внезапно исчезнувшего
Гешева. Но такая версия неубедительна: в то смутное время вряд ли горсть совет¬
ских разведчиков смогла бы отыскать ловкого полицая на протяжении несколь¬
ких сот километров болгаро-турецкой границы. При этом не было никаких при¬
чин скрывать эту акцию до наших дней.
В 1946 г. открылись факты, указывающие на связь Живкова с Гешевым и на
его эвентуальные действия в качестве английского агента. Досье с этими фактами
получило название ”Еж” — псевдоним, под которым, как предполагается, работал
Живков с Гешевым. Любопытно, что это досье возникло в 1946 г., когда в стране
еще не установилась сталинская практика составлять досье на коммунистов и
руководителей. Процесс против видного партийного руководителя Трайчо Ко¬
стова состоялся только в 1949 г. Не было еще шпионского психоза, возникшего
позже, хотя Живков в 1946 г. был уже вторым секретарем Софийского област¬
ного комитета Болгарской рабочей партии (коммунистов).
Очевидно, объективно существовали серьезные сомнения в отношении прошло¬
го Тодора Живкова.
Разработкой фактов по досье ”Еж” руководил полковник Мурджев — потом
начальник контрразведки. Позже он уже как начальник второго отдела Комитета
государственной безопасности в 1951 г. занимался и розыском Гешева. Эта опера¬
ция называлась ’’Баран”. Естественное переплетение фактологических и логиче¬
ских нитей в обеих разработках привело к тому, что их доверили одному офицеру.
Мурджев старательно ’’разрабатывал” Живкова, встречался даже с его супругой
Марой Малеевой. Но она не пожелала разговаривать с ним и даже прогнала его.
Живков вспоминал: ”Я знал, что меня ’’разрабатывают” как английского агента.
У меня было доверенное лицо в Государственной безопасности. Оно мне сказало:
’’Товарищ Живков, мы тебя ’’разрабатываем”, но если встанет вопрос об аресте,
я тебя предупрежу”. (В 1952 г. Тодор Живков был уже секретарем ЦК. — К.Ч.)
Я ему сказал, чтобы он не делал этого и исполнял распоряжения своих начальни¬
ков, даже если дело дойдет до ареста!”.
В это время (1950—1952 гг.) по приказу первого партийного руководителя
Вылко Червенкова в стране создавались комиссии, которые должны были вы¬
искивать компрометирующие материалы на людей, связанных в прошлом с по¬
лицией.
И здесь встает еще один вопрос. При очередной встрече Червенкова со Стали¬
ным в 1952 г. последний приказал Червенкову приостановить деятельность ко¬
миссий по розыску агентов-провокаторов в коммунистической партии. Почему?
Скорее всего эти комиссии докопались до фактов, которые были невыгодны или
уже известны Сталину и советским специальным службам. Едва ли то был акт
гуманности, потому что коммунистический диктатор был известен своей манией
борьбы против ’’классового врага”, ’’шпионов” и ’’предателей”. Так или иначе
комиссии прекратили свою деятельность. Был вынужден прервать свои розыски
и Мурджев.
О полковнике Мурджеве Живков часто вспоминал до того дня — 14 июля
1989 г., — когда ему доложили, что генерал Мурджев (уже пенсионер) скончался.
Судьба досье ”Еж” решилась в 1956 г. После Апрельского пленума ЦК БКП,
осудившего культ личности Червенкова, в помещении министерства внутренних
дел все компрометирующие материалы комиссий во исполнение решения Полит¬
бюро ЦК БКП, которым уже руководил Тодор Живков, были сожжены. Офи¬
циальное объяснение состояло в том, что нужно внести спокойствие и стабиль¬
ность в работу кадров. В духе той же толерантности к Мурджеву не применялись
никакие санкции, но он был под постоянным контролем Тодора Живкова.
184
Операция ’’Баран” к 1969 г. потонула в дебрях закрытых дел. Согласно по¬
следним сигналам Гешев находился в Бразилии или Аргентине. Но проверка не
подтвердила этого. Вероятно, розыски прекратили, поскольку полицейские архи¬
вы с материалами, разысканными с 1944 г. по 1956 г., уже были уничтожены.
Тем не менее 13 января 1990 г. в газете ’’Отечествен фронт” появилась статья
с интригующим заголовком ’’Был ли Тодор Живков агентом-провокатором?”.
Ее автор Александр Александров как кадровый разведчик встречался в Арген¬
тине с бывшим помощником Гешева — Александром Санковым. Последний под¬
твердил желание Гешева бежать в Турцию и его внезапное исчезновение накануне
9 сентября 1944 г. Далее Санков рассказал Александрову буквально следующее:
’’Однажды, когда господин Гешев был в командировке по стране, меня посетил
д-р Делиус — резидент абвера в Болгарии. Его настоящее имя было Отто Вагнер.
Д-р Делиус показал мне фотографии двух мужчин и прямо спросил меня, что
я о них думаю. Это были агенты Гешева, притворявшиеся коммунистами, а по
существу предававшие коммунистических лидеров. Про того, который работал
в Государственной типографии, я высказался отрицательно. Этого молодого
крестьянина звали Иван Томов”. Под таким именем фигурировал Тодор Живков.
Делиус проявил большой интерес к нему, ’’отвез его на дачу недалеко от Княжева,
где пытался перевербовать его”.
Как-то, будучи в хорошем настроении, Санков доверительно сказал Александ¬
рову: ’’Болгарией правит человек господина Гешева! Посмотришь, до чего он
доведет ее”.
Но оказалось, что в полицейских архивах почти нет документальных следов
о бывшем первом государственном и партийном руководителе. По случайности
сохранились только три протокола допроса Тодора Живкова от 24 января, 6 мар¬
та 1934 г. и 14 февраля 1935 г. Все они составлены собственноручно Живковым
и подписаны соответствующим полицейским чиновником, который вел допросы.
Первый допрос, 24 января 1934 г., состоялся в связи с задержанием Тодора
Живкова в одном из клубов БРП, которая являлась легальной формой работы
коммунистической партии. Живков показал на этом допросе, что случайно нахо¬
дился в партийном клубе.
6 марта 1934 г. Живков уже попал на допрос к самому Гешеву. Это ясно видно
из его подписей в начале и конце протокола. После изложения Живковым обыч¬
ных биографических данных разговор пошел о коммунисте Н.П. Янчеве. Живков
не отрицал знакомства с ним, однако заявлял, что не знал о его принадлежности
к коммунистической партии, и проявил стремление отмежеваться от деятельно¬
сти этого коммуниста. Далее Живков утверждал, что был членом Типографского
рабочего союза, а год назад — Молодежной национал-либеральной организации,
откуда и получил помощь при своем назначении на работу в Государственную
типографию.
Этот допрос состоялся спустя несколько месяцев после того, как Живкова
выдвинули на ответственную партийную работу. В своей биографии, опублико¬
ванной в его избранных сочинениях, Живков пишет: ”В конце 1934 г. я стал сек¬
ретарем третьего партийного района и членом окружного комитета в Софии”.
С другой стороны, встреча с Гешевым состоялась за считанные месяцы до боль¬
шого провала осенью 1934 г. в Софийском окружном комитете коммунистиче¬
ской партии. Райко Дамянов — секретарь комитета с 1935 г. и другие известные
партийные деятели этого времени связывают происшедший провал с Тодором
Живковым. Поэтому, как они считают, Живкова исключили из партии.
Тодор Живков признает в упоминавшейся автобиографии, что весной 1935 г.
был выведен из состава Софийского окружного партийного комитета, но причину
он видит в его несогласии с ультрасектантским руководством в партии.
Особо обратим внимание на последний сохранившийся протокол допроса Жив¬
кова. Он несколько необычен для пресловутой полицейской педантичности. В нем
185
стоит дата 14 февраля 1935 г., т.е. Живков был в Дирекции полиции после провала
в окружном комитете партии. Однако подпись следователя, ведшего допрос,
отсутствует - любопытный факт, который вряд ли можно оправдать небреж¬
ностью. После уже знакомых биографических данных мы читаем: ”В прошлом
был членом болгарского Типографского рабочего союза до его роспуска 19 мая
1934 г. Был членом Молодежного земледельческого союза ’’ВрабчаЛ”. Не был
членом никакой коммунистической организации, не принимал участия в комму¬
нистических митингах”.
Сравним с автобиографией Живкова, в которой написано: ’’Попадал несколько
раз в руки полиции; в 1935 г. - более серьезно, вероятно меня предали. Мое пове¬
дение в полиции оцениваю как хорошее”. Вряд ли это ’’более серьезное” пребыва¬
ние в полиции могло быть отмечено только этим небрежно составленным протоко¬
лом без подписи следователя. Не будем винить Живкова, что при допросах он
признает свое членство только в некоммунистических молодежных организа¬
циях — факт, который, однако, опущен в автобиографии.
Но в конце концов все это лишь версия, а не бесспорное утверждение. Она
содержит как убедительные, так и гипотетические элементы. Без неоспоримых
фактов и документальных данных будет более этично не переходить границу
между версией и доказанной истиной.
* * *
Биографы молчат о том, как Тодор Живков был выдвинут секретарем Софий¬
ского областного комитета партии в сентябре 1944 г., кандидатом в члены ЦК
в 1945 г. и первым секретарем Софийской городской партийной организации
в январе 1948 г. Нельзя забывать, что это была впечатляющая карьера для сред¬
него партийного функционера того времени. Тогда в столице находились деятели
более высокого ранга. Среди них лидеры заграничного руководства партии, при¬
бывшие из Москвы и пользовавшиеся неограниченным доверием советского ру¬
ководства. У большинства из них был огромный политический и революционный
стаж, выбор богатый, конкуренция между ними большая. Допустим, что быстрой
карьере Живкова способствовали личные качества, может быть и просто везенье,
так трагично покинувшее его в ноябре 1989 г. Но есть и что-то другое. Тодор
Живков обладал исключительным чутьем и первым из тогдашних лидеров понял
огромное значение столичной партийной организации как трамплина к самым
высоким политическим постам. И он оказался в этой организации, создал солид¬
ную опору для нанесения решительного удара в апреле 1956 г.
В январе 1950 г. Живкова избрали секретарем и кандидатом в члены Полит¬
бюро. Он последовательно курирует сельское хозяйство, организационные вопро¬
сы, идеологическую работу, т.е. набирает опыт в разных партийных областях.
В те годы Живков был правой рукой Червенкова, непрестанно выдвигавшего
его. Но политическая смерть Червенкова наступила в результате последнего удара
Живкова.
Тодор Живков не любил Георгия Димитрова. Он рассказывал мне, что, в сущ¬
ности, культ личности в Болгарии начался с приходом Димитрова, который внед¬
рил вождизм у нас, перенес в страну и использовал сталинские методы и стиль
работы и фаворитизм. Эту неприязнь Живков сохранил до конца своей политиче¬
ской карьеры. Он никогда не был на родине Георгия Димитрова — деревне Кова-
чевци. Когда в июне 1982 г. отмечали как общенациональный праздник 100-летие
со дня рождения Димитрова, Живков почти демонстративно отправил на тор¬
жества в деревню председателя Народного собрания Станко Тодорова. В 1989 г.
по внушению Живкова была сделана попытка переименования Димитровского
186
коммунистического молодежного союза в Болгарский коммунистический моло¬
дежный союз.
Нельзя забывать, что Живков работал в исключительно трудные годы. В 1944-
1950 гг. поднялась волна террора и насилия. Был расформирован прежний госу¬
дарственный аппарат. Разгромлены оппозиционные партии. Развертывалась ’’чист¬
ка” в собственно партийных рядах.
Болгарию не миновала драма национализации в 1947 г. и коллективизации
земли в 1950 г. Живков был активным организатором и исполнителем этих акций.
Он проводил и линию на ликвидацию в 1949 г. организационного секретаря ЦК
и председателя Совета Министров Трайчо Костова и его сотрудников. Но до этого
и сам Костов благословил сведение счетов с лидером Болгарского земледельче¬
ского народного союза Николой Петковым. В деле Петкова отсутствуют улики
о его связях со службами западных союзников. Несерьезны и обвинения о подго¬
товке им государственного переворота в условиях присутствия на болгарской
территории Советской Армии в то время. По данным следственных органов
оппозиция во главе с Петковым располагала 12 охотничьими ружьями, 6 караби¬
нами, 8 револьверами и ножами. Как говорил профессор Мито Исусов, опубли¬
ковавший такие данные, — это только часть охотничьего оружия для африкан¬
ских развлечений Пенчо Кубадинского.
Но вслед за Николой Петковым наступила очередь и Трайчо Костова. Исследо¬
вания болгарских историков показывают, что корни судебного процесса над Ко¬
стовым берут начало в экономических трудностях, во взаимоотношениях между
Болгарией и Советским Союзом, вызванных прежде всего действиями советских
государственных органов. Во время торговых переговоров между обоими госу¬
дарствами, затянувшимися на два с половиной месяца из-за того, что советские
представители требовали установить для советского хлопка цену в 350 левов,
а для болгарского табака — 220, т.е. цена хлопка оказывалась необоснованно
выше цены табака, жесткую позицию отстаивания национальных интересов занял
Трайчо Костов.
Другая конфликтная проблема заключалась в расходах на содержание частей
Советской Армии, непомерных для Болгарии, что создавало много трудностей
для болгарской экономики. По предложению Костова Димитров несколько раз
ставил перед Сталиным этот вопрос и Москва в итоге решила его в более благо¬
приятную для Болгарии сторону.
Таким образом, Трайчо Костов был одним из тех, кто настойчиво добивался
установления равноценных, равноправных экономических отношений между
обоими государствами. Сталин отступил, но его мстительный характер все-таки
проявился. В Кремле созрела идея генерального сражения против так называе¬
мых отечественных коммунистов”, т.е. партийных функционеров, которые во
время второй мировой войны вели антифашистскую борьбу внутри своих стран.
На их место должны были прийти ’’эмигранты” из Советского Союза, более по¬
слушные, более приверженные сталинской модели социализма. Так возникла
целая цепочка состряпанных судебных процессов в странах народной демократии.
Поводом для начала репрессий против Костова послужило его указание после
принятия закона о государственной тайне в октябре 1948 г. не предоставлять
сведении об экономическом состоянии Болгарии дипломатическим представите¬
лям. 7 декабря 1948 г. на встрече болгарской делегации, приехавшей в Москву
для согласования документов V съезда БРП(к.), Сталин, подойдя к Трайчо Ко¬
стову, снял с него очки, нанеся ему личное оскорбление, обвинил его в неискрен¬
нем отношении к Советскому Союзу. Положение Костова еще более ухудшилось
из-за того, что аналогичную позицию в отношении СССР заняло и югославское
руководство. В Югославии к концу 1947 г. возникло много противоречий с со¬
ветскими советниками в югославской армии и хозяйственных министерствах.
187
Было дано указание о непредоставлении экономических сведений советским
представителям в Югославии.
Трайчо Костов был арестован в августе 1949 г. Главное внимание следствия
было направлено на доказательство его ’’связи” с английской разведкой и юго¬
славским руководством.
Живков был свидетелем всего, что происходило, но благоразумно молчал.
Молчали и все остальные. Живков присутствовал на июньском пленуме ЦК в
1949 г., когда зампред Совета Министров и министр иностранных дел Басил Кола¬
ров выступил с обвинительным докладом против Трайчо Костова. Предполагаю,
что будущий глава государства и первый партийный руководитель с вниманием
выслушал на этом пленуме и информацию Вылко Червенкова, в которой тот со¬
общил, что во время трех встреч со Сталиным с марта по май 1949 г. обсуждалась
’’главная проблема” — Трайчо Костов.
Для Живкова было ясно, что Костов обречен. И он послушно поднял руку, ког¬
да голосовали за решение пленума. Фактически он стал тем, кто политически под¬
готовил судебный процесс против Костова.
На страну легла тень террора. Тюрьмы были заполнены оппозиционерами,
которые тоже боролись против фашизма. Любое инакомыслие, талант, дарование
наказывались. Были репрессированы многие творческие личности, процветали
анонимные доносы. Вошли в моду ’’верные” и ’’наши”. На целые десятилетия
прочные позиции заняли посредственности, у которых не было интеллектуаль¬
ных целей и амбиций. Это годы, когда Болгария была кривым зеркалом стали¬
низма.
Думаю, что именно тогда у Живкова сформировалась раздвоенность в поведе¬
нии и действиях. Как человек — функция системы он проявляет себя коварным,
хитрым, расчетливым деятелем, готовым на все ради власти. Как человек — осво¬
божденный от социальной роли, которую должен играть, Живков выступал демо¬
кратом, доступным народу человеком.
Но у кого из нас система сталинизма не заложила эту двойственную природу?
Поэтому и Живков был детищем этой системы.
Когда в международном коммунистическом движении после смерти Сталина
и XX съезда КПСС началось первое осознание пороков созданной им системы,
оно коснулось и Болгарии. У нас этот процесс шел с колебаниями, непоследова¬
тельно. Очевидно, Червенков не смог предвидеть масштабности начавшегося про¬
цесса, не смог осознать его сущность и пошел по пути политической косметики.
После смерти Сталина в Болгарии были сделаны робкие попытки критики
культа личности в стиле Н.С. Хрущева. На пленуме в январе 1954 г. Червенков
отказался от поста Генерального секретаря, но по сути дела продолжал руково¬
дить Политбюро. После VI съезда БКП в 1954 г. возник вопрос о выборе Пер¬
вого секретаря. С помощью одной из сильных фигур в Политбюро — Георгия
Чанкова на этот пост был выбран Тодор Живков. Однако основную роль в руко¬
водстве продолжал играть Червенков, который оставался Председателем Совета
Министров и отвечал за работу Политбюро.
На апрельском пленуме 1956 г. с докладом должен был выступить Червенков.
Однако он подготовил текст с обтекаемыми оценками и выводами, а Москва
настаивала, чтобы доклад был критически заострен против культа личности.
Очевидно, Червенков продолжал думать, что можно обойтись косметическими
средствами. Вероятно, он внутренне не принимал решений XX съезда КПСС,
категоричность разрыва с именем Сталина. Червенков был одним из самых рев¬
ностных сталинистов в международном коммунистическом движении. Но факт
остается фактом: он открылся для фронтального удара. Отметим попутно, что
спустя более чем 30 лет история повторилась, но в иных условиях — в Советском
Союзе были приняты решения, которые своей масштабностью превышали поли-
188
тичёскйе возможности Живкова провести их в практику, и тем самым он ока¬
зался беззащитным перед поднявшейся радикальной волной.
Советское руководство было недовольно медленными переменами в Болгарии.
Прошло три года со дня смерти Сталина, а в Болгарии почти ничего не предприни¬
малось в подкрепление линии Хрущева. Советский руководитель нервничал и
стал искать замену Червенкову. Внимание его обратилось на энергичного Пер¬
вого секретаря ЦК БКП-
Трудно сейчас ответить на вопрос, получил ли Живков вначале поддержку
со стороны советского руководства и после этого начал искать единомышлен¬
ников для снятия Червенкова или наоборот. Разговоры велись тет-а-тет по теле¬
фону и через советское посольство.
Живков подготовил доклад для пленума ЦК и согласовал его с советским
посланником в то время в Болгарии Ю. Приходовым. Нельзя отрицать быстроту
и решительность действий Живкова.
В его докладе не было ничего сенсационного. Он содержал сумму оценок и
установок и далеко не блистал политической остротой доклада Хрущева на
XX съезде. Однако на пленуме, проходившем со 2 по 6 апреля 1956 г. и получив¬
шем затем название ’’исторического”, Живков заложил прочный фундамент своей
власти. Так родилась известная ’’апрельская линия” в политике партии, которая
была ассоциирована с его именем и оценивалась как начало перелома, прирав¬
ненного по своей значимости событиям 9 сентября 1944 г.
Вероятно, умышленно не сохранился протокол апрельского пленума ЦК,
в котором прослеживается процесс снятия Червенкова.
За четыре дня апрельского пленума Тодор Живков трижды разговаривал с
Москвой. Сперва Хрущев настаивал на освобождении Червенкова от всех госу¬
дарственных постов. Последний разговор был с Молотовым. Близость между
ним и Червенковым как старыми сталинистами сыграла свою роль. Молотов
сумел убедить Хрущева в необходимости ’’более мягких” действий. Такова была
и последняя инструкция Живкову.
Червенкова сняли с поста Председателя Совета Министров. До 1961 г. он оста¬
вался заместителем Председателя Совета Министров. Год спустя, когда позиции
Живкова окончательно упрочились, Червенков был выведен из Политбюро и
исключен из партии. Он поплатился за недооценку Живкова и свои иллюзии,
что государственная власть сильнее, чем партийная. Хотя сейчас не модно гово¬
рить об апрельском пленуме, с которого начался 35-летний период господства
Живкова в болгарской политической и государственной жизни, для новейшей
болгарской истории он сохраняет свое значение. Неслучайно за несколько дней
до ареста, в январе Л990 г., Тодор Живков, ощутив опасность суда, заявил: ’’Все
могу им отдать и пройти мимо, но апрельский пленум и его дело не отдам. За
него буду бороться”. Может быть это был последний отчаянный жест политика,
который в своей продолжительной государственной карьере не знал горечи даже
маленького поражения в политической борьбе. Грубые политические действия
для подавления и отстранения политических противников уступили место новым,
более гибким действиям и формам тоталитарной власти. С годами, с накопле¬
нием опыта политика Живкова приобрела свое лицо. Хотя и колеблющаяся, про¬
тиворечивая, она сыграла до определенного момента положительную роль в жизни
нашей страны.
СТОЛП ОБЩЕСТВА
35-летнее правление Живкова зиждилось на двух основных опорах: на воору¬
женных силах и репрессиях, которые приобретали разные формы, и на поддержке
и доверии со стороны советского руководства. Эти два фактора действовали
успешно и формировали у Живкова прочное убеждение, что при всех сложных
189
ситуациях он останется наверху. С течением времени это чувство и полное отсут¬
ствие критики в свой адрес привели его к мании непогрешимости, к абсолютист¬
ской самоуверенности, что каждая его идея и действие оригинальны, верны и
своевременны, что не он, а ’’другие” в конце концов проваливают хорошо заду¬
манные начинания.
Давайте присмотримся более внимательно к двум опорам его режима.
Органы безопасности и репрессивный аппарат, в сущности, лежат в основе то¬
талитарной власти. В отдельные периоды истории Болгарии после 9 сентября
1944 г. эти органы были над государством и партией. Государственная безопас¬
ность почти до 1956 г. работала против партийных и государственных руководи¬
телей любого ранга. Террор тогда принимал открытые формы и неконтролируе¬
мые размеры. Именно так диктатура начинает воспроизводить массовый страх,
который лежит в основе фундамента системы и проникает ежечасно в поведение
людей. Если не воспроизводить страх, то в определенный момент он исчезнет,
и тогда диктатура погибает. В Болгарии этот страх начал преодолеваться только
в 1987 г. под влиянием событий в Советском Союзе. Живков не понял этого,
продолжал считать, что стоит на прочной основе, что поддерживаемая им система
продолжает воспроизводство страха и респекта по отношению к власти. 35 лет
Тодор Живков работал единолично и не позволял никому вмешиваться в работу
армии и органов безопасности.
Второй столп личной власти Тодора Живкова — это опора, которую он видел
в лице советского руководства. Нет другого восточноевропейского руководите¬
ля, который так умело лавировал при всех первых руководителях Советского
Союза.
- Поддержка, которую он получил с их стороны еще на апрельском пленуме
в 1956 г. при отстранении политических противников, была неслучайной. В исто¬
рии Болгарии после 1878 г. было очень мало вопросов, которые решались без
России, без Советского Союза. Живков не любил ’’экскурсов” в прошлое, но с
врожденной догадливостью понимал, что Болгария судьбоносно, неополитиче¬
ски связана с северным колоссом. Поэтому он ревностно заботился, чтобы поли¬
тический канал связи с Советским Союзом проходил только через него. Никто
не мог позволить себе работать более близко, чем он, с советскими представи¬
телями в Болгарии или в Москве. Никто не мог позволить себе иметь больше
доверия и поддержки в Кремле, чем он сам. Кто не понимал этого, испытывал на
себе гнев Живкова. Люди из его окружения знали эту особенность в его поведе¬
нии, которая наиболее сильно проявлялась в страхе перед просоветскими заго¬
ворами в стране. И они использовали это как самое сильное оружие для разгрома
своих политических противников. Достаточно было внушить Живкову, что член
Политбюро или секретарь ЦК находится в тесных связях с сотрудниками совет¬
ского посольства или руководителями Кремля, чтобы он был изгнан.
Живков удачно приспосабливался к каждому новому советскому руководи¬
телю. У него было врожденное чутье для работы с ними, он искал тесных личных
связей с самым близким их окружением, в том числе и с членами семей.
Живков испытывал хорошие чувства к Хрущеву, однако не скрывал, что и
ему доставалось от советского руководителя.
Первый конфликт между ними назрел в начале 60-х годов, когда Живков
задумал реформу в экономике, направленную на усиление самостоятельности
предприятий при формировании планов, цен, зарплаты и т.д. Известна его до¬
кладная записка 1963 г. о новой системе руководства и управления народным
хозяйством. Тогда Хрущев упрекал его, что тот пошел по пути югославских ре¬
визионистов. Вопреки этому Живков сохранил чувство уважения к Хрущеву,
ценил его борьбу против культа личности.
Особенно тесные отношения Живков установил с Л.И. Брежневым. Длитель¬
ный период их совместной работы позволил Живкову заслужить неограниченное
190
политическое доверие советского руководителя. Одним из способов этого было
проникновение в его семью. Эту роль исполняла советник посольства Болгарии
в Москве — Милка Калинова. Она смогла приобрести симпатии дочери Брежнева
Галины, сына Юрия и его жены, которых она осыпала дорогими подарками:
дубленки, драгоценные украшения, наряды, каникулы в Болгарии и т.д. Кали¬
нова получала неограниченную политическую информацию о соотношении сил
в Политбюро ЦК КПСС, о кадровых передвижениях, которую лично предостав¬
ляла Живкову. Таким образом, он оказывался самым информированным чело¬
веком в Болгарии о том, что происходило в Советском Союзе.
Последние годы пребывания Брежнева в Кремле были особенно трудными
для общения с ним. Живков видел, что Брежнев, в сущности, стал винтиком
в колесах системы. На встречах он мог сконцентрироваться только на десять
минут, потом его рассеянный взгляд блуждал по залу. Когда Живков заканчивал
докладывать, Брежнев обращался к К.У. Черненко и спрашивал: ’’Константин
Устинович, правильно ли говорил Тодор?”. И Черненко начинал второй раз вос¬
производить все, что сказал переводчик.
В преддверии 80-х годов Живков попытался устроить бунт. В беседе с несколь¬
кими высшими советскими функционерами, среди которых были Черненко и
Устинов, он поинтересовался: ’’Чего ждете? Нет ли у вас другого подходящего
человека на Первого?”. Черненко доложил об этом Брежневу, и в последние годы
отношения между ним и Живковым охладели.
В 1985 г. в Советском Союзе к руководству пришел М.С. Горбачев. В окруже¬
нии Живкова зашла речь о том, что наступил удачный момент, чтобы говорить
смело и открыто о болезненных вопросах системы. Живков согласился: ’’Пра¬
вильно! Это будет инвестицией в будущее”.
За короткий период он продумал ряд тезисов, которые потом оформил в пись¬
ме к Горбачеву. Живков пытался ставить отдельные острые политические вопро¬
сы еще и перед Брежневым, но тот сделал ему выговор. Сейчас предоставлялась
возможность занять ’’выгодную позицию”. Приведу только некоторые мысли
из упомянутого личного письма Живкова Горбачеву: ’’Если мы дадим возмож¬
ность нашему научному потенциалу анализировать явления в обществе, он сможет
выдать хорошие решения и рациональные ходы для развития социалистического
общества. Однако мы не даем ему такую возможность. Боимся ошибок. Воз¬
можно, некоторые люди науки ошибаются. Ошибка есть ошибка. Но многое из
того, над чем они работают, верно...
Другая проблема состоит в возникновении чуждых социализму взаимоотно¬
шений и даже социальных групп, которые существенно деформируют общество.
В настоящее время комплекс созданных учреждений и аппаратов столь огромен
и так централизован, что требует больших расходов и отнимает больше социаль¬
ной энергии, чем социализм может позволить себе. Самое плохое, что аппарат
вместо всесторонней помощи в развитии общества все усиливает бюрократиче¬
скую надстройку.
Вокруг этого аппарата формируется целая прослойка самовоспроизводящейся
социальной группы, личные интересы и привилегии которых затрагивает любая
программа социального развития и перемен. Самое страшное оружие этой груп¬
пы — выхолащивание содержания принятых решений, она превращает их в лозун¬
ги, сотни бюрократических документов, т.е. она лишь имитирует перемены и дей¬
ствия...
Наша политическая теория и практика еще не создали противовес этому опас¬
ному явлению, но одна из причин его развития очевидно состоит в необоснованно
длительном сдерживании переустройства и усовершенствования политической
системы социализма в соответствии с новой действительностью. Особенно важная
проблема: накопленное в последние десятилетия социальное напряжение, кото¬
рое становится испытанием для руководящей роли коммунистической партии.
191
Общее то, что протест направлен не против социализма, а против нарушения его
принципов, не против социалистической власти, а против многих методов управ¬
ления, не против коммунистических партий, а против ошибок в их подцтике.
Отсюда проистекают задачи и обязательства наших партий — они должны гаран¬
тировать функционирование социализма без деформации и извращения, должны
восстановить веру в законы социалистического государства, в социальную спра¬
ведливость и контроль, в выборность и сменяемость кадров”.
Через несколько дней Живков продиктовал только для нас, а не для письма
следующее дополнение. Цитирую стенографическую запись:
”В том, что было сказано, никто не сможет разубедить меня.
Все успехи и неудачи нашей социалистической общности связаны с Советским
Союзом. Мы не отрицаем его больших заслуг и всегда это подчеркивали.
Но когда говорим о Советском Союзе как главной силе в развитии социали¬
стических стран, надо сказать о действительном состоянии дел.
Отставание Советского Союза в области технического прогресса есть факт.
Это отставание началось не вчера и не сегодня. И если он шел в ногу со временем
до второй мировой войны, то сразу после нее это отставание представляется по¬
стоянным и углубляющимся явлением.
Советский Союз снабжал оборудованием все социалистические страны. Но
в последнее десятилетие правильная экономическая политика не проводилась
не только в Советском Союзе, но и во всех социалистических странах. Я здесь
не затрагиваю причины этого отставания, но оно является неоспоримым фактом.
Советский опыт, который мы переняли после победы революции, основан на
ошибочных экономических принципах. Повторяя советский опыт, мы создали
условия для деформирования социализма в наших странах”.
Как сложились потом отношения Живкова с Горбачевым? Советский руково¬
дитель был задет письмом Живкова и дал понять, что не хочет, чтобы ’’его учили”.
Это не было личной обидой или проявлением надменности. Горбачев реагировал
адекватно - как глава сверхдержавы и лидер ведущей коммунистической партии
в мире. Живков начал злиться, что недооценил этого обстоятельства и не подго¬
товил материал как личное письмо, ведь получился официальный документ. Его
стало беспокоить, что в Советском Союзе много говорится о переменах, а в сущ¬
ности ничего серьезного не предпринимается. Именно тогда он начал рассказывать
анекдот: ’’Какой наш город называется именем перестройки в Советском Сою¬
зе?”. Ответ был: ’’Батак!” -- от турецкого слова, означающего хаос и беспорядки.
Несколько раз Живков рассказывал его публично. Кое-кто поспешил ’’проинфор¬
мировать” Москву о том, что Живков против перестройки в Советском Союзе.
Но так или иначе Живков не поставил себя в положение ожидающего, чтобы
его ’’поучили”.
В короткие сроки сформировалась концепция переустройства, которая была
принята на июльском пленуме ЦК БКП в 1987 г. Сейчас о ней никто не вспоми¬
нает. Если посмотреть объективно, то в ней было много принципиальных идей,
которые и сегодня и завтра могут быть наполнены реальным политическим и
экономическим содержанием. Вспомним, что основными опорными элементами
этой концепции были: равенство и многообразие собственности, отстранение ком¬
мунистической партии от управления страной, самоуправление фирм и общин
итщ.
Хозяйственные реформы только модернизировали существующий режим, но
не меняли его природу. Все были заинтересованы в сохранении системы власти:
Живков правит партией, партия правит напрямую государством. Многие в старом
Политбюро отличались своей посредственностью, бесцветностью, бездеятель¬
ностью. Члены коллективного руководства (Политбюро и Секретариат), мини¬
стры в правительстве и депутаты в парламенте жили хорошо и безмятежно в тени
Живкова. Они ожидали указаний ’’сверху”, согласовывали все вопросы и под
192
формой ’’согласования” перебрасывали ему собственную ответственность. Они
интуитивно понимали, что в однопартийной системе шанс сохраниться имеет
тот, кто владеет искусством пассивности. Активную роль в управлении можно
переложить на Живкова. Со своим самолюбием и управленческим эгоцентриз¬
мом он все брал на себя и тем самым допустил принципиальную ошибку. Таким
образом он персонифицировал собой все активы и пассивы существовавшей
системы. Общество развивалось, шло вперед, наступали глубокие структурные
перемены, а система, которой покровительствовал Живков, корчилась в судоро¬
гах, приспосабливаясь к переменам. Но это давалось все труднее и труднее. И на¬
конец настал такой момент, когда народ не захотел жить в существовавшей си¬
стеме, а система была не готова для перемен. Нагнетавшееся напряжение в об¬
ществе могла снять лишь искупительная жертва. И этой жертвой мог быть только
Тодор Живков.
КРАХ
В августе 1989 г. Тодор Живков ушел в отпуск, пройдя перед этим медицин¬
ский осмотр. Заключения медицинской бригады были хорошие.
В те дни он переутомился и никак не мог с этим примириться. Хотел работать
так, как работал всю жизнь — по 10—15 часов в сутки. Впервые он впал в уныние
под нажимом обстоятельств.
На него сильно подействовало крушение восточного блока. Не хотел прими¬
риться и с тем, что Горбачев предпринял реформы, для которых в Советском
Союзе, как он считал, еще не было условий.
Беседы с Горбачевым в последние годы проходили тяжело и тягостно, а встре¬
ча в июне 1989 г. была почти формальной. Живков не заблуждался относительно
чувств Горбачева к нему. Понимал, что оба принадлежат к двум разным эпохам,
и ничто не в состоянии сблизить их. По всем советским каналам — дипломатиче¬
ским, разведывательным или напрямую через интеллигенцию двух стран — ’’про¬
ходила” отрицательная информация о ситуации в Болгарии и о положении самого
Живкова. Налицо был расстроенный рынок, и это объединяло всех, независимо
от их политической платформы, против системы, воплощением которой был Жив¬
ков. Он ощущал, что уже уперся в стенку, и непрестанно искал выход. Но время
для действий было упущено. Площадь для маневра была ограничена как во вре¬
менном, так и в политическом пространствах.
Живков оказался в капкане, чего никак не ожидал. ’’Если так будет продол¬
жаться, мы должны пустить себе пулю в лоб!” — сказал он однажды в разговоре
со мной. В то же время он не смог приспособить экономику страны к ’’специаль¬
ным” условиям западного рынка.
С некоторыми специалистами мы предложили Живкову меры для перехода
объектов туризма, пищевой промышленности, сельского хозяйства, электроники
на ’’концессионные основы”, что-то наподобие нефтяных концессий в Советском
Союзе во времена Ленина, но Живков увидел в этом пипп» одни усложнения,
а у нас не было и соответствующего законодательства. Я и сейчас убежден, что
это было и остается одним из спасительных путей для болгарской экономики.
В начале сентября 1989 г. Живков вернулся из отпуска, который провел в Вар¬
не, но чувствовалось, что он не отдохнул, ибо провел за это время много встреч.
Первыми его словами были следующие: ’’Ребята, что происходит с социализ¬
мом? Он уходит. Социализм потерян как система”.
В Варне с 24 по 27 сентября 1989 г. проходило совещание секретарей комму¬
нистических партий по международным вопросам. Живков встретился с
А.Н. Яковлевым. Он произвел впечатление исключительно нравственного чело¬
века и настоящего представителя той русской интеллигенции, которая дала при¬
мер многим интеллектуальным и моральным победам в человеческой истории.
7 Новая и новейшая история, № 6
193
Живков снова развил свой тезис, что в глобальном масштабе можно ослабить
тотальный натиск на социализм на основе двух положений:
— если приступить к широкому улучшению отношений с Китаем, для которых
налицо все условия;
— если разрушить Берлинскую стену, объединить Германию и за несколько лет
развить центробежные силы в западном альянсе.
Он верил, что объединенная Германия никогда не поставила бы политическую
’’решетку” для своего колоссального человеческого и экономического потен¬
циала.
Интересен был финал встречи. Живков заявил: ’’Передайте Горбачеву, что если
бы Маркс и Энгельс были живы, они сказали бы нам: ’’Ребята, рано еще провоз¬
глашать партии социал-демократическими и соревноваться с капитализмом.
Наше общество и экономика еще не готовы для этого”. И засмеялся в свойст¬
венной ему манере — звучно и долго.
Этой шуткой он как бы продолжил мысль, которую развивал и перед Горба¬
чевым: надо отступить и реформировать систему, но все это следует сделать
скоординированно, сохраняя ’’правила игры”. В противном случае пострадает ба¬
ланс интересов в Европе и мире.
Обзор новостей в кабинете Живкова утром 5 октября 1989 г. начался нервоз¬
но. Наша делегация должна была ехать на торжества в Берлин. По этому поводу
Живков сказал: ”Мы едем на панихиду. Еще несколько недель, и руководство
там не удержится”. Потом он остановился на обстановке в Болгарии и усилив¬
шемся напряжении в связи с оскудением потребительского рынка. ”Мы должны
подготовиться к серьезным маневрам, — отметил Живков, — переустройство за¬
стряло. Среди кадров заметно разложение. Правительство не проводит политики
ЦК. Министр экономики и планирования некомпетентен (тогдашний министр
Стоян Овчаров. — К.Д.}, ничего не успевает реализовать. Это маменькин сынок.
Его назначение — моя ошибка и позор. Я обманулся в нем и несу за это ответст¬
венность”.
Зашла речь и о внешнем долге, катастрофически возраставшем.
Действительно, есть над чем задуматься будущим исследователям. Правитель¬
ство, которое начало править Болгарией при валовом внешнем долге 5 млрд,
долл., за четыре года довело его до 10,5 млрд. долл. Но нигде в его годовых от¬
четах и статистических данных в то время мы не найдем и тени тревоги. Что это
было? Боязнь? Или правительство пыталось скрыться за спиной Живкова? Думаю,
что правительству не хватило компетентности. Сыграла свою роль его затянув¬
шаяся выжидательная позиция.
3 октября Живков рассказал об обстановке в ГДР и об упадническом настрое¬
нии германских руководителей. Он оценивал Кароя Гросса ”в такие времена для
Венгрии” как слабого человека. Про Ярузельского сказал, что тот доволен своим
положением, успокоился и это проглядывает в его поведении. Живков особенно
был озабочен созданием новых партий в Венгрии и Польше. Оценил обстановку
в Советском Союзе как критическую, сказал, что мы не удержимся в одиночку
в Болгарии.
В конце октября 1989 г. стало ясно, что конфликт между Тодором Живковым
и Петром Младеновым, членом Политбюро и министром иностранных дел, не¬
избежен.
24 октября 1989 г. Младенов послал резкое письмо Живкову, в котором выра¬
зил несогласие с его стилем и методом работы и подал в отставку.
Живков не хотел скандала. Чтобы найти выход, он провел встречи только
с членами Политбюро. Одним из приемлемых вариантов был уход Младенова
”по болезни”. Это было очень удобно еще и потому, что Младенов перенес тяже¬
лую операцию.
27 октября Живков пригласил Младенова для 30-минутного разговора, но, оче¬
194
видно, примирения не получилось. Я видел, как Младенов выходил нахмуренный
из кабинета.
Чтобы разрядить обстановку и отвлечь внимание, Политбюро решило опубли¬
ковать материалы к предстоящему пленуму ЦК БКП в средствах массовой ин¬
формации.
Но конфликт нельзя было скрыть, потому что предстояла встреча в Кувейте
с турецким министром иностранных дел. Тогда было бы необходимо ехать Геор¬
гию Йорданову — зампреду Совета Министров.
Живков созвал у себя руководство делегации, пригласил и Младенова. Но тот
отказался приехать, заявив, что болен. Живков воскликнул: ’’Вот как!?”. Это
было произнесено так, будто он слышит от Младенова такое в первый раз. Живков
очень умело скрывал возникший конфликт даже от нас.
Через несколько дней Живков принимал в Государственном совете иностран¬
ных послов по протоколу. На встрече оказался и Младенов.
Как будто буря прошла. Но это было чисто внешнее впечатление.
И все-таки риск противостоять Живкову взял на себя только Младенов. До
8—9 ноября 1989 г. он был один, никто из Политбюро его открыто не поддержи¬
вал. Так что ’’группы заговорщиков” не было. Были недовольные, которые лишь
ждали удобного момента.
Письмо Младенова явилос > началом процесса, к концу которого все поняли,
что не так страшно стать на другую сторону, тем более, когда Живков оказался
парализованным и был не в состоянии оказать противодействие без советской
поддержки.
Продолжает еще ходить много слухов о перевороте, кровавых заговорах и т.д.
Поэтому я хочу рассказать о событиях, развивавшихся непосредственно перед
10 ноября 1989 г.
31 октября Живков позвал меня, чтобы продиктовать свои замечания об Указе
о медицинском обслуживании населения. Когда закончил, спросил: ’’Есть еще
что-нибудь?”.
Я был недоволен тем, что опубликование материалов к пленуму ЦК прошло
при полном безразличии средств массовой информации и общественности. Обидно
было терпеть это положение. ’’Товарищ Живков, то, что я вам скажу, можно при¬
нять за плод интриганства и карьеризма. Если вы так поймете меня, я сразу
оставляю здесь свой служебный пропуск и больше никогда не войду в ваш каби¬
нет. Уже прошло пять дней со дня опубликования материалов предстоящего пле¬
нума. Нас настолько уже не воспринимают, что нет ни одного замечания даже со
стороны наших восхвалителей. Доклад опять абстрактно-теоретический, с туман¬
ными намеками на ’’процессы” и ’’этапы”. Ничего конкретного. Доклад состоит
из общих политических и наукообразных фраз”.
Живков молчал, весь обратясь в слух. Я, воодушевленный, продолжал: ”Вы
лично и вся партия идете безоружными на этот пленум. Мы на пороге острого
валютного и продовольственного кризиса. Существует сильная тревога среди
населения. Кадры деморализованы. Я ожидаю бунта на пленуме потому, что
некоторые члены ЦК не могут больше терпеть. Есть признаки, что вы изолиро¬
ваны в международном плане среди наших союзников.
Живков неожиданно ответил: ”Да, да, согласен”. Сказал это просто, без хит¬
рости и задней мысли. ’’Мне надо подготовиться и сделать сильное вступительное
слово”. Он встал и начал энергично ходить по кабинету.
Я ушел довольный тем, что Живков все воспринял по-деловому. Он знал, что
против него плетется интрига, но продолжал говорить о вступительном слове,
а не о заговорах и их подавлении полицейскими мерами.
До 10 ноября, т.е. до начала пленума, у него было достаточно времени для
противодействия, а кроме того, и репрессивный аппарат. А было еще только
31 октября.
7*
195
Советский посол Шарапов отсутствовал до 2 ноября. 3 ноября состоялась
встреча между ним и Живковым. Она началась в 11 часов и продолжалась до
12 часов 30 минут. Очевидно, Живков сделал попытку прозондировать совет¬
скую птипию, выиграть время и получить поддержку союзника. Что обсужда-
лось на этой встрече, пока остается неизвестным.
В день приема в советском посольстве в связи с 7 ноября снова состоялась
встреча Живкова с советским послом. Разговор был, очевидно, тяжелым, потому
что Живков опоздал на прием почти на час.
Правда, он ничем не выдавал своей тревоги. На приеме он поздоровался с каж¬
дым, разговаривал, у него было хорошее настроение, и только те, кто знал, что он
ведет закулисную борьбу, могли различить в его взгляде напряженность.
В 11 часов утра 8 ноября у Живкова состоялась встреча, в которой приняли
участие Добри Джуров (министр обороны), Йордан Йотов (член Политбюро и
секретарь ЦК Б КП) и Димитр Станишев (секретарь ЦК Б КП). Они хотели под¬
толкнуть Живкова к отставке.
В ходе разговора Живков спросил: ’’Может быть, было бы хорошо подать
в отставку?”. Они поддержали его решение и начали убеждать, что все произой¬
дет безболезненно. Живков уточнил, что имеет в виду подать в отставку не на
предстоящем пленуме,-а на следующем. Они единодушно поддержали и эту идею.
После этого Живков отправился в свою резиденцию.
В 15 часов 30 минут позвонили из протокольной части советского посольства
и попросили о встрече советского посла с Живковым. Я был у телефонного аппа¬
рата в кабинете. Сообщение было принято. В 16 часов позвонил Живков и, как
обычно, спросил: ”Что есть?”. Сообщил ему, что советский посол хочет встре¬
титься. Живков коротко ответил: ’’Можно прийти в 17 часов 30 минут”. О чем
они разговаривали, опять-таки можно лишь предполагать.
9 ноября Живков приехал в свой кабинет, он был в тесном официальном ко¬
стюме. Настроение было тягостное. Он не мог сосредоточиться, все время думал
о чем-то. Вообще, Живков умел владеть собой. Он был волевым и скрытным
человеком. Его дочь Людмила по этому поводу говорила: ’’Для успеха необхо¬
димо: хотеть, знать, мочь и молчать. Последнее самое трудное”.
Наш разговор начался с судеб социализма, с которым мы отождествляли раз¬
валивавшуюся политическую систему в странах Восточной Европы. Я подал реп¬
лику: ’’Социализм уходит потому, что народы не хотят именно такой социализм.
Его принесли им на штыках”. Живков, как будто не расслышав, переспросил:
”Что-что?”. Я повторил. Он задумался и тихим голосом сказал: ’’Иунасв Болга¬
рии было то же самое...”. На этом наш обычный утренний обмен новостями
закончился.
Живков знал, что делается для его отставки. Убежден, что он не задумывал
никаких действий для организованного сопротивления, для ответных репрес¬
сий. А возможности для этого были. Подчеркиваю все это потому, что считаю
необоснованной легенду о подготовке списков тысяч людей для арестов и экзе¬
куций, о планах применения армии и органов внутренних дел, об угрозе ’’крова¬
вой бани” и т.д. Это выдумки, бросившие тень на органы государственной без¬
опасности. Некоторые из высших чинов госбезопасности знали о том, что про¬
исходит в ЦК. У них было достаточно времени, если бы они захотели что-то сде¬
лать. Наоборот, другие в возбуждении звонили и с намеками спрашивали меня,
что происходит. Но никто из них не хотел противостоять неизбежному. Напро¬
тив, для них это было долгожданной переменой, потому что никто лучше их
не знал настоящее положение в стране и в высших эшелонах власти. У нас и в пар¬
тии, и в органах госбезопасности не было людей, которые могли бы подумать
о такой авантюре. Распространение таких слухов только нагнетало обстановку,
сея ненависть и усиливая напряжение в народе. Были попытки представить пар¬
196
тию как моральную и политическую силу, способную пойти на войну с собствен¬
ным народом и интеллигенцией. А этого у нас не могло случиться!
В 17 часов 9 ноября 1989 г. началось заседание Политбюро. Живков сразу за¬
явил: ’’Год назад я ставил вопрос о моей отставке — она не была принята. Сейчас
я настаиваю на ее принятии”. (Правда, однажды он ’’разыграл” свою отставку,
но Политбюро не приняло ее потому, что никто ее не предлагал.)
Все поддержали его решение об отставке и расценили это как новый акт его
дальновидности. Удивились только двое: Милко Балев (член Политбюро и сек¬
ретарь ЦК БКП) и Димитр Стоянов (министр внутренних дел).
Милко Балев сказал: ’’Товарищ Живков, есть и другое мнение”. А Димитр
Стоянов: ”Я застигнут врасплох. Со мной никто не советовался. Почему не по¬
дождем съезда? Тогда и решим”.
Но их замечания остались без внимания. К концу заседания и они присоедини¬
лись к решению об отставке Живкова.
Перешли ко второму вопросу — выборам нового Генерального секретаря.
Живков предложил Георгия Атанасова (тогдашнего Председателя Совета Ми¬
нистров) . Он сразу заявил о самоотводе и предложил Петра Младенова. Все под¬
держали кандидатуру Младенова, и на этом около 20 часов заседание закончилось.
После заседания Живков удалился в свой кабинет. К нему пришли Младенов,
Джуров, Атанасов и др. Живков заказал коньяк и вино. (Младенов пожелал
виски, остальные — вино с салями.) Живков сказал им, что и в будущем они
будут встречаться и вместе пить кофе.
Так цивилизованно, спокойно, без эксцессов проходили события 9 ноября
1989 г.
Оставалось сыграть последнее действие — пленум ЦК БКП, объявленный на
следующий день. Он начался в 15 часов. Сразу же была зачитана просьба Живкова
об отставке.
Последовали дежурные высказывания, оценки, поклоны, признания и благо¬
дарности уходящему Тодору Живкову и восхваления Петра Младенова. Все шло
’’нормально”. Но вдруг один из членов ЦК спутал весь сценарий - Иван Масларов,
ветеран партии, предложил на пост Генерального секретаря Александра Лилова
(теперешний председатель Болгарской социалистической партии). Другой член
ЦК, академик Николай Ирибаджаков, сказал, что пленум не готов выбрать но¬
вого Генерального секретаря. Пусть, мол, состязаются несколько кандидатов
со своими платформами, а пленум выберет самого подходящего. Николай Ири¬
баджаков не был из числа приближенных Живкова. Получилось то, чего, по-ви¬
димому, и хотел Живков — решение о его отставке откладывалось.
Заседание было прервано. Живков попытался в перерыве воздействовать на
некоторых из своих друзей: ’’Помогите...”. Они уверили его, что будут помогать
и сразу же сообщили ’’его друзьям” о стремлении Живкова к сопротивлению.
Некоторым членам ЦК поручили высказаться более решительно, чтобы пресечь
возможные попытки отложить решение, что они и сделали, когда заседание во¬
зобновилось.
Живков, который все еще питал какие-то иллюзии, вдруг понял, что проиграл
окончательно.
Заседание пленума ЦК БКП закончилось в 17 часов 10 ноября 1989 г.
Тодор Живков пошел к лифту. Провожал его лишь Петр Младенов...
197
(С) 1991 г.
К. Д Ё Н И Ц
Г росс-адмирал, командующий военно-морским флотом
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ НА ПОСТУ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА*
В январе 1945 г. германское имперское правительство получило в свои руки
оперативный приказ ’’Эклипс”, содержавший документы о планировании и подго¬
товке мер по оккупации Германии после ее безоговорочной капитуляции. На при¬
ложенной к этому приказу карте была нанесена схема раздела Германии между
Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Великобритании. В целом
она отвечала действительно осуществленному позже разделению на оккупацион¬
ные зоны, за исключением французской, которая была предоставлена союзника¬
ми Франции только на Ялтинской конференции в феврале 1945 г.
Намеченный раздел и предусмотренные ’’планом Моргентау” методы обращения
с Германией заставляли опасаться конца нашего существования как целостной
нации.
К этим политическим опасениям добавлялись и тяжелые политические препят¬
ствия.
12 января 1945 г. русские начали наступление по всему Восточному фронту.
Они вторглись в Силезию и достигли среднего течения Одера у Кюстрина. Герман¬
ский вермахт не смог выполнить на нашей восточной границе своей естественной
военной задачи - защиты восточногерманского населения и его родного края. По¬
этому волна людей устремилась из этих областей на запад, чтобы спастись от на¬
ступления русских. Страх и ужас переполнял их. [...]
В этих условиях я считал спасение населения восточной части Германии первей¬
шим долгом немецкого солдата. Если мы, к нашему горю, не сумели сохранить
для восточных немцев их родной край, то мы не имели права бросить их на произ¬
вол судьбы, когда дело шло о спасении самой их жизни. Только ради одного это¬
го солдат должен был продолжать сражаться на германском Восточном фронте.
Но имелась и вторая причина. Об ином окончании войны, нежели безоговороч¬
ная капитуляция по воле союзников, не могло быть и речи. Для германских
войск это при подписании капитуляции означало прекращение их всякого передви¬
жения. Они должны были сложить оружие там, где стояли, и отправиться в плен.
Капитулируй мы зимой 1944-1945 гг., в русский плен попало бы 3,5 млн. солдат
Восточного фронта, который еще весьма далеко отстоял от линии англо-амери¬
канского. Принять их, обеспечить продовольствием и разместить было бы для
русских, даже при самом большом желании, организационно невозможно. Им
Редакция журнала продолжает публикацию серии материалов в рубрике ’’Вторая миро¬
вая война - глазами противника”, объявленной в № 2, 1991 г. Дёниц, Карл (1891-1980) -
гросс-адмирал, до 1943 г. командовал подводным флотом Германии, а затем ее военно-мор¬
скими силами. 1 мая 1945 г. согласно завещанию Гитлера стал рейхсканцлером Германии и
верховным главнокомандующим вермахта. 2-3 мая Дёниц сформировал новое имперское
правительство в Мюрвик-Фленсбурге (земля Шлезвиг-Гольштейн). Он отдал приказ о продол¬
жении военных действий против советских войск, попытался сохранить нацистский режим
путем частичной капитуляции перед западными державами и дальнейшего ведения войны на
германо-советском фронте. На процессе главных военных преступников в Нюрнберге приго¬
ворен Международным военным трибуналом к десяти годам тюремного заключения. Осво¬
божден в 1956 г. - Прим, персе.
*Из книги: Dónitz К. Zehn Jahre und zwanzig Tage. Bohnn, 1958. На русском языке публи¬
куется впервые. Перевод Г.Я. Рудого.
198
пришлось бы пережить зимние месяцы в примитивных условиях, в открытом
поле, результатом чего явилась бы ужасающе высокая смертность. Как тяжело
внезапно разместить и накормить огромное число военнопленных, показали собы¬
тия при капитуляции в гораздо более благоприятное время - мае 1945 г. даже
на Западе, где англичанам и американцам не удалось в достаточной мере обеспе¬
чить немецких военнопленных и большинство из них умерло.
Всем было ясно, что окончание войны зимой 1944—1945 гг. ввиду требования
союзников о капитуляции безо всяких условий означало бы смерть миллионов
людей гражданского населения и солдат Восточного фронта. Никто из тех, кто
занимал тогда какой-либо ответственный пост в вермахте, не мог посоветовать
пойти на такой шаг. Ни один беженец с востока Германии не согласился бы быть
отданным русским, ни один немецкий солдат не захотел бы попасть в русский
плен. Солдаты просто не выполнили бы приказа оставаться на месте и сдаваться
в плен. Они, как и гражданское население, попытались бы спастись бегством на
запад. Таким образом, ни одно руководящее лицо в тот момент не смогло бы
подписать акт о капитуляции, сознавая, что он будет сорван и тем самым огромное
число немцев на востоке Германии будет предоставлено своей собственной судьбе
и подвергнется уничтожению. Такое решение никто на свою совесть тогда взять
не мог.
Как ни больно было поневоле продолжать войну зимой 1944—1945 гг. на всех
фронтах и морях, по-прежнему принося в жертву солдат и платя за это потерями
гражданского населения от налетов авиации, все это было необходимо, ибо при
этом все-таки потери были меньшими, чем если бы Восточный фронт был сдан
преждевременно. Каждый военный, независимо от занимаемой должности, зада¬
вавшийся вопросом, не является ли капитуляция меньшим злом, отвечал на него
не с точки зрения германского запада или востока, а только с учетом судьбы
всего германского народа. Правда, он мог понять причины, по которым западно¬
германское население требовало прекращения войны, ибо каждый новый день
боевых действий приносил ему только ущерб. Но пойти навстречу этому требова¬
нию ни в коем случае нельзя было. Оно отражало интересы лишь одной части на¬
селения, являясь зачастую несправедливым по отношению к германским сограж¬
данам с востока; оно игнорировало даже то, что и солдаты из западногерманских
семей тоже должны были бы погибнуть при выполнении этого требования. Нельзя
было разделять ошибки того или иного гауляйтера1, который, не считаясь с други¬
ми частями населения, хотел при ожидаемом крахе Германии в конце войны спас¬
ти только свою собственную область.
По ряду причин я не мог согласиться с требованием противника о безоговороч¬
ной капитуляции. Вопрос о прекращении войны никогда не ставился передо мной
государственным руководством как перед командующим кригсмарине2.
До тех пор пока германские армии на Восточном фронте еще далеко отстояли
от американских линий, я этот вопрос, будь он мне адресован, по вышеуказанным
причинам отверг бы.
Предпосылкой для выполнения военной цели — спасти людей в Восточной Гер¬
мании — служило сохранение порядка на фронте и внутри страны. Любой хаос
стоил бы еще большей крови. Эта была наша военная цель, оглашение которой
тогда в тех условиях было невозможно и именно этим объясняются многие мои
тогдашние приказы.
Только в одно я не верил зимой 1945 г.: в то, что продолжение борьбы будто
бы необходимо потому, что ожидается разрыв отношений между западными со¬
юзниками и Советским Союзом. Если даже англо-американская политика полного
устранения германской континентальной державы отвечала англо-американским
интересам и была мне непонятна (ведь возникший в результате вакуум законо-
нацистский партийный наместник в какой-либо отдельной области (гау). - Прим, перев.
2 Kriegsmarine (я.ем.) - военно-морской флот. - Прим, перев.
199
мерно оказался бы заполнен возрастающей мощью Востока), я все-таки не верил
в то, что западные союзники уже тогда уразумели это. Учитывая их военную про¬
паганду и настроение’’крестового похода” против национал-социалистской Гер¬
мании, думать о разрыве союзников не приходилось.
Еще летом 1944 г., после отпадения Финляндии, когда Восточный фронт при¬
близился к германской столице и возникла угроза Восточной Пруссии, главной
задачей военно-морского флота стало обеспечение Восточного фронта морскими
транспортами через Балтийское море: туда везли людей, оружие, боеприпасы и
военные материалы, а оттуда - на тех же судах раненых, беженцев и отдельные
части сухопутных войск. Когда же после прорыва русских в январе 1945 г. терри¬
тория верфи и лагеря военной подготовки в восточной части Балтийского моря
оказались под угрозой быть потерянными, стало окончательно ясно: подводный
флот с его новыми, превосходящими противника лодками в широком масшта¬
бе больше применяться уже не может.
Поэтому подводная война отныне уже не являлась главной задачей военно-
морского флота. Я направил значительную часть его на поддержку Восточного
фронта и спасение немцев. Военно-морской состав, подготовленный для экипа¬
жей строившихся подводных лодок или же снятый с других объектов, я переда¬
вал сухопутным войскам или же формировал из него морские части и дивизии,
которые использовались против русских на суше. В течение последних месяцев
войны в защите германской территории на востоке в военных действиях на суше
приняло участие примерно 50 тыс. моряков. [...]
Военно-морские силы для Востока были переброшены из Северного моря и
норвежского района в той мере, в какой это позволяло тамошнее судоходство.
Здесь они настоятельно требовались для обеспечения безопасности морских пу¬
тей и прохода торговых судов, которые использовались на Восточном фронте для
транспортировки беженцев. Тоннаж германского торгового флота имел для бал¬
тийских транспортов решающее значение. [...] Весь наличный тоннаж был под¬
чинен мне и использовался под единым командованием вместе с кораблями
военно-морского флота с возможно большей эффективностью для балтийских’
транспортов. Главное руководство этим делом я поручил контр-адмиралу Эн¬
гельхардту. Этот человек еще раньше, на других должностях в военно-морских
силах, приобрел большой опыт в области торгового судоходства. Только благо¬
даря ему военно-морской флот в последние месяцы войны смог морским путем
наряду со снабжением Восточного фронта вывезти на Запад свыше 2 млн. человек
из Западной и Восточной Пруссии, а также Померании. [...]
Когда 19 марта 1945 г. Гитлер отдал известный приказ о разрушениях под
девизом ’’выжженная земля”, передо мной встала задача взять под свой контроль
те меры, которые предусматривались в связи с этим для военно-морских сил.
В изданной Верховным главнокомандованием вермахта (ОКВ) инструкции по
осуществлению этого приказа говорилось, что разрушение морских портов и
верфей может производиться лишь с моего разрешения. [...]
Когда продвижение русских в среднем течении Одера у Кюстрина и Франк-
фурта-на-Одере, а также продолжение американского наступления на Среднюю
Германию стали угрожать расчленением рейха на северную и южную части, Гит¬
лер 10 апреля заблаговременно распорядился передать мне командную власть в
Северной Германии. Это означало, что в случае вступления данного распоряжения
в силу я был обязан принимать важные решения, касающиеся гражданского сек¬
тора. Командование же военными операциями передавалось мне только в том слу¬
чае, если Гитлер и ОКВ будут находиться уже не в Северной Германии, а в южной
части рейха. t
Для выполнения моих задач на суше мне был придан в качестве имперского
комиссара по гражданскому сектору бременский гауляйтер Вегенер, а для прове¬
дения военных операций на суше — генерал Кинцель.
200
В ходе выполнения этого распоряжения Гитлера я 22 апреля, непосредственно
перед окружением Берлина русскими, переместился из Берлина в Плен.
Передача мне командной власти в северной части Германии произошла без
моего участия. Я счел эту меру в принципе правильной. То, что предусмотрен¬
ная приказом Гитлера оборона Севера была практически неосуществима, я
сразу же с полной ясностью понял, тщательно изучив обстановку в Плене.
Но мое назначение дало мне возможность, насколько это требовалось, координи¬
ровать действия гражданских и государственных органов, направлять потоки бе¬
женцев по сухопутным дорогам. Любой беспорядок мешал и затруднял транспор¬
тировку по морю или по суше и оплачивался людскими потерями. Самоуправство
или нежелание сотрудничать отрицательно сказывались на размещении беженцев,
а потому должны были пресекаться или не допускаться. Я попросил прибыть ко
мне 23 апреля гауляйтеров Мекленбурга, Шлезвиг-Гольштейна и Гамбурга с
целью установить необходимое взаимопонимание. Явились только двое из них:
гауляйтер Гамбурга Кауфман не приехал. Мне стало ясно, что еще с середины ап¬
реля он стремился как можно быстрее провести сепаратную капитуляцию Гамбур¬
га. Я, разумеется, никоим образом не мог допустить в тот момент такой само¬
управной сдачи Гамбурга союзникам, а всего этого участка военных действий -
англичанам.
Для приема беженцев из Восточной и Западной Пруссии и из Померании, кото¬
рые шагали по дорогам на запад или прибывали морем, требовались достаточно
обширные территории. Для этого был пригоден только Шлезвиг-Гольштейн, ибо
не приходилось ожидать, что Мекленбург, согласно союзнической карте он принад¬
лежал русской зоне, может нами долго удерживаться. К тому же в Шлезвиг-Голь¬
штейне находились военно-морской порт Киль, база и район базирования всей
службы транспортов военно-морского флота на Балтике. Если бы Гамбург капи¬
тулировал, то Шлезвиг-Гольштейн сразу же упал бы в руки англичанам, как спе¬
лый плод, а все военно-морские порты и пока еще открытые для эвакуации бежен¬
цев порты для торговых судов оказались бы потеряны, военно-морской флот
не смог бы заниматься транспортировкой населения, солдаты-моряки — попали
бы в плен. Кроме того, судам с беженцами с востока некуда было бы причаливать:
остался ли бы Шлезвиг-Гольштейн и после его оккупации англичанами свободным
для их приема — не известно. В любом случае решение этого вопроса зависело бы
от англичан, а их позиции мы тогда не знали.
Поскольку англичане, по всей вероятности, посчитались бы с интересами своих
русских союзников, то нам не приходилось рассчитывать на то, что они интерни¬
руют в Шлезвиг-Гольштейне солдат и офицеров группы армий ’’Висла”, которые
отступали на Запад с левого берега Одера, смешиваясь с колоннами беженцев.
Как мы узнали позже, американцы отказывались принимать беженцев и даже от¬
дельных безоружных солдат армий [генерал-фельдмаршала] Шёрнера, силой ору¬
жия препятствовали их бегству на запад, собирая и передавая их русским.
Поэтому преждевременная самостоятельная капитуляция Гамбурга могла быть
оплачена только потерей неисчислимого множества беженцев и немецких солдат
с Восточного фронта. 30 апреля я получил от Кауфмана телеграмму, подтверждав¬
шую мои опасения. В тот же день, т.е. еще до назначения меня главой правитель¬
ства, я направил ему следующий ответ:
”1. Главной заботой военного руководства в настоящей ситуации является
спасение германской земли и немецкого народа от большевизма. Поэтому центр
тяжести борьбы однозначно находится на Востоке. Германии необходимо делать
все возможное с военной точки зрения, чтобы остановить или, по меньшей мере,
как можно дольше сдерживать русское продвижение в Мекленбург для обеспече¬
ния оттока немецкого населения.
2. Этот отток осуществим лишь до тех пор, пока остаются открытыми на Запад
ворота через согласованную в Ялте линию границы оккупационной зоны. Если
201
канал Эльба—Траве окажется перерезанным англичанами, 7 млн. немцев будут
отданы на произвол русских.
3. Поэтому необходимо с крайним упорством защищать позицию на Эльбе от
Запада. Если в результате выполнения данной боевой задачи произойдет разру¬
шение имущественных ценностей, то это будет тысячекратно возмещено сохране¬
нием немецкой крови на востоке Германии. Разрушение гаваней или промышлен¬
ных сооружений не предусматривается и при всех обстоятельствах нельзя этого
допустить.
4. Своей безоговорочной поддержкой предстоящей боевой задачи Вы и город
Гамбург внесете наилучший вклад в судьбоносную борьбу нашего народа”.
Таким образом в эти апрельские дни самостоятельная и преждевременная ка¬
питуляция Гамбурга, по моему мнению, была бы тяжкой ошибкой. [...]
Вопрос о командовании в Северной Германии прояснился для меня 23 апреля.
Гитлер решил остаться в Берлине. Штаб ОКВ переместился в Рейнсберг. Тем са¬
мым оперативное руководство в Северной Германии, согласно произведенному
в начале апреля урегулированию вопроса о командной власти, оставалось за Гит¬
лером или за ОКВ во главе с начальником штаба ОКВ фельдмаршалом Кейтелем
и [начальником штаба оперативного руководства ОКВ генерал-полковником]
Йодлем. Я же продолжал заниматься организацией морских транспортов на Балти¬
ке и перемещением беженцев по стране.
28 апреля я выехал из Плена в Рейнсберг в ОКВ. Я хотел лично получить инфор¬
мацию о военном положении на Восточном фронте. Дороги между Пленом и Рейнс¬
бергом, ведущие на запад, были забиты едущими и идущими беженцами. Вместе
с ними двигались военные грузовики с ранеными, военнослужащими и гражданс¬
кими лицами. Англо-американские истребители вели огонь по до отказа забитым
дорогам. Стоило им появиться, как даже пашущие крестьяне в панике бросали
свои упряжки прямо в поле, стараясь найти где-нибудь укрытие. В результате об¬
стрела истребителями среди беженцев имелись убитые и раненые.
Прибыв в Рейнсберг, я увидел в ОКВ Гиммлера. После обсуждения обстановки
он перевел разговор на вопрос о преемнике Гитлера на тот случай, если фюрер
окажется блокированным в Берлине. Он спросил меня, буду ли я с ним сотрудни¬
чать, если преемник Гитлера поручит ему выполнение какой-либо государствен¬
ной функции. Я ответил: сейчас прежде всего необходимо не допустить хаоса, ко¬
торый стоил бы лишь новой крови; поэтому я предоставлю себя в распоряжение
любого законного правительства.
В ходе обсуждения обстановки я понял, что армия ’’Висла” больше уже не
в состоянии долго сопротивляться натиску русского наступления. Приходилось
считаться и со скорой потерей Мекленбурга. Для меня это означало одно: вновь
и вновь делать все, чтобы ускорить эвакуацию людей и морем, и по суше.
Встречи в Рейнсберге ясно показали: о единстве германского руководства
никакой речи больше идти не может. Из изолированного от внешнего мира берлин¬
ского бункера руководить нельзя. Правда, там еще имелась телефонная связь с
внешним миром, да и я располагал надежной радиосвязью благодаря военно-мор¬
скому узлу связи, обладавшему новыми, не известными ни одной другой команд¬
ной инстанции секретными средствами шифрования. На сведения, которые я
получал таким путем, можно было полагаться. Но объективно оценить поло¬
жение в стране из Берлина было уже невозможно.
Геринг, предполагаемый преемник [Гитлера] в качестве главы государства,
находился в Южной Германии.
23 апреля я получил из Имперской канцелярии сообщение, что Геринг предпри¬
нял путч и за это лишен Гитлером всех своих постов. Главнокомандующим авиа¬
цией был назначен генерал-полковник Риттер фон Грейм. Позже выяснилось, что
информация о путче Геринга была ложной. Однако этот инцидент свидетельство-
202
вад о напряженной политической атмосфере, а также о том, что изоляция Гитле¬
ра в бункере приводила к принятию ошибочных решений.
Из известия о смещении Геринга мне стало ясно, что он как преемник Гитле¬
ра больше уже не котируется. И с этого момента я осознал, что создать единое
военное руководство не удастся. Я лишь намеревался до тех пор, пока это еще
как-то было возможно, вместе с военно-морским флотом выполнять последнюю
разумную политическую и военную задачу: спасать людей с востока. А как только
ход событий больше этого не позволит, т.е. наши усилия уже перестанут приносить
пользу, капитулировать вместе со всем флотом.
30 апреля 1945 г. я получил зашифрованную радиограмму:
’’Происходит новое предательство. Согласно вражескому радио, рейхсфюрер
[Гиммлер] сделал через Швецию предложение о капитуляции. Фюрер ожидает от
Вас, что Вы молниеносно и твердо будете действовать против всех предателей.
Борман”.
На флоте мы такое положение называли ’’полундра”. Для меня же тогда важ¬
нейшим делом было обеспечение порядка для выполнения моей главной задачи.
А что означал этот приказ, требовавший от меня, чтобы я ’’молниеносно и твердо”
выступил против рейхсфюрера, в распоряжении которого находились силы поли¬
ции и СС? Для таких действий у меня не имелось никаких средств.
Все корабли военно-морского флота участвовали в транспортировке, а морские
дивизии и батальоны помогали держать фронт сухопутным войскам. Я не мог вы¬
делить ни одного человека даже для своей личной охраны или для охраны моего
штаба в Плене и уж тем более никак не мог действовать против Гиммлера силой.
Да к тому же и не хотел, ибо это породило бы только хаос. Поэтому я принял са¬
мое простое решение: я попросил Гиммлера о встрече в надежде выяснить, что за
игру он ведет. Мы договорились встретиться в полицейской казарме в Любеке.
Около полудня, когда я уже собирался выезжать, ко мне явились начальник
штаба военно-морского командования адмирал Майзель и гауляйтер Вегенер. Они
выразили свою тревогу насчет мрей личной безопасности при поездке к Гиммлеру.
Майзель даже сказал, что иметь для охраны только овчарку никак не годится.
Он попросил разрешения, по крайней мере, вызвать в Плен корветтен-капитана3
Кремера с его подводниками. Я дал на это согласие.
В полицейской казарме в Любеке, по-видимому, собрались все находившиеся
в пределах досягаемости высшие чины СС. Гиммлер заставил меня ждать. Каза¬
лось, он уже чувствовал себя главой государства. Наконец, когда я был принят,
я спросил его напрямик, верно ли, что он через графа Бернадотта искал контакт с
союзниками. Он заявил, что это ложь. В остальном же он считал, что в конце
войны ни в коем случае нельзя допускать, чтобы из-за отсутствия единства руко¬
водства возник дополнительный хаос. Вскоре после капитуляции я узнал, что, от¬
рицая ведение переговоров, он лгал мне.
30 апреля около 18 часов я уже снова был в Плене. Там меня ожидали коман¬
дующий Балтийским военным ‘флотом генерал-адмирал Кумметц с докладом о
положении на Балтике и текущих морских транспортах и имперский министр
вооружения и боеприпасов Шпеер. В присутствии обоих этих господ мой адъютант,
корветтен-капитан Людде-Нойрат, передал полученную на мое имя из бункера фю¬
рера в Берлине радиограмму, зашифрованную надежным секретным ключом.
Она гласила:
’’Гросс-адмиралу Дёницу.
Вместо бывшего рейхсмаршала Геринга фюрер назначает своим преемником
Вас, господин гросс-адмирал. Письменные полномочия в пути. Вам надлежит не¬
медленно распорядиться обо всех мерах, вытекающих из нынешнего положения.
Борман”.
3 Капитан 3-го ранга. - Прим, перев.
203
Это назначение явилось для меня совершенно неожиданным. После 20 июля
1944 г.4 я разговаривал с Гитлером только в большом кругу людей. Он никогда
не давал мне ни малейшего намека на то, что рассматривает меня в качестве свое¬
го возможного преемника. И я не думаю, чтобы еще кто-либо из руководящих
лиц рассчитывал на это. Правда, в последние дни апреля мне стало ясно, что Ге¬
ринг как преемник Гитлера отпал. Занять его место явно рассчитывал Гиммлер.
Самому же мне мысль стать преемником Гитлера никогда в голову не приходила,
моя солдатская жизнь делала ее для меня совершенно невероятной. И при полу¬
чении радиограммы я никак не смог объяснить себе, как так получилось, что меня
назначили на этот пост. Только позже я узнал следующее. Имперский министр
Шпеер 23 апреля еще раз прилетел из Северной Германии в Берлин в Имперскую
канцелярию попрощаться с Гитлером. Позже, зимой 1945—1946 гг., Шпеер расска¬
зал мне, что во время этого визита случайно присутствовал при том, как Гитлер
размышлял над текстом своего завещания. Шпеер сам подсказал Гитлеру мысль
назначить меня своим преемником. Гитлер глубоко задумался, как делал всегда,
когда решал что-то особенно важное. На основании этого рассказа Шпеера я счи¬
таю, что Гитлер пришел к мысли назначить меня на этот пост только по его ини¬
циативе. Однако 30 апреля Шпеер, присутствовавший при получении радиограммы,
мне об этом ничего не сказал.
Я предполагал, что Гитлер, назначив меня своим преемником, хотел открыть
путь к прекращению войны, воспользовавшись для этого не политиком, а солдатом.
Но мое предположение оказалось неправильным. Зимой 1945—1946 гг. [на про¬
цессе] в Нюрнберге стало известно завещание Гитлера, в нем он, напротив, требо¬
вал продолжения войны любой ценой.
Прочтя радиограмму, я не колебался ни минуты: да, я должен принять этот
пост! В последние дни я боялся, что отсутствие ответственной центральной ко¬
мандной инстанции приведет к хаосу, который без смысла и цели ввергнет в пу¬
чину гибели еще сотни тысяч людей. Теперь я поверил, что смогу овладеть поло¬
жением посредством быстрых действий и распоряжений, обязательных для всех.
Мне было ясно: мне предстоят мрачнейшие часы безоговорочной военной
капитуляции. Знал я и то, что имя мое на все времена останется связанным с нею,
а поэтому людская ненависть, извратив факты, попытается запятнать мою честь.
Но все это не играло для меня никакой роли, так как я сознавал свой долг.
Моя правительственная программа была проста: спасти столько человеческих
жизней, сколько можно. Цель была той же, что и в последние месяцы войны. Все
меры следовало принимать именно под этим углом зрения. Откажись я, не было
бы никакого единого руководства для осуществления этой задачи, во многих
местах могли произойти самостоятельные капитуляции или же, наоборот, дело до¬
шло бы до провозглашения лозунга: ’’Держаться до последнего!”. Разложение
военной дисциплины, оставление позиций и дезертирство, братоубийственная
война и хаос — вот что явилось бы результатом моего отказа. В этом беспорядке
наступающий враг продолжал бы и дальше наносить удары, вторгаясь все глубже.
Никакой обязательной для всех капитуляции, которая вынудила бы противника
прекратить боевые действия, в такой обстановке осуществить было бы нельзя.
Возникший в стране хаос тогда оказал бы влияние на все еще оккупированные
Германией зарубежные страны, прежде всего на Нидерланды, Данию и Норвегию.
Восстания в этих государствах и подавление их находившимися там немецкими
войсками привели бы и здесь к боям и кровопролитию, что еще больше обреме¬
нило бы наши отношения с их народами в будущем. Из этого следовал однознач¬
ный вывод: я должен действовать немедленно и энергично.
Прежде всего мне надо было обрести ясность насчет намерений Гиммлера.
4 День неудавшегося покушения на Гитлера. - Прим» перев»
204
Его поведение во второй половине того дня, когда пришла радиограмма с моим
назначением, говорило о том, что он рассчитывает на пост главы государства.
Для меня это означало новую опасность: он располагал повсюду рычагами власти.
У меня же не было никаких. Как примирится он с новым своим положением?
О сотрудничестве с ним теперь, когда я отвечал за назначение государственных
деятелей, не могло быть и речи. Я не собирался каким-либо образом скомпроме¬
тировать себя политически.
Хотя в то время я очень мало знал о том, в чем повинен был Гиммлер, мне
уже было ясно, что он для меня не соратник. Я был обязан поставить его о том в
известность и, чего бы мне это ни стоило, расстаться с ним. А поэтому я 30 апре¬
ля вечером, вскоре после получения радиограммы, поручил моему адъютанту по¬
просить Гиммлера, которого я только что оставил в Любеке, немедленно приехать
ко мне в Плен. Он по телефону ответил моему адъютанту отказом. Тогда я сам по¬
говорил с ним, сказав, что его прибытие необходимо. В конце концов он согла¬
сился.
Около 12 часов ночи Гиммлер явился ко мне с шестью вооруженными офи¬
церами СС. Мой адъютант Людде-Нойрат взял на себя заботу о сопровождающих
его лицах. Я предложил Гиммлеру стул в моей комнате, а сам сел за письменный
стол, на котором среди бумаг незаметно положил снятый с предохранителя писто¬
лет. Ничего подобного я за всю мою жизнь еще никогда не делал. Но я знал, во что
может вылиться эта встреча.
Я протянул Гиммлеру радиограмму с моим назначением:
— Прошу вас прочесть!
Я внимательно наблюдал за его лицом, пока он читал: оно выражало огромное
удивление, даже замешательство, казалось, надежды его рухнули. Он сильно по¬
бледнел, потом встал, поклонился и сказал:
— Позвольте мне быть в вашем государстве вторым человеком.
Я разъяснил ему, что об этом даже нечего и говорить. Для него у меня долж¬
ности нет.
С тем он и ушел от меня около часа ночи. Конфликт окончился без применения
силы. У меня полегчало на душе. Правда, я не был уверен, не предпримет ли Гимм¬
лер в ближайшие дни что-либо против моих правительственных мер. Но все же
стычка с применением насилия, со всеми ее последствиями для внутреннего поряд¬
ка и спасения людей, пока была предотвращена.
Теперь я получил свободу рук для дальнейших действий. Еще в ту же ночь ге¬
нерал-фельдмаршалу Кейтелю и генерал-полковнику Йодлю было приказано
явиться ко мне в Плен. Для своих последующих решений я хотел как можно ско¬
рее получить личное представление о военной обстановке.
1 мая утром пришла вторая радиограмма из Берлина, из Имперской канцеля¬
рий, отправленная оттуда в 7.40 утра. Вот ее текст:
’’Гросс-адмиралу Дёницу. Секретный документ.
Завещание вступило в силу. Я как можно скорее прибуду к Вам. До тех пор,
по моему мнению, от публикации воздержаться. Борман”.
Из этой радиограммы я понял, что Гитлер мертв. О том, что его не было в жи¬
вых уже тогда, когда мне 30 апреля в 18.15 была послана первая радиограмма о
моем назначении, я узнал позже. Почему его смерть скрыли от меня, не знаю.
Вопреки указанию Бормана во второй радиограмме ”от публикации воздержать¬
ся”, я счел необходимым как можно быстрее известить обо всем немецкий народ
и германский вермахт: я опасался, что смерть Гитлера и мое назначение его преем¬
ником могут стать известны из другого источника и, возможно, даже в искажен¬
ной форме. Следствием явилось бы смятение в народе и разложение войск. По¬
следнее — страшнее всего, потому что смерть главы государства позволяла им
считать себя свободными от присяги. Народ и вермахт одновременно с извещени¬
ем о смерти Гитлера должны были быть проинформированы о моих намерениях.
205
Из этих соображений возник текст моего сообщения немецкому народу от 1 мая
1945 г., переданного по северогерманскому радио.
Из фразы ’’завещание вступило в силу” я констатировал только то, что Гитле¬
ра в живых больше нет. О его самоубийстве я ничего не знал. По всему тому,
что мне было известно о его личности, я считал самоубийство не только невозмож¬
ным, но и полагал, что он в борьбе за Берлин искал и нашел свою смерть. Почет¬
ный тон извещения о его смерти казался мне правильным. Сразу же после смерти
развенчивать его я считал (как это явно ощущалось и среди части моего окруже¬
ния) пошлым.
Именно эта тенденция побудила меня сформулировать извещение о смерти
скорее в позитивном для Гитлера духе. История и без того вынесла бы ему свой
осуждающий приговор. Мое знание бесчеловечных сторон национал-социалист¬
ского государства было тогда весьма ограниченным. К моему потрясению, я
узнал об этом только после войны. Тогда же я полагал, что хотя бы из чувства
приличия должен сформулировать извещение так, как я и сделал. Думаю, что и
сегодня поступил бы так же, если бы попал в такое же положение при той же огра¬
ниченности моего знания всех сторон тогдашней системы.
Впрочем, форма извещения о смерти Гитлера тогда, перед лицом неотложного
решения многих задач, не очень занимала меня. Все это касалось прошлого. А мне
надо было прежде всего сказать немецкому народу, что я хочу в будущем.
Поэтому 1 мая 1945 г. я в своем обращении по радио заявил:
’’Фюрер определил меня своим преемником. Сознавая свою ответственность,
я принимаю на себя руководство немецким народом в этот тяжкий для его судь¬
бы час. Моя первая задача — спасти немецких людей от уничтожения продвигаю¬
щимся вперед большевистским врагом. Только с этой целью продолжается воен¬
ная борьба. До тех пор, пока достижению этой цели будут препятствовать британ¬
цы и американцы, мы будем и дальше обороняться и сражаться и против них то¬
же. В таком случае англо-американцы продолжали бы войну уже не ради своих
народов, а только ради распространения большевизма в Европе”.
1 мая 1945 г. я объявил в своем приказе по войскам вермахта:
’’Фюрер определил меня своим преемником в качестве главы государства и
верховного главнокомандующего вооруженными силами. Я принимаю на себя
верховное командование над всеми составными частями германского вермахта,
преисполненный воли продолжать борьбу против большевизма во имя спасения от
порабощения или уничтожения сражающихся войск и тысяч людей из восточных
территорий Германии. Против британцев и американцев я должен продолжать
борьбу до тех пор, пока они будут мешать мне осуществлять борьбу против
большевизма”.
Особенно важным мне казалось иметь для выполнения ожидаемых внешнепо¬
литических задач опытного советника, человека, который не был бы скомпроме¬
тирован германской внешней политикой последних лет. Я желал, чтобы пост ми¬
нистра иностранных дел и первого министра в подлежащем формированию мною
кабинете занял бывший имперский министр иностранных дел барон фон Нейрат,
которого я к тому же знал лично с 1915 г. Мой адъютант Людде-Нойрат получил
задание установить, где находится барон фон Нейрат. Он связался по телефону
с фон Риббентропом, находившимся поблизости от Плена. В результате этого раз¬
говора Риббентроп лично явился ко мне с уверениями, что он сам и есть наиболее
пригодный министр иностранных дел, с которым англичане всегда охотно имели
дело и вели переговоры. Кандидатуру Риббентропа я отклонил. Разыскать баро¬
на фон Нейрата не удалось. Как я узнал позже, он в это время находился в Фо¬
рарльберге. Итак, приходилось искать другую кандидатуру.
Незадолго до моего назначения меня посетил в моей штаб-квартире в Плене им¬
перский министр финансов граф Шверин-Крозиг. Раньш^ мы, за исключением на¬
шего давнего знакомства, никогда друг с другом дела не имели. Во время его ви¬
206
зита мы обсудили общее положение. Его четкая, спокойная оценка ситуации про¬
извела на меня впечатление. Я убедился в том, что его внешнеполитическая кон¬
цепция принадлежности Германии к Западу совпадает с моей. Поэтому я пригла¬
сил его 1 мая к себе и попросил быть моим советником и председателем подле¬
жащего формированию кабинета, если это потребуется для решения стоявших
задач. Я предупредил его: лавров на этом поприще ожидать не приходится, но
долг требует и от него, и от меня в интересах немецкого народа взять на себя
эту неблагодарную задачу. Он попросил время подумать, а 2 мая пришел и ска¬
зал, что согласен. На его решение в известной мере повлиял характер моего разры¬
ва с Гиммлером.
Позже выяснилось, что лучшего выбора я сделать не мог. Советы этого умного,
обладающего твердым характером и основательно подходящего к любой пробле¬
ме человека в последующие недели очень помогли мне. Во всех принципиальных
вопросах у нас царило полное единодушие. Хотя по должности своей граф руко¬
водил только гражданским сектором и занимался лишь его делами, он участвовал
во всех совещаниях по военным вопросам. И тут его мнения о необходимых
военных мерах постоянно совпадали с моими взглядами.
Согласно моему приказу, в ночь с 30 апреля на 1 мая начальник штаба ОКБ ге¬
нерал-фельдмаршал Кейтель и начальник штаба оперативного руководства гене¬
рал-полковник Йодль находились при мне. Я считал, что ОКВ в результате изоли¬
рованной штабной жизни в окружении Гитлера не было достаточно близко к фрон¬
товым делам, чтобы теперь принимать диктуемые целесообразностью решения.
Однако я высоко ценил деловой и умный подход, а также достойное солдатское
поведение генерал-полковника Йодля.
В последние апрельские дни перед моим назначением меня посетили генерал-
фельдмаршал фон Бок и Манштейн. Мы совместно обсудили военную обстановку.
Манштейн особенно подчеркивал необходимость постепенно отводить армии с
Восточного фронта, чтобы приблизить их к американской и английской линии
фронта. Это вполне отвечало моим намерениям. Поэтому я распорядился 1 мая
установить связь с Манштейном. Я хотел просить его принять на себя вместо
Кейтеля руководство ОКВ. Но связаться с Манштейном не удалось. Таким обра¬
зом, Кейтель и Йодль остались у командования вооруженными силами. После их
прибытия в резиденцию правительства начиная с 1 мая оба они ежедневно докла¬
дывали мне об общем положении на фронтах.
Далее я хочу кратко воспроизвести то, каким мне представлялось положение
в те дни, и то, что я в первые дни своего плена по свежим воспоминаниям продик¬
товал своему адъютанту.
”1. В результате авиационных бомбежек в последние месяцы всякое военное
производство упало до минимального уровня. Каких-либо резервов боеприпасов,
оружия или техники в наличии не имелось. Транспорт был совершенно нарушен,
так что восполнение или перевозка какого-либо сырья, готовой продукции или
средств связи были невозможны.
2. Группа армий в Италии капитулировала. Войска на западе под командова¬
нием фельдмаршала Кессельринга находились в состоянии разложения.
3. На востоке войска юго-восточной группировки организованно отступали в
Югославию. Группа армий Рендулича удерживала свои позиции в Остмарке5;
равным образом группа армий генерал-полковника Шёрнера держала фронт про¬
тив русских. Однако обе выше названные группы армий были обеспечены бое¬
припасами и горючим лишь на короткое время.
4. Деблокирование Берлина не удалось. Армия Буссе стремилась избежать ок¬
ружения отступлением на запад. Наступление армии Венка к прорыву не привело,
она тоже отрывалась от противника в направлении на запад.
5 Австрия. - Прим, перев.
207
5. Группа армий на северном участке Восточного фронта находилась в состоя¬
нии разложения, отступая в направлении Мекленбурга.
6. Войска в Восточной и Западной Пруссии были подавлены русским превосход¬
ством в силе. Фронт в Курляндии продолжал держаться. Однако его снабжение
боеприпасами и горючим более не могло осуществляться из-за их нехватки. Поэто¬
му падение этих фронтов точно так же, как и в случае Шёрнера и Рендулича, явля¬
лось лишь вопросом времени. Военно-морской флот пытался вывезти из Курлян¬
дии, Восточной и Западной Пруссии как можно больше войск морским путем.
7. В северо-западной Германии оставались еще не занятыми противником Вос¬
точная Фрисландия и Шлезвиг-Гольштейн. Достаточных сил, чтобы сдерживать
ожидаемое наступление противника, здесь не было. Войска из Восточной Фрислан¬
дии и действовавшие западнее Эльбы дивизии были поэтому направлены в Шлез¬
виг-Гольштейн с целью как минимум попытаться удержать этот район. То, что
сил для этого не хватало, показало 2 мая, когда противник в ходе своего наступ¬
ления форсировал Эльбу у Лауэнбурга и немедленно развил его до побережья
Балтийского моря, пробившись к Любеку и Шверину.
8. Голландия, Дания и Норвегия, так же, как Бискайский залив, острова в Ла-
Манше и Дюнкерк, все еще находились в руках немцев. В.этих районах пока было
спокойно.
9. Спасаясь от продвигающегося вперед русского фронта, миллионы беженцев
из числа гражданского населения, особенно в Северной Германии, устремились
на запад.
10. Военно-морской флот в результате авиационных налетов на гавани и непре¬
рывного использования для транспортировки в норвежском и восточном районах
понес серьезные потери в надводных кораблях (торпедные и быстроходные кате¬
ра, тральщики, суда боевого охранения). Из крупных кораблей в составе дейст¬
вующих остались только ’’Принц Ойген” и ’’Нюрнберг”. Подводный флот находил¬
ся накануне очередной активизации подводной войны, поскольку начиная с мая
во все возрастающем количестве должны были вступать в бой с врагом подлодки
новой конструкции.
11. Люфтваффе6 имели лишь ограниченные силы. Применение военной авиации
крайне ограничивалось нехваткой горючего и продолжало сокращаться.
Общая картина положения на фронтах ясно показывала, что с военной точки
зрения война была проиграна. Поскольку отсутствовала какая-либо политическая
возможность изменить общее положение Германии, я как глава государства
пришел к выводу: как можно скорее закончить войну, дабы избежать дальнейше¬
го кровопролития”.
Этот анализ обстановки послужил основой для моих последующих действий.
Для окончания войны союзники, как уже сказано, выдвинули требование безого¬
ворочной общей капитуляции. Однако выполнение именно этого требования, ко¬
торое на Восточном фронте отправило бы германские армии в русский плен,
я должен был отсрочить насколько возможно.
Поэтому я хотел отвести наш Восточный фронт вплоть до известной нам демар¬
кационной линии англо-американских оккупационных зон и спасти как можно
больше беженцев. С этой целью следовало максимально использовать все сколько-
нибудь пригодные суда любого тоннажа для транспортировки войск и морским
путем. При отводе германских армий с востока особую тревогу вызывала у меня
группа армий ’’Центр” под командованием генерал-фельдмаршала Шёрнера. Если
для Курляндской армии и для войск в Восточной и Западной Пруссии делалось
все возможное, чтобы вывезти их морем, а армия ’’Висла”, 9-я и 12-я стояли от¬
носительно близко от спасительной демаркационной линии, то группа армий
6Luftwaffe (нем.) - военно-воздушные силы (буквально - воздушное оружие). - Прим,
перев.
208
’’Центр”, поскольку ее позиции находились на восточном краю Чехословакии,
была отрезана от линии фронта американских войск на всю глубину этой страны.
Мы не знали, займут ли американцы Чехословакию или же она отведена русским.
Поэтому при обсуждении обстановки 1 мая я счел правильным немедленно от¬
вести армию Шёрнера с пока еще твердо удерживаемой позиции в Судетах в
направлении американской демаркационной линии, чтобы ее солдаты могли сдать¬
ся в плен американцам. Однако генералы ОКВ Кейтель и Йодль отсоветовали
мне отдавать приказ о немедленном отходе под тем предлогом, что группа армий
’’Центр” при сдаче своих позиций развалится и будет смята русскими. Вопре¬
ки моему намерению, я в этом единственном случае уступил им и отложил испол¬
нение приказа до тех пор, пока не выслушаю соображения Шёрнера или его началь¬
ника штаба генерал-лейтенанта Натцмера. Они были вызваны ко мне в Плен.
Другой комплекс вопросов, также вызывавший у меня особые опасения, ка¬
сался все еще находившихся в наших руках оккупированных территорий, т.е.
главным образом (за исключением Чехословакии) Норвегии, Дании и Нидерлан¬
дов. В полном согласии с графом Шверин-Крозигом я отверг все предложения
удерживать их и дальше в качестве ’’залога”, чтобы добиться впоследствии усту¬
пок от противника. Ведь ввиду нашего полного поражения у противника не было
бы никаких побудительных мотивов идти на какие-либо уступки, тем более если
условием таковых он получал захваченные нами чужие территории. Он вскоре
получил бы их и так. Я же думал о том, чтобы не допустить в этих странах воен¬
ных действий и кровопролития в результате восстаний их населения и сопротивле¬
ния германских оккупационных войск, что означало поиск наилучшего пути для
сдачи их при капитуляций в покое и порядке. Поэтому 1 мая я вызвал к себе,
кроме генерал-фельдмаршала Шёрнера, имперского протектора Франка (по вопро¬
су о Чехословакии), имперского комиссара Зейсс-Инкварта (о Нидерландах),
имперского уполномоченного д-ра Беста и генерал-полковника Линдемана (о Да¬
нии) и имперского комиссара Тербовена и генерала артиллерии Бёме (о Норве¬
гии).
Для того чтобы отодвинуть линию фронта и эвакуировать население на Запад,
нам требовалось еще восемь—десять дней. Следовательно, именно на такой срок
я должен был попытаться оттянуть капитуляцию перед Советским Союзом.
Хотя я собирался продолжать войну на Западе лишь настолько, насколько
вынуждала меня реализация моих намерений на Востоке (о чем я 1 мая откровен¬
но заявил по радио), было ясно: к действительному прекращению войны против
англичан и американцев я могу прийти только путем настоящей капитуляции
перед ними. Но удастся ли вообще частичная капитуляция при требовании ’’общей
капитуляции”, я не знал. Однако попытаться следовало, причем не открыто,
ибо иначе, можно сказать с уверенностью, этого не допустили бы русские.
Первая частичная капитуляция имела целью прежде всего закончить войну в
Северной Германии против англичан, которыми командовал фельдмаршал Монт¬
гомери. Вместе с ОКВ я выработал процедуру извещения англичан о посылке к
ним наших парламентеров. Руководителем делегации я наметил генерал-адмирала
Фридебурга, находившегося в Киле. Он казался мне подходящим для этой труд¬
ной задачи, так как был умен и умел вести переговоры. 1 мая Фридебурга извес¬
тили, что он должен быть готов к встрече со мной для получения особого задания.
Итак, я хотел прийти на западе к подписанию договоров о капитуляции и поэто¬
му следует сказать о том, насколько повиновался мне тогда германский вермахт,
который должен был Эти договоры выполнять и соблюдать.
Солдаты германского вермахта присягали лично Адольфу Гитлеру как фюре¬
ру Германского рейха и Верховному главнокомандующему германских воору¬
женных сил. Смерть Гитлера формально освобождала их от этой присяги, но это
отнюдь не означало, что солдаты освобождались от своего долга и могли, скажем,
идти по домам. Вермахт и дальше был обязан выполнять свою задачу. Только так
209
можно было избежать хаоса и еще больших потерь. При отчаянном положении
разъединенных и разорванных фронтов идея принесения вермахтом присяги на
верность мне как новому главе государства в те дни по практическим причинам
исключалась. С другой же стороны, необходимо было обязать солдат повиновать¬
ся мне, причем не только ради выполнения дальнейших требуемых мною мер
(например, приказов об отходе армий), но и для обеспечения предпосылки к под¬
писанию тех договоров о капитуляции, которые я заключил бы от имени герман¬
ского вермахта и которые они должны были выполнять. Поэтому наше бедствен¬
ное положение требовало решить вопрос о присяге таким образом, чтобы исклю¬
чить правовую основу добровольно и лично принесенной присяги. Мой приказ
по войскам от 1 мая гласил:
”Я требую дисциплины и повиновения. Только безусловным выполнением
моих приказов можно избежать хаоса и гибели. Трус и изменник тот, кто именно
сейчас уклоняется от исполнения своего долга и тем самым несет смерть немец¬
ким женщинам и детям. Данная фюреру присяга на верность и впредь сохраня¬
ет свою силу для каждого из нас в отдельности, поскольку я являюсь преемни¬
ком фюрера, назначенным им самим”.
Ближайшие дни показали, что верхушка германского вермахта подчинилась
моим приказам.
Прежде чем перейти к рассказу о том, как началась частичная капитуляция на
английском участке [Западного] фронта, хочу вспомнить эпизод, произошедший
1 мая. В 15 час. 18 мин. я получил в Плене еще одну, третью и последнюю, радио¬
грамму из Имперской канцелярии, отправленную оттуда в 14 час. 46 мин.
’Тросс-адмиралу Дёницу. Секретные дела командования. Передавать только
с офицером.
Фюрер скончался вчера в 15.30. Завещание от 29.IV передает Вам пост рейхс¬
президента, имперскому министру Геббельсу — пост рейхсканцлера, рейхсляйте-
ру Борману - министра по делам партии, имперскому министру Зейсс-Инкварту -
министра иностранных дел. По распоряжению фюрера завещание передается
Вам, фельдмаршалу Шёрнеру и, в целях обеспечения его сохранности для общест¬
венности, вывезено из Берлина. Рейхсляйтер Борман попытается еще сегодня
же прибыть к Вам, чтобы разъяснить Вам положение. Форма предания гласности
для общества данных сведений оставляется на Ваше у смотрение. Получение
подтвердить. Геббельс, Борман”.
Итак, в основе содержания радиограммы лежало завещание Гитлера. Но давав¬
шиеся в нем указания полностью противоречили выбору тех советников и членов
правительства, которые были мне нужны для прекращения войны, и совершенно
противоречили мерам, уже принятым мной. Радиограмма с кратким изложением
завещания формально противоречила и первой радиограмме, дававшей мне право
’’немедленно распорядиться обо всех мерах, вытекающих из нынешнего положе¬
ния”. Поэтому я не горел желанием следовать этой новой радиограмме. Я хотел
и должен был идти своим собственным путем. Поэтому мой адъютант получил
приказ надежно спрятать этот документ и не допускать его огласки. Только так
я мог избежать волнений и смятения внутри страны, которые возникли бы, стань
эта радиограмма общеизвестной. Порядок — вот что было самое главное в дан¬
ном положении.
Поэтому я приказал арестовать Геббельса и Бормана, если они действительно
появятся в Плене. В том тяжелом положении, в каком мы находились, я не мог
позволить себя компрометировать и создавать себе лишние трудности.
Так закончился этот богатый решениями день 1 мая: по морю шли на запад
транспорты с ранеными, беженцами и войсками, колонны беженцев шагали все
дальше по стране, а армии в Померании, Бранденбурге и Силезии отрывались от
противника в направлении англо-американских демаркационных линий. 2 мая
было суждено ускорить развитие всех этих событий.
210
Англичане уже с 26 апреля имели на восточном берегу Эльбы у Лауэнбурга
плацдарм, с которого они 2 мая предприняли наступление и смяли слабую немец¬
кую оборону. Уже совсем скоро английские войска прорвались у Любека. Одно¬
временно американцы несколько южнее форсировали Эльбу и, не встречая сопро¬
тивления, достигли Висмара. Теперь американцы от Балтийского моря до самой
Эльбы перекрывали дороги из Мекленбурга в Шлезвиг-Гольштейн, забитые колон¬
нами беженцев и отступающими войсками армии ’’Висла”. Ворота на запад закры¬
лись, и от согласия англичан теперь зависело, смогут ли солдаты и беженцы спас¬
тись от нажимающих русских бегством в находившийся в английской зоне Шлез¬
виг-Гольштейн. Ведь мы продолжали сражаться против Запада на Эльбе только
для того, чтобы держать открытым путь в Шлезвиг-Гольштейн потоку беженцев.
Теперь же, когда Шлезвиг-Гольштейн был в руках англичан, это потеряло смысл.
Поэтому я приказал немедленно начать переговоры согласно подготовленному
плану. Фридебург должен был сначала отправиться к Монтгомери, предложить
ему капитуляцию северогерманского района и, как только она будет принята,
ехать к Эйзенхауэру, чтобы объявить ему, что мы сдаемся всему Западу.
Я немедленно попросил его к себе, чтобы подробно проинформировать об об¬
становке и дать необходимые инструкции. Сопровождать его должны были контр-
адмирал Вагнер и генерал Кинцель. Вагнер был участником всех важных госу¬
дарственных решений с 1943 г., и прежде всего последних недель; поэтому он
мог оказать переговорам ценную помощь. Генералу Кинцелю поручалось быть
советником Фридебурга по всем военно-техническим вопросам сухопутных войск.
Военный комендант Гамбурга получил от ОКВ указание выслать 3 мая в во¬
семь часов утра к англичанам парламентера, который должен был согласовать с
ними передачу Гамбурга и одновременно известить их о прибытии делегации
Фридебурга.
Моя встреча с Фридебургом 2 мая задержалась. Весь день дороги в Шлезвиг-
Гольштейн обстреливались английскими истребителями и были непроходимы.
Узнав о прорыве англичан, я приказал немедленно перенести мой командный
пункт в Мюрвик, около Фленсбурга. Я должен был попытаться как можно
дольше сохранить свободу действий. В моем бараке в Плене я легко мог попасть
в плен к английским войскам. Местность вокруг моей плёнской штаб-квартиры
непрерывно подвергалась налетам авиации. Поэтому день прошел в напряженном
ожидании, когда кончатся воздушные налеты и мне удастся встретиться с Фриде¬
бургом, а также передислоцировать свой штаб в Мюрвик.
В это время ко мне прибыли генерал-фельдмаршал Риттер фон Грейм и гос¬
пожа Ганна Райч [летчица-ас]. Эта храбрая женщина доставила фон Грейма в
Плен на самолете; он прилетел, чтобы попрощаться со мной. Его ранило во время
последнего полета в Берлин, и он ходил на костылях. С большим участием я бе¬
седовал с этим замечательным человеком и офицером. Он с горечью говорил
мне, что идеализм и самоотверженность солдат, веривших, что они служат чистой
цели, будут низвергнуты в пропасть ожидаемой катастрофой. Сам он жить боль¬
ше не хотел. Мы расстались глубоко взволнованные.
К вечеру налеты истребителей-бомбардировщиков прекратились. Я назначил
Фридербургу встречу на 21 час на Лёвензауэровском виадуке через канал кайзе¬
ра Вильгельма вблизи Киля. Граф Шверин-Крозиг и я прибыли туда без помех.
Я попросил Фридебурга предложить Монтгомери чисто военную частичную капи¬
туляцию всего северогерманского участка. При этом я особо указал на проблему
беженцев и отхода войск на восточные границы английской оккупационной зоны.
В первую очередь я хотел добиться, чтобы капитуляция не нанесла ущерба движе¬
нию транспортов и отходу войск на суше и на море, а, наоборот, позволила бы про¬
должать их. Когда уже стемнело, Фридебург покинул нас, мы проводили его,
выразив пожелания удачно выполнить задачу.
Шверин-Крозиг, Людде-Нойрат и я поехали затем в Мюрвик. Налеты англо-аме¬
211
риканской авиации тем временем возобновились. Истребители-бомбардировщи¬
ки высвечивали с воздуха дорогу прожекторами и стреляли по транспортным
средствам. Нам не раз приходилось останавливаться. Около двух часов ночи мы
наконец приехали в Мюрвик. После короткого сна мне пришлось отвечать на
вопросы командующих войсками, которые в этом промежуточном состоянии
между войной и миром вполне справедливо недоумевали, что же им делать. На это
ушел остаток ночи.
Утром 3 мая меня очень беспокоил вопрос, сумел ли фридебург в эту изоби¬
ловавшую авиационными налетами ночь добраться до Гамбурга и до штаб-квар¬
тиры Монтгомери? Как было воспринято его поручение, не сочетавшееся с союз¬
ническим требованием общей капитуляции?
Когда в первой половине дня обычные налеты истребителей и бомбардиров¬
щиков не возобновились, у меня появилась надежда: это следствие того, что Фри¬
дебург прибыл к Монтгомери. Как я узнал позже, Монтгомери приказал отменить
вылеты уже готовых к старту самолетов, как только узнал о прибытии Фриде-
бурга и его поручении.
В течение дня меня посетили гражданские и военные руководители еще заня¬
тых нами территорий. Вместо Шёрнера от группы армий ’’Центр” приехал генерал
фон Натцмер. Он передал мне точку зрения Шёрнера: если его группа сдаст свои
хорошо укрепленные позиции в Судетах, она развалится. Итак, Шёрнер был того
же мнения, что и ОКВ. Я сообщил ему, почему считал необходимым отходить
как можно быстрее в направлении американской линии фронта. Следовало
немедленно принять все подготовительные меры для отвода этой группы армий.
Имперский протектор Богемии и Моравии Франк сообщил, что в чешских бур¬
жуазных кругах высказываются опасения насчет будущего страны в случае осво¬
бождения ее русскими. Он хотел, чтобы буржуазные политики сами обратились
к американцам и попросили их об оккупации. Я считал, что это бессмысленное
предложение, ибо союзники уже наверняка давно имели определенные планы в от¬
ношении Чехословакии. Тем не менее я дал согласие на соответствующую по¬
пытку. Франк вернулся в Чехословакию. Больше мы о нем ничего не слышали.
То, что Франк вернулся в страну, стоявшую, по его мнению, накануне революции,
и, несмотря на одиозность личности, старался найти наилучшее решение выхода
ее из войны, говорит в его пользу.
По-иному сложились условия в Нидерландах, Дании и Норвегии. Повсюду там
мы все еще держали бразды правления в своих руках. Тем больше я был озабо¬
чен, чтобы и в этих странах передача власти прошла без помех. В отношении Нидер¬
ландов я договорился с Зейсс-Инквартом, что тут следует предпринять попытку
частичной капитуляции. Ни в коем случае не должно произойти никаких разруше¬
ний или затоплений местности. Однако эта частичная передача Голландии оказа¬
лась излишней, ибо на следующий день она была включена в рамки нашей капиту¬
ляции перед английскими вооруженными силами.
Из Дании прибыли имперский уполномоченный д-р Бест и генерал-полковник
Линдеман. Последний ручался за свои войска: их боеспособность не уменьшилась.
Д-р Бест, напротив, предостерегал от продолжения войны на датской территории.
Я, в полном согласии с Шверин-Крозигом, дал генералу Линдеману и д-ру Бес¬
ту указание вплоть до предстоящей капитуляции избегать каких-либо трений с
датским населением. Вопрос о передаче Дании также разрешился на следующий
день в ходе ведшихся с Монтгомери переговоров о капитуляции.
Для обсуждения вопроса о Норвегии вместе с имперским комиссаром Тербо-
веном и генералом Бёме совершенно неожиданно прибыл Гиммлер в сопровож¬
дении своего группенфюрера СС Шелленберга — начальника зарубежной секретной
службы. Норвежские начальники доложили, что положение в Норвегии спокойное.
Во всяком случае, вскоре ожидается окончание германской оккупации. Поэтому
212
норвежское население не желает ненужного кровопролития, которое непременно
произошло бы, если бы вспыхнуло восстание.
Шелленберг же считал, что если шведам предложить капитуляцию Норвегии,
то германская оккупационная армия в Норвегии вместо интернирования могла
бы отправиться на шведскую территорию. Тем самым она избежала бы английско¬
го или американского плена. При этом выяснилось, что Гиммлер еще ранее через
Шелленберга установил с этой целью контакты со Швецией. Та даже уже довери¬
тельно дала согласие на предложение об интернировании на ее территории германс¬
ких войск.
Побудительные причины и успехи этих уже минувших неофициальных перего¬
воров я воспринял с недоверием. Не говоря уже о сомнительности мотиров, я
считал эти шаги ошибочными и в деловом отношении: как могли мы в нашем со¬
вершенно бессильном положении ’’перехитрить” союзников, предложив капиту¬
ляцию в Норвегии не им, а нейтральной стране! Выгода интернирования герман¬
ских войск на шведской территории тоже казалась мне в высшей степени нена¬
дежной. Кто гарантировал бы, что эти войска однажды под русским давлением
не будут выданы Швецией России!
Поэтому по совету Шверин-Крозига я пошел только на то, чтобы Шелленберг
установил, связано ли шведское согласие с молчаливым или же категорическим
одобрением англичан. Я никоим образом не давал Шелленбергу права заключать
какие-либо договорные соглашения. Больше я о нем ничего не слышал. Эта туман¬
ная попытка сделки, к моему удовлетворению, тоже кончилась в ближайшие дни
в результате предложенной мной капитуляции.
3 мая я получил из южной части Германии сообщение генерал-фельдмаршал а
Кессельринга, что он от своего имени 2 мая объявил о капитуляции группы ар¬
мий ’’Юго-Запад” (генерал Фитингоф). В радиограмме он испрашивал моего
согласия, чтобы на своем юго-восточном участке самостоятельно вести переговоры
с западным противником. Я сразу же дал на это разрешение, ибо мы могли ’’ра¬
доваться” каждому району, куда входили американцы, а не русские.
Незадолго до полуночи со встречи с Монтгомери вернулся Фридебург и сразу
доложил мне самое важное: Монтгомери предложение о частичной капитуляции
не отклонил, т.е. он не требовал общей капитуляции на всех фронтах, включая
и русский.
Утром 4 мая Фридебург в присутствии графа Шверин-Крозига сделал подробный
доклад. Монтгомери нашу капитуляцию в северогерманском районе принимает,
но дополнительно требует, чтобы в нее были включены также Дания и Голландия.
Он, Фридебург, на это ответил: на такое расширение он не уполномочен, но уве¬
рен, что оно отвечает моим намерениям. Далее Монтгомери потребовал одно¬
временной передачи всех находящихся в районе капитуляции военных кораблей и
торговых судов. Этот пункт затрагивал существенный для нас вопрос транспортов
для беженцев. Поэтому Фридебург изложил проблему беженцев, обрисовал нашу
заботу о том, чтобы спасти как можно больше людей перемещением с востока на
запад. Монтгомери ответил, что он не будет препятствовать переходу отдельных
солдат, но ни в коем случае не позволит принимать войсковые части целиком.
В отношении гражданских беженцев он отказался дать какие-либо гарантии, ибо
речь шла о чисто военной капитуляции, к которой гражданские вопросы не от¬
носятся. Но добавил при этом, что он — вовсе не чудовище. Следующее требование
Монтгомери сводилось к тому, что нам не разрешалось производить в районе
капитуляции никаких разрушений, никакого уничтожения или потопления военных
судов, Фридебург попросил разрешения доложить все это мне, ибо ответ на постав¬
ленные вопросы выходит за рамки его полномочий.
Таково было содержание доклада Фридебурга. Что касается распространения
капитуляции на Нидерланды и Данию, то я и Шверин-Крозиг были рады, что таким
213
образом мы ’’избавляемся” от этих стран и тем самым открывалась возможность
их как можно более скорой и упорядоченной передачи.
Требование выдать суда меня очень обеспокоило. Оно могло положить конец
морской транспортировке беженцев и войск на запад. Однако из доклада Фриде-
бурга о позиции Монтгомери в этом вопросе у меня сложилось впечатление, что,
по крайней мере, можно будет направить на запад уже находившиеся в море суда.
Однако погруженные на них раненые, войска и беженцы должны были высадиться
на сушу в датских портах. Прибытие примерно 300 тыс. немцев естественно
должно было оказаться не только политическим, но и организационным бременем
для Дании с ее ограниченными возможностями. Ведь нужно было разместить,
обеспечить продовольствием и оказать медицинскую помощь такому большому
числу иностранцев, да к тому же принадлежащих к враждебному народу. При об¬
суждении доклада Фридебурга высказывались различные мнения относительно
требований англичан не предпринимать никаких разрушений и не производить
также потопления военных кораблей. Шверин-Крозиг и я настаивали на приня¬
тии этих условий. Если бы мы отвергли их, то под угрозу был бы поставлен наш
престиж надежных партнеров по переговорам и наше принципиальное намерение
осуществить частичную капитуляцию в интересах спасения людей. ОКВ, напротив,
считало, что сдача оружия, прежде всего военных кораблей как его наиболее вид¬
ного носителя, нарушает солдатскую честь.
Мне было ясно, что, отдав военные корабли, я нарушил бы традицию не только
нашегокригсмарине, нои вообще военно-морского флота всех наций. Так, герман¬
ский военно-морской флот после первой мировой войны, пытаясь потопить свои
корабли в Скапа Флоу, действовал в соответствии с этим законом национальной
воинской чести. Но сейчас я не сомневался, что должен отдать такой приказ.
Обстановка была более сложной, и речь шла о том, чтобы в самом конце войны
уберечь от смерти бесчисленное множество мирного населения, прежде всего
женщин и детей. Откажись я ради чести флага от сдачи кораблей, частичной капи¬
туляции не бывать. Тогда возобновились бы воздушные налеты на северогерман¬
ский район, что привело бы к новым человеческим жертвам. А этого никак нель¬
зя было допустить! Итак, я твердо решил выполнить требование сдачи военных
кораблей. Представленный мне проект, согласно которому до вступления капи¬
туляции в силу мы еще имели время для уничтожения оружия и потопления воен¬
ных кораблей, я отклонил со словами: это не отвечает смыслу нашей капитуля¬
ции. Да и Монтгомери, как только он 3 мая узнал о нашем намерении сдачи, пре¬
кратил налеты авиации, хотя капитуляция еще не произошла.
На утреннем совещании 4 мая я отдал ОКВ приказ, запрещавший уничтожать
оружие. Одновременно начальник штаба командования военно-морскими силами
получил вместе с обоснованием причин указание не вводить в действие закодиро¬
ванный словом ’’Радуга” приказ о потоплении судов. Поэтому потоплений не про¬
изошло, за исключением части подводного флота, которая была потоплена или
взорвана своими командирами еще до вступления в силу перемирия в ночь с 4
на 5 мая. Уничтожение этих подлодок было подготовлено раньше, чем пришел
контрприказ. Командиры считали, что я одобрю их действия, и они были уверены,
что ’’приказ о сдаче кораблей” я отдал под давлением.
В полдень 4 мая я дал Фридебургу полномочия принять условия капитуляции.
Он вылетел в английскую штаб-квартиру с указанием после завершения частичной
капитуляции с Монтгомери лететь к генералу Эйзенхауэру в Реймс, чтобы амери¬
канским вооруженным силам предложить аналогичную частичную капитуляцию.
После доклада Фридебурга 4 мая мы почувствовали, словно с нас свалился ог¬
ромный груз. Первый шаг частичной капитуляции на западе удался без условия
сдачи немецких солдат и населения в руки русских.
Из этого начавшегося прекращения борьбы против Запада я сделал соответст¬
214
вующие выводы. Среди прочих условий капитуляции Монтгомери требовал прек¬
ратить все боевые действия на море, а также передать все германские военные ко¬
рабли, находившиеся в районе капитуляции, т.е. в морских территориальных во¬
дах Голландии, северо-западной [части] Германии, Шлезвиг-Гольштейна и Дании.
Выполняя эти условия, я в полдень приказал прекратить подводную • войну
на всех морях и океанах. Это полностью отвечало моим намерениям как можно
скорее прекратить во всех районах войну против Запада, после того как англича¬
не согласились на мое предложение о капитуляции.
Вечером 4 мая я получил от Фридебурга из штаб-квартиры Монтгомери сооб¬
щение, что он уже подписал акт о частичной капитуляции, а теперь летит к Эйзен¬
хауэру. Капитуляция вступит в силу 5 мая в восемь часов утра. В этот час все бое¬
вые действия в установленном районе были прекращены.
6 мая ко мне в Мюрвик явился генерал Кинцель. Он входил в состав делега¬
ции Фридебурга. Фридебург прислал его из Реймса ко мне, чтобы сообщить о ходе
переговоров с Эйзенхауэром о капитуляции. Кинцель доложил: позиция Эйзен¬
хауэра, в противоположность Монтгомери, совершенно отрицательная. Эйзенхауэр
на частичную капитуляцию совершенно не соглашался. Он настаивал на немедлен¬
ной безоговорочной капитуляции на всех фронтах, в том числе и на русском.
Войска должны были оставаться там, где они стояли, сложить оружие в неповреж¬
денном виде, а сами сдаться в плен на месте. Верховное главнокомандование
вермахта несло ответственность за то, чтобы произошла такая безоговорочная
сдача, которая распространялась и на все корабли военного и торгового флота.
Как раз такой позиции Эйзенхауэра мы и боялись. В моем обращении по радио
к немецкому народу я, как уже указывалось, заявил 1 мая 1945 г., что желаю
сражаться против Запада только в том случае, если он будет мешать мне сражать¬
ся против Востока. [...] Это мое заявление штаб-квартира Эйзенхауэра по амери¬
канскому радио прокомментировала так: ’’Это - известный нацистский трюк с
целью вбить клин между Эйзенхауэром и его русскими союзниками”.
Последние оперативные меры Эйзенхауэра говорили о том, что он не учитывал
того всемирно-политического поворота, который происходил тогда. После пере¬
хода американских войск через Рейн у Ремагена стратегическая цель победы над
Германией была для США достигнута. Место военной цели должна была занять
политическая: до вторжения русских союзников успеть занять для англо-амери¬
канского Запада как можно больше германской территории. Следовательно,
для американского военного руководства политически правильным было бы как
можно скорее пробиться на восток, чтобы еще до русских взять Берлин. Эйзен¬
хауэр же действовал не так. Он все еще преследовал чисто военную цель уничто¬
жения и захвата Германии в сотрудничестве с Красной Армией, а потому остано¬
вился на Эльбе. Он позволил русским захватить как можно больше восточногер¬
манской территории. Он, вполне возможно, действовал согласно тем политичес¬
ким директивам, которые получал из Вашингтона. Но, как мне представляет¬
ся, у него отсутствовало сознание того, что именно в этот момент на многие годы
вперед определялась мировая ситуация. Американская позиция в конце войны
казалась мне тогда, как и сегодня, ошибочной.
Уже после Потсдамской конференции один американский полковник разъяс¬
нял графу Шверин-Крозигу, что ему было безразлично, займут ли русские всю
Германию или только ее часть. Такова, впрочем, была позиция американской об¬
щественности.
Если бы я согласился на предложенные Эйзенхауэром условия капитуляции,
которые сообщил мне утром 6 мая Кинцель, я тем самым немедленно отдал бы
германские армии на востоке русским. Но я не мог подписать такое требование
еще и потому, что его не выполнили бы войска на востоке. Началось бы дикое
бегство на запад.
Поскольку требование Эйзенхауэра по этим двум причинам было невыполни¬
215
мым, я мог только еще раз попытаться убедить его в том, что не могу отдать
немецких солдат и население Восточной Германии в руки русских. Только то вы¬
нужденное положение, в котором я находился, являлось причиной, заставлявшей
меня просить о частичной капитуляции.
После доклада Кинцеля я вызвал к себе генерал-полковника Йодля. Он дол¬
жен был лететь в Реймс для поддержки Фридебурга с моими новыми инструкция¬
ми. Граф Шверин-Крозиг и я были едины в отношении той директивы, которую
получил Йодль:
’’Попытайтесь еще раз объяснить причины, по которым мы стремимся к частич¬
ной капитуляции перед американскими вооруженными силами. Если вы потер¬
пите неудачу, как это произошло с Фридебургом, просите его о следующем мето¬
де общей капитуляции. В ней должны быть установлены два срока. В первый пе¬
риод прекращаются боевые действия, но германские войска еще имеют право на
передвижение. Во второй - оканчивается и это право на перемещение. Попытай¬
тесь добиться, чтобы промежуток между обоими сроками был как можно боль¬
шим и чтобы переход отдельных солдат в любом случае разрешался. Тогда спас¬
тись на западе удастся возможно большему числу немецких солдат и беженцев”.
В соответствии с этой директивой я дал Йодлю письменные полномочия под¬
писать общую капитуляцию на всех фронтах. Но он должен был воспользоваться
этим правом только тогда, когда его первая цель - добиться частичной капитуля¬
ции — окажется недостижимой.
Прежде чем подписать общую капитуляцию, он обязан был предварительно
поставить меня в известность о ее содержании и получить мое категорическое со¬
гласие по телеграфу. После этого Йодль 6 мая вылетел в Реймс к Эйзенхауэру.
В ночь с 5 на 6 мая около часа ночи я получил от Йодля из Реймса радиограмму
следующего содержания:
’’Генерал Эйзенхауэр настаивает на том, чтобы мы подписали капитуляцию се¬
годня. В противном случае союзники закроют свои линии фронтов даже для тех,
кто будет пытаться сдаваться поодиночке, и все переговоры будут прерваны.
Я не вижу никакого другого выхода: или хаос, или подписание. Прошу немедлен¬
ного подтверждения по радио, уполномочен ли я подписать капитуляцию. Тогда
военные действия прекратятся 9 мая в ноль часов по летнему немецкому времени.
Йодль”.
Позже мы узнали, что Эйзенхауэр снова и наотрез отверг как частичную капи¬
туляцию, так и предложенные временные ступени для общей капитуляции. Он зая¬
вил Йодлю, что его войска будут стрелять в каждого немецкого солдата даже в
том случае, если тот приблизится к американской линии фронта без оружия с
целью сдаться в плен. Только после того, как Йодль заявил (и его активно поддер¬
жал начальник штаба Эйзенхауэра генерал Беделл Смит), что при разрушенной
системе связи нам, как минимум, потребуется два дня для передачи войскам при¬
каза о капитуляции, Эйзенхауэр в конечном счете согласился дать это время.
Предварительным же условием являлось немедленное подписание немцами акта
о капитуляции.
Таким образом, я должен был незамедлительно решать, какой ответ дать Йод¬
лю. По тексту радиограммы, при подписании капитуляции 7 мая в нашем распо¬
ряжении для отступления войск вплоть до прекращения всякого передвижения
9 мая в ноль часов оставалось еще 48 часов. Я опасался, что этого времени для
спасения всех солдат и беженцев не хватит. С другой стороны, Йодль стремился
вообще выиграть какое-то время, которое дало бы возможность большему числу
немцев спастись на западе. Не прими я требований Эйзенхауэра, поскольку двух
дней для бегства с востока действительно было мало, я практически не получил
бы ничего. Следствием этого стало бы уничтожение беззащитных людей в еще
большем масштабе.
Поэтому около часа ночи я протелеграфировал Йодлю, что даю ему право на
216
этой базе заявить об общей капитуляции. Она была оформлена Йодлем в Реймсе
7 мая в 2 час. 41 мин. ночи.
8 мая подписание акта общей капитуляции, явно по желанию русских, было
повторено в штаб-квартире советского командующего маршала Жукова в приго¬
роде Берлина в Карлсхорсте. Свои подписи под актом о капитуляции поставили
от каждой составной части германских вооруженных сил генерал-фельдмаршал
Кейтель, генерал-полковник [авиации] Штумпф и генерал-адмирал фон Фриде-
бург. Законность своего представительства они подтвердили данными им мною
как верховным главнокомандующим германскими вооруженными силами полно¬
мочиями в письменном виде. Это в категорической форме от них потребовали как
союзники, так и Советский Союз, перед подписанием проверившие их правиль¬
ность и нашедшие их в полном порядке.
Теперь я должен был решить судьбу солдат германских армий на востоке и все
еще стремившегося на запад потока беженцев. Основной массе солдат группы ар¬
мий ”Юг” (генерал-полковник Рендулич) удалось спастись за американской ли¬
нией фронта. Менее благоприятным оказалось положение группы армий ’’Юго-Вос¬
ток” (генерал-полковник Лер). Еще 9 мая значительную часть этой группы от аме¬
рикано-английской демаркационной линии отделяли два-три дневных перехо¬
да. Лер пытался в личных переговорах с югославами найти наилучший выход
для своих солдат, но тщетно: сотни тысяч из них погибли в югославском плену.
На севере американский генерал Гэрвин, который со своей воздушно-десант¬
ной дивизией 2 мая одновременно с английским ударом на Любек занял меклен¬
бургскую территорию и находился в оперативном подчинении английской армии,
позволил остаткам армии ’’Висла” отступить за англо-американскую линию фрон¬
та. Однако он не воспрепятствовал тому, чтобы многие колонны беженцев все же
попали в руки наседавших русских.
На центральном участке фронта 12-я армия под командованием хорошо заре¬
комендовавшего себя военачальника и офицера генерального штаба генерала Вен¬
ка в последние дни апреля получила приказ наступлением на восток деблокиро¬
вать Берлин. Ей удалось достигнуть района Потсдама и тем самым пробить защит¬
никам Потсдама и 9-й армии (генерал Буссе) путь на запад. Вместе с ней шли ог¬
ромные колонны беженцев. Но в то время, как солдатам 9-й и 12-й армий, а так¬
же группе обороны Потсдама был разрешен переход через американскую линию
фронта на Эльбе, гражданским беженцам в этом было отказано. Армия Венка де¬
лала все для того, чтобы как можно большее число их — незаметно для американ¬
цев спасалось вместе с переходящими Эльбу солдатами. Но большая часть этих нес¬
частных, которые находились в пути уже несколько недель, в результате бесче¬
ловечного запрета в самый последний момент все же попали в руки русских.
Хуже, чем 9-й и 12-й армиям, пришлось солдатам группы армий Шёрнера. Ос¬
новная масса их достигла американской линии. Но перейти ее им по большей час¬
ти не разрешили. Напротив, их силой оружия сгоняли в кучу и передавали насту¬
павшим на пятки русским. Так эти солдаты в самом конце войны, в которой они
храбро выполняли свой долг, все же попали в многолетний русский плен, где мно¬
гие погибли от голода и холода. 1 мая я воспротивился немедленному отходу этой
группы, что было моей ошибкой. Разложение, которого я опасался при ее немед¬
ленном добровольном отступлении, оказалось неизбежным и при более позднем
отходе. Но, с другой стороны, никто не знает, был бы солдатам Шёрнера при бо¬
лее раннем подходе к американской линии фронта разрешен переход или в нем
им было бы отказано уже тогда.
В районе Балтийского моря отступление солдат и беженцев полностью зависе¬
ло от морских транспортов кригсмарине, так как путь по суше был им преграж¬
ден русскими. За период с 23 января до 8 мая 1945 г. из Курляндии, Восточной
и Западной Пруссии, а позже из Померании и частично Мекленбурга по морю на
спасительный Запад было доставлено 2 022 602 человека. Эти рейсы совершались
217
под постоянными обстрелами с воздуха англо-американской и русской авиаций,
атаками русских подводных лодок и торпедных катеров, и проходили через мно¬
гочисленные минные поля. Ужасна была при этом гибель транспортных кораблей
’’Вильгельм Густав»” с 4 тыс. и ’’Гойя” с 7 тыс., а также госпитального судна
’’Штойбен” с 3 тыс. человек на борту. Но сколь ни трагичны были эти поте¬
ри — а они составляли только 1% перевозимых морем людей, — 99% все же уда¬
лось прибыть в морские гавани западной Балтики. Зато процент потерь беженцев
на суше был значительно большим.
Из армии в Курляндии ввиду нехватки тоннажа и недостатка причальных
стенок в порту Либау (ныне Лиепая - Прим, перев.) удалось вывезти только
незначительную часть людей.
9 мая 1945 г. в ноль часов прекратились все боевые действия на всех фронтах.
В последнем приказе по вермахту от 9 мая говорилось:
’’Начиная с полуночи смолкло оружие на всех фронтах... По приказу гросс-
адмирала вермахт прекратил ставшую безнадежной борьбу. Тем самым законче¬
на шестилетняя героическая схватка. Она принесла нам великие победы, но и тяж¬
кое поражение. Германский вермахт уступил в конце ее мощной превосходя¬
щей силе.
Немецкий солдат, верный своей присяге, творил для своего народа незабывае¬
мые дела. Родина до самого последнего момента изо всех сил, принося тяжелей¬
шие жертвы, поддерживала его. Беспримерные свершения фронта и тыла найдут
свою окончательную оценку в справедливом суждении истории. Подвигам и жерт¬
вам немецких солдат на суше, на море и в воздухе не могут отказать в своем
уважении и противники. Поэтому каждый солдат должен честно и гордо выпус¬
тить оружие из своих рук, и в этот тягчайший час нашей истории смело и с уве¬
ренностью приступить к труду во имя вечной жизни нашего народа.
Вермахт отдает в этот час почести оставшимся перед лицом врага товарищам
по оружию. Погибшие обязывают нас сохранять безусловную верность, повино¬
вение и дисциплину по отношению к истекающему кровью бесчисленных ран
Отечеству”.
Эти слова по их основному содержанию я и сегодня считаю верными.
7 мая Фридебург и Йодль вернулись из штаб-квартиры Эйзенхауэра ко мне в
Мюрвик. Фридебург захватил номер американской военной газеты ’’Старз энд
страйпс”. В ней были опубликованы снимки из германского концентрационного
лагеря Бухенвальд. Они были кошмарны. Даже если бы мы только предположи¬
ли, что беспорядок на транспорте и в продовольственном снабжении могли спо¬
собствовать обострению условий в концентрационных лагерях, все равно то, о
о чем свидетельствовали эти снимки, не могло быть оправдано ничем. Фриде¬
бург и я были глубоко потрясены. Подобное мы никогда не считали возможным.
Но то, что такие мерзости были действительностью, и не только в Бухенвальде,
мы в эти дни увидели сами, когда во Фленсбург прибыл пароход с заключенны¬
ми концлагерей. Состояние их вызывало ужас. Старший военно-морской началь¬
ник по фленсбургскому гарнизону немедленно принял все меры для обеспе¬
чения этих несчастных пищей и медицинской помощью. Мы задавали себе вопрос,
как эти вещи, которые происходили посредине Германии, могли оставаться неза¬
меченными нами.
В годы строительства военно-морского флота я до 1939 г. был заместителем
по зарубежным походам командира крейсера ’’Эмдея” и преобладающее время
находился в море вместе с зарождавшимся германским подводным флотом.
С начала войны я пребывал на своем военном командном пункте, по большей час¬
ти на остфризском побережье в Зенгвардене, а потом за границей в Париже и Ло-
риенте в Бискайском заливе. Эти командные пункты были военными островками.
Контакты мои и общение с немецким населением были весьма ограничены или же
их вообще не имелось. Командование подводным флотом и его дальнейшее техни¬
218
ческое развитие полностью поглощали меня. Из вражеских сообщений я получал
только те, которые касались подводной войны. То, что вражеское радио, как и
наше, направлялось и должно было носить обусловленный войной пропагандистс¬
кий характер, не подлежало для меня никакому сомнению. Поэтому я не слу¬
шал ни то, ни другое.
И как главнокомандующий военно-морскими силами после 1943 г. я тоже ос¬
новное время находился на отдаленном командном пункте ’’Коралл” между
Бернау и Эберсвальде, севернее Берлина. Во время своих посещений штаб-квар¬
тиры фюрера я участвовал только в военных совещаниях и привлекался Гитлером
лишь для решений вопросов из моей военно-морской области. Да я и сам занимал¬
ся только ими. Именно они поглощали во время войны все мое время.
То, что я узнал в те месяцы 1945 г., что последовали за капитуляцией, и в
1946 г. о бесчеловечной стороне национал-социалистской системы, оказало на
меня глубокое воздействие. Моя позиция по отношению к национал-социализму
и лично Гитлеру вдохновлялась идеей народного сообщества в чисто националь¬
ном и социальном смысле слова на основе единства немецкого народа. Осущест¬
вленное благодаря Гитлеру объединение всех германских племен в совместном
рейхе казалось мне воплощением древней германской мечты. Своей раздроблен¬
ностью мы были обязаны притязаниям на власть победителей по Вестфальскому
договору, положившему конец Тридцатилетней войне (1618—1648). Наши про¬
тивники в Европе, которые сами уже к началу нового времени превратили свои
нации в единые государственные образования, хотели, чтобы мы оставались слабы¬
ми, и столетиями препятствовали нашему единству. Только национал-социалист¬
скому государству удалось сломить все препоны.
Но теперь я со всей отчетливостью осознал темные стороны национал-социализ¬
ма. Это изменило и мое отношение к созданной им государственной форме.
Глупо и не по-мужски не учиться на фактах. В своем последнем слове на
Нюрнбергском процессе перед вынесением приговора я сделал из этого надлежа¬
щие выводы и сказал:
’’Здесь много говорилось о заговоре, который будто бы существовал между
обвиняемыми. Я считаю это политической догмой. Как таковая она не может быть
доказана, ей можно только верить или отвергать ее. Но значительная часть немец¬
кого народа никогда не поверит тому, что такой заговор и есть причина нашего
несчастья. Пусть политики и юристы спорят об этом, они только затруднят извле¬
чение немецким народом из этого процесса того урока, который имеет решающе
важное значение для его отношения к прошлому и для формирования облика
прошлого. Это осознание того, что принцип фюрерства как политический прин¬
цип — ложен.
Принцип фюрерства наилучшим образом зарекомендовал себя в военном ру¬
ководстве всех армий мира. На основании этого опыта я считал его правильным и
в политическом руководстве. Особенно для народа в таком безнадежном положе¬
нии, в каком находился немецкий народ в 1932 г. Большие успехи нового режи¬
ма, никогда не ведомое дотоле чувство радости во всей нации, казалось, под¬
тверждали это.
Но если, несмотря на весь идеализм, на всю порядочность и на все самопо¬
жертвование немецкого народа, при помощи принципа фюрерства в конечном
итоге не было достигнуто ничего иного, кроме несчастья нашего народа, тогда
принцип этот как таковой должен быть ложным. Ложным, поскольку челове¬
ческая натура явно не в состоянии использовать силу этого принципа во благо,
не поддавшись искушению этой власти”.
Когда я в майские дни 1945 г. узнал об условиях, царивших в концлагерях, я
задал себе вопрос, что сам я мог сделать в этом отношении. С Гиммлером я, как
уже говорилось, расстался 30 апреля 1945 г. Более далеко идущий разрыв с ним
был тогда невозможен, ибо он еще имел в своих руках такие средства власти,
219
как полиция, а я не имел никаких. После полного занятия союзниками герман¬
ской территории это положение изменилось. 6 мая я лишил Гиммлера всех его
постов. В том, что я так запросто отпустил его, я раскаялся, когда в дальнейшем
узнал об ужасах концлагерей. Ведь я считал, что это дело самих немцев, что мы
должны сами разобраться в этих бесчеловечных деяниях и привлечь виновных к
ответу. Граф Шверин-Крозиг и я были едины в подходе к этой проблеме. Он вско¬
ре представил мне распоряжение, согласно которому Имперский суд должен был
произвести расследование и наказать всех виновных в этих зверствах. Я послал
этот текст с подробным докладом Эйзенхауэру, в котором просил с этой целью
сделать работоспособным Имперский суд. Во время моего разговора с американс¬
ким послом Мэрфи, политическим советником Эйзенхауэра, я еще раз решитель¬
но указал на это ходатайство и попросил о помощи. Он обещал мне поддержку.
Но больше я ничего об этом деле не слышал.
Одновременно с моими размышлениями и мерами насчет наиболее благоприят¬
ных условий капитуляции начиная с 1 мая у меня стали появляться и соображения
относительно образования общегерманского правительства. Мне было заранее
ясно, что я нуждаюсь в советнике по политическим вопросам. Во внутриполити¬
ческом отношении будущее немецкого народа представлялось мне в самом мрач¬
ном свете. Как не допустить продовольственной катастрофы после того, как вос¬
точные области потеряны, а остальная Германия поделана между победителями?
Удастся ли компенсировать продовольственное снабжение внутри отдельных зон?
Как вновь наладить транспорт и хозяйство? Что надо сделать для ликвидации
жилищной нужды? Как сформировать денежное обращение и нашу валюту? И
прежде всего — как помочь беженцам? Как сможем мы использовать эти допол¬
нительные миллионы людей с германского востока в экономике и без того пере-
йаселенной Западной Германии?
Я твердо понимал, что эти затрагивающие весь немецкий народ вопросы тре¬
буют создания единого для всех четырех зон германского правительства. Уже по
одной этой причине должны быть созданы соответствующие органы единого им¬
перского правительства. А потом необходимо было собрать всех специалистов,
имеющих наилучшие знания во всех этих областях, чтобы они смогли предложить
оккупационным державам свое сотрудничество. Прежде всего было необходимо
спасти самое существование немецкого народа. Следовательно, мы со своей сто¬
роны должны были быть готовы и в состоянии сделать для этого все возможное.
Мои соображения, говорившие в пользу создания вспомогательного имперско¬
го правительства, приняли конкретный облик и форму тогда, когда ко мне при¬
был Шверин-Крозиг. Наряду со своими задачами министра иностранных дел и ми¬
нистра финансов он получил общее руководство кабинетом и сформировал требу¬
ющееся временное правительство. [...]
Ввиду весьма малой эффективности этого вспомогательного кабинета встал
вопрос, не должен ли я распустить его. Моя задача провести упорядоченную капи¬
туляцию была выполнена. Хотя в Мюрвике я и жил в еще не занятом союзниками
анклаве, я, разумеется, полностью находился в руках противника. Вся Германия
была занята врагом. Он правил в ней. Самостоятельно действовать, как это еще
было возможно при осуществлении капитуляции, я больше не мог.
Не более ли достойно было при таких обстоятельствах положить конец этому
призрачному существованию? Иначе говоря, по собственной инициативе подать
в отставку, вместо того чтобы ожидать совершенно неведомых мер победителей?
То, что после осуществления капитуляции мы вынуждены были бездействовать,
меня никак не воодушевляло, само собою разумеется. В первую очередь я считал,
что должен уйти в отставку назначенный мною министром продовольствия Шпеер.
[...] Граф Шверин-Крозиг придерживался иного мнения. Нам следовало, считал
он, хотя противник сознательно выставлял нас на посмешище общественности,
остаться, ибо рейхспрезидент и его вспомогательное правительство символизиро¬
220
вали единство рейха. При безоговорочной капитуляции капитулировал ведь толь¬
ко германский вермахт. Германское же государство существовать не перестало.
Хотя я и был ограничен в своих действиях, но я продолжал оставаться главой го¬
сударства Германского рейха. Даже вражеские государства признали это своим
требованием предъявить данные именно мной полномочия представителями трех
видов вооруженных сил вермахта при подписании капитуляции 8 мая. Поэтому
моя отставка, полагал- он, возможна только в том случае, если одновременно
будет обеспечен мой преемник.
Я считал такую точку зрения графа Шверин-Крозига правильной. Мое назначе¬
ние я поначалу воспринимал так, что должен лишь закончить войну. Но теперь,
что бы там ни было, я не смел уходить в отставку вместе со вспомогательным
правительством. Тогда победители с полным правом заявили бы: раз компетент¬
ное для всех зон Германии имперское правительство сбежало, нам не остается
ничего другого, как сформировать в отдельных оккупационных областях особые
германские правительства и осуществлять суверенную власть в зонах через наши
собственные военные администрации.
Уже по одной этой причине я не должен был уступать силе; в противном слу¬
чае я бы, по крайней мере в политическом отношении, формально стал бы оруди¬
ем раскола Германии, существующего ныне. Итак, мой уход, добровольный от¬
каз от моего признанного союзниками положения означали бы ту политическую
ошибку, которую я мог бы совершить после капитуляции.
Эти соображения не исключали того, что я и тогда и сегодня придерживаюсь
взгляда, что одна только воля немецкого народа имеет значение для занятия
высшего поста в государстве.
Итак, в мае 1945 г. я обязан был стремиться сохранить свой пост до проведе¬
ния выборов или же устранения меня с этого поста союзниками силой.
После общей капитуляции Мюрвик посетила Союзническая Контрольная Ко¬
миссия под руководством американского генерал-майора Рукса и английского
бригадного генерала Фурда. Немного погодя она была дополнена представителем
России. Я пригласил обоих, английского и американского, представителей на бе¬
седу о внутригерманской ситуации, продолжавшуюся целый час. Я сказал им,
какие меры считаю необходимыми. То же самое позже я постарался разъяснить
корреспонденту британской прессы мистеру Уорду. Этими беседами я хотел под¬
крепить переданные имперским вспомогательным правительством меморанду¬
мы. Я старался использовать каждую возможность действовать, чтобы помочь не¬
мецкому населению. Той же цели служили и мои предупреждения и предложения,
касавшиеся дальнейшего внешнеполитического развития в Восточной Европе.
Они встречали мало понимания.
Отношение ко мне союзнических представителей на этих встречах было сдер¬
жанным, но корректным. Оказывались международно практикуемые почести.
Само собой разумеется и члены моего кабинета, и я сам отвечали той же сдержан¬
ностью, но я не заблуждался.
Начиная с середины мая мои личные встречи с представителями Контрольной
Комиссии прекратились. Вражеская пресса, а особенно советское радио, вовсю
занялись ’’правительством Дёница”. Наибольшим нападкам я подвергался со
стороны русских. Было ясно, что совместного для всех зон германского прави¬
тельства они не хотят. Практиковавшееся до сих пор сотрудничество вспомога¬
тельного имперского правительства с английскими и американскими представи¬
телями в Мюрвике вызывало у них негодование.
Кажется, Черчилль первоначально противился моему смещению. Он хотел ис¬
пользовать меня в качестве ’’полезного инструмента” и через меня передавать
распоряжения немецкому народу, чтобы англичанам не нужно было ’’самим
совать руки в этот муравейник”. Черчилль считал, что в случае, если я окажусь
полезным англичанам, с меня можно было бы ’’списать” те военные преступЛе¬
221
ния, которые я будто бы совершил как командующий подводным флотом. Эта
установка Черчилля была в точности тем, чего я тогда и ожидал от совершенно
холодно-расчетливой английской политики. Они будут использовать меня до тех
пор, пока это будет отвечать их интересам.
Затем, кажется 15 мая 1945 г., Эйзенхауэр потребовал убрать меня во имя
интересов дружбы с Россией.
22 мая 1945 г. мой адъютант и друг Людде-Нойрат сообщил, что руководитель
Союзной Контрольной Комиссии пригласил меня вместе с Фридебургом и Йодлем
следующим утром на жилой корабль ’’Патрия”, на котором размещалась эта
комиссия. Я ответил: ’’Укладывать чемоданы!”. Я не сомневался: нас устранят,
переведя в разряд военнопленных.
Когда мы прибыли к трапу ’’Патрии”, картина была совершенно иной, чем
при моих прежних посещениях Контрольной Комиссии: ни английского подпол¬
ковника, встречавшего меня внизу, ни отдающего честь часового, зато целая
куча фоторепортеров.
Поднявшись на ’’Патрию”, Йодль, Фридебург и я заняли места по одну сторону
стола. По другую сидели начальники Контрольной Комиссии: в центре — амери¬
канский генерал Рукс, рядом с ним — английский генерал Фурд и русский генерал
Трусков. Чувствуя неотвратимость нашей судьбы, мои спутники и я были совер¬
шенно спокойны. Генерал Рукс сделал заявление: по приказу Эйзенхауэра герман¬
ское правительство и Верховное главнокомандование вермахта арестованы.
С этого момента мы рассматриваемся в качестве военнопленных. Несколько неу¬
веренно он спросил, не хочу ли я что-либо возразить. Я ответил: ’’Слова тут не
нужны!”.
Сегодня, бросая ретроспективный взгляд на свою деятельность в конце войны,
я сознаю всю тщетность человеческих деяний. Лучшие намерения оказываются
зачастую ложными или же их осуществление - ошибочным. Поэтому я весьма да¬
лек от того, чтобы считать, что все ожидания и все действия, которые я здесь обри¬
совал, при последующем рассмотрении можно будет считать правильными.
Но я и до сего дня придерживаюсь той точки зрения, что был обязан перед
своим народом взять на себя ответственность за окончание войны и в меру своих
сил избежать хаоса. Удача ступенчатой капитуляции спасла жизнь очень многим
людям. Я благодарен судьбе за то, что мои действия принесли пользу при реше¬
нии этой последней задачи.
Решимость, с какой я тогда противостоял натиску с востока, насколько это
вообще было в моей власти, диктовалась заботой о сохранении человеческой
жизни.
Хотя я отвергал большевизм как форму жизни, мой образ действий в 1945 г.
не может и не должен быть понят как моя позиция в вопросе о том, как в конеч¬
ном счете Германия должна строить свои взаимоотношения с соседями на восто¬
ке и западе.
222
Источниковедение и историография
© 1991 г.
М. М. НАРИНСКИЙ
РЕЖИМ ВИШИ
В СОВЕТСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ИСТОРИОГРАФИИ
После поражения Франции и крушения Третьей республики летом 1940 г.
вместе со всем дипломатическим корпусом сотрудники советского посольства
перебрались из Парижа в небольшой курортный городок Виши, где обосновалось
новое французское правительство. По названию этого городка новый полити¬
ческий режим стал называться режимом Виши. При нем республиканские институ¬
ты были ликвидированы, политические партии и профсоюзы распущены. Вся пол¬
нота законодательной, исполнительной и судебной власти была передана А. Пете¬
ну* как главе ’’французского государства”. Видную роль играл и П. Лаваль**.
Официальной целью правительства провозглашалась ’’защита труда, семьи и об¬
щества”. В международной сфере новый режим ориентировался на нацистскую
Германию, хотя и пытался осуществлять некоторые внешнеполитические маневры.
В сложной, быстро менявшейся обстановке посольство СССР действовало
без опытного руководства, так как еще весной французское правительство объя¬
вило советского посла Я.З. Сурица ’’персоной нон грата” и он вынужден был
уехать в Москву. Осенью наркоминдел принял решение послать в Виши несколько
новых сотрудников, в том числе А.Е. Богомолова в качестве советника посоль¬
ства и поверенного в делах.
Впоследствии, объясняя в мемуарах смысл своего назначения и задачи, стояв¬
шие перед советскими дипломатами, Богомолов писал: ”В сложившихся усло¬
виях мы, конечно, были заинтересованы в том, чтобы получать из Виши более
подробную информацию о политической линии французского правительства.
Это было особенно важно, так как это правительство, с нашей точки зрения,
находилось в глубоком тылу у гитлеровцев и занимало официальную позицию
сотрудничества с гитлеровской Германией”1.
СССР сохранил нормальные отношения с режимом Виши. Для понимания
позиции советских официальных кругов в отношении этого режима в 1940-
*Петен, Анри Филипп (1856-1951) - французский военный и политический деятель.
В первой мировой войне генерал Петен участвовал в битве на Марне, руководил обороной
Вердена, командовал группами армий. В ноябре 1918 г. получил звание маршала Франции.
В 1925-1926 гг, командовал французскими войсками при подавлении восстания в Марокко.
В 1925-1931 гг. - вице-председатель Высшего военного совета Франции. В 1939-1940 гг. -
посол во франкистской Испании. В мае 1940 г. был назначен вице-премьером, с 16 июня -
премьер-министр французского правительства. 10 июля получил полномочия главы ’’фран¬
цузского государства”. После освобождения Франции Петен был приговорен к смертной
казни, которая была заменена пожизненным тюремным заключением.
**Лаваль, Пьер (1883-1945) - французский политический деятель. В 1925-1939 гг.
неоднократно занимал различные министерские посты. В январе 1931 - январе 1932 г. и
в июне 1935 - январе 1936 г, - премьер-министр. Сторонник Петена. С 12 июля по 13 де¬
кабря 1940 г. - заместитель премьер-министра, а в апреле 1942 - августе 1944 г. - премьер-
министр правительства Виши. После освобождения приговорен к смертной казни и казнен.
'Богомолов А.Е. На дипломатическом посту в годы войны. — Международная жизнь,
1961,№6,с. 100.
223
1941 гг. важно учитывать их основополагающие установки. Во-первых, резко
критическое, даже враждебное отношение к политике правительства Третьей
республики в 1939-1940 гг. Во внутриполитической сфере она характеризова¬
лась как антикоммунистическая, направленная против интересов трудящихся;
в международной сфере — как антисоветская. Во-вторых, глубоко укоренив¬
шиеся догматические, узкоклассовые представления: считалось, что империа¬
листическая война усиливает бедствия народных масс и приближает пролетар¬
скую революцию.
Весьма характерно было утверждение автора рецензии на журнальную публи¬
кацию первой части романа И. Эренбурга ’’Падение Парижа”: ”И в самом деле,
падение Парижа - это итог политики правящих классов Франции, которые ста¬
вили свое личное благополучие выше национальных интересов, которые ненави¬
дели свой народ и боялись его”2. Не случайно советские газеты с пониманием
цитировали прессу фашистской Италии: ’’Франция Петена и Лаваля в основном
не отличается от старой Франции”; ’’возрождаются имперские фантазии, претен¬
дующие на то, чтобы начертать планы будущего вне зависимости от условий
мира”3.
В соответствии с логикой этих рассуждений режим Виши расценивался как
выразитель интересов части крупной французской буржуазии, как орудие борьбы
с революционным движением во Франции и политики сотрудничества с Герма¬
нией. В записке о положении во Франции от 5 декабря 1940 г. Богомолов отме¬
чал: ’’Верхушка французской буржуазии, боясь революции, готова пойти за Гитле¬
ром. С Гитлером во главе она потеряет, быть может, 3/4, но сохранит кажущуюся
самостоятельность и четверть своих ценностей. В случае же победы коммунистов
они потеряют все... Лаваль - лидер этой группы. Авторитет этой группы в народ¬
ных массах мал, но в их руках власть, опирающаяся на германскую армию. Они
выгодны для немцев, и немцы их поддерживают”4. В отчете о положении во
Франции в 1940 г. советский поверенный в делах отмечал: ’’Так называемая
’’национальная революция” развернулась в целую серию контрреволюционных
актов. Петен, и особенно Лаваль, неистовствовали против коммунистов и всех
сколько-нибудь революционных или даже реформистских рабочих организаций”5.
В марте 1941 г. в записке С.А. Лозовскому, заместителю наркома иностранных
дел СССР, А.Е. Богомолов вновь подчеркнул: ’’Основная идея Петена — это сло¬
мать влияние компартии в массах и учредить новую корпоративную систему
для рабочих и крестьян. Сам он опирается на организацию старых комбатантов,
в среде которых, однако, нет единодушия, которое хотелось бы видеть Петену”6.
Советские представители неизменно отмечали антирабочий и антикоммунисти¬
ческий характер политики Виши. В декабре 1940 г. Богомолов писал: ’’Профсою¬
зы распущены. Ведется жестокая борьба с коммунистами, влияние которых
в массах велико. Жестоко преследуют рабочих-иностранцев”7. В этом же сообще¬
нии он обращал внимание на крайне тяжелое положение рабочего класса.
Ухудшение жизни трудящихся, продовольственные трудности, рост безрабо¬
тицы — таковы были излюбленные темы публикаций о Франции в советской
прессе. Вот характерные заголовки в газете ’’Правда”: ’’Бедствия французских
беженцев”; ’’Безработица во Франции”; ’’Голод во Франции”; ’’Экономические
затруднения”; ’’Рост спекуляции”8. В мае 1941 г. ’’Правда” со ссылкой на вен¬
2 Известия, 14.V.1941.
3 Известия, 21,VII; 14.VII1.1940.
4 Архив внешней политики СССР (далее - АВП СССР), ф. 136, оп. 25. п, 180, д. 984, л. 6-7.
5Там же, л, 45.
6 Там же, л. 72,
7 Там же, л, 10.
’Правда, 2,15,17.IX; 13, 22, 31.Х.1940.
224
герскую газету ’’Мадьяр немзем” писала: ’’Французский народ... переживает
сейчас ужасное время. Женщины вынуждены собирать всякие отбросы овощей
и из них готовить пищу. По неделям нельзя нигде купить мяса и даже картофеля.
Народ голодает”9.
Бедствия трудящихся, рост массового недовольства — такова была, с точки
зрения СССР, основная причина неустойчивости Виши. В отчетах советских дипло¬
матов из Франции обращалось внимание на слабость позиций нового политическо¬
го режима, не имевшего опоры в виде влиятельной партии. При этом в качестве
ключевой фигуры режима выделялся Лаваль, который якобы использовал
Петена для политического камуфляжа и обмана масс. ’’Лаваль — мастер в части
переговоров и закулисных интриг. Образ Петена привлекает симпатии многих
французов из различных слоев общества, но это не та поддержка, которая делает
правительство прочным...—отмечал Богомолов в декабре 1940 г. — Лаваль вопло¬
щает собой политическое и моральное разложение верхушки господствующих
классов во Франции. Лаваль не пользуется доверием в народе... Истинная власть
это Лаваль, а Петен это ширма”10. В этом же документе говорилось: ’’Совре¬
менное французское правительство представляет ’’тоталитарную Францию”,
как мне это сказал Лаваль. Никакого тоталитаризма в германском духе у
Лаваля не получается. Прежде всего, здесь нет сколько-нибудь значительной и
влиятельной партии фашистского толка... У Лаваля нет партии — у него есть
Петен и немцы... Старый маршал превращен в икону, в рекламу для широкой
публики”11.
Советские представители * осознавали сложности режима Виши, неоднознач¬
ность его политического курса. Особенно ярко это понимание проявилось в лич¬
ном письме Богомолова исполнявшему обязанности заведующего 1-м Западным
отделом НКИД Кузнецову. Советский поверенный в делах писал из Виши в Моск¬
ву: ’’Обстановка здесь является настолько запутанной и неясной, что иногда
трудно описать ее даже и в большом письме. Множество всяких противоречий
во внешней и внутренней политике. Все эти противоречия по большей части объяс¬
няются слабостью самого правительства Петена, которому дана полнота власти
только в расправе с коммунистами и который во всех остальных отношениях
о
связан немцами и своими темными связями с англо-американцами .
Внешняя политика Виши характеризовалась как прогерманская, направлен¬
ная на углубление всестороннего сотрудничества с нацистским рейхом к выгоде
последнего. Богомолов сообщал в Москву в феврале 1941 г.: ’’Довольно быстро
общественное мнение Франции разглядело суть гитлеровско-лавальского плана
сотрудничества. Это старая идея Лаваля о глубоком союзе с Германией, помно¬
женная на гитлеровский план создания ’’новой Европы” с Германией в роли
ее гегемона. Практика сотрудничества свелась к глубокому экономическому
захвату немецким капиталом основных французских ценностей”13. В этой связи
советский поверенный в делах весьма пессимистично оценивал состояние отноше¬
ний между СССР и Виши: ”0 взаимоотношениях Франции с СССР ничего особенно
утешительного сказать нельзя. Петен - реакционер, яростный католик и весьма
неустойчивый политик. Он боится сближения с СССР, хотя и нуждается в наших
товарах”14.
Возможности расширения торговых отношений между двумя странами интере¬
совали и французскую, и советскую стороны. По воспоминаниям Богомолова,
уже во время его первой встречи с Лавалем тот сказал, что следовало бы подумать
’Правда, 24.V.1941.
10АВП СССР, ф. 136, оп. 25, п. 180, д. 984, л. 13.
11 Там же, л. 11,12,
12 Там же, Ле 81, 82.
13Там же, л . 57,
14 Там же, л, 63.
8 Новая и новейшая история, № 6
225
о восстановлении торговли с СССР. В ответ советский поверенный в делах поста¬
вил вопрос об отмене ареста на все счета и другие ценности советского торгпред¬
ства - меры, осуществленной Францией в связи с национализацией советскими
властями французского имущества в бывшем смешанном обществе ’’Малополь-
ска” на Западной Украине15.
6 декабря Лаваль вновь интересовался возможностью восстановления торгов¬
ли между Францией и СССР и заключения торгового соглашения между двумя
странами. При этом французский политик проявил интерес к поставкам Совет¬
ским Союзом нефти и продовольствия. По мемуарам Богомолова, вопрос о
поставках Советскому Союзу со стороны Франции не был особенно сложным.
”В колониях у нее были большие запасы натурального каучука, а доставить его
во Францию нельзя было иначе, как через Советский Союз. Мы в каучуке очень
нуждались, прежде всего для нашей военной промышленности”16.
СССР, как утверждал Богомолов, готов был дать Франции продовольствие
и горючее, направляя их сухопутными и морскими путями, а также соглашался
предоставить французам возможность транзита их грузов через Сибирь. Франция
намеревалась продать СССР свои излишки каучука, свинцах олова и других то¬
варов17.
Однако в документах того времени речь шла не столько о возможных постав¬
ках в СССР каучука из французских колоний, сколько о важности торговых
связей с Францией как базы и плацдарма для последующего развития отношений
между двумя странами. ’’Они теперь пойдут к нам навстречу. Не стоит отказы¬
ваться, — писал Богомолов в декабре 1940 г. -- Сейчас у них взять почти нечего,
но надо использовать момент для создания выгодной базы для отношений с Фран¬
цией в более лучшие времена. Надо использовать ситуацию и закрепить за собой
кое-какие экономические позиции во Франции”18 *. Но сделать это не удалось,
так как правительство Виши полностью ориентировалось на Германию и не соби¬
ралось развивать связи с Советским Союзом.
Прогитлеровская позиция режима Виши ярко проявилась после нападения
Германии на СССР. Упоминавшийся нами ответственный сотрудник НКИД СССР
Кузнецов в начале июля 1941 г. отмечал: ’’Сразу же после вероломного, преда¬
тельского нападения фашистской Германии на Советский Союз фашистская печать
неоккупированной Франции заняла антисоветскую, прогитлеровскую позицию.
Такую же позицию заняли французские официальные круги” . 29 июня фран¬
цузский посол в Москве Г. Бержери (несколько неожиданно для него самого)
получил указания о разрыве дипломатических отношений; в тот же вечер он
сделал соответствующее представление Советскому правительству.
После этого тон советской прессы в отношении Виши стал враждебным. Под¬
черкивались два момента: предательство национальных интересов Франции и от¬
кровенно прогитлеровская политика. Газета ’’Известия” в июле 1941 г. утвержда¬
ла: ’’Глубокая пропасть легла между свободолюбивым французским народом
и его нынешними правителями — бессовестной кучкой предателей, держащихся
у власти на немецких штыках”20. Через несколько дней газета продолжала эту
тему: ’’Изменническая политика Виши, шаг за шагом предающего национальные
интересы Франции, вызывает все более острое возмущение всех слоев француз¬
ского народа”21.
15 См, Богомолов А.Е., Указ, соч., с. 104-105.
16 Там же, с. 105.
17 Там же, с. 99.
18 АВП СССР, ф. 136, оп. 25, п. 180, д, 984, л. 14-15.
1 ’Там же,п. 182,д. 1002, л. 169.
20 Известия, 15,VII. 1941.
21 Известия, 20.VII.1941.
226
Лишь в некоторых публикациях обращалось внимание на то, что далеко не
все во Франции выступали против режима Виши, что часть французского общества
поддерживала его, возлагала на него определенные надежды, питала иллюзии.
Так, журнал ’’Большевик” в апреле 1943 г. отмечал, что. оккупация всей тер¬
ритории Франции означала крах политики ’’сотрудничества” с гитлеровской Герма¬
нией, осуществлявшейся Виши. Эта акция рассеяла ’’иллюзии тех социальных
групп, которые считали, что политика ’’сотрудничества” избавит хотя бы часть
территории Франции от ужасов оккупации и даст возможность переждать бурное
время войны”22.
Из потока пропагандистских материалов выделялась интересная научная статья
Л. Борового, опубликованная весной 1945 г.23 Она содержала анализ экономи¬
ческих связей Виши с Германией. Автор показал, что немецкие оккупанты стреми¬
лись заинтересовать в осуществлении политики коллаборационизма не только
верхушку буржуазии, но и более широкие слои населения. Боровой обратил
внимание на привилегированное положение трудящихся важнейших военный
предприятий (’’приоритетных предприятий”), на стремление оккупантов и пра
вителей Виши вовлечь в политику коллаборационизма влиятельные слои интел¬
лигенции, наконец, на те выгоды, которые получили французы, приобретавшие
за бесценок еврейскую собственность. Вместе с тем он отметил и эволюцию поли¬
тических ориентаций французской буржуазии: с 1942 г. ’’возникают значитель¬
ные группы противников ’’сотрудничества” и среди промышленников”24.
К сожалению, научный анализ сущности и политики Виши остался кратко¬
временным эпизодом. Вскоре после войны с ухудшением общей идеологической
атмосферы в СССР советским историкам был навязан упрощенно-догматический
подход к явлениям, распространились пропагандистские штампы, ненаучные
характеристики событий. К тому же вся советская историография несла на себе
Отпечаток ’’холодной войны”»
Когда речь заходила о Виши, то подчеркивалось три момента: фашистский
характер режима, его связь с крупными монополиями, открыто коллаборацио¬
нистская прогитлеровская политика. Весьма показательные утверждения содержа¬
лись в ’’Большой советской энциклопедии”: ’’Виши - фашистский прогитлеров¬
ский режим во Франции в 1940-1944 гг., существовавший в условиях немецко-
фашистской оккупации... ’’Правительство Виши”, опираясь на гитлеровских окку¬
пантов и пользуясь поддержкой крупнейших монополий, особенно монополий,
тесно связанных с германским капиталом, католической церкви, а также кулац¬
ких элементов крестьянства, развернуло политику фашизации Франции и включе¬
ния ее в гитлеровский ’’новый порядок” в Европе”2 5.
Анализ сущности режима Виши и особенностей его политики подменялся
жестким определением - фашизм и коллаборационизм. При этом понятие ’’фа¬
шизм” выступало не как инструмент научного анализа, а как негативная идеологи¬
ческая характеристика. Само определение режима Виши как фашистского неиз¬
бежно тянуло за собой его привязывание к известной характеристике Коминтер¬
на - открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финан¬
сового капитала.
Пожалуй, наиболее полное воплощение эти упрощенные подходы нашли в книге
Н.И. Годунова ’’Борьба французского народа против гитлеровских оккупантов
и их сообщников”, опубликованной в 1953 г. и через некоторое время подвергну¬
той критике в советской печати. Для нее были характерны такие выражения:
32 Большевик, 1943, № 7-8, с. 55.
23 Боровой Л. Коллаборационизм во Франции в 1940-1944 гг. - Мировое хозяйство и
мировая политика, 1^45, № 2-3.
2 4 Там же, с. 34.
2 5 Большая советская энциклопедия, 2-е изд., т. 8. М., 1951, с. 214.
8*
227
’’клика Петена”, ’’предатели французского народа”, ’’антинародная фашистская
политика”, ’’лживые демагогические лозунги”2 * * * 6.
Подобные суждения были распространены в советской исторической литературе
вплоть до 60-х годов. В работе, посвященной движению Сопротивления во Фран¬
ции, И.А. Колосков и Н.Г. Цырульников категорически утверждали: ’’Усилиями
гитлеровцев и их пособников — вишистов во Франции был создан фашистско-
полицейский режим, режим господства иноземных оккупантов и самых реакцион¬
ных сил французской монополистической буржуазии”2 7.
Позднее один из этих авторов, Цырульников, развил мотив реакционности
Виши в коллективном труде о движении Сопротивления в странах Европы. В гла¬
ве, посвященной Франции, он писал: ”Третья республика во Франции была уничто¬
жена и заменена фашистским прогитлеровским ре жимом Пете на—Лаваля (’’режи¬
мом Виши”)... Под прикрытием демагогии ’’антикоммунизма” и ’’национальной
революции” в стране насаждались обскурантизм и произвол”2 8.
Некоторые ученые продолжали повторять привычные оценки и в 60-е годы.
И все же в то время под воздействием XX съезда КПСС и общего оживления
в идеологической сфере стали пробивать дорогу более глубокие подходы к анали¬
зу исторических явлений. В советской историографии появились новые концеп¬
ции феномена фашизма. Исследователи предложили более взвешенные трактовки
взаимосвязей различных классов и социальных слоев с фашистскими режимами,
роли в них государственного аппарата и идеологии. Это сказалось и в освеще¬
нии Виши.
Новые элементы были заметны в небольшой книге В.П. Смирнова ’’Франция
во время второй мировой войны”. Повторяя оценки вишистского режима как
реакционной фашистской диктатуры французской финансовой олигархии и воен¬
щины, как орудая фашистской Германии, автор вместе с тем обратил внимание
на то, что ’’первое время правительство Виши пользовалось также поддержкой
некоторой части мелкой и средней буржуазии и кулачества”29. Он, пожалуй,
впервые в советской историографии ясно написал о мерах режима Виши в поли¬
тической и социальной областях.
Впоследствии В.П. Смирнов уточнил свою характеристику режима Виши.
Он отмечал, что официальные принципы ’’национальной революции” Петена ”по
существу представляли собой своеобразный синтез наиболее распространенных
идей французского фашизма, приспособленных к условиям оккупации”30.
Автор считал классовой опорой вишистского режима крупную буржуазию и арис¬
тократию, но одновременно отмечал, что в первое время правительство Виши рас¬
полагало довольно широкой социальной базой, особенно среди крестьянства, мел¬
кой и средней буржуазии. Кроме вишистской демагогии и иллюзий, которые име¬
лись у многих французов, немаловажным было и социальное маневрирование ре¬
жима Виши: пособия для многодетных семей, кредиты для смягчения безработи¬
цы, налоговые льготы крестьянам.
Более взвешенная и современная оценка Виши содержится в работах ученого
и дипломата Ю.И. Рубинского. В соответствующей главе коллективного труда
’’Проблемы экономики и политики Франции после второй мировой войны”,
подготовленного в Институте мировой экономики и международных отношений
АН СССР, автор не ограничился утверждением, что режим Виши являлся откры¬
2 6 Годунов Н.И. Борьба французского народа против гитлеровских оккупантов и их со¬
общников (1940-1944 гг.). М., 1953.
21 Колосков И.А., Цырульников Н.Г. Народ Франции в борьбе против фашизма. М., 1960,
с. 69,
2 8 Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой
войны. М., 1962. с, 342.
2 9Смирнов В.П. Франция во время второй мировой войны. М., 1961, с. 35-36.
30Смирнов В.П. Новейшая история Франции. 1918-1975. М., 1979, с. 196.
228
той террористической диктатурой финансового капитала, он отметил, что этот
режим ’’представлял собой наиболее законченное воплощение крайне правых
взглядов на государственное устройство”31. Рубинский повторил и развил эту
характеристику Виши в книге ”3а колоннами Бурбонского дворца”. Считая
подлинными руководителями режима представителей наиболее реакционных
кругов монополистического капитала, он вместе с тем первым в советской
литературе обратил внимание на различия между группировками внутри режима
Виши: приверженцами Петена, Лаваля и так называемой ’’парижской кликой”.
При этом социальную базу личного окружения Петена Рубинский определил как
блок крупных аграриев, церкви и военщины3 2.
Наиболее обстоятельное освещение истории Виши содержится в работах про¬
фессора И.С. Киссельгофа3 3. В книге, опубликованной уже после смерти автора,
дается развернутое изложение формирования режима Виши, его мероприятий
в социально-экономической сфере, внутренней и внешней политики3 4.
Не отказываясь от традиционных подходов советских историков к Виши,
Киссельгоф стремился уточнить их, придать им большую гибкость. По его мне¬
нию, в области внутренней политики правительство Виши пыталось создать
новый авторитарный государственный строй фашистского типа35. Исследователь
обратил внимание на то, что основные идеи вишистов были заимствованы из
идеологического арсенала фашистских организаций других стран и довоенной
Франции. Целью Петена было создание общества на основе социальной иерархии,
базирующейся на корпоративизме.
Историк отметил, что деятельность правительства Виши сопровождалась широ¬
кой социальной демагогией, заметное место в которой заняла ’’Хартия труда”.
Используя большой фактический материал, он доказывал, что в основе существо¬
вания режима Виши лежала политика сотрудничества с нацистской Германией -
коллаборационизм, но при этом не смог избежать и некоторых обличений полу-
пропагандистского характера. Например: ”В политике коллаборационизма ярче
всего проявилась глубина гнусной измены, организованной монополиями и их
ставленниками в Виши”3 6.
В работе Киссельгофа показано, как рассеивались иллюзии французов в отно¬
шении Петена и Виши, как нарастал кризис режима. К концу 1942 г. режим Виши
выступал ”в своем подлинном виде как режим фашизма на службе у оккупан¬
тов”37.
Эта книга обобщала все то, что было достигнуто советскими историками в изу¬
чении режима Виши, и означала заметное углубление знаний о предмете иссле¬
дования.
Определенной заявкой на будущее стал сравнительно небольшой раздел в кол¬
лективном труде Института всеобщей истории АН СССР ’’История фашизма в
Западной Европе”, написанный П.Ю. Рахшмиром. Он сделал вывод, что режим
31 Проблемы экономики и политики Франции после второй мировой войны. М., 1962,
с. 433.
32 Рубинский Ю.И. За колоннами Бурбонского дворца, (Кризис буржуазного парламента¬
ризма во Франции после второй мировой войны). М., 1967, с. 15.
33Киссельгоф И.С, Капитуляция Франции и вишистский режим в 1940-1941 гг. - Из исто¬
рии Франции. Уфа, 1961; его же. фашистский режим Виши во Франции после нападения гитле¬
ровской Германии на СССР. - Проблемы рабочего и демократического движения в странах
Западной Европы. Уфа, 1963; его же. Правительство Виши и война гитлеровской Германии
против СССР. - Французский ежегодник, 1965. М., 1966; его же. Коллаборационизм - основа
политики правительства Виши. - Из истории Франции, Уфа, 1969.
3Ą Киссельгоф И.С. История Франции в годы второй мировой войны. М., 1975.
35 Там же, с, 43.
36 Там же, с. 54.
37 Там же, с. 142.
229
Виши до ноября 1942 г. представлял собой ’’режим авторитарно-фашистского
типа, напоминавший пиренейские диктатуры”38. Сходство с ними усугублялось
той ролью, которая отводилась в вишистском государстве церкви. Однако, по
мнению автора, то, что было естественным на архаичной социально-экономической
почве Португалии и Испании, не могло привиться в одной из самых развитых
стран Западной Европы. Поэтому традиционно-консервативный фасад режима
Виши скрывал формирование варианта государственно-монополистического
капитализма, весьма напоминавший германский и итальянский образцы. Рахш-
мир подчеркивает также, что ’’для вишистского режима характерна эволюция
от авторитаризма к тоталитаризму”3 9.
В целом советские историки в какой-то степени отказались от упрощенных
догматических оценок режима Виши.
Ныне можно констатировать, что режим Виши сочетал в себе традиции фран¬
цузских крайне правых политических сил, методы авторитаризма и некоторые
черты фашизма. Дальнейшее исследование этого сложного феномена требует
учета всех компонентов и углубления сравнительного анализа авторитарных
и тоталитарных режимов в Европе XX в.
3 8 История фашизма в Западной Европе. М., 1978, с. 375.
39Там же, с. 376.
230
Критика и библиография
Рецензии
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: ДИСКУССИИ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ. Вып. 1-2, М.: изд-во "Наука",
1989.
Сборник, в котором участвуют 35 авто¬
ров, содержит материалы Всесоюзного сим¬
позиума, проходившего в Москве в конце
1988 г., и отличается содержательностью,
широким спектром соображений и идей.
Отметим прежде всего те общие теорети¬
ческие положения, которые относятся к исто¬
рическому процессу в целом. Догматизм и
стереотипное мышление длительное время
определяли застой в советской исторической
науке, констатирует во вступительной статье
А.О. Чубарьян. Необходимо реализовать но¬
вые идеи, такие, как альтернативность исто¬
рических событий, противостоящая фаталь¬
ной ’’закономерности”, понятия ’’прогресс”
и ’’цена прогресса”. Должна быть преодолена
упрощенная трактовка теории формаций -
игнорирование многих межформационных
явлений: истории цивилизаций; роли бюро¬
кратии ”от Нерона и французских Бурбо¬
нов” до наших дней; ’’старого и вечного
вопроса о роли личности в истории”, тесно
связанного с проблемой ’’политика и мо¬
раль” и др.
Намеченные А.О. Чубарьяном новые под¬
ходы получили дальнейшее развитие на пос¬
ледующих страницах сборника.
Подчеркнув необходимость отказа от
’’самонадеянной веры в то, что марксизм-
ленинизм - ’’единственно правильная”
научная система взглядов”, В.А. Тишков
выдвинул масштабную задачу целостного,
глобального изучения общества. Неверно
противопоставлять общество и природу,
социальное и биологическое. Так, напри¬
мер, закон энтропии имеет универсальное
значение и применим к эволюции челове¬
чества, как и действие противоположного
закона сохранения упорядоченности и ус¬
ложнения организации. Тема ’’человек и
природа” развивалась также в выступле¬
нии Н.Я. Бромлей. Большая проблема под¬
нята в статье Е.В. Гутновой ’’Государство
в структуре и эволюции феодального об¬
щества”. Указав на становление феода¬
лизма не только снизу, но и сверху (воз¬
можно, преимущественно сверху) уси¬
лиями государства; на лавирование госу¬
дарства между феодалами и бюргерством,
даже иногда между феодалами и крестьян¬
ством (содействие освобождению крестьян
от личной зависимости); на роль именно
в этой связи личностного фактора (значе¬
ние короля), поставив такие проблемы,
как ’’централизация и прогресс”, две тен¬
денции в создании государств - либо на¬
циональных, либо имперских, влияние уров¬
ня государственной централизации на успех
или неуспех в войнах и ряд других, автор
приходит к важному выводу: деятель¬
ность государства ”не исчерпывалась толь¬
ко его классовыми функциями” - речь
идет о выходящей за рамки феодализма
большой теме ’’государство и общество”.
К сожалению, в рецензии невозможно
остановиться на всех работах. Хотелось бы,
однако, отметить, что большинство статей
по античной истории и медиевистике
(Э.Д. Фролов, Л.П. Маринович, Ю.В. Андре¬
ев, В.М. Строгацкий, А.А. Сванидзе, Е.С. Го¬
лубцова, Н.И. Басовская, С.П. Карпов,
Е.В. Гутнова) связано с темой государства,
его корней и становления, т.е. вписывается
в указанную большую проблему и именно
поэтому представляет интерес не только
для антико ведов.
До последнего времени роль государства
недооценивалась в советской науке и в исто¬
рии СССР, где крупнейшее достижение прош¬
лого - ’’школа государственников” - поду¬
чала отрицательную оценку, и в новой и но¬
вейшей истории. По сути дела лишь перест¬
ройка с середины 80-х годов, выдвижение
задачи создания правового государства в
СССР, проблемы Союза дали толчок к новым
подходам в этой области и показали необ¬
ходимость изучения государства как внефор-
мационного явления.
Многие участники симпозиума указывали
на необходимость изучать человеческий опыт
объемно и всесторонне. Такие темы, как
’’голод и болезни в истории”, ’’экологичес¬
231
кие проблемы в истории”, ’’история семьи”
и т.п., должны разрабатываться как постоян¬
ные внеклассовые факторы, определяющие
жизнь рядовых людей, указывают А.О. Чу-
барьян, В.В. Согрин и др. (вып. 1, с. 21-
25).
’’Много ли внимания в своих трудах мы
уделяли проблемам духовной жизни об¬
щества? - спрашивает Б.Р. Лопухов. -
Не возвратился ли к нам, наподобие буме¬
ранга, запущенный нами же в сознание наших
читателей пренебрежительный подход ко вся¬
кого рода духовным ценностям в истории?”
(вып. 1. с» 66). Отметив, что на Западе име¬
ются исследования типа ’’Нравственные исто¬
ки первой мировой войны”, этот автор ука¬
зывает, что среди духовных факторов играют
роль и человеческие пороки, которые мы
ошибочно связывали с недостатками поли¬
тической системы (капитализм - корруп¬
ция, наркомания и т.п.).
При изучении индивида нельзя игнори¬
ровать его убеждения, особенности нацио¬
нального характера, сводить все к принадлеж¬
ности человека к определенному социаль¬
ному слою. Говоря о массовой психоло¬
гии, надо учитывать и роль, мифов, меха¬
низм возникновения фанатизма, трансфор¬
мацию прогрессивных идей в жестокость.
Нравственность и этика подчинены в наших
исследованиях идее ’’нравственного прогрес¬
са” - не пора ли восстановить их ”в правах
абсолютной духовной категории... насилие
над которой ... оборачивается особенно тя¬
желыми последствиями на настоящем эта¬
пе нашей жизни?”.
А.Я. Гуревич в статье ’’Проблема менталь¬
ности в современной историографии” разъяс¬
няет отличие истории ментальностей от со¬
циальной психологии: эта история’’сосредо¬
точивает свое внимание не на настроениях,
конъюнктурных, легко изменчивых состоя¬
ниях психики, а на константах, основных
представлениях людей” (вып. 1, с. 74, 75).
Это - ’’социально-психологические уста¬
новки, автоматизмы и привычки сознания,
способы видения мира, представления лю¬
дей, принадлежащих к той или иной социаль¬
но-культурной общности”. Изучение мен¬
тальностей велось в таких областях, как
карнавальная культура, народная смеховая
культура, народные магии и верования и
т.п. Оно привело к объяснению ’’импуль¬
сов поведения” людей. Оно стало централь¬
ным в ’’новой научной истории”, объединило
ряд смежных наук, политическую историю
с культурой и стало ведущим в знаменитой
школе ’’Анналов”, в исследовательских ра¬
ботах крупнейших историков США, Англии,
232
ФРГ, Италии и др. В то же время оно не уво¬
дит от социально-экономических проблем,
но увязывает эти проблемы с историей пов¬
седневной жизни рядовых людей. В резуль¬
тате создается синтез, ’’стереоскопическая
история”.
Ю.Л. Бессмертный привлек внимание
историков к проблемам демографии -
науки, в ЗО-е годы в СССР ’’закрытой”, что
было связано с практикой сталинизма
’’незаменимых людей нет”, ’’лес рубят -
щепки летят”, любые человеческие жерт¬
вы оправданы великой целью и т.п. Одним
из следствий было и пренебрежение к чело¬
веческому фактору в истории, преодолению
которого должна помочь демография совре¬
менного типа, изучающая взаимосвязь со¬
циальных процессов и демографических, та¬
ких, как ’’демографический переход”
(изменения в рождаемости и смертности),
’’демографическое поведение”, связь роста
населения с социальным развитием (здесь
автор говорит о ’’сверхлихой” критике в
адрес Мальтуса и значении установленных
им истин для планирования населения).
Фактически, делает вывод автор, истори¬
ческая демография превращается в новое
направление в рамках истории.
Выступая, таким образом, за расши¬
рение исторической науки, участники сим¬
позиума в то же время ставят вопрос об
опасности исчезновения ее как особой
отрасли знания, забвения ее собственных
специфических методов исследования, раст¬
ворения их в методах психологии, социоло¬
гии, математики и других наук (М.А. Барг,
В.В. Согрин). Новая научная история, осно¬
ванная на сериях однородных данных, имеет
тенденцию приуменьшать то, что событийная
история обоснованно считает важным, напри¬
мер революции (не укладывающиеся ”в
серию”), отдельные школы замыкаются в
своей области и отказываются от синтеза,
от создания глобальной, тотальной истории.
Эти уже выявившиеся недостатки модного
течения необходимо иметь в виду.
Глубокие, новаторские соображения выс¬
казали и те ученые, которые выступили по
более частным вопросам древней, новой и
новейшей истории. В области новой истории,
как подчеркивает Е.Б. Черняк, создалась
иллюзия решенности всех проблем еще
Марксом и Энгельсом. Осмысливая прошлое
в свете нового исторического опыта, ученые
приходят к выводу, что нуждается в пере¬
смотре история революций, в частности Ве¬
ликой французской, которые трактовались
с позиций ’’исторического романтизма”, пере¬
оценки роли плебейских движений, далеко
не всегда прогрессивных. Выявились ранее
неизвестные возможности капитализма -
научно-техническая революция, широкая со¬
циальная политика, совершенствование про¬
изводственных отношений, что поставило
вопрос о границах капиталистической форма¬
ции, начале ее нисходящей линии, привычно
и вряд ли правильно относимой к такому
раннему сроку, как 1871 г. Поскольку
в конце XIX и начале XX в. капитализм
еще далеко не исчерпал себя и ликвидация
его была нереальна, перед II Интернациона¬
лом не стояла задача прямого свержения
капиталистического строя, отсюда - необ¬
ходимость пересмотреть жесткую оценку ре¬
формизма, а также резко отрицательное
отношение к либерализму, акцентирование -
вопреки фактам - внимания на кризисе
буржуазной демократии, считает Е.Б. Чер¬
няк.
’’Как ни удивительно для исторической
науки, основывающейся на марксистской
теории классов”, изучение последних, конс¬
татирует В.В. Песчанский, ’’крайне недоста¬
точно и односторонне” (вып. 2, с. 13). Автор
специально останавливается на эволюции
класса буржуазии, выделив в нем социально¬
профессиональные группы - наряду с пред¬
принимателями и банкирами - акционеров,
менеджеров и других ”частичных капиталис¬
тов”, а также политическую, военную, идео¬
логическую и другие элиты. Происходит
также, говорит В.В. Песчанский, разделение
на верхушку буржуазии и ее основную мас¬
су, причем последняя насчитывает в круп¬
ных странах миллионы человек и не участ¬
вует непосредственно в управлении страной.
В статье М.С. Альперовича отмечается,
что над мышлением историков над их кол¬
лективными трудами и учебниками про¬
должает довлеть жесткая схема, предписан¬
ная в 1934 г. замечаниями Сталина, Кирова и
Жданова. Автор поддерживает, в частности,
высказанную на симпозиуме идею пересмот¬
ра хронологических рамок капитализма (’’пе¬
риод упадка” - уже с 1870-х годов). Как
неправомерное оценил автор и отнесение важ¬
нейших событий - открытие Америки, Ре¬
формация, Крестьянская война в Германии,
Нидерландская революция - к эпохе средних
веков. На деле грань нового времени прохо¬
дит на рубеже XV и XVI вв. В статье крити¬
куется европоцентризм, все еще господст¬
вующий в вузовских учебниках, отмечается
ошибочность отрицательной оценки Марк¬
сом и Энгельсом освободителя Латинской
Америки Симона Боливара и оправдания
ими захвата Соединенными Штатами терри¬
торий Мексики. Территориальная экспансия
США, считает автор, должна быть оценена с
позиций объективных ее последствий для
континента, учета морального фактора и
цены прогресса.
Переходя к новейшей истории, отметим,
прежде всего, что в ходе симпозиума была
подвергнута критике и пересмотру теория
’’общего кризиса капитализма”, которая,
как известно, лежала в основе всей кон¬
цепции истории Запада с 1917 г. до наших
дней, в том числе и ее периодизации. М.М. На-
ринский, проследив понятие ’’общий кризис”
с момента его появления в документах
ВКП(б) и Коминтерна в 1920-х годах до
XXII съезда КПСС (Программа партии),
отметил, что основное содержание его -
утверждение о неуклонном усилении социа¬
листической системы и упадке капитализма,
идущего к краху, - оставалось неизменным.
Однако действительность все более ясно сви¬
детельствовала о нереальности этой оценки.
Автор призывает осмыслить радикальные
перемены как в социализме, так и в капи¬
тализме и делает вывод, что точнее было бы
говорить о кризисе традиционных форм и
институтов буржуазного общества, а не об
’’общем кризисе” капитализма, справедливо
подчеркивая важность пересмотра устарев¬
шей теории в контексте нового политичес¬
кого мышления.
Остальные выступления посвящены в
основном периоду 1917-1945 гг. Содер¬
жательно и с позиций подлинного историз¬
ма дал критический анализ деятельности
Коминтерна Ю.В. Егоров.
Ряд авторов, исследовавших советско-
американские отношения в период между
двумя мировыми войнами (В.К. Фуфаев),
а также во время войны и предшествовав¬
шие ей события 1939 г. (В.П. Смирнов,
Ю.Р. Жюгжда), подчеркнули негативное
влияние сталинизма на внешнюю политику
СССР, упущенные возможности дипломати¬
ческого решения предвоенных конфликтов,
наличие оснований для кампаний Запада в
начале 30-х годов, вызванных гонениями на
церковь и принудительным трудом заклю¬
ченных в СССР, секретным соглашением
1939 г. с гитлеровской Германией о Поль¬
ше и Прибалтике. Отмечается, что Совет¬
ский Союз первым начал войну с Финляндией
и готовил для нее ’’народное правительство”
во главе с О. Куусиненом. ’’Белыми пят¬
нами”, пишет В.П. Смирнов, остаются данные
о соотношении сил в СССР и Германии летом
1941 г., о численности советских и немецких
потерь (она определяется весьма разноре¬
чиво), о ’’балканском соглашении” Сталина
и Черчилля в 1944 г. и др.
233
Меньше проблем поднимается в сборнике
в связи с послевоенным периодом новейшей
истории. Здесь, собственно, прозвучали лишь
две темы - так называемый ’’неоконсерва¬
тизм” и оценка колониализма. И.Ю. Рахшмир
констатирует, что рост консерватизма наблю¬
дается за последнее время во всех ’’трех ми¬
рах” в виде застоя (СССР), фундаменталистс¬
ких течений (Запад), военных диктатур
(’’третий” мир). Между тем изучение его
мало продвинуто, нужна типология различ¬
ных видов консерватизма. Автор и предла¬
гает решение этой последней задачи, выделив
три главных варианта консерватизма - уме¬
ренный, радикальный и находящийся в цент¬
ре триады (рейганизм, тэтчеризм). Нельзя
не согласиться с заявлением автора, что тер¬
мин ’’неоконсерватизм” бессодержателен.
По проблеме колониализма интересные
соображения высказывает И.Д. Парфенов.
Он подчеркивает роль мало изученной импер¬
ской идеологии, а также политических, стра¬
тегических целей как причин захвата коло¬
ний, не сводимых только к ’’источникам
сырья и рынкам сбыта”. Явление колониа¬
лизма присуще не только Западу, но и Рос¬
сии, особенность русского варианта - ’’доб¬
ровольное присоединение”, ’’присоединение
не есть завоевание” - не столь уж особенна
(Англия присоединила многие народы мир¬
ным путем) и не столь существенна: ’’Ре¬
зультат один - установление колониаль¬
ного господства” (вып. 2, с. 140). Истори¬
ческая роль колониализма, пишет автор,
двойственна. Хотя тезис о ’’цивилизаторской
миссии” несостоятелен и эксплуататорская
природа колониализма - несомненный факт,
все же утверждение, что иностранное гос¬
подство задержало развитие колоний, также
неверно.
Почти все участники симпозиума каса¬
лись историографической темы. Новые под¬
ходы к западной историографии сформули¬
ровал В.В. Согрин в своем выступлении, спе¬
циально посвященном этому вопросу. Од¬
ностороннее критическое отношение, стрем¬
ление разоблачать во что бы то ни стало
характерное для советских историков в
недавние * времена, должно смениться объек¬
тивным анализом, если советская историо¬
графия хочет быть частью мировой науки,
заявляет автор. Тезис о все углубляющемся
кризисе буржуазной науки не подтвержден
жизнью. Сам термин ’’буржуазная историо¬
графия” нуждается в корректировке и за¬
мене более точным — ’’немарксистская исто¬
риография”, включающим и консервативное,
и либеральное, и радикально-деКюкрати-
ческое течения. На протяжении всего XX в.,
234
по крайней мере, последние два развивались
по восходящей линии, не было в полном
застое и первое. Сама немарксистская исто¬
риография не отделена китайской стеной от
марксистской.
Автор анализирует наиболее распростра¬
ненное либеральное течение и приходит к
выводу, что между ним и марксистским
направлением возможно взаимопонимание
на платформе оценок с позиций гуманизма.
В выступлении В.В. Согрина приведен значи¬
тельный фактический материал о школе
’’Анналов”, журнале ’’Паст энд презент”,
о целом ряде историков Франции, Англии,
США.
В пользу локальных исследований и их
дальнейшего синтеза высказалась Л.П. Ре¬
пина. За преодоление стереотипов в изучении
современной буржуазной историографии,
против синдрома врага, присущего советс¬
кой историографии недавнего прошлого, до
конца не изжитого и сейчас, выступил
Н.И. Шарифжанов. Значение и важное место
эмигрантской исторической литературы по¬
казал А.Н. Нечухрин.
Яркие примеры очернительного тона и
создания образа врага привел, анализируя
ситуацию в советской американистике,
Н.Н. Болховитинов, справедливо оценивший
бурное ее развитие как одностороннее,
изобилующее слабыми и компилятивными
работами. Автор показал тесную связь меж¬
ду характером советской историографии на
ранних этапах и внутренней ситуацией в СССР
(влияние лысенковщины, борьба с космопо¬
литизмом) , а также дал аргументированную
критику жесткого ’’классового” (на деле
просто стереотипного) подхода к американ¬
ским исследованиям, утверждений о их
’’буржуазной ограниченности”. Новое мышле¬
ние, делает вывод Н.Н. Болховитинов, с
трудом прокладывает себе дорогу (вып. 2,
с. 67).
Настойчиво звучали на симпозиуме требо¬
вания решить целый ряд научно-организа¬
ционных вопросов, что нашло отражение и
в сборнике. Критиковалась сохраняющаяся
недоступность архивов, недостатки истори¬
ческого образования, в котором, например,
междисциплинарный подход остается тайной
за семью печатями, игнорируется история
церкви, история культуры, недостаточна
подготовка кадров античников, медиевистов,
снижается уровень и мастерство учителя
средней школы (Г.Г.'Литаврин). Выдвига¬
лись задачи создания банков данных, публи¬
кации важнейших исследований западных
историков, изменения характера советских
коллективных трудов, часто напоминающих
сборники статей, а не исследования, разра¬
батывающие общую концепцию.
Конечно, сборник не исчерпал всех проб¬
лем, вставших перед советскими историками,
например, почти не затронут актуальный воп¬
рос о взаимодействии внешних и внутренних
факторов в международной политике. Но в
целом читатели получили интересную книгу -
результат своего рода "мозговой атаки",
открывающей новые перспективы перед
исторической наукой.
Е.Я. Попова
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. 1939-1945, Общие проблемы.
М.: изд-во "Наука", 1990, 235 с.
Эта книга - первое в советской историо¬
графии комплексное исследование общих
проблем движения Сопротивления в Запад¬
ной Европе в 1939-1945 гг., предпринятое
коллективом авторов Института всеобщей
истории АН СССР1, представляет большой
интерес. В этой работе учтены и творчески
осмыслены фундаментальные исследования
советских и зарубежных ученых, посвященные
второй мировой войне и движению Со¬
противления. В научный оборот введены
ценные источники: нелегальные издания и
публицистика времен второй мировой войны,
программные документы различных общест¬
венно-политических сил, участвовавших в
Сопротивлении, антологии документов раз¬
личных партий и организаций. Заслуживают
внимания суммарные данные о последствиях
фашистского господства для западноевро¬
пейских стран: количество военных трофеев,
награбленных материальных ценностей, число
людей, мобилизованных для работы в Герма¬
нию, и т.п. Приведен большой фактический
материал, раскрывающий как масштабы
Сопротивления в Западной Европе, так и
характер политических и военных организа¬
ций, возникших в годы войны в процессе
борьбы против оккупантов.
. Западноевропейское Сопротивление в ин¬
терпретации авторов предстает как целост¬
ный, многогранный общественный процесс,
составивший важную веху в истории Запад¬
ной Европы и во многом предопределивший
ее послевоенное развитие. В противовес
односторонним и крайне идеолоЛ13ирован-
ным оценкам времен "холодной войны"
показаны сложность и важность совмест¬
ных действий во имя борьбы с фашизмом
различных политических и социальных сил,
выступивших под знаменем свободы. Пред¬
ложенная интерпретация названных проб¬
лем способствует преодолению односторон¬
ней трактовки классового подхода при ана¬
1 Авторский коллектив: Н.П. Комолова
(отв. редактор), Л.Н. Бровко, В.П. Гайдук,
Н.С. Иванов, Е.Н. Кульков, Н.С. Лебедева,
М.М. Наринский, Л.В. Поздеева, И.С. Сави¬
на, М.И. Семиряга, А.О. Чубарьян.
лизе столь сложных общественных явле¬
ний, которые вырастали во взаимодействии
сложнейших общественных процессов - со¬
циальных, национальных, социокультурных
и иных.
Авторская концепция полемически за¬
острена против проявившейся в последнее
десятилетие на Западе опасной тенденции
к историческому оправданию фашизма.
В специальной главе, посвященной фашист¬
скому оккупационному режиму, а также
в других разделах работы показано, что
господство "третьего рейха" обернулось
регрессом в экономическом и социальном
отношениях, в политической и духовной
жизни, в сфере культуры, утратой государст¬
венности и независимости многими страна¬
ми. При отличии методов действий фашист¬
ских оккупантов в Западной и Восточной
Европе фашистский "новый порядок" по¬
всеместно означал насильственное перекраи¬
вание границ, ликвидацию элементарных
гражданских прав и политических свобод,
беспощадный террор. Правомерно напомина¬
ние о том, что через фашистские концлагеря
и лагеря смерти прошло 18 млн. человек,
из которых погибло 11 млн. (с. 41).
Вместе с тем оккупанты не чурались
и иных, более гибких форм порабощения.
Провозгласив курс на создание "общеевро¬
пейского жизненного пространства", они
широко использовали различные формы
коллаборационизма, активно сотрудничали
с местными фашистскими партиями и движе¬
ниями, с многими представителями деловых
кругов. Немаловажную роль в деятельности
оккупационных властей играло культивиро¬
вание национализма и расизма, апелляция
к антикоммунизму, систематическая про¬
паганда фашистской идеологии в учебных
заведениях и средствах массовой информа¬
ции. Именно поэтому сопротивление "ново¬
му порядку" потребовало от антифашист¬
ских сил способности не только поднять
на борьбу с ,ггретьим рейхом" различные
социальные слои, но и предложить целост¬
ную и конструктивную платформу анти¬
фашизма.
Заслугой авторского коллектива явля¬
ется анализ идейно-политической, мировоз-
235
зренческой природы антифашизма как де¬
мократической и гуманистической альтерна¬
тивы фашизму, показан сложный социальный
состав участников Сопротивления (рабочие,
частью крестьяне, интеллигенция, студенчест¬
во, духовенство, кадровые военные, пред¬
ставители буржуазии и др.)» многопартий¬
ная структура антифашистских сил, различ¬
ные мировоззренческие установки участни¬
ков Сопротивления. В отличие от односто¬
ронних оценок времен ’’холодной войны”,
чреватых апологией одних и принижением
роли других течений и движений, в книге
привлекает объективный, взвешенный анализ
идейно-политических установок и программ
основных партий, участвовавших в Сопро¬
тивлении - коммунистических, социал-демо¬
кратических и социалистических, христиан¬
ско-демократических, либеральных и респуб¬
ликанских. Охарактеризованы особенности
антифашизма коммунистов и социалистов,
связывавших борьбу с фашизмом с вы¬
движением программы глубоких социаль¬
но-экономических реформ, призванных ис¬
коренить фашизм; католического антифашиз¬
ма, придававшего большое значение гума¬
нистическим устоям жизни, человеческому
индивиду; либерального и демократического
антифашизма с его повышенным интересом
к проблеме гражданских прав и полити¬
ческих свобод. При всех расхождениях
и нередко серьезных разногласиях этих
партий и политических течений их объеди¬
няло воинствующее неприятие фашизма и
его человеконенавистнической идеологии и
политики, глубокий патриотизм, отстаивание
демократических и гуманистических цен¬
ностей. Авторами сделан важный вывод
о том, что духовное наследие Сопротивле¬
ния стало составной частью современного
гуманистического сознания.
В труде воздается должное героической
борьбе участников Сопротивления, вступив¬
ших в схватку с могущественным против¬
ником. Показаны многообразные формы
борьбы рабочих, интеллигенции, средних
слоев и иных сил, без которой вряд ли было
возможно сокрушение гитлеровской воен¬
ной машины. С интересом читаются разделы
работы, посвященные героической борьбе
с фашизмом вдали от родины советских
людей, не сломленных пленом либо угоном
в фашистскую неволю.
Принципиальное значение имеет констата¬
ция важной роли в движении Сопротивле¬
ния рабочего класса, коммунистов, социа¬
листов и иных левых течений. Вместе с тем
реалистически раскрываются немалые труд¬
ности, с которыми столкнулось рабочее
и коммунистическое движение в начале
войны, вскоре после подписания совет¬
ско-германских соглашений 1939 г. и пере¬
ориентации Коминтерна под непосредствен¬
ным давлением Сталина. Отнюдь не пре¬
уменьшая непоследовательности ориентиро¬
вавшихся на западные державы умеренных
236
сил и движений, авторы не склонны недо¬
оценивать вклад в борьбу с фашизмом
светских и религиозных партий и движе¬
ний некоммунистического и даже антиком¬
мунистического характера.
Западноевропейское движение Сопротив¬
ления показано в контексте сложных взаимо¬
отношений в антигитлеровской коалиции.
Раскрывается подход западных держав -
США и Англии - к антифашистским силам
в Западной Европе; характеризуется пози¬
ция СССР по отношению к Сопротивлению,
в особенности в таких странах, как Италия,
Франция, Норвегия.
Обоснован опирающийся на серьезный
документальный материал вывод о том,
что в условиях второй мировой войны в
процессе Сопротивления закладывались пред¬
посылки глубокого пересмотра воззрений
на общество, демократию, мировое и евро¬
пейское устройство. Так, либеральные и
демократические партии и движения, а так¬
же многие католические и протестантские
организации, преодолевая ограниченность
своих прежних представлений, все более
отчетливо осознавали важность внимания
к насущным социальным вопросам, затраги¬
вавшим интересы большинства населения.
Левые же силы, в том числе коммунисты
Италии, Франции, Норвегии, Бельгии, Да¬
нии и других западноевропейских стран,
в процессе борьбы с фашизмом постигали
необходимость учета национальных интере¬
сов и традиций, увязывания борьбы за соци¬
ализм с борьбой за демократию - ценный
урок, который по разным причинам не был
в полной мере учтен в послевоенные годы.
Вместе с тем в противовес фашистской
интерпретации ’’европейского жизненного
пространства” в ходе войны закладывались
основы либеральных и демократических
концепций европеизма, с большим запозда¬
нием воспринятых коммунистическими
партиями.
Работа не свободна от недостатков. Следо¬
вало бы шире использовать архивные мате¬
риалы при характеристике участия совет¬
ских людей в европейском Сопротивлении
и отношения СССР к нему. При анализе
многогранной проблемы ’’Сопротивление
и культура” стоило бы глубже показать
трудности становления антифашистского
направления культуры и наличие различных
течений. Как представляется, показ проблем
западноевропейского Сопротивления вы¬
играл бы от раскрытия общественно-полити¬
ческой ситуации в странах, не оккупирован¬
ных фашистской Германией и ее союзни¬
ками, - Англии, нейтральных Швеции и
Швейцарии, франкистской Испании и Сала¬
заров ской Португалии.
Монография стимулирует дальнейшее
исследование проблем в современном духе.
К ним следует отнести такие капитальные, на
наш взгляд, сюжеты, как сравнительный ана¬
лиз антифашизма 20-30-х годов и анти¬
фашизма времен второй мировой войны,
получившего дальнейшее развитие в после¬
военные годы, выявление общего и особен¬
ного в движении Сопротивления в Запад¬
ной и Восточной Европе и степень их взаи¬
модействия3. В контексте современных об-
*См. соображения на этот счет в мате¬
риалах ’’круглого стола” по вопросам Со¬
противления в Восточной Европе. - Новая
и новейшая история, 1990, № 6.
шественно-политических процессов в нашей
стране актуально сравнительное изучение
различных разновидностей тоталитаризма.
Рассмотренная книга является глубо¬
ко профессиональным исследованием общих
проблем истории западноевропейского
Сопротивления. Она привлечет внимание к
себе как профессиональных историков, так
и широкий круг читателей, побудит специ¬
алистов к дальнейшему научному поиску.
3.17. Яхимович
А.С. Мамыкин. "ЭРА ДЕМОКРАТОВ": ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА В США
1933—1952. М.: Изд-во Московского университета, 1990,263 с.
Советские историки много сделали для
изучения социально-политической истории,
внешней политики США 30-40-х годов,
однако до недавнего времени они редко
обращались специально к проблемам двух¬
партийной системы. С 70-х годов положение
резко изменилось: появились статьи, сбор¬
ники и первые монографические работы,
посвященные истории двухпартийной системы
США. А.С. Маныкин принадлежит к группе
тех советских историков, которые первыми
стали разрабатывать вопросы истории двух¬
партийной системы США. По этой тематике
он опубликовал уже целый ряд статей, а
также спецкурс ’’История двухпартийной
системы США” (М., 1981). Рассматриваемая
книга является первым исследованием моно¬
графического плана, специально посвящен¬
ным идейно-политической эволюции двух¬
партийной системы США с начала 30-х годов
до начала 50-х годов нашего столетия.
Прежде чем перейти к детальному ана¬
лизу данного периода, автор дает общую
характеристику механизму функциониро¬
вания американской двухпартийной системы.
Он резонно подчеркивает классовую одно¬
родность двух партий. Она является фунда¬
ментом для консенсуса во взаимоотноше¬
ниях между партиями. Хотя конкретное
содержание понятия консенсус менялось в
ходе развития американского общества, суть
его оставалась неизменной: частнособствен¬
нические отношения рассматривались и
рассматриваются как оптимальная основа
организации социальной структуры. Способ¬
ность к достижению межпартийного консен¬
суса придает американской двухпартийной
системе большую устойчивость. Жизнеспо¬
собность этой системы усиливается тем, что
ей присуще и еще одно качество - альтерна¬
тивность, объективную возможность для
которой создают различия, существующие в
идеологии и политике двух партий. Двух¬
партийная система США обладает относитель¬
но высокой эффективностью в политическом
процессе, является весьма устойчивым ин¬
ститутом. Этому способствует как то, что она
опирается на мощный экономический фунда¬
мент, так и особенности ее организацион¬
ного строения - высокая степень децентра¬
лизации, обеспечивающая партийному меха¬
низму гибкость, возможность широкого
маневра, учета региональной специфики,
объединения в своих рядах различных соци¬
альных групп.
Значительное место автор отводит в
начале работы раскрытию понятия "партий¬
ная перегруппировка”. Он отмечает, что в
США процесс перехода от одного этапа в
развитии партийной системы к другому
осуществлялся в форме партийных пере¬
группировок. По его определению, среди
важнейших параметров партийной перегруп¬
пировки следует выделить глубокие сдвиги в
политическом курсе составных компонентов
двухпартийной системы на базе пересмотра
большинства идейных канонов, неадекватных
данному уровню развития буржуазного об¬
щества, выработки новых идейно-полити¬
ческих концепций, качественных изменений в
электоральной базе партии.
А.С. Маныкин справедливо расценивает
как важнейший момент в истории двух¬
партийной системы рассматриваемого пери¬
ода партийную перегруппировку, на многие
годы определившую общие параметры со¬
отношения сил в рамках двухпартийной
комбинации. Он полемизирует с теми амери¬
канскими учеными, которые уходят от
анализа социально-экономических сдвигов в
капиталистическом обществе как первопри¬
чины подобных перегруппировок и сводят
эти перегруппировки к изменениям в по¬
ведении электората, концентрируя внимание
на так называемых ’’критических выборах”.
Автор правильно подчеркивает, что так
называемые ’’критические выборы”, знаме¬
нующие начало перегруппировки, являются
продуктом кризисных явлений в развитии
американского капитализма. Особенно рель¬
ефно эта зависимость проявилась в 30-40-е
годы XX в., когда быстрое развитие госу-
237
дарственно-монополистических отношений
дало мощный импульс новой партийной
перегруппировке. Важнейшим ее проявле¬
нием стало приспособление двух партий к
условиям государственно-монополистическо¬
го капитализма, проходившее в острой
межпартийной и фракционной борьбе.
Последствия жесточайшего экономичес¬
кого кризиса 1929-1933 гг. заставили Ф. Руз¬
вельта и его сторонников порвать с отжив¬
шими идейно-политическими традициями
20-х годов, принять либерально-этатистские
принципы, в соответствии с которыми феде¬
ральное правительство должно было играть
активную роль в регулировании социаль¬
но-экономических процессов. Реализация
этих принципов на практике, их воплощение
в реформах ’’нового курса” стали реша¬
ющими факторами в превращении демокра¬
тов в партию большинства. Напротив, в
руководстве республиканской партии сохра¬
нили сильные позиции сторонники индиви¬
дуалистических взглядов.
Мероприятия второго этапа ’’нового кур¬
са” способствовали окончательному утверж¬
дению демократов на либерадьно-этатистской
платформе. Они содействовали привлечению
на сторону демократов новых слоев электо¬
рата: рабочих, негров, молодежи. Выборы
1936 г. знаменовали создание новой коали¬
ции демократов, в которой большинство
принадлежало городским слоям. В резуль¬
тате этих выборов демократы прочно за¬
крепили за собой положение ведущей силы
двухпартийной системы.
Осветив социально-экономический фон,
причины, а также первые шаги в новой
партийной перегруппировке, автор детально
анализирует ее дальнейшее развитие. При
этом очевидным достоинством работы яв¬
ляется комплексный подход: идейно-поли¬
тическая эволюция двухпартийной системы
рассматривается как многогранный процесс,
исследуются ее различные аспекты. То об¬
стоятельство, что хронологические рамки
работы достаточно широки, позволяет автору
показать исследуемые явления в развитии.
Одно лишь упоминание основных проб¬
лем, анализируемых в работе, показывает
масштабность и многоплановость этого иссле¬
дования. В центре внимания автора - подход
двух партий к проблемам государствен¬
но-монополистического регулирования. Про¬
анализированы изменения в курсе политики
правительства демократов, внутриполитиче¬
ская борьба по этим вопросам среди де¬
мократов и республиканцев, приспособле¬
ние к новым реальностям части республикан¬
цев, проявившееся в становлении ’’нового
республиканизма”, оппозиция со стороны
приверженцев ’’истинного республиканизма”.
В книге рассматриваются также и внешнепо¬
литические вопросы, отход от изоляционизма,
новые установки глобальной внешней поли¬
тики военных и послевоенных лет. Пози¬
ции партий рассматриваются на различных
238
уровнях как исполнительной, так и законо¬
дательной власти. При этом тщательно про¬
слеживаются изменения в расстановке поли¬
тических сил в конгрессе.
Большое внимание автор уделяет полити¬
ческим маневрам двухпартийной системы,
особенно в отношении массовых движе¬
ний, третьих партий. Одна из главных сюжет¬
ных линий - освещение истории выборов,
предвыборных кампаний, платформ, резуль¬
татов выборов. Что касается последних,
то автора в них правомерно интересуют
изменения в позициях электората, в коали¬
циях избирателей. Надо отметить и такое
достоинство работы: детальный анализ раз¬
личных сторон проблемы, рассмотрение ее
в динамике, под разными углами не по¬
мешают четко провести главную сюжетную
линию, создать целостную картину идей¬
но-политической эволюции двухпартийной
системы США в рассматриваемый период.
Созданию такого впечатляющего истори¬
ческого полотна в немалой степени способст¬
вовала большая работа автора над разно¬
образными источниками. Глубоко изучены
протоколы конгресса, материалы президен¬
тов и других партийных и государственных
деятелей, партийные документы, пресса раз¬
личных направлений. Привлечена и крити¬
чески проанализирована обширная литера¬
тура.
Однако не все удалось А.С. Маныкину
в одинаковой степени. Неоднократно он
возвращается к вопросу о том, что многие
представители бизнеса выступали против
излишней регламентации, за сокращение
государственного регулирования. И это
утверждение справедливо. Но оно высказы¬
вается в общем плане: недовольство регла¬
ментацией лишь констатируется. На наш
взгляд, следовало хотя бы кратко показать,
что же конкретно не устраивало представи¬
телей бизнеса, какие их интересы в произ¬
водстве, сбыте, в политике цен и тл. за¬
девались. Недостаточное освещение нашли
сдвиги в социальной и демографической
структурах американского электората. Пред¬
ставляется, что следовало бы яснее показать
причины, которые определили изменение
в позиции Верховного суда по отношению к
”новому курсу”. Но эти отдельные замечания
не касаются принципиальных положений
книги.
Резюмируя, следует сказать, что А.С. Ма-
ныкин создал оригинальное, весьма интерес¬
ное исследование. Впервые в советской
исторической литературе столь глубоко
и детально проанализированы партийная пере¬
группировка в США начала 30-х годов и эво¬
люция двухпартийной системы на протяже¬
нии последовавших 20 дет.
Начало этого периода ознаменовалось
катастрофическим провалом республикан¬
ской партии во главе с президентом .Г. Гуве¬
ром, политика которой оказалась совершен¬
но несостоятельной в условиях жесточай¬
шего экономического кризиса 1929-1933 гг.
Демократическая партия, возглавляемая
президентом Ф. Рузвельтом, пришла к власти
в результате выборов 1932 г. Отбросив не¬
эффективные догмы ’’твердого индивидуа¬
лизма”, демократы осуществили реформы
’’нового курса”, характеризовавшиеся реши¬
тельным вмешательством федерального
правительства в экономику и социальную
сферу и позволившие вывести страну из
катастрофы. Американская двухпартийная
система вновь доказала свою устойчивость
и жизнеспособность на этот раз благодаря
инициативам демократов, осуществивших
радикальные и эффективные реформы
’’нового курса”.
В.П. Золотухин
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
Редакция журнала ’’Новая и новейшая история” принимает статьи до 30 стр., исторические
очерки до 50 стр. историографические обзоры - до 20 стр.; рецензии, письма и заметки - 5-
6 стр.; коротко о книгах - 2-3 стр. Материалы принимаются после предварительного согла¬
сования тематики с редакцией (во избежание дублирования) и представляются в двух (пер¬
вом и втором) экземплярах, отпечатанные с полями на стандартной машинке (текст через
2 интервала, сноски через два интервала). Вставки (после доработки материала), тексты
и сноски на иностранных языках также должны быть отпечатаны на машинке. В случае от¬
клонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редак¬
ции.
Рукописи, превышающие установленный объем или присланные в редакцию в единствен¬
ном экземпляре, могут быть возвращены автору без рассмотрения.
Автору посылается копия подготовленного к набору экмзепляра рукописи, которую
он подписывает в печать. Правка в верстке не допускается.
239
Письма в редакцию
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
Проблемы преподавания новой и новейшей истории стали привлекать внима¬
ние общественности, и о них заговорили в печати ведущие советские ученые, за¬
нимающиеся преподавательской деятельностью и знающие вопрос ’’изнутри”.
В публикациях речь идет в основном о преподавании новой и новейшей истории
стран Европы и Америки, хотя преподавание аналогичных курсов истории стран
Азии и Африки в педагогических институтах находится в еще более сложном поло¬
жении.
Прямо-таки бедственная ситуация сложилась с учебной литературой по но¬
вейшей истории стран Азии и Африки: издание новых учебников откладывается,
а имеющиеся безнадежно устарели. Кроме того, степень изученности истории ряда
стран, проблематика, изложенная в учебной литературе, которой вынужден поль¬
зоваться студент, не удовлетворительны. Даже в учебнике по новой истории стран
Азии и Африки, выпущенном издательством МГУ в 1989 г., авторам которого
удалось отойти от чрезмерно политизированных оценок, дистанцироваться от
европоцентристского подхода, в ряде случаев исчезло то традиционное и особен¬
ное, что определяет роль и место этих народов в мировой истории. Примат единст¬
ва всемирно-исторического процесса при всех его положительных чертах все еще
отодвигает на задний план то своеобразие, которое и составляет уникальность
каждого народа. Так, при рассмотрении проблемы зарождения, становления и
развития национально-освободительного движения народов стран Азии и Африки
весьма трудно донести до понимания студентов, особенно отделения заочного обу¬
чения, где время аудиторных занятий крайне ограничено, особенность и специфику
афро-азиатских стран, избежать схематизма, при котором исчезает конкретно¬
исторический материал. Мало помогают и отдельные исследования по этой проб¬
леме.
Требуют более вдумчивого и сбалансированного подхода современные нацио¬
нально-освободительные движения, такие, как палестинское и курдское. Нужда¬
ются в более объективной оценке движения, называвшиеся длительное время
’’сепаратистскими”. Это прежде всего касается Эритреи, Шри-Ланки, Индии.
Наконец, велением времени является разработка проблемы соотношения демо¬
кратизма национально-освободительных движений с национализмом и национал-
шовинизмом, определения пограничной полосы между этими явлениями, причин
ее размывания.
Нуждается в корректировке классовый подход к анализу социальной структу¬
ры афро-азиатских обществ. Доминанта этого подхода приводит к тому, что
классовые связи и интересы объявляются ведущими в общественно-политичес¬
ком сознании народных масс. Между тем исследования зарубежных востоковедов
и африканистов, пользующихся иными методологическими принципами, дают
основание полагать, что в афро-азиатских обществах классовые связи и интересы
уступают место земляческим, этно-конфессиональным, родо-племенным и др.
Классовые признаки и связи в ряде случаев являются весьма условными, подав-
240
ляются иными, определяющими мотивацию поведения значительных масс населе¬
ния, их общественную психологию. Без исследования этих явлений трудно объяс¬
нить появление и разрастание массовых религиозных движений фундаменталист¬
ского толка, этнического и религиозного направлений.
Важной проблемой, которую полностью обходит вниманием учебная литература
и по которой практически отсутствуют специальные исследования, является изу¬
чение общественной психологии народов Азии и Африки. Материалы, позволяю¬
щие дать хотя бы общее представление о том, как же воспринимает окружающий
мир африканец, араб или представитель народов Юго-Восточной Азии, практически
недоступны как для большинства студентов, не владеющих иностранными язы¬
ками, так и для многих преподавателей. В то же время новые школьные програм¬
мы ориентируют учителя знакомить школьников с историей народов Тропической
и Южной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Дальнего Востока. В этой свя¬
зи желательно скорейшее издание документов, хрестоматий, реферативных сбор¬
ников, которые способствовали бы заполнению существующих пробелов.
Пришло время также внести поправки в оценки роли освободившихся стран в
мире в 60—80-е годы. Имевшие место попытки отнести часть из них в резерв
социализма не оправдали себя и опровергнуты ходом развития этих стран, при¬
несли вред как науке, так и преподаванию. Они породили путаницу в понятийном
аппарате востоковедения, ставили и ставят вузовских преподавателей в сложное
положение, требуя от них классифицировать политические режимы на ’’револю¬
ционную”, ’’народную” и ’’национальную” ’’демократии”, ’’национал-реформизм”,
а страны — на ’’социалистической” и ’’несоциалистической” Ориентации, хотя
научные критерии оценок режимов и ’’социалистической ориентированности”
надуманы и оказались несостоятельными.
Необходимо также по-новому подойти к оценке влияния Октябрьской рево¬
люции на страны Азии и Африки. Имевшие место попытки приписывать револю¬
ции влияние на весь без исключения африканский мир неубедительны, как и
несостоятельны и стремления некоторых публицистов-исследователей представить
революцию ’’заговором”, ’’ошибкой истории”. Отказавшись от слабоаргументи¬
рованных рассуждений о влиянии революции и оставив за ней лишь те явления и
исторические процессы в странах Азии и Африки, пусковым механизмом кото¬
рых она являлась, можно избавиться от очевидного противоречия, которое обна¬
руживает прежний подход при анализе социально-культурного уровня народов
афро-азиатского мира, оставляющий без ответа вопрос о механизме видения и
осмысления революционных перемен в России непросвещенным, религиозным,
фанатичным народным большинством стран Азии и Африки.
Назрела необходимость широкого обмена мнениями ученых-исследователей
и преподавателей по актуальным проблемам новой и новейшей истории стран
Азии и Африки.
В.П. Ранчинский
О ПРЕПОДАВАНИИ НОВОЙ ИСТОРИИ
СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
Сегодня вузовские преподаватели новой истории сталкиваются с многочислен¬
ными, трудноразрешимыми проблемами. Отрицательно сказывается на учебном
процессе сокращение аудиторных занятий по новой и новейшей истории стран
Европы и Америки. Сведение к минимуму лекционных часов особенно осложняет
дело в провинциальных учебных заведениях, в городах, где фонд литературы по
241
истории в библиотеках невелик и возможности самостоятельного изучения пред¬
мета крайне ограничены.
Другая острейшая проблема, перед которой стоит в наши дни преподаватель
новой истории, — неразработанность в исторической науке с позиций сегодняшнего
дня многих значимых вопросов. Речь прежде всего идет об изучении рабочего и
социалистического движений в Европе и Америке. В советской литературе отсутст¬
вуют научные труды об Э. Бернштейне, К. Каутском, Ф. Лассале и других выдаю¬
щихся социалистах. Обещанные журналом ’’Новая и новейшая история” статьи о
них еще не появились. Представляется целесообразным выпустить при посредстве
издательства ’’Высшая школа” ряд небольших брошюр, посвященных видным
деятелям социалистического движения и истории II Интернационала. Следует
также дать новую трактовку процессов, происходивших в германской и австро¬
венгерской социал-демократии. Необходимо переиздать ставшие библиографи¬
ческой редкостью труды теоретиков социализма.
Было бы полезно продолжить работу по созданию сборников документов
по новой истории, начатую В.Г. Сироткиным, Е.Е. Юровской, П.И. Остриковым и
П.П. Ванделем.
Одновременно стоит выпустить в свет материалы по отдельным крупным
темам новой истории. Образцом могли бы служить ’’Документы Великой Фран¬
цузской революции”, собранные и опубликованные кафедрой новой и новейшей
истории МГУ. В эпоху гласности растет интерес непосредственно к первоисточ¬
никам. Их издание могло бы существенно облегчить самостоятельную работу
студентов.
Представляется также разумным рекомендовать студентам изучать предмет
не по учебникам, в которых часто излагается материал традиционно и сухо, а исполь¬
зуя труды выдающихся русских и зарубежных исследователей, что даст воз¬
можность выявить нестандартные подходы к изучаемой проблематике, про¬
будить самостоятельность мышления. Кроме того, это позволит сочетать изуче¬
ние конкретного материала с рассмотрением различных тенденций и направле¬
ний в историографии. Следовало бы переиздать не только исследовательские, но
и учебные труды Р.Ю. Виппера, Н.И. Кареева и других выдающихся историков.
Стоило бы опубликовать работы крупнейших ученых Запада по проблемам новой
истории. Вероятно, интерес представили бы книги немецких ученых по военной
истории. Ведь военная история XVII—XIX вв. остается .во многом большим
’’белым, пятном” для нашего студенчества.
С.Ф, Блуменау
242
Факты, события, находки
АЛЕКСАНДР I И НАПОЛЕОН В ТИЛЬЗИТЕ
13(25) июня 1807 г. Тильзит. Вся Европа
обратила свой взор на этот маленький, тихий,
провинциальный, ранее ничем не заметный
городок в Восточной Прусик. Здесь солнеч¬
ным утром на реке Неман произошло исто-
рическое свидание двух императоров -
Александра I и Наполеона. На левом бере¬
гу Немана разместился Наполеон со своим
штабом и гвардией, на правом - Алек¬
сандр I. Место свидания - середина реки.
Французский император распорядился, что¬
бы было сооружено два плота с четырех¬
угольными, обтянутыми белым полотном
павильонами. ’’Один из них был красивее
и обширнее другого. Он определен был
для двух императоров, меньший для их
свиты... На одном из фронтонов большо¬
го было видно ...огромное А; на другом
фронтоне, со стороны Тильзита, такая же
величественная литера Н, искусно писан¬
ные зеленой краскою”1. С обеих берегов
реки одновременно отплыли две барки
На одной - Наполеон, на другой - Алек¬
сандр I. Барка Наполеона пристала к па¬
вильону чуть раньше, и император поспе¬
шил встретить царя. Перед Наполеоном,
одетым в традиционный мундир и легендар¬
ную треуголку, предстал красивый, голубо¬
глазый, с мягкими приятными манерами
тридцатилетний государь в форме Преобра¬
женского полка - в черном мундире с крас¬
ными лацканами ”На каждой стороне во¬
ротника оного вышито было по две малень¬
ких золотых петлицы... аксельбант висел
на правом плече... Панталоны были лосиные
белые, ботфорты короткие... Шляпа была
высокая; по краям оной выказывался бе¬
лый плюмаж, и черный султан веял на греб¬
не ее. Перчатки были белые лосиные, шпага
на бедре, шарф вокруг талии и андреевская
лента через плечо”1. Таков был Александр I
в воспоминаниях очевидца этой встречи Де¬
ниса Давыдова.
1 Давыдов Д Сочинения. М„ 1962, с. 242-
243.
аТам же, с. 244.
Оба императора, поддавшись внезапному
порыву, обнялись, завязалась беседа. Каждый
стремился понравиться другому. Секрет
обаяния Александра I заключался в умении
вести разговор в мягких, доброжелательных
тонах. Е^о французский язык был безуко¬
ризненным. С детства вынужденный лави¬
ровать между отцом - Павлом I и бабкой -
Екатериной II, он научился безошибочно
находить нужную ноту в разговоре. Наполе¬
он был очарован его манерой держать себя.
Между монархами возникла взаимная симпа¬
тия, их беседа продолжалась почти два часа.
В тот же вечер Наполеон написал своей
супруге, императрице Жозефине: ”Я только
что имел свидание с императором Александ¬
ром. Я был крайне им доволен! Это моло¬
дой, чрезвычайно добрый и красивый импе¬
ратор; он гораздо умнее, чем думают”1.
Однако Наполеон почувствовал, что под
маской приятного собеседника скрывался
умный, тонкий, хитрый политик.
Встреча с французским императором про¬
извела сильное впечатление и на Александ¬
ра I. Он был покорен умом и талантом На¬
полеона, его способностью при желании уй-
лечь и заинтересовать собеседника. Неуди¬
вительно, что Александр I как человек увле¬
кающийся, склонный к идеализации, бесе¬
дуя с французским дипломатом А. Савари,
сказал как-то о Наполеоне: ”Ни к кому я
не чувствовал такого предубеждения, как
к нему, но после беседы, продолжавшейся
три четверти часа, оно рассеялось как сон”* * 4.
В течение 12 дней происходили ежеднев¬
ные встречи Александра I с Наполеоном:
совместные обеды, верховая езда, вечерний
чай. Каждый из императоров старался сделать
для другого что-нибудь приятное. Алек¬
сандр I после неудачной военной кампании,
после поражения русской армии под Фрид-
1 Ванд ель А. Наполеон и Александр I,
т. 1. СПб., 1910, с. 61.
4 Сборник Русского Истортеского Об¬
щества (далее - РИО). СПб., 1893, т. 89,
с. XXXVII.
243
ландом сумел найти верный тон, позволив*
ший ему сохранить положение равноправ¬
ного партнера на переговорах и прийти в
короткий срок к компромиссу, удовлет¬
ворявшему обе стороны.
Однако для того, чтобы понять и пра¬
вильно оценить значение тильзитских согла¬
шений, необходимо учитывать весь комп¬
лекс предшествующих событий. За шесть
лет до встречи в Тильзите курс русской дип¬
ломатии претерпел существенную эволю¬
цию - от мирного соглашения с Францией,
подписанного 8(10) октября 1801 г. в Пари¬
же, и восстановления с ней дипломатических
отношений до вступления России в антина-
полеоновскую коалицию, поражения русских
войск при Аустерлице в 1805 г. и объявления
в ноябре 1806 г. войны Франции5. Неустой¬
чивость курса внешней политики не в по¬
следнюю очередь была обусловлена борьбой
разных группировок в правительстве.
Часть влиятельных сановников, возглав¬
лявшаяся канцлером Н.П. Румянцевым, вице-
канцлером А.Б. Куракиным и адмиралом
Н.С Мордвиновым, придерживалась про-
французской ориентации. Румянцев и его
сторонники выступали за так называемую
политику ’’свободы рук”, цель которой
состояла в максимальной отстраненности Рос¬
сии от европейской политической борьбы.
С их точки зрения, страна должна была из¬
бегать любых политических союзов, будь
то с Англией, Францией, Пруссией или Авст¬
рией, и добиваться расширения торговых
отношений со всеми государствами. Сторон¬
ники другой точки зрения по-прежнему
считали единственно верной политикой союз
с Англией и борьбу с наполеоновской Фран¬
цией. Во главе англофилов стоял многолет¬
ний посол в Лондоне СР. Воронцов. Особую
позицию занимала вдовствующая императри¬
ца Мария Федоровна. Она и ее окружение
настаивали на союзе с Пруссией.
В 1801 - первой половине 1804 г. Алек¬
сандр I и его ’’молодые друзья” А.А. Чар-
торыйский, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочу¬
бей, имевшие большое влияние на импера¬
тора, проводили в жизнь политику ’’свобо¬
ды рук”. Однако постепенно их симпатии
все больше и больше склонялись на сторо¬
ну Англии, что в конечном счете привело
Россию к участию в третьей антинаполеонов-
ской коалиции, главной задачей которой
было установление русско-английского гос¬
подства в Европе. Эта политика не увенча¬
5 Полное собрание законов Российской
империи с 1649 г., т. XXIX. СПб., 1806,
с. 865-866.
лась успехом. Наполеон нанес сокрушитель¬
ный удар под Аустерлицем войскам коали¬
ции, и союз антинаполеоновских сил рас¬
пался. В этих условиях усилилась позиция
сторонников союза с Пруссией. В 1805-
1806 гг. русская дипломатия активно уча¬
ствовала в создании четвертой коалиции.
Во второй половине 1806 г. антифранцузская
направленность политики русского двора
достигла апогея.
16(28) ноября 1806 г. Россия вступила
в войну с Францией. Этому предшествовали
вторжение французских войск в Пруссию
и последовавший затем разгром прусских
войск в течение одного днй в двух битвах
при Йене и Ауэрштедте. Прусский король
Фридрих Вильгельм III бежал из Берлина.
Французские войска оказались в непосредст¬
венной близости от границ Российской импе¬
рии. Парадоксальность ситуации заключалась
в том, что Наполеон еще с 1801 г. стремился
к союзу с Россией, видя в ней ту силу, кото¬
рая могла бы обеспечить установление кон¬
тинентальной блокады Англии. Но вместо
того, чтобы насладиться плодами победы у
себя дома, французская армия устреми¬
лась на восток навстречу 150-тысячной рус¬
ской армии, медленно вступавшей на земли
Польши.
Наполеон, обосновавшийся в Варшаве,
рассчитывал пробыть там до весны, дождать¬
ся, пока сойдет снег, а стало быть, и легче
будет вести военные действия. Но русские
войска, стремившиеся нанести Франции воен¬
ное поражение, перехватили инициативу,
и две армии встретились в снежный, ветре¬
ный февральский день в местечке Прёйсиш-
Эйлау. То был кровопролитный бой, длив¬
шийся с переменным успехом целый день.
Вечерние сумерки прервали битву, и ни На¬
полеон, сам командовавший своей армией,
ни главнокомандующий русской армией
Л.Л. Беннигсен не смогли сразу определить,
кому же досталась победа. Кругом лежали
тела убитых и раненых, но не было победите¬
лей и побежденных. Русская армия потеряла
26 тыс. человек, французы - около 28 тыс.
Беннигсен после некоторого раздумья
решил все-таки отвести войска первым.
Французы же остались на поле сражения,
где простояли девять дней, потом стали
отступать, преследуемые казаками М.П. Пла¬
това. Эго дало основание Наполеону спустя
два года сказать графу А.И. Чернышеву:
’’Если я назвал себя победителем битвы при
Эйлау, то потому, что вам угодно было от¬
ступить”6. Тем не менее русскому ком ан -
6 РИО, т. 89, с. XI.
244
до в ан ию сражение придало уверенность в
своих силах и вселило надежду на дальней*
шие успехи.
Обе армии расположились на зимних
квартирах. 13 февраля Наполеон направил
к Фридриху Вильгельму III генерала А.Г. Бер¬
трана с предложением начать переговоры о
мире. Борьба великих держав вступала в
решающую фазу. Александр I решил сам
отправиться на театр военных действий и
16 (28) марта покинул Петербург. В местеч¬
ке Бартенштейн он встретился с Фридри¬
хом Вильгельмом III и королевой Луизой,
имевшей, кстати сказать, большое влияние
на своего супруга. После тщательного изу¬
чения мирная инициатива Наполеона была
отвергнута. Вместо этого Россия и Пруссия
заключили новое соглашение, по которому
они обязывались не вступать ни в какие
переговоры с Наполеоном, пока француз¬
ская армия не окажется за Рейном. Этим
соглашением Александр I стремился ожи¬
вить четвертую антинаполеоновскую коали¬
цию. Но ни Англия, ни Австрия, ни Швеция
к ней не присоединились, и России с Прус¬
сией вновь пришлось сражаться с Францией
без союзников.
После некоторого перерыва в мае 1807 г.
ожидалось возобновление военных действий.
Александр I проводил смотры прибывающих
из России подкреплений и, вероятно, был
уверен, что ему удастся нанести поражение
Наполеону. Мечты о лаврах великого полко¬
водца явно не давали ему покоя.
Однако в окружении царя многие считали,
что русская армия совершенно не готова к
войне с Наполеоном и было бы безумием
стремиться к продолжению военных дейст¬
вий. Лучшим выходом из создавшегося
положения представлялось заключение с
Францией перемирия. Остроту возникших
споров отлично иллюстрирует разговор Алек¬
сандра I с братом, великим князем Констан¬
тином Павловичем, состоявшийся 1(13) ию¬
ня, т. е. накануне сражения при Фридланде.
Константин заявил царю: "Государь, если
вы не хотите заключить мира с Францией,
ну, что же! Дайте заряженный пистолет каж¬
дому из ваших солдат и скомандуйте им
пустить себе пулю в лоб; вы получите тот
же самый результат, какой вам даст новая
и последняя битва. Она неизбежно откроет
настежь ворота в вашу империю испытанным
в боях и всегда победоносным французским
войскам"7. Однако Александр был непрекло¬
нен и, не вняв призывам брата, приказал ему
возвратиться в армию, а сам поехал на смотр
7Там же, с. XV.
резервных войск в Юрбург. Константин же,
убежденный в своей правоте, в армию не от¬
правился и продолжал агитировать за заклю¬
чение перемирия. На следующее утро он
пригласил к себе А.Я. Будберга, Н.Н. Ново¬
сильцева, А. А. Чарторыйского, чтобы обсу¬
дить создавшееся положение. Все, кроме
Будберга, высказались за немедленное за¬
ключение перемирия. Вечером того же дня
на обеде у великого князя, где присутство¬
вали Куракин и Новосильцев, бурно обсуж¬
далась позиция Будберга. Константин Павло¬
вич высказал предложение о посылке парла¬
ментеров к Наполеону с тем, чтобы выяс¬
нить его намерения. Разговор этот происхо¬
дил еще до получения известия о поражении
при Фридланде.
Итак, еще 1 июня Александр I категори¬
чески отверг предложение заключить пере¬
мирие с Францией, хотя ближайшее окру¬
жение было уверено в необходимости этого
шага. Однако состоявшееся на следующий
день сражение при Фридланде, окончившееся
сокрушительным поражением русской ар¬
мии, заставило царя резко изменить позицию.
Армия была разбита, потеряв 30 тыс. уби¬
тыми и ранеными. Войска отступали в бес¬
порядке и остановились только около Тиль¬
зита. Прусский король бежал в Мем ель.
Наполеон, стремившийся заключить мир с
Россией, не стал преследовать отступавшего
и полностью деморализованного противни¬
ка, дав возможность Беннигсену перепра¬
виться на левый берег Немана, сжечь за собой
мосты и остановиться около Тильзита. Этим
он недвусмысленно демонстрировал Алек¬
сандру I свою готовность к переговорам.
Приступить к ним после всего происшед¬
шего российскому императору психологи¬
чески было очень непросто. Но решившись
в конце концов пойти на сближение с Напо¬
леоном, он, как мы увидим далее, действо¬
вал твердо и последовательно.
О тяжелом поражении своей армии Алек¬
сандр I узнал из донесения Беннигсена
3(15) июня. Сообщая о неудаче, главноко¬
мандующий высказывал убеждение в необ¬
ходимости начать переговоры о перемирии
Александру I не оставалось ничего иного,
как согласиться. 4(16) июня он отвечал
Беннигсену: "Вверив Вам, генерал, армию
прекрасную, явившую столь много доказа¬
тельств своей храбрости, я совершенно не
был подготовлен получить известия, кото¬
рые Вы мне ныне сообщили. Если у Вас,
кроме открытия переговоров о перемирии,
нет других средств выйти из затруднитель¬
ного положения, в котором находитесь,
то разрешаю Вам сие исполнить, но с тем,
245
однако, чтобы Вы договаривались от имени
Вашего. Я признал за благо отправить к Вам
генерал-лейтенанта князя Лобанова-Ростов¬
ского, находя его во всех отношениях спо¬
собным получить от Вас поручение для ве¬
дения этих щекотливых переговоров. Он
словесно передаст Вам приказания, кото¬
рыми я снабдил его, и, посоветовавшись
с генералом Поповым, отправьте его к Боу-
напарту. Вы должны чувствовать, сколь
тяжело мне обратиться к сему средству”*.
Заметим, что пока речь шла только о заклю¬
чении перемирия. Выполняя волю царя,
Л.Л. Беннигсен 6(18) июня поручил ко¬
мандующему арьергардом П.И. Багратиону
обратиться к французскому командованию с
предложением заключить перемирие сроком
на один месяц. В тот же день с этой целью
в ставку Наполеона был отправлен майор
Шеппинг.
Для ведения переговоров о перемирии
Александр I выбрал князя Д.И. Лобанова-
Ростовского. В данной ему 4 (16) июня
инструкции уже была предусмотрена воз¬
можность не только заключения перемирия,
но и ведения переговоров о мире. Правда,
Александр I уполномочивал князя вступить
в переговоры о мире только в том случае,
если о нем первым заговорит французский
представитель. На этот случай Лобанову-
Ростовскому давались особые инструкции.
Впрочем, сомневаться в том, что такое пред¬
ложение последует, не приходилось: Наполе¬
он уже давно думал о мире с Россией.
Стремительно развивавшиеся события
подтвердили правильность подобных пред¬
положений. Получив предложение о переми¬
рии, французы немедленно ответили согла¬
сием и со своей стороны выступили с ини¬
циативой начать переговоры о мире. В пол¬
ночь 8(16) июня к главнокомандующему
русской армией прибыл генерал Ж. Дюрок
и от имени Наполеона заявил о необходи¬
мости заключить мир. Дипломатический
представитель при штабе русской армии
В.П. Попов писал министру иностранных
дел А.Я. Будбергу: ”Ради бога не теряйте
времени. Что Боунапарте хочет мира,, дока¬
зывает самая присылка в полночь Дюрока”*.
В воспоминаниях главнокомандующий
русской армией генерал Беннигсен так опи¬
сывал эту встречу: ”Около 10 часов вечера
в тот же самый день в мою главную кварти¬
ру прибыл генерал Дюрок, с которым я
был лично и хорошо знаком... После первых
приветствий генерал Дюрок стал заверять
меня, что Наполеон желает вести перегово¬
ры не только о перемирии, но и о мире...
Генерал Дюрок стал уверять меня, что На¬
полеон искренне желает сблизиться с Импе¬
ратором Александром, но что необходимо
сговориться. Он несколько раз повторил
это последнее выражение, которое, по моему
мнению, намекало на личное свидание обоих
императоров - желание, высказанное Дю ро¬
ком с большим увлечением”1 °.
Сохранившиеся документы вместе с вос¬
поминаниями непосредственных участников
событий позволяют проследить день за днем
менявшуюся позицию российской диплома¬
тии. Еще 3(15) июня Александр I не мог ре¬
шиться на предложение перемирия от своего
имени, поэтому поручил сделать это Бенниг-
сену как бы самостоятельно. На следующий
день был назначен представитель России на
этих переговорах, и в инструкциях ему Алек¬
сандр I не исключал возможности обсужде¬
ния с французской стороной условий мир¬
ного договора (напомним, что всего не¬
сколько месяцев назад он принял обяза¬
тельство ни в коем случае не заключать
сепаратного мира с Францией). Теперь же
посланец Наполеона, прибывший к Бенниг-
сену, осторожно намекнул о возможном
’’сближении” России с Францией, предлагая
с этой целью личное свидание двух импера¬
торов. Александр I оказался готовым и к
этому. Не прошло и недели, как встречи
российского монарха и французского импе¬
ратора стали реальностью.
7(19) июня русско-французские перего¬
воры о перемирии начались. Лобанов-Рос¬
товский в точном соответствии с получен¬
ными инструкциями заявил, что Россия
никогда не заключит перемирия на унизи¬
тельных для нее условиях, и выдвинул
предложение сохранить нынешние границы.
Со стороны французского представителя
маршала Л. А. Бертье это не встретило воз¬
ражений. Он подчеркнул, что Франция не
имеет никаких территориальных претензий
к России (данный вопрос особенно трево¬
жил Александра I), но в качестве условия
выдвинул требование, чтобы Франции были
переданы три прусские крепости: Граудентц,
Пилау и Кольберг. К концу первого дня
переговоров Бертье сделал официальное
предложение не только подписать переми¬
рие, но и заключить мирный договор. Вече¬
ром того же дня французские условия стали
известны Александру I. 8(20) июня в пись¬
ме, адресованном Беннигсену, он так сфор-
*Там же, с. 16.
*Там же, с. 24.
1 °3аписки графа Л.Л. Бенн иг сен а о вой¬
не с Наполеоном 1807 г. СПб., 1900, с. 260.
246
мулировал свое отношение к поставленным
вопросам: ’’Мой генерал! Ни Граудентц, ни
Пилау, ни Кольберг не принадлежат мне.
Я не могу дать согласие на передачу этих
крепостей”11. Кроме того, в этом же письме
Александр I сообщал о своем согласии на
подписание перемирия сроком на один ме¬
сяц при условии, что войска обеих сторон
останутся на прежних позициях. Начать пере¬
говоры о мире он считал возможным только
после заключения перемирия.
9(21) июня переговоры были продолже¬
ны и в тот же день завершились подписанием
перемирия. Как сообщал Лобанов-Ростов¬
ский Александру I, Бертье уверял его, что
Наполеон искренне стремится не только к
миру, но и к союзу с Россией. Кроме того,
продолжал князь, Бертье добавил, ”что
если бы главы обоих государств имели
возможность объясниться, тогда бы в самое
короткое время и мир последовал по су¬
щественным выгодам обеих держав”1 а.
На следующий день Наполеон утвердил
текст перемирия. Под звон бокалов обсуж¬
дался дальнейший ход переговоров. Напо¬
леон заявил Лобанову-Ростовскому о своем
желании лично встретиться с Александром I.
Наступал решающий момент, когда на
арену дипломатических переговоров должен
был выйти сам Александр I. Во внешней по¬
литике России предстояло сделать резкий по¬
ворот, и осуществить его мог только лишь
император. Весь ход событий подталкивал
его к самостоятельным действиям. Наполеон
настаивал на необходимости личных пере¬
говоров. В самом окружении Александра I,
как оказалось, не было никого, кто мог бы
взять на себя бремя ответственности не толь¬
ко за мир с Францией, но и за союз с ней (а о
том, что Наполеон будет к этому стремиться,
сомнений почти не оставалось после несколь¬
ких намеков французских представителей).
Логика событий неумолимо влекла россий¬
ского монарха на дипломатическое поприще.
Наступило время его дипломатического де¬
бюта.
До сих пор ведение таких переговоров
обычно возлагалось на приближенных импе¬
ратора. Александр I как самодержец брал
на себя общее руководство внешней полити¬
кой, выработку стратеги!еского курса. Прак¬
тическое же его осуществление находилось
в руках профессиональных дипломатов. На¬
полеон, ломая устоявшиеся традиции абсо¬
лютистских режимов, стремился к личным
контактам. Александру I ничего не остава-
11 РИО, т. 89, с. 24.
-^Русская старина, 1899, т. 98, с. 595.
лось, как принять предложение о прямых
переговорах.
Уже 11 (23) июня Александр I давал
Лобанову-Ростовскому следующие настав¬
ления: ’’Скажите ему (Наполеону. - Г.К),
что этот союз Франции с Россией постоянно
был предметом моих желаний и что, по
моему убеждению, один только этот союз
может обеспечить счастье и спокойствие ми¬
ра. Система совершенно новая должна за¬
менить ту, которая существовала до сих
пор. И льщу себя надеждой, что мы с импера¬
тором Наполеоном легко сговоримся, если
только станем переговариваться без посред¬
ников. Прочный мир может быть заключен
между нами в несколько дней”1 3.
Возвратившись в Тильзит 12(24) июня,
Лобанов-Ростовский уведомил маршала Бер¬
тье об утверждении Александром I переми¬
рия. В этот же день произошел обмен рати¬
фикационными грамотами и представители
обоих сторон условились о личной встрече
двух императоров на Немане на следующий
день.
Во время первой встречи Наполеон пред¬
ложил Александру I переселиться в Тильзит,
объявив для этого часть города нейтральной.
Александр согласился. 14 (26) июня состоя¬
лась вторая встреча Наполеона с Александ¬
ром I на плоту, а затем до 25 июня (7 июля)
они встречались практически ежедневно в
Тильзите.
Александру I пришлось самому вести
переговоры и выбирать те единственно вер¬
ные решения, которые могли бы обеспечить
интересы России. И, надо отдать ему должное,
царь проявил себя тонким и умелым дипло¬
матом. Вначале побежденный, он заключил
перемирие с победителем, полностью соот¬
ветствовавшее интересам России: демарка¬
ционная линия была проведена, как и пред¬
лагал Александр I, по реке Неман (статья 4),
Наполеон согласился в течение четырех-пяти
дней заключить перемирие с прусским коро¬
лем (статья 3), обе стороны обязывались на¬
значить в скорейшем времени уполномочен¬
ных для ’’заключения и подписания оконча¬
тельного мира между обеими великими и мо¬
гущественными державами”14. В дальней¬
шем в ходе переговоров с Наполеоном Алек¬
сандр I не только шел на уступки сопернику,
но и добивался ощутимых успехов.
Весь круг обсуждавшихся проблем нашел
13 РИО, т. 89, с. 31.
14 Внешняя политика России XIX и нача¬
ла XX в. Документы российского минис¬
терства иностранных дел (далее - ВПР),
серия I, т. III. М., 1963, с. 616-618.
247
отражение в подписанных российскими и
французскими представителями 25 июня
(7 июля), а затем и ратифицированных обои¬
ми императорами двух документах: русско-
французском договоре о мире и дружбе и
русско-французском договоре о наступа¬
тельном и оборонительном союзе.
Первый договор (за исключением сек¬
ретных статей) вскоре был опубликован,
второй же стороны обязались хранить в
строжайшей тайне. Эту договоренность вско¬
ре весьма любопытным образом - созданием
и распространением фальшивых текстов это¬
го договора - нарушила Франция.
В мирном договоре было зафиксировано
положение, сложившееся в Европе ко вре¬
мени его подписания. Александр I наконец
официально признал Наполеона ’’императо¬
ром французов”. Были признаны все терри¬
ториальные и политические изменения в За¬
падной Европе, которые явились результа¬
том захватнических войн наполеоновской
Франции (статья XVI). Это являлось, как
справедливо указывается в современной ис¬
ториографии, ’’безусловно крупнейшей по¬
бедой наполеоновской дипломатии”1 *. Од¬
нако не следует забывать, что сама Россия
не понесла никаких территориальных потерь
и даже приобрела Белостокскую область
(статья X). Далее вся Европа была поделена
на ’’сферы влияния”: Западная Европа при¬
знавалась ’’сферой влияния” Франции, Вос¬
точная - России. И это не отнесешь к числу
поражений российской дипломатии. Алек¬
сандр I сумел сохранить и самостоятельность
Пруссии (статья IV). Не удалось полностью
исключить вмешательство Франции в восточ¬
ные дела: Наполеон признавался посредни¬
ком при урегулировании спорных вопросов
между Россией и Турцией (статья XIV).
Создавалось покровительствуемое Фран¬
цией так называемое герцогство Варшав¬
ское. Наконец, к Франции отходили Иони¬
ческие острова (II секретная статья). Оце¬
нивая мирный договор в целом, можно без
большого преувеличения сказать, что по
нему побежденная Россия получала ничуть
не меньше, чем победившая Франция.
Иное дело - союзный договор15 16. В нем
содержались серьезные уступки Наполеону.
Первая же его статья обязывала Россию
’’действовать сообща как на суше, так и
на море” против всякой европейской дер¬
жавы, которая будет находиться в состоя¬
нии войны с (^эанцией. Однако большой по¬
бедой русской дипломатии было то, что
обязательство о ведении военных действий
против Англии формулировалось крайне
туманно. В дальнейшем это дало России
возможность уклоняться от настояний Фран¬
ции и в конце концов так и не выступить
против Англии.
Более тяжелой для России была статья IV,
согласно которой Александр I брал на себя
обязательства предложить Англии свое по¬
средничество для установления мира между
Англией и Францией. Англия должна была
принять посредничество России до 1 ноября
1807 г., а в случае отказа Россия после 1 де¬
кабря 1807 г. примыкала к континенталь¬
ной блокаде. Эта статья серьезно задевала
экономические интересы российских дворян
и купцов, связанных с экспортом товаров
в Англию.
В то время как Россия соглашалась вы¬
ступить посредником в переговорах между
Англией и Францией, Франция, согласно
статье VIII, обязалась предложить свое по¬
средничество в заключении мира между Рос¬
сией и Портой, а в случае неудачи - ’’дейст¬
вовать заодно с Россией против Оттоманской
Порты”.
Вот так закончились полностью перевер¬
нувшие внешнеполипяескую ориентацию
России тильзитские переговоры, которые ста¬
ли дипломатическим дебютом российского
императора. Верил ли он сам в прочность
заключенных соглашений? Собирался ли
точно и во всем следовать ’’духу” Тильзи¬
та? Вероятно, нет.
27 июня (9 июля) переговоры заверши¬
лись. Рано утром императоры обменялись
орденами. Орден Святого Андрея Перво¬
званного был пожалован И. Мюрату, мар¬
шалу А.А. Бертье, министру иностранных
дел Ш.М. Талейрану. Орден Почетного Ле¬
гиона получили великий князь Константин
Павлович, министр иностранных дел
Л. Л. Будберг, князья А. В. Куракин и
Д.И. Лобайов-Ростовский. Оба императора
почувствовали облегчение после закончив¬
шихся переговоров и весьма довольные
их результатами договорились о следующей
встрече.
Г.А. Кузнецова
15Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий.
М., 1966, с. 101.
16 См. ВПР, серия 1,т. III, с. 645.
248
Научная жизнь
Научные сессии и конференции
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СССР И ГЕРМАНИИ В 20-30-е годы
С 15 по 20 апреля 1991 г. в Ярославле
проходила вторая межвузовская научная
конференция по теме: ’’Социально-полити¬
ческое развитие СССР и Германии в 20-30-е
годы”1. Организаторами ее были Ярослав¬
ский и Кассельский университеты. В работе
конференции участвовали преподаватели
этих университетов и МГИМО МИД СССР.
Конференцию открыл д.и.н., проф.
М.Е. Ерин. В докладе д.и.н. проф. А.А. Ах-
тамзяна ’’Новые аспекты в исследовании
советско-германских отношений в 20-30-е
годы” был дан всесторонний анализ поли¬
тических, экономических и военных отноше¬
ний между Веймарской республикой и СССР.
Особое внимание докладчик обратил на опыт
экономического взаимодействия двух стран
и на военные аспекты сотрудничества между
рейхсвером и Красной Армией2.
Проф. Э. Хенниг (ФРГ) сделал доклад на
тему: ’’Анализ проблем государственного
капитализма и государственного социализма
Институтом социальных исследований”. Док¬
ладчик попытался проанализировать различ¬
ные точки зрения по проблеме тоталитаризма
в немецкой историографии и взгляды пред¬
ставителей Франкфуртской школы о фа¬
шизме. Рассмотрены концепции фашизма
таких известных ученых, как Макс XopR-
хеймер, Фридрих Поллок, Франц Нейман.
Большой интерес вызвала оценка, данная
докладчиком, дискуссии о 1933, 1945 и
1989 гг.
Оживленная дискуссия среди участников
конференции развернулась по докладам ’’Рас¬
пад партийной системы Веймарской респуб¬
лики” М.Е. Ерина, ’’Гитлеризм и сталинизм
1 Первая конференция состоялась в апре¬
ле 1990 г. в Касселе, подробнее о ней см.:
Новая и новейшая история, 1990, № 6, с. 228-
230. Кассельский университет полностью
опубликовал материалы этой конференции:
Stalinismus-Nationalsozialismus. Forschungskol-
loqueum mit Historikern der University Jaros-
lawl (UdSSR) vom 17. bis 21. April 1990 an
der Gesamthochschule Kassel. Kassel, 1991.
2 Статью на эту тему см. Новая и новей¬
шая история, 1990, № 5, с. 3-24.
(сравнительная характеристика) ” М.Е. Ерина
и к.ил., доц. А.Г. Чукарева.
К этой проблематике тесно примыкают
доклады к. филос. н„ доц. М.Ю. Мизулина
’’Тоталитаризм и свобода” и к.и.н., доц.
В.П. Федюка ’’СССР в 20-30-е годы: пропа¬
ганда как атрибут тоталитарного общества”.
Значительный интерес вызвало выступле¬
ние проф. Г. Шефера (ФРГ) ’’Идея государст¬
ва и демократическая теория Карла Маркса
и Фридриха Энгельса - заметки о соотно¬
шении социализма и демократии”. По мне¬
нию докладчика, для Маркса демократия
есть ’’конституционная категория”, а всеоб¬
щее избирательное право есть основа демок¬
ратической конституции.
Комплекс проблем, поднятых на конфе¬
ренции, был связан с судьбой советских и
немецких военнопленных, с судьбой на¬
сильственно угнанных в Германию в годы
войны, с психическими повреждениями у
жертв нацизма. Д-р Г. Майер (ФРГ) в докла¬
де ’’Советские принудительные рабочие на
заводах военной промышленности города
Касселя в 1941-1945 гг.” показал усло¬
вия жизни и работы, страдания насильствен¬
но угнанных и военнопленных, отношение
к ним со стороны администрации.
В докладе А.С. Шильникова и В. А. Гороб-
ченко ’’Немецкие военнопленные на террито¬
рии Ярославской области в середине -
второй половине 40-х годов” были подведе¬
ны результаты поисковой работы по выявле¬
нию судеб немецких военнопленных и отме¬
чены трудности, с которыми встретились
поисковые группы. В сообщении В.А. Смир¬
нова ’’Некоторые вопросы подсчета военных
потерь в войне 1941-1945 гг.” приводились
данные о потерях по Ярославской области в
годы Отечественной войны. Тема выступ¬
ления дфа Шмеллинга (ФРГ) ’’Психические
последствия, вызванные преследованием
жертв национал-социализма, в том числе у
потомства преследуемых”.
Происхождение различных концепций
нации рассматривалось в докладе д-ра М. Ки¬
зер л ин га (ФРГ). Интересен в этом плане кри¬
тический анализ взглядов на происхождение
249
нации Ф. Шиллера и И.Г. Фихте, а также раз¬
бор метода психоанализа, используемого в
целом ряде работ для исследования ’’нера¬
циональной” стороны человеческого сущест¬
вования.
Значительное место в работе конференции
было уделено проблемам развития совет¬
ского общества. К.и.н., доц. А.М. Селиванов
сделал доклад* на тему: ’’Социально-полити¬
ческая активность крестьянства в условиях
нэпа”. С сообщениями на конференции высту¬
пили: кандидаты исторических наук Е.М. Хи-
мович - ’’Проблема контроля за удешевле¬
нием аппарата управления (1928-1932 гг.)
И.Ю. Шустрова - ’’Современные этнические
процессы у советских немцев”; Ю.Б. Кузне¬
цова - ’’’’Новый курс” и рабочие клубы
(к вопросу о военно-коммунистических ме¬
тодах в сфере культуры) аспиранты
Ю.Г. Салова - ’’Немецкая педагогическая
мысль и создание советской системы обра¬
зования в 1921-1925 гг.”; И.Ю. Киселев -
’’Власть и политическая система в СССР”.
Участники конференции констатировали,
что наши взаимоотношения в сфере науки и
высшего образования должны расширяться и
укрепляться. Они пришли также к выводу о
необходимости регулярного проведения по¬
добных конференций.
М.Е. Ерин
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Межвузовская научная конференция, пос¬
вященная этой теме, состоялась 11-12 июня
1991 г. в Свердловске. Она была организо¬
вана кафедрой мировой политики и между¬
народных отношений Уральского социально-
политического института. На обсуждение бы¬
ли вынесены три основных блока проблем:
модели политического развития и между¬
народные отношения в межвоенный период;
начало Великой Отечественной войны в сов¬
ременной историографии и политические
портреты участников событий кануна Вели¬
кой Отечественной войны.
Ряд вопросов, на которых сосредоточи¬
лась последующая дискуссия, был обозна¬
чен во вступительном слове заведующего
кафедрой проф. В.А. Кузьмина: насколько
вероятной была возможность предотвратить
войну; в чем состояла и чем объясняется
неготовность Советского Союза к войне;
в чем истоки победы СССР и его союзников
над агрессором; каковы уроки войны для
современных международных отношений и
советской внешней политики?
В ходе пленарного заседания оживлен¬
ное обсуждение развернулось вокруг выс¬
туплений д.и.н. А.Г. Чевтаева (Свердловск)
’’Фактор Советского Союза в европейской
политике накануне и в начальный период
Великой Отечественной войны”, д. филос.н.
М.И. Колесниковой (Москва) ”К вопросу
об исторической состоятельности больше¬
вистской концепции преобразования между¬
народных отношений”, кандидатов истори¬
ческих наук С.А. Порошина ’’Некоторые
проблемы истории Великой Отечественной
войны в современной политической борь¬
бе”, С.И. Константинова ’’Начальный период
Великой Отечественной, войны и советская
военная доктрина”, к.филос.н. С.В. Корни¬
ловой (все - Свердловск) ’’Внешнеполити¬
ческая модель развития Советского госу¬
дарства накануне Великой Отечественной
войны во взглядах И.В. Сталина”. Участник
Великой Отечественной войны Н.Л. Огнев
(Свердловск) говорил об отношении к те¬
зису о внезапности германского нападения
на СССР.
В секции ’’Модели политического раз¬
вития и международные отношения в меж¬
военный период” прозвучали сообщения
Д.и.н. Д.А. Миронова (Свердловск) ’’Влия¬
ние социал-демократии на развитие полити¬
ческой ситуации в странах Европы в меж¬
военный период (на примере Австрии) ”,
Э.В. Морозовой (Иркутск) ’’Модели поли¬
тического развития Европы в 20-30-е годы”.
В выступлениях кандидатов исторических
наук С.П. Цыганковой, Л.В. Шацких (обе -
Тюмень), В.Н. Земцова, а также А.Н. Ханова
(оба - Свердловск) были затронуты раз¬
личные аспекты, связанные с внешней поли¬
тикой США в Европе и на Дальнем Востоке
между двумя мировыми войнами. Неко¬
торые вопросы истории международных от¬
ношений на Ближнем и Среднем Востоке
были освещены в сообщении В.А. Кузьмина
’’Заключение Саадабадского пакта и обра¬
зование Ближневосточной Антанты накануне
второй мировой войны”.
На секции ’’Начало Великой Отечествен¬
ной войны в сойременной историографии”
выступили кандидаты исторических наук
А.И. Борозняк (Свердловск) ’’Современ¬
ная германская историография о ’’плане
Барбаросса””, Н.С. Черкасов (Томск)
250
’’’’Спор историков” в ФРГ и тезис о ’’превен¬
тивной войне” Гитлера против СССР”,
В.А. Зубачевский (Омск) ’’Советско-польс¬
кие отношения летом 1941 г. в свете новых
документов”, В.М. Щуплецов (Свердловск)
’’Подготовка к созданию фашистской систе¬
мы принудительного труда”.
Оргкомитет конференции получил много¬
численные тезисы выступлений от ученых
Москвы, Каунаса и Свердловска. Решено
опубликовать их в отдельном сборнике на¬
ряду с тезисами всех выступавших на кон¬
ференции.
В.Н. Земцов, В.А. Кузьмин
Научная жизнь в вузах страны
О НАУЧНОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
Кафедра всеобщей истории была создана
в Запорожском государственном универ¬
ситете (ЗГУ), тогда еще в Запорожском
государственном педагогическом институте,
в 1971 г. В настоящее время на кафедре ра¬
ботают 11 преподавателей; из них один
доктор и пять кандидатов исторических
наук. Научно-исследовательская работа ка¬
федры стала в последнее время определять¬
ся по двум направлениям: ’’Международ¬
ные отношения в Западной Европе в XVI-
XVIII вв.” и ’’Зарубежная историография
истории запорожского казачества”. По пос¬
ледней теме кафедра в содружестве с кол¬
легами из Днепропетровского университета
будет готовить к изданию коллективную
монографию. С 1988 г. коллектив кафедры
всеобщей истории ЗГУ возглавляет д.и.н.,
проф. Ю.Е. Ивонин.
Ю.Е. Ивонин является специалистом по
позднему средневековью и первому периоду
нового времени. Основное место в его иссле¬
дованиях занимает изучение международных
отношений в Западной Европе XVI - начала
XVII в., а также анализ проблем княжеско¬
го абсолютизма в Германии XVI-XVIII вв?
1 Ивонин Ю.Е, Религиозно-политические
союзы в западноевропейской политике пер¬
вой половины XVI в. - Вопросы истории,
1978, № 11; его же. Западная Европа и Ос¬
манская империя во второй половине XV-
XVI вв. - Вопросы истории, 1982, № 4;
его же. У истоков европейской дипломатии
нового времени. Минск, 1984; Ivonin J.
England und Sachsen in der Mitte des XVI
(J-t.). - Jahrbuch fur Regionalgeschichte,
Bd. XI. Weimar, 1984; idem. Zur Genesis das
Kapitalismus in West-, Slid- und Mitteleuropa. -
Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1988,
H. 3; его же. Становление европейской систе¬
мы государств. Англия и Габсбурги на ру¬
беже двух эпох. Минск, 1989; его же. Нужна
ли еще одна дискуссия об абсолютизме? -
Вопросы истории, 1989, № 12.
Сфера научных интересов к. и л., доц. И.М. Би¬
рюлёва - историографические проблемы
Ноябрьской революции в Германии3.
Идейно-политические предпосылки войны
за независимость в Латинской Америке
(1810-1826 гг.) - тема исследований к.и.н.,
доц. Н.И. Залиского3. К.и.н., доц. Л.В. Голуб¬
кова занимается изучением политического
развития ЮАР в 80-е годы XX в. Исследова¬
нием проблем истории Древнего мира на ка¬
федре занимается к.и.н., доц. А.М. Малё-
ваный4. С.И. Андрух разрабатывает археоло¬
гическое наследие скифских племен на тер¬
3 Бирюлёв И.М. Советские историки об
июльском кризисе 1917 г. в правящих кру¬
гах Германии. - Вопросы германской исто¬
рии. Днепропетровск, 1985; его же. Еще об
одной попытке замолчать международное
значение Октябрьской революции. - Вопросы
германской истории. Днепропетровск, 1987.
3 Залиский Н.И. К вопросу об идейно¬
политических предпосылках войны за незави¬
симость в Латинской Америке (1810—
1826 гг.). - Молодь 1актуальн1 проблеми
icropHHHoi науки. Ки1в, 1990; его же.
Украшська емйгращя в Латинську Аме¬
рику на меж! XIX-XX столггтя. - Пробле¬
ми icTopii нацюнально-визвольного руху
на УкрашГв перюд каппал!зму та фео-
дал!зму. Киш, 1991.
4 Малёваный А.М. Римская колонизация
и социально-экономические отношения в про¬
винции Иллирик к началу I в.н.э. - Антич¬
ный мир и археология. Вып. 8. Саратов,
1990; его же. Август Бёк. - Западноевропей¬
ская историография античности. Казань,
1991, Малёваный А.М., Чиглинцев В.Г.,
Шофман А.С. Классовая борьба в древнем
мире. Казань, 1987. Перевод на испанский
язык опубликован в Сарагосе в 1989 г.
251
ритории СССР5. А.Р. Давлетов завершил
работу над диссертацией, посвященной изуче¬
нию обстоятельств разрушения буржуазно¬
демократических структур Веймарской рес¬
публики и роли НСДАП в этом процессе6.
А.В. Кирилков занимается изучением дея¬
тельности ’’Римского клуба”. Ряд препода¬
вателей и аспирантов кафедры занимаются
проблемами истории международных отно¬
шений в Европе XVI-XVIII в.в. К.и.н.
Л.И. Ивонина исследует англо-французские
отношения периода Тридцатилетней войны7.
Л.А. Нестеренко изучает гражданские войны
во Франции второй половины XVI в. Тема
аспирантки Н.И. Иванченко: ’’Английская по¬
литика по отношению к гугенотам во время
религиозных войн во Франции (1562-
1594 гг.)”. В.Г. Белоусов анализирует при¬
чины и последствия англо-голландских тор¬
говых войн конца XVII в.
Члены кафедры всеобщей истории актив¬
но участвуют в подготовке межвузовских
сборников научных работ, в частности, Днеп¬
ропетровского, Белорусского, Киевского,
Кишиневского университетов8. Они публи¬
куются также в журналах ’’Вопросы исто¬
рии”, ’’Новая и новейшая история”, ’’Народы
Азии и Африки”, ’’Украинский исторический
журнал”, ’’Zeitschrift fur Geschichtswissen-
schaft” и др.9 * На базе кафедры были прове¬
5 Андрух С.И., Чернов С.И. Новые скиф¬
ские памятники Дунайско-Днестровского
междуречья. - Советская археология, 1990,
№ 2; их же К вопросу о датировке монет
скифского царя Акросока. - Нумизмати¬
ческие исследования по истории Юго-Восточ¬
ной Европы. Кишинев, 1990.
6 Давлетов А.Р. К вопросу о крахе бур¬
жуазной демократии Веймарской республики
(1924-1933 гг.). - Вопросы германской
истории. Днепропетровск, 1986.
7 Ивонина Л.И. Англо-французские отно¬
шения 1625-1629 гг. и парламентская оппо¬
зиция. - Проблемы идеологии и культуры
средних веков. Л., 1987; ее же. Англо-фран¬
цузский конфликт 1627-1628 гг. и осада
Ларошели. - Средневековый город. Вып. 10.
Саратов, 1991.
8 Давлетов А.Р. Малоизученные обстоя¬
тельства победы НСДАП на выборах в рейх¬
стаг 14 сентября 1930 г. - Вопросы герман¬
ской истории. Днепропетровск, 1990;
Сжечь - не значит опровергнуть. Очерки о
еретиках и реформаторах в средневековой
Европе. Под ред. Ю.Е. Ивонина. Минск,
1991, и др.
9 Ивонин Ю.Е. Позднее средневековье или
ранняя новая история. - Вопросы истории.
1987. № 1; его же. Абсолютизм в Германии
XVII-XIX вв. - Новая и новейшая история,
1990, № 4; Нестеренко Л.А. Допитання про
дены в октябре 1988 г. и апреле 1991 г.
два научных семинара ’’Международные свя¬
зи в средневековой Европе”, на которых
рассматривались также вопросы международ¬
ных отношений в Европе XVII-XVIII вв. Оба
семинара привлекли внимание научной
общественности. Сотрудники кафедры прини¬
мают участие как в региональных и всесоюз¬
ных научных конференциях, так и междуна¬
родных. Проф. Ю.Е. Ивонин был участником
заключительной конференции в г. Галле,
посвященной 500-летию со дня рождения
Томаса Мюнцера, а также XVIII Между¬
народного конгресса виэантистов в Москве
в августе 1991 г. Он является национальным
редактором от СССР в ежегодном междуна¬
родном бюллетене ’’Исследователи ранней
новой Европы”, издающемся в США, и ре¬
ферентом по советским изданиям в журнале
’’Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft” (Бер¬
лин, ФРГ)10.
Учебно-методическая работа коллектива
кафедры нацелена на всемерное улучшение
профессиональной подготовки будущих
специалистов-историков широкого профи¬
ля . Основные трудности, с которыми стал¬
киваются преподаватели кафедры: отсутст¬
вие новой литературы на иностранных язы¬
ках в местных библиотеках, сложности с
зарубежными стажировками и командиров¬
ками.
Вместе с тем пополнение кафедры за счет
молодых людей, находящихся в целевой аспи¬
рантуре в вузах Москвы и Днепропетровска,
а также собственных аспирантов позволяет
надеяться, что в ближайшие годы кафедра
будет укомплектована профессионально под¬
готовленными преподавателями по всем
разделам истории зарубежных стран.
А.Р. Давлетов
характер та значения реформац!йного руху
у Франц ii в першШ половин! XVI столгг-
тя. - Украшський юторичний журнал,
1988, № 8; Голубкова Л.В. (в соавторст¬
ве). Трудное рождение учебника. - Народы
Азии и Африки, 1990, № 2.
10 См., например: Ивонин Ю.Е. Проблем¬
ные лекции и семинары в курсе позднего
средневековья (Тезисы). - Перестройка исто¬
рического образования в высшей школе. -
Днепропетровск, 1990; его же. Научный
семинар ’’Международные связи в средне¬
вековой Европе”. - Средние века. Вып. 53.
М., 1990; его же. Международные связи
в средневековой Европе. Тезисы докладов и
сообщений. Запорожье, 1988, 1991.
252
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ЖУРНАЛЕ "НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ" в 1991 г.
СТАТЬИ
Бровко Л.Н. Церковь и ’’третий рейх” № 4
Васецкий Н.А. Как создавался IV Ин¬
тернационал . . . № 5
Волков В.К. Новые тенденции в разви¬
тии исторической мысли в странах
Центральной и Юго-Восточной Ев¬
ропы № 4
Гаджиев К.С. Современный консерва¬
тизм : опыт типологизации № 1
Гинцберг Л.И. Московские процессы
1936-1938 гг.: позиция деятелей
международного коммунистическо¬
го движения № 6
Гэддис Дж.Л. (США). Предваритель¬
ные оценки послевоенного проти¬
востояния № 3
Жиро Р. (Франция). Франция. 1939 год №2
Киршин Ю.Я., Раманичев Н.М. Накану¬
не 22 июня 1941 г. (по материалам
военных архивов) № 3
Академик Ковальченко И.Д. Некото¬
рые вопросы методологии истории № 5
Манусевич А.Я. Трудный путь к Риж¬
скому мирному договору 1921 г. № 1
Медушевский А.Н. Абсолютизм XVI—
XVIII вв. в современной западной
историографии № 3
Мещеряков М.Т. Коммунистическая
партия Испании и Коминтерн № 5
Мкртичян А.А. П.А. Кропоткин и
Западная Европа №2
Могильницкий Б.Г. Историческое по¬
знание и историческая теория .... № 6
Мусатов В.Л. Восточная Европа: про¬
цесс перемен № 2
Академик Нарочницкий А.Л. Установ¬
ление дипломатических отношений
между Россией и Сербией в 1838 г. № 3
Рейнольдс Дг (Великобритания). Вели¬
кобритания и ’’третий рейх”. 1933-
1940 гг № 3
Рокитянский Я.Г. Историзм в подходе
к ’’Манифесту Коммунистической
партии” о №4
Согрин В.В. Этапы американского кон¬
серватизма № 5
Академик Тихвинский СЛ, Шмидт СО.
Историки и сохранение культурного
наследия человечества . . № 1
Академик Тихвинский С.Л. XVII Меж¬
дународный конгресс исторических
наук в Мадриде №2
Фирсов Ф.И. Коминтерн: механизм
функционирования № 2
Фонер Э. (США). Рабство, Граждан¬
ская война и Реконструкция: новей¬
шая историография № 6
Член-корр. АПН СССР Фураев В.К.
(Ленинград). Об историческом об
разовании в педагогических вузах № 4
Чубарьян А.О. Происхождение ’’холод¬
ной войны” в историографии Во¬
стока и Запада № 3
Шириня К.К. Троцкий и Коминтерн № 1
Шлезингер А. (США). Некоторые уро¬
ки ’’холодной войны” № 1
Язькова А.А. Восточная Европа в по¬
литике СССР и США (1944-
1945 гг.) № з
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
Соловьев Б.Г. О политическом ха¬
рактере второй мировой войны № 3
Черняк Е.Б. История XIX в.: проб¬
лемы и размышления №1
’’КРУГЛЫЙ СТОЛ”
’’Круглый стол” в МИД СССР № 5
Революция и реформа: их влияние на
историю общества № 2
ПУБЛИКАЦИИ
23 августа 1944 г. в Румынии № 6
Денчев К., Мещеряков М.Т. Дневни¬
ковые записи Г. Димитрова ..... № 4
Из дневника и писем посла Велико¬
британии в СССР в 1941-1942 гг.
С. Криппса № 3
ВОСПОМИНАНИЯ
Болдырев А.С. Работая с А.Н. Косы¬
гиным № 2
Главный маршал артиллерии Воро¬
нов Н.Н. На службе военной ..... № 6
253
Корниенко Г.М. Новое о Карибском
кризисе ...... о ... . № 3
Рощин А.А. Организация Объединен¬
ных Наций и ’‘холодная война”. , . , № 5
Федоренко Н.Т. Записки дипломата №4
СОВЕТСКИЕ ДИПЛОМАТЫ
Сизоненко А.И. Полпред СССР
Я.З. Суриц № 3
Шейнис З.С. Полпред Б.Е. Штейн
(штрихи к биографии) ........ № 1
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Культура и история (ответы д.и.н.,
проф. А.Я. Гуревича на вопросы
редакции журнала) № 1
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Белоусов Л.С. Бенито Муссолини:
политический портрет . №5,6
Борисов Ю.В. Три портрета времен
Людовика XIV № 1
Борисов Ю.В. Фаворитки Людови¬
ка XIV №4
Виноградов В.Н. Путь Бернарда Шоу
к фабианскому социализму № 3
Гиленсен В.М. Германская военная
разведка против России (1871-
1917 гг.) . № 2
Глинкин А.Н. Боливар и Сан-Мартин:
загадки и мифы встречи в верхах
1822 г №3
Котова Е.В. Династия Габсбургов .... № 4
Нильсен Е.П. (Норвегия). П. Милюков
и И. Сталин. О политической эволю¬
ции Милюкова в эмиграции (1918 —
1943) ........ № 2
Член-корр. АН СССР Писарев Ю.А.
Российская эмиграция в Югославии № 1
Член-корр. АН СССР Писарев Ю.А.
Шесть десятилетий на троне: черно¬
горский монарх Николай Петрович-
Негош № 6
Полонская Л.Р. Махатма Ганди: смысл
жизни № 4
Потапов А.В. Кризис ГДР в 80-х годах
и объединение Германии № 5
Рязанцев В.Б. Обреченный на подвиг:
трагическая судьба командующего
Юго-Западным фронтом генерала
М.П. Кирпоноса . № 5
Саплин А.И. Испанский мыслитель
XIX в. Анхель Ганивет № 3
Соловьев О.Ф. Нарву с: политический
портрет № 1
Туполев Б.М. Династия Гогенцоллер-
нов . № 6
Хавкин Б.Л. Рейхсфюрер СС Гиммлер № 1
ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ
Вяземский Е.Е., Хавкин Б.Л. О пре¬
подавании истории в школах ..... № 3
Ответ Госкомобразования журналу . . № 4
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ
Дёниц К. Двадцать дней на посту гла¬
вы государства № 6
Генерал-фельдмаршал Кейтель В.
Взгляд в прошлое. Накануне смерт¬
ного приговора (из воспоминаний
о 1940-1945 гг.) №2,3
Шелленберг В. Мемуары № 5
Ширер У. “Барбаросса”: очередь Рос¬
сии (из книги ’’Взлет и падение
’’третьего рейха” ”) № 4
Чакыров К. Из записок помощника
Тодора Живкова № 6
ПОРТРЕТЫ СОВЕТСКИХ
ИСТОРИКОВ
Дунаевский В.А. ’’Прожитое и пережи¬
тое”: о жизни и творчестве акаде¬
мика Н.И. Кареева № 6
Фойгт Э. (ФРГ). Из жизни и деятель¬
ности А.С. Ерусалимского ...... № 4
ИСТОРИОГРАФИЯ
Малов В.Н. Прошлые и нынешние
взгляды на деятельность
Ж.-Б. Кольбера № 2
Наринский М.М. Режим Виши в со¬
ветских источниках и историогра¬
фии №6
Хачатурян В.М. Проблемы цивилиза¬
ции в ’’Исследовании истории”
А. Тойнби в оценке западной исто¬
риографии № 1
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
РЕЦЕНЗИИ
Барышников Н.И. Нация в войне.
Т. 1. От войны к войне. Хельсин¬
ки, 1989 . №4
Басманов М.И. А.Д. Шутов. Перед
лицом новых реальностей. М., 1990 № 1
Блуменау С.Ф. Документы истории
Великой французской революции.
Т. 1.М., 1990 . . . . №4
Давиденко С.В.’ Независимость Мек¬
сики и возникновение новой нации.
Лос-Анджелес, 1989 №4
Дементьев И.П. Современная зарубеж¬
ная немарксистская историография.
Критический анализ. М., 1989 .... № 1
254
Золотухин В.П. А.С. М а н ы к и н.
’’Эра демократов”: партийная пере¬
группировка в США 1933-1952.
М., 1990 ...... №6
Козенко Б.Д. (Самара). Н.В. Кур¬
ков. Американская федерация
труда. 1919-1936. М., 1990 №5
Комиссаров Б.Н. (Ленинград).
Н.Н. Болховитинов. Рус¬
ско-американские отношения и про¬
дажа Аляски. 1834-1867. М., 1990 №3
Кулешова В.В. Л.В. Пономарева.
Испанский католицизм XX века.
М., 1989 №2
Куропятник Г.П. Н.Н. Яковлев.
Избранные произведения, кн. 1.
М., 1988; кн. 2. М., 1989; кн. 3.
М., 1990 № 3
Манусевич А.Я. Ю.А. Писарев.
Тайны первой мировой войны. Рос¬
сия и Сербия в 1914-1915 гг. М.,
1990 №4
Марков А.П. Л.Н. К у т а к о в. Рос¬
сия и Япония. М., 1988 № 2
Наджафов Д.Г. Советско-американ¬
ский диалог о "новом курсе”.
Колумбия, 1989 № 1
Нежинский Л.Н., Челышев И.А. Год
кризиса 1938-1939. Т. I-II. М.,
1990 №4
Обичкина Е.О. Э.Е. Гусейнов,
Е.М. Кожокин, А.В. Р е в я-
к и н, Д.М. Туга н-Б а р а н о в-
с к и й. Буржуазия и Великая
французская революция. М., 1989 № 1
Попов А.И. Б.С. Абалихин,
В. А. Дунаевский. 1812 год
на перекрестках мнений советских
историков. 1917-1987. М., 1990 №5
Попова Е.И. Всеобщая история: дис¬
куссии, новые подходы, вып. 1-2.
М., 1989. . №6
Смирнов В.П. М. и Ж.-П. Куанте.
Франция в Лондоне. Возрождение
государства (1940-1943). Париж,
1990 . № 5
Хитрова Н.И. Л.И. Нарочницкая.
Россия и отмена нейтрализации Чер¬
ного моря 1856-1871 гг. М., 1989 №2
Чеканцева З.А. Ж. Г о д ш о. Взятие
Бастилии. 14 июля 1789 г. Париж,
1989 №3
Шпотов Б.М. И.М. Савельева.
Альтернативный мир: модели и
идеалы. М., 1990 - № 5
Яхимович З.П. Движение Сопротив¬
ления в Западной Европе. М., 1990 №6
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, НАХОДКИ
Воронин А.Л. Из дипломатической
переписки Г.В. Чичерина № 3
Дик Е.Н. Русский в пампах Арген¬
тинской Республики № 5
Карлов Л.П. Почтовые марки вре¬
мен второй мировой войны № 4
Кузнецова Г.А. Александр I и Напо¬
леон в Тильзите № 6
Шкляж И.М., Поздняков А.В. (Лу¬
ганск) . Забытая сенсация . № 3
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Блуменау С.Ф. (Брянск). О препо¬
давании новой истории стран
Европы и Америки № 6
Викторов В.П. (Брянск). Изучать
всемирную историю во всем ее
многообразии № 5
Зимулина Л.А. (Владимир). О со¬
стоянии преподавания курса но¬
вой истории в пединститутах № 5
Новиков Г.Н. (Иркутск). Новое
мышление и современная теория
международных отношений № 1
Третьякова О.Д. (Владимир). Размыш¬
ления молодого учителя № 4
Ранчинский В.П. (Брянск). Некоторые
проблемы преподавания современ¬
ной истории № 6
Обзор писем читателей № 5
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
В Академии наук СССР
Ларина Л.А. Общее годичное собра¬
ние АН СССР №4
Новое пополнение Академии наук
СССР о . . № 2
В Отделении истории АН СССР
Никифоров Е.А. Общее собрание Отде¬
ления истории АН СССР №4
О тенденциях в исторической науке... № 5
Программы фундаментальных исследо¬
ваний № 5
Научные сессии и конференции
Борозняк А.И. (Липецк), Стров-
ский Д.Л. (Свердловск). Межвузов-
255
ский коллоквиум ’’Возникновение
второй мировой войны и антифа¬
шистская борьба в Европе” № 3
Гинцберг Л.И., Ткачев С.М. (Челя¬
бинск), Политические альтернативы
германской истории XX в № 3
Ерин М.Е. (Ярославль). Проблемы
истории СССР и Германии в 20-
30-е годы .о № 6
Земцов В.Н., Кузьмин В.А. (Сверд¬
ловск) , Начало Великой Отечест¬
венной войны и новое политиче¬
ское мышление № 6
Канистратенко Н.Н. (Харьков), Фрад¬
кин В.З. (Харьков). Научная кон¬
ференция по болгаристике . № 3
Кубышкин А.И. (Волгоград). Всесоюз¬
ная конференция латиноамерика-
нистов № 1
Милюкова В.И. Баланс сил и баланс
интересов в международных отно¬
шениях о №4
Милюкова В.И. О создании комплекс¬
ного труда по истории внешней
политики СССР и внешней поли¬
тики России № 3
Овсянников В.И. Всесоюзная конфе¬
ренция преподавателей истории пед¬
институтов № 1
Сытин А.Г. Международная конферен¬
ция ”1941-1945 гг.: уроки войны
и современный мир” № 5
Хроника
Встречи в редакции № 1
Гак А.М. В Музее Революции № 1
Гришина Н.Л. Новые поступления в Го¬
сударственную публичную историче¬
скую библиотеку РСФСР . № 3
О создании общества архивистов СССР № 2
Научная жизнь в вузах страны
Давлетов А.Р. (Запорожье). О науч¬
ной работе кафедры всеобщей исто¬
рии Запорожского госуниверситета № 6
Некрологи
| И.И. Минц | №4
| Б.Б. Пиотровский"] № 1
| Я.Б. Шмераль [ . . № 1
Памяти румынского дипломата ..... № 4
CONTENTS
Articles. Mogilnitsky B.G. Historical Cognition and Historical Theory. Gintsberg L.I. Moscow
Processes of 1936-1938: Position of the Leaders of the International Communist Movement. Du-
nayevsky V.A. N.I. Kareyev. ’’Memoirs’: about Academician Kareyev’s Life and Work. Foner E. Sla¬
very, the Civil War, and Reconstruction: Recent Historiography in the US. Reminiscences. Chief
Marshall of Artillery Voronov N.N. At the Military Service. Our Publications. Documents of
August 23, 1944 in Romania. Documentary Essays. Corr. Mem. of the USSR AS Pisarev Yu. A.
Sixty Years on the Throne: Montenegrin Monarch Nikola Petrovic-Negosh. Belousov L.S. Mussolini,
a Political Profile. Tupolev B.M. The Hohenzollern Dynasty. From a Foreign Book. Cha-
kyrov K. Notes of Todor Zhivkov’s Adviser. K. Donitz. Twenty Days as the State Leader. Histo¬
riography. Narinsky MJ4. The Vichy Regime in Soviet Archives and Historiography. C r i-
tique and Bibliography. Letters to the Editor. Facts, Events, Fin¬
dings. Scientific Life. Index of Articles for 1991.
Технический редактор Н.П. Торчигина
Сдано в набор 29.08.91. Подписано к печати 18.10.91 г. Формат бумаги 70 X 100 1/16
Печать офсетная. Усл.печ.л. 20,8. Усл.кр.-отт. 307,2 тыс.Уч.издл. 23,6. Бумл. 8,0
Тираж 14600 экз. Зак, 1887. Цена 2 р. 10 к.
Адрес редакции: Москва, 121002, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16’84
2-я типография издательства ’’Наука”, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
256
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ГИНЦБЕРГ Лев Израилевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института проблем рабочего движения и сравнительной политологии АН СССР, автор моно¬
графий '’Тень фашистской свастики” (М., 1967), ”На пути в имперскую канцелярию” (М.,
1972), ’’Рабочее и коммунистическое движение Германии в борьбе против фашизма” (М.,
1978), ’’Борьба немецких патриотов против фашизма. 1939-1945” (М., 1987), ’’Массовые
демократические движения в ФРГ и партия ’’зеленых” ” (М., 1989) и многих других иссле¬
дований.
ДУНАЕВСКИЙ Владимир Аронович, доктор исторических наук, профессор кафедры
всеобщей истории Московского государственного заочного педагогического института, заме¬
ститель председателя Научного совета АН СССР по историографии и источниковедению,
автор книг ’’Советская историография новой истории стран Запада 1917-1941 гг.” (М.,
1974), ’’Западноевропейский утопический социализм в работах советских историков” (в со¬
авторстве) (М., 1981), ’’Николай Михайлович Лукин” (в соавторстве) (М., 1987), ”1812 год
на перекрестках мнений советских историков. 1917-1987” (в соавторстве) (М., 1990),
глав в коллективных трудах и многих статей по историографии, истории Франции, специаль¬
ным историческим дисциплинам,
МОГИЛЬНИЦКИЙ Борис Георгиевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории древнего мира и средних веков Томского государственного университета,
автор монографий ’’Политические и методологические идеи русской либеральной медиеви¬
стики середины 70-х гг. XIX в. - начала 1900-х гг.” (Томск, 1969), ”0 природе исторического
познания” (Томск, 1978), ’’Американская буржуазная ’’психоистория” (Критический очерк) ”
(в соавторстве) (Томск, 1985), ’’Введение в методологию истории” (М., 1989) и ряда других
работ в области методологии истории и критики буржуазной историографии.
НАРИНСКИЙ Михаш] Матвеевич, доктор исторических наук, заместитель директора Инсти¬
тута всеобщей истории АН СССР, автор монографий ’’Англия и Франция в послевоенной Евро¬
пе” (М., 1972), ’’Борьба классов и партий во Франции 1944-1952 гг.” (М., 1983) и ряда дру¬
гих работ по данной тематике.
ПИМЕНОВА Людмила Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры но¬
вой и новейшей истории МГУ, автор ряда работ по истории Франции XVIII-XIX вв.
ПИСАРЕВ Юрий Алексеевич, член-корр. АН СССР, член Черногорской академии наук
(СФРЮ), профессор, лауреат Государственной премии СССР, автор монографий ’’Освободи¬
тельное движение югославянских народов Австро-Венгрии в 1905-1914 гг.” (М„ 1952),
’’Сербия и Черногория в первой мировой войне (1914-1918 гг.)” (М., 1969), ’’Образование
югославянского государства” (М., 1975), ’’Великие державы и Балканы накануне первой
мировой войны” (М., 1985) и других трудов по истории рабочего, крестьянского и нацио¬
нально-освободительного движения на Балканах и международных отношений в Юго-Во¬
сточной Европе,
ТУПОЛЕВ Борис Михайлович, доктор исторических наук, заведующий сектором проб¬
лем экономического и политического развития капитализма стран Европы Института все¬
общей истории АН СССР, автор монографий ’’Экспансия германского империализма в Юго-
Восточной Европе в конце XIX - начале XX в.” (М., 1970), ”От Второго к Третьему Интер¬
националу” (в соавторстве) (М., 1978), ’’Восстание Маджи-Маджи. Становление и кризис
германского колониального правления в Восточной Африке” (в соавторстве) (М., 1991),
’’Германский империализм в борьбе за ’’место под солнцем”. Германская экспансия на Ближ¬
нем Востоке, в Восточной Африке и в районе Индийского океана в конце XIX - начале
XX вв.” (М., 1991).
ЧИТАЙТЕ в№1, 1992 г.
О языке исторического исследования
Как образовалось югославское государство
Дипломатия США и советско-германские переговоры 1939 г.
Историческое значение открытия Америки
Почему медлил Сталин в 1941 г.
Воспоминания Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова
Карл Радек
Письма М.М. Литвинова из Мерано
История Савойского королевского дома
Айседора Дункан и Сергей Есенин
Из Берлинского дневника У. Ширера
Неизвестные рукописи Х.Г. Раковского
Обращаем внимание подписчиков журнала
’’ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ”
на то, что в каталоге ’’Газеты и журналы на 1992 год” наше издание
ошибочно дано под названием ’’ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ”. Индекс
70677 указан правильно. Цена подписки осталась прежней.
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ’НАУКА”
вышла в свет книга
’ЕЖЕГОДНИК ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИИ. 1988”.
Объем 18 л. Цена 7 руб.
Ответственный редактор доктор исторических наук Б.А. А й з и н
I-И h
2 р. 10 к.
Индекс 70620
НПО "ИСТОЧНИК" ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ!
Если Вы интересуетесь историей, хотите расширить свой исторический круго¬
зор, провести юбилейное мероприятие, интересную выставку...
Если Вы нуждаетесь в исторической справке по самым разным вопросам,
в квалифицированной консультации историков, в помощи опытных специали¬
стов при подготовке к изданию книг, при создании документальных и художест¬
венных фильмов...
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с ведущими учеными-историками
страны...
Если Вам нужны их знания, авторитетные заключения и отзывы...
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИСТОЧНИК"
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Опытные специалисты окажут Вам следующие услуги:
Составление справок и обзоров по отечественной и всемирной истории; про¬
ведение исторических, археологических и этнографических выставок; выполне¬
ние научных исследований по Вашим заказам; научные консультации для спе¬
циалистов и любителей истории; подготовка и издание научных монографий и
сборников, популярных книг, брошюр, альбомов, буклетов по истории; консуль¬
тирование документальных и художественных кинофильмов, теле- и радиопере¬
дач по исторической тематике; создание банков данных по заказной историческсй
тематике; выявление и подготовка по заказам клиентов отечественной и зарубеж¬
ной библиографии по проблемам истории; редактирование рукописей по истори¬
ческой тематике; помощь при подготовке юбилейных мероприятий к годовщине
основания города, предприятия, фирмы; составление родословных справок для
граждан; помощь в заключении соглашений о совместных исторических исследо¬
ваниях с отечественными и зарубежными партнерами; проведение встреч с веду¬
щими отечественными и зарубежными историками, организация их лекций.
И многое другое по Вашим заявкам.
Оплата по твердым расценкам и по договоренности в рублях и СКВ (для ино¬
странных заказчиков).
Наш адрес: СССР, 117036, Москва, ул. Дм. Ульянова. 19, НПО ’’Источник”.
Телефоны: 126-00-29, 126-05-20.
ISSN 0130-3864 Новая и новейшая история, № 6. 1991
НПО ’’ИСТОЧНИК” ждет Вас!